Где только снег, только зима – и никакой рекламы…
М.Щербаков «Сердце ангела».
Серафим
Хороший кофе не должен бодрить. Он должен воскрешать из мертвых.
Не то, чтобы я часто им пользовался.
Когда-то, не помню в каком году, мне понадобился человечек, который никак не хотел воскреснуть, и помогла только чашка крепкого эспрессо, да и та не сразу. С тех пор я справлялся своими силами. Не такое уж это частое дело – воскрешение из мертвых.
Латте, вспоминал я, стряхивая снег с ботинок. Латте, капучино, арабика,растворимая гадость. Что-то еще я помню?..
По обе стороны от дороги лежали огромные снежные валы, и, чтобы добраться до автобуса, пришлось через них лезть. Я извозился и, когда добрался-таки до заветного экипажа, вызывал у попутчиков непроизвольную жалость. Это было плохо, это было не по плану, и я чистил подвернутые брюки перчаткой, борясь с желанием исчезнуть из этого автобуса и слетать по прямому маршруту на Красина восемнадцать. Но вот стоял и чистил, потому что сказано было: узнать город. А с шефом я предпочитаю не спорить.
Я вообще с ним не спорю. Более того, я уже очень давно с ним не общался. Думаю, рано или поздно у всех отпадает необходимость общаться с ним. Когда, собираясь в энную дорогу, я обдумывал свои вопросы к начальству, вдруг ясно почувствовал, что знаю, каким будет ответ шефа. А что со следующим вопросом, подумал я, и небольшой внутренний шеф ответил мне.
Тогда я понял, что мне больше не нужно с ним разговаривать и его видеть.
Шеф сказал изнутри: надо узнать город. Он любил усложнять задачу, мой шеф. (А еще он напомнил, что в истории замешан кофе. О кофе я знал до смешного мало. После того человечка с эспрессо никто из наших, насколько я помню, кофейными напитками не интересовался. И слышал-то я упоминания о них только вскользь. «Сегодня кофе как вино! – И долго в греческой кофейне гремели кости домино»1. Хорошие стихи).
На третьей остановке меня выдавили из автобуса пробивающиеся к выходу студенты с тубусами. Я пропустил их и попытался втиснуться обратно, чем вызвал страшное возмущение объемной женщины лет пятидесяти:
–Вы следующего автобуса подождать не можете? Видите, что места нет!
–Есть, – я не дотянулся до поручня и уперся рукой в мутное окно (не выдавить бы!) – Я как раз тут стоял.
–Не врите, – сказала женщина с вялой укоризной. Ей было трудно стоять. – Вы только что зашли.
Тут стоило отвернуться и ехать дальше молча; с такими вот женщинами спорить еще хуже, чем с шефом, но я успел это подзабыть.
–Меня вытолкнули, – сказал я.
–А я что, виновата? Ну вы видите, что места нет…
–Не виноваты вы, – я вспомнил хорошее и стал улыбаться. Женщина смотрела на меня, как на больного. – Никто, понимаете, не виноват. Никто больше ни в чем не виноват, понимаете?
–Вы в своем уме?
–Да.
Она отвернулась и ехала дальше молча.
Мне нравилось говорить непонятно, это было единственное, что я мог себе позволить тут, в автобусе. И тот, к кому я должен был, в конце концов, прийти, тоже довольствовался этим. Должен был. А в общем-то – мне нравилось просто быть тут, а не возиться со своими ребятами, притворяясь важным начальником. Не орать заученные и повторенные тысячи раз распоряжения. Трястись в Икарусе и чувствовать себя человеком. Н-да…
–Никто больше не виноват, – весело сказал я в спину пропахшего табаком старика передо мной. На меня стали оборачиваться. – Вы сами не понимаете, как счастливо живете последнюю неделю.
И тут слева и сзади так пахнуло кофе, дрянным растворимым порошком, что я вздрогнул и отпустил поручень, машинально поднимая руку навстречу запаху. Слишком долго я думал о кофе как о неотъемлемой составляющей жизни клиента. Слишком, наверное, напряженно готовился, хотя сам не желал в том признаваться. Сработал дурацкий рефлекс, которого по всему у меня не могло быть. Люди качнулись в стороны – еще бы им не качаться, когда рядом человек несет бред и машет на мужчину (теперь ставшего заметным в проходе)в черной куртке, с сокрушенным видом вытаскивающего из кармана разорванный красный пакетик. Рука мужчины вся была густо обсыпана мелким коричневым порошком.
–Что? – испачканный кофе пассажир поднял глаза. Кажется, он один не заметил моего жеста.
Я выдохнул. Клиент не ехал со мной рядом, не следил за моими выходками, не знал обо мне вообще. Глупое совпадение: пакетик порвался в тот момент, когда я бессовестно разглашал людям… а что, собственно, я им разглашал? То, что они сами обнаружат через день-два?.. Нет, зря я испугался, непозволительно для меня.
Я огляделся, и они забыли обо мне, о моих странных словах, о моем испуге. А в женщине, что боролась за место, я увидел то, что искал всегда и чем занимался всю жизнь – нечто вроде желтого светящегося треугольника справа в душе; конечно, не совсем ровного, но все-таки треугольной формы. Не слишком большим он был, меньше прошлого, но упускать нельзя и такие; и я осторожно расправил его углы, заставив их стать ощутимыми и живыми. Когда я выходил, женщина писала на запотевшем стекле что-то, ясное только ей.
Тем временем
-Сосулька упала.
–А, – Женя отвернулась от окна. – Я думала…
–Что?
–Да ничего, наверное. Неожиданно просто было.
–Сегодня на Киевской огромная сосулька сорвалась, – вспомнил Всеволод. – Пробила стекло машины, я слышал. Потому что парковался мужик в опасном месте.
–Крыши чистить надо, – сказала Женя и сломала карандаш о четвертую страницу журнала. Под кроссвордом оказалась заложенная между листов линейка.
Всеволод рылся под прилавком, цепляясь собранными в хвостик волосами за жвачку. Эта жвачка, розовеющая на столешнице снизу, здорово раздражала, особенно потому, что делала прилавок похожим на парту. Впрочем, когда Всеволод учился в школе, таких жвачек еще не было. Зато в студенческие годы были.
Соскоблить же ее – в голову почему-то не приходило.
Снова громыхнуло снаружи, после чего дверь открылась, и вернулся Ариман Владимирович. Как обычно возникла в потемневшем проеме фигура с ярким серебряным шарфом, который – Всеволод готов был поклясться – тянулся куда-то в пространство за спиной Аримана Владимировича на многие километры.
Потом, после того, как дверь была притворена, сквозняк исчез, шарф мгновенно улегся и стал обычным шарфом с серебристой ниткой, а черная фигура – обычным Ариманом Владимировичем в темно-сером пальто.
Жене еще несколько минут мерещилось, что шарф, занявший свое место на спинке стула, слегка шевелится и посверкивает. Так всегда бывало, когда Ариман Владимирович приходил.
–Нет никакого снегопада, – весело сказал обладатель шарфа. – И небо светлеет.
–А что сыплется в таком случае? – удивился Всеволод. Он тоже поглядывал на спинку только что занятого стула, словно ожидая от шарфа признаков жизни. Не дождался и успокоился.
–С крыши сыплется. Ветер-р, – Ариман Владимирович с наслаждением вытянул ноги. – Ветер сдувает снежную пыль, – возвышенно продолжал он, глядя в окно. – И бросает ее в потоки теплого воздуха, взмывающие… да, взмывающие вдоль стен.
–Какой там теплый воздух, – Женя поправила волосы. – Холодрыга зверская.
–А вот и неправда. Под нашей лавочкой теплотрасса, даже пол относительно теплый. Не говоря уже о батарее, хотя, согласен, не очень-то она греет…
Весь день хотелось спать, и что-то давило на грудь, мешая дыханию. Нервы, думала Женя, нервы, надо бы выпить что-то вроде валерьянки.
–Голодные мои коллеги, – Ариман Владимирович вытряхнул из пакета круассаны. – Разбирайте.
–А кому четвертый?
–Коту, – серьезно сказал Ариман Владимирович. – Шучу. Мне.
Серый безымянный кот в углу даже не шевельнулся. Кажется, ему одному было полностью хорошо, ничего никуда не давило, не было проблем с кошками.
Кот первые два дня после знакомства с Ариманом Владимировичем последнего терпеть не мог, шипел и прятался, потом необъяснимым образом полюбил. Почувствовал нечто мистическое в моем имени, говорил Ариман Владимирович. Родители-востоковеды дали ему древнеиндийское имя Ариман, которым он заметно гордился. Сколько лет было древнеиндийскому Ариману, он не сообщал; Женя давала ему пятьдесят, а Всеволод – от сорока до шестидесяти.
Он появился неделю назад. Материализовалось на входе огромное темное пальто, фантастический шарф, конец которого терялся за зданием банка на пересечении Красина и Подводников; кот панически ретировался под тумбочку, Всеволод принялся протирать запотевшие очки, Женя уронила со стойки ершики для трубок. Они его испугались, этого черного человека, вошедшего в стекляшку в третьем часу пополудни, в день первой оттепели февраля.
Ничего страшного в Аримане Владимировиче не было. Он шутил, вежливо флиртовал с Женей, рассказывал о курьезах судебной практики (до сокращения Ариман Владимирович был юристом).
Все они кем-то были до сокращения. В прошлой, докризисной жизни. Они еще иногда вспоминали о биологическом (Женя), юридическом (А.В.) и инженерном (Всеволод) прошлом. Кроме кота. Кот в прошлой жизни был муравьедом в Московском зоопарке, и нынешнееположение вещей ему нравилось больше.
Зашли двое – мужчина с девочкой, видимо, дочерью.
–Кофе? – Ариман Владимирович повернулся к приближающимся покупателям. Горестно всхлипнул офисный стул, держащийся на скотче.
–Нет, – посетитель осматривал прилавок. – Кофейный напиток… э-э… василек?
–Цикорий, – флегматично поправила дочь.
–Цикорий, – оскорбленно сказал Ариман Владимирович. – Скоро вы забудете, что такое кофе. Со здоровым образом жизни… Вам чистый, с черникой? С шиповником?
–Чистый, – Девочка принюхивалась к теплому кофейному запаху, закрепившемуся над прилавком Аримана Владимировича. – И давайте, действительно, кофе. Мокко, ага, давайте…
Женя, все время зачем-то неотрывно глядевшая в спину покупателя, порывисто обернулась и вышла наружу. За спиной у нее этот странный, интересный, веселый человек Ариман шутил, доставая пакеты с мокко и цикорием. Ему везло в торговле, ему вообще должно было всегда везти.
Женя достала телефон, собираясь позвонить матери, и тут ее схватили за локоть. Она охнула, когда почувствовала, что ее кидают к стене, но закричать не успела. Прямо перед ней с шумом обвалился пласт смерзшегося снега, а в следующую секунду руки, выдернувшие Женю с опасного места, отпустили ее.
Она стояла, вцепившись в телефон, хватая ртом ледяной воздух.
–Фу-у, напугали вы меня… Все-все-все, дышите носом, просудитесь.
Мужчина. Высокий, с тонким, каким-то измученным лицом, в бежевой старой куртке с кучей карманов и застежек, в вязаной шапке. В ярко-красных смешных перчатках.
–О, Господи, – сказала Женя. – Спасибо вам.
–Не за что, – спаситель стряхивал с рукава снежные крупинки. – Кстати, я не Господи, просто не люблю, когда на женщин что-то падает. Крышу не чистят, там же скоро айсберг образуется.
–Ага, – Женя посмотрела на крышу. – Почистим. Обязательно… Господи, чуть не убило этой… гадостью. Спасибо.
–Вам-то зачем чистить? – сделавший уже шаг ко входу мужчина остановился. – Пусть хозяева возятся, а нам, прохожим…
–Я, в некотором роде, хозяин, – вздохнула Женя. – Я тут работаю. Пойдемте.
Мимо них прошло семейство с цикорием.
Женя говорила, что снег, конечно, почистят и сосульки посбивают, и повторяла это невнятно по нескольку раз, пока не спохватилась. Пришла в раздражение от снега и собственной нелепости, да, пожалуй, от того, что сосульки надо было сбить давно.
–Посбивайте, – кивал мужчина. – А то несолидно. Называетесь "Респект", а на крыше Цейский ледник, вот-вот обвалится.
–Обвалится! – в сердцах сказала Женя. – Все здесь обвалится.
–Ну уж. Хотя у закона подлости нынче обострение.
А вот это он подметил просто гениально, подумала Женя. Не то что обострение – самый разгар.
Первым, что она увидела, было лицо Аримана Владимировича. На лице Аримана Владимировича медленно проявлялась улыбка. Росла и ширилась, явно обращенная к Жениному спутнику.
–Си-има, – растягивая «и», ласково сказал Ариман Владимирович. – Симочка… Какими судьбами…
Потертый Симочка обернулся, стягивая шапку. Волосы его были взъерошены.
–Сколько лет, – величественно сказал Ариман Владимирович, поднимаясь. – Я уж и не думал… Сима, как же хорошо, что ты зашел!
–Необычайно, – Сима приглаживал волосы. – Расчудесно, Ариман Владимирович, что я к вам зашел.
Какой-то он был хитрый.
Они крепко схватили друг друга за руки и тряхнули. Кот отчего-то завопил и утек на улицу.
–Как живете? – Сима принюхивался. Все принюхивались, оказавшись в кофейном отделе.
–Да я-то что! Работаю вот, на новой должности. А ты как оказался в наших краях? За табаком-кофе-кожей?
–За кожей, – сказал Сима. – И кофе прикуплю, раз уж вы продаете.
–А вот это хорошо, Сима, это правильно… Мой друг, – Ариман Владимирович указал наСиму жестом экскурсовода. – Мой старый друг Серафим Огнев.
Серафим Огнев оттаивал в отопленных недрах «Респекта». Нос его увлажнился от тепла.
Ариман Владимирович выскользнул из-за прилавка, и они с Симой обнялись.
–А вы заняты сейчас? Посидеть бы, вспомнить…
Вообще-то занят, сказал Ариман Владимирович между дружескими похлопываниями и почмокиваниями. Вообще-то он здесь торгует и покидать рабочее место до восьми часов не намерен. Но ради старого друга готов намерениями своими поступиться, сказал Ариман Владимирович, не отпуская Серафимовской руки.
Женя часто видела его веселым, но сегодня Ариман Владимирович прямо-таки светился. И – странно – он не выглядел в этот момент красивым. Что-то иное ощущалось сейчас в нем, что-то жутко тоскливое, словно между ним и Огневым произошла в свое время такая же тоскливая, долженствующая быть забытой история, вроде не поделенной женщины или еще чего.
А Всеволод, разглядывая Симу, определил в нем не то слегка опустившегося учителя, не то библиотекаря.
–Пойдемте, Сима, поговорим… Вспомним, Сима…
–И обо мне вспомянет2, – неожиданно зло сказал Сима, явно цитируя кого-то. Затем он сжал руку Аримана Владимировича, сильно, до болезненного хруста, дернул того к себе, и оба исчезли.
Серафим
-…вспомянет, – сказал я.
–Кто ты? Инспектор? Тебя что, разжаловали, ты, кажется, по части высоких чувств…
–Не паясничай, Денница.
Он посмотрел на меня убийственно.
–Почему Ариман? – спросил я, постепенно избавляясь от высокомерия. – Почему не Самаэль, в конце концов?
–Мне так хочется, – спокойно сказал он, и я понял – действительно, ничего другого за этим не стоит, ему так хочется. – Скажи, зачем ты все-таки пришел?
У него по лицу было видно, что знал он, зачем я пришел. Я ему сказал что-то такое, но оба мы не запомнили этого, потому что мой клиент решил уйти глубже в измерения. Мы провалились куда-то во Время.
–Объясни нормально, – Самаэль-Денница-Ариман совсем по-человечески потер переносицу. – Инспектируешь или хочешь что-то передать оттуда?
–Скорее второе. Тебе зачитать или своими словами?
–Ах, Сима… – он снова был Ариманом Владимировичем. – Недельку назад я бы тебе показал, как со мной на ты…
–Недельку назад, – признался я, – мне бы не пришло в голову говорить с тобой на «ты». И я бы долго думал, прежде чем вообще с тобой говорить. Так тебе зачитать?
–Все равно.
–Ну, если сразу и по сути… Ты будешь отправлен на разбирательство. По поводу нарушения условий содержания…
–Идиотская формулировка, – брезгливо сказал Ариман Владимирович. – Как будто я могу как-то влиять на условия содержания. Это вы меня содержите, а не я себя… тем более – вас. Прости, – он снова тер переносицу, похоже, у него там болело. – Говори-говори. Так о чем речь?
–О нарушении условий. С твоей. Стороны.
–Лучше зачитай.
Вокруг нас громоздились колеса, оси, цепи, о назначении которых я строил оскорбительные предположения: декорация и понты. По-моему, Самаэль (Ариман Владимирович?) был неравнодушен к стимпанку. Или я просто давно не бывал во Времени. Я помнил его другим.
–Торговец кофе Самаэль, вечноссыльный, приглашается на рассмотрение дела о нарушении бессрочного ограничения силы, незаконной деятельности в ссылке, причинении мелкого зла, нарушении условий содержания, – (какого, трам-тарарам, содержания, читалось в глазах вечноссыльного в этот момент), – Распространении…
Во Времени что-то со свистом оборвалось, и мы перебрались в бесформенные сугробы глубокой сферы, кажется, Вероятности.
Все-таки, он не изменился, мой клиент Самаэль. Хотя он странным образом стал казаться ниже, но лицо, глаза неопределимого цвета – не то зеленые, не то карие, не то вообще черные, – они остались прежними. Tempora mutantur, как говаривал Самаэль, а мы ни фига не mutamur in illis3. Так-то.
–Я понял, понял, – Самаэль поднял руки. – Формулировки у меня всегда были лучше. К слову так. На это все я тебе скажу, Серафим, что виновным себя не признаю и не являюсь. Вы меня сослали, вы и разгребайте свои проблемы, как это ваши хваленые Силы что-то недосмотрели.
Терпения мне! – взмолился я внутреннему шефу. Побольше терпения, пожалуйста! Я отработаю!
Самаэль флегматично пинал небольшой сугроб.
Вызвать бы сейчас всех моих ребят, парочку из первой сферы – для устрашения, и ораву дармоедов из третьей; они, наверное, давно забыли, как я выгляжу; так вот, притащить бы их сюда, чтобы взяли они этого упрямого Дьявола за шиворот и доставили прямиком в конвент, вот тут-то мы и посмотрим, как ты заговоришь, Денница, Ариман, Мефистофель… Но нет – сам пришел. Доверил своих олухов какому-то херувимчику (холеный такой, розовый, похожий на толстозадых крылатых мальчиков Ренессанса, которые, кстати, к херувимам никакого отношения не имели) и выбрался на землю, потому что – ну как же! – высокое начальство лично хочет арестовать… бла-бла-бла… И то верно, если сейчас Самаэль разозлится, моим кадрам он, пожалуй, будет не по зубам.
–Пошли, – сказал я. – Мне надоело разговаривать.
–Не пойду, Серафим. Мне хорошо тут. На земле. Я ничего не нарушал. Я торговал кофе и флиртовал с хорошенькими покупательницами, -глаза его стали карими и печальными. – Если хочешь меня в чем-то обвинить, изволь собрать свидетелей, посвятить их, так сказать… Соблюдай закон, Серафим, или возвращайся к себе на Седьмое небо. А вести меня силой ты не имеешь права.
Я был к этому готов. Тем более, прав был бывший князь тьмы. Так и запишем в будущем отчете: следовать за Серафимом отказался, потребовал дополнительного следствия, каковое было произведено…
Будет произведено. Требования клиента надо уважать.
–Добро, – кивнул я. – Будут тебе свидетели. Возвращаемся.
–Постой, – Самаэль вдруг протянул тонкопалую руку и схватил меня за рукав. – Ты думаешь, я буду ждать тебя и бояться?
Теперь я точно буду так думать, решил я.
–Из «Респекта» вышел мужчина с дочкой. Бесценный свидетель обвинения. Уверен, ему будет, что предъявить мне. Кстати, у него начинает болезнь Альцгеймера. Заодно вылечишь его, Серафим.
–Зачем? Ты даришь мне свидетеля – зачем?
–Хочу поиздеваться, – спокойно сказал Ариман-Самаэль. – Хочу дать вам фору и выиграть. И посмотреть на ваши лица.
Мразь. Та еще сволочь. Он знал, что я не оставлю этого несчастного склеротика – или чем он болен? Альцгеймером? Что я специально найду его, чтобы проверить, не сделал ли с ним чего обвиняемый. И окажется, что не сделал. И он засвидетельствует все в лучшем виде. Я могу сейчас забыть о нем и спокойно искать еще одного свидетеля, но мне бросили вызов, и я, как последний архангел, подобрал перчатку и размахиваю ею перед собой. Шеф внутри меня добродушно бросил «Мальчишка!» и затих. И я, глядя в непроницаемое лицо Денницы, медленно кивнул.
Тем временем
-И обо мне вспомянет…
–Это откуда? – наморщил лоб Ариман Владимирович. – Знакомое…
–Кажется, Пушкин, – Сима огляделся в поисках поддержки. – «Пройдет он мимо вас во мраке ночи, и обо мне вспомянет». Не помните? – он смотрел на Всеволода и Женю.
–Не помню, – Всеволод пожал плечами. – Но где-то слышал.
Оксана
Я родилась двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. В день первого полета человека в космос. И в День Космонавтики я праздную свой день рождения, а Гагарина раньше в шутку называли маминым акушером. Я должна была родиться на неделю позже, но мама, услышав по радио о майоре Гагарине, не то переволновалась, не то слишком быстро бежала к тете Лизе на третий этаж, в общем, я родилась, когда первый космонавт только-только сошел со своей орбиты.
Отец в это время добирался на попутных машинах из очередного нефтяного городка, и, когда приехал, очень огорчался, что опоздал. Но имя мне придумал он. Десятого апреля позвонил маме и твердым голосом сказал, что если будет мальчик, назови Ильей. «А если девочка?» – спросила мама, которая хотела девочку. «Оксаной», – уверенно сказал папа. И я стала Оксаной.
Говорят, когда папа ворвался в комнату, на лице его читался главный вопрос: «кто?!» «Девочка», – и мама протянула пищащий сверток со мной. Тогда папа взял сверток на руки, стал качать и говорить «Ксана… Ксаночка…» Он знал, что мама назовет ребенка так, как он сказал. А еще он был без бороды тогда, а когда я начала его помнить – уже с бородой.
На фото отец совсем не похож на того, который был рядом. Он сам иногда смотрел и говорил: «какая милая пара» (на фотографии он был с мамой и со мной – двухмесячной). Но потом добавлял: «Только все будут думать, что ты ушла к другому». Действительно, ничего общего я до сих пор не нахожу в большом бородатом человеке в тяжелых очках и совсем молодом, тонком, в удивительных по тем временам очках без оправы, с одними дужками. Не знаю, что случилось с теми очками. Наверное, он их разбил, или зрение ухудшилось.
В три года я пыталась петь песни.
Мама перед сном пела мне «Спи, моя радость, усни» и еще что-то, а папа пел «А ты улетающий вдаль самолет…» и «На позицию девушка провожала бойца». Утром я вспоминала и пыталась воспроизвести. Музыку я, разумеется, не помнила, но помнила ощущение от песни – нежное или грустное, или гордое, или ритмичное такое. Никто не понимал, что я пою, но всем нравилось.
Мне крупно везло лет до шести, потому что я почти не ходила в детский сад. Я его ненавидела всеми фибрами, я впадала в истерику, когда меня приводили туда, к счастью – приводили редко. Обычно меня оставляли у тети Лизы.
Тетя Лиза сидела в декрете с маленьким Мариком, которого я не помню, будто и не было его. Меня не интересовал какой-то Марик. Квартира тети Лизы оказалась гораздо привлекательней. На стене висели две лисьих шкурки. Вспоминая их сейчас, я думаю, что это гадко смотрится – лисья шкурка, распластанная над диваном. К тому же, их явно ела моль. Но тогда я играла с ними, снимала с гвоздей, возила по полу, накидывала на себя сверху и притворялась лисой. Потом тетя Лиза вешала шкурки на место и уходила кормить своего Марика.
Это было прекрасное одиночество.
А еще я никогда больше не ела такого творога, которым кормила меня тетя Лиза. Ее муж работал в спеццехе молочного завода, обеспечивавшего продуктами горком. Творог, который он регулярноприносил, отличался от любого другого порядка на три. До сих пор скучаю по этому творогу.
Мама приходила обычно поздно, уставшая, но играла со мной до победного конца – пока я не засыпала. Засыпала я в давно уже не детское время, к великому возмущению отца, и маминым вздохам. Спрашивала недавно у мамы, помнит ли она. Помнит. У меня с детства был странный режим сна.
Однажды она взяла меня на спектакль, точнее, папа взял меня на спектакль, посмотреть, как мама играет. Что это значит, я понимала слабо. Мне представлялась мама с хоккейной клюшкой, или (о ужас!) с какой-то чужой девочкой, с которой она играет. Я плакала и боялась. Ничего страшного в театре я не увидела. Там ходили люди в глупой одежде и громко о чем-то говорили. Папа сидел со мной на руках, я послушно молчала – я вообще была тихим ребенком – и пыталась понять, зачем папа тычет рукой в сторону этих людей и шепчет мне на ухо: «Смотри, смотри, это мама, видишь?» Я не видела.
–Рано ей еще, – сказала мама поздно вечером, дома. – Зачем ты ее повел на «Обыкновенную историю»?
–Хотел показать, как мама работает, – оправдывался отец.
–Послушай, но тебе в пять лет было бы интересно смотреть «Обыкновенную историю»?
–Да, – сказал отец, пуская искорки из-под очков. – Я с детства интересовался советским театром.
Потом мне исполнилось шесть, и меня отдали в подготовительную группу детского сада.
Серафим
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня4, думал я, чтобы заполнить тотальную пустоту в голове.
И шеф молчал в глубине моей души, только иногда что-то тихо отмечал про себя, но служебных распоряжений не давал. Тут наложилось все вместе: сначала я пытался вспомнить третью строчку стихотворения того хромого поэта, который еще был похож на артиста Янковского: «Я не буду спать\\ Ночью новогодней…»5 И вот дальше было что-то очень простое, но я его не помнил. Потом я предавался меланхолии и размышлял о том, что я со своей поэзией никуда не гожусь и никому не нужен, что было чистой воды кокетством по отношению к самому себе. Впрочем, я не пытался этого скрыть.
В общем, в девятый день золотого века, в феврале, я позорно предавался меланхолии со стаканчиком невкусного чая с лимоном. Сразу после того, как я купил этот чай в автомате, автомат сломался. Меня мучила совесть, что я, которому чай вообще-то не нужен, оставил без чая следующих желающих. А чинить технику – не мой профиль. Хорош Серафим, несущий добро.
За барскую шубу, за астму6…
Грязные мокрые голуби расступились, я вернулся к той остановке, на которой вышел. Собственно говоря, все развивалось, как должно. Диагностический визит к Ариману Владимировичу прошел, как и следовало ожидать, впустую, за разговором двух голословных сверхсуществ. У меня не было доказательств виновности, у него – невиновности. Но формально я должен был его предупредить.
После суда его перехватят по дороге в камеру. Я спокойно сдам Дьявола с рук на руки молодчикам из Третьей Сферы, и будь он благословен, тот день, когда они развеют по ветру воспоминания о Самаэле, изрядно всем надоевшем. Будут ли они понимать, эти безымянные ангелы, какое великое время наступает на земле благодаря их простеньким копьям?
…На суде они толпились вдоль стен на самых дальних балконах – сплошная светящаяся масса. По-моему, никто из них за все время не издал ни звука. Неудивительно. Если на моей памяти – да на памяти всех нас, даже, может быть шефа, это дело не имело аналогов, если я – я! – стоял, опешив, и начал аплодировать машинально, просто услышав рядом осторожные хлопки, что уж тогда говорить о третьей Сфере?..
Снова пришлось карабкаться по снежным валам. В такие минуты я искренне жалею, что не умею проклинать. Проклял бы местную администрацию и безжалостно обрек бы всех поголовно на пожизненную чистку снега. Вместо этого я против всех правил обратил к свету одинокого бомжа, и он ушел с потрясенным лицом. Из-за этого бомжа я немного взбодрился. Даже тот факт, что еще день-два, и моя помощь миру не понадобится, как-то не огорчал. Троих свидетелей, обязательных для вынесения обвинения, мне нужно найти, вот чем действительно стоит сейчас заняться.
Нет, не троих. Двоих. Первый мой свидетель, навязанный мне Сатаной, жил – я без особого труда проследил его путь – на углу проспекта Подводников, что характерно – неподалеку от второго «Респекта». Хорошо, что в городе не было метро: вряд ли я угадал бы путь мужчины под землей. Да, серафимы тоже не всемогущи.
В такси гремело: «Мы себе давали слово! Не сходить с пути прямого! Но!.. так уж суждено…»7
–Испоганили город, – седой таксист в темных очках – глаза у него больные, что ли? – выворачивал руль, стараясь безболезненно миновать гору снега вперемешку с землей. – Двух бульдозеров бы хватило. Двух!
–Вы посмотрите, что в Питере происходит, – заметил я. – Как в блокаду. Транспорт не ходит, сосульками старушек убивает…
–Так то Питер. А нам бы два бульдозера! И неделю работы. Все, убрали бы это г…но с дорог. Это же не грязь даже, это канализацию прорвало, и г…но смешивается со снегом… и лежит. А нужно два бульдозера…
…Ах, как плохо мы выглядели в тот день. Четверо серафимов все как на подбор были сонными, светились едва-едва, и парой крыльев, предназначенных для полета, обмахивались, чтобы справиться с духотой. В Большом зале всегда душно. За нашими спинами сидели, о чем-то оживленно споря, херувимы и потерявшие всякую субординацию престолы. Ряд, положенный престолам на суде, из-за этого пустовал, а господства из второй сферы занять его не решались и кучковалисьв отдалении. Что было за ними, я не разглядел, да и не пытался. И так знал, что там плотно сгрудились все прочие, кроме, разве что, вышколенных архангелов, которые всегда держат строй и встают в присутствии Высоких сфер. Так, от первых рядов до балкона, сидели мы, а напротив темным склоном занимали симметричные ряды кресел всевозможные демоны, бесы, мелкие существа ада, такие же измученные бесконечной тяжбой.
Все знали, чем это закончится.
Растерянный паренек, мнущийся у своей трибуны, перейдет к невзрачному Каиму-дрозду, губернатору какой-то там дремучей области в каком-то там захолустном уголке преисподней. Я еще помнил Каима среди наших, но уже не помнил, когда и в какой сфере. Давно он переметнулся.
Так вот, паренек перейдет, а мы покиваем друг другу и разлетимся, потому что эта заблудшая душа принадлежит Самаэлю по праву, чего уж там; он эту душу купил, а та взяла и заартачилась. Не она первая, не она последняя. Мои (или не мои?) ребята душу предупреждали, все по-честному. Сделка состоялась, и претендовать на законную покупку Дьявола никто не собирался. От нас требовалось присутствие на суде, небольшая формальная речь защитника – умницы Варахиила – и все. Лично я защитника не слушал. Впрочем, обвинителя я тоже не слушал.
–Это жена моя написала, – сказал таксист. – Вот хорошо же написала, правда?
–М-м? – я смутно припомнил, что таксист читал мне что-то вроде хокку. – Да. Прекрасно. Молодец ваша жена…
Древний «жигуленок» подскочил на лежачем полицейском, издал болезненный скрип и, кажется, лишился половины двигателя.
–Она не развалится? – напряженно спросил я, прикидывая, сколько времени уйдет, если что, на воскрешение водителя.
–Не говорите так никогда, – серьезно сказал таксист. – Какая гадость на дороге. Вот друг у меня в Америке живет, в Каламбусе, вот там снег чистят… и дороги там другие. Кстати, помните, был такой мужик на радио… как его… Валька-помойка. Тоже в Америке сидел. Он еще говорил: «Хорошие в Америке дороги, только куда они ведут?..» Вот я думаю…
…Никто ведь не заподозрил неладного, даже когда вышел истец. Некоторые удивленно подняли головы, проследили за движением Самаэля: черный свитер, черные брюки, чудовищный серебристый шарф, который, конечно, никакой не шарф. И отвернулись снова. Ну, редкий случай, на какие-то вопросы обвинитель не ответил и вызвал истца. Темная субстанция напротив всколыхнулась – бесы вставали, приветствуя командира.
–…Знать бы точно, – сказал таксист. – А то голимо получается. Этот говорит, что взятку не давал. А Шишкин…
–Знать бы, кто виноват.
–А? Не, кто тут виноват, люди виноваты…
Ой, подумал я. Неужели мне вот так запросто повезло?
–Спрошу вас, как психолог. Если бы от вашего ответа зависела мировая справедливость…
–Что?
–Мировая справедливость. От вас требовалось бы только назвать виновного во всем, что мешает справедливости установиться. Кого или что вы бы назвали?
–Это у вас тесты такие? Понятия не имею.
–А если подумаете?
–Ха. Руку запада.
–Серьезно?
–Нет. Не знаю.
Почему бы и нет? На стандартный вопрос ответил правильно, вел себя доброжелательно, к тому же его жена когда-то имела со мной дело. Правда, я об этом только сейчас узнал. Остается надеяться, что стихи вышли все-таки хорошие. Хотя кого я обманываю – все равно.
–Человек, сын человека, я, Серафим, призываю вас проникнуться любовью к добру…
…Мы начали прислушиваться только после того, как в зале прогрохотал жуткий бас Самаэля:
–Дрозд, отойди!
Каим быстро отодвинулся, разглаживая смятый воротник. Верхняя пуговица у него была вырвана с мясом – демон машинально пытался ослабить ворот. И не так странно было видеть Каима-дрозда задыхающимся, вспотевшим, с истерзанным воротником, как самого Сатану, Самаэля, бегущего к трибуне обвинителя. И когда он грозно навис над трибуной, опираясь на нее, и объявил:
–Я требую следствия! – вот тогда мы поняли, что происходит нечто серьезное. Настольно серьезное, что мы, пожалуй, успели забыть, что нужно делать. Серьезнее, пожалуй, чем сумма всех наших бесчисленных дел последнего тысячелетия. Может быть, двух или трех тысячелетий.
Заблудшая душа нетвердой походкой удалилась под конвоем двух ангелов. Варахиил хлопал крыльями и жестикулировал так, словно собирался сам себе создать воздушный поток. Он уже знал, что войдет в историю. И все мы знали, что войдем в историю, хотя главное-то мы прослушали: какую ошибку заметил защитник в деле несчастного паренька, к чему придрался, как доказал это самому истцу.
Он мог остановиться на этом. Его носили бы на руках. Но он стал еще что-то кричать высоким от усталости голосом, и вдруг отовсюду грянуло (и мы засветились и встали, и я расправил шесть крыльев своих, и шарахнулось темное, бесформенное, испуганное – то, что было у противоположной стены):
–Варахиил, – и Варахиил замер. – Не волнуйся, – сказал шеф. – Продолжай.
…-проникнуться любовью к добру, постигнуть… – я сообразил, что произносить это вслух не обязательно. И продолжил посвящение уже напрямую: «…знание, данное мне…»
Таксист попался на удивление крепкий. Он даже руль не выпустил. Обычно люди все-таки по-другому реагируют на свалившееся к ним знание о мирах с полным набором галактик, о нашей небесной конторе, о…
А он просто обернулся ко мне:
–Интересно, Серафим. Значит, правильно Таня моя молилась?
–Правильно, – сказал я. – Но молитвы не по моей части. По моей части вдохновение. А теперь еще и расследование.
–Зачем ты мне это все… дал?
–Идет следствие, – сказал я. – Следствие по делу Самаэля. Аримана. Я предлагаю тебе стать свидетелем обвинения, – сказал я. – Ты можешь отказаться. Тогда ты забудешь о нашем разговоре. Ты можешь согласиться. Тогда ты сначала расскажешь о той гадости, что происходит вокруг. А потом забудешь о нашем разговоре. И да, если хочешь, я могу тебя исцелить.
–Я не болею, – нахохлившись, вздохнул он. – Хотя, давай. Ячмень на глазу мне исцели. Я согласен стать свидетелем обвинения.
Оксана
В детском саду я влюбилась. Без памяти. Его звали Гриша, он учился в первом классе, а по вечерам забирал из садика некрасивую белобрысую Люську. Люська косолапила и, когда мы играли в трамвай, всегда хотела быть кондуктором. Я страшно ей завидовала, что у нее есть такой шикарный брат. В глубине души я даже надеялась, что Гриша однажды заметит меня и заберет вместо Люськи. Он приходил обычно за полчаса до того, как папа забирал меня. Брал сестру за руку и бубнил что-то вроде «пошли, дармоед». Это было его любимое слово «дармоед». Оно не изменялось по родам, что было особенно восхитительно. Он, она, оно – дармоед. Я этого не понимала, но чувствовала. Прекрасное взрослое слово. Сейчас я думаю, что так называли дома его самого.
Иногда папа приходил пораньше и забирал меня до того, как я видела Гришу. Я старалась не плакать. Любовь была чем-то особенным, о ней нельзя было плакать для всех. Можно было плакать для мамы – очень редко, для Женечки – моей подружки… и для уродины Люськи. Все-таки это был ее брат. Ей можно было иногда поплакать о том, как я люблю Гришу.
Я знала о нем все.
Гриша хотел стать военным моряком, получал пятерки по пению и тройки по арифметике. Он умел писать, но путал «ш» и «щ». Я тоже их путала, но я-то была в подготовишках, а Гриша учился в школе. И у него был друг Борька. Вроде бы, лучший.
Это все мне великодушно рассказала Люська. Я дала ей побыть кондуктором, хотя очередь вообще-то была моя, а она мне за это рассказывала о Грише.
Как сделать так, чтобы Гриша меня заметил, я начала догадываться в декабре. Тогда стало ясно, что у меня будет к утреннику самый лучший костюм: из настоящего театра. Мне готовили костюм Золушки. То есть «готовили», конечно, громко сказано. Мама раздобыла в своей костюмерной детское платье и одолжила у кого-то из коллег по цеху бутафорскую тыкву.
План был прост: одеться неотразимо и потрясти Гришу своей внешностью. Гриша должен был прийти за Люськой раньше, чем папа за мной. Он увидел бы меня-Золушку… а что предполагалось дальше, я не придумала. Виделось что-то сказочное: мы с Гришей танцуем странный, мной самой сочиненный танец, мы с Гришей держимся за руки – как в хороводе, но в хороводе меня обычно держали за руку неинтересные мальчики.
Когда я переоделась в сиреневое платье с оборочками и кружевами, все ахнули. Еще бы им не ахать. Второй (после меня) красавицей была Женечка, снежинка, но на удивление интересная, не бело-тюлево-абажурное чудовище, наподобие снежинки Люськи или снежинки Галки, а изящное существо в тонкой балетной пачке, волшебным образом держащейся всегда плоско, с вышитым узором, в кокошнике со звездочками. Я ее пожалела. Женечка отлично смотрелась в своей снежиночьей пачке. Она была не виновата, что весь зал с первых минут принадлежал мне.
А главное – лампочка! Лампочка, выдернутая из папиного фонарика. Она предназначалась Грише, хотя я подозревала, что не решусь ее подарить. Но лампочку взяла с собой: а вдруг.
Золушка… Я где-то посеяла тыкву, мне за нее влетело дома, причем от папы, которому тыква была совсем чужой. Мама просто объяснила мне, что терять тыкву нехорошо. А на этом балу – а это был бал, какой там утренник – я была Золушкой, настоящей. Дед Мороз в обмен на «Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка» дал мне коробочку с мандаринами (или апельсинами?), парой «Мишек на севере» и кучей карамелек. А я ждала, когда все закончится и придет Гриша. А Гриша не пришел. Люськины родители долго разговаривали с воспитательницей, потом стали Люську уводить. Ко мне приставали двое глупых мальчиков, Юра и Паша, я им нравилась. И тут Люська догадалась подойти ко мне попрощаться. Точнее, ее мама догадалась сказать: поздравь девочку с Новым Годом. И меня осенило. Я сунула Люське лампочку и тихонько попросила подарить Грише. Жаль, конечно, что я его не увидела, но передать лампочку через сестру – чем не вариант?..
Люська стояла в своем платьице и с лампочкой в руках, как электрическая фея.
–У меня отнимут, – сказала она.
Тогда мы общими усилиями запрятали лампочку куда-то в оборки Люськиных кружев, и сестра моего возлюбленного убежала к своим.
Две недели я была абсолютно счастлива. Я представляла, как Гриша смотрит на лампочку и думает обо мне. Или что-то такое. Не помню.
В начале января нашлась тыква. Ее отдала папе уборщица, когда он привел меня в садик. А Люську привела мама, увидела меня, быстро цапнула дочь за руку и начала строго внушать, что со мной дружить нельзя ни в коем случае.
Оказывается (как объяснила Люська через минуту), лампочка разбилась по дороге, порвала платье и чуть-чуть не поцарапала его обладательницу. Родители хватались за голову и добивались ответа: кто дал дочери эту ужасную штуку. Под пытками Люська раскололась.
Я заплакала от обиды. Моя любовь разбилась в кружевных недрах тюлевой снежинки. Дура и уродина Люська узнала о том, кто она. Потом Гриша пришел, но я надежно спряталась за фанерным домиком.
В третьем классе я снова встретила его. Он перешел к нам из сороковой школы. Там его оставляли на второй год, так что мы с Гришей сравнялись в статусе и учились в одном классе. Учился он, что интересно, неплохо, хотя и отставал немного по арифметике. Мы наконец-то познакомились и подружились.
Я была ударницей. В смысле оценок. В музыкальном смысле я была никем, мама с грустью диагностировала у меня полную музыкальную безнадежность.
Смешно сказать – из всех своих школьных лет, до десятого класса, я помню только нашу классную Эллину Аркадьевну. Она преподавала русский язык. И то – может быть, только потому я ее помню, что она пыталась втянуть меня в какую-то самодеятельность.
–Ты же дочь актрисы! – упрекала меня Эллина Аркадьевна. – Почему ты читаешь без выражения?
А я читала с выражением, просто во всех строчках выражение выходило одинаковым.
К тому, что моя мама – актриса, я относилась спокойно. Не знаю, почему, но я не гордилась таким вот происхождением. Скорее всего, потому, что мама играла в непонятном взрослом театре. Когда я выросла, мама ушла из театра. Вдребезги разругалась с режиссером, который не давал ей ролей, хотя все тихо знали, что у мамы с ним роман. Тогда же эта история добралась до папы, и мои родители расстались в первый раз. Но это было потом.
Эллина Аркадьевна всерьез загорелась идеей вовлечь наш (какой? пятый? шестой?) класс во всяческую дополнительную активность. Половина мальчиков (Гриша, кстати, в их числе) была определена в спорт. Это означало, что как личности они абсолютно бесполезны для общества, но чем-то же они должны в жизни гордиться. Вторая половина мальчиков и все девочки должны были гордиться актерским талантом.
Меня призывали в спонтанно созданный драмкружок.
Эллина Аркадьевна критически осмотрела меня и каким-то своим чутьем определила во мне лису. Вороной был Шура Бережкин. Он играл лучше всех. На одну из репетиций Шура притащил отвратительную черную тряпку и треух. Треух он залихватски надел набекрень, в тряпку, отдающую гнилью, завернулся, взгромоздился на ель-стул и укусил Оленьку.
Вошел в образ.
Что заставляет меня с нежностью вспоминать Эллину Аркадьевну – так это то, что она назначила человека на роль сыра. Толстая, неповоротливая и глуповатая Оленька (забыла фамилию) пообещала одеться в желтое и притворяться сыром. Другого от нее не требовалось, да она бы и не смогла ничего другого.
Второй раз в жизни мне искали сценический костюм. Но мама в ту пору уже кантовалась без ролей, у папы был временный кризис в редакции, и мы дружно решили обойтись без затрат. Мама принесла меховой воротник, а хвост мы с папой сделали из тонких ленточек кальки. Когда я пыталась его покрасить оранжевой ленинградской акварелькой, он свалялся, и пришлось хвосту стать воротником, а воротнику, как более убедительному, перейти в хвосты.
На этом создание костюма завершилось.
На второй репетиции я стала спортивным сектором.
–Играй, – воодушевленно втолковывала мне Эллина Аркадьевна. – Не бормочи, Кольцова! Ты хитрая лисичка, разговаривай так, как будто ты уверена, что всех сможешь обмануть!
Шура бесшумно, но наглядно изобразил тошноту от слов Эллины Аркадьевны. Я была благодарна ему за поддержку, но играть все равно не получалось. Как нужно говорить, я прекрасно знала. И взгляд у меня был правильный, лисий, а вот вместо слов все равно выходило монотонное: «иверноангельскийбытьдолженголосокспойсветик…»
А я думала, что Бережкин слишком вытягивает ноги на стуле-дереве, будто он не ворона, а страус. И Катя читает текст от автора, полностью заслоняя меня и нелепо заплетя ноги.
–Кольцова, – грозно сказала Эллина Аркадьевна в ответ на мою попытку обратить на это ее внимание. – Научись играть сама.
–Меня не видно… – робко заметила я.
–А ты говори громче, и все будут на тебя смотреть.
–Но лучше Катя встанет сбоку…
–Так, – Эллина Аркадьевна шутливо съездила меня по затылку. Она часто так делала, и никто не обижался. – Давай-ка ты будешь стараться, и у тебя получится твоя роль. А Катя будет стоять посередине, потому что она от автора.
–Ну и что, что от автора?
–Как что? – драматично зашипел на весь класс Бережкин. – От самого автора! Крылов послал!
И он схлопотал такой же мягкий подзатыльник.
Но однажды Эллина Аркадьевна заболела, и передала бразды правления драмкружком какой-то старшекласснице. Та сказала нам «не шуметь!», повертелась перед зеркалом и ушла целоваться с одноклассником на задний двор.
–Ну, лафа началась, – сказал Шура и закинул свою воронью тряпку на лампу.
И тут я почувствовала, что, пожалуй, Катя могла бы разок и подвинуться к краю условной сцены. Катя пожала плечиками и фыркнула: «вот еще!»
–А Ксанка дело говорит, – по-вороньи каркнул Бережкин. – Катюх, отойди.
В конце концов, я переделала спектакль полностью. Оленька, топтавшаяся возле Шуриного стула, теперь сидела на парте, а Шура стоял над ней, скрестив руки и поглядывая на Оленьку-сыр с гордостью и хищным предвкушением. Катя говорила текст от автора, выходя из глубины сцены и потом снова уходя. А главное – я сама заиграла! «Спой светик, – проникновенно говорила я. – Не стыдись! Что ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица!..»
Все закончилось просто. Эллина Аркадьевна выздоровела и пришла смотреть, не забыли ли мы текст. Был негромкий, но обидный скандал, после которого я вылетела с главной роли на роль голоса от автора, а новоиспеченная лисица Катя стала требовать мой костюм. Эллина Аркадьевна ее поддержала, но я вцепилась в костюм руками и ногами, сказала, что дома его не разрешили никому давать, выслушала обвинения в буржуазных наклонностях своих родителей и сбежала из кружка к спортсменам.
Спортсмены приняли меня дружелюбно, и о своем неудавшемся театральном опыте я больше не вспоминала.
Серафим
-Во-первых, Земля – один из тысячи четырехсот одиннадцати религиозных миров. И это только в вашем измерении, в остальных четырнадцати их от полусотни до миллиарда. Вы это учитывайте. А во-вторых, не факт, что вы просили искренне.
–Конечно, не факт. Но, по-моему, все-таки искренне. Для меня было важно тогда…
–Вам бы поговорить с моим коллегой. Я мог бы вам помочь, если бы у вас были претензии к ушедшему вдохновению. Но стихи писала ваша жена, а не вы.
–Но я верующий человек! И я за всю жизнь единственный раз пошел и помолился по-настоящему, еще при Союзе, меня бы выгнали из комсомола, если бы узнали…
–Ну да, – согласился я. – Комсомол. Как там у того, носатого такого, с выпирающим подбородком… «Пятигранную стелет звезду Коминтерн Молодежи»8…
–Это стихи?
–Да, кусок. Не помню все.
–Ладно, – таксист зевнул. – Что тут поделать. Вы не обижайтесь, но жаль, что меня завербовали вы, а не ваш коллега.
Мне стало его жалко.
–К тому же, – продолжал он, – Я не уверен, что вы не банальный гипнотизер. Да, конечно, я все это знаю – и про миры, и про Серафимов, и про Престолы и Власти, и вообще… Но вы же мне это не доказали. Вы же мне это просто перелили в голову. Может, это я в трансе сейчас, а вы продаете мои почки какому-то барыге из Португалии…
–Почему Португалии? – изумился я.
–Или из Греции… какая разница. Иностранному какому-нибудь барыге.
–Ну уж…
–Да не сердитесь, – он подкрутил радио. – Я же вам все равно верю. Просто доказательств у меня нет…
–Ну, это просто, – с готовностью сказал я. –Primaautemetmanigestiorviaest, quaesumiturexpartemotus9…
–Нет-нет, не надо, говорю же – верю. Как тебя зовут? – видимо, я стал достаточно близок ему, чтобы перейти на «ты».
–К чему тебе знать мое имя? Оно чудно10.
–Ладно. Серафим, вот ты скажи – я в Бога верю, грешу, конечно, но понемножку, не убивал никого, не воровал, жену свою люблю. Мне за это воздастся?
–Конечно, воздастся, – сказал я.
–Всякому по вере?
–Да нет, – я пожал плечами. – Мне как-то все равно, верят в меня, или нет. Добро и зло, уж простите, от веры никаким образом не зависят, они для всех примерно одинаковые.
–Ну, не скажите. Для кого-то съесть врага – добро.
–Мы не занимаемся вопросами гастрономии. Это вы уж сами как-нибудь разберитесь, кто кого должен и не должен есть. А для нас важно – умеете вы отличить друга от врага, или нет, – надеясь, что еще одну банальность шеф вытерпит. Впрочем, разбираться со стилем всегда доверяли мне самому.
–Понятно, – сказал таксист.
Все-то ему было понятно. Он мне уже не нравился. На все-то он был согласен. Второй свидетель обязательно будет интеллектуал, решил я. Обязательно будет интеллектуал и гуманитарий. С ними веселее и приятнее, и можно будет даже предложить ему заранее какую-нибудь маленькую должность, вроде лучника или посыльного, не все же гонять моих охламонов. И когда интеллектуал отдаст концы (не скоро, конечно, по новым-то правилам, но все-таки) я бы лично за него поручился. Я, к своему стыду, еще ни разу ни за кого в своей долгой жизни не ручался, в отличие от одного коллеги, который успел обогатить с полдюжины миров своими протеже. Ни один из них, правда, на Земле не жил.
А этот человек затормозил у самой зебры, и бурая снежно-грязевая жижа взлетела из-под колес, обрызгав женщину в меховой шубе.
Как раз в том момент, когда я, задумавшись, стал прикидывать, мог ли Ариман-Самаэль точно так же завербовать агента. Версия выходила расчудеснейшая, вот только вечная ссылка предусматривала еще и полное лишение всяческой силы. Единственной радостью жизни, отвоеванной у ошалевшего суда, был шарф – хотя какой он шарф… Но, в порядке бреда, вполне могло случиться так, что Ариман Владимирович подвигнул человека к сотрудничеству безо всякой мистики, одним лишь своим умением вдалбливать в человеческие головы все, что ему, Ариману, пожелается. Тут нужно было задать следующий вопрос: и что завербованный homosapiens начнет делать? как он будет нести в мир зло, со своими-то хомосапиенсными возможностями? – но как раз этот вопрос я себе не задал, а задал другой, вслух:
–Вы смотрите, где тормозите?
–Грязь, сука, – печально сказал шофер.
И тут включилась обрызганная женщина.
Чего мы наслушались! Семьдесят два земных демона, да и сам Самаэль, пожалуй, позавидовали в этот момент зеленоглазой шатенке лет тридцати пяти, которая еще не успела стереть с лица брезгливое выражение, явно сопутствующее ей всегда, но уже с неподражаемой интонацией выдала великолепный поток брани, банальных, но метких пожеланий в адрес личной жизни – моей, таксиста, машины, дороги и абстрактной злой силы – невезения.
У нее была прекрасная лисья шуба, и по этой прекрасной шубе стекали комки отвратного месива. Та еще гадость.
Таксист угрюмо посмотрел на женщину и пожал плечами.
И я жутко разозлился на своего первого свидетеля обвинения, обращенного к добру и познавшего тайные механизмы, управляющие мирами. И даже перекосило от жалости к этой зеленоглазой женщине, уже, наверное, почувствовавшей, как это противно – мокрые комки на лисьей шубе.
Не пуская больше в голову ни раздумий, ни здравого смысла, я отпустил до предела стекло, высунулся и закричал женщине:
–Кто виноват?! Кто в этом всем виноват?!
Набериус
Особенно хорош был табак. Он стоил какой-то мизер, смешно сказать, и по всему должен был быть или пересушенным (ибо откуда хорошая упаковка у дешевого табака, откуда, спрашивается, взяться ей?), или пропитанным ароматической смесью, от которой за версту несет химией и горечью. Но смесь «виржинии»11 с черт знает чем давала тонкий хлебно-орехово-фруктовый привкус, который Маркиз быстро классифицировал как охренительный. Помимо охренительного табака был еще аналогичный же коньяк, какой-то молдавский. И тоже не очень дорогой.
В кои-то веки выдалось время по-человечески покурить.
Маркиз покуривал трубку, попивал коньяк, сам над собой издевался за верность штампам и с усердием, какое рождается только большою ленью, заштриховывал белого аиста на этикетке молдавского коньяка черным маркером.
И чьих не обольстит речей нарядной маскою своей?12 – думал Маркиз. Час уже вертелось в голове это стихотворение.
День был подпорчен сначала щенком-гимназистом, обратившимся с нелепой просьбой: помочь составить письмо-признание к возлюбленной. Маркиз выпроводил его и плюнул вслед.
Мельчаю, подумал он тогда.
Потом звонила Марта. Бедная Марта, которая так и не смогла понять, что сделал и чего не сделал для нее коротко стриженный темноглазый мужчина с благородными чертами лица, но сломанным носом. Марта сама запуталась в том, что требуется говорить в таких случаях; то благодарила за прекрасные минуты, то просила вернуться. Она не плакала, и это уже в который раз вызывало у Маркиза восхищение. Но вернуться он никак не мог, потому что не любил Марту, и только сказал ей:
–Запомни обо мне что-нибудь плохое. Запомни, что я пью, курю и ругаюсь матом.
Он затянулся сигаретой, шумно, так, чтобы Марта слышала, отхлебнул воды (пусть думает, что это что-то спиртное) и выматерился.
Марта некрасиво, трескуче, засмеялась и положила трубку.
Потом канули в сонную пустоту три светлых, дневных часа. Маркиз проснулся в пять, когда снаружи уже темнело, а в комнате за время дневного сна перегорели две лампочки.
Он не любил спать днем, но иногда выключался вот так: от скуки.
Тогда он взял купленный вчера табак, тщательно набил трубку, налил себе коньяку и понял, что все мировое зло таится в мелочах – в гимназистах и звонках от всяческих Март, и справиться с ними можно только трубкой и коньяком, да еще креслом и телевизором (лет сто назад сказал бы – камином), потому что трубка, коньяк, кресло и телевизор вызывают в человеке пренебрежение к мелочи.
И когда позвонил Каим, Маркиз успел полностью перекрасить аиста в черный цвет, докурить, и едва не втянулся в просмотр сорок третьей серии некоей лав стори.
Каим был на взводе, голос его звенел, телефонная трубка дымилась и плавилась вблизи соединения с проводом.
–Старик, – звенел Каим, – я на минутку, меня, кажется, отстранили…
–М-м? – удивился Маркиз. – Тебя? Зачем?
–Ангел, сволочь, цепкий попался, я сам не заметил, где и в чем он меня подловил. Шеф сам вышел к трибуне, старик, ты понимаешь?
–Ого, – Маркиз подул на телефон, чтобы не так накалялся. – Так ты теперь… э… в опале?
–Да тут безумие какое-то! – завопил Каим. – Ты понимаешь: шеф сам вышел! Ладно бы я проиграл дело, ну бывает раз в пятьсот лет, но если шеф выходит, значит что-то совсем плохое, значит…
–Сочувствую, – сказал Маркиз. – Говорил я тебе, не засиживайся в адвокатах. Рано или поздно влипнешь.
–Приходи, – вдруг понизив голос и став почти спокойным, сказал Каим. – Приходи немедленно. После суда полетят головы, но ты не бойся, ты на хорошем счету, несмотря… Мы с Форасом сейчас обзваниваем всех, кто не пришел на заседание… Мелкой шушеры набилась тьма, а из начальства – ну тридцать от силы. Придешь?
–Ни за что, – сказал Маркиз. – Что я там делать буду.
Полчаса спустя позвонил мелкий безымянный дух из третьей сферы.
–Шефа загнали в угол, – оживленно сообщил он. – Каима отпаивают суккубы. Приказано собрать все дворянство, и вас, Ваша Светлость.
–Как вы мне надоели. Собирайте ваше дворянство.
–А вы…
–А я человек. Так и передай Каиму, когда придет в себя, и всем прочим.
Больше его не беспокоили.
Телефон превратился в лужицу пластика, которую Маркиз оставил на столе: хоть несколько дней прожить без звонков. Работа предвиделась скучная: восстановить доброе имя мелкому дельцу из Прибалтики, и, что особенно противно, две встречи по литературной части, обе не на Земле. Первого графомана из захолустного мирка Маркиз помнил и презирал, второго предстояло увидеть впервые, и особого рвения Маркиз также не испытывал.
– Душа, сестра моя, мимо нас
Проносится цвет и шум,
И долог век, и неровен час,
И я ничего не прошу.
–Плохо, – сказал Маркиз. – Набор слов.
– А если следует быть любви,
Давай же следовать за
Любовью, слепой белизной лавин,
Заглядывавшей в глаза.
И только в далекий и черный год
Тебя попрошу, сестра,
Спаси от творящего зло и от
Желающего добра.
–А вот это получше. Концовку прочитай еще раз.
–И только в далекий и черный год…
–А, ага, я вот этого не расслышал. Слушай, это ведь не ты написала.
–Конечно, не я, – сказала Марта. – Я это переписала. Ехала в автобусе, а там на окне было написано вот это.
–На стекле?
–Да. Оно постоянно запотевало, и на нем проступали буквы. Я дышала на него, чтобы лучше разглядеть. Думала, ты знаешь, чьи стихи…
–Не знаю, – Маркиз уставился в пустоту. – Нет, не знаю.
–Жалко, – сказала Марта. – В интернете не нашла.
Маркиз кивнул и принялся размешивать сахар в чашке.
–Что-то случилось?
–Все хорошо! Прекрасная маркиза! – сделав страшные глаза, пропел он. Голос у него был хриплый, сорванный давным-давно, и любая песня звучала по-пиратски.
А ведь и правда, что случилось, подумал Маркиз. Дышится, как через марлю… И отчего-то до сих пор болит обожженный вчера палец. («Не играй со спичками, – сказала ему тогда дочь. – Хотя ты бы и зажигалкой обжегся…», и они принялись шутить по этому поводу.)
–Все-таки ты мне очень нравишься, – Марта посмотрела на него сквозь стакан. – И шутовство твое, и голос твой, и глаза, и вообще. И то, что ты меня Мартой называешь. Очень-очень жаль, что ты меня разлюбил.
–Страсть как жаль, – кивнул Маркиз. – Но когда я посмотрел на себя в зеркало, то понял – у меня нет шансов.
–Дурак, – сказала Марта. – Хочешь, я уйду в монастырь?
Правый уголок маркизова рта искривился.
–Не знаю. Скорее нет, чем да. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Со мной – не вариант, а с кем другим – прости, не знаю.
–Сотрудника себе склею, – заявила она с решимостью, которая показалась бы искренней любому, не знакомому с Мартой. – Знаешь, какой у меня сотрудник? В профиль – вылитый Габен. Интересный такой…
–Тот очкарик?
Марта расхохоталась. Она умела смеяться всегда, и всегда неожиданно. И почти никогда не плакала.
–Не-ет, Габена ты не видел. Когда он пришел к нам, ты меня уже с работы не встречал…
–А. Вот как. Ну что ж.
Встречаться с Мартой впредь он не собирался. Надо было понять тогда, раньше, когда она сказала «я люблю тебя», глядя в глаза, – констатировала. Поставила перед фактом. Делай что хочешь, Маркиз, но знай. А он обрадовался, дурак; такая женщина; много крови, много песней…
Марта. Она никакая не Марта, не Мария и даже не Маргарита. Она Евгения Мартынец. Но прозвище прилипло крепко, как и все прозвища, которые давал людям Маркиз. Хотя назвать его самого Маркизом новая подруга отказалась, заявив, что это пародия, вселенское некомильфо и т.д. Миронова в «Достоянии республики» звали Маркиз, вот это было то, а называть так любовника – совсем не то.
Надо было понять, что не судьба, и уйти красиво. А он связался.
–А, черт, минутку, – Маркиз погрузил руку в недра куртки в поисках зазвонившего телефона. На звонке у него стояла «Финская полька».
Телефон зашипел в руке и обжег пальцы.
–Где тебя носит, едрить твою, Нобе…
–Стоп! – крикнул Маркиз в трубку и отключил громкую связь. Марта одобрительно посмотрела на телефон.
–Что у тебя со стационарным?
–Сгорел, – угрюмо сообщил Маркиз, перехватывая пальцами раскаляющийся аппарат. – Откуда у тебя мой мобильный?
–Еле раздобыл. Через наших-то бюрократов… – голос Каима сложился в улыбку.
–Тебя не уволили?
–Хм, да, скорее, наоборот. Я тут что-то вроде начальника. Старик, ты свободен сейчас?
Маркиз покосился на даму.
–Сейчас не совсем.
–Ну так освобождайся, освобождайся давай. Есть работа.
–Что?
–Работа, – почти весело сказал Каим. – Работа, старик.
–Ты что, – Маркиз почти физически ощутил кренящееся под ногами мироздание, – нашел мне клиента?
–Почти угадал. Я сам, в некотором роде, твой клиент. Эй, ты жив?
Марта с искренним интересом осматривала поперхнувшегося Маркиза. «Постучать?» – беззвучно спросила она. – Маркиз помотал головой, и мартина рука, уже занесенная для хлопка по спине, убралась.
–Я загляну сегодня, – сказал Каим, переждав кашель. – Ты на Земле?
–Вечером нет. Вечером у меня встреча. Созвонимся.
Тем временем
К вечеру пошел снег, и окна «Респекта» затянуло глухой белой занавесью. Кот уставился в это бесформенное снежное пространство, словно видел в нем что-то свое, кошачье, важное. Всеволод дернул его за хвост, но кот, едва шевельнув ухом, снова погрузился в наблюдение; ему было плевать на Всеволода, и даже, кажется, на свой хвост.
Женя с Ариманом Владимировичем без интереса обсуждали новости фигурного катания, которым Ариман Владимирович не интересовался, но вежливо выслушивал Женину критику в адрес Белогорова и Любшиной, а Женя это чувствовала, но другой темы придумать не могла.
–Никто не придет, – зевнул Всеволод. – Кому в такую метель понадобятся сигареты, кофе и кошельки?
–Мне, – Ариман Владимирович теребил краешек шарфа.
–У вас это все и так есть.
–Как раз-таки нет. Я этим не владею. Я это продаю.
–Ну так купите у себя самого, – Всеволод протирал запотевшее окно.
–Извращение какое-то, – хохотнул Ариман Владимирович, поглаживая шарф. Шарф сонно шевелился под рукой.
–Предлагаю расходиться, – сказала Женя. – А то и нас тут заметет.
–По самую крышу, – согласился Всеволод. – Не раскопаемся. Лопаты у нас нет.
–Зато у нас есть ножи, – подмигнул Ариман Владимирович, направив указующий перст на полку с сувенирными кортиками и складными ножами китайского производства.
–А заодно сигареты, кофе и ремни.
–Зажженными сигаретами мы растопим снег… – серьезно сказал Женя.
–…Кофе насыплем как соль, чтобы быстрее таяло, – радостно подхватил Всеволод, – ножами расколем лед, а на ремнях…
–Вытащим кота, – Ариман Владимирович поднялся. Потревоженный шарф содрогнулся в возмущении.
–Лично я ухожу, – сообщил Всеволод.
–Поддерживаю, – кивнул Ариман Владимирович.
Он выглядел постаревшим и чуть растерянным, как показалось Жене – после визита Огнева. Что-то давнее и неприятное вспоминали они, так что Ариман Владимирович до сих пор не оправился.
Неуловимая перемена случилась в мире с неделю назад. Накатила гнетущая серость, прорвало канализацию, в Женином доме появились давно вытравленные тараканы, у подруги украли сумочку, о чем она поспешила рассказать Жене (трехчасовой монолог по телефону, как голова не треснула); и все это родилось в мире внезапно, единой силой двинулось на Женю с одною целью: вогнать продавщицу кошельков в тщательно избегаемую и подавляемую зимнюю грусть.
Скрипнула крыша.
–Женечка, собираемся, – призывно сказал Ариман Владимирович.
–Иду, – она вдруг поняла, что Ариман Владимирович каким-то образом спасает ее от зимы, от грусти этой – рядом с ним было весело и хотелось жить.
–Морозище, – поежился Всеволод, глядя на усиливающийся снегопад.
Снова скрипнула крыша и вдруг с уханьем просела, покачнулся пол (Женя вцепилась в спинку стула), весь ларек задрожал, екнуло что-то внутри, как при быстром спуске лифта, и прилавок с сигаретами рухнул на пол, брызнув осколками.
Громко выругался Всеволод, едва не потерявший равновесие во время толчка.
–Землетрясение! – крикнул Ариман Владимирович, одним прыжком оказавшись рядом с Женей.
Но больше не трясло. Весь «Респект» стоял под небольшим углом, по полу катилось отломившееся от прилавка колесико, и негромко потрескивало что-то на потолке.
–Окно!.. – Женя замерла, уставившись в темный прямоугольник, где еще несколько секунд назад можно было наблюдать заметенную вечернюю улицу. За окном стояла непроглядная тьма, и только у самого стекла она, казалось, распадалась на крупицы.
Отрешенно подумалось: маме сегодня так и не позвонила.
Всеволод, не переставая материться, дернул дверь, но та не поддалась, даже ручка, при попытке опустить ее, уперлась в нечто вязкое, заполнившее пространство снаружи.
–Что это… что это… – повторяла Женя, не отводя глаз от окна.
–Как они это устроили… – Ариман Владимирович в третий раз за сегодняшний день преобразился. Он стал выше ростом, его обычно мягкое и смешливое лицо осунулось, так что проступили страшные тени под глазами и будто бы даже на носу. Плечи Аримана Владимировича раздвинулись вширь, в глазах загорелась умная, хищная злость, а шарф, неведомо как оказавшийся на шее, затрепетал без ветра.
–Что устроили? – с истерическими нотками воскликнул Всеволод, дергающий дверь.
–Вот это – обвел рукой вокруг себя Ариман Владимирович. И негромко продолжил, приближаясь к окну. – Второе небо… Давно я не бывал на Втором небе… Только хотел бы я знать, милые мои… Вас-то за что?..
Серафим
За десять минут дороги я научился остерегаться Дарьи. Дарье были глубоко безразличны мое служебное положение и нечеловеческая сущность. Я даже на секунду показал ей крылья, чтобы остудить хоть немного Дарьины порывы, но добился того, что мой первый свидетель обвинения потребовал показать крылья снова, чтобы он успел их сфотографировать. Для Дарьи же я был существом мужского пола, и мог бы выглядеть хоть волосатым орангутангом, хоть самцом аллигатора – Дарью устроило бы и это. Она была очень хорошим человеком, гораздо приятнее моего хитрого шофера, но организм ее требовал мужчины, а я себе, разумеется, ничего позволить не мог.
В конце концов, я, плюнув на кодекс вежливости (ох как бы посмотрели на меня мои ребята, окажись они рядом со мной сейчас), легонько прошелся исцеляющим лучом, и физиология успокоилась, но тут выяснилось, что сознание Дарьи способно полноценно заменять физиологию, а вмешиваться в сознание свидетеля я был не вправе, поэтому просто отодвигался, когда она, как бы невзначай забывала убрать руку с моей, или, говоря что-то, излишне горячо дышала мне на ухо.
Мне было ее безумно жаль, но с сознанием я без ее на то просьбы сделать ничего не мог, а обсуждать это в присутствии еще одного свидетеля никто, конечно, не пытался.
Говорила Дарья много. Она ничего не пыталась у меня выспросить сверх того, что я и так вложил ей в голову, зато с готовностью поведала мне о том, что все как-то не так последние дни, и голова болит, и голубь нагадил на шляпу, а теперь вот машина, но Дарья на нас не в обиде.
–Вы хоть раньше в Бога верили? – обернулся к ней шофер.
–Иногда, – отмахнулась Дарья. – По понедельникам. Сейчас-то что?
–А сейчас у вас выбора нет. Вы теперь точно знаете.
–Знаю, и сделаю все, что от меня требуется. А потом снова забуду, и буду верить по понедельникам. А что такое? Я сейчас не за спасение души стараюсь.
–Я тоже, – таксист снова закурил.
–Бросайте курить, – сказал я. – Я сейчас помогу.
–А? Ха, ну давайте.
–Не курите больше.
Он выкинул сигарету.
–Даже как-то грустно будет… забыть… – Дарья коснулась меня плечом. – Однако, Серафим, давайте с вами обдумаем… – она томно смотрела на меня, – обдумаем, как мы будем стоить обвинение?..
–А как его строить, – пробурчал таксист. – Все за нас построят. Господства этим займутся, а мы доставим Самаэля, расплюемся с херувимами…
–Э! – возмутился я. – Можно об этом и не говорить!
–А чего не говорить, – пожал плечами шофер. – Когда все и так знают, что херувимы только и норовят присвоить чужие лавры…
Это были мои слова. Именно в таком вот виде эти слова оформились у меня в голове когда-то давно, а теперь, видимо, перекочевали в голову шофера вместе с прочим «знанием, данным мне».
Дарья захохотала, откинувшись на спинку.
–Ну-ну, – сказал я. – Я вам этого не говорил. А то сотру из памяти.
–Конечно, не говорили, Сима, конечно…
Она болезненно напомнила мне Самаэля, с его манерой выражаться.
–Серафим, – одернул я свидетельницу.
–Серафим, – мягко произнесла Дарья, кладя ладонь в перчатке мне на плечо, – это должность. Вы серафим, я свидетель… А меня зовут Дарья… А у вас должно быть имя…
–Оно чудно, – сказал таксист, не оборачиваясь.
–А вот интересно, свои мысли вы мне передать смогли, а имя почему-то нет.
–Для людей у меня нет имени, – честно сказал я.
–Для серафимов у меня тоже нет имени, – Дарья погладила меня по плечу. – А вы все равно знаете, как меня зовут. А я буду знать, что вас…
Я убрал ее руку с плеча, и свидетельница осеклась.
–А все-таки, – вздохнула она, помолчав немного, – как мы будем строить обвинение?
–Обычно. Я зачитаю, вы подойдете, расскажете кто что может…
–А стиральная машина не закрывается, – вспомнила Дарья, – об этом тоже?
–И об этом.
–С ума сойти. Никогда не думала, что моюстиралку испортил Дьявол. А надо было догадаться…
–Вряд ли он ее портил. Хотя с него станется, но все-таки мы его здорово ограничили. Он, вообще-то, уже даже не сверхсущество. Обычный смертный человек… Но он хитрый, он нас где-то обыграл. Какую-то лазейку нашел. На мировое зло его не хватает, а вот по мелочи пакостит. И ваша задача – подтвердить, что последние несколько дней что-то стало не так, что-то ухудшилось вокруг.
–А что, – таксист потянулся за сигаретой, но, подержав в руке пачку, отложил, – раньше ведь тоже так бывало. Не так долго, как сейчас, но накатывало…
–Тогда он был не на Земле, – пояснил я. – А масштабы у него были другие. В войну Самаэль с удовольствием поиграл бы, а вот ломать стиральные машины – не думаю. А сейчас сил у него почти нет, а злость на людей есть.
–Это вы отправили его сюда, – заметила Дарья.
–Совершенно верно. И он будет здесь до самой своей человеческой смерти торговать кофе в лавочке «Респект». А наша задача – не дать ему больше никому причинять неудобства.
–Золотой век, – Дарья смотрела в пустоту. – Эра милосердия… Сатья-Юга…
–Мы все поняли, что вы образованная, – сказал шофер.
–Сколько уже дней мы живем без зла?
–Восемь. Сегодня девятый день.
–Как-то оно не чувствуется, Сима. Я не знаю этого вашего Самаэля-Воланда, но я с радостью расскажу все, все! Чтобы почувствовать, как это, Сатья-Юга, Эра милосердия…
–Стойте! – я хлопнул по спинке шоферского кресла. – Тут! Вот у того дома! Чуть не проехали. Заговорили вы меня, Дарья. Ждите в машине.
Я от них устал. Может быть, пошли я на землю кого-нибудь из нижних сфер, он бы и не понял, что это значит – устать. А я здорово вымотался в человеческом теле. Шеф внутри меня сокрушенно охал: «теряешь форму, серафим, теряешь…» Моя форма – сонет триолетно-октавный, хмуро возразил я и сам обалдел: что со мной? Спорить с шефом, мне, Серафиму, члену первой, высшей сферы?
Из-за двери пахло кофе, я машинально идентифицировал «американо» и вдавил звонок.
Оксана
Перед выпускными экзаменами Борис Моисеевич и Наталья Ивановна начали собирать нас на дополнительные занятия. Ходили в основном к Борису Моисеевичу, который не только готовил к сдаче, но и поил чаем. Этот чай в какой-то мере спасал меня от домашних дел – мы засиживались у Бориса Моисеевича допоздна, говорили, листали «Науку и жизнь», и когда я приходила, ссоры отца с мамой уже доходили до взаимного обета молчания. Я тихо переговаривалась с каждым из них по отдельности, ужинала и засыпала. Последний год школы я не любила быть дома.
В начале мая отец ушел. Как я смутно помнила – уже второй раз. Но первый раз случился, когда я была в третьем классе, и тогда это прошло легко – папа исчез на несколько месяцев «в командировку», потом вернулся, и мои родители снова жили вместе.
Теперь я была уверена, что папа не вернется.
Мама оставила театр и, откопав свой диплом, устроилась в школу вести кружок. Возвращаться она стала пораньше, но разговоры у нас не клеились. Мы сидели на диване, читали, потом, пожелав друг другу спокойной ночи, расходись спать. Возвращаться позже начала я.
Накануне экзамена мы вышли от Бориса Моисеевича часов в семь – усталые и взволнованные в ожидании завтра. Со мной шел Шура Бережкин – верный оруженосец, Лена Михайлова и, кажется, Маринка. Фамилию Маринки вспомнить, хоть убейте, не могу.
–Дай бумажку заложить, – попросил Шура, листавший на ходу Перышкина. Я отобрала у него свой портфель, выудила из него относительно чистый листик, разорвала пополам и протянула однокласснику.
–Мерси. Опа! – Шура восхищенно уставился в листик. – Это же-е… Тетрадь Капанидзе!
И верно – я держала в руках обрывок обложки с неразборчивой надписью: «Тетр… по физи… Уче… Сергея Ка…», и это означало, что обложка принадлежала нашему двоечнику Сереже Капанидзе, затюканному и неопрятному, но потрясающе доброму. В карманах у Сережи вечно водились кусочки сахара для собак, а завтраками он все время норовил угостить кого-то из приятелей. Обложку он, по-видимому, когда-то сунул в общую кучу бумаги для черновиков на столе. Оторвал от собственной тетради, в которой все равно ничего не писал.
–Ну все, – обреченно сказал Шура. – Прощай, фортуна.
–Чего? – удивилась я.
–Тетрадь Капанидзе, – замогильным голосом произнес Бережкин, держа зеленый обрывок бумаги в вытянутой руке. – Он же туп, как шпала. А ты носишь перед экзаменом его тетрадь. Теперь часть его тупости перейдет к тебе…
Я ему как-то сразу поверила. Физику я знала неплохо, приметами не интересовалась, но на лице Бережкина читалась смесь гордости за сумасшедшую мысль, озадаченности и неподдельного испуга. Я поморгала и забрала у него кусок проклятой обложки.
–Не трогай больше.
–Ты что! – Шура вырвал у меня оба злополучных фрагмента. – Отдай! Ты что, завалить хочешь?
–А ты?!
–А я… – Бережкин мужественно сложил листики вдвое и сунул в карман, – перебьюсь и так.
–Вы чего застряли? – крикнула Маринка. Они с Леной успели довольно далеко уйти.
–Избавляемся от проклятия! – Шура снова отобрал у меня портфель и мы пошли догонять. – Стоп! А это идея! Мы должны от него избавиться!
–От кого? – поразилась Лена.
Мы с Шурой сдержанно поведали девочкам о находке.
–Глупости какие-то, – пожала плечами Маринка. – А вообще лучше ее сжечь. Мало ли что.
Я до сих пор не поняла, почему именно сжечь, и почему мы все в это поверили. Сказалось, наверное, напряжение, которое копилось в нас во время подготовки. Нам нужна была разрядка. И мы отправились искать, где сжечь тетрадь Капанидзе. Причем отсутствие у нас зажигалок – ну никто же не курил – показалось нам особенно дурным знаком. Предзнаменованием завтрашнего провала.
Ближайший табачный киоск оказался закрыт, и Лена робко предложила попросить у кого-то спичек. Мы начали истерически хохотать, и Лена чуть не обиделась, но Бережков, резко перестав смеяться, сказал:
–Бред, не бред, а куда тетрадку-то девать? Я человек суеверный, себе не возьму, и Ксанке не дам.(Маринка иронически посмотрела на меня) Кто-то хочет забрать себе?
Маринка дернула плечиками и отошла.
Мы бы, наверное, успокоились, и роковая обложка осталась бы у меня, но по улице шел парень с сигаретой. Повинуясь порыву, я шагнула навстречу и попросила огоньку. Одному Богу известно, как это выглядело. Парень посмотрел на меня удивленно и протянул зажигалку.
За моей спиной застенчиво стояли Шура, Лена и Маринка. Наверное, на их лицах читалось в этот момент: «сумасшедшая». А я стояла с зажигалкой, как дура, ине знала, что делать. Меня спас Шура. Он взял зажигалку, с особым форсом щелкнул ею и поднес к огоньку уголок зеленой обложки от тетради Капанидзе.
Окончательное помешательство предотвратил хохот незнакомца, поделившегося зажигалкой.
–Зачем, – выдавил он, вытирая слезы, – зачем вы… это… делаете?!
Лена прыснула, и мы все принялись хохотать, одновременно пытаясь объяснить причину сожжения тетради.
–Будущие студенты… – схватился он за голову. – Будущие! Студенты! Сжигают… А вообще понимаю. Когда экзамен?
–Завтра, – сказала я.
–Тогда легкое безумие уместно. Ну, бывайте, Савонаролы…
–Кто? – хором спросили мы с Маринкой. Слово «Савонарола» встало в наших неокрепших мозгах рядом со словами «Осоавиахим» и «Совинформбюро».
–Долгая история, – сказал он. – Монах-доминиканец.
Мы не поняли, а Шура обиделся.
–С чего это монахи?
–Савонарола соорудил костер тщеславия, – бросил парень, удаляясь. – Удачи на экзамене.
–Сам Совнарола! – крикнул ему вдогонку Шура. – Спасибо!
И парень остановился.
–Если что, – произнес он, – Костер тщеславия – это сожжение книг, отобранных у флорентийцев. Как вы сдавать-то собрались?
–Мы физику сдаем.
–А, – он кивнул. – Ну да. Тогда не знайте этого дальше. Всего хорошего.
Встречаться мы с ним начали на первом курсе.
В моей жизни не было историй без продолжения.
Мой техникум от истфака отделял пустырь с трансформаторной будкой посередине. Виктор выходил раньше меня и подолгу стоял, прислонившись спиной к будке, и курил, пока я не выходила. Тогда он радостно шагал ко мне и обнимал – большой, пропахший дымом и бумагой, спокойный.
Как-то мы с ним вспомнили о тетради Капанидзе, ставшей причиной нашего знакомства, и оба начали придавать ей какое-то особенно мистическое значение.
Девочки из моей группы засматривались на историков, но не знакомились, поэтому завидовали мне страшно.
Виктор часто говорил мне, что он авантюрист. Меньше всего он был похож на авантюриста. Казалось, его не занимало вообще ничего, и я не всегда могла угадать, какие замыслы вертятся в его кудрявой голове.
Однажды он приволок внушительную стопку пластинок с яркими английскими надписями.
–Сердце мое, – (он обращался ко мне именно так: «сердце мое») – У тебя есть где подержать их пару дней? Чтобы никто их не увидел.
–В кладовке, – сказала я. – Под помидорами.
–Помидорами, – повторил он и хохотнул. – Ну давай. Пусть полежат под помидорами. Если кто-то их увидит, я умру, – он сказал это совершенно серьезно.
Я разложила пластинки под газетами, на которых громоздились древние банки с солеными помидорами. Что на пластинках написано, я не особенно старалась понять. Думаю, Виктор смог бы всучить мне на хранение золотой слиток, внушив, что это спичечный коробок. Ни на лице, ни в голосе у него никогда не было и следа заинтересованности той или иной задачей.
–Что за музыка? – спросила я, возвращая пластинки через три дня.
–Зарубежная эстрада, – подмигнул он. – Битлы в основном. Немного роллингов. Словом, то, что слушают цивилизованные люди.
В январе он неожиданно слег в больницу с жесточайшим бронхитом. Я сидела на табуретке у койки, Виктор сиплым голосом рассказывал мне смешные истории и жаловался, что хочет курить. За моей спиной кашлял в газету какой-то старик. Потом старик, шаркая, выбрался в коридор, а Виктор выдохнул:
–Наконец-то… фуух, наконец-то. Слушай, сердце мое. Есть у меня к тебе одна просьба. Обещался я музыку продать одному человечку…
–Те пластинки? – догадалась я.
–Истинно так. В общем, я, сама видишь, нетранспортабелен, а человечек уезжает, нехорошо как-то, да? Я бы тебе сказал, где взять нужный винил и где отдать его человечку, а ты бы это все провернула, а?
–Конечно, – сказала я. – Конечно, я ему все отдам.
–Только слушай, – он посерьезнел. – Чтобы никто. Никому. Музыка не для пионерских ушей, ты улавливаешь?
–Пф! – сказала я. – Никто ничего не узнает.
–Как же я тебя люблю, – сказал он. – Давай ограбим банк? Беру в сообщники, ты готова?
…Пластинка лежала под диванной подушкой. Она оказалась непривычно тяжелой, и я, приоткрыв пакет, обнаружила не один, а целых три диска в одной коробке. На каждом было написано по-английски: «AllThingsMustPass»13. Я спрятала пакет в сумку, взяла под мышку том Хемингуэя – чтобы мама Виктора увидела, что я действительно заходила за книжкой. Хемингуэем я зачиталась в трамвае, так что чуть не проехала свою остановку.
Дома никого не было, мама, похоже, недавно ушла в школу к своим кружковцам. Я открыла купленный недавно проигрыватель – чемоданчик «Юность» – и вставила пластинку. Проигрыватель тихо зашипели выдал несколько звучных гитарных аккордов с обрывком мелодии, вдруг оборвавшимся и сменившимся с половины такта «Танцем с саблями». Я засмеялась. Образ Виктора-меломана понемногу развеивался. Почему-то я была уверена, что на остальных пластинках записано примерно то же.
Человечка я узнала по описанию: невысокий, полноватый, лет двадцати пяти, с пышной русой шевелюрой и негустыми усами.
–Вы Владимир? – спросила я, тронув его за локоть.
–Я, – напряженно ответил он.
–Я от Вити Шевелько.
Он принял пакет с пластинками и сунул его в портфель.
–Сколько?
–Пятачок, – сказала я, помня напутствия Виктора.
–Живодер, – скривился человечек. – На… – и он сунул мне в карман сложенные бумажки. – Мерси, мадемуазель. Вите сердечный привет. И плюнь ему в глаза от меня за такие расценки…
–Другие бы дороже взяли, – по наитию сказала я и, видимо, не промахнулась. Владимир еще раз сморщился, махнул рукой, буркнул «адьё» и удалился.
Я вынула из кармана деньги и застыла посреди улицы. «Пятачок» являл собой пятьдесят рублей, пять сложенных пополам десяток.
–А ты думала, что делаешь пожертвование в дамский пансион? – спрашивал Виктор вечером. – Достойная цена, тем более для такого ханыги, как Володя. Знаю я таких, как он…
–Я слушала пластинку.
Виктор шумно выдохнул и мрачно уставился в пол. У него на лице проявлялась гримаса отвращения.
–Н-ну, должна была узнать… Ксаночка, – он вдруг широко раскрыл глаза, – что ты собираешься делать?
Я опешила.
–Ты… мошенник, – сказала я.
–Спорно, – все так же широко открыв глаза и не моргая, произнес он. – Коробка приехала из Риги, а туда – из Ливерпуля. Пластинки ушли за семь червонцев хорошему человеку… А коробка осталась для тюленей. Володя-тюлень повелся. Ты думаешь, он будет слушать Харрисона? Да щас. Попробует толкнуть вдвое дороже. И нарвется в итоге на праведный гнев истинного ценителя.
–Ты обманул человека.
–Я обманул обманщика. Да еще и взял с него процент за глупость. Всегда бери процент за глупость, сердце мое. Со всех дураков, встретившихся на твоем пути. Иначе они встречаются тебе зря.
–А с меня, – спросила я. – С меня ты уже взял процент, или только собираешься?
Мы стояли в дальнем конце больничного коридора, возле фикуса.
Виктор отвернулся.
–Повторяю вопрос, – мрачно сказал он. – Что ты собираешься делать?
–Видеть тебя не хочу, – крикнула я ему и побежала по коридору прочь.
Вдогонку мне он закричал:
–А зачем?!
Я остановилась, и он, подбежав ко мне, просипел:
–А зачем ты взяла деньги, Ксаночка?
Я сообразила, что добытые подлостью пятьдесят рублей все еще лежат у меня в кармане.
–Держи.
Виктор взял добычу и стал скручивать деньги трубочкой.
–У него-то ты зачем взяла деньги? – поинтересовался он, кашляя. – Ты ведь уже знала, что на пластинке не то.
Он еще долго звонил, встречал и пытался проводить домой. Я убегала и пряталась от него. Махинации с пластинками скоро стали мне безразличны, но я боялась Виктора. А может быть и не его, а воспоминания о том моем странном состоянии, когда я стояла в больничном коридоре и пыталась понять: а действительно, зачем я взяла деньги?
Я не могла себе это объяснить.
Виктора я любила аж до конца февраля.
Зато в марте случилось совершенно невероятное: к нам вернулся отец.
Серафим
Запах кофе, такой заметный в подъезде, в квартире оказался отнюдь не единственным и даже не доминирующим. Поверх всех иных ароматов здесь прочно угнездился запах странного, не похожего на сигаретный, табака. В этом городе на удивление много курили.
Хозяин квартиры непрерывно затягивался маленькой папироской темного колера, напомнившей мне свернутый вручную гашиш, какой мне довелось видеть и нюхать лет триста назад в селении, ставшем через полтора века городом Асхабадом.
Было противно. От табачного дыма, от идиотского щитка, в котором я рылся, изображая электрика, от жутковатых звуков, издаваемых периодически краном на кухне.
Я уже не пытался представить, что было бы, увидь меня сейчас кто-то из низших сфер. Скорее всего, они бы просто не поверили.
Не поверили бы, наверное, и низшие сферы и с другой, темной стороны. Если они вообще знают, как я выгляжу, потому что я-то понятия не имею, как выглядит большинство из них.
–Проводка, – бормотал я наугад все, что удавалось вспомнить из технических терминов, – счетчик, перегорел, проводка, япона мать.
Особенно напрягало, что мужчина-то был, по-видимому, интеллигентен (я бы счел его писателем, но никакого желтого треугольника в его душе не наблюдалось), и мой театр должен был разгадать. Я уповал на то, что достаточно хорошо внушил ему мысль о поломке и память о вызове слесаря.
–А я-то думал, почему свет мигает, – неожиданно подал он голос. – Думал, напряжение скачет.
–Скачет! – обрадовался я. – По всему городу прямо эпидемия. Пробки вышибает, проводка горит…
–Угу.
Он снова уставился в пространство, изредка присасываясь к сигаретке, а я вернулся к своим безумным манипуляциям и бормотанию.
Решив, что следующий шаг должен принадлежать мне, я мотнул головой в сторону полок:
–Книжки читаете.
Я не мог придумать более идиотской фразы.
–Читаю, – сказал мужчина. По-моему, он вообще не заметил моего вопроса и ответил машинально.
–Детективы? – не сдавался я.
–Что? – он посмотрел на полки, словно сам увидел их впервые. Полки были сплошь заставлены одинаковыми дешевыми покетбуками.– А, ну, детективы, да. Триллеры иногда.
–У меня такие жена читает, – сообщил я, представляя, как падают в обморок вторая и третья сферы от Господств и ниже. – Детективы, романы…
–А у меня я сам читаю, – сказал мужчина, и после этой фразы он мне понравился. Потому что я сказал бы точно также.
–Это хорошо, – согласился я. – Книги в доме это хорошо. Но я женские романы читать бы не смог, хоть тресни.
Он заулыбался.
–А, вы о той халтурке, – показал на нижние полки. – Это и я не читаю. И жены у меня нет, а если б была, я бы ей это читать запрещал. Это, в некотором роде, мои детища. Я… хм, издатель.
Степень задымления в комнате становилась критической.
Следующие минут пятнадцать ушли на разговоры о современной литературе, во взглядах на которую мы сошлись, и мою возню в щитке, закончившуюся полыхнувшим проводом и словами (моими, разумеется):
–Как у вас все запущено-то.
–И не говорите, – с готовностью согласился издатель. – А я все думал, откуда запах горелой проводки такой… Гадостный такой…
–Ну кто ж вам виноват, – сказал я. – Раньше бы починили.
–Никто, – (интересно, подумал я, у него всегда в комнате такой дым?) – Никто, разумеется. А вы много читаете, – в глазах его бегущей строкой проплыло: «для слесаря».
Я подавил всколыхнувшуюся в душе нелепую панику. Никто меня, конечно, не мог расколоть, это была такая же чушь, как утреннее подозрение на присутствие Самаэля со мной в автобусе. Человек сделал комплимент; и еще бы ему не удивиться моей начитанности, когда мы с ним минуту назад сошлись во взглядах на Иванова и Геласимова и едва не поспорили о Веллере.
–Ну, – усмехнулся я, – не всякий электрик – пэтэушник, знаете ли. Я, между прочим, физтех заканчивал.
Мир опасно накренился и заскрипел от моих слов. Надо, надо, сказал я ему, и тектонический пласт, вознамерившийся уже покинуть привычное место, застыл, осуждающе вздыхая.
–Физик, значит, – в глазах потенциального свидетеля появилось сочувствие, и я дал про себя отмашку: вот оно, начинаем работу.
–Сами понимаете, – я изобразил обреченно-ироническую улыбку. – В наше время слесарь получает больше преподавателя. Я свой диплом все хочу в макулатуру отнести – хоть какие-то деньги принесет.
–Ужасный век.
–Ужасные сердца.
Мы уставились друг на друга.
–Кто в этом виноват? – медленно произнес я.
Он молча смотрел на меня.
–Кто…
–Вы, – сказал он. – И немножко я. И в значительной степени – никто.
Ждать дальше я не видел смысла.
–Человек, сын человека, я, Серафим, призываю вас…
Его лицо приняло умиротворенное выражение. Только когда я собрался продолжить посвящение мысленно, он скривился, и бросил:
–Вслух!
Это было его право. Многие не хотят, чтобы в их голову лезли, пусть даже и Серафимы.
–А если бы я ответил неправильно? – спросил он, подняв на меня глаза. Я не люблю смотреть в глаза свидетелям, как не люблю смотреть в зеркало. Мне слишком нравится обнаруживать искру разума в зрачках, чтобы часто позволять себе эту нарциссову радость.
–Я бы ушел.
–А щиток? – он смотрел на меня, не мигая.
–Что – щиток?
–Щиток бы починил?
–Нет, конечно. Вы же знаете, что с ним и так все в порядке.
–Спасибо за информацию, Серафим, – медленно выговорил он. – Только вот со всеми своими свидетелями и Самаэлями – а не шел бы ты на, уважаемый ангел, который хочет склонить меня к добру и сжигает проводку.
Я молчал. Я ждал.
–У меня нет претензий, – сказал он. – У меня уже много лет течет кран, полгода глючит комп, дочка гуляет по вечерам черт те с кем, я не могу бросить курить и найти хорошую книгу, чтобы почитать перед сном. Но никто, Серафим, никакой, к чертям, ангел, не посмеет сказать мне, что кто-то в этом виноват. Плевал ты на людей, Серафим. Тебе нужен человек, который не сможет обвинить никого, кроме дьявола? Так вот, если бы не криворукие сантехники, не сетевой червь, не друзья моей дочери, не моя слабость и не толпа бездарей – не было бы никакого дьявола, и мне плевать, что ты меня заставил о нем узнать. Я отказываюсь быть свидетелем обвинения и вообще свидетелем в любом чертовом ангельском суде. Стирай мне память.
–У вас болезнь Альцгеймера, – сказал я. – Я могу вам помочь.
–Мне не нужно помогать, – он затянулся. – Меньше забывать придется. Стирай, Серафим, работай.
И я понял. Самаэль знал, что он откажется. Понятия не имею, откуда, как он это понял, но в людях он разбирался лучше меня. И будь здесь вместо меня тот же херувим или, скажем, престол, он бы сразу все понял. Низшие сферы то и дело мелькают среди людей. В отличие от меня. А Самаэль-Ариман знал, что последний свидетель откажется. И знал, что я не смогу его оставить без внимания. Зачем это все? Досадить мне? Не велика досада. Унизить, показать свое превосходство? Он может сделать это и лучше. Подшутить? Теплее. Самаэль мог подшутить надо мной, но что-то в этом смущало; он был бы рад увидеть мое удивление, увидеть лично, понаблюдать за выражением моего лица, ему ни к чему было меня задерживать… Задерживать! Шеф мой, шеф, какой же я дурак!
–Будьте благословенны, – я стер последнему свидетелю память. – До свидания.
–До свидания, – он улыбнулся. – Я, если что, вам еще позвоню, если щиток опять…
–Конечно, – я уходил. – Всего доброго.
Что он задумал, судорожно соображал я. Увидел меня, понял, что дело табак, тьфу, только не о табаке, ну и вонь тут стоит… Отправил меня в бессмысленную поездку, а сам – что? Бежать ему некуда, я же найду его… что ты задумал, бывший повелитель ада, человек Ариман Владимирович?
–Серафим!
Я обернулся, радуясь, что меня не видят низшие сферы.
Мог бы и проверить, не зашел ли кто-то, пока я пытался обратить редактора.
Девочка. Лет шестнадцать. Курносая, в толстых некрасивых очках. В малиновой куртке с капюшоном. Обычная девочка, ничего особенного.
–Не стирайте мне память, – она выставила руку, точно собираясь меня остановить (а я стоял на месте, разглядывая ее и оценивая объемы собственной глупости). – Меня зовут Катя, Катя Антонова, вы говорили с моим папой. Я все слышала, – она смотрела на меня моими глазами, теми самыми проблесками разума. – Я согласна стать свидетелем обвинения. Никто не виноват.
–Катя Антонова, – я спускался по лестнице, – ты сумасшедшая, но я сам не слишком похож на нормального человека и ангела. Я, Серафим, призываю тебя…
–Я все слышала, – крикнула она, догоняя меня. – Не повторяйте. Я вам верю и так.
Тем временем
-Тепло, б…, – Всеволод поводил по полу ладонью. Он сидел на корточках у стены возле своей стойки.
–К утру найдут, – буркнул Ариман Владимирович. – Если до того никто не обнаружит, что лавочка пропала.
–Если мы, б…, к тому времени не задохнемся.
–Ну, вряд ли, – Женя в очередной раз попыталась вызвонить полицию и в очередной же раз убедилась: сигнала нет. Ариман Владимирович посмотрел на нее, спрашивая движением бровей: ну как? Женя покачала головой. – Вряд ли задохнемся, – сказала она. – Главное, не замерзнем.
–По логике, можем перегреться, – заметил Ариман Владимирович. – Если трубу прорвало достаточно давно, раз вода успела размыть под нами грунт… Следовательно, снаружи сейчас реки кипятка, и мы продолжаем проседать под землю. А труба продолжает нас греть.
–В аду, б….
–Вы не представляете, – с чувством сказал Ариман Владимирович, – насколько это похоже на правду.
Под землей размыла грунт вода из протекающей теплотрассы, сообщил он часом ранее. (А прежде ходил кругами и бормотал что-то о небе и о том, почему его нельзя оставить в покое). В земле от горячей воды образовались пустоты, и вот туда-то и провалился «Респект». Все это он говорил под вопли ошалевшего кота и нескончаемый мат Всеволода. Всеволод, честно предупредив, что мат для него – способ привести мысли в порядок, извинился заранее перед всеми, и далее его было уже не остановить.
–Может, нас уже откапывают, – вздохнула Женя.
–Мы бы услышали, – Ариман Владимирович с сомнением посмотрел на потолок. – Но можете не сомневаться, нас найдут в ближайшее время. Как вы думаете, что видят проходящие по улице? А? Воронку, из которой валит пар.
–Помогите-е! – заорал Всеволод. Все вздрогнули, и тут же к нему присоединилась Женя. Кот вылез из-под коробки, где провел последние полчаса, и отчаянно замяукал. Негромко потрескивало что-то на потолке.
Ариман Владимирович погладил краешек шарфа. А что, подумал он. В конце концов, может, их и правда скоро выпустят.
Женя закашлялась. Всеволод протянул ей жвачку и снова сполз на пол. Больше звать на помощь он не пытался.
–Потерпите, – сказал Ариман Владимирович. – Бояться нечего.
–Теоретически мы можем просидеть тут до утра, – Женя съежилась на стуле, став похожей на больную рыжую птицу.
–Можем, – согласился Ариман Владимирович. – Но я сомневаюсь.
Телефон сел, когда Женя, снова не поймав сеть, решила поиграть. Цветные шары, мелькнув на экране, исчезли, и Женя в сердцах швырнула телефон на пол. Шел первый час ночи.
–Но директор хитрая сволочь, – монотонно рассказывал Всеволод. Падение телефона не привлекло его внимания. – И я ничего не смог доказать. Я найду хорошую фирму и устроюсь, специалисты везде нужны.
Его никто не слушал.
Ариман Владимирович сидел, глядя в трещинку на полу. Он, прежде стремящийся всех успокоить, теперь выглядел куда хуже Всеволода и Жени.
–Чья очередь? – не меняя интонации, произнес Всеволод.
–Ваша, – Женя коснулась рукава Аримана Владимировича.
–Ожидание, – сказал Ариман Владимирович.
–М-м?
–Я очень не люблю, когда меня заставляют ждать.
–Я вам предлагал первым рассказывать, – Всеволод вытянул ноги и закрыл глаза.
–Я не о вас. Сидеть и ждать пока тебя вытащат. Противно. Нас могли вытащить часа два назад.
–Рассказывать будете?
–Буду. Я родился нигде и никогда и большую часть жизни провел там же…
–Удивили, – хмыкнул Всеволод. – Все мы… Давайте больше конкретики. Где учились…
–На юрфаке. И в разведшколе. Родину защищал.
–Серьезно?
–Абсолютно. Вы не представляете, скольким предлагали пойти в разведшколу. Именно с юрфака. А согласился я один.
–Так вы разведчик? – Женя пыталась осмыслить новость.
–Бывший. Очень давно бывший. Последние годы я юрист. Консультант.
–А за границей работали?
–Работал. Нас было много таких… Кто с иняза, кто из милиции… Для внешней разведки отбирали в основном лингвистов, но у меня были способности к языкам.
–Потрясающе. (Всеволод из своего угла поддержал:«Обалдеть»).
–Женечка… – зевнул Ариман Владимирович. – Потрясающе – это то, что я сижу в лавочке под землей, в окружении кофе, коньяка и кожаных ремней.
–Бывших разведчиков не бывает, – сказал в пространство Всеволод.
–Я тоже так думал. И мне об этом часто говорили. Но у нас все бывает бывшим. Даже разведчики.
–Уволились?
–Да нет, – дернул плечом Ариман Владимирович. – Если коротко, меня бросили свои же. Но это, уж извините, военная тайна.
–Пф-ф, – Всеволод приоткрыл глаз. – С профессиями разобрались. Теперь, б…, поехали о любви.
–Это не ко мне, – Женя подняла руки. – Любовные истории категорически не про меня.
–Вы замужем?
А ведь мы до сих пор не знаем другдруга, подумала Женя.
–Нет.
–И не были?
–Нет.
–А любимый человек есть?
–Бестактный вопрос. Ну, допустим, есть.
–Зае…сь, – резюмировал Всеволод.
–Я был женат, – неожиданно сообщил Ариман Владимирович. – Еще там… за границей.
–На иностранке? – заинтересовался Всеволод.
–На эмигрантке. Лучше всего было жениться на иностранке, надежнее для легенды. Но я выбрал ее. А потом меня выдернули обратно, а она осталась.
–Господи, – сказала Женя, – и ее нельзя было забрать с собой?
–Конечно, нет.
–Вранье, – бросил Всеволод. – Беспардонный п…деж. Не были вы никаким разведчиком. Как ее звали, жену вашу?
–Лилия, – чуть помешкав, отозвался Ариман Владимирович.
–Вранье, – повторил Всеволод. – И Лилии никакой не было. И разведчики в киосках не работают. Или вы тут на задании?
–Нет, – с видимым сожалением сказал Ариман Владимирович. – Тут не на задании.
–Тогда все это вы врете, чтобы нас развлечь и успокоить.
–Совершенно верно, – вяло кивнул Ариман Владимирович и отвернулся.
–Хороший вы человек, – Женя приблизилась к нему. – Как думаете, долго еще ждать?
–Часа два. Потом снег над нами окончательно растает, и дыру увидит первый же прохожий.
–Снег?
–Ну да. Я все думал, почему нас до сих пор не нашли. А все дело в горе снега на крыше. Сейчас она, судя по всему, сравнялась с землей, и мы похожи не на воронку, как я полагал, а на небольшой сугроб. Ничего примечательного. Но стены греются, снизу поднимается пар, и снег начинает таять. Поэтому, кстати, перестал трещать потолок. Вес снежной шапки уменьшается.
–Логично, – оценил Всеволод.
Кот, возникший из ниоткуда, уставился на Аримана Владимировича круглыми глазами, мявкнул и прошествовал к дверям. Уселся у входа и принялся умываться. Клаустрофобией он точно не страдал.
–Гостей намывает, – хмыкнула Женя.
Ариман Владимирович вздрогнул и в глазах его, как и в первые секунды после ухода «Респекта» под землю, замелькали злые искры. И исчезли, прежде чем Женя успела об этом подумать.
–Ему там тепло, – сказал Ариман Владимирович. – Дверь тоньше стены, вот и тепло пропускает лучше. Еще одно подтверждение моим словам: скоро снег растает.
–Приятно это знать, – Всеволод протирал очки. – Если бы вы нас и вытащить могли, хороший вы человек…
–Помилуйте, – обиженно произнес Ариман Владимирович, – хорошие всегда знают больше, чем могут сделать. Если бы они что-то могли, сразу бы стали плохими.
Женя закрыла глаза и попробовала обратиться к непонятной, смутно ощущаемой силе: «Пусть я скорее вернусь домой, пусть нас вытащат, пусть я проснусь сейчас…»
Сила молчала, только пружинка страха в груди перестала дрожать, укрытая, точно подушкой, усталостью.
Набериус
Морщась от запаха, он собрал листы в стопку, пнул подвернувшегося под ногу шимпанзе и вышел в гостиную.
–Здорóво, – Каим-Дрозд протянул тонкопалую руку. – Я не один.
За его спиной мялся в нерешительности какой-то пухлый бес с глуповатым лицом.
–Мой коллега, – Каим подбородком указал на беса. – Не спрашивай, как зовут, сам не помню. И ты забудешь.
Маркиз снова сморщился. Каиму он был в какой-то степени рад, Каим был когда-то его другом. Но мелкий бес в квартире раздражал.
–Приятно познакомиться.
Пухлый смущенно кивнул и представился. Словно пытался выговорить длинную формулу с набитым горячей кашей ртом.
–Как, простите?
–фу-фу-фу, фу-фу, – пробормотал пухлый и покраснел.
–Стесняется, – пояснил Каим. – У него и так-то дикция не очень. Забудь. Это председатель попечительского совета.
Маркиз озадаченно уставился на Каима.
–А я, – продолжал тот, – председатель генеральной ассамблеи… Ну, тебе это ни о чем не скажет.
–Всегда знал, что вы докатитесь… – Маркиз упал в кресло и закинул ногу на ногу. Все еще чувствовался запах обезьяньей шерсти.
Каим выглядел хорошо. Каим избавился от вечной сутулости, волосы его в кои-то веки не были зализаны на обе стороны, в шейном платке затаился круглый, бездонно-голубой опал.
Пухлый безымянный председатель покачивался на пятках рядом с ним, погрузив короткие лапки в карманы серенького пиджачка. Он вызывал жалость.
–Мы докатились, – неожиданно внятно подтвердил пухлый. – У нас демократия. Меня избрали подавляющим большинством голосов шестого, седьмого и девятого круга… – он ошалел от собственной смелости и зарылся в носовой платок, отдуваясь.
–Все изменилось, старик, – Каим, не глядя на коллегу, опустился на стул. – Шефа больше нет, временное правительство – я, этот вот, и еще трое новых. Сказать по правде – вертеп и бардак. Так и живем.
–Ну и молодцы, – сказал Маркиз.
–Ты как сам?
–Работаю, – Маркиз потянулся за трубкой. Запах обезьян можно было забить только дымом, и желательно с сильной нотой латакии14.
–Дуэли, – неодобрительно качнул головой Каим.
–Ты что. Давно уже нет. Так, по мелочи реабилитирую каких-то бедняг. Так-то я в литературе. Покровительствую писателям, понимаешь ли.
–Ты пишешь?!
–Обезьяны пишут, – отмахнулся Маркиз. – Я продаю.
–Н-да, – сказал Каим. – Только не говори, что ты прибрал к руками бесконечных обезьян15.
–Прибрал. Чувствуешь, как воняет?
–Дегтем воняет, – вякнул пухлый бес и зафыркал в платок.
Дегтем пахли отнюдь не обезьяны, а турецкая латакия, но объяснять это Маркиз не стал. Он раскурил трубку, осторожно примял поднявшиеся под огнем листики и погрузился в созерцание завитков дыма.
–И как, – Каим откинулся на спинку, – хорошо работают обезьяны?
–Прилично. В день по две-три книги, в хорошие дни по шесть.
–Конфисковать бы их, – мечтательно произнес Каим, – по законам нового, так сказать, режима… Да что с ними, по правде-то, делать… Бесконечные обезьяны, бесконечные книжки… Печатными машинками их опять-таки обеспечивать… А, хрен с ними. Пользуйся. Девочка твоя как? – с неожиданным участием поинтересовался он.
–Учится, – коротко ответил Маркиз. – Скоро придет.
–Намек понял. Скоро уберемся. Старик, а она что, правда ничего не знает?
–Ничего, Дрозд, – сказал Маркиз. – И я тоже ничего не знаю и знать не хочу. Я человек, Дрозд.
–Вижу, – кивнул Каим. – Обратно не зову. Хотя, не скрою, ты бы нам ох как пригодился. Ну, – он покладисто опустил руки на колени, – человек, значит, человек. Я, собственно говоря, по делу.
Долго ль мне гулять на свете, то в коляске то верхом16, думал Маркиз, рассматривая дым.
–Ты занимался восстановлением репутаций, – голос Каима стал твердым. – Тебе это всегда хорошо удавалось. Сейчас я обращаюсь к тебе от имени Временного Правительства и, в частности, генеральной ассамблеи…
–Короче.
–С заказом. Мы заплатим столько, сколько потребуется. И больше, чем потребуется. Мы просим тебя как частное лицо, как человека. Восстанови в должности шефа.
Маркиз не шевелился.
–Мы обещаем вознаграждение большее, чем ты можешь представить, – сказал Каим. – Чего ты хочешь? Покоя? Семейного счастья? Мира на земле? Здоровья дочери? Звезду с неба? Получишь. Я серьезно, плевать на принципы, получишь. Никто не тронет тебя и твое любимое человечество. Или ты хочешь отдельный мир, где никого, кроме…
–Что, – почти не шевеля губами, выдавил Маркиз. – Ты. Хочешь???
–Восстановить шефа в должности, – смущенно пробормотал пухлый бес.
Каим кивнул.
–Стой, стой… Ты вообще в своем уме? Я даже не спрашиваю, как… зачем?!
–Да как тебе сказать, – Каим нервно выдохнул уголком рта. – Тебе наши дела как бы неинтересны. Но это не секрет. Мы в подполье. Я, этот вот, остальные – мы все в подполье. Никто о нас не знает. И правительство мы, сам понимаешь, не факт, что надолго. Нам нужно вернуть шефа, Набериус. Потому что без него… Вместо него… Это может быть страшно, старик. Даже для нас. И я рассказываю тебе о наших планах только потому, что спроса с тебя, если что, не будет. Тебя давно списали, старик. А сейчас могут списать нас всех. Да так, что сказать противно, как нас могут списать. Мы заплатим, Набериус. Верни шефа.
Маркиз щурился, глядя сквозь дым. Шерстью не пахнет, удовлетворенно подумал он.
–Не справлюсь, – сказал он. – Я так понимаю, Самаэль больше не при делах, – (безымянный бес вздрогнул при слове «Самаэль», Каим поджал губы). – И я этому рад. И если это так, то в этом замешаны такие силы, с которыми ни мне, ни вам никогда не разобраться. Вы можете рисковать – я не буду.
–Никаких сил нет, – пухлый бес вдруг перестал тушеваться и смотрел на Маркиза глубокими грустными глазами. – Есть факт: шеф в пожизненной ссылке на Земле. Мы могли бы на самом деле основать новое правительство, построить даже что-то… Но мы в ужасе, Ваша Светлость. Ад больше не принадлежит нам, Ваша Светлость. Я вообще не понимаю, кому он теперь принадлежит. В этом всем трудно разобраться… – он снова начал краснеть. – И лучше уж вернуть все, как было, а это ведь не так уж и трудно. Если шеф будет признан действительным правителем… – глаза беса вновь сделались маленькими и тусклыми, он заперхал в кулак и тут же принялся вытирать руку о пиджачок.
–Все так, – сказал Каим.
–Лучше бы вы ушли, как я, – вздохнул Маркиз. – Жили бы на Земле, не мучились бы сейчас. Заказ я принимаю, но возьму дорого.
–Спасибо, – Каим встал.
Пухлый бес потоптался и пробурчал что-то нечленораздельное.
Обезьяны, пожалуй, симпатичнее, подумалось Маркизу.
И долог век, подумал он вслед за тем. И неровен час.
В земной жизни Сатана оказался мелковатым, с простым, не лишенным, однако, некоторой грубоватой красоты лицом; в его блеклых волосах намечались залысины, свитер плотно обтягивал выпирающий живот, и, в общем, это был заурядный полный мужчина, улыбчивый и несколько суетливый. Маркиз спокойно прошел за ним до самого дома. И уже стоя у подъезда, подумал, что видел своего бывшего командира впервые в жизни.
–Чего встал?
–Вспомнил о встрече, – сказал Маркиз. – Сегодня вечером.Напрочь вылетело из головы.
–Что-то важное?
–Графоман, – Маркиз пожал плечами. – Ну как его назвать важным. Обычный графоман, но его почему-то читают.
–Издательство хорошее, – усмехнулась Марта. – Почему ты его печатаешь, вот что интересно.
Маркиз прекрасно знал, почему он его печатает. Несколькими часами ранее он сам выдернул из рук одной из обезьян свеженабраный текст, прежде чем неразборчивый примат успел оный текст сожрать. Бесконечные обезьяны исправно стучали по буквам, и Маркиз, двигаясь между ними в клубящемся безвременье, то и дело выхватывал черновики, руководствуясь, как правило, понравившимся названием. «Фыавпотпв», читал он. Мимо. «Бросок анаконды». Пойдет. «Ззззпрои». «Виктория проснулась от того, что его не было рядом…» Название переделать, и пойдет.
–А почему нет? Его сейчас любят. Когда-нибудь люди вообще перестанут читать нормальные книги, и мы с тобой останемся самые умные.
–Ну, удачи на встрече.
–Спасибо… Март, а, Март, – Маркиз взял женщину за локоть. – Этот твой коллега, Ариман… Ты знаешь, почему его зовут Ариман?
–Он рассказывал, – удивилась Марта. – Древнеиндийское имя.
–Забавный человек.
–Интересный, – сказала Марта, – глядя на дверь, в которую несколько минут назад зашел Ариман Владимирович. – Я вчера с ним столкнулась тут. Не знала, что он в этом доме живет. Повернись ко мне, будь добр.
Маркиз встал к Марте лицом и не успел увернуться от поцелуя.
–На память, – Марта отстранилась спустя мгновение. – Спасибо, что встретил. Дальше я сама.
–Погоди.
–Ты хотел попрощаться. Ну вот. Мы попрощались. Будь здоров, дорогой.
–Да погоди же! – Маркиз широкими шагами догнал Марту. – Погоди. Ты мне нужна. Я передумал. Я с тобой.
Марта качнула рыжими волосами.
–Не смешно.
–Прости, – сказал Маркиз. – Я тебя не оставлю.
–Я тебя не понимаю!
–Не оставлю, и все тут. Ты мне нужна, Марта. Мне нужно встречать тебя с работы, – честно сказал он. – Мне…
Марта без замаха, но сильно, ударила Маркиза по лицу и поцеловала в пахнущие табаком губы.
Оксана
В ЗАГСе я разревелась, и меня отпаивали валерьянкой.
Я, конечно, сделала вид, что плачу от счастья. Наверное, нужно было быть идиотом, чтобы так подумать. Слезы счастья выглядят иначе. На самом деле я плакала не от счастья или горя, а от наступившей в моей жизни окончательной определенности. Я больше не могла выбрать себе судьбу. Стас был хорошим человеком, на руках меня носил, но я его не любила так, как должна была любить, чтобы выйти замуж.
Я больше не могла встретить другого, которого полюблю так, как нужно. И изменить что-то я не могла. Внутри меня уже жил будущий человек, и я испытывала странное, незнакомое мне прежде чувство, что этот человек теперь – моя жизнь и ее суть и цель. Мама была не против аборта, она понимала, что мне не до детей. Против была я.
Поэтому я плакала о себе, той, какой я больше никогда не стану. О дурацкой беременности, о милом мальчике Стасе, влюбленном в меня по уши. О том, что я никогда и никому не отдам еще не родившегося ребенка, который решил мою судьбу насовсем.
А мне налили валерьянку, и я стала женой. Теперь меня звали Оксана Белых.
По-настоящему я была рада переезду. Дома оставалась мама (и я видела, как она устала от заботы обо мне, хоть и сама себе в этом не признается) и седой, сломленный отец, вечно глядящий на маму с затравленной робостью. Я перестала понимать, как он мог раньше взять и уйти из дома. Я мешала дома.
В новой квартире я почувствовала себя свободной, как когда-то в детстве. Стас был правильным мужем, он делал все, что должен был делать, я прекрасно понимала, что не справилась бы без него. И, в конце концов, стала воспринимать его как неотъемлемую и приятную часть быта. Сама я была занята ребенком.
Она родилась третьего мая. Я помню, как мне дали живой, кричащий куль, мою дочь Тамару. А перед этим, как мне сказали, я уснула от усталости.
И только тогда я поняла, зачем мне нужны были брак, семья, переезд – чтобы я могла спокойно родить Тамарочку и растить ее. В тот день, лежа в палате рядом с двумя крепкими молодыми бабами (у каждой – второй), я по-настоящему полюбила мужа, от благодарности за Тамарочку, за новую жизнь, за…
Светило замечательное солнце.
…Глядя через пятнадцать лет на стройную девочку в закрывающих полголовы наушниках, затянутую в джинсу, я уже не находила в себе ни частички того священного восторга. И нежность, которой было так много, спряталась подальше. Она не исчезла, но жила глубоко внутри, а снаружи были дела и еще раз дела. Через двадцать пять лет я об этом уже вообще не думала.
Конечно, много чего случилось и раньше.
Например, я пережила внезапный карьерный взлет и такое же внезапное падение. Правда, падение было полностью моим выбором. Сначала мне предложили возглавить отдел. Инженером я была хорошим, руководителем оказалась приличным. Правда, меня ненавидели сотрудницы, и Маша даже недвусмысленно намекала на мою (несуществующую) связь с Константином Игоревичем, директором проектного института, где я работала. На самом деле мне дали должность после того, как выгнали скандальную Люду. Люда раньше уже получила разнос за разоблаченные отлучки с работы. Я сама ее один раз прикрывала, по совету старшей сотрудницы, наученной андроповской эпохой, убедив Константина Игоревича, что «вот же ее пальто висит, она на минутку отошла», в то время как Люда в моем пальто бегала занимать очередь за курицей. И когда я видела, что директор проходит мимо, я на свой страх и риск кричала в проход: «Люсь, ватмана принеси!» Ни меня, ни Люду не разоблачили. Людины побеги открылись потом, не знаю, как. И о моем участии в одном из них никто не узнал. Зато узнали, что Люда в день рождения принесла на работу спиртное и собирается тайно проставляться. Не знаю, где она там собралась, потому что весь наш отдел увидел ее бутылку впервые. А Люда на собрании закатила драму со слезами, мол, это же праздник, что вы, не люди. Дура, она могла бы и понять, что объяснять директору все, что угодно, абсолютно бесполезно. Можно подумать, он бы действительно мог проникнуться пониманием. Его головой думал сухой закон. Родись Люда на полгода позже, и никаких проблем с сухим законом у нее бы уже не было. Так что своим повышением я обязана дате рождения Людмилы Костровец. Так вот, Люду выгнали, а я как-то случайно начала тянуть за двоих, и, в конце концов, получила заслуженную награду.
Дела у нас пошли на лад, Стас заканчивал аспирантуру и преподавал матанализ, Томочка научилась ходить.
Отдел под моим руководством расцвел, хотя, повторюсь, меня терпеть не могли. И я их, конечно, понимаю. Многие работали по пять-шесть лет, кто-то дольше, а я была лучшим специалистом среди них, только и всего.
Так продолжалось почти два года. Потом Томочка заболела.
Больше всего я боялась, что она заболела из-за Чернобыля. Когда в Чернобыле был взрыв, я была уже на втором месяце, правда, по словам мужа, нам ничего не угрожало, слишком далеко мы находились. Но это все я сразу же забыла, как только Томочка начала болеть. Мне почему-то казалось, что из-за радиации у нее начнется рак мозга. А это было повышенное внутричерепное, и у нее болела головка. Нам выписали таблетки, они сразу не помогли, и я стала плакать от страха, не могла остановиться. Стас, стоявший на кухне рядом, налил воды в миску из-под рыбы и выплеснул на меня.
–Ты что, с ума сошел? – спросила я. Стас обычно сдувал с меня пылинки.
–Ты хочешь, чтобы Тома видела, как все плохо?
Он покачал Томочку на руках, но она хотела ко мне. Я переоделась и взяла ее, и дочке сразу же стало лучше.
На следующий день я уволилась с работы. Моей дочери становилось лучше, когда я держала ее на руках.
И мы начали вместе выхаживать нашу Тому. Наверное, я совершенно не знала своего мужа, потому что долго ждала, когда он наконец-то упрекнет меня в том, что я вот так, в один день, бросила прекрасную работу. Я даже знала, что он мне скажет. «Ты не можешь вот так уволиться, просто чтобы быть весь день с Томой. Ей становится лучше от таблеток, а не от того, что ты держишь ее на коленках». «Ты получаешь деньги, на которые мы покупаем ей лекарства, но ты хочешь бросить все и лечить ее силой мысли». Я его совсем не знала. Стас мне слова ни сказал. Вместо этого он пошел в наш институт к научникам, откуда вернулся с известием о том, что он нашел вторую работу.
Я просидела с дочкой четыре месяца. Потом Томочка поправилась окончательно, Стас оставил преподавание и ушел в НИИ, я устроилась в маленькое проектное бюро, и жизнь наша пошла обыкновенно и спокойно.
В девяносто первом году мне было тридцать, дочке пять, мужу тридцать два, и жизнь вдруг, в один светлый сентябрьский день, показалась нам ужасно интересной. Наша страна доживала последние месяцы, и, хотя мы не знали этого точно, каждый из нас чувствовал неотвратимые перемены. Тома выразила это попыткой самостоятельно постричься (шуму было, когда я застукала ее с ножницами в руках) и решительно высказанным желанием превратиться в мальчика и пойти на войну. Стас, в полной уверенности, что наша пятилетняя дочь тронулась умом, собрался уже вести ее к врачу, но его отговорила моя мама.
–Стасик, – успокаивающе сказала она. – Ты посмотри, что по телевизору показывают. Пусть ребенок играет, во что хочет. Время такое…
Тогда мы купили Томочке водяной пистолет, собрались и впервые за несколько лет поехали в настоящее отпускное путешествие. Друг Стаса, молчаливый Куаныш, с тонкой восточной бородкой, работал в прибайкальском лесничестве, и мы остановились у него. Две недели абсолютного спокойствия и немыслимой красоты явно пошли нам на пользу.
–Уезжать не хочется? – спросил как-то Куаныш, глядя на закатные сосны своими раскосыми глазами.
–Не-а, – призналась я.
Стас укладывал Томочку спать, из дома доносилось его приятное пение: «рыбки уснули в пруду-у…»
–Оставайтесь, – серьезно сказал Куаныш. – Славку не уговорить, может, ты на него повлияешь. Следующие десять лет лучше жить здесь.
–Почему?
–Там жизнь изменится, – он пожал плечами. – Ты изменишься. Тамарка тоже… Понимаешь, Оксан, там ты никогда не будешь знать, кем вырастет твоя дочь. А здесь будешь.
–Да, а школа?
–В местную сельскую школу пусть ходит. Тут ничего не меняется, ты чувствуешь? Сам меняй свою жизнь, как в голову взбредет. А там, – он махнул рукой за сосны, – все перевернется, вас перевернет, закружит… Вот я. Биолог. Все куда-то лез, кандидатская, докторская… Жена от меня ушла, зачем ей муж, которого, понимаешь, птицы в зоопарке видят чаще, чем она. А в семьдесят девятом приехал первый раз сюда… Тишина, природа, азиатские корни опять-таки напомнили о себе. Я как прошелся тут по деревне, мне человек пять молока вынесли, а я на них смотрю и чувствую: мои, родные… Все, думаю, остаюсь.
–И не жалеешь? – спросила я.
–Жалею иногда, – ответил Куаныш. – Там я был ученый, орнитолог, а здесь? Егерь. Только там, понимаешь, я бы сдох давно. Там жизнь как-то отдельно от людей течет, захочет, и перевернет всех, захочет – в грязь, захочет, – на войну… А здесь я сам своей жизни хозяин. Я даже разговаривать начал как бурятский старец, чувствуешь?
–Точно. И я не могу представить тебя где-нибудь в лаборатории.
–Ну, там я, положим, почти и не бывал.
–Зато я прекрасно помню тебя в детстве, – это Стас вышел и встал на крыльце за нашими спинами. – Приличный такой, в костюмчике… И что выросло…
Куаныш хмыкнул,покачал головой и действительно стал похож на бурятского или монгольского мудреца из сказок. Он был всего на шесть или семь лет старше моего мужа. Забыла, где и как они познакомились.
–Хорошо-о, – сказал Стас, садясь между нами. Мы сидели на настоящем деревянном крыльце. – Настоящая, чистая свобода.
–Ну так оставайся, – хитро посмотрел на него Куаныш. – Все равно потом сюда захочешь.
–На пенсию сюда приеду. У тебя, дружище, это все – он обвел рукой, – в крови. В генах. Ну не леса, так степи. А мы в энных поколениях урбанисты, – Стас прислушался. – Кукушка. Кукушка-кукушка, сколько мне…
–Тьфу на тебя, – сказала я. – Живи подольше.
Жизнь перевернулась, когда мы приехали в город. У папы случился инсульт.
Все боялись, что он не оправится, но он оправился. Он и сейчас невнятно говорит, не может ничего держать в левой руке и окончательно потерял зрение, но в его возрасте это не самое страшное, что может быть. Вообще он отлично держится для своих лет. Моя прабабушка – его бабушка – прожила сто девять лет, так что задатки долгожителей у нас есть. А тогда мы были так заняты страхом и заботой о папе, что не заметили, как страна вокруг нас перестала существовать.
Серафим
-А почему вы стираете свидетелям память?
–А зачем хорошим людям сидеть в психушке? – я ответил вопросом. Не люблю так делать, но вариантов не видел.
–Ну вот я, например, и так никому ничего не скажу.
–И будешь жить, зная… зная это все? – сочувственно произнесла Дарья.
–Буду, – решительно сообщила Катя.
Таксист хрюкнул.
Они не могли ей ничего сказать. То, что они знали, невозможно было передать человеческой речью. Но Катя принадлежала к редкой породе сумасшедших, отказавшихся от сотрудничества с серафимом. Это у нее было семейное. Но она, в отличие от отца, последовала за мной, и теперь задавала бессмысленные с точки зрения остальных моих спутников вопросы.
–А Пушкину почему не стерли?
–?!
–«И шестикрылый серафим на перепутье мне явился…»
–Стер, – сказала Дарья. – Совпадение.
Ей не нравилась Катя. Почему-то в присутствии Кати Дарья перестала открыто флиртовать со мной, ее саму это раздражало.
–Бывает, – подумав, согласилась Катя. – Вы мне лучше скажите, а Бог, – что он делает с сатанистами? Если они попадут в ад, вроде как он их не наказал, а если в рай – тоже как-то странно…
–А правда, – сказал таксист.
–Вы же знаете.
–Да не, я о другом, – его лицо, вернее, та его часть, что была мне видна в узком зеркальце, приняло непривычно растерянное выражение. – Зачем ей память стирать-то, а? Она, – таксист пошевелил губами, выбирая из захламленного разума слова. Разум его был похож на салон «Жигулей». – Она ничего не знает, а верит. А я все знаю. А верить больше не смогу. Потому что знаю. А забуду – может, снова смогу.
–Банально, но верно, – Дарья решилась вернуть руку мне на локоть, только затем, чтобы я опять отодвинулся. Катя, сидевшая на месте штурмана, не видела Дарьиных рук и явно недоумевала, чего я ерзаю.
–Катя, – я старался говорить мягко, но без снисходительности. Кажется, удавалось, – Ваша жизнь наполнена великим смятением. Но потом жизнь станет прежней, и продлится она столько, сколько вам положено. А смятение останется, и Дарья в общем-то права: прожить человеческую жизнь, помня о том, что случится сегодня, не слишком приятная перспектива.
–Завидовать вам буду? – понимающе кивнула Катя.
–Скорее будете мечтать еще хоть раз коснуться высоких сфер. Это как наркотик для человека.
–Как Иванушка Бездомный, – Катя невесело улыбнулась. – «И при луне мне нет покоя». Хотя, нет. Скорее, как боров Никонор Иванович. Таксист включил радио, и оно ударило по ушам таким смертельным дабстепом, что я не выдержал, и, прокрутив в уме тех своих клиентов, чьи имена и тексты помню, дотянулся до приемника, и, толкнув рычажок, включил Калугина.
…И я тут же пошел на балкон
(Хотя в доме моем
Отродясь не бывало балкона):
Кофе, трубка и Армагеддон
Неплохое начало
Для эры любви без закона…17
Таксист вздрогнул, но промолчал. Только Дарья, в чьих глазах постепенно сходили на нет касающиеся меня надежды, коротко сказала «о!»
Мы остановились у знакомого мне перекрестка. Снегу навалило еще больше, чем прежде, и если я и таксист вылезли на относительно свободное пространство, то Катя с Дарьей шагнули в сугроб, о чем немедленно нас оповестили, адресуя угрозы в основном таксисту.
–Тш-ш-ш, – я быстрым взглядом очистил женщин от снега.
Они еще какое-то время стояли, опешив. Они еще не поняли, что больше я не строю из себя человека.
–Хорошо получилось, – одобрил таксист. Мне показалось, что он хочет добавить: «молодец».
–Ну, – сказал я, – дорогие мои коллеги, поздравляю вас с приближающимся событием, которое, я уверен, еще не раз назовут самой значимой дачей показаний в истории ста четырнадцати миров. Ваши имена будут записаны на скрижалях, – имена тех, с кого начался золотой век Вселенной, Сатья-Юга, Эра Милосердия, Конечное Исправление наших и ваших жизней. Так, небольшие формальности… – я раздал каждому из новообращенных свидетелей по серебряному перстню с крупным ониксом.
–Круто-о! – совсем уж по-детски сказала Катя, и тут же покраснела. – Извините, Серафим. Что это за камень?
–Черный оникс, – я осторожно подгонял размер перстня по Катиному пальцу. – Концентрированная ночь. Традиционный знак свидетеля или агента.
–Еще и агенты есть?
–Катенька, – очень спокойно сказала Дарья, – я тебе потом расскажу. Не морочь Серафиму голову.
–А тебе не все равно, кто там есть? – сказал таксист.
–Да мне не мешает, – я рассмеялся. Все-таки мне нравились мои свидетели. – Агенты уже очень давно не привлекались. И ни разу – на Земле. Если что. Кольца не жмут?
В глазах Дарьи плыла не поддающаяся быстрой расшифровке мысль. В конце концов, я понял, что в ней было необычного – Дарья, впервые со времени нашего знакомства, думала не о мужчинах. Дарья думала: «а можно себе оставить?»
–Колечки вам на память, – сдерживая смех, объяснил я, и Дарья расцвела.
–А как я вспомню, откуда оно взялось? – спросила Катя.
–Ты же девушка, – удивился таксист. – Зачем тебе помнить, откуда кольцо взялось?
Где-то наверху просиживали штаны мои херувимы и престолы. Они сейчас, безусловно, перекидывались скомканными текстами закрытых дел, выбирая мазилу. Мазила в наказание за косой глаз и нетвердую руку отправлялся на какой-нибудь особенно скучный вылет вместо назначенного мной посланца. Так было всегда, и я бы давно навел у них шороху, если бы не знал – у других серафимов творится примерно то же. Я пожалел ребят и не стал их дергать.
Вряд ли мне понадобится подкрепление. И пусть экс-дьявол Самаэль что-то еще умудрялся творить с остатком своей силы, сильнейшим в этом мире пока что был я.
–Я первый, женщины за левым плечом, мужчина за правым. Катюша, ничему не удивляйтесь. Все, что вас заинтересует, я с радостью потом объясню. И да, всем спасибо за помощь.
–Да не за что, – сказал таксист. – Вам спасибо. Я, знаете, один раз в жизни молился, зато искренне. А теперь хоть вижу – было кому.
–Спасибо, что взяли с собой, – Катя снова покраснела. – Не сердитесь на отца. Он очень добрый. Просто устал и не верит никому.
–Спасибо за золотой век, – Дарья встала слева от меня, за Катей. – Я очень хочу на него посмотреть. Давайте, Серафим. Ведите.
И мы пошли.
-Эй, – сказал таксист, когда мы миновали заснеженный пустырь. – Что-то мне кажется, мы мимо прошли.
Но мы не прошли. Мы стояли метрах в двух от того места, где несколько часов назад находился ларек мужских подарков «Респект».
–Я это к тому, что хорошо бы побыстрее все сделать… Жена у меня, конечно, привыкла, что я допоздна работаю, но пора закругляться…
–Да бросьте, – отвечала Дарья. – Для дела можно и подождать. А Катины родители не сходят с ума?
–Я с отцом живу. И он тоже привык.
–А Серафима – его никто не ждет дома? – Дарья, отлично знавшая все подробности моей жизни и организации Сфер, не смогла-таки удержаться.
И я обернулся к ним.
В неярком свете, едва дотянувшем оранжевый луч со стороны ближайшего фонаря, их лица казались почти одинаковыми: тени-глаза, тени-скулы.
–Он ушел, – сказал я.
Катя наморщила лоб, пытаясь понять мои слова. Дарья и таксист поняли сразу. В них хватало моей памяти и моей логики.
–Сам бы не смог, – быстро сказала Дарья. – Мобилизуйте архангелов.
–Не поможет, – тут же отрезал таксист. – Самаэлю такой чес только на руку. Скрыться – раз плюнуть.
–Дьявол сбежал? – заморгала Катя. – Серафим, он киоск тоже унес?
Я кивнул.
–Серафим… – робко сказала Катя. – Серафим, а там… были кроме него люди?
Ответить я не успел. Время вокруг меня обрело вес, и я почувствовал, как сжимается вокруг меня вязкая, не дающая дышать субстанция; на миг вырвались из нее и потянулись ко мне огромные зубчатые колеса, ставшие спустя мгновение дымом. Потом кисель из времени сорвался с места, я задохнулся, и сразу же отпустило; ломило в висках, но время больше не соскакивало с привычного курса.
–Что это?! – вскрикнула Катя. Для нее не прошло и секунды, но за этот ничтожно малый отрезок небо посветлело, а слой снега под ногами существенно вырос. Я не стал ей объяснять, что это. Вряд ли бы Кате было интересно узнать, что в ее жизни только что стало одной полночью меньше. Что кто-то несколько секунд назад перевел время часов на пять вперед. И сделать это могло только одно существо. Я не стал этого объяснять, потому что существо возникло передо мной.
Мои свидетели были людьми. Они не могли видеть некоторых вещей. Они не видели, как я, выпуская крылья, бью потоком чистой энергии темную фигуру перед собой. Пронзительно-белый луч, летящий от моей руки, ударился в открытую ладонь противника и распался. Я ударил снова, на этот раз относительно удачно: с фигуры слетел посверкивающий купол защиты.
Это был не Дьявол. Первым, что я заметил, стараясь одновременно ударить в третий раз и вызвать всех своих ребят из отдела, а с ними заодно целую дивизию архангелов, было лицо. И это не было лицо Самаэля.
Я вообще не помнил никого из сильных демонов, кто так выглядел. Но факт – этот был под завязку накачан силой. И если принять как рабочую гипотезу, что демон был из многочисленных низших, потому и не знаком, источником силы был явно не он сам.
Он держался довольно долго. Достаточно, чтобы успело пройти время, за которое человеческий глаз фиксирует изменения.Мне, серафиму, трудно представить, как можно было увидеть что-то за долю секунды сквозь летящие вспышки, тем более, разглядеть лицо. Я сам не успел даже понять, что лицо мне знакомо. А Катя бросилась вперед с криком: «Папа, нет!»; и мой соперник обернулся к ней, его глаза расширились, и он опустил руки. Остаток моего луча достиг цели, и мой несостоявшийся третий свидетель полетел в снег, с ужасом глядя на бегущую к нему дочь.
Сквозь гладкий серый линолеум облаков пробивалось солнце преждевременно наступившего девятого дня Сатьи-Юги. Шумела близкая дорога, что-то внушал на ходу исполинский рупор, установленный на крыше одного из автомобилей. Никто не заметил перемены, каждый помнил какую-то свою неслучившуюся ночь. Но на руках свидетелей темнели черные квадраты оникса, мой знак и моя защита. Трудно представить, что сейчас чувствовала моя троица, но я серафим, и представить, конечно, мог. Мне было их жаль.
Катя что-то причитала, отряхивая отца от снега.
–Отдай! Мою! Дочь! – более сиплым, чем при нашей первой встрече, голосом выговорил издатель.
–Она доброволец! – крикнул я ему, делая шаг навстречу.
–Тварь! – сказал-плюнул издатель, поднимаясь. Катя висела на его руке, машинально поглаживая рукав отцовской куртки.
–А ты кто? – вмешался слегка оправившийся таксист. Видимо, он рассудил, что легче установить происхождение незнакомца, чем перемену времени суток, и едва ли я бы смог с этим спорить.
Кто – я, пожалуй, мог сказать. Судя по тому, как неумело, но решительно он собирал в кулак новую порцию силы, передо мной стоял слабенький демон, по горло наполненный чьей-то чужой, но, безусловно, огромной мощью. Вторая порция этой мощи унеслась в облака, когда я, подступив совсем близко к демону, перехватил его руку и без особого труда вывернул. Не ожидавший физического контакта, тот вскрикнул и упустил момент, подходящий для контратаки. Катя встала прямо перед ними пронзительным, изменившимся голосом прокричала:
–Что ты тут делаешь?!
И стало тихо. Настолько, насколько это вообще возможно в городе днем. Стало тихо достаточно, чтобы услышать, как сбивчиво бормочет Дарья:
–Отче наш, иже еси… еси… На небе… Да святится имя твое…
–Серафим… – устало сказал лже-издатель, морщась. – Серафим, твою мать, сдаюсь… Забирай своего Воланда… не претендую. Дочь! Отдай!
Мы все молчали.
–А… – он сморщился еще сильнее. – Маркиз Набериус. Частный адвокат и литагент. Не был, не состоял… Отношение к человечеству – сочувствующий.
–Источник силы, – потребовал я.
–Зануда, – с тоской сказал маркиз Набериус. – Отдай мне дочь. Поиграл в свидетелей, и хватит.
–Источник…
–Будь ты неладен! Источник силы: губернатор Каим и какая-то шестерка, как зовут не помню. Скинулись, так сказать… доволен?
–Папа… – Катю трясла дрожь. – Так ты… Господи, папа, ты?..
–Я, – мрачно согласился маркиз. – Я, благородный маркиз, кавалер какого-то там ордена… Живу на земле. Человеческой жизнью. Делами ада не занимаюсь, – он запнулся, посмотрев дочери в глаза. – Катюша, – выдохнул он.
Я осторожно разжал Катины пальцы на руке демона.
–Он не врет, – сказал я негромко. И за этим последовало менее всего ожидаемое мной – Катя с размаху залепила мне пощечину. Серафиму.
–Я знаю, – все тем же высоким голосом произнесла она, – что он не врет.
–Спокойно, – Набериус обнял Катю за плечи. – Спокойно, милая… Он не хотел меня обидеть. Кстати, ему и не удалось.
–Кто-нибудь, – угрюмо осведомился таксист, – когда-нибудь объяснит мне, почему светло?
–Всем спокойно! – я развел руки в стороны. – Ничего угрожающего вашим жизням и нашему плану не случилось. Никто ни с кем не ссорится. Наш коллега, – Маркиз растянул рот в очередной гримасе отвращения, – перемотал время вперед, если не ошибаюсь, на семь часов с минутами. И не надо тут плеваться, – сказал я демону. – Давай поговорим.
–Ё, – ужаснулся таксист. – Это выходит, я дома не ночевал?
–Они разберутся… Кать, иди сюда, – Дарья, пряча руки в меховые рукава шубы, отступила к фонарю. Таксист безропотно последовал за ней.
–Все правильно, – улыбнулся уголком рта Набериус. – Постой пока с ними.
Катя отошла, неотрывно глядя на маркиза.
–Зачем притворялся? – спросил я, когда последний свидетель оказался достаточно далеко.
–Имею право, – сильно щуря глаза, сказал Маркиз. – А ты чего хотел, чтобы я тебе открылся?
–Оставим. По порядку: откуда ты вообще взялся? Причем тут Каим? Где Самаэль?
Я пытался понять, какой силой располагал этот обычный, в общем-то, черт, если ему удалось выдернуть с земли целый магазин с Самаэлем а после еще и драться со мной.
–Я уже назвался. Это все. Взялся я из машины. Включил день, чтобы дезориентировать вас и найти клиента. Где Самаэль, тебе лучше знать. И кстати, Серафим, лучше бы нам опять перейти на вы. Дворянство, как-никак, сливки…
–У нас нет дворянства, – поправил я. Маркиз начинал мне странным образом нравиться. Он был зол, но трезв. И сейчас от него исходило спокойное осознание собственного поражения.
–Тем не менее.
–Пусть так, Набериус.
–Можно просто Маркиз. Итак, – он поднял на меня глаза. – По итогам минувшего восьмого дня нового времени, заключаю: силы Света обставили меня насухую. Как проигравшая сторона, обращаюсь с просьбой. Прошу вернуть под мою опеку мою родную дочь, Екатерину Антонову. Также прошу освободить находившуюся в одном помещении с дьяволом женщину, Евгению Мартынец, и, по возможности, предоставить нам возможность побеседовать без присутствия наблюдателей.
–Не путайте следствие, Маркиз. Я, Серафим, требую от вас полной информации о том, как и при каких обстоятельствах вы оказались на этом месте. Я требую немедленно прекратить укрывать вечноссыльного Самаэля и назвать имена всех участников операции. Екатерина Антонова будет возвращена миру людей сразу по исполнении добровольно принятых свидетельских обязательств.
–Стиль у вас, Серафим… Вы ангел или нарком, извините? Я и есть мир людей. Никаких связей с Адом не поддерживаю. Выполняю заказ старого знакомого. Губернатора Каима. И, Серафим, какое к чертям укрывательство?
–Где Самаэль?
–Так он не у тебя?
Мы молча смотрели друг на друга. Никогда еще я не был настолько солидарен в каждой мысли с представителем Черных Сфер. На лице Маркиза читалось то, что должно было читаться и на моем: где Самаэль? Как он умудрился обвести нас вокруг пальца? Откуда взял столько сил? Что, будь ты благословен, теперь делать?!
На месте «Респекта» лежал снег, такой же, как и везде.
–Катя будет со мной, – хрипло сказал Маркиз, отводя глаза.
–Я думаю, она сама решит, с кем быть.
–Нас пятеро? – поинтересовалась Дарья, когда Набериус подошел к свидетелям вслед за мной.
–Нет, – я сложил крылья и, чувствуя во всем теле жуткую усталость, оправил поверх них куртку. – Это демон Набериус. Прошу относиться с уважением.
–Папа, – сказала Катя.
–Все хорошо, – Маркиз стоял рядом со мной, не делая попыток подойти к дочери. Молодец; он знал, что я с ним сделаю, если он подойдет к свидетелю. – Ты, конечно, думаешь обо мне черт течто, но я обычный человек. А если иногда и общаюсь с такими, как он, – кивок в мою сторону, – то редко и без удовольствия. Пошли.
–А во мне… тоже? Я тоже наполовину… ты?
–Не знаю, огорчит это тебя или обрадует, но нет. Природа Черных Сфер, – он невесело улыбнулся, – не наследуется.
–Я свидетель, – растерянно сказала Катя. – Папа, я свидетель. Я подумала, это ведь будет лучше, если Дьявол никогда больше не вернется. Он мне ничего не внушал, – Катя демонстративно отодвинулась от меня. – Я сама…
Время дернулось, но я перехватил готовую сорваться шестерню. Скрипнули колеса, перемалывая невидимый стопор. Маркиз мог бы и оценить свои силы. Перемотать историю на полдня он еще мог. Остановить время, пусть и пребывая в отчаянии, – нет. У него еще хватило ума остановиться и не пытаться противостоять мне. Набериус шумно выдохнул, успокаиваясь, посмотрел на меня и, разминая тонкие пальцы, вышел в человеческий мир.
–Разумеется, – сказал он Кате. – Не обижайся, но я продолжу свою работу. Я же не мешаю тебе продолжать твою. Давай, милая. Я хорошо тебя воспитал.
И я подумал, что странный черт прав: он действительно очень неплохо ее воспитал. А потом я его вспомнил. Не лицо, лица я никогда прежде не видел, но голос. Этим голосом чуть больше трех тысяч лет назад говорил взъерошенный тонкопалый черный журавль, покачивающийся на своих ходулях на краю темной стороны зала для аудиенций. А на освещенной стороне стоял среди толпы серафимов, херувимов и престолов я сам, и вокруг меня ошивались мои ребята, тогда еще совсем мелкие. И стояли, разумеется, строем, разумеется, держась за руки, отгораживая нас от журавля, архангелы, а с темной стороны таким же строем замыкали охранный квадрат демоны четвертого чина.
–Набериус, – я прожевал имя, впервые услышанное мной на том давнем слушанье. – Простуженный журавль Набериус, малый зал, много шума… Напомните-ка мне, Маркиз, за каким благословением вы туда явились?
Маркиз склонил голову набок.
–И вы там были? Не так уж и много шума, кстати. Я всего-то просил лишить меня титула и отправить на землю в пожизненную, хм, командировку. Ну да, это было несколько необычно, но когда слушали прошение Дария Первого об убежище, скандал был куда больше.
–Серафим, – вмешался таксист, – давайте вы нам коротко и ясно скажете, этот Анчоус всегда теперь будет с нами ходить?
–Набериус. Не будет. Он сейчас уйдет. А вам, – я снова повернулся к Маркизу, – была открыта дорога в ангелы.
–Нужны вы мне, – Маркиз подмигнул Кате и сделал шаг назад. – Как вы мне все надоели. Белые Сферы, Черные Сферы… Три тысячи лет я мечтаю вас всех никогда больше не видеть, – еще один шаг назад. – Жить обычной человеческой жизнью. Возиться с бездарными, но смешными писателями. Мы с тобой коллеги, Серафим, – он вытащил из кармана мятую сигаретку, из тех, что курил при нашем первом разговоре. – Экая гадость, но трубку на морозе не покуришь… – Он будто оправдывался перед нами. – Спасаюсь самокрутками, – еще два шага назад.
–Последний вопрос, – я поднял руку. – Ты всерьез считаешь, что тебе удается быть человеком?
Маркиз отступил еще дальше.
–Уж как умею. Через минуту я начну собирать людей. Если твои ангелы кого из них пальцем тронут, я… – он замолк, пытаясь выдумать хоть одну проблему, которую бы смог призвать на мою голову.
–Через минуту, – сказал я, – я тоже начну собирать людей. Условия простые: кто первый нашел, того и дьявол. И если его найдут твои… не стану препятствовать. А если мои – не обессудь.
–Идет, – Маркиз медленно опустил голову. – Катюша, я скоро приду. С этим типом тебе ничего не грозит. Впрочем, ты это и так поняла. Удачи, – он повернулся и зашагал по снегу.
Тем временем
-Кот не боится, – Ариман Владимирович размешал кофе ложечкой, выдвинутой из складного ножа. – А если кот не боится, значит, мы в безопасности.
–Идиот! – истерически выкрикнул Всеволод, пытаясь подковырнуть дверь сувенирным кинжалом. – Мы скоро начнем задыхаться! Хватит пить!
Женя прижалась к плечу Аримана Владимировича.
–Страшно, – шепнула она. – Нас никто не найдет. Воздух кончается…
Она была в футболке и джинсах и от этого казалась младше.
А кот спокойно спал на их свитерах, лишь изредка приоткрывая глаз и требовательно поглядывая на свитер Аримана Владимировича, пока не пожелавший расстаться с владельцем. Жара была коту глубоко до лампочки.
–Дышите ровнее, – посоветовал Ариман Владимирович. – Не хотите кофе? Стимулирует мозг, говорят.
Женя всхлипнула.
–Ну-ну. Не надо. Если уж мы стоим на пороге неизвестности, лучше стоять на своих двоих.
Женя распахнула глаза:
–Мы умрем?
–Вы – нет, – сказал Ариман Владимирович. – А я, наверное, да.
Он погладил Женю по спине и задержал руку у нее на шее.
Женя невольно подалась ближе к теплой руке, к надежности, к запаху кофе, и Ариман Владимирович быстро сжал ее шею двумя пальцами. Женя дернулась, шумно втянула воздух и начала заваливаться на бок. Осторожно устроив ее за столом, так что Женя стала казаться задремавшей на лекции студенткой, Ариман Владимирович встал и приблизился к Всеволоду, упорно сражавшемуся с дверью. Когда Всеволод приподнял голову, Ариман Владимирович ударил его ребром ладони в основание черепа. Всеволод повалился на пол, и последним, кто пребывал в сознании, остался бывший повелитель Ада, Самаэль.
А, собственно, я давно об этом мечтал, подумал он, отхлебывая чудесный турецкий кофе. Аромат зерен робусто отбивал последние позиции у чистого воздуха, и «Респект» медленно превращался в баллон со сжатым кофейным запахом. Одиночество, думал Ариман Владимирович. Впервые за большое, очень большое время. Впервые с тех пор, как время родилось и пошло.
Он снял со спинки стула шарф и почесал его там, где могло бы находиться ухо. Шарф поднялся и тихо зашипел.
–Все-то ты видишь, – голосом вчерашнего Серафима сказал Ариман Владимирович шарфу. – Все-то ты ждешь.
Шарф кивнул.
Чтоб ты сдох, подумал Ариман Владимирович. Он сейчас сам не знал, зачем согласился его принять. Тогда знал, а сейчас уже нет. И мучительно пытался понять себя – того, что некогда взял из рук Серафима шарф. Серафимы с тех пор, конечно, измельчали. И тот клоун, явившийся вчера, не годился в подметки большому, светлому, убедительному, с которым Самаэль-Ариман разговаривал прежде. Он говорил правильные вещи, говорил то, что было в тот момент правдой. И Ариман верил. Он не понимал сейчас, но помнил, что при том давнем разговоре был скорее скептиком. Он спорил, хотя верил. И, достав беднягу Серафима своими расспросами, наконец, согласился. Ему не было стыдно за это согласие. Куда сильнее было жаль. И может быть даже не столько себя, сколько мальчишку Эосфора. Эосфор ни с чем не спорил. Он с самого начала знал, что борется за правое дело. И пока Ариман спускался вниз, погружался в смрад и грязь бесконечных Черных Сфер, задыхался, отплевывался, отдирал от лица и рук чьи-то судорожно сжимающиеся пальцы, Эосфор-Люцифер-Денница, безнадежно пьяный собственной великой целью, стоял с горсткой таких же, как он, романтических кретинов и ждал, когда нужно будет драться. А может быть, не мальчишеский порыв двигал им, а отчаянная зависть. Перестать быть вторым. Ему сказали: тебя не будут отличать от Сатаны. Твое имя станет именем Сатаны. Никто уже не узнает, что ты и Сатана – не одно и то же. Конечно, он согласился. И стоял со своим дурацким мечом, которым он не собирался никого убивать. Задача Эосфора была проще некуда – прикрывать отход Самаэля-Аримана. Чтобы никто не узнал, что Дьявол не загремел в Ад прямиком с поля битвы, поверженный, но не сломленный, а спустился под пристальным наблюдением четырех архангелов; спустился с двухдневным пайком в узелке, и вместо меча у него была длинная жердь для прощупывания трясины перед собой.
Уже у самого дна Аримана накрыла вспышка, а за ней последовала доходящая до глубин Ада дрожь. И он разжал ладони на жерди, глубоко вдохнул, как его учили, и провалился в ничто. Люцифера больше не было. Наверху рассудили, что имитация боя слишком трудозатратна, тем более, зрителей не будет. Участок равнины, на котором стоял Люцифер, обратился в безумное пламя. Ариман знал, что так нужно. И знал, что Эосфор-Люцифер пошел на это добровольно, сознавая, что может произойти. И тогда, уже лежа на горячем, но благословенно (никогда! никогда больше не произносить «благословенно»! – чертовски) – но чертовски твердом, наконец-то твердом и настоящем дне, он понял, что Люцифера им не простит. Не потому, что его кто-то обманул или заставил, а потому, что нельзя, никогда нельзя предлагать романтическим мальчикам умереть. Хотя, по правде сказать, кроме романтических мальчиков, тогда и не было никого.
Но я-то не был романтическим мальчиком, одернул себя Ариман Владимирович. (Кофе остывал). Я-то знал, что меня ждет не подвиг, а грязь, много грязи и много подлости.
Знал, что его будут ненавидеть. Даже те, кто еще помнил его в белых одеждах. Навсегда остаться предателем для своих. Навсегда остаться чудовищем для людей. Ценой жизни Люцифера.
Серафим говорил, что все просто: если Ад невозможно уничтожить, его нужно использовать в своих интересах. Сделать из преисподней идеальную тюрьму. Поставить во главу тюремщика. Чтобы в яму, куда прежде проваливался каждый второй, теперь попадали те, кто не проходил отбора наверху. Все это было нужно, согласился Ариман Владимирович. Но не думал же я тогда, в самом деле, о долге. А ведь я бы еще долго продержался на своем посту. Я ведь действительно делал то, что должен. Я даже научился быть злым. Добро умеет только награждать, что бы там ни говорили. Оно не может, по природе своей не умеет наказывать. И добру приходится ковать себе зло, чтобы отмахиваться им от врагов, строить зло, чтобы оградить им неугодных, лепить зло, чтобы пугать им подчиненных. И я честно работал, и добрые люди попадали наверх, а злые – ко мне. И я бы не смог придумать системы лучше, чем эта.
–Одного я не понимаю, – сказал шарфу Ариман Владимирович, – зачем устроили всю эту канитель с моей отставкой. Кому я вдруг помешал, а?
Шарф опустил голову на аримановы колени и задремал. Зачем же я согласился тебя взять, подумал Ариман Владимирович, поглаживая блестящие складки шарфа. Я же не собирался тебя использовать.
Женя и Всеволод спали, ровно дыша. Теперь, когда они не дергались и молчали, воздуха им всем должно было хватить.
–Эй, – тихо позвал Самаэль, – ты не поверишь, но ты мне нужна.
Шарф шевельнулся, не слишком-то веря.
–Я и сам не думал, – сказал Ариман Владимирович. – И после всего, что я видел там… Ты была для меня ядом, не спасением. Я знал, что никогда не попрошу у тебя помощи, но вот, понимаешь, сегодня…
Шарф поднялся и мелко задрожал.
–Радуешься… Сколько людей мечтали о тебе… сколько времени прошло с тех пор, как ты стала моим собственным вечным напоминанием о… – он потер переносицу. – Смешно, правда: призванная для забвения, ты сохраняла мне память. Никто не спросил, а хочешь ли ты быть со мной? Не скучаешь ли ты по своей реке, по своей сестре, по своим делам, которые даже я представить не могу? Возвращайся к ним, – Ариман Владимирович поднял шарф на вытянутой руке. – Я больше не стану тебя держать. Еще немного, и все закончится… – он, скрипя и чертыхаясь, забрался на неровно стоящий стол. – Вот это – потолок. Поработай с ним, будь добра. И уходи. За ним твой мир.
Шарф трясся, и мелкие сгустки света кружили вокруг него. Была ли это благодарность или просто предвкушение близкой работы и освобождения, Самаэль не знал. Поняв, что шарф уже не касается его рук, он слез со стола и стал ждать.
По потолку пробежали волны. Трудно сказать, что происходило в таких случаях с человеком, но потолок лишался памяти своеобразно. Рифленый пластик, все слабее освещаемый дохнущей лампой, местами помутнел, сквозь него проступила древесная кора, темно-зеленые разводы малахита, электрические провода, комья земли, чей-то густой мех, персидский ковер, гигантский глаз, зеркало, тысяча спичек, превращающихся в гусениц шелкопряда… Крыша «Респекта» уходила в небытие, все с большим облегчением отдавая остатки воспоминаний, растворяясь в счастливом, освободительном зелье, которое шарф в изрядном количестве скопил за годы ожидания.
За потолком, по расчетам Аримана Владимировича, сейчас находилось Второе небо, или, как его теперь модно было называть, Вторая оболочка пространства, та самая, где должна была закончиться долгая даже по меркам высоких сфер, жизнь Самаэля.
Шарф работал медленно, но и Ариман Владимирович никуда не спешил.
Оксана
Я и сейчас уверена, что больше всего нервов и сил за всю жизнь вложила в то, чтобы Тома разошлась с Андреем и познакомилась с Валериком. Это было трудно, потому что Андрея она любила. Он и правда был красивый и умел себя преподнести, но мне не давала покоя его независимость. В нем было что-то от моей юношеской любви, Виктора. Кандидатуру Андрея полностью одобрил Стас, но ему-то не были понятны переживания женщины, которую могут бросить. А Андрей мог Тамару бросить. Ей нужен был тот, кто сам не сможет жить без нее.
–И чем тебе не нравится Валера? – спросила я мужа, когда он в очередной раз стал распространяться насчет того, как я ошибаюсь.
–Да ничем, – сказал Стас. – Тома его не любит.
Это была чистая правда. Тома его даже не знала.
–Не полюбит, – исправился Стас.
–Он надежный.
–А ее нынешний, этот, Андрюха, он тебе чем не нравится? Девочка сама решит, с кем гулять.
И объяснить ему что-либо было совершенно невозможно.
Тома как будто и не хотела замуж.
–Мама, – говорила она, – ну подумай сама, мне сейчас выгодно связывать с кем-то жизнь? Мне бы специалистом хорошим стать…
Она была несчастлива. Моя девочка с самого начала не была создана для медицины. Она была слишком похожа на меня. Я, с высоты своих лет, знала, что мне было нужно: заниматься домом, семьей, обустраивать быт. Вместо этого я убила полжизни на чертежи, в совершенстве освоила нелюбимое занятие. Последний раз я работала по специальности в девяносто девятом. Потом фирма, в которой я трудилась, прогорела, и я осталась фактически на содержании Стаса. Вот только тогда я и поняла, что всю жизнь нуждалась в этом. Томочка, моя уменьшенная копия, нуждалась в этом не меньше моего, но пока что ей это было невдомек. Что она нашла в медицине, не понимаю.
Для того, чтобы прийти к правильной жизни, ей нужен был правильный спутник. Я его нашла.
Валерик – сын моей подруги, Тани, соответствовал нашим с Томой требованиям. Мешали две проблемы: Тома его не знала, и у Томы был Андрей.
Мама, в отличие от мужа, прониклась пониманием и предложила пригласить Валерика на чай. Я бы так и сделала, но представила дальнейшее развитие этой истории, и поняла, что таким образом я, скорее всего, вызову в дочери неприязнь не только к Валерику, но и к себе. Я бы не простила сводничества, и моя Тома тоже не простит. Но планировать и устраивать дела семьи было последние три года моей главной задачей и единственной работой.
Заставить Валерика заинтересоваться моей дочкой было легко. «Привет тебе от Тамары» – «А мы с ней разве знакомы?» – «Я обмолвилась разок…» И через две-три недели: «Тамара передает, мол, выздоравливай» – (растроганно) «Спасибо, вы ей привет передавайте, она хорошая у вас». Я напоминала о существовании Тамары нечасто, чтобы не надоесть. И, в конце концов, Валерик, привыкший к отсутствию внимания со стороны женщин, понял, что незнакомая Тамара может быть, в перспективе, его синицей в руках. Я давно заметила, что у невезучих в любви мужчин обостряется такое ложное чутье – они начинают чувствовать знаки внимания там, где их нет и в помине. Они хватаются за эти свои иллюзии, как за соломинку, чтобы восстановить в собственных глазах собственную же неотразимость. Что оставалось думать Валерику? Он рассудил, что Тамара, как говорится, в поиске, и мои рассказы о нем, Валерике, как-то ее привлекли. (Всегда было интересно, ведь мужчины при этом какими-то своими задворками мозга понимают, что шикарная женщина им все равно не светит, и вообще лучше бы понравиться сначала заочно, чтобы не разочаровать сразу же.Так вот, всегда было интересно, – как такие противоречивые позиции укладываются в их головах?)
При этом Валерик был достаточно умен. Таня говорила, он был хорошим юристом, а я видела, что Валерик начитан и умеет шутить, а это было для Тамарочки очень ценно. Правда, он был страшно застенчив и, когда говорил, часто начинал сбиваться и мямлить.
Рассорить Тому с Андреем я не решалась, да и не представляла как, но в итоге это не понадобилось. Они стали расходиться сами, и я лишь помогла Тамаре осознать, насколько ей не подходит этот человек. Я уже была готова сделать это хитростью, придумать что-нибудь такое. А все случилось просто – Тамара увидела Андрея с какой-то девушкой на улице, я выслушала ее подозрения.
–Это такая… высокая?
–Да средняя, совсем никакая! Может, сотрудница? Блондинка…
К блондинкам у моей дочери было крайне негативно отношение. Она сама была блондинкой и чувствовала во всех других женщинах, кому посчастливилось иметь светлые волосы, конкуренцию. Тем более Андрей был падок на светлых.
И я сказала, что тоже, кажется, разок видела Андрея с какой-то блондинкой, но не придала этому значения. Пришлось выслушать гневную тираду о том, что я обязана была сообщить тут же, что я совсем не думаю, как это важно для Тамары, и может быть, знай она раньше, все сложилось бы по-другому. Через несколько дней Тамара пришла домой в слезах, сказала, что ее воротит от всего на свете, даже от ее ненаглядной стоматологии, и удалилась в свою комнату вести затворнический образ жизни.
–Со своим разругалась, – сочувственно вздохнул Стас. – Поговорить с ней надо… успокоить… Ты бы провела ликбез, Ксан, а то, наверное, думает, что все тлен…
И я пошла проводить ликбез, и мы вместе с Томой всплакнули над женской долей. Несколько раз потом я обмолвилась об Андрее, и допустила серьезную ошибку, отозвавшись о нем плохо. Тома кинулась спорить и выгораживать своего ненаглядного. Больше я себе такой неосторожности не позволяла. Однажды, уже месяца через четыре, осмелилась сказать об Андрее что-то хорошее и получила в ответ презрительное фырканье и заявление о том, что о таких, как Андрей, моя дочь и слышать больше не желает. Валерик ждал своего часа.
А Тома работала ассистенткой в стоматологической клинике, уставала, встречалась на выходных с подругами, портила глаза, читая с телефона, и наотрез отказывалась устраивать личную жизнь. Мне было ее безумно жаль, и иногда, в минуты раздумий, совестно перед ней, что я не могу найти для нее такого счастья, которое нашла сама.
Но наступил 2010-й год, и началась бесконечная эпопея с Валериком.
Я была дурой. Я не учитывала, что Валерик может, в конце концов, принять любовь Тамары, как должное, и начать крутить ей направо и налево. Из грязи в князи. Этого не случилось только потому, что моя Тома сильная и знает, чего хочет. Так что в этом нам с ней повезло, и моя глупость осталась безнаказанной. Но как я намучилась, пытаясь вызвать в Тамаре хоть какой-то интерес к потенциальному мужу…
Валерик был одинок, и Таня спала и видела сплавить его куда-нибудь в надежные руки.
Тамара была одинока, но могла шевельнуть пальцем, и к ней сбежались бы претенденты на руку и сердце. Вот только в качестве мужей она их не рассматривала, а время шло и шло, и список «мужских» контактов на телефоне Тамары все рос и рос.
Пустить пробный шар я попыталась в самом начале года, передав Томе поздравления от Тани и ее Валеры. Тома передала спасибо и забыла. А я гадала, как же следует себя вести. Рассказать обо всех положительных качествах Валерика означало бы вызвать вечное отвращение к нему (уж наивной-то матерью-доброхотом я старалась не быть), а рассказывать о нем плохо тоже вряд ли имело смысл.
Как-то, встретив Таню на улице, я удачно выспросила подробности интересного дела, к которому Валерик имел некоторое отношение. Дома я как бы невзначай пересказала историю Тамаре, и это было первым шагом к успеху.
Потом был провал. Таня пригласила меня в гости, я привела с собой Тамару, и там она познакомилась с Валериком лично. Валерик, к тому времени уже тихо строивший планы на их будущее счастье, во время всего разговора смущался, краснел, пыхтел, и произвел ужасное впечатление даже на меня. Нужно было спасать ситуацию или же отказаться от кандидатуры Валерика навсегда. Я решила дать ему еще один шанс и пригласила Таню с мужем и сыном к нам. Муж извинился и объяснил, что уезжает по делам фирмы (понятно было, что ходить по гостям ему хочется меньше всего), а Таня и Валерик, конечно, согласились. И тогда меня осенило.
Дождавшись традиционного Таниного вопроса «твоя-то красавица замуж не собралась?», я ответила, что собралась, и парень отличный, но вообще об этом пока рано говорить, они еще стесняются об этом открыто объявлять, в общем, пока секрет.
А что мне было терять?
Но я не прогадала.
Валерик понял, что надеяться ему не на что. И перестал смущаться. Я не знаю, как называется эта ерунда, которая заставляет мужчин красоваться перед не доставшейся им женщиной, притворяться гордыми и свободными. Что-то такое похожее на месть. И Валерик пришел легкий, веселый, независимый, похвалил несколько книг, которые он заметил у нас на полках, вставлял в разговор ироничные комментарии и ничего не боялся.
Это оказалось то, что нужно. Тамара его запомнила. Валерий ей понравился.
…А по ночам мне снилось, что я маленькая девочка в большом и светлом саду, или что я вдруг поглупела и хочу, но не могу понять людей, которые мне что-то говорят.
В 2012-м, после наших с Томой долгих и тщательно скрываемых друг от друга переживаний, Валерик признался моей дочери в любви. К тому времени я была вконец измотана необходимостью поддерживать в Тамаре уверенность, что интересный парень Валера занят своими судами и ему не до любви, и пусть Тамара не имеет его в виду, а в Валерике, во время случайных разговоров – уверенность в его абсолютной ненужности Тамаре.
Я, пятидесятилетняя женщина, занималась отвратительными интригами и уже не могла остановиться – слишком много было вложено, и слишком одинока была Тома. Стас преподавал в том институте, который я когда-то закончила. Он был красивым, статным, абсолютно седым профессором, в него были тайно влюблены засидевшиеся в девках математички. Я даже иногда его ревновала.
К известию о том, что Тамара сошлась с Валериком, Стас отнесся философски.
–Юноша вознагражден, – сказал он и углубился в проверку очередной лабораторной.
Он не верил, что из этого романа что-то выйдет. Да и я начала сомневаться. Стоило ли так долго стараться, чтобы Тамара начала встречаться (без особых планов на будущее) с сереньким человечком, не стоящим, честно говоря, ее мизинца.
Но я была права, когда думала, что Томочке нужен именно такой человек. Они подходили друг другу. Сильная, энергичная Тамара и мягкий, во всем послушный Валерик. Тамара иногда еле удерживалась от презрения к нему, но уйти не могла. Валерик был ей нужен. Они расписались в январе тринадцатого года.
Тамара переехала на квартиру, подаренную молодоженам счастливой Таней.
Как мы жили после этого? Одиноко. Я не испытывала раньше такого опустошения. Моя дочь моими стараниями вышла замуж и теперь звонила и забегала на выходных. Мой муж болел и, сморкаясь, неловким движением раскидывал вокруг себя студенческие работы. Моя мать, по-прежнему полная несокрушимой силы, возила на прогулку полупарализованного отца. Папа уже все понимал, но говорил, пропуская буквы.
Я сама не была никем.
Стаса сократили, когда политех, переживающий не лучшие времена, стал избавляться от необязательных кадров. О моем муже всплакнули математички и некоторые студенты, и мы остались безработными оба. Какой-то знакомый посоветовал Стаса директору районной школы, и муж устроился учителем математики и физики, а я, нигде не оказавшись нужной, дотянула до тех пор, когда дела у нас стали совсем плохи, и нашла-таки работу – продавщицей в маленькой лавочке.
Пока меня не уволили, все шло более-менее спокойно.
А потом… потом случилось что-то, чему я не знаю названия.
Серафим
Вся зала ожидания полна, думал я. Партер притих, сейчас начнется пьеса. Передо мной, безмолвна и грозна, волнуется… какая-то там завеса18. Какая завеса, я все силился вспомнить, и слово кружило, вихляя, у самой поверхности, у тонкого мениска памяти, но всплывать не желало. Французы называют это состояние прескевю. А я мысленно благословлял несвойственный ангелам склероз, просто потому, что проклинать не умел в принципе.
–С ним ничего не случится?
–Ничего, девочка, – сказала Дарья с мученическим видом.
Я стоял, вглядываясь в начавшийся снегопад. Люди, услышавшие мой зов, медленно шли в нашу сторону, улыбаясь, оживленно обсуждая что-то; изредка доносился смех.
–Не бойся, – я скосил на Катю глаза. Катя стояла, глядя под ноги. – Никто ему ничего не сделает. Я не умею причинять вред. Эти люди тоже. А он просто старается выполнить свою работу.
–А вы его… – Катя поежилась, – давно знаете?
–Я его вообще не знаю. Видел когда-то. Очень давно. Если тебя это успокоит (она посмотрела на меня с тоской), – я не считаю его демоном. В нем нет ни зла, ни добра. Одна усталость. И любовь к тебе.
–Снег, сука, – вздохнул таксист, покачивая головой в такт треску поврежденных троллейбусных проводов. – Ни видно ж ничего. Ты бы разогнал облака, Серафим…
–Занят, – ответила за меня Дарья.
Я не был занят. Просто мне нравился снег. Он напоминал мне высокие барханы облаков, и я предавался постыдным мечтам об отпуске. В отпуске я не был с тех пор, когда большая часть моих оболтусов еще не родилась. Им повезло гораздо больше: многие из них успели слетать в тихие, бережно сохраняемые для рекреационных нужд уголки по два-три раза. Стоило ли брать кого-то из них с собой, подумал я. Скорее все-таки не стоило. Что всем моим Херувимам и Престолам Земля. Очередной рабочий мир очередной рабочей вселенной. Тысячи планет в каждом из миров. Что им эта одна. Это работа для меня, сентиментального старика, а не для них.
Люди шли к нам, но нас не видели. И где-то за моей спиной нарастало смутное темное беспокойство – там собирал свою армию добровольно покинувший Сферы маркиз Набериус.
А все-таки, подумал я, ребята на меня обидятся. Им нужны лавры, они хотят оказаться в центре внимания. Единственное, что оправдает меня в их глазах, – на Землю никто из них особенно не стремился. Им и так перепадет достаточно, когда после уничтожения Самаэля начнется окончательная раздача постов и званий. Особо одаренные престолы на радостях будут переведены в херувимы, херувимы попадут в списки на Великую милость… а серафимы останутся серафимами. А тем, кто, собственно, оприходует вечноссыльного, достанется от меня или кого-нибудь из коллег по медали за уклончиво сформулированные заслуги и по внеочередному выходному. Поймет ли кто-нибудь из них, что двигало мной, когда я собственной рукой вписывал себя в графу немногочисленных вылетов Землю и уточнял в скобках: «творческая командировка». Если не считать женщины в автобусе, в области творчества царило безрыбье, но я не оставлял надежды на скорое исправление ситуации. А может быть, среди кого-то из них? – я смотрел на моих новоиспеченных воинов. Воины перезнакомились друг с другом и теперь активно о чем-то спорили.
В душе кого-нибудь из них должен быть желтый треугольник. Без желтого треугольника я не успокоюсь. Мне позарез нужен человек с желтым треугольником, понял я. Чтобы еще раз почувствовать, что я все делаю не зря.
–Эй, – таксист со всей возможной осторожностью потыкал меня в спину. – По-моему, это за вами.
Волнуясь, он снова переходил на вы.
Я обернулся и понял, что темное беспокойство, двигавшееся с маркизовой стороны, имело вполне конкретную форму. Люди. Много людей. Они шли шумно, кто-то выкрикивал неразборчивые лозунги, кто-то грозил в пространство кулаком. Посреди толпы спокойно вышагивал Набериус. Люди обходили его, так что вокруг Маркиза сохранялся приблизительный круг свободного пространства. Скорее всего, люди его не видели.
А что. Оперативно. Сила, влитая в Маркиза Каимом-дроздом и кем-то там еще, не собиралась иссякать.
–Держитесь поближе ко мне, – сказал я. – Сейчас тут будет неразбериха.
Мои люди подошли достаточно близко. Ни меня, ни свидетелей, они не видели, но чувствовали идущее от нас тепло и старались приблизиться почти вплотную. Лица их были светлы, глаза их были полны высокой мысли, руки их были обращены открытыми ладонями вперед – нас обтекала, не смывая, армия ангелов в тусклых зимних одеждах. Снег теплел и светился вокруг них.
И я, расправляя крылья, шагнул в их гущу и бережно направил свое земное войско дальше, к тому месту, где недавно стоял «Респект» с Самаэлем, рыжей женщиной и очкариком.
–Вы бы варежки сняли, – звонко сказала Катя. – Несолидно.
Это были перчатки, и насколько они солидны, мне было абсолютно все равно. Но я все-таки снял одну и коснулся Катиных волос.
–Скоро все закончится, – сказал я ей. – Стой тут и не вздумай идти за ними.
Катины волосы сияли под моей рукой.
–Что-то не похоже на суд, – таксист переминался с ноги на ногу. – Мы скоро понадобимся?
–Когда Самаэля найдут, наверное. И вообще, – щурясь на светящиеся снежинки, пробормотала Дарья, – ради этого стоило…
–Что стоило? – не понял я.
–Жить. Ради такой красоты. Ради ощущения, что через полчаса все точно станет хорошо.
И тут по ушам ударил такой сумасшедший, лишенный всякого порядка гул, что я – я! – отступил и поднял верхнюю пару крыльев, прикрывая лицо.
Успокойся, сказал из глубины шеф. Так надо.
Это мое и маркизово войска столкнулись, наконец, друг с другом.
–Мамочки, – пискнула Катя, прячась таксисту за спину.
Все они шли с одной целью – почувствовать след Самаэля, пойти вслед за ним, окружить, привести меня (или Маркиза) к Деннице, Ариману, Люциферу, Дьяволу – нашему клиенту. Огромный живой трал прочесывал перекресток с двух сторон, и вот теперь он замкнулся в середине. Шум стоял чудовищный. Я больше не мог разглядеть, есть ли у кого-то из них желтый треугольник. Все они стали одним. Бурлящей, не имеющей ни цвета, ни формы массой. Они напоминали вскипевший кофе. Я еще мог различить своих в тылу – там их было больше; но в эпицентре кипел кофе, и людей там уже не оставалось. Моя сила соединялась с силой Маркиза, и одному шефу было ведомо, что творилось в точке слияния.
-Доигрались, – сказал Маркиз.
Я стоял перед ним, ища в прищуренных глазах отдаленное подобие птичьего широкого зрачка. Но глаза выглядели человеческими. Черный журавль отлично прижился в новом облике.
Далеко позади остались мои свидетели. Они жались друг к другу у столба и тревожно высматривали мою шапку в пене разнообразных голов и рук.
–Теряем время, – я увернулся от чьей-то брошенной, как граната во вражеский окоп, рукавицы. – Они устанут и разойдутся, а Самаэль уходит прямо сейчас.
–Так вызовите своих.
…Черный журавль был молод и не знал даже мельчайшей доли того, что знали окружавшие его существа. Я не сочувствовал Набериусу, но понять его мог. Набериус не любил свет за то, что свет остается белым, даже проходя свозь грязь. Набериус видел в этом фальшь. Тьму же он не любил вообще за все. Вердикт вынес неизвестный мне демон, и серафимы, включая меня, дали добро. Журавль отправился на Землю по собственному желанию, захватив какие-то, как он выразился, памятные мелочи. Тогда на это еще закрывали глаза. Сейчас бы такой добровольный ссыльный получил бы практически полное ограничение силы, а о переносе предметов и речи бы не шло. Но тогда нравы были иными, и Набериус без существенных препятствий попал в малонаселенный, но перспективный мир. Я не думал, что увижу его еще когда-нибудь. И вот – увидел. И надо сказать, на том давнем суде он мне нравился гораздо больше.
А вызвать бы, правда, кого-нибудь из архангелов, чтобы разогнать этот цирк. Люди, издалека казавшиеся бесформенной кучей, вблизи представляли собой два симметричных митинга. На линии фронта, где смешивались обе стороны, происходили короткие и бескровные стычки между отдельными индивидуумами, заканчивавшиеся, как правило, взаимными оскорблениями и плевками под ноги оппоненту. Ближайшая ко мне стычка выросла, насколько я мог разобрать, из несовпадения взглядов в отношении Сумарокова.
–А я все думаю, Серафим, почему вы не зовете подкрепление…
Набериус улыбался правым уголком рта.
–И что же, разлюбезный вы мой Маркиз, есть идеи?
–Делиться не хочется, – мягко сказал Маркиз. – Вам проще простого позвать ваших амбалов и стереть меня в порошок. Но тогда придется с ними считаться, верно? А так вы сами чего-нибудь себе навоюете… что вы хотите получить – Землю?
–Землю, – легко согласился я. Маркиз был умен, и это примиряло в какой-то степени с его недостатками.
–Хитро… Значит, все стоят на ушах, Сатана сбежал из ссылки, а Серафим хочет прибрать к рукам планету?
(Рядом затевалась драка на почве чьей-то нелюбви к Гофману.)
–Я Серафим, – сказал я. – Моя работа – вдохновение и творчество. А золотой век, Маркиз, мало к этому располагает. Счастливый человек ничего больше не хочет. Счастливый человек -это мертвый творец. Вам это близко, вы должны понять. И – да, мне нужна Земля. Потому что если кто-то, кроме меня, будет заниматься этой планетой, Эра Милосердия станет ее концом. Вы достаточно свободно мыслите, чтобы оценить двоякость ситуации. Только не подумайте, что вы мне мешаете. Вы камешек на пути.
–Я понимаю, – Маркиз докуривал сигаретку. – По-моему, вас скоро скинут пожизненно, как Самаэля. Что-то вы не слишком цените человеческое счастье.
–При чем тут счастье. Я несу им творчество, любовь, надежду, вдохновение, весь это букет вредных привычек, вроде сомнения и неудовлетворенности собой. Я заставляю их искать и развиваться. А счастье для них – это то, что вы, Маркиз, так не любите: сытое, тихое удовольствие. И если вы считаете, что Свет добивается именно этого, маловато вы знаете о Свете.
Группа молодежи за моей спиной скандировала невнятные призывы повесить Гоголя.
–Тупик, – заметил Маркиз. – Никто из нас не отступится. И люди отсюда не уйдут.
–А ты, – между нами вклинилась группа митингующих, и мне приходилось перекрикивать их гомон, – почему ты не забрал Самаэля, когда приходил к нему?
–А он не знал, кто я! – крикнул мне в ответ Набериус. – Я приходил не к нему, а… – он запнулся. – Не мог я его забрать! Там люди были!
Я видел, что он не врет. Маркиз действительно не взял Самаэля сразу же только потому, что с ним были люди, которые могли пострадать в случае неадекватной реакции Сатаны. Он ждал, когда Самаэль отправится домой, чтобы встретить его по дороге. Не дождался. Или?..
Какой же ты дурак, сказал шеф. Второй раз он ловит тебя на ту же удочку. В отпуск, Серафим. Срочно в отпуск. Стареешь, Серафим.
Но в этот раз я реагировал быстрее. Маркизу удалось меня задержать, и довольно сильно, но теперь я не рассчитывал справиться сам, и шансов у Набериуса не было никаких. Он мог прятать Самаэля, отвлекая меня своими нелепыми спорами. Он мог дать Самаэлю уйти. Это все было эффективно, пока единственным ангелом на Земле был я.
Я люблю своих ребят прежде всего за то, что они не задают лишних вопросов. Никто из них не стал спрашивать, что я здесь делаю и зачем они мне нужны. Они просто пришли – ослепительным пламенем рухнули с небес по обе стороны от меня, и мир вокруг наполнила такая бездонная, всепоглощающая радость, что я не испытал ни капли удивления или страха, глядя, как за спиной Маркиза сгущается тьма.
Набериус
Катю он отыскал без труда: она стояла на том же месте, где Серафим ее оставил, рядом с гетерой в шубе и похожим на шкаф мужиком в темных очках.
–Папа, – сказала она.
–Я с тобой, – он прижал Катю к груди. Она стояла, опустив руки.
–Это конец? – спросила она.
–Не знаю, – прошептал Маркиз. – Может быть. Когда силы равны, и никто не может остановиться…
–Хорошо сработано, – Каим, расправляя воротничок, возник перед ними. – Когда ты понял, что он тянет время?
–Поздновато. Но вам под силу это исправить. А теперь пошел на.
–Это еще кто? – подозрительно уставился на Каима шкаф.
–Дрозд, насколько я помню, – ответила гетера. – Ты забываешь, или он тебе этого не передал?
–Забываю, – вздохнул шкаф. – Выветривается из меня оно…
–Вот так оно и бывает, – сказала гетера, повернувшись к демонам. – У знаний, вложенных Серафимом, тоже есть срок годности.
Каим засмеялся.
–Пошел! – повысил голос Маркиз.
–Брось, – Каим поежился на ветру. – Лучше переждать здесь. Когда все это закончится, я вытащу вас куда-нибудь на Второе небо. Не пропадать же вам тут… Хоть и Светлые, а все-таки не совсем чужие…
–А остальные?
По улице двигалась неровная шеренга людей разных возрастов. Кто-то уже держал над головой наспех сделанный транспарант.
–Не могу же я спасти всех. Я все-таки не ангел.
–Не похоже на конец света, – буркнул шкаф. – Обычная демонстрация.
Светлого зрения Серафима в нем почти не осталось, и он не видел того, что происходило в центре митинга.
–Поверьте, – сказал Маркиз, – именно так и выглядит конец света. Рано или поздно кого-то убьют, начнется цепная реакция, а потом они поднимут мертвых, и – все.
Катя всхлипнула в его объятиях.
Марта, думал Маркиз. Марта должна быть жива. И где бы она ни была, ее нужно найти. Ангелам сейчас не до нее. Им даже не до Самаэля. Но отправиться искать Марту, значит – оставить дочь. И Маркиз стоял, крепко обнимая Катю, и сам не замечал, как трется о ее волосы заросшей щекой.
Пламя, выжигающее мир вокруг себя, захватило уже большую часть улицы и продолжало двигаться.
–Что они все орут? – шкаф покосился на ближайших к нему демонстрантов, поднимающих плакат в поддержку Уилки Коллинза.
–Фамилии известных писателей, – сказал Каим. – Ваш новый друг, – он ткнул пальцем в сторону Маркиза, – неплохо разбирается в литературе. Ваш старый друг и вовсе достиг в литературе фантастических высот. У них не было времени пихать в головы этих бедняг что-то кроме литературы. Страшно, – он вытащил из кармана перчатки и стал их натягивать на замерзшие пальцы. – Мы с ними, – кивок на светящиеся крылатые сгустки, непрерывно летящие над головами, – вырастили поколение людей, которые будут биться и умирать не за то, что считают нужным, правильным, даже добрым, если угодно… а за то, что учили в школе. Они могут быть сколь угодно недовольны жизнью, но их беда в том, что они убеждены: все, что с ними было, сделало их сильнее, умнее, опытнее… Никто из них не думал, что станет чудовищем, просто перестав сомневаться в ценности усвоенных уроков. Смотрите, как вот эти, которые за Толстого… порвут любого ведь…
Из грязного снега и асфальта начали подниматься колонны, сугробы прорастали мрамором, а в небе продолжали двигаться крылатые искры и тени, и на снежном пустыре между домами сталкивались в бою те, кого Маркиз не любил уже очень давно, и те, кого он не любил еще дольше.
Хотелось выпить, вытянуть ноги на диване, вдохнуть плотный, пахнущий квасным тестом дым «вирджинии» и забыть обо всем, кроме дыма и тонкого коньячного послевкусия. Вместо этого приходилось наблюдать за битвой Сфер.
Над головами бьющихся поднялся столб света, расцветший радужными переливами, и, достигнув вершины ближней колонны, погас. На успевшей покрыться копотью капители стояло исполинское существо не то в саване, не то в банном халате, рукава и полы которого, отороченные живым огнем, развевались на ветру, смахивая соседние колонны и тех, кто стоял под ними. За спиной существа поднимались шесть крыльев, два из которых странным образом заворачивались вперед, закрывая лицо, два тяжело поднимались и опускались (воздух плавился вокруг них, и снег превращался в мелкие кристаллы прозрачного камня), и последние два крыла безжизненно свисали к ногам. Маркиз подумал, что Серафим когда-нибудь споткнется о свои крылья, и конец света наступит несколько раньше расчетного времени.
–Вот теперь – сматываемся, – Каим схватил маркиза и гетеру за руки, Маркиз свободной рукой схватил Катю за плечо, и они кинулись прочь от жара, разливающегося вокруг Серафима. Сзади, шумно дыша, топал шкаф.
–Через два квартала остановимся! – крикнул на бегу Каим. – Туда он пока не дотянется! Все держитесь за меня, и я вас вытащу…
–У меня родители! – гетера дернула Каима назад.
Шкаф налетел на нее и заорал, падая вместе с гетерой и Дроздом:
–А у меня жена! Никуда я не…
Каим стряхнул с себя людей и поднялся.
–Они останутся, – сказал ему Маркиз. – Они идиоты, но я их понимаю.
–А что вообще страшного? – шкаф вертел головой в поисках слетевших очков. – Ну, митинг. Ну, драка. Ну, подумаешь…
–Срок годности истек, – констатировала гетера, размазывая по лицу тушь. – Он больше ничего не видит и скоро не будет помнить. Ваша дочь, кстати, тоже не видит.
–Вижу, – шкаф нашел треснувшие очки и пытался засунуть их в застегнутый карман. – Менты.
–Что?
–Менты, – повторил шкаф. – И экскаватор.
–Чтоб вас всех… – ошеломленно пробормотал Каим, глядя в указанном шкафом направлении.
В том месте, где прежде стоял «Респект» не было ни митинга, ни битвы Сфер. Там снова был «Респект». Вернее, выступал из земли метра на полтора его верхний угол. Вокруг суетились люди в оранжевом и синем, разгребали снег, из-под которого валил густой пар. Натужно гудел экскаватор, соединенный тросом с извлеченным из недр углом. Потом небо над головой Маркиза прочертил хвост падающей кометы, и на крышу экскаватора обрушился, весь в завитках огня, Серафим. Высоким женским голосом вскрикнул Дрозд и со страшной гримасой боли стал вытягивать из собственной руки тонкий, абсолютно черный меч. Серафим что-то невнятно произнес, дрогнула земля, и все вокруг заполнилось светом.
Серафим в своей куцеватой курточке с множеством карманов нависал над Маркизом и вытирал нос огромным голубым платком.
–От имени Сфер ничего тебе передавать не буду, – весело сказал он, – Перебьешься. А от себя лично приношу извинения. С тебя сняты все подозрения.
Маркиз провел ладонями по лицу, стирая остатки беспамятства.
–Все хорошо, – это был голос Кати. Маркиз хотел повернуть к ней голову, но в висках вновь что-то взорвалось, и мир на несколько мгновений померк.
–Тебя контузило, – зашептала Катя. – Не шевелись.
–Марта…
–Нету здесь никакой Марты, – Серафим положил руку Маркизу на лоб. Ощущения более всего походили на погружение в мозг толстого сверла.
–Вставай, – сказал Серафим. – Ну извини, не рассчитал…
–Мы снова на ты? – Маркиз убедился, что боль отказалась от претензий на содержимое его черепа, и медленно поднялся. Катя крепко обхватила его за пояс и прижалась.
Шкаф с гетерой стояли за спиной Серафима, напуганные, но живые.
–А чего церемониться, – Серафим широко улыбался. Зубы у него оказались чуточку неровными. – У нас, как-никак, праздник. Апокалипсис не случился.
Маркиз дополз до такси, стоявшего прямо посреди пустыря, и прислонился к борту. Утроба автомобиля издала отчетливый звук отрывающегося скотча.
–Э-э! – встревожился шкаф. – Поосторожнее! Я ж не знаю, сколько ты весишь!
–Семьдесят девять кэгэ. Не волнуйтесь. Ничего не понимаю, – Маркиз вопросительно уставился на Серафима. – Что произошло?
–Проседание грунта, – излучая благость, пояснил Серафим. – Дырявая труба под киоском все время протекала. Горячая вода размыла землю, и…
–А Самаэль?
–Просидел все это время внутри. Его коллеги спали без задних ног.
–Демоны? – удивился Маркиз.
–Продавцы.
Маркиз дернулся:
–Где они сейчас? Там была женщина, что с ней?
–Полагаю, ею занимаются врачи. Кстати, Дрозд пробовал на меня напасть… Доставлен на Вторые небеса в тяжелом состоянии. Когда его забирали, мне не дали никаких гарантий.
Маркиз махнул рукой.
–Мне нужна женщина. И Самаэль.
–Спешить больше некуда, – Серафим совсем по-человечески потянулся и зевнул. – До суда минут пять осталось. Приведи себя в порядок, если хочешь присутствовать.
Улица была чиста, насколько это возможно. Кое-где лежали банки и обрывки плакатов. У дальнего перекрестка топтались последние из участников спонтанного митинга, силясь, судя по всему, вспомнить свои недавние требования. Несколько полицейских покрикивали на них из машины, но подойти не пытались.
–Нас видят?
–Не обращают внимания, – сказал Серафим. – Но каков пассаж! Под землю! Целый киоск! И ладно бы кто постарался, а то – трубы!
Маркиз пропустил момент, когда пришли основные участники действа. Просто вдруг оказалось, что вместо снежной каши под ногами мрамор, вокруг снова стоят чистые колонны, а мутное февральское небо сменила темная бездна, из которой свешивались четыре люстры невероятных размеров, сплошь в потеках старого свечного сала и пятнах копоти. За колоннами еще можно было разглядеть улицу, где вылезал из бежевого фургона человек с треногой и сумкой. А между колонн вдоль твердеющих стен сновали черные и белые фигуры, стараясь рассредоточиться по двум сторонам зала.
Привести себя в порядок возможности не было, хотелось курить, и, впридачу, нужно было кормить обезьян. Обо всем этом Маркиз перестал думать, когда вошла Марта.
Выглядела она так себе. Под расстегнутым пуховиком у нее была одна футболка, лицо помято, точно со сна, волосы приглажены наспех. Марта медленно прошла к пустым местам, села, сложив руки на коленях, и только тогда осмотрелась. Плотно сжав губы, она обвела взглядом ангелов, стоящих рядом, демонов, сгрудившихся напротив, увидела Маркиза и коротко кивнула, прикрыв глаза.
Серафим куда-то исчез, а трое его свидетелей осматривали Большой зал широко распахнутыми глазами.
Маркиз дернул Катю за рукав:
–Я буду здесь. Не удивляйся ничему, милая, здесь нет ничего, кроме красоты и справедливости. Это место, где разрешаются все споры.
–Что здесь делает человек? – Серафим выскользнул из группы одинаковых ангелов с одинаковыми клинками в белых ножнах и копьями вдвое выше их самих. Ангелы стояли ровно, так что Маркиз готов был поклясться: никто из них ни на миллиметр не выступал за невидимую черту.
–Я привел, – сообщил один из строя близнецов. – Она сбежала от врачей. Требует дать ей слово как свидетелю защиты.
–Что?! – приятно было видеть Серафима поперхнувшимся. – Спасибо, Варахиил. Ну и кто же, – он склонился к Марте, – вас завербовал?
–Маркиз ада Набериус, – шевельнула сухими губами Марта.
Серафим нашел глазами Маркиза и придавил его к стене тяжелым взглядом.
–Посвящение прошли?
–Что? Нет. Поверила на слово.
–Давно?
–Четыре дня назад.
–Хор-рошо, – озадаченно проговорил Серафим. – Назовите себя.
–Евгения Мартынец. Человек, – после паузы добавила Марта.
Марта говорила очень тихо, едва открывая рот, но голос ее был отчетливо слышен повсюду, и Маркиз еще помнил, что это никак не связанно с важностью произносимой свидетелем информации. Просто акустика Большого настраивалась на другие частоты. Человеческий голос был для этих стен оглушительным.
Потемнело, и из дальнего конца колоннады вышли двое – ангел и бес, оба из низших сфер.
–Встать, – хором произнесли они, и по залу прошла волна: все вставали.
Серафим улыбнулся и замер, глядя в пустоту. Рядом с ним застывали с мечтательными улыбками архангелы; демоны, стоявшие возле Маркиза, прекратили перешептываться и смотрели перед собой, застыл (только отбивал на полу одному ему слышимый ритм) шкаф – свидетель обвинения, изумленно подняла голову и заулыбалась, вслушиваясь во что-то, Катя. Что она сейчас слышит, подумал Маркиз. Чью песню, чей голос, какие строки? А что слышу я, подумал он, и понял, что голос уже звучит.
Спой, светик, – сказал голос – высокий, детский, лишенный особенного выражения. – Не стыдись. Что ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица…
Что за бред, подумал Маркиз.
А невидимая девочка, запинаясь, говорила: ведь ты б у нас была царь-птица, – и делала вид, что смеется.
Нигде и никогда
-Ваши показания имеют ценность, если говорить о последних четырех днях жизни подсудимого, – Варахиил смотрел на Женю теплым, обволакивающим, точно вата, взглядом. – Да, не отлучался. Да, мог предвидеть… эээ… аварию. Да, должен был узнать…
–И непременно узнал бы, – вмешался Маркиз. – Я приходил практически без маскировки. Только когда увидел серафима, закрылся.
–Следствию известны обстоятельства вашего визита, – вкрадчиво сказал Варахиил. – Хотелось бы получить аналогичные доказательства в отношении более раннего периода.
–Пять дней назад! – крикнула с места Дарья. – У меня сломалась стиральная машина. В тот же день у мамы повысилось давление. И это чувство… как будто что-то давит…
–Пять дней назад Ариман Владимирович также присутствовал на рабочем месте, – тихо сказала Женя.
–И это нам известно, – развел руками Варахиил. – Но тогда вы не знали всех… эээ… подробностей. Могли не заметить некоторых особенностей поведения подсудимого.
–Подтверждаю, – важно кивнул таксист. – Пять-шесть дней тому назад я испытал такое… как бы плохо было. Тоска такая, понимаете.
–Послушайте! – прогремел тяжелый бас, которым Ариман Владимирович никогда не пользовался прежде. – Просмотрите уже, наконец, ей память!
–Протестую, – поднял руку Варахиил. – Поведение, недопустимое в зале суда.
–Допустимое, – сказал Серафим из своего кресла. – К сожалению, но допустимое. Суд не вправе вторгаться в воспоминания свидетеля.
–А осуждать невиновного, – живо откликнулся Ариман Владимирович, – суд по-прежнему имеет право?
–Демагогия, – отрезал Серафим. – Что обвиняемый скажет касательно времени до вербовки свидетеля защиты?
–Что прокурор должен быть один. И если уж вам так нравится эта должность, будьте добры, объясните уважаемому Варахиилу, что он здесь лишний.
–По сути.
–Как ты мне надоел, – простонал Ариман Владимирович. – Я никак не собираюсь комментировать свое поведение в указанное время. Я находился на Земле, видимый слой реальности не покидал, да и не смог бы. Сами меня силы лишили…
–А Лета? Куда Лету дел?
–Стойте, – сидящий рядом с Ариманом Владимировичем мелкий бес, чье имя никто не мог запомнить и произнести, постучал хвостом по столу. – Мой подзащитный ответит только на корректно поставленные вопросы.
–Извольте. Вечноссыльный Самаэль перед отправкой на место отбывания пожизненного срока указал в списке личных вещей Лету, известную большинству из вас, – Серафим сделал широкий жест, обводя окружающих его ангелов, – как река забвения. А отдельным старожилам, – почтительный взгляд на дальние ряды, – как змея, обитавшая в водах вышеупомянутой реки и наделявшая, собственно, реку вышеупомянутым свойством. В списке Лета проходила под метками «одежда» и «памятная вещь» дробь «сувенир», фактически – являлась на момент ссылки шарфом, изображение которого можно…
–Я ее выпустил, – буркнул Ариман Владимирович.
–Лета! – фыркнул безымянный бес. – Лета, да будет известно почтенному Серафиму, была использована моим подзащитным с целью освобождения. Прогрызла потолок и слой снега, позволив проходящим мимо школьникам обратить внимания на странное отверстие в земле. Выполнив данную операцию, Лета скрылась, вероятнее всего, в городской канализации.
–Сволочь! – Набериус рванулся с места, и двое инкубов, сидевших рядом, схватили его за плечи. – Мразь! Ножом проковырять не мог?!
–Свидетель защиты, успокойтесь! – Серафим нахмурился. – Какая вам разница, что сделал с Летой подсудимый?
–Прошу прощения, – Набериус сел, опустив голову.
–А если она и сейчас там ползает?! – в ужасе воскликнула Дарья. На нее зашикали.
–Как видите, сам факт того, что у Леты хватило сил на неодушевленный предмет – потолок… Это уже достаточное доказательство. Если бы ее использовали хоть раз за последние месяцы… – защитник вдруг покраснел и стал кашлять в кулак. Несколько демонов, стоящих за его спиной, сцепили руки и влили в адвоката новую порцию смелости. Бес оправил пиджак и приосанился.
–Я настаиваю на повторном следствии! – вновь поднялся Набериус. – Если мое следствие здесь не принимается в расчет.
–Молчи уж, – устало отмахнулся Серафим.
–Протестую! – хлопнул по столу адвокат. – Его Светлость маркиз Набериус проводил независимое расследование, игнорировать результаты которого…
–Протестую! – оборвал его Варахиил. – Свидетель защиты Набериус был нанят представителями расформированного учреждения, известного всем под названием Ад, губернатором Каимом и гражданином… эээ… защитником. Отношение Набериуса к следствию было изначально предвзятым, так как в качестве вознаграждения вышеупомянутые особы обещали свидетелю чрезвычайно важную для него… эээ… вещь.
–Кстати, – дернулся Серафим, – я так и не знаю, что это было?
–Лета, – коротко ответил Варахиил.
–Протестую! – крикнул адвокат. – Данная тема неприятна свидетелю защиты, а существенного отношения к делу она не имеет.
–Дурачок прав, – спокойно сказал Ариман Владимирович.
–Согласен, – кивнул Серафим. – В данном случае совершенно неважно, для чего демон Набериус так нуждался в услугах змеи забвения. Прошу прощения за вопрос, вызванный праздным любопытством. Хочу, однако, напомнить всем присутствующим, что защита до сих пор не прокомментировала показания троих свидетелей обвинения, согласно которым в течение девяти дней, включая сегодняшний, свидетели испытывали необъяснимое психологическое давление, причиной которого, по предположениям следствия, является незаконная деятельность экс-главы ада в ссылке.
–Можно вопрос? – подала голос Катя.
–Спрашивай, – хором ответили Варахиил и Набериус.
–Почему я раньше испытывала состояние вот такого давления очень редко? Почти никогда?
–Можно я отвечу? – Ариман Владимирович заерзал на стуле.
–Не вижу препятствий, – быстро сказал адвокат.
Серафим медленно кивнул.
Катя, избегавшая смотреть на Аримана Владимировича, с опаской глянула на него и потупилась.
–Почему-то все свидетели, – сказал Ариман Владимирович, – особенно те, что не прошли полного посвящения, подвержены одному и тому же заблуждению. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что происходящее на Земле зло происходит обязательно от меня, а все добро, – он вяло махнул в сторону Серафима, – от них? Поймите вы, наконец, я не занимаюсь вашими жизнями. Я выполняю конкретную простую задачу – помещаю грешников в ад отбывать наказание. Так же, как ваш нынешний командир и его уважаемый шеф занимаются помещением праведников в рай. И все. Единственная ситуация, когда представители Сфер оказывают влияние на человеческие поступки, – вдохновение, и этим занимается как раз-таки Симочка, стоящий сейчас перед нами. Все прочее, что происходит с вами, – результат исключительно ваших решений и ваших поступков. Вы же не обвиняете коменданта тюрьмы в росте преступности? Кстати, некоторым личностям из Белых Сфер не мешало бы об этом напомнить.
Катя растерянно оглянулась.
–Это правда?
Серафим снова кивнул.
–Тогда… я ничего не поняла, или ангелы… ну, то есть, Белым Сферам… невыгодно было увольнять Са… этого… его?
Ариман Владимирович со слышимым шлепком уронил лицо в ладонь и застыл в такой позе.
–Не отвлекайтесь, Катя, – твердо произнес Варахиил. – Речь идет о нарушении условий пребывания в ссылке. Вы подтверждаете, что последние девять дней пребывали в угнетенном состоянии без видимых на то причин?
–Подтверждаю.
Маркиз ссутулился.
Женя позвала его глазами, и, когда он почувствовал на себе взгляд и поднял голову, подняла брови: ну как?
Набериус качнул головой: все равно.
–Я согласна на проверку памяти, – громко сказала Женя. Набериус перестал щуриться, что обычно означало крайнее удивление.
–Чем обусловлено столь внезапное решение? – обратился к Жене Серафим.
–Долг, – пожала плечами Женя. – Человек… демон, которого я люблю, должен выполнить свою работу. А я обещала ему помочь.
–Ты ничего не должна, – хрипло сказал Набериус. Руки его невольно шарили по карманам в поисках портсигара (подаренного Женей к Новому Году чуть больше месяца назад). – Ты и так сделала много. Спасибо.
–Хочется заметить, – махнул крылом Варахиил, – что показаний свидетелей обвинения достаточно для вынесения обвинительного приговора. Если у защиты не будет возражений… – он скептически оглядел Женю. – Я заключаю, что вызывать Судью нет необходимости, – (тихий вздох облегчения с нескольких сторон), – и суд может удалиться для…
–Да хватит! – прогремел на весь зал бас Аримана Владимировича. – Вы меня достали! Вы, твари, чуть не развязали войну просто из-за того, что не могли меня найти?! Так, простите, дамы, – он дернул подбородком в сторону Кати и Дарьи и махнул Жене, – но нах…ра я вам был так нужен?! Чтобы узнать, не замечалось ли за мной чего странного? Проверьте память свидетеля и уймитесь наконец!
–Протестую, – пусто сказал Набериус. – Память свидетеля может быть просмотрена только с согласия свидетеля.
–Я же согласна… – робко начала Женя.
–Ах да, – Ариман Владимирович иронически посмотрел на демона. – Без Леты я вам, конечно, совершенно не нужен. Что вы так хотели забыть? Ваше прошлое? Настоящее? Эту женщину? И дались же тебе твои люди… – он счел, что дальше обращаться к Маркизу на «вы» необязательно.– И вам, Сима, тоже дались!
–Молчать! – лицо Серафима на миг сделалось багровым и страшным. – Что ты знаешь о людях, кроме того, каким огнем их жечь!
–А ты что знаешь?! – Ариман Владимирович утратил остатки спокойствия и заорал, разбрызгивая слюну и потея. – Вдохновение! Кому ты нужен со своим вдохновением, Огненный? Твоим людям нужна реальная сила и реальная помощь! А ты гуманитарий, Серафим, и помощь твоя – гуманитарная! Думаешь, делал святых? Своими стихами? Где они теперь, твои пророки? Почему они все равно попадали ко мне, а не к вам?
Прозвенел колокольчик, и в Жениной голове заиграла медленная часть «Вальса цветов». Так было и в прошлый раз, в самом начале заседания, когда вошел Секретарь,единый в двух телах и лицах. Сейчас Женя стояла ближе к краю и смогла лучше разглядеть черно-белую пару, выходящую из просвета между колоннами. Ариман Владимирович задохнулся и упал на стул, вытирая пот. В зале стало тихо.
–Сообщение. Свидетель защиты маркиз Набериус освобожден от долга, – голосом, слитым из двух, сказал Секретарь. – Его последний работодатель, Губернатор Каим, умер от полученных ран. Предсмертное заявление губернатора может прояснить некоторые детали следствия и будет озвучено немедленно.
Из первых рядом послышалось:
–Вот это поворот…
Серафим, сжав зубы, смотрел на Аримана Владимировича. Ариман Владимирович со свистом дышал, упершись в стол. Набериус искал глазами Катю, отступившую за спины архангелов. Архангелы с бесстрастными лицами смотрели вперед, на середину зала, где рождалась из марева тонкая фигура Каима.
–…и еще один… – Каим говорил твердо, но слышно было, как с каждым звуком из него уходит жизнь. – Имя не помню…
–Какую цель вы преследовали? – голос шел ниоткуда, из невидимого участка мира, обрывок которого трепетал в Большом Зале.
–Выжить… – Каим опустил веки и замолчал. – В первую очередь выжить, – сказал он через минуту. – Прошел слух, что всех участников процесса собираются списать…
–Ваша роль в Процессе Эры Милосердия?
–Вы это так теперь… Чтоб вас… Какая моя роль… Вовремя запнуться, вовремя оговориться… шеф мог заметить, но не заметил… а потом позднобыло…
–Вы сознаетесь, что вызов Самаэля в суд и его последующая отставка были спровоцированы вами?
Каим сморщился и поднял руку, на которой не хватало большого и указательного пальцев. Их обрубки были наспех перебинтованы.
–Естественно… света поменьше можно?.. – (стало темнее), – Спасибо. И ведь получилось…
–Что вами двигало тогда?
–Власть… что же еще… Власть.
–И после этого вы сами же стараетесь вернуть Самаэля на пост?
–А что мне делать… Я вообще не понял, что случилось после его ухода…
–К-каналья! – Ариман Владимирович вскочил. Грохнул об пол опрокинутый стул. В зале зашептались, но по-прежнему смотрели на умирающего Каима.
–Серафим… – Каим становился прозрачным, и сквозь его изломанное тело можно было разглядеть темный дощатый пол. – Привет ему… и Журавлю передавайте… чтоб сдох… пока его тоже не…
–Вы не хотите выдвинуть обвинения Серафиму?
–Плевать… Ему и так… расхлебывать… – прозрачный Каим пошел рябью и исчез. На его месте лежал, шевеля правым крылом, маленький бурый дрозд.
–Заканчиваем, – сказал голос, и изображение пропало.
–Что скажете? – тихо спросил кто-то из Господств.
Серафим склонил голову и, кажется, прослезился.
–Я понял, – сдержанно сказал Ариман Владимирович, возвышаясь над адвокатом, бессмысленно роющимся в бумагах. – Только сначала хотелось бы услышать мнение прокурора.
–В свете открывшихся обстоятельств… – Варахиил бросил взгляд на Серафима. – Следствию требуется…
–Признать, – оборвал его Серафим. – Признать, что это, о чем он говорил, это заговор был, да? Это может являться доказательством, достаточным для снятия обвинений. Но потрудитесь кто-нибудь объяснить причину феномена, так сказать, массовой фрустрации населения. А потом уже спорить о том, мастерство ли Белых Сфер или коварство Черных стало причиной поражения Самаэля в суде.
–А теперь, – Ариман Владимирович скрестил руки на груди, – скажите, кто-нибудь, я еще нужен?
–В принципе, – Варахиил тер подбородок, – Феномен фрустрации объясним периодическим присутствием двух или более демонов на земле. Странно, что покойный не смог вспомнить имя сообщника…
–Покойный сражался с Серафимом, – заметил адвокат и начал краснеть. – После такого, уф, – он набрал побольше воздуху, нервно вытер ручки о пиджак и закончил, – даже самый сильный демон что угодно забудет… извините.
–Есть вопросы к свидетелям обвинения? – спросил Секретарь.
Варахиил и бес-защитник молчали.
–Есть вопросы к свидетелям защиты?
–У меня вопрос к следствию, – резко сказал Серафим. – Насколько точно установлено, что Каим с сообщником присутствовали на Земле в указанное время?
–Согласно показаниям губернатора Каима, дважды он поднимался на Землю. Оба раза сопровождались характерным кратковременным изменением эмоционального фона граждан, – ответила белая половина Секретаря. – Интереснее в данном случае, что Дрозд, активно участвовавший в заговоре против Самаэля, впоследствии сам же возглавил новую группу заговорщиков, на этот раз уже с целью вернуть Самаэля в Ад. В Аду, по его словам, происходит нечто, не поддающееся объяснению. При отсутствии мало-мальски заметного лидера наблюдается ужесточение режима, прошло уже несколько казней, причем первыми были казнены участники того, первого заговора.
–Вы хотите сказать, у Ада втихую появился новый командир?
–В том-то и загвоздка, – вздохнула белая половина, – что представители Ада не могут дать четкий ответ. Все присутствующие на суде, конечно, будут опрошены, но… понимаете, Серафим, скорее всего, мы ничего не добьемся. После отставки Самаэля мы утратили достоверный источник информации, а рыться в делах Черных Сфер нам никто не позволит, особенно сейчас. Но, Серафим, то длительное состояние людей вообще и свидетелей обвинения в частности, которое Следствие списывало на Самаэля, вызвано возрастающей активностью Ада, а никак не чьей-то деятельностью на Земле.
–Эй, – возмутился таксист, и все вздрогнули, – можно попонятнее для простых людей?
Секретарь мгновенно соединился и пропел в два голоса:
–Свидетели могут быть свободны.
Женя открыла рот, еще не зная, что хочет сказать, но Серафим обернулся к ней и подмигнул:
–Все будет хорошо.
Последним, что видела Женя в Большом Зале (прежде чем смахнуть с глаз секундную пелену и отправиться на кухню тушить выкипающую свеклу), был большой и спокойный свет, сходящий с потолка вместе с голосом, от которого захотелось плакать:
–Всем спасибо. Самаэль может быть свободен.
Серафим
Он вышел, когда я допивал кофе из размокающего стаканчика, который притащил с Земли мой недавний заместитель – Херувим.
Оправданный, как глагольные рифмы у Левитанского, Самаэль появился в дверях, помахал мне и прошествовал к выходу из фойе, излучая торжество. Стало противно. Вслед за ним вышел Секретарь, и тут уж я не стал молчать.
–Ты что, благослови твою мать, творишь! – Я схватил его за грудки и поднял до уровня своего лица. – Ты куда, гнида, лезешь!
–Я выполнял свою работу! – заверещал обеими глотками Секретарь, болтаясь в моих руках.
–Тут один уже хотел выполнить свою работу, – сказал я, имея в виду Маркиза. – Ты, идиот, со своим нейтралитетом еще долго будешь мне жизнь портить?
–Я… – булькал Секретарь, но слушать его оправдания мне категорически не хотелось. Я вышвырнул его в глубокие сферы Времени, полагая, что несколько неприятных минут среди холода и кошмарных машин будут для паршивца (а если быть точным, двоих паршивцев) достаточным наказанием. Что я еще мог сделать? Секретарь не принадлежал ни одной из Сфер, вернее, принадлежал обеим. И как только появились новости, он явился их сообщать. И испортил мне и моим ребятам всю операцию. Так что я плюнул ему вслед, и шеф, подумав глубоко внутри, не стал меня осуждать.
Обвинительный приговор, наш драгоценный план «Алеф», на который я так рассчитывал, накрылся, но были некоторые плюсы и у плана «Бет». Например, у меня появилась возможность еще раз поговорить с Самаэлем лично.
Я догнал его уже на земле. Дьявол шел к своему ларьку, механически поглаживая шею, где больше не было шарфа. Из ларька выходил с пакетом Маркиз. Они обменялись долгими взглядами, но Катя, успевшая убежать вперед, позвала отца, и тот, отвернувшись от Сатаны, двинулся дальше. В пакете у него, насколько я мог разглядеть, лежала бутыль портвейна.
Пора, – я дал отмашку, и двое моих обормотов крепко схватили Самаэля за руки.
Закричал он уже посреди бесконечной пустыни. Третья Сфера выглядит не слишком презентабельно. Но ангелы, вышедшие отсюда, выносливее иных. Попробуй протяни всю жизнь среди одинаковых желтых дюн и колючек. Я не любил это место, но Ариман-Денница, пожалуй, не любил его гораздо больше.
–Дурак, – сказал я. Мои ребята держали его так, что, будь Самаэль стократ сильнее, ему пришлось бы сильно постараться, чтобы вырваться. – Дурак, не ори. Сам же знаешь, зрителей нет.
–Я оправдан! – барахтался в ангельских тисках Сатана. – Я свободен!
–Ты тупой, – сказал я. Он действительно выглядел сейчас глуповато. Как все-таки меняет мировоззрение иллюзия надежды. Стоит услышать оправдательный приговор, начинает хотеться жить.
Молодчики из Третьей Сферы подняли свободными руками свои простенькие копья.
Они умели немногое, но копья были для уроженцев Третьей Сферы продолжением рук. Я сам не смог бы так обращаться с копьем, как они. Собственно, поэтому я их и держу наравне с Херувимами и Престолами.
Самаэль кричал, но он кричал как человек, поэтому я без особого труда заглушил его, едва повысив голос:
–Дьявола больше нет. Придется искать другую легенду, дружище. Успокойся. Просто от идеи с Сатаной придется отказаться. Да заткнись ты!
И он замолчал.
Он думал секунд тридцать. Это выглядело необычно: задумавшийся Самаэль, зажатый двумя копьеносцами.
–Серафим, – сказал он наконец. – Ты что же, с самого начала…
–Знал, – подтвердил я. – И о заговоре Каима мы начали подозревать почти сразу после суда. Только сделать ничего не могли. Попытка тебя оправдать была бы слишком явным нарушением легенды.
–Убить меня проще?!
–Идиот, – сказал я. – Тебя надо было осудить вторично и казнить. Ты-то, понятно, не в курсе, но мог бы и догадаться, что без тебя в Аду происходит не пойми что.
–И ты все это затеял, зная, что я невиновен?!
Терпения мне! Последний раз! – мысленно возопил я, и шеф внял моим мольбам.
–Самаэль, – терпеливо выговорил я. – Послушай. После того, как на суде тебя изящно подставил твой подчиненный, которого я не так давно отправил в небытие, начался страшный переполох. Шутка ли, единственный наш агент в Аду, единственный способ управлять этой сумасшедшей конторой, вылетает с должности из-за какой-то горстки интриганов. На следующий день после его отставки, официально – в первый день Века-без-зла, иначе говоря, Эры Милосердия, в Аду начинается какое-то шевеление, еще через два дня летят первые головы, а через неделю Ад представляет собой сформировавшуюся тоталитарную систему, и все попытки узнать о том, кто стоит во главе, упираются в один ответ: никто. А между тем этот никто уже расправился со всеми активными участниками суда над тобой, готовит, если верить покойнику Дрозду, арест, собственно, Дрозда и подбирается к кому? – правильно. К своему предшественнику. Белые Сферы стоят на ушах, рушится ко всем благословенным все, что мы так долго и тщательно строили… Что мы делаем?
Самаэль смотрел на меня снизу вверх.
–Мы спасаем своего сотрудника! – тоном ведущего, объявляющего выигрыш, провозгласил я. – Мы прорабатываем уйму вариантов, я сам, для вящей убедительности, бросаю дела и лечу на Землю, мы проводим несколько неприятных часов, пока ты прохлаждаешься в яме со своей лавочкой… все для того, чтобы вытащить тебя в суд и объявить мирам о твоей казни. Почти получилось. Связаться с тобой и предупредить не могли, уж прости, дружище, но у тебя кругом уши. Прокол вышел с Каимом. Отбросил коньки слишком рано, а Секретарь, конечно, тут как тут… Ну, это ты сам видел. Но еще никто не запрещал избавляться от нежелательных персон без участия органов правосудия. Особенно если не стараться это скрыть. Самаэль должен быть мертв для всех. Не могли же мы оставить тебя перед этой непонятной дрянью, которая пришла на твое место…
Я люблю внезапность. Внезапность – это естественность.
Не то, чтобы я часто ей пользовался.
Но я отчетливо помню, как натурально кричит тот, с кем секунду назад разговаривали, а теперь вокруг него поднимается стена невероятного, выходящего за пределы представлений о температуре и свете, огненного пекла. И в том, что крик Самаэля дошел до самых отдаленных уголков самых глубоких Сфер, можно было не сомневаться. Мои милые шестерки постарались на славу, и я пообещал себе, что непременно отпущу их вне очереди на какое-нибудь симпатичное облачко. Да и сам отправлюсь туда же, потому что повороты, которые я пережил за последний день, все-таки не для моего заезженного пегаса.
…Мы лежали на краю того, что некогда было пустыней. На дне воронки была Земля, сыпал мокрый снег и ползли автобусы. Я не удержался и заглянул туда, хотя и насмотрелся, казалось бы, с лихвой. Я увидел таксиста, стоящего на рынке близко ко входу и выбирающего под грязно-зеленым клеенчатым навесом новые очки. Маркиза, в стельку пьяного, ворочающегося на диване, и Катю, закатывавшую глаза, сбрасывая в очередной раз звонок от Жени наего мобильном. Я увидел Дарью, полулежащую на кровати перед миниатюрным телевизором. Рядом с Дарьей валялась книга, названия которой я не мог разглядеть, но обложку запомнил на «рабочей» полке в квартире Набериуса.
Я смотрел в этот мир, пока сам не соскользнул в него. Самаэль упал в сугроб рядом со мной и застонал.
Нас шуганула старуха, маленькая, закутанная в тысячу платков. Она толкала перед собой коляску, где сидел утепленный еще старательнее слепой старик, постоянно шевелящий губами. На вид паре можно было дать лет по сто.
Спасаясь от обвинений в алкоголизме и бродяжничестве, мы перебрались в соседний двор и свалились на скамейку возле детской площадки. Странно мы выглядели, наверное, со стороны: двое мужчин, обсыпанные снегом вперемешку с песком, один – в осенней курточке, состоящей из одних карманов, и красных детсадовских перчатках, другой, постарше, – в шикарном пальто, но с красными от холода носом и шеей, да еще и со свежим ожогом на лбу. Высоко над нашими головами кружили ангелы; я улыбнулся им и отпустил домой.
–Что теперь делать? – прошептал архангел Самаэль, дыша на замерзающие руки.
–Искать новое имя, – ответил я. – Готовиться к новой операции. Помочь нам разобраться, кто же все-таки навел в Аду шороху.
–Я могу предположить, – сказал он. – Могу, но пока не буду. Ты не представляешь, – он крепко зажмурился, – что я натворил… Когда меня скинули… Я был уверен, что придется идти против всех.
–Ты насмотрелся на Ад, – сказал я ему. – Всю сознательную жизнь заниматься наказанием виновных…
–Я насмотрелся, – повторил он. – Я еще как насмотрелся. Я не архангел больше, Сима. Я не умею ни награждать, ни прощать, и то, что сейчас происходит в Аду – я это создал, я, и поганее всего, что я не собираюсь в этом раскаиваться, и бороться с этим тоже не собираюсь.
–Я понимаю, – снег под моими ботинками, еще горячими после взрыва, таял и превращался в холодный и чистый родник. – Если бы я мог, я бы никогда ни для чего не позволил использовать Ад. Но если его не будем использовать мы, он будет использовать нас, а что из этого выйдет, мы оба можем представить. Теперь ты мертв, – я толкнул Самаэля локтем. – Все слышали твой крик и видели огонь. Дьявола больше нет. Ты не Сатана, не Самаэль, не Денница. Начинай жить заново.
В его глазах промелькнул ужас, смешанный с ненавистью.
–Имя Денница никогда не было моим!
–Было, – твердо сказал я. – Было, потому что тебя так называли.
–Я не хотел воровать имя у мертвого.
И я расхохотался. Архангел смотрел на меня с некоторым сочувствием. Он думал, что я выплескиваю напряжение. А мне было смешно.
–Все-таки ты неисправимый тупица, – сказал я ему слышанным где-то на работе женским голосом. – Ты что же, до сих пор считаешь, что… Очуметь, ну как тебя к работе-то допустили с твоей-то глупостью! Неужели ты думаешь, что Сферы стали бы в каких угодно целях жертвовать сотрудниками? Там было то же, что и сегодня: такая же пиротехника. А твой несчастный Эосфор получил повышение, и не одно. Знаешь, – и я впервые за несчетное количество столетий посмотрел на него своими прежними глазами, которые он должен был узнать, – говорят, из таких конченных романтиков, как он, получаются отличные поэты, как думаешь?
Оксана
Потерять работу для меня означало если не умереть, то оказаться нищей с больным мужем, которому учительской зарплаты не хватает на лекарства. Тамара с Валериком грозились, что будут больше помогать нам, но я отказывалась, потому что знала, как понадобятся им деньги совсем скоро. Тамара была беременна и уже вышла в декрет, а рождение ребенка – это, знаете ли, новая графа в бюджете.
Почему меня уволили, я не знаю до сих пор. Нашли на мое место нового человека, который обязательно должен был работать в моем ларьке. Известие об увольнении упало на меня, как гром среди ясного неба. Сказать, что я была в бешенстве, значит, ничего не сказать.
–Да вы не злитесь, – сказал мне новый работник, когда я швырнула ключи на прилавок. – Я сам не рад, что здесь оказался.
–Что же вы за гениальный продавец, что так нужны на моем месте?
Мужчина он был некрасивый, но я подумала, что лет в тридцать могла бы на него запасть. Но ведь в тридцать, а не в пятьдесят три!
–Да вот, выходит, что гениальный, – неприятно усмехнулся он.
–А я, значит, на улицу? Мне, значит, семью кормить не надо?
Он посмотрел на меня так, как будто я была его внучкой. А потом сказал:
–А и правда. Как-то нехорошо получается. Давайте меняться. Меня уволили с прежней работы, а вас, может быть, туда примут. Не хотите попробовать?Вы когда-нибудь руководили большими предприятиями?
Я объяснила, что не руководила, и нечего морочить мне голову.
А он взял меня за подбородок (я чуть в обморок не упала) и пальцем написал что-то у меня на лбу.
Сейчас я не считаю себя сумасшедшей. И я знаю: то, что я увидела и продолжаю видеть ежедневно, – не галлюцинация. Меня никогда не готовили к такому, и я представить не могла, что где-то может быть так.
Свое первое путешествие туда я помню плохо.
–Просто запомните, – спокойно говорил мне мой проводник, сменивший меня за прилавком, когда мы вернулись. – Каждый день вы будете приходить к моему дому. Не доходя четырех шагов до подъезда, остановитесь и напишите на бумажке вот эти буквы, – он набросал на мятом чеке какие-то каракули. – Приложите ко лбу текстом внутрь. Перед вами появится большая коричневая дверь. Попробуйте сегодня же. Заходите и говорите: «Здравствуйте, я ваш новый начальник». И работайте.
–Меня убьют, – я тряслась и пила некрепкий кофе, которым сама же и торговала до сегодняшнего дня.
–Нет, – он погладил свой шикарный, наверное, дорогущий шарф, – Скорее всего, над вами просто посмеются. Но вы им скажете: во-первых, я человек, и меня не смогут вычислить. Это правда. По их критериям… не обижайтесь, но вы даже одушевленным существом считаться не будете. На вас не отреагирует никакая проверка. Во-вторых, скажете вы им, вы скоро погрузитесь в смутное время, а я могу вас от этого спасти. И, в-третьих, дайте мне испытательный срок в один день. По закону, Оксана Ивановна, вам его никто предоставить не может, но этот закон не использовался так давно, что его просто не найдут. И испытательный срок вам предоставят. А там уже все зависит от вас.
И я согласилась, потому что в тот день была уверена, что чокнулась, и терять все равно было нечего. К тому же в моем, как я тогда считала, бреду, мне светила очень приличная зарплата.
И я прошла испытательный срок. Меня не учили тому, что я делала, но я делала все так, как надо. Потерять еще и эту работу я не могла. Мой предшественник оказался, по словам новых коллег, жуткой сволочью, и я уже знаю, как от него избавиться. А то, еще чего, передумает и вернется. Меня окружало довольно много сволочей. Но я была их последней надеждой, хотя в меня поначалу и не верили.
И я каждый день с понедельника по пятницу приезжаю на Красина – угол Подводников, открываю коричневую дверь, и меня встречает секретарша Лилечка. У нее был с прежним шефом роман, и она меня ненавидит. Но мне такой типаж знаком, она безвредная и по-своему милая.
Я не знаю, заслужила ли такое счастье на старости лет, но, оглядываясь на свою жизнь, думаю, что сама себя наградила бы за свою любовь, терпение и переживания. И от награды не отказываюсь.
Хотя настоящей наградой я считаю не найденную чудесным образом работу, а стихи, которые родились у меня по дороге к ней. Я надышала на стекло автобуса и записала на нем три четверостишия, чтобы лучше запомнить. Не разбираюсь в поэзии, но эти строчки мне кажутся хорошими.
Что ни говори, а написать первое в жизни стихотворение, когда тебе за пятьдесят – тут есть чему радоваться.
Эпилог
Серафим
Путевку себе выписал я сам, на правах руководителя. Херувимчик прекрасно освоился на моем месте, и когда я объявил ему, что придется потрудиться вместо меня еще какое-то время, он расцвел, порозовел от гордости и в его голубеньких глазках, здорово скрывающих могучий ум, засветилась мысль о предстоящем повышении. Повышать его, разумеется, пока рано.
Престолы по мне соскучились. Известие о моем уходе в отпуск они восприняли без радости. И то правда: все время расслабляться и выбирать мазилу – тоже надоедает. Что же до остальных херувимов, за время моего отсутствия они подраспустились, но зато – не говори, что дни твои унылы19, – скучать им точно не пришлось.
Я записался на ближайший островок покоя – самое тихое и малонаселенное из облаков – и сейчас занимался неприятным, но необходимым делом: закрывал отчетность. Моя недавняя командировка должна была иметь вполне официальный вид, не связанный ни с Самаэлем, ни с Золотым Веком. Битва несостоявшегося Армагеддона была списана на недопонимание при столкновении частных интересов маркиза Набериуса с высокими нравственными принципами (обожаю эту всеобъясняющую формулировку) Серафима, случайно оказавшегося на Земле. Приходилось теперь оправдывать свое присутствие, дабы указать в отчете: вдохновлено столько-то, создано то-то и то-то…
Для начала я – дьявол кроется в мелочах – отыскал бомжа, мимоходом обращенного мною к свету, и, скрепя сердце, восстановил статус-кво. Бомж не заметил разницы, и я отправился на поиски будущих творцов. Вдохновил пятилетнего мальчика на создание первых в его жизни стихов, которые я не рискнул бы прочесть, но за ними должны были последовать другие, большие и настоящие.
Снег больше не шел, зато шел я. Пешком преодолевал маршрут автобуса, на котором катался, изучая город, несколько дней назад.
Золотой век царил вокруг меня, люди привыкали к новым ощущениям, и печали на лицах становилось все меньше.
Они умеют меняться, думал я. Стоит ли вообще искать настоящую причину этой тотальной тоски, когда многие уже перестали ее ощущать. Они умеют вылезать чистыми из кромешной тьмы, и вряд ли им нужна помощь в таком, можно сказать, заурядном случае. Впрочем, вылезать по уши в грязи из света они тоже умеют, и это их право оспаривать не мне. В любом случае, пока я ношусь по свету в поисках завтрашних столпов литературы, все эти вопросы решаются на уровне, до коего даже мне не дотянуться. Потом, перед самым отлетом на островок, мне предстоит узнать итоги этого решения и подтвердить, что я с ними ознакомлен.
Потом я уйду, и будь оно все благословенно.
Одесса – Кишинев – Прага, 2014-2015
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg







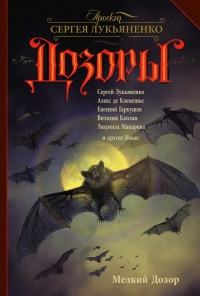



Комментарии к книге «Сатья-Юга, день девятый», Леонид Поторак
Всего 0 комментариев