Алла Дымовская Невероятная история Вилима Мошкина
Все подлинные истории выдуманы,
Все вымышленные имена изменены.
(формула по рассекречиванию документов с грифом СС)От автора
К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростоянов», «Абсолютная реальность»
Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого двенадцати лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь. В одно делимое целое. Три образа, три стороны человеческой натуры, персонажи, их я называю – Герои Нового времени. Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства – бесконечной личности, бесконечной Вселенной, бесконечной вариативности событий.
Вилим Мошкин – мальчик, юноша, мужчина, обыкновенный человек, обладающий, к несчастью, нечеловеческими внутренними способностями. С которыми он не в состоянии совладать. Ибо основа их любовь и вера в чистоту идеи, ради которой стоит жить. А потому носителя такой идеи ничего не стоит обмануть корыстному подлецу. Однако, именно через трудности и падения кристаллизуется подлинная личность, чем более испытывает она гнет, чем страшнее обстоятельства, которые вынуждена преодолеть, тем вернее будет результат. Результат становления героя из ничем не выдающегося человека. Потому что божественные свойства еще не делают человека богом, они не делают его даже человеком в буквальном смысле слова.
Медбрат Коростянов проходит свою проверку на прочность. Убежденность в своем выборе и незамутненный разум, которым он умеет пользоваться во благо, в отличие от многих прочих людей, способность мыслить в философском измерении все равно не умаляют в нем бойца. Того самого солдата, который должен защищать слабых и сирых. Ради этого он берет в руки автомат, ради этого исполняет долг, который сам себе назначил, потому что бежать дальше уже некуда, и бегство никого не спасет, а значит, надо драться. Но когда твоя война заканчивается, автомат лучше положить. И делать дело. Какое? Такое, чтобы любое оружие брать в руки как можно реже.
Леонтий Гусицин – он сам за себя говорит. «Может, я слабый человек, может, я предам завтра. Но по крайней мере, я знаю это о себе». Так-то. Он ни с чем не борется. Он вообще не умеет это делать. Даже в чрезвычайных обстоятельствах и событиях, в которые и поверить-то невозможно, хотя бы являясь их непосредственным участником. Но иногда бороться не обязательно. Иногда достаточно быть. Тем, что ты есть. Честным журналистом, любящим отцом, хорошим сыном, верным другом. Порой для звания героя хватит и этого. Если ко всем своим поступкам единственным мерилом прилагается та самая, неубиваемая интеллигентная «малахольность», ее вот уж ничем не прошибешь – есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя, не взирая ни на какие «особые причины». Поступать, следуя этому императиву, чрезвычайно больно и сложно, порой опасно для жизни, но ничего не поделать. Потому, да. Он тоже герой. Не хуже любого, кто достоин этого имени.
Все три романа фантастические, но! Сказка ложь, да в ней намек. Намек на то, а ты бы как поступил, случись тебе? Знаешь ли ты себя? И есть ли у тебя ответ?
Об обложках
Все три в одной цветовой гамме. Первая была красно-черно-белая, с преобладанием красного, как основного фона. Потому для двух других романов трилогии – следующая концепция: черно-красно-белая, бело-черно-красная, с преобладанием в одном случае черного, в другом белого цветов.
По рисунку. Для романа «Невероятная история Вилима Мошкина» на фоне белом черная или красная паутина, заглавие оставшимся цветом, черным или красным. Этот образ в видениях героя основной, именно через него он может трансформировать удачу в человека, которого любит, соответственно уничтожение этой паутины ведет к наказанию – герой Вилим Мошкин таким образом отбирает успех у недостойного человека. Паутина – история самой жизни героя, в которой он запутывается, думая, будто он паук, повелитель мух, но всегда сам оказывается ее пленником, и нет ему исхода.
Для романа «Абсолютная реальность» второй вариант – черный фон с белым или красным мертвым деревом, совершенно лишенным листвы, одни только голые сучья. Соответственно заглавие дается третьим оставшимся цветом, белым или красным, но в иных сочетаниях, чем в предыдущих двух книгах серии. Дерево – основной лейтмотив произведения, образ открывающейся герою абсолютной реальности существования, совершенно невообразимой для человека, настолько фантастической, что поражает, будто электрический разряд. Но и одновременно уничижает. Именно указывая место в ветвях этого дерева, разрушая трон, на который цивилизация сама себя водрузила. Герою от плодов этого дерева выпадает его мертвая, призрачная сторона, лишенная подлинной жизни, но все лучше, чем ничего. Это награда за выбор, его не уничтожает смерть, люди из абсолютной реальности даруют ему возможность жить в мире теней, и герой принимает сомнительный дар, потому что его земной долг еще не исполнен до конца.
Вступление
Стук в дверь… Step by step… И вот мы внутри глубокого тоннеля; в нем три коридора. Первый станет загадывать загадки, второй – играть в игры. Третий может свести с ума. Как нечего делать… Ба-бах! NEW GAME! PRESS START TO BEGIN!!!..
Игра первая. Приключения Вилки
Уровень 1. Шло, брело, ехало
Вилка, конечно, было дурацкое имя. Дразнительное. Но уж лучше, чем настоящее, которым неосмотрительные предки одарили Вилку при рождении. Вилим Александрович, может, звучит еще и ничего себе, но в сочетании с глумливой фамилией Мошкин получается просто неприлично. А за отдельное от Александровича имечко Вилим запросто могут и поколотить во дворе, вздумай Вилка настаивать на своей законной титуляции.
Вообще-то, согласно воспоминаниям матери, писаться по метрике Вилка должен был несколько иначе: Виллиамом, прегордо и через два "л". Но не вышло. Не подфартило. То ли в ЗАГСЕ недослышали, то ли подвыпившего на радостях папашу не так поняли. Само странное имя возникло же отнюдь не случайно. Папа Мошкин, в то далекое время еще аспирант исторического факультета МГУ, чрезмерно и дилетантски увлекался петровской эпохой, потому находился под впечатлением куртуазной и кроваво окончившейся истории любовных отношений императрицы Екатерины и красавца Виллиама Монса. Вот и назвал сыночка. Между прочим, даже не испросив согласия мамы Вилки, в тот самый роковой момент все еще отбывавшей в родильном доме положенный медициной срок. Папа Мошкин в метрический документ удосужился заглянуть только на следующий день, когда собирал необходимые вещи и справки для выписки своего семейства. Заглянул и ахнул. И не он один. Теща тоже заглянула и тоже ахнула. А потом и еще многое добавила. Мало того, что новоиспеченная бабушка изначально была против "нечеловеческого" имени для единственного внука, так оно еще ко всему написано неправильно! Вот Аглая Семеновна и разразилась негодованием на растяпу зятя. Закатывая глаза и заламывая искореженные артритом руки, теща взяла с папы Мошкина честное слово, что завтра, завтра же! тот отправится в ЗАГС и разъяснит ошибку. Папа, Александр Игоревич Мошкин, тут же торжественно и поклялся.
Но на следующий день были хлопоты и неотложные бытовые вопросы, требовавшие непременного разрешения, и ритуальные пляски вокруг младенца. И на следующий за следующим днем тоже. Про метрику благополучно забыли. А когда удосужились вспомнить – махнули рукой. Не все ли равно. Главное, что новый член семьи мужского пола жив и здоров, исправно сосет грудь и переводит пеленки. А уж как там пишется его имя – через одно или два "л", через «и» или через «а», в конце концов, не суть важно.
Когда же скептически настроенные коллеги Александра Игоревича, подтрунивая над оплошавшим отцом, вопросили, что же значит столь необычное имя его отпрыска, папа Мошкин и сам гораздый на шутки, дал предельно ясный ответ. "Вилим" всего лишь сокращенное от "виски с лимоном", – нисколько не смущаясь, сообщил он приятелям. Те возразили, что с лимоном пьют, как правило, коньяк, а буржуазный напиток "виски" в Москве и не достать. Еще бы, в 1969 году! На что Александр Игоревич, а для близких и не очень близких друзей просто Ксаня, резонно ответствовал, что коли виски было бы достать, то уж пили бы его в нынешних условиях всенепременно с лимоном. Приятели-историки, далекие и от современности, и от экзотических, заморских напитков, противоречить и оспаривать заявление не стали. А потребовали от счастливого папаши поскорее проставиться. Поднять, как водиться, за здоровье матери и ребенка. Ксаня с требованием согласился. Потому, как уважал под хорошую закуску и в приятной компании. И не только виски. Которого, кстати говоря, в жизни не пробовал… А Вилим так и остался Вилимом на веки вечные. Точнее до четырех с половиной лет, когда решительно был переименован в Вилку подельщиками из детского сада "Василек", средняя группа. Правда, папа Мошкин к тому времени присутствовал в его жизни лишь в качестве ежемесячных алиментов, но это уже иная история.
К слову сказать, четырехлетний Вилка, хоть был резвым и подвижным ребенком, и ни разу ничем, кроме соплей и диатеза не болел, однако, впечатление своим внешним видом производил обратное. Особенно на беспокойных по его поводу маму и бабушку. Худющий и белобрысый, до жалости щуплый и костлявый, он вызывал законные подозрения в благополучии своего здоровья. Оттого частой гостьей в их доме возникала близкая мамина приятельница и бывшая одноклассница Татьяна Николаевна Пухова. Для мамы и бабушки просто Танечка. Врач-педиатр Морозовской больницы. Однако, при всем старании, Танечка никаких явных отклонений от нормы у Вилки обнаружить так и не смогла, но для спокойствия его родных, особенно драматически настроенной Аглаи Семеновны, велела принимать комплексные витамины и рыбий жир. В любом случае полезно, хотя и невыносимо противно. И продолжала регулярно заглядывать к приятельнице на огонек, чтобы обследовать маленького Вилку фонендоскопом, еще прощупывать и простукивать бархатными пальчиками по его цыплячьей грудке. А заодно попить чаю с чудными, рукотворными творожными ватрушками, посплетничать о житье-бытье общих знакомых и в очередной раз намеками вынести нелестный приговор упорхнувшему в другую жизнь Ксане Мошкину.
С этой-то Танечки все и началось. Вернее, началось-то, может, все намного раньше, но в Вилкиной памяти первой вешкой последующих невероятных событий и ситуаций обозначена была именно Татьяна Николаевна Пухова. Обозначена она была, само собой, в поздних, зрелых размышлениях взрослого уже человека и гражданина, пусть и существенно отличного от других, но до конца сознающего и себя, и свое отличие. Тогдашний же маленький Вилка понятия не имел о том, что что-то там в его коротенькой жизни началось, и тем более о том, что это "что-то" имеет для него роковое значение.
Надо отметить, детский врач Пухова была женщиной видной. Хотя на придирчивый и иной женский взгляд излишне дородной. Но не в смысле командной строгости, а скорее из-за некоторой высоковатости в росте, и немного чрезмерной пухлости и округлости в соответствующих местах ее фигуры. И пахло от нее всегда больничной прохладой и лекарственными испарениями, что особенно привлекало маленького Вилку. Больницу и связанные с нею атрибуты он страшными не находил совсем, напротив, сии понятия обнаруживали в его представлении стойкую ассоциацию с милой и мягкой Танечкой, всегда так захватывающе приятно проводившей исследование тощего Вилкиного тельца. Конечно, рыбий жир – большая гадость, даже если заесть его вкусной ржаной корочкой, но к жиру Вилка относился философски, рассматривая его потребление как неизбежную плату за удовольствие общения с Танечкой. Что всему на свете имеется своя цена, Вилка уразумел чуть ли не с рождения. За неявку в детсад в будничные дни, пожалуйста! – противная сыпь по телу. За украдкой съеденные конфеты – шлепки и неприятные слова от бабушки Аглаи, за весело разбитые во дворе коленки – щипучая зеленка, за мамино спокойствие – отсутствующий папа.
Самое же приятное для Вилки заключалось даже не в осмотре, а в последующем чаепитии. Когда Вилке разрешалось забираться к милой и удивительно мягкой гостье на колени, что Танечка, не имевшая своих детей, охотно позволяла и поощряла, и, таская с Танечкиной тарелки специально для него отломленные кусочки ватрушки, слушать бесконечные в своем повторении женские разговоры. Иногда под нескончаемый аккомпанемент "ох! – ов" и "ах! – ов" Вилка тут же и засыпал, но чаще все же внимал и запоминал, а со временем, хоть и маленький, но отнюдь не тупой, начал и разбираться во взрослых проблемах.
Проблем, по сути, было две. Одна мамино-бабушкина, вторая собственно Танечкина. Если за столом выбрасывался лозунг:
– Ох, и не говорите, в наше время настоящих мужчин уже не осталось! А вот в мое… – или:
– Танька, ну что тут скажешь!? С него всю жизнь толку было, что с козла молока! Козел и есть… – то это означало:
Мама, Людмила Ростиславовна Мошкина, и бабушка, Аглая Степановна Ганевич, начали атаку на отсутствующего и потому кругом виноватого Вилкиного отца. Который, если перечислять по пунктам, во-первых, одну молодую жизнь чуть не загубил, имелась в виду мама, а во-вторых, еще одну молодую жизнь непременно погубил бы в будущем, имелся в виду Вилка. Но все вовремя спохватились, и оттого обе жизни, слава богу, ныне в целости и сохранности.
Если же звучало певучее и грустное:
– Ах, дорогие мои! Ухажеров, их вон сколько: считай, половина клиники, а замуж никто не зовет. А все потому… – то наставал Танечкин черед жалобиться на несправедливости судьбы.
Танечкина беда, хоть и обозначала себя многословно и заковыристо, по сути, тоже была проста. Из врачей какие ж супруги: у него сто двадцать и у нее сто двадцать, плюс приработок и дежурства. Разве ж это семья? А ведь женщина-педиатр любому состоятельному мужчине для совместного проживания с далеко идущими планами в смысле потомства, как подарок! Только где их взять? Все состоятельные давно уж по рукам расхватаны, их детишки у врача Пуховой в пациентах. Если, не дай бог, кто холост, вдов или, что хуже, разведен, то хоть с ружьем выходи, конкуренток отстреливать. Но она, Танечка, не такая, она гордая, и потому ни за кем бегать не станет, надеется только на счастливый случай, вдруг повезет. Но пока что не везет никак и ждать реально везения неоткуда.
Однажды, прямо за чашкой чая, капая слезой в еще дымящуюся коричневую жидкость, Танечка, не сдержавшись, расплакалась, по-детски скривив личико и трогательно поджав нижнюю, пухлую губку. Буквально вчера очередной ее "роман" потерпел крах. Такой милый, такой обаятельный молодой человек, и с деньгами, всего тридцати лет, самой Танечке было уже двадцать восемь, и оказался последним негодяем! Вернее, оказался он сторожем кооперативной автостоянки, согласно трудовой книжке, а по роду непосредственной деятельности – бессовестным и известным в определенных кругах Москвы фарцовщиком. Танечке же он представился секретным космическим ученым, чем и ввел девушку в заблуждение ужасным образом. И как незадачливый джинсовый Ромео ни клялся в любви после разглашения его неприглядной профессии, как ни уговаривал Танечку остаться вблизи него, заманивая дефицитными подарками и сертификатными нарядами, врач Пухова сторожа решительно отвергла. Хотя бы потому, что руки и сердца Ромео не предлагал, а даже если бы и предлагал, то рано или поздно грядущая конфискация имущества и ношение регулярных передач заточенному супругу в Танечкины планы совсем не входили. Оттого в тот вечер разочарованная и обманутая Джульетта, то есть, Татьяна Николаевна, горько и тихо плакала.
Мама и бабушка вовсю горю сочувствовали, а мама даже всплакнула за компанию, то ли в самом деле сильно жалея Танечку, то ли под впечатлением собственных, невысказанных чувств. Вилке тоже было не по себе. И даже очень. Мягкую, вкусную Танечку он в глубине души боготворил, как боготворит каждый ребенок ту единственную в своем роде плюшевую игрушку, которой раз и навсегда отдано его детское сердечко. К тому же в Вилкином случае игрушка была приходящей, а, стало быть, особенно ему дорогой. Ему тоже хотелось плакать, и он даже закрыл для этого глаза и крепко-крепко прижался к Танечке, на коленях у которой, как обычно, сидел. Танечке Пуховой его ласковое сочувствие показалось невероятно трогательным и забавным, и она прижала Вилкину белобрысую голову к своей груди, всхлипнув, поцеловала раз и два в макушку. Удовольствие от Танечкиных поцелуев оказалось для Вилки слишком велико, и плакать ему тут же расхотелось. Однако он так и остался сидеть, закрыв глаза, воображая про себя, как однажды, непременно, явится молодой и богатый жених, влюбится в его Танечку с первого взгляда, как положено в каждой порядочной сказке, и увезет далеко, нет-нет! не очень далеко, на белой, сверкающей машине, может быть даже "Волге" ГАЗ-21. Так Вилка думал и представлял себе эту машину, удивительно большую и пирожно-кремовую, его любимый цвет. И вдруг пространство за его опущенными веками словно увеличилось в размерах и обрело реальность и цветовую наполненность. Оно было белое-белое, и в то же время желтое как одуванчик и розовое, как шелковый бант детсадовской подружки Риммочки. Пространство кружилось все быстрее и быстрее, Вилке стало весело и хорошо. Так хорошо, как никогда еще, наверное, не бывало. Вспомнив и машину, и Танечку, и цвет, это чудо породившие, Вилка жарко и страстно про себя взмолился, чтобы так все и было. И цвет, и Танечка, и ее счастье на кремовой машине. И его тут же отпустило. Пространство перестало вращаться, вернулось к нормальным размерам размытой неопределенности, и Вилка открыл глаза. Ощущение радости и веселья, однако, не прошло. Оно осталось с ним, только сделалось нежным и приглушенным, словно чувство здоровой сытости после полезного, по науке, обеда… Только много лет спустя, когда Вилка уже полностью отдавал себе отчет в том, кто он, и ЧТО он может, он не раз благодарил в душе Бога за то, что тем вечером Господь или судьба позволили его глазам не смотреть на Танечку, а оставаться закрытыми. И тем самым спасли врачу Пуховой жизнь.
На следующей неделе, а именно в пятницу вечером, Танечка вновь пришла к Мошкиным в гости. Недоуменная и тихая. Вилку в этот день осматривать не стала, а за чаем с редким покупным тортом «Птичье молоко» начала потихоньку выкладывать свои новости. Осторожно и бережно подбирая слова, чтобы не спугнуть случайную удачу.
Из ее рассказа выходило, что счастье, тьфу-тьфу, наконец-то посмотрело в сторону врача Пуховой, причем довольно неожиданным и странным образом.
В тот самый вечер, когда Танечке выпало расплакаться у Мошкиных из-за деляги сторожа, она, все еще пребывая в минорном настроении, из гостей шла пешком со стороны Комсомольского проспекта к станции «Парк Культуры». Погода по весеннему времени была теплой и безветренной, и Танечка не стала обременять себя ожиданием автобуса. На Зубовской площади, как примерная гражданка, Татьяна Николаевна остановилась у пустого светофора, и ни машин, ни других пешеходов поблизости не наблюдалось. Но спустя какие-то секунды рядом с ней затормозила бежевая новенькая «Волга», хотя для водителя свет и был зеленым. Еще через полсекунды у автомобиля распахнулась левая дверца, и на проезжую часть выскочил довольно молодой и симпатичный гражданин, совсем даже недурно одетый. Гражданин на дороге, однако, не задержался, а подбежал к Танечке. И задал с бухты-барахты престранный вопрос:
– Девушка, скажите, вы кто по профессии?
Танечка так опешила, что не придумала ничего лучше, как прямо ответить нахалу:
– Я детский врач?!..
– Чудно, просто чудно! Даже замечательно! А лет вам, простите, сколько?
Ничего не понимающая Танечка, вообразившая себе все напасти от съемок кинофильма до побега сумасшедшего угонщика автомобилей из психушки, ответила и на этот вопрос. Причем честно.
– Мне двадцать восемь лет. С половиной.
– Это здорово! – нервно обрадовался непонятно чему гражданин и сообщил:
– А мне тридцать три. Уже.
– Поздравляю! – несколько холодно ответила ему врач Пухова, к тому моменту оправившаяся от внезапного напора незнакомца.
– Милая моя, выходите за меня замуж, ну пожалуйста! Вы симпатичная и, кажется в моем вкусе, и с образованием. Кстати, как вас зовут? – все это незнакомец выпалил на одном дыхании и попытался взять Татьяну Николаевну за руку.
Врач Пухова ничего такого, само собой, ему не позволила, и строго сказала:
– Вот что, товарищ! Если вы немедленно не прекратите хулиганить и приставать к порядочным людям, то я милицию позову. И вообще – буду кричать!
– Погодите, кричать не надо. Я не хулиган. Я несчастный человек! – несчастный человек умоляюще посмотрел Танечке в глаза, явно рассчитывая на ее женское сочувствие, и, видимо, что-то такое в них углядел. А потому сказал:
– Хотя, может быть, с этой минуты уже нет! Вы послушайте…
И Танечка его выслушала. Очень внимательно. И… И, вообще-то, завтра у нее с Геной, так зовут этого «сумасшедшего», самая настоящая свадьба. И она приглашает и Аглаю Семеновну, и Людочку и пусть берут с собой ее обожаемого Вилечку! Зал в «Арагви» уже заказан. А послепослезавтра она, вместе с Геночкой, улетает в Вену, где ее будущий муж должен возглавить советское торгпредство. Если, конечно, все это происходит на самом деле, а не снится ей, Танечке, во сне!
Геннадий Петрович Вербицкий, с которым врача Пухову столь нетрадиционным и скоропалительным образом свела судьба, оказался вовсе не психом и уж конечно не угонщиком, а действительно несчастным, великовозрастным сыном больших родителей. Очень, очень больших родителей. Больших настолько, что об этом не говорят вслух. И эти родители последние лет десять, как только Гена покинул гостеприимные стены МИМО, усиленно и хитро пытались своего единственного и ненаглядного сыночка оженить. С умом и далеко идущими намерениями. Но выгоднейшие партии из достойных, на родительский взгляд, семей Геночка отвергал напрочь. То ли в пику родительской диктатуре, то ли просто из духа противоречия. Более того, он умышленно заводил бестолковые, а порой и опасные связи с женщинами, которые людей его круга могли исключительно и только шокировать. Родители же Гены, устав от бесчисленных и ни к чему не приводящих скандалов, от бесконечной череды лимитчиц, ларечных торговок и железнодорожных проводниц, пошли, наконец, на компромисс. Они согласны были предоставить сыночку свободу и даже немедленно выгодную работу за рубежом, вдали от отчего дома, если Геночка сам найдет себе жену. Какую захочет. Но! Два условия: избранница должна иметь непременно высшее образование, и НЕ иметь детей от других мужчин.
В тот же вечер Гена, радостный и уже осязающий горизонты своей грядущей свободы, выскочил из дома на улице Качалова. И поехал, куда глаза глядят. Пока на углу малолюдного переулка, у светофора не узрел одинокую женскую фигурку. Час был поздний, и девушка стояла совершенно одна, спокойная и не спешащая переходить дорогу. Из чего Гена, всегда друживший с логикой, сделал вывод, что она, должно быть, не замужем и наверняка не имеет детей, раз в такое время никуда не торопится. На примете же у Гены как назло не имелось в тот момент ни одной подходящей для брачных отношений кандидатуры, а ждать милостей от природы под докучливым родительским кровом ему более было невмоготу. И он решил попытать счастья.
Танечка действительно оказалась в его вкусе. Темноволосая и темноглазая, статная и в теле, она принадлежала именно к тому типу "домашних" женщин, за которыми любой мужчина может чувствовать себя как за каменной стеной. Сам же Геннадий Петрович отчасти походил на Вилку, только выросшего и повзрослевшего, был также безнадежно худ и белобрыс, да еще плешь явно и нахально успела обозначить себя посреди и без того реденьких волосенок его макушки. О безумной и внезапной его любви к Татьяне Николаевне говорить, конечно же, было глупо и легкомысленно, но из всех зол в этот момент его жизни Геннадий Петрович выбрал наименьшее, под чем с готовностью и подписывался. И не только он. Старшие Вербицкие на сей раз с сыном согласились и Танечкино появление восприняли с энтузиазмом. Нужным бумагам, и так сверх меры залежавшимся, тут же придали ход, и свадьба и отъезд были назначены на немыслимо кратчайшие сроки. Словно старшие Вербицкие опасались, как бы Геночка вдруг не передумал и не испортил все дело.
И вот завтра уж и свадьба. Танечка вздохнула, но тут же застенчиво улыбнулась. Еще есть шикарнейшее платье и все, что полагается невесте, плюс целая куча иных подарков от будущих свекра и свекрови. И не только ей. Много чего еще Вербицкие привезли ее старенькой маме, когда настоятельно пожелали навестить дом Пуховых. И остались, между прочим, довольны. Танечка и мама лицом в грязь не ударили. Стол накрыли, хоть и не богатый, но очень интеллигентный. А количество книжных полок в их квартире Вербицких впечатлило. Еще бы! Недаром же Танечкина мама всю жизнь проработала в издательстве «Наука» и даже дослужилась до редакторского чина. Правда, кроме книг и нескольких автографов от замечательных людей в их скромной квартирке у Калужской станции метро не имелось ничего сколько-нибудь действительно ценного. Но Вербицким и это обстоятельство пришлось по вкусу. Чего надо из материальных ценностей они и сами с лихвой добудут, и это несмотря на то, что уже и так есть в избытке. Может, оно даже к лучшему, что девушка из скромной, хотя и вполне достойной семьи. Такая своевольничать и капризничать сверх меры не станет, как иная высокопоставленная дочка, а Геночка будет под присмотром и в надежных руках. В этом Вербицкие как раз не сомневались, слава богу, долгая и тернистая жизнь на горних высотах научила их разбираться в людях. К тому же биография Танечки Пуховой оказалась, после тщательного наведения соответствующих справок в соответствующих местах, чистой как слеза комсомолки. Годился вполне и покойный Танечкин папа, бывший при жизни ответственным литсотрудником в «Пионерской правде» и скончавшийся от прободной язвы желудка. И отсутствие родственников иных национальностей, в частности еврейской, за границей, и русско-белорусские незамутненные корни всего семейства Пуховых и лестные отзывы из Морозовской больницы, все сыграло свою положительную роль.
Каковы же собственные чувства Танечки к будущему супругу, это оставалось до конца не разрешенной загадкой и для самой Танечки. С одной стороны, что и говорить, недельное знакомство и скоропалительная свадьба с почти чужим ей человеком, но вот с другой! Не она ли сама мечтала о богатом и достойном муже, о принце на белом коне, который однажды приедет за ней и умчит в неведомые дали? Вот принц и явился, и даже на коне, то бишь, на бежевой «Волге», и скоро увезет в загадочную и загнивающую капиталистическую Вену, где только от одного вида магазинных витрин нормальные советские люди, как говорят, вполне могут съехать с катушек. К тому же Геночка ей вовсе не противен, и ей бывает временами его жаль, а этого уже достаточно для счастливого совместного проживания. Но главное – второй такой удачи в Танечкиной жизни наверняка больше не будет. Удивительно, что и один-то счастливый билет выпал на ее долю. И тут уж надо не упустить.
Из всего последующего свадебного торжества Вилка по малости лет и присущих им выборочности впечатлений запомнил лишь шумную толпу, душный ресторанный зал, полный смешанных кулинарных и парфюмерных запахов, красивую, будто королевна, Танечку, и впервые попробованную им «Пепси-колу». Потом Аглая Семеновна увезла распаренного и объевшегося внука домой. Для остальных гостей продолжались уже вечерние развлечения.
Спустя два дня Танечка Вербицкая вместе с супругом отбыла в обещанную Вену, откуда впоследствии регулярно присылала Вилкиной маме письма и нарядные открытки. Письма мама прочитывала и аккуратно складывала в секретер, а открытки шли в пользу Вилки, который немедленно заделался коллекционером и даже вытребовал купить ему специальный альбомчик.
О своем странном видении, случившемся с ним в Танечкиных объятиях, как и о сопутствовавших ему мыслях и желаниях, Вилка давно позабыл. А уж события, воспоследовавшие тут же вслед за видением, он и вовсе никак с собой не связывал и связать не мог. Разве что только по-детски уверился в том, что сказка и в реальном мире иногда становится явью.
А вскоре иные впечатления и события, домашние и детсадовские, совсем уж вытеснили мысли о Танечке и ее сбывшейся мечте из Вилкиной головы.
Уровень 2. Барышня и хулиган
Со времени Танечкиной свадьбы неспешно и незаметно прошло два года. Не то, чтобы эти два года совсем оказались лишенными событий, но и насыщенными впечатлениями Вилка бы их не назвал. Так, серединка на половинку, детсадовские, скучные будни. Расцвеченные лишь двумя наездами совместно с мужем в отпуск Татьяны Николаевны и перенесенной в старшей группе «ветрянкой». «Ветрянка» запомнилась не лишенным приятности сидением в домашнем карантине, визит Танечки – приличным озерцом заморских подарков, как-то: пузырящихся, жевательных резинок, детских, но всамделишных джинсовых штанов, фирменного водяного пистолета и шикарной радиоуправляемой машины.
А потом Вилка пошел в школу. Но не в простую, как бы с будущим математическим уклоном. Школа имела гордый номер «2», и оттого ее несовершеннолетних постояльцев именовали в просторечье «второшкольниками». Почему и отчего Мошкин Вилим Александрович был заранее определен в математики, требует отдельного пояснения.
Случилось так, что мама Люда, пребывая в естественных томлениях одинокой и разведенной женщины, более не захотела разделять свое отшельничество только с Вилкой и Аглаей Семеновной. Но, будучи уже умудренной печальным опытом предыдущего брака, к делу на этот раз подошла основательно и серьезно. И постановила: отныне никаких веселых и симпатичных молодых дарований, поющих в компаниях под гитару и с гусарской лихостью опрокидывающих рюмки! Рассмотрению подлежали только лишь исключительно положительные, ответственные, пусть и занудные, мужские особи. Таких особей в окружении Людмилы Ростиславовны оказалось ровным счетом одна. А именно: некто Викентий Барсуков, по отчеству Родионович.
Знакомство с Викентием Родионовичем мама Люда свела почти случайно. Хотя их встреча была вполне закономерна и отвечала жизненным пожеланиям обоих.
Людмила Ростиславовна, преподаватель русского языка для иностранных студентов, применение своим способностям нашла в новоиспеченном, втором по значению в столице, университете им. Лумумбы. Кое заведение являло собой пример горячей дружбы между народами, преимущественно из стран третьего мира. Материальным воплощением этой дружбы и оказались однажды дефицитные билеты на закрытый просмотр французской фестивальной ленты в Доме Кино, пожертвованные добродушным кубинским студентом, родственником чуть ли не самого Кастро, в благодарность за незаслуженно хорошую оценку. И Людмила Ростиславовна вдвоем с коллегой и почти подругой Серафимой Юрьевной на просмотр, конечно же, пошла.
В тот же самый день и на тот же самый просмотр пришел и Викентий Родионович, лицо на мехмате МГУ значительное, а именно числившееся в учебной части, как начальник третьего курса. И был Викентий Родионович не простым начальником курса, еще и партийным активистом и членом факультетского партбюро. А также лучшим другом освобожденного профорга. От которого и получил заветный билет. Нельзя сказать, чтобы Викентий Родионович жить не мог без французского кино, но добро по его понятиям не должно было пропадать зря.
На просмотре товарищ Барсуков и познакомился с мамой Вилки. А спустя недолгое время и с бабушкой, Аглаей Семеновной, которой сразу показался своей явной непробиваемой благонадежностью, и с самим Вилкой, воспринявшим нового маминого знакомца скорее как ненужную мебель в доме, чем как будущего второго папу.
Дело между двумя заинтересованными сторонами сладилось быстро. Уже через пару месяцев Викентий Родионович полноправным отчимом и мужем въехал на жилплощадь своей жены, которую в то же самое время стремительно покинула новоиспеченная теща. Аглая Семеновна, дама предусмотрительная и благоразумная, поступила мудро и дальновидно, перебравшись в однокомнатную, но вполне комфортабельную квартиру зятя на проспекте Вернадского.
Нет-нет, ссор и недоразумений между новоявленными родственниками не было никаких. Ни Аглая Семеновна, ни уж тем более правильный товарищ Барсуков не дали потенциальным конфликтам ни времени, ни повода. Не успели. Отъезд Вилкиной бабушки явился приемом не тактического, но глобально стратегического свойства. Аглая Семеновна здраво рассудила, что появление в их квартире чересчур положительного и морально устойчивого зятя не послужит к ее чести. В отличие от легковесного Мошкина нового главу их семьи порицать и пилить Аглае Семеновне скорее всего будет не за что, и у дочери вряд ли найдется весомая причина прилюдно плакаться на материнском плече. А вот товарищ Барсуков, при своей педантичной въедливости и дотошности, очень даже может делать пенсионерке-теще неприятные замечания по поводу ведения совместного хозяйства. Аглая Семеновна же окончательно уверилась в правильности своих предположений, когда, в день ее отбытия, Викентий Родионович хоть и добросовестно помогал ей с хлопотами по переезду, однако, лицо его отображало и некоторое недовольство. Но уж тут фигушки! Хватит с него начальствовать над дочерью и внуком – Аглая Семеновна как-нибудь, да будет сама себе голова!
Так, Вилка поступил юнгой, а потом и рядовым матросом под начало нового и справедливого капитана их маленького семейного судна.
Викентий Родионович, как было уже упомянуто вскользь ранее, ко всему на свете подходил основательно и вдумчиво. За отсутствием собственных детей и желания иметь их в будущем, он принял решение вырастить и достойно воспитать своего пасынка. От принятых им решений Викентий Родионович не отступал, назло всему мировому непорядку даже в сильных форс-мажорных обстоятельствах. Потому, вспомнив своевременно о занимаемой им должности и связанных с нею перспективах, вплоть до заместителя декана по учебной части, Барсуков позаботился о соответствующей подготовке юного Вилки заранее. И, подняв некоторые связи, определил мальчика в школу с математическим уклоном. Надо ли говорить, что самого Вилку о его желаниях никто спросить не удосужился. Да и какой спрос мог быть с несмышленого семилетнего мальчугана?
Нельзя сказать, чтобы Вилка сильно недолюбливал своего нового папашу, или открыто выражал к нему неприязнь. Ничего подобного и в помине не было. Викентий Родионович вовсе не являлся возмутителем Вилкиного спокойствия. Но и намека на подлинно отцовские чувства к пасынку не испытывал. Скорее отношения между ними напоминали прямую «учитель – ученик», с тем отличием, что ученик был как бы «блатным» и оттого требовал к себе особенного внимания. Сам же Вилка воспринимал Барсукова как неизбежную, вновь возникшую, но скучную реальность, данную ему в ощущение, что мало отличалось от его первоначального мнения о Викентии Родионовиче, как о лишней мебели в их доме. Все же Вилка, несмотря на малый возраст, был объективен, и к отчиму не взращивал в себе вражды. Викентия Родионовича Барсукова младший Мошкин попросту не уважал. Но и только. Внешне же подчинялся всем его требованиям и порядкам, благо те не слишком обременяли его детскую жизнь, а даже пригодились в будущем. Как то: держать в чистоте свою комнатку, по часам ложиться спать и делать домашние задания, аккуратно складывать одежду и определять каждой вещи свое место.
Если что и раздражало изредка Вилку, то только лишь отношение Барсукова, слишком хозяйское, к его матери. Получалось, что Вилкина мама большей своей частью принадлежит этому, по сути, чужому им дядьке, а потом уже малышу Вилке. Но, видя, что мама вполне счастлива и довольна таким положением дел, Вилка молчал и изгонял свою небольшую обиду подальше с глаз долой. Сам же он точно так же, как и отчим, не собирался обременять себя проявлениями излишних родственных чувств. Так, своим чередом, домашняя его жизнь протекала относительно спокойно.
Чего никак нельзя было сказать о жизни школьной. То есть, первый и второй классы Вилка окончил вполне успешно и даже оказался отмеченным учителями и двумя похвальными грамотами. Приобрел он и друзей, пусть не очень близких: во «вторую» школу детей привозили со всего города, и приятели его жили далеко друг от друга, что не очень способствовало тесному общению. Но и Вилка отнюдь к закадычной дружбе с одноклассниками пока не стремился. Словом, до третьего года его пребывания в школе, жизнь младшего Мошкина напоминала невозмутимое никаким ветром болото. Всех событий и было, что два приезда его дорогой Танечки, да летний отдых с бабушкой в Евпатории по дефицитной профсоюзной путевке.
Однако уже в третьем классе существование его внезапно круто изменилась, и стало вдруг напоминать совсем не болото, а стремительную, грохочущую перекатами реку. Причин тому было две. В их третьем «А» появился Борька Аделаидов. И Вилка заметил Анечку Булавинову.
Конечно, Вилка заметил Анечку не только в тот день на линейке первого сентября. Анечка уже два года училась в их школе и даже в его собственном классе. Но именно в праздничный день начала третьего учебного года Вилка «заметил» ее по-настоящему. Уж очень Анечка была красива и необыкновенна в то солнечное утро. За лето она отрезала невыразительную косу и приобрела аккуратную, волнующую стрижку «под пажа». Прямые, но необычайно густые и пышные, пепельные ее волосы образовывали теперь словно бы сияющий нимб вокруг Анечкиной головы. Сверху венчал прическу кокетливо приколотый белый, велюровый бант. Лицо ее, по-детски совершенно еще неопределенное, в обрамлении блестящих, чисто вымытых волос, показалось Вилке прекрасным и милым, а темно-серые глаза – кукольными и сказочными.
Можно было бы сказать, что Вилку поразила любовь с первого взгляда, если бы чувство, испытываемое им под впечатлением Анечкиной внешности, не явило себя столь наивным образом. Вилка вовсе и не подумал о том, чтобы как-то обратить на себя внимание девочки и в меру сил и фантазии поухаживать за ней. Его даже в мыслях не привлекало ни преданное ношение портфеля, ни дарение конфет и ластиков. Скорее Вилке захотелось ощущать как можно ближе и дольше Анечкино присутствие, возможно, потрогать ее волосы и взять девочку за руку, словом вести себя так, будто Анечка была не настоящая Анечка, а ее игрушечная копия. И Вилка прямо на линейке самозабвенно предался созерцанию этой кукольной, новой Анечки.
Удар, обрушившийся сзади и сверху на ранец, был сокрушителен. Одновременно Вилка получил сильный толчок под коленки и, не удержав равновесия, рухнул вбок мешком прямо на асфальт школьного двора, чуть не сбив с ног пяток плотно стоявших вокруг одноклассников. На него зашикали, а учительница Вера Алексеевна энергично погрозила Вилке пальцем из первой шеренги. Вилка быстренько поднялся на ноги, сердитый и слегка обалдевший от неожиданности, и огляделся вокруг, пытаясь установить виновника своего позорного падения. Подобные дурацкие шутки в их мирном классе совсем не были в обычае.
– Саечка за испуг! – раздался мерзкий чужой голос, и Вилка получил болезненный тычок в нос. – Чего раззявился, жених? Ха-а-а!
Голос был доселе никоим образом Вилке незнаком, как и его обладатель. Позади Мошкина стоял, ухмыляясь во весь огромный, лягушачий рот, неизвестно как затесавшийся в нестройную колонну их 3«А» совершенно чужой пацан. Обалдевший до изумления Вилка, вместо того, чтобы дать обидчику сдачи, спросил:
– Ты кто?
– Конь в пальто! – грубо сказал незнакомый пацан и гаденько засмеялся.
Вилка не нашелся, что и ответить. Стоявший рядом с ним в паре Зуля Матвеев тут же его и просветил:
– Да это новенький. Теперь будет с нами учиться. Его Борькой зовут, а фамилию не помню, – и, боязливо оглянувшись в пол-оборота назад, Зуля скорбно вздохнул:
– Вот уж счастье подвалило, не пересказать!
С этого мига Вилкина спокойная житуха и прекратила свое ровное и сонное течение. Чем так уж с первого впечатления он не приглянулся Аделаидову, бог знает. Может Борька тоже «заметил» Анечку и Вилкино явное внимание к ней вызвало в нем злобу. Может, просто несчастливая судьба поставила Вилку Мошкина в тот роковой день на линейке прямо перед носом скучающего новичка. И Борька скучать перестал, а Вилка сразу не дал ему отпора, и Борька понял: можно! Только факт остается фактом – с той самой праздничной линейки Вилка стал любимым и несменяемым объектом Борькиных хулиганских выходок.
Однако же сам Аделаидов не был «хулиганом» в классическом понимании этого слова. Обычный хулиган – это здоровенный детина на голову выше своих погодков, желательно рыжий и вихрастый, громогласный и тупой, непременно двоечник и разгильдяй. По сценарию такого полагается задабривать карманными деньгами и давать списывать домашние задания.
Но Борька в школьных гривенниках не нуждался, своих имел в избытке. И с заданиями справлялся вполне сносно, без посторонней помощи. Роста Аделаидов тоже был самого обыкновенного, лишь на какой-то жалкий сантиметр выше Вилки. И не рыжий, и не вихрастый, а совсем даже наоборот: гладенько прилизанный брюнет с тонкими чертами лица. Можно сказать, даже красивого лица, если бы не излишне большой, тонкогубый рот и, видимо в противовес ему, толстенные, почти сросшиеся у переносицы черные брови. Брежневские! Гадил он Мошкину больше исподтишка, подкрадываясь незаметно, но добиваясь эффекта обязательно при зрителях. Иногда Вилке казалось, что свои пакости Аделаидов тщательно обдумывает и готовит заранее, а не действует по наитию и обстоятельствам.
Сперва Вилка пытался справиться с «хулиганом» собственными силами, например, дать в ухо или в нос. Но не выходило. Борька всегда обставлялся таким образом, что подготовленные им пакости случались на виду у учителей и как бы сами собой. К примеру, тетради и учебники, мирно оставленные в ранце у парты на перемене, к уроку, когда Вилка извлекал их на свет божий, вдруг оказывались залитыми канцелярским клеем. Вера Алексеевна бранила Вилку за нерадивость и незакрытую как следует баночку, а Борька подмигивал и тишком показывал Мошкину язык: мол, не сомневайся, знай наших! Вера Алексеевна и другие учителя в подобных обстоятельствах попытки Вилки оправдаться и вывести истинного виновника на чистую воду всерьез не воспринимали, позже и бранили Вилку за пустые выдумки и ложь.
Учителей тоже можно было понять. Вера Алексеевна, дама относительно справедливая и далеко не вредная, возможно, и догадывалась о том, как в действительности обстоят дела. Но связываться с Аделаидовым не желала. Тому имелась весомая причина. А именно – папа Борьки, академик Аделаидов, директор внушительного ядерного института и депутат не менее внушительного Верховного Совета. Потому стоит ли удивляться что Вилка, такого папы не имеющий, поддержки у «первой своей учительницы» не нашел. К тому же хитрый Борька школьного распорядка не нарушал, учился в меру своих сил и весьма неплохо, а затевать чреватое расследование Вере Алексеевне совсем не хотелось.
Одноклассники, в частности ближайший друг и сосед по парте Зуля, вступаться за Вилку тоже не пожелали. Матвеев и многие другие, конечно же, знали правду, но неизвестно, кого взамен Вилки неугомонный академиков сын может избрать в свои очередные жертвы. Получалось себе дороже. Что думала по этому поводу Анечка, оставалось загадкой. Вилке никакого сочувствия красавица не выражала, но и домогательства Аделаидова отвергала решительно и безбоязненно. К примеру, довольно грубо отшивала Борьку с его предложением довезти до дома на зеркально вымытой папашиной служебной «Волге», и ехала с подругами в переполненном метро все остановки, а после еще автобусом. Вилка был уверен, что милая и прекрасная Анечка ничуть Аделаидову не нравиться. Пристает же он лишь из желания досадить Мошкину и унизить его в Анечкиных глазах.
Дома острый вопрос в свою очередь не встретил сочувствия. Мама, Людмила Ростиславовна, сына, безусловно, обожала и любому бы выцарапала за Вилку глаза. Но явных и внятных обвинений в адрес негодяя Аделаидова Вилка на свою беду высказать не мог. Улики были лишь косвенными и утверждения голословными. Оттого мама пришла к вполне законному выводу, что ее ненаглядный сынок попросту пытается увильнуть от ответственности, сваливая вину на другого. Отчим и вовсе был категоричен:
– Не можешь вести себя, как положено, так имей смелость признаться! – гремел Викентий Родионович с кухни, доедая куриный бульон. – И на кого сваливает! На сына ТАКОГО товарища! Не может быть, чтобы всеми уважаемый и знаменитый ученый воспитал Бориса непорядочным человеком!
И далее все в подобном же духе. Только академик своего Борьку не воспитывал, и жена академика, Борькина мачеха, его тоже не воспитывала. Не обременяла себя. Аделаидов полностью и безраздельно был в ведении домработницы Таси, глупой и вульгарной, но работящей бабы, вороватой и вне дома падкой на ЖЭКовских электриков и водопроводчиков. Но и Тася на Борьку никакой реальной управы не имела, а единственно потакала во всем шкодливому барчуку, да время от времени выдавала ему в увлекательной форме мещанские сентенции о подлости и несправедливости жизни.
Так Вилка остался с «хулиганом» один на один. Сперва он мужественно попробовал по совету своего соседа Зули «быть выше» и не заморачиваться, а делать вид, что Аделаидова вовсе не существует на свете. И некоторое время Вилке это удавалось. Пока однажды…
Однажды под Новый Год, то есть на четвертый месяц Вилкиных тайных мучений, внепланово прибыла в столицу Танечка Вербицкая, намеревавшаяся на родине произвести, наконец, на свет в Кремлевской клинике первенца Геннадию Петровичу. И, как водится, привезла страшно дефицитные в Москве подарки. В числе оных был великолепный набор заграничных фломастеров в количестве, страшно сказать, тридцати шести штук. Но у Вилки оставался почти нетронутым сбереженный еще с поры летних презентов такой же точно набор, с другой лишь картинкой. В отношении же Анечки его чувства из стадии безмолвного созерцания выступили к этому времени в период острого желания поражать предмет своего восхищения и подкреплять симпатии подарками. И второй набор Вилка предназначил Анечке. Мама, правильно и проницательно оценив душевное состояние сына, к его намерению отнеслась благосклонно и щедрый жест дозволила. Правда, потихоньку от Барсукова. Но, как бы то ни было, в последний школьный день перед каникулами Вилка отправился на дело, вооруженный драгоценным набором.
В последний день перед новогодними каникулами, как это водится во всех приличных школах, была назначена елка. Три коротких урока по полчаса и, добро пожаловать в актовый зал к Деду Морозу! Само собой, не в школьной форме, а в карнавальных костюмах, и не каких придется, но тематических. Третьему «А», к примеру, предстояло изображать пред публикой две коротенькие сценки: одну из «Трех поросят», другую, посложнее, из «Буратино».
Вилке, как ни странно, досталась в самодеятельной постановке роль Пьеро. Обязан этим он был скорее худобе и несколько унылому внешнему виду, чем личным актерским данным, но училка по ритмике назначила именно Вилку. К тому же, несмотря на кажущееся тщедушие, Вилка обладал довольно громким и на удивление низким голосом, и от природы был наделен недурным слухом, правда, далеко не абсолютным. Вилка ни за что на роль бы не согласился, если б, упаси боже, Мальвину играла Анечка, но исполнять подружку Пьеро была определена совсем другая девочка, Ленка Торышева, кривляка и задавака. Читать ей стихи грустного Пьеро вслух Вилка мог совершенно спокойно, не чувствуя ни малейшего душевного волнения, как если бы обращался к стенду с учебными пособиями.
Переодеваться к празднику полагалось в физкультурных раздевалках. В мальчишечьей и девчоночьей соответственно. Вилка же от нерешительности дотянул резину с фломастерами до того, что ушел в раздевалку, так ничего Анечке и не вручив: ни нарядной коробки, ни самодельной, нарисованной на куске ватмана открытки с поздравлением. Но, переодевшись в белый, украшенный помпошками, балахон, понял, что откладывать более нельзя. Не караулить же Анечку после праздника возле раздевалки для девчонок, ведь засмеют! Вилка вздохнул, успокаивая зачастившее было сердце, и полез в ранец. Можно отдать коробку и сейчас, до ухода в актовый зал. Анечка еще успеет сбегать в свою часть раздевалки и убрать подарок в портфель. А там Вилке уж выступать, и с Анечкой говорить не придется, по крайней мере, сразу.
Так, с коробкой и открыткой, Вилка двинулся навстречу судьбе. Он был настолько целиком поглощен безмолвной репетицией текста, который скажет Анечке, вручая свой новогодний презент, что не глядел ни под ноги, ни, тем более по сторонам, и уж совершенно вылетел из его головы подлый Аделаидов, совсем лишний в такой важный для Вилки момент. «Аня, возьми, это тебе!» Нет, лучше так: «Аня, с Новым Годом тебя!». Отдать коробку и все, она поймет. Вилка шел и репетировал свою коронную фразу, и до Борьки Аделаидова ему не было никакого дела.
А вот у Борьки к Мошкину дело было, да еще какое. Вилка почти что благополучно дошел до своей Анечки, стоявшей в миленьком костюме поросенка с двумя другими подружками-поросятами, как вдруг, словно из-под земли, перед ним выскочил Аделаидов. Аккуратная подножка, и вот Вилка уже растянулся на полу во весь рост. Фломастеры, драгоценные фломастеры выскочили веером из картонной коробки и летят, и катятся вокруг по паркету. Сволочь Аделаидов делает вид, что не может удержать равновесия, машет руками, и будто случайно наступает на один, другой, третий, десятый фломастеры, давит их в цветную, пластиковую кашу, пачкает ботинком открытку. Боже! Вилка все еще лежит носом на полу и видит только коричневый Борькин башмак и ошметки Анечкиного подарка вокруг. Вставать уже незачем и не хочется, но Вилку поднимает вверх некая сила, ставит на ноги и заставляет смотреть в противную, картинно издевательски перепуганную рожу Аделаидова. У силы есть имя, грозное и злое, как она сама: ненависть.
Ощущение было настолько новым, что Вилка на миг задохнулся. И удивился. Такого с ним еще не случалось. Никогда. То есть, конечно, ему приходилось в своей короткой жизни испытывать не только положительные эмоции, но и иные, весьма разнообразные в их неприятности, ощущения. Злобу, раздражение, досаду, обиду, хотя бы из-за того же Аделаидова. Но все это оказалось совсем не тем, на что походило нынешнее его чувство. Прежние его обиды и досады были, как говорится, пустяки, дело житейское, это же состояние, стремительное и всеохватное, даже и сравнить не находилось с чем. Будто запомнившаяся ему строчка из песни только что вышедшего и жутко популярного фильма, сразу же возникшая в Вилкиной голове. «Колоть – колол, но разве ж ненавидел?» Нет, не ненавидел. ТАК – никого и никогда.
И вот он, Вилка Мошкин, стоит и смотрит на своего врага, и Анечка, пусть не со зла, но смеется, не подозревая, что это растерзаны ЕЕ фломастеры, и только добавляет в его ненависть огня. Сам Вилка уже знает, что сейчас он кинется на эту сволочь, Борьку, и, держите меня трое! И будь, что будет после. Пусть хоть из школы исключают. Ему так здорово и восхитительно в этот миг, что на последствия – плевать! Для нападения нужна только одна последняя, но страшно важная деталь, девиз-пожелание, и он тут же выпевается в Вилкином мозгу, может не самый ужасный, но достаточный в данной ситуации. «Чтоб тебя… чтоб тебя… бешеная собака покусала, ветрянка осыпала и…»
Дальше не случилось ничего, никакого нападения на Аделаидова, – вообще ничего. Сумасшедшее, пылающее, всерьез напугавшее Борьку лицо вдруг скривилось от боли, и Вилка осел обратно на пол, бледный, схватившийся за голову. К нему уже бежала со всех ног Вера Алексеевна. Потом возникли медпункт и мерзкое, жидкое лекарство, кажется, капли валерианы. Вилка не помнил. Выступать на празднике он не смог, костюм Пьеро был срочно переодет на Зулю Матвеева, а Вилка, совсем расхворавшийся, с мамой поехал домой.
Но выступление и мамины тревоги, все это были несущественные пустяки. Вилку напугало другое. В тот момент, когда проклятия в Борькин адрес уже вырывались на свободу из его нутра, произошло странное. Перед глазами, как будто из взорвавшейся водяной бомбы, вспыхнули ослепительно белые и желтые цвета, знакомые до боли, словно бы виденные уже раньше, но вот где и когда? С жуткой скоростью бело-желтые колючие брызги стали скручиваться в угольно-черную спираль, и Вилка ощутил что-то похожее на то, как если б с размаху налетел на глухую, пружинящую назад стену. Вилка мысленно попытался пробиться через преграду и мысленно же кинулся вперед еще раз. Стена снова отбросила его назад, но уже не столь решительно, словно поддалась и начала таять. Но тут же пришла боль. Голова вспыхнула холодным, пронизывающим огнем так внезапно-мучительно, и Вилка не устоял на ногах. Что было дальше, Мошкин Вилим Александрович помнил уже смутно.
Уровень 3. Все маленькие звери
Со дня злополучной той елки минуло еще два года. Своим ходом, год за годом. Странный приступ оглушающей мигрени с Вилкой больше не повторялся, и воспоминания о неведомой и внезапной болезни, поразившей Вилку на Новогоднем празднике, постепенно стерлись из памяти. Мама и отчим списали все на шок от падения и утраты дорогого подарочного набора. Правда, мама соврала Викентию Родионовичу, сказав, что фломастеры были предназначены Вилкиной учительнице. И Вилка вдобавок получил от Барсукова выговор за ротозейство и разгильдяйство, за разбазаривание ценного достояния, кое он, Барсуков, мог, например, с пользой для себя и для семьи поднести товарищу заместителю декана по учебной части. Но бог с ним, с Барсуковым. Главным было то обстоятельство, что Вилка, накрепко запомнив предыдущие жизненные уроки, ни словом не обмолвился о подлой Борькиной подножке.
Но и Аделаидов с той поры к Вилке переменился. И Вилка Мошкин ни за что бы не признал, что эта перемена ему по душе. Нет, Борька более его не мучил и не задирал. Он даже начисто перестал замечать само Вилкино существование. Что-то отпугнуло «хулигана», и Вилка, пожалуй, догадывался, что именно. Но то было затишье перед бурей. Очень долгое затишье перед очень нехорошей и зловещей бурей. Вилка это знал наверняка, именно знал, а не чувствовал или интуитивно предполагал.
Тем не менее, внешнее бытие пятиклассника Мошкина обстояло вполне благополучно. Хотя в его собственном мире стали происходить события. И чем дальше, тем больше этих событий становилось. Хотя, возможно, вокруг Вилки жизнь и раньше била ключом, но по малолетству он не придавал событиям их нынешних значений и не интересовался ими глубоко.
Взять ну хоть бы торжественное прошлогоднее вступление в пионеры. Когда давным-давно первоклашке Мошкину прицепили на школьную, синюю курточку значок-звездочку с кудрявым, щекастым мальчуганом, Вилка воспринял сей факт почти равнодушно. Подумаешь, октябренок! Ведь не космонавт же. Все как у всех, и никакого интереса. Бронзового мальца, похожего на пухлого ангелочка со старинного бабушкиного, еще дореволюционного сервиза, с вечно живым «дедушкой» Лениным Вилка Мошкин никак не отождествлял. Да, собственно, красочные с обложки жизнеописания вождя, вышедшие из-под пера Прилежаевой и подобных ей авторов, Вилка находил одинаково нудными и читал лишь по школьной необходимости. Это же не «Три мушкетера» и даже не «Два капитана», а один до тошноты умный и правильный дотошный мальчик, выпиливающий лобзиком деревянный подарок маме и собирающийся «идти другим путем». Не то и не так обстояло дело с пионерским галстуком. Тут уж пришлось зубрить лозунги и «Взвейтесь кострами!», и существовала неприятная, позорная вероятность, что именно его могут в пионеры не принять. Лишить «взрослого» красного галстука и нового значка.
Занимали Вилку и непростые Танечкины дела. Пройти мимо них было невозможно, а разобраться – нелегко. Потому что у Танечки то и дело возникали «проблемы». Настоящие, взрослые проблемы, но Вилку они затрагивали непосредственно. Вот уже прошел целый год с тех пор, как Вербицкие-младшие в полном составе вернулись в родную Москву. Геннадий Петрович получил доходную и значительную должность во Внешторгбанке, Татьяна Николаевна же более работать не стала, озабоченная исключительно домом, мужем и ребенком. Но со временем, возможно, из-за пребывания в советских реалиях относительной верховной вседозволенности, благополучную на вид семью Вербицких стали навещать «проблемы».
Танечка Вербицкая, как и ее «проблемы», материализовывалась в Вилкином пространстве с закономерной периодичностью. Можно сказать, волнообразно. Волна эта находилась в состоянии прилива обычно, когда у Танечки возникали неприятности на семейном фронте, и в состоянии отлива, когда невзгоды рассасывались, исчезали как бы сами собой.
Когда Танечкина супружеская жизнь пребывала в мире и покое, сама Танечка объявлялась на горизонте семейства Мошкиных только в обязательные для посещений праздники и дни рождений. В иное время – лишь изредка звонила Люсе, то бишь Вилкиной маме. Отмечалась и посылала сигнал: «Помню, не забыла, если что, обращайтесь». Не то, чтобы Танечка чуралась Мошкиных или имела сверху запрет на близкое общение. Вовсе нет. Но после своего удивительного замужества Татьяна Николаевна стала обращаться в иных, высших сферах и обрела многие обязательные знакомства и связи, которые требовали от нее немало времени и сил. И, конечно же, дочка, Катя, румяная, как яблочко, Катенька-котенок, которую Танечка не доверяла ни одной из высокопрофессиональных номенклатурных нянь, как то было принято в ее нынешнем круге общения.
Мошкины не обижались. Все все понимали, и не делали из мухи слона. Только иногда ворчал Барсуков:
– Так в начальниках курса можно и до пенсии проходить! Роман Петрович, ничего не скажу, славный человек, семь бед ему в печенку! но ему ведь сорок шесть! Когда он еще на пенсию уйдет, и уйдет ли? А выше его должности уже некуда! Зам. по учебной – это ж предел!
– Господи, Кеша, что ты от меня хочешь? – сердито вздыхала в ответ мама, хотя знала прекрасно, чего хочет и к чему клонит Барсуков. Подобные мотивы уже звучали в доме не раз.
– Что я хочу?! Будто мне одному надо! Мне лично вообще ничего не надо! – тут Барсуков конечно загибал. Ему надо было и много и чего, Вилка это вычислил про него еще черт знает когда. – Даже если Роман уйдет, что дальше, а? Дальше-то что? Зам. по учебной части и все, потолок! Сто рублей к окладу и это в лучшем случае!
– Кеша, сто рублей большие деньги. Тем более каждый месяц, – резонно замечала мама.
– Ах, Люда, перестань. Не в деньгах же дело. Ты пойми – самое главное это перспективы. П-е-р-с-п-е-к-т-и-в-ы! А какие перспективы у зама по учебной? Сказать смешно, по сравнению с другими жизненными возможностями.
– Какими возможностями, Кеша? Ты еще не зам. и неизвестно, когда им будешь, и будешь ли. Ну, чего гадать? – обречено вздыхала Людмила Ростиславовна.
– Именно. Именно, Людочка. Ничего неизвестно. Будет – не будет. А у нас, между прочим, мальчик растет, – во время подобных дебатов Барсуков всегда говорил «у нас», не то что, когда бранил Вилку за детские провинности. Тогда звучало иначе: «у тебя, Людочка, сын, безобразно себя ведет». Ну да бог, с ним, Вилке это было до лампочки.
– Ну, хорошо, – сдавалась в конце концов мама, – что ты предлагаешь?
– Почему бы тебе не попросить твою подругу, ты понимаешь о ком я, о небольшом одолжении? Заметь, что ты никогда ни о чем ее не просила и один раз вполне возможно. Тем более что по существенному, жизненно важному поводу. Хорошую должность с выездом за границу. Для ее мужа это же пустяки.
– Это вовсе не пустяки. И потом, почему бы тебе не попросить самому? Танечка бывает у нас в доме. И вообще, мы же в прошлом году ходили к ним дважды: на Танечкин день рождения и на Катенькин, и тебя представили Геннадию Петровичу. И в этом году, наверное, пойдем. Вот и попроси. Сам. И не у Танечки, а прямо у Гены. И не морочь мне голову.
– Ну, как ты не понимаешь, Люда! Я для них случайный, чужой человек. Посмеются и отвернутся, и никто ничего не даст. Другое дело ты! Вы с Татьяной Николаевной с детства знакомы, когда-то были близкими подругами.
– Мы и теперь близкие подруги. За кем бы там Таня ни была замужем, это ничего не меняет, – мама в этом месте всегда начинала злиться.
– Тем более. Тем более! Просить должна именно ты. Ну, как ты не понимаешь таких простых вещей!
– Я просить не буду. Ни за что и никогда, – всегда одинаково категорично отрезала мама, – хочешь, сам проси. А я не буду. И все. И хватит об этом… Это просто немыслимо.
И мама не просила. Хотя, действительно, могла. И Танечка бы не отказала. Тем более, в период бурь и катаклизмов, то и дело нарушавших мирное течение ее жизни. Как раз в эти периоды Танечка объявлялась в доме старой и по сути единственной своей подруги особенно часто. Приезжала она обычно в обед, когда у Людмилы Ростиславовны выдавались дни с неполной нагрузкой и без срочных дел на кафедре. Видно было, что Танечка старается избегать разговоров о своих неурядицах в присутствии Барсукова. Правда, Викентий Родионович тем разговорам не мешал. Как раз наоборот, тактично уходил на кухню или делал вид, что имеет срочные занятия в Вилкиной комнате. Но уж слишком лебезил он пред Татьяной Николаевной, сверх меры сладким голосом обращался к дорогой гостье и разве что не сгибался пополам в поклонах и не шаркал ножкой. Вилка думал, что от этого глупого поведения отчима Танечка и стала избегать с ним встреч. Еще бы, кому приятно будет такое подхалимство! Вилке ни за что приятно бы не было! Танечку же он жалел.
Татьяна Николаевна в доме появлялась всегда неожиданно. Вилка приезжал днем из школы и на тебе! Нечаянная радость – заставал за чаепитием маму и Танечку. Дело тут было, конечно, не в маленьких, хотя и ценных для Вилки подарках, которые Танечка никогда не забывала прихватить для сына подруги – Вилку она любила. Нет, дело было совсем не в этом, а в чем именно, Вилка представлял себе смутно. Ведь, в самом деле: ну чему радоваться, когда расстроенная женщина чуть ли не в буквальном смысле плачет подруге в жилетку? Но Вилка знал одно – он и Танечка каким-то непонятным, чудесным образом связаны друг с другом в единое целое, хотя Танечка этого наверняка не понимает. Он садился всегда рядом с женщинами, и те не прогоняли его. Пил чай и слушал, слушал, слушал. О том, что у Гены опять был срыв, что на три дня муж и отец семейства ударился в загул и дома не только не ночевал, но даже и не объявлялся. Что Танечка мужественно скрывала его отсутствие от старших Вербицких. Что на четвертый день Гена, наконец, обозначился в виде, совершенно неподобающем для человека порядочного и семейного, напугав домработницу и маленькую Катю. Что вот уже неделю как он пропадает вечерами, приходит очень поздно и «под шафе», и от него несет гнусными, копеечными духами. От Танечки он только виновато шарахается и строго придерживается амплуа глухонемого Герасима. А Танечкина мама категорично и решительно настаивает на том, что довольно терпеть безобразия, и, немедленно собирать вещи! ее и ребенка, и возвращаться на собственную жилплощадь, гори вся эта элитная жизнь синим пламенем. На то она и мама. А Танечка не хочет домой. Она любит своего Генку, вот незадача! поэтому хочет жить с ним и с Катенькой тихо и счастливо. Чем же она виновата? И почему все не так?
Вилка не знал, отчего все не так и ответить на Танечкин вопрос, заданный в пустоту, не мог. Но внутреннее шестое, а может седьмое или десятое, чувство вещало ему, что он, Вилка, как раз и есть тот единственный на свете человек, который, за исключением Господа Бога, может дать Танечке ответ, только пока не понимает, как извлечь этот ответ наружу. И еще Вилка был безоговорочно уверен, что по той же самой причине, по которой он должен ответ Танечке, в его власти помочь ей и даже дать нечто большее, чем помощь. Но, в реальности как помочь Татьяне Николаевне Вилка придумать не мог, и оттого просто сидел рядом и от души жалел ее и желал счастья, мира и покоя, чтобы все-все наконец утряслось, и шелапутный Геннадий Петрович все же взялся за ум. Он мысленно будто переливал эти пожелания из собственного тела в Танечкино, и ему становилось мягко, радостно и хорошо. И Танечка успокаивалась тоже. После чего всегда говорила примерно одинаковое:
– Знаешь, Люся, посидела я тут с вами, и как-то все иначе стало. Будто заново на свет народилась. Будто другой человек. Хорошо у вас в доме, тепло. – Потом Татьяна Николаевна задумывалась и делала всегда странный вывод:
– У вас здесь, наверно, аура особенная. Ты, Люся, в это не веришь, я знаю. Но точно тебе говорю: меня кто-то нарочно глазит. А ты снимаешь. А может не ты, а Вилечка.
Тут Танечка всегда начинала смеяться, трепать Вилку за волосы, щипать за щеки, целовать в реденькую, светлую макушку. Вилка не сопротивлялся, ему нравилось, и он смеялся тоже. Потом Танечка уходила. А, вернувшись домой, как правило, заставала там раскаивающегося и готового стать примерным мужем Геннадия Петровича. И тогда Танечка украдкой звонила Людмиле Ростиславовне, счастливая шептала в трубку подруге, что та ей ворожит. Жизнь ее снова входила в мирное и счастливое русло… До следующего финта младшего Вербицкого. И все начиналось сначала.
Вскоре у Танечки вошло в обычай тут же бежать с «проблемой» в дом к Мошкиным, ибо она суеверно считала хорошей приметой поделиться бедой именно с Люсей. «Ты, милая, мне удачу ворожишь» – снова и снова повторяла Танечка, а мама сердилась и говорила, что все это глупости, что Гена просто слабохарактерный, а так он очень любит Танечку и Катеньку, и от этой любви у них все и налаживается. «Нет, ворожишь, я знаю, знаю», – настаивала на своем Татьяна Николаевна, а Вилка умилялся и счастливо смеялся про себя над Танечкиной наивной выдумкой… Тогда он еще, конечно, не мог знать, насколько близко Танечкина наивность подобралась к истинному положению дел.
Вообще, вокруг Вилки к тому времени сложился целый круг людей, которые в силу его симпатий, стали дороги ему или просто очень нравились, и Вилке хотелось видеть их почаще. Вилка Мошкин по существу своей натуры был безусловным и убежденным романтиком, из тех, кого серой обыденности трудно разочаровать и приземлить. Зато уж если приземлить все же удавалось, то люди, подобные Вилке, раз и навсегда бесповоротно превращались в лучшем случае в холодных мизантропов, а в худшем, не дай бог повстречаться на узкой дорожке, в беспринципных, активных циников, начисто отвергающих любые нормы морали. К тому же, как настоящий романтик, Вилка мог довольно долго существовать в собственном, лично им сконструированном пространстве, мало нуждаясь в помощи мира реального, и зачастую не замечая неромантичности и грубости этого мира и его несоответствия миру воображаемому. Для Вилки в сущности оба мира были одно.
Проявлялась Вилкина симпатия, как правило, всегда одинаково. И, за редким исключением, которое являла пока лишь одна Танечка, к людям, лично к Вилке не имеющим никакого отношения и с ним не знакомым. В преобладающем большинстве это были актеры и актрисы, увиденные им в кино или по телевизору, поразившие чем-то неуловимым Вилкино воображение, писатели, заинтересовавшие своими книгами или показанные все по тому же «ящику», один космонавт и даже один симпатичный, моложавый государственный деятель, из тех, что имеют постоянную прописку на трибуне Мавзолея. И с Вилкой каждый раз происходила одна и та же вещь: впечатлившись увиденным, прочитанным и услышанным, он хотел лицезреть своих кумиров как можно дольше и чаще, а для этого соответственно всем сердцем желал им творческих успехов, позволяющих пребывать в центре внимания широкой публики. И каждый раз, охваченный всецело этим желанием, Вилка уносился в желто-бело-розовом вихре в иные, невыразимые пространства, прекрасные и стремительные, и оставляющие внутри его существа блаженную и благую опустошенность. Ничего необычного в возникающих в нем вихрях Вилка не подозревал, полагая, что и все люди на свете испытывают такие же точно полеты, но не говорят о них в силу скромности и интимности ощущения.
После Вилкиного возвращения из разноцветной реальности вихря, люди эти словно бы поселялись рядом в его фантастическом мире, становились близкими, добрыми друзьями, кто временно, а кто и надолго, в зависимости от того, как скоро Вилка забывал о них, проникнувшись какими-либо другими симпатиями. В действительности же происходило иное. Добрые, но только начинающие карьеру, его друзья вдруг стремительно и внезапно становились знаменитостями, обласканными и обсыпанными благами, радуя Вилку собственной физиономией на экране. Писатели, особенно фантасты, получали карт-бланш, и их книг было уж и не достать. Те же друзья, кто был известен и прославлен еще до Вилки, обретали новые, неслыханные возможности, премии и государственные награды. А любимец-космонавт, получивший травму в орбитальном полете, несовместимую с профессией, победоносно и непонятно для врачей преодолевал болячку и тут же отправлялся в следующий полет, несмотря на очередь пышущих здоровьем и ждущих своей очереди дублеров.
Конечно, Вилка, пусть еще далекий от умственной зрелости, был все же не такой дурак, чтобы не замечать множество стопроцентных совпадений. И склонность к анализу присутствовала в нем от природы. Но, будучи юным ленинцем и пионером, твердо зная, что бога нет, а ведьмы, колдуны и оборотни живут лишь в сказках для самых маленьких, Вилка быстро нашел для себя объяснение. Все выходило донельзя просто. Настолько просто, что Вилке позавидовал бы и сам Уильям Оккам.
Он, Вилка, вовсе не загадочный космический мутант, почему именно мутант он не пытался себе объяснить, а всего лишь человек, тонко чувствующий вполне земное прекрасное и талантливое. Такая у него прирожденная способность. Как, например, у Зули Матвеева – способность к шахматным битвам. В десять лет уже первый взрослый разряд. Или у соседского мальчика Давида – к игре на пианино. Вилке к музыкальному деревянному гробу и подойти-то страшно, не то, чтобы пытаться на нем играть! Зато он умеет чувствовать чужие таланты. И может даже, когда совсем-совсем вырастет, будет вовсе не математиком, а знаменитым критиком и журналистом.
Правда, иногда случалось, что мама, включив вечером одну из телевизионных программ, с негодованием ворчала: «Боже, ну и бездарь! И чего его (или ее) все время крутят, будто показывать больше некого! Видно, где-то волосатая лапа имеется». Речь шла именно об очередном Вилкином любимце. Но Вилку это не обескураживало. Во-первых, мама – это просто мама, а не знаток и профессиональный критик, а во-вторых, у нее нет Вилкиных выдающихся способностей, поэтому она, конечно же, может и должна ошибаться. Но о своих выводах и недюжинных талантах Вилка маме не говорил. Не хотел расстраивать. И продолжал населять свой мир «друзьями».
Но, справедливости ради, надо заметить, что переживания, испытываемые Вилкой по отношению к «друзьям» и даже к «подругам», несмотря на всю экранную красоту последних, были очень далеки от ранней, сексуальной чувственности. Они были даже не просто далеки, а не имели с ней решительно ничего общего. Красавицы не снились по ночам, в обличьях и ситуациях, волнующих пока еще слабо насыщенную гормонами кровь, и, тем более, не снились красавцы. Правда, из-за строгого замалчивания в идущем к коммунизму обществе некоторых противоестественных грехов, Вилке и в голову не приходило, что красавцы могут сниться подобным образом. Все это были друзья, а, стало быть, и отношение к ним должно было быть окрашено исключительно в благородные тона. Можно подражать и даже восхищаться, можно слушать, смотреть и сопереживать. Но при чем же здесь, спрашивается, любовь и близкие к ней фантазии? Вилка не находил ни малейшего сходства. Тем более что предмет для вгоняющих в краску мечтаний Вилка избрал себе уже давно. Его сердце, равно как и все иные части тела, раз и навсегда, безраздельно принадлежали Анечке Булавиновой.
В их с Анечкой общении со времени злополучной елки произошел фундаментальный переворот. Только Вилка не знал до конца, так ли хороша случившаяся перемена, и не лучше ли было оставить все, как есть. Каким-то загадочным образом Аня Булавинова узнала, что раздавленные фломастеры предназначались Вилкой ее собственной персоне. Вилка подозревал в излишней болтливости рассеянного Зулю Матвеева, которому под строжайшим секретом после каникул поведал истину и пожаловался на подлеца Борьку. Очень уж хотелось с кем-нибудь, да поделиться. Поделился! А Зуля, вечно отиравшийся возле девчонок, разболтал доверенную тайну.
И Анечка, добрая душа, сопоставив фломастеры и обморок, прониклась к Вилке сочувствием. Вилка же, по глупой самоуверенности счел проявление сострадания девочки к себе началом иного, многообещающего отношения и с замиранием сердца ждал дальнейшего развития событий. Ждал честно, целых два года, пока не стал подозревать, что дело нечисто. Анечка опекала его. Дружила, ходила в гости и приглашала к себе. Но чем дальше, тем больше Вилка невольно превращался в привычную, окружающую Анечку среду, вроде ее домашнего сибирского кота Модеста, только под номером «два». Он также требовал определенного внимания и ухода. И чувства, которые испытывала к нему эта не по-детски красивая девочка, имели больше общего с возвышенным долгом, вменявшимся в обязанность Маленького Принца по отношению к тем, кого он приручил, чем с влюбленностью. Вилка переживал, но и не уставал надеяться. Однако полную и печальную ясность внесли лишь последующие трагические события, случившиеся весной с «инопланетянином». Так про себя Вилка нейтрально именовал залегшего во временную спячку гада Аделаидова.
Уровень 4. Смерть пионера
– Не забудь, завтра в два часа! Ну, да я тебе еще вечером позвоню, – пообещала Анечка, прощаясь с Вилкой в метро. Теперь, когда Булавиновым наконец-то провели телефон, Анечка названивала кому попало и по любому, самому ничтожному поводу.
– Не забуду. Но ты все равно позвони, – поддержал Вилка телефонный Анечкин энтузиазм. – Только знаешь, зря ты все же Борьку пригласила. От него никакой пользы, а вреда на полведра. Все испортит и дорого не возьмет. Вот!
– Виля! Ну, сколько можно? Я же объясняла сто, нет, тысячу и сто раз уже, что Борька сам напросился. Что же мне было делать?
– Гнать в шею, – угрюмо, но твердо ответил Вилка.
– Гнать в шею нехорошо. И, может, Борька давным-давно исправился. И теперь хочет честно дружить. А вот мы его сейчас в шею, а он обидится и станет совсем злым! Вот! – Это нелепое словечко «вот» как-то незаметно прилепилось и вошло у них в обиход. Вроде пароля и тайной знаковой игры.
– Уж куда злее. Ага! Исправился он! Чего ж тогда с ним никто дружить не хочет, боятся только. Даже толстый Фаня. За одной партой с Борькой сидит, дрожит, как осиновый лист каждый раз, когда Борька на него смотрит. А ведь Фаня с кем угодно дружить согласен, лишь бы его «жиртрестом» и «вонючкой» не обзывали. Вот!
– Знаешь, между прочим, с тобой он тоже не дружит. Хотя ты-то его не обзываешь. Вот!
– Это потому, что я не хочу. Чего с ним дружить? Кроме футбола ни о чем же не говорит! А я футбол не люблю. Фаня, он же глупый, как африканский баобаб.
– Почему как баобаб? – не поняла Анечка.
– Песня такая. У Высоцкого, – пояснил Вилка. – А вообще день рождения твой. Кого захочешь, того и позовешь. Вот!
– Да говорю же тебе, Борька сам напросился! Очень он мне нужен! – Анечка фыркнула сквозь надутые губки. Потом, что-то вспомнив, строго посмотрела на Вилку:
– Ты, главное, подарок по дороге не проворонь. А то опять заболеешь. Горе мое.
– Не провороню. Он небьющийся и не рассыпчатый, – успокоил он девочку. – Ну, ладно. До завтра, что ли?
– Ага. До завтра. Но я еще позвоню, – уже на ходу крикнула Анечка.
– Позвони, – вздохнул Вилка ей вслед.
Подарок Вилка запаковал еще с вечера. В шуршащую, прозрачную пленку от бог весть какого цветочного букета, заботливо сохраненную и разглаженную мамой. А потом еще в один слой гофрированной светло-зеленой бумаги для школьных поделок. Подарок действительно был небьющийся и рассыпаться не мог – красивая, заграничная рамка для фотографии. Достаточно большая, пластиковая штука, разукрашенная по периметру карамельными цветными узорами и с замечательной ракушкой, словно бы вплавленной в нижний левый угол. Само собой, появившаяся в доме Мошкиных благодаря все той же Танечке. Барсуков настроился было разворчаться по поводу бессмысленного и бестолкового разбазаривания ценного движимого имущества, но, тут же вспомнив недавнюю обиду, умолк и только демонстративно хмыкал и поджимал обиженно губы. Вилку это не могло не забавлять.
Причина для обиды у Викентия Родионовича, однако, имелась и, на его собственный взгляд, весьма и весьма значительная. А дело было в том, что, не надеясь более на жену в устройстве грядущего семейного благополучия, Викентий Родионович решился на поступок. Супруги и в нынешнем марте получили приглашение в Танечкин дом на празднование Танечкиного же дня рождения, поэтому в парадном виде, аккурат двадцать пятого числа, явились на торжество. Где отчим, хватив в мужской компании коньячку для придания себе необходимой самоуверенности, отважился обратиться к хозяину дома с просьбой. О теплом месте и подходящих п-е-р-с-п-е-к-т-и-в-а-х. А милейший Геннадий Петрович, тоже хвативший коньячку и куда больше отчимового, и много всякого наслышавшийся о Барсукове от жены, пребывал в веселом настроении, отчего ответил откровенно:
– Вот что, Кеша, ты не обижайся, но, как мужик, ты ж – ходячее говно! Ну и ответь: зачем мне хлопотать, чтоб хорошим людям кусок говна сосватать? То-то мне спасибо скажут! А что за пацана переживаешь, так ты не переживай! Пацан хороший, пацана я не брошу. И Танька в нем души не чает. Вот ему я помогу. Когда подрастет маленько. Ты уж не обессудь!
После этого дня рождения отчим ходил, как кипятком ошпаренный. Пенял, конечно, и жене. Дескать, не он ли предупреждал, что от его ходатайства толку не будет. Оскорбили только ни за что, да еще на людях. Им-то что, им все можно, кто такой Барсуков, и кто такой сын самого Вербицкого! А сын-то хам вокзальный. А Люда – курица, все из-за ее глупого упрямства. Мама, конечно, ответила, и они с отчимом разругались. Из этой ругани Вилка и уяснил себе, что же случилось в гостях у Танечки. Барсуков же, накричавшись, перестал с кем-либо в доме разговаривать, решив наказать семейство гордым молчанием. И стойко молчал вот уже два дня. А Вилка отметил про себя тот факт, что, ссорясь с женой, Викентий Родионович против обыкновения ни словом не задел самого Вилку. Что случалось частенько, когда отчим бывал чем-либо недоволен. Не сказал традиционные: «твой неблагодарный отпрыск» и «твой совершенно безответственный сын». И Вилке казалось, что он догадывается почему. Из-за Геннадия Петровича. Вот поэтому. Раз уж младший Вербицкий пообещал прилюдно свое покровительство младшему Мошкину, то лучше с последним не ссориться. Впрочем, Вилку такой расклад как нельзя более устраивал. По крайней мере, теперь не придется выслушивать отчимовы глупости. А с мамой вместе они вообще сила. Против любых Барсуковых. Между собой-то они разговаривают, и очень даже. А отчим ходит один, как сыч. И добавки к супу попросить не может. Потому как принцип. Так кто же в конечном счете, спрашивается, сам дурак?
Подарок и модный, темно синий, вельветовый костюмчик лежали, приготовленные, на стуле к завтрашнему дню. Сам Вилка лежал рядом в постели. Спать ему не хотелось. Хотелось думать о том, какая замечательная и красивая девчонка Аня Булавинова, и что только у такой замечательной девчонки день рождения может быть первого апреля и ни в какой другой день. Это очень хорошо, что Анечке достался самый веселый день в году. Вот Вилке, например, достался день куда как обычный, и никакого праздника на него отродясь не приходилось. Подумаешь, тридцать первое октября. Да еще мама рассказывала, что в действительности Вилка родился ночью, в самую полночь и даже немного за нее. Но, записали все-таки на тридцать первое. Может, оттого что он начал рождаться именно тридцать первого, а пару минут туда-сюда значения не имели. И медсестричка так и отметила в карте: тридцать первое октября, а для порядка – 23 часа 55 минут. Впрочем, и первое ноября не многим лучше. Вот если бы седьмое, тогда Вилка мог бы хвастаться, что родился в наиглавнейший советский праздник. Но не повезло. Всегда так.
В метро Вилка ехал, крепко прижав к себе Анечкин подарок, и не спускал с него глаз. Что было на этот раз совершенно лишней предосторожностью, потому как в вагоне по случаю воскресенья половина мест пустовала, а собственно Вилка и вовсе оказался один на угловом, жестком сидении. Ехать ему выходило не близко, за Измайловский комплекс, на 16-ю Парковую. Но даже после пересадки на Площади Революции народу не прибавилось, а к концу в вагоне остался только сам Вилка и еще две высокомерные старушки в нелепых, измятых шляпках. На станции у выхода Вилке еще предстояло приобрести букетик цветов для именинницы, для чего ему был выдан мамой бумажный рубль. Но у Вилки имелось впридачу копеек шестьдесят собственных, сэкономленных финансов, и он полагал купить не только пучок нарциссов, но и непременно к нему ветку мимозы.
На Первомайской станции все вышло даже лучше. Добрая толстая старушка не просто продала две, пусть не самые пышные веточки мимозы (это чтобы не вышло четное число), а, то ли от скуки, что не было других покупателей, то ли Вилка и в самом деле ей понравился, но веселая бабулька завернула Вилкин букетик в кусок шелестящей, белой бумаги и обвязала снизу обрывком прозрачного шпагата. Получилось мило.
До Анечкиного дома от метро ходил автобус, но Вилка решил пробежаться пешком. Чтобы не помять букет и чтобы не париться понапрасну четверть часа на остановке. По случаю воскресенья автобусы ходили не так, чтобы очень. А день такой чудный, и солнце уже почти совсем теплое. Вилка еще в метро стянул с головы вязанную, лыжную шапочку и сунул ее карман, а теперь и не думал надеть. Впрочем, простуда ему не грозила. Что-что, здоровье у Вилки, несмотря на выдающуюся худобу, было отменным. И захочешь, так нарочно не простудишься, даже если полшколы гриппует и чихает. Что такое не везет и как с этим бороться! Оттого можно было бежать и без шапки. А бегал Вилка очень быстро, даром, что ноги имел до смешного длинные.
К Анечкиному дому длинные ноги донесли быстро. И Вилку, и букет, и подарок. А до двух дня было еще порядком далеко, не меньше часа. Но Вилка знал, что его не прогонят и не рассердятся, и потому смело явился раньше назначенного срока. Во-первых, хотелось поздравить Анечку прежде всех и наедине, чтоб та как следует рассмотрела подарок, а во-вторых, наверняка, его попросят помочь. Помогать Булавиновым накрывать для гостей стол, или просто так чем-нибудь, было настоящим удовольствием. Весело, шумно и душевно. Будто Вилка свой в доме человек, и родители Анечки не видят никакого различия между ним и собственной дочкой. А папа Булавинов все время травит байки и разыгрывает то Вилку, то маму Булавинову, то Анечкину бабушку, – не то, что их Барсуков. И мама Булавинова, Юлия Карповна, все время хохочет, громко, до слез, и даже интеллигентная бабушка, и никто ни на что не обижается.
Но веселье весельем, а Вилка уже отдавал себе отчет, что Анечкина семья другая не единственно из-за Барсукова. Что все люди равны – это только для порядку говорится в умных книжках, на самом же деле, убедился Вилка, все совсем не так.
Анечкина семья была бедной. Не в сравнении с Татьяной Николаевной Вербицкой или с академиком Аделаидовым, но даже с Мошкиными. Даже с Вилкиной бабушкой, жившей на пенсию, и не желавшей зависеть от дочери, оттого подрабатывавшей на дому частными уроками русского языка и литературы, иначе говоря, обучая искусству написания экзаменационных сочинений. Булавиновы же были бедными по-настоящему, или, как модно стало выражаться, были бедными по определению. И дело заключалось даже не в том, что Булавиновы жили вчетвером, в двух смежных комнатах, сорок два метра, на пятом этаже хрущобы, без лифта. Мало ли кто как живет. Да и кого в Москве удивишь квартирным вопросом? В проходной комнате Аня и бабушка, в задней – родители, а уроки вполне можно делать на кухне. Конечно, не Версаль, но многие и похуже живут, например, в коммуналках.
Но в семье у Анечки почти совсем не было денег, или очень мало, по крайней мере, у Вилки определенно сложилось такое впечатление. Он даже точно это знал. Да и откуда бы им взяться? Веселый и милый Анечкин папа – ядерный физик, инвалид с ограниченной трудоспособностью, схвативший дозу где-то под Арзамасом еще в далекой молодости. И по молодости же, по глупости разругавшийся с серьезными, начальственными людьми по поводу техники безопасности и небрежения к человеческому фактору. Булавинова тут же и отправили лечиться домой в Москву с инвалидностью и волчьим билетом, и заниматься своей физикой он более нигде серьезно не мог. С трудом нашел место преподавателя в вечерней школе рабочей молодежи, малопочтенное и плохо оплачиваемое, да еще плюс мизерная пенсия. Мама Анечки, Юлия Карповна, была обычным участковым врачом из самой обычной районной поликлиники, иначе называемой «дворовой», с неслыханным окладом в сто десять рублей. Про бабушку Абрамовну и говорить нечего. Ее пенсионного довольствия едва-едва хватало ей самой. Да и какая может быть пенсия у детского библиотекаря! Тут уж не захочешь, а придется просить у детей, даже если им самим концы с концами никак не свести. Вдобавок на лекарства сыну, Анечкиному папе, нужны деньги, и не раз и не два, но постоянно. А лекарства от его болезни известно какие, поди их достань! А коли достанешь, так еще сумей столько заплатить. Те же, что положены от государства, ими и кошку не вылечишь от поноса.
Только в семье Булавиновых никто не унывал. Ни мама, ни бабушка, ни Анечка. И, наверное, даже больной папа. Или, по крайней мере, очень мужественно делал вид, что не унывает, а, напротив, очень весел. Хотя, вполне возможно, что и не делал вид. Ну уж Юлия Карповна, тут и к гадалке не ходи, ни за что и никогда не променяла бы своего «шута горохового» даже на самого наипервейшего заграничного миллионера. И Анечка тоже, и бабушка Абрамовна. И все они были семья, одно взаправдашнее целое, которое разделить невозможно и нельзя, Вилка это видел, и любой бы увидел за версту.
Наверное, именно поэтому сама Анечка никогда не чувствовала себя ущербной или несчастливой по отношению к школьным товаркам и подругам. Хотя экипирована она была не то, чтобы плохо, а смело можно сказать, что хуже всех, и никаких таких фирменных и модных штучек у нее отродясь не водилось. Но в классе ее любили. Да и не только в классе. И училась она почти наравне с самыми умными отличниками, по крайней мере, куда лучше Вилки. Дружить с Анечкой хотели многие, а повезло именно Мошкину. Зуле Матвееву, вот, не повезло. А ведь он самый близкий Вилкин приятель, и все время возле Анечки крутится. Аделаидову не повезло тоже, и хорошо, что не повезло. Не хватало еще, чтобы «инопланетянин» оторвал себе такую подружку! Ему бы Ленку Торышеву, кривляку и задаваку, да и то жирно будет. Ведь Ленка, если разобраться, просто дура, и такого наказания вовсе не заслуживает.
Так думал Вилка про себя, а сам уже звонил в Анечкину дверь. И дверь почти тотчас распахнулась, на порог выскочила Анечка собственной персоной, вместо «здрасьте» закричала куда-то вглубь квартиры:
– Па-ап, это Виля пришел! – Анечка потащила его за рукав. – Здорово, что ты так рано! Нам стол из кухни нести нужно, а папе одному тяжело! А бабушка у плиты! А мама – за хлебом!.. Ух-ты, цветы! Мне?.. Давай сюда, а то помнешь!
Через минуту Вилка уже тащил из кухни потрепанную, перечного цвета обеденную «раскладушку», вместе с папой Булавиновым, который советовал Вилке глядеть в оба, и не перепутать, где ножки от стола, а где его собственные длиннющие и худющие конечности. Одним словом, у Булавиновых происходил всегдашний развеселый балаган, участвовать в котором приглашались все желающие, независимо от возраста и принадлежности к этой жизнерадостной семье.
Стол благополучно водворили в проходной комнате, для вящей устойчивости подложив под шаткие ножки куски плотного картона. Анечка на нем тут же и распотрошила Вилкин подарок.
– Ух, какая красотища! И здоровенная! Па-ап, у нас есть твоя большая фотография? – Анечке захотелось найти немедленное применение пластиковому чудовищу.
– А то! Правда, я берег ее себе на памятник, но уж так и быть, пожертвую родной дочери, – папа Булавинов сделал широкий жест рукой.
– На какой памятник? – не поняла Анечка.
– Как это, на какой? Вот залечат меня врачи окончательно…
– Пап, ну перестань! – Анечка зашлась хохотом – Ну я же серьезно!
Вилка засмеялся тоже. К шуткам папы Булавинова он давно привык. Хотя поначалу ему бывало жутко и даже сыпало по телу холодными пупырышками. Он тогда совсем не мог взять в толк, как можно столь страшно и одновременно легкомысленно шутить о таких мрачных и грустных вещах. И однажды напрямую спросил об этом Анечку. И Анечка ему ответила, ясно и немного не по-детски:
– Дурак ты! Думаешь, кому-то легче будет, если ходить серьезными и хмурыми? Мы все знаем, что папа очень болен и может умереть. И я тоже знаю и бабушка. Только глупо делать вид, что никакой такой смерти на свете нет, и боятся ее тоже глупо. А смеяться очень даже можно. Папа говорит, это нужно, потому что тогда она не поймет, в чем дело, и вдруг, долго не придет. Вот!
– Но на самом деле, вам же невесело? Ведь, правда? – не поверил своим ушам Вилка.
– Почему невесело? Весело. Смеяться всегда весело. Грустно будет, когда папа и вправду от нас уйдет. Да это же не навсегда!
– Как так? – не понял тогда Вилка.
– Как, как? Так! Ты думаешь, что помер ты и все? Нет, на самом деле… – и Анечка поведала Вилке какую-то очень длинную и путанную теорию, из коей Вилка запомнил только слова: «Сократ», «идеи Платона» и «сверхчувственное». Без сомнения, Анечка была куда умнее его. Хотя Вилка подозревал: девочка едва ли понимала и половину из того, что так убедительно ему пересказывала.
– Ты что же, в бога веришь? – на всякий случай спросил Вилка. Нелепый, мифический боженька из пионерских страшилок мало сочетался в его сознании с великолепной уверенностью в том, что земной шар был нарочно заселен космической сверхцивилизацией в виду глобального научного эксперимента.
– И верю! – запальчиво ответила тогда Аня Булавинова – И папа верит. И все у них в этом дурацком Арзамасе верили. Мне папа рассказывал. А там, между прочим, кругом одни ученые и инженеры. Они-то знают, что к чему.
После того разговора Вилка в невидимого бога, конечно, не уверовал, но шутки папы Булавинова коробить его перестали. А со временем он вдруг обнаружил, что хохочет над ними вместе с остальным Анечкиным семейством. Смеяться над смертью оказалось совсем не страшно. Тем более, когда ты делаешь это не один.
После доставки стола к месту назначения Вилка еще носил тарелки и миски с хлебом и салатом, Анечка тем временем раскладывала приборы. Угощение, хоть и небогатое, выглядело обильным и аппетитным. Оливье с преобладающей в нем картошкой, тертая с майонезом свекла, жаренная в самодельных сухарях холодная рыба хек. И морс из яблочного варенья. Наверняка, будет и праздничный торт, Вилка мельком разглядел коробку в приоткрытом холодильнике.
Пришли и гости. Ленка с Олесей, а за ними и Зуля с Ромкой Ремезовым, классным старостой. Потом еще и еще. В итоге набралось аж десять человек. Сидели на стульях, на Анечкином раскладном диванчике и на табуретках. Только на кровати бабушки Абрамовны, застеленной белым, вышитым крестиком покрывалом, не сидел никто. Впрочем, кровать на всякий случай задвинули подальше в угол к старенькому телевизору «Рекорд». Последним явился с опозданием «инопланетянин». И Вилка уже по одному его приходу понял, что неприятности начались.
Аделаидов прибыл на папиной «Волге», и водитель Сережа довел «инопланетянина» до самых дверей. Чем уж Борька застращал или подкупил Сережу, который терпеть не мог нахального барчука, неизвестно, однако, он все же довел Борьку до Анечкиной квартиры… И передал у порога Борьке букет из палевого цвета роз, который, видимо, покорно нес за ним наверх по лестнице. Розовых бутонов было целых пять, в умопомрачительной упаковке и с веточками пушистого папоротника посредине. Вилка мог себе представить, сколько «тянул» такой букет. По полтора рубля за штуку, никак не меньше, да еще бумага и «ботва». Его собственная мимозно-нарциссная композиция выглядела просто убогим мусором по сравнению с такой роскошью. Утешило Вилку лишь то обстоятельство, что великолепный Борькин букет Анечкина мама впихнула в обычную трехлитровую банку из-под огурцов, а Вилкино скромное подношение стояло в самой лучшей Булавиновской вазе, разукрашенной видами Пятигорска. Да еще папа Булавинов с шутовской почтительностью при всех раскланялся с Аделаидовским розарием. Вилка нарочито громко рассмеялся, а Аделаидов злобно сжал губы, так что змеиный рот его превратился на мгновение в судорожную, мертвенно бледную полоску. Вилке это обстоятельство не понравилось совсем. Однако, напротив, очень понравилось то, что подарок «инопланетянина» Аня открывать не стала, несмотря на блестящую заманчивость коробки, а просто отнесла в соседнюю комнату.
Пока все ели, за столом ничего особенного не происходило. Обычный день рождения, хоть и первого апреля. Юлия Карповна уже несла с кухни бисквитный в розочках торт, украшенный двенадцатью коротенькими свечками. Торт приговорили быстро, и, поскольку время было ранее, всего лишь четыре часа пополудни, а погода стояла сухая и солнечная, вся сытая и довольная гоп-компания высыпала на двор. Побегать и пошуметь. Тут-то гадость, терпеливо ожидавшая своего часа, и позволила себе случиться.
Для начала, чтобы разогреться, стали играть в догонялки возле гаражей. Минут пятнадцать играли мирно, пока Вилка не «засалил» Аделаидова. Что, кстати, было далеко не просто: «инопланетянин» славился скоростью и увертливость, а Вилка – неуклюжестью и медлительностью реакции. Но выручили длинные руки. «Инопланетянин», однако, никакого неудовольствия не выразил, а тут же погнался за Аней. И только за ней одной, словно позабыв об остальных играющих. Анечка очень скоро дала себя поймать, чтоб Борька отстал и чтоб другие тоже смогли побегать. Но Борька, догнав и схватив девочку за руку, не отстал. Крепко сжав Анечкино запястье, он громко сказал, чтоб услышали все:
– Не отпущу, пока не поцелуешь. Три раза, – сказал и вытянул губы дудочкой.
Возмущенная Анечка рывком выдернула руку, отступила на шаг. Вилка и Ромка Ремезов тут же двинулись на Аделаидова, за их спинами остальные гости шумно стали высказывали пожелания:
– Врежьте ему раза!.. Вилка, леща навесь на ухо! – это Зуля и Мишка Кардиганов.
– Вот же козел! Да Анька скорее дохлую кошку поцелует, чем тебя! – это негодовали Ленка и Олеся.
Но навешать «инопланетянину», однако, ни Ромка, ни Вилка не успели. Аделаидов вновь открыл поганый рот:
– Анька, что же, тебе и собственного папашу не жалко? Я думал, ты его любишь! – вдруг ни к селу, ни к городу заявил он.
– При чем тут папа? – лицо у Анечки из гневного стало внезапно растерянным и испуганным. Вилка и Ромка Ремезов тоже остановили свое стремительное движение к подлецу Аделаидову.
– А при том. Твоему предку может счастье скоро привалит необыкновенное. Мой папашка обещался. К себе в институт его возьмет. Там и денежки хорошие башляют, и лечить будут. А все почему? Потому что я попросил. Только рассказать не успел. Я такой! Что у папашки ни попрошу, ни в чем отказа нет. Побаивается он меня, из-за мачехи, – голос у Борьки сделался глубоким и зазвучал гордо. – Так что, теперь поцелуешь? А то обижусь и обратно отговорю, а?
Вилка чувствовал, что впервые в жизни готов убить. Тотчас и своими руками. За Анечку, за папу Булавинова, за свою любовь, которую сейчас обдали помоями. Он сжал кулаки и шагнул к Борьке. И в ужасе остановился. Анечка смотрела на Аделаидова странным взглядом. В нем одновременно читались радость, недоверие, трепетная надежда и отвращение. Она шагнула к Аделаидову. Все вокруг молчали.
– Это взаправду? Ну, то, что ты сказал? – дрожащим голосом спросила Анечка, чуть ли не просительно заглядывая Борьке в глаза.
– Правда, правда, не сомневайся. Очень мне надо врать за пару поцелуйчиков. Вот когда твой папашка все получит, тогда ты меня с ног до головы обцелуешь! – Аделаидов наглел прямо на глазах. – И ездить со мной на машине будешь, и по школе ходить, и в кино! Будешь?
У Анечки сделался такой вид, что она вот-вот согласится, как только до конца уверится, что Борька не лжет. А Борька скорей всего не врал. Что ему стоило уговорить своего академика и получить затем на веки вечные благодарную, на все согласную рабыню! За спиной у Вилки раздался шепот, потом другой: «А вдруг он поможет!», «А вдруг правда!». «Анька, дура, соглашайся, а то передумает!» – это крикнула писклявая Кирка Горбунова, трусиха и отличница. Анечка еще раздумывала.
– Давай, давай, лиха беда начало! – подбодрил ее Аделаидов.
И тут случилось. Вилка, конечно, не выдержал. Кинулся на «инопланетянина» с кулаками. Они покатились по земле, нещадно мутузя друг друга и крича самые грязные уличные ругательства, какие знали. Ребята их не разнимали, только смотрели. Никто не решался прийти на помощь той или другой сражающейся стороне. И Вилка победил, заборол злодея Аделаидова. Расквасил «инопланетянину» в кровь нос и губы, и теперь сидел на нем верхом и макал физиономией в грязную от недавно стаявшего снега клумбу и кричал: «Будешь еще, гад, будешь?». Пока Зуля и Ромка его не оттащили.
Аделаидов немедленно вскочил, утер рукой лицо, развезя во все стороны грязь и кровь. И завизжал жутко, отплевываясь:
– Ну, все, сволочь! Все! Хотел как лучше, но теперь все! Своего дружка благодари, нищенка сраная! Сдохнет твой никчемный папашка в больничном коридоре, на помойке, скажешь тогда своему придурку спасибо! – Борька еще кричал какие-то совсем уже грязные слова, но Вилим Александрович Мошкин их уже не слышал.
В голове у Вилки взорвалось. Страшная ненависть захлестывала его однажды, но она не имела ничего общего с тем ужасающим ураганным чувством, которое захватило его вдруг целиком. И опять перед ним была стена и боль, но ни то, ни другое не могло ныне его остановить. Стена прогибалась и делалась все тоньше под ударами вихрей его чувств, боль становилась все невыносимей, но Вилке было плевать. С мысленным криком: «Чтоб тебе сдохнуть, тварь, сейчас, немедленно, сдохнуть!» – Вилка головой вперед пробился сквозь стену. Боль сделалась непереносимой совершенно, а вместо стены перед ним в пустоте выл бешено закручивавшийся в воронку поток абсолютного, невообразимого в природе черного цвета. Вилка крикнул снова, то же самое свое пожелание. И едва оно отзвучало, как вихрь рассыпался в угольную пыль, и резкая, на грани шока боль пронзила голову от уха до уха. Вилка упал ничком.
Голова болела страшно, и встать он не мог. Видел только ноги убегающего в сторону дороги и кричащего что-то гнусное Аделаидова, и еще видел плачущее Анечкино лицо, склоненное над ним. Вилке сквозь рвущую муку подумалось, что Анечка, конечно, теперь до конца жизни возненавидит его и проклянет, но вместо этого услышал на пределе ускользающего сознания: «Спасибо! Спасибо, тебе, бедный ты мой Вилечка!» – и еще горький, протяжный всхлип.
Аделаидов, задыхаясь от злобы и унижения, тем временем уже добежал до дороги. Теперь ему надо было перебраться на другую ее сторону к телефону-автомату и позвонить отцу, чтоб прислал за ним машину и вообще. И Борька бросился через неширокое шоссе. Перед автобусом, так некстати затормозившем у остановки. Но Борька плевать хотел на правила движения. Отныне любые правила не для него, да и дорога совершенно пуста. Главное, быстрее к телефону, и он еще покажет и этому выродку Мошкину, и его подружке, и подружкиному папашке, где именно в этом году зимовали раки.
Он одним прыжком миновал морду рейсового автобуса, и побежал было дальше по размеченному асфальту, как вдруг из-за железной, пыхтящей туши общественного перевозчика вылетел тяжелый мотоцикл «Днепр». Молодой паренек, управлявший своим ревущим любимцем, вообще ни на что среагировать не успел. В долю секунды Аделаидов оказался висящим на передней фаре и лобовом стекле «Днепра», а мотоцикл стремительно заносило в сторону. Парнишка не сообразил отпустить газ, и справиться с управлением тоже не сумел. «Днепр» на полном ходу, вместе с распластанным на его передке Борькой, врезался в росшее у обочины дерево.
К тому времени, как примчалась скорая помощь, спасать, собственно говоря, было некого. У мотоциклиста оказалась сломанной шея, он умер мгновенно. Борька, раздавленный почти в кашу, с переломанными ногами и позвоночником, с разорванной печенью, прожил еще целую минуту.
Уровень 5. Первая тень василиска
Когда Вилку внесли, втащили на руках в Анечкину квартиру, он все еще был очень плох. Не мог ни сесть, ни встать и говорить толком тоже ничего не мог. Голова болела страшно и тупо, глаза отказывались смотреть на окружающий мир. Вилку положили в дальнюю комнату на кровать, рядом с так и нераспечатанными подарками. Над ним хлопотали Юлия Карповна и бабушка Абрамовна. Вилке натирали виски вонючим яблочным уксусом, совали под нос нашатырь. Юлия Карповна капала в рюмку валериановых капель, но Вилка был не в состоянии хоть что-то проглотить. Он не видел, не чувствовал, вообще не жил, полумертвый от боли. Только слышал. Но лучше бы и этого не было.
Где-то поблизости от него Анечка взахлеб, пополам со слезами, пересказывала папе Булавинову события, произошедшие во дворе. Чистую правду о драке, о приставаниях Аделаидова и произнесенных им гадостях. Только об обещании академика, данном им сыну, Анечка не сказала ничего. Может быть, не хотела расстраивать отца, а может, просто не поверила «инопланетянину». Никто из ребят, стоявших рядом, и слышавших Анечкин рассказ, тоже ничего не сказал об этом.
Однако, совсем, совсем другие слова пробились через Вилкину боль. Когда папа Булавинов спросил у дочери, что же, собственно, такое приключилось с Вилей. На последствия драки что-то непохоже. И тогда Анечка припомнила, что так уже было однажды и тоже из-за Борьки, и Виле стало плохо, видимо от нервов. А потом Вилка услышал главное:
– Пап, как же ты не понимаешь? Ведь все это с Вилей опять из-за меня. Мне его так жалко, ты не представляешь! Он, как больной котенок, которого никто не берет! Вот! – Анечка заплакала сильней.
– Аня, девочка моя, ты очень ошибаешься. Очень сильно и очень опасно ошибаешься. Виля не твой котенок. Хотя бы потому что, он человек. И ему может быть обидно, – папа Булавинов говорил совсем не строго, только печально и как-то отстраненно. – Доченька, ты причиняешь вред и ему, и себе, когда думаешь так. Поверь мне, я знаю.
– Папа, ну я же тебе говорю! Вилка, он же пропадет без меня. Он хороший и добрый, совсем как ты. О нем заботиться надо непременно.
– Но не как о котенке! Аня, пойми меня правильно.
– Я по-другому не умею! Он для меня – так, а не так! – всхлипнула Анечка. Как «так», она объяснять не стала или просто не нашла подходящих слов. Но все поняли ее и без них.
– Жаль. Жаль вас обоих, – ответил папа Булавинов, и тоже не стал объяснять, почему ему жаль.
А Вилка не желал уже никаких объяснений. Он слышал достаточно и даже более чем. Достаточно настолько, что теперь не мог понять, что же болит у него сильнее: сердце или голова. И то и другое причиняло одновременно невыносимые мучения. И все же он был уверен, что сердце его пострадало непоправимо, оттого, что головные страдания, как ни крути, пройдут, а в груди отныне будет больно всегда.
Скоро за Вилкой на такси примчалась мама, как ни странно, вдвоем с Барсуковым, который, видимо, счел происшествие с пасынком подходящим для примирения. Они и увезли Вилку домой. Вслед за ними разошлись и все оставшиеся гости. О несчастье, приключившимся с Борькой, семья Булавиновых узнала только уже часа полтора спустя. От любопытной, словоохотливой соседки. А поздно вечером сам академик позвонил в дверь скромной квартирки, съежившийся и робкий от несмываемого горя. И папа Булавинов поведал ему целую повесть, не заключавшую в себе ни единого слова правды. Ведь не мог же он произнести вслух перед этим, просительно заглядывавшим в глаза, раскатанным в блин человеком, отцом единственного своего уже мертвого сына, слова о том, что страшно погибший его покойный мальчик был мерзостью и подонком, мучавшим людей для собственного удовольствия! Нет, папа Булавинов этого не мог. И так возникло мороженное, которое предполагалось купить на карманные деньги для всей компании, и радостный бег, скорее, скорее выполнить задуманное. И не успели остановить, и не ждали беды, оттого никто из детей сразу не хватился. И на свет явился счастливый, щедрый и добрый паренек, так и не успевший добежать до «мороженного» киоска. Папа Булавинов знал, что его повесть останется в неприкосновенности до конца дней, что никто из ребят, узнав о Борькиной смерти, не внесет в нее ненужных дополнений и корректив. Знал, потому что научился отличать к этому времени своей жизни хороших людей от иных, даже если эти люди еще очень юны и малы. И болтушка Лена Торышева, подруга дочери, тоже не скажет лишнего, он был уверен. Разве что история в ее устах обрастет новыми, очень положительными и захватывающими сказочными подробностями.
Вилка о смерти инопланетянина узнал последним. Он тяжко и непростительно для самого себя долго болел после случая во дворе, и никто не решался донести до него печальные вести. Анечка навещала Вилку чуть ли не через день. Приходили Ромка и Лена и остальные свидетели и соучастники злополучных первоапрельских событий. Чаще всех заглядывал Зуля. Так часто, будто собрался поселиться в квартире Мошкиных. Но Вилкина мама была ему рада, ей казалось, что Зуля положительно влияет на лечение.
Хотя ничем особенным Вилку не лечили. Давали бром и почему-то глюконат кальция, а больше ничего. Врачи говорили, что подростковый период и все пройдет само.
О смерти Аделаидова ему никто не рассказывал. Видимо, опасались нового приступа болезни. Зуля, тот и вовсе говорил мало, а больше молча сидел на полу рядом с Вилкиной кроватью и также молча решал напечатанные в журналах шахматные задачи. Зачем он ходил к Мошкиным, будто взрослый на работу, с постоянством и достойным похвал прилежанием, Вилке было совершенно неясно.
О гибели «инопланетянина» Вилка узнал, только вернувшись в школу. В первый же день и в странной, нереальной редакции. Но опротестовывать версию одноклассников Вилка не стал. Ему было все равно, как умер Аделаидов, как подлец или как герой. Его мучили две другие вещи.
Первая непосредственно касалась Ани Булавиновой. Своих отношений с девочкой Вилка никак внешне не изменил, только перестал надеяться и хоть чего-то ждать. Но Анечка в отличие от него ничего и не ждала, и, оттого ничего и не заметила. А то, что пережил Вилка, касалось исключительно его одного. Свое разочарование и свою муку из-за пустых надежд Вилка не выразил вслух, а попросту отвел горестным новоселам приличный угол в самом себе и стал так жить. К тому же, никто не запрещал ему по-прежнему обожать Анечку. Это вообще невозможно было запретить. А, значит, Вилка остался при своих.
Другая вещь, не дававшая покоя, заключалась в самом факте внезапной Борькиной смерти. Логичное, рациональное Вилкино начало доказательно и твердо отгоняло прочь подозрения в непосредственной причастности его к гибели Аделаидова. Ссора и последовавшая за ней драка – это одно дело, а несчастный случай на проезжей части – совершенно другое. В момент аварии Вилка вообще валялся в отключке, потеряв сознание от боли. Единственное, в чем он мог бы себя винить, – мысленно обосновывал Вилка, – так только в том, что не подерись он с Борькой во дворе, тот не бросился бы бежать к дороге. Поэтому если он, Вилка, и считает себя причиной несчастья, то причиной случайной и невольной и оттого ненаказуемой столь жестокими угрызениями совести.
Так думал он днем. И дневная жизнь его протекала в относительном покое. Но ночь диктовала иные правила игры, не имевшие ничего общего с разумными дневными доказательствами, ибо законы ночи были иррациональны и пугающе потусторонни. В кошмарах ночных снов, пусть редких, но до ужаса одинаковых, присутствовал лишь один сюжет. Он, Вилим Мошкин, вознесенный, будто памятник Гагарину на алюминиевой стреле, с протянутой по-ленински рукой, грозный и полуукутанный туманом, возвышается над крошечным и дрожащим в каплях дождя Борькой. И звучат слова, переходящие в крик: «Сдохни! Сдохни, поганый выродок!» – и тут же по непоправимому приказу его руки на Борьку мчится огромный, с дом, мотоцикл, и несчастный, маленький Аделаидов удирает со всех ног и не может удрать. Мотоциклетка, страшная и ревущая колесница, нагоняет его и тут же расплющивает, наматывает на гигантское колесо. А Вилка с протянутой рукой, будто Зевс Громовержец, радостно и жутко хохочет, но тут же понимает, что вовсе ему не весело, и тот, кто хохочет, уже совсем не он, а какой-то другой Вилка, на которого он смотрит со стороны, захлебываясь от накатившей волны ужаса. Тут Вилка обычно просыпался, в поту и с бешено колотящимся сердцем, садился в кровати и глубоко, старательно дышал. Иногда от этого приема ему становилось легче, и Вилка ложился и спал далее, иногда же мучился без сна до утра, перебирая в голове всю коллекцию спасительных, логичных доводов, чтобы унять собственные страхи.
Но, как бы то ни было, все же Вилка был современным ребенком, пионером и атеистом, и в мракобесие не верил. А, значит, не допускал существование сглаза, наведенной порчи и иной черной магии, и потому запрещал себе думать о том, что Борькина смерть имела некую сверхъестественную причину. Ну, в самом деле, была бы у Вилки такая власть над чужой жизнью, разве бы он не знал об этом? Или, к примеру, стал бы терпеть Борькины выходки столько времени? Взял бы и изгнал негодяя с глаз долой. Или выколдовал бы, чтоб Анечка в него безумно влюбилась. Да уж куда там! Он, Вилка, себе и «четверку» по русскому языку наворожить не в состоянии – часами мучается дома с правописанием. А кошмары, что ж! Все же Вилка ненавидел покойного «инопланетянина», и не раз сулил ему черта. Вот теперь Аделаидов взял и помер, а Вилка то жив-здоров, только мучают сны, и то нечасто. И по сравнению с Борькой, дела его очень даже хороши. Кошмарами страдать – не в гробу лежать. Так что, бог с ними, с кошмарами. Приснятся и забудутся.
Однажды, в конце мая и учебного года, Аня, таинственно приложив пальчик к губам, на большой перемене потащила Вилку в дальний конец школьного двора и там рассказала нелепую и «страшную» тайну. Оказывается, Борька не соврал. Оказывается, он действительно перед своей гибелью просил отца-академика за папу Булавинова. И вот, академик вспомнил о просьбе покойного сына. И приглашает папу Булавинова к себе. Не к себе, а к СЕБЕ. Непосредственно, в ученые секретари. С окладом и перспективой написания диссертации, а также плюс ведомственная поликлиника и заграничные командировки вместе с новым шефом.
– Здорово! Вот, здорово! – Вилка так громко завопил в ответ на доверенный ему секрет, что Анечке пришлось сердито одернуть его за рукав куртки.
– Не ори! Чему ты радуешься? Папа-то не согласился!
– Как это, не согласился? – опешил от неожиданности Вилка.
– Так. «Не согласился» значит отказался. Наотрез. Совсем. Понимаешь? – Анечка пристально и значительно посмотрела Вилке в лицо.
– Ой! А как же..? Не понимаю… Ведь папа твой болен, и он так хотел быть снова ученым? А как же..? – Вилка совсем обалдел от такого поворота событий.
– Как, как? Вот так. Заладил, как попугай. Он думает, что мой папа его сыночка чуть что не обожал и это обожание между ними было взаимным. Папа, бедный, сдуру тогда академику лапши навешал про Борьку, мол, он такой-сякой, прямо ангел небесный. Пожалел старика, а тот поверил, тем более Борька за нас просил. Теперь совсем у академика крыша съехала, хочет нас отблагодарить. В память о сыне. Дескать, Боренька так вашу семью любил, особенно Анечку. А Борька у нас до того дня сроду не был, и отца моего в глаза не видел. Не знаю, чего он там академику наплел. А тот старенький, говорит, детей у него уже никогда не будет, и с молодой женой чего-то там у него нелады. И вот он хочет, чтоб мы стали вроде его семьи. Представляешь, так прямо папе и сказал. Совсем с ума сошел, да?
– Вот бедняга! В смысле академик. Он же не знает ничего. Но папа-то твой зачем отказался? Все равно не понимаю, – упрямо повторил Вилка.
– Ты что, нарочно? Я думала ты умный, а ты прямо дурак какой-то. Вот! Это же нечестно. Если папа согласится, то ему придется старику врать, может, до конца жизни.
– Ну и что? Если от вранья всем хорошо будет, то, что ж такого? – не понял Вилка.
– Папе не будет хорошо. И академику не будет тоже. Папа говорит, он все равно рано или поздно поймет, что его обманывают, и станет страдать, а правду не узнает, – грустно сказала Анечка.
– И пусть. Главное, твоего отца вылечат, и у него появится настоящая работа. Хоть какая-то польза от Борьки будет, хоть он и другого желал, – Вилка сказал и сам испугался своим словам. Нехорошо они прозвучали, словно отголоски ночных видений. И Вилка пожалел о сказанном:
– Я не хотел. Прости.
– Да ничего. Я тоже так сначала подумала. А потом поняла: папа прав, нам это не нужно. Лгать за тарелку супа. Противно это, да?
– Наверно. Да. Мне бы было противно. Но как же вы теперь? – сочувственно спросил Вилка.
– Будем жить, как жили. Разве мы плохо жили? – у Анечки получилось неуверенно и робко.
– Замечательно жили. Всем бы так, – заверил ее Вилка. – Ну, ничего. Пусть твой папа еще совсем немного потерпит, а там мы вырастем. Мы же уже скоро вырастем. И мы его вылечим. И найдем ему работу… А знаешь что? Мы с тобой станем лучшими на свете физиками, или, уж ладно, на худой конец, математиками, и он нам будет помогать! Вот! Здорово я придумал?
– Ага! – Анечка тут же повеселела. – И еще купим ему машину. Он всегда мечтал водить автомобиль, маленький и быстрый.
– Мы ему купим. Только большой. «Волгу», как у академика. Или еще что-нибудь в этом роде, – постановил Вилка. Анечка с ним не спорила.
Папа Булавинов действительно отказался. Но в семье все равно произошли перемены. Внимание академика к опальному ученому словно сняло висевшее над семьей проклятье. Объявились нежданно-негаданно какие-то старые друзья, еще по физтеху, о которых до сей поры не было ни слуху, ни духу. Поохали для порядку над бедственным положением Булавиновых, как будто до этого времени не имели о нем ни малейшего понятия. И предложили. Неплохое место в филиале ФИАНА, пока младшего научного сотрудника, но в перспективной, «закрытой» теме и с приличным жалованием. Перспективной теме, однако, требовалась моральная и материальная поддержка, чтоб не прикрыли до получения нужного результата и чтоб не обошли конкуренты. Понимая, что Булавинов никого и ни о чем просить не станет, взяли того к себе и тактично довели информацию о смелом поступке до академика. Старик Аделаидов, и без того огорченный и без притворства тронутый благородным отказом папы Булавинова, ради хорошего дела дал втравить себя в интригу. Но и намекнул, что без Булавинова старые его друзья и черствой корки от него не увидят. Так Анечкин папа нашел новую работу. И быстро пошел в гору. И не только благодаря тайному покровительству академика. Что-что, а голова у него на плечах была светлая, дай бог каждому.
До самого восьмого класса больше в Вилкиной жизни ничего примечательного не происходило. Вернее, происходило много чего, но то были обычные, ничем особенным не удивительные происшествия.
Как и раньше, с раз и навсегда определенным постоянством, являлась с жалобами на Геннадия Петровича добравшая к этому времени солидности и дородности Танечка. И, как и раньше, мама с Вилкой ей сочувствовали и утешали. Правда, загулы у Геннадия Петровича случались уже не столь искрометные и стремительные, а будто бы в дань уважения славному боевому прошлому, и от младшего Вербицкого уже не пахло дешевыми духами, но только лишь дорогим коньяком. Танечка боролась теперь не против неведомых галантерейных продавщиц и путевых обходчиц, а против дружков-преферансистов, среди коих имелся и один известный милицейский генерал. Он-то, по Танечкиным словам и являлся главным заводилой посиделок и выездов «на охоту». А у Гены давление и лишний вес, и не в порядке печень. Словом, Танечка уже не переживала о том, вернется ли ее благоверный в родное гнездо, привыкла, что возвращался всегда. Боялась лишь инфарктов и сосудистых неприятностей, как бы не дошло дело до больницы. В общем, берегла личную собственность. Но по привычке плакала у подруги на плече. Не дай бог, что с Геночкой, и ее съедят, как пить дать. Отстранят от многих благ. Вербицкие-старшие уже в преклонных годах, надолго ли их хватит? А что потом? А она уж привыкла. Вилкина мама ей сочувствовала без злорадства. Понимала, что из грязи в князи выбиться нелегко, зато обратно упасть – это невыносимо и иногда смертельно. Но и утешала. Гена, он еще молодой и, хотя бы ради Катюшки, в которой души не чает, непременно возьмется за ум и станет следить за здоровьем. Вилка тоже усиленно поддакивал, видя, что Танечка ждет слов и от него. Геннадий же Петрович был ему симпатичен. А маленькую Катюшку, которая на будущий год уже собиралась в школу, он бы не отказался иметь в сестричках. Впрочем, примерно так он и относился к Танечкиной дочери.
Барсуков, единственная оставшаяся досадная муха в его жизни, постепенно поутих и присмирел. Оттого, что собственными силами, понимай: подковерными кознями, добился, наконец, улучшения в своем положении. И что было для него особенно лестно, без всякой помощи Геннадия Петровича. Продвинулся по партийной линии в освобожденные секретари и очень гордился поездками в райком и неудобоваримыми долгими речами с трибуны. В общем, сделал нормальную карьеру пронырливого и не очень вредного глиста средней руки. Вот только бы он перестал маяться дурью и прекратил домашние репетиции своих ответственных, занудных выступлений. Прочитать по бумажке, великое ли дело? Так нет, ораторствовал перед Вилкой и мамой, усаженными им в ряд на диване, отрабатывал «нужные акценты» и паузы. Вилка, дабы сохранить с Викентием Родионовичем мирные отношения, терпел эту муку, важно кивал головой и таращил глаза. Чтобы не терять время попусту, повторял про себя таблицы логарифмов, которые на спор с Зулей взялся выучить наизусть, поставив на кон новенький заграничный калькулятор «CASIO» против Зулиных кварцевых часов «Электроника».
Как-то само собой так случилось, что после отбытия в мир иной «инопланетянина» у Вилки Мошкина и шахматиста Матвеева сложилось нечто вроде близкой дружбы. По крайней мере, отношения их уже нельзя было назвать просто приятельскими. Но имелись и странности. Никаких глубоких общих тем и занятий у них не обнаружилось, не возникали и страшные секреты, как водится часто между закадычными школьными друзьями. Они вообще не откровенничали друг с другом. Но Зуля все так же приходил в дом к Мошкиным, по нескольку раз на неделе, Вилка же к Матвеевым не ходил никогда. Не то, чтобы его не звали или не желали видеть. Нет, ему просто было неинтересно. Зуля приходил и сидел, иногда оставался на обед. Делал вместе с Вилкой уроки, а если день был выходной, всегда сопровождал Вилку в гости к Булавиновым, где тоже просто сидел, уткнувшись все в те же бесконечные шахматные задачи, и не вмешивался в их с Анечкой дела и разговоры. В доме Булавиновых к Зуле скоро привыкли и считали за своего. Только папа Булавинов временами смотрел на Зулю как-то странно и будто бы вопросительно, и еще, как однажды показалось Вилке, с некоторой тревогой. По крайней мере, на него, Вилку, Анин папа никогда ни разу так не посмотрел.
Однажды, не со зла, а просто любопытства ради, Вилка спросил приятеля, зачем он столь настойчиво таскается с ним в дом к Булавиновым. Ответ Зули его поразил:
– Да ни за чем. Так просто. Наблюдаю, – коротко ответил Матвеев.
– За кем наблюдаешь? – не понял его Вилка. В голову ему внезапно пришло, что Зуле так же, как и ему самому, может нравиться Анечка, почему бы и нет. – За Аней, что ли, следишь?
– Зачем за Аней? – непритворно удивился Матвеев. – За тобой, конечно.
– Я думал, за Аней, – только и нашелся, что сказать Вилка. Непонятный ответ Матвеева поразил его до глубины души. – Я подумал, она тебе нравится.
– Да, она ничего, – вяло подтвердил Зуля, но тут, видимо, сообразил, что Вилка имел в виду нечто совсем иное. – А, в этом смысле. Не беспокойся, не нравится. В этом смысле мне Ленка Торышева нравится, только от нее шума много.
Для Вилки это было неожиданной новостью. Зуля, конечно, вечно болтал на переменках с девчонками, и вообще околачивался вокруг них постоянно, они даже перестали его стесняться. Но чтобы он имел какой-нибудь к ним интерес, кроме легкомысленного трепа, Вилке даже в голову не приходило. А оказывается, ему нравится болтушка Торышева.
– Не волнуйся, я никому не скажу, – на всякий случай заверил он Зулю.
– Да говори, на здоровье. Она знает. А стало быть, и все знают. К тому же я ей тоже нравлюсь, она сама сказала. Только у меня сейчас нет времени на глупости. У меня первенство по шахматам, и вообще, в этом году экзамены.
Нет времени на глупости. А таскаться за Вилкой как тень без всякой нужды у него есть время. И все вместо того, чтобы проводить это время с приглянувшейся девочкой. К тому же он нравится своей Ленке, счастливец. Чего про Вилку в этом отношении никак не скажешь. И Вилка пришел к выводу, что никогда ему не понять ни Зулю, ни его туманных речей, ни смысла его поступков.
Однажды, болтая с Анечкой по телефону, он поведал ей о странностях приятеля. Но Анечку они не впечатлили.
– Ну и что. Подумаешь! Может он имел в виду совсем другое. Наблюдает, в смысле следит за тобой, как бы чего не вышло. Он же твой друг все-таки, – объяснение Анечки было возможным, и оттого обидным.
– Нечего ему за мной следить. За ним бы самим кто последил. Растеряха несчастный. На прошлой неделе уже третью шапку посеял. Обормот.
– Не ругайся, Зуля хороший. Но у него в голове все очень сложно устроено. У нас с тобой, к примеру, просто и ясно, а у него сложно. Может, оттого что он совсем на своих шахматах свихнулся, – предположила Анечка.
– Уж это точно. Прямо Гарри Каспаров. Только, иногда мне кажется, что и шахматы ему по барабану, – сказал Вилка и сам поразился своему внутреннему предчувствию некоей неясной пока правдивости вывода.
– Очень может быть. В профессиональные шахматисты Зуля во всяком случае не собирается, – подтвердила его слова Анечка.
Сама Анечка за эти три года изменилась в главном лишь внешне. Стала уж совсем невозможно красивой, по крайней мере, для Вилки. Серые глаза ее, и без того огромные, теперь, казалось, занимали пол-лица, само же личико потеряло детскую пухлость и напоминало формой чуть вытянутое сердечко. Хорошо, прическа осталась по-привычному прежней, короткой и пышной. И ростом она сделалась немногим ниже Вилки, хотя им обоим предстояло еще расти, а в Вилке и так уже был полноценный метр восемьдесят.
В доме у Булавиновых тоже наблюдались явные перемены и улучшения. Папа Булавинов, несмотря на то, что по-прежнему был болен, переносил недуги теперь не столь тяжко и больничные брал редко и ненадолго. Поликлиника досталась ему пусть не из лучших ведомственных лечебниц, но все же неплохая. Там его лечили всерьез, а с лекарствами существенно подсоблял академик, на этот раз не пожелавший выслушать никаких возражений. И привозил швейцарские диковинки и французские витамины. Папе Булавинову пришлось смириться и принять, совсем обижать одинокого старика он не хотел.
А на столе в Анечкином семействе давно уж была не только почти одна голая картошка с тертой свеклой. Некий стабильный материальный достаток ощущался, прежде всего, именно в ежедневном меню. Случались и деликатесы, которые изредка приносил из институтского буфета папа Булавинов, чтобы порадовать своих совсем не избалованных в еде близких. Бывали на обед и молочные, свежайшие сосиски, и дефицитная гречневая крупа, а в праздничные дни, когда буфет расщедривался на заказы, на стол подавался и кусок балыка, и финская колбаса салями. И ничего этого Булавиновы не припрятывали и не утаивали от гостей. Как в бедственные времена, сколько бы народу ни пришло к обеду, что имелось в доме, то делилось на всех. Будь то тощий суп из одних костей и кусок самодельного, из остатков, холодца, или, как ныне, голландский, в мелкую дырочку, сыр и благоухающая «полукопченая». Которую, кстати сказать, их Барсуков считал на кусочки, сам нарезал и сам выдавал, гостям же ни-ни, хотя тащил из буфетов во много раз поболее недобычливого папы Булавинова.
Перед Новым Годом Булавиновых и вовсе ожидал настоящий праздник. Папа Булавинов и Вилка приготовили сюрприз. По секрету от женщин. Купили в рассрочку, на премию, цветной телевизор. То есть, купил, конечно, папа Булавинов, и премия была его. Но и без Вилкиной помощи не обошлось. Вместе с Анечкиным папой Вилка ездил и выбирал агрегат, советовался со знающими людьми, отмечался после школы в очереди. Вилка же и грузил новенький «Рубин» в багажник нанятого за пять рублей левака. Папе Булавинову такую тяжесть было не поднять, а Вилка, несмотря на стойкую худобу, для восьмиклассника был весьма жилист и силен. Оттого магазинных носильщиков, сшибавших рубли, к драгоценной коробке он не допустил. Невзирая на возражения папы Булавинова, грузил телевизор сам.
На летнее время семья Булавиновых по распределению получила три полноценные путевки в хороший подмосковный дом отдыха, недалеко от Истринского водохранилища. Вилка и Анечка к тому моменту благополучно сдали экзамены, страшно волновались до, и смеялись над собственными страхами после. У Анечки результаты были чуть лучше, у Вилки чуть хуже, подвело проклятое сочинение, но в целом отстрелялись неплохо. И вот настало время заслуженного летнего отдыха.
Уровень 6. Вторая тень василиска
Целых две недели каникул Вилка с бабушкой Аглаей Семеновной должны были провести в братской Прибалтике и не где-нибудь, а в жутко престижной Юрмале, в ЦКовском санатории. То был подарок Танечки и Геннадия Петровича младшему Мошкину за первый полученный в его жизни аттестат. Вилкина мама поехать с сыном никак не могла. Нынешним июлем ей предстояло принимать вступительные экзамены у прибывающих с разных концов света абитуриентов, всех мыслимых оттенков кожи и самых экзотических наречий и вероисповеданий. Барсукова же ехать с пасынком, само собой, никто не приглашал. Впрочем, Иннокентий Родионович во всеуслышание заявил, что и сам бы никуда не поехал в виду страшной занятости и новой политики партии и правительства. Какое он мог иметь непосредственное отношение к этой политике, Барсуков, однако, не затруднился пояснить.
И Вилка отбыл вдвоем с бабушкой. Так нудно и так шикарно он не отдыхал еще ни разу в жизни. Обычно его летние приключения начинались и заканчивались в пионерских лагерях от маминого или отчимового институтов, где Вилка отбывал две смены подряд и превесело. Иногда Барсуков брал Вилку в студенческий «Буревестник» на Черноморском побережье вблизи города Сочи, где Викентию Родионовичу полагалась целая комната в отдельном домике. Барсуков его на отдыхе почти не доставал, только поручал Вилке следить за чистотой и порядком в «номере», сам же с утра до вечера резался в преферанс и попивал пиво с местным начальством, иногда отвлекаясь от этих важных занятий для прочтения обязательных проповедей подопечному курсу. Вилка же целыми днями крутился среди отдыхающей студенческой братии. Студиозусам Барсуковский пасынок, незлобивый и услужливый парнишка, был по душе, и они принимали бесхозного мальчишку на свое попечение. Называли рекрутом и салагой, посылали с мелкими поручениями и учили играть в пляжный волейбол. И явными и неявными намеками выражали Вилке сочувствие по поводу наличия в его жизни каменолобого и хитрожопого отчима, иногда высказываясь в адрес начкурса Барсукова и вовсе нелицеприятно. Но Вилка доносчиком никогда не был, и оттого студенты вскоре переставали стесняться его совсем и говорили о Викентии Родионовиче напрямую, все, что о нем думали. А думали они в основном плохо. Что Вилку, однако, совсем не удивляло. В глубине души он был полностью согласен с их мнением о своем отчиме.
В Юрмале все обстояло по-другому. Строгий санаторский распорядок нарушать воспрещалось, да и Аглая Семеновна ни за что бы этого внуку не позволила. Вилку она очень любила, но и беспокоилась, как бы на мальчика не оказали влияния беспутные гены отца, гуляки и разгильдяя, и оттого полагала, что здешний режим пойдет Вилке только на пользу. И Вилка уныло плелся каждый божий день на предписанные и совершенно бесполезные для его абсолютно здорового организма курортные процедуры, принимал мерзко пахнувшие йодом ванны и глотал кислородные коктейли. Его слабые возражения бабушкой во внимание не принимались. А как же! Надо пользоваться, пока выпал случай. Неизвестно, когда еще попадешь в подобное место, да и попадешь ли? И Аглая Семеновна пользовалась вовсю.
Еще бы! Бабушка только одних нарядов привезла большущий чемоданище, и чуть ли не каждый вечер щеголяла в столовой за ужином, и в зале, где крутили кино, и на вечернем кефире, в новом, аккуратно отглаженном платье. Конечно, у Аглаи Семеновны не было таких нарядов и драгоценностей, какими могли похвастать иные ЦКовские дамы и жены. Но зато у бабушки в Москве имелась превосходная портниха, Тамара Ильинична, старая подруга, шившая недорого преотличные платья и костюмы, и даже легкие пальто. И еще Аглая Семеновна, ласково, но упорно настаивала на том, чтобы Вилка непременно сопровождал ее на оздоровительные прогулки к морю, в концертные походы и на другие санаторные, развлекательные мероприятия. Совсем не потому, что бабушке не с кем было проводить время. Уже на второй день по прибытии в Юрмалу Аглая Семеновна перезнакомилась с доброй половиной отдыхающих дам и барышень, и удостоилась приглашения в их круг в почетном звании близкой знакомой и протеже самих Вербицких. Вилка же требовался ей для иных целей. Аглая Семеновна непритворно гордилась своим единственным внуком и, с вполне объяснимым тщеславием, желала, чтобы окружающие тоже знали и видели, какой Вилка у нее почтительный и хорошо воспитанный мальчик. Бабушка расхваливала его налево и направо всем случайным слушателям, не забывая упомянуть, что ее дорогой внук учится в физико-математической школе и нынче только что сдал все экзамены на «отлично». Тут она немного уклонялась от истины, но Вилка ее не поправлял, следуя гуманному правилу: не хочешь – не слушай, а врать не мешай. Жаль только, бабушка не дозволяла ему купаться в море, мотивируя свой отказ тем, что вода в нем слишком холодная. Вода в Балтике и впрямь была далека от южных температур, редко поднимаясь выше восемнадцати градусов. Но холодна она была для бабушки, а вовсе не для Вилки, который и в самые суровые зимы никогда не простужался и не грипповал, хотя частенько, как говорила мама, бегал «расхристанным».
Зато Вилке выпало полно времени для того, чтобы предаваться собственным мыслями, или читать на досуге, сидя рядом с Аглаей Семеновной и ее новыми курортными знакомыми, с трудом раздобытую книжку. Книжка эта, взятая под святое, железное слово у папы Булавинова, «Принципы математики», 1913 года издания, принадлежала перу незабвенного Бертрана Рассела, мысли же Вилки принадлежали в основном Анечке.
Со времени убийственного откровения, снизошедшего на Вилку в доме Булавиновых, для младшего Мошкина не изменилось почти ничего. Разве только он сделался совсем своим в Анечкином семействе и даже приобрел некоторые обязанности. С ним советовались, ему доверяли домашние проблемы и секреты. После побега кота Модеста в метро из Анечкиной сумки, исключительно на Вилке лежала теперь обязанность по доставке строптивого и вредного животного к районному ветеринару. И кот, надо сказать, Вилку охотно слушался, был готов ехать с ним куда угодно. В теплое время года по воскресеньям именно Вилка выводил посидеть на лавочке во дворе бабушку Абрамовну, и он же поднимал старушку обратно под руки на пятый этаж.
Людмила Ростиславовна, Вилкина мама, не находила ничего дурного в том, что сын каждый выходной и частенько в праздники торчит до вечера у Булавиновых. Напротив, она считала, что Вилке куда полезней проводить время с милой ему девочкой и ее милой семьей, чем выслушивать воскресное бурчание вечно чем-то озабоченного Барсукова. Анечка была маме симпатична, к чувствам Вилки же мама относилась с тактичным пониманием, хотя догадывалась о многом и иногда жалела сына. Впрочем, Людмила Ростиславовна, умудренная годами и жизнью с Барсуковым, считала, что Вилке рано отчаиваться, и что со временем все в его юной судьбе может еще двадцать раз перемениться.
Конечно, вокруг Анечки в последний год стало крутиться немало парней, особенно из старших классов. Для Вилки в этом не было ничего удивительного. Да и как могло получиться иначе, если Анечка выросла в эдакую раскрасавицу. Вилку утешало только то обстоятельство, что Анечка к ухаживаниям за ней разномастных кавалеров относилась демонстративно равнодушно. Раздосадованные юнцы, естественно, винили во всем Вилку как счастливого соперника, и младшему Мошкину не раз и не два приходилось драться. Знали бы они, насколько ошибались на его счет! Иногда Вилке даже казалось – Анечка нарочно прячется за его спину, чтоб избавиться от приставаний и приглашений, но для Вилки и это было лестно и хорошо. Как ни крути, но для Анечки пока что именно он, Вилка, ближайший и единственный друг, готовый ради нее и в огонь, и в воду.
На второй неделе их с бабушкой отдыха, произошло событие. С гастролями прибыл известный театр из Москвы. Предлагались три спектакля из постоянного репертуара, и о том город извещали расклеенные заранее афиши. Билетов в кассах было днем с огнем не достать, те давно уж шли с рук за тридцать три цены. Но в ЦКовском санатории имелся свой резерв. К тому же среди избранных отдыхающих совсем не наблюдалось особого ажиотажа. Театр и его звезды отнюдь были не в диковину санаторной элите, все смотрено и пересмотрено еще в Москве и на закрытых премьерах. Оттого Вилке и бабушке достались преотличные места в третьем ряду партера недалеко от середины, по смешной цене два рубля пятьдесят за билет.
А надо сказать, что в труппе театра на первых ролях заслуженно пребывал всесоюзно известный Актер как раз из числа Вилкиных «друзей». Им Вилим Александрович Мошкин гордился отдельно и более других любил. Актер появлялся на экране и в телевизоре столь часто и в таких замечательно неповторимых образах, что Вилка сколько угодно мог восторгаться своим «другом» и собственным предвидением его сногсшибательной карьеры. Особенно в отношении Актера прозорливому Вилке льстило то обстоятельство, что он, Вилка Мошкин, угадал одну его выдающуюся способность. Однажды Вилке пришло в голову, что Актер не просто с успехом мог бы играть и творить на сцене театра и в кино, но и не менее успешно петь на эстраде. И Актер в скором времени действительно запел. Вилка был в восторге. Его совершенно не смущало то обстоятельство, что Актер, несмотря на превосходный слух, оказался почти начисто лишен голоса, который он старательно и преотлично заменял врожденным обаянием и умением «держать» зал. К тому же из светских рассказов Танечки Вербицкой сам Вилка как-то раз узнал к превеликому удивлению, что Актер, по слухам, больше всего на свете ненавидит свою концертно-эстрадную деятельность и проклинает тот день, когда злодейка судьба против его воли «преподнесла» ему такой подарочек. И теперь Актер, вместо того чтобы заниматься более приятным для себя делом, вынужден таскаться по правительственным, юбилейным и ведомственным концертам, и нет никакого спасения от этой напасти. Вилка слухи о «друге» не воспринял всерьез. Мало ли что досужие языки болтают о столь великом человеке! Может, Актер всего-то немного приустал от своей безмерной славы.
В театре же и вообще живьем Вилка своего героя и «друга» никогда в жизни не видел. Как-то не довелось. Детских спектаклей с участием Актера не было, а на вечерние представления, до сей поры, Вилку не допускали за малостью лет. И вот он идет с бабушкой на «Ревизора», по мнению критиков, лучшую постановку столичной труппы, где Актер – сам Хлестаков. Аглая Семеновна тоже была в приподнятом настроении, и, в предвкушении удовольствия, хотя Актер и не был ее «другом», не поскупилась, сунула в руку Вилке трешник:
– Вилечка, купи цветочков у входа. Только, смотри, свежих, не помятых.
Вилку уговаривать не пришлось. Идея с цветами была хороша. И не он один, многие покупали у хмурых, чистеньких пожилых латышек, разнообразные букеты. Вилке достались три красные и две розовые пышные гвоздики, перевязанные обрывком белой, бумажной ленточки. Смотрелись они очень даже неплохо. Аглая Семеновна похвалила:
– Приятные цветы. Не бедно и не вычурно, в самый раз. И на колени можно положить, и соседям не помешает. Ты, Вилечка, их подаришь в конце.
Вилка не возражал. Подарить цветы «другу», что может быть лучше! Подойти близко-близко, сказать «спасибо», а он, может, выделит Вилку в толпе и кивнет тоже как другу, словно бы почувствует что-то.
Места у них оказались просто замечательные. Почти в середине, видно и слышно преотлично. Когда на сцену в нужный момент действия вышел Актер, у Вилки аж дух захватило, так он был рад. Ловил каждое слово, каждый жест, а когда Актеру по ходу пьесы приходилось уступать реплики иным персонажам, Вилка все равно не спускал с него глаз, пытаясь разглядеть малейшую черточку немного уставшего лица, представить себе, о чем Актер думает в этот момент вынужденной паузы.
Артисты, игравшие в этот вечер «Ревизора», а некоторые из них были друзьями Актера без кавычек и тоже непритворно его любили, заметили, что сегодняшний Хлестаков почему-то нервничает. То и дело смотрит куда-то мимо партнеров по роли и взглядом испуганно обегает партер, будто ищет кого-то или чего-то. Но вроде бы на сегодняшний вечер никаких местных и столичных бонз в театре не ждали, да и Актер давно уже мог себе позволить их не опасаться. Из дому вроде бы тоже дурных вестей не поступало. Случись иначе, труппа уже была бы в курсе.
А Хлестаков тем временем приближался к сцене пьяного хвастовства в доме у городничего. Скоро должны были прозвучать знаменитые «курьеры, курьеры!». И Актер начал свой коронный монолог. Он уже не беспокоился слегка. Нет. Его охватила теперь полноценная тревога, исподволь перетекающая в страх, необъяснимый и неотступный. И, повернув лицо к залу, Актер снова принялся прочесывать его мятущимися глазами. И в этот раз очень скоро, нашел то, что искал. Взгляд, устремленный прямо на него, неотвратимый как апокалипсис, и не оставляющий ни одного шанса на побег.
Вилка глядел на сцену уже не столько жадным взором, но словно всем своим существом, распахнутым наружу и млеющим от восторга. Актер, исполняя одну из главных сцен комедии, вдруг, неожиданно посмотрел на Вилку и так же неожиданно и непонятно задержался на нем взглядом. Вилка и обомлел: неужели же Актер почувствовал в нем родственную душу, признал «друга»? И в ответ еще более восторженно уставился на Актера. Тот не отвел и не опустил глаз. Пьеса шла своим чередом. Актер произносил положенные по роли слова уже в состоянии настоящей паники, отчего они звучали в совершенстве выразительно и вдохновенно. Он продолжал все также против воли смотреть на Вилку, шестым чувством понимая, что ему уже не вырваться.
Вилим Александрович Мошкин был на вершине счастья. И от Актера, и от его бесподобной игры, и от внимания к его собственной персоне. В голове его мысленно стали вспыхивать одно за другим слова: «Гений! Гений! Самый Великий! Самый Замечательный на Свете! Мой «Друг»! Пусть к тебе придет Всемирная Слава! Навсегда! Навечно!». И тут перед Вилкой закружился привычный, бело-розовый с желтым, огненным сиянием хоровод. Только на сей раз он вышел другим. Актер будто бы тоже кружился в нем вместе с бешено несущимися в дикой пляске красками, он был внутри сворачивающегося стремительной спиралью вихря и как бы внутри самого Вилки, все так же неотрывно глядя мальчику в глаза. Актер протягивал к Вилке несуществующие руки, и явственно слышался его голос. Этот голос молил и плакал: «Пусти, пощади меня, пощади!», и совсем жалобно: «Я не хочу-у!». Но было уже поздно. Вилка не успел понять, что случилось, и предпринять тоже ничегошеньки не успел. Да он и не знал как. Вихрь затянул, утопил в себе Актера, расплавил, будто в солнечной плазме, само его существо, растворил в слепящей вспышке, разобрал на атомы, протоны, электроны, кварки, и бог еще знает на что. До Вилкиного сознания донеслись эхом последние слова «друга»:
– А-а-а! Как же больно! Ма-а-мочки!
И больше ничего. Актер исчез, контакт был утерян. Вилка вспотевший и напуганный, смотрел на сцену и уже был в состоянии видеть. На сцене происходило непонятное. Шум, гам, беготня. Шум стоял и в зрительном зале. Тут Вилка почувствовал бабушкину руку, крепко вцепившуюся в его запястье.
Актер лежал на сцене, с белым, как у покойника, лицом, с рукой, судорожно тянувшейся к горлу. Глаза его были закрыты, губы посинели. Спектакль, само собой, прервался, некоторые зрители повставали с мест. Раздался чей-то короткий, возмущенный возглас:
– Да пропустите же. Я врач! – и какой-то низенький, сухощавый человечек взобрался на сцену, склонился над Актером. – В больницу и немедленно. Что вы встали, берите его на руки! Да не так!
Человечек жестами показал как. Двое из артистов, суетившихся рядом, подняли тело на руки, понесли за кулисы. Маленький врач бежал следом и продолжал громко на ходу отдавать команды:
– Несите прямо на выход. Хватайте любую машину. Некогда ждать «скорую»!.. Да о чем вы? Любой поможет и отвезет, когда узнает кого. Только берите с просторным салоном! – И уже в сторону, ни к кому не обращаясь, маленький врач вздохнул:
– Может, еще успеют.
Актера унесли. Но зрители не расходились. Занавес не опустили, и сцена стояла открытая. Однако, не пустая. На ней стояли еще артисты в гриме, кто-то из администрации, костюмеры, билетеры, и бог знает кто. Люди на сцене переговаривались с людьми в зале.
Кто-то предлагал немедленно отправить депутацию в больницу, ждать новостей и просто дежурить, кто-то собирал деньги непонятно зачем. На руки горластой, толстой женщине зрители складывали принесенные цветы, передать больному Актеру или… Об этом «или» пока говорили приглушенным шепотом, все же надеясь на медицину, лучшую в мире, а в Прибалтике, по слухам, пребывавшую на особенной высоте.
Вилка, подталкиваемый расстроенной и возбужденной Аглаей Семеновной, тоже подошел к толстухе с цветами и положил свои гвоздики поверх других букетов. Женщина важно ему кивнула, будто Вилка совершил невесть какой значительности жест, и что-то сказала, Вилка не понял смысла ее слов. Он вообще плохо воспринимал то, что происходило вокруг, словно вдруг сознание его переместилось из театрального зала на самое дно вязкого, непрозрачного океана, убивающего звуки и краски и малейшую ясность изображения. Вилка даже не чувствовал страха, он ничего не успел сложить в одно целое и понять тоже ничегошеньки не успел. Знание уже зрело в нем, достоверное и безжалостное, но Вилка пока не приглашал его войти и проводил в состоянии неопределенности последние минуты своей бывшей простой жизни. Аглая Семеновна вывела его из театра за руку, приятно удивленная чувствительностью внука.
Актера до больницы все же успели довезти, но и только. Он умер в приемном покое, так и не придя в сознание. Как обычно, когда дело касалось всесоюзно значимой личности, соответствующие органы опасались криминала. Была назначена немедленная судмедэкспертиза, то есть вскрытие и исследование на предмет возможного злонамеренного отравления или иного какого телесного ущерба, приведшего к летальному исходу. И вот, в итоге, патологоанатом и два его помощника в задумчивости рассматривали уже битых полчаса аккуратно явленные на свет божий внутренности несчастного тела.
– В жизни ничего подобного не видал. А я, парни, повидал немало, уж можете мне поверить, – сказал, наконец, старший патологоанатом Аверьянов своим двум помощникам, молчаливым латышам-ординаторам, стоявшим по обе стороны от трупа, словно сфинксы у входа в храм. Патологоанатом вытащил из смятой пачки «Стюардессы» уже восьмую за эти полчаса сигарету и закурил, все так же задумчиво глядя на распахнутое настежь тело Актера.
– Павел Константинович, какое заключение теперь писать? Такого диагноза официально не существует, – отозвался левый сфинкс, тщательно и медлительно выговаривая русские слова, но все равно с сильным местным акцентом.
– Да уж. Буквально «сгорел на работе». Нет, вы только гляньте, – патологоанатом Аверьянов провел свободной от сигареты рукой круг над телом, – вы только гляньте, и больше такого не увидите. Это же полный физический износ. Сколько ему лет-то было, сорок пять? Сто сорок пять, судя по этой впечатляющей картине! Здесь же полная разруха и старческая древность, жизненных соков ни грамма же не осталось, будто их до предела выжали. А с таким сердцем он не то, что играть на сцене, шага бы сделать самостоятельно не смог.
– Возможно, застарелое хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы? – спросил уже правый сфинкс, также медлительно и спокойно, как и левый, однако с еще более сильным акцентом.
– Дурак ты застарелый, прости меня господи! Какое хроническое заболевание? Тут один диагноз: предельная старческая дряхлость. Ты на печень посмотри! На почки, на желудок! Мозг словно изнутри выжгли. Его уж лет с пяток должны были бы в инвалидной коляске возить, – Аверьянов в сердцах зашвырнул недотянутую сигарету в угол. Немного погодя полез в пачку за новой. Прикурил. – Что ж. В заключении я конечно укажу. Инфаркт миокарда. В виду изношенности сердечной мышцы и крайнего переутомления. Только это полный бред.
– У артистов тяжелая и нервная работа. Возможно, это из-за постоянного воздействия стрессовых ситуаций, – снова заговорил правый сфинкс, немного обиженный отповедью шефа.
– Возможно, возможно! На лицо, как молодой, а внутри – труха. Иначе остается все списать на похищение нашей звезды инопланетянами и проведение над ним антигуманных экспериментов. Другого объяснения сему феномену у меня нет, – вздохнул патологоанатом Аверьянов. Постоял еще немного, потом манул рукой, дескать, зашивайте. И отправился писать правдоподобное заключение.
Вилка вынырнул из засосавшего его подводного царства лишь на следующее утро. Словно очнулся не только от ночного сна без сновидений, но и от вчерашнего непробиваемого тумана в голове. И мир со всей своей силой и звуковой мощью тут же осел на его плечи. Вилке на время пришлось стать атлантом, чтобы удержать рушащийся небосвод. Для начала он приказал себе успокоиться и прибегнуть к разуму и излюбленным логическим построениям. Отчасти тут же и полегчало.
По логике формальной и традиционной выходило, что внезапная смерть «друга», о которой на утро уже знал весь городок, и Вилкино вчерашнее видение в театре никак фактически не связаны и не следуют одно из другого. Этого просто не могло быть. По логике формальной и традиционной.
Да ведь беда состояла как раз в том, что сам Вилка знал наверняка: «друга» убил он, и никто иной. Он помнил, как его убивал, хотя и не понимал до сих пор механику процесса и главное: почему? Он любил Актера и никоим образом не мог желать ему смерти. Тут у Вилки похолодело внутри. Аделаидову-то, Борьке, он желал, да еще как! И что же вышло? Спустя какую-то пару минут Борьки не стало. Вывод? Уж лучше без него.
Однако, в случае с «инопланетянином» Вилке потом было плохо, он мучился и болел, страдал кошмарами. А сейчас ничего такого нет и в помине. Так может, он, Вилка, не причем? Или тогда, с Борькой, это был вовсе не он. А вдруг и сейчас не причем? И знал уже ответ. И сейчас, и тогда, он, Вилим Александрович Мошкин, при чем, и очень даже.
Вилку охватил страх. Именно страх и ничто другое. Он вспоминал после и через много лет, что первым его ощущением тогда были не радость и не торжествующая жадность до дарованной ему необъяснимой власти, не гордость за свое могущество и значимое преимущество перед прочими смертными. Отнюдь. Несчастный, растерянный паренек, он задыхался от ужаса и отвращения к самому себе, ощущая себя испорченным и прокаженным существом, изгоем и бешеной собакой, за которой по пятам мчатся уже живодеры с сеткой и петлей. И он принял единственное, правильное решение. Затаиться и размышлять, и не болтать ни в коем случае, чтобы не стать навечно постояльцем какого-нибудь дурдома. Слава богу, тот не обидел его мозгами, и если кто может ему помочь, то только лишь он сам, Вилка в состоянии помочь себе. И, прежде всего, необходимо было разобраться в главном: кто же он все-таки такой, этот Вилка Мошкин, и что конкретно отличает его от остальных людей?
Уровень 7. Собачья звезда
С того дня Вилка превратил себя в двуликого Януса. Одной ипостасью, ничем не отличающейся от повседневного Вилки, повернутого к внешнему миру, другой, затаенной, но единственно подлинной, – от этого мира скрытого. Словно бы Вилка теперь носил на себе сразу два, совсем разнородных комплекта одежды, первый поверх второго. Первый костюм был как бы маскарадный и маскировочный одновременно, и ничем не отличался от естественного облачения других людей. Второе его одеяние, приросшее к телу Мефистофельское трико, Вилка тщательно прятал и старался никак и никогда не являть на свет. Но именно ему отдавал все свои помыслы и без усилий отныне сращивал с собственной личностью.
Второй облик, однако, требовал от своего владельца определенных навыков и состояний. То есть, попросту говоря, в целях безопасности личной и общественной, Вилке предстояло изучить и понять смысл собственных возможностей, и хоть как-то овладеть открытой в себе неизвестной природной силой.
Трудность, главная, но не единственная, заключалась в том, что Вилка не имел никакого иного объекта для исследования, кроме самого себя, а, стало быть, и эксперименты в познавательных целях он мог осуществлять только над собственной персоной. Но любой такой эксперимент потенциально был очень опасен, и Вилка это понимал. Две смерти уже произошли из-за его неведения и самонадеянности, и обстоятельства, им предшествовавшие, находили меж собой весьма мало сходства. Плохо оказалось и то, что Вилка не имел под рукой совсем никакого материала для сравнения, и уж конечно не мог задавать вопросы. Он был такой один, и он был в подполье.
Однако, уже вернувшись с бабушкой в Москву, и столкнувшись с необходимостью общения в прежнем своем жизненном уровне, Вилка набрел на пугающее, но, возможно, и обнадеживающее обстоятельство. Все дело было в его старом школьном приятеле, давно уже воспринимаемым Вилкой в образе некоей обязательной, но незатейливой и не очень обходимой детали повседневного интерьера. Настолько мало интересной самой по себе, что Вилка никогда и не задавался целью ее постижения, как не вникал в смысл, пусть и занятных, но бестолково ненужных завитков на финских, моющихся обоях своей квартиры. Речь шла о Зуле Матвееве, шахматисте-разряднике и дамском угоднике, влюбленном в бестолковку Торышеву, искреннем поклоннике Норберта Винера и царицы наук кибернетики. До сей поры зачастую лишний своим присутствием Зуля как-то выпадал из Вилкиной зоны внимания, пребывая на ее окраине на незаконных правах. Но теперь все стало иначе.
Вилка корил себя за глупость и невнимательность, за детскую беспечность, так лихо окатившую его из помойной лохани навечным чувством несмываемой и безусловной вины в смерти двух человеческих существ, а ведь мог он, подняв забрало, поглядеть в лицо реальности и много раньше. Или хотя бы спросить, что хотел сказать Зуля, открыв без обиняков – он наблюдает за чем-то интересным ему Вилкой Мошкиным. И не так давно вышел меж ними тот разговор. Но Вилка не спросил, хотя именно тогда екнуло внутри в первый раз, удивился и прошел мимо. Зато теперь следовало допросить Зулю во что бы то ни стало, невзирая на последствия. Матвеев определенно нечто знал о Вилке, даже если знание его не шло далее неправдоподобных догадок. В любом случае два ума всегда больше, чем один.
Анечки еще не было в городе, и Вилке следовало искать Матвеева самому. Тут и выяснился один нелицеприятный факт, слегка обескураживший Вилку. Он не знал ни Зулиного телефона, ни адреса. За все восемь лет знакомства и сидения за одной партой так и не удосужился узнать. Матвеев всегда звонил первый, и в гости к Вилке тоже являлся он, а не наоборот. Выходило, что Вилка вообще ничего толком не ведает о внешкольной жизни близкого и единственного приятеля, можно сказать друга. Только то, что Матвеевы квартируют в ведомственном доме на «Академической», а где именно, бог его знает. В телефонном справочнике копаться оказалось также без толку. Вилка не представлял себе ни имени, ни отчества Зулиного отца, а Матвеевых, проживающих вблизи «Академической» набралось на целых пять страниц. Выбора не было, и Вилка принялся обзванивать всех Матвеевых подряд. Где-то оказывалось «занято», по другим номерам вообще никто не снимал трубку. И не удивительно: на дворе август, многих семей вообще нет в Москве. О планах Зули на лето Вилка само собой ничего не слыхал. Через час безуспешных поисков его согнал с телефона пришедший с работы Барсуков и велел не занимать линию. Викентий Родионович ждал важного звонка, то есть возможности потрепаться с факультетскими доносчиками и сплетниками о том, кого в этом году приемная комиссия утвердила помимо баллов и списков, и чего это по слухам стоило заказчикам.
Квартиру Матвеевых Вилка вычислил только на третий день нелегких трудов, с самого утра засев за справочник. По закону подлости нужный ему номер, зарегистрированный на имя Матвеева Якова Аркадьевича, числился в списке предпоследним. К трубке подошла Зулина мама, и Вилка чуть не сгорел со стыда, когда понял, что не знает, как к ней обратиться. Но интеллигентная, вежливая женщина, видимо, распознала Вилкины затруднения и представилась сама: Вероника Григорьевна. Зули дома не оказалось, он был с отцом на открытии какой-то промышленной международной выставки. Но Вероника Григорьевна пообещала, что часам к пяти вечера ее муж и сын, наверняка, вернутся домой.
Вилка едва дождался назначенного часа, снова позвонил. Авессалом Яковлевич Матвеев, он же Зуля, только вошел в дом, еще даже не снял обувь, но тут же в коридоре подошел к аппарату, договорился с Вилкой о встрече. Завтра, у него на «Академической», после того, как родители отбудут на дачу. Вилку сговорчивость приятеля не удивила, за годы он привык к Зулиной безотказности, хотя, до сей поры, не понимал скрытых причин такой готовности к услугам.
Обстановка на «Академической» Мошкина ошеломила. Конечно, видывал он апартаменты и на порядок богаче, взять ту же Танечку, но Зуля и пятикомнатная громадина в роскошной «сталинке» никак не сводились в его сознании в единое целое. Да, в обстоятельства жизни семейства Матвеевых Вилка не вникал, но и точно помнил, что сам Зуля ни разу за все время их знакомства и вообще в школе ни словом не обмолвился о своих общественных привилегиях. Зуля, можно сказать, в этом смысле оказался скромником. Никогда ничего особенного и вызывающего ни в одежде, ни в поведении, просто умненький парнишка и шахматист, сын середнячков родителей без претензий, разве что с забавными странностями в поведении. Таким Матвеев выглядел, и до сего дня таким для Вилки и был.
Но теперь выходило, что Матвеев был не обычный Матвеев, а сын какого-то особенного Матвеева Якова Аркадьевича. Вилке стало интересно. И, поскольку Зулю он в принципе не стеснялся раньше и не видел причин менять свое отношение к нему сейчас, Вилка попросил приятеля удовлетворить возникшее любопытство и объясниться. Зуля так же охотно согласился и на это. Пока Вилка совершал экскурсию по безразмерному Матвеевскому жилищу, Зуля кратко и как-то небрежно изложил ему историю происхождения семейного благосостояния.
На деле оказалось, что Зуля не сын особенного Матвеева, а внук. Знаменитому деду, собственно, и принадлежали пятикомнатные хоромы, как и богато обставленный антиквариатом кабинет и блистающие серебром и позолотой награды в застекленном шкафу. Старик Матвеев, увешанный регалиями авиаконструктор, правая рука и наследник чуть ли не самого Королева, был еще жив и относительно бодр, несмотря на изрядный груз лет.
– А где он сейчас? – поинтересовался Вилка, обойдя совершенно пустую квартиру.
– Где ж ему быть? Лечит печень и желудок в Ессентуках. Дед у нас еще ого-го, крепкий. Отец до сих пор боится, что дед возьмет, да и на старости лет в другой раз женится. Чтоб отцу досадить.
– А отцу твоему какое дело? – не понял Вилка.
– Ну, ты даешь! А квартира? Отец удавится, но делиться не станет, – пояснил Зуля.
– Он, что с твоим дедом не ладит? – осторожно полюбопытствовал Вилка.
– Ладит – не ладит, не в этом штука. Дед Аркаша, он совсем другой. Есть и есть, а нет, так и переживать не станет, тем более что дед все сам заслужил и заработал. Мог бы еще во сто раз больше, только он просить за себя не любит. А моего отца он даже в глаза называет хапугой и пиявкой на теле науки. Когда они ругаются, дед кричит, что ему стыдно за такого сына.
– Ну? А чего твой папаша натворил, что его так?..
Зуля на секунду замешкался, почесал нос:
– Как тебе сказать? Отец у меня вообще-то ничего, заботливый. Все для меня и для мамы, старается в общем. Но как-то не так, – тут Зуля опять замолчал, видимо подбирая нужные слова. – Понимаешь, его только одно интересует: где и что он может достать, добыть или даже украсть. А дед это все ненавидит. Опять же, отец мой, он кто? Заведующий отделом оборудования экспериментального НИИ. Заказы, поставки, взятки какие-то и вообще темные дела. Мотается по всему миру, от Токио до Калифорнии, и отовсюду что-то тащит, тащит. Потом меняет или продает и опять тащит. Дед Аркаша ему один раз даже морду набил, при нас с мамой, между прочим. За то, что отец на японскую стереосистему орден военный, весь в драгоценных камнях, выменял. Велел обратно отдать или в музей отнести.
– И что, отнес? – спросил немного опешивший от такой откровенности Вилка.
– Не знаю, думаю, нет. Я же говорю, что к отцу в руки попало, то пиши пропало, – ответил Зуля скучным голосом, словно речь шла о самой обыденной на свете вещи.
– А чего же он тогда с дедом не разъедется? Раз тот его по морде бьет?
– Он же не дурак. Думаешь, мы переехать не могли? Да сто раз! И кооператив построить, и что угодно. У отца денег бы хватило. Но он эту квартиру боится потерять больше всего. Такую не построишь, такую можно только от государства получить. А отцу кто даст? И разменивать жалко. Вот дождется он, когда дед помрет, и оформит ее вроде как мемориал герою космонавтики. Отец сможет, он пронырливый. Дед знает об этом и злится. А что поделаешь? Ему нас с мамой жалко. Говорит, пусть не из сына, так хоть из внука человека сделаю. Вот и записал отца в ответственные квартиросъемщики, дескать, опека над престарелым родственником.
– А ты за отца или за деда? – спросил Вилка.
– Я, само собой, за деда. А это все так, барахло. Скучно же, – ответил Зуля, и, похоже, не покривил душой.
Вилке ответ понравился, да он и многое объяснял. И Зулино пренебрежение к вещам, и нежелание трепаться о знаменитом деде Аркадии Илларионовиче, и некоторый аскетизм в образе жизни. Но, с другой стороны, подумал Вилка, легко пренебречь тем, что и без того имеешь в избытке каждый день, а попробовал бы Зуля сделать то же самое, скажем, на Анечкином месте. Не слабо ли оказалось бы продвинутому шахматисту? Впрочем, Вилка в этот вопрос углубляться не стал, у него сегодня в доме Матвеевых намечались другие цели. Следовало, наконец, поговорить о том, ради чего он, Вилка, предпринял поездку на «Академическую».
Однако, благоразумие, которому Вилка учился прямо на ходу, подсказало ему не открывать сразу же все свои карты, а сперва разузнать, что именно известно о нем Зуле и как тот лично к этому знанию относится. Трудностей в проведении словесной разведки Вилка не видел никаких, памятуя привычку Матвеева сразу же выдавать полную информацию на сделанный запрос. «Похоже на ЭВМ. Человек-машина, – подумалось Вилке, – надо только правильно спросить».
Но начал он издалека. Осторожно и не в лоб. Хотя и понимал, что в этот раз предосторожности излишни, и Зуля ему необходим. Видимо, просто сработал инстинкт самосохранения. И Вилка ударился в воспоминания. К тому времени оба приятеля сидели в Зулиной комнате, прихватив из холодильника две бутылки лицензионной пепси-колы краснодарского производства. Зуля пытался, однако, подбить Вилку на хищение отцовского чешского пива, мотивируя кражу тем обстоятельством, что отец никогда прямо не запрещал употребление напитка и вряд ли был бы сильно против. Но Вилка от заманчивого предложения отказался. Пиво он еще никогда не пил и не мог знать его воздействия на свой растущий организм, а голова Вилке сейчас требовалась светлая и трезвая, чего он ждал и от Матвеева.
Постепенно, но и особо не затягивая дела, Вилка перевел разговор на покойного Аделаидова. И честно рассказал о своих давнишних ощущениях и переживаниях. Правда, о черном вихре и стене, умолчал, уж слишком отдавало бы враками, а Вилке нужно было доверие.
– Как думаешь, из-за того, что я Борьке пожелал скорее сдохнуть, могло все и случиться? Или как-то подтолкнуть?
– Не знаю, – ответил ему Зуля, – может, и могло. Психотропные поля, телекинез. Область, наукой не исследованная. Дед рассказывал, что гипнотизер Мессинг одними глазами чайные ложки в узлы вязал, пустые бумажки мог заместо денег выдавать.
– Так то гипноз, – возразил Вилка.
– А тут что? Мозговой импульс, тоже гипноз. Может, ты ему подсознательно установку дал, – резонно заметил Зуля.
– А плохо мне стало тоже от гипноза? Две недели в постели провалялся. Здорово загипнотизировал, ничего не скажешь, – не без ехидства ответил ему Вилка.
– Любой импульсный скачок есть выброс энергии, эх ты, позор на всю нашу школу! Просто ты непроизвольно потратил слишком много сил, а восстановиться не сумел, – резюмировал Зуля.
Разъяснение выглядело здравым и вполне научным, все же Вилку слегка смущали неисследованные и неведомые психокинетические поля. Однако, сказавши «А», следовало произнести «Б», но для начала Вилка решил вывести на чистую воду друга Авессалома:
– Ты потому за мной наблюдаешь, что я какой-то биологический феномен? – спросил Вилка, но увидел в глазах Зули совершеннейшее непонимание. – Ну, помнишь, я тебя однажды спросил, а ты ответил, что следишь за мной.
– А, ну да, – ответил Зуля, подозрительно вяло и с явной неохотой, словно речь шла о неприятных и опасных для него вещах. – Я не то имел в виду.
– То есть, ты никакого гипноза не чувствовал? – разочарованно протянул Вилка. – А я уж подумал, что ты, как бы это сказать, из собственного опыта, что ли. Воздействия ощущал, или …, ну я не знаю, что еще. А ты, значит, считаешь меня совершенно нормальным, только с полями? А зачем тогда следить? Эксперимент ставил, что ли?
«Да уж, с Зули станется! – подумалось Вилке с обидой. – Ему, что друг, что лабораторная мышь, разницы, поди, никакой. Если интересно». Но тут Матвеев ответил и снова поразил Вилку до глубины души. Последний вопрос он проигнорировал вовсе, как несущественный, а сказал так:
– Нормальным я тебя не считаю, и не считал никогда. Но и поля здесь не причем, – и отхлебнул «колу» из бутылки. Вытер губы, поморщился:
– Давай лучше пивка возьмем. Да ты не бойся, не захмелеешь. Я уже пробовал. Оно некрепкое, вода водой.
Ошеломленный Вилка покорно побрел за Матвеевым на кухню взять пива. Глотнул из откупоренной бутылки. А ничего, вкусно. Только очень холодно, зубы ломит. Зато пиво придало решительности. Вилка снова вцепился в Матвеева.
– Если я ненормальный, а про поля ты только что придумал, зачем тогда следить? – Вилка уже начинал злиться и оттого повысил голос. – Что ты дурочку валяешь? Толком сказать не можешь? Тайны какие-то идиотские!
– А ты не ори, – тихо и тоже зло ответил шахматист Матвеев. – Сам из меня дурака делаешь, и я же виноват! Ты чего вообще пришел? Тебе чего от меня надо? Думаешь, я телек не смотрю и газет не читаю? Или рассказывай все, как есть, или не морочь мне голову и катись отсюда!
– Каких газет? – искренне удивился Вилка. – Причем тут газеты?
– Притом. Ты откуда недавно приехал? Не помнишь, что ли, как все уши нам с Анькой прожужжал: «Ах, Юрмала! Ах, санаторий ЦК!». А что в Юрмале недавно стряслось, шуму на весь Союз было? Аккурат, когда там отдыхал некий Вилка Мошкин. Или скажешь, что тебя в том театре не было? Чего тогда ко мне заявился, еще и приехать не успел? И не поленился, нашел. Посмотрите, люди добрые, какая срочность! Мозги мне пудрит событиями трехлетней давности. Ты сначала ответь: был ты там или не был?
– Был…, – упавшим голосом, на выдохе признался Вилка.
– Ну, так я и знал. Между прочим, по городу, в определенных кругах, слухи ползут нехорошие. Дескать, умер народный любимец не просто скоропостижно, а очень даже загадочно. При вскрытии тела были явлены чуть ли не чудеса. Да такие, что экспертизу засекретили. Говорили об отравлении и происках ЦРУ, но это уже кумушки навыдумывали. Однако дыма без огня не бывает.
– А ты откуда все это знаешь, бабушки на лавочке пересказали? – попробовал пошутить Вилка, но на самом деле ему стало совсем несмешно. Об экспертизе в Юрмале, он, само собой, ничегошеньки не слыхал, да и откуда, а потому Зулино сообщение ему не понравилось совершенно.
– Не бабушки, а мамина приятельница позавчера в гостях. Она в том театре старшим администратором служит, и в Юрмалу, кстати, тоже ездила. Я ее спросил, вроде просто так, она мне и сказала, что в тот вечер в зале было полно народу из вашей номенклатурной богадельни.
– И что же делать? – ни к селу ни к городу спросил Вилка.
– Что делать? Не знаю. Ты вообще зачем его убил?
– Я не хотел. Я не нарочно. Я наоборот, чтоб ему хорошо было, – Вилка сбивчиво понес уже полную околесицу:
– Чтоб слава и счастье, ведь «друг» же. Я как лучше… Ведь было здорово.
– Уж куда лучше. От любви до ненависти один шаг, и тот до гроба доведет… Ты поаккуратней с этим, – вдруг наставительно и строго сказал Матвеев.
– В смысле, с психотропными полями? – с надеждой переспросил Вилка.
– Причем здесь поля. Ты и без полей у нас… Поосторожней с Тем, ну что там у тебя. Поля, это так, ерунда. Хотя, конечно, и поля тоже. В общем, думай. И я думать стану.
– Толку-то что, думай не думай, чертовщина какая-то получается, – Вилке снова сделалось нехорошо.
– Пусть чертовщина. У нее тоже свой порядок имеется. Система! И законы свои есть наверняка. Вот их и будем изучать.
– С ума сошел! – воскликнул Вилка. – Совсем ты с ума сошел! Как изучать? А если, не дай бог, еще кто-нибудь копыта двинет?
– Обязательно двинет. Если не выясним, как ты это делаешь, то двинет непременно, – уверенно ответил Зуля.
– Но почему? Откуда во мне..? – почти плача спросил Вилка и, чтобы успокоиться, солидно глотнул пива из бутылки.
– Да это неважно откуда. И почему тоже неважно. Какая разница, откуда и почему в определенном количестве материи взялась определенная сила тяготения? Важно, что она есть, и известно, как она действует. Поэтому никто в здравом уме не станет прыгать с пятого этажа, зная, что гравитация его размажет по асфальту. Это главное, – изложил Зуля свои соображения на проблему.
– А тебе не страшно со мной? – на всякий случай поинтересовался Вилка.
– Не особенно. Так, немного. Я все же не законченный идиот. Зато с тобой не соскучишься, – жизнерадостно подвел итог Авессалом Яковлевич Матвеев. И увлек Вилку за собой на кухню, выуживать из отцовских запасов еще по одной бутылочке восхитительного чешского напитка марки «Золотой фазан».
Бутылочки оказались не последние. Набегов на кухню произошло по крайней мере два или три, а может даже больше. Вилка, находившийся в состоянии душевной неопределенности и некоторой физической и моральной раздробленности, отслеживать процесс был не в состоянии. Напился первый раз в жизни и выболтал в порыве хмельной откровенности Матвееву, державшемуся куда бодрее, тайну стены и черного вихря. Зуля ничуть не изумился, сказал, что ожидал чего-то подобного и предложил еще хлебнуть пивка, дабы отметить полное доверие и взаимопонимание. Но по дороге к заветному холодильнику Вилку начало тошнить. Внезапно и неудержимо. И в холле, и в стремительном полете к «белому другу», так что в фарфоровую импортную вазу Вилке, плюхнувшемуся рядом на коленки, изливать, строго говоря, было уже совершенно нечего.
О возвращении домой в подобном состоянии не могло идти и речи. Ладно, мама, но не хватало, чтобы Вилку лицезрел в столь непотребном виде Барсуков. То-то будет нравоучений! Да и не хотелось давать отчиму лишний козырь в руки.
Все устроил Зуля. Пиво почти не подействовало на него, видимо и впрямь сказывался определенный стаж. Отпоив несчастного кофе, Зуля сунул в руки Мошкину телефонную трубку и велел отпроситься на ночь. От кофе Вилке стало плохо совсем, и пришлось снова наведываться в туалетную. После чего заботливый друг Авессалом не очень вежливо оттранспортировал драгоценный «феномен» спать на свой собственный шикарный раскладной диван.
Уровень 8. Доктор Фаустос
Собственно, после запойного визита к новоявленному сообщнику, у Вилки и началась другая, «интересная» жизнь. Не только в смысле постижения закономерностей употребления алкоголя и грядущего за ним похмелья, но, как говорили древние греки, познания самого себя. И первое оказалось куда проще второго, хотя, в телесном смысле, куда как мучительней.
В одном драгоценный друг Зуля, однако, был, несомненно, прав. Мозги на то и даны человеку, чтоб думать, ну а голова, следуя той же логике, на то, чтоб соображать. Для начала же следовало определить направление и подсобрать кое-какую информацию.
Очень скоро Вилке путем обычных, ненавязчивых вопросов, удалось установить тот факт, что никто из осторожно расспрашиваемых им собеседников не имеет ни малейшего понятия ни о какой внутренней стене. И то же самое относительно черного вихря. Выходит, первое отличительное свойство было Вилкой найдено. Ни мама, ни Анечка, ни Татьяна Николаевна, ни маленькая Катюша ничего подобного никогда не испытывали. А Вилкино любопытство посчитали за очередной приступ бурной фантазии, вызванный чрезмерным увлечением американской научной фантастикой. Зуля заодно попытал своего заслуженного деда, чем привел старика в крайнее раздражение, и выслушал достаточно резкие слова. Дескать, от любимого внука дед Аркаша никак не ожидал нечестных попыток обвинить его в старческом маразме и никакими видениями сроду не страдал, чего и другим желает. В общем, еле помирились.
Ну что ж, пусть будет стена. С ней-то как раз все обстояло просто. Это Вилка понимал и без Матвеева. Со стеной бороться куда как легко. Надо только ни в коем случае сквозь нее не проходить, даже если очень обидно, тогда и черный вихрь не объявится, голова не разболится и никто, слава богу, не помрет. Вилку тут же обеспокоило одно неутешительное соображение: «А вдруг опять появится в его жизни такой вот Аделаидов, и он, Вилка, не воздержится, сорвется в гневе и тогда полный крах. Он снова станет чьим-то невольным убийцей». Но тревога подступила и тут же откатилась назад. Нет уж, более не сорвется. Как бы ни был он зол, а не сорвется. Что угодно, пусть хоть в рожу плюют, лишь бы не этот ужас. На Аделаидовых и другая управа найдется, что ж сразу жизни лишать. И с одним-то Борькой на совести неясно как дальше быть, еще других покойников недоставало. Он, Вилка, не какой-нибудь там Джеймс Бонд и даже не Добрыня Никитич, чтоб со змеем поганым воевать и повсеместно обличать зло. Он всего-навсего школьник. Да и былинный богатырь, чай, не загадочными полями ворогов истреблял, а булатным мечом и качественной военной подготовкой. То есть оставлял противнику потенциальный шанс отбиться и навешать в ответ по первое число. А Бонд эвон как ловко скачет с пистолетом, Вилка у Танечки в гостях смотрел по видику, и дерется не хуже восточного человека Брюса Ли. Он же, Вилка, разве что бегает быстро, и то в секцию легкой атлетики поленился записаться. Да и что это за герой, который беспомощных людей, пусть и нехороших, изводит тишком, из-за угла. Опять же, это может Вилке несчастный Аделаидов был нехорош, а бедному его отцу академику очень даже хорош. И по всему выходит, что Вилка гад и убийца, хоть и не нарочно. А уж что б нарочно, нет, ничто более Вилку на этом свете не заставит страшную стену перейти. Подумал так, и будто сам себе клятву дал.
Только вот беда. В Юрмале, с Актером, никакой стены и в помине не было. Ни глухой, ни прозрачной. И ненависти тоже не было, совсем наоборот. Что же тогда было? Над этим Вилка и ломал голову. От Зули, как назло, помощи не выходило никакой, одни дурацкие догадки и вопросы. Так до конца каникул и промаялся. И весь сентябрь тоже. Даже Анечка заметила, все спрашивала, не заболел ли. Мама, та к счастью, решила, что Вилкино беспокойство от дополнительных нагрузок в школе. Однако Вилкины проблемы оставались на том же месте, где и были, вытесняя из головы и учебу и даже самое святое – Анечку. И до их решения оставалось куда как далеко.
Вот и сегодня, опять толкли воду в ступе. Сидели у Вилки в комнате, как обычно, делали вид, будто страшно заняты уроками. Мама дважды звала ужинать, только отмахивались. Слава богу, Барсуков велел Вилку не беспокоить. Видать, отчима Вилкино рвение к наукам настраивало на положительный лад и составляло некий предмет гордости. И ладно, хоть какая-то польза от его занудства. Мама, на то она и мама, по собственному почину, принесла Вилке и его гостю бутерброды с «докторской» и по кружке сладкого чая. Дело пошло веселее.
– Не может подобного быть. Должна хоть какая-то малость обнаружиться необычная. Ну, хоть капелька, – чуть притворно захныкал Матвеев и уставился на Вилку хитро-умоляющим взглядом, словно Иуда на Христа.
– Да я ж тебе толкую. Все было как всегда, – в очередной раз уныло задолдонил Вилка. – Никакой стены. Я ж просто вне себя от счастья тогда только что не летал. И он на меня посмотрел. Я его прям заобожал, горы бы своротил, коли б он попросил. Прямо фонтан цветов перед глазами кружился, так хорошо было.
– Постой, постой, какой еще фонтан? Ты про фонтан ничего не говорил, – строго и в то же время азартно спросил Зуля.
– Да какой фонтан! Обычный, как у всех. В тебе, к примеру, когда очень чего-то хочется или просто кого-то любишь, разве цветное не кружится? И так хорошо-о потом, – мечтательно протянул Вилка.
– Ничего у меня нигде не кружится. Ты погоди, дурак, ты про свой фонтан давай подробнее. Какой он, к примеру, из себя? – Зуля аж заерзал на стуле от любопытства.
– Какой? Ну, какой! Цветной весь. В основном белый и розовый, часто еще желтого много. Да и не фонтан это вовсе. Я для образности сказал. Скорее, как спираль в калейдоскопе закручивается, все быстрее и быстрее, а потом рассыпается. Будто фейерверк.
– Или вихрь, – Зуля уже не спросил, а словно констатировал непреложный факт. Лицо его стало цепко сосредоточенное. – Только с Борькой он был черный и рассыпался в черную же пыль. И тебе стало плохо. Так?
– Так… То есть, что же, тот же самый вихрь, разве цвет другой. Постой, постой… Там сразу плохо, тут хорошо. А ты точно уверен, что никогда в тебе не кружилось..? – Вилка и догадывался уже и страшно отчего-то боялся.
– Ничего и никогда. Ни черное, ни зеленое, никакое, – уверенно и окончательно ответил Матвеев.
– Может, надо еще кого порасспросить? Как в прошлый раз? – с надеждой спросил Вилка.
– Не надо. Пустая трата времени, – сказал Зуля, но, увидев нечто в Вилкином лице, жалостливо добавил:
– Если хочешь, конечно, можно и разузнать.
– Да, наверное, можно. Но ведь стены никакой не было! Этот фонтан, вихрь, в общем, эта гадость сама переродилась. И не в черное, а в огненное, ревущее. Жуть прямо. Никогда раньше такого не происходило, – сказал Вилка, и весь передернулся от неприятного воспоминания.
– Значит, было что-то еще. Ты вспомни получше. Но только не сегодня и не сейчас. У меня голова уже не варит. А по стереометрии, между прочим, осталось три задачи, – подвел неутешительный итог Зуля.
Вилка на следующий день честно начал вспоминать. Но вспоминать одно лишь Юрмальское происшествие оказалось бессмысленным. Вилка, немного помаявшись с неопределенными и разрозненными обрывками прошлого, уразумел, что дело так не пойдет и необходимо некое сравнение и сопоставление фактов. Как было до, и что поменялось после. Пришлось вернуться назад, в детство, раннее и не очень.
На поверку вылилось, что снежно-розовый вихрь являлся в Вилкиной жизни не столь уж и великое число раз. При дотошном подсчете, если отчеркнуть Аделаидова, вышло ровно двенадцать случаев. Вилке же, в силу то ли собственной впечатлительности, то ли от остроты ощущения, до сей поры казалось, будто явление вихря занимало чуть ли не лучшую и большую часть его жизни. К тому же обнаружилась и еще одна прелюбопытнейшая деталь: никогда вихрь не возникал и не крутился в Вилке сам по себе, а непременно по отношению к иному лицу. То есть для этого требовалось всегда как минимум два человека: сам Вилка и тот, кто способен был по существу своему произвести нужное впечатление и вызвать восторг и нешуточную симпатию к себе. И только при подобном условии внутри Вилки Мошкина включался непонятный механизм, который и приводил в движение пресловутый цветной вихрь. Но было и другое.
Припомнив, насколько возможно, каждое явление, Вилка выявил еще одну закономерность. Иным лицом, как правило, оказывался кто-нибудь из его заочных «друзей», то бишь, человек, непосредственно с Вилкой не знакомый и ничем материальным не связанный, вольный поселенец абстрактного мирка, созданного его мальчишеским воображением. А значит, выходило, что никого из них Вилка не лицезрел вживую и никаких контактов ни с кем из них иметь не мог. За исключением бедняги Актера и еще одного только, близкого Вилке человека. Человек этот, а именно дорогая Вилкиному сердцу Танечка Пухова, в замужестве Вербицкая, и была в данный момент главным камнем преткновения на пути Вилкиной мысли, ибо сводила на нет всю стройную систему рассуждения. Если допустить, что загадочный вихрь, не причинявший никакого вреда на расстоянии, являл свою гибельную силу при контакте Вилки с объектом его симпатий, то отчего же, убив Актера, вихрь никогда не причинял ни малейшего вреда Танечке. А ведь с Актером хватило и одной единственной встречи, Танечка же присутствовала вблизи Вилки несчетное количество раз.
«Да, но с Танечкой этот проклятущий цветной хоровод кружился лишь единожды, когда я был совсем малышом и точно помню: сидел у Танечки на коленях. Я жалел ее, и мне хотелось плакать, а потом стало хорошо. И более по отношению к Танечке вихрь не являл себя ни разу», – возражал сам себе Вилка и запутывался еще более прежнего. Но тут же и сказал своим досужим мыслям «стоп»! Осадил и загнал в темный угол, чтоб не сбивали толку. Нужен строгий научный подход, а не слезливые воспоминания. А значит, как утверждал старик Ньютон, одни и те же явления должны по возможности быть объяснены одними и теми же причинами. Тогда выходило, что если бы все дело заключалось единственно в явлении разноцветного вертящегося балагана в сознании, то Танечке однозначно, как и покойному Актеру, еще много лет назад настал бы каюк. А раз ничего подобного не произошло, то собственно радужное кружение в голове здесь не причем. И Вилку осенило. Догадка вышла верная и, по мнению автора, гениальная. Дело не в вихре, то есть и в нем отчасти тоже, дело в виде контакта, да! Чего не было в случае с Танечкой? Она и Вилка не смотрели друг на друга. Вилка и сейчас помнит, как приютился у Танечки на руках, уткнувшись лицом в ее мягкую, полную грудь, глаза его были закрыты, Танечка ласково и рассеянно гладила Вилку по редким волосенкам. И понятия не имела, что там крутится у малыша внутри. Не то было с Актером. В огненном вихре их очутилось двое, когда, встретившись взглядами, из зала и со сцены, они зацепились, словно лодки баграми, друг за друга, и никакими силами расцепиться уже не могли. Актер, чувствуя скорую гибель, пытался сбежать, умолял отпустить, и именно глазами он говорил, слова будто вырывались через его расширенные от ужаса зрачки, а Вилка ничего не понимал и освободиться тоже не мог.
Тут сразу стало легче. И со снежно-розовой напастью тоже можно справиться. Не надо только смотреть. Да, наверняка, можно сделать и так, чтоб вихрь совсем не возникал. По крайней мере, в отношении живых людей, а не когда они в кино или телевизоре. И, о, эврика! Подумать о чем-нибудь особенно мерзком и противном, о цветной вареной капусте, например, которую Вилка и на дух не переносил, и тут уж будет не до восторгов. Зато Вилка перестанет быть социально опасным типом, как выражался порой об отдельных личностях товарищ Барсуков.
Вилка бросился звонить Матвееву, и, плюнув на конспирацию, тут же выболтал все по телефону. Зуля выслушал, ни разу не перебив. И про Танечку, и про Актера. Вроде остался доволен и даже сдержанно похвалил за качественно проделанный анализ. А после аккуратно добавил в Вилкин бочонок меда чайную ложечку дегтя.
– Насколько я тебя понял, одна лишь Татьяна Николаевна, попав непосредственно под воздействие этого явления, смогла уцелеть. А почему только она, как же твоя Аня?
– Да Аня здесь причем? – негодующе зашипел в трубку Вилка. – С Аней никогда ничего такого не было.
– То есть, как, не было? – искренне изумился Зуля. – На тебя посмотреть, так на Аньке свет клином сошелся. И при таком вселенском обожании твоя конфетная карусель ни разу не закружилась?
– Не-ет, – все, что смог ответить Вилка.
– Ну, тогда, брат, ты сам себе врешь. И Аньку ты ни капельки не любишь. Или чего-то ты упустил. Думаю, все не так просто, – постановил Матвеев и, наскоро попрощавшись, повесил трубку.
Вилка же еще какое-то время простоял у нудящего короткими гудками аппарата, как старуха у разбитого корыта.
А ведь верно! Если цветная карусель по сути своей есть выражение Вилкиной сердечной симпатии и даже любви, то и Анечка, и мама, и бабушка Глаша непременно должны были бы хоть единственный раз вызвать ее к жизни. Что же это получается? Самые дорогие ему на свете люди никаких сияющих красками восторгов открыть в нем не могут, а чужие дяди и тети, да еще по телевизору, – нате вам, пожалуйста? С другой стороны, Танечка, почти родной человек, и с ней вышло. Загадка! Прав Зуля, что-то такое Вилка упустил.
Но неясности в явлении вихря были уже не столь опасны и страхолюдным пугалом Вилке не представлялись. Главное, более или менее понятно, как защитить ни в чем не повинных людей от самого себя, и отныне не иметь на совести ничьей погибели. А с неясностями Вилка постановил разобраться в одиночку, не посвящая в замысел Матвеева. Он решил поставить эксперимент.
И не на ком-нибудь, на Анечке Булавиновой. Упаси боже, без малейшего вреда для девочки. Смотреть в прекрасные Анечкины глазки Вилка, конечно, и в мыслях не имел, он вообще не собирался смотреть на нее непосредственным образом. Да в этом и не возникало никакой нужды. У Вилки к этому времени собрался целый отдельный альбом Анечкиных фотографий, черно-белых и цветных, и живая Анечка для эксперимента была совсем ни к чему.
Идея представлялась фантастически простой. Если розово-желтому верчению для самозарождения определенно оказывалось достаточно голого киношного изображения, и это в случае с абсолютно посторонними личностями, то, учитывая Вилкины многострадальные чувства, с Анечкой хватит и фотографий.
И вот, однажды вечером, когда мама с Барсуковым кстати отбыли на закрытый просмотр в Доме Культуры МГУ Смирновской «Осени», Вилка извлек с полки заветный альбом. Разложил самые удачные снимки на столе и стал смотреть. Через полчаса нагляделся до рези в глазах, и все без пользы. Ничто цветное и кружащееся не явилось. Тогда Вилка, подумав немного, сменил тактику. Теперь не тупо пялился на фотографическое изображение, а представил себе Анечку, так сказать, в естественном движении. Как она ходит, как смеется, как небрежно откидывает со лба пышную челку и как иногда, увлекшись разговором, берет Вилку за руку. Затем, как-то непроизвольно, представилось, что он, Вилка, целует Анечку, а та в ответ целует его. На сердце сразу стало горячо, и кровь прилила к щекам. Ага, это уже ближе к истине, отметил про себя Вилка и продолжил воображать в том же духе.
О том, что случилось далее, Вилке после было стыдно вспоминать. Хуже, чем в самых нескромных, эротических снах. Удовольствия и восторги он, конечно, получил, но без всякого вихря, и совсем-совсем другим способом. Тьфу! Эксперимент полностью провалился, что и говорить. Немного оправившись от позора, приведя себя в порядок и попив на кухне крепкого чая для «успокоения нервов», Вилка, однако, постановил ни за что не отступаться. И, уж если с Анечкой вышло такое паскудство и безобразие, то попробовать тот же метод, но уже на маме или бабушке Глаше.
Фотографии опять были разложены на столе, на сей раз из семейного альбома, и Вилка приступил к вдумчивому созерцанию. Но вспоминалась некстати какая-то манная каша с комочками, которую его заставляла есть бабушка в далеком детсадовском прошлом, и хороший, от души, нагоняй за принесенный в дом с окрестной стройки кусок колючей стекловаты. Тогда, преодолев не без усилий собственное злопамятство, Вилка принудил себя думать о светлом и добром. О том, как сильно мама и бабушка его любят и как заботятся и волнуются по пустякам. И как мама защищает его, Вилку, от Барсукова, всегда-всегда становясь на сторону сына, даже если тот неправ. И что бабушка, а она ведь старенькая и видит плохо, все репетиторствует на дому, и из этих денег обязательно откладывает большую часть Вилке на подарок. То на новый велосипед, то на модную сумку для школы. Чтоб внук был не хуже других. А у бабушки Глаши больное сердце и давление на погоду скачет. Ну, как случится инфаркт, и все. Бабушки не станет. И без нее ужас как плохо. А когда-нибудь придет и мамин черед, и Вилка останется на белом свете один или, что еще хуже, с Барсуковым. И будет он несчастный и никому не нужный.
Тут Вилка осознал, что уже вовсю хлюпает носом – из глаз, от жалости к себе, текут ручьем горючие слезы. А чудесного вихря как не было, так и нет. Как раз наоборот, впору бежать топиться от тоски. Стало быть, он снова получил арбуз. И семейная часть эксперимента тоже провалилась с оглушительным треском.
Вилка во второй раз отправился пить чай на кухню. От нервов… Помогло. Но и почувствовал обиду. Как же несправедливо устроен мир. Что же выходит, Танечку, пусть милую и добрую, он любит больше чем родных маму и бабушку? И зачем тогда вообще нужен этот цветной калейдоскоп? Чтоб только гадости подстраивать. Одного хорошего человека погубил, Вилке в душу плюнул. И хоть бы польза от него была б, пусть самая малая! К примеру, что такого замечательного от этого дурацкого верчения получил лично он, Вилка? Ровным счетом ничего. А вреда вышел целый вагон. Или взять Танечку. Слава богу, пронесло тогда, одно счастье, что жива осталась. А в прибытке-то чистый ноль!
Стоп! Стоп, еще раз стоп! Вилка зацепил поразившую его мысль за самый краешек и теперь тянул изо всех сил, чтобы не упустить. Его прошиб пот, то ли от горячего чая, то ли от дрожи, сладко и страшно прокатившейся по телу. Не ноль, совсем не ноль! На секунду запнулся, боясь подумать дальше, замер в предвкушении грядущей разгадки. Пусть не всей и не до конца, пусть хоть чуть приподнимется завеса, но то был уже свет во тьме.
Совсем не ноль получила тогда Танечка, наоборот, целую сотню или даже, если хотите, тысячу. Что случилось вскоре после явления того самого первого в его жизни вихря? Правильно, Танечка вышла замуж. Чего желал ей Вилка? Принца на белом коне, то бишь, на кремовой «Волге». Что-что, а на память Вилка Мошкин сроду не жаловался. Вот принц и был явлен немедленно именно на белой, новехонькой ГАЗ-21.
Но это, допустим, случайность. Хотя очень сомнительная случайность. Ладно, Танечка, пожелав выскочить поскорее замуж, получила то, что хотела, и незамедлительно. Что ж, бывает и такое. Но чтобы в точности по Вилкиному велению и воображению? Порядок подобной вероятности неестественно огромен, и оттого почти невозможен. Эх, кабы у Вилки нашелся еще малюсенький примерчик благотворного влияния вихря на людские судьбы! Да только Танечка – единственный человек на свете, лично общавшийся с Вилкой, вызвавший вихрь и оставшийся при этом в живых. Иные его «друзья» общались с Вилкой, так сказать, в одностороннем порядке. То есть Вилка имел возможность их наблюдать, а сами «друзья» о его существовании знать не знали. И оттого проверить влияние Вилкиных цветных круговращений на их жизненные пути выходило совсем нереальным.
Но и тут услужливая память не дала Вилке поблажки. Поднесла каверзу на блюдечке. Как по волшебству в голове зазвучали давние слова мамы Люды: «И каких только бездарей по телевизору не показывают! Без таланта и без голоса! Видно, лапу волосатую имеют!». А вот вам фиг! Не лапа, а он, Вилка, делал карьерные взлеты своим любимцам. То есть, некоторые середнячки, незаслуженно вылезшие в большие звезды, наверняка имели лапы различной силы и длины. Но Вилку интересовали исключительно те из них, кто по странной прихоти его симпатий вызывал цветную круговерть.
Вилка, верный научному методу, не стал полагаться на слепую случайность доводов. Так и возник Альбом Удачи. С виду, конечно, это был никакой не альбом, а простая общая тетрадь в твердом переплете, несколько дефицитная по тем сказочным, застойным временам, тускло-коричневым дерматином напоминавшая обивку входных дверей лестничной клетки. Но Вилка, как в первый раз открыл ее на первом же глянцевом листе, так и стал именовать тетрадь не как-нибудь, Альбомом с большой буквы. В нее со школьной, прилежной тщательностью он выписал по именам и фамилиям всех до одного своих «друзей», вклеил фотографические карточки, добытые из старых номеров «Советского экрана», «Огонька» и форзацев книг, и завел своеобразный учет. Как «друзей», не блиставших особенными способностями или обладавших достоинствами сомнительного качества, так и безусловно талантливых и даже гениальных личностей. Вилка, подумав, рассудил здраво, что талантливые скорее нуждались бы в удаче и поддержке, чем бездарные, но пройдошливые серости, и оттого влияние вихря на их судьбы отследить, возможно, будет проще.
Но, помимо, заведенного им кондуита, Вилкино «Я» нуждалось безотлагательно и срочно в одной еще весьма необходимой вещи. А именно в собственном самоопределении. Качества, открытые или приписанные Вилкой самому себе, требовали от него внутренних постановлений. Тогда Вилка и решил именовать себя в своих собственных мыслях и представлениях не как-нибудь, а красиво: «торговец удачей». Однако Матвеев с ним не согласился:
– Глупость какая-то, а не понятие! Разве ты торгуешь? Торговля – это когда ты кому-нибудь даешь одну вещь, а взамен получаешь другую или, скажем, деньги. А ты что получаешь, кроме неприятностей? И удача у тебя подозрительная. Если, конечно, дубовый гроб полтора на два можно вообще назвать удачей! Но, ладно. Пусть будет «торговец», раз тебе так хочется.
Само собой, Матвеев был в курсе и Альбома и Вилкиных расследований. Он и помогал. Собирал информацию и компромат на «друзей», приносил статьи и журнальные вырезки. И со временем, если принимать Вилкины судьбоносные способности всерьез, пришел к выводу, который сам Вилка из виду упустил. Удача, даруемая вихрем, как и любой вид энергии, имела тенденцию к довольно быстрому рассеиванию. То есть, чтобы поддерживать постоянный уровень везения «друга», Вилка должен был неукоснительно подпитывать того своим вниманием и по возможности добрыми пожеланиями. Так двое его «друзей» из довольно раннего школьного детства перестали впечатлять Вилкино воображение, и естественным образом оказались им позабыты. На беду, оба «друга», один из них актер из нашумевшего в свое время юношеского революционно-героического сериала, красный дьяволенок, и второй, вернее вторая, милая девушка, исполнявшая роли принцесс в нескольких фильмах, обновлявших репертуар передачи «В гостях у сказки», особенными талантами совсем не блистали. И вскоре после абсолютного забвения их Вилкой полностью прекратили свой звездный взлет. Однако, когда произошло мысленное возвращение к ним младшего Мошкина, в течение всего лишь полугода не только вынырнули из небытия и периферийной халтуры, но и снялись каждый в отдельной художественной ленте, тут же прославившей их на весь Союз.
Справедливости ради надо сказать, что Вилка поднял забытых им «друзей» обратно из грязи в князи не ради эксперимента по настоянию естествоиспытательского зуда, возникшего у верного оруженосца Матвеева. Вилку посетили искренние угрызения неспокойной совести. В конце концов, очень жестоко по собственной прихоти подарить людям удачу и славу, которую самостоятельно поддерживать они никак не смогут, а после, в силу одной только забывчивости и равнодушия к прежним кумирам лишить их всего. И Вилка дал себе самое святое слово, что отныне и вовеки, каждую неделю будет сверяться с Альбомом Удачи и проверять, не забыл ли он часом, не пропустил ли, не обездолил ли кого из «друзей» вниманием и поддержкой.
На многое открылись вдруг его глаза и в отношении Танечкиной жизни. Самое обидное и страшное подозрение повзрослевший Вилка испытывал от мысли, что навязал двум ни в чем не повинным людям подневольное существование. Что Танечкин брак долгое время не мог функционировать без Вилкиного, пусть и неосознанного вмешательства, было очевидно. Отсюда и мужнины прошлые загулы, и Танечкины жалобы, и немедленное прекращение бедствий после посещения дома Мошкиных. Не так уж и неправа оказалась Татьяна Николаевна, говоря, что у Мошкиных ей ворожат на удачу. Эх, знала бы она! Но теперь уж ничего поделать было нельзя. И Вилке предстояло до конца дней своих или Танечкиных нести ответственность за благополучие в семействе Вербицких. Однако и тут его утешил Зуля Матвеев:
– Дурья башка, и больше ничего! Во-первых, твоя Татьяна Николаевна сама напросилась и потом, она же получила то, что хотела? А во-вторых, что бы с ее муженьком сталось без твоего вмешательства тоже неизвестно. Может, спился, а может, еще чего похуже. Так что он бога должен за тебя молить. Да ты и сам говорил, что последнее время они почти не ссорятся, а куда как мирно живут себе поживают. Все к лучшему.
– Зуля, погоди, – Вилка на миг запнулся пораженный одной внезапной догадкой, – а не может статься, что моя удача обладает как бы кумулятивным эффектом? В смысле имеет определенное свойство накапливаться. При контакте и постоянном воздействии, конечно.
– Все может быть, – важно кивнул Матвеев. – Надо бы проверить. И вообще, в твоем случае еще много чего непонятного. Надо, надо все проверить.
– Надо, – ответил Вилка и сумрачно вздохнул.
Уровень 9. Анакен Скайуокер
Девятый учебный год, независимо от следствия двух знатоков, неумолимо шел своим чередом. И тернии были на его пути. Как будто Вилке не хватало проблем с самим собой! Но на то она и школа, чтобы нахально и язвительно не считаться с личными, жизненными ситуациями.
С Анечкой тоже не все обстояло благополучно. Нет, не то чтобы она переменилась в своем отношении к Вилке, к несчастью, не те это были отношения, чтобы меняться от прихоти симпатий, но все же в подруге многих своих школьных лет суровых явно сквозила некая напряженность, направленная именно в Вилкину сторону. Он догадывался, а честнее сказать, знал определенно, что сам вызвал в Анечке это душевное состояние. Слишком замкнувшись на собственных блужданиях в лабиринте самоопределения, Вилка упустил совершенно из виду, какое впечатление произведут его внутренние поиски разгадки своей сущности на людей, в его тайны непосвященных. И в Анечкиных глазах все чаще читал он досадное недоумение, а то и тревогу. Посвятить же ее в страшноватые загадки своего сомнительного дара Вилке не виделось никакой возможности. Не хватало еще напугать и оттолкнуть единственную на свете девушку, с которой Вилка мог мыслить себя рядом. Если его побаивался даже Зуля, а Вилка кожей чувствовал, что это так, то что уж говорить про Анечку! Может, однако, он был и несправедлив по отношению к ней, но проверять на практике состоятельность своих предположений Вилка не считал возможным. Слишком дорога была ему Анечка. Оставалось терпеть и надеяться, что со временем все утрясется.
Но было и еще кое-что. Смутно тревожное и неприятное. Касавшееся и Анечки, и самого Вилки, и еще одного, явно лишнего, третьего лица.
Лицо это появилось в школе нельзя сказать, чтобы неожиданно или как снег на голову. Напротив, его явление было даже прогнозируемо. Предыдущий Вилкин учитель физики, суровый, сухой старикашка, благополучно доведя прошлогодний десятый «А», в коем он предводительствовал как бессменный классный руководитель, до выпускных экзаменов, решил исполнить свою многолетнюю угрозу, отправившись на пенсию. Не то, чтобы его уход вызвал бурю неслыханного горя и массового, трагического вырывания волос на голове, но и особенно худых слов в его адрес отпущено не было. Ушел и ушел, обычное дело. Тем более что по определению Ромки Ремезова, физик являл собой классический образец старого пня средней паршивости.
На место старого пня директор с нового учебного года посадил молодое деревце. Чем вызвал среди школьного народа известное волнение, особенно среди несознательной женской его половины. Новый физик, Столетов Петр Андреевич, был черняв, смазлив, высок и, главное, соблазнительно молод. В школу его привела заботливая материнская рука, дружная с завучем по учебной части, и ожидание места в аспирантуре МИФИ, диплом которого Петр Андреевич имел честь получить нынешним летом.
В Вилкином классе явление молодого Столетова народу вызвало довольное улюлюканье. Нет, никто отнюдь не имел в виду доводить новичка учителя, «нарушать безобразие» или устраивать праздник непослушания. «Второшкольники» слыли людьми серьезными, стремящимися к знаниям, а многие уже занимались и с частными репетиторами. Но малый возраст нового преподавателя навевал приятные мысли о равноправном общении и дискуссиях на злободневные научные темы, чего бы «старый пень» ни за что б на уроках не допустил. А были среди Вилкиных одноклассников и такие, кто собирался впоследствии поступать именно на инженерно-физический, их просто не могли не интересовать личные впечатления вчерашнего выпускника прославленного ВУЗа. Словом, свежеиспеченный учитель физики пришелся как нельзя более ко двору.
Вилка, баранья голова, тоже воспринял появление Столетова с энтузиазмом. Но, как оказалось впоследствии, ненадолго. Он был тогда еще слишком юн и доверчив, чтобы понимать некоторые безжалостные, жизненные истины. А именно тот простой закон, который ведом тем, кто изрядно набил об него шишек. Если ты присутствуешь вблизи бесспорных ценностей, пусть даже не обладаешь ими, но охраняешь для кого-то другого или просто имеешь право их созерцать, будь готов к непременной зависти, подлым подвохам и провокациям. Одним словом, к неприятностям. И совершенно не играет никакой роли ни возраст конкурирующего претендента, ни обязательства его положения, ни даже общепринятая этика взаимоотношений. Когда дело идет о страстях человеческих в погоне за кладом, ангел порядочности надолго остается без работы.
А Вилка обладал подобным кладом. По крайней мере, на взгляд Петра Андреевича Столетова. Что же имелось такого ценного у обычного московского школьника, пусть и с математическим уклоном? Такого интересного уже взрослому, самостоятельному человеку, но до сей поры так и не обнаруженного? Да то же, что и ранее, и до смешного просто. Просто. Просто Вилкина великая ценность росла вместе с ним, росла и доросла до того времени, когда ценность ее стала очевидна не только покойному подлецу Борьке, но и здравствующему молодому мужчине, взявшемуся открывать премудрости природы недорослям из девятого «А». И смешно толковать о допустимости и аморальности скрытых чувств и желаний Петра Андреевича, вчерашнего студента, и по сути своей, совсем недалеко ушедшего от юношеской пылкости собственных учеников. Беда заключалась лишь в том, что стареющая юность Петра Андреевича стремительно перетекала в жаждущую молодость, а Вилкино повзрослевшее детство пока еще не стало прозревающей юностью. И не было в природе того спасительного поля, где они могли бы равноправно сойтись для битвы или переговоров.
Ценность носила старое и вечное для Вилки Мошкина имя. Анечка. Круг замыкался в том же месте, где и начался, как это свойственно любому кругу. И вскоре последовала массированная атака на ничего не подозревающие, мирно спящие Вилкины позиции.
Надо сказать, что Анечка, в завидном отличии от своего простодушного друга, понимала и прозревала все происходящее вокруг нее. И стоит ли винить ее в том, что по многолетней привычке Анечка выбрала единственную, свойственную ей до сей поры тактику защиты. Спряталась за долговязую и преданную ей до кончиков ушей Вилкину фигуру. Нарочито близко держалась рядом и, казалось, шагу не желала ступить без своего верного оруженосца. Как ни старался выманить ее на открытое пространство Столетов.
Сам Петр Андреевич, к его чести будет сказано, вовсе не имел в виду примерить на себя роль коварного соблазнителя несовершеннолетних девиц, и уж тем более не прочил Анечку в Набоковские героини. Но чувство свое счел достаточно серьезным, Анечку же достаточно заслуживающей внимания, чтобы проторить себе дорожку на будущие годы. В самом деле, друг от друга учителя и ученицу отделяло каких-нибудь восемь несерьезных лет и два финальных класса школы. А после завершения девушкой среднего образования можно было бы приступать и к настоящим, далеко идущим ухаживаниям. И, как правильно мыслил себе Столетов, для верности ему желательно и приятно выходило направить романтические и дружеские Анечкины симпатии на собственную персону.
Но, сам того не подозревая, ему мешал настырно присутствующий вблизи Анечки Вилка. Ничего не ведающий, и не смеющий даже вообразить, что кто-то из школьных его преподавателей, как бы молод и хорош собой он ни был, может иметь в голове нечто, помимо учебного процесса и табельной дисциплины. Сама Анечка, конечно же, не потрудилась разъяснить старому другу всю глубину его заблуждений. Она тоже пребывала в замешательстве.
Только суть ее смятений вряд ли пролила бы бальзам на сердце Столетова. Физик ей не нравился. То есть, как физик он был весьма даже ничего, но вот в смысле мужских достоинств и экстерьера не открыл в девушке никаких чувств, кроме досадной неприязни. Как существо противоположного пола он вызвал к жизни в Анечкином вербальном пространстве одно лишь определение: малахольный! И не очень-то представляя, как благоразумней всего поступить в такой ситуации, нажаловаться родителям, или отправиться с доносом прямо к директору, Анечка избрала для себя третий путь. Дала понять Петру Андреевичу, что место занято, притом давно и надолго. Тем более что подобная демонстрация ее расположения к Вилкиной особе ни к чему вовсе не обязывала. И без того давным-давно они не разлей вода.
А Вилка, погрязший в самосозерцании и прохлопавший ушами все на свете, был спокоен как военная база в Пирл-Харборе в ночь на шестое декабря. Петр Андреевич, напротив, спокойствием себя не обременил и даже ощущал свою персону оскорбленной. Как! Какой-то белобрысый, верстообразный сопляк сочтен достойным удивительной девушкой, а он, преподаватель и без пяти минут аспирант, остроумный, симпатичный и вообще предмет вожделений многих женщин не вышел рылом! Но на Анечке сорвать свою злость Столетов счел за низость, а главное, это не имело смысла. Вилка же подходил на амплуа козла отпущения идеальным образом. К тому же, третируя младшего Мошкина, Петр Андреевич приговаривал к смерти сразу двух зайцев: вытравливал пар и выставлял мнимого счастливого поклонника на позор и осмеяние, как полное ничтожество, а, стало быть, умалял Анечкины симпатии к сопернику.
Так понеслось и закрутилось. От урока к уроку, от одной «случайной» встречи в общей рекреации до другой.
– Ты, Мошкин, выдавливаешь решение, будто из тебя глисты выходят, – звучало, когда безмерно часто опрашиваемый на занятиях Вилка медлил пару секунд с ответом. Или:
– С такими потрясающими способностями тебе не то чтобы в математики, в колхозные счетоводы дорога закрыта, – это, когда Вилка ошибался при конечной подстановке цифровых значений в полученную формулу, что по невнимательности бывало с ним частенько и ранее. Только ушедший на пенсию «старый пень» никогда не ставил ничего подобного Вилке в вину. Главное, формула выведена верно, а сосчитать и калькулятор сможет.
– Мошкин, ты сейчас своими соплями всю школу затопишь. Или тебя не учили пользоваться носовым платком? Ты, может, и туалетной бумагой пользоваться не умеешь? Ах, умеешь. А по виду не скажешь. На-ка, вот возьми, – и Петр Андреевич на глазах у гогочущей малышни протягивал пунцовому от его бестактности Вилке уродливую, клетчатую, оранжево-коричневую тряпку из собственного кармана. – Давай, давай, сморкайся, чтоб я видел. Во-от… Ну что ты мне назад свои сопли суешь, дома постираешь и принесешь.
А Вилка, вместо того, чтобы дать по роже, или хотя бы оттолкнуть руку с платком, послушно сморкался и после нес изгаженную тряпицу стирать домой. В нем еще слишком сильно присутствовало с детства лелеемое почтение к старшим и к школьным учителям в особенности. О даже не находил нужным объяснить Столетову, что его сопли – элементарное злоупотребление дефицитными апельсинами, на кои Вилка имел к несчастью злостную аллергию. И что вышеозначенный тропический фрукт вызывал пренеприятнейший отек носоглотки, и его сопли бессмысленно было сморкать и даже лечить «Нафтизином».
Гром грянул под Новый Год, когда Вилка взял в руки первый итоговый табель. Напротив пропечатанного в графе слова «физика» красовалась жирно и с удовольствием выведенная «тройка». Эффект мало сказать, что был велик. Никогда до сего дня эта клетка для оценки не видала иной цифры, кроме «пятерки», и, заметьте, в физико-математической школе. А это о чем-нибудь, да говорит. Вилка только представил себе на минуту, какой каскад скандалов его ожидает дома от злопамятного Барсукова, и как огорчится его нерадивости мама, что сразу же отставил свою мягкую незлобивость в сторону.
– Петр Андреевич, но почему? За что? – закричал он, адресуясь прямо в насмешливое, безжалостное лицо Столетова. И тут, к Вилкиному стыду, глаза его самопроизвольно намокли слезами. Жидкость, пользуясь обидой, как насосом, сразу же перелилась через край, и классу предстал натурально плачущий двухметровый телеграфный столб, с комичным отчаянием прижимающий к сердцу раскрытый дневник.
Столетову даже не пришлось ставить рыдающего дылду на место. Класс и без того грохнул согласным смехом. Петр Андреевич тоже позволил себе улыбку, словно поддерживая и одновременно дирижируя веселым настроением учеников. Тем паче, что двое из них совсем не смеялись. Анечка, белая от ярости, кусала губы, дабы не наговорить еще более во вред обличительных грубостей. И также от веселья был далек заговорщик Матвеев, менее заметный, но более дальновидный и знающий. Нехорошее, пусть и неопределенное пока ощущение угрозы уже накатило на Зулю изнутри. Он скорее сейчас согласился бы предстать с голым задом пред Ленкой Торышевой, чем рискнул бы вместе со всеми потешаться над Вилкой.
Вилка же в тот момент сознавал только, что все его уважение к физику медленно и верно испаряется неведомо куда, и на место утекающего чувства приходит другое, то самое, какое он дал себе клятву не испытывать ни к кому и никогда. И Вилка испугался, и повелел себе остановиться. Слезы же немедленно высохли сами собой. Черт с ней с несправедливостью, пусть и такой вопиющей, но лишь бы не ЭТО.
Дома его, согласно прогнозу, ждал шквалистый ветер, переходящий местами в ураган, и продолжительный ливень из упреков и печальных пророчеств о его, Вилки, вероятном будущем. Мама, заподозрив неладное, пыталась доискаться до истины, но Вилка не стал переводить стрелки на подлеца-физика. С ситуацией, как ему казалось, он благоразумно предпочел разобраться сам. Одно он с запоздалой сообразительностью уяснил наверняка: Петр Андреевич не просто выставил Вилке незаслуженную «тройку», а объявил тем самым о своей сильнейшей неприязни к ученику Мошкину как таковому.
Со своими выводами и предновогодними поздравлениями Вилка отправился в гости к Булавиновым. Он по-прежнему посещал Анечкин дом с регулярностью, достойной президентских выборов в Америке, то есть являлся каждое воскресенье и в праздники без исключений.
И чуть ли не с порога, отдав бабушке Абрамовне подарочный «Киевский» торт, пожаловался Анечке на судьбу-злодейку в лице коварного физика. Ответ Анечки был пылок и неожидан:
– Дурень, ох, какой же ты дурень! Вот! Дурень из дурней! И я хороша! Тоже дура набитая! Вот и еще раз вот!
– Да погоди, да отчего я дурень-то? – залопотал несколько сбитый с толку Вилка. – Ты объясни сперва, а потом обзывайся. Вот!
– И ничего я не стану объяснять. И не проси. Вот! – категорично постановила Анечка.
– Никто ничего не желает объяснять! А я заставлю! Не ты, так пусть Столетов объяснится. Это произвол! – загрохотал басом внезапно озлившийся Вилка. – Завтра же поеду к нему домой. Возьму адрес в школе и поеду!
– Господи, ну что ты за идиот такой! Никуда не смей ехать! Вообще на пушечный выстрел к нему не подходи, к этой гадине! И держись от меня подальше, с сегодняшнего дня! Вот! – Анечка раскричалась и даже топнула ногой. Благо Анечкиных родителей не было дома, а глуховатая Абрамовна плохо слышала из кухни.
– Да как же? – опешил от ее слов Вилка. – Как это: держаться от тебя… А Столетов и правда гад. Он мне табель испортил ни за что. Мне с «трояком» никак нельзя.
– Вот именно! И держись от него подальше! И от него, и от меня! – сказала Анечка, и как отрезала. Но тут же пожалела, впечатленная насмерть убитым Вилкиным видом. – По воскресеньям можешь приходить, как всегда! Даже непременно. А в школе ни-ни!
И слово сдержала. С нового полугодия гнала Вилку в школе от себя чуть что не кулаками. А Вилка решил проявить характер. И в первое же воскресенье демонстративно не пришел. Хотя должен был вместе с папой Булавиновым везти кота Модеста жениться к знакомой кошке. Вместо этого Вилка направил свои стопы к Матвеевскому порогу. Там и пожаловался другу Зуле на несправедливости, его постигшие.
Зуля слушал не слишком внимательно, даже рассеяно, словно, все, что Вилка нудно и обиженно ему толковал, знал уже давно и без него.
– Ты пойми. Он на каждом уроке меня спрашивал, причем не у доски, а с места. И дневник не просил. Я думал, он так просто. А он в журнал ставил. Я ж не знал. Поди проверь. Но я этого так не оставлю, фигу ему! – Вилка скрутил плотную «дулю» и за отсутствием Петра Андреевича сунул свое произведение Зуле под нос. – Я к директору пойду. И докажу. Пусть сравнят, что в дневнике и что у него в журнале!.. Мало мне неприятностей, так еще Аня только что в рожу не плюет. И это за все… после всего…
– К директору, ты, конечно, пойди. А то Столетов тебя загрызет совсем, – одобрил план спасения Матвеев. – Но Анька права: не крутись возле нее. Временно.
– И ты туда же. Да что же это такое творится на белом свете? – риторически возопил Вилка.
Однако ответ ему все равно был дан. Матвеев, хмурясь, подробно и без околичностей изложил Вилке, что же, собственно, на свете творится. И выходило, что Вилка все это время был слеп, как везение, и придурковат, как водевильный недоросль.
– Зуля, да ведь он – учитель! Разве может такое быть? – спросил Вилка, но уже и сам знал, что Зуля рассказал ему кристальную правду. – И что же делать? Морду ему, паскуде, набить?
– Морду бить не надо. Не за что пока. Анька его терпеть не может. И из-за тебя, и вообще. А приставать открыто Столетов не решится. Плохо то, что ты единственный, на ком он сможет отыграться. Да и отыгрывается уже.
– Тем более, пойду к директору. Должен же я себя защищать. Раз в морду нельзя, – постановил Вилка.
– И правильно. А я подтвержу, если надо, – утешил друга Зуля. – Сейчас давай делом займемся. Смотри, что я за прошлую неделю насобирал.
И вывалил перед Вилкой клочки газетных и журнальных вырезок. Последние несколько месяцев ребята ставили, что называется, глубокий эксперимент. У Вилки как раз случилось новое явление вихря и новая симпатия, свежее музыкальное увлечение. Поэтому было решено отследить влияние Вилкиных восторгов и пожеланий непосредственно на «тепленьком» объекте.
Объект исследований, новомодный исполнитель Рафаэль Совушкин, лидер и вокалист, а по совместительству и композитор группы «Намордник» выпевал то ли тяжелый рэп, то ли легкий рок, определить было не просто, чем и произвел на Вилку неожиданное и глубокое впечатление. Группа Совушкина, в идеологическом плане несколько сомнительная, за последнее время, и, очевидно Вилкиными стараниями, добилась громадного успеха. Только, по культурным соображениям и пожеланиям свыше, сменила название и теперь именовалась «Пирамидальной пирамидой». А в целом чувствовала себя в свете софитов и телекамер весьма неплохо, была приглашаема и на радио «Маяк», и в «Голубой огонек», и в «Доброе утро» Николая Юрьева. Вилка вырезками остался доволен и мысленно повелел «пирамидальному» Рафаэлю: «Так держать!». Парочку же особо удачных заметок прихватил с собой для Альбома.
Спустя несколько дней, Вилка, собравшись с мыслями и вещественными доказательствами, отправился в директорские палаты на разборку. И вскоре на ковер, после Вилкиной горячей, пятиминутной тирады, был вызван самолично Столетов с классным журналом девятого «А». Директор, пока еще молча, взял у Петра Андреевича журнал, а у Вилки дневник. Но долго созерцать то и другое ему не пришлось. Все скоро и окончательно стало директору ясно.
И тут Столетов быстро-быстро заговорил, будто застрочила спешащая с работой швейная машинка. Вилка был у него такой, был и сякой, и дневник нарочно забывал дома или нагло врал своему учителю, что забыл. И выходил младший Мошкин расхлябанным, отсталым, но злонамеренным дегенератом, возводящим лживый поклеп на чистейшего душой преподавателя физики Столетова.
Только и Директор, даром, что старый волк, оказался не лыком шит. Как же так, до сего года Вилка, по предмету круглый отличник, и математичка не нахвалится, и «старый пень» ему всегда симпатизировал, вдруг вышел в дегенераты? И почему его одного единственного Петр Андреевич, судя по записям в журнале, пытал каждый свой урок и непременно на «тройку»? Тут подоспела на выручку Софья Моисеевна, божий одуванчик, преподаватель русского и литературы старого образца, Вилкин классный руководитель. И, всплескивая от волнения сухонькими ручками, защебетала о том, какой отрадой служит для нее послушный и трогательно почтительный паренек, который, между прочим, на ее памяти, ни разу в жизни не сказал неправду.
Директор же Петра Андреевича мало сказать недолюбливал. Он, в свое время намыкавшийся по городам и весям, номерным «ящикам» и бериевским еще «шарашкам», потерявший зубы и здоровье, терпеть не мог маменькиных сынков, уклонявшихся в спецшколах от неудобных распределений. А басни про аспирантуру считал несерьезными. Кабы были у Столетова настоящие таланты, глядишь, и место бы нашлось, это все же МИФИ, а не министерство иностранных дел. Однако при Вилке зарвавшегося физика он песочить не стал. Дал сначала мальчишке выйти, хотя и кивнул на прощание по-отечески сердечно. Чтоб успокоить паренька и заодно дать понять кое-кому, что разговор предстоит серьезный и без дураков.
После сцены у директора внешняя, учебная жизнь Вилки вернулась в свое обычное русло. Столетов на уроках не шпынял и оценки ставил даже нарочито завышенные, но более в комментарии ни своих, ни Вилкиных поступков не вдавался. Вилке же на душе было муторно. И вовсе не из-за доноса. Петр Андреевич по его пониманию сподличал первым, подняв руку на слабого и зависимого, да еще и оболгав его, а Вилка, в общем-то, поступил по закону. Конечно, кое-кто мог бы и сказать, что младшему Мошкину следовало разобраться с обидчиком самому, с глазу на глаз, без ябедничества и вмешательства сверху. Но Вилкина совесть успокаивала и на этот счет. Слишком неравны были силы и весовые категории противников. Ведь и ограбленный на улице прохожий тоже не пойдет сам ловить преступников, вооружившись для острастки кухонным ножом, а позовет на помощь правоохранительные органы. К тому же, Анечкино имя упомянуто не было.
Тошно же Вилке делалось всякий раз, когда он непосредственно встречался с Петром Андреевичем лицом к лицу. И нехорошее было лицо у Столетова. Нет, даже не ненависть к находчивому сопляку читалась на нем. Дело обстояло гораздо хуже. В глазах Петра Андреевича он сопляком более не являлся. Произошедшее будто бы уровняло их в возрасте и правах, и Вилка виделся Столетову совсем не мальчишкой, а настоящей, взрослой угрозой его планам и надеждам. Оттого воевать с ним требовалось не учительскими методами и оценками в дневнике, а грозными, грязными приемами из мира больших людей. Здесь у Столетова было явное преимущество и достаточный опыт. И его тактика требовала жертв.
Вилка будто кожей ощущал колючую, ледяную волну, каждый раз окатывавшую его с ног до головы при одном взгляде на затаившегося и молчаливого до поры учителя физики. Но молчание Столетова длилось не долго.
Хотя Анечка по-прежнему строго соблюдала собственное постановление и в школе гнала Вилку от себя, только полный дурак смог бы обмануться видимой подоплекой ее поступков. Столетов как персона заинтересованная понял это сразу. Как и то, что возможность осуществления его желаний по отношению к девушке при благоденствующем Мошкине мало отлична от абсолютного нуля. Для начала Петру Андреевичу было бы весьма и весьма желательно вывести Вилку из равновесия и заставить совершать непредсказуемые, гневные и оттого глупые и опасные поступки. И тогда Столетов заговорил.
В первый раз Вилка ничего не понял и решил, что, либо ослышался, либо тут же, в школе, внезапно сошел с ума. Но, во второй раз, стоя у доски, и слушая тихий звук голоса Петра Андреевича, обращенный единственно к нему, и ни к кому более в классе, осознал, что война объявлена и даже уже идет.
А говорил Столетов жутко и стыдно. Потому что говорил об Ане. Более не делая ненужной тайны между собой и Вилкой об истинном предмете их разногласий. И вовсю спекулировал Вилкиной еще почти детской доверчивостью, возводя свои невозможные, мстительные планы в категорию чуть ли не осуществленных вещей.
Вилка и во сне теперь слышал его свистящий шепот, звучавший до того у доски, у учительского стола, на переменке, когда дежурил по классу, и содрогался от смысла и вяжущей грязи слов:
– Что, дружок, натянула тебе нос девчонка? А ты побегай, побегай за ней, – и дальше уже с приглушенным торжеством снившийся ему Столетов поводил итог:
– Да она тебя знать не желает, дурачок. А со мной переписывается. Листочки в тетрадку: она – мне, я – ей. Хочешь, покажу? Нет? И правильно. Зачем себе зря душу травить. Завтра в кино собрались. «Новые амазонки», польский фильм. Билеты – страшный дефицит.
И все в том же роде. Вилка не знал, верить или нет. С одной стороны, Столетов гад и трепло, и он слишком хорошо знал Аню, чтобы хоть на мгновение заподозрить ее в симпатиях к такому низкому и отвратному существу. Но, с другой стороны, именно потому, что действительно знал подругу слишком хорошо, допускал в ее поведении глупые, самоотверженные поступки, которые Анечка действительно могла совершить ради дорогих ее сердцу людей. И раз уж она столь решительно отстранила от себя Вилку, то вполне могла ради его же безопасности затеять рискованные игры со Столетовым.
Прямо спросить Анечку он не решался. Даже, когда по-прежнему, оставив в стороне ненужное самолюбие, являлся в дом Булавиновых по воскресеньям. И неизвестно, чего Вилка боялся сильнее. Того, что вынудит Аню слушать нечистую ложь, или того, что узнает от нее самой страшную для него правду. И ведь Анечка в любом случае ничего не позволит Вилке предпринять, он добьется только того, что ему в очередной раз запретят вмешиваться в это пошлое и мутное дело. Поделиться с Зулей тоже было никак нельзя. Это не история с дневником, здесь лишний свидетель вреден и не нужен. Тут поединок один на один. И уж с Вилкиной стороны он будет честным. Как бы ни повел себя Столетов, и какое бы оружие ни призвал себе на помощь. При мысли об этом в душе Вилки, против его воли, сам собой закипал неудержимый гнев. И сдерживать его с каждым разом выходило все труднее.
Пока, однажды, в апрельский день рождения Ильича, Вилка невольно не преступил предел.
Уровень 10. Над Припятью во лжи
Двадцать второго апреля, традиционно и вековечно, в школе имел место ленинский коммунистический субботник. Учителя и ученики, бок о бок, трудились над уборкой школы и территории, сдавали металлолом и макулатуру, чинили школьный инвентарь и предавались иным видам общественно полезных работ.
Девочки из девятого «А», как, впрочем, большинство девочек из других классов, по преимуществу мыли парты и полы, – окна по холодному времени открывать и приводить в порядок пока запрещалось, – убирали столовую и спортзал.
Ребята, само собой, больше проявляли трудовой энтузиазм на открытом воздухе. В углу двора скопилась за зиму изрядная, смерзшаяся куча мусора, требовавшая немедленной эвакуации, необходимы были и рабочие руки для погрузки вторсырья на специально прибывшую машину. Вилка с Зулей и Ромкой Ремезовым вооружились фанерными лопатами и отправились убирать остатки снежной, еще не стаявшей грязи на футбольное поле. К ним добровольно и тоже с лопатой пристроился наблюдающим и руководящим преподавателем Петр Андреевич Столетов.
Вилка появление вблизи себя Столетова воспринял как привычную неизбежность, и сильно удивился бы, выбери Столетов поле деятельности, территориально далекое от Вилкиного местонахождения. Вилка долбил мокрый, упорный в своем сопротивлении сугроб углом лопаты, и обреченно-терпеливо ожидал, когда Петр Андреевич, улучив удобный момент, начнет свое обычное словоблудие. Вилка даже гадал, куда именно в этот раз отправится Столетов вместе с Аней: в театр или в кино? Пару раз Вилке случалось ловить Петра Андреевича на враках, когда в преднамеренном разговоре с Анечкой выяснялось, что она и в глаза не видела тех кинолент, которые, согласно легенде, должна была посещать в компании Столетова. Однако, к Вилкиному огорчению, результат получался иногда и обратным, Анечка действительно смотрела фильм или спектакль, о котором упоминал Петр Андреевич. И ходила Анечка на просмотры без Вилки. Правда, мама ее, Юлия Карповна, была заядлой театралкой, при случае посещала и кинозалы, но, кто знает? И Вилка приходил к печальному выводу, что Столетов местами, конечно, нагло врет, но местами, к несчастью, нет.
А Петр Андреевич Столетов был далек от торжества, как от небесных тел. С Анечкой, говоря современным языком, у Петра Андреевича вышел полный и обескураживающий «облом». Никаких культурных походов и нежных записочек не существовало нигде, кроме его собственного воображения. Более того, каждый раз вблизи девушки Столетов почти физически ощущал некую ауру неприязни с примесью отвращения, нацеленную на его собственную, неотразимую персону. То есть, вопреки своим хитроумным планам, Петра Андреевич получил то, о чем мечтал, с точностью до наоборот.
Уязвленному физику уже не осталось иного выбора, как сорвать накопившуюся горькую злобу на чертовом мальчишке, глупом, доверчивом недоноске, так некстати возникшем на пути его великолепных замыслов. И Петр Андреевич принялся ткать свою изящную, лживую паутину, с фантазией и настойчивостью, действительно заслуживающими лучшего использования. Но постепенно со временем опутанный и замученный сомнениями Вилка словно бы смирился с истекающими на его голову сточными водами, уже не бледнел и не тискал в карманах кулаки, а лишь отстранено и обреченно внимал ежедневным журчаниям Столетова. И тогда окончательно потерявший всякий разум Петр Андреевич обрек себя на опасную и непредсказуемую в последствиях крайнюю меру, рассчитанную на гарантированное выведение противника из себя. Он решил перейти от сказок о театрах и кино к рискованным и порочным в намеках сценариям возможного обладания им девушкой Аней как таковой. И замысел свой, не откладывая в долгий ящик, начал приводить в исполнение на футбольном поле ленинского труда.
– Как ты думаешь, Мошкин, девочка Аня любит шоколадные конфеты? – зашипел привычно-осторожно Столетов чуть ли не в самое Вилкино ухо, продолжая при этом равномерно и рядом махать лопатой. – А может она и шампанское любит? Ты не в курсе, само собой. Впрочем, это можно легко проверить. Например, сегодня вечером.
Вилка, как и рассчитывал Петр Андреевич, ошалело покосился в его сторону. Но промолчал. Петр Андреевич же, перехватив вдох, продолжил:
– Да, да, вечером, у меня дома. Видишь ли, так уж вышло, у моей мамы есть друг, и как раз именно сегодня она очень захотела его навестить. А ты знаешь, что такое друг одинокой женщины? Это когда навещают обычно до утра. Ты никого еще не пробовал навещать до утра?
К несчастью, Вилка понял все, что хотел сказать ему Столетов, и волосы у него на голове приподняли вязанную шапчонку на добрый сантиметр. В руках у Вилки была лопата, и хорошо, что не железная, ибо он почувствовал непреодолимо желание употребить ее не по назначению. Потому что стена уже стояла впереди него и страшно манила к себе тусклой чернотой. «Уж лучше фанерой по башке», – решил про себя Вилка, понимая, пусть будет, что угодно, только не это. Зуля, по правую руку от него соскребавший грязь с бортика ограждения, тоже вдруг остановил свой созидательный энтузиазм и с тревогой искоса поглядел на Вилку. Слов Петра Андреевича он, конечно, слышать не мог, но по грозовой насыщенности самой обстановки, и главное, по уже однажды виденному им в нехороших обстоятельствах выражению Вилкиного лица, Зуля Матвеев почуял неладное. Поэтому остановился, опираясь на черенок своего фанерного монстра. А вот Столетов остановиться не захотел, или уже не мог.
– Что ж ты, дружочек, приуныл? Тебя забыли пригласить? Ты уж извини, но это дело на двоих. Удивлен? А не надо, не надо, – хохотнул все тем же шепотом Петр Андреевич, отчего смех его прозвучал особенно погано. – Я позвал, она сказала «да». Прямо роман. Ну, ничего, придет и твой черед. Только не с ней, и уж точно не сегодня.
Столетов еще что-то в том же духе свистел Вилке в ухо, но это уже не имело никакого значения. Вилка потерял контроль над «управлением полета», и, не соображая до конца, что именно он делает, ринулся вперед на стену. Говорят, что некоторые люди обладают врожденной способностью накапливать знания и опыт в экстремальных ситуациях чуть ли не с самой первой попытки. В отношении Вилки это мнение вышло на сто процентов верным. На уровне инстинктов вспомнив жгучую, рвущую боль при прохождении черной преграды, Вилка уже не стал врубаться в стену головой. А на полном, мысленном ходу пронзил ее плечом вперед, словно оперативник, мужественно выносящий дверь, за которой скрывается вооруженный преступник. Боль пришла немедленно, но совсем не такая сильная и ломающая, как это было в случае с «инопланетянином». И это приятное обстоятельство и размышление о нем тут же привели Вилку в чувство. Ну, уж дулюшки, осадил себя Мошкин, никто никого сегодня не убьет. И все, и точка. Надо срочно выбираться назад. К тому же здесь, за стеной совсем не пикник, и башка все-таки изрядно трещит.
За стеной, как и в тот памятный единственный раз, кружилась с тоненьким воем угольно черная спираль. Страшная и завораживающая. Вилка попятился и уперся спиной обратно в стену. Его моментально ожгло ледяным огнем и отбросило прочь. Вой спирали усилился, и верчение ее стало более быстрым. С перепугу Вилка кинулся на черную толщу стены всей своей бешенной от нараставшего ужаса массой, но все равно никуда не прошел, только получил очередной болевой разряд. Пение спирали сделалось еще визгливее, и угольные линии закружились подобно урагану. В тот же момент Вилке понял как дважды два и непонятно откуда, что он не выйдет прочь, пока не исполнит ту часть обряда, ради которой он собственно и ломился за мрачную преграду. Но что сказать и пожелать ему не приходило на ум. Ненависти к Столетову он уже нисколько не чувствовал, напротив жалел дурака, вздумавшего заигрывать с огнем. Надо было срочно придумать нечто такое, что открыло бы Вилке дорогу назад, и в то же время позволило бы Петру Андреевичу в целости и сохранности здравствовать далее. И решение нашлось.
«Чтоб тебе сгореть в аду!», – мысленно четко произнес Вилка и тут же шагнул к стене. Темная гладь немедленно выпустила его в нормальный мир. Вилка вдохнул, словно вынырнувший на поверхность ловец жемчуга, огляделся вокруг. Столетов все еще журчал сливными отходами, так и не поняв, мимо чего его только что пронесло. И видимо, был доволен Вилкиной реакцией на свои журчания. Но Вилка на это клал с прибором. Зуля, тихо подошедший сбоку, ткнул его ручкой лопаты под ребра. Посмотрел вопросительно. Вилка улыбнулся другу и отрицательно покачал головой. Вид у него был довольный, хотя бледный и немного болезненный. Еще бы он не торжествовал! Побывал за стеной и справился с ней, выиграл сражение. Значит, может, значит, молодец! И как тонко он обвел вокруг пальца то неведомое, что настойчиво и безжалостно не позволяло ему, презрев черное могущество, бежать прочь. «Гореть в аду! Ха-ха!» – Вилка улыбнулся наяву, чем жестоко пресек Столетовские излияния. Петр Андреевич на полуслове так и замер с открытым ртом, как изумленный соляной столб. Ну что ж, если ад и в самом деле существует, физика Столетова на закате его бытия встретят там с распростертыми объятиями. Если же ада нет, что скорее всего, то Вилкино пожелание не более, чем пустое сотрясание воздуха. И сознание победы вдруг подтолкнуло Вилку на неожиданное действие. Он весело отбросил в сторону деревянное орудие труда, подмигнул вконец обалдевшему Петру Андреевичу, и зашагал прочь, по направлению к школьному корпусу.
В «столовке» он довольно быстро разыскал Анечку, старательно драившую с порошком подоконник, деловито и непререкаемо оттащил ее в дальний угол и спросил:
– Правда, что у тебя вечером свидание со Столетовым?
И тут же получил мокрой, божественно пахнувшей «Лотосом» тряпкой по физиономии. И счастливо рассмеялся. Анечка, еще пару секунд постояв в образе рассерженной львицы, расхохоталась вслед за Вилкой.
– Ну, за что же ты такой малоумный? Глупый, отмороженный Иван-дурак. У тебя уже уши отвисают от лапши, не замечал? – сквозь смех выкрикивала Анечка, отводя душу.
– И в кино ты с ним тоже не ходила? И в театр? – подзадоривая и просто на всякий случай, хитро спросил Вилка.
– Представь себе, даже в цирк не ходила. Вот безобразие! – Анечка захохотала так, что остальные девчонки в столовой, побросав работу, уставились на нее и на Вилку.
А глупышка Торышева, откинув в сторону стул, который только что терла тряпкой, подбежала с криком:
– И мне! Мне тоже расскажите смешное! Новый анекдот, да?
Вилка не стал ее разубеждать, и немедленно выдал анекдот, достаточно взрослый и двусмысленный, про пьяницу и постового милиционера. Торышева, удовлетворенная и повеселевшая, вернулась к своему стулу. А Вилка, уверенный, как никогда прежде, взял Аню за влажную и холодную от уборки руку.
– Больше не смей от меня бегать! Никогда! – властно, будто шах в гареме, произнес Вилка. – А со Столетовым я разобрался сам. Надо будет, еще раз разберусь. И не только с ним. Может, я и дурак, но ни в коем случае не слабак. Запомни.
Вилка сказал и сам собой загордился. Это уж точно была лучшая речь в его жизни. Анечка тоже его поняла, ничего не ответила, только опустила глаза, а руку, между прочим, не отдернула, оставила зажатой в Вилкиной пылающей ладони. Впрочем, может, у нее просто замерзли пальцы от холодной воды. Но Вилка не прочь был выступить и в роли обогревательного устройства. Из «столовки» он вышел, пошатываясь от головной боли и от счастья, и у входа наткнулся на Матвеева.
– Ты чего здесь? – спросил он у Зули.
– Это опять было? – вопросом на вопрос ответил Матвеев. Что «это» Зуля уточнять не стал, но по его отягощенному страхом лицу Вилка и без того понял, о чем идет речь.
– Нет. Нет, ничего не было. Я хотел, но устоял, – он немного солгал другу, но вовсе не из хвастовства. Просто до ужаса не хотелось объяснять несусветную, стыдную глупость с пожеланием гореть в аду, детскую и наивную, совершенную им за стеной, да и пожалел он Зулю. Не имело смысла добавлять страху и в без того напуганные Зулины глаза повествуя о том, как он, Вилка все же не удержался и преступил черту. К тому же ничего страшного не произошло, он благополучно вернулся назад, исцеленный от ненависти и наученный опытом. И Вилка, чтобы успокоить Зулю совсем, сказал:
– Перестань, ты же видишь, со мной все в порядке. Я не болен и не в отключке, а на своих ногах. И, между прочим, помирился с Аней.
Зуля облегченно заулыбался, закивал, сразу пошел себе довольный обратно к футбольному полю и скучающей лопате, даже не дожидаясь Вилку, которому надо было еще посетить уборную и смыть с лица остатки «Лотоса».
В этот раз Вилка почти не болел. Два дня немного ныла голова, и слегка подташнивало по утрам как беременную женщину. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что ему довелось пережить после гибели Борьки Аделаидова. Самое же главное счастье заключалось совсем даже не в примирении с Аней, причем именно на Вилкиных условиях, а в том, что Столетов был все еще жив и ни от чего помирать явно не собирался. Несчастный Борька погиб спустя несколько жалких минут после выхода Вилки из страшного, застенного пространства. Актер был умерщвлен огнем тут же, на месте. Петр Андреевич Столетов ходил, пусть унылый и недовольный, но здоровый и вполне живой, уже три дня. Более того, сегодня, на этот самый третий день, он отбывал в недельный отпуск аж до второго мая. И директор милостиво, за счет Столетова, этот отпуск разрешил, пригласив на временную замену их «старого пня»-пенсионера. Вилка ждал ворчливого старика, чуть ли не как родную мать. Вот уж верно, что все на свете познается в сравнении.
По школе разнесся вполне достоверный слух, что поездка Петра Андреевича имела под собой определенную подоплеку. Столетов, по причинам для Вилки вполне понятным, с будущего года решил сменить работу. Один хороший друг в ответ на запрос пригласил его погостить и заодно переговорить о вакантном месте с начальством. Друг, устроивший смотрины, тоже выпускник МИФИ, работал на атомной станции, был специалистом по урановым котлам, и даже пообещал Петру Андреевичу на следующий день по приезду, в свое ночное дежурство, выбить пропуск и провести для Столетова небольшую экскурсию по будущему месту работы.
Петр Андреевич отбывал нынче после обеда самолетом до Киева, а там автобусом до скромного, но вполне благоустроенного украинского городка со смешным названием Чернобыль, где и располагалась атомная энергостанция.
На дворе стояло двадцать пятое апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дум-дум-дум – дум!!!!!!!!!!!!!! А-а-а-а!!!
Огромная страна узнала обо всем и содрогнулась паникой только неделю спустя. Атомный вихрь накрыл не просто землю, но и сознание сотен миллионов людей по всему шарообразному миру. Страшное событие именовали единственным словом. Катастрофа.
И лишь один человек на планете догадывался против собственной воли и желания, что катастрофой воистину стало Слово.
Первого мая Вилка, легкий и по-новому беззаботный, шагал в школьной колонне на районной первомайской демонстрации, и, как самый высокий в классе, нес на палке плакатный портрет генсека Горбачева. Рядом шла Анечка и иногда, когда Вилка позволял ей такие труды, немного несла портрет тоже. А после демонстрации он и Аня, и Матвеев, куда же без него, отправились в гости к Вилке. Так он захотел и настоял. Раньше он избегал встречаться с Анечкой у себя дома, опасаясь ненужных замечаний Барсукова, но ныне Вилке любое море было по колено. Тем более мама давно и настоятельно уговаривала Вилку как-нибудь пригласить Анечку к ним домой, да и бабушка Глаша тоже хотела посмотреть на легендарную подружку внучка. Барсуков в последние дни вел себя как примерный пионер-герой, видимо нынешний, послестенный Вилка внушал ему беспокойное и непонятное уважение. Словом, Викентий Родионович приглашение Анечки одобрил тоже, особенно имея в виду последние успехи ее отца, на удивление скоро и гладко защитившего кандидатскую диссертацию и получившего под начальство целый научный отдел, да еще, стараниями академика Аделаидова, папа Булавинов зачем-то был избран депутатом в измайловский райсовет. Барсуков даже не стал скупиться на стол и чрезмерно кусочничать, разрешил жене и теще пожертвовать банку красной икры, виданное ли дело, хотя черную на растерзание гостям выдать не пожелал.
А на следующий день, второго числа, Вилка отправился с ответным визитом к Булавиновым, с какой-то особенной банкой варенья из фейхоа, на его вкус жуткой гадостью, презентом от Людмилы Ростиславовны Юлии Карповне. Дома оказались только женщины Булавиновы, самого же главу семейства срочно по телефону с раннего утра вызвали в райсовет без объяснения причин.
– Опять небось дежурные электрики перепились, и в районе авария. Праздники, известное дело. Однако при чем здесь Паша? – жаловалась вслух Юлия Карповна.
– Совсем совесть потеряли, людей по выходным мучают, – ворчала бабушка Абрамовна.
Тем не менее, к обеду папа Булавинов вернулся домой. И не было на нем никакого лица. Белый и грозный, как горный ледник, он сел за стол, даже не вымыв руки, и так сидел, отстраненно глядя в тарелку с великолепным куриным бульоном, и ничего из нее не ел.
– Боже, Паша? Что случилось? Тебя уволили? – спрашивала осторожно Юлия Карповна.
– Сынок, кто-то умер? Кто-то, кого мы знали? – искала другие несчастливые причины бабушка Абрамовна.
Но папа Булавинов оставался нем и глух.
– Папа, ну, скажи папа, тебе плохо? Опять был приступ, да? – Анечка не выдержала и, вскочив со стула, бросилась к отцу на грудь, теребя его за плечи, и тормоша за волосы. – Папа, ну, ответь папа? Что случилось?
Булавинов под ее руками словно очнулся ото сна и сказал:
– Беда, доченька, стряслась. Большая беда, – а потом, окончательно придя в себя, сказал уже всем:
– Скоро будет официальное заявление в новостях. Надо включить телевизор.
– Господи, неужто, война! – заголосила неожиданно бабушка Абрамовна. Юлия Карповна ахнула, прижала к губам салфетку.
– Почти что, – безжалостно ответил папа Булавинов, – авария на атомной станции. На Украине, неподалеку от Киева. Несколько дней назад. Пока это скрывают, но радиоактивное облако накрыло чуть ли не треть республики, Белоруссию тоже задело. Идет тотальная эвакуация. Завтра проведу экстренное собрание в институте. Надо создать консультативный совет помощи. На станции до сих пор пожар. Атомный пожар. И не могут потушить. Там настоящий ад.
Вилка слушал папу Булавинова с детским ужасом, никак пока не отождествляя случившееся с реальностью. Даже само слово «ад» не заставило встрепенуться его память, только вызвало непонятное томление в груди.
И лишь через несколько дней, заполненных потоком ужасающих газетных и теленовостей, он смог связать в своем сознании постоянно звучащее слово Чернобыль и школьное, из-под полы передаваемое известие, что физик Петр Андреевич Столетов геройски погиб от огня и радиации в числе жертв из дежурного персонала четвертого энергоблока станции в ночь катастрофы. В аду.
Проклятие сбылось, желал того Вилка или нет. Хотя, некоторое, очень короткое время, Вилка уверял себя, что он здесь лишний и совершенно не причем. Ни в коем случае не мог он быть вновь виноват в гибели и неслыханных несчастьях безумного количества опять ни в чем не повинных людей, потерявших в одночасье свою жизнь, жизни своих близких, свои дома и собственное будущее. Да и ненависть, толкнувшая его за стену, была направлена лишь на одного единственного человека. За что же пришлось пропадать остальным? Да разве случалось когда, чтобы вихрь, белый или черный, затронул кого-нибудь другого, кроме той персоны, которой непосредственно предназначался?.. Было. В том-то и дело, что было. Как же он, тупой вурдалак, запамятовал, что в день гибели «инопланетянина» вместе с академиковым сыном погиб и сбивший его парнишка-мотоциклист! А Вилка его знать не знал, и в глаза никогда не видел!
Вилке стало совсем нехорошо, хотя казалось, куда уж хуже. Что же за дьявольские силы выпускал он за стеной гулять на свободе? Силы эти совсем и не думали понимать буквально, что именно заказывал им Вилка, а жили сами по себе и со своей, зловещей, колокольни трактовали его приказания. Да полно, приказывал ли он им? Он, пленник, не имевший воли даже покинуть их по собственному желанию, пока эти неведомые владыки потустенного мира не получали от него, Вилки, желаемого. Он просил ад для Столетова, что ж, они устроили ему ад. Настоящий, не библейский, ад прямо на земле. Быть может, они радовались его наивной глупости, давшей им шанс вырваться наружу во всей красе, разгуляться и загубить уйму живого себе на потеху. А Вилка служил для них жалким катализатором, несчастным идиотом, которому случайно досталась лампа с бешенными джинами, и он, дурак такой, взял ее, да и открыл. Да еще радовался тому, какой он умный и находчивый.
Первые недели Вилка ходил сам не свой… Какое там, ходил! Влачился по земле пришибленной гусеницей. Сначала даже подумывал о различных способах самоуничтожения, как бы в искупление вины и еще от невыносимости жуткого груза, рухнувшего на его душу. Но умирать получалось теперь все равно бессмысленно. К этому времени Вилка уже верил в Бога. А, следовательно, и в черта тоже. Нет, не так. Сперва, он, собственными глазами, увидел черта, а потом уже уверовал и в Бога. Ведь невозможно же было в здравом уме допустить, что дьявол вот он есть, а в противовес ему никого не существует. Только Богу он, Вилка, теперь и задарма не нужен. Черт, он, пожалуй, его бы принял, да еще и наградил, как лучшего труженика пятилетки. Так что отправляться Вилке на тот свет нынче не выходило никакого резона.
Из-за поселившихся внутри него пришибленности и помрачения ума, что логичные взрослые объясняли излишней юношеской впечатлительностью, Вилка не замечал ничего вокруг. Что Анечка тут же все поставила на свои места, и Вилка вновь превратился в опекаемого младшего братика, было еще малой бедой. А вот с Зулей дело обстояло скверно совсем. Бедняга чувствовал себя, как сапер, проводящий тренировку на учебной мине, а она возьми, и окажись настоящей. Подробностей Зуля не знал, выспрашивать у теперешнего Вилки опасался, но смерть Столетова случайной счесть не смог. И чувство ненавязчивого, уважительного страха по отношению к вчерашнему другу, внутри Матвеева легко трансформировалось во всеохватный ужас. Дней десять Зуля сторонился бывшего приятеля, потом перепугался собственной смелости, могущей выйти ему боком, и счел благоразумным сделать вид, что, ни о чем не догадался, и ничего вовсе не произошло. Слава богу, – успокаивал себя Матвеев, – Вилке в эти дни вроде было не до него, и он вряд ли заметил Зулино временное отступничество. Тогда Зуля решил, что пусть все пока идет, как идет, но при первой же возможности он оставит между собой и Вилкой Мошкиным по возможности как можно более препятствий и километров. И сделал хорошую мину при плохой игре.
Вилка ничего этого, само собой, не знал. Да и вообще Зулю, занятый своими скорбными мыслями, не видел в упор. Он уже ходил и к папе Булавинову и во многие организации, просился допустить его на станцию хоть в каком качестве. Хоть кашеваром для пожарников, хоть в похоронную команду, хоть куда. И естественно, везде встречал невежливый отказ. Но не сдавался. Затем наступили летние каникулы, и времени на ходьбу по инстанциям у Вилки было хоть отбавляй. Папа Булавинов сочувствовал, говорил Вилке хорошие слова, от которых тому делалось особенно тошно, но помочь не мог, даже если бы и хотел.
Помощь пришла неожиданно. От Танечки, которой Вилкина мама, Людмила Ростиславовна, пожаловалась на неугомонное прекраснодушие сына и собственную боязнь того, как бы ее впечатлительный, жалостливый мальчик самовольно не сбежал в мертвые Чернобыльские пространства. И Танечка нашла наилучшее решение. Вилке было отныне разрешено помогать в роли то ли санитара, то ли мальчика на побегушках в одной из московских больниц, куда поступали облученные радиацией чернобыльские спасатели. Анечка, добрая душа, тут же заявила, что пойдет работать в больницу вместе с Вилкой. А Матвеев просто побоялся остаться в стороне. Танечка добыла разрешения и для них.
То, что Вилка увидел и услышал в клинике, прибило его окончательно. Всей его будущей жизни не хватило бы, чтобы расплатиться за то, что он натворил. Но Вилка рвался и делал, что мог. По больнице среди врачей и пациентов уже гуляли легенды о странном парнишке из лучевой терапии, безотказном днем и ночью, невзирая на опасность вторичного заражения, менявшем судна и простыни, и даже, вопреки строжайшим запретам и правилам, следившем за капельницами и приборами сутками напролет не хуже опытных медсестер. И в конце лета главврач, в виде примера и просто, будучи не в состоянии игнорировать такой фантастический энтузиазм, вручил юному санитару почетную грамоту министерства здравоохранения и благодарность не больше, не меньше, как от городского комитета комсомола. Вилку обе маразматические бумажки словно обухом огрели по голове, и он, наконец, очнулся.
Разум его как бы пришел в себя, и теперь уже не только страдал, но и начал потихоньку соображать. Зуля и Анечка, как всегда, были рядом, и это было хорошо. Но бедному Зуле он отныне обречен до конца дней своих лгать, и это было плохо. Нельзя иметь друга на половину, но и перекладывать свой мрачный груз на Зулины плечи Вилка не считал себя вправе. Пусть спит спокойно и собирает вырезки про Рафаэля Совушкина. Ох, если б он знал, как заблуждался на Зулин счет. Матвеев уже ни в каком приближении не считал Вилку своим другом, а только радовался тихо тому обстоятельству, что до сих пор жив и ничем не умудрился прогневать то неведомое, зловещее отродье, которое он осмелился чуть ли не на равных когда-то записать себе в приятели.
Уровень 11. Пойдешь налево…
Свой последний школьный год Вилка намеревался провести в трудах и раскаяниях, словно Иван Грозный, вовремя одумавшийся и велевший постричь себя навечно в монахи. Отношение в самой школе было к нему неоднозначное. Его летние больничные подвиги и полученные за них, настоящие взрослые награды не могли никак остаться незамеченными. Со стороны дирекции и учебной части внимание к Вилкиной особе с впечатляющей скоростью преобразилось из приятного удивления в излишнее и слегка показное славословие. Вилку спешно ввели в состав школьного комитета комсомола, то и дело засылали делегатом на районные активы и конференции. Со смирением принимая насмешку судьбы, как непременную, заслуженную им кару, Вилка, страдающий и покорный, ходил на все общественные мероприятия и даже заставлял себя произносить требуемые речи. Порой он сетовал на то, что мучения его случались недостаточно сильными, а стыд и боль от похвал иногда теряли свою остроту.
Одноклассники, кроме Анечки и Зули, в которых Вилка видел почти родных, большого восторга от его общественно-полезной деятельности не выражали. Не то, чтобы досадовали или завидовали, но и всю шумиху вокруг Мошкина считали излишней. По словам Ромки Ремезова, тоже и Вилке «не фиг было корчить из себя клоуна». Ну, выносил горшки, подумаешь, не реактор же тушил. Молодец, конечно, но, как говориться, не всем дано. Вот он, Ромка, к примеру, лучше со временем выучится, и сам будет проектировать такие станции, да не халтурные, а твердыни энергетики. Чтоб ничто не взорвалось и не сломалось неведомо от чего. Да и как это так может быть, громогласно вопрошал староста Ремезов, чтоб рвануло с бухты-барахты, и система защиты и затопления реактора, надежнейшая в мире, вдруг взяла и ни с того, ни с сего отказала. Фантастика.
А Вилке в свою очередь Ромкины выводы и разглагольствования только добавляли седых волос, добивая и без того дышащую на ладан надежду, что может смерть Столетова и катастрофа на АЭС только случайные по времени совпадения. Что он всего лишь отправил в район будущего бедствия неудачника-физика, а собственно авария состоялась бы и без его, Вилкиного участия. Как будто атомные станции на планете взрывались чуть ли не каждый день! Вилка и сам понимал, что утешать себя глупо. Да хоть бы гибель Петра Андреевича считалась единственной на его совести, разве ж это меняет дело? Столетов, между прочим, как и покойный Борька, был единственным ребенком в семье, и смерть Петра Андреевича вышла страшным ударом для его пожилой мамы, потерявшей отныне и навсегда всякий смысл своего существования.
В Вилкины настроения, чем дальше, тем больше вплетались мотивы, кои более бы подошли для образа мысли и состояния оптинских старцев. То он желал посыпать прилюдно голову пеплом и каяться, а после с чистой совестью дать увезти себя в Белые Столбы. То рвался благодетельствовать всему человечеству без разбора, но не очень представлял как. Время в своих отношениях с Аней Булавиновой он, конечно, безнадежно упустил, окончательно представ в ее глазах этаким современным, хотя и менее экзальтированным, князем Мышкиным. Только-только удалось ему заставить Анечку хоть немного взглянуть на некоего Вилку Мошкина иным манером, зажечь крохотный огонек романтического интереса, и вот, все пошло прахом. Но Вилка и этот факт принял как должное и неизбежное наказание. Не заслужил он Анечку, да и не скоро заслужит, если будет искупать свою вину такими темпами.
Дома Вилка отныне непрестанно проливал блаженный нектар на нежную душу Барсукова. Потому как Викентий Родионович, поначалу скептически настроенный в отношении Вилкиной добровольной санитарной службы, очень скоро понял, что недооценил пасынка. Тут же, как только Вилка с унылым видом приволок домой обе благодарственные грамоты. И даже утешительно потрепал мальчугана за волосы, мол, не расстраивайся, пока бумажки, а дальше может еще чего дадут. И как в воду глядел. Вон, пасынок уже и в комсомольские лидеры выходит, а это значит и характеристика, и рекомендации будут соответствующие. Значит, ошибался Викентий Родионович, и Вилка не так прост и ему многое надо. Оттого Барсуков повеселел душой. И с долгим занудством принялся рисовать перед Вилкой радужные перспективы, которые в будущем непременно откроются перед смышленым комсомольским активистом, а если Вилка, как и планировалось, будет учиться на факультете Викентия Родионовича, то и он Барсуков, не останется в стороне, поможет, чем сможет. Как не порадеть родному человечку?
Вилка слушал Барсукова без малейшего раздражения и протеста, и более того, согласно кивал и говорил слова, которые ждал от него повеселевший отчим. И легче делалось Вилке на сердце от того, что весел был Барсуков. А ведь некогда он еще смел осуждать Викентия Родионовича за крохоборство и лицемерие, говнистые интриги и мещанскую обывательщину! Это Барсукова-то, который, если разобраться, в жизни своей мухи не обидел, разве что доставлял мелкие неприятности студенческой братии. На крупные у него сроду смелости не хватало. А что тащил в дом, все, что плохо лежит, как хомяк в нору, так для кого он, спрашивается, старался? Для себя одного? Да они с матерью при нем никогда не знали, что значит стоять в очередях за продуктами, или считать копейки до зарплаты. Вилке при мысли об этом делалось вовсе стыдно. Тварью неблагодарной ощущал он себя. Да, Барсуков не очень щедро кормил гостей, не давал в долг даже соседям по лестничной клетке, дефицитные продукты отмеривал понемногу, чтоб не съедали всего сразу. А сам-то Викентий Родионович, – неожиданно спохватился Вилка, – ту колбасу и разнообразную икру почти что и не ел вовсе! Все ему и маме, вот так-то. Пусть дурак, пусть нудный, тяжелозадый скудоум, но, если кому и судить Барсукова, так уж точно не Вилке. Особенно теперь. И Вилка в очередной раз вечером за ужином, вздохнув про себя, будто отшельник, примеряющий чугунные вериги, просил отчима поведать ему новости внутренней и внешней политической обстановки, чтоб не дай бог не опростоволоситься на бюро комсомола. Викентий Родионович расцветал маковым цветом и немедленно, даже не прожевав жаркое, начинал выплетать словеса.
Новая беда пришла, не заставив себя долго ждать, после ноябрьских каникул. Как будто Вилке совсем немного не хватало до состояния окончательного «аута», и судьба решила его не томить и подкинуть последнюю соломинку на спину верблюда. Несчастье, однако, касалось не самого Вилки, и к нему, к несчастью, Вилка определенно и уверенно не имел ни малейшего отношения, все уж было сделано до него ранее.
В ноябре папа Булавинов лег в страшный онкологический центр с бесперспективным диагнозом «острая лейкемия». Надежды не было не только на его выздоровление, но даже на то, что Павел Миронович Булавинов встретит ближайший Новый Год.
Не в воскресный вечер, а в самый обычный рабочий четверг Вилка сидел на диване в проходной, гостиной комнате у Булавиновых. Рядом с Анечкой и Юлией Карповной. Бабушка Абрамовна, с великими трудами напичканная успокоительным, заснула, наконец, в соседней спальне. Хотя дверь была плотно закрыта, защемленная для надежности кухонным полотенцем, все равно Вилка слышал, как время от времени бабушка всхлипывает во сне. А Юлия Карповна не плакала. Никакие отрешенности и отчаянья не захватили собой ее лица. Она говорила и жила ровно и спокойно. Как о повседневных, обыденных вещах сообщала Вилке, что именно сказали ей врачи сегодняшним утром. И от ее спокойствия Вилке делалось особенно жутко. Это напоминало по ассоциации провидческое, нехорошее равновесие смертника в предбаннике неизбежной газовой камеры нацистского лагеря.
– Мы будем дежурить по очереди. Я с утра, Анюта вечером. По выходным наоборот. Отпуск мне дадут, главврач заявление подписал. Клиника хорошая, но все равно. Нам теперь надо быть с Пашей. И Константин Филиппович обещал помочь. Я звонила ему сегодня. Он расстроился сильно, – Юлия Карповна говорила так, будто старалась попасть в ритм с неведомым метрономом.
«Константин Филиппович, это кто еще такой?» – спросил про себя Вилка, но тут же вспомнил. Так, если память его не подводила, звали академика Аделаидова. От Анечки уже Вилка знал, что иногда, а в последнее время все чаще Юлия Карповна звонит академику не зачем-нибудь, но просто для общения, чтобы старик не чувствовал себя одиноким и ненужным. А в преддверии праздничных дней даже навещает с пирогами и отчего-то всегда с бутылкой крымского портвейна. Видимо, в представлении Юлии Карповны, пожилые деятели науки и хороший портвейн были неразрывно связаны загадочными нитями.
– Мама, ну чем Аделаидов нам поможет? Он же не волшебник, – сказала Анечка, и странно, с вызовом посмотрела на мать.
– Доченька, Константин Филиппович многое может. Препараты нужные достать, об отдельной палате договориться, да, мало ли что еще. Ты вспомни, сколько он всего из-за границы привозил. Может, благодаря его лекарствам папа и дожил до сегодняшнего дня?
И тут Аня закричала. Вилка ничего подобного от нее в жизни не слышал, и предположить не мог, что его Аня может кричать такие слова:
– Пусть в задницу себе засунет свои лекарства, и ты тоже засунь! Папу нельзя вылечить, понимаешь ты, нельзя! – Аня перевела дух и снова стала кричать. Ее никто не останавливал, Юлия Карповна и Вилка лишь слушали в остолбенении. – Чего вы хотите все? Чего? Чтоб он дольше промучился? Чтоб валялся на сраной больничной койке, весь истыканный иглами, и каждый лишний день позволял нам снова его хоронить? Ты, я, академик, Вилка, будем шляться в эту чертову клинику и будем его хоронить! И папа будет это знать, и ненавидеть остаток своей жизни! Забери его домой, пусть умрет здесь. Пусть папа умрет на своей кровати! Может завтра, но на своей кровати!
– Анюточка, девочка моя, ну что ты говоришь? Так нельзя, – Юлия Карповна сумела не зарыдать, но голос ее дрожал, – нельзя отбирать у людей надежду, особенно если она последняя. Папина жизнь, она ведь не ему одному нужна. Как же я? Как же ты? Хоть один лишний день его увидеть, прежде чем попрощаться навсегда.
Аня больше не стала кричать, ответила матери спокойно и зло:
– Что ж вы врали? Ты и папа. Забивали мне голову своим Платоном и вечными душами. Учили меня смеяться над смертью и не бояться. И сами смеялись вместе со мной. Чего ж теперь никому не смешно? А? Вот вам чаша Сократа, вот вам повод для веселья. Давайте устроим застолье, папа выпьет и счастливо отойдет в мир иной, как древний грек. А мы будем радоваться и ждать, когда отправимся вслед за ним, заодно и самосовершенствоваться. Разве не так должно быть?
– Анечка, доченька. Я не знаю. Я уже не верю в это. Мне страшно, – Юлия Карповна, наконец, не выдержала, всхлипнула, приняла слезы в рукав халатика. – У меня такое чувство, что это навечно. И никакого бога нет. Вообще, там ничего нет. И папу мы не заберем. Мы побудем с ним еще. Как и он с нами.
Вилка слушал Аню и Юлию Карповну и не позволял себе ни слова, хотя женщины сидели от него по разные стороны, и весь разговор шел собственно через Вилку. Он только мысленно сказал себе, что Юлия Карповна очень сильно ошибается, полагая, что ТАМ ничего нет. Кто-кто, а уж Вилка своими глазами видел, что ТАМ есть много чего. Да разве существует ТАМ хоть какая-то польза для папы Булавинова и можно ли ее разыскать? И Вилка понял, что можно. Нужен всего-то вихрь удачи. Вызвать его и пожелать, чтобы Павел Миронович Булавинов выздоровел и жил долго и счастливо много лет. Но если одного вихря будет недостаточно, то он, Вилка, всегда рядом и всегда сможет напитать удачу новыми силами. Главное, спасение Анечкиного отца станет той малой крохой искупления, которая, возможно, немного перевесит чашу весов в Вилкину пользу.
Вернувшись домой, Вилка в тот же вечер приступил к исполнению задуманного. Задачка показалась ему проще пареной репы, учитывая все ее исходные данные. Если уж безусловно посторонние и никак не связанные с Вилкой персонажи из Альбома получали от него удачу полным комплектом, то вызвать вихрь для папы Булавинова будет легче легкого. Взять, к примеру, Танечку. Конечно, ее Вилка знал и любил с детских лет, но и Анечкиного папу он жалел теперь ненамного меньше, симпатию же к Павлу Мироновичу он испытывал всегда, просто выражать сильные чувства по отношению к взрослому, близко знакомому мужчине казалось Вилке неуместным. Зато теперь этим чувствам пришло самое время. И Вилка изо всех сил, уже лежа в кровати перед сном, начал восхищаться Булавиновым. Мужественным, умным, честным, добрым, больным и, самое важное, Анечкиным папой.
Ничего не вышло. Ни ночью, ни утром, ни на следующий вечер. Вилка жалел папу Булавинова, иногда чуть ли не до слез, но все было впустую. Вихрь возникать не желал, и причину своего нежелания пояснить не соизволил. Тогда Вилка решил, все дело в личном контакте и, с маминого разрешения, напросился с Анечкой дежурить в палате. Непонятно, обрадовался ли этому обстоятельству папа Булавинов, слишком слабый и утомленный недугом, чтобы выражать бурные эмоции, но Анечка заметно приободрилась, узнав, что Вилка все дежурство до утра будет рядом.
У Вилки было полно времени. Папа Булавинов давно спал, Анечка тоже вскоре задремала на стуле, положив голову на край постели в ногах у отца. А Вилка приступил к созерцанию. Созерцал он долго, жалел Павла Мироновича куда сильнее прежнего, жалел и спящую Аню, но тем дело и ограничилось. Вихрь объявил Вилке забастовку.
Не желая сдаваться и признать свое поражение, Вилка сделал еще две попытки и провел в палате еще две бессонные ночи. С тем же успехом. А после, окончательно проигравшись, кинулся за помощью к Зуле.
Матвеев, вновь узрев на собственном пороге свой Дамоклов меч, взмыленный и жаждущий нечто ему поведать, испытал двоякое чувство. С одной стороны, без Вилки ему, безусловно, существовалось на белом свете лучше не в пример, но вот с другой стороны! С другой стороны, благоразумный страх вещал Зуле иное. Мало ли кого еще вздумается чудовищу прибить посредством окаянного вихря, и неизвестно, в каком месте грянет гром, и сколько случайных жертв ляжет неподалеку. Вдруг, он, Матвеев Зуля, сам того не зная, окажется в районе бедствия? Нет уж, лучше быть в курсе и поближе к виновнику торжества. Главное, не стать мишенью, но это, зная Вилкин незлобивый нрав, казалось Матвееву несложной задачей. Эх, кабы ему для гарантий обезопасить себя вихрем удачи! Но, как назло, столь сильных любвеобильных чувств его личность у Вилки не вызывала. Может быть, разве что со временем. Когда Зуля разберется в механизме загадочного вихря дабы использовать его на благо себе и заткнуть, наконец, рот изматывающему страху.
Изобразив должно встревоженный вид, Матвеев повел гостя в свою комнату.
– Да-а, дела, – нарочито скорбно протянул Зуля, выслушав Вилкину историю. – Может, ты чего делаешь не так? Может, в Аньке вся проблема? Ну, в смысле, она сбивает тебя с настроя. Ты же сам говорил, у тебя с ней никакого вихря не получается. А я сильно сомневаюсь, что Совушкина ты любишь больше, чем ее.
– Сравнил тоже, божий дар с яичницей, – Вилке показалось забавным нелепое предположение, однако, истина была в словах Зули. – Думаешь, мне надо остаться с Павлом Мироновичем наедине?
– Не то, чтобы наедине, но, во всяком случае, без Аньки. Хочешь, я с тобой пойду? Заодно и Павла Мироновича навещу, – выгадывая баллы в плюс, предложил Матвеев.
– А ты что, разве еще ни разу у Павла Мироновича не был? – изумлено спросил Вилка.
Матвеев понял, что допустил промашку, но, как истый шахматный мастер, сразу нашел оправдательное решение:
– Конечно, не был. У людей такое горе, только меня не хватает. Неудобно же. Еще подумают, что я нарочно выставляюсь, на чужой беде, – ответ получился достойным, а Зуле, по правде говоря, было ныне, в виду собственных проблем, плевать с высокой колокольни на весь белый свет и на Павла Мироновича в частности, хотя Ане он сочувствовал.
– Ну, ты и балда. Да Булавиновы только рады будут. Они ж нормальные люди. А со мной не ходи. Чтоб уж наверняка никто не помешал. Ты вот что, ты лучше с Аней пойди, – предложил Вилка.
– Правильно, – неподдельно обрадовался Матвеев, – я ее по дороге задержу, ну там яблоки купить или, если повезет, апельсины, а ты в это время, давай быстренько дуй в клинику.
– Дельный план, – согласился с другом Вилка, – жаль, Павлу Мироновичу апельсины ни к чему, он уже почти ничего не ест. Но ты все равно купи и не особенно спеши, даже если Аня начнет шуметь.
– Будь спокоен, – ответил ему Матвеев и заговорщицки подмигнул.
В клинику Вилка поспел в рекордный срок. Юлия Карповна, поддавшись на Вилкины пылкие уговоры, согласилась оставить мужа на его попечении и не дожидаться прихода дочери. Вилке она доверяла.
Итак, на все про все у Вилки имелся примерно час, а может, Зулиными стараниями, немного больше. Вилка мешкать не стал, тут же взял стул, придвинул к самому изголовью больничной кровати. Папа Булавинов не спал, смотрел на Вилкины манипуляции, но не удивлялся и ничего не говорил. Обычно, если Павел Миронович бодрствовал, Вилка по мере сил развлекал его посторонними разговорами, необязательными новостями, и папа Булавинов безмолвно Вилку слушал, будто радио. Но сегодня Вилке пришлось поменять программу. Разглагольствовать на занимательные темы и одновременно пытаться выманить вихрь показалось Вилке несовместимым. На этот раз он просто сидел и глядел, а папа Булавинов, смежив синюшные веки, то ли дремал, то ли от слабости не мог держать глаза открытыми.
– Не выходит каменный цветок, а, Данила-мастер? – вдруг раздался в гробовой тишине голос Павла Мироновича.
Вилка от неожиданности загремел стулом. Только что папа Булавинов вроде бы спал, а теперь, повернув голову, смотрел прямо на Вилку. Он, Вилка, уже вроде бы настроился и тут на тебе! Однако, папа Булавинов о чем-то спросил, а Вилка, растерявшись, пропустил мимо ушей.
– Вам плохо, Павел Миронович? Вам подать что-нибудь? Позвать врача? Может, подушку переложить? – выдвинул Вилка все возможные версии.
– Нет, врача не нужно. А нужно мне объяснение, зачем ты надо мной колдуешь? Целую неделю уже, – папа Булавинов тихо засмеялся, но Вилка видел, что и тихий тот смех был через силу. – Нет, спасибо, конечно. Но, видишь ли, я в экстрасенсорные чудеса не верю и тебе не советую. Чушь все это. И гипноз, и лечение на расстоянии. Я знаю, ты добрый мальчик, временами даже слишком, но не жалей меня. Это тяжело.
– Я хочу вас спасти, – неожиданно честно ответил Вилка. Потом поправился:
– Я могу вас спасти. И это не чушь.
Как ни слаба была мимика, но на лице папы Булавинова ясно обозначилось изумление:
– И как же? Вера, конечно, хорошо. Но у тебя, видимо, есть конкретный план?
Тут Вилку понесло. Не потому, что на сей раз он держал речь перед умирающим, и, не потому что хотел излить душу, поведав страшную тайну. Вилка почувствовал вдруг, что именно папа Булавинов, ученый человек, может дать действенный совет и заодно помочь себе. Он пожалел, что не выбрал Павла Мироновича ранее на место Матвеева. И Вилка рассказал Павлу Мироновичу все.
– Невероятная история, – папа Булавинов приободрился, насколько позволяло его состояние. – Никогда ничего подобного не слышал и не предполагал. Но факты есть факты. Только, боюсь, со мной у тебя не выйдет.
– Но почему? – спросил Вилка и даже немного обиделся. Папа Булавинов явно не торопился помогать ни себе, ни Вилке.
– Потому же, почему у тебя не получается с моей Анютой. И с твоей мамой, и с бабушкой. Судя по всему, это и есть ограничение, – папа Булавинов сказал и сочувственно, искоса поглядел на Вилку.
– Я не понимаю, – упрямо ответил Вилим Александрович Мошкин.
– Все ты понимаешь. Но боишься признаться. Ты ничего не можешь сделать там, где есть твоя корысть, – ответил папа Булавинов и приговорил.
– Какая мне от вас корысть? Или от Ани? Я ее люблю, вы знаете. Больше всех. Где тут выгода? – спросил Вилка тоскливо. Ему было плохо.
– Ты ее хочешь себе и насовсем. В этом выгода. Смешно, конечно. И мама тебе тоже нужна. И, как ни странно, я. Может, всего лишь, как Анютин папа, но так есть.
– Не могу же я по заказу не хотеть? – упавшим голосом спросил Вилка.
– Конечно, не можешь. Но ты можешь не ходить за ту стену и не выпускать бесов из норы. Хотя это не просто. Самодисциплина – вещь, которая достигается годами, – сказал папа Булавинов, и вроде бы он не осуждал Вилку за содеянные им несчастья, – но я тебе скажу одно: к той стене ты подойдешь еще не раз, и не раз еще очень захочешь перейти ее, и перейдешь, наверное. Главное, надо помнить, что это твой выбор, а значит, выбрать можно и в иную сторону.
– Значит, для вас все безнадежно? – у Вилки дрожали руки, и, чтобы это скрыть, он стал поправлять край простыни в изголовье.
– Почему же? Все даже лучше, чем я, грешный, думал. Отрадно знать, что за чертой нашей жизни определенно что-то есть. Хорошее или плохое, но есть. И я там буду. От этого делается легче, – папа Булавинов еще хотел нечто сказать Вилке, но не успел. В палату вошли Аня и Матвеев с кульком яблок. Апельсины им купить не удалось.
На рассвете следующего дня Павел Миронович Булавинов умер. Так и не дожив до Нового Года.
Уровень 12. …придешь направо
Комья земли падали на гроб. Мерзлые, слипшиеся в камень, пополам со снегом. Вилка скособочено нагнулся, тоже кинул два раза. За себя и за бабушку Абрамовну. Бабушка, тихонько плакавшая с закрытыми глазами, обвисла на его левой руке, и приходилось все делать так, чтобы удерживать старушку в относительном равновесии. Бабушка Абрамовна никому другому не давала себя вести, цеплялась за Вилку, и ему пришлось успокоить Юлию Карповну обещанием не оставлять старушку ни на минуту. Впрочем, Абрамовна была Вилке не в тягость. С ней не требовалось говорить, достаточно просто поддерживать под руку, а местами на кладбище нести как малого ребенка. Вилка и относился в этот час к Абрамовне как к ребенку, то доставал ей платок, то поправлял беличью шапку-беретку, чтобы старушка не простудилась на ветру.
Проводить папу Булавинова пришли многие. И те, кто любил его, и те, кто предал его в свое время, и те, кто помогал, и те, кто завидовал. С покойника что взять? Он ведь тихий, и все счеты позади. Можно теперь не стеснясь сказать, за что был люб, и отчего иным делалось завидно. Теперь все можно.
У могилы, еще не закопанной, стояли и незнакомые Вилке сослуживцы Павла Мироновича, и соседи по дому и подъезду, тех тоже пришло немало, в ветхой «хрущобе» Булавиновых любили. Где-то, не в первых рядах, тактично позади, была и мама с Барсуковым, в толпе Вилка разглядел Матвеева с его Ленкой. А в головах у гроба и у могилы, на расстоянии вытянутой руки, подле Ани и Юлии Карповны, стоял академик Аделаидов. Стоял так, будто хоронил второго сына, и время от времени дотрагивался до Юлии Карповны и до Анечки, словно желал проверить, что рядом с ним еще остались знакомые, живые люди. На академика Вилка смотреть не мог, и когда ловил на себе взгляд Аделаидова, то готов был провалиться сквозь землю, в компанию к Павлу Мироновичу. Замученный этот человек глядел на него, словно бы говоря: «Вот видишь, Вилка, как оно вышло. Остались мы одни, я и эти три несчастные женщины, из которых одна совсем старуха, а вторая еще несамостоятельная девушка. Ты уж не обессудь за просьбу, помогай нам с богом и не покидай».
Как прошли поминки, Вилка не мог сказать. Столы накрыли в институтском кафе, долго говорили речи, в общем одни и те же. Абрамовна раскисла совсем, Вилке пришлось брать академикову «Волгу» и везти бабушку домой. Там, уложив с горем пополам старушку спать, Вилка остался дожидаться хозяев. Наверное, подумалось ему, Ане и ее маме будет не так страшно входить в осиротевшую квартиру, если на пороге их встретит какой-нибудь не чужой им человек.
Обе женщины, большая и малая, пришли поздно. Юлия Карповна трагично подвыпившая, и Аня, трезвая до безнадежности. Вилке обрадовались обе. Он принял от них холодную с улицы одежду, кинулся на кухню ставить чайник. Разговоры теперь, после похорон, сделались ему нестрашны. Оттого что любые слова, самые горестные и больные, отныне не были связаны с погребальными делами, а следовали как бы после них, и имели другое, неконкретное звучание.
Впрочем, Аня и ее мама в этот поздний вечер самого Павла Мироновича поминали мало, время тому еще не пришло, а больше говорили об институтском скорбном застолье, да кто пришел, да какие слова произносил. Вилка нарочно переспрашивал одно и то же по нескольку раз, видя, что Юлии Карповне и Ане непременно хочется рассказать еще.
Потом Юлия Карповна уморилась и отправилась спать к бабушке Абрамовне, Анечка же вышла в крохотную прихожую проводить Вилку. Когда Вилка уже оделся и даже кроличью ушанку успел водрузить на голову, Аня остановила его, схватив крепко обеими руками за меховые отвороты «аляски».
– Вилка, ты не уходи совсем, пожалуйста, – жалобно попросила его Аня, и вдруг заплакала.
Вилка сначала ничего не понял, потом испугался, что у Анечки случился от горя нервный срыв, и она заговаривается.
– Куда же я денусь с подводной лодки, – попробовал он пошутить, но Аня, похоже, шутку не приняла. – Завтра после школы опять приеду и послезавтра. А в воскресенье хоть на целый день.
– Мне показалось отчего-то, что ты сейчас уйдешь и не придешь никогда больше. Вообще никто никогда к нам с мамой не придет, – сказала Аня, и заплакала еще горше. Потом вдруг уткнулась Вилке в грудь, спрятав лицо в волчьем мехе куртки. Ее трясло.
Вилка ничего другого не смог придумать, обнял Анечку обеими руками, щекой потерся о ее волосы. Сердце его разрывалось на части от Анечкиных страданий, но в то же время это определенно был лучший момент в его жизни.
– Ох, и дуреха же ты, ну и дуреха! Бабушка Глаша так мою маму называет, когда она ерунду говорит. Как это, не приду? Куда ж мне еще идти? Ты у меня одна.
Вилка сказал и сам себя услышал. Прозвучало, как объяснение в любви. «Почему же, как? – поправил себя Вилка, – объяснение и есть». Правда, до Анечки это не дошло. Но Вилка считал, оно к лучшему. Не время и не место.
– Самое честное не уйдешь? – спросила Аня совсем по-детски и заплаканная, повисла на Вилке, обняв его за шею руками.
– Сказал же, что не уйду. Я тебе врал когда? – Вилка сделал голос нарочито строгим, как-то и положено с детьми. Но Анечкино лицо оказалось вдруг невообразимо близко, она ведь была ненамного ниже Вилки. И глаза ее мокрые и оттого сияющие, в полумраке коридора все равно ослепительно серые до таинственного, аспидного оттенка, они завораживали Вилку. И он, сам удивляясь себе и собственной смелости, поцеловал Анечку. Сначала в щеку, потом в мокрый глаз, потом, забыв все на свете, в немыслимые губы. Надо же, Анечка в ответ целовала его, горячо и быстро или, наверное, долго. Вилка не помнил о времени. Он целовался впервые в жизни и с кем? С Анечкой. Впрочем, с любой другой девушкой он бы и не стал целоваться ни ради интереса, ни за полцарства в придачу. Но внезапно Анечка отстранилась от него, хотя и не оттолкнула, и снова заплакала навзрыд. Вилке стало стыдно. Лезет с поцелуями, ему-то хорошо как коту на масленицу. Бедная Анечка.
И Вилка опять принялся за словесные утешения. Когда Аня, наконец, выпустила его из квартиры, была уже половина первого ночи. Надеяться на московский метрополитен Вилке не имело теперь смысла. Тогда он пошел по темной, морозной улице к дороге. Автобусы за поздним часом не ходили тоже, и оставалось рассчитывать только на случайную попутку. Денег в кармане у Вилки было копеек пятьдесят, но можно расплатиться и у дома, мама наверняка не спит, ждет его из гостей.
Шел он довольно долго, машины, как назло, не попадалось ни одной. Чертыхаясь про себя за собственную неосмотрительность, надо было сообразить и вызвать по телефону такси, Вилка в конце концов добрел почти до Измайловского парка. Тут, наконец, из боковых улиц вывернула легковушка, чьи фары ослепили его дальним светом последней надежды на спасение из ночных, московских пространств. Вилка выскочил на дорогу, смахнул с головы ушанку, и, сигналя ею, ринулся навстречу машине. Темная «пятерка» с визгом затормозила, из раскрывшейся передней пассажирской двери высунулся по пояс некто и сильно подвыпившим голосом проорал на всю улицу:
– Эй, мужик, ты что охренел?
Вилка и такому приветствию был рад.
– Ребята, подвезите хоть куда-нибудь! – прокричал он в ответ, и для убедительности надавил на жалость, – уже час иду пешедралом, замерз как собака, пропадаю совсем.
– Давай, лезь назад, – повелительно заорал пьяненький пассажир, и задняя дверь приветливо распахнулась.
Вилку дважды приглашать не пришлось, он тут же кинулся в спасительное тепло легковушки. На заднем сидении его приняли чуть ли не в объятия две неслыханно сногсшибательные девицы, судя по голосам и ароматам, пьяные до нескромности, и вместо приветствия отобрали у Вилки его ушанку, которую немедленно стали со смехом примерять по очереди на шальные головы. Впереди сидели мрачноватого вида водитель «пятерки» и тот самый пассажир, который сжалился над Вилкой.
– Тебе куда? – спросил слегка заплутавшим языком пассажир. И повернулся к Вилке.
– Мне на Комсомольский, – ответил Вилка и тут, в свете убегавшего придорожного фонаря разглядел его лицо. Боже правый, это был не кто иной, как сам Рафаэль Совушкин! У Вилки перехватило дыхание.
– А что, можно и на Комсомольский. Мы все равно в Лужники двигаем. Подвезем братуху? – молодецким голосом взревел Совушкин над ухом мрачноватого водителя.
– Господи, Рафа, делай что хочешь, только не ори! – замучено ответствовал ему рулевой «пятерки».
Вилка очухался от секундного замешательства и вместо благодарности выпалил восторженное:
– Вы Совушкин? Сам? Вот это да!
– Гляди-ка, узнал! Страна помнит своих героев! – и «пирамидальный» Рафаэль довольно захохотал:
– Сам! Сам! Хошь, паспорт покажу, а хошь, автограф накатаю! Что, тащишься от моего «музона»?
– Тащусь, – честно сознался Вилка, хотя и был несколько шокирован обиходным лексиконом народного любимца. Но сразу списал погрешности текста на некоторую алкогольную неадекватность загулявшей звезды.
Ближняя к Вилке девица, устав забавляться с ушанкой, теперь щипала его за ляжку и игриво хихикала. Отодвигаться было некуда решительно, и Вилка в смущении обратился к Рафаэлю, одновременно давая намек зарвавшейся красотке:
– У вас очень красивая подруга. То есть, подруги, – поправился он на всякий случай, не зная точно, какая именно из пушистых, ногастых блондинок является собственностью звезды. Заодно, вроде бы вышел комплимент.
– Какие подруги! Шлюхи из «Космоса»! В «Измайловском» погудели, теперь в Лужники на хату валим. Драть их буду. Один. Туча с нами в койку вот не хочет, брезгует, – Рафаэль ткнул пальцем в плечо мрачноватому рулевому. Вилка же, услышав обращение «Туча» сообразил, что водитель «пятерки» не кто иной, как администратор группы Валерий Тучкин. – А то давай со мной в компанию, отдерем их вместе. Будет, что внукам рассказать!
Рафаэль загоготал собственной шутке, девицы, ничуть не обидевшись, хохотали тоже. А Вилке было совсем не смешно. И это Совушкин, его кумир вот уже два года! Какой-то подзаборный хам, а не советская поп-звезда. Рафаэль тем временем продолжал свой пьяный треп.
– Девки, гляньте, он аж офигел от счастья! Да нахрена ты мне сдался? А малюнок на память счас соорудим! – Рафаэль зашелся в хохоте и одновременно полез в «бардачок». Вывалил кучу хлама, из коей извлек синий фломастер, – ну-ка, наклонись.
Вилка, ничего еще не понимая, машинально наклонился вперед. Он и в самом деле офигел, но только никаким образом не от счастья. Совушкин, дурачась и изгаляясь, уже рисовал на Вилкином лбу автограф.
– Во, вещь. Носи на здоровье, – постановил эстрадный кумир, и сказал уже девицам:
– Теперь три дня умываться не будет. Фанаты, блин.
– Рафа, ты это чересчур, – огрызнулся из-за руля администратор Тучкин и повертел пальцем у виска:
– Совсем уже того!
– Ниче-о! Совушкину все можно. Совушкин – самый великий! Самый или не самый? А ну, скажи! – и Рафаэль довольно сильно стукнул администратора в плечо.
– Самый! Только уймись, – попросил его Тучкин и тоскливо сказал, ни к кому собственно не обращаясь, – Как с ума все посходили вокруг от твоей «Пирамиды». Третью группу беру, никогда такого не было. Ну, я понимаю, Ротару, Пугачева, но чтоб какой-то Совушкин?
– Ты, тля, заткнись! Я не какой-то, я самый! Меня Зыкина на правительственном концерте целовала в губы! А ты меня в зад поцелуешь и еще спасибо скажешь, не то вышибу и Бричкина, глисту, возьму на твое место. Ну-ка, тормози тачку!
– Рафа, хватит, я же пошутил, я не то имел в виду! В смысле, что вот парень из Челябинска, неизвестный никому, вдруг бац, и в дамках! – оправдывался Тучкин скорбным голосом.
– Тормози, говорю, обсос ты гребанный! – Рафаэль уже не стесняясь перешел на площадный слог. – Пошутил он, мать твою.
– Ну, все, ну извини. Рафа, ты ж меня знаешь, я за тебя и в огонь, и в воду и к министру культуры! – совсем уже плаксиво запричитал администратор.
– То-то! Твое место у параши, сиди и не чирикай. На первый раз прощаю, – милостиво отпустил администраторские грехи Совушкин, его развозило все больше и больше. Он опять повернулся к Вилке:
– Не, ну ты видал? Я, блин, номер один в этом поющем гадюшнике, а мне всякая свинья будет хрен крутить! Я только рот открою, уже кругом кончают. А почему? Думаешь, лапа у меня? Талант, во-о!
Вилка ничего не ответил, да Совушкин и не нуждался в его одобрении. Ему было все равно на какую аудиторию вещать. Девицы хихикали и курили, в машине стало невыносимо душно и вонюче от алкогольных паров и сигаретного дыма.
– Комсомольский, – кондукторским тоном провозгласил администратор, – тебя, парень, где высадить-то?
– На углу, у светофора, – ответил Вилка. Ему не терпелось поскорее выбраться из поганой машины.
У светофора его и высадили.
– Бывай, брат. Помни мою доброту! – прокричал напоследок Рафаэль, и «пятерка» умчалась в Лужники.
Вилка дошел до ближайшего к нему сугроба и сел в снег. Сначала просто так, безмолвно и неподвижно, потом захватил в пригоршню холодную, сбившуюся в ледяную коросту массу и стал остервенело тереть лоб. Тер до боли, до морозного ожога, до полного омертвения. Потом опять просто сидел.
Мама, конечно, его ждала. Увидела Вилку, ахнула. Мокрое лицо, исцарапанный лоб. Глаза безумные, страшные. Поила чаем, зачем-то капала валерьянку. Была глубокая ночь. Вилка не думал ни о чем, он умирал и хотел спать.
Мысли пришли только на следующий день. Вилка ходил в школу, ездил с Анечкой в аптеку и к ней домой, и думал, думал. Вчера он опустил в кладбищенскую землю возможно лучшего на свете человека, который, будь Вилка умнее, непременно стал бы его преданным другом, вчера же он получил нежданный приз за многолетнее терпение и о, чудо! целовался с Анечкой. Но думал он не об этом. Самые важные, трагичные и счастливые события его жизни обесценились и отлетели прочь из-за вульгарного люмпена, коему Вилка, собственными руками, устроил сладкую жизнь. Вилке было явлено откровение, которое пришлось принять и с которым пришлось смириться. Он дарил удачу людям – тем, что слепо нравились ему, – ничего толком о них не зная и воспринимая их чужое бытие через розовую призму собственных представлений. Теперь Вилка поплатился за это, узрев наяву плоды своих трудов и забот. Уличный хам и пьяница, вознесенный Вилкиной волей на вершины благополучия, не знал даже, что ему делать с привалившим счастьем и еще более уродовал сам себя. Почему? Да потому, тут же нашел ответ Вилка, что дарованные ему блага были не выстраданы и не выслужены, но обрушены посторонней волей сверх меры, и Совушкину оказались не по силам.
Вилка жалел о напрасно потраченной удаче, которая пригодилась бы человеку достойному, но и понимал, что явление вихря не происходит по заказу. Это, конечно так, и все же никто не заставлял Вилку далее питать жалкую личность Рафаэля Совушкина благодатным соком фортуны. «А надо было заранее разузнать, кто такой и чем дышит, для чего живет на белом свете, – корил себя Вилка, – нет, кинулся благодетельствовать без разбору, теперь получай. Как же все нескладно!» И постановил удачу отобрать.
Легко сказать! Вилка был без понятия как это сделать, и даже не ведал, возможно ли сие вообще. Вечером, вернувшись от Булавиновых, сидел за письменным столом в своей комнате, будто над уроком. Глядел в раскрытую книгу, видел фигу, и опять думал. Прецедента отбора удачи в его практике еще не имелось, да и до нынешнего дня в этом никогда не виделось нужды. А вдруг опять явится стена? Убивать Совушкина он не хотел ни в каком случае, да и ненависти к нему не испытывал. Разве брезгливое неприятие и жгучий стыд, к тому же Рафаэль, хоть и форменное быдло, а до дому его довез бескорыстно, за что Вилка был ему благодарен. Здесь следовало не казнить, а лишь восстановить справедливость. «Зуле, что ли, брякнуть? – привычно подумалось Вилке, – да поздно уже». Может, просто все сказать, как обычно, только наоборот, вместо хочу, не хочу, вместо желаю, не желаю? Чувство-то искреннее.
Вилка подумал, потом произнес про себя, и пред ним явилось, заслонив собой привычный интерьер его комнаты. Нечто, как сивка-бурка, как лист перед травой. Вилка от неожиданности даже не понял, что это.
Это была стена и в то же время не совсем стена. Во всяком случае, совсем не та стена, которая являлась по зову его ненависти. То есть и она была, но где-то далеко «за», невидная и нестрашная. А впереди, прикрыв собой темное тело стены, сверкало непонятное нечто. Словно блестящая паутина, сотканная из множества ослепительных, искрящихся бело-розовых нитей, отливавших солнечным, оранжевым светом. Паутина была столь невыносимо прекрасна, что Вилка, ненадолго забывшись, залюбовался игрой ее красок. Пока не понял, что смотрит на собственное творение, дело рук своих, и что именно так в этом главном мире выглядит созданная им удача.
Вилка медленно подошел к сотканному им шедевру, коснулся паутины ладонью. Под рукой его тут же заискрилось, полыхнуло, но не обожгло, лишь защекотало. Нити на ощупь были мягкие и теплые, но упругие невероятно, и немного скользкие. Вилка потянул за одну. Нить подалась, потянулась, но вскоре защемилась и замерла. Вилка сообразил, потянул за соседнюю, высвободил узелок, протащил далее. Когда нить намертво натянулась, и распутать было уже никак невозможно, Вилка поднатужился и оборвал. И тут неизвестно откуда узнал, что делает именно то, за чем пришел сюда, и этими своими действиями вот сейчас отбирает удачу у Совушкина.
Трудиться пришлось долго. Оторванные и отброшенные нити, лежали у его ног блеклой кучей и постепенно таяли. Вилка очистил все, до самой последней бело-розовой пряди, и оглядел то, что осталось. На месте сверкающей паутины теперь пребывал какой-то сетчатый каркас, бесцветный, но тускло зримый, через который пальцы проскакивали будто сквозь туман, и ухватить его не было никакой возможности. Внутреннее чувство подсказывало Вилке, что в этом случае бороться бесполезно, и ячеистая основа неуничтожима, по крайней мере, до тех пор, пока жив Рафаэль Совушкин, и что раз созданная, она пребудет до конца его дней. Вероятно, сотворена она была по велению самого первого вихря, приведшего Вилку и его подопечного во взаимосвязанное целое, и Вилка в любой момент в силах повторить обратный процесс, вернуть воссозданные заново нити удачи на место. «Оно и к лучшему, – подумалось Вилке не без облегчения, – коли Совушкин исправится, можно сделать все, как было».
Теперь же, глядя на тающие под ногами, отторгнутые нити, Вилка узнал и то, почему от него требовалось питать удачу. Паутина, надо думать, имела некую особенность рассасываться со временем, и без его усилий и забот теряла свойства. Хотя Вилка, разматывая белые и розовые завихрения, подметил одну интересную особенность. Там, где густота их казалась достаточно плотной, одна прядь словно бы подпитывала другую и наоборот, создавая нечто, вроде крошечного вечного двигателя, и те места ему особенно трудно было рвать. Вилке пришло в голову, что если бы паутина стала совсем сплошной, то и существовать самостоятельно она могла бы и без Вилкиной заботы, и возможно сделалась бы неуничтожимой. Ведь той же Танечке год от года требовалось все меньшее и меньшее участие Вилки в поддержании благополучия ее семейной жизни. Может, плотность ее паутины была столь высока, что почти справлялась сама.
Занимаясь своими любопытными исследованиями, Вилка как-то упустил из виду, и даже позабыл о том, что находилось далее за паутиной и прозрачным каркасом. Стена. Темная, холодная, страхолюдная. Та самая. Вилке сразу захотелось удрать прочь, но исследовательский соблазн был велик. Подойти, посмотреть, пощупать. Пока он не в гневе, стена, быть может, вовсе и не опасна. Задержав дыхание, Вилка сделал шаг за туманную сетку, прошел насквозь и… Очутился снова с той же стороны, с которой и был. Заинтригованный, он шагал раз за разом, пересекал ячеистый студень, но снова и снова оказывался на том же месте, откуда начинал свое движение. К стене он не приблизился и на миллиметр. Это было здорово. Здорово, что Совушкина он не смог бы погубить, даже если б сильно захотел. Нематериальная, зыбкая преграда делала акт уничтожения совершенно невозможным, страхуя своего хозяина. Слава богу, вихрь удачи еще и защищал владельца паутины от вторжения. Вилке от этого открытия стало хорошо. И он вернулся в реальный мир.
Уровень 13. Телята и Макар
А в мирских делах зрели существенные перемены. Причем касались они Анечкиного осиротевшего и оскудевшего семейного дома. Академик Аделаидов, взявшийся опекать Булавиновских женщин, затеял авантюрное предприятие – уговорил Юлию Карповну с дочерью и свекровью переехать к нему. Пустующую квартиру можно сдать, для поддержания видимой финансовой независимости. Юлия Карповна, погрустив и хорошенько подумав обо всем, на предложение академика согласилась. И то правда! И сирый академик совсем одинок, и они, три бесхозные, лишенные мужского покровительства женщины. И им защита, и Аделаидову компания, чего уж тут? К тому же Константин Филиппович умел убеждать:
– Переезжайте, Юлия Карповна! Нечего вам стесняться. У меня горе, и у вас горе. Вместе легче терпеть будет. Уж я вас в обиду не дам. Слава богу, копейки по чужим дворам не считаю, машина есть служебная, надо станет, свою заведем. Квартира огромная, только вот дачи собственной не имею. При разводе так постановили. Мне квартира, бывшей супруге – загородный дом. Но это ничего, от государства мне казенная полагается. Пропишу вас, оформлю как опекунство. Я все ж в летах.
– Господь с вами, Константин Филиппович! Да на что нам дачи и машины! – восклицала Юлия Карповна. – Пашу все равно не вернешь. Мне бы только Анюту на ноги поставить. А нам с Абрамовной и не надо ничего.
– Вот и переезжайте. Вам управляться будет легче, и мне веселей. Пожалейте, опять же, старика. А то, бывает, домой приду, и хоть с тоски вой. Иногда так у себя в институтском кабинете и ночую, – посетовал Аделаидов, и не соврал. Дома, считай, у него никакого не имелось с той поры, как погиб сын, была лишь квартира. А это далеко не одно и то же.
В общем, Булавиновых академик сговорил на переезд. И уже весной в их «двушку» на 16-ю Парковую въехал тихий кандидат наук с семейством, которого Аделаидов выписал из Свердловска для государственных нужд. Кандидат застенчиво и безропотно согласился на плату в пятьдесят рублей, смехотворно низкую для нынешней Москвы, но Юлия Карповна находила ее непомерно высокой для небогатого, обремененного двумя детьми научного сотрудника, и оттого все в квартире оставила, как есть, даже посуду не взяла. Да и не нужна была Булавиновым никакая посуда. В доме академика всего хватало, а с переездом рачительной Юлии Карповны стало хватать еще больше. Первым делом Анечкина мама рассчитала заворовавшуюся и в конец обнаглевшую домработницу Тасю, которая наоравшись и наговорив гадостей вволю, ушла, прихватив все свои пять чемоданов и портативный телевизор из кухни. А вскоре и вовсе вышла замуж за продавца из соседнего овощного ларька, давнего своего любовника. Ну и бог с ней. Неужто три женщины, пусть даже одна из них совсем старушка, не справятся с академиковым хозяйством! Да и как бы это выглядело? Сидели бы, словно три барыни на чужих хлебах, а перед ними бы прислуга поломойничала. И Юлия Карповна взяла домоводство в свои руки.
Вскоре быт Аделаидовых-Булавиновых пришел в равновесие и сам собой «устаканился». Анечка приняла на себя магазины и уборку. Юлия Карповна – кухню и уход за академиком. Бабушка Абрамовна – просмотр передач и газет, для ежедневного резюме новостей Константину Филипповичу. Академик Аделаидов в кабинетах более не ночевал, теперь ему уж было куда идти. После трудового, руководящего дня его ожидал дом, а в нем накрытый заботливо к ужину стол, а за столом целых три женских лица, благожелательно настроенных для общения. И академик общался, рассказывая сам о вещах высоких, понятных отчасти одной лишь Анечке, слушал со вниманием жалобы бабушки Абрамовны на донимавшие ее болячки, и новости из больницы на Яузском бульваре, куда после переезда устроилась работать на полставки Юлия Карповна. Ибо теперь Булавиновы проживали не где-нибудь, но в высотке на Котельнической набережной. С уборщицами и лифтерами.
Так они и жили. А Вилке в их жилище ход был строго заказан, и не кем-нибудь, им самим. Хотя Анечка не раз и не два пыталась Вилку вразумить и даже со слезами просила не дурить более.
– Что ты себе в голову вбил, глупый ты человек? – кричала ему Анечка, и глаза у нее были, что называется, «на мокром месте». – Подумаешь, Борьку он терпеть не мог. Как будто я его обожала! Константин Филиппович здесь причем? Несчастный, одинокий старик. Мы вот живем у него и ничего. Ведь это мой папа, не твой, его когда-то обманул.
– Ань, ты пойми, ну не могу я! – кричал Вилка в ответ, и то был воистину крик души.
– Ты же обещал никогда не уходить? – с укором напоминала ему Анечка.
– Я и не ухожу. Можно встречаться у меня, или собираться у Зули. Можно в кино пойти или в зоопарк, хоть куда. Только ТУДА я приходить не могу, – отвечал ей Вилка страдальчески, но твердо и бесповоротно.
– Ну, почему? Почему? Как будто ты виноват, что Борька умер? – вопрошала сквозь слезы Анечка, и сама не ведала, что говорила.
Именно, потому, что виноват. Вилке ли не знать об этом. И с каким сердцем теперь ему пересечь академиков порог? Да он в глаза Аделаидову не смеет посмотреть. И не важно, что Константин Филиппович не знает правды о той давнишней истории, а и узнай он, то вряд ли бы поверил в подобную небылицу. Чего-то в нем не хватало такого, что было у папы Булавинова, Вилка это понял с первого раза, когда увидел Аделаидова зимой на похоронах. Зуля Матвеев, конечно же, демонстративно принял Вилкину сторону, и тоже отказался ходить в гости на Котельническую, заумно мотивируя свое, а заодно и Вилкино поведение высшими этическими принципами, призванными на пустом месте прикрывать их страшную тайну. Анечке пришлось уступить и смириться.
А Совушкин свою удачу спустил окончательно до последнего ломанного гроша. Вилка и Зуля за тем проследили сторонними наблюдателями. Образ кумира окончательно дискредитировался печатью, предавшей гласности одиозные выходки вчерашнего всеобщего любимца, а после особенно безобразной попойки Совушкин и вовсе был отстранен от эстрадного пирога. Впрочем, успокаивал свою взбрыкнувшую было совесть Вилка, так оно и случилось бы в естественном порядке вещей, ведь он, Вилка, не сделал Рафаэлю ничего плохого, лишь перестал делать хорошее. Ничто не мешало лидеру «Пирамидальной пирамиды» творить далее личное благополучие собственными же руками. Ведь сотни иных успешных талантов обходились как-то без помощи вихря Вилима Мошкина.
Но не одни только Рафаэли Совушкины, переезды и тайны занимали место в повседневном бытии трех друзей. Аня, Вилка и Зуля имели еще одну, важную заботу. Школьная опека над ними близилась к своему естественному концу, и надо было определяться далее. Для Вилки ясность в этом вопросе наступила давным-давно, иных планов, кроме механико-математического факультета он и не строил. К вящему довольству Барсукова, который уже на всякий случай шустрил для подстраховки среди предполагаемых членов приемной комиссии, к коей он сам имел косвенное касательство, на правах партийного руководителя вникая в личные дела и характеристики будущих студентов. Анечка из солидарности, а скорее просто из нежелания расставаться со своим верным Лепорелло, поступала туда же, и всячески препятствовала неугомонному в заботе Аделаидову «позвонить, кому следует». Глупости какие, она вполне справится сама.
Полной неожиданностью стало для них решение Матвеева. Экономический факультет.
– Зуля, да ты в уме? – воскликнул изумленный Вилка, как только Зуля огласил ему и Анечке свое непересказуемое решение. – Бухгалтерия – бабское дело. Ты же прирожденный математик, ты шахматист, наконец!
– Современная экономика и есть математика, а шахматы здесь совсем посторонние, – внушительно проворчал в ответ Матвеев, – и это не бухгалтерия. Что же касается баб, то чем их больше, тем лучше.
– А как же Лена? – со смешком спросила Анечка.
– Лена – это Лена. К тому же она на вычислительную математику и кибернетику собирается. Ее факультет в том же корпусе МГУ, что и мой. Считай, соседи. И не спорьте, я решил, – сказал Матвеев, достоинства в его голосе еще прибавилось.
– Ну-у, вот, – огорченно протянул Вилка, – собирались все вместе, а теперь ты вдруг в счетоводы намылился. Смотри, не пожалей потом.
– Не пожалею, – уверенно произнес Зуля, и бросил вызов:
– Грядущее время покажет, кто из нас дальновиден и прав.
Но дело было совсем не в правоте и желании Зулей экономических успехов и свершений. Вернее, дело было не только в них. Пристегнуть себя еще на пяток лет к красавице и ее чудовищу казалось ему верхом неосмотрительной глупости. Разумная дистанция совсем иное дело. Вроде бы друзья по-прежнему, но и каждый при своем интересе. Не хватало ему соревнования на одном и том же поле деятельности! Он, Зуля куда способнее в естественных науках, чем его дружок-монстр. Не дай то бог статься зависти и соперничеству. Заболит у чудища головка, и привет Матвееву из загробных далей. А так Зуля вроде и около, но в то же время не слишком, и ежели что – успеет случиться поблизости и быть, что называется, в курсе событий. Да и в экономический факультет Зуля верил. Глаза держал открытыми и ушки на макушке, слушал разговоры отца и его приятелей-деляг, носом чуявших перемены, к тому же сам Яков Аркадьевич к решению сына отнесся донельзя одобрительно, видел толк и перспективу. Дед Аркаша намерения внука никак прокомментировать не мог, ибо уже год, как покоился на Ваганьковском кладбище.
Они, конечно же, поступили. Все трое. Вернее, четверо, если считать и глупышку Торышеву. И каждый туда, куда хотел. Хотя попсиховать пришлось. Корпя в аудитории над вступительным сочинением, Вилка, плавающий в море синтаксиса и грамматики без руля и без ветрил, разом потерял веру и в себя, и в страховочные обещания Барсукова, и в заранее хитро припасенные шпаргалки. Счастье и спасение для Вилки в эти экзаменационные часы были лишь в Анечке, трудившейся рядом над образом Печорина и не покинувшей друга на тонущем литературном корабле. Написать работу за Вилку у нее само собой времени не имелось, но вот проверить и подправить его испуганные черновые каракули Анечка успела, чем, в сущности, отвела угрозу «неуда».
Когда же вывешенные на факультетах списки украсились их фамилиями, отмечать событие обе пары отправились на Октябрьскую, в известную своими блинчиками «Шоколадницу». Потратили целое состояние в десять рублей и объелись до отвращения к любого рода пище.
Последний, оставшийся от лета месяц каждому предстояло провести по-своему. Анечка в составе ее нового, объединенного семейства отбывала на «казенную» дачу. Зулю отец премировал дефицитной поездкой в дружественную Болгарию, куда Зуля и уехал вместе с мамой Вероникой Григорьевной. А Вилку ждало путешествие к Черному морю, в ставший почти родным за эти годы студенческий «Буревестник». Впервые он ехал не просто как пасынок факультетского начальничка, но как будущий полноправный первокурсник, настоящий «мехматовец». То есть был он ныне не «сын полка», а утвержденный списком рядовой. Вилка остригся в лето под «ежа», подумав про себя, что будь жив папа Булавинов, то непременно посоветовал бы ему в противовес отпустить бороду. В «Буревестнике» Вилку и настигло неминуемое в его жизни событие.
Барсуков и ранее предоставлял Вилке в южных краях почти ничем не ограниченную свободу передвижений, а в нынешнее лето, будучи особенно расположенным к пасынку, вовсе милостиво позволил самостоятельное существование, и даже дал двадцать рублей на расходы. Викентию Родионовичу было чем гордиться и хвастать перед коллегами: Вилка оправдал все его надежды и не уронил честь Барсукова в грязь, поступил и с хорошим проходным баллом. Викентий Родионович даже успел от себя партийную рекомендацию соорудить, с целью определения Вилки для начала в комсорги группы.
Кое-кого из отдыхавших студиозусов, преимущественно старшекурсников, Вилка узнал еще по прошлым визитам в «Буревестник», со многими тут же познакомился заново. Место было старое, обжитое, Вилку помнили и раздатчицы в столовой и даже торговки, что из года в год предлагали неподалеку пиво и квас. Однако в компаниях на Вилку смотрели уже по-иному. Как на полноправного, хотя и низшего чина студенческой корпорации.
В этот раз Вилка как-то само собой прибился к развеселым и немного ему знакомым «мехматовцам»-четверокурсникам. Бесшабашные эти ребята приняли его к себе на правах младшего братишки и знающего старожила с выгодными связями на пункте питания. Верховодил в их кругу смешной и крепко выпивающий очкарик Лева Туробоев, умница и сквернослов, который, потребляй он поменее алкоголя, имел бы полное право на звание «ботаника». Трое парней и две девушки, да плюс Вилка, вот и вся их гоп-компания, небольшой, но очень сплоченный коллективчик, со знанием дела убивающий предназначенное к отдыху время. Вилка без малейшего сожаления сдал свои двадцать рублей в общую копилку и стал равнозначным пайщиком-акционером всех вечерних посиделок и дневных «пивных» походов. Правда, сам Вилка спиртным не злоупотреблял. Пиво еще туда-сюда, пригодился и опыт, обретенный на Зулиной кухне. Но от водочных подношений Вилка отказывался решительно, впрочем, «туробоевцы» не настаивали. Излишек шел к ним в прибыль, а Вилка был, что называется, «выгодным гостем». Иных же напитков, кроме пива и сорокаградусной в их компании не случалось. Однако, спустя несколько дней, стараясь как бы загладить несправедливость, девушки Вика и Ульяна с молчаливого одобрения Левы притащили и пару бутылок сухого грузинского вина в «братишкину» пользу. Вилка нашел вино так себе, но выпил с полбутылки, чтоб не обидеть, к тому же Уля, Ульяна Зелинцева, разбитная и ветреная девица, Вилку подначивала, мол, слабо. С этой Ульяной у Вилки и произошла история.
В тот день, вернее, в тот вечер, в комнате у Левы отмечали день рождения его лучшего друга Ленчика Борзова, за внушительную нижнюю челюсть и выпирающие зубы получившего прозвище Леня-лошадь. Были не только «туробоевцы», но уйма и другого студенческого народа, с самых разнообразных факультетов, забежавшего на праздничный огонек. Кто-то в виде подарка приходил со «своим», кто-то, напротив, в расчете на дармовую халяву. Кто-то оставался на посиделки, кто-то, в честь именинника опрокинув стакан, спертый на время из «столовки», уносился далее по личным надобностям. К полуночи возникла и гитара. У самих «туробоевцев» пение под струнные музыкальные инструменты было не в чести, предпочитали больше магнитофон и западные тяжелые группы, однако, гостя, пожелавшего исполнить ради праздника репертуар КСП, неудобным выходило гнать в шею.
Вилка сидел, затиснутый в угол между Ульяной и странным до безобразия парнем с физфака, которого за темные, нестриженные космы и огромный нос все называли Абабычем. Этот Абабыч хлестал водку, не закусывая, иногда страшным голосом подвывал гитаристу. Захмелевшему Вилке он казался оборотнем из заграничных ужастиков. Ульяна все подливала Вилке вино, велела не зевать, не то выдув всю водяру, гости не пощадят и его «сухарь». Вилке вовсе не было жалко дешевой кислятины, но и заботу о себе совсем взрослой девушки отвергать не хотелось. Периодически Уля насильно совала ему в руки то кусок помидора, то плавленый сыр на ломте хлеба и приказывала: «Ешь, не то стошнит!». И Вилка ел, он совсем не желал, чтобы его тошнило. От вина и комнатной, жаркой духоты Вилка опьянел до головокружения, к тому же плавающий свинцовым облаком табачный дым совсем не улучшал экологическую обстановку в помещении. Рядом, непонятно на чьи уже песни и шутки оглушительно хохотала Ульяна. Она вообще пользовалась у мужской половины завидным успехом, но постоянного ухажера не имела ни среди «туробоевцев», ни где-либо еще. Уля объясняла это просто: «Успею в своей жизни на какого-нибудь гения погорбатиться!», и ни в чем пока себе не отказывала. Была она высокой, ширококостной, смуглой брюнеткой, с удивительными карими, «оленьими» глазами, с крестьянскими руками и непропорционально тонкой для ее мощной фигуры талией. В общем, ничего себе.
Вилка понятия не имел, какой наступил час ночи, когда, прихватив оставшееся вино и два зеленых, каменных яблока, Ульяна едва ли не за ручку уволокла его на пляж. Развалившись на жесткой, противно холодной гальке, они хохотали непонятно от чего, пили вино прямо из горла, Вилка это отчетливо помнил, кидались недоеденными огрызками в воду. А потом… Черт его знает, как это случилось. Просто случилось и все. Вилке к тому времени море было уже много ниже колена, и нахрапистый штурм, которым Уля Зелинцева преодолела его считавшую ворон невинность, показался ему сперва забавным, потом весьма приятным и уместным, а под конец и до боли знакомым ощущением. Очень, очень похожим на те восторги, что он испытывал, даруя удачу, только беспредметным и не порождающим вихря экстазом. Сравнение представилось Вилке в тот момент почти гениальным, и в нем пробудился экспериментаторский дух. Никакой неловкости или смущения от своего совершенно голого тела он не испытывал, да и винные пары сильно препятствовали проявлениям стыдливости. Отнюдь не считая в эти минуты, что делает нечто не вполне обычное, Вилка ухватил растрепанную и тоже голую Улю за шею и закричал ей в ухо: «Ух, ты! А ну, давай еще раз!». И обалдевшая от неожиданности, опытная старшекурсница тут же упала в его объятия.
Лишь наутро до Вилки дошло, чем собственно он занимался на пляже. С одной стороны, ему полагалось терзаться угрызениями совести из-за безобразной измены светлому Анечкиному образу, с другой стороны по Вилкиным ощущениям никакой измены не произошло, и совесть могла спать спокойно. Секс на пляже, как это ни странно, словно бы явился естественным продолжением того, что с Вилкой происходило ранее, и даже не вызвал особенно новых эмоций. Все это уже было. Отличие состояло лишь в форме, а не в существе действия. Забавно, но меньше всего Вилку занимали мысли о подруге его ночных приключений, Уле Зелинцевой. На ее месте могла оказаться любая другая девица, и Вилка был уверен, что не признал бы разницы. К тому же, Вилка не чувствовал себя влюбленным, как не видел никакой нужды в ином общении с Улей, кроме их обыденных компанейских отношений. Вилка спросил себя, отчего это так, и немедленно, без колебаний ответил. Оттого, что она не Аня.
Однако, Ульяне младший братишка чем-то приглянулся, то ли своим естествоиспытательским пылом, то ли свежестью и новизной, и она еще несколько раз зазывала Вилку для уединения на берегу. Вилка и не думал отказываться. Во-первых, не хотелось обижать Улю, а во-вторых, забавы их были Вилке приятны. Вдобавок изображать из себя целомудренную недотрогу получалось поздно и глупо. Когда же Ульяна, натешившись минутной прихотью, переключила свое внимание на физкультурника и тренера университетской команды по плаванию Илью Федоровича Топоркова, Вилка даже испытал облегчение. Повышенное внимание к себе любой женской особи, кроме Анечки, он переносил с трудом. Но девушке Ульяне понравилось в нем и это качество.
– А ты, оказывается, молоток. Парень, что надо. Высший класс. Жаль только, что лет тебе маловато, – сказала ему Уля как-то за завтраком в столовой. – Так и нужно ко всему относиться. Легко и без байды. Сопли не распускаешь, с глупостями не лезешь. А может, я не в твоем вкусе?
– Да нет, что ты, очень даже в моем, – успокоил ее Вилка на всякий случай. Вкус у него был один единственный и находился в данный момент на подмосковной даче. Но объяснять это Вилка не счел необходимым.
– У тебя, наверное, есть девушка? Да ты не бойся, я не обижусь. Дело житейское, – сказала ему Уля и по-свойски подмигнула.
– Есть, – честно сознался Вилка, и дальновидно попросил:
– Только знаешь, она будет учиться со мной вместе, и если можно, ты бы не могла…, то есть, если вдруг..?
– Об чем речь! Конечно, я останусь нема, как могила. И ужасная тайна умрет вместе со мной! – Уля сделала страшные глаза. Ей было весело.
А потом Вилку ждали Москва, Аня и первый курс, хлопоты с расписанием и блуждание по путанным с непривычки коридорам Главного здания университета, получение учебников и многое другое. Вилка, засунув гордость в карман, столь ловко подлизался к Барсукову, что тот не устоял, пошел у пасынка на поводу и устроил, чтобы Вилка и Аня попали в одну учебную группу. Про Улю и ночные походы на пляж Вилка уже и забыл.
Уровень 14. «Коровницын сын»
Он появился, когда Анечка и Вилка уже перешли, благополучно и с повышенными стипендиями, на второй курс. Так иногда Судьба с большой буквы, вместо того, чтобы обозначить свое присутствие громообразными шагами Статуи Командора, вплывает неслышным облаком равно неотвратимого рока в ничего не ведающие людские жизни и после без жалости размалывает их в недрах своего загадочного вращения.
В том году, по новому правительственному указу, призывники из числа студентов были демобилизованы из славных советских армейских рядов на шесть месяцев раньше срока. И факультету пришлось принять обратно вдвое большее количество защитников отечества, которых начальство с превеликим трудом распихало в переполненные группы. Вилкин курс не призывался вообще, так как за последний год «мехмат» вновь обзавелся собственной военной кафедрой и связанными с ней привилегиями.
В числе новоприбывших вчерашних сержантов и ефрейторов был и он. Олег Дружников. А спустя несколько лет и Олег Дмитриевич Дружников. А спустя еще несколько и просто Дружников. Но к тому времени уже любой знал, о ком именно идет речь.
Но в тот день он, вместе с еще тремя «дембелями», первого сентября скромно вошел в аудиторию, где 203-й группе предстояло постигать премудрости функций с комплексной переменной, и сел в углу за пустующий стол. В это первое свое появление он выглядел совсем не страшно, а странно и немного смешно, в частности из-за своей несколько необычной в данных обстоятельствах одежды. Армейские сапоги и брюки, клетчатая, дешевенькая рубаха с застиранным воротом, а на плече нечто, сильно напоминающее солдатский «сидор». Так он и ходил изо дня в день, только одна линялая рубаха сменялась другой, точно такой же, убогой и годной разве что на кухонные тряпки. Когда же осень навеяла предзимние холода, поверх дежурной рубахи он надевал свитер, всегда один и тот же, грубое, ручной вязки, уродливое коричневое кошмарище. Ходил Дружников так вовсе не потому, что гордился своим дембельским прошлым, или от презрения к низменным материальным благам. Анечка и Вилка, да и вся остальная группа, включая даже трех других бывших армейцев, которым вроде бы полагалось проявлять братскую воинскую солидарность, не очень задумывались тогда о странностях Дружникова. На него поначалу вообще не обращали особенного внимания.
А причина была совсем простая. Его вопиющая, маловообразимая среди университетской публики, удручающая нищета. Собственно, если бы не армейское обмундирование, полагающееся всем без исключения дембелям, Дружникову и вовсе бы не в чем было ходить на занятия. Помощи же ему не приходилось ждать ни от кого.
Дружников приехал в Москву из какой-то, богом забытой станицы ставропольского края, то ли Полевской, то ли Луговской, не великой и не богатой хозяйством, вдали даже от железной дороги. Семья его насчитывала всего-то трех человек, и в самой станице Дружниковы были пришлыми. Мать, Раиса Архиповна, состояла дояркой при коровах колхозной фермы, страдала от варикозных болей в ногах и ревматизма, младший брат Гошка, тихий, одутловатый парнишка, был на восемь лет моложе и только еще учился в школе. Отца, кормильца и защитника, похоронили давным-давно. Отец, Дмитрий Иванович, плотник и каменщик на все руки, и как все истинные мастеровые, сильно пьющий человек, приехал с семьей из псковских земель, нанявшись в колхоз по договору, с надеждой подкормиться на юге. А спустя полгода погиб в пьяной драке у сельмага, от беспредела приятеля зоотехника, проломившего ему порожней бутылью черепную кость. Отца похоронили на сельском кладбище, приятель пошел под суд и получил восемь лет исправительных работ, а вдова с двумя детьми так и осталась на новом месте. Колхоз и правление стервозничать не стали, пожалели, оставили за ними домик с выплатой в рассрочку, а Раису Архиповну приняли на ферму. Но и только. В станице Дружниковых не любили. Посаженный зоотехник был местным парнем, имел казачьи корни, которые родственными связями давно проросли на всю округу, и родичи арестованного и его молодая жена считали вопиющей несправедливостью его вынужденное восьмилетнее отсутствие из-за какого-то пришлого, никому не нужного алкаша.
Пока дети были маленькими, а мама Рая еще не совсем растерявшей здоровье, Дружниковы кое-как справлялись. Олежек помогал матери, чем мог, и в огороде, и летом на ферме, Дружниковы держали кур, и даже один раз удалось выкормить на продажу поросенка. В общем, умудрялись не голодать. Но уже тогда Олегу Дмитриевичу Дружникову, еще пацану-школьнику, стало доступным одно важное знание. Никогда и ни за что он не добьется ничего, если не вырвется из приютившей их захолустной станицы в большой мир. Только там и только так он сможет получить то, чего он хочет от жизни. А хотел он столь многого, что порой сам не осознавал размеры своих желаний. И не имея в своем деревенском лексиконе наречия «невозможно», однажды стал с планомерным упорством парового катка претворять свои космические проекты в реальность.
Перво-наперво, постановил он, необходимо добыть для себя любой ценой высшее образование. Не умея в силу своего характера мелочиться, Дружников замахнулся аж на Московский университет. Математика из всех предметов давалась ему наиболее легко, на ней-то и остановил он свой выбор. Не ленился, ездил за книгами в район, в свободное от школы и хозяйства время корпел над учебниками. Сам. Выпросил, выписал из Москвы с потрясающей настойчивостью программу для поступающих, штудировал и тренировался. Мать считала его занятия блажью, но не препятствовала, не дай-то бог еще пойдет по отцовским стопам, уж лучше пусть мается дурью над книжкой. Недружелюбные соседи и вовсе почитали его за полоумного обалдуя и велели собственным детям держаться от него подальше.
Но скоро настал срок, и далее необходимо было везти наработанную в тяжких трудах ученость на испытания в столичный университет. И мама Рая завыла в голос:
– Сыночка, да пожалей ты нас! И без того люди кругом потешаются. Кому ты в той Москве нужен? Не возьмут они тебя, ни за что не возьмут, только посмеются над деревенским!
– Ништо. Пусть смеются, – отвечал он матери, и лицо его каменело в невыносимой по силе ненависти маске, – Примут, куда денутся. Вот увидишь.
Но мать тут же начинала рыдать по другому поводу:
– А мы-то как? Гошка еще мал совсем, вдвоем не управимся. Пропадем одни-и-и!
Он тогда вставал перед матерью на колени, обнимал ее распухшие ноги, говорил просительно, но и бесповоротно:
– Вы с Гошкой потерпите немного. Совсем чуть-чуть. Я скоро заберу вас отсюда, – он гладил маму Раю по коричневой крестьянской руке, и обещал твердо, как Наполеон своим солдатам:
– Ты у меня будешь жить во дворце, и каждое утро тебе будут подавать кофей в постель, как королеве. А наш Гошка, когда вырастет, станет министром, не меньше. Уж я озабочусь.
Мама Рая вздрагивала от таких речей сына, глядела пристально: не болен ли? Но видела в его лице лишь непререкаемую убежденность и непрошибаемую веру в собственные обещания, и пугалась еще больше:
– Ох, сынок. Пропадешь ты в той Москве, и ворон костей не сыщет. Да и денег где ж взять на дорогу?
– Ха, у меня тридцатка на черный день отложена. Зря что ли я на ферме батрачил? – гордо отвечал он.
– Да разве ж этого хватит? На целый-то месяц! В Москве цены не чета нашим! – стращала его мать.
– Не боись, все подсчитано. На билет в плацкартном туда и обратно семнадцать рублей. Еще тринадцать остается. На непредвиденные расходы. Целый капитал. И потом, поступающим дают место в общежитии, – утешал он маму Раю.
– А есть ты что будешь? На хлеб только и хватит. Ноги протянешь! – опять ударялась в слезы мать.
– Вот ты мне и собери. Варенье, соленья. Куриц пару можно закоптить, – просил он вкрадчиво.
Раиса Архиповна поохала, поплакала, но стала собирать сына в дорогу. А на прощанье сказала все то же:
– Пропадешь ты там, сынок.
Но он не пропал. Он взял штурмом свою первую цитадель, поразив приемную комиссию и высокой подготовкой, и необычной автобиографией. И заслужил свой первый в жизни шанс.
Анечка и Вилка, понятно, ничего о нем тогда не знали. Да и не особо стремились знать. Дело здесь было вовсе не в столичном снобизме или в дембельском прошлом новенького. К несчастью, Дружников не мог похвалиться благодарной и располагающей внешностью, и относился к тому типу мужских особей, которые, несмотря на сильный характер и великие умственные достоинства, никогда не нравятся женщинам сами по себе, а только в отношении к достигнутому материальному успеху. Будучи довольно высокого роста и крепкого телосложения, Дружников, однако, имел в облике нечто обезьянье. Здоровый, покрытый жестким, рыжим курчавым волосом детина, с непропорционально длинными руками, шишковатым лбом и зверской нижней челюстью, он еще более усиливал это впечатление, когда начинал говорить. Голос его был отвратителен на слух, низкий, рыкающий, с прерывистыми гласными, скорее напоминал рев, чем человеческую речь. По ассоциации сразу на ум приходило расхожее выражение: «говорит, будто в цинковое ведро ссыт». И только глаза, круглые, как шары, сильно выкаченные, блекло-стального, чуть размытого цвета, нарушали общее впечатление, выбиваясь в самостоятельное существование сиянием грозного, пронзительного, на все готового ради грандиозной цели ума.
Ненавязчиво и незаметно, словно тигр в чаще, высматривающий свою жертву, не сразу и не торопясь, он подобрался к Вилке и Анечке.
За первый в их жизни студенческий год и младший Мошкин и прекрасная Анечка Булавинова не слишком-то изменились. Нет, конечно, новый статус и достаточная самостоятельность способствовали некоторому их взрослению. Но, по сути, они все еще оставались домашними детьми, пусть и с большим кругом обязанностей и ответственностей. И даже летняя история с Ульяной, после которой Вилка мог с полным правом полагать себя настоящим мужчиной, ничего в его отношении к внешнему миру не меняла. Что же касается Анечки, та пока еще видела совсем мало разницы между школьными годами и новым, университетским периодом своей жизни. Все также рядом был верный Вилка, все также осаждали ее интеллигентно-пылкие, теперь уже «мехматовские» поклонники, и все также укрывалась она за Вилкиной спиной неизвестно от чего. Хотя теперь Вилка водил свою ненаглядную красавицу и на вечерние сеансы в кино, и на пьяные студенческие дискотеки, танцевал, держал за руку, иногда обнимал и даже целовался с ней в подходящие моменты. Дальше ухаживаний, однако, пока дело не шло. Да Вилка и не пытался форсировать события. Было у него нехорошее верное ощущение, что Анечка принимает и позволяет ему ухаживания и некоторые вольности по многолетней привычке, чуть ли не в силу некоей родственности, как нечто, само собой разумеющееся. И к Вилке она не испытывает ничего иного, кроме благодарной привязанности за его преданность, обладать же Анечкой на таких условиях Вилка не желал. Ему мерещились и страстные признания, и пылкие взаимные клятвы – безумства, которые горели в нем, он хотел созерцать и в той, которую, бог знает сколько времени, обожал. Но за малостью опыта и от легкого романтичного тумана в глазах Вилка не мог увидеть и узнать, что для некоторых, невеликих по числу натур, простая привязанность с успехом может заменять опасную для них, безоглядную любовь, и со временем являть чувство, куда более важное и ценное. Но Вилка не имел об этом знания, продолжал вздыхать и водить Анечку в кинотеатры и на танцы.
У них появились новые друзья из студенческой среды, сохранились и старые связи. Экономист Матвеев и кибернетик Леночка все время пребывали неподалеку. Нравился ли Зуле его выбор, доволен ли он был или нет, Матвеев за незначительностью прошедшего времени сказать себе не мог. Но вот положение дел касательно его и Вилки, Зулю безоговорочно устраивало. Все выходило, как он того и хотел. Вроде бы давний, верный друг и хранитель тайны, но и на безопасном расстоянии, за редутом, куда в случае чего можно укрыться. Однако, прежние страхи, будто старый осколок в груди седого ветерана, ныли и пугали его, не давали покоя. Именно они, эти страхи, и открыли ему, вскорости, глаза на Дружникова, указав единственный путь спасения.
Как Дружников прибился к их компании ни Аня, ни Вилка так и не поняли. На их взгляд, все случилось нечаянно и само собой. Но Дружников-то знал, как и зачем все произошло.
К этому времени он хорошенько уразумел все прописные истины большой и жестокой Московской Жизни. Он мог вкалывать как проклятый, мог замучить себя до смерти на студенческой скамье, и все равно получить красивый и круглый ноль в конечном итоге своих устремлений. Головой стену не прошибешь, даже если колотиться об нее изо дня в день, а одним талантом никто еще не бывал сыт. Он понимал, нужны покровители. При любом удобном случае он старался запомниться преподавателям, произвести нужное ему впечатление учебными успехами и дисциплинированностью. Если бы он только обладал даром лести и подхалимства! Но нет, и Дружников прекрасно знал за собой этот прискорбный недостаток. Его грубый голос не удавалось умерить до нужного мягкого тона, а сам внешний вид при всей неприглядности не имел и намека на раболепие. Пытаясь выговорить приятные комплименты, он становился смешон и неуместен, как милицейский постовой на репетиции балетной труппы. Конечно, следуя преданно и самозабвенно по тернистому пути ученого, через десятки лет при непробиваемом упорстве можно было бы обресть и деньги и славу, но Дружников не собирался столько ждать. Иначе требовался достаточно могущественный протектор, который пожелал бы взять его в услужение, а дальше нужно только не зевать. Но у важных людей, к несчастью имелись свои внуки, дети, племянники и друзья, к тому же маститые персоны, как правило, являли немалый опыт и дальновидность в разоблачении истинности чужих, далеко идущих намерений. Нет, конечно, и им необходимы были Дружниковы, но далеко не на первых ролях.
Он, в надежде на свое служивое прошлое, пробовал пробиться и в профком, и в факультетское бюро комсомола, однако получил решительный от ворот поворот. Там и без него хватало нахлебников, старшекурсников из тех же дембелей, которые совсем не желали вот так запросто делиться куском. Можно было бы и выгодно жениться, но такая возможность при трезвой оценке принималась им как нереальная. Кому он нужен, оборванный и зачастую голодный, без лишнего гроша в кармане, к тому же при самых лестных допущениях и благоприятном освещении мало сказать, что не красавец. Соблазнять состоятельных девушек ему получалось нечем решительно. Оставалось одно – обзавестись полезными друзьями. Но и это оказалось не просто.
Не только в группе, да и в общаге, где он жил, им пренебрегали и слегка даже презирали. А соседи по комнате, двое приезжих профессорских сынков, и вовсе открыто насмехались. За удручающую бедность, за неблагодарный вид, за странные, еще армейские привычки, и уж само собой за то, что он деревенский, был куда способней в науках, чем они, папенькины дети. Каждое утро, ровно в шесть, он поднимался безо всякого будильника, застилал кровать по казарменному образцу, и отправлялся на получасовую пробежку в любую погоду. После, поев жидкой сметаны с хлебом, еще сидел за книгой до начала учебных занятий. Не курил и не пил, за отсутствием лишнего времени и средств. Жил только на одну, повышенную, но все равно копеечную стипендию. Из коей притом умудрялся выкраивать крохи и покупать дешевенький билет на галерки театров и концертных залов. Ничего не попишешь, в его станице с культурой дело было «швах», и зияющие дыры приходилось латать самому. Три вечера в неделю он подрабатывал вахтенным дежурным общежития, и полагающиеся за этот необременительный и необязательный труд сорок рублей отправлял маме и брату Гошке, зная, что с его отъездом жизнь их стала совсем сиротской. Большего для них Дружников сделать пока не мог. Некоторые, жадные до денег, ребята из общаги устраивались и на более прибыльные места, ночными вагонными грузчиками, кочегарами, санитарами в морги. Но он не пошел по их пути, и вовсе не из лени или страха перед неприятной и тяжелой работой, ему-то не привыкать вкалывать. Однако он видел и то, что изнуренные ночной сменой, вымотанные физически любители заработать уже не в состоянии были учиться как должно, неизбежно отставали и скатывались в болото хвостов и жалостливых «троек». Дружникова это никоим образом не устраивало. Он предпочитал ходить в солдатских сапогах, пусть дураки смеются, и есть самые простые, далекие от гастрономических удовольствий продукты, но ежедневно отсиживать положенные себе самому пятнадцать учебных часов в день.
В общаге, с легкой и глупой руки его соседей, за ним укрепилось нелепое прозвище «Забегало». За то, что застать его в комнате можно было днем и по вечерам всего на несколько минут, а после он неизменно исчезал в читальном зале, на вахте или по иным своим делам. Когда его в это короткое время о чем-нибудь спрашивали, он, вместо ответа, говорил только: «потом, потом, я еще забегу!», и больше до ночи его не видели.
На Мошкине и Булавиновой он остановил свой выбор совсем не случайно. Наблюдая за ними с интересом и не один день, он мудро рассудил, что они оба почти по-детски наивны и добры, а в то же время серьезны и далеки от глупостей. К тому же он успел нахвататься слухов и знал, в чьей квартире живет Аня Булавинова, кто такой Барсуков, и почему Вилка Мошкин уже второй год, как бессменный комсорг группы. И, обозначив цель, он, тихой торпедой, повел атаку.
Дружников первую точку попадания выбрал почти гениально. Вызвать сочувствие к себе, но так, чтобы Аня и Вилка, из опасения обидеть его, не смогли бы высказывать свою жалость явно. И сами, как бы добровольно, стали искать возможности помочь новому приятелю в его тяжелом жизненном положении.
Вскоре представился и удобный случай. В факультетском буфете во время большого перерыва народа и всегда было пруд пруди, но в тот день особенно. Дружников пробил в кассе свой традиционный стакан молока, с ним и подошел к столику, возле которого стоя обедали варенными сосисками Анечка и Вилка и еще два, хмурого вида, великовозрастных аспиранта. Коротко оскалившись, что должно было изображать дружелюбную улыбку, Дружников, виновато оглянувшись вокруг, спросил, адресуясь более к Вилке, как к старшему в семействе:
– Можно? – и кивнул на кусочек свободного места между Вилкой и одним из аспирантов.
Вилка поспешно и как-то испуганно подвинулся в сторону. Впрочем, Дружников уже привык к тому, что большинство людей именно так и реагирует на его внезапное появление, и не смутился. Поставил на краешек свой стакан, после полез в «сидор», и, ни на кого не глядя, извлек из него бумажный кулек, а из кулька два самодельных бутерброда: домашнее сало на черном хлебе. И преспокойно стал есть и пить.
Через какую-то минуту, краем выпученного глаза он засек их ответную реакцию. Анечка и ее друг что-то уж очень вяло доедали свои сосиски. Тогда он оторвался от собственных молока и сала, еще раз миролюбиво оскалился в их сторону, словно извиняясь за вторжение и причиненные неудобства. Аня и Вилка глаз не отвели, они тоже попытались улыбнуться в ответ. Если бы Дружников был тогда хоть немного в курсе Анечкиного несытого прошлого, то понял бы, что попал даже не в бровь, а в самый глаз, но и без этого знания все шло, как по писаному. Анечка, дожевав без аппетита сосиску, потянулась уже пальчиками к воздушному пирожному «безе», которыми славился их буфет, своему любимому дневному угощению, и, украдкой кинув взгляд на Дружникова с его салом в бумажке, вдруг отдернула руку назад. Она первая и обратилась к нему:
– Олег? – позвала девушка, неуверенно, словно сомневалась, что правильно помнит его имя. Он поднял голову и посмотрел вопросительно. – Хочешь пирожное? Это очень вкусно с молоком.
– Нет, спасибо. У меня свое, – ответил он твердо и нарочито обиженно. Насупившись, уткнулся демонстративно во второй свой неприглядный бутерброд.
– Да нет, ты не понял, то есть, я хотела сказать…, – торопливо залопотала Анечка, чувствуя, что вляпалась в неловкость, – в смысле, я уж так объелась, что больше не могу. А Вилка сладкое не любит. Жалко же, пропадет. Может, ты хочешь?
Получилось совсем плохо, и Анечка это поняла, когда уже договорила. Теперь выходило, что она предлагала еду, которую все равно предстояло выкинуть. И чтоб не пропало добро, отдавала пирожное голодному соседу. Дружников вместо слов ужасно выкатил глаза, и казалось, подавился своим салом. Однако, тут в свою очередь Вилка догадался, что пора спасать лицо и положение, и вмешался:
– Я, правда, сладкое не люблю. А то бы съел. Ты не думай, Анюта не потому пристала, что у тебя сало, а у нас пирожные. Она действительно не хочет, – и, видя, что в чем-то уловил верный тон, и Дружников смотрит на него уже без враждебности, Вилка по вдохновению изменил тактику, – Подумаешь, здесь все друг с другом чем-то делятся. С тарелки на тарелку. А с твоей стороны так даже и нечестно!
– Чего? – словно бы обалдел от неожиданного «наезда» Дружников.
– То! – Вилка, вытаскивая ситуацию, стал развивать успех, – Уже семестр заканчивается, как мы в одной группе, а ты будто на луне живешь. Ходишь один, как Штирлиц. Подумаешь, сало! Если считаешь себя выше всех, значит, так тебе и надо. Тоже мне, гордая бедность. А другие что, не люди?
– Я не считаю себя выше всех, – пробубнил не очень красиво Дружников с набитым ртом.
– А не считаешь, так ешь. Не то, как дам тарелкой по башке, – Вилка позволил себе и рассмеяться, – Нашелся тут. Алеша Пешков.
Дружников пирожное нехотя, но взял. Анечка и Вилка стояли рядом до тех пор, пока он не доел все, до последней крошки. Потом Анечка пригласила:
– Пойдемте все втроем в аудиторию. Места на лекцию занимать. Сейчас у нас «кирпич», – напомнила она. Так в студенческом кругу именовали толстенный талмуд по истории КПСС, – пропускать нельзя, а то влетит крепко.
И они пошли вместе. Втроем. Вилка и Анечка, довольные, что инцидент разрешился ко всеобщему удовольствию, и были они совсем не против нового знакомого. Дружников шагал рядом в приподнятом настроении: первый шаг к сближению он сделал верно. Тогда еще ни он сам, ни Вилка не знали, что Дружникову слишком понравилась Аня Булавинова.
Уровень 15. Дракон Уроборос
В тот вечер Зуля праздновал знаменательную дату. Не день рождения и не Новый Год, но все равно, значительное событие. Надо же, отец, Яков Аркадьевич, приобретя на днях новую «Ладу Самару» девятой серии, подарил старую «шестерку» сыну. Теперь Зуля получался автомобилист и автовладелец, хотя прав у него пока и не имелось. Но то было дело наживное. В ближайшее воскресенье Зуля созвал друзей к себе домой обмыть первого в жизни дареного коня. Собралось аж одиннадцать человек, считая и виновника торжества. Само собой, была и Лена Торышева, которая на правах владелицы хозяина автомобиля торчала в квартире с утра, гремела на кухне посудой, благо родители заранее добровольно самоустранились из дома в загородный пансионат «Вороново». Пришли Зулины однокурсники-экономисты, с которыми Матвеев водил необязательное и легкое приятельство, и, конечно, Зуле и в голову не пришло обойти приглашением двух своих самых старинных друзей. Однако, Анечка по телефону предупредила, что с ними прибудет еще один гость, их новый друг, и пусть Зуля не удивляется, он немного странный тип. Матвеев ответил безусловным и радушным согласием, разумеется, не уточняя то обстоятельство, что Вилка может являться к нему в гости хоть с крокодилом на поводке. Еще неизвестно, кто опасней! А что до странностей, то в сравнении с Вилкой это было просто смешно.
Так Зуля впервые удостоился чести лицезреть Олега Дмитриевича Дружникова. И с первого взгляда на него, еще в дверях квартиры, Зуля отметил про себя: да, Анечка была права, действительно, странный тип. Колоритный. И Зуле стало интересно.
Гулянка развивалась по традиционному сценарию интеллигентно-студенческой пьянки. Без буйных танцев и рукоприкладства. Пока гости были относительно трезвы, беседа вертелась вокруг общих, незначительных тем, экономисты и математики обживали совместное пространство. Когда градус поднялся до положенного природой уровня, разговоры сами собой перешли в задушевную и профессиональную стадию.
Дружников в гостях поначалу больше молчал, но никоим образом не из-за застенчивости. Подобное состояние вообще не было ему ведомо. Но хотелось сначала присмотреться, чтобы уяснить себе, что к чему, и не попасть в глупое положение. Вместе с Анечкой и Вилкой он выходил в люди впервые, а уж в такой богатой, частной обстановке никогда с роду не бывал. По правде говоря, за несколько месяцев их плавно развивающегося знакомства он посещал по настойчивым приглашениям единственно Вилкин дом, но не потому, что его не желали видеть у Булавиновых. В гости к академику Аделаидову не ходил и сам Вилка, и Дружникову показалось загадочным это обстоятельство. Он попытался разобраться, в чем тут дело, но только уперся в еще больший тупик. Судя по некоторым, отрывочным Анечкиным замечаниям, Вилку с превеликой радостью увидели бы в доме на Котельнической и Анечкины родные и лично академик, но Вилка с упорной неизбежностью отказывался категорически. Это несмотря на то, что с Анечкиной семьей он, оказывается, знаком давным-давно, кажется, даже оказал неоценимые и самоотверженные услуги, сам же академик звал его не раз. Дело получалось не просто загадочное, а скорее темное и содержащее некую тайну. И Дружников постановил докопаться до правды, а потом посмотреть, не случится ли ему какая выгода.
С момента подстроенной ловушки в факультетском буфете Дружников прошел большой путь. Постепенно, не торопя события, не дергая дерево за ветки, чтоб быстрее росло. Все случалось в свой срок. Сначала общение Дружникова с «детками», как про себя он звал разом Вилку и Аню, ограничивалось исключительно университетскими стенами. И то сказать, после занятий «деток» ждал родимый дом, а его – библиотечная «читалка», вахта и койка в общежитии. Он, однако, позволял им заботу о себе, преподносимую с необидной осторожностью согласно непреклонному Анечкиному заявлению, что новый их приятель недоедать более ни за что не будет, иначе какая может выйти между ними дружба. А в виду того, что Дружников решительно отказывался принимать помощь в виде денежных знаков, возникали довольно объемистые пакеты с разными не скоро портящимися продуктами, которые не терпящая возражений Анечка заставляла его уносить с собой. В театр и на концерты классической музыки Дружников ходил теперь совсем не на галерку, но на вполне приличные места. И билеты не стоили ему ни единой копейки. Вилка выуживал их из положенных Барсукову привилегий и преподносил как бесплатные. Так ли это было на самом деле, Дружников не старался прояснить, а делал вид, что Вилке вполне верит. Тем более, что «детки» почти всегда ходили на культурные мероприятия вместе с ним. Да еще Анечка натащила с полведра полезных книжек из запасов академика, художественных и общественно-политического значения, и отныне он мог образовывать себя, не выпрашивая в факультетской библиотеке нужные издания, которых там зачастую и не было вовсе. Так он ознакомился с Набоковым, Фолкнером и Булгаковым, с диалогами Платона и «Опытами» Монтеня, и с очень полюбившейся ему впоследствии книгой, из коей он даже сделал немало выписок. С Макиавеллиевским «Государем».
Для Вилки же самое удивительное заключалось в том, что несколько раз приведя после внушительных уговоров к себе домой Дружникова, он обнаружил – Барсуков относится к новому его приятелю положительно. С одной стороны, это было необычно, никакого материального интереса нищий студент для Викентия Родионовича представлять не мог, напротив, ел за троих, да еще по настоянию жалостливой Людмилы Ростиславовны забирал кое-какие припасы с собой. Но с другой стороны, зная Барсукова слишком хорошо, Вилка задумывался о том, что отчим все же видит в Дружникове некие грядущие прибыли. По крайней мере, в беседах с Вилкой он отзывался о новоявленном Ломоносове донельзя лестно. А однажды при очередном визите Дружникова даже пообещал покровительство, что для Викентия Родионовича было событием из ряда вон выходящим. Дружников тогда хмуро посетовал: дескать и летом в колхозе приличных денег не заработаешь, вот хорошо бы устроиться подхалтурить так, чтоб хватило на целый год. Да разве где сыщешь такую удачу!
– Ну-с, это вы зря, молодой человек, – наставительно начал проповедовать опившийся чаю Барсуков, – задачи партии и нынешней перестройки призваны сочетать полезный труд, так сказать, с его денежным эквивалентом. Для чего предназначены студенческие строительные отряды. Отстаете. Отстаете от веяний времени.
– Ничего я не отстаю. А в стройотряд поди попади, особенно если подряд выгодный, – уныло пожаловался Дружников и тут же закинул удочку:
– Вы человек большой, вам сверху и не видать, что внизу-то делается. Всяк своего пихает. Вот, говорят, дорастешь курса до четвертого, и тебя возьмут. А я, может, к тому моменту и ноги протяну.
Барсуков на удивление ретиво заглотнул наживку, особенно приняв близко к сердцу статус «большого» человека.
– Ну, уж, нет. Этого мы не позволим. Партийной властью, так сказать. Человек, видишь ли, от сохи, приехал учиться, а ему уж и на хлеб не заработать, – продекларировал Викентий Родионович, раздуваясь от собственной значимости, будто жаба в крынке с молоком, – Вы, юноша, вот что. Как только вывесят набор в стройотряды, решительно выбирайте себе сами наилучший. И сразу ко мне, в кабинет. Пусть попробуют не взять. Дармоеды!
Так Дружников обеспечил себе на будущее доходное лето. А Вилка не углядел в этом обстоятельстве ничего особенного. Напротив, загордился, какой у них с Анечкой замечательный появился товарищ. Сам, своими руками, и нелегким, между прочим, трудом, собирается зарабатывать на жизнь, ни у кого не одалживаясь. Даже корыстный до чужих отчим его зауважал. Вот Вилку, к примеру, ни в какой стройотряд никто не отпустит, проси не проси. Нет, конечно, будущим летом, как и прошлым, гражданин Мошкин не собирался отдыхать сложа руки, но способ его летних заработков тяжким назвать было уж никак нельзя. Предстояло опять, как и в минувшем году, скучное сидение в одной из многих контор министерства внешней торговли. То ли практикантом, то ли стажером. Считать программно повседневную бухгалтерию. А все спасибо Гене Вербицкому. Чуть ли не насильственно забрал в каникулы Вилку, мол, пусть привыкает. Хорошо, хоть вычислительная техника в его ведомстве дай бог каждому! На такой Вилка работал бы и работал. Только это все же не в Салехарде насосную станцию строить или в тайге лес валить. Олегу-то повезло, над ним родня не каплет и не нудит. Куда хочет, туда и едет. Самостоятельный человек.
Про нового знакомца он пространно поведал и в доме у Татьяны Николаевны. Вилка, войдя в студенческий возраст, бывал у Вербицких уже независимо и по личному расположению. Один раз даже с Анечкой под руку. Геннадий Петрович ее как увидел, так и стал подмигивать Вилке обоими глазами, дескать, давай, не зевай, одобряю. Дочь Вербицких, Катька, к этому времени выросла уже в долговязую и языкатую пятиклассницу. В Вилке души не чаяла, всем врала, что младший Мошкин ей старший двоюродный брат, тайком от родителей подсовывала ему домашние работы по математике. Вилка так же, тишком, решал за нее простенькие задачки и примеры, но вовсе не из презрения к педагогической дисциплине. Катька к естественным наукам была глуха, как нокаутированный тетерев, и никаким абстрактным мышлением не обладала даже в зародышевом состоянии. Вилка сделал в свое время единственную попытку объяснить новоявленной сестренке азы математических представлений, через час в состоянии аффекта швырнул шариковую ручку об стену, и с тех пор просто решал за Катьку домашние упражнения.
У Вербицких он и изложил историю с географией стройотрядов.
– Представляете себе, Барсуков сделал жест. Прямо ходоки у Ленина. Но главное, Олега он устроит. Хоть раз сделает что-то для стоящего парня.
– Вот и хорошо, – миролюбиво ответила Танечка, – Кеша, в сущности, неплохой человек, только, как бы это сказать…?
– Задницеголовый, – пришел ей на помощь Геннадий Петрович, как всегда не стеснявшийся в выражениях даже при женщинах и детях, – Я говорю, что ежели внутреннее содержимое его головы и задницы поменять между собой местами, разница бы себя не обнаружила совершенно. А твой Олег не прост, обмани меня предчувствия!
– Да ну, Геннадий Петрович, откуда вы знаете? Вы ж его ни разу не видели! – возразил ему Вилка.
– А мне не всегда и видеть-то нужно. За моей спиной два поколения советских бюрократов-аппаратчиков, мы генетическим кодом чуем! – рассмеялся младший Вербицкий.
– Он чудный, замечательный парень, приехал из села, всего добился сам. А голова! Мне б эдакую, не отказался бы. Подобных нашему Олегу, я в жизни никогда не встречал. Он – супер! – похвалил друга новомодным словом Вилка.
– Ну, жизнь у тебя, положим, пока не кончилась, и много чего ты еще в ней не встречал. Но я знаю одно. Когда столь зеленый юнец взахлеб вещает о ком-нибудь в превосходных тонах, то мне это очень и очень не нравится. Прими как предупреждение, – сказал уже без шуточек Геннадий Петрович.
Но Вилка предупреждения не принял. Более того, посчитал слова младшего Вербицкого, в прошлом личности весьма одиозной, как излишнее наверстывание упущенного здравомыслия и запоздалую перестраховку. Хотя ощущение его забот было Вилке приятно. Только на Вилкино мнение о Дружникове предупреждение, вовсе смехотворное, никак повлиять не могло.
Теперь пришло время представить великолепного Дружникова и в доме Матвеевых. И то сказать, Олег виделся ему с некоторых пор в иных, далеких от первоначальных, представлениях. И раньше Вилка не располагал людей по рангам в зависимости от их доходного положения, сейчас же неприглядная бедность Дружникова вовсе не вызывала у него никаких других чувств, кроме острого желания протянуть руку помощи новоявленному товарищу. А уж хроническая его некрасивость совсем даже не могла отразиться на Вилкином к нему расположении, тем паче младший Мошкин и сам был не Ален Делон и даже не Дмитрий Харатьян, и понимал это. Но если до близкого знакомства Дружников являлся Вилке непримечательно одним из многих, то постепенно он стал существом особенным. Великие силы духа, мысли и воли, о стремлениях которых Вилка ничего еще не ведал, привлекли его в Дружникове, а после изумили и сделались предметами, достойными подражания. Вилка начал понемногу гордиться своей дружбой с новичком-«дембелем». Анечка в своих чувствах была согласна с Вилкой, опека над Дружниковым доставляла ей приятное ощущение вовремя отданного долга. Оба они тогда напоминали комнатных собачек, охраняющих безопасность льва.
В гостях у Зули личность Дружникова тоже не осталась незамеченной. Зулины приятели, вольные сыны экономической науки, сначала приняли его за ортодоксального «походника» и завсегдатая бардовских лесных фестивалей и ждали, заинтригованные, выходок в нигилистическом духе. Но Дружников на первых порах их разочаровал, песен под гитару петь не порывался, да и не умел, Конфуция не цитировал, не курил ни «Беломора», ни другого табачного продукта, «Столичную» же разбавлял томатным соком столь обильно, что водку можно было бы не добавлять совсем. Когда же юношеские умы, дозрев до нужной застольной температуры, обсудив марки отечественных машин и злые происки преподавателей, перекинулись мыслью на хозяйственные и политические государственные проблемы, тут Дружников и сказал свое слово.
Изрядно хвативший «горькой» юный экономист по прозвищу Кубик вещал на публику о несомненной пользе новорожденного кооперативного движения, с теоретической, разумеется, точки зрения:
– Это подлинный прорыв в политическом сознании. Горбачев, молодец! За образец надо взять на будущее польскую модель, а западных, буржуазных катаклизмов нам не надо! Строгий контроль, но и инициатива кооператоров, плюс умеренный налог, и кризис рассосется сам собой. Дефицит пойдет на убыль. Главное, люди поняли, что власть дает им возможность заработать деньги, достойно содержать себя и семью.
– Поняли, поняли, не беспокойся, – вдруг перебил его тираду Дружников, голосом насмешливым и глухим одновременно, – особенно те, кто стрижет твоих кооператоров, как волк овец.
– Это временное явление, государство обязательно в будущем приведет налоги к разумному уровню, – будто свысока успокаивающе пояснил велеречивый Кубик.
– Да причем здесь налоги! Умный налогов не платит. А за каждым частником, поглядеть, так Стенька Разин с дубиной сыщется. Только твой кооператор шерстью обрастет, тут суровый дядька его и обдерет как липку. Слыхал такое слово – «рэкет»? И ничего твое государство с ними не поделает. Рэкетир он и милиции, и начальству из партийных отстегнет и привет! Знаешь, сколько цеховиков подпольных на одном нашем Кавказе? На кой хрен им твой налог и кооператив? И так все имеют. И будут иметь. Дальше больше, – закончил свою отповедь Дружников.
– Тебя послушать, так безобразия никогда не кончатся? – с высокомерием знатока вопросил Кубик.
– Почему же, не кончатся. Кончатся. Вот как все растащат, так все и кончится. А потом по новой начнется. Среди тех, кому не хватило, – ответил Дружников и недобро оскалился.
– И что же делать? – вдруг вмешался в спор Зуля. «Дальше больше!», м-да… Дружников становился ему все интереснее.
– Что делать? Что делать. Не зевать, прибирать к рукам все, до чего дотянешься… А после можешь и другим благодетельствовать, – добавил Дружников, поймав на себе не один косой взгляд. – Лучше уж пусть порядочным людям достанется, чем тем же рэкетирам. Они с народом делиться не будут. Трепаться все мастера, а как замараться для общей пользы, так никто не хочет. Дождутся, что гикнется все им же на головы. Реформаторы хреновы!
– То есть как это? То есть ты не веришь в будущее новой советской экономики? – взвизгнул как ошпаренный Кубик.
– Верят в бога, – спокойно ответил ему Дружников.
– А что, он верно сказал! – раздалось вокруг несколько здравомыслящих голосов.
– И вы туда же! Это нечестно! – обиделся на приятелей Кубик.
За столом заспорили уже на повышенных тонах. А Матвеев на время словно выпал из общего течения. Смутные мысли бродили в его голове, пока еще не стремясь принять нужную форму, но только нащупывали направление. С Зулей происходило то же самое, что бывает в детской, давно известной всем игре. Необходимый ему предмет спрятан в комнате, где он с завязанными глазами ищет его под шумные крики «холодно-горячо», и перед собой имеет только два пути: найти схороненную вещь или, сдернув повязку, сдаться и выйти из игры. Теперь же, блуждая в потемках своего страха, Зуля явственно слышал голос, подсказывавший ему: «теплее, теплее». Еще не вполне понимая свой неосознанный интерес к Дружникову, на всякий случай Матвеев решил непременно понаблюдать за «странным типом» и, если понадобится, то и сблизиться с ним. Так же, как и когда-то с Вилкой, когда друг его был еще вполне человеком.
Вскоре у спорщиков кончилась закуска. Анечка с Леной вышли на кухню, настрогать еще бутербродов с копченым сыром и колбасой, открыть новую банку с болгарскими огурцами.
– Это сожрут, и я не знаю, что еще на стол нести, – сокрушалась Ленка, – есть пара банок камчатских крабов и фирменные сосиски, но им это на один зубок. Что мертвому припарка.
– Можно картошку отварить, – предложила ей Анечка.
– Можно, только возиться неохота, разве, что в мундирах, – согласилась с ней Ленка.
Они принялись мыть картофелины и складывать их в объемистую, эмалированную кастрюлю.
– Ну, и как тебе наш Олег? – спросила между делом Анечка для поддержания разговора.
– Противный, – неожиданно ответила лояльная ко всем лицам мужского пола Торышева, – не пойму, на что он вам сдался?
– Ленка, ну что ты мелешь! Что значит, сдался! Он наш друг. А ты так говоришь, будто мы с Вилей аквариумных рыбок прикупили. Или собаку завели.
– Лучше бы собаку. Те хоть преданные, – с несвойственной ей настойчивостью гнула свою линию Торышева.
– Ты что, выпила лишнего? – изумилась Анечка, – видишь человека первый раз в жизни, и уже наговариваешь. Тебе-то он что плохого сделал? Подумаешь, не нашего круга! Он же не виноват, что не москвич и из крестьянской семьи. Мы тоже были бедные, помнишь? А ты меня любила.
– Причем здесь бедный, богатый! Он на тебя смотрит! – выкрикнула Ленка и отвернулась, обиженно надув губы.
У Анечки отлегло от сердца, и она рассмеялась.
– Ох, ну до чего ж ты у мамы дурочка! Да на меня все смотрят, я уже притерпелась. Что ж, Олег, он тоже человек. Ну, смотрит, но, заметь, не пристает и с пошлостями не лезет. Да и не до глупостей ему. Тут бы выжить. И потом, он знает, у меня есть Вилка. Вообще, Олег, он хороший.
– Он злой и хитрый. Деревенский кулак. Таких раньше обзывали куркулями. И лицо у него несимпатичное, прямо до отвращения, – стояла на своем Торышева.
– Ну, что мне с тобой делать, скажи пожалуйста? – Анечка уже открыто забавлялась Ленкиной обидой, – Если не писаный красавец, значит, плохой и гадкий. Нельзя же так! Конечно, по сравнению с ним твой Зуля просто Аполлон и Рудольфо Валентино вместе взятые. Кстати, Зуля говорил, вы на будущий год решили пожениться. Правда?
Ленка вместо ответа смущенно захихикала. Но потом все же снизошла до подробностей. Разговор сам собой ушел в иную сторону.
Уровень 16. Бог Уисон-Томба
После автомобильной вечеринки, где и состоялось поверхностное знакомство Зули и Дружникова, лично Матвеев сталкивался с ним не раз, сначала случайно в общей компании с Аней и Вилкой, потом нарочно, по собственной инициативе.
Сделавшись студентом, Зуля Матвеев словно по волшебству преобразился. Может, тому способствовал сам дух академической среды, может, накопленное количество по закону трансформировалось в иное качество. Зуля избавился от некоторой, свойственной ему полноты, скорее напоминавшей младенческую пухлость, и стал походить на подтянутого физически победителя теннисных турниров. Исчезла и непредвзятая скромность в одежде. Матвеев отныне предпочитал являться даже на рядовые лекции исключительно в фирменных, отглаженных костюмах, темно-серых и стальных тонов. Правда, ношением галстуков себя пока не обременял, предпочитая водолазки или рубашки со стоячим «пасторским» воротничком. Щеголял изящным кожаным портфельчиком в руке, пренебрегая студенческими рюкзачками и бесформенными сумками. Чем-то неуловимым Зуля отныне напоминал своего отца Якова Аркадьевича, хотя и сильно уступал ему в солидности. После того, как Матвеев решительно состриг буйные каштанового цвета кудри и уложил волосяной остаток в строгую, короткую прическу с кокетливой челкой, его с успехом можно было звать на «Мосфильм» сниматься в ролях удачливых, подающих надежды сотрудников посольств или иностранных фирмачей. И тем более для не слишком хорошо знавших его приятелей был темен Зулин искренний интерес к несуразному «мехматовскому» пугалу. Только Вилка и Анечка не видели в том ничего удивительного, свято веря в Зулино благородство и в достойное правило: друг моего друга – мой друг. Ошибались они даже не в Зулиных намерениях, а в присущем им знаке, и ставили плюс там, где вернее подошел бы минус, что для математиков, конечно, было непростительно.
Дружников в свою очередь, от природы чуткий по-звериному ко всевозможным веяниям, поначалу отнесся к Зуле с недоверием и даже с некоторой опасливостью. Смешно сказать, но Дружников явственно ощутил совершенно уже загадочную и необъяснимую никакой логикой корыстную волну, истекающую от Матвеева в его скромную сторону. И мудрено было, что на некоторое время Дружников погрузился в недоумения. До сей поры от его малозначимой персоны никто и никогда не хотел никакой полезной выгоды, да и не имел Дружников ровным счетом ничего, что могло бы представлять интерес. Конечно, во времена оно, то есть в дни суровых армейских будней, он, как полноправный дед, да еще с выслуженными погонами старшего сержанта, являл для «духов» некий предмет командного поклонения. Но то было совсем в иной жизни. Тем более, что благополучный со всех сторон Зуля Матвеев никак на роль «духа» не тянул, скорее наоборот, а все же проявлял к нему непонятное и немного заискивающее дружелюбие. Зазывал в гости, и вот что странно, без Ани и Вилки. И даже в отсутствие собственной девушки, считай невесты, которой Дружников, однако, остерегался. Что Лена его терпеть не может, Дружников себе уяснил быстро, хотя слов между ними сказано не было. Да и ни к чему, у Лены Торышевой на хорошеньком личике всеми желающими прекрасно читались малейшие оттенки одолевавших ее чувств. Впрочем, симпатии и антипатии Лены, пока они не доставляли ему явного вреда, не вызывали у Дружникова ничего, кроме безразличия. От приглашений Матвеева он, само собой, не отказывался. Дружникова можно было упрекнуть в чем угодно, но только не в глупости.
И однажды меж ними случился, наконец, престранный диалог. Дружников, в тот вечер свободный от вахтенных бдений, отправился на Академическую по приглашению, якобы совместно и в покое рассмотреть с Матвеевым некоторые тензорные таблицы. Ни в каких совместных рассмотрениях Зуля нуждаться не мог, знал их, пожалуй, получше Дружникова, но он сделал вид, что поверил. Во-первых, ехать было недалеко, во-вторых, у Матвеева корпеть над учебниками выходило не в пример уютнее, чем в читалке, и, безусловно, Дружников ощущал настоятельную необходимость выяснить, какого черта вообще преуспевающий маменькин и папенькин сынок от него ждет. И как-то сама собой в разговоре вдруг возникла тема академика Аделаидова. Возможно, у Дружникова просто сработал подсознательный интерес перед загадкой отношений на линии Мошкин – Булавиновы.
– Они с академиком в ссоре? – на всякий случай спросил Дружников о Вилке, хотя и знал, что это не так.
– В ссоре? Нет, зачем. Константин Филиппович и видел Вилку всего раз в жизни. На похоронах Аниного отца. Но заочно хорошо к нему относится, – спокойно, однако, при этом чувствуя захватывающий зуд под ложечкой, ответил ему Матвеев.
– А почему Вилка никогда к ним не ходит? – спросил Дружников уже в лоб, справедливо полагая, что самый верный путь в данных обстоятельствах это самый короткий.
– Он не к ним не ходит, а только к Константину Филипповичу. К Булавиновым он раньше очень даже ходил. Был за своего, почти что член семьи, – сказал Зуля и остановился в ожидании непременного вопроса, который и последовал незамедлительно.
– А почему теперь перестал? – настойчиво, не упуская момента, напирал Дружников.
– Ну, видишь ли, у академика Аделаидова был сын. Мы все учились когда-то в одной школе, и даже в одном классе, – осторожно, словно нащупываю путь в трясине, ответил Матвеев.
– Почему был? – не понял Дружников.
– Он погиб. В аварии, много лет назад, – сказал Зуля и, почувствовав, что сказал недостаточно, уточнил, – на Анютин день рождения. Перебегал дорогу, угодил под мотоцикл.
– А с какой стороны здесь Вилка? – опять недопонял Дружников. И получил сумасшедший ответ.
– Вилка считает, что он его убил! – страшно и тихо ответил Матвеев и осознал – вот только что он перешел некий Рубикон.
– Он его толкнул? Или на спор? – спросил первое, что пришло в голову, изумленный новостью Дружников.
– Нет. Его вообще рядом не было. Но перед этим они с академиковым сыном подрались.
– Ну и что? Причем здесь убийство? Дурость какая-то, – только и смог сказать Дружников.
– Не дурость. Вилка действительно его убил, – возразил ему Зуля и лишь в этот миг понял, что натворил.
– Чего? Как? Убил? Зачем? – словно горох посыпались на Матвеева отрывистые, короткие вопросы.
– Я не могу тебе сказать, – попытался выиграть тайм-аут Зуля. Внутренне, запоздалой интуицией он ощущал, что все делает и произносит правильно, но и страх его был велик. – Я тебя умоляю, никому ни слова. Об этом даже Аня не знает и ни к чему ей. Я очень прошу.
– Никому ничего не скажу, – просто ответил ему Дружников.
И Зуля сразу поверил, действительно, не скажет. Если даже будут пытать. А Дружников уже знал, что, наконец, нащупал то самое, ради чего, собственно, мягкотелый потомок космического первопроходца и зазывал его к себе. Он ждал продолжения, пока не настаивая на дальнейшей откровенности. Хотя то, что он услыхал от Матвеева, наводило его на нехорошие подозрения: не дай бог, будущее светило экономики недавно спятило, и Дружникову надо не разгадывать невероятные тайны явного психопата, а бежать к Зулиным родителям, чтоб принимали меры. Но этого он, конечно, не сделал. Нет, совсем не сумасшедшим выглядел Зуля, а скорее чем-то смертельно напуганным.
Зулин страх перед собственной смелостью рассосался не сразу и не скоро. Однако он понимал, что, сказавши «а», следует сказать и «б». Иначе весь ужас его геройства терял свой смысл. Но должной храбростью Зуля смог напитаться только перед концом учебного года, когда летняя сессия была в самом разгаре. Далее тянуть выходило невозможным. Дружников, сдававший экзамены без единой запинки, вскоре должен был «отстреляться» и отбыть в составе интернациональной стройбригады на заработки в народную Болгарию. А значит, с Матвеевым он никак бы не увиделся раньше сентября. Ждать столько времени в неизвестности у Зули просто не хватило бы сил. «Покуда травка подрастет, лошадка с голоду умрет». К тому же намного легче получалось приоткрыть краешек тайны сейчас и самоустраниться на несколько месяцев. Потом Дружников пусть делает и думает, что хочет, Матвеев будет далеко.
Если бы Зулю кто-нибудь, знающий и доверенный, спросил бы, зачем он затеял предприятие с Дружниковым, и почему именно с Дружниковым, а ни с кем другим, Зуля выразил бы ответ без малейшего затруднения. В Олеге не было страха. Он относился к довольно малочисленной породе людей, которые в отличие от самого Матвеева, никогда не стали бы задаваться целью: выжить, сохранить и по возможности преумножить. Нет, в Дружникове жил только один порыв – сдохнуть или победить, не задумываясь о цене. А значит, такого, как Дружников, не испугали бы никакие вихри и стены. Он и сам был смертоносен как анчар. Матвеев понял и прочувствовал до последнего куска печенки, что если кто и сможет обуздать и обмануть его приятеля-нелюдя, то только Дружников. По сути же Зуля выбирал себе не нового друга или гарантию защиты, увы, он обретал в неказистом лице вчерашнего крестьянина будущего господина и повелителя. Которому и собирался служить. Но самого Дружникова он боялся мало, потому, как понимал или думал, что понимает, его стремления и жажды, и в перспективе возможные мотивы поведения. Потому Вилку он решил предать. Тому, кто сможет совладать и направить, и сделает это без колебаний и угрызений ненужной совести.
И Матвеев, собравшись с духом, отправился в общежития Главного здания, в корпус «Б», где на семнадцатом этаже в этот вечер отбывал вахтенную службу Дружников.
– Ты чего здесь? – удивленно спросил его Дружников, оторвавшись от лекционных конспектов.
– Так просто, повидаться зашел, – почти честно ответил Матвеев. – Ты скоро отбываешь?
– Через три дня последний экзамен, еще через неделю в дальнюю дорогу, – лаконично сообщил Дружников.
– Вот и я говорю. До осени, может, уже и не увидимся, – с нарочитым сожалением высказался Зуля. Паче чаяния, Дружников, однако, сожаления не поддержал. Смотрел молча и даже не вопросительно. Ему явно было совсем плевать, увидит он еще Матвеева или нет. Но Зуля имел в запасе шляпу и кролика, и для начала спросил:
– Ты к Вилке в гости зайдешь до отъезда?
– К Вилке? Не знаю. И без того каждый день видимся. Пригласит, так зайду, – только и ответил Дружников.
– А ты зайди непременно. Хотя бы и без приглашения, – Матвеев пошел ва-банк, делая ставку, которая в жизни бывает одной единственной. Дальше заговорил быстро, глядя в пол, и не делая пауз:
– В столе, в Вилкиной комнате, верхний правый ящик, в дальнем углу на дне общая тетрадь, коричневый переплет.
– И что? – насмешливо спросил Дружников.
– Открой и почитай. Не пожалеешь. Если угадаешь, молодец. Если нет, осенью можешь спросить подсказку, – Зуля сообщил все, что имел к Дружникову.
– Отгадаю что? – не понял Дружников, но все ж невольно напрягся и нахмурился.
– Любопытную загадку. Или страшную тайну. Это как посмотреть, – пояснил Зуля и пошел прочь, даже не прощаясь.
– Эй, а ты зачем приходил? – крикнул ему вслед Дружников.
– Вот за этим и приходил! – не оборачиваясь, крикнул ему в ответ Матвеев Зуля.
К Вилке все-таки Дружников пошел. Для этого ему не понадобился даже особенный повод. Вилка обещал пожертвовать другу туристический спальный мешок, без дела валявшийся на антресолях, но мало ли что, могущий пригодиться в строительном походе. Пока Вилка копался в коридоре в поисках мешка, Дружников отправился в его комнату, под внушительным предлогом выбрать занимательную книжку в поездку. Вилка с высоты стула не глядя посоветовал взять что-нибудь из Гюстава Эмара или детективы Честертона.
В комнате Дружников, не медля попусту, нацелился к столу. Одновременно захваченный щекочущим любопытством, и злящийся на Матвеева за возможный дурацкий розыгрыш. Тетрадь была там, толстая и коричневая. Без надписи на обложке, она не была припрятана, а просто засунута небрежно в дальний угол. Великие тайны, тем более страшные, так не скрывают. Но, раз уж пришел, Дружников тетрадь решил открыть, что и исполнил немедленно на месте. Вырезки, опять вырезки, имена, написанные от руки, еще вырезки, газетные, журнальные, одно – в траурной рамке. Впереди, на первом листе, список, жирно выведенный фломастером. Тоже имена. Почти все известные или откуда-то знакомые. Так, Татьяна Николаевна Вербицкая. Да это же та самая Татьяна Николаевна, жена зам. министра внешней торговли, Вилка про нее сто раз рассказывал! А ниже записан знаменитый летчик-космонавт, еще ниже известный актер. Какая между ними связь совершенно непонятно. А вот одно имя подчеркнуто толстой черной полосой. Совушкин Рафаэль, вроде был такой певец несколько лет назад, в клубе сельсовета как-то крутили его песни. Потом пропал куда-то со сцены, спился, наверное. Дружников машинально пролистал тетрадь. Нашел страницу с именем Совушкина. Тоже вырезки, хвалебные и приторные, а далее, вот странно, такая же черная полоса. Под ней от руки написано только одно слово «отобрать» и восклицательный знак. И следом другие вырезки, но не восторженно-положительные, а совсем наоборот, ругательные и уничтожающие.
Дружников остановился взглядом на полосе, еще ничего конечно, не понимая. Отобрать нечто, видимо предлагалось у Совушкина, но что именно? И что это такое вообще? Детские игры двух бывших школьников или безобидное хобби мальчика Вилки? Перелистнул опять тетрадь. Вот, ближе к началу и страницы с Татьяной Николаевной. Тут никаких вырезок, писал, очевидно, сам Вилка. «Не забыть, у Гены начинающаяся стенокардия! Спиртному – нет!». Еще ранее: «Интриги в министерстве. Бедная Таня! Принять меры!». И сразу за этим: «Ура! Гена получил повышение!». Дружников листал далее. Вновь вырезки. И имена. Имена и вырезки. Потом пустое пространство. И отдельно от всех опять страница, на ней от руки. Имя без фамилии. Просто Борька. Внизу черным же дата «первое апреля восемьдесят первого года». Затем совсем странный текст: «Стена. Никогда больше! Аделаидов, прости меня!». А еще ниже, уже другими чернилами, наискосок страницы, отчаянно и коряво: «Какой же я дурак!» И лишь одна дата цифрами: 26.04.86 г. Число показалось Дружникову смутно знакомым, но чем именно, вот так сразу вспомнить он не смог. А тут уж и тетрадь пришлось захлопнуть и скоренько сунуть на место. Вилка, обнаружив мешок, радостно звал его из коридора.
Все время, и в стройотряде, и заехав ненадолго домой, с солидными деньгами и подарками маме и Гошке, он, Дружников, не переставал думать. Не зря, ох, не зря Матвеев послал его к Вилке. Тайна тетради не давала ему покоя. А что тайна была, Дружников почти уже не сомневался. К тому же он вспомнил и загадочное число, совершенно случайно, краем уха подслушав в поезде спор двух старшекурсников о программировании возможных аварийных сбоев, хотя бы и в атомном реакторе. Тут и всплыла чернобыльская тема. Один из спорящих в запале крикнул, что будь на станции похожая программа, первое мая бы не случилось. «Не первое мая, а двадцать шестое апреля», – про себя поправил его Дружников, гордящийся своей великолепной памятью. В мозгу его тотчас, на уровне рефлекса, высветились цифры: 26.04.86. Дружников довольно хмыкнул, и тут же вздрогнул. Совсем не так давно он видел точно такие же цифры и в точно таком же написании. Идеальная его память сразу выдала ответ. Конечно, он уже читал эту дату в той самой, коричневой тетради, и даже вспомнил предыдущую строчку: «какой же я дурак!». Вилка Мошкин делался ему все загадочней и интереснее.
Не то, чтобы Дружников, хоть и выросший на деревенских побасенках, верил в чертей в омуте, но и, как человек, ведающий слабые, объяснительные стороны науки, не отрицал сверхъестественное совсем. Справедливо полагая, что дыма без огня не случится, а чудеса, как явления суть крайне редкие, статистике и наблюдению не поддаются. Тетрадь не шла у него из головы. Здраво кинув взгляд, так сказать, издалека, Дружников не смог счесть Зулю за несерьезного мистификатора и праздного интригана. Матвеев хотел сказать ему нечто, но, то ли не решался, то ли желал, чтобы он, Дружников, сначала сделал некоторые выводы сам. Но выводы не получались. А те, которые получались, не слагались в единое целое или вовсе выходили абсурдными.
Потому, вернувшись в Москву за неделю до начала занятий, Дружников позвонил не Вилке и не Анечке, а набрал с телефона-автомата совсем иной номер. И трубка донесла:
– Да, конечно, я дома. Жду.
И он поехал на Академическую. Чтобы еще с порога услышать невероятное и не поверить своим ушам:
– Здравствуйте, Олег Дмитриевич. Проходите, пожалуйста.
Сначала он подумал, что Матвеев издевается, с какой стати иначе бы Зуле именовать его по имени-отчеству. Так к Дружникову сроду не обращался никто, а многие с трудом вспоминали даже, как его зовут. Но он прошел и сел, а когда Зуля умчался на кухню, предварительно спросив наивежливейшим голосом: «Вам чаю или кофе?», Дружников уверился, что издевательством здесь и не пахнет. Матвееву от него надо нечто. Нечто важное настолько, что Зуля готов облобызать тыльную часть его армейских штанов, лишь бы получить нужное. Что ж, посмотрим, поглядим, сказал себе Дружников. Но смотреть не пришлось. Матвеев в гляделки играть не захотел, сразу повел быка на заклание:
– Вы видели тетрадь? – спросил Зуля, и тут же ответил:
– Видели, конечно, иначе бы не пришли. Если у вас есть вопросы, задавайте любые. И, ради бога, не стесняйтесь.
– Эта тетрадь, что она такое? – со всей присущей ему грубоватой лапидарностью спросил Дружников. К Зуле он пока не обращался никак, еще не решив, стоит ли говорить ему «вы», или оставить на прежнем уровне обращения, хотя «ты» звучало бы в таком случае уже по-хамски.
– Это, дорогой Олег Дмитриевич, Альбом Удачи, – тихо ответил Матвеев, и заглянул Дружникову в глаза, как бы понуждая его к следующему вопросу.
– Что значит, Альбом Удачи? – прохрипел Дружников, голос его некстати сорвался от волнения.
– А это, значит, что в сем кондуите перечислены, как бы для учета, все случаи, когда наш общий друг, Вилим Мошкин, даровал кому-либо небывалую удачу или большой успех, славу, называйте как угодно… Или отбирал ее, – уже шепотом, но достаточно громким, добавил Зуля Матвеев.
– Да ну? – насмешливо спросил его Дружников. И тут же выбрал форму общения:
– Ты, друг Авессалом, ври, да не завирайся.
– Олег Дмитриевич, разве я стал бы Вам врать? Ну, сами подумайте. Мы с Мошкиным знакомы черт знает сколько лет. И именно меня он выбрал давным-давно в единственные хранители своей тайны.
– Отчего же, тебя? – снисходительно спросил его Дружников.
– А больше некого было, – честно ответил ему Зуля. На покровительственное «ты» он не обиделся нисколько. Наоборот, возрадовался, что все ему удалось, и Дружников принял предложенные правила игры.
– И кто же Вилка такой, по-твоему? – поинтересовался как бы лениво Дружников.
– Бог. – Просто ответил Матвеев. Но, почувствовав недостаточность сведений, пояснил:
– Ну, конечно, не в полном смысле Бог – творец Вселенной, а так, божок. Как в греческой мифологии, есть боги главные, и есть второстепенные. Со всеми людскими пороками. Вилка – такой божок, только смертный и по-своему опасный, а иногда даже злой. Он имеет некоторую власть над человеческой удачей. Список как раз и состоит из облагодетельствованных им людей. Хотя и не весь.
– Хорошо. Допустим, я верю. Но почему в списке не было ни твоей фамилии, ни фамилии Ани Булавиновой, – последнее имя он все-таки произнес с запинкой, как будто выдавал секретную информацию.
– Их там и не может быть. Имена из списка я знаю все, мы составляли его вместе. Так вот, чтобы даровать удачу, надо выполнить ряд условий, – сказал Матвеев и опять запнулся.
– Каких именно? – уже как на допросе спросил Дружников.
– Видите ли, для дарования удачи Вилке необходимо вызвать в себе некий вихрь, который и устанавливает, что вероятно, вечную и неразрывную связь между ним и объектом его симпатий. Да, да, именно, симпатий. Вихрь не может быть вызван искусственно. Только истинное восхищение и любовь к кому-либо порождают его. И тогда между Вилкой и предметом его, так сказать, обожания возникает контакт, который позволяет приносить удачу во всем, чего Вилка ему ни пожелает. Но желание должно быть искренним. Насильственно навязать его нельзя, – тут Зуля перевел дыхание и сказал уже с затаенной злобой:
– Я, к несчастью, никаких чувственных восторгов не имею чести возбуждать. Потому и в списке меня нет.
– А как же… Аня? У них, кажется, симпатия, или я идиот, глухой и слепой? – спросил Дружников уже агрессивно.
– Не сердитесь. Я вовсе не морочу вам голову. Просто здесь действует другое ограничение. Вилка не может вызвать вихрь по отношению к лицу, к которому он имеет собственный интерес или выгоду. Чувство должно быть бескорыстным совершенно. Потому в списке нет ни Ани, ни Вилкиной матери, ни, кстати, самого Вилки.
– Ну, ладно. Вроде складно получается, – согласился Дружников. Внутри него вдруг все запело от прозрения внезапно открывшейся ему золотой жилы. – Но мне ты для чего это рассказываешь?
– Я боюсь. Боюсь его. А вы не боитесь никого, я ведь вижу. Вы хотите многого. И, может быть, впоследствии, не забудете и защитите своего верного Авессалома. К тому же у вас хорошие шансы, – сказал Зуля и, поскольку Дружников молчал, то пояснил, – вас он, кажется, полюбил. И я думаю, если вам, Олег Дмитриевич, удастся усилить это впечатление, то следующий вихрь будет уже в вашу пользу. Или вам не нужна удача?
Но Дружников последний вопрос оставил без ответа. Его интересовало другое.
– Что еще я должен знать? – спросил он уже строго по делу.
Тогда Матвеев, позабывши совесть и честь, сдал информацию на корню. Поведал и тайну стены, и подробности убийства Борьки Аделаидова, и свои догадки по поводу чернобыльской катастрофы и судьбы физика Столетова. Предупредил он и о наказании Рафаэля Совушкина, и о накопительных свойствах паутины, и о невозможности для Вилки причинить вред ее владельцу.
Он не рассказал только одного. Историю гибели Актера. Но не потому что, не захотел, а просто счел несущественной и не относящейся к делу. Что там было? Нечаянная неосторожность – не более. Да и зачем бы Вилке убивать кого-то из любви? И Зуля не стал тратить время на бесполезную в его замыслах деталь.
Уровень 17. Байки из склепа
– Они оба с ума сошли! Как можно в последний момент, взять и отменить свадьбу? – переживала громко вслух Анечка и подгоняла Вилку:
– Ну, собирайся же скорее! Едем, может, еще не поздно.
– Хорошо, хорошо, – отвечал ей Вилка, и торопливо надевал кроссовки. Сцена происходила в квартире Мошкиных, в пятницу, подвижно в районе между Вилкиной комнатой и коридором.
Вокруг них крутилась обеспокоенная Людмила Ростиславовна и тоже причитала:
– Поезжайте, поезжайте. Анечка совершенно права. Разве так делают? Уже и ресторан заказан, и гостей назвали, и родители потратились! А им в голову взбрело – не жениться! Это теперь просто непорядочно. Хотя бы по отношению к Лене.
– Мам, ну с чего ты взяла, что Зуля во всем виноват? Может, это как раз Лена не захотела? – слабо возразил ей Вилка.
– Виля, ну как можно? Где это видано, чтобы невеста сама отказывалась от молодого, симпатичного и перспективного жениха? А что касается твоего Зули, то разве не я всегда говорила – он излишне легкомысленный человек?
– Вообще-то, мам, я от тебя это в первый раз слышу! – с ласковым юмором ответил Вилка, и уже обращаясь к Ане, сказал:
– Я готов.
Они поспешили на Академическую, разъяснить и, если, возможно, спасти ситуацию. Рано утром, чуть ли не в шесть часов, Анечке позвонила Лена Торышева и рыдающим голосом сообщила, что свадьба ее с Матвеевым, назначенная на пятое ноября, то бишь, на завтрашний день, отменяется категорически. На Анечкины изумленные расспросы Лена вместо ответа разрыдалась еще горше, потом отправила ее за объяснениями к Зуле, и положила трубку. Аня, наскоро собравшись, кинулась к Вилке. Но он был совершенно не в курсе, пришлось созвониться с квартирой Матвеевых. Зуля по телефону ничего излагать не пожелал, но согласился никуда не уходить и дождаться их прихода. В трубке фоном раздавались недовольные выкрики Зулиного отца и, кажется, даже всхлипывания Вероники Григорьевны, Зулиной мамы.
Сердечные неприятности друга взволновали Вилку всерьез. Возможно, в несколько более ранний период, он бы отнесся к расстройству Зулиных матримониальных планов просто с сочувствием, проведя печальную аналогию с собственной безответной любовью, но теперь это уже не представлялось ему возможным. Оттого, что Вилкина любовь с прошедшего лета уже не была безответной. Хотя и не совсем такой, какой виделась Вилке в его мечтах. Потому что Анечка отныне принадлежала ему не только частичкой своей души, но и полностью телом. Правда, подобная формулировка все же казалась Вилке неподходящей. Точнее сказать, это Вилка отныне целиком принадлежал ей не только сердцем, но и всем другим тоже. А целых три июльских недели, которые они прожили вместе, в пустой Вилкиной квартире, до сих пор имели явный привкус невозможной реальности. Людмила Ростиславовна с Барсуковым отдыхали на югах, Аделаидовы-Булавиновы отъехали в дачное имение, Анечка и Вилка остались в Москве одни. Вилка отбывал трудовую повинность у Гены Вербицкого, Аня же устроилась на летнюю практику помогать в приемной комиссии факультета.
Почему Анечка пожелала изменить их обычное приятельство с малой толикой флирта, а это было именно ее решение, в пользу иных, близких отношений, и по сей день оставалось для Вилки загадкой. Но перемену он воспринял с надеждой и восторгом. Это означало, некоторую, но все же существенную победу его долготерпения. Нечего и говорить, что с тех пор он сделался совершеннейшим Анечкиным рабом, покорным и жаждущим приказов, и уж как все это было непохоже на его прежний секс на пляже с девушкой Ульяной. Вилка на опыте собственной плоти ощутил, какая великая разница заключена между простым позывом разыгравшихся гормонов и действительным обладанием многолетним предметом своих мечтаний. Беспокоило Вилку только то, что Анечка вроде бы не замечала вопиющих перемен, случившихся меж ними, и вела себя с Вилкой совершенно по-прежнему, без признаний и любовных объяснений. Хотя Вилка был не слепой, и видел, что Анечке в постели с ним приятно и даже хорошо. Но во всем остальном для Вилки действительность оставалась прежней. Один лишь раз Вилка позволил себе поинтересоваться, не значит ли их связь также прелюдию к маршу Мендельсона, но Анечка смешливо покрутила пальчиком у виска. Однако, «нет» она не сказала, а со временем это позволяло Вилке надеяться на многое. Что же, терпения ему по-прежнему было не занимать.
Вилка подозревал, что и его мама по каким-то, ведомым ей одной признакам, догадывается о любовных похождениях сына. Но, если это было так, то Людмила Ростиславовна Вилкин выбор одобряла безусловно, а к Анечке, за много лет довольно близкого знакомства, привязалась по-настоящему. И порой позволяла себе ободряющие замечания, что, дескать, немало девиц в юности морочили голову своим парням каприза ради, а далее, как правило, благополучно позволяли отвести себя в ЗАГС. Поэтому сегодняшние ее слова о невестах, не бросающихся зря стоящими женихами, были скорее косвенно адресованы Анечке для приведения ее в задумчивость. Вилка остался за это маме благодарен.
В квартире Матвеевых творился настоящий «шухер». Иного слова и не подобрать. Вероника Григорьевна металась между мечущим громы и молнии мужем, своей сестрой Ланой, приехавшей на свадьбу племянника из Новосибирска, и теперь каждые пять минут требовавшей валерьянки для спокойствия нервов, и запертой наглухо комнатой сына, куда она безуспешно пыталась достучаться. Появление Анечки и Вилки Вероника Григорьевна восприняла – как дева Мария благую весть в лице архангела Гавриила, и тут же пригласила их к оказанию любой возможной помощи.
– Ах, я сама ничего не понимаю! Зуленька примчался весь взмыленный на машине, часа в три ночи. Мы все не спали, тревожились. Он за рулем, вдруг выпил, мало ли чего. Это все Яша! Ах, как я была против его затеи! Лучше бы он продал эту «Ладу» и выдавал мальчику на такси! – Вероника Григорьевна, измученная бессонницей и многочасовым скандалом, путалась в мыслях, сбиваясь на посторонние темы.
Анечка пришла ей на выручку:
– Вероника Григорьевна, Зуля приехал, а дальше что?
– Ах, я же говорю, я не знаю, что это было. Он сказал – свадьба отменяется, и что Ланочка может ехать домой, а он идет спать, – не очень связно изложила события Зулина мама.
– А вы спросили почему? – задал не самый умный вопрос Вилка.
– Боже мой, деточка, конечно же, спросили. Но Зуленька отвечать отказался, и вот теперь заперся у себя и не выходит. Яша крикнул ему через дверь: как же быть, по его мнению, с гостями и банкетом? А Зуленька сказал, что мы можем гулять без него. Ох, что тут началось! Я думала, Яша его убьет, но двери по счастью у нас крепкие.
После длительных препирательств и торжественных заверений Якова Аркадьевича, что к Зуле он не применит никаких воспитательных мер, Матвеев согласился, наконец, допустить в свою комнату только Аню и Вилку. Вероника Григорьевна вымолила еще позволение принести хотя бы завтрак и тут же удалиться. Когда на всех был доставлен чайный набор с припасами, Зуля, не вступая в разговоры с домашними, так же безапелляционно запер дверь.
– Чего ты дуришь? Уже всех родных до умопомешательства довел, – не очень любезно сказал ему Вилка, – из-за тебя утренние пары пропускаем.
– Это ладно, – остановила его Анечка, – ты лучше нам скажи, что стряслось?
– Я скажу, – угрюмо ответствовал Матвеев, косясь на них исподлобья, – а вы смеяться станете.
– Да тут уж не до смеха, – с укоризной сказал ему Вилка, – развел тайны Бургундского двора.
Матвеев помялся еще немного, не кокетничая, а словно бы стыдясь, и в то же время он жевал сдобную плюшку. Но вот, наконец, заговорил:
– Понимаете, все дело в кладбище. Ну, как я это родителям объясню?
– В чем? В чем? – разом воскликнули Аня и Вилка, решив, что ослышались.
– В кладбище, – снова, как заведенный, повторил Зуля.
– Тьфу, ты! Я думал, Ленка тебе рога наставила, или ты ей! – в сердцах плюнул Вилка. – Какое еще кладбище?
– Самое обыкновенное. Сначала Веденское, потом и Ваганьковское, – уныло, как нечто само собой разумеющееся, пояснил Матвеев.
– Ничего не понимаю. Ребусы какие – то. Ты уж, будь другом, излагай мысли последовательно. Давай сначала. С какой стати здесь кладбище? – строго спросил у приятеля Вилка.
– А с такой, – ответствовал ему Матвеев. Он глубоко вздохнул, словно настраивая себя на повествовательный лад, и продолжил:
– Это все Ленка. Завелась вчера вечером – надо проведать бабушку, да, надо проведать бабушку! Она меня вырастила, она меня вынянчала! А бабушка уже лет пять, как померла. До светлого дня бракосочетания внучки не дожила, стало быть. Ленка расчувствовалась, ударилась в слезы. Мать ее, Станислава Анатольевна, тоже дура хорошая. Говорит, поезжайте на могилку, это на ночь-то глядя. Ленкин отец, единственный здравый в этой умалишенной семье, начал возражать. Дескать, Стася, какие могут быть покойники в половине одиннадцатого. Тогда Станислава Анатольевна давай орать, что он ее маму всегда терпеть не мог и все в таком духе. А Ленка плачет.
– Ну? – спросил Вилка замешкавшегося на секунду Зулю.
– Баранки гну! – не без злости ответствовал ему Матвеев. – Короче, сели мы в машину. Поехали. В Лефортово, на немецкое кладбище. Там, само собой, все закрыто. Заколочено накрест окно. Насилу добудились сторожа. Ух, он и матерился. Этажей в шестнадцать. Я ему пятерку сунул. В общем, ворота он нам открыл, но с нами идти отказался наотрез. Полчаса, не меньше, искали эту чертову могилу. Ленка, росомаха, ни номера участка, ни линию не помнит, знает, только как пройти при свете дня. Нашли, наконец. Тут моя красавица, деточка-лапочка, берет меня за руку и подводит к надгробной плите. И говорит: «Вот, бабушка, у меня завтра свадьба. Это мой жених, Авессалом Матвеев. Он хороший и меня любит. Если ты не против, то дай мне знак». А дальше уже полный бред. Стоим мы у бабушкиной могилы и ждем знака, между прочим, держимся за руки. Ленка опять плачет. Тут неподалеку завыла какая-то псина, из приблудных, их у кладбищенской сторожки полным-полно. Ну, Ленка, плакать перестала и вроде обрадовалась. Решила, что бабушка дозволяет наш брак. Потом присела у памятника, рукой его гладит и благодарит бабушку за согласие, а то без ее, бабушкиного, одобрения ей, Ленке, мол, никак за меня выйти было нельзя. Сам я стою рядом с кретинским видом.
– А дальше что? Зачем вы на другое кладбище-то поехали? – спросила Анечка, не зная, плакать ей или смеяться над Зулиной фантасмагорической повестью.
– А дальше мне вожжа под хвост попала. Накатило что-то. Может, обида взяла. И я Ленке говорю: «Вот что, милая. Бабку твою навестили? Навестили. Теперь поедем у моего деда благословения испрашивать. Мне без этого тоже на тебе жениться никак нельзя». Ленка в шоке, но молчит. А что скажешь? Сама кашу заварила.
– И вы поехали? К деду Аркаше на могилу? – выкрикнул Вилка, с хохотом хлопая себя по коленкам.
– Тише ты. И ничего смешного, – осадила его Анечка, но не очень строго. У нее самой смеялись глаза. – Ты, Зуля, рассказывай.
– Короче, поехали мы на Ваганьковское. Там опять те же грабли. Только сторож уже не в шестнадцать, а в сто шестнадцать этажей нас обложил. Пришлось последнюю десятку ему отдать. Но дело того стоило. Беру я Ленку за руку, веду к дедовой могиле. Невеста моя больше не плачет, все молчит и смотрит испуганно. Думает, что я рехнулся. В общем, привел я ее к деду Аркаше на смотрины и говорю те же слова, что и она своей бабке. Вот, мол, дед, моя невеста – мне ничего, нравится. Если и ты одобряешь, то подай знак. И если не одобряешь – тоже. А надо сказать, у деда памятник дай бог каждому. Здоровенная, черная глыба, метра под два с половиной и вместо фотографии барельеф выбит.
– Ты не про памятник, ты суть рассказывай, – перебил Вилка Матвеева.
– Это к делу относится, – укоризненно сказал Зуля. – Стоим мы, стало быть, и ждем. Знака или еще чего, я уже и сам не знаю. Рядом фонарь кладбищенский горит, и могилу деда видно хорошо. Не помню, сколько мы простояли. Тут как дернет ветром по деревьям. Сверху закаркало, и на памятник целый ушат жидкого птичьего дерьма опрокинулся. Весь фасад изгадил. А по кустам зашуршало, страшно так, после истошный крик: «Мя-у-у!». Ну, меня жуть взяла. Вот тебе и знак. Все, думаю, свадьбы не будет. Дед против. И сообщаю об этом, конечно, Ленке. Она в крик. Что за шутки? Она, дескать, несерьезно, про знаки и благословение. Ах, ты, ору я ей, несерьезно полночи меня по кладбищу таскала, а я, зато серьезно! Всю дорогу до ее дома ругались. И разругались совсем. Не-ет, правильно меня дед остерег. Знак дурной и жениться я не буду. Кончено.
– Уф! – выдохнула Анечка, убирая руки, за которыми спрятала свое неприлично веселое лицо. – Зуля, ну что ты? Ну, поругались. Ну, помиритесь. Хочешь, я сама за Леной съезжу и привезу к тебе? Глупости все это.
– Нет, Ань, не глупости, – убежденно и печально ответил Матвеев, – дед свое слово сказал. Были знаки.
– Да какие знаки? Ворона и кошка? Да на любом кладбище и того и другого добра полно. Сторожа памятники не намоются! Это все твое воображение. Просто ты расстроился и обозлился. Подумал, что Лена в тебе сомневается, и обиделся. А я знаю, она бабушку Тоню очень любила. В этом все дело, – разумно приводила Анечка довольно убедительные доводы. Но Зуля слушал в пол-уха. Он пристально глядел на Вилку.
– Ну, ты-то хоть понимаешь, что это знак оттуда? – тихо сказал Зуля с явным намеком. – Как думаешь?
Вилка решил положить комедии конец. Он понял, на что намекает Матвеев, и взял дело в свои руки. Знаки, конечно, были полной чушью, и никакого отношения к Вилкиным потусторонним способностям иметь не могли. Но раз Матвеев верил в это, Вилка и постановил сыграть на его заблуждениях, чтобы прекратить неуместный балаган. Он возвел глаза долу, сосредоточенно замолчал. Потом вынес приговор:
– Думаю, ты ошибся… Нет, положительно точно, ошибся. Кошка значит – вы будете изредка ссориться, что вы и делаете, а воронье дерьмо – это к деньгам, – вспомнил кстати Вилка страничку из маминого, домашнего сонника. И с нажимом многозначительно добавил:
– А дед согласен. Я знаю. Иначе были бы ДРУГИЕ знаки.
Зуля торопливо закивал, вид у него сделался испуганным и растерянным. Измученный за эти месяцы своим предательством, играми с Дружниковым и беспокойной свадьбой, он уже ясно не соображал совсем и Вилке поверил безоговорочно. Признав за ним и способность общения с мертвыми душами. Если бы Вилка только мог это знать, мог предвидеть, как отныне будет толковаться каждое его неосторожное слово потерянной Зулиной совестью и оскверненным разумом! Он бы промолчал. Но Вилка ничего не знал, и потому с легкостью принял на себя роль шуточного оракула. Уверенный в том, что Зулина дурь скоро пройдет сама собой, и они вместе еще посмеются над его кладбищенскими приключениями.
Пока же Зулю повели к телефону мириться с невестой. А вскоре приехали и Торышевы в полном составе. Хозяева и гости еще немного поскандалили между собой, но больше для виду. Вероника Григорьевна ни за что не хотела отпускать Вилку и Аню, пока семейство невесты не убралось восвояси. Она опасалась новых закидонов со стороны сына, и все время благодарила их обоих, так что вогнала Вилку в краску.
И свадьба была. На удивление веселая и жизнерадостная. Не где-нибудь, в ресторане гостиницы «Будапешт», видимо и в самом деле влетела Зулиному отцу в немалую копеечку. Но Яков Аркадьевич унылым не выглядел, скорее наоборот, все же женил единственного сына. Торышевы, впрочем, тоже не были бедными и сирыми – Ленкин отец деканствовал в Бауманском училище – но кроме Ленки имелись еще две младшие сестренки-двойняшки, так что бросать деньги на ветер они все же не могли.
Среди приглашенных затесался и Дружников. Но пришел он как бы не от себя, а в компании с Вилкой и Анечкой. Для конспирации, чтобы не афишировать новые взаимоотношения с Матвеевым. Хотя Зуля лично навестил его в общежитии и пригласил в особо уважительных выражениях. Дружников велел ему переадресовать просьбу через Аню или Мошкина и не светиться лишний раз на людях. К Зуле в гости он отныне ходить более не желал, а предписал Матвееву являться самому. В случае острой необходимости обещал звонить.
В строгой форме, похожей скорее на приказ, чем на пожелание, Дружников установил и нормы их нынешнего отношения друг к другу. При посторонних Зуля должен был вести себя, как и прежде, ничем не выдавая положения дел, наедине же с Дружниковым ему позволялось обращение «Олег Дмитриевич» и иные виды подчиненного смирения. Что Зуля и исполнял, хотя чувствовал, что угодил в некую кабалу, из которой вряд ли случится исход. Но и этим был доволен. Лучше рабство у Дружникова, понятное и определенное, чем свободное плавание под Вилкиным «Веселым Роджером».
Дружников же неуклонно исполнял инструкции Матвеева и все больше сближался с Вилкой. После долгих и усиленных размышлений, Дружников пришел к выводу, что наиболее безошибочно будет с его стороны сделать ставку на черные стороны биографии Мошкина. И, как всегда, угадал верно. Вилка, все еще маявшийся болью от чернобыльских событий, по-прежнему искал путей к всеобщему благоденствию, и Дружников, знавший отныне всю подноготную его тайны, зорким оком улавливал его метания. На них и играл. Вступал в долгие беседы, произносил пламенные речи, насколько позволяло его косноязычие. Кое-что репетировал заранее. И все чаще распознавал неподдельный восторг в Вилкиных глазах, когда тот загорался очередным Дружниковским проектом. Будь то предложение записаться в полузапрещенный «Демократический Союз», который потом сам же Дружников, опасаясь нелегальщины, хаял, как пустое дело. Или идею создания студенческого товарищества с Америкой, в целях воспрепятствования военщине отбирать для себя лучшие ученные умы. Идея была совершенно бессмысленной и практически неосуществимой, но звучала хорошо. Иногда по выражению Вилкиного лица представлялось, что в нем бушуют сильные и нужные Дружникову бури чувств, но состоялось ли уже явление вихря, Дружников определить не мог. Напрямую спросить было невозможно, признаков особенной удачи Дружников тоже не замечал. Матвеев терялся в догадках и ничего определенного выразить не мог. Удача, по его словам, могла быть и неявной, то есть не обязательно представлять собой нечто, необходимое самому Дружникову, а лишь то, в чем он нуждался на своеобразный Вилкин взгляд. Так они и пребывали в сомнениях, пока однажды…
Однажды случилось следующее. Третьекурсникам предстояло плановое распределение по кафедрам и отделениям, с большей или меньшей степенью престижности. На одни из них можно было попасть совершенно свободно, но и хороших перспектив они не сулили, на других требовались высокие баллы успеваемости, на третьих все решали связи и счастливые случайности. Анечка с Вилкой собирались на кафедру «01», общих проблем управления, скорее по интересам, чем в силу далеко идущих намерений, отметки в зачетке у них оказались подходящие. Дружников, как обычно, замахнулся на великое. Высшая алгебра… Попасть туда, мало сказать, что было непросто. Даже с его почти безупречной, за исключением троек по английскому, зачетной книжкой. Дружников хмуро жаловался друзьям на обстоятельства, вслух выражал свои опасения, что его, видать, «прокатят», а возьмут, как обычно, гладких профессорских сынков. Тут уж помочь ему не мог и сам Барсуков, даже если бы выразил такое желание. Эта сфера находилась выше его компетенций и возможностей. Так что Дружникову оставалось охать и вздыхать, и надеяться на чудо.
Оно и произошло. Его взяли на «высшую алгебру», да еще чуть ли не поблагодарили за то, что он подал заявление именно на их кафедру…. И тут Дружников озарился догадкой. По правде сказать, до сих пор он не очень-то доверял Зуле, и в глубине души маялся сомнениями в достоверности его слов. Оттого сетуя при Вилке на несправедливости распределения, он действовал по одному лишь настроению, все же не допуская всерьез сверхъестественных влияний на свою удачу. Но последнее событие заставило Дружникова озадачиться и попытаться дознаться, поймал ли он вожделенную птицу счастья за хвост.
Именно на веселой Зулиной свадьбе было Дружникову откровение. Как простым и надежным способом определить, выпал ли ему выигрышный билет, или удача по-прежнему числит его в своих пасынках. На следующий день, в воскресенье, Дружников зашел за Вилкой, чтобы вместе с ним и Аней ехать на квартиру Матвеевых догуливать событие. Явился он нарочито рано, Анечки еще не было, а Вилка только-только продрал глаза с послесвадебного похмелья. Мама, Людмила Ростиславовна, попыталась усадить гостя пить чай. Но на сей раз Дружников отказался, сославшись на то, что пообедает у Матвеевых. Пока Вилка приводил себя в порядок в ванной, Дружников ожидал друга в его комнате, делая вид, будто копается в книгах. Удостоверившись, что ни одна живая, домашняя душа не может его увидеть, Дружников решительно и немедленно рванул на себя верхний ящик стола.
Тетрадь была там, только изменила немного местоположение. Открыв ее на первой странице, в самом конце списка Олег Дмитриевич Дружников прочитал начертанное еще совсем недавними чернилами свое собственное имя.
Уровень 18. Творец и голем
Когда радостное возбуждение – первое чувство, которое он испытал, открыв коричневую тетрадь, – отступило спустя несколько дней, Дружников задумался не на шутку. Одно дело знать, что волшебство свершилось, и даже уверовать в него, и совсем другое понять, как правильно потратить найденный клад. Дружников никак не желал, чтобы Вилка Мошкин, при всей его наивной прекраснодушности, решал за него, какую именно удачу преподнести в дар. К тому же Дружников определенно подозревал, что вещи, нужные ему лично для собственных видов на будущий жизненный урожай, для Вилки не представляют особенной ценности. По крайней мере, настолько, чтобы от души пожелать их избранному другу. И перед Дружниковым ясно виделось лишь два возможных пути.
Первый, нудный и тернистый, зато относительно безопасный, вел к хитроумному обману, к играм в прятки на приз, который не определен. Можно было намеками и жалобами, словесными ловушками и заманчивыми идеями вынуждать Вилку желать Дружникову то, что требовалось ему в данный момент. Но полезный коэффициент тут выходил очень уж невысоким. Слишком велика была вероятность того, что Вилка истолкует все на свой лад и подарит, возможно, благородное по сути, но совершенно бестолковое чудо. К примеру, сделает Дружникова Ленинским стипендиатом, вместо того, чтобы помочь сесть на хлебное место секретаря профкома. Нет, конечно, Дружников не против и стипендии, только в виде дополнительного приложения, но никак не вместо доходной должности для начала будущего старта. И потом. Невозможно в открытую взять и выложить, что на белом свете из всех его чудес, самое удивительное для тебя – огромные деньги и личная власть, и еще деньги, деньги. Да Вилка никогда не подарит ему подобное, потому что не сможет пожелать этого от души. А нет искреннего желания, нет и исполнения, так вещал ему Зуля. И Дружников верил. Во что, во что, но в гадкие и сволочные казусы судьбы он верил безоговорочно.
Вторая возможность казалась рискованной, но разве на первый взгляд. Надо было натолкнуть своего недалекого благодетеля на мысль поделиться сокровенной тайной с ним, с Дружниковым. А почему бы и нет? Если Вилка счел достойным этого невероятного сокровища мелкотравчатого душой Матвеева, то не разумно ли станет открыться перед нынешним своим лучшим другом, да еще таким, которому явлен вихрь Вилкиного обожания. Здесь сгодится и сам Матвеев, пусть поработает на него, убедит Вилку довериться Дружникову. И тогда тоже будет обман. Но более надежный и прямой. Дружникову достаточно выйдет на словах убедить Вилку в благой необходимости и прекрасности очередного замысла, естественно, показав ему лишь подернутую глянцем обложку, не раскрывая, однако, истинного содержания, и поставить конкретную задачу чего надо пожелать. Так крутиться можно довольно долго, и, когда обман все же обнаружит себя, вдруг его паутину уже нельзя будет отменить и разрушить. Да и нужна ли тогда станет паутина самому Дружникову? Плох этот путь был лишь тем, что выманивал Дружникова из укрытия. Лишняя информация это и лишняя ответственность. И Дружников не сможет сослаться на то, будто не знал и не ведал, что творил. Все же игра по-крупному никогда не пугала его. Наоборот, заставляла решительно и упорно толкать себя вперед.
Но у Дружникова было еще одно дело. Которое надлежало непременно совершить до открытия тайны, и никак невозможно отложить на после. В суть этого дела, нелегкого и опасного, Дружников не собирался посвящать даже Матвеева. Никаких свидетелей в нем не могло быть, и Дружникову предстояло исполнить дело в одиночку. Прежде чем перейти на следующий уровень своего замысла и хитростью выманить Вилку к открытому сотрудничеству, Дружников предписал себе добыть Аню Булавинову. Что девушка не испытывала к нему ни малейшей романтической склонности, четко определив ему место в подопечных друзьях, нисколько Дружникова не обескураживало. И Аню он не винил. Ничего не попишешь, он трезво оценивал себя со стороны, и до сей поры даже не мыслил соваться с суконным рылом в калашный ряд. Но теперь все виделось Дружникову иначе. Страсть, снедавшая его изнутри, могла обрести выход. Он ни на секунду не задумался даже, стоит ли Анечка стольких опасностей и усилий. Ему должно принадлежать все лучшее, и точка. А цена риска? Что ж, всю свою жизнь он только и делал, что рисковал. Если есть возможность заполучить все сразу, и Аню и Вилкину удачу со всеми потрохами, то с какой стати он, Дружников, будет отказываться, из страха не иметь ни того, ни другого! Он не слабовольный засранец Матвеев, который много лет дрожал осиновым листом, и чем кончил? Угодил к нему же, Дружникову, на посылки.
Средство для попадания в цель Дружников избрал все то же. Да и что может быть лучше доброго старины обмана. Жаль лишь, что в этом случае обвести Вилку вокруг пальца не выйдет просто. Надо, чтобы Мошкин не столько пожелал Дружникову ухватить лакомый кусок, сколько никоим образом он не смог догадаться, о каком именно лакомстве идет речь. А когда факт, так сказать, свершится, тут для Дружникова и начнется самая работа. Любой ценой удержать Вилку в «друзьях навек». Дружникову задача невыполнимой отнюдь не казалась. Для начала требовалось зашифровать свое желание так, чтобы Вилка никогда не понял и не заподозрил, что Анин выбор он сделал своими собственными руками. Пусть думает, все случилось само собой. Что девушка просто влюбилась в одного и разлюбила другого. В конце концов, это ее право. А уж Дружников постарается разыграть мучения совести и верность идеалам товарищества. Но, как говориться, любовь зла и козлу ничего не остается, как смирится с этим обстоятельством. К тому же, вне зависимости от Анечкиных симпатий, Вилка вряд ли согласится пребывать вдали от нее, а значит по-прежнему останется вблизи Дружникова. Уж он, Дружников, постарается, чтобы Вилке вблизи него было хорошо настолько, насколько это вообще возможно. Привыкнув все и всегда просчитывать на много шагов вперед, Дружников предвидел еще одну немаловажную выгоду в разрыве прочных связей между Анечкой и Вилкой. Удайся ему план, и Вилке уже некогда выйдет думать о ерунде. Поэтому, если Дружников сможет удержать Мошкина на привязи, то он уж постарается сделаться для него единственным, близким другом, и так запутать в собственные дела, что Вилке охнуть будет некогда. Пусть занимается его, Дружникова, проблемами и прожектами, а не валяет дурака, пытаясь спасти мир. Да и чем ему еще останется жить, если Аню он утратит бесповоротно и насовсем?
Решение было Дружниковым принято, и дело стояло за малым. Требовался подходящий для затеи момент и убедительная легенда. Такая, которая выстрелила бы на поражение, а не ушла бесполезно «в молоко». Тут-то Дружников призвал к себе звонком Матвеева. Не посвящая его ни в какие детали, коротко объяснил, что необходимо сделать. «Засранец» не прекословя и не обременив Дружникова ни единым лишним вопросом, отправился выполнять приказание.
В ближайшую субботу трое друзей по приглашению четы Матвеевых встретились в кафе при ресторане «Прага» якобы отметить первый месяц их семейной жизни. Зуля, являя свое усердие, не поскупился на стол, хотя ему и пришлось при этом покуситься на деньги, пожертвованные родней в виде свадебных подарков. Лена приехала в пасмурном, уныло-сером настроении, но вовсе не оттого, что ей было жаль потраченного молодым мужем. Затея ей не понравилась с самого начала. Из-за своей внезапности – Зуля никак не посоветовался с ней, хотя, вдруг захотел сделать сюрприз. И к чему с ними за столом сидит этот тип, Дружников? Лена его терпеть не может, и Зуля о том знает прекрасно, а вот позвал же его. Как будто у них мало других знакомых, которых стоило пригласить, и куда более достойных! Хотя, опять-таки, наверное, она несправедлива: Зуля вовсе его не звал, а Дружников пришел сам, «татарином». Таскается хвостом за Анькой и Вилкой, липучий, как болотная пиявка, они, бедняги, еще жалеют его и не думают прогнать. А он, гад и оборотень, смотрит на Аню. Все время смотрит. Ни одна душа этого не замечает, даже Вилка. А сегодня глядит особенно нагло, когда думает, что никто не видит. Но она, Лена, видит все.
Лена Матвеева почти физически ощущала, как в ее душе вызревает справедливое негодование. Но держала себя в руках, не желая устраивать никому не нужный скандал. Для нее, порывистой и мало рассуждающей, это было нелегким делом. А Дружников, скромник и подхалим, как назло, в этот вечер разошелся настолько, что принялся рассказывать занятные случаи из своей колхозной и армейской жизни. Нарочито подчеркивая свой прошлый лапотный быт с высокомерием человека, много повидавшего в жизни.
– … он, кулема, конечно, со стропила-то и свалился. Вместе с топором. А топор отскочил, пол-то в коровнике бетонный, и обухом ему в лоб. Мог полбашки оттяпать! – завершил очередную грубоватую повесть Дружников, и тут украдкой нагло, во весь выпуклый глаз, подмигнул Анечке. Вроде как рассказ предназначался исключительно для ее увеселения.
Лена его подмигивание уловила тоже. И ее захлестнуло праведным гневом от такого нахальства. Леночка Матвеева была уже пьяна, и оттого не нашла спасительных тормозов. Хочешь слыть деревенщиной? Что же, получи по полной программе.
– А как тебе, Олег, здесь? Ничего? Все-таки, не коровник. Надо же, ты даже вилкой с ножом кое-как управляться умеешь. Я за тебя беспокоилась, как ты есть-то станешь? Или на ферме и этому учат? Заодно с коровами, – Леночку несло без остановки. Она осознавала, что говорит мерзкие гадости, но фонтан было уже не заткнуть. За столом повисла гробовая тишина, и лишь ее голос раздавался дрожаще и звонко, – Между прочим, у тебя не очень и получается. Вон, весь взмок от усилий. Нет, если хочешь, то не стесняйся, ешь прямо руками. Только об штаны их потом не вытирай. Здесь приличный ресторан, могут не так понять… Вот это называется «салфетка», и пользоваться ею надо так…
Но Лена не успела показать, как именно. Матвеев резко перехватил ее руку, вырвал из пальцев белый, льняной квадрат:
– Хватит уже. Напилась, соображай, что несешь, – страшно и тихо сказал ей Зуля. Вид у него был такой, будто сию секунду он ударит жену по лицу. Глаза его сделались несоразмерно большими и зеркальными от ужаса. Он и вправду не понимал, что и, главное, зачем происходит. – Извините, Олег Дм… Извини, Олег. Она не нарочно. Выпьет и может обидеть кого угодно. Не со зла, а так просто.
Но каждый за столом видел, что Лена со зла и не просто. Дружников не произнес в ответ ни слова, да он и не собирался. Во всяком случае, пока. А Зуля уже шипел на жену дальше:
– Ну-ка, извинись, немедленно. Я кому сказал.
– И не подумаю, – пьяно, но твердо ответила Лена. – Тоже мне, коровницын сын. Плесень.
– Лена! – это был уже Анечкин голос. Нож со звоном упал на тарелку. – Лена, ты не смеешь! Это подло, он же не может тебе ответить!
– Он не может, ха! Еще как может. И пусть ответит. Ишь ты, ягненочек! Нет, теленок. Теля. Тля! – завершила ассоциативный ряд Лена. Оглядела всех вызывающе и выжидающе.
Аня, Вилка и Матвеев подняли легкий гвалт. Интеллигентный и осуждающий. Матвеев поспешно звал официанта, выворачивал из бумажника на скатерть деньги. Дружников все еще не проронил ни слова.
На улице взволнованно распрощались. Зуля повел жену к машине, то и дело украдкой и просительно озираясь на Дружникова. Но тот в его сторону даже не глянул. Хотя и попрощался вежливо и с ним, и с Леной. Последнее «до свидания» само собой кануло в пустоту. Лена не ответила.
Анечка предложила пройтись немного по Арбату, полагая, что небольшая прогулка пойдет Дружникову на пользу. Он все еще выглядел каким-то потерянным и упорно рассматривал землю. И они пошли. Аня и Вилка сбоку, а между ними Дружников, будто под конвоем. Дул противный, мокрый ветер, в котором путался колкий снег, налетая, он неприятно царапал щеки. Дружников подставил ему лицо. Шел деревянной походкой и все также без слов. Это был определенно его звездный час. Теперь главное не ошибиться, сыграть до конца, и, может, он заставит нужное событие свершиться. Мозг его был холоден и точен, а по лицу уже ручьем текли слезы. Снег и ветер – вот это подлинная удача. От них у Дружникова всегда беспощадно слезятся глаза.
Спустя десяток шагов его слезы были обнаружены Анечкой, и шествие моментально застопорилось. Олега тотчас подхватили под руки и в ближайшей подворотне усадили на парапет какого-то учреждения. Вилка держал его за плечо, Аня совала платок. Платок выскальзывал у Дружникова из ладоней, и тогда Анечка, наклонившись, сама стала промокать ему веки.
– Ну, что ты? Что ты? Олежек, ну перестань! Ты уже не маленький, не надо плакать! – растеряно успокаивала его Анечка, словно ребенка.
– Да и не из-за чего! – поддержал ее Вилка. – Ленка всегда была дурой. Еще со школы. И потом, нельзя же всем нравиться! Просто тебе больше не нужно с ней общаться. А мы с Ленкой поговорим. Надо мозги ей вправить. Что она себе позволяет, притом на людях! Небось, считает, она-то культурная.
– Не надо. Не надо ни с кем из-за меня ругаться, – скорбно возразил Дружников, – я же понимаю. Выскочка, парвеню, и все такое. Сам знаю, я вам не ровня.
– Да что ты говоришь! – одновременно загалдели Аня и Вилка. Дружникова им стало жаль настолько, что и они были готовы разреветься.
И Дружников почувствовал – пора. Сейчас или никогда. Он тяжко, глубоко вздохнул, будто сова ухнула, и молвил. Нет, даже не молвил, воззвал из темных вод поддельного страдания:
– Хоть бы кто знал! Скверно-то как, словно жжет меня что. Я и сказать не могу, отчего так мучаюсь. Ну, хоть бы кто меня от этой муки избавил, ни о чем не спрашивая! Даже и не пойму, чего сейчас больше хочу: напиться или утопиться!
И в какой-то миг Дружников ощутил, как дрогнула Вилкина рука, все еще лежащая на его плече. Напряглась, впилась пальцами. Дружников тут же, четко и тренированно, настроил себя: «Мне плохо, плохо без Ани. Я не перестану страдать, если не получу ее. Только это избавит меня от мучений. Слышишь, только это!». Он внушал сам себе, и верил в этот момент в сказанное до конца.
А вот Вилке и в самом деле было плохо. Друг, любимый друг, второй живой человек на свете, который во плоти и крови вызвал в нем вихрь, погибал на его глазах. Так неужели он не поможет? Он может помочь. Зачем еще нужен вихрь удачи, как не затем, чтобы спасать его друзей! Вокруг Вилки уже вращалось пространство, он весь напрягся, словно штангист перед рывком, и лишь в последний момент он вспомнил, смежил накрепко веки. Не хватало еще одного Актера! Господи, что же пожелать? Пусть так. Пусть Олегу больше никогда-никогда не приведется страдать из-за того, что он так и не смог выразить им с Аней словами. Вилка произнес повеление вихрю, и его отпустило, стало вдруг хорошо, как это обычно и бывало. Ну, и слава богу. Раз ему полегчало, значит, заявку приняли, и очень скоро полегчает его другу. А потом сделается и вовсе замечательно. Наверное, теперь Ленка никогда больше не унизит и не оскорбит его, а может даже и попросит прощения. Но надо же, только Олегу, за исключением, конечно, покойного Актера, удалось вызвать в нем повторный вихрь, а не простое пожелание удачи в виде дополнительной подпитки связи, как это бывало, например, с Танечкой. Значит, Вилка не ошибся, и Олег действительно самый лучший и нужный ему друг, какой случается в жизни. И, в отличие от папы Булавинова, ничем не болен и умирать не собирается. Да Вилка ему и не позволит. Уж это в его власти.
Дружникову тоже показалось, что нечто произошло. Возможно и не показалось, а произошло на самом деле. Так или иначе, ждать результата от его мастерски проведенной интриги совсем недолго. Матвеев говорил, что, если реципиент находится в непосредственной физической близости от источника, действие его наступает в очень короткий срок, иногда даже через несколько минут. Дружников удвоил внимание, хотя лицо его по-прежнему оставалось страдальчески трагичным. И был вознагражден. Протянув Ане ее платок, в котором более не нуждался, Дружников, совсем без задней мысли, а из всамделишней благодарности, крепко сжал ее руку в вязанной, ангорковой перчатке. По-товарищески, как бы говоря спасибо за ее поддержку и участие. В его жесте не было ничего особенного, скорее даже обыденное, с Аней они частенько здоровались рукопожатием. Не целоваться же в самом деле лезть к чужой девушке при встрече! Но на сей раз Анечка отдернула свою ладошку так, будто Дружников внезапно обдал ее кипятком. И резко сунула в карман вместе с платком, после чего изумленно и потерянно посмотрела на него, словно видела в первый раз в жизни. И отвела глаза, поспешно, как если бы он сидел перед ней голым.
Сначала Дружников смог подумать одно единственное: «Не может быть!». Но потом осадил себя. Как это, не может? Должно быть, иначе для чего он вообще околачивал грушу! Все удалось, потому что не могло не удастся. И тут ему пришло на ум, что его сомнения в успехе и переживания были напрасны. Ведь Вилка уже подарил ему одну удачу. А не значит ли это еще и то, что его нынешнее начинание просто обречено на успешное завершение? Уж очень гладко следовали события, чересчур много удачных совпадений. Значит уже сейчас он, Дружников, способен кое-что делать для себя самостоятельно, насколько то позволяет его теперешняя, пусть пока и не окрепшая паутина. От этой мысли ему действительно стало хорошо и весело. Кстати, напомнил он себе, дуться дальше уже не имеет смысла. Ведь Вилка, избавляя его от страданий, неведомо каких, наверняка ждет результата, наивно полагая, что мучения Дружникова связанны с инцидентом в ресторане. Делать Дружникову нечего, как переживать из-за этой дурищи Ленки, которую он сам же намеренно и спровоцировал. Но это вовсе не означает, что Дружников все забыл. Напротив, он хорошо помнил каждое ее обидное слово. Помнил слишком хорошо. Ничего, время еще покажет, кто коровницын сын, а кто принц Уэльский.
Дальнейшие события раскручивались со скоростью флюгера, вращающегося на башне во время штормового урагана. Для начала Дружникову стало ясно, что Анечка избегает его, насколько это возможно. По выходным она, ссылаясь на мифическую помощь старенькому Аделаидову в его работе над мемуарами, сидела дома, и по гостям и театральным развлечениям Дружникову приходилось скитаться вдвоем с Вилкой. Впрочем, Вилка на это обстоятельство никак не досадовал, говорил, если Анюте в голову что втемяшется, тут уж ничего не поделаешь. Всегда была такой.
Но и в лекционной аудитории Аня более уже не садилась рядом с ним, а только через Вилку. Рукопожатий тоже не было, ни при встречах, ни при прощаниях. Одни слова. И в то же время Дружников видел: Анечка изо всех сил старается быть с ним возможно приветливее, хотя и смущается страшно. И косится на Вилку, наверное, еще и потому, что опасается, как бы он не принял ее видимое охлаждение к Дружникову за проявление высокомерия и поддержку Ленкиной политики. Но Вилка не видел ничего. А потом неожиданно Аня пригласила его к себе. Предлог выглядел уважительно. Близились зачеты и экзамены, а у Дружникова стащили в общаге учебник по теормеханике. Дело было не только в неприятной разборке с библиотечным персоналом, но и в насущной необходимости учебного пособия. У академика Аделаидова нужная книга имелась. И Анечка позвала Дружникова.
– Если хочешь, можешь заехать прямо сегодня и забрать. Или я завтра привезу. Правда, она тяжелая, – как бы приглашая к дальнейшей беседе, сказала Анечка.
– Мне бы сегодня. Тем более, если тяжелая, – ответил Дружников, поддерживая нужный тон, – Вилка, давай, съездим после занятий? Туда и обратно. Делов на полчаса, а?
Надо ли объяснять, что Вилка тут же отказался наотрез:
– Не-е, не могу. Меня у Вербицких вечером ждут. Я Катьке пообещал шпаргалку по алгебре, – отговорился он и, чтобы не подводить друга, подбодрил:
– Да поезжай сам, не бойся, не съедят. Аделаидов дядька хороший.
И Дружников поехал. Никакого Аделаидова дома не оказалось, он вообще был на симпозиуме в Триестском ядерном центре. Анечкина мама тоже отсутствовала – у нее назначено суточное дежурство. В наличии имелась только древняя, полуживая бабушка, которая оказалась к тому же глуховатой. Она то и дело, впадая в забывчивость, предлагала «деточкам» поужинать, называла Дружникова «солнышком».
Аня с ним почти не разговаривала. Молча искала книжку, и будто не знала, что сказать, украдкой смотрела на Дружникова, как если бы подглядывала за ним в ванной. Лишь однажды полуугрожающе, с надрывом, попросила на ужин все же остаться. Дружников и не собирался отказываться. Ему казалось, что разговоры сейчас ни к чему, для Ани достаточно одного его присутствия, а больше пока ни в чем для нее нет нужды. Дружников никак не хотел подгонять события, и первым объясняться с Аней он тоже не желал. Узнав к этому времени Аню Булавинову достаточно хорошо, он решил выждать. Когда новое чувство не позволит совестливой девушке вести двойную игру с Вилкой, и, осознав свое поражение в бесплодной борьбе, Анечка сама порвет с ним отношения. И вот тогда, не раньше, Дружников сможет открыть второй акт своего театрального действа.
Уровень 19. Похищение сабинянок
Чай из слишком полной кружки переливался через верх и каплями падал прямо на хромированную стереосистему. Только Лена никак этого не замечала, вмиг заледенев с вытянутой на отлете рукой.
– Ну, так я и знала! Я знала, что этим все кончится! Он тебя обдурит, обманет, заплетет мозги. Гад, гад! – Лена с сердцем шваркнула полную кружку о столик, наполовину расплескав содержимое. – И чего он тебе наобещал?
– Ничего, – спокойно, но и с вызовом ответила ей Аня. – Мы вообще не говорили. Он не знает. Это все я. И я так больше не могу.
– Анютка, да ты что! Ты и не думай даже! А Вилка? Куда Вилку? Он же с ума сойдет. А это все пройдет. Ты только постарайся, – попыталась уговаривать ее Лена, и в голосе ее слышался неподдельный страх.
– Я старалась. Неужели ты думаешь, что Я не старалась? И ничего не прошло. У меня такое чувство, что и никогда не пройдет, – Аня произносила слова быстро и отчаянно, словно боялась недосказать весь нужный текст. – Я сама не понимаю, что происходит. Не было ничего и вдруг… Будто в меня выстрелили и ранили насмерть. И все это против меня и помимо меня. Я не хочу и сделать ничегошеньки не могу. Подло и глупо. Наваждение какое-то.
– Он же урод… Нет-нет, не потому урод, что некрасив, не подумай. Он не просто страшный, а Страшный. Страхолюдный, как нежить. И почему никто, кроме меня, этого не видит? Ни ты, ни Вилка, ни мой Зуля.
– Это ты придумала. И не говори о нем так больше. Хотя бы ради меня. И ты его совсем не знаешь, – горько сказала Аня.
– И знать не хочу! Лучше бы никому из нас его вообще не знать. Так все было хорошо. Я думала, вы с Вилкой поженитесь, как мы. И станем дружить, ходить друг к дружке в гости парами. Ведь это правильно. Ты же понимаешь, что это правильно?
– Может быть. Вчера. Позавчера. Неделю, месяц назад. А сегодня… Я пойду к Вилке и скажу все как есть. Я и к тебе пришла, думаешь, зачем? За храбростью. А ты кричишь.
– Не ходи. И я не буду кричать. Только не ходи. Вилка – он один и есть твой спасательный круг. И выкидывать его нельзя. Лучше соври ему и терпи. Так лучше, лучше! – Лена уже и умоляла.
– Нет, не лучше. Но и к Олегу я не пойду. Останусь сама по себе. Я уж решила, – ответила Аня и будто покончила с собой. Она встала, собираясь уходить:
– Послушай, Аленушка, если когда-нибудь мы обе будем знать, что вот сейчас ты во всем права, ты запомни, пожалуйста. Ты ничего не могла сделать. И никто не мог. Это, как собирать осколки после взрыва.
– Ничего себе, взрыв. Просто Хиросима какая-то, – Лена всхлипнула и провела пальцами по глазам. – Вот он год-то, начался. Даром, что високосный.
Вилка сидел на диване, и тупо разглядывал полосатый рисунок ковровой дорожки. В его комнате они с Аней были только вдвоем. И старались общаться как можно тише, чтобы не беспокоить Вилкину маму и Барсукова. Вернее, общалась пока одна Аня. Вилка еще не сказал и слова. Молча и обреченно смотрел на ковер. На ковре не было ничего сверхъестественно интересного, но и в Аниной исповеди ему тоже много интересного не открылось. Все это он давно уже ждал. Чего-то, непременно в этом роде. За грех нужно было платить, и Вилка догадывался о цене. Тем более, ему повезло. Аня выбрала не кого-то далекого и неизвестного, а дорогого ему друга. Значит, все по справедливости, значит, он отдает ее в хорошие руки. Достойное – достойному. Но, боже, как же больно-то! Но, надо, надо сказать. Если уж платить по счетам, то до конца. Вилка пересилил себя, оторвался взглядом от ковра.
– Ну и хорошо. То есть, плохо, конечно. Мне плохо. Я ведь очень, очень люблю тебя! – он все же не выдержал, сорвался на стон. Но сразу нашел себя и вернулся. – Вообще, это правильно. Вы с Олегом куда больше подходите друг другу. Это естественно. Но только почему он сам не пришел ко мне вместо тебя? Я бы понял.
– А он не мог прийти. Олег не знает ничего. Он, может, и не любит меня совсем, и я ему не нужна. Но и тебе врать не в состоянии. Сам подумай, какая бы вышла гадость, – тихо ответила ему Аня. От Вилкиной милости ей было скверно до предела.
– Как это, не знает? – Вилка на секунду даже утратил дар речи. В его голове совсем некстати проносились мысли одна спасительней другой. Значит, Олег, и не думал поступаться товарищеской честью, и, значит, он по-прежнему невообразимый, прекрасный друг. И, как это, он может не любить Аню? Никто не может. Значит, не подает виду, святая душа. И он, Вилка, не хуже. Нет, не хуже. И тоже привыкнет терпеть боль. Ради друга и ради своей любимой. Вот только пожелать им счастья Вилка не сможет никогда, это выше его власти над собой, ничего тут не поделаешь. Но они справятся и без него, надо лишь немного помочь.
Вилка встал с дивана.
– Знаешь, Анюта, это не дело, – начал он. И разве один Бог ведал, каких мытарств и трудов стоили ему его слова. – Надо поехать к Олегу и как-то дать понять. Если ты не в силах, все же тебе, как женщине неудобно, то могу я. Чего же вам мучиться-то?
Аня шарахнулась от Вилки в сторону, как от загробного привидения. Бежать было некуда, и она просто отступила в угол за письменный стол.
– Ты что? Ты что? – единственно могла она повторять.
– Да ты успокойся, я не сошел с ума. Ты ведь все равно меня никогда не любила. Ну, по крайней мере, так, как его. И, потом, вы же никуда не деваетесь. И будете рядом. Оба. Ведь, будете?
– Будем, конечно, – ответила Аня, не очень соображая, что именно она говорит.
– И ладно. Одному мне стало бы плохо. А с вами я буду в покое. Или ты думаешь, что я способен чинить вам вблизи козни и препятствия?
– Ты – нет, – честно сказала Аня, и знала, что это так. – Но к Олегу я не пойду. И ты не вздумай. А то я с тобой рассорюсь.
– Ну, да. Сейчас не рассорились, так из-за пустяков рассоримся, – Вилке даже сделалось весело от абсурдности Аниного заявления. – Нет, если ты против, то я, конечно, не пойду. Можно подумать, что для меня подобная миссия – верх удовольствия. Да, как-нибудь сложится. Ты только не делай такое лицо, будто жизнь кончена.
И Вилка придумал. От Ани было мало толку, приходилось действовать самому. Глупость, на Вилкин взгляд, получалась несусветная. Они, как и раньше, держались на занятиях втроем, словно ничто не произошло и не изменилось. Но долго так продолжаться не могло. Анечка прямо излучала вокруг себя лютое напряжение, и Вилка опасался, что однажды она сорвется. И тогда, бог знает, что придет ей в голову. Уйти в монастырь, на другой факультет, уехать учительствовать в дальнюю деревню. И это не самое худшее. Во всяком случае, она точно будет далеко он него. Поэтому Вилка решил написать письмо. Если нельзя или запрещено сказать словами, то бумага все стерпит и спрос с нее невелик. А дальше Олег пусть заботится сам – выбросить ему послание и напустить равнодушный вид, или принять к сведению и действовать, как подсказывает сердце. Затем Вилка составил дома эпистолярный шедевр: «Дорогой Олег. У нас с Аней все. По взаимности. Если она тебе нравится, то ты ей скажи. Потому что, ты ей нравишься. Но сама она стесняется. Твой друг Вилка». Упаковав лапидарное уведомление в конверт, Вилка подсунул свое творение тишком в сумку Дружникову. С солдатским сидором Дружников к этому времени уже распрощался. Купил с летних доходов в магазине «Балатон» объемное, темно-синее чудище из кожзаменителя, да и сапоги сменил на вполне сносные чешские кроссовки. Вместо армейских брюк на нем теперь красовались турецкие джинсы. Так что вид его изменился в лучшую сторону. Он больше не напоминал сельского плотника, явившегося в город за гвоздями, а скорее походил на успешного грузчика плодоовощной базы. Но Вилка и тем был доволен. По крайней мере, рядом с Анечкой Олег уже не выглядел подобранным на живодерне бродячим псом. Назавтра Вилка ждал первых, действенных результатов от своего письма. Но гром грянул значительно раньше. И грянул прямо к нему на квартиру.
Дружников вечером того же дня позвонил в дверь на Комсомольском, но зайти отказался и вызвал Вилку на лестничную площадку к лифту. Сам он подобен был действующему вулкану Кракатау на пике активности, брызгал слюной и ревел, как напоровшийся на рогатину медведь-шатун. Претензии его к Вилке звучали довольно бессвязно, но зато весьма жизненно блистали жемчужинами матерных слов. Смысл же извержения сводился к следующему. Он, Дружников, не какой-то там, себе не позволит и другим не даст. И если взбалмошные девицы не понимают, то он объяснит. А друг дело святое. Он, Дружников, в этом непреклонен как солдат у Мавзолея. Но раз Вилка думает иначе, то сам дурак, и он, Дружников, с ним в разведку не пойдет.
– И забери свою собачью бумажку, – Дружников сунул Вилке в руки надорванный конверт. – Перебесится Анька и все. Сегодня ты ей нравишься, завтра я, а послезавтра – наш профессор Татаринов.
– Не перебесится, – спокойно возразил ему Вилка. Он видел, что Дружников немного остыл, отошел и был уже, видимо, в состоянии воспринимать чужую речь. – Ты ей не просто нравишься. Анюта, похоже, всерьез в тебя влюбилась. Может, первый раз в жизни.
– Ага. А до этого она в тебя влюбилась первый раз в жизни, – угрюмо, но уже тише ответствовал ему Дружников.
– Да, нет, не так. Просто мы с ней давно дружим. Еще со школы. И Аня, она ко мне привыкла, что ли. Не знаю. Но это не настоящее чувство. Скорее это потому, что тебя еще не было, и она никак не могла влюбиться как надо. Вот и все.
– Но ты же ее любишь! Я, чай, не слепой. И как же быть? Ведь нельзя же! – снова стал выходить из себя Дружников.
– Это тоже не настоящее чувство. То есть, я Анюту, конечно, люблю. И никого больше, наверное, любить не буду. Но если это только с моей стороны, то это же чистейшее себялюбие. Пусть все вокруг мучаются, лишь бы мне хорошо было. Ну, как ты не понимаешь? – Вилка говорил и досадовал сам на себя. Да, кричало все в нем, пусть мучаются! Пусть, потому что я больше не могу! Но переступить не сумел. «Сможет ли бог создать камень, который он не сможет поднять?» Вот вопрос вопросов, куда тут Гамлету! – Ты лучше скажи. Но уж, чур, честно. Ты-то ее любишь?
– Честно? Ну, люблю. Да ты на меня посмотри! – Дружников беспомощно развел руками и даже сердито притопнул ногой. – Куда я, сякой-разэтакий, такой девушке? По улице ходила большая крокодила! Зачем я ей? Позориться? На меня и спившиеся уборщицы не зарились. Да я в армии втрое больше других «дедов» девкам сигарет и пайка отстегивал, и то не всегда получалось. А это, заметь, были распоследние солдатские бляди.
– Я не знаю, зачем ты уборщицам, но лично для меня ты лучше всех, хотя я, само собой, не девушка, – твердо ответил ему Вилка. – И для Анюты ты лучше всех. И для тех, кому наплевать, как выглядит хороший человек. Моя мама, например, вообще считает, что настоящий мужчина должен быть чуть-чуть красивее черта. И кстати, ей ты нравишься тоже. Ты мне благоглупостями баки не забивай. Ты мне ответь, будешь с Анютой объясняться?
– Не знаю. Надо подумать. Неожиданно как-то, – растерянно сказал Дружников.
– Нечего думать. Да или нет? – спросил Вилка, чуть ли не с угрозой.
– Да буду, буду. Только ты знай. Мы как были, так и останемся. Что бы там ни вышло. Я тебе даю слово. И ты тоже дай.
Дружников протянул Вилке руку. Тот немедленно выбросил вперед свою. Они обменялись пожатием, крепким до синяков. Еще немного постояли молча. А Вилка впервые в жизни пожалел о том, что он не умеет курить.
Месяц спустя Дружников сидел в кафе «Луна» на Ленинском, поглощая какао с булкой. Напротив него восседал благообразный Матвеев, тоскливо морщась над «столичным» салатом.
– Не мучай продукт, – сказал ему Дружников. – Привык, небось, к икре и разносолам. А по мне и такой хорош. Не будешь, так я доем. Еду выбрасывать грех.
– Да, пожалуйста, Олег Дмитриевич, – ответил Зуля, торопливо придвигая Дружникову тарелку. – А салат хорош. Просто я из дома, можно сказать, отобедамши. Вы столь неожиданно меня вызвали.
– А как же тебя еще вызывать, если ты вторую неделю носа не кажешь. Или ты от меня бегаешь?
– Помилуйте, Олег Дмитриевич, как можно! Всего лишь не хотел мешать. В смысле, путаться под ногами. У вас сейчас дела сердечные. И как вам все удается? – не удержался Матвеев и съязвил.
– Как, как? Каком кверху. А ты чего об том знаешь? – настороженно поинтересовался Дружников.
– Ничего не знаю. Но догадываюсь, что без неких сил тут не обошлось, – решился на откровенность Матвеев. Но, заметив нехороший блеск в глазах у своего визави, поправился:
– Я о том, что всецело восхищаюсь вами. Мне бы и в голову не пришло. Тут нужна необыкновенная смелость. Даже дерзновенность.
– Вот-вот. Дерзновенность. Правильно мыслишь. Сам-то дрожал всю сознательную жизнь, как заячий хвост. Ну, ничего. Поможем, поправим. Не можешь, научим, не хочешь, заставим! – и Дружников натурально заржал.
Матвееву от его смеха стало не по себе. Он решил свернуть поскорее на приятную тему:
– Ну, все равно вас есть с чем поздравить. Заполучить такую девушку! Многие, знаете, мечтали. И что же, собираетесь в будущем жениться, для закрепления успеха?
– Ни сейчас, ни в будущем. Зачем это? – Дружников хмыкнул и уткнулся в салат.
– То есть как? – растерялся Матвеев. – Для чего же тогда…?
– Зачем мне жениться, если Анька и так моя. Ну, посуди сам, дурья голова. Женитьба – дело политическое. Тут надо далеко вперед смотреть, – глубокомысленно ответил ему Дружников и поглядел на Матвеева: дескать, ну-ка, что теперь скажешь?
– Да, я понимаю. Конечно, в браке необходимо учитывать интересы. Но ведь имеется академик Аделаидов. А у него квартира. Которая, между прочим, отойдет Булавиновым.
– Ну, ты, Матвеев, и впрямь дурак! – Дружников неожиданно разозлился, ударил вилкой по опустевшей тарелке.
Зуля и сам уже понял, что сморозил глупость. Ведь не из-за академиковых хором и привилегий затеял Дружников игру с огнем. Что ему те квадратные метры и дачи! О такой ли добыче он мечтал, когда ставил на кон саму судьбу! Здесь иной счет, а он, Зуля, приплел какие-то дурацкие квартиры. Мелковат, ты, Матвеев, мелковат. Оттого и пребывать тебе навечно в подручных, и даже не у сатаны, а черт его знает у кого.
– Ты, вот что, – снова заговорил Дружников, – ты моего дружка вразуми. Время-то идет. Мол, так и так. Хорошо бы тебе посвятить кое-кого в известную нам тайну. Открыть, так сказать, душу. Сам придумай что-нибудь. Только не перемудри.
– Дело деликатное. С плеча рубить нельзя. Нужен подход, – осторожно ответил Зуля, смущенно кашлянув.
– Вот и подойди. Тем более, если деликатное. Однако ж, не тяни особо кота за яйца, – постановил Дружников.
Вилка уже и сам не мог понять, плохо ему или хорошо, и на каком он вообще свете. Дружников и Анюта едва ли не облизывали его с ног до головы. Такого внимания, чуткого и нежного, он никогда не знал с Анечкиной стороны даже в ту последнюю пору их отношений, когда они частенько делили одну постель на двоих. О Дружникове нечего и говорить. Он, можно сказать, превратился в Вилкину нянюшку, иногда так пристально всматривался в Вилкино лицо, словно пытался вывести его на чистую воду: уж не скрывает ли друг сердечный втайне душевной болезни, и не поспешить ли с врачеванием. Вилка даже ощущал некоторое неудобство в его заботах, и оттого иногда нарочно изображал приятную умиротворенность духа, лишь бы Дружников немного ослабил свой надзор. Впрочем, Вилка ни разу не уловил в его опекунских порывах неких побуждений, продиктованных чувством неискупленной вины, а скорее то были позывы искреннего в нем, Вилке, участия. По крайней мере, слово, данное на лестничной клетке, Дружников свято держал, хотя и понимал его излишне буквально и вообще чересчур.
Но главное, ни Дружников, ни Аня ничего не позволяли себе у Вилки на глазах. Не обнимались и не держались за руки, даже в разговоре ни словом не намекали на иные, существующие меж ними отношения. Дружников сказал правду: все останется, как было. Вилка не являл себя в их обществе третьим лишним, он только утратил частично свои права, но и Дружников их в действенном виде не приобрел. Если что происходило, то это шло мимо Вилки, никак не затрагивая его чувств и не отягощая знанием. Для него настоящее застыло в образе трех верных друг другу товарищей, равных в своей доле их крошечного содружества. Для постороннего и праздного наблюдателя картина выглядела абсолютно той же самой.
Но Вилка не мог не осознавать, что помимо светлого бытия их закадычного трио, рядом существует и протекает иная жизнь. Он знал, что Дружников частенько наведывается на Котельническую, где Вилка по определенным причинам не может составить ему компанию. Знал, что и Аня иногда заходит в студенческое общежитие. О большем он боялся и думать. Когда он представлял себе свою Анюту в объятиях Дружникова, то, помимо его желания, в Вилке порохом вспыхивали чувства, близкие к тем, что пробуждали в нем монстров стены. Конечно, навредить Олегу он не мог и ни за что не хотел. Но и представлять, как он мог бы ласкать его обнаженную Аню, было ужасно и физически невыносимо. Потому что она все еще оставалась ЕГО Аней, и в обратном Вилка переубедить себя никак не преуспел.
И Вилке было от того стыдно. Дружников поступил с ним по чести, и Вилка ответил тем же. Выходит, что соврал. Никто не призывал его радоваться, но дозволять пещерному питекантропу бушевать внутри себя Вилка не имел права. А тут еще Матвеев подвернулся с разговорами.
С Зулей их, как ни крути, студенческая доля развела в разные стороны. У Матвеева ныне была семья, а до нее иные уже, свои, экономико-кибернетические интересы. Зуля давным-давно не интересовался Вилкиными загадками, не спрашивал и об Альбоме Удачи. Видимо, считал все прошлой и детской забавой. Вилка не видел смысла навязываться, да и потусторонние его дела протекали мирно и без новых катаклизмов. Матвеев даже о последнем явлении вихря узнал недавно и случайно, просто между делом спросив об Альбоме, а Вилка так же обыденно рассказал о Дружникове. Зуля как будто вовсе не удивился, может, уже настолько охладел к их школьным тайнам и расследованиям, что выслушал Вилкино сообщение с таким же равнодушием, как если бы по радио оповестили: в субботу пройдет кратковременный дождь.
Но вот не далее, как вчера, Зуля навел Вилку на удачную мысль. Вилка посещал Матвеевых на Академической, где молодая чета временно проживала с родителями, в ожидании строящегося кооператива. Лена уже давненько зазывала Вилку в гости и будто тоже порывалась опекать его. Конечно, Анина подруга не могла остаться не в курсе произошедших перемен, и Вилка вообще-то за доброе чувство был ей благодарен. Какой бы предвзятой, несдержанной на язык дурой ни представлялась ему Лена Матвеева, бывшая Торышева, но надо отдать ей должное, сострадания к ближнему ей не приходилось ни у кого одалживать.
В то время, как Лена рассматривала с Вероникой Григорьевной какое-то итальянское покрывало, добытое свекровью для будущей квартиры, Матвеев посетовал ему на то, что, мол, жаль Вилка больше не занимается исследованием собственных способностей и возможностей, никак не ищет путей для их успешного и безопасного применения. Говорил он также равнодушно и отстранено, видимо, просто желая поддержать беседу, прерванную появлением покрывала.
– Обидно, пропадет зазря. Все же у тебя потенциал, – сказал ему Зуля и даже слегка вздохнул. – Да и я тебе теперь не помощник. Дел по горло. Опять же, семья, скоро дом сдадут, там ремонт затеем. По совести признаться, остыл я и потерял интерес. Тебе бы кого свежего, горячего. Но где взять?
– Да уж, первому встречному не расскажешь, – усмехнулся Вилка. – Так и в «дурку» загреметь недолго. Хотя за своими подопечными я слежу. Про Совушкина пока, правда, ничего не знаю. О нем ведь не пишут более. Но, может, после найду.
– Вот ведь, был человек, и сгинул. Хотя его не жалко, – поддержал тему Матвеев. – Но неужели вокруг тебя совсем никого? Так не бывает. Найди себе кого-нибудь надежного, и пободрее, чем я.
– Где ж такого взять? – от нечего делать спросил Вилка.
– Ну, я не знаю где. Это уж тебе видней. Но ты ж не один во вселенной. Может, тот, кто тебе нужен, совсем неподалеку сыщется. По иронии судьбы так обычно и случается.
– Может быть. Может быть, – эхом отозвался Вилка.
А в голове его уже рефреном зазвучало: «может, неподалеку сыщется». А ведь Матвеев, хоть и равнодушный черт, кругом прав. От себя не убежать, а сиднем сидя былых вин не поправить. И одному тяжко. Вот кабы ему второго папу Булавинова! И то сказать, далеко ходить не надо. Ответ-то, у него под носом лежит, а ему, Вилке и нагнуться лень, чтоб поднять. Ответ-то прост: Олег Дружников. Умный и чуткий. Он смеяться не станет, выслушает, а уж Вилка постарается, чтоб поверил. К тому же, и вихрь на нем. А это важно. К тому же, если Вилка доверит Олегу свою самую главную тайну, то как бы искупит свое нечестное желание, что по-прежнему хочет вернуть Аню.
Пару дней Вилка размышлял, на третий решился. Все же опасался немного, как бы Дружников не отмахнулся или, что еще хуже, не принял бы за психованного. С его-то заботами, небось подумает, Вилка двинулся на сердечной почве. Но ничего, в среду, после четвертой пары, отозвал Дружникова в сторонку. Попросил заехать на днях, и непременно без Ани.
– Случилось чего? – забеспокоился Дружников, будто курица-наседка, узревшая в отдаленной перспективе птицу коршуна.
– Да нет, нет. Все в порядке, – утешил его Вилка. – Просто дело есть. Так ты уж загляни. Дело это важное.
Уровень 20. Славные парни
Прошел без малого год, с тех пор, как Вилим Александрович Мошкин поведал своему ближайшему другу Олегу Дмитриевичу Дружникову великую тайну.
Само откровение свершилось без особенных накладок. Дружников сперва слушал сочувственно-тревожно, можно было подумать – добряк земский доктор внимает лихорадочному бреду безнадежного пациента. Потом, с абстрактным интересом. Как если б Вилка вслух читал ему увлекательные главы из Клиффорда Саймака. Пришлось в доказательство достать тетрадь. Тут Дружников вроде наконец начал прозревать истину. Засыпал Вилку вопросами, местами скептическими. Но ответы получил убедительные. Хотя совсем и не уверовал. Тогда Вилка выложил последний козырь. Коли так, коли Дружников ему не верит, то пусть отправится к Матвееву и спросит. И поведал об их совместных с Зулей приключениях. Живой свидетель, к тому же не грешащий легкомысленностью, похоже Дружникова добил. Правда к Матвееву немедленно ехать он отказался, сказал, что и так достаточно.
Вилка многое Дружникову рассказал. Кроме истории с Актером, потому что страшно. Как бы Олег не испугался и не пошел на попятный. И про свое участие в Чернобыльских событиях тоже умолчал. Потому что больно и стыдно. Как бы Дружников от него не отвернулся, не пожелав понять, что Вилка в то давнее время был еще слишком вспыльчив и неопытен. Но остальное поведал без утайки.
Но Дружников так даже был рад, что Вилка не повесил на него свои чернобыльские несчастья. И лишний козырь в рукаве всегда будет кстати. Если его тонко разыграть. Как бы невзначай в нужное время ударить по нужному больному месту. Сами же ключи от рая, трогательно врученные ему Вилкой, до сих пор пылились без дела и вообще без толка. Все оказалось технически значительно сложнее, чем предполагал Дружников со слов интригана Матвеева.
Великие возможности плыли пока мимо носа. В стране творилось уже совсем черт знает что, сейчас бы и не зевать. Да только, что могут два, пусть и очень умных студента! Приторговывать валютой? Слуга покорный, можно обоим на нары загреметь. Фарцевать компьютерами и шмотками, перекупленными у иностранных учащихся? Для этого сверхъестественных способностей не требуется, да и мелко. Не кооперативную же булочную, в самом деле, открывать! С Вилкиными возможностями и булочную, несомненно, ждал бы успех. Но это все равно, что Венерой античного скульптора Агесандра подпирать прохудившуюся крышу сарая.
С Вилкой за этот год Дружников совершенно измучился. Ключ никак не желал поворачиваться в замке и отворить заветный Сезам, но Дружников был не таков, чтобы отчаиваться. Еще в самый первый раз, когда Вилка поведал ему, что отныне они связаны между собой вовеки веков паутиной удачи, Дружников попытался с нахрапа взять крепость немедленным приступом. И провозгласил. Раз Вилка не может благотворить в миру через себя, то, отныне, он волен это делать через него, Дружникова. И сходу предложил Вилке пожелать, к примеру, увеличения стипендий всем студентам без исключения хотя бы втрое. Для проверки. Дружников, как всегда, не мелочился. Но Вилкин ответ несколько охладил его пыл.
– Я же тебе объяснил, да ты, наверное, недопонял. Ничего не выйдет. Я должен желать конкретно для тебя. И то. Я не в силах желать абстрактного будущего. Потому что не смогу его представить. Только то, что есть сейчас. Если ты болен, я сделаю так, что боль исчезнет вместе с причиной. Если ты голоден, то я тебя накормлю. Если тебя обидели, то восстановлю справедливость. А чтобы желать на будущее, это должна быть совершенно определенная вещь. Как с Татьяной Николаевной. Я тебе рассказывал. Исключительно лично для тебя. Ну, хочешь, будешь получать именную стипендию? Но лишь один ты.
– Да не надо, – великодушно отмахнулся Дружников, – я еще не заслужил. А даром – не надо.
Потом он попробовал внушить Вилке мысль затеять коммерческое совместное предприятие. Вон их сколько развелось, плодятся точно поганки после дождя. Взять в банке кредит, совершенно официально. Вилке достаточно захотеть, и перед ними распахнуться любые двери. А с деньгами мало ли каких дел можно натворить. Но и здесь открылись сложности. Вилка совершенно справедливо возразил, что при нынешней политике ничего хорошего не выйдет. Сегодня те предприятия есть, а завтра нэпманам крышка. Единственным результатом станут денежные знаки, да и то временно. Дружников в душе был согласен и на такой вариант, но настаивать не стал. Опасно, и Вилка в конечном итоге прав. Ну, как накроется все медным тазом, и тогда спасайся, кто куда! Вилка, конечно, может от репрессий оградить. Но опять же, желание должно быть искренним. А вдруг с течением времени Мошкин утратит свое благородство и расположение к нему или выйдет ссора, и друг благополучно сдаст его в руки правосудию, хотя бы затем, чтобы отвоевать назад Аню? Здесь получался уже не риск, но форменная глупость. Что-что, а уж он, Дружников в совершенстве постиг человеческую породу и думал он ней достаточно скверно.
Все же был у Дружникова еще один план. Не подставляясь самим, пристроиться к большому и нужному человеку. И такой человек у Дружникова на примете имелся. Чем плох всесильный Геннадий Петрович Вербицкий? И Вилка ему как родной. Неужто, откажет?
Вербицкий отказал. Поначалу Вилка даже не имел в виду приказывать удаче, а просто поговорил с Геннадием Петровичем, считая дело достаточно ерундовым. Но получил решительное «нет». Гена, как всегда, был с ним предельно откровенен:
– Для тебя, малыш, что угодно. Только ума еще наберись. Но это не твоя затея. И не препирайся, меня не обманешь. Твоему же дружку – шиш с маслом, – и Вербицкий показал Вилке натуральный кукиш.
Вилка ушел, немного обескураженным. Ладно, тогда с Барсуковым, но Гена никогда в глаза не видел его замечательного Дружникова. И такая предвзятость. Вилке стало обидно за друга, и он пожелал. Но произошло нечто необычное. В его мозгу словно взорвались два вихря сразу. Один налетел на другой, блокировал его, и оба рассыпались в мелкую, звездчатую пыль. Никакая удача Дружникову не досталась, Геннадий Петрович остался при своих. Вилка над случившимся думал долго. Рассказал обо всем Олегу, тот тоже задумался. Посоветовал Вилке попытаться еще раз. С тем же результатом. И вдруг Вилка понял. Вывод был очевиден на поверхности: Танечкин вихрь ограждал ее собственную удачу от проникновения.
– Видимо, наш с тобой план мог каким-то образом навредить ей или ее семье, что одно и то же, в будущем. Вот вихрь и защитил владельца, – печально подвел итог Вилка. – Заранее знать было нельзя. Я ведь еще ни разу не сводил два вихря сразу.
– Дак мы ж с тобой им гадить не собирались. Совсем наоборот. Добра хотели, – возразил Дружников. Втайне с Вилкой он был согласен. Уж какого добра он желал Вербицким, так про то знал он один.
– Мы могли не нарочно. Гена прав, мы с тобой пока малые и глупые, всего нам не понять. А там взрослые игры.
Дружников про себя в сердцах ругнулся и посулил Вербицкому черта, а вслух только посочувствовал Вилкиной неудаче:
– Не журись, хлопче. Еще чего ни то придумается. Плюнь и разотри.
Так в бесплодных надеждах прошел год. Но нельзя сказать, чтобы Дружникову не везло по мелочи. И стройотряд опять выпал ему хороший, безо всякого Барсукова. Аня пребывала в полной его собственности, даже предложила переселиться на квартиру к Аделаидову. Академик был не против. Но Дружников не желал связывать себя. Само собой, вышла ему и именная стипендия. Иной остался бы счастлив, но для Дружникова все это было не то. Тут подоспела и летняя сессия. А ничего еще не придумалось и не определилось.
Нынешним летом Дружников в строительный поход уже не собирался. Аделаидов брал его на практику в свой институт. Надо было думать и о будущем. Выйдет ли с Вилкой нужный толк Дружников уже и сомневался. А тут реальная возможность. Уж такая мелочь, как карьера у академика, наверняка, Вилке по плечу.
Так они и трудились, каждый у своего куратора, Вилка во внешней торговле, Дружников под крылышком у Аделаидова. Но вскоре, в начале месяца августа вышел казус. Со стороны Дружникова это было чистейшей воды хулиганство. Вернее, тот самый момент истины, который и отличает великих наполеонов от всех остальных смертных. Черт, а скорее высшее наитие, дернуло Дружникова в тот летний день пристроится к совершенно нелегальной диссидентской демонстрации, в защиту, кажется, Гдляна и Иванова, а может какого иного «-ова», он толком не вникал. Просто захотелось поорать и выпустить пар, заодно удостовериться, что Вилка и удача все еще при нем. Поорал и даже кинул пару раз тем, что благородно называют оружием пролетариата, в подступивший ОМОН. В итоге Дружникова замели, да в придачу изрядно расписали и без того неприглядный фасад резиновыми воспитательными средствами.
Наутро Вилку прямо на службе разыскала плачущая Аня. По телефону Вилка мало что разобрал, но понял, стряслась всамделишная беда. Кое-как отпросившись (только потому, что от Геннадия Петровича, а кому другому, смотрите, молодой человек!), Вилка встретился с Аней в Александровском саду, где она рассказала ему чудовищную историю. Она и Константин Филиппович уже были в участке, но опоздали, дела тут же на месте, оформили еще вчерашним вечером, спасибо хоть, Олегу удалось подкупить наручными часами какого-то мелкого охранника, и тот сообщил. Всех скопом задержанных отправили в СИЗО. Олегу грозит реальный срок по политической статье, со всеми вытекающими последствиями.
– Кретин, идиот, дон Кихот доморощенный! – Вилка схватился за голову. – Доигрался! Спаситель отечества! Говорил я ему, подожди!
– О чем это ты? – сквозь слезы спросила его Аня.
– Да ни о чем! Что делать-то теперь?
– Вилка, пожалуйста, поехали со мной в Бутырку! Я умоляю. Может, хоть передачу примут.
– О чем речь. Конечно, поедем. Жена декабриста у нас уже имеется. Сухари купим по дороге. Кстати, сколько у тебя с собой денег? У меня по счастью с получки рублей пятьдесят, – Вилка извлек кошелек, пересчитал, – даже пятьдесят два.
– У меня около двух сотен. Константин Филиппович выдал на всякий случай. Он говорит, может, удастся заплатить, и мне устроят с ним встречу! – тут Аня опять зарыдала взахлеб.
Но встречу им не разрешили и денег не приняли. Впрочем, и передачу тоже. Вилка был в таком диком эмоциональном растрепе, что никак не мог сосредоточиться, и заставить в себе пробудится пожелание. Его душил гнев. На Олегову дурость, на мерзкую реальность законов, даже на плачущую Аню. Она-то где была, куда смотрела, когда ее любимый и единственный кидался кирпичами в стражей порядка! Вилка никогда не страдал излишним диссидентством, спокойно воспринимая окружающий мир и имея от него достаточную защиту, к тому же ни разу снаряд не падал столь близко от него. Но теперь дело коснулось его Друга. В своем роде почти брата, и возможная его утрата была Вилке непереносима.
А тут еще молоденький ВОХРовец, слышавший, как Аня умоляла его начальника, румяный сельский парень, сказал им вслед:
– Во-во, катитесь отсюда, интелехенты… – и добавил совершенно нецензурное слово, – всю страну взбаламутили. Пропишут теперь вашему корешу на всю катушку, туда ему и дорога.
И Вилку тотчас взорвало. Не в крик, а словно в молчаливом бесконечном космосе. Ощущение явилось новым и удивительным. То не была стена, да он и не желал беды дурачку-сержанту. Боль за Дружникова, собственная беспомощность, гнев на весь миропорядок вокруг вызвали вихрь, но не вне, а как бы в нем самом. Тело его будто бы повисло в безвоздушном пространстве, и он вопил, и вопил в пустоту. «Черт бы побрал эту страну! Черт бы побрал эти законы! Черт бы побрал всех ментов и коммунистов! К дьяволу все! Отдайте мне моего Друга!». Очнулся он уже на улице. Аня трясла его за плечи. Он пришел в себя, но странно, вихрь его не отпустил. Он все еще был внутри, и Вилка чувствовал, как растет его напряжение. В чем дело, он не мог понять. Но знал одно, так нужно. Зачем и кому, неясно и глупо спрашивать, но нужно.
В последующие дни вихрь в нем крепчал. Вилке уже начинало казаться, что его грудная клетка вот-вот не выдержит и лопнет. С Дружниковым, однако, и он, и Аня, и академик продолжали хлопоты. Константину Филипповичу удалось добиться свидания, и оно было неутешительным. Вилка, плюнув на достоинство и гордость, кинулся в ноги Геннадию Петровичу. Тот, человек все же справедливый и жалостливый, обещал помочь, но предупреждал, чтоб на многое не рассчитывали. Даже если удастся вытащить Дружникова из кутузки, все равно с университетом придется распрощаться. А вихрь в Вилке нарастал. Пока напряжение его не стало совсем невозможным. И однажды ночью, почти две недели спустя, он рванул. Вилка проснулся и тут же испытал облегчение. Наутро события покатились комом. Сначала на кухне Вилка с удивлением прослушал заявление какого-то ГКЧП о государственном перевороте. Потом позвонил Геннадий Петрович, велел передать Барсукову, чтоб никуда не лез, сидел дома, и вообще заболел на несколько дней. А Вилке приказал без возражений хватать Аню и срочно ехать к нему домой.
Дома у Вербицких оказались только Татьяна Николаевна и Катька. Обе растерянные и напуганные. Передали, что папа велел всем дождаться здесь.
К полудню Гена Вербицкий прислал машину с шофером и бумагу об освобождении Дружникова. И письмо, в коем приказывал срочно мчаться в Бутырку, он уже звонил кому надо, забрать оттуда Олега, потом вдвоем, без Ани, прибыть к нему. Куда, шофер знает.
Вилка и Аня, зареванная уже от счастья, кинулись выполнять поручение. Через час Дружников, небритый и в застарелых синяках, был уже на свободе и катил неведомо куда в «Чайке» Геннадия Петровича. Путь им вскоре преградила самая натуральная баррикада, из машины пришлось выйти. Но у водителя, видимо, имелись особые полномочия, отчего всех троих немедленно пропустили дальше. Тут только ребята смогли оглядеться.
– Вот блин горелый! Это ж «Белый дом»! – ахнул Дружников. – Нам что, сюда?
– Сюда, сюда, – подтвердил шофер. – Здесь сейчас штаб.
– Какой еще штаб? – не понял Вилка.
– Там объяснят, – коротко ответил порученец Вербицкого.
В маленькой комнатке шофер их покинул, сдав на руки нервному человечку в помятом пиджаке. Тот в свою очередь отпихнул ребят в угол, на стулья, велел ждать. Дружников и Вилка тихо присели. Отдыхать им пришлось недолго. Вскоре к ним подскочил все тот же измятый растрепа и сердито закричал:
– Чего расселись? А ну, живо за мной.
В соседней по коридору комнате шумела прорва народа. Человечек позвал громко какую-то Алину. К ним скоро подошла средних лет, солидно одетая женщина.
– Займи их делом. А то бродят тут, как неприкаянные, – велел ей человечек, и немедленно растворился.
Алина отвела их к дальней стене.
– Вот этот агрегат называется ксерокс. Будете множить листовки. Умеете обращаться? – с сомнением в голосе спросила она.
– Разумеется, – холодно ответил ей Вилка. В своем торговом ведомстве он видал и не такую технику.
И понеслось. Они печатали листовки, потом носили бутерброды, потом ели сами, потом немного спали на сдвинутых стульях. События вокруг происходили ошарашивающие. Только на следующий день к вечеру, когда немного стало понятно, чья берет верх, они попали, наконец, к Гене Вербицкому. Тот сидел в маленьком кабинетике с незнакомым, с иголочки одетым моложавым мужчиной, они пили коньяк из крошечных серебряных наперстков.
– Здорово, орлы! Гриша, познакомься. Это Виля, мой, можно сказать, крестник, это друг его, Олег. Да не смотри ты так. Парня прямо с нар выдернули. По политической проходил. Повезло ему, вовремя.
Тот, кого Вербицкий назвал Гришей, уважительно протянул руку:
– Приятно познакомиться. Григорий Аверьянович Яблочкин. Депутат.
– Поручкались и хорошо. Вилка, ну-ка налей всем по маленькой. Да-а, я вам скажу дела-а. Накрылись эти ГКЧПисты п…ой. Все к чертовой матери пошло. А мы отныне, стало быть, демократы. За то и выпьем.
Они выпили. Потом еще. Потом к Вербицкому пришли какие-то важные люди, и Вилке с Дружниковым пришлось уйти. Но на прощание Гена сказал:
– Да, вот что. Когда эта бодяга кончится, зайдите оба ко мне. Будет вам кредит и фирма будет. Как героям революции, и пострадавшим, – Гена хитро подмигнул Дружникову:
– А ты, парень, даешь! Не ожидал. Думал, еще один засранец. Значит, ошибся.
Они вышли. И тут Дружников спросил, полуобиженно, полунедоуменно:
– Чего ж так долго спасал? Я уж думал все, кранты мне. Откукарекал свое, и лучший друг кинул. Или рассердился? Да ведь я не назло. Случилось так, понимаешь. Вижу, народ валит. И сам не знаю, чего я полез.
– Я не кинул. И не рассердился. Разве что чуть-чуть. Дурак ты, все-таки. Тут странное вышло, – и Вилка рассказал Дружникову, что вышло и как именно.
Дружников, в отличие от Вилки сообразил сразу то, что Вилка не понял и до сих пор.
– Так ты из-за меня всю страну раком поставил! Это да! Все к черту, говоришь? Вот оно и пошло. Да удачно пришло! Милый ты, мой! – Дружников кинулся обниматься к Вилке. В этот единственный момент корысть покинула его, и пока она не вернулась, Дружников обнимал Вилку от всего сердца.
– Да ну! Ну тебя! Две недели как беременный ходил непонятно чем, пока не разродился! – Вилка сжимал Дружникова за плечи и плакал без стеснения. – А я ведь сразу не сварил, что это я! Только сейчас, когда ты сказал! Это какую же силищу мы выпустили на свободу!
– Здоровущую. Ты мой друг, и ты меня любишь. Это, брат, страшная сила! – сказал Дружников и опять был честен.
– А ты слышал, что Гена сказал? У нас будет фирма!
– Слышал, а то! Не глухой! И вот что. Знаешь, раз мы отныне деловые люди, мы тебя переименуем! – торжественно провозгласил Дружников. – Вилка – это для тебя теперь несолидно. Хочешь сам-то?
– А что? Хочу! – крикнул в восторге Вилка. – А как?
– Давай, ты теперь будешь Валька. Валя. И похоже. Имя интеллигентное!
– Давай. Все. С сей минуты я – Валька! – закричал на весь коридор Вилим Александрович Мошкин. – Нету больше Вилки! Ура-а!
UPGRADE! GO TO LEVEL TWO!
Игра вторая. Дорогой друг, Валька!
Тра-та-та-та!!!!!!! Не стреляйте в тапера, он играет, как умеет! LET'S GO! ПОЕХАЛИ?
Уровень 21. Герои меча и магии
Дело было вечером, и делать было нечего. Пришлось Зуле оставить теплый домашний уют, выйти на промозглую от осенних ветров и дождей улицу. Ехать на встречу с Дружниковым. Тот позвонил, велел прибыть к нему в офис после восьми, когда все разойдутся и будет пусто. И Матвеев отправился в Армянский переулок. Долго ловил частника, своя машина на беду второй день «загорала» в дружественном автосервисе, потом ехал через полгорода.
В офисе и правда, сидел Дружников один-одинешенек. Собственно, офис торговой фирмы «Дом будущего» всего-то являл собой две небольшие комнатушки, с нешуточной, однако, арендной платой. Кроме Дружникова и Вальки в штате пока значились еще только три человека: юная секретарша Оля, недавно окончившая курсы референтов, пожилая бухгалтерша Элеонора Петровна и Димка Алексеев, парень с Валькиной кафедры, соблазнившийся выгодным предложением подработать. Алексеев одновременно представлял собой транспортный отдел, ведал настройкой нехитрой компьютерной техники, и когда надо, был на подхвате, за неимением технического персонала в очередь с Олей подметал допотопным веником офис и выносил мусор. Оба директора, генеральный – Дружников, исполнительный – Валька Мошкин, в основном колесили по Москве из банка в налоговые органы, оттуда к Вербицкому и иным, нужным людям, утрясали вопросы, часто мотались по городам и весям от заказчиков к поставщикам и потом снова к заказчикам. За самоотверженную борьбу с реакционными захватчиками демократических завоеваний хозяева «Дома будущего» и в самом деле были премированы денежным кредитом аж в двести тысяч американских долларов, который тут же на корню весь и пошел в дело.
– А-а, это ты! – бросил Дружников вымокшему Зуле вместо приветствия. Он корпел над каким-то листком бумаги, от руки расчерченным на прямоугольники, в которые были вписаны непонятные аббревиатуры и сокращения, от некоторых прямоугольников к другим вели разноцветные стрелки.
– Звали? – так же коротко, но и опасливо откликнулся Матвеев.
– Звал, – важно ответил Дружников. – Ты вот что, друг мой ситный. Завтра я и Валька предложим тебе пост коммерческого директора, что-то вроде старшего экономиста. Или, как сейчас говорят, менеджера. Так ты откажись.
– За что? – захлебнувшись от незаслуженной обиды, воскликнул Зуля. – Я думал, вы… Я думал, мы…
– Нас…ть мне, что ты думал, – спокойно и грубо отозвался Дружников и снова уткнулся в свои прямоугольники. – Здесь ты мне не нужен. У меня на тебя свои виды.
– Какие? – спросил Матвеев, не ожидая ничего хорошего.
– Да успокойся ты! И давай без обид, – примирительно сказал Дружников, не желая сверх необходимого третировать Зулю. – Ты пока мирно получай диплом. И после иди служить государству. В министерство или еще куда. У твоего отца связи и я помогу. Станем тебя продвигать. На будущее. Понял, чего требуется?
– Понял, Олег Дмитриевич, еще бы не понять. Вы в самый корень зрите, как всегда, – отпустил комплимент Матвеев. На душе у него полегчало. Виды Дружникова на его персону как нельзя более устраивали Зулю. Для приличия он поинтересовался:
– Надеюсь, ваши дела в порядке?
– Дела как сажа бела, – осклабился в ответ Дружников. Это была шутка. – Меняем вот подъемные краны на сахар. С прибылью.
– Ну, еще бы! – поддержал с деланным энтузиазмом беседу Зуля.
– Фигня это, а не прибыль! И вообще, – тут Дружников с яростью отодвинул от себя листок, – чувствую себя, будто барахольщик какой. Шило на мыло. Краны, сахар, консервы! В сырьевую базу надо влезть и срочно, вот тогда будут дела! Кстати, нет ли у тебя на примете приличного человечка, но чтоб с головой? Только слышь, не шибко порядочного и чтоб за рупь воробья в поле загонял? Ась? А то мы с Валькой уже с ног сбились, не справляемся.
– Как же, есть такой, – ответил после недолгого размышления Матвеев. – С нашего отделения экономики и кибернетики. Аспирант первого года. Серега Кадановский. Сейчас он в общаге, в ДАСе им. Шверника обитает, сам питерский. Голова! Правда, раздолбай, но не через меру!
– Что раздолбай, то ладно. Я его к порядку живо приучу, за мной не заржавеет. А что голова, это хорошо. Ты вот что, завтра, как пошлешь нас подальше, так сразу его и помяни, и адресок подкинь. Остальное беру на себя.
Вечером следующего дня Валька с Дружниковым ехали в ДАС. Для удобства передвижений Дружников недавно сговорился в ближнем таксопарке с неким Мишей, старым волком московских автодорог, и тот за твердую ежедневную плату состоял теперь со своим такси при фирме.
– Жаль, что Зуля отказался, – все сокрушался по дороге Валька. – А как было бы хорошо! Старые друзья вместе одно дело делают. Как три товарища или три мушкетера!
– У каждого свое «хорошо». Нельзя же силой навязывать. Так уж совсем не по дружбе, – наставительно ответил Дружников.
– Это, да. Может, у Зули к предпринимательству душа не лежит. Хотя и у меня не лежит тоже. Но я же стараюсь. Ради общего дела, – как бы споря сам с собой, рассуждал Валька. – Еще неизвестно кого Зуля нам подсунул. Едем, как на смотрины.
Припарковались в сторонке, и Валька с Дружниковым пошли вдоль асфальтированной дорожки по направлению к вахте. Матвеев адреса конкретного не дал, сам не знал номера комнаты своего протеже. Сперва следовало выяснить у дежурного, где проживает аспирант Кадановский.
Но выяснять, однако, ничего не пришлось. Подойдя совсем близко к ДАСу, Валька и Дружников сподобились быть свидетелями следующей захватывающей драмы. Под окнами подпрыгивал и бесился взмыленный, разъяренный рыжеватый парень джинсово-фарцового вида, примерно одних с ними лет, швырялся комьями земли и мелкими камнями в окно второго этажа и визгливо кричал одну и ту же фразу:
– Кадановка, долб, отдай деньги! Сволочь!
Валька и Дружников остановились понаблюдать. Парень еще несколько минут кидался в окно и кричал, потом приморился и затих, однако, не ушел, продолжал стоять и выжидать неизвестно чего. Вскоре многострадальное окно приотворилось, из него опасливо выглянула лохматая кудрявая голова и стала озираться по сторонам. Однако прежде, чем ее заметил скандальный оппонент, Дружников обратился к ней первым.
– Эй, дятел, не ты часом будешь Сергей Кадановский? Мы от Матвеева, – на всякий случай предупредил настороженного собеседника Дружников, глядя на него снизу-вверх.
– Ну, я Кадановка. А вам чего надо? Авессалом сказал, что придут люди, а зачем, не сообщил.
Тут к Вальке и Дружникову подскочил джинсовый парень и закричал уже им:
– Он и вам должен? Хрен дождетесь. Я за ним уже второй месяц бегаю! – и парень опять завопил в сторону окна:
– Ну, все, муха, дустотрава, арматура! Окабаневшая профура! Смотри, Кадановка, поймаю, ноги из жопы вырву!
– Погоди, командир, не трави попусту! – осадил его Дружников. – Он отдаст. Я ручаюсь.
«Джинсовый» орать перестал, внимательно посмотрел на Дружникова. И неожиданно мирно сказал:
– Ладно. Раз ты ручаешься. Кстати, если нужны будут родные фирменные шмотки, звони. Сделаю в лучшем виде, – парень протянул Дружникову самодельную визитку, – Спроси Рыжего Рольфа. Это я.
Но тут со второго этажа закричал уже пресловутый Кадановка:
– Эй ты, хмырь! Какого лешего ты за меня обещалки раздаешь? Я тебе, вроде, не должен и вообще, первый раз вижу! А денег нету! Нету денег! Хоть режь! И отдавать нечего!
– Так вот! – спокойно ответил ему Дружников. – Чтоб было что отдавать, и чтобы вообще деньги были, и чтоб было их много, ты сейчас быстренько спустишься за нами вниз. Понял?
Кадановка торопливо кивнул из окна, и тут же пропал. А через минуту он уже выскочил на улицу, в модной «варенке» на голое тело, пластиковых шлепках и бесформенных спортивных штанах, протянул руку, сначала Дружникову, потом Вальке:
– Ну, привет. Я Сергей. А зовут меня Кадановкой. Это прозвище такое. Пива хотите? Угощаю, – и нарочито обаятельно улыбнулся, показав во всей красе ровные зубы, сверкающие белизной.
С появлением в их узком кругу новобранца Кадановки деловая атмосфера в офисе плавно приобрела несколько балаганный оттенок, но зато работать действительно стало легче. Переложив на нового менеджера почти всю повседневную беготню и текучку, Валька и Дружников не прогадали. Матвеев не обманул: Кадановка хоть выглядел и вел себя как коверный клоун, но парень был головастый. Инструкции, даденные только раз, усвоил немедленно, и более с вопросами не лез, делал свое дело. После первого же визита в «МОБ», то бишь в «Московский Отраслевой Банк», Кадановка перезнакомился с половиной операторш и кассирш, за что и приобрел кучу вольностей и привилегий. Заданные ему расчеты грядущей прибыли совершал со сверхзвуковой быстротой, без всякого компьютера и даже калькулятора. И постоянно просил денег в долг. Дружников, даром что был по-деревенски прижимист, однако, после длительных, берущих за душу театрализованных вымогательств, средства одалживал, но не полностью, а так, чтоб на кота было широко, да на собаку узко. Впрочем, займы Кадановка не возвращал никогда, погашая кредиты безоглядной преданностью интересам Дружникова и потрясающей, абсолютно безотказной работоспособностью.
Тем временем Валька и Дружников приступили к следующей части выработанного Олегом плана.
– Предприятия у нас в основном пока еще принадлежат государству, – поучал Дружников Вальку, – но это не значит, что мы не можем напрямую торговать их продукцией. Да большинство директоров так и делают, создают «буферные» фирмы и воруют почем зря. Если, конечно, есть чего.
– Олег, погоди, но мы же не собираемся красть? – озадаченно спросил Дружникова Валька. – Ты же сам говорил, надо поднимать экономику будущего. Но не на ворованные же деньги?
– А на какие? – едва сдерживая подступившее раздражение, спросил Дружников. С Валькой то и дело возникали проблемы. Во всем желая видеть одну лишь светлую перспективу, он чинил немалые преграды на пути Дружникова, и Олегу порой приходилось являть чудеса изобретательности, чтобы выставить собственные нелицеприятные нужды в более-менее приемлемом для компаньона свете. – Кто нам даст за просто так? А даже если и дадут, то это будут те же самые деньги, только украденные чужими руками. Пойми, это временная мера. Или играем по правилам, или лучше было вообще не влезать. А иначе, ну пожелай просто, чтоб всем тут же, немедленно стало хорошо.
– Я же не могу. Ты знаешь, – жалобно ответил Валька.
– То-то же! Не можешь! А я могу? Мне оно душевно, из чужого говна по копеечке на конфетку выгребать? Работать надо больше, а мыслью по древу растекаться меньше. И еще. Послушай мой добрый совет. ЗАБУДЬ! На время забудь про свою великую цель, иначе никогда до нее не доберешься. Помяни мои слова! Смотри на то, что под ногами, а не над головой. Решай сегодняшние задачи, и заглядывай не дальше, чем в послезавтра.
– Да я понимаю. И я же не отказываюсь. Я постараюсь пока забыть, раз нужно. Может, и вправду станет легче. Но конкретно-то, что делать? – вернулся в деловое русло Валька.
– Конкретно, на следующей неделе летим на Южный Урал. Есть там невидный городишко, дрянь, захолустье, и название подходящее: Мухогорск. В этой дыре дыровой единственная достопримечательность. Горнорудный обогатительный комбинат. Сокращенно МуГОК. А именно, современный завод, выплавляющий медь. По нынешним временам, считай, что золото. Надо повидаться с одним человечком. Звать его Семен Адамович Квитницкий, заведует сбытом продукции. Вот с ним и потолкуем. По душам.
– Откуда такой взялся? – с интересом спросил Валька.
– А надо в люди почаще выходить. Сто раз уже тебе повторял. Помнишь, прошлой пятницей в «МОБе» устраивали фуршет для постоянных клиентов? Ты еще ломался: «не пойду, не хочу, показуха»! Так вот, пока ты девочку изображал, я там лицом торговал. И наторговал, между прочим. То, да се, слово за слово, выпили, визитками обменялись с этим Семеном Адамовичем. Он, кстати, водку жрать горазд, стаканами, даром что еврей. Хотя может, и не еврей. На рожу, так точно не похож, скорее на купца-старообрядца, и голос громовой, аж уши закладывает.
В понедельник вылетели в областной город Каляев, к чьей юрисдикции и был приписан районный Мухогорск. Чтоб дальше добираться уже своим ходом до места. Валька хотел поездку отложить хотя бы на день, очень нужно было показаться на кафедре, последний год в университете и диплом на носу. Но Дружников саботаж пресек в корне. Велел Кадановке съездить на Воробьевы горы, утрясти вопрос. Впрочем, в последние месяцы это стало уже в порядке вещей. Времени и простых, физических сил на учебу у Вальки и Дружникова уже не оставалось и в малой мере, оттого взаимоотношения с курсовым и кафедральным начальством регулировались преимущественно материальным путем. Прежде богатый, а теперь совершено осиротевший факультет подачки от состоятельных студентов принимал охотно, да и куда было деваться! Валька и Дружников помогали с оргтехникой, подбрасывали и деньжат в виде грантов в безналичном переводе на свои обнищавшие кафедры, за то и оделялись благодарностями и оценками. Дружникову даже обещались красным дипломом. Вальке было все равно.
Аня ворчала на них обоих, иногда вечерами насильно усаживала Дружникова в кабинете Константина Филипповича, заставляла глядеть в книгу. Достать Вальку она не могла, и оттого в его случае дело ограничивалось внушением. К академику Аделаидову на квартиру Дружников так и не уговорился переехать, по-прежнему гостевал в общежитии. Но уже не на правах незавидного соседа-приживала, а имел четырехместный блок с душем и туалетом на себя одного, в силу долларовой договоренности с администрацией. И даже запараллелил себе комендантский телефон. Аня его навещала. Но Валька не хотел знать и не знал подробностей.
Когда «Дом будущего» только-только был зарегистрирован в Орликовом переулке, Валька, не сочтя нужным спросить Дружникова, тут же предложил Ане работать совместно. Но Анечка бесповоротно отказалась. Не затем она постигала науки пять нелегких лет, чтоб макароны выгодно обменивать на бензин. И, между прочим, напомнила Вальке их детскую, школьную мечту, выйти в большие ученые умы, или, по крайней мере, продолжить дело, начатое ее отцом. На что Валька резонно возразил – он и Дружников для того и бьются на общественно-коммерческом поприще, чтоб никто и никогда не повторил страшный, крестный путь папы Булавинова. Аня растрогалась, но и с сомнением покачала прекрасной головой.
В Мухогорск целых три часа добирались на чахлом «Москвиче», подрядив его хозяина, сухонького, пожилого мужичонку, за сотню баксов на два дня, в Мухогорск и обратно в Каляев к самолету. Дружников еще в полете начал настраивать Вальку на нужный лад, словно скрипач Коган выданный ему драгоценный инструмент Страдивари.
– Главное, чтобы Квитницкий сам захотел работать с нами. Чтоб поверил и решил, что ему нужны именно мы и никто другой. Ты думай об этом и потихоньку желай мне успешных переговоров. Сам можешь вообще рот не открывать, если захочешь. Только думай.
– Я вроде у тебя будто талисман на счастье получаюсь. И одновременно нахлебник. Наверное, я ни на что другое не гожусь, как ездить за тобой следом, – излишне удрученно заметил Валька.
– Не примысливай то, чего нет, – поспешно успокоил его Дружников. – Хочешь говорить, говори, если можешь делать два дела сразу. Ты пойми, коли удача со мной, то какая разница, чего я там наплету Квитницкому! Да я могу ему вообще «Советский спорт» вслух читать. То-то вышла бы умора. Настоящие маневры начнутся потом, когда мы получим принципиальное «да». А без тебя это сомнительно. Так что нахлебник тут скорее я. Небось, не подумал об этом?
– Не подумал, – согласился Валька и повеселел. – А пожелать его согласия будет раз плюнуть. Я и сам того хочу. Да и пожелал уже.
– Вот и закрепим успех. Живьем с Квитницким оно вернее будет.
Семен Адамович все никак не мог понять, какого лешего он вообще назначил этим московским, нахальным ребятишечкам встречу в заводоуправлении. В шесть часов. А у него дома молодая жена. Да в заводском поселке не менее молодая любовница, которую обещался навестить. И ничего хорошего заезжие купцы ему не преподнесут, Квитницкий знал наперед, будут просить металл по дешевке и сулить золотые горы. Только зачем ему рисковать? У Семена Адамовича и без того крепкое положение при нынешнем директоре, так сказать, допущен к кормушке. А кто хочет большего, может нахвататься и свинцовых таблеток от жадности, по нынешним-то лихим временам. Семен Адамович от природы был трусоват. Он уже жалел, что на банкетной тусовке неосмотрительно раздавал визитки кому попало. Но, с другой стороны, люди ехали из самой Москвы ради его персоны, и просто так послать их обозначилось неудобным.
К тому же неведомый черт, а может, ангел, дергал Семена Адамовича за полу бельгийского пиджака и внушал молодых, да ранних купцов непременно выслушать. Здоровущего ражего детину, вошедшего первым, Квитницкий вспомнил сразу – да, уж, такого не забудешь. Второго, белесого, как мышь, долговязого парня, скромно державшегося позади, Семен Адамович видел впервые. Квитницкий, однако, поприветствовал обоих достаточно благодушно. И сразу разлил по стаканам, раз уж случилась компания. Длинный и тощий выпил попросту, и правильно закусил нехитрым колбасным бутербродом. Детина принял сорокаградусную усилием воли, и видно было, сдерживается, чтоб не сморщится. Все же, в его стараниях Семен Адамович усмотрел акт уважения к нему лично.
Москвичи заговорили. Вернее, говорил лупоглазый здоровяк, сердечно умолявший Семена Адамовича называть его по-отечески Олегом и на «ты», а второй, тихий, больше молчал и только сосредоточенно смотрел на Квитницкого, будто на Семене Адамовиче красовались дивные гжельские узоры. Впрочем, взгляд его, умиротворенный и как бы ласкающий, не был Квитницкому неприятен. Текст же, которым одарил его московский Олег, в редакторской расшифровке не нуждался. Все оказалось в дословной точности, как ожидал того Квитницкий. Ребята просили дешевый металл и обещали взамен золотые горы. Подобные речи Семен Адамович в своем кабинете выслушивал не раз и не два, и даже не десять, но именно сейчас нечто заставило внимать им с интересом. Не потому, что москвичи предлагали Семену Адамовичу особые условия, и не потому что, в разговоре то и дело мелькало имя могущественного Геннадия Петровича Вербицкого. Такие люди не его компетенция и совсем из другой сферы, да и каких только имен не слышали здешние стены, вплоть до президентского, употребленного в угрожающем смысле. А вот, поди ж ты, купился Семен Адамович. На что? Да разве такое опишешь словами! Сила, исходившая от этого Олега, которого Квитницкий до сегодняшнего дня и знать не имел в виду, излучалась столь громадной мощью, что Семен Адамович, задыхаясь от внезапной и необъяснимой любви к своему собеседнику, сразу понял и поверил: с этим человеком ему по дороге, иного пути нет. И путь тот ведет и выведет в большие люди.
К третьему часу переговоров, когда были напрочь позабыты и молодая жена и даже любовница, пришлось переместиться в единственный, приличный городской ресторан, потому как в кабинете иссякли все водочно-колбасные запасы. А решительное «да» Семена Адамовича незамедлительно требовало дальнейшего омовения. Ради такого случая Дружников нарушил личный сухой закон, хотя и половинил рюмки как мог. Валька, который пил честно, уже дважды проблевался в туалете и был готов к новым испытаниям.
Гулять закончили едва под утро, замордовав весь персонал коммерческого ресторана «Дубинушка» и опостылев даже бармену, реализовавшему в эту ночь весь подпольный водочный запас паленого «Абсолюта». С Семеном Адамовичем расстались почти братьями. Оставалось лишь обменяться надлежащими бумагами, и со следующего календарного месяца в закрома «Дома будущего» должен был начать поступать цветной металл.
Утро, а вернее, полдень, наступил тяжелый. По Вилкиным ощущениям лучше бы не наступал совсем. Дружников тоскливо слонялся по номеру гостиницы с мокрым полотенцем на голове, и от боли даже не мог толком ругаться. Вскоре примчался посланный в аптеку Фомич, наемный водитель «Москвича», оделил страждущих таблетками советского анальгина. Ждать его воздействия на пораженные алкогольным недомоганием тела времени не хватало, самолет на Москву отбывал в пять вечера. Пришлось отходить, лежа вповалку на заднем сидении машины.
– Еще один такой контракт и следующий будешь заключать от моего имени с гробовщиком, – посетовал Дружников, с подвыванием на особо безжалостных дорожных ухабах, – слушай, а сухой закон пожелать никак нельзя, в приказном порядке и по всей стране?
– Нельзя, – горестно отозвался Валька. – Да и как сейчас без водки? Половина доходов сразу спустится в сортир. Сам знаешь, у нас в стране две артерии: одна водочная, другая нефтяная.
– Жаль, – скорбно стеная, ответил Дружников. – Тогда надо вводить в фирме новую должность. Штатный собутыльник. Иначе нам с тобой хана.
– И не говори, – согласился с ним Валька.
Уровень 22. Каменный цветок
Сотрудничество «Дома будущего» с господином Квитницким очень скоро принесло нешуточные плоды. Это были уже не просто доходы, а реальные свободные деньги и деньги большие. Вербицкий, пораженный прытью молодого бизнесмена Дружникова, артачиться не стал, помог организовать зарубежные контакты, и Валькина с Дружниковым доля дефицитного металла благополучно перетекала путями темными из Мухогорска прямо за рубежи родины. Сам «Дом будущего» разросся и разбух, как брошенные в отхожее место дрожжи, пришлось арендовать дополнительно еще две комнаты, но жизненного пространства все равно на всех не хватало. Как-то само собой к Валькиному изумлению «Дом будущего» самоорганизовался в крепкую структуру, насчитывал несколько отделов, в том числе юридический и экспортный, одних секретарш теперь имелось три штуки. А главное Дружников, Демиург и перводвигатель всей этой системы, наилегчайшим образом с ней управлялся, строя планы дальнейшего ее усложнения. Валька одновременно и восхищался, и по-хорошему завидовал. Ему не то что осуществлять руководство, но даже разобраться и свести концы с концами во внутренних связях «Дома будущего» было затруднительно. Он и не вникал, благо Дружников не возражал против единовластия в нудных вопросах организационного процесса.
К лету в фирме назрела явная нужда и в собственной службе безопасности, помимо «крыши» Геннадия Петровича. Решать текущие проблемы. И будто бы сам собой в «Доме будущего» возник отставной полковник с Петровки, Игнат Демьянович Быковец. Первым делом Игнат Демьянович самоотверженно принялся наводить в фирме надлежащую рабочую дисциплину, как-то: бороться со злостными опозданиями и подпольным курением на территории офиса, памятуя о том, что Генеральный директор не выносит табачного дыма. Первый конфликт у бесстрашного полковника Быковца вышел конечно же с разгильдяем Кадановкой, ныне оделенным номинальным титулом коммерческого директора. Рабочее время Кадановка, сроду не пришедший вовремя ни в одно место, и умудрявшийся опаздывать даже на выпускные госэкзамены в университете, почитал понятием чисто условным. Случись в делопроизводстве такая потребность, Кадановка мог прибыть на службу и в семь утра, и запросто заночевать у компьютера, но, коли не было насущной нужды, коммерческий директор легко и безответственно являл свое бренное тело народу, дай бог, к полудню. Быковец справедливо решил, что расхлябанность вышестоящих есть дурной пример для подчиненных, и устроил Кадановке корректную головомойку. Все же коммерческий директор, хотя для Быковца никакое не начальство. Но Кадановка на сделанное тактично внушение отреагировал шокирующим для Игната Демьяновича образом. Для начала коммерческий директор послал главу безопасной службы подальше хамским словосочетанием, а в ответ на возражения выступил с рекомендацией вернуться в свои милицейские казематы и там мордовать людей каким угодно способом, его же, Кадановку, уволить от общения с палачом свободной воли народа. Напоследок он обвинил Быковца в пособничестве агентам КГБ и коммунистическом терроре бесправного населения. Позеленевший и покрасневший одновременно разными частями лица, Быковец приготовился было взорваться гневной отповедью, но Кадановка тут же успел посоветовать ему не изображать разбитого апоплексией осьминога, а лучше выпустить пар и немедленно одолжить ему, Кадановке, пятьдесят баксов до получки, тем самым реабилитировав себя как народного кровопийцу. На это Быковец уже совершенно не нашелся, что и сказать, а спешно козлом проскакал в отдельный кабинет руководства, который Валька и Дружников делили на двоих. Дружников выслушал с завидным терпением сбивчивые жалобы обиженного насмерть полковника, и велел Кадановку пока оставить в покое, но денег ни за что не занимать. Быковец ушел не солоно хлебавши, и с тех пор между ним и коммерции директором Сергеем Платоновичем Кадановским началась нещадная партизанская война.
А надо заметить, что у Кадановки имелись совершенно определенные причины для негативного отношения к правоохранительным органам. Еще будучи вовсе даже не аспирантом, но всего лишь скромным пятикурсником, Кадановка нарвался на нешуточный конфликт с милицейским работником по пустяковому, на его собственный взгляд, поводу. Однажды, околачиваясь в милой компании дружков-разгильдяев у центрального входа ГЗ МГУ на торжествах, посвященных светлому празднику Первомая, Кадановка, отважный и нетрезвый, неосторожно побился об заклад. На спор добыть с головы мента из университетской службы охранения символ его профессиональной гордости и чести. Милицейскую фуражку. Однако, просто сорвать ее и взять ноги в руки получалось все же чересчур рискованным предприятием. Милиционер мог оказаться физически более подготовленным к бегу по пересеченной местности, чем изнуренный пивом и портвейном студиозус, и Кадановкой тут же, на месте, был разработан хитроумный план.
Вскоре Кадановка засек нужный объект. Молодого сержанта, патрулировавшего празднество несколько в стороне, возле чугунной ограды делянок биологического факультета. К нему-то Кадановка и обратился плачущим голосом с самыми разнесчастными, просительными интонациями. Дескать, среди цветочной рассады и клумб по ту сторону решетки его ждет не дождется на свидание девушка, а пока он, Кадановка, будет обегать кругом до калитки, капризная сокурсница может плюнуть и уйти. Тогда его сердце окажется полностью и бесповоротно разбитым. Для убедительности Кадановка потянул сержанта за рукав мундира и тоскливо занудил: «Дяденька, ну, пожалуйста! Дяденька-а!». Милиционер годами был молод и потому отзывчив, тем более, что к неорганизованным студентам привык относиться свысока. Да еще просительное «дяденька», высказанное не без полудетского уважения со стороны парня постарше его самого. И сержант махнул рукой, дескать, ладно уж, подсажу, только быстро. Но все вышло даже быстрее, чем он предполагал. С двухметровой высоты повеселевший влюбленный одарил своего помощника ослепительной улыбкой и широким жестом, разом лишившим доверчивого сержанта головного убора, а после и звонким «спасибо, бывай!» уже с той стороны забора. Пока опешивший милиционер мысленно приводил случившееся в соответствие с необходимыми, оперативными действиями, похититель уже успел скрыться в селекционных кустах. Вместе с атрибутом служебного достоинства. Ловить его к этому времени не имело смысла.
Добытую фуражку Кадановка предъявил дружкам и выиграл халявную бутылку «Лимонной», которую все вместе и распили возле астрономического института. Фуражка была с почетом доставлена как охотничий трофей по месту проживания героя, и Кадановка с явным удовольствием повествовал всем желающим о подробностях ее приобретения. Как выяснилось впоследствии, напрасно. Через три дня к нему в комнату ввалились уже двое милицейских сержантов, один обиженный и другой, незнакомый, пребольно стукнули пару раз, отобрали вещественное доказательство и отвезли в шестое отделение, по дороге не скупясь на тычки и обещания мрачноватого, зловещего характера. В отделении Кадановке пришлось круто. Ехидный майор ни в какую не желал принять во внимание шуточный аспект налета на одного из своих подчиненных, и всерьез угрожал отчислением с возбуждением дела по статье за злостное хулиганство. От возмездия спас Кадановку срочный приезд отца, Платона Никандровича, военно-полевого хирурга первого ранга. Дело кончилось «строгачем» по комсомольской линии, и жуткой головомойкой от разгневанного предка. Однако, с тех пор у Сережи Кадановского стала ощущаться стойкая, категорическая несовместимость с поборниками народного щита и меча.
Но собственная охрана и ее начальник не были единственными нововведениями в фирме. Нынешние финансовые дела «Дома будущего» требовали в срочном и непременно конфиденциальном порядке открытия зарубежного валютного счета в любой доступной оффшорной зоне. И Дружников принял решение присоединиться к массовому паломничеству отечественных бизнесменов на остров Кипр. Вальку он не взял с собой по двум причинам. Первая, официальная, имела примитивную и доходчивую формулировку: оффшорные дела могут занять не одну неделю, а кто-то из хозяев непременно должен остаться в лавке. Вторая причина, скрытая и хитроумная, выражала далеко идущие, прозорливые намерения Дружникова зарегистрировать кипрский филиал исключительно на свое имя. Однако, Вальку он все же поставил в известность:
– Учти, филиал номинально будет числиться за мной. Конечно, можно на Кипр поехать и вдвоем. Да вот только… Партию нам отгрузили большую, и Квитницкий прилетает. Неудобно.
– Конечно, я останусь. Подумаешь, Кипр! Куда лучше будет после съездить просто так. А от тебя там толку выйдет больше, – успокоил его Валька. Но сразу в голову ему пришло подозрение:
– Это ты к тому шарманку завел, что я невзначай подумаю, будто…? Да как ты только мысль такую допустить мог? И из-за чего? Из-за денег! Плевать мне на них. И помни: я тебе доверяю как самому себе. Нет, все же, как ты мог? Тоже мне, друг называется!
Валька кипел негодованием и никак не хотел успокоиться. Но у Дружникова был еще один дальний и важный прицел, и он заставил Вальку слушать.
– Дело не в том, доверяю, не доверяю. Время сейчас такое, что сразу от всего не убережешься. И твоя удача тоже не всесильна, по крайней мере, пока. Случись со мной что и все, амба! А я, между прочим, не один. У меня брат, Гошка, в этом году в университет поступает. Да мать больная. Вдобавок Аня. На кого останутся? Вот и выходит, что кроме тебя о них порадеть некому. Другой ограбит и по миру пустит, только не ты, оттого на тебя вся надежа, – Дружников закончил душещипательную проповедь и перешел к делу, – А потому, друг сердечный, сегодня в офис придет наш нотариус, и я составлю доверенность и завещание. На будущее, будь оно неладно.
– Ты что? Ты что? – испугано замахал на него руками Валька, словно отгоняя непрошенное видение.
Но Дружников наплевал на его суеверные страхи и возражения. Он глядел на вещи исключительно трезво и не желал в случае чего оставить мать и брата что называется, с голым задом. И какое бы будущее он ни готовил своему другу и компаньону, – здесь, сейчас, сегодня он ни на кого не мог положиться, кроме как на этого честнейшего, раздавленного совестью, доверчивого придурка. На своего единственного друга, Вальку.
Валька факт составления завещания принял с трудом. Хотя в глубине души и был согласен с Дружниковым. Все предвидеть и предотвратить в его судьбе Валька не мог. Конечно, не нарочно напуганный, он тут же пожелал, чтобы Дружникову не преградили путь ни залетевшие в Никосию братки, ни авиа или авто катастрофа. Но всех возможных линий судьбы Валька видеть не имел возможности. И оттого не в силах был пожелать. Случайный кирпич на голову, землетрясение, отравление пищей, да мало ли что еще. Насколько крепка паутина удачи Дружникова Валька не знал и проверить не мог, ибо не обладал свободным к ней доступом. Для этого необходимо было возбудить в себе гневные или хотя бы просто отрицательные чувства, целенаправленно ведущие к сознательному отобранию удачи. Но ничего такого по отношению к Дружникову он искренне не испытал ни разу, и на его запрос ответ следовал лишь один: «доступ запрещен».
Однако, с Кипра Дружников вернулся вполне благополучно, и с успехом завершив дела. Завещание осталось, слава богу, без пользы пылиться у нотариуса. А вскоре подоспели и новые перемены. Дружников снял квартиру на Беговой, достаточно просторную и удобную, и перевез семью в Москву. Брата Гошку к этому времени уже зачислили на механико-математический факультет, еще бы было иначе. Дружников не только обзавелся красным дипломом, но и не прекратил своих пожертвований в пользу родной науки. Оттого брата его встретили с распростертыми объятиями, несмотря на почти полную неспособность юного Георгия Дружникова к любым точным дисциплинам. Но толстый, добродушный увалень Гошка старшего брата побаивался не на шутку и исправно старался изо всех сил. По крайней мере, усердно посещал, ничего не пропуская, все семинары и лекции, компенсируя завидным прилежанием врожденную интеллектуальную тупость. Преподаватели, однако, от младшего брата были в восторге, ибо он являл собой воплощенную учебную дисциплину, и, конечно же, его экзаменационные успехи, за полной неспособностью, щедро вознаграждались старшим Дружниковым. Но что поделаешь, если все доли светлого разума, отпущенные их семейству, достались исключительно и тотально лишь одному его представителю.
Вальке было странно лишь одно обстоятельство. Почему Олег, имея к этому времени более, чем достаточно средств, все никак не предложит Анечке руку и сердце или хотя бы совместное проживание. Уже не студент, и с жильем проблем почти что нет, а в скором будущем не станет совершенно, о деньгах и говорить нечего. Но Дружников и Аня продолжали существовать, как и раньше, порознь, каждый в своем доме. Аня ездила к нему теперь на Беговую, как до этого в общежитие, и мама Дружникова, Раиса Архиповна, с откровенной приязнью ее принимала. Валька видел все, потому что и сам бывал частым гостем в той квартире. Раиса Архиповна с утра до ночи хлопотала по кухне, в удовольствие стряпая из недоступных ей много лет продуктов прорву блюд. Все ее рукотворные произведения надо было кому-то съедать, и оттого гостей на Беговой приветствовали. Дружников же, несмотря на полный достаток, оставался безоговорочно преданным любимому своему кушанью, которое соглашался принимать исключительно в мамином издании, утверждая, что никто другой не сможет так приготовить это довольно простое деревенское блюдо. Речь шла, собственно, всего лишь о картофельном пюре, перемешанном в определенных пропорциях со сметаной и мелко нарезанными капустными листами. Разносолы в основном поступали в пользу брата и проголодавшихся посетителей. Анечку же Раиса Архиповна носила чуть, что не на руках, и присутствовало в выражении ее лица нечто, ясно выдававшее великую тайну: на такую девушку для своего сына ей и в самом счастливом сне рассчитывать не приходилось. Но иногда внимательный наблюдатель, каким и был Валька в этом случае, мог уловить в чертах Раисы Архиповны совершенно неподходящее, но все же имеющее место состояние тревоги и сожаления, обращенное именно к Анечке. Словно мать Дружникова знала что-то очень личное и сокровенное, но несчастливое для девушки, о чем ни за что бы эта добрая женщина не поведала вслух. А Валька не задавал вопросов ни Дружникову, ни Анечке, и уж конечно, не имел в виду откровенничать с Раисой Архиповной. Да и не мог он желать скорой свадьбы Ане и своему другу, и страшился сам себя.
Но была и другая перемена, к которой Валька, как ни старался, не сумел отнестись хотя бы умеренно позитивно. Вместе с мамой и младшим братишкой Дружников вывез из родной станицы совершенно уж непонятно кого и главное, совершенно непонятно зачем. Вместе с ним прибыли из далекого Ставрополья три весьма одиозные для Москвы личности. Как земляки Дружникова они, конечно же, имели право на некоторое его участие в их судьбе. Но роль этой троицы возле Дружникова и на фирме была Вальке не совсем ясна. Ни о каких близких связях Дружникова с кем-нибудь из станичной молодежи Валька никогда не слыхал, да и земляки его отнюдь не производили впечатления закадычных приятелей или просто товарищей далеких детских игрищ и забав. Напротив, с Дружниковым все трое держались неуместно подобострастно, ловили каждое слово или жест, и казались страшно жадны до любых подачек.
Один из них, Тихон Приходько, самый одноклеточный и наименее противный, изображал при Дружникове что-то вроде камердинера. Спал на кушетке в кухне, бегал по домашним поручениям, с лакейской прытью подавал Дружникову пальто, портфель, газету и вообще, старательно делал «что прикажут». Валька, бывая на Беговой, намеренно не замечал этой несколько неприглядной обложки домашнего быта Дружниковых, да и Тихона считал достаточно безобидным и убогим существом. К тому же Валька придерживался святого правила о недопустимости вторжения посторонних уставов на частную территорию монастырского владения. Но вот двое других пришлых станичников вызывали в нем одновременно и беспокойство, и весьма ощутимую неприязнь.
Восточный человек Муслим был еще туда-сюда. Груда мышц и полупустой чердак, скудно оборудованный лишь небогатой разбойной хитростью, плюс почти полная неспособность связно передавать мысли посредством речевого аппарата. Происходил он из обширной ингушской семьи, в доисторические времена военного коммунизма переселившейся в низинные ставропольские станицы. Служба же на дальней амурской границе придала этому накачанному абреку некоторые самоуверенные черты человека, якобы повидавшего большой мир. Пока же Муслим был определен Дружниковым в частную школу подготовки личных телохранителей.
Но хуже всех был последний. Некий Филя, Феликс Кошкин. К нему, как ни к кому другому подходило короткое и емкое определение: «жлоб». И это определение, как выяснилось впоследствии, оказалось еще не самым худшим. На фирме Филя занимался периферийными, загадочным для Вальки хозяйственными делами, в частности закупал бумагу и порошок для ксерокса, заказывал бланки и рекламные ручки с логотипами, и даже приобретал оргтехнику. За что один раз, пойманный на воровстве, безропотно вынес от Дружникова кулачную расправу и повреждение физиономии, после чего красть стал уже куда тише и скромней. Но пакостнее всего было то, что Кошкин любил почти до оргазменного восторга унижать и обижать зависимых и пасующих перед ним людей. Он третировал и оскорблял пошлыми шуточками секретарш, гонял с нарочной бессмысленностью офисных уборщиц, и вообще старался принизить и задеть каждого, кто не был способен дать ему надлежащий отпор. Однажды Кошкин сделал первую и последнюю попытку «наехать» на Вальку.
Валька и впрямь как нельзя лучше подходил для Кошкина на роль очередной жертвы. Во-первых, Филю не могла не раздражать душевная и трогательная близость отношений Вальки и Дружникова, которого Филя предопределил себе в единственные хозяева и покровители. А во-вторых, именно Валька являл собой тот человеческий тип, который Кошкин на белом свете ненавидел более всего. Мягкотелый на вид интеллигент, с пионерскими представлениями о добре и зле. К тому же к самому Филе Кошкину относящийся со скрытым пренебрежением, как к нечистому животному. Филя был достаточно наблюдателен и для того, чтобы подметить некий прелюбопытный факт. Сам Дружников иногда тяготился вынужденным пребыванием на позициях чести и долга и иных ценностей, навязанных ему со стороны своим ближайшим сподвижником. Поэтому Кошкин самочинно постановил себе разобраться со «слюнявым чистюлей». И однажды, при всех, в общей зале их офиса Филя обложил исполнительного директора, всего-навсего попросившего его оставить в покое секретаршу Надю, по матери, посоветовал в спешном темпе узнать свое место, иначе он, Кошкин, быстренько ему его укажет, и тогда кое-кому не поздоровится.
Последовавший за тем эффект, что называется, был велик. На шум и возмущенные крики общественности из кабинета пулей вылетел Дружников, и Филе Кошкину прошлый мордобой показался прогулкой по райским яблочным садам. Немедленное увольнение и призыв Быковца для доставки не прописанного в Москве элемента в ближайшее отделение милиции с последующей высылкой в бесперспективную станицу, заставили Кошкина прилюдно ползать по полу, обнимать ноги и слезно умолять о прощении поочередно Вальку и Дружникова, клясться на будущее во всех добродетелях сразу. Валька, смущенный и одновременно одолеваемый рвотными позывами, попросил Олега прекратить, и пусть Кошкин живет, как живет. Филю простили, но Дружников строго-настрого запретил ему и на пушечный выстрел приближаться к Вальке. Впрочем, Филя отныне скорее поцеловал бы взасос гадюку, чем позволил себе хоть один косой взгляд в сторону исполнительного директора Мошкина.
Не то, чтобы Валька не мог справиться с ситуацией сам. О нет, Дружников нисколько не сомневался на этот счет. Но в то же время и прекрасно осознавал, что Валькино разбирательство, зашедшее слишком далеко, может потенциально стоить глупцу Кошкину жизни. А Филя еще наверняка пригодился бы Дружникову.
Уровень 23. А роза Азора
Поздняя осень в том году выдалась хлопотливой и печальной. Вальке опять пришлось заниматься похоронными делами, на сей раз уже в собственной семье. Внезапно и скоропостижно от обширного инсульта умерла бабушка Глаша. Ее соседка, Марья Дамиановна, разбуженная среди ночи неугомонными звуками работающего за стеной телевизора, сначала пыталась решить вопрос миром, звонила бабушке по телефону. Потом, осердясь, не поленилась выйти на лестничную клетку, долго жала кнопку звонка, тарабанила кулачком в дверь. И не дождавшись никакого ответа, не на шутку испугалась. Были вызвана «скорая» и милиция, а после, само собой дочь скончавшейся Аглаи Семеновны.
Валька и мама горестно поплакали над бабушкиной кончиной, стараясь утешить друг друга тем обстоятельством, что смерть случилась внезапно и не могла оттого причинить Аглае Семеновне особых мучений. Барсуков, хоть слез и не проливал, но скорбел непритворно, ибо к теще за все время своей семейной жизни привык и относился к Аглае Семеновне положительно. И то сказать, бабушка Глаша была не теща, а настоящий, нерукотворный клад. Ни во что не встревала, ехидных замечаний не делала, вообще зятем гордилась и прилюдно всегда отпускала ему похвалы и витиеватые, старомодные комплименты.
После похорон Валька с согласия мамы и Барсукова переехал в бывшую бабушкину квартиру, куда его еще при совершеннолетии дальновидно и с немалыми трудами удалось прописать. Не то, чтобы в собственном доме у Вальки возникали напряженные моменты или недоразумения, но хотелось самостоятельности. К тому же рабочий график его как ответственного совладельца фирмы был непредсказуем и уплотнен до предела, Валька запросто мог вернуться, скажем, из командировки, и в час, и в два часа ночи. Близких беспокоить не хотелось, а те не спали, мама в тревоге, Барсуков из почтения и любопытства, из первых рук ожидая совершенно ему ненужных и непонятных новостей.
Викентий Родионович давно уже никаких трений с пасынком не имел, напротив, Валька отныне составлял предмет его неслыханной гордости и бесконечную тему для разговоров. После несчастливых событий августа 1991 года Барсуков, конечно, утратил пост партийного руководителя. Но осмотрительно предупрежденный заранее Геной Вербицким, ничем себя не опорочил, даже сумел выплыть, и тоже благодаря Вальке. Можно сказать, его почти что собственный сын стоял в самом пекле на баррикадах в те дни, когда партсекретарь Барсуков лежал беспомощно, пораженный сердечным недугом, вызванным не чем иным, как бессовестной узурпацией власти правыми реакционерами. Викентий Родионович за свою дальновидность и сердечные страдания был вознагражден сполна. Его назначили, наконец, заместителем декана и именно по учебной части. Барсуков обзавелся новым комфортным кабинетом, и даже пожилой, опытной секретаршей Маргаритой Федоровной. Само собой, в курсе Валькиных успехов теперь были и самые распоследние лаборанты, а уж Маргарита Федоровна со слов своего начальника знала об удачах «Дома будущего» куда больше его владельцев.
Сам же Валька частенько Барсукова баловал. Как ни крути, но многие годы Викентий Родионович позволял пасынку существовать в удобном тепле и сытости и ничего на будущее не выторговывал взамен. Валька же никогда не числил за собой порока неблагодарности. Самое удивительное, что денежную помощь Барсуков отказался принимать наотрез, видимо это предложение каким-то образом шло вразрез с его представлениями о собственной значимости. Им с матерью довольно и даже более чем, говорил он и не кривил душой. Но Валькиным подаркам был рад. И заграничному фотоаппарату, и неслыханной по шику ручке «ПАРКЕР» с настоящим золотым пером. Викентий Родионович каждодневно брал златоперую ручку с собой на службу, но ни разу не написал ей ни слова, зато охотно демонстрировал всем желающим. Правда, только издалека, во избежание порчи ценного предмета.
Ко дню рождения отчима Валька не поленился, свозил Викентия Родионовича в новомодный долларовый магазин, выбрать парадный костюм. После мучительных колебаний и обстоятельных совещаний остановились, наконец, на мягком, коричнево-розоватом, с искрой, портняжном изделии. Барсуков долго и задумчиво разглядывал ценник и нарядную бирку с надписью «Мишель» на французском языке, цокал языком и в последний момент едва не остановил Валькину руку, щедро отсчитывавшую продавцу, страшно сказать, аж триста американских долларов. Дома костюм был немедленно упакован в холщовый чехол с таблеткой нафталина, и впоследствии Викентий Родионович позволил себе надеть французское чудо только раз. Покрасоваться перед подчиненными и начальством. Однако, на факультете, пожалуй, не нашлось бы ни одного единственного человека, который бы не слышал о пресловутом костюме, включая подробную историю его приобретения.
Напряжение, некоторое, но тяжелое эмоционально, как ни странно, возникло между Валькой и Людмилой Ростиславовной, еще до бабушкиной кончины. А все дело заключалось в Анечке. Вернее, в нынешнем отсутствии ее в Валькиной жизни и присутствии ее в жизни Дружникова. Людмила Ростиславовна почему-то решительнейшим образом записала Анечку в предательницы и легкомысленные обманщицы, и вообще, за сына ей было обидно. Самое любопытное, что в виду подслушанного ею старинного скандала на лестничной клетке между Валькой и Дружниковым, Олега она ни в чем не винила. Наоборот, сочувственно вздыхала, и выражала опасение, как бы и Дружников не пострадал от происков непостоянной девицы. О своем отношении к Ане Булавиновой она не раз и не два напрямую говорила Вальке, и видно было, что Людмила Ростиславовна переживает по-настоящему. Вальке те разговоры и обвинения тяжким грузом ложились на душу, но поделать ничего не получалось, Людмила Ростиславовна имела полное право негодовать. Оттого понятливая Анечка больше к Мошкиным в гости не заходила, ходя Валька и видел, что ей бы хотелось обратного.
Переезд в бабушкину квартиру решал разом все проблемы. Валька клятвенно заверил маму и Барсукова, что звонить будет каждый, каждый! день, и одну субботу или воскресенье в неделю непременно станет целиком и полностью проводить вместе с ними. К тому же, хочешь не хочешь, в Валькиной жизни случались мимолетные женщины. С утратой Анечки, однако, не произошло взаимной утраты Валькиного чувства к ней. Но жизнь есть жизнь, и вблизи Вальки, будто сами собой, возникали девицы. В основном, на один вечер, и очень редко на два. Видно, что-то такое явно ощущалось в исполнительном директоре Мошкине, отчего ни искательницы приключений, ни охотницы за новорусскими сокровищами, никак не желали задерживаться возле него надолго. Каждый раз, быстро уразумев, что этот, лично к ним равнодушный фрукт, совсем девицам не по зубам, претендентки на его руку и кошелек, не привыкшие даром транжирить время, ретировались с исключительной поспешностью. Однако, и временное их явление тоже требовало от Вальки свободной жилплощади. К Анечке же это, по Валькиному убеждению, не имело ни малейшего отношения.
У бабушки Глаши ныне Валька ничего нарочно менять не стал. Оставил, как есть, и вышитые кружевные салфеточки, и старые фотографии семьи еще с военных времен, и даже пышная, пружинная кровать, вся в подушечках и расписных покрывальцах, царила на законном месте в углу. Древний резного дерева буфет, высокомерно занимавший ровно половину единственной комнаты, также не был изгнан Валькой, как и украшения в виде вазочек и фарфоровых, старинных амурчиков и пастушек, что по-прежнему покоились на его необъятной, малахитовой полке. Словом, для постороннего глаза квартира представляла собой удивительный контраст между ее хозяином, молодым и просвещенным бизнесменом, и окружающей его обстановкой, подходящей более для одинокой старой девы, кошатницы и мелочной аккуратистки. Но Вальке в той квартире жилось уютно.
Хотя, если быть дотошно правдивыми, квартира видела Вальку в своих постояльцах совсем нечасто. Виной тому служили бесконечные дела, разъезды, свежие хлопоты. Их с Дружниковым предприятие в его нынешнем масштабе, словно античный Кронос, пожирало все наличное время целиком. Непрестанно требовалось налаживать новые связи, утрясать вопросы и разногласия и мчаться. мчаться вперед. Вернее, вперед, сломя голову, мчался в основном Дружников, Валька же больше следил за тем, чтобы в этом ослепительном галопе его дорогой друг не свернул себе шею. Количество трудностей, спешно нуждавшихся в устранении, было так велико, что Валька со временем приучил себя путем немедленной концентрации и направленного усилия воли желать Дружникову по ходу дела всех требуемых удач. И совершеннейшим образом от всей души. Он как бы полностью отныне растворился в замыслах и насущных обстоятельствах Дружникова, и более не занимался ничем. Валька напрочь забросил Альбом Удачи и давно уже не проверял благополучия своих подопечных. На это не хватало ни времени, ни лишних сердечных движений. Неподдельная ревность Дружникова к альбомным персонажам и забавляла Вальку и одновременно была ему приятна. Уж если Дружникова так задевают Валькины заботы о посторонних, чужих ему людях, то на срок те заботы можно и отставить. Дружникова он понимал, или думал, что понимает. Конечно, Олег обременен неподъемными, изматывающими, государственными трудами, а он, Валька, тратит драгоценные усилия, чтобы помочь неведомо кому покруче спеть и сплясать на эстраде.
На львиную долю переговоров и коммерческих свиданий Валька и Дружников являлись вместе. Чем вызывали сначала недоумения, а после и насмешки далекой от сентиментальных, книжных переживаний, деловой публики. За глаза в кругу банкиров, предпринимателей и аппаратных чиновников за ними стойко укрепилось прозвище «Двуликий Янус». Именовали им сразу обоих, иногда так и говорили: «Вон, Двуликий Янус вошел», или «Двуликий Янус только что приехал», смотря по обстоятельствам, относя эту фразу одновременно к Вальке и к Дружникову. Если же случалось по деловой необходимости им являться самостоятельно друг от друга, то язвительные языки комментировали это следующим образом:
– «Двуликий Янус» прибыл. Одна вторая.
А собеседник или собеседники при этом интересовались:
– Которая из двух половин?
В случае прибытия одного Дружникова ответ звучал:
– Лицо.
Если же в одиночестве оказывался Валька, то в шутку говорилось уничижительно, но последовательно:
– Задница.
Однако, говорилось так недолго. Очень скоро знакомые бизнесмены роли для Вальки и Дружникова переменили наоборот. Более того, даже в частных разговорах Дружникова отдельно именовали не иначе, как «задница», а в гневе или в восхищении от его проделок и «полная задница!». И то сказать, общаться на почве денежной выгоды с Дружниковым было ох, как нелегко, а порой разорительно опасно. Многие уже почувствовали это на собственной шкуре, купившись на кота в мешке, обман и подвох, и откровенную разбойничью засаду на своей предпринимательской дороге. Самое скверное же заключалось в том обстоятельстве, что Дружников нисколько не сочувствовал своим невольным жертвам, напротив, обходился с загнанными им в угол людьми с грубостью и неприязнью, к тому же имел нехорошую привычку добивать ненужного и неопасного уже лежачего раненного.
С Валькой все обстояло как раз наоборот. Он именно что был «лицо». Всегда милое и благожелательное, зачастую молчащее, но дружественно улыбающееся. А если «лицо» говорило, то слова его были разумны, и содержание этих слов всегда совпадало с намерениями. Каждый поверженный и обиженный Дружниковым новый русский бизнесмен скоро узнавал, что справедливость и заступничество в «Доме будущего» можно найти исключительно у исполнительного директора Мошкина. Которого Дружников в силу совершенно непонятных и невероятных причин слушается и уважает. Их необъяснимый никакими нормальными доводами тандем плодил великое множество слухов и даже частных расследований. Выдвигались разнообразнейшие версии, от подозрений в гомосексуализме, до самого грязного шантажа, от внебрачного родства по отцу, до замаскированного, профессионального гипноза. Наиболее продвинутые конкуренты посещали экстрасенсов и гадалок. Но ничто из предполагаемого не подтвердилось, оставив любопытствующих в прежнем недоумении. И пришлось смириться с абсурдным фактом. Да, существует еще в мире, настоящая, чистая мужская дружба, незапятнанная и благая, неподверженная времени и денежной коррозии, романтическая и безоглядная. Тогда приходилось соглашаться и с естественным следствием, что человек, на такую дружбу способный, не может быть совершенно плохим, а просто обязан иметь ряд положительных качеств, пусть и не бросающихся в глаза. Таким образом, Дружников получался, как бы частично оправдан и хорош, на беду всем тем, собаку съевшим в спекуляциях коммерсантам, вынужденных принимать доступную видимость за действительное бытие.
А Дружников готовился к новому, грандиозному шагу, должному вознести его на совершенно иную, высшую ступень. Благодаря Валькиным стараниям и прежнему, стопроцентно добровольному благожелательству Вербицкого, а также его связям в ведомстве, занимающимся приватизацией госсобственности, Дружников замахнулся на выкуп Мухогорского комбината. Конечно, не в единоличное владение. Да и кто бы допустил нечто подобное? Но Геннадий Петрович, сам имеющий интересы более в сталелитейной и трубопрокатной сфере, свел Генерального директора «Дома будущего» с нужными, очень важными людьми, разумеется, дав лестные рекомендации. Важным людям Дружников весьма приглянулся, а как же иначе, ведь на встрече присутствовал Валька, и важные люди постановили принять «Дружникова и К» в свою команду и отдать в будущем непосредственное руководство комбинатом лично Олегу Дмитриевичу. Это несмотря на то, что его ближайший сподвижник и правая рука, по всей видимости, пребывал слегка не в себе, и даже позволял прилюдно высказывать бредовые совершенно идеи относительно общего благоденствия и грядущего процветания страны. Впрочем, решили важные люди, ненормальная позиция директора Мошкина скорее служила красивой, защитной ширмой, вроде золоченных виньеток на старинных фотографиях, и потому рассматривать ее всерьез смешно.
Для начала, как вещал Дружников, «Дому будущего» необходимо собраться в мощный наступательный кулак, усилив и призвав дополнительные кадры. Поэтому в Москву на пост коммерческого директора после недолгих уговоров был вывезен Семен Адамович Квитницкий, Кадановка же переведен в директора финансовые. Обозначились в фирме и совсем новые люди. Некоторые из них Вальке не приглянулись, некоторые, напротив, оказались лично симпатичны. Так, например, по сердцу пришелся новый юридический глава, выпускник МИМО, успевший поработать и в министерстве иностранных дел, немного неряшливый в наряде молодой еще человек, с заурядным именем Иван и с замечательной, необычной фамилией Каркуша. К этому Каркуше, невысокому, худощавому и самую малость кривобокому, Валька с первых же минут ощутил доверие. Иван прекрасно разбирался в вопросах, коим ему предстояло уделять свое рабочее время, не кичился образованием и изрядным умственным багажом и главное, в пять секунд, без малейшего высокомерия, поставил на место выскочку Кошкина, тут же попытавшегося испытать свои таланты на новеньком. И вскоре весь наличный персонал «Дома будущего», в знак расположения, стал ласково именовать нового старшего юриста не иначе как Иванушкой.
А вот прибытия «рижских оккупантов» Валька одобрить никак не мог. Хотя люди эти и не были для Вальки незнакомыми совсем. Но может, именно потому, что Валька имел о них достаточное представление, он не испытывал восторгов от их нашествия в столицу.
«Рижских оккупантов», как про себя именовал их Валька, по числу было двое. Мужчина и женщина, впрочем, никак не связанные друг с другом. Мужчина, некто Ованес Симонян, имел в Рижском порту небольшую посредническую контору, помогавшую за «скромную» мзду осуществлять транзитные международные перевозки. Вальке и Дружникову приходилось общаться с господином Симоняном не раз, когда по экспортным контрактам «Дома будущего» необходимо было проводить поставки за российские рубежи. На Вальку господин Симонян с первых еще минут знакомства произвел дурное впечатление. И Валька, сроду не числивший за собой ни одной националистской или расистской мысли, отчего-то стал называть его для себя и с глазу на глаз с Дружниковым насмешливым прозвищем «Армян». Именно так, грамматически неправильно и подчеркнуто с большой буквы.
Надо признать, что родившееся у Вальки прозвище как нельзя более господину Симоняну подходило. «Армян», словно бы нарочно отгородившийся своей гротескностью от достойной и многострадальной нации, к коей он в силу рождения принадлежал, представлял собой худшие ее, анекдотические черты. Был он чрезмерно толст и столь же чрезмерно кричаще одет, на жирном, волосатом пальце имел непременный, уродливый перстень-печатку, манеры в разговоре допускал развязные и шумные. Но Валька все это пропустил бы мимо внимания, в конце концов, всякий человек имеет свободу воли и личности, если бы не излишняя наигранность, а порой и переигранность в поведении «Армяна». Словно бы господин Симонян исполнял некую, самому себе заданную роль, и очевидно с корыстными мотивами. За напускным радушием и готовностью услужить Валька чувствовал гниль и низкую хитрость, скрытое намерение подсидеть заказчика, где только будет на то возможность. В то же время «Армян» явно и жалко пасовал перед любым проявлением чужой силы, отчего делался еще более неприятен. К тому же Валька, время от времени наезжая в Ригу, подметил любопытный факт. Мелочь, но мелочь весьма красноречивую. Вокруг «Армяна» никогда не находилось никаких близких или дальних родственников, при нем не состояло ни одного младшего брата или племянника, двоюродного дяди или просто соседа по двору. Никого родом из его далекой Нахичевани или из иных мест. Это притом, что «Армян» по паспорту и по существу принадлежал к милому и маленькому народу, превыше всего на свете с трогательной любовью почитавшему именно семейные связи. И особенно – удачливых, добившихся, пусть и относительного, жизненного успеха родственников. Вокруг же «Армяна» была космическая, вакуумная пустота. Будто на своей маленькой, армянской планете он сделался политическим и безоговорочным изгоем.
Этого «Армяна» Дружников и решил привлечь к своим делам в Москве. Валька попробовал было его отговорить, но Дружников привел разумные доводы, что «Армян» им будет нужен и полезен, клятвенно пообещал Вальке «Армяна» особенно близко к себе не подпускать и вообще держать с ним ухо востро, а нос по ветру.
Но бог с ним, с «Армяном», обычный авантюрист средней подлости, пригодится и ладно. А вот зачем Дружников доставил на буксире из рижского портового ресторана девушку Снежану, до сего времени прислуживавшую там то ли метрдотелем, то ли администратором, было Вальке крайне непонятно. Дружников объяснил просто и загадочно: для связей с общественностью и рекламы. Вальку его ответ привел в совершеннейшее недоумение. Какие еще связи с общественностью? Дружников ведь не президент России, не кинозвезда и даже не производитель ширпотреба. Что им рекламировать? Медные чушки, как вещь, необходимую в каждом доме? Это же не «памперсы» и не собачий корм. Но Дружников был непреклонен. Сейчас не нужно, а завтра понадобится, втолковывал он Вальке. Готовь сани летом.
Однако Валька подозревал, что дело здесь совсем не в санях. Что дело нечисто и скверно. И тут же стыдился своих подозрений. Зачем Дружникову умыкать девиц из рижских кабаков, когда его в Москве верно и преданно дожидается та, равной которой вообще никого в мире нет? Глупость и полнейший абсурд. Поэтому Валька пришел к выводу, что Снежана была взята Дружниковым в столичную жизнь чисто из сострадания и желания как-то помочь действительно смышленой и симпатичной молодой женщине. На этом умозаключении Валька несколько успокоился, но нехорошее ощущение совсем не ушло, и каждый раз при встрече со Снежаной он ежился от двусмысленности и неловкости.
Никакой, конечно, рекламой Снежана не занималась, на время ее определили в нестрогое подчинение к охламону Кадановке. Но при финдиректоре, до самой макушки перегруженного бумажной работой, особых обязанностей у нее не нашлось.
Тогда Снежана как-то сама собой стала сопровождать в деловых и развлекательных поездках по Москве клиентов и партнеров «Дома будущего», прибывших в столицу по приглашению фирмы. И надо сказать, удачно. Все до одного, нужные господа были довольны ее сопровождением. А у Вальки опять сложилось скверное подозрение.
Однако, детально обдумать его директор Мошкин не успел. На его пути опять случились крутые повороты и пропасти.
Уровень 24. Конь бледный
Мухогорский комбинат из светлой перспективы постепенно становился зримой реальностью. Вырастал впереди всей своей устрашающей массой, нависая над «Домом будущего» пышущей зловонными плавильными дымами махиной. Шла упорная и яростная скупка акций многомиллионного ГОКа, и финдиректор Кадановка, ответственный за ее осуществление, забыл как о собственной лени, так и о спокойной жизни. Но акции являли собой лишь необходимый технический этап. Главные вопросы решались Валькой и Дружниковым в совсем других сферах.
Непосредственно иметь дело, как и состоять в некотором подчинении, им приходилось с теми самыми важными людьми, к которым их столь щедро определил Гена Вербицкий. Дядя и племянник, оба по фамилии Беляевы, представляли собой тот еще подарочек, истоки их огромных капиталов были загадочны и темны, а намерения без непредвзятости ужасающе циничны. Валька в их обществе чувствовал себя как задыхающийся на берегу дельфин. Хорошо хоть, Дружников тут же нашел с ними общий язык, и от Вальки не требовалось особенно активного общения. Даже не нужно было пожеланий в удаче. Дядя и племянник, по-видимому, без Валькиных хлопот делали все то, что ожидал от них Дружников. Но Беляевы состояли, так сказать, на ролях фигур закулисных, и в свете рамп показывать себя и свои деньги не желали. Оттого всю внешнюю работу приходилось исполнять «Дому будущего». А работа оказалась достаточно грязна.
Нечего и говорить, что такое значительное предприятие, как покупка Мухогорского комбината, необходимо было утрясать на многих уровнях, попутно задабривая целую тучу чиновничьей саранчи, немедленно слетевшуюся к месту сытной кормежки. Плюс еще и местные Мухогорские власти, которые, за солидную мзду и твердые гарантии на будущее, обещались покупке не противиться и под ногами особенно не мешаться. Но слова своего не держали, то и дело зачинали новые вымогательства.
Однако, это было лишь полбеды. Рука «Дома будущего» совсем не в единственном числе протянулась в Мухогорск. Хозяином Медной Горы пожелал стать еще кое-кто. Местный криминальный авторитет, правда, довольно солидного регионального масштаба, некто Алик Диденко, или просто «дед». Привыкнув за некоторое число лет с постоянством и прибылью «доить» нынешнее руководство комбината, «дед» совсем не хотел его замены на пришлых москвичей, которые точно делиться не станут, и которые наверняка явятся в Мухогорск с собственной «крышей» и охраной. А тогда «дед» и его внучки, тут уж можно и Тамару Глоба не спрашивать, поплывут мимо больших денег. Как следствие, «дед» принялся подбивать нынешнего директора на необдуманные и чреватые поступки. Но директор комбината, Гусочкин, на уговоры не поддался. Предпочел сговориться с москвичами об отступных и синекуре свадебного генерала. Во-первых, с сильнейшим драться глупо. А во-вторых, какие могут быть военные действия, когда тебе уже шестьдесят два, и даже внуки хорошо пристроены.
Тогда «дед», или как его пренебрежительно называли Дружников и племянник Беляев – «дедок», решился на отчаянный шаг. Купить комбинат самому. Но, к сожалению, выяснилось, что ни «дедок», ни внучки нужными для этого мероприятия средствами и приблизительно не располагают. «Дед», конечно, попробовал заинтересовать проектом знакомых ему коммерсантов, обещая защиту и поддержку, и некоторые даже соглашались. Правда, только до той поры, пока не наводили справки о конкурентах. После чего следовал решительный и полный отказ. Дураков не было.
Кроме самого «дедка». Вместо того, чтобы ретироваться с нажитыми в нелегком бандитском труде капиталами, и в ближайшем, крупном городе попытаться отбить для себя торговый комплекс, систему автозаправок или вещевой рынок, что было бы ему вполне по силам, «дедок» полез на рожон. То ли от обиды, то ли из принципа, то ли в силу некоторой естественной отмороженности. Серьезного вреда принести он не мог, но палки в колеса вставлял изрядные. Запугивал население, чтобы не продавало акции, грозил и дирекции комбината. Кончилось все тем, что Вальке и Дружникову пришлось вносить немалые дополнительные средства в кассу местного ГУВД, дабы оградить от домогательств Гусочкина и его присных и дополнительно обеспечить в Мухогорске также собственную безопасность.
Когда же все нужные акции были с успехом скуплены, все колеса смазаны, а дело перешло в завершающую стадию, Вальке и Дружникову предстояла последняя перед выборами нового правления комбината поездка в Мухогорск. Ехать решено было втроем: Валька, Дружников, плюс Иванушка, для солидного юридического представительства. Муслима, во избежание эксцессов, с собой не взяли, как и прочую московскую охрану, в этот раз сочли возможным обойтись местным милицейским сопровождением. Уже всем было понятно, что свое безнадежное дело «дедок» проиграл совершенно, и более реальных угроз от него не ждали.
А с Муслимом вышло вот что. В положенный срок он примерно завершил свое обучение в школе телохранителей и с тех пор состоял при Дружникове в новом своем качестве с новенькой же «береттой» и совершенно законным на нее разрешением. Валька от услуг Муслима бесповоротно отказался, считая вообще всю затею Дружникова с личной охраной пустым ребячеством. Но и Олегу тешиться не мешал. Хочет играть в «казаки-разбойники» – пусть себе. Опять же, Муслиму занятие и заработок. И вообще, все это забавы для взрослых. Вроде купленного недавно Дружниковым новенького «БМВ». Он и Вальку подбивал сменить советскую «Волгу» на дорогого иностранного коня. Однако, директор Мошкин мягко, но решительно отказался. Для поддержания солидности и статуса фирмы «Волги» вполне достаточно, а дорогой автомобиль по нынешним сиротским для многих людей временам иметь не очень-то порядочно. Вальку угнетал уже один тот факт, что он в силу служебного положения должен пользоваться услугами личного водителя. Оттого Валька своего персонального шофера Костю баловал, как мог. Но странное дело, при полном попустительстве своего шефа, Костя капризничал и воровал не в пример меньше и реже, чем водители, пребывавшие под строжайшим и жестким хозяйским надзором. И даже пытался опекать своего работодателя, будто малого ребенка. Иногда Вальке чудилось, что Костя отчего-то сочувствует ему. К покупке же Дружниковым зеленого баварского красавца Валька отнесся снисходительно. Никогда Валька не забывал и того, что друг его набедовался достаточно в детстве и в юности, что, будучи студентом, своими руками зарабатывал деньги на лесоповале и стройках. Так пусть хоть сейчас ни в чем себе не откажет. Пусть нарадуется на свои новые игрушки. А со временем это пройдет. К «игрушкам» Валька относил и абрека Муслима. Только с Муслимом случилась история.
Несмотря ни на что и слава богу! существование Дружникова на белом свете протекало совершенно мирно, опять же и Валька не зевал. Не было ни покушений, ни ограблений, ни транспортных аварий, ни каких иных неприятностей. Оттого Муслим и впрямь зачастую выглядел рядом со своим хозяином ненужной мебелью, видимо, чувствовал себя не в своей тарелке, чрезмерно выискивал опасности, могущие грозить Дружникову. И, однажды, нашел.
Надо заметить, что дом возле станции «Беговая», где временно обитал Дружников, был старый дом. Еще сталинской застройки. Потому многие квартиры в нем были квартиры коммунальные. И люди, которые в них проживали, отнюдь не числились в миллионерах. Так, напротив Дружникова, селились в трех комнатах две семьи, одинокая мать с дочерью и сыном, и старый любопытный хрыч Макарыч, вдовец послепенсионного, но не очень древнего возраста. Этот-то Макарыч и стал причиной инцидента.
И без того въедливый от природы, совсем распоясавшийся на пенсии Макарыч, бывший техник «Мосгаза», совал свой длинный, обвисший, со слезою, нос во все доступные и недоступные дыры. Скандалил по пустякам в домоуправлении и у участкового милиционера, шпионил за соседями, разглагольствовал в магазинах и на рынке у метро, ругался без толку и устали с автовладельцами, чтоб не парковали машин под окнами. Словом, вел активную общественную жизнь. Новый же, богатенький сосед, поселившийся напротив, возбуждал в Макарыче особенно острое любопытство. Прямо подойти и обратиться к загадочному жильцу Макарыч все же опасался. Слишком стремительно тот покидал и возвращался в квартиру, всегда в обществе нескольких прихлебателей, причем, все те минуты, пока сосед ехал в их допотопном лифте, один из них, здоровенный кавказец, исправно бежал рядом с кабиной по лестнице. Но ничто не мешало Макарычу вести наблюдения через свое личное окошко в мир – через дверной глазок, и время от времени цепляться с расспросами к пожилой мамаше соседа, доброжелательной и общительной, деревенской тетке. От нее-то Макарыч и получил расплывчатые сведения, что новый сосед его – большущая шишка, а скоро станет еще больше. После чего заинтригованный Макарыч, преодолев опаску, решил попасться соседу на глаза. Не столько даже неопределенной корысти ради, сколько для обретения захватывающих ощущений от знакомства с «выдающимся» человеком и может быть, всамделишным миллионером. Тут уж будет о чем поговорить и с ЖЭКовской бухгалтершей, и с продавщицами из местной гастрономии.
Далее Макарыч придумал и продумал хитроумный план. С утра пораньше (хотя какое там пораньше, сосед из квартиры до девяти редко когда выходил) дождаться у глазка с мусорным ведром. И лишь только дверь напротив распахнется, тут он, Макарыч, выйдет с оным ведром на лестничную клетку и загородит не нарочно дорогу. Вроде, случайно так совпало. И здрасте наше вам с кисточкой. Уж парой-то слов со стариком перекинутся. Затем встретиться раз-другой, а там, глядишь, Макарычу и удастся втянуть «выдающегося» соседа в разговор, к примеру, на государственные темы. В самом деле, не о картошке же и домовой уборщице Клавке ему беседовать с миллионером!
И вот, однажды утром Макарыч приготовился. Полное мусором ведро стояло рядом, сам Макарыч приник к глазку. Чуткий слух его вскоре уловил, как у соседа щелкнул замок, значит, пора. Мешкать было нельзя, иначе упустишь момент, и Макарыч торопливо подхватил свое ведро, потянул дверь и сделал шаг.
В то утро Дружников выходил вместе с Валькой. Так уж вышло, что накануне вечером друзья засиделись допоздна с бумагами и совещаниями, и Валька после недолгих уговоров остался у Дружникова ночевать.
Итак, Валька и Дружников шли рядышком, следом за ними мелкой, дробной походкой семенил камердинер Тихон с хозяйским портфелем в руках, впереди привычно вышагивал телохранитель Муслим. И был он не в настроении. Только что Муслим выхватил изрядный нагоняй за то, что случайно, на несколько минут оставил на кухонном столе свою «беретту», всего-то хотел перетянуть кобуру подмышкой, дабы не натирала, и до колик перепугал Раису Архиповну. Дружников высказался и пригрозил оружие вовсе отобрать, все равно нужды в нем нет никакой. Муслиму же было обидно. Сейчас нет нужды, а вдруг появится, да будет поздно. С оружием расставаться нельзя, и в охранной школе так учили, Муслим об этом даже заносил в тетрадку для письменных заданий. Эх, кабы ему выпал случай и шефа защитить и себя показать, тогда бы и дурацкие придирки прекратились.
Тут, как по волшебству, случай выпал. Всегда безмолвно закрытая, коричневая обшарпанная дверь напротив с мерзейшим скрипом распахнулась, и на тренированный взгляд Муслима распахнулась слишком резко и быстро. Из темного, пахнущего коммунальной прелью проема шагнул некто с неопознанным, громоздким предметом в левой руке. «Покушение! Бомба!», – обрадовано и стремительно заключил Муслим. Сразу же, с одного движения, он выхватил заветную «беретту» и наставил ее дверному субъекту прямо в лоб.
Бедный Макарыч, уже выходящий на лестничную клетку с заранее отрепетированной дружелюбной улыбкой, внезапно увидал перед собой совершенно зверскую, радостно оскаленную физиономию, и черное, зияющее пустотой дуло того самого предмета, который Макарыч не лицезрел со времен войны. Макарыч от неожиданности выронил ведро, оно тут же грохнулось о плиточный пол и покатилось с великим шумом, сделал шаг назад, споткнулся о порожек, и полетел кувырком навзничь, через рассыпавшийся мусор. Уже в падении он услыхал громовой раскат, на лицо ему посыпалась с небес штукатурка, и любознательный пенсионер потерял сознание, ударившись головой о край собственного же эмалированного ведра.
– Попал, попал! – завопил во весь голос Муслим, все еще держа пистолет наготове и одновременно прикрывая собой Дружникова и Вальку. – В киллера с бомбой! Попал!
Из квартиры напротив доносились детские крики, и высокий бабий голос внезапно завизжал:
– Убили! Макарыча убили! Ой, люди добрые!
Дружников отстранил плечом сияющего довольством Муслима.
– Какой еще киллер? Идиот! – закричал он страшным голосом на телохранителя. Вместе с Валькой бросился внутрь соседской квартиры.
Макарыч без чувств лежал на полу, над ним выла расхристанная баба в ситцевом, линялом халате. Пенсионер был жив, пуля из «беретты», срикошетив о чугунную детскую ванночку, висящую в коридоре, ушла в потолок. Кое-как Макарыча откачали. Камердинер Тихон уже скоренько собирал мусорную кучу обратно в ведро, Раиса Архиповна, выскочившая на шум, принесла стакан коньяку и шоколадку. Не случись рядом Вальки, Дружников бы сунул соседям пару сотен баксов за беспокойство и ушел, предоставив женщинам самим утрясать последствия безобразий Муслима. Но при Вальке это было немыслимо. И Дружникову пришлось битых полчаса стоять на коленях рядом со стариком, путано извиняться, поддерживая тому голову, пока мать и Валька вливали в Макарыча маленькими порциями его, Дружникова, собственный коньяк, невозможно какой цены. Сам Макарыч получил, что хотел: он был в центре внимания, и миллионер-сосед собственноручно поил его вкуснейшим алкогольным напитком, какого Макарыч не пробовал в жизни. В эти минуты Макарыч мог говорить, что угодно и как угодно долго, его бы слушали. Но к словесному общению Макарыч отчего-то более не чувствовал никакой охоты, и к дальнейшему знакомству с соседом тоже. Он допил коньяк, растерянно-машинально взял какие-то зеленые бумажки, пролепетал, что с ним все в порядке, и вздохнул с облегчением, когда за соседом и его свитой, наконец, захлопнулась входная дверь.
После этого происшествия Муслим был временно отстранен от обязанностей, пистолет у него, естественно, отобрали. Поэтому и в Мухогорск отважный Муслим не отъехал, остался в распоряжении полковника Быковца, помогать налаживать дисциплину в кадрах.
Валька, Дружников и с ними Иванушка, будто три богатыря, отправились в Мухогорск одни. Переговоры с Гусочкиным прошли как должно, уже и дата собрания акционеров была назначена. Иванушка документацией остался доволен, лишний день задерживаться в Мухогорске не имело смыла. С утра поехали в Каляев, к самолету. Местный начальник ГУВД, полковник Рогульков, человек разумный и во многих смыслах положительный, предоставил ведомственную машину, ГАЗик с мигалкой, и степенного водителя Сергея Михайловича в сержантских погонах. От большей охраны Валька и Дружников отказались, а Рогульков не настаивал. «Дедок» в последние дни был тих и низок, как полегшая трава, да и нападение на московских эмиссаров уже не сыграло бы никакой роли. После того, как договоренности по всем вопросам состоялись окончательно, даже внезапная смерть московских гостей ничего бы не решила. На их место назначили бы других, и только.
Так, в ГАЗике ехало четверо. Трое москвичей и местный милиционер. Все относительно довольные собой и друг другом. За исключением, быть может, Дружникова. Олега Дмитриевича уже несколько недель точила ржа. Вот он, Генеральный директор и владелец, точнее СОвладелец фирмы, покупает целый завод и ему твердо обещано, что на том заводе он тоже будет Генеральным директором. Да что толку! От своих целей и мечтаний он далек так же, как и, скажем, год назад. По сути, завод, и деньги завода, и для завода есть и будут вовсе не его. Основной капитал и доля принадлежат все тем же дяде и племяннику Беляевым и иже с ними, а ему остается лишь три места в правлении и ничего не решающие пятнадцать процентов акций, которые предстоит отрабатывать. Да и взяли его Беляевы, скорее, как мальчика на побегушках, чем как серьезного партнера, чуть что не так, сразу скажут «цыц!», и в любую минуту могут изгнать совсем. Конечно, ничего подобного не случится, пока с ним Валька. Но вот, опять же, Валька! Сколько и как долго будет от него зависеть Дружников, и когда окрепнет проклятая паутина ведь неизвестно? Вот и выходит, что обложили его со всех сторон, и без Вальки и долларовых тонн от Беляевых сам он, Дружников Олег Дмитриевич по-прежнему полный ноль. Но ничего, он терпелив, и он еще всем покажет, лишь дайте срок. Таково думал Дружников, а ГАЗик глотал пыль и километры трассы до областного Каляева… Когда два выскочивших наперерез джипа преградили им дорогу. Еще один тут же выехал из-за боковых кустов и стал сзади, отрезав отступление.
Алик Диденко, «дед», очень скоро понял, что проиграл, и сытный кусок ему не удержать. Но не способный мыслить достаточно масштабно, во всем винил залетных москвичей, а не естественный ход исторических событий, и потому, перед отбытием в иные российские дали, решил напоследок оглушительно хлопнуть дверью. Да, смерть эмиссаров ничего Алику не давала, кроме ненужного, бессмысленного шума и возможно, пристального милицейского розыска. Но зато своей запоздалой местью он заработал бы дополнительное уважение внучков, так необходимое при смене места, а заодно избавился бы от чувства гложущей его отчаянной ненависти к сволочным, столичным хищниками. И Алик вышел на большую дорогу. Отомстить или умереть. Хотя последнее едва ли. Четверо с одним стволом против двух десятков до зубов вооруженных головорезов совсем неравное пари.
Из машины Вальке, Дружникову и сержанту с Иванушкой пришлось выйти самим. Иначе бы их просто унизительно выволокли наружу. Затем ребят тычками поставили у ГАЗика, спиной к машине. Бандиты всем скопом, ухмыляясь, разминались напротив. В джипах никто не остался. Внучкам хотелось посмотреть на предсмертную потеху, да и куда бы москвичи делись? Бежать по дороге глупо. Из автоматов срежут влет. Сержант и вовсе не противник, даже ствол не достал, стережется. И правильно, будет молодцом, отпустят. Нечего излишне ссориться с Рогульковым.
Валька, Дружников и Иванушка стояли очень тихо. Уже по одним безжалостным ухмылкам бандитов Валька понял, что живы они временно, видимо «дед» хочет поквитаться еще и на словах. Но как только он это сделает, все они уничтожены будут незамедлительно. И Вальку захлестнул первобытный ужас. До такой степени, что он растерял все мысли, кроме одной: любой ценой спастись. Как угодно, лишь бы жить! Валька чуть не заплакал от отчаяния, но все же сдержался, еле-еле. Думать, думать и побыстрее! Пожелать удачи? О да, и таким образом он спасет Олега. Но единственно его. А как же Валька? Его, Валькина удача не распространяется на самого себя. Олег выживет, это хорошо. Но ничуть не легче, от того, что Дружников останется, а он ляжет в землю. Он тоже хочет остаться, он, Валька, тоже хочет жить, и все равно как. Как? Господи, как? «А стена? – подсказал изнутри кто-то другой, – ведь есть стена, беги к ней, она спасет!». И в самом деле. Хорошо это или плохо, Вальке было наплевать. Стена спасет, остальное не имело значения. «Дедок» тем временем что-то говорил, а внучки отвели их и поставили в ряд у обочины, и тоже смеялись и говорили что-то издевательское. Но Валька их не слышал. Он сосредотачивался. Как и прежде, когда в секунду собирался с мыслями для пожеланий удачи Дружникову, так же теперь вмиг сжался в своей ненависти к убийцам.
Стена была там, где и всегда. Темная, холодная, но в этот раз почти не страшная. Проходить ее медленно не хватало времени, и Валька бросился напролом, сквозь ослепительную боль. Воющий, черный смерч встретил его чуть ли не дружелюбно, словно спрашивал: «Чего изволите?», и Валька закричал ему в пустоту:
– Убей их здесь всех! Всю эту мразь, этих подонков с «пушками» и автоматами, спаси меня! Спаси нас! Сейчас, немедленно! Ну, пожалуйста!
Вихрь загудел черной полнотой, но тоже достаточно миролюбиво, и как-то удовлетворенно. Потом оттянулся назад, словно намекая, что Вальке пора уходить, и не мешать ему, вихрю, работать, делать свое «черное» дело.
Валька выдавил, выпихнул себя за стену. Боль была просто оглушительной, она ослепляла, становясь с каждым мгновением все сильней. Но вовне происходили дела. Валька вместе с Дружниковым и Иванушкой все так же стояли у обочины. Хотя Валька никого из них не видел. Сквозь боль он смотрел вперед. А впереди были все те же братки с автоматами. Нацеленными на него, Вальку. Сейчас прозвучит команда и конец. Ну, где же, где вихрь?
Внучки расположились в достаточном отдалении, все два десятка. Несколько в шеренге с поднятым оружием, остальные позади сбились в любопытствующую кучу. Рядом с ними, сбоку стояли два головных джипа, чуть в стороне и третий, подогнанный из арьергарда. Неподалеку, изображая безучастный вид, отирался бравый сержант Сергей Михайлович. На приговоренных он не смотрел.
И тут. Тут небо, дневное и светлое, рассекла стремительная огненная полоса, яркая даже в солнечном луче. Вместе с нею возник тонкий свист, пронзительный и приближающийся со страшной скоростью. Братки подняли головы, посмотреть на сияющее небесное явление, еще не понимая происходящего. И вдруг свистящее и летящее огненное нечто ударило в дальний джип, прямо в бензобак. В ту же секунду, раздался страшный грохот и взрыв, за ним еще два и еще один. На воздух взлетели и все три бандитских авто и милицейский ГАЗик, брошенный поблизости. Вскоре в пламени затрещали хлопками взрывающиеся патроны, перекрывая жуткие, предсмертные крики заживо горевших, раненных людей.
Еще в тот самый момент, когда свистящая огненная стрела ударила в первую жертву, Валька, преодолев безумную боль, толкнул Иванушку и Дружникова в придорожную канаву, у которой построил их «дед», и сам рухнул с насыпи следом за ними. Боль сделалась невыносимой и скорчила его в дугу.
Через некоторое время, когда огонь утих, на дорогу выбрались Дружников с Иванушкой, затем кое-как вытащили Вальку, усадили кривобоко на черный от сажи асфальт. Дружников обошел пожарище. Кругом никого живых не было, только части обгорелых и разорванных трупов.
– Вот это да! – странным, ошалевшим голосом протяжно сказал Дружников. – Что это было, а? Метеорит, что ли? Чудеса.
Валька, обеими руками державшийся за гудящую пронзительной болью голову, все же ответил:
– Это не чудеса. Это я. Понимаешь, это я! И скоро мне будет плохо совсем. Прости.
Валька больше не мог говорить, от муки его стошнило, и он беспомощно повалился в горелую пыль. Но Дружников и без того все понял. Понял и ужаснулся. Никогда он не видел прежде ту, другую силу, в действии, лишь слышал о ней. Ныне же узрел ее мощь собственными глазами и содрогнулся, и обрадовался, что он, слава неизвестно какому богу, этой силе недоступен. А Валька пусть будет рядом, человек, который может ТАКОЕ, пусть пока будет рядом, он, Дружников сетовать не станет.
– О чем это он? – раздался подле него голос до самых печенок перепуганного, серого лицом Иванушки. – В каком смысле, это он? Вилим Александрович ведь не мог…?
– Конечно, не мог, – немного резко оборвал его Дружников. – Видишь, ему плохо. Наверно, контузило взрывной волной. Давай-ка его поднимем.
– Прямо апокалипсис какой-то, – все так же испуганно сказал Иванушка, одновременно с ужасом и отвращением обозревая черные, оплывшие от жара автомобильные останки и горелые куски человеческой плоти.
– Ладно, ладно, возьми себя в руки! – прикрикнул на него Дружников, сжимавший в объятиях беспомощного, стонущего Вальку. – Нам выбираться надо отсюда. А Вальку надо в больницу… Черт, и как назло на дороге ну ни одной машины! – Дружников в сердцах выругался матерно и длинно.
Уровень 25. Жизнь взаймы
Валька болел долго. Без малого месяц. Лежал он не в больнице, а дома, на Комсомольском проспекте. Над ним хлопотали мама и беспокойный Барсуков, подробностей Валька им не сообщил и другим запретил распространяться на эту тему. Произошла авария и довольно. От врачебной помощи Валька тоже отказался, еще по дороге в Каляев объяснив через силу Дружникову, что это бесполезно.
Дружников, когда был в Москве, навещал его ежедневно, то и дело звонила Аня, и дважды заходила, преодолев явную неблагожелательность со стороны Людмилы Ростиславовны. Зачастил к ложу страждущего и Зуля, ему Валька ничего пересказывать не стал, Матвеев и не имел в том нужды. Сразу дал понять, что знает, в чем дело, подробности он слышал, об остальном догадался сам. Вид у Матвеева был скорбный и сочувствующий, но для Вальки необременительный. Все же хорошо, что есть на свете человек, который ведает о твоих тайных делах, но лично не имеет к ним ровно никакого отношения. Кроме того, Матвеев как бы случайно обмолвился в разговоре, что Валька, на его взгляд, поступил единственно правильно. Но, уже выздоравливая, основные беседы Валька вел совсем не с ним, а с Дружниковым.
Тот чувствовал – Вальку гложет некий червь, ищущий выхода, и охотно помогал червю выбраться наружу. К тому же Дружникову было и любопытно и важно собрать как можно больше сокровенных знаний о своем дорогом и опасном друге.
Пока Валька мучительно долго приходил в себя, заседание совета директоров на заводе уже прошло. «Дом будущего» получил обещанные три места, но из-за Валькиного вынужденного отсутствия, в совет его избрать заочно не смогли. Так, кроме Дружникова, временно в правление вошли господа Каркуша и Квитницкий. Но Дружников клятвенно заверил Вальку, что весьма скоро он, как новый генеральный, Вальку введет в совет. Валька лишь отмахнулся, проворчав, что все это его волнует мало.
– Ну, не скажи. Пара мест в совете нам бы не помешала. И хорошо бы акций выкупить побольше, хотя бы блокирующий пакет. Вот поправишься, тогда займемся вместе, – определил свои будущие планы Дружников.
– Скорей бы, – вздохнул Валька, – в этот раз что-то особенно больно и тяжело.
– А раньше как было? – осторожно поинтересовался Дружников.
– Раньше? Тоже приходилось несладко. Да ведь стену-то я никогда еще так резко не проходил. Может, поэтому мне настолько плохо. Смешно, но раскаяния я почти не чувствую, хотя и должен.
– Брось, какое там раскаяние. Между прочим, спасибо, ты мне жизнь спас. И от Каркуши спасибо. Хотя он, само собой, не знает, кому обязан. Но, думаю, если б знал, то тоже бы благодарил.
Они немного помолчали. Потом Дружников сказал, уже о другом:
– Знаешь, это и в самом деле был метеорит. Все кругом считают, нам неслыханно повезло. Одни шанс из миллиарда. А мента-то ты за что угробил? Он, конечно, ссыкливый козел, но все же…
– Это не совсем я. Видишь ли, черный вихрь, он действует самостоятельно, хотя и в рамках. Я ведь уже рассказывал: он намеренно старается захватить и погубить как можно больше живого. Просто попросить обезвредить их я не мог. Стену возможно пройти только со смертоубийственными пожеланиями. И никаких полумер. А тот сержант? Я, знаешь ли, просил уничтожить «подонков с оружием». Не уточняя. Сам понимаешь, времени не было. Вот вихрь и исполнил все нарочно и буквально. У сержанта был пистолет…И все мы в чем-то подонки.
– Тогда понятно. Значит, если бы у нас было оружие…
– Если бы у Каркуши было оружие! – перебил его Валька. – Я же объяснял уже, что лично ты никаким вихрям не доступен. Ты можешь пострадать только в естественном ходе событий, но и тут тебя прикрывает твоя паутина удачи. И, насколько могу, я. Пока паутина не окрепнет совсем, а дальше ты все сможешь и без меня. Да ты и сам знаешь.
– Без тебя мне ничего не нужно, – на всякий случай патетично возразил Дружников. – Но вдруг бы вихрь уничтожил и тебя?
– Этого я точно знать не могу. Но, думаю, что нет. Видишь ли, ему это невыгодно. Лишь я могу выпустить его на волю. Так зачем рубить сук, на котором сидишь?
Они еще обсудили многое. Дружников описывал Вальке торжество в заводоуправлении Мухогорска по поводу выборов и его собственного назначения Генеральным директором ГОКа, кто приезжал, да что говорил. Рассказал, что мероприятие посетил и Вербицкий, но положение свое не афишировал, однако, с Беляевыми он каким-то образом связан и даже очень. Сам же Геннадий Петрович как тайный и основной пайщик одного из крупнейших сталелитейных заводов в области теперь, можно сказать, им сосед. И по-соседски же советует Дружникову и Вальке первым делом организовать выборы мэра Мухогорска, чтобы посадить в кресло городничего непременно своего конфидента. Он, Дружников, уже и человечка присмотрел. Некоего Извозчикова Аскольда Вадимовича, отставного подполковника армейского спецназа, народного героя не у дел, не особо мозговитого, но, к счастью, сильно пьющего. Правда, с выборами спешки нет, вот поправится Валька, только тогда, чтоб излишне не тратиться на подкуп и устранение конкурентов.
– Дел невпроворот. Мотаюсь, как стекляшка в калейдоскопе. От Мухогорска до Москвы и обратно. Кажется, кругом одни самолеты и аэровокзалы, а больше и нету ничего. Как у Райкина: сел, встал, Новый Год, – устало жаловался Вальке похудевший и еще более пострашневший от недосыпания Дружников. – Да ты лежи, лежи, я не в том смысле. И вообще, в следующую пятницу рано утречком мы с тобой улетаем в Милан, врач разрешил. Я уж и визы получил.
– Зачем это? – удивился Валька и сел в кровати.
– Зачем, зачем. Затем! Для поправки здоровья. Ты когда-нибудь на горных лыжах катался? Нет? Вот и я нет. От Милана на машине доедем до Кортина-д'Ампеццо, курорт такой в Альпах, там и отдохнем. Я с тобой, правда, лишь до понедельника побуду, и назад. А твой тур на две недели оплачен, хочешь, катайся, хочешь, так ходи. Смотри на горы, воздухом дыши.
– Да у меня и лыж-то нет. Ни горных, никаких. Старые, школьные, мама давно на свалку снесла, – посетовал с сожалением Валька.
– Дурья башка, там все напрокат дают. И лыжи, и ботинки. А не желаешь напрокат, так там и магазины есть. Не то, что в Москве. Захочешь, купишь лыжи, а захочешь – санки. Хоть вертолет. Европа-а, – заключил Дружников с протяжным уважением.
В Кортина и в самом деле поехали. Вальке было досадно только, что с ними нет Ани, но он и понимал, что лететь на пару дней для Валькиного устройства ей бессмысленно, а оставаться на две недели никак невозможно, пускай из лучших побуждений. Она ведь давно не его девушка.
В горах Вальке сразу понравилось. За границей до сих пор он ни разу не был. Даже на пресловутый Кипр не удосужился выбраться. И теперь предавался новым для себя впечатлениям. На Альпы Валька взирал с восторгом, на иностранцев с любопытством.
Лыжи и впрямь давали напрокат и какие угодно. Хоть самые престижные и дорогие марки. Зато пришлось прикупить очки, комбинезоны и куртки. Но и покупки были Вальке в удовольствие. До сих пор он, мало сознававший свое материальное благополучие, не очень-то и представлял насколько оно велико. А оказывается он, Валька, может купить, не задумываясь все, что угодно, даже на дорогостоящем, европейском курорте. И Вальке, как обычно, от собственного достатка стало стыдно. Но тут же он вспомнил, что они с Дружниковым почти достигли своей цели и вот-вот начнут благодетельствовать стране и населению хотя бы в возможностях Мухогорского завода, и Валька очень скоро отработает все, что сверх меры истратит на собственную персону.
Для начала Валька и Дружников решили попробовать себя на самых начальных, «зеленых» спусках. Но и на них было страшно, если и просто смотреть сверху. К тому же Дружников на горных лыжах «стоять» не умел совершенно. Да и Валька, катавшийся до того лишь на низеньких холмах северного Подмосковья, чувствовал себя неуверенно. Пришлось нанять инструктора. Улыбчивый, загорелый до черноты, патлатый француз Эжен часа два тренировал их на относительно ровных местах, прежде чем допустить к примитивным трассам, да и то под личным наблюдением.
Но и тут Валька и Дружников, неуклюже соскочив с подъемника, замешкались. Глядя на неестественно крутую горушку, нехорошим поворотом уходившую в бок, Дружников процедил сквозь зубы:
– Слушай, Валь, оно нам надо? У нас фирма, у нас люди. Может, ну его? Да и пойдем отсюда?
– Ты не бойся, – успокаивающе ответил ему Валька, хотя у него самого и растекался скверный холод внизу живота, – с тобой ничего не случится. Я же рядом. Потом, неудобно, что о нас Эжен подумает? Русские, а трусят.
– Ну, да. Со мной не случится. Это, конечно. А если с тобой случится? – недовольно проворчал Дружников, и понял, что слова его были зря.
Валька тут же сник, как сбитый из рогатки надувной шарик. Каверзная память немедленно расплескала перед ним картины Мухогорской метеоритной бойни, когда он, ополоумевший от ужаса, сбежал за стену и умолял там, страшно сказать, об убийстве пусть и скверных, но все же, живых людей. Конечно, «дедок» с внучками предопределили ему, Дружникову и Иванушке лютую смерть, и выбора у Вальки не было. Или, все-таки был? Внезапно ему вспомнились предсмертные слова папы Булавинова: «смотри, выбрать всегда можно и в другую сторону». Но в том, другом варианте, Вальке светили лишь погребальная яма и краткий некролог, а не лыжный курорт с личным инструктором. Покойные внучки тоже сделали свой выбор – стрелять в него. Дружников прав, прав и Зуля, все он сделал как надо и не в чем тут раскаиваться. Но вот ведь, он, Валька, стоит здесь, на альпийской горе и готов радоваться жизни, а два десятка человек, плевать, что виновных и плохих, радоваться не будут уже ничему и никогда. И не Зуля, не Каркуша, и не Дружников со всей их справедливостью, а он, Валька, их убил.
Валька, даже и захоти он сейчас, все равно не смог бы выехать на спуск. Он ничего не видел, глаза его заливали нервные, непрошенные слезы, лицо страдальчески и жалко, по-стариковски корчилось. Дружников увидел и, отбросив палки, неловко кинулся к нему. Оба они запутались в лыжных полозьях, в обнимку упали на утрамбованный, гладкий, как стекло, снег.
– Ты что? Что ты? Не надо, а, Валь? – с беспомощной растерянностью пытался утешить Дружников. Вальку он обнял в обхват, как меньшего брата, а тот не сопротивлялся, откинул голову Дружникову на плечо, и все равно плакал.
– Павел Миронович ведь предупреждал. А я позабыл, – непонятно для Дружникова сквозь слезы и короткие, со спазмом, всхлипы пожаловался Валька.
– Какой Павел Миронович? – испуганно спросил Дружников, подозревая его в помрачении рассудка.
– Анин папа. Знаешь, я вот только что подумал, что я и его сгубил. Тогда в больнице. Я рассказал ему о стене и обо всем остальном тоже рассказал. И Павел Миронович сразу как-то успокоился, ему было уже не страшно умирать. Он перестал бороться, понимаешь? Перестал бороться, потому что перестал бояться. И умер на следующий день, – все это Валька сказал отрывисто и быстро, но Дружников уловил смысл.
– Валь, но он бы умер все равно. Ведь так? Разве что, немного позже, – слабо возразил Дружников и, пытаясь развернуть Вальку к себе лицом, с силой дернулся. От рывка одна лыжа отстегнулась, он высвободил ногу, попробовал встать и поднять Вальку.
– Может быть, умер, а может быть, нет. Случаются порой на свете медицинские чудеса. Главное – не сдаваться, – Валька всхлипнул и стукнул головой Дружникову в грудь. Отчего оба снова упали на снег.
На помощь им пришел инструктор Эжен. Но не сразу, немного погодя. Честно говоря, Эжену не очень хотелось встревать в интимную сцену, разыгравшуюся на его глазах, и оттого он некоторое время выжидал. К тому же инструктор испытывал законное любопытство. Русских на лыжных курортах он встречал редко, да и то лишь в последние годы. До этого их в Альпах не было вовсе. Теперь же из-за рухнувшего железного занавеса стали возникать изредка небольшими группками очень богатые и очень дурно воспитанные бизнесмены из России, в основном в сопровождении захватывающего вида девиц. Подобную же славную «голубую» парочку из строгой нравами Страны Советов Эжен наблюдал впервые. И русские геи ему очень пришлись по душе. Эжен и сам был геем, хотя не считал нужным подчеркивать свою ориентацию нарочитым поведением или рядиться в псевдоженские одежды. Но эта парочка была даже слишком хороша. Не понимая смысла разыгравшейся перед ним сцены, Эжен все же почувствовал, что тронут и умилен, и догадался – слезы тут не от ревности. Когда инструктор еще в начале знакомства кинул первый взгляд на Дружникова, то с чисто личным интересом подумал: с этим обезьяноподобным детиной он не согласился бы иметь дело и за миллион франков. Но теперь, наблюдая, как рыжий громила по-матерински, с неподдельной тревогой утешает своего более хрупкого и нежного «друга», Эжен переменил свое мнение. Вот это страсть, да! Эжену так в жизни не повезло, и настоящей любви он не встретил. Инструктору одновременно стало завидно, но и тепло на сердце. Он воочию удостоился созерцать божье чудо, подлинное чувство, в котором молва и жизненный опыт отказывали таким как Эжен. А вот же, есть она, «голубая» мечта! И значит, есть надежда для Эжена найти свое счастье.
Когда же через два дня рыжему здоровяку пришла пора уезжать, он на жутком, ломаном английском обратился с просьбой к инструктору присмотреть за своим «другом», который, как понял Эжен, был не совсем здоров. И сунул в руки французу целых две тысячи долларов. Эжен пообещал и деньги взял, не только из корысти, а еще потому, что знал: нельзя становиться на пути у щедрости, идущей от любящего сердца. Оставшийся на его попечении молодой человек был Эжену симпатичен, хотя и не являл собой эталона мужской красы, но Эжен вел себя исключительно корректно. Тренировал русского на спусках, тот оказался способным и делал изрядные успехи, вечером сопровождал в бары и пару раз сводил на лучшую местную дискотеку. Ни в коем случае не приставал, только изредка позволял себе принятые в их кругу вольности, брал русского за руку и иногда ласково поглаживал по плечу. Конечно, Эжен не отказался бы и сам иметь такого «друга», милого, молодого и весьма состоятельного, но великая любовь дело святое, и не его, Эжена, право становиться у нее на пути.
Валька, само собой, о заблуждениях Эжена не догадывался. А «вольности» со стороны инструктора принимал как должное. Ну, просто иностранцы, наверное, французы в особенности, такие вот общительные люди и у них это принято, и тоже приветливо улыбался и дружески хлопал Эжена по плечу. Разговаривали между собой инструктор и его подопечный более жестами, чем словами, да и общий, доступный лингвистический запас у обоих был очень ограничен. Оттого Валька и его французский опекун оставались в счастливом неведении относительно собственных ложных выводов. Отдых в горах действительно пошел Вальке на пользу. Нравственных сомнений поездка не разрешила, но Валка смог о них позабыть, наслаждаясь увлекательным горнолыжным спортом и новизной обстановки. Заграница и француз-инструктор, и смешанная курортная публика, и итальянская кухня Вальке определенно нравились. Дружников постоянно звонил в отель, осведомлялся о Валькином самочувствии и настроении. И Валька честно рапортовал ему, что все хорошо.
Олег Дмитриевич опять стоял на перепутье, и опять из-за Вальки. Уже в горах он почуял неладное. Когда у «дорогого друга» случился нервный срыв и отчасти по его вине, он с тревогой осознал, что беспокойство за Вальку выходит за рамки обычной игры. Дружников сопереживал и сострадал тогда искренне и неподдельно. И это было плохо. Это было очень плохо. Потому, что означало: его притворные чувства переходят в реальное измерение. Валька наяву выходит ему мил и дорог, врастая в его собственное «я». Из этого с неизбежностью следовало, что, когда придет срок, Дружникову может не хватить сил убрать Вальку от себя. Тогда ему придется стать таким, как Валька, потому, что Валька конечно же не сможет и не захочет стать таким, как Дружников. А это значило отказ от всего. От власти, от огромных денег лично для себя, от непомерного тщеславия и тайных амбиций, от того, что было для Дружникова благом из благ. За этим он пришел в мир, и без этого он не уйдет. Тогда Дружников решил вырвать незаконное чувство с корнем, пока оно еще не проросло его насквозь. К тому же Дружников устал. Чрезмерное, многолетнее притворство требовало немалых сил, бесконечная игра в благородство уже утомила его, не изменив его природной сущности. И более всего Дружникова злили долги, за которые он не мог расплатиться. Он брал у Вальки, он зависел от него, а Валька даже этого не подозревал. «Дорогой друг» был чистосердечно убежден, что рядом с ним находится преданный товарищ и соратник в его бредовых идеях по улучшению мирового устройства и государственного совершенствования. А Дружникову наплевать на мировое устройство, оно и так ему подходит вполне, вот от мирового господства он бы не отказался. Но об этом и заикаться нельзя. И вообще, у каждого свой путь.
Поэтому Дружников постановил, что их с Валькой дорожки по возможности скорее должны разойтись. Хватит с него детских игр, он тоже имеет право жить так, как хочет. Как только окрепнет проклятая паутина. Дружников то и дело пробовал ее на прочность, пытался по пустякам желать сам, пока ничего не выходило. Но как только это произойдет, как только заработает его личный «вечный двигатель», он сбросит ярмо, которое сам же на себя и надел. Наверное, это произойдет уже скоро, ибо он, Дружников, выкачал из Вальки столько энергий удачи, что можно было открывать вторую Саяно-Шушенскую ГЭС. А пока друг загорает на альпийских курортах, он, Дружников, сделает себе некоторое послабление и тоже немного отдохнет на свой лад.
Сообщение настигло Вальку как внезапно обрушившаяся с гор снежная лавина. Глубокой ночью его поднял с постели звонок. Валька, еще только беря трубку, знал, что стряслось нечто скверное. Иначе, зачем бы кто-то стал его будить. Любые обычные новости терпели до утра, к тому же Валька отбывал послезавтра в Москву и обо всех интересных событиях узнал бы на месте. Значит, событие, из-за которого прозвучал звонок, не было интересным. Оно было плохим.
Звонил камердинер Тихон и звонил из квартиры Дружникова. Валькин номер он отыскал в бумагах хозяина, отрывисто и слегка шепелявя, оправдывался Тихон в трубку. Но дело не терпит отлагательств.
– Тиша, ты не части, говори медленнее, – успокаивающе сказал Валька в телефон. – Что случилось-то?
– Это, тово, Дмитрич в больнице. В ринимации, – коряво и с надрывом поведал ему Тихон.
– Что? Как? В него стреляли? – закричал первое, что пришло в голову Валька.
– Не-а, – тоскливо ответила трубка, и слышно было, как на том конце провода Тихон с силой втянул в себя соплю. – В аварии разбился. Несильно, только руку сломал. Да там чеченцы были.
– Где? Какие еще чеченцы? Да говори ты толком, не гунди! – прикрикнул на Тихона ошеломленный Валька.
– Дык, какие? Обныкновенные. На «мерседесе». Три штуки. Зуб выбили и сотрясение мозга Дмитричу сделали. Вы приехайте, а? Кто с ими разбираться здеся будет? Дмитрича нескоро выпустят, у него рука сломатая и еще рентген башки. Он думать из больницы не сможет.
– Постой, Тихон. Почему это Олег с сотрясением и в реанимации? Что с ним на самом деле, немедленно отвечай! – строго, с нажимом, приказал Валька.
– Да то не он. В ринимации. Он в палате, – осторожно ответил Тихон, и Валька понял, что камердинер чего-то не договаривает. Но бог с ним, главное, Олег жив и ничего страшнее сотрясения ему не грозит. А сотрясение и руку Валька поправит. Заживет как на собаке.
– Але? Але? – заныла у его уха трубка, возвращая Вальку в разговор. – Вилим Саныч, так вы ехаете? Вилим Саны-ыч?
– Еду. Конечно, еду. Завтрашним рейсом, кровь из носу! Ты, Тихон, скажи моему Косте, пусть встретит в порту. И не ной. Все будет в порядке, – пообещал ему Валька.
Хотя, что именно будет в порядке и в каком, он не знал, потому что из сумбурного, полуграмотного донесения камердинера Тихона ни фига не понял. Но то, что ему, Вальке, предстоит веселенькая ночка, было уже ясно и определено.
Уровень 26. По семейным обстоятельствам
Костя, как и положено примерному личному водителю, дожидался Вальку у таможенного выхода зала прилета Шереметево-2. Мял в руках кашемировую кепку с ушами, нервно выглядывал хозяина в толпе пассажиров. Увидел шефа, подбежал, отобрал из рук багаж. Поздоровался, спросил о самочувствии, но в глаза отчего-то не смотрел.
Уже сидя в «Волге» и наблюдая грязный, бесснежный, ноябрьский пригородный пейзаж, Валька, наконец, обратил внимание на необычное поведение водителя. Костя, который никогда не держал рот закрытым, неважно, рулил он в хорошем настроении, или в плохом, в этот раз был неестественно молчалив. Из этого Валька сделал вывод: Костя что-то знает о событиях, заставивших его спешно вылететь в Москву раньше срока. По телефону ничего толкового выяснить не удалось. До Каркуши и Семена Адамовича дозвониться Валька не смог. Быковец же от комментариев на расстоянии уклонился. Заверил Вальку, что угрозы для жизни Дружникова нет никакой, однако, просил приехать насколько возможно быстрее.
Валька, в надежде прояснить тревожную ситуацию, решился расспросить Костю. Его водитель, хоть и балабол, но мышление имел адекватное и трезвое. К тому же, как и положено хорошему «персональщику», наверняка, был в курсе всех существующих на фирме новостей и сплетен. И Валька обратился к нему с вопросом:
– Костя, что у вас случилось без меня? Только если не знаешь точно, лучше не отвечай.
– Как же, не знаю. А кто, по-вашему, Быковца на ДТП возил? Я все знаю.
– Расскажи, пожалуйста, – вежливо и осторожно попросил Валька.
И Костя рассказал. Историю дикую и неправдоподобную.
В тот вечер, по словам Кости, Дружников взял свой БМВ и сам сел за руль. Водитель он был еще тот, а попросту говоря, аховый. Но с начальством не поспоришь. Около полуночи, направляясь из отеля «Олимпик-Пента», кажется, в клуб «Московский», не справился с управлением и на площади у Белорусского вокзала врезался в бок стартовавшего со светофора «мерседеса». Скорость была достаточно велика, обе машины пострадали довольно сильно. У БМВ смяло в кашу капот, вылетело от удара лобовое стекло. Подушки сработали, но правая, к несчастью, с некоторым опозданием.
– Разве с Олегом Дмитриевичем еще кто-то был? – заранее холодея, спросил Валька. И не в силах сдержаться, выкрикнул:
– Аня? Это Аня?.. То есть, Булавинова Анна Павловна, она ехала с ним?.. Я, видишь ли, дурак такой, ей не звонил. Боялся беспокоить, вдруг она не знает, – уже тише сказал Валька, видя, что Костя изо всех сил отрицательно мотает головой.
– Не она, – коротко ответил Костя и далее распространяться на эту тему не пожелал, стал рассказывать о другом:
– Там, в «мерине» трое «чехов» ехали. Ну, вы их знаете, народ горячий. Одного ихнего сильно от удара покалечило. В общем, накостыляли нашему Генеральному по первое число. Он и отрубился. А «чехи» в машину заглянули, ну и струхнули не на шутку. Кинулись в «скорую» звонить, думали труп.
– Чей труп? – спросил не своим голосом Валька.
– Да нет. Трупа не было. Это они так думали. Ну, скоро и гаишники подлетели, Тверская все же, сами понимаете. Олег Дмитрич немного очухался, дал ментам денег, те Быковца вызвали. Олега Дмитрича на Мичуринский проспект в «президентскую» клинику отправили, а «чехи» наезжать стали, они не простые какие-то. Быковец с ними до сих пор разбирается, да что-то без особого толка. У него выходов на вашу «крышу» нету, а Олег Дмитрич ему не помощник. Его так по репе приложили, что он, говорят, глаз открыть не может, лежит, стонет. Вот и вызвали вас.
– Ну, чеченцы не проблема. Чеченцы, это ладно, – сказал Валька как бы самому себе. Он уже понял, кому и как надо звонить. Лучше всего прямо Гене Вербицкому, – что со вторым… телом? Костя, раз уж сказал «а», говори и «б». Кто еще был с Олегом в машине?
– Да так, – замялся мал-мало Костя, но, видно, охота показать свою осведомленность взяла верх, – так, никто особенный. Вы группу «Барашки» знаете?
– Чего? Какие еще «Барашки»? – Валька ожидал, что угодно, но только не подобную нелепость. – Банковскую ассоциацию? Или финансовую пирамиду? Может, это промышленная группа? Название дурацкое. Первый раз слышу.
– Да какая там ассоциация! – непритворно рассмеялся Костя над вопиющей безграмотностью шефа. – Группа эстрадная. Шесть телок в белой, лаковой коже. И сиськи до пупа. Поют: «Милый мой, бог с тобой. Я приду, поцелую и уйду».
– А-а! Нет, не слыхал, – честно признался Валька.
– Ну, еще бы, – с удовлетворением отметил Костя и продолжил повествование далее:
– Вот, я и говорю. Есть у них такая то ли Лика, то ли Лина. Бревно бревном, но фигуристая. Она и ехала справа на сидении. Да подушка, зараза, с опозданием сработала. Мишка предупреждал, надо из Германии самим с завода гнать, мало ли что подсунут, только Олег Дмитрич уперся. Загорелось ему: скорей, скорей. Оно и вышло. «Барашка» эта теперь в реанимации загорает с переломом основания черепа. Выживет, нет ли, бог знает.
– Боже мой! Бедная девушка… А что она вообще в машине делала? Олег подвозил ее, что ли? – Валька вполне искренне не осознал все значение сюжета.
– Ну да, можно и так сказать. Возил он ее, возил, да и довозился, – подвел ехидное резюме Костя.
– В каком смысле? – спросил Валька, начиная понемногу прозревать истину, и словно вступил в ледяную прорубь.
– Господи, Вилим Саныч, известно в каком! Сами подумайте, зачем с телками по гостиницам разъезжают. С какими попроще, с теми можно и на заднем сидении, а с теми, что поавантажней, тут уж непременно в номера.
– Костя, ты не смеешь. В жизни случаются разные обстоятельства, – поспешил разуверить своего водителя Валька. Ему совсем не хотелось, чтобы о Дружникове допускались грязные и оскорбительные предположения. К тому же, не имея возможности закрывать глаза на вопиющие факты, оглушенный провокационным сообщением Валька тут же и нашел Дружникову слабое оправдание:
– Знаешь ли, на личном фронте у всех нас бывают огорчения. Олег мог повздорить с Анютой… то есть, с Анной Павловной. Ну и решил отомстить или наказать. Прокатился для вида с другой девушкой. Даже если допустить… что, конечно, полный абсурд… Но даже если допустить. Это с ним в первый раз и…
Валька не договорил свое лепетное объяснение, как вдруг Костя перебил его с нехорошим смешком:
– Ага, в первый! Держи карман шире! Эх, святой вы человек, Вилим Саныч! Вы лучше Мишку спросите. Сколько раз они с Тихоном баб на Беговую возили? По нескольку штук одним махом!
– Что ты, что ты! – замахал Валька руками на своего водителя. – Что ты, Костя? Каких еще баб? Никаких баб я там не встречал. Да и Раиса Архиповна. Как же при ней? Глупости ты говоришь.
– А что? Мать она и есть мать, – вздохнул Костя и уже обиженно сказал:
– Не хотите – не верьте. Дело ваше. Хотя все кругом знают. Какой там Крым и дым, и Содом с этой, как ее, с Каморой, происходят. Олег Дмитрич, может, вас только и стесняется. В грязи, ему, должно, одному сподручней валяться.
– Ты сам-то видел? Ты-то при сем был? – выкрикнул в негодовании от чудовищного обвинения Валька.
– Не, я свечку не держал. Того не было, врать не стану. А только все это святая правда. Вот вам крест, – и Костя, на секунду оторвав правую руку от руля, перекрестил лоб.
– Ладно, я разберусь, в чем тут дело, и кто распространяет вредные и гнусные сплетни. Но ты Костя, сделай одолжение, не повторяй за другими того, о чем сам не имеешь понятия. Я тебя не часто прошу, – строго и сухо предупредил водителя Валька.
– Да что ж, оно нетрудно. И без меня распространится… Все, Вилим Саныч, приехали. Вот она, больница. Дальше вам уж пешком через проходную. А у меня пропуска на проезд нет. Вы паспорт покажите охране, на вас заказано.
Валька шел к палате Дружникова в сопровождении важной и молоденькой медицинской сестры, а в голове его царил полный сумбур. Нет, он, конечно, ни на миг не допустил, что все рассказанное водителем Костей происходило на самом деле. Но и та доля правды, которая, несомненно, содержалась в Костином рассказе, крепко прибила его. В мыслях мелькали лишь две короткие фразы: «Что же Аня?» и «Как же так?». Упорное Валькино нежелание вникать в семейную жизнь Дружникова и Анюты Булавиновой теперь принесло свои плоды. Валька ничего не знал. Ане вопросов он не задавал. Дружникову не задавал тем более. Да и что он мог спросить у Олега? Интимные подробности, чтобы сравнить с собой? Неделикатно, и некрасиво. Валька до сей поры чистосердечно полагал, что семейные обстоятельства его друзей пребывают в полном порядке: едва Олег обзаведется собственным жильем, что он и собирался сделать в ближайшем времени, следует ожидать торжественного бракосочетания его и Анюты. А теперь их тихая заводь в одночасье превратилась на Валькиных глазах в рокочущую Ниагару.
В палату к Дружникову его допустили сразу: шикарное помещение из двух комнат, оборудованное чудесами медицинской техники. У двери маялся, словно конь у забора, верный Муслим при полном обмундировании. По закону военного времени оружие ему возвратили, и Муслим нес охранную службу на всякий, непредвиденный случай. Увидев Вальку, Муслим неподдельно возрадовался, подскочил, протянул для приветствия жесткую длань. Валька руку принял, и ободряюще кивнул: мол, не тужи, гляди веселей и будь молодцом. Муслим в ответ распахнул перед ним дверь, предостерегающе приложил палец к губам, рекомендуя соблюсти тишину.
Дружников, оглушенный дозой обезболивающего, крепко спал, держа на груди загипсованную и подхваченную перевязью руку. Рядом, на кушетке, вполглаза дремала Раиса Архиповна. Ани не было ни в первой комнате, ни во второй. Но это ничего не значило. Время еще не позднее, около семи вечера. Может, скоро придет.
Раиса Архиповна, словно почувствовав присутствие Вальки, проснулась и села на кушетке, беззвучно зашевелила губами. Потом, делая руками знаки, поманила Вальку за собой в соседнюю комнату, прикрыла плотно дверь, чтобы невзначай не разбудить сына.
– Валечка, золотко ты наше, приехал! – сказала Раиса Архиповна шепотом, но достаточно громким, и обняла Вальку. – Видишь, беда какая. Ох, сыночек, сыночек! – и не удержалась, заплакала.
– Ну, что вы, что вы. Все будет хорошо. Я здесь, – успокоил ее Валька, – вот увидите, уже завтра ему станет куда лучше.
– Ох, деточка моя, не знаю уж, почему, но с тобой мне спокойней, – созналась Раиса Архиповна, и принялась пересказывать Вальке выученные почти наизусть подробности диагноза Дружникова.
По ее словам выходило, что большой опасности нет. Перелом, хоть и со смещением, но не сложный, кость удалось вправить без операции, хуже с головой. Сотрясение серьезное, третьей степени, по счастью, рентген гематомных образований не выявил. Энцефалограмма не ахти, но в таком состоянии трудно ожидать иного. Врачи колят витамины и энцефобол, дальше будет видно, организм должен справиться сам. Слава богу, Олежка ее крепкий, только нужен полный покой и ни в коем случае не вставать, пока не разрешит медицина.
– Скажите, Аня когда придет? – без задней мысли поинтересовался Валька.
– Нюточка? Она сюда и не приезжала, – ответила Раиса Архиповна и отвела взгляд. – Я ее маме утром передала телефон, она звонила несколько раз, спрашивала. Да ей ни к чему приезжать. Вот Олежек поправится, будет опять здоровый и красивый, а сейчас чего на него глядеть молодой-то девушке? – Раиса Архиповна говорила так быстро и жалко, что даже Валька понял: она напропалую ему лжет.
– А как та, другая девушка, которая была в машине? – спросил Валька, чтобы прекратить этот беспомощный спектакль и дать понять – он в курсе случившегося.
– Не знаю, говорят совсем плохо. Она ведь не здесь лежит, в Склифосовского. Игнат Демьянович сказал. Он ее вроде туда и определил, – охотно сообщила мать Дружникова, обрадованная тем фактом, что от Вальки можно ничего не скрывать.
– Как же так? Молодая девчонка пострадала ни за что, а всем наплевать. Нужна же помощь! Врачи, лекарства. Кто-то делает что-нибудь? – сердито спросил Валька.
– Ох, не знаю я. Я все возле сына. Его-то навещают, с утра как пошли косяком, ажно выгонять пришлось. А за девушку не скажу. Игнат Демьянович говорил, что позаботится. Да и что я могу? Вот ты, Валечка, приехал, ты и разберись. А то и впрямь, нехорошо как-то, не по-людски.
– Я прямо сейчас и позвоню Быковцу. Не волнуйтесь, я тихо. Кричать не буду, – Валька подошел к аппарату, стоящему на столе возле выключенного телевизора. – Но вы лучше побудьте с Олегом. Я, может, скажу грубости, вам слушать ни к чему. И еще я хочу позвонить Ане.
– Позвони, родной мой, позвони. Раз уж так вышло. Скажи обязательно Нюточке, что Олежек ее любит. Только глупый он, – с этими словами Раиса Архиповна закрыла за собой дверь, оставив Вальку в одиночестве.
Сначала, действительно стараясь не кричать, Валька разлаял по телефону Быковца. Игнат Демьянович в самом деле, сдав «барашку» в Склифосовского и сообщив о том ее выжиге-продюсеру, сразу о девушке позабыл. Как говорится, баба с возу. Свой шеф ближе к телу, чем полупарализованная певичка. За что и получил от Вальки по первое число. Быковец тут же выразил готовность исправить оплошность и выехать к Склифосовскому немедленно. Заодно посетовал на болючий, «чеченский вопрос». Валька велел вопрос отставить, чеченцев с их претензией он отныне берет на себя. А Быковец пусть займется устранением безобразия, все равно от него мало пользы равно как Дружникову, так и потерпевшим детям гор. Вообще-то обычно Игнат Демьянович слушался директора Мошкина с оглядкой, считая его одновременно-противоречиво темной, опасной личностью и плюгавым интеллигентом с закидонами. Да и Валька в его ведомство заглядывал редко. У него была своя безопасность для Дружникова, в помощи Игната Демьяновича по этому вопросу Валька не нуждался. Но в этот раз Быковец встал по стойке смирно. Шуточное ли дело, когда первое лицо их коммерческой империи беспомощно приковано к больничной койке, а второе лицо безбожно чехвостит тебя на все корки.
За Быковцом был откомандирован Костя. Валька позвонил в машину, велел Косте негласно проследить за обстановкой в Склифосовского и сообщить результат.
Заодно порадовался, что пошел на поводу у Дружникова и позволил поставить в «Волгу» такую роскошь, как мобильный телефон. Пригодилось. Потом пообщался с Геной. Вербицкий долго ругался, обозвал Быковца понтовитым идиотом, раздувшим из мухи слона и пообещал, что уже к завтрашнему дню его люди «разрулят» ситуацию. Обложил заочно и Дружникова, употребив при этом сочные эпитеты «козел» и «мудила», и добавив к месту парочку замечаний, из коих Валька заключил, что не все, рассказанное ему Костей, относится к области вымысла. Но надо было еще связаться с Аней. Как и о чем говорить с ней Валька пока не знал, и потому мудро решил прикинуться, будто он не в курсе всех событий.
Аня холодно и грустно выслушала Валькино донесение о состоянии здоровья Дружникова, вопросов не задавала, лишь монотонно повторяла: «Да. Да. Понятно», словно Валька сообщал ей о вещах малоинтересных. И скоро перевела разговор:
– Ты давно приехал?.. Ах, сегодня. И сразу в больницу? Сам как себя чувствуешь?.. Я рада, что ты поправился. Ты бы ехал домой, а, Валь? Тебе с дороги надо отдохнуть.
– Я не могу домой. Мне надо побыть с Олегом. Убедиться, что опасности нет. К тому же, Раиса Архиповна просила посидеть с ней немного, – честно ответил Валька и на всякий случай, кося под дурачка, спросил:
– Ты скоро приедешь?
– Я, Валь, не приеду вообще. У меня работа, и завтра рано вставать, – сухо ответила Аня.
– Анюта, какая работа? Твой муж валяется в палате с разбитой головой, а ей, видите ли, рано вставать! – Валька нарочно повысил голос.
– Обычная работа. И он мне не муж, – Анин голос нехорошо зазвенел в трубке.
– Пусть не муж, пусть жених, как угодно. Но так нельзя! Я сейчас же отправлю за тобой машину. Если вы поссорились, это же не причина, чтобы бросить Олега одного. Он ведь болен! – Валька апеллировал к присущему Ане чувству сострадания.
– Насколько я понимаю, он там далеко не один. И вряд ли он будет рад увидеть меня при данных обстоятельствах. Здоровья и настроения Олегу это не прибавит. Ему еще надо обдумать, что он станет мне врать, – непривычно жестко ответила Аня.
– Аня, да что случилось? Ты на себя не похожа, – продолжал прикидываться Валька, хотя и понимал, что все равно не добьется никакого толку.
– Послушай, давай закончим этот разговор. Он пустой. И не допытывайся, скоро сам все узнаешь. И еще. На наших с Дружниковым отношениях, как на трансформаторной будке, висит здоровенное табло: «Не влезай – убьет!», вот ты и не влезай. Завтра позвони, если хочешь. Мне и вправду рано вставать.
Вот это да! Удар был ниже пояса. Валька почувствовал слабость в ногах, пришлось опрокинуться в неудобное кресло подле телевизора, руки его дрожали. Аня знает, и выходит, знает столько, что даже объяснения ей не нужны. Как и дурацкие разговоры и не менее дурацкие утешения. Завтра она преспокойно отправится на работу, словно ничего нового и неожиданного для нее не произошло.
Ее отношения с Дружниковым и раньше казались Вальке несколько странными. Живут раздельно, и при этом у них вроде великая любовь. Аня, это Валька знал в точности, очень неохотно принимает подарки и помощь от Дружникова. Еле-еле, после долгих уговоров им обоим удалось всучить ей на день рождения новенькую «девятку-Самару», и то потому, что презент был как бы от Вальки тоже. Это при том, что рижская Снежана постоянно вытягивает из Дружникова то деньги на представительство, то новую шубу, то какие-то золотые побрякушки. И Дружников ей дает, хотя и со скрипом. Вот из Италии привез Снежане баснословно дорогой костюм от «Валентино», а своей Ане ничего. Вальке тогда же Дружников прямо так и сказал, когда проездом они делали покупки в миланских магазинах, – Анюте везти что-либо бесполезно, все равно не возьмет. Однако, Снежане он обещал, она ему плешь проела.
А ведь Булавиновы-Аделаидовы живут теперь небогато. Для Константина Филипповича светлые времена прошли, кому нужен престарелый академик на пенсии! Да и пенсию чем дальше, тем больше съедает инфляция. Служебной машины тоже не стало. В институте теперь всем заправляют молодые и энергичные, гоняются за грантами и спонсорами, Константин Филиппович слов-то таких не знает. Спасибо еще, Валька натихую упросил Геннадия Петровича, и академика для представительства включили в международный фонд при МАГАТЭ, платят кое-какие деньги в валюте и иногда приглашают в президиум на заседания.
Зубастые новые соседи, скупившие на Котельнической прорву жилплощади, попытались было силком выжить и семейство академика, но тут уж Дружников вмешался, прищемил бойцовым рыбкам хвост. Константин Филиппович даже не понял, что произошло, и чем он Дружникову обязан. Тихо, мирно проводил академик дни за книгами, в чаепитиях и разговорах с совсем уже дряхлой Абрамовной, поджидая домой «рабочую молодежь», как он в шутку называл Аню и Юлию Карповну. Анечкина мама все так же трудилась в больнице на Яузе, дослужившись до заведующей терапевтическим отделением, сетовала, что врачи бегут в частную практику, и в штате одни дыры. И в больничном бюджете дыры, чем латать неизвестно. Лекарств нет, хоть на свои деньги покупай, которых нет тоже. То, что поступает по гуманитарной помощи, либо просрочено, либо вообще не годно к употреблению. Вот и крутись, как хочешь. А люди болеют и их, бедных, жалко.
Фактически львиная доля семейного бюджета Аделаидовых-Булавиновых ложилась на Анечкины плечи. Поначалу Аня, не желая расставаться с научной деятельностью, определилась в аспирантуру своей кафедры, мечтала о диссертации. Но все ее надежды сгубил финансовый кризис. И у Анюты Булавиновой в реальности обозначился лишь один выбор. Либо продолжать успехи на научном поприще, но при этом полностью перейти на содержание к Дружникову. Либо поменять свои ученые занятия на более доходное дело. Дружников, естественно, настаивал на первом варианте, и Валька, честно говоря, не видел в том ничего предосудительного. Мужчина должен зарабатывать деньги, на то он и мужчина, а женщина обязана более следить за домом. Но дома у них никакого не было. Может, именно поэтому Аня и отказалась, как Дружников ее ни уговаривал. Тогда Олег устроил Анюту по знакомству в «Московский Отраслевой Банк», и это была единственная, существенная помощь, которую Аня согласилась от него принять. Теперь Анечка состояла системным администратором в головном отделении банка и получала достаточную зарплату, чтобы содержать более-менее прилично свое семейство на Котельнической. Однако вкалывать ей приходилось изрядно. Дружникова это, похоже, не на шутку бесило, но поделать с упрямой красавицей он ничего не мог.
Теперь эта история с «барашкой». И Аня наотрез отказывается от объяснений. Ну, что же, не сегодня-завтра Дружников придет в себя, и уж тогда, он не отвертится. Валька потребует от своего горячо любимого друга внятных и убедительных оправданий. Чтобы там Анюта ни говорила, это ЕГО дело.
Уровень 27. Плеть, обух и гильотина
Олег оправился на удивление скоро. Но впечатлить ему удалось только опекавших его врачей и повеселевшую, взбодрившуюся прямо на глазах Раису Архиповну, а отнюдь не Вальку. Последние три дня Валька искусственным образом заставлял себя многократно и чистосердечно убиваться в горестях от болезней Дружникова, таким образом нажелал ему целый воз удачи, в количестве, способном оживить маломерное кладбище. Вальку ждал разговор, и от нетерпения у него свербило в известном месте. Аня в больнице так и не появилась ни единого раза, хотя исправно звонила в палату Раисе Архиповне.
Еще через неделю с Дружникова сняли гипс, зажило и впрямь, как на собаке, и врачи решили готовить его к выписке. Однако, Валька не стал дожидаться, пока Олег покинет больничные апартаменты, отважившись брать Дружникова тепленьким. И в последний вечер пребывания Дружникова в клинике, вежливо попросив Раису Архиповну оставить их наедине, приступил к допросу.
Дружников, одетый в нелепую, больничную пижаму, полулежал в постели, поглощая ужин – все ту же бесконечную капусту со сметаной. И Валька высказался. Но, к Валькиному изумлению, Дружников оправдываться не стал. Наоборот, безоговорочно принялся каяться в грехах, хотя на покаяние его слова походили мало. Скорее то были жалобы на несправедливости жизни и собственное, непривлекательное «я»:
– Не ряди меня в белые одежды! Что я, ангел, что ли? Поганец и бабник, сам знаю. Идеальных людей не бывает, и не делай из меня идола. Вот я такой есть. Хочешь, люби меня, а не хочешь, пошли к черту. Что пеньком сову, что сову об пенек, все равно сове не жить! – выступил с патетической критикой в свой адрес Дружников. Заодно сделал и первый шаг к моральному освобождению из Валькиной кабалы.
На Вальку же откровенность друга произвела как раз обратное, трогательно-положительное впечатление. Конечно, он не ангел. Бедный. Ему от этого плохо, вон как расстроился, а волноваться врачи не велели. И хорошо, что не ангел, Вальке так и надо, напридумывал себе фантазий, позабыв, что Дружников, между прочим, живой человек. И у него есть своя боль. Надо разобраться и понять, помочь, ему и Анюте. Тогда Валька стал расспрашивать далее:
– Не ангел, и ладно. Но Анюту ты же любишь?
– Видит бог, люблю, и даже очень! Да ты пойми, – здесь Дружников картинно положил здоровую руку на сердце, – я с ней, как бы сказать? Каким был, таким и остался. А я уже другой. Она этого не хочет понимать, или нарочно не замечает. Я для нее все тот же нищий, сельский мальчуган, которого надо наставлять и направлять. А я давным-давно иду своей дорогой… Нет, Валь, ты мне скажи, что это за фокусы? – тут Дружников выразил в голосе обиду, – Денег у меня она брать не хочет. Я, видите ли, ее покупаю и унижаю. А в своем дурацком банке здоровье гробить, это для нее нормально.
– Да поженитесь вы, и дело с концом, – предложил простейший вариант решения Валька. Сетования Дружникова его позабавили и только. Проблема, на Валькин взгляд не стоила давно выеденного яйца. – Тогда и будешь командовать, в полном своем праве.
– Здесь все не так просто, как ты думаешь, – Дружников сделал печальное и загадочное лицо. – Как я на ней женюсь, когда она смотрит на меня сверху вниз? Да как смотрит! Будто я полный дегенерат и промышляю грабежом. В ресторан, в клуб ночной пойти – за неделю надо уговаривать. И пойдет ведь, как на каторгу! Не хочешь в клуб, ладно, пойдем в Большой театр. Так я раз там уснул, после разговоров на месяц было. И я такой, и я сякой, к искусству не желаю более приобщаться, а вот раньше! А что раньше? Раньше я по двадцать четыре часа в сутки не вкалывал. Опять же, опера та была на итальянском, чтоб ей сгореть! не то в слова бы вник, глядишь, не заснул бы. Я же только-только из Мухогорска прилетел, специально, чтоб не пропустить. И, на тебе, спасибо!
– Слушай, другие-то бабы тебе на кой..? Певичка эта несчастная, «барашка». Мир ее праху, – Валька непонятно зачем наскоро перекрестился.
– Постой, Лика умерла, что ли? – испуганно спросил Дружников.
– Через день, как я приехал. Там полная безнадега была. Тебе разве не сказали? Не сказали, конечно. Ах, я дурачина! – Валька с досады на собственную оплошность стукнул себя кулаком по лбу.
– Вот беда, так беда, – не на шутку расстроился Дружников и сокрушенно покачал головой. – Лика хорошая была баба. Как и я, без гроша в Москву приехала. Из Рязани. Чуть ли не на вокзалах ночевала, пока ее какой-то игровой из «Метлы» не подобрал. Потом на эстраду пробилась.
– Пусть хорошая. Тебе-то это зачем? Да будь у кого другого такая Аня… – Валька оборвал себя на полуслове. Еще не хватало Дружникову его страданий от несбывшихся надежд.
– Будь у кого другого такая Аня, он куда раньше моего во все тяжкие бы ударился, – неожиданно сообщил ему Дружников. – Думаешь, я с ума сошел? Нет, не сошел. Так и есть. Ну, конечно, я путаюсь с вульгарными девками, многие из них просто шалавы. Большинство на мой карман исключительно зарится. А что делать? Плачу им, еще как плачу. Только они мне ровня. С ними можно запросто. И погулять, и отдохнуть, и ни одна не станет разглядывать каждый твой шаг под микроскопом. Не так сидишь, не так свистишь! Я им любой хорош.
– Олег, но это же грязь, – тихо возразил ему Валька.
– Грязь. Согласен. Вот ты Анюте и скажи, чтоб меня по каждому пустяку не допекала. Не скажешь? То-то же! И замуж она за меня не пойдет, пока я не стану таким, как надо ей. А я меняться не желаю! Я, между прочим, тоже большое дело делаю и себя не жалею.
– Делаешь, конечно. Ну и расскажи ей об этом, – примирительно посоветовал Валька.
– А про все остальное как скажу? Про тебя и про меня? Анюта, она считает – я авантюрист и скоро себе шею сверну, в придачу тебя втянул и голову заморочил. Еще и в этом виноват. Она же про нас ничего не знает, и не надо ей знать-то.
На том допрос и кончился. А Валька махнул на все рукой. Пусть разбираются без него. Кто прав, кто виноват. В семейные дела встревать, лишь врагов наживать. Может, Дружников где-то прав, а у Анюты нрав ого-го, ему ли не знать. Хотя от признаний, услышанных им из уст Дружникова, Вальке то и дело становилось не по себе. Он был уверен, и он так чувствовал, что Дружников может и по-другому «снимать кино», необязательно для личного самоутверждения пускаться во все тяжкие.
Лена Матвеева с работы вернулась поздно. Впрочем, с ее ненормированным графиком то было обычное дело. Зуля дома отсутствовал, что тоже в последние месяцы стало явлением довольно частым. Но Лена до поры не стремилась выяснять отношения. Спать ей не хотелось, хоть время и близилось к одиннадцати часам, зато очень хотелось есть, но поздний ужин затевать было неблагоразумно. Лена прошлась по квартире, заглянула в одну, в другую комнату, без дела постояла в кухне у холодильника. Потом решилась, открыла его и вынула из ниши на дверце початую бутылку смородинового «Абсолюта». Налила в стакан водки на два пальца, выпила залпом, даже не закусив, – для нее это было раз плюнуть. В заведении, где ныне служила Лена Матвеева, хитром и несколько потустороннем, пить и при этом не пьянеть научались быстро.
Так уж вышло, что по окончании университета, Леночка Матвеева в смысле работы приняла неожиданное и для многих ее знакомых сомнительное предложение. И поступила на должность в одно из подразделений ФСБ, тогда еще именовавшейся ФСК. То ли сыграл свою роль красный диплом и отличные успехи на военной кафедре, где Лена получила полноценные погоны лейтенанта ПВО. То ли негласная рекомендация ее шефа по преддипломной подготовке, доцента Барского, под руководством которого Лена Матвеева занималась любопытными программными задачками из области компьютерного кодирования. Барский слыл личностью загадочной: ходили слухи, что на факультет он пришел не откуда-нибудь, а именно из той самой организации, которая и пригласила к сотрудничеству Лену Матвееву. И Лена, не особенно раздумывая, согласилась. Хотя была уверена, психологический тест ей ни за что не пройти. Уж она-то ведала за собой такой безнадежный порок, как несдержанная болтливость, и на положительный результат не очень-то рассчитывала. А зря. Тест она прошла – порок, как выяснилось, оказался не таким уж страшным и легко преодолимым. Лена как была, так и осталась экстравертной и чересчур общительной особой, только трепалась она отныне о чем угодно, но не о своих профессиональных делах. Чем иногда злила до белого каления Зулю, который и изначально-то высказался против ее затеи, а теперь вовсе выходил из себя. Ему, мужу, не доверяют! Оскорбительно и противоестественно. Но Лена упорно не желала обсуждать с Зулей свои производственные проблемы.
На работу в Государственную Безопасность она пришла в самое неподходящее время. Когда многие сотрудники, словно крысы, бежали с этого оплеванного и оклеветанного державного корабля. Слыханное ли дело, но в важнейшей из служб случались тогда катастрофические перебои с денежным довольствием. Однако, Лену это не остановило, болтушка там, или нет, но Лена была отнюдь не «глупышка». А значит, прекрасно отдавала себе отчет в том, что долго бесстыдная катавасия вокруг бывшего КГБ не продлится. Демократы или коммунисты, да хоть анархисты и «анпиловцы», – без щита и меча ни одному правительству у руля не бывать. И не просчиталась. В двадцать пять годков уже имела в табельных записях капитанское звание. За какие конкретно заслуги, Лена Матвеева, понятно, не говорила. Многие из старых знакомых ее и побаивались.
Лена, немного размякнув и расслабившись от водки, придремывала у включенного телевизора, когда раздалась журавлиная трель дверного звонка. Поздние гости были в доме Матвеевых не в диковинку, но сегодня Лена никого не ждала. Однако, отвыкнув за последние несколько лет удивляться чему бы то ни было, Лена Матвеева совершенно спокойно отправилась открывать входную дверь. На пороге, дрожащая, как напряженная тетива лука, стояла Аня Булавинова.
– Выгонишь? – с вызовом вместо приветствия спросила Аня, и, не дожидаясь ответа, шагнула внутрь прихожей.
– Нет, конечно. Ты что? – ответила Лена, и покрутила пальцем у виска. – Когда это такое было, чтоб я тебя выгоняла.
– Поздно уже, – обреченно и в то же время просительно сказала Аня.
– Ну и что. Кому ты здесь помешаешь? Мой с твоим опять где-то шляются. Тут и гадать нечего. Спелись два козла, – ответила ей Лена Матвеева, но не печально, напротив, смешливо и задорно, – А мы с тобой, соломенные вдовы, тоже зевать не станем и выпьем по маленькой. Ты в каком отношении?
– Я – за. Только чуть-чуть, – согласилась Аня.
Лена усадила подругу в гостиной комнате, чтоб немного пришла в себя. Сама пошла на кухню за атрибутами, необходимыми их импровизированному, небольшому застолью. Анютиному приходу она была рада, хотя и понимала, что для восторгов особого повода нет. Раз уж Аня заявилась на ночь глядя, значит, с ней приключилась нешуточная неприятность. Иначе дело вполне потерпело бы до утра.
Аня Булавинова была и оставалась для Лены самой близкой, если не единственной подругой. Которая не боялась ее нового служебного статуса и не заискивала, и главное, всегда давала Лене повод знать, что Анюте она нужна не за что-нибудь, а просто так.
Они выпили. Лена – залпом чистой водки, для приличия закусив соленым помидором из банки, Аня – сильно разбавленный яблочным соком коктейль.
– Почему ты решила, что твой муж сейчас с Олегом? – спросила Аня и с настороженным вниманием посмотрела на Матвееву.
– Я не решила, я знаю. Да и где ж ему быть? Почитай, второй месяц оба, как Шерочка с Машерочкой, все московские кабаки обходят дозором. И когда только успевают? Твой кавалерист, как из Мухогорска прилетит, так моего дурака нарочно из дому тащит. Мне назло.
– Почему ты так думаешь? – удивленно спросила ее Аня.
– Как же он еще может мне насолить? Поди, знает давно, где работаю. В открытую не очень-то выступишь. А так, гадит исподтишка. Валька после той аварии, видать плюнул на нравственность своего дружка с высокой колокольни. Вот твой Олег и забросил чепец за мельницу, заодно и Зулю, идиота такого, втравил. Мол, раз ты в своем доме не хозяин и жена у тебя хуже, чем мент, неизвестно с кем на службе рога наставляет, то и ты, Матвеев не зевай, жизнь одна. Помнит, дрянь этакая, что я его на дух не переношу. Вот и квитается, – Лена разволновалась, плеснула себе еще водки в стакан. – Убери-ка бутылку на пол. Будешь выдавать через раз, а то напьюсь.
– Я не знаю, что тебе сказать и как возразить, – тихо сказала Аня. – Раньше знала, а теперь нет. Наверное, все так и есть.
– Ты-то зачем терпишь? Ладно, Зуля мне муж, скоро перебесится и наестся груш! А Дружников тебе кто? Просто хахаль!.. Скотина он! – не удержавшись, выругалась Лена. – Извини. Но знаешь, вернулась бы ты к Вальке, и дело с концом. Что тебя держит?
– Бог весть! Держит и все. Не могу я его бросить. Люблю, наверное, – все так же тихо ответила Аня, и в голосе ее были нотки обреченности. – И он меня любит. Я это чувствую.
– Чего ж тогда не женится? И зачем по блядям шастает? – гневно выкрикнула Лена. – Ты-то его хоть спрашивала, собирается он ваши отношения узаконить или нет?
– Не спрашивала и не спрошу. Ты не думай, я не от гордости. Просто знаю – на мне он жениться не собирается. Олег как-то обмолвился, может нарочно, что брак для коммерсанта – это тоже бизнес. Понимай, ищет выгодную партию. Но и меня не отпустит.
– Ты, стало быть, у него вместо парадного выезда будешь. Навроде шикарной любовницы, чтоб перед другими козлами похваляться, – подвела печальный итог Лена. – Вот что, дорогая. Хватит. Завтра же пошли его подальше. Подумаешь! Поболит, поболит и перестанет. Да и то недолго. Теперь-то уж поняла, какой твой Дружников на самом деле?
– Поняла, – просто согласилась с ней Аня. – Но он мне нужен и такой. И никуда я не уйду.
– Да ты спятила совсем! Говорила я, предупреждала, что все плохо кончится! – с сердцем сказала Лена, не ведая уже, как и чем вразумить вконец обалдевшую от глупой страсти подругу. – Неужто твой Дружников такой половой гигант? Так ты только скажи, я для тебя расстараюсь. У нас в отделе новенький лейтенант объявился, недавно из «вышки», и девчонки, кто пробовал, утверждают, что просто фантастика.
Но Аня, казалось, заманчивое предложение даже не расслышала. Она вдруг подобралась вся, словно прыгун на спортивной вышке, и бухнулась, как в омут:
– У меня ребенок будет. Так что поздно. Все теперь поздно.
Лена сразу и не сообразила, что именно услышала. Посидела в задумчивости, переваривая новость. Потом решительным жестом взяла с пола бутыль «Абсолюта» и налила себе в некоторой растерянности полстакана.
– Кошмар какой, – сказала она, наконец, не уточняя, что имела в виду, конкретно ребенка или ситуацию в целом. – И что ты собираешься делать?
– Как что? Рожать и кормить. Стало быть, Олег, считай, своего добился. Сяду на его шею, полностью, как он и хотел. Какая теперь работа, ребенок важней. Но хоть будет ради кого, – словно задыхаясь, выговорила Аня, и тон ее не допускал возражений.
Лена это поняла. Ей не оставалось ничего иного, как сказать:
– Оно конечно. Ну и правильно. Пусть заботится… Плохо тебе?
– Плохо, – честно ответила ей Аня.
В ночном клубе «У Феллини» дым стоял коромыслом. В казино шла крупная игра, в танцевальном зале лихо отплясывал кордебалет, завлекая в свои сети крепко подвыпивших «кошельков». Вести разговоры, чтоб тебя расслышали собеседники, можно было лишь в самом дальнем углу ресторана. Но и там не давали покоя зазывно курсировавшие между столиками разодетые и сильно декольтированные девицы. Почти трезвый, Дружников сидел, наклонившись к самому лицу пьяного в дым Матвеева, и неспешно имел с ним беседу. Рядом егозил на стуле камердинер Тихон, никак не мог найти себе занятие. Напиваться при трезвом хозяине ему было опасно, да и неловко, а в душевный разговор Тихона не приглашали. Бедняга камердинер маялся, крутил в руках солонку, тоскливо озирался по сторонам. Пока Дружников милостиво не позволил ему катиться прочь и развлекаться в меру потребностей. Тихона в момент, как тайфуном сдуло в сторону пляшущего кордебалета.
Дружников еще ближе склонился к Зуле, в сотый раз уже задавая вопрос, который в последнее время беспокоил его более всего:
– А если «вечный двигатель» не сработает? Где гарантия?
– Нигде-е, – нараспев ответил Матвеев, блеюще протянув последний слог, поднял мутные глаза на Дружникова, – это предположение. Ты пойми, сам я паутину не видал, но раз Валька уверен, значит, так и есть. Вряд ли он ошибается.
Отношения Зули Матвеева и Дружникова к этому периоду времени опять поменяли знак. Теперь Матвеев наоборот прилюдно обзывал Дружникова по имени-отчеству, а в приватном обществе и наедине был на «ты» и порой фамильярен. Совместные эскапады словно сблизили их, и Матвеев позволил себе расслабиться.
– Сколько еще ждать, как ты думаешь? – приставал настырный Дружников.
– Сколько, сколько! А я почем знаю? – тоскливо отмахнулся Матвеев. Протянул руку к бутылке с текилой, чтоб налить. Но Дружников его опередил, отставил бутыль далеко в сторону. – Ну, ладно, – нехотя согласился Матвеев, – ладно. Это тебе не ишака купить. Может, на это сто лет надо!.. Да, шучу я, шучу. Может, уже нисколько не надо. Может, твой «двигатель» уже работает. Только без Вальки не проверишь. И еще…
Матвеев замолчал, выжидательно глядя поочередно то на Дружникова, то на текилу. Дружников сунул ему бутылку:
– На, хоть залейся. Чего там «еще»?
– А того! Не факт, что «двигатель» заработает, а ты сам сможешь при этом желать. Сам себе. Это лишь Валькина догадка. Хотя, конечно, интуиция у него, у-у-у! Особенно, в том, что касается всех этих дел с удачей. Он пока ни разу не ошибался. Типа, врожденное знание. Потому, имей терпение, ик! – Зуля оглушительно икнул, и немедленно запил икоту текилой.
Впрочем, пока Зуля пил и икал, ему вышло пьяное прозрение. Как частично загладить свое предательство, и в то же время позволить Дружникову обезвредить Вальку, не причиняя последнему большого вреда. И Зуля, словно бы беспокоясь о благополучии Дружникова, совершил диверсию:
– Только вот что. Вальку убирать ни в коем случае и ни при каком раскладе тебе нельзя, да! Он должен быть жив и относительно здоров. Да, да, непременно. Даже если «двигатель» заработает… Спросишь, почему? – тут для Матвеева настал звездный час. Он пьяно расхохотался Дружникову в физиономию и прошипел, слюняво и зло:
– Да, потому! Вдруг с его смертью паутина исчезнет совсем. Бац, и нету. Останешься у разбитого корыта, тю-ю!
– Как, исчезнет? – испугано спросил Дружников. Подобная мысль ему в голову не приходила.
– А так. Каюк Вальке – каюк и всем удачам, которые были от него. Вдруг? И узнать заранее нельзя. Никто ж не проверял. Но и проверить можно лишь одним способом, – Зуля многозначительно провел ребром ладони по горлу. – Что, рискнешь?
– Не рискну, – сумрачно ответил ему Дружников и задумался. – Стало быть, Валькино благополучие – мое благополучие?
– Может и так. Кто знает? А только при делах или нет, но твой дорогой друг должен быть сыт, физически здоров, и даже относительно доволен жизнью. Чтоб у него от безысходности не возникали лишние мысли, как свести с этой жизнью счеты. Вот и думай.
Матвеев снова громко икнул и потянулся за текилой.
Уровень 28. Парад планет
Валька зашивался. Иногда даже завидовал белке в колесе и вкалывающему «проклятому». Потому что, им-то легко, а вот покрутились бы на его месте!
После выздоровления, Дружников тут же ввел Вальку в должность первого помощника директора комбината, им же и придуманную нарочно. Но в состав совета Вальку продвигать не спешил. Квитницкий и Каркуша, находившиеся в его полном подчинении, вполне Дружникова устраивали.
А Вальке было не до совета. Дела Мухогорского комбината и без того обрушились на него кучей. Он ничего абсолютно не понимал ни в технологическом процессе, ни в азах управления таким огромным предприятием. Дружников не понимал тоже, но он, как сделал Валька правильный вывод, и не стремился понимать. Его заботили исключительно финансы и разработка стратегических планов будущего, сам же комбинат со всеми его проблемами и засадами упал на Валькины плечи.
Дружников курсировал из Мухогорска в Москву с регулярностью торговца-«челнока» и требовал лишь одного: отгружать металл, как можно больше и без простоев. Сперва Валька, безвылазно застрявший в Мухогорске, даже был рад подобному разделению обязанностей. Он, наконец-таки, ощутил себя рабочим, нужным человеком, делающим большое и настоящее дело, и мог уже своими руками закладывать краеугольные камни будущих практических благодеяний человечеству. Однако, радовался он рано. Все оказалось далеко не столь радужно и просто.
Для начала Вальке пришлось преодолевать глухой и целеустремленный саботаж своих приказов и распоряжений со стороны старых руководителей комбината, оставленных Дружниковым на местах, когда вынужденно, когда и преднамеренно. Некоторые из них входили и в совет. Разумеется само собой, устное повеление Генерального, переподчинившего их какому-то московскому молокососу, они высокомерно проигнорировали. Но как раз с этой проблемой Валька справился в рекордные сроки. На что Дружников, зная характер своего дорогого друга, втайне рассчитывал.
И первый зам. по производству Порошевич, и коммерции директор Лисистратов, и даже угрюмый, малоразговорчивый главный технолог, татарин Бюльбулатов волей-неволей вскоре прониклись к помощнику и представителю Дружникова если пока еще не уважением, то симпатией и сочувствием. Новенький пришелся им по сердцу.
Да и как иначе! Зеленый и неопытный, однако, упорный как смерть, помощник Мошкин, не боясь замарать рук, в рабочей спецовке лазал по цехам с вредным производством, выматывал душу далеко не праздными вопросами. По вечерам сидел в кабинете, с ног до головы обложенный учебниками и справочниками, штудируя шаг за шагом основы промышленного управления и технологии горно-обогатительных процессов. И вопросы его делались раз за разом все более осмысленными. При этом помощник Мошкин был предельно вежлив и уважителен. Но и похвальное его познавательное усердие явило бы собой пустое трепыхание об лед, если бы не одно обстоятельство. Старые заводские волки плевать хотели на Валькины образовательные усилия и хорошие манеры. Однако, много чего повидавшие на своем веку, забубенные и битые-перебитые, крепкие Мухогорские ветераны безошибочно и с удивлением открыли для себя чудо. Новый помощник, в отличие от откровенного прохиндея Генерального, по-настоящему и непритворно переживал за дела и благополучие комбината. Словно Мухогорский ГОК был ему родней и дороже, чем им, заслуженной металлургической гвардии, съевшей на ГОКе собаку и нажившей не одну язву желудка в его отравляющих дымах. Волки сначала не поверили собственным внутренним чувствам и глазам, потом некоторое время безмолвно взирали на открывшееся им диво, потом приняли и решили: «чего не бывает?». И, не сговариваясь, установили негласную, почти отеческую опеку над новеньким. Конечно, и для них, верховных жрецов Медной горы, деньги были не последним делом. Для детей, для внуков, на обеспеченную старость. Но жрецы ясно ощущали и предел: до сих можно, а дальше ни-ни. Заработать и положить в карман, в меру уворовать, заключить левые сделки, что же, жизнь есть жизнь, никто из них не святой. Но совсем иное – дозволить обескровливать завод, на котором, к примеру, Денис Домицианович Порошевич прошел всю свою совершеннолетнюю, трудовую историю, начав ее рядовым мастером цеха. Совсем иное – дозволять голодать собственным рабочим и собственным же пенсионерам, выхаркивающим последние остатки легких на нищенских постелях.
Новый помощник все это понимал. Мало того, он решительно и сумасбродно собирался претворить в реальность невозможное: превратить их загаженный, рабочий городок в некое подобие библейского эдема. Мечта абсурдная, но заслуживающая уважения. Эдем, не эдем, полагал скрытый мусульманин Бюльбулатов, но если помощник Мошкин хотя бы захочет подсобить им защитить Мухогорский ГОК от откровенного разграбления, то за это честь ему и хвала. А райские кущи Бюльбулатов в награду попросит для него у Аллаха.
Бюльбулатов первым из волков и пришел к помощнику. Сам. Вечером, когда Валька корпел над очередным талмудом по горнорудному делу.
– Все читаешь, – сказал он как бы и с укоризной. Бюльбулатов со всеми без исключения был на «ты», и иной формы общения не признавал.
Валька поднял голову, привстал со стула и дружелюбно ответил:
– Читаю. Да толку пока маловато.
– Толк будет, – уверил его Бюльбулатов и скорее повелел, чем предложил:
– Завтра с утра пойдем по цехам. Стану показывать и объяснять. Каждый день по участку.
– С утра, это во сколько? – опасливо спросил Валька, боясь отпугнуть ненужным вопросом малообщительного технолога. Само по себе добровольное явление Бюльбулатова уже означало немалый прорыв в Валькиных отношениях со старой гвардией. Его словно бы приглашали к танцу, где он, Валька окончательно должен показать себя.
– В пять, – хмуро бросил в ответ Бюльбулатов, и пошел прочь, цокая языком и слегка шаркая ногами.
В пять, так в пять. Если нужно, Валька готов был не ложиться вовсе. «И не получится, – отметил он, глядя на часы, – уже половина первого ночи. В гостиницу возвращаться совершенно бессмысленно». Валька снова уткнулся в свой талмуд.
С тех пор понеслось. Бюльбулатов с непререкаемой регулярностью ежеутренне водил Вальку по заводу, коротко и сумрачно объяснял, что к чему. И скоро Валька не хуже главного технолога разумел, какая медь идет в катодах, какая в листах, и почему происходит промышленный брак. Но это была лишь малая, несущественная толика возникших перемен. Постепенно в Валькином кабинете, не слишком просторном, но вполне комфортабельном в стиле уездно-номенклатурном, возник сам собой вечерний, мужской клуб. Упаси боже, не в смысле излишеств и развлечений. А просто заходили серьезные ответственные люди, приносили с собой беспокойства и масштабные проблемы. Первым зачастил коммерции директор Лисистратов, он же и привел с собой бывшего старшего плановика, теперь директора по финансам Дикого Юрия Тарасовича, дородного мужичка с унылыми, висячими усами. Как-то раз заглянул и сам Порошевич, послушал, послушал, выступил и остался. Но в следующий раз пришел не один, а с Паромщиком. То есть, с нынешним директором по снабжению Тавровым Максимилианом Ивановичем. Паромщиком же главного снабженца друзья и коллеги окрестили за его пылкую приверженность к творчеству Пугачевой, в частности к знаменитому шлягеру «Паромщик», который Максимилиан Иванович громогласно исполнял всякий раз, когда ему случалось хватить через край алкоголя.
Главная и самая больная язва, терзавшая души клубных завсегдатаев, была и оставалась в финансовом вопросе. Мухогорский ГОК на пределе возможностей поставлял медь тысячами тонн, которая тут же, через рижский порт отбывала за рубеж по фьючерсным контрактам за валюту. А внутренний рынок получал лишь ничтожную долю продукции, да и то нерегулярно. Но и это было только полбеды. Пусть отечественный потребитель нищ и сир, не в состоянии платить чистоганом, пусть закон позволяет отечественному потребителю не платить вовсе, особенно в случае госзаказа. Пусть. Время переходное, и трудности неизбежны. Но вот то, что за все свои усилия и товар Мухогорский ГОК обратно не получает ни копейки, есть уже подлинное безобразие и произвол.
Валька все это знал и сам. Без пламенных потрясаний кулаком «дикого» финдиректора, без слезных жалоб Лисистратова, без язвительных укоров Дениса Домициановича. А суть их возмущений сводилась к следующему. Дружников как представитель держателей контрольного пакета и Генеральный директор все расчетные валютные операции производил исключительно через кипрский филиал «Дома будущего», в данном случае выступавшем в качестве посредника-перекупщика. Само собой, ни единого доллара, вырученного на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка, до Мухогорского комбината не доходило. В результате Мухогорский ГОК имел за душой лишь быстро обесценивающиеся копейки в отечественных рублях от поставок тому же «Дому будущего», но уже в Москву, баснословно дорогого цветного металла по смехотворной «внутренней» цене, и то с большим запозданием. А ведь нужно же платить зарплаты рабочим, да за электроэнергию, да амортизация, да спецодежда, про респираторные маски и забыли, как они выглядят. Не говоря уже о том, что все абсолютно, хозяйственные, общественно-полезные проекты пришлось свернуть. Новый корпус под общежития для рабочих семей стоит наполовину недостроенный. «И будет стоять! Денег нет и не предвидится! И в фондах незаделываемая дыра!» – подвел итог набычившийся Юрий Тарасович Дикой. Про запланированный детский садик и заикаться не приходится. Продукты в заводскую столовую купить не на что. Рабочим выдают часть зарплаты талонами на питание, а кушать в ней – шиш! Того и гляди, грянет забастовка или голодный бунт. А комбинат останавливать нельзя. Это миллионные убытки. ГОК тебе не швейная фабрика, на нем непрерывный, круглосуточный цикл. Потом поди заново раскочегарь. Тот же Дружников с Беляевыми голову оторвут.
Без денег не то что бы построить вожделенный эдем, но и сносно продержаться на плаву нельзя. А что дальше? Усмирять голодающих работяг с помощью ОМОНа и войсковых соединений, как при Николае Кровавом? Вопросы эти задавались Вальке в лицо. Тогда он, удрученный и изумленный сложившейся ситуацией, постановил себе навести порядок. В первую очередь необходимо вызвать в Мухогорск самого Дружникова и задержать до тех пор, пока Олег не разберется с возникшим бедламом. Может, он не в курсе событий, оправдывал друга Валька. Москва далеко, из нее не все видно. Вот Олег и понадеялся на Вальку. И Валька делает, что может. Да только без Дружникова денег заводу не вернуть. Валька кипрскому филиалу не указ, сам виноват, что не вникал.
Ситуация в Мухогорске по существу сложилась критическая. Город лихорадило. Четвертый месяц практически без зарплаты, тем паче, работа на комбинате, без экивоков, каторжная. Если и в этот раз не удастся рассчитаться – все, жди бунта. Порошевич так прямо и сказал, с последней надеждой заглянув Вальке в глаза. Да и новый мэр своими пьянками-гулянками и армейскими замашками только провоцирует народ. Устроил пир во время чумы. На мэра Извозчикова в клубе катили огромную телегу. Подсуропил им подарочек Олег Дмитриевич, ничего не скажешь. Нет, новый мэр в дела комбината не лезет, с военной четкостью исполняет, что велят из Москвы. Да ему-то что, денежки Аскольду Вадимовичу текут непосредственно от «Дома будущего». Из области в нищий Мухогорск везут для мэра водку с икрой, а в поселке голодных и на все согласных баб хоть отбавляй. Вот мэр пьет и гуляет. Потом опять пьет и в баньке парится. Это на виду у населения, которое не сегодня-завтра того и гляди возьмется за дреколья. И тогда ой-ей-ей.
Ругали и Квитницкого. Особенно плевался Денис Домицианович, который с давних времен недолюбливал бывшего зама по сбыту. Называл Семена Адамовича отчего-то сепаратистом и трусливым иезуитом, продавшимся за кардинальскую шапку. Вообще, Денис Домицианович Порошевич был человеком образованным. Татарин Бюльбулатов выражался проще. О Квитницком он говорил емко и портретно-выразительно: «У нашего Семена лицо, как жопа, такое же хитрое». Суть же претензий клуба к Семену Адамовичу сводилась к следующему: будучи при делах в Москве, Квитницкий мог хоть как-нибудь помочь родному заводу, все же давшему ему путевку в столичную жизнь. Но нет, от проблем и бед комбината Квитницкий довольно невежливо отмахивался. Наезжая в Мухогорск для присутствия в совете директоров ГОКа держал себя большим барином, требовал к себе исключительного внимания и всем вечно был недоволен – то в номере-люкс нет импортного телевизора, то машину ему выделили без радиотелефона. А зачем ему, спрашивается, машина? Куда ездить-то, если заводоуправление в соседнем здании с директорской гостиницей? К тому же курсировали упорные слухи: Квитницкий своим положением при дворе Дружникова не доволен, желает избираться депутатом в Государственную Думу второго созыва и почему-то от ЛДПР, в чем Дружников его и поддерживает.
– Вот-вот, Жириновский нашего барина в Индийском океане искупает! – зло шутил в клубе Лисистратов.
– Покажет ему папу-юриста и Ленина в гробу! – зловеще и непонятно поддерживал его главный технолог Бюльбулатов.
Тем временем Вальке все же удалось вызвонить по телефону Дружникова и убедить срочно выехать в Мухогорск. Хотя и пришлось прибегнуть к сердитым словам. Олег поначалу и как обычно попытался придать сложившейся ситуации несерьезное значение, ласково упрекнул Вальку в излишней драматизации обстоятельств, ударился в обычные похвалы его организационному гению, который, безусловно, способен решить «пустяковый» вопрос и без экстренного присутствия Дружникова на комбинате. Но Валька в этот раз на похвалы и заверения не купился. Повысил голос и потребовал.
– Ну, хорошо, – ворчливо согласилась трубка голосом Дружникова. – У меня сейчас срочное дело в Совете Федерации, но дней через десять обязательно буду.
– Какие еще десять дней? Через десять дней тут уж решать нечего будет! Завтра прилетай! – категорично и без обычной деликатной приветливости заявил ему Валька.
– Неужто такая срочность? – нарочито не поверил Дружников.
– Да, такая, – отрезал Валька и, не прощаясь, дал отбой. Подобную невежливость по отношению к любимому другу он проявил впервые. Только, что же делать, если Олег упрямо отказывается понимать всю серьезность происходящего в Мухогорске.
Однако Дружников понимал, и даже предвидел. И теперь был очень недоволен, что на комбинате мягкотелое руководство не желает разрешить ситуацию чисто полицейскими мерами. Проклятый Валька со своими дурацкими райскими садами всерьез намерен заставить его раскошелиться. А платить придется именно Дружникову из своего кармана! Да, да, именно из своего. Плевать, что по совести и учредительскому уставу «Дома будущего» половина всего имущества принадлежит Вальке! Этому идиоту, видите ли, деньги не нужны. Дай волю, что угодно разбазарит налево и направо. А раз так, то все держится и будет держаться на одном Дружникове. Вот нынче эта телефонная истерика! И ведь придется ехать. Вальку злить никак нельзя. Пока…
Пока летели в Каляев, Дружников совершил последнюю, вынужденную попытку настроиться на положительный лад и хоть немного примириться с душащей его жабой жадности. Но лишь растравил себе печенку. Тогда стал от нечего делать играть с Муслимом и Квитницким в «двадцать одно» на деньги, просадил везучему «жиду» триста баксов и расстроился вконец. Смешал карты, велел Муслиму достать из походного «пилота» коньяку, послал стюардессу за стаканами. Квитницкий оживился в предвкушении выпивки, без хозяйского сигнала истребовать себе спиртного он не решался, хотя томился с начала полета. Да и какой напиток могли подать ему в салоне «тушки»? Это ведь «Аэрофлот», а не «Люфтганза». Сомнительной водки и молдавского вина в лучшем случае, пусть и в бизнес-классе. А тут шеф угощает коньяком и каким! Олег Дмитрич употребляет всегда самый наилучший. Вернее, кроме самого наилучшего коньяка вообще ничего не употребляет.
Веселое оживление Семена Адамовича раздражило и разозлило Дружникова до самой крайности. Мало того, что «жид» в карты выиграл, так еще и нахаляву выпьет! И только ему, Дружникову не везет! Вот тебе и удача. Выжмут из него в Мухогорске денежки, как пить дать. Этим работягам единый раз дозволь – все! На шею сядут, станут права качать. И кто будет каждый раз платить? Правильно, он, Дружников. Беляевы, дядя с племянником, один другого задошливей, копейки не дадут. Уговор был? Был. Все накладные расходы за счет управляющего, то есть за счет него, Генерального директора комбината. И хоть бы что взамен! Спасибо никто не скажет.
Только, почему же, ничего взамен? Вмиг гениальную на каверзы голову Дружникова посетила потрясающая идея. И очень много чего взамен! За такое и заплатить не жалко. Он даже позволит Вальке потратить немного денег, пусть откроет какой-нибудь тренажерный зал или сауну для своих работяг или чего там ему надо? Дружников повеселел, выпил с Квитницким и подмигнул старику: знай наших. Проигранных баксов стало уже не жаль.
Валька встретил его в заводоуправлении, был непривычно агрессивен. Что ж, вовремя он прилетел, вовремя. Вдвоем они заперлись в шикарном, двухкомнатном кабинете Дружникова, велели не беспокоить. Дружников, откинувшись в кресле и приняв усталый вид, выслушал от дорогого друга достаточно жестокие слова и местами прямые упреки. Ну, тем лучше.
– Ты прости меня. Что-то замотался я совсем, – словно оправдываясь, Дружников истомлено прикрыл глаза, потер ладонью лицо, отгоняя усталость. С удовлетворением, из-под опущенных век, отметил, что Валька обескуражено и виновато примолк. – Нет, ты прав, конечно. Это я болван. Думал, время еще ждет. Думал, управишься без меня.
– Я бы управился, – уже спокойно и немного жалобно ответил ему Валька, – да у завода денег нет. А где я возьму? Ты же директор и ты в совете. Вот и постановите каждый месяц отчислять.
– Совет денег не даст, – твердо сказал Дружников.
– Как, не даст? – изумился Валька. – Ты им скажи. У нас же места. Каркуша, Семен Адамович. И Порошевич за нас и финдиректор Дикой, Юрий Тарасович. Они тоже в совете. Это ж сила.
– Никакая мы не сила, – с великолепной печалью возразил Дружников. – Беляевы – вот сила. Единственная и неповторимая. У них контрольный пакет, значит, и все остальное тоже. А Беляевы копейки добровольно не дадут.
– Так ведь рабочие взбунтуются! – Валька опять впал в излишнюю горячность.
– Ну, взбунтуются, и что? Разгонят их палками и водометами по домам. Куда им деваться? Другой работы в Мухогорске нет. А так, какие-никакие копейки глядишь, заплатят. Или вообще. Беляевы добьются, чтоб их вредное производство включили в список предприятий, обслуживаемых заключенными. И тогда, полный привет.
– Олег, ты это серьезно? – Валька с ужасом смотрел в спокойное лицо Дружникова и чуть не плакал.
– Конечно, серьезно. Пока комбинат фактически принадлежит обоим Беляевым и тем, кого за ними не видно, все так и будет. А ты думал, дурашка, что я мерзавец этакий, на идеалы плюнул, палки в колеса нарочно вставляю? – Дружников с укоризной покачал головой. – Ох, Валь, горе одно с тобой. Мне и так солоно приходится: попробуй все дырки в Москве заткни, попробуй дяде и племяннику вовремя положенное не отдай, да и вообще, попробуй рыпнись. Еще лучший друг в тебя камнями швыряет.
– Да ведь так нельзя! Нельзя, чтоб здесь «зона» была, а людей честных на улицу! Людям платить надо! – исторг вопль из самого сердца Валька. Его трясло, будто под током.
– Конечно, надо. И, конечно, нельзя. Ну, ну, успокойся, заплатим, – Дружников подошел к Вальке, положил ему руки на плечи и силой вжал в кресло. Так держал, пока тот не затих и не перестал вздрагивать, как собака, которую бьют. – Вот и хорошо. Беляевы не дадут, заплатим сами. Из своих средств. Слава богу, зарабатываем мы достаточно. Не обеднеем. Завтра же велю перевести деньги из кипрского филиала. Сколько тебе надо?
– Четыре миллиона. Долларов, – горестно вздохнул Валька. – Это за полгода на зарплату. Да плюс долги. Да еще…
– Дам пять, – перебил его Дружников. – На остаток сделай что-нибудь полезное, что считаешь нужным. Ты хотел создать здесь райский сад, вот и начни пока с малого.
– Мне бы общежитие достроить, – пожаловался Валька, – да как оно будет потом? Может, сэкономить?
«Вспомнил, наконец, об экономии! Самое время! – осердился про себя Дружников. – Прямо кино и немцы!» Но вслух сказал:
– Не переживай, эти средства кончатся, дам еще. Но только, все это не дело. Временная мера, чтобы сейчас не потонуть. Пока дядя с племянником у руля, нам свободы не видать. А чем дальше, тем тянуть с нас будут больше.
– Но бесконечно же они не могут? – неуверенно спросил Валька.
– А им не нужно бесконечно. Выдоят все до капли, да и продадут комбинат кому-то другому, может, попросту обанкротят. Хрен редьки не слаще.
– Олег, но должен быть какой-то выход? – Валька с ожиданием и надеждой, как на оракула, посмотрел на Дружникова.
И оракул дал ответ:
– Выход есть. От Беляевых так или иначе надо избавляться, забирать завод целиком под себя. Я придумаю план, а ты обеспечишь удачу. Вот тогда, если потом поработаем, как следует, будут здесь и реки молочные и берега кисельные. Ну, что? Есть у тебя желание кинуть этих гадов? Смотри, с формальной точки зрения, это не совсем честно, – предупредил Валькину совесть Дружников.
– Ничего, я переживу. Я б их своими руками удавил, если б смог, – жестоко ответил ему Валька.
– На том и порешим. А денежки нам самим еще пригодятся. Вон, прокатный завод в соседнем районе можно бы прикупить, мы бы медный провод делали. Из своего сырья. Или банк открыть, или собственную авиакомпанию создать. Выгодное дело. И людям польза. Да мало ли что! Нам ли стоять на месте! Чтоб все было, как мы хотели! Помнишь?
– Помню, – вяло ответил Валька. Энтузиазм Дружникова на сей раз его почему-то не заразил.
– Ну, что ты, что ты? Гляди веселей. Или укатали сивку крутые горки? А ведь мы, брат, толком и не начинали. Может тебе передохнуть? – заботливо осведомился Дружников.
– Нет, нет, – испугано возразил Валька. – Это пройдет. Надо с дядей и племянником решать поскорей. Ты думай, а я тебе обещаю, что никакой «зоны» я здесь не допущу!
Уровень 29. Звонят, откройте дверь!
С кипрскими деньгами дело пошло куда бодрей. В рабочем поселке оживилась самогонная торговля, в городе возникли жизнерадостные, вездесущие азербайджанцы, открыли пару продуктовых точек и ларьков, что являлось верным признаком улучшения экономической ситуации. На заброшенных останках общежития зашевелились строители. А когда из далекого Таджикистана прибыл целый табор обтрепанных «гастарбайтеров» в предвкушении верного заработка, Валька понял, что жить становится лучше и веселей.
Самолично, сопровождаемый солидным Денисом Домициановичем, с которым, несмотря на разницу в годах, успел сдружиться, Валька обошел дощатые вагончики с таджиками, заглянул и к торговым людям из далекого Азербайджана. С таджиками говорил долго, Вальку они понимали через слово. Просил не клянчить и не воровать на улицах, взамен обещал нормальную, человеческую зарплату за чернорабочий труд на стройке, разрешил взять бесплатно немного материалов с объекта для обустройства в вагончиках. Детей велел свести в заводской душ, отмыть и доставить в городскую поликлинику на осмотр. Таджики, робко столпившись в кружок, смотрели на Вальку с вниманием, не галдели и не перебивали, кивали в ответ послушно.
– Ох, и разворуют они у нас полстройки. Зря ты, Валя, им разрешил, – с сожалением сказал Порошевич, когда они вместе покинули резервацию.
– Не разворуют, – уверенно возразил Валька. – Если ты уважаешь людей, то и они тебя уважают. А если уважают, то красть не будут. Да и зачем им красть? Они теперь заработать могут.
– Дай-то бог, – вздохнул Денис Домицианович, и во вздохе его было сомнение.
В палатках у азербайджанцев переговоры пошли живее. От имени восточных торговцев речь держал их старшина, которого все остальные звали Кямран-бей. Дюжий, складный брюнет, с породистым лицом, похожий на гравюрный портрет поэта Низами. «Ему бы с профессорской кафедры вещать, а не торговать с лотка дыней и арбузом», – невольно подумалось Вальке. Кямран-бей, узнав, кто именно пришел в его палатку, кинулся со всех ног к дорогим гостям, не теряя, однако, при этом достоинства. На Валькины пожелания торговать честно, ответил горячими уверениями в собственной порядочности и клятвами аллаху. Но и не преминул пожаловаться. Очень уж высокий бакшиш назначила местная милиция, так сразу не потянуть. Вот если бы скостить? И с просительной хитрецой заглянул в глаза всемогущему гостю.
– Никакого бакшиша никому не платить, – жестко постановил Валька. – А будут угрожать, сообщите в секретариат, мне доложат, – Валька протянул Кямран-бею визитную карточку с телефоном. – Главное, торгуйте без обмана. На комбинате труд тяжелый, и рабочему деньги даются нелегко.
– Об чем речь, многоуважаемый, да продлит аллах твои дни. Самая честная цена будет, лучший товар, – заверил Вальку Кямран-бей. И тут же подоспевший подручный сунул в руки Кямран-бею два объемистых пакета. – Вот, примите с уважением. Скромный дар от чистого сердца.
– Что вы, не надо, – Валька отстранил от себя оба пакета, свой и Порошевича, испугавшись, что Кямран-бей понял его неправильно и в скверном смысле.
Кямран-бей пакеты сразу отставил, и тяжко вздохнув, полез в поясную сумку. Извлек на свет щуплую стопочку американских долларов, выжидательно посмотрел на «дорогих» гостей, может, нужно дать больше.
– Этого совсем не надо! Да что же вы! – с досадой вспыхнул Валька, и, увидав в лице Кямран-бея полное и уже какое-то внеземное непонимание, торопливо пояснил:
– Ничего не надо! Вообще! Ни сейчас, ни потом!
Кямран-бей понял. Деньги убрал и обозначил поворотом головы легкий поклон. Вот уж, повезло, так повезло. Если этот странный русский не шутит, то ему посчастливилось заиметь покровителя на самом верху. Выше уж и быть не может. Видать, он, Кямран-бей, чем-то русскому приглянулся. Конечно, такого большого человека беспокоить по пустякам он не станет, и милиции платить, конечно, придется. Но Кямран-бей уже знал, что денег давать нужно будет куда меньше, и тут свою роль сыграет вот эта крошечная картонка с телефонами. Милиции неприятности тоже не нужны. Однако, так нехорошо. Кямран-бей решительно поднял с полу пакеты.
– Вот, многоуважаемый, от всего сердца. Отказать нельзя. Обида может быть. Ты пришел, как гость, принес добрую весть в мой дом. Справедливость принес. Нельзя так уйти. Я хороший хозяин, как отпущу гостя с пустыми руками? Одна дыня, немного гранат, чуть-чуть помидор. Возьми.
Валька смущено переступил с ноги на ногу, украдкой взглянул на Порошевича. Денис Домицианович коротко кивнул. Валька протянул руки, взял пакеты, один передал Порошевичу.
– Хорошо. Спасибо вам. Но только в следующий раз я заплачу. Иначе, больше к вам не приду.
Кямран-бей белозубо улыбнулся. Он был доволен. Когда Валька с Денисом Домициановичем уже отошли от его палатки к ожидавшей их машине, он, неожиданно для себя, выкрикнул им вслед:
– Я буду торговать честно! Слово Кямран-бея!
Денис Домицианович, неловко пристраивая в руках громоздкий пакет, однако, посетовал Вальке:
– Это все лирика. Но вот скажи ты мне, почему мы должны этой ерундой заниматься? Ведь есть же мэр, есть же городской муниципалитет в конце концов. В каждую бочку затычку не вставишь, каждую выгребную яму не вычистишь.
– Денис Домицианович, что говорить, вы же сами все знаете. Господину Извозчикову это, простите, до одного места. А порядок в городе должно навести. Ведь это ваш город. И мой теперь тоже, – кротко возразил ему Валька.
– Ох, нахлебаешься ты, мой милый, со своим идеализмом! Помяни мои слова. И я, старый дурак, вместе с тобой, – Порошевич беззлобно чертыхнулся. У его пакета с треском оторвалась ручка.
Тридцать первого марта Валька вылетел в Москву. Дел на комбинате было невпроворот, но пропустить первое апреля он никак не мог. Ни за какие златые горы и сахарные коврижки. Первое апреля был Анин день рождения. И если бы Мухогорск смело ураганом, смыло селем или даже весь ГОК рухнул бы в тартарары, то и это бы не удержало Вальку на месте. Верный Костя встречал его в аэропорту на новенькой «вольво-850». Удивленному шефу он пояснил:
– Закупили оптом. Пять штук. Три месяца уж как. Две в подарок туда, – Костя многозначительно возвел очи горе, – одну Квитницкому, одну на семейные нужды для САМОГО, одну, стало быть, вам.
– Ну и ладно, – миролюбиво согласился Валька. Настроение у него было отличное, и спорить не хотелось. Да и что машина, подумаешь? В сущности, ерунда. У Кости он спросил, не уточняя:
– Как вы тут без меня?
– Нормально. Вашу новую тачку Быковец тишком хотел пустить в разъезд для своих дел, ну, в смысле, пока вы в Мухогорске. Чтоб не стояла зазря. Только наш Олег Дмитрич врезал ему по рукам. Вот я целых три месяца дурака и валял. Родителей ваших когда возил, по мелочи. В общем, солдат спит, служба идет.
Валька велел Косте везти себя домой, но не на собственную квартиру, а на Комсомольский проспект. Маму и Барсукова он не видел черт его знает сколько времени, лишь порой звонил. И, понятно, теперь хотел сделать старикам приятное. Покупку подарка для Анюты он отложил на завтрашнее утро. К тому же, сказывалась и усталость.
Дома было все по-прежнему. Да и чему меняться-то за прошедшие пять месяцев? Мама охала вокруг Вальки, сетовала, что сын похудел, осунулся лицом, металась между комнатой и кухней, то и дело запихивала в него какую-нибудь еду. Барсуков тоже не умолкал ни на минуту. Сначала отчим, распираемый любопытством, одолевал Вальку вопросами, но, скоро уразумев, что Вальке вести беседу с набитым ртом неэтично и затруднительно, перешел на повествовательную стезю. Пересказал все-все подробности своего служебного житья-бытья за время Валькиного отсутствия, не опустив ни одной прозаической детали. И учетную статистику по успеваемости, и сколько отчислили студентов в последнюю сессию, и что ректор Садовничий похвалил его, Барсукова, грамотой, и что вновь Дружников расщедрился – подарил факультету с десяток ксероксов и огромный, дорогущий, лазерный принтер. И как ездил с водителем Костей несколько раз на работу и с работы на новенькой Валькиной иномарке. Так только, дабы доказать неверующим, что пасынок его непростой человек. Больше и не надо, у Викентия Родионовича и своя, отечественная «семерка» вполне хороша, и субординацию нужно соблюсти. У декана ведь такой машины, да еще с персональным водителем, не имеется, вот и не стоит дразнить гусей.
Вальке самодовольное воркование Барсукова отнюдь не мешало, наоборот, было приятно, оттого, что привычно. Оно служило как бы символом домашней стабильности и покоя: бодро развевающимся флагом на башне форта, означающим, что за стенами бастиона все в порядке и разумном равновесии. Барсукову он вручил подарок: сделанного из бронзы медведя на малахитовой подставке. В передних лапах мишка держал отбойный молоток, а внизу, по малахиту, шла выгравированная золотом надпись – «Мухогорскому ГОКу 60 лет». Викентий Родионович млеющим голоском пискнул от восторга и тут же объявил, что Валькиному презенту непременно будет видное место на его рабочем столе. Еще бы, думалось Викентию Родионовичу, штука солидная, и досужий посетитель не раз спросит, причем здесь Мухогорский комбинат и какое к нему отношение имеет заместитель декана по учебной части. Вот тогда у Барсукова выпадет не один случай похвастаться.
С утра пораньше Валька выехал в город на поиски подарка. Людмила Ростиславовна сначала попыталась выразить досаду на то обстоятельство, что, если бы не Анин день рождения, сын бы и не подумал навестить их в Москве, но осеклась на полуслове, словно вспомнила нечто. Проводила Вальку до двери, и уже на пороге с неожиданным для нее драматизмом, погладила сына по щеке.
– Все будет хорошо, родной мой. Все будет хорошо, – напутствовала его мама. Странными, тревожными словами.
Подарок Валька искал придирчиво и долго. Впрочем, как и всегда на Анютин день рождения. Первое апреля, День Дураков. Что же, дураком он был, им и останется. Пусть Анюта любит Дружникова, и пусть Вальке любить ее теперь нечестно. Все равно. Да и кому какое дело. Тому, что Анин день рождения приходился на знаковое число, Валька уже не завидовал. В новые времена неожиданно выяснилось, что и его собственная дата появления на свет имеет свое значение. В нынешней России вдруг стал известен и популярен зарубежный праздник Хэллоуин, отмечавшийся в ночь с тридцать первого октября на первое ноября, то есть, именно тогда, когда и родился Вилим Александрович Мошкин. День Всех Святых и разгул нечистой силы – самый подходящий для него день. Или, как сказал по этому поводу Дружников, «и ничего удивительного, как раз естественно».
Наконец, Валька выбрал в антикварном магазине на Арбате изящный, старинный глобус на деревянной резной подставке. Ручной работы и умопомрачительной цены. Всегда совестливый, когда дело касалось излишних трат на «предметы роскоши», Валька, однако, не ощущал никаких внутренних разногласий, если расходовал деньги в Анечкину пользу. То есть, как и большинство людей, он от всей души отдавал своим любимым то, что им было совершенно без надобности. Что ж, интимные подарки в виде украшений и предметов женского обихода – это прерогатива Дружникова, а вот глобус от верного друга – в самую точку. И Валька поехал вместе с глобусом в дом академика Аделаидова. В первый раз. Впрочем, выбора у него не было. Почему-то в этом году Аня наотрез отказалась справлять день рождения вне дома, как Валька ни уговаривал ее по телефону. Категорично заявив, что либо он приедет к ней на квартиру, либо может не поздравлять ее вообще. И Валька согласился. То ли потому, что старые боль и раскаяние с течением времени поистаскались от частого употребления и потеряли свою остроту, то ли потому, что Валькина нынешняя деятельность во благо человечества начала приносить свои первые плоды искупления. Но Валька чувствовал, что хоть и не может до сих пор прямо смотреть в глаза академику, однако, посетить квартиру на Котельнической ему станет вполне по силам. Тем более, если это единственный способ увидеть Аню.
У подъезда на Котельнической набережной Валька, не без Костиной помощи, выгрузил из салона громоздкую, обернутую посеребренной бумагой, коробку. Огляделся вокруг. Невдалеке стояли новый шестисотый «мерседес» Дружникова и его джип с охраной. От джипа уже спешил расторопный Муслим помочь с коробкой и просто поздороваться. Валька встретил его приветливо, не отказался и от помощи. Одновременно тащить коробку и огромный букет из двадцати пяти роз ему было бы затруднительно. У самого подъезда в ряду чистеньких иномарок стояла такая же точно «вольво», как у него. Валька кивнул в сторону нарядной машины, мол, смотрите, забавное совпадение. Но Муслим его заблуждение тут же разъяснил:
– То Анны Палны тачка. Хозяин ей подарили.
– Неужто, взяла? – вслух удивился Валька. Это как же интересно Олег ее уговорил? – А ее «девятка» где? Сломалась?
– Да не-е. В этой теперь безопаснее, – загадочно пояснил Муслим.
«Ну и ну! Вот дела!», – не переставал удивляться про себя Валька все время, пока они с Муслимом поднимались в лифте на восьмой этаж. На лестничной клетке у двери академика Аделаидова прямо-таки Геркулесовыми столпами торчали еще двое охранников в строгих костюмах и с переговорными устройствами, спиральной лапшой повисшими на ушах. Валька непроизвольно поморщился. Олегов чрезмерный выпендреж с охраной был ему непонятен. Но, бог с ней. Один из столпов уже звонил в «академическую» дверь.
Навстречу Вальке легкой рыбкой выплыла нарядная, улыбающаяся Юлия Карповна, помогла раздеться. Аня, которая всегда, насколько он помнил, стремительно вылетала первой навстречу гостям, в прихожую не вышла вовсе. «Может, занята», – рассеянно подумал Валька. Он был обеспокоен тем, чтобы придать букету и подарку в своих руках наиболее торжественное положение. Юлия Карповна проводила его в гостиную, откуда доносился приятный и праздничный разноголосый гомон.
Валька вошел и увидел Аню сначала со спины. Она стояла рядом с Леной Матвеевой и давней своей университетской подружкой Кариной возле накрытого стола. На зов Юлии Карповны она повернулась к Вальке, сделала несколько тяжелых шагов ему навстречу.
Валька увидел всю ее и обомлел. Коробка и букет уже скользили из его обвалившихся рук на пол, Юлия Карповна и случившийся неподалеку Зуля еле успели подхватить и то и другое. Но Валька уже не помнил, зачем явился в дом к академику. Он даже позабыл о поздравлениях и о простом словесном приветствии, только молча и в упор, невежливо и прямолинейно смотрел на Аню. Бог его знает сколько времени. Теперь ему были понятны Анин отказ справлять торжество вне дома, иномарка у подъезда, и даже мамины прощальные слова. Почему он неожиданно испытал глубокий шок, тем более от вполне естественной в природе вещи, Валька и не старался себе объяснить. Да и не мог. Просто для него в этот миг рухнуло нечто, находящееся вне разума и сознания, и внутри взамен возникло лишь стойкое ощущение непоправимой катастрофы.
Аня тоже не нашла слов, чтобы вывести Вальку из его окаменелого состояния. Да она и не предвидела такой реакции. И теперь также молча глядела на Вальку, словно выжидая чего-то. Но ничего не происходило. Анечке стало неловко, будто она вдруг почувствовала себя голым королем. Кровь прилила к ее бледным щекам, заливая их краской необъяснимого стыда. Больше всего на свете ей хотелось спрятать с глаз долой свой огромный живот, или хотя бы немного втянуть его в себя. Но ни то, ни другое было невозможно. А Валька все смотрел.
– Эй, ты чего? – раздался рядом чей-то голос. И Валька явственно ощутил болезненный тычок в правом боку. Да это же Ленка Матвеева! Он вдруг спохватился, полностью пришел в себя.
Ему уже совали обратно в руки подарок и букет. Послышались смешки, впрочем, беззлобные. Надо было собраться, и любой ценой. Многолетние тренировки по внутренней концентрации помогли Вальке это сделать.
– Извините, ради бога. Я не знал. Я даже как-то ошарашен, – Вальке удалось вполне натурально улыбнуться и смущенно чуть развести в стороны руки, занятые коробкой и цветами. – Это же здорово! Стало быть, у меня есть два повода для поздравлений, – и он вручил, наконец, Ане глобус и розы.
Валька поцеловал Анюту в щеку, склонившись к ее лицу издалека, чтобы ненароком не задеть живот. Она приняла поцелуй с некоторой обреченной покорностью.
– Олег, ну ты и жук! Ничего ведь не сказал, и это лучшему другу! – упрекнул Валька Дружникова. Тот стоял у окна и о чем-то тихо беседовал с академиком Аделаидовым. Сцену с подарком он пропустил, увлеченный разговором, и теперь повернулся на Валькин окрик.
– Здорово! Я думал, ты давно знаешь! – Дружников был непритворно удивлен. Он подошел к Ане, крепко, но и осторожно обнял ее за плечи. – Нам уж рожать через две недели. Ну, ты даешь!
– А кто будет? – поддельно весело поинтересовался Валька. Руку Дружникова на Анином плече ему не хотелось замечать.
– Мальчик! – гордо и чуть хвастливо ответил Дружников.
– Павлик, – тихо, ни на кого не глядя, сказала Аня.
– Ну, да. В честь отца, – пояснил Дружников, как нечто, само собой разумеющееся.
Потом гости сели за стол. И Валька тоже сел. Не очень-то обращая внимание, что место ему отвели, немного нарочно, рядом с Константином Филипповичем. Он даже заговорил с академиком, и вполне легко посмотрел старику в глаза. Правда, ни самого Аделаидова, ни его лица Валька по-настоящему не видел. Но все равно некая незримая черта между ними стерлась раз и навсегда. Плохо это или хорошо, Валька вот так сразу не смог оценить. Но мимоходом решил, что скорее плохо. С противоположной стороны внушительных размеров стола на него несколько раз вопросительно взглянул Дружников. Валька сначала не понял, но после сообразил. Скосил в ответ взор на академика и отрицательно покачал головой. Дескать, все в порядке, не парься. Дружников вроде бы удивился, но может, Вальке это только показалось.
Банкет в честь именинницы он запомнил частями, просто потому, что быстро напился. Впрочем, безобидно и незаметно для окружающих. Квартира академика сквозь хмельную дымку даже показалась ему приятной. Большая, но уютная, с громоздкой мебелью, не то, чтобы антиквариат, но и не современная гарнитурная легковесность. Его глобусу тут будет славно, невольно и вдруг подумалось Вальке. И еще ему отчего-то непременно захотелось увидеть комнату, в которой когда-то жил Борька. Зачем? А низачем. Валька, внутренне пошатываясь, тихо отправился на экскурсию по квартире. Его никто не удерживал, мало ли что, может, человеку нужно в туалет. Но Борькину комнату он опознать не смог… Внезапно он оробел, и печальный, остановился в коридоре, возле полуприкрытой двери в ванную. Стоял, уперевшись одной рукой в прохладную стену. Пока кто-то не подошел к нему сзади и не обнял за пояс, осторожно и непререкаемо. Это была Лена.
– Худо тебе? – спросила она непонятно о чем.
– Угу, – ответил ей Валька. Но он имел в виду не последствия от выпитого.
Однако Лена поняла правильно.
– Все отравлено. Все, что дорого. Везде яд. Он уже течет ручьем. Отовсюду, к чему бы он ни прикоснулся. Мы скоро задохнемся. И начнем погибать. Как в Чернобыле.
Последнее слово ударило Вальку, будто пылающий огнем бич. Божий бич.
– Как? К чему здесь Чернобыль? – он в испуге попытался оттолкнуть Лену прочь, но только завалился на ее плечо. Подумал: «хорошо, что она держит меня».
– Ни к чему. Это я так, для сравнения, – успокоила его «глупышка» Торышева. Впрочем, нет, она теперь Матвеева.
– Ты не любишь Олега, – Валька не спрашивал, лишь констатировал факт. – Он очень хороший, он мой лучший друг. А ты дура. А я задыхаюсь, и все мы задыхаемся. И скоро сдохнем. Так какая разница?
– Я не хочу, – без всяких эмоций ответила Лена, совсем не обидевшись на «дуру». Она все еще держала Вальку на своем плече.
– И я не хочу. Но ничего не поделаешь, – ответил Валька. Вдруг неожиданно для самого себя, с высоты своего роста он уткнулся ей в волосы, растрепав прическу, и попытался заплакать. Но слезы не получились, вышел лишь приглушенный вой. Так скулил бы выбракованный щенок, которого хозяева из жалости не стали топить, а вынесли в коробке на помойку.
Лена невесомой рукой гладила его по щеке у виска – все равно он не мог перестать, и сдавлено стонал. А в голове, сквозь алкогольную пелену, пробивалась в темноте одна мысль. Сможет ли все-таки Бог создать камень..?
Уровень 30. Джокер в колоде
Дружников скоро придумал. План, простой, как все гениальное. Как заставить дядю и племянника Беляевых расстаться, причем совершенно добровольно, с принадлежащим им пакетом акций.
– И плевать по какой цене, возьмем кредит. Тебе организовать такую ерунду – раз плюнуть. Может, и желать ничего не надо. Под Мухогорский ГОК нам любой банк даст. Да еще упрашивать будут, – разъяснял Вальке детали операции Дружников. – А Гене Вербицкому какая разница, с кем спать? В смысле, иметь дело? С нами даже лучше. Все ж таки, свои люди. Он и сам не допустит, чтобы завод попал в чужие руки.
Так-то оно так, думалось Вальке, но уж очень рискованное предприятие затеял его друг. Отважное, и на Валькин взгляд, совершенно справедливое. От самого же Вальки требовалось лишь пожелать Дружникову удачи в одном единственном разговоре. По сути, разговор этот представлял собой примитивную форму доноса, но так Беляевым и надо. Как говорится, кто с мечом придет. О подлинных намерениях дяди и племянника Валька ни малейшего понятия не имел, прямого общения с ними избегал, а Дружникову на слово верил безоговорочно. К тому же затея Олега совсем не казалась Вальке закулисной подлостью. В ней скорее было нечто, отдававшее Шервудским лесом и затаившимися в нем Робином Гудом «со товарищи».
А затевал Дружников смелую до глупости каверзу. Имея некоторые связи наверху, недаром же он окучивал Московские огороды, Дружников решил выступить с легкими жалобами и тяжелыми разоблачениями перед знакомым ему Помощником. Страшно сказать, самого Президента. Разоблачать он, само собой, имел в виду дядю и племянника Беляевых. И за приличную мзду. Сложность заключалась лишь в том, что и Беляевы имели не одну волосатую лапу там, где надо, и тоже могли влиять на настроения в верхах. Но у Дружникова была козырная карта, которая дяде и племяннику даже во сне не снилась. Валька. Именно Валька мог сделать так, вернее, пожелать, чтобы Помощник выслушал и принял близко к сердцу интересы именно Дружникова, и мзду бы возжаждал принять только от него и ни от кого другого. А затем натравил бы на неудачливую родственную парочку Генеральную прокуратуру. Нет, конечно, никто не собирался упечь Беляевых на ту самую «зону», которую, по уверениям Дружникова, они мечтали воссоздать в Мухогорске. Тут и у Вальки, и у Дружникова руки были коротки. Но вот явственные пожелания, идущие с головокружительной высоты власти, и тонкие намеки должны быть поняты дядей и племянником с полуслова. Собрать манатки и денежки, какие удастся прихватить, и убираться с глаз долой на тропические острова или западноевропейские просторы, по желанию. Сидеть там тихо и не отсвечивать.
Дружников обещался все сделать сам, от Вальки требовалось, когда наступит ответственный момент, пожелать ему удачи в бою. Дружников, вместе с опасливым Каркушей и бесшабашным, на все готовым финдиректором Кадановкой составили с акробатической ловкостью необходимый документ. Позволявший в случае нужды взять Беляевых за горло. Ну, или за то место, за которое обычно принято брать слишком удачливых бизнесменов. От всех остальных заинтересованных лиц, план, само собой, держался в строжайшей тайне. Да и Каркуша с Кадановкой мало представляли, какой именно цели послужат хитро подобранные и составленные бумаги.
Когда настал день «икс», Валька прибыл в Москву. Ему казалось, что в столице, вблизи места непосредственного действа, собраться будет легче. Дружникову тоже добавляло уверенности Валькино присутствие. Мало ли что, вдруг флюиды окажутся менее эффективны на расстоянии.
У Вальки имелась и еще одна причина, по которой он со всем пылом души втравился в это, прямо скажем, не самое красивое на свете предприятие. Недавно, всего месяц назад, на свет появился маленький Павлик Дружников. И это событие странным образом перевернуло Валькино мироощущение. Аню, после злополучного дня рождения, он не навещал, и почему-то, не желал этого. Он даже не поздравил ее, ни лично, ни по телефону, а все нужные к случаю слова произнес перед Дружниковым, с ним и выпил за здоровье матери и младенца. Но вот сам новорожденный Павлик… В Валькином сознании этот ребенок вызвал неожиданную метаморфозу. Павлик, которого Валька ни разу не видел даже на фотографиях, каковых пока не имелось в наличии, не ассоциировался для него никоим образом ни с Аней, ни с Дружниковым… А с покойным папой Булавиновым, чье имя малыш и унаследовал. И Валька полюбил его заочно, как продолжение чего-то такого в своей жизни, что безвозвратно ушло и потерялось во времени, а вот теперь отчасти вернулось. Ему захотелось, чтобы Павлику хорошо было в мире, в котором он как бы заново родился. Чтобы к моменту, когда Анин ребенок вырастет, и станет понимать, в этом его мире не существовало «зон» на месте рабочих поселков, старух с голодными глазами, интеллигентных профессоров с растерянными лицами, и бритоголовых братков с диктаторскими «пушками». Поэтому – надо помогать и отцу Павлика, который, конечно, далеко не ангел, как с некоторой печалью начал осознавать Валька, но все равно, лучший и любимый его друг. Вдобавок твердо знающий, что именно требуется сделать для светлого будущего, пусть и не вполне чистыми руками. И Валька поневоле впадал в весьма распространенное человеческое заблуждение о том, что грязные методы при достижении благой и высокой цели могут не опорочить последнюю и не превратить ее в свою же противоположность.
Итак, Дружников отбыл с эскортом на знаковую в своей судьбе встречу. А Валька заперся наглухо в его кабинете, отключил мобильный телефон, и категорически велел секретарше Вике ни с кем его не соединять. Даже если на офис «Дома будущего» начнут падать камни и сера с небес, а хулиганы сообщат, что в подвале заложена бомба. Длинноногая, пышногрудая Вика сильно удивилась Валькиному распоряжению, отчего ее кукольное личико приняло туповатое выражение, но, как и положено классной секретарше, на словах не выразила ничего, кроме: «понятно» и «хорошо». Своим рабочим местом Вика дорожила.
«Дом будущего» занимал уже не этаж, а все здание целиком, выкупленное у окружного муниципалитета в бессрочную аренду. Старый, поверхностно отреставрированный особняк теперь напоминал деловито гудящий муравейник. Шумы от его неустанной, хлопотливой деятельности пробивались и через наглухо запертую дверь кабинета, но Вальке они нисколько не мешали. Сосредоточиться он мог и в самой нерасполагающей к медитациям обстановке. Его нынешнее уединение скорее служило некоей данью ритуалу, сопровождающему особо важные пожелания удачи. Но вот странное дело, сказал Валька сам себе, устраиваясь поудобнее в огромном, монументальном рабочем кресле Дружникова, собственно вихрь удачи уже давным-давно не является ему. С тех самый пор, как он, Валька, полностью посвятил себя делам Дружникова. Ни один человек после его дорогого друга не был более удостоен его симпатией в мере, достаточной для явления вихря. У Вальки словно бы не оставалось на это душевных сил. Но он прозревал и иной, истинный ответ. Вихря, красочного и полного восторга, отныне не будет никогда. Он обменял его на сомнительную способность искусственного управления личными эмоциями и утилитарное, насильственное использование своего дара. И вовсю отныне колол орехи королевскими печатями, как нищий принц у Марка Твена.
Зато оставалась стена. К ней и за нее дорога была открыта и доступна в любое время. Но Вальку это обстоятельство мало сказать, что не утешало.
Однако, настала пора сосредоточиться, и Вальке пришлось отбросить посторонние переживания. Что он и сделал, быстро, привычно, легко.
Дружников прибыл на встречу в точно оговоренное время, но дожидаться ему все же пришлось около получаса. Неофициальное рандеву было назначено в номере гостиницы «Националь», словно бы невзначай, но Дружникова именно такая осторожность Помощника устраивала более всего.
Разговор начался и покатился в нужном Дружникову направлении с поразительной легкостью. Помощник не только слушал внимательно, но и с немалой долей доброжелательности, словно именно к Дружникову он ощущал особенное расположение. «Валька. Это, конечно же, Валька. Делает свое дело», – отметил про себя Дружников, не прерывая, однако, изложения вопроса Помощнику. Но внутренне он позволил себе немного расслабиться. Уже было ясно, что и Помощник, как многие до него, находится в состоянии горячей заинтересованности и внезапно вспыхнувшей симпатии к нему лично, и не мечтает ни о чем ином, как принять участие в предстоящей авантюре. Правда, сумму за участие Помощник обозначил несколько выше той, на которую рассчитывал Дружников, и, видимо, никакой Валька своекорыстие важного чиновника ослабить бы не смог. Но Олег Дмитриевич согласился не раздумывая. Важно было, что Помощник ответил принципиальным сотрудничеством. Расстались они чуть ли не друзьями.
Вернувшись в офис, Дружников сообщил Вальке: дело, считай, сделано. Более того, Помощник клятвенно заверил Дружникова, что о его личном вкладе в устранение дяди и племянника никому, а последним в особенности, ничего известно не будет. Вальке теперь предстояло вернуться на завод, а Дружникову продолжать старания в Москве.
Через неделю Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. О государственных хищениях в особо крупных масштабах. Дружников ощутил себя на утыканном иголками стуле, с которого он не имеет возможности встать, а должен выжидать и высиживать положенный срок. Однако, рассиживаться ему было по сути некогда. Не сегодня-завтра, если Беляевы не полные идиоты, они выйдут на него с интересным предложением, а, чтобы это предложение принять, Дружникову необходимо иметь в своем распоряжении достаточную денежную сумму. Стало быть, предстоят хлопоты.
Но ни хлопоты, ни напряжение охотничьего азарта, ни ощущение головокружительного риска, вызывавшее кризисное состояние нервов, не портили настроения Дружникову. Он ОЩУТИЛ. Нечто, чего в помине не было раньше. Его удача давала след. Хотя слово «след», пожалуй, и не являлось точным определением. Скорее она увеличила свою внешнюю протяженность. До этого момента Валькина удача была строго конкретной и направленной, то есть действовала в заданном секторе некоторое, ограниченное время. А в периоды между пожеланиями паутина выполняла скорее охранительные функции, хотя несла с собой некий общий благоприятный фон, однако, не прогнозируемый в своих проявлениях. Теперь все было иначе. Дружников будто видел, но не глазами, меру отпущенной ему удачи, напоминавшую комету с хвостом. Откуда-то само собой он понимал, что, пока хвост тянется и не сойдет на «нет», его можно поворачивать и им можно управлять. Дружников попробовал, и действие у него получилось, хотя потребовало немалых усилий. Нет, конечно, это не были полноценные желания, потому как не выходили за рамки хвоста кометы. Но вот, к примеру, влиять в нужную сторону на Помощника в процессе их дела он сумел и сам, не обращаясь за помощью к Вальке. Более того, Дружников точно знал, как это сделать, словно внутри него паутиной было заложено некое руководство по употреблению, которое и раскрылось перед ним в назначенное время. И порой, внутри себя, не в физическом теле, а как бы вытекая из его сущностного «я», Дружников улавливал легкие движения. Будто нечто, крепко спавшее до поры, вступило в стадию пробуждения, вот-вот очнется от дремы и уже ворочается и подает признаки жизни. Он не сомневался ни минуты в том, что это такое. Вечный двигатель в нем почти оформился и созрел, еще немного, и он начнет свою работу. Ставить в известность Вальку о происходящих с ним переменах Дружников не спешил, точнее сказать, он не собирался этого делать. Оружие увеличивает свою силу оттого, что пребывает в секретности. К тому же Валька мало чем мог помочь Дружникову. Насколько Олег знал, сам Валька никогда не ощущал удачи и ее потоков внутри себя, а только вне, по отношению к другому. Его чувства ограничивались восторгами от кружения и взрывов вихря. И Дружников знал, почему это так. Валька был лишь податель жизни вихря, Дружников же был его владельцем. Так отличается врач, дающий лекарство пациенту, от самого больного, внутри которого лечебное химическое вещество производит свое действие. Врач наблюдает, прописывает и советует, но изменения происходят не в нем.
Дружников, хоть отныне и был уверен, что все правда, и надежды его сбудутся, однако, приготовился к ожиданию. Впрочем, ждать теперь предстояло легко и радостно, ибо присутствовала уверенность в конечном успехе. Но вряд ли это случится завтра. Чтобы достаточно окрепла паутина Татьяны Николаевны Вербицкой, понадобилось без малого пятнадцать лет, и даже сейчас Валька время от времени продолжает ее питать, хотя и нечасто. Вечный двигатель у Татьяны Николаевны не получился. Сам он на протяжении восьми лет вбирал в себя мощнейший поток пожеланий удачи, и вот только-только ему вышло первое обещание на будущее. Но вышло. И это было важнее всего. Дружников, находясь во власти внезапного радостного порыва, хищно потер руки. Ничего. Он подождет. Подождет.
Беляевы вскоре действительно потребовали от Дружникова спешной и тайной встречи. Словно царские офицеры, ищущие спасения от ВЧК. Судя по всему, земля плавилась и утекала в трещины под их заплетающимися ногами. Дружников предусмотрительно пригласил на встречу и Вербицкого. Слухи о кознях, затеянных прокуратурой, шустрыми блохами давно прыгали по деловым кругам, и Геннадий Петрович, понятно, был в курсе событий. И даже, к радости Дружникова, первым высказался о возможности обращения к ним дяди и племянника с интересным предложением. Дружников и Вербицкий тут же и составили комплот. Об участии Олега в инсценированном гонении на обоих Беляевых сам Геннадий Петрович ничего не знал, Помощник сдержал свое дорогостоящее слово. Да если бы и узнал, то все равно бы изумился и не поверил. Дружников, слов нет, человек рисковый, но не безумный.
Переговоры были стремительны и бурны. Дружников выиграл и их. И опять не без Валькиного участия. Однако, вмешательство его дорогого друга ныне не задевало Дружникова. Скорее наоборот, неудержимое его желание кричало и требовало: «Больше, больше удачи!». Каждый лишний кирпичик, заложенный Валькой в основание его нового будущего, приближал вожделенный час освобождения.
Акции переделили по-новому. Пятьдесят один процент «Дому будущего», читай, Дружникову, двадцать пять Вербицкому и его друзьям, остальные решено было оставить до поры в руках второстепенных вкладчиков. Беляевы тихо отбыли на постоянное место жительства: дядя – в гостеприимный Израиль, племянник – в далекие американские штаты. На заводе состоялись внеочередные перевыборы, и Дружников отныне являлся не только Генеральным директором ГОКа, но и Председателем совета его директоров. А для Вальки места в совете опять не оказалось. И он опять не придал этому никакого значения. Хотя даже для «Армяна» нашлось директорское кресло.
Впрочем, положение Вальки на комбинате никак не изменилось. По-прежнему все внутренние заводские дела лежали на его плечах. Дружникову было не до мелочей, связанных напрямую с управлением комбинатом, да и вряд ли теперь он мог бы соперничать с Валькой в этой сфере. К тому же он готовил новый захват. И атаковать намеревался сразу в нескольких точках. В первую очередь Дружников начал конкретные переговоры для выкупа производства медного кабеля и проволоки в соседнем районе, что давно уже собирался сделать, но мешала морока с Мухогорскими делами. Теперь руки у него были развязаны. К тому же требовалось как можно скорее осуществить договоренность с Вербицким и посадить на обещанное им место советника по экономике при Каляевском губернаторе своего человечка, пока Геннадий Петрович не передумал. Место то выходило гиблым, и работа на нем предстояла грязная, но и намеченную на место кандидатуру Дружникову было ничуть не жаль. Он намеревался пересадить с ухоженной московской делянки под бок губернатору Зулю Матвеева, нежелательного и обременительного свидетеля собственного темного прошлого. Рано или поздно от Матвеева придется отделаться, так пусть еще раз послужит на пользу Дружникову. Олег Дмитриевич был умен и дальновиден, и предчувствовал уже сейчас, что настанет такой момент в его головокружительном подъеме, когда и сам Геннадий Петрович Вербицкий окажется ему помехой. Дружников хотел себе в будущее владение целую область, да и ту, как ступеньку на следующий этаж власти. Сани же он привык готовить летом. Одна только сложность неперепрыгиваемой канавой виделась ему на пути. Вербицкий – это тебе не Беляевы. За ним – Татьяна Николаевна, за ней вихрь, а за ним Валька. Тут нахрапом не возьмешь. Но Дружников не сдавался и в более безнадежных ситуациях, не собирался делать этого и сейчас.
Валька, на другой день после выборов нового совета, словно ангел, несущий благую весть, радостный вошел с утра в кабинет к Денису Домициановичу:
– Что же, поздравим другу друга. С победой. Наш теперь завод, и мы на нем хозяева. Ох, и натворим мы с вами дел! – и Валька чуть ли не полез обниматься к Порошевичу. Но выражение лица Дениса Домициановича его осадило и сбило с толку.
– Валя, не пойму, чему ты радуешься? – тревожно и грустно спросил Денис Домицианович. – Нас вчера раздели и распяли, а завтра пустят по миру. Я, конечно, и мысли не допускаю, что ты тоже приложил к случившемуся руку – вон, тебя даже в совет не пригласили. Но и твоих восторгов я не понимаю. Или ты, быть может, как раз сегодня утром сошел с ума? К общему прискорбию.
– Денис Домицианович, дорогой! Да что это с вами? Ведь Беляевых нету больше. И контрольный пакет у «Дома будущего»…
– То-то и оно. Последний, слабый, кордон разрушили. Теперь беспредел начнется. Беляевы, те хоть местные были. Можно даже сказать, свойские. Один брат бывшего первого секретаря обкома, покойного Юрия Кондратьевича, светлая ему память, другой – сын. У них совесть, пусть какая-никакая, но присутствовала. И оба люди вменяемые. А нынче все. Приплыли. Твой Дружников – это худшее, что могло случиться с комбинатом.
– Господь с вами, Денис Домицианович! Все как раз наоборот, – поспешил разуверить его Валька, несколько изумленный неожиданным выпадом Порошевича. – И вы никогда раньше плохо про Олега Дмитириевича не говорили.
– Не говорил. Не в моих правилах хаять в лицо близкого тебе человека. Вы ведь с Дружниковым не разлей вода. Хотя ума не приложу, что может связывать таких различных между собой людей. Да я грешным делом думал, что ты и без меня все про своего дружка знаешь. Выходит, был не прав. Выходит, ты, Валя, куда больший дурак, чем я предполагал, – с некоторым вызовом постановил Порошевич.
– Уверяю вас, вы ошибаетесь. Об Олеге Дмитриевиче многие и до вас имели негативное впечатление. И меняли его впоследствии. Все отныне будет по-другому. И на комбинате, и в Мухогорске начнется новая, замечательная жизнь. Ну, я вам обещаю, – в Валькином голосе слышалась и мольба.
– Могу себе представить, – ответил Порошевич, и будто закрыл вопрос. Но и счел уместным напутствовать Вальку странными словами:
– Вот что, Валя. Чтобы ни случилось, ты запомни. В любой момент ты можешь прийти ко мне – моя дверь для тебя открыта. И мой тебе совет: поскорее очнуться и понять, на каком ты свете. И с кем. Не то поздно будет.
Больше к этому разговору ни Валька, ни тем более Порошевич не возвращались. Хотя между ними возникло нечто, вроде тайного содружества, сильно отдающее подпольем. И Валька, даже против собственного желания, впервые за весь срок своей дружбы с Олегом, задумался о том, что же в действительности видят его глаза и слышат уши. Но время для выводов еще не настало. Время же для исправления ошибок было безнадежно упущено. Валька об этом не знал.
Уровень 31. Точка возврата
Как ни пытался напугать Вальку тягостными пророчествами Денис Домицианович, жизнь в Мухогорске текла именно тем чередом, который на радостях предположил и предсказал Валька. Реальная власть на комбинате, а значит, и в городе, перешла в руки «вечернего» клуба. Если же в совете вспыхивали внезапные и частые очаги несогласия, то Порошевич и Юрий Тарасович Дикой, как полновесные директора с правом голоса, бросались в бой и тушили зловредное пламя. Дружников в дрязги на совете не вмешивался, был нейтрален и словно бы равнодушен к исходу сражений, хотя речь шла об ограничениях его же собственной сверхприбыли. И потому лагерь «вечернего» клуба побеждал. Совет советом, но раз хозяин контрольного пакета самоустранился и молчит, стало быть и последнее слово будет за теми, кому принадлежит действительная, а не номинальная власть над комбинатом.
Особые хлопоты доставляли клубу «Армян» и капризный Семен Адамович, иногда к ним примыкал и Кадановка, тоже вошедший в совет, но был непостоянен, как ветреная барышня. Серега Кадановский своим голосом дорожил, и бесплатные услуги не числил в добродетелях. Потому, всякий раз за его участие «Армяну» и Квитницкому приходилось делиться с Кадановкой куском. Дружников финдиректору на беспринципную корыстность не пенял. Его забавляли и претензии Кадановки и его флюгерные выкрутасы, так легко управляемые и прогнозируемые с помощью переменчивых денежных течений. Для «Армяна» и Семена Адамовича финдиректор служил своего рода жупелом, дохлым насекомым в тарелке вкусного борща, головной болью и свечкой от геморроя одновременно. Дружникову же он все более нравился, а суетная маята «Армяна» и Квитницкого с привлечением зыбкого в моральных устроениях Кадановки на свою позицию доставляла созерцательное удовольствие. Тем более, что финдиректор допускал вольности только до тех пор, пока их допускал в свою очередь Дружников, и никогда не стал бы он плеваться против встречного ветра. Иванушка Каркуша в тех баталиях не участвовал, старался делать вид, что его лично не интересует ничего, кроме юридической документации.
Скоро члены клуба установили тот факт, что зловредный тандем «Армяна» и бывшего начальника сбыта можно отчасти нейтрализовать, предоставив им внешние привилегии. Так были им выделены и роскошно обставлены несколько дополнительных кабинетов, отремонтирован специально для утех и загородный директорский дом отдыха. Клуб старался не замечать ни их барской бесноватости, ни масштабных попоек с мэром Извозчиковым на лоне природы и в гостинице, ни мелких безобразий с местным женским полом, ни темных делишек с муниципальной городской казной. Дружников тем временем продолжал сохранять безучастный вид.
А в жизни Вальки случилось и приятное обстоятельство. В область из Москвы переехал старый его друг Зуля. Оставив неплохое и перспективное место в министерстве финансов, где, между прочим, Матвеев успел дослужиться до начальника отдела, однако, не без помощи некоего Дружникова. Лично Вальку выбор Матвеева, мало понятный для успешных столичных делопроизводителей, ничуть не удивил. Что же, Олег умел увлечь за собой куда более несговорчивых и высокопоставленных бонз. Валька рад был и тому, что старый его школьный приятель теперь причастен к одной с ним идее, и плывет в той же лодке. Матвеев часто наезжал из областного Каляева в Мухогорск, повидаться и поболтать, иногда и просто распить бутылочку в дружественном кругу. Из его отрывочных замечаний, впрочем, случайных и без лишней откровенности, Валька понял, что Матвееву на его месте в области приходиться несладко. Что Дружников вынудил его занять позицию конфронтации по отношению к губернатору и людям Вербицкого, а сам никак не пытался при этом защитить или поддержать Матвеева, делал вид, что новый советник действует исключительно по собственной инициативе. Зуля в результате собирал на свою шкуру все злоядные колючки административного чертополоха. То есть, попросту был для губернатора и его приближенных чужим, нежелательным элементом, изгоем, гнойным фурункулом, который и сам не пройдет, и резать его опасно. Матвеев в последнее время стал выглядеть неважно, потерял былой лоск, осунулся лицом и несколько опустился в быту. Лена переехать в Каляев не пожелала, да и служба удерживала ее в Москве. Но Валька знал, что Зуля отнюдь не живет монахом, то и дело заводит необременительные связи, в основном с женщинами в возрасте. Что тоже не добавляет ему популярности в губернаторском кругу. Однако, Зулины намеки и смутные жалобы рождали некоторые недоумения. О чем однажды Валька и сказал напрямую:
– Может, ты чего-то недопонял или понял неправильно? Зачем Олегу настраивать тебя против Геннадия Петровича и его окружения? Ведь мы давно уже одно дело делаем. Да без Гены вообще бы нашего «Дома будущего» не было. Мы, так сказать, вечные и благодарные союзники.
– Там своя политика, – уклончиво ответил Матвеев. Было видно, что разговор о Вербицком ему не нужен и неприятен.
Но Валька нежелание Зули проигнорировал, на его взгляд вопрос следовало разъяснить до конца:
– Может, Олег не причем? Может, ты затеял игру на свой страх и риск? Зуля, это так?
– Так, так! Все, доволен? Вот, я сознался! И хватит об этом! – внезапно сорвался в визгливом, гневном вопле Матвеев. Потом, однако, взял себя в руки:
– Я тебе ничего не говорил, ты от меня никаких комментариев не слыхал. Может, я не так понял. Может, Дружников не так сказал. И довольно, и будет. Я к тебе приехал отдохнуть и расслабиться, а ты из меня душу вымораживаешь.
Матвеева же Валькин штурм не на шутку испугал. Зуля корил себя за несдержанность, за распущенные нюни, за легкомысленное беспамятство. С кем говорил, и, главное, зачем? Валька в этой игре за болвана, а он к нему за сочувствием! Матвеев-то прекрасно понимал, что от него надо Дружникову. Что Дружников представляет из себя на самом деле, кому же знать, как не ему, Зуле? Он сам его выбрал и сам направил, и вот настал его черед платить. Впрочем, Матвеев на сложившуюся ситуацию имел свой, далекий от трагизма взгляд. Конечно, сейчас ему несладко, и нынешняя служба больше походит на волчий капкан. Но как только Дружников предложил ему переезд и участие в своих делах, Матвеев согласился, не колеблясь и не раздумывая ни минуты. Он давно этого ждал и давно на это надеялся. Должна же выйти и ему рано или поздно заслуженная награда. Теперь Дружников привлекал его непосредственно к своим интересам, оделял ролью соглядатая и дерьма в вентиляторе, приближал и брал в команду. Оставалось еще немного запачкать руки и потерпеть обиды, а тогда… Тогда и он, Зуля, получит все, что ему причитается. Когда Валькины часы уже тикают на исходе, да и очередь Гены Вербицкого видна не за горами. А он, Матвеев, окажется с победителем в надежде на свой собственный, крохотный лавровый венок. Все же он у Дружникова главный консультант и доверенный хранитель тайны – сколько вместе выпито, и не передать. Неужто это ничего не значит?
Матвеев начисто забыл, что во времена совместных эскапад по столичным, ночным заведениям, пил в основном он, а Дружников больше спрашивал и слушал. И что история и литература с примерами писаны и доступны даже для круглых дураков, надо лишь захотеть примерить на себя и понять. Но Матвеев, стоя на гребне волны, ощущал лишь ее стремительное движение, упуская из виду, что, достигнув берега, волна свернется в прибое и неизбежно накроет его с головой.
В клубе к Матвееву отнеслись настороженно. Выпивать с ним, конечно, выпивали, но лишнего не говорили и не обсуждали вслух. Порошевич даже предостерегал Вальку:
– Все же странные у тебя друзья-приятели. Один паук-кровосос, другой мокрица скользкая. Вот и верь после того в пословицы.
– В какие пословицы, Денис Домицианович? – с беззаботной смешинкой спросил Валька. К тому, что старик с недоверием и негативным подозрением относится ко всем новым людям, Валька уже привык, и всерьез опасения Порошевича не принимал.
– А такие: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе кто ты. Вот ты на своих друзей не похож…, – тут Порошевич на секунду задумался и после высказал неожиданную мысль, – может пословица-то как раз права. Только мы ее понимаем неверно. Может, смысл ее в том, что каждый человек по сути своей противоположен своим друзьям. И если человек хороший, вокруг него непременно будут виться предатели и негодяи. Зачем им друг с дружкой водиться? Пиявка к пиявке не прилипает.
– Это в вас пессимизм перемен говорит, Денис Домицианович. Меня-то вы тоже не сразу приняли, – утешил его Валька.
– Верно, не сразу. Я к тебе присматривался, хотя и недолго. Но поверь, ни единой минуты не думал о тебе плохо. Просто не мог понять, кто ты. Большой и умный ребенок, или донкихотствующий городской сумасшедший. Теперь вижу, что первое. Ты только знай, я хоть немолод и не раз бывал бит, но в обиду я тебя не дам. Пока жив.
– Вот и спасибо, вот и хорошо, – миролюбиво согласился Валька. Готовность Дениса Домициановича встать на его защиту и тронула Валькино сердце и одновременно позабавила. Кто и от чего может уберечь его, невольного хранителя и повелителя стены? Это от Вальки нужно защищаться, а не наоборот. Впрочем, последняя мысль была уже грустной.
Дружников, однако, не дремал. Сонное его состояние выглядело таковым лишь со стороны. Мысли его текли в том же направлении, что и у Порошевича, зато ход их Дружников оценивал совсем с иной точки зрения. Союз Вальки и Дениса Домициановича, как и весь «вечерний» клуб в целом, очень и очень тревожили в нем ту незримую субстанцию, которую досужий романист без оснований назвал бы душой. И как он умудрился проглядеть выросшую прямо под его собственным носом, пусть неформальную, но весьма опасную и оппозиционную коалицию! Но что же он, Дружников, мог поделать? Только благостную физиономию в ответ на гадостные пакости. Клуб покушался на самое святое, на его безжалостно добытые капиталы, а деньги именно сейчас Дружникову были ох, как нужны. Завод по производству кабеля, считай, уже в кармане. Тут и Валька не понадобился, обошелся собственными силами и умом. Переговоры по приобретению авиакомпании «Уралтранс» подходят к концу, и скоро предстоит выкладывать на стол первый взнос. Да еще затея с собственным банком в Москве! Едва-едва получил лицензию. Банк «Глория», название сам придумал. И домик под него уже присмотрел. А где на все денег взять? Где взять-то? Какого черта он, Дружников, должен обогащать комбинат, когда Мухогорский ГОК для того и был приобретен, чтобы наоборот, обогащать Дружникова! У комбината и название подходящее: горно-обогатительный. Вот пусть и обогащает.
Конечно, ради Вальки он готов потерпеть, и с деньгами как-нибудь выкрутится. Ему ли не иметь кредита! Глупо рисковать сейчас, когда вечный двигатель в нем уже намекнул о своем пробуждении. Все остальное пока не так важно. Все, кроме одного. Удача именно теперь должна поступать к Дружникову непрерывным, обильным потоком. А Порошевич плохо влияет на Вальку. И может наговорить много лишнего. Ладно бы, только наговорить. Он и действует с Валькой заодно. Значит – чем черт не шутит, однажды, сможет заменить для Вальки и самого Дружникова. Весь их дурацкий клуб не так, выходит, опасен, как один Денис Домицианович. Опять же, в совете он главная клизма на его, Дружникова, задницу. Заводила смут и местный предводитель, местного же, так сказать, дворянства. Нет, от Порошевича надо избавляться. Заодно и Вальку тоже требуется как можно быстрее убрать из Мухогорска. Наигрался и хватит. Пора серьезным людям дело делать. А клуб без Вальки и Порошевича развалится сам собой. Никто пикнуть не посмеет. Со временем он, Дружников, даст пинка под зад и Дикому, и ехидне Лисистратову, помилует, пожалуй, одного Бюльбулатова. Хороший технолог на дороге не валяется. Чтоб заводские не рыпались в будущем, на место Вальки он для начала пришлет им Филю Кошкина. Со всеми полномочиями. И через месяц руководство ГОКа слезно взвоет и восплачет. А когда Кошкина он с позором выгонит, то заводская верхушка примет кого угодно с распростертыми объятиями, да еще благодарить будет. Вот тогда он и посадит на их голову Семена Адамовича, «жида» Квитницкого. Лучше, пожалуй, и не придумаешь.
Загвоздка в одном. Как убрать с завода Порошевича, и как выманить Вальку в Москву? Кто знает ответ, получи миллион. Просто так Валька не поедет из Мухогорска никуда. Он только вошел во вкус, и полон наслаждений от роли сеятеля, между прочим, Дружниковым же выращенных денежных знаков. Отгрохал новую больницу, закупил для нее медицинской техники, будто это не Мухогороск, а клиника на Рублевке. Садик какой-то для малолетних сопляков строит, чуть ли не с бассейном. Не-ет, Валька просто так из Мухогорска не поедет! И Порошевич его не отпустит. Убрать же Дениса Домициановича сразу не получится. Он и в совете, и с губернатором за ручку, и Вербицкий его знает, отзывается тепло. Как та куча навоза, которую только тронь. Разворошишь и вони не оберешься. Так навоз хоть лопатой целиком можно сгрести! И тьфу, на удобрения! А Порошевича на удобрения не пустишь… Стоп! Ой-ой-ой! Дружникова осенило и озарило одним махом, но тут же стало холодно и захватывающе страшно. Как говаривал Лаврентий Палыч, светлая голова? Нет человека, нет проблемы. Именно убрать целиком, всего и навсегда. Да! Вальку же, Вальку заодно можно будет уверить в том, что в Мухогорске ему небезопасно! Ну, к примеру, бывшие дружки «дедка» решили отомстить. В общем, вихри враждебные веют над нами.
Только вот Дружникову никогда раньше не приходилось никого убивать. Ни лично, ни путем нанятия киллера. Это Вальке достаточно раз плюнуть и тучу народа уморить. Смотался за стену, и всех делов. Вдоль дороги одни мертвые с косами лежат. Уж он видал. Хорошо, когда под рукой тебе и метеорит, и ядерный реактор, хоть проказа с берегов Ганга. А ему, Дружникову, все придется делать самому. Он, конечно, и хотел бы заставить в очередной раз поработать вместо себя Вальку. Но опасно, вдруг обман не получится. Здесь не пожелание удачи, как в случае с Анютой, а натуральное смертоубийство. Тут Валька все будет десять раз проверять и перепроверять. Ну, что ж. Придется действовать обычными, земными способами. Надо лишь все правильно рассчитать.
Валька к этому времени из заводской гостиницы переехал. Не в личные апартаменты, и не в новый дом. И не в целях придания себе надлежащего положения. В гостинице, собственно, ему было не то, чтобы очень плохо. Но, так уж вышло.
Однажды вечером, и время-то было не позднее, Валька шел по коридору заводоуправления. Надо было навестить Порошевича. Завтра, с утра, Валька и Денис Домицианович собирались ехать в область, им требовалось обсудить еще раз кое-какие вопросы, которые имелись до губернаторской особы. Мягкий, яркий ковер глушил звуки и шумы. Оттого Валька хорошо расслышал голоса, доносившиеся из-за неплотно прикрытой двери кабинета, принадлежащего Семену Адамовичу. Один голос, тонкий и явно женский, приглушенно вскрикивал и, кажется, нес в себе плач. Второй, принадлежавший Семену Адамовичу, басил и вроде бы грозно требовал чего-то. Валька спокойно собирался пройти мимо, но его остановил жалкий и беспомощный вскрик:
– Помогите, хоть кто-нибудь!
И в ответ обиженно-возмущенное:
– Чего ты орешь, дура! Я же тебя не резать собираюсь!
Валька решительно рванул дверь кабинета Квитницкого на себя. Скандалить с Семеном Адамовичем он вовсе не намеревался, но дурная репутация Квитницкого по части женского пола была удручающе известна. Валька прикинулся простачком.
– Семен Адамович, ну чего вы шумите на весь коридор! Не в пивной! Совершенно же невозможно работать! А вы, девушка, если вам делают замечание, так не спорьте с начальством, ему видней.
Девушка, испуганная и, похоже, насильственно полураздетая, и не думала спорить. Валька охватил единым взглядом открытую, разлитую наполовину бутылку вина, разрезанный дольками грейпфрут на столе Семена Адамовича, и его раскрасневшуюся похотливо физиономию, которая и не предполагала смущаться, – еще рассыпавшиеся по полу бумаги. Видно, пылкий Семен Адамович намеревался овладеть своей случайной жертвой непременно на рабочем месте, оттого со стола и посыпались документы.
Девушка, тихонько шмыгая носиком, торопливо подбирала с пола разбросанные листы. Валька еще поговорил о чем-то необязательном с Семеном Адамовичем, давая ей выиграть время, и увидев, что девушка готова бегству и только ждет разрешения, открыл ей путь к отступлению:
– Ну, чего вы встали? Вас разве в школе не учили, что подслушивать нехорошо? Вы из какого отдела? Ах, из бухгалтерии. Так идите, идите, не стойте. Надо работать, а не прохлаждаться. И без того у вас в бухгалтерских отчетах сплошной бардак. Теперь понятно, почему! – Валька был нарочито груб и строг, но девушка не обиделась нисколько, напротив, на Вальку она смотрела благодарно и умиленно. Но и Вальке в кабинете Квитницкого особого дела не имелось, потому он тоже откланялся:
– Да и я, Семен Адамович, пожалуй, пойду. Мне завтра в область на заседание комиссии по налогам ехать, так что дел невпроворот.
Валька вышел следом за девушкой. Та не уходила, ждала его в коридоре, прижимала к груди растрепанные бумаги, нервничала.
– Спасибо вам, Вилим Александрович. Вы не думайте, я совсем не хотела. Только ведь, что же делать? Господин Квитницкий если захочет, завтра же и уволит.
– Не уволит, не бойтесь. В следующий раз бейте прямо по роже. Я разрешаю, – Валька ободряюще ей улыбнулся. – Кстати, на всякий случай, как вас зовут?
– Даша. Плетнева. Из бухгалтерии, – ответила девушка и еще сильнее стиснула руки на груди.
– Это я понял. Ну, что же, Даша. Будем знакомы, – и Валька, чтобы разрядить ситуацию, протянул ей начатую упаковку жевательной резинки, – держите, не стесняйтесь.
Даша взяла, но пробовать не стала, положила жвачку в карман. Вальке она не очень показалась. Худенькая, голенастая, русые волосы собраны в самый обычный мышиный хвостик. Не красавица, но и не уродина. Так, курносый нос, бледные щеки, глаза невыразительные, каре-зеленые. Да Семену Адамовичу, видно, наплевать, на пять минут сойдет. Вальке девушку стало жалко. Он утешил ее на прощание:
– Если будут еще приставать, дайте мне знать. И не расстраивайтесь. Вы хорошо работаете. Я это чувствую в людях. А в кабинете я так просто сказал. Аппаратные игры, видите ли.
С Дашей он с тех пор встречался часто в заводоуправлении, хотя возможно, не чаще, чем ранее. Просто теперь Валька ее узнавал, и здоровался по имени. Она казалась ему милой и безобидной как ночной мотылек, к тому же вечерами Вальке случалось ощущать и гнетущее одиночество. Так, он пригласил однажды Дашу посидеть в ресторане гостиницы, поболтать и поскучать вместе. И сделал это, как нечто само собой разумеющееся. И почувствовал облегчение. Ему совсем было наплевать, что в руководящем кругу, к которому он отныне принадлежал, затевать постоянные, прочные связи с местными женщинами считалось вопиющим моветоном. Однако, косых взглядов в Валькину сторону никто не осмелился себе позволить. А со временем посиделки с Дашей Плетневой вошли у него в привычку. С ней было свободно и спокойно, общество ее не вызывало душевных волнений. Даша, хоть и не была сиротой, но жила одна в двухкомнатной квартирке пятиэтажного панельного дома, правда, выгодно расположенного в центре Мухогорска, невдалеке от старого здания горсовета. Родители Даши в настоящий момент пребывали в далеком Нефтеюганске, где отец Даши, квалифицированный инженер-наладчик, работал по контракту на буровой. А Даша, окончив в Каляеве бухгалтерские, двухгодичные курсы, осталась в Мухогорске и нашла работу на комбинате.
И вот, как-то раз Валька, словно переступив некоторую черту в своих отношениях с Дашей, пригласил ее в свой номер. Но сразу обговорил, что Даша вовсе не обязана это делать, никаких последствий ее отказ иметь не будет, они даже не перестанут встречаться по вечерам. Просто он совсем один в этом городе, да и у Даши на данный момент постоянного кавалера нет. К его удивлению, Даша не отказалась и не возмутилась, а согласилась поспешно, так, как будто ждала Валькиного предложения всю жизнь. Валька на всякий случай счел нужным Дашу предупредить:
– Ты все же подумай и имей в виду. Жених из меня никакой. В смысле, что в семейную жизнь я по определенным причинам пригласить тебя не могу.
– Это ничего, Вилим Александрович. То есть, Валя. Мне и так сойдет, на время, – успокоила его Даша и посмотрела на Вальку уже откровенно влюбленными глазами.
«Вот тебе раз! Только этого не хватало!», – подумал про себя Валька. Если Даша и в самом деле в него влюбилась, ее получалось жалко еще больше прежнего. А Валькино приглашение, возможно, заслуживало и осуждения. Он уже собрался было отказаться от своей затеи, но представил опять и всегда мертвую гостиничную комнату, холодную кровать, телевизор вместо компании, и передумал. К тому же, если Даша не против.
Секс был как секс и ничего особенного. Кроме того, что после ошарашивающего зрелища Аниной беременности, Валька на женщин и смотреть не мог. А на Дашу вот посмотрел. Значит, потихоньку, помаленьку, начал выздоравливать. И был в состоянии уже спокойно, не выматывая себе самому душу, вспоминать ту страшную для него картину явного и полного, осязаемого доказательства Анечкиной близости с Дружниковым.
Вскоре, Валька, устав от гостиничного быта, согласился на мягкие Дашины уговоры и переехал к ней в панельную пятиэтажку. Впрочем, опять настойчиво пояснив, что этот его переезд никакого отношения к брачным планам на будущее иметь не может. Нет, Валька вовсе не являлся негодяем, собиравшимся отравить жизнь и надежды милой девушки. Просто, пока Аня, не была замужем, пусть хоть и с кучей детей от каких угодно мужчин, Валька никак не мог считать себя человеком свободным.
Уровень 32. Вихри войны (кампания)
Легко сказать, но нелегко сделать. Думы Дружникова были тяжелы. Киллера-то найти можно. Сложно, но можно. Да только поиски неизбежно приведут к расширению круга заинтересованных лиц. Огласки, конечно, можно не опасаться. Нет таких дураков, чтоб о подобных делах трепались, где не надо. Но вдруг тот, кому Дружников доверит дело, захочет впоследствии взять его самого за горло?
Собственная крыша отпадала в первую очередь. Потому что, была не вполне его собственной. Еще не хватало Дружникову разборок с Вербицким. Местному Быковцу столь щекотливое дело не доверишь. Во-первых, он кретин, а во-вторых, все же бывший мент, и кто его знает. Сотрудников по коридорам гонять в рабочие часы, следить за дежурными у входа – вот звездный пик его возможностей. Какое-то, очень недолгое время, Дружников подумывал привлечь к поискам и посредничеству «Армяна». И прошлое у него темное, и связей сомнительных хоть отбавляй. Недаром ходили упорные слухи, что в Риге один из злостных конкурентов его транспортной фирмы не совсем добровольно нырнул знойной зимой с пирса в балтийские воды. Но Дружников вовремя одумался. Дело-то, может, «Армян» и сделает, но уж очень он говнистый клиент. Его если использовать, то лишь втемную, или информировать вспомогательно и не до конца. Из домыслов все же шубы не сошьешь.
Дружников подумал еще и загрустил. Это что же получается? Вот он, солидный новый русский, денег, как у дурака махорки, а простого киллера нанять не может. И ведь любой, средней руки, рыночный браток такую проблему решит в пять секунд. А все почему? Потому что привык он, Дружников, давным-давно полагаться только на Вальку. Оттого и серьезной службы безопасности не имеет, и криминальные связи пока ему ни к чему. В будущем, когда заработает двигатель, они тоже не понадобятся. Но вот сейчас просто необходимы. Дружников тут же и пожалел, что так поспешно и нелепо когда-то оттолкнул от кормушки и от себя покойного «дедка». «Никому не следует быть излишне самоуверенным», – упрекнул себя Дружников в прошлой неосмотрительности. Но, что сделано, то сделано. Однако, положение его становилось уже и смешным. И все же. Наводить справки самому опасно, обращаться к кому попало опасно вдвойне.
Как всегда, в критической ситуации, изобретательный мозг Дружникова подсказал ему единственно правильное решение. Доверить дело Муслиму. Недаром же заплачена кругленькая сумма за его обучение в школе телохранителей. А раз там учат таких обормотов, как именно защитить своего хозяина от рук убийц, то, стало быть, по закону взаимозаменяемости, любой из телохранителей вполне сгодится и на роль киллера. Само собой, Муслим умом не блещет. Но это даже хорошо. Думать за него будет Дружников. От Муслима требуется только безусловное повиновение, и бесстрашная решимость исполнить приказание. Ни того, ни другого, по счастью ему не занимать. Тем более, Муслим давно жаждет отличиться и доказать Дружникову свою безоговорочную полезность. Он и сейчас верен, как сторожевой пес, а после задания Дружников и вовсе купит его душу. Главное – Муслим никогда не затеет шантажировать Дружникова, у него просто не хватит на это ума. Иначе, с точки зрения Муслима, ответственное дело, которое собирается Дружников ему поручить, будет «хорошо весьма». Опять же, не надо никаких посредников. Того, что Муслим ненароком проболтается, опасаться смешно. Ему и о погоде два слова связать куда как затруднительно.
Для начала Дружников собственноручно, не поленившись, собрал в Мухогорске нужные сведения. Впрочем, чрезвычайных трудов затрачивать ему не пришлось. И Квитницкий и «Армян», первые, завистливые сплетники на заводской кухне, вмиг выложили ему все частные факты о Вальке и Порошевиче. Так сказать, в порядке дружеского доноса. И что у Вальки в «деревне» завелась баба, и что зовут ее Дарья, и что он, гад такой, не побрезговал отбить ее у Семена Адамовича. Хотя Квитницкому худосочная барышня, конечно же, нужна была, как прошлогодний снег, но очень Семен Адамович любил преумножать свои кажущиеся обиды. Дружников, к своей чести, не поверил ни единой его жалобе, но «баба в деревне» его встревожила. Нет, пора, пора забирать Вальку из Мухогорского болота, пока он тут не врос окончательно корнями, и не наплодил, не дай-то бог, лягушат, то бишь, детишек. А вот то, что каждый божий, рабочий день, Валька с утра заезжает на служебной «Волге» за Порошевичем, было очень кстати. Выходит, Дениса Домициановича не сопровождает личный шофер, не поднимается за ним в квартиру, но просто Валька дает гудок у подъезда и ждет Порошевича в машине. Вот так-то и доводит до беды чистоплюйство, злорадно усмехнулся про себя Дружников. Не выпендривались бы в своих играх в равенство и демократию, а пользовались каждый положенным ему по рангу автомобилем, глядишь, беда не ждала бы у ворот. Дружникову трепетной приятностью отлегло от сердца. Сами виноваты. Сами и во всем.
Откладывать в долгий ящик задуманное Дружников не полагал: и время не терпит, и Порошевич может поменять свои привычки. Потому, в ближайшую неделю он собрался из Москвы. Но вовсе не в Мухогорск, а в область, якобы, повидаться с Матвеевым и дать указания, заодно решить кое-какие насущные вопросы с губернатором относительно кабельного завода, чей контрольный пакет акций он недавно и удачно приобрел. Для отвода глаз Дружников ехал не один. Надо было ввести в должность нового своего представителя на новом же предприятии, некоего Раева, лицо недавнее, но достаточно опытное и смирное, к тому же настоятельно рекомендованное Вербицким. И пусть. Вез собой и Снежану, женщину легкомысленную, оттого как бы придававшую пикантную приватность его поездке. Муслим обычным образом следовал за своим хозяином. Вот только на этот раз номер оружия, указанный в выданном ему разрешении, и номер свеженького ствола в его кобуре не совпадали между собой. Правда, последнего обстоятельства никто из служащих депутатского зала, провожавших Дружникова и компанию в самолет, проверить не удосужился. И к Дружникову и к его вооруженному телохранителю там давно уже привыкли, как к постоянным и влиятельным, вполне добропорядочным клиентам.
Незадолго до отлета у Дружникова состоялся с телохранителем разговор. Впрочем, говорил в основном Олег Дмитриевич, преданный Муслим больше угукал и с понятливой уверенностью кивал в ответ.
– Значит, машину оставишь в переулке за больницей. Там недалеко, да и подозрений меньше. К тому же утро будет раннее и темное. Автомобиль Вилима Александровича подъезжает в одно и то же время. Без четверти восемь, плюс-минус минута. Как услышишь гудок – все, можешь спускаться с чердака. Порошевич будет уже на выходе. Спустишься на пролет! Как раз его этаж. Но аккуратно, чтоб ни одна душа тебя не видела. Впрочем, подъезд там глухой, лифта нет. А лампочку на лестничной клетке выруби сам. Не вздумай выкручивать, просто разбей, но тихо. Сразу стреляй, и обратно на чердак. И через крышу в соседний подъезд. Как только Валька забеспокоится и пойдет за Порошевичем, или просто соседи подымут шум, приготовься. Наверняка, водитель «Волги» тоже поднимется на место происшествия. В общем, как начнется суматоха, ты незаметно убирайся оттуда. Пока милиция не приехала. И ноги в руки. Я встану в десять, на всякий случай в половине одиннадцатого. Чтоб к этому времени ты был в гостинице.
– Машину где взять? – конкретно уточнил непонятное место Муслим.
– Возьмешь у Авессалома его разъездную шестерку – смотри, номера загрязни. По счастью, в той глухомани постов по ночам нет. Потом так же тихо поставишь ее назад. Да если и заметят не беда. Где Каляев, а где Мухогорск. Но лишне не рискуй.
– А Авес… Авесса-лом? – с трудом выговорил длинное имя Муслим.
– За него не переживай. Он даже о чем и догадается, молчать будет, как кремированный покойник. Это уж мое дело почему. Все понял? Оружие не вздумай сюда везти. Закопай где-нибудь в поле по дороге. Это не трудно. Ну, если все понял, действуй, – наставил Муслима в последний путь Дружников. Но и многозначительно подчеркнул доверенность миссии:
– Я на тебя надеюсь. Очень надеюсь.
Муслим с достоинством наклонил голову, что означало полную готовность эту надежду оправдать. Вид у него был умиротворенный и счастливый.
Рано утром Валькина машина, как обычно, притормозила у подъезда Порошевича. Входную дверь дома напрочь не было видно из-за монументальных башен кое-как собранного с проезжей дороги снега. «Надо бы снегоуборочных машин прикупить», – в который раз за эту зиму подумал Валька. На дворе уже конец января, а руки все никак не дойдут. «Ладно уж, на следующий год обязательно!» – утешил собственную нерасторопность Валька. Он подвинулся на сидении в левый угол, заранее освобождая место Денису Домициановичу. Водитель дал одиночный гудок. Валька в ожидании Порошевича уставился в окно. Хотя смотреть особенно было не на что. Улица имени пионера-героя Марата Казея совсем не относилась к парадной части города, да и за автомобильными стеклами еще стояла зимняя, утренняя чернота.
Невольно он задремал. В «Волге» во все прожорливое горло шпарила плохо отлаженная печка, старенький водитель-ветеран Аркадий Степанович дымил в приоткрытое окошко «Примой», слушал радиостанцию «Маяк». Он же и разбудил Вальку вопросом:
– Вилим Саныч, что-то Порошевич наш долго не выходит. Может, погудеть еще разок?
Валька взглянул на часы – почти четверть девятого. Надо же, больше двадцати минут заспал. На улице уже и светлеть начало. «Может, Денис Домицианович не расслышал? Может, заболел? А почему тогда Вера Андреевна не вышла и не предупредила?» – мысли одна вперед другой проносились в Валькиной голове. Жена Порошевича, солидная Вера Андреевна, в прошлом начальник лаборатории химического анализа при комбинате, отличалась крайней пунктуальностью и дотошной, скрупулезной исполнительностью.
– Не надо гудеть. Я сам поднимусь. Узнаю в чем дело, – ответил Валька.
Он пробрался к подъезду по узкой тропинке, с двух сторон беспощадно зажатой ледяными торосами сугробов. Подумал немного, не окрикнуть ли попросту Дениса Домициановича снизу, но решил подняться наверх. Ни к чему устраивать шоу для окрестных старушек. И Валька пошел по лестнице на четвертый этаж. Предчувствий у него не было никаких. Ни скверных, ни беспокойных, ни сомнительных. Ситуация скорее забавляла его. Хорошо зная Порошевича, он ожидал с его стороны только житейской нестандартной неурядицы. Вот сейчас он поднимется, позвонит в дверь и услышит брюзжащий, добродушно ворчливый голос Дениса Домициановича, который сначала воспитанно извинится, потом посетует на некстати засорившуюся трубу, или случайно испачканные брюки, или на коварный, очень нужный документ, в последнюю минуту предательски скрывшийся из поля зрения. А Вера Андреевна, конечно, усадит его пить свежезаваренный чай, невзирая на доводы, что он теперь человек полусемейный, и Даша по утрам кормит его на убой.
В доме у Дениса Домициановича Вальку всегда встречали с ненавязчивой теплотой, учтиво и стеснительно завуалированной чрезмерной вежливостью. Но Валька знал, что пожилой чете Порошевичей его визиты в радость. Им тоже иногда бывало одиноко вечерами. Дети давным-давно разъехались, навещают с внуками изредка в летние каникулы. А Валька, как одинокий, милый холостяк, некоторым образом замещает им житейскую пустоту. Когда в его быту появилась Даша Плетнева, Порошевичи охотно приняли и Дашу. И старались утонченными уловками заманить в гости их обоих. Впрочем, к Денису Домициановичу и без того Валька захаживал с удовольствием. Он даже отчасти сроднился с ним и с Верой Андреевной, симпатия его к Порошевичам чем дальше, тем более видоизменялась в сторону подлинной привязанности и родственной любви.
Дойдя до четвертого этажа, Валька остановился. На лестничной площадке, как назло, не работало электричество – слабый, утренний свет, едва пробивавшийся через нечистое, завьюженное окошко лестницы, намекал на какую-то бесформенную, довольно большую кучу на полу у двери Дениса Домициановича. «Что же это за бардак такой? – с сердцем высказался про себя Валька. – Неужто трудно хлам вниз снести? Свинство сплошное и больше ничего. А если бы Денис Домицианович вышел, споткнулся об эту гору, да покалечился? Хорошо, что не вышел». Валька впотьмах склонился над кучей. Все равно ее следует убрать, а то и к двери не подойти.
Рука его, хоть и в толстой, кожаной перчатке, тем не менее, ощутила неприятную мягкость кучи. От прикосновения куча вдруг осыпалась на бок, на ближнем ее склоне проступило белое пятно. Валька потянулся к пятну, провел по нему ладонью, пытаясь понять, что же это такое. Под его рукой пятно из белого сделалось черным. Вальку это обстоятельство отчего-то привело в раздражение. Он стянул перчатки одну за другой, запачкавшись в текучей, липкой гадости, вытер пальцы о кучу, которая на ощупь показалась обычной замшей, из коей делают дубленые полушубки. Он нетерпеливо дотронулся до пятна, и с ужасом почувствовал, что касается еще теплого, но вяло безжизненного человеческого лица. Покрытого пахучей, черной жидкостью. Валька истошно закричал, бросился к первой попавшейся двери, забарабанил в нее кулаками. На его крики и стук распахнулись почти одновременно все три двери на площадке, и в желтом, тусклом свете, лившемся из квартир, Валька увидел мертвое, окровавленное тело, бывшее некогда Денисом Домициановичем Порошевичем.
А дальше начались суматоха и плач, страшно отмеченные тенью зримой, насильственной смерти. Кто-то кинулся звонить в милицию. Чей-то мужской голос мудро призывал ничего не трогать на полу и ни в коем случае не переносить Дениса Домициановича до тех пор, пока не приедет опергруппа. Несколько сердобольных женщин уводили под руки Веру Андреевну, теперь уже вдову. Одна из соседок попросила Вальку вызвать врача. В некотором замешательстве Валька сообразил, что вызывать будет долго, а больница, собственно, в двух шагах. На ватных, обмякших ногах он подошел к окошку лестницы, дернул раму на себя. Когда та решительно отказалась распахнуться, попросту выбил кулаком стекло. Закричал вниз. Аркадий Степанович уже не сидел в «Волге», давно стоял на тротуаре, с беспокойством глядя на шумные окна вверху. Но свой пост, однако, оставить не решался. Валька закричал ему:
– Аркадий Степанович! Срочно поезжайте в больницу! Привезите врача!
Старичок водитель согласно замахал руками, побежал обратно к машине, как вдруг остановился и крикнул Вальке:
– Какого врача нужно?
Валька не имел понятия какого. На всякий случай прокричал в ответ:
– Берите всех, кто попадется, – и, словно нечто сообразив, дополнил свой приказ:
– Патологоанатома обязательно!
Аркадий Степанович вместо ответа ахнул, осел в сугроб, приложил невольным жестом руку к груди. Потом в поспешном ужасе кинулся к машине… И конечно же не обратил никакого внимания на мелькнувший сзади и сбоку силуэт, одетый в темную, спортивную куртку, стремительно выскользнувший из дальнего, крайнего подъезда.
Милиция приехала рекордно скоро. Это ведь не пьяная драка у самогонщиков в поселке. Шутка сказать, завалили самого Порошевича. Следственную бригаду уже вызвали из области. А пока местные опера робко терлись возле Вальки, не решаясь отважиться на предварительный допрос. Как лица, обнаружившего труп. Однако, Валька сам вступил с ними в разговор. Операм даже не пришлось задавать положенные вопросы, он подробно и несколько раз поведал им детали случившегося, с тупым упрямством повторяя одно и то же. Когда Валька пошел на четвертый круг, оперативники, наконец, сообразили, что господин помощник Генерального директора находится не в себе, и для начала было бы неплохо вывести его из шокового состояния. Младший из них кинулся в ближайшую квартиру за лекарством, и скоро в Вальку уже насильственно вливали полный стакан жгучей, местной водки. Валька понемногу стал приходить к адекватному мировосприятию. Уйти с площадки он, по необъяснимой причине отказался, тогда ему вынесли стул. На нем и уселся возле чужой двери. Оперативниками он, конечно, служил изрядной помехой, но попросить удалиться фактического хозяина города не решился никто. Вскоре прибыл и мэр Извозчиков, и, в подражание Вальке, расположился рядом на лестнице. Аскольду Вадимовичу тоже пришлось вынести стул.
– Если еще кто-нибудь из верхушки приедет, у нас тут будет прямо театр, – проворчал едва слышно один из оперов.
– Ага, цирк. Колизей. И с клоунами, – так же тихо отозвался другой. – Ну, этот москвич – допустим. Человек умом ненадолго повредился. А наш Извозчик чего дурака валяет? Сейчас, глядишь, руководящие указания будет давать. Алкаш мутный.
И ведь как в воду глядел. Аскольд Вадимович, солидно откашлявшись, оглянулся на молчащего Вальку, и вопросил:
– Доложите, товарищи, что имеете на месте преступления?
– Х… дроченый, – ответил в сторону старший группы, и уже непосредственно обращаясь к мэру, пустился в объяснения. – Так что, Аскольд Вадимович, имеем огнестрел. Два проникающих… Один в грудную клетку, второй, контрольный, в височную часть головы. Последний, скорее всего, сделан в упор. Обнаружены две гильзы. Предположительно, от пистолета Макарова. Первая, непосредственно, возле тела, вторая на площадке между этажами, где, видимо, и стоял стрелявший.
– Какие будут выводы? – упрямо, по-армейски, допытывался вошедший во вкус расследования мэр Извозчиков.
– Выводы делать пока рано. А так, навскидку могу сказать, у нас здесь заказное убийство. Очень чисто и грамотно исполненное. Если можно так выразиться. Вероятность раскрытия приблизительно ноль процентов. Убийца даже оружия не выкинул, ни на месте преступления, ни где-либо в окрестности – ребята уже искали. Видимо, очень уверен в себе… Если только обнаружится какая-нибудь глупая случайность? Но мой опыт говорит, в таких делах случайностей практически не бывает.
– Что значит, вероятность ноль процентов?! – в праведном гневе зашелся Аскольд Вадимович. – Мы, если надо, всю область на уши поставим, до Москвы дойдем. Пусть оттуда следователей присылают. Да я Генерального Прокурора буду на это дело требовать!
– Хоть президента! – осадил его оперативник. – А дело это дохлое.
Уровень 33. В Москву! В Москву!
– Валя, давай не будем! Сейчас не время для патетики! Оставить тебя в Мухогорске – глупость и неоправданный риск! – Дружников для убедительности и доходчивости своих слов повысил на Вальку голос.
Едва в области стало известно о трагическом происшествии в Мухогорске, Дружников, не мешкая ни минуты, выехал на место. Муслим, успевший аккуратно и вовремя обернуться, само собой сопровождал его в этой печальной экспедиции. По прибытии Дружников высказал ругательства местным ментам и лично Извозчикову, за то, что не уберегли и недосмотрели, пообещал любую помощь. Полдела было сделано. Оставалось уладить с Валькой.
Дружников сидел на диване в убогой комнатушке, служившей одновременно гостиной и спальней для Дашиных родителей, старался не замечать скудной и довольно обшарпанной обстановки. Помятые, древние кресла, с обивкой из протершейся, зеленой шерсти, кустарный журнальный столик, покрытый залакированными бумажными цветочками, с претензией на антикварный шик, безумный и ядовито красный ковер на стене – все это удручающе действовало Дружникову на нервы. За последние годы он совсем отвык от бытового убожества, и свою новую, купленную за изрядные деньги, квартиру на Чистых прудах Дружников устроил с первобытной и дикой роскошью. Как поведал ему дизайнер, занимавшийся разорением Дружниковского кошелька, – в стиле «настоящего рококо». Валькино же безразличие к вещам вызывало в нем раздражение. «Хоть бы мебель девушке сменил! Неужто приятно жить в таком хламовнике?» – подумал про себя Дружников, но вслух не сказал. Девушка Даша тоже находилась неподалеку, в крошечной кухне, откуда, конечно, в силу пространственной скудости планировки, могла слышать каждое слово. Даша ему совсем уж никак не понравилась, но Дружников об этом виду не подавал. Тихая мышь, ни рожи, ни кожи, и, скорее всего забитая дурища, если не хватает ума выжать из богатенького сожителя хотя бы скромные достатки.
Его дорогой друг Валька сидел рядом, на противоположном конце дивана, понуро сгорбившись, со взглядом, устремленным в никуда. Дружников подвинулся ближе, положил руку на Валькино плечо:
– Валя, надо ехать. Здесь нехорошо. А в Москве я смогу тебя полноценно защитить. Ситуация мало сказать сложная, но даже недостаточно понятная. Чем черт не шутит, вдруг это какие-то старые дела. Ну, там дружки покойного «деда» нам мстят. Ты очень хочешь встретиться с ними ВНОВЬ? – последнее слово Дружников умышленно выделил. И не просчитался. Валькино плечо содрогнулось под его рукой, а сам дорогой друг поднял на него непередаваемо больные глаза.
Дружников намеренно сгустил краски, и словно матадор на корриде, взял упрямого быка за рога:
– Да-да, у нас нет никакой уверенности, что основной мишенью был Порошевич, а не ты, – Дружников отметил некоторую чрезмерную трагичность в Валькином лице, и решил на всякий случай снизить давление:
– Давай условимся так. Лишь только ситуация разъяснится, ты тут же вернешься в Мухогорск. Хоть Генеральным директором. Но сейчас надо ехать в Москву. И, кстати, Даше придется остаться здесь.
– Почему? – автоматически задал вопрос Валька.
Но Дружников понял, что вопрос этот риторический. Для Вальки, как бы ни мучился он совестью, Даша и Аня будут совершенно не совместимы в одном городе и в одном кругу знакомых. Потому Дружников дал ему первый попавшийся, более-менее правдоподобный ответ:
– Чтобы не рисковать. Она милая девушка, зачем ей лишние проблемы. Пока она с тобой – она уязвимое место. По которому могут ударить. А вот останься Даша в Мухогорске, все скажут, что тебе на нее наплевать. Значит, причинять ей вред не имеет смысла. К тому же это ненадолго. Ты вернешься, и все будет по-прежнему.
– А если Даша не захочет без меня? Я же должен ее спросить. Так нечестно, – возразил ему Валька.
Тут Дружников понял, что выиграл и упрямого быка забедил. Стало быть, Валька принципиально согласен уехать из Мухогорска, и дело осталось за малым. Уговорить эту малахольную Дашу не тащиться за ними хвостом в Москву. Но и уговаривать не пришлось. Даша Плетнева действительно слышала в своей кухоньке каждое слово Дружникова и вышла к ним сама. Она появилась и стала в дверном проеме, словно из робости не решаясь подойти ближе, теребила в руках несвежее, посудное полотенце.
– Валя, послушай Олега Дмитриевича и сделай, как он говорит. А за меня не беспокойся. Не пропаду. Я не обижусь, даже если ты не вернешься совсем. Тем более, поехать с тобой все равно не могу. Скоро родители будут в отпуск, я должна их встречать. Им тоже лишние переживания ни к чему, – Даша замолчала, дожидаясь от Вальки хоть какого-то ответа. Не дождавшись, пригрозила:
– Если с тобой случится беда, я не переживу. Так и знай. Не мучай меня.
– Ну, зачем же излишне драматизировать! – немедленно вмешался Дружников. – С Валей ничего не случится, это я могу обещать. При условии, конечно, что он послушается и поедет со мной в Москву. А вас, Даша, никто и в мыслях не имеет бросать на произвол судьбы. Во-первых, вся эта история ненадолго. Во-вторых, вам станут помогать. Я, к примеру, завтра дам указание назначить вас заместителем главного бухгалтера, с соответствующим окладом. Так что и приличия окажутся соблюдены, и вы не будете никому ничем обязаны. Согласны?
Даша только коротко кивнула в ответ и отвела взгляд, смотреть в лицо Дружникову ей было одновременно боязно и неприятно. Хотя соглашаться ей не хотелось. Конечно, на комбинате сразу начнутся пересуды, за какие-такие заслуги рядовой счетовод Плетнева получила повышение. Но лучше так. Лучше пусть Валька знает – с ней все в порядке, и поскорее убирается из этого богом проклятого города. Она, в свою очередь, станет его ждать, а может, и не станет. Отчего-то Даша была уверенна, что последнее безнадежно и бессмысленно.
Валька, конечно, поехал. Да у него и не было решительно никакого повода поступать вопреки благоразумию. После ужасной гибели Дениса Домициановича он чувствовал себя в Мухогорске несколько неуютно. Что же, Дружников прав, в Москве вдруг и легче ему будет обрести вновь душевное равновесие.
Однако, в столице Дружников рассиживаться Вальке не позволил. Оттого, чтобы некогда было его дорогому другу размышлять о превратностях жизни, и потому еще, что побыстрее хотелось заполучить свой вечный двигатель. Как следствие, Дружников, хотя большинство насущных вопросов мог решать отныне без всякого напутствия потусторонних сил, по малейшему пустяку привлекал Вальку.
А Валька, практически неотлучно состоявший теперь при Дружникове, сопровождавший его на всевозможные, деловые рандеву, все же успевал отмечать происходившие в «Доме будущего» изменения. Многие из которых касались его непосредственно. К примеру, водворившись в своем старом кабинете, заботливо сохраненным Дружниковым в первозданном виде, Валька вдруг обнаружил, что в этом самом кабинете ему заниматься решительно нечем. Никто более не стучал к нему с вопросами, не прибегал, взмыленный, с бумагами на подпись, не беспокоили и посетители. Ах, да, вспомнил Валька, он же сам вполне законным, оформленным по юридическим канонам, образом передал право единоличного распоряжения и подписи Дружникову. Тогда это было необходимо. Валька просто физически не мог разорваться между заводом и Москвой. Теперь он чувствовал себя в «Доме будущего» каким-то свадебным генералом. Ему оказывали нарочито чрезмерное уважение, предоставили целых двух секретарей, личного и в приемную, но никто не забредал, хоть бы по ошибке, в район его кабинета. Приемная стояла пустая. Хорошенькая секретарша Диана развлекала себя чтением светских журналов у редко звонящих телефонов. А звонил Вальке исключительно один только Дружников, и всегда его телефонное сообщение означало, что опять надо куда-то ехать, где-то желать удачи, и вообще, присутствовать вблизи. Но Валька вполне мирился с таким положением дел: ведь сказано же было, это ненадолго. И ждал возвращения в Мухогорск.
Единожды лишь он высказал Дружникову свое недоумение, когда стороной случайно дознался (как всегда проговорился водитель Костя), что на комбинат вместо него отправлен Филя Кошкин.
– Он же ничего не понимает, и не поймет в делах ГОКа! У него даже среднего образования нет! – горячился Валька. – Он же дел натворит, потом не расхлебаешь! Он же…, он же подонок!
– Ну, да, подонок! – Олег нисколько не обиделся на Валькино замечание и согласился с ним. – Так что же мне, на твое место порядочного и разумного человека сажать? Чтоб и его пристрелили? Да, цинично, согласен. А ты бы как поступил? Вот ты бы кого с легким сердцем втравил в заведомо опасное предприятие?
– Н-не знаю, – задумался Валька над неожиданной для него трактовкой дела. – А только от Фили может выйти комбинату большой вред.
– Не выйдет, не переживай. У него полномочий мало. Чтоб такое огромное предприятие развалить. Да и не решает он почти ничего. Ну, сопрет малость, себе в котомку. Так он и здесь ворует. Вот вернешься, можешь его хоть с кашей есть, хоть перевоспитывать, если делать нечего. Вдруг Филе ссылка на пользу пойдет, кто знает?
Валька этого не знал. Как не знал и того, что на комбинате настали совсем иные времена. Дружников не соврал, у Фили Кошкина действительно не имелось самостоятельных полномочий. Он слушался указаний Дружникова, а на месте неофициально обязан был выполнять, все то, что велели ему Квитницкий и «Армян». И первым делом он свернул все городское строительство, которое велось в Мухогорске на деньги комбината. Планы парка с развлечениями, русалками на прудах и каруселями для детишек, проект трамвайной линии, должной пройти через весь город для удобства населения – все отправилось в мусорную корзину. А из закупленных материалов начали прокладку взлетно-посадочной полосы с диспетчерским пунктом для приема частных самолетов директоров ГОКа. Детский садик с оранжереей и подогреваемым бассейном все же был закончен. Но детишки увидели только здоровенный шиш, садик же отошел под фитнес-клуб для заводских и приезжих бонз. Дружников тем временем вступил в предварительные, осторожные переговоры о привлечении заключенных из местных колоний к работе на комбинате.
Сам Дружников в Москве теперь нередко захаживал к Вербицким. Валька, который тоже часто в последние месяцы навещал Татьяну Николаевну и Катю (Геннадий Петрович все больше был в разъездах), то и дело заставал там Дружникова. Веселого, балагурящего, и несколько не похожего на себя. Олег дарил обеим женщинам какие-то нелепые, дорогущие подарки, и приставал к Кате с ужасающе неуклюжими, игривыми намеками. Валька, хоть и рад был, что Дружников принят в доме у Вербицких за своего, никак не мог понять причину его несуразного, даже смешного поведения. Пока в один прекрасный день до него не дошло. Сначала Валька не поверил сам себе, потом решил поговорить с Катей, чтобы без лишних обид окончательно разъяснить подоплеку ужасного дела. Катенька Вербицкая с детства ему доверяла, и по сю пору представляла посторонним Вальку как своего старшего брата. Катюше минуло уже, дай бог, целых восемнадцать лет, и натурой она пошла в маму. То есть была высокой, темноволосой девушкой, крупных пропорций и в теле, несмотря на новомодные и жестокие диеты. Словом, из Катюши получилась полновесная красавица, из тех, что вызывают открытое осуждение и презрение своих худосочных товарок, но, почему-то, гораздо более них привлекают к себе мужчин, мало заинтересованных, как ни странно, в скелетообразности фигуры.
– Катюша, – мягко начал Валька, нарочно застав Катю Вербицкую в одиночестве, – Скажи мне, Олег Дмитриевич, он ухаживает за тобой? Ты прости, что я так в лоб, но ты же мне как родная.
– Ухаживает, – честно ответила ему Катя, впрочем, совершенно равнодушным голосом.
– Катенька, ты не подумай, что я намерен лезть не в свое дело, но видишь ли, Олег Дмитриевич вряд ли подходящая для тебя пара. Он, видишь ли, … словом, он не совсем…, – Валька не знал, как поделикатнее продолжить.
– Не совсем свободен? – так же равнодушно сказала за него Катя. – Да знаю я. У него есть сын и тетя Аня. И на ней он жениться не хочет. Вот и ходит к нам. Ну и псих, правда? А тетя Аня, она обалденно красивая. Мне бы такой родиться! – по-детски завистливо и восхищенно постановила Катюша.
– Ты тоже очень красивая, – успокоил ее Валька. – Только как ты относишься к тому, что Олег Дмитриевич ходит к вам? Вернее, к тебе?
– Никак, – ответила Катенька, но, поняв, что ее ответ не удовлетворил настороженное Валькино беспокойство, подумала немного и совсем по-взрослому сказала:
– Валя, то, чего ты боишься, я никогда и ни за что не сделаю. Я вообще-то другого люблю. Но ты маме не говори. Это мальчик из соседней группы, у нас, в МГИМО, он очень умный, только байкер и фанатеет от рок-музыки. А маме это не нравится. Но это у него пройдет, правда? Не будет же мой Колька до старости балдеть от мотоциклов?
– Конечно, пройдет, – уверил ее Валька, и немного успокоился. – А если не пройдет, то знаешь, Катюша, это не самое страшное в жизни. Но все-таки, может, ты как-то намекнешь Олегу Дмитриевичу, что не имеешь на него планов?
– Чего мне намекать. Я уже два раза прямо говорила. Что у меня от него мурашки бегают и прыщи по телу идут. А он смеется. Ну, еще злится, пожалуй. Но может, это мне кажется. Меня же нельзя заставить выходить за него замуж, правда?
– Ни в коем случае. Сейчас нет крепостного права. И папа с мамой тебя любят. И я рядом. И твой Колька, кстати, тоже. Так что, за это ты не беспокойся, – твердо пообещал ей Валька.
Катя вдруг спросила его неожиданно и тихо, словно опасалась, что сам воздух вокруг услышит ее слова:
– Валя, а ты ЕГО не боишься? – тут Валька отметил, что за все время задушевной беседы с Катюшей Вербицкой, она ни разу не назвала Дружникова хотя бы по фамилии. Только «он».
Удовлетворившись Катюшиными решительными, антидружниковскими настроениями, Валька не счел необходимым далее лезть в это дело. Черт их там всех разберет, в их сердечных перипетиях. Пусть Олег выбирается сам. И с Вербицкими, и с Аней. История, конечно, темная, но прошлый, горький опыт на веки вечные вразумил Вальку не соваться в чужую частную жизнь, не зная в ней брода. Да, Дружников, даже обзаведясь первоклассным жильем и родив сына, не предпринимал никаких попыток жениться на Ане. Но мало ли тому причин. Что если, Аня сама не хочет? А он встрянет, и окажется крайним не в своих санях. Кто знает – Дружников возжаждал семейного счастья, бабник он известный, вот и увлекся хорошенькой молоденькой Генкиной дочкой. Может, просто в очередной раз поссорился с Анютой. И очень даже может.
Аню за время своего пребывания в Москве Валька видел уже целых четыре раза. Теперь он мог совершенно спокойно относится к ее новому положению матери ребенка Дружникова, еще и оттого, что как бы сам был равно виновен перед ней из-за своего краткого сожительства с девушкой Дашей. Однако, изменилась Аня довольно сильно, по крайней мере с внешней, орнаментальной стороны. Когда он впервые увидел ее в преображенном статусе в гостевой комнате «Дома будущего», где она встречалась с Дружниковым по какому-то личному, семейному делу, то сперва даже не узнал. Перед ним в глубоком, обитом тигровой тканью, кресле сидела строгая дама, невообразимо дорого и элегантно одетая. Словно заморская принцесса, ожидающая нерасторопного лакея. Кожа, меха, сияющие в ушах и на пальцах бриллианты, умопомрачительный аромат духов. И это его Аня? Он только и смог сказать:
– Как же ты изменилась!
– Ты об этом? – Аня, брезгливо сморщившись, обвела взглядом свое платье, и руки, украшенные браслетами и сверкающими кольцами. – Это все ерунда. Это теперь не имеет никакого значения. Забавы для аборигенов.
Она не пояснила своих слов, но Валька понял, что она имеет в виду Дружникова, и что весь ее вид всего лишь некоторая уступка обстоятельствам, идущая от усталости и бесплодности борьбы, и действительно, не имеет значения.
– Олегу нравится, когда у его близких есть все самое лучшее, – примирительно сказал ей Валька.
– Да, Олегу нравится все самое лучшее, – перефразировала его слова Аня, и это придало им особенный, далекий от первоначального, смысл.
– А как твои дела? Работаешь по-прежнему в банке?.. Ох, о чем это я? Ты ж теперь, дома с ребенком?
– Не дома. Я действительно работаю. Но не в банке. Я вернулась на кафедру, пишу диссертацию. В свое удовольствие. А дома няня, повар и горничная. Дружников прикупил нам соседнюю квартиру, и весь прошлый год мы жили можно сказать, на стройке. У нас теперь десятикомнатные апартаменты в два этажа. Ничего, помещаемся, – добавила она с усмешкой. – А бабушка два месяца назад умерла. Я не хотела тебе сообщать, так что ты, наверное, не знаешь.
– Абрамовна умерла? – непонятно почему, но это известие потрясло Вальку.
– Не переживай особенно. Бабушке было почти восемьдесят. И она отошла тихо. Смотрела сериал по телевизору. Мама принесла ей чаю, а она уже мертвая. – Аня описывала смерть Абрамовны обыденным голосом, без эмоций и теплоты. Словно ей и в самом деле все на свете стало безразлично. – Константин Филиппович без бабушки сперва сильно скучал. Кстати, не так давно он формально вступил с моей мамой в брак, чтобы не было потом проблем с наследством. Но ты же маму знаешь, она формально не может, ей совестно. Бросила работу и ухаживает за ним, развлекает, даже ходят вместе на какие-то академические приемы и банкеты. Так что у нас все хорошо. Только Павлика балуют сильно. Он мальчик, ему это вредно. Особенно Дружников старается. Ты скажи ему, меня он не послушает.
Но Валька, само собой, ничего никому не сказал. А Павлика он видел. Два раза, когда заходил в гости на Котельническую, отныне без всякого запоздалого смущения. Правда, с академиком почти не говорил, Константин Филиппович всецело был поглощен играми с внуком. «Мальчишку и правда балуют ужасно. Но он молодец, ничего, держится. Замечательный парнишка», – сделал вывод об Анином сыне Валька. Жаль, отец его никак не возьмется за ум. Валяет дурака у Вербицких.
Однако Дружников не валял дурака. Он искал выход. Двигатель двигателем, но Геннадий Петрович Вербицкий из старшего брата и покровителя становился для Дружникова камнем преткновения. И пока он прочно сидит в области, ходу Дружникову не будет. Геннадий Петрович, видишь ли, считает, что Олег и так получил больше, чем заслуживал, продвигать его далее нецелесообразно. Вдобавок смеет критиковать его новую экономическую политику на комбинате. Но из-за вихря Татьяны Николаевны голый Дружников перед ним бессилен. И Дружников, помаявшись в раздумьях не один день, нашел решение. Ведь недаром он столько лет сохранял холостое состояние. У Вербицкого, кажется, есть дочь, совсем еще юная и сопливая, окрутить ее выйдет делом нетрудным. Вот та выгодная партия, которую он ждал так долго. Тогда Геннадию Петровичу некуда будет деваться, придется содействовать мужу единственной дочери и наследницы. Да вот беда, эта малолетняя засранка, эта …, у Дружникова не хватало для нее печатных слов, – плюет на все его планы и даже открыто отшила его пару раз. Но ничего, никогда такого не было, чтобы последнее слово оставалось не за ним. Вербицкого все равно необходимо убрать с дороги, как исчерпавшего свою полезность. Мавр сделал свое дело, мавр должен удалиться. И лучше, если он удалится сам.
Уровень 34. Грядущая буря (одиночная игра)
Только-только Валька отошел от сна, как в комнате раздался дребезжащий вопль телефонного звонка. Валька, дотянувшись до прикроватной тумбочки, снял труб…!!!!!!! Пи-и-им, пи-и-и-м, п-и-и-и-м!!!!
(небольшое отступление, пока идет перезагрузка)
С тех пор, как Валька въехал в квартиру, доставшуюся в наследство от бабушки Глаши, в его повседневной московской жизни мало что изменилось. Никаких гигантских планов переселения в «достойный интерьер» Валька не имел ни в будущем, ни в настоящем, как ни убеждал его Дружников. Он даже не предпринял ремонта и переделок в своем однокомнатном обиталище на проспекте Вернадского. Разве современный компьютер и внушительных размеров телевизор обогатили старомодную и ветхую обстановку его квартиры. Но зато он выстроил загородную дачу для мамы и Барсукова. Дружников тогда носился с идеей подмосковного домостроительства и сумел вовлечь в нее упиравшегося Вальку, апеллируя к его родственным чувствам. Олег в скором времени приобрел в собственность изрядный участок в Барвихе, но Вальке это место показалось чересчур уж претенциозным. Он ограничился тем, что откупил старую, идущую на слом деревянную дачку неподалеку от Внуково, и возвел на ее месте добротный, двухэтажный дом со стеклянной террасой и нарядной, зеленой черепичной крышей. Мама и Барсуков загородный дар приняли с удовольствием. И даже в зимнее время предпочитали «жизнь в усадьбе», несмотря на ежедневные транспортные неудобства.
Со дня Валькиного бегства из Мухогорска незаметно и непонятно как прошло два года. О его возвращении на комбинат не было и речи. Каждый раз, как Валька заводил разговор на эту щекотливую тему, Дружников тут же возражал ему, что Мухогорский ГОК – это теперь несущественно, что на заводе и так все в полном порядке, идет своим чередом, а Семен Адамович, занявший место скандального Кошкина, неукоснительно претворяет Валькины прожекты в прекрасную действительность. Правда, Дружников на комбинат Вальку с собой не брал и не приглашал, хотя наведывался в Мухогорск по нескольку раз в месяц, и из соображений безопасности и оттого, что, по словам Дружникова, ныне Вальке там делать было нечего. Не нужен был там Валька. Но просто необходим в Москве. И Дружников не давал ему покоя. Туча неотложных дел, словно египетская саранча, съедала Валькино время. Непрестанно требовались пожелания удачи, и Валька, как Фигаро, мотался за Дружниковым. Сам уже не понимая и не находя концов тех предприятий, успех которых призван был обеспечивать. Под тяжкой пятой Дружникова трепыхались не только два завода, банк и компания по авиаперевозкам, но международное страховое общество «Россиянин», лесоторговая фирма «Три медведя» и речное пароходство с судоверфью «Волжская перспектива». И ни в одном из них Валька не значился ни как учредитель, ни вообще как-либо в документах. Он сам будто летел в потоке невидимого вихря, закрученного Дружниковым. Не имея ни срока, ни сил, чтобы различать реальность за его пределами. Хотя иногда приходил в недоумение от того, куда же утекают и его время, и эти силы, если никакой настоящей работы у него нет, кроме сопровождения дорогого друга. А тот совершенно задергал Вальку, по малейшим пустякам проявляя чрезмерное и порой ненормальное беспокойство, и требовал, требовал удачи, пусть дело шло всего-навсего о рядовой налоговой проверке.
Пока в один прекрасный день ветер, наполнявший этот нелепый, деятельный парус, вдруг не иссяк. И Валька упал в пустоту. Его отныне никто не беспокоил, не тормошил, телефон в его кабинете мертво молчал, но Валька по инерции продолжал приезжать на работу в офис «Дома будущего», без толку и смысла высиживал там положенные часы. Когда же, наконец, оглушающее действие тишины немного отпустило его, он задумался над странностью своего положения. И позвонил Дружникову сам. Олег ответил ему непривычно раздраженным тоном, сослался на некое экстренно возникшее обстоятельство, срочно требующее его вмешательства, и предложил Вальке отдохнуть неделю-другую. На Валькин беспокойный вопрос, не нужна ли ему помощь определенного рода, Дружников раздражился еще больше, и, к величайшему Валькиному удивлению ответил, что нет, не нужна, ни в каком виде. Валька сначала обеспокоился пуще прежнего, потом немного обиделся, потом, сказав самому себе, что и он не железный, решил впрямь отдохнуть и отоспаться.
А через две недели, которые Валька провел в полной праздности за компьютерными играми, в шесть часов утра в его квартире раздался звонок.
(перезагрузка завершена. сохранить файл? «да» или «нет»?)!!!!
…ку. С удивлением, особенно чувствительным в столь ранний час, Валька узнал и вспомнил хриплый, басистый голос Юрия Тарасовича Дикого.
– Вилим Александрович? Валя, это вы? – странно робко и непохоже на решительного Дикого спросила у него прижатая к уху трубка.
– Я, Юрий Тарасович. Я вас узнал. Вы в Москве? Проездом? Очень рад слышать. Приходите в гости – выдал Валька в ответ совершенно нелепый текст. Какие могут быть известия о приезде и походы в гости в шесть утра?
– Нет, Валя, я не в Москве. Я звоню из Каляева. Еле-еле ухитрился узнать ваш номер у господина Вербицкого. Я теперь мастер конспирации и шпионажа, – трубка мрачно рассмеялась, – а из Мухогорска мне связываться с вами небезопасно.
– Юрий Тарасович, к чему такие сложности? – не поверил Валька, полагая за Юрием Тарасовичем некий подвох. – Я же оставил на заводе свои координаты.
– Там только рабочие телефоны. А по ним отвечают, что вас нет и в ближайшее время не будет. Домашний номер мне сообщить не захотели, особенно после того, как я отказался себя назвать. По справочной мне тоже ничего не выдали, сказали, что ваш номер конфиденциальный и в списках не значится.
– Юрий Тарасович, это что, шутки какие-то? И что, собственно, происходит? – спросил Валька, но вдруг интуитивно ощутил, что никакие это не шутки – происходит нечто скверное. Ему внезапно и сразу стало муторно.
– Да все то же. Неужто не знаете? – в голосе Дикого обнаружилась презрительная усмешка.
– Ничего не знаю. Если честно, делами ГОКа я уже больше года не занимаюсь, – ответил Валька, стараясь прозвучать как можно более убедительно.
– Допустим, я вам верю. Хотя не понимаю, как это может быть?
– Юрий Тарасович, я действительно не в курсе ваших проблем. Но мне вы обязаны рассказать все. И я, как говориться, чем могу… Что-то с неладно с осуществлением проектов нашего клуба? – предположил наобум Валька.
– Эка, хватились! – Дикой засмеялся совсем уж мрачно и нехорошо. – Ваших планов давно нет. Как и самого клуба. Позавчера уволили Лисистратова. И меня, того и гляди, попрут из совета. Да, честно сказать, из такого совета уйти не жалко, на комбинате я давно уже значу не больше простого бухгалтера. Всеми финансами теперь заправляет ваш приятель Кадановский. И, надо сказать, у него это неплохо получается. В заводской кассе церковной мыши поживиться нечем. Но это ладно. Со следующей недели у нас начнется иное строительство. Барачное.
– Простите, Юрий Тарасович, я не совсем понимаю. Вы меня просто ошеломили, – сказал Валька и вдруг осознал себя на другой планете, жуткой и темной, как зловещее, заколдованное царство. Переход был столь внезапным и жестоким, что Валька не сумел его принять и правильно истолковать. – Какое еще строительство? Какие бараки? Для кого?
– Для «зэков», Валя, для «зэков». Разрешение получено. С нового календарного месяца грядут массовые увольнения рабочих. Оставят только высший технический персонал и администрацию. А в Мухогорске на постое целый полк ОМОНа.
– Я ничего об этом не знал, – не своим, могильным голосом ответил Валька. Он хотел из соображений самозащиты задать Дикому вопрос, не кроется ли за его словами некий розыгрыш, но ощутил пустую неуместность предположения. Такими вещами никто не шутит.
– Так вот, Валя, я собственно, зачем позвонил? Вы мне всегда казались человеком порядочным и не лишенным зачатков совести. Вероятно, вы захотите и сможете как-то повлиять на ситуацию, если вас, конечно, не окончательно купили. Или запугали. Я старый, одинокий человек, мне терять нечего. Но вам жить. Думайте, – и Дикой замолчал, видимо собираясь повесить трубку без слов прощания.
Но Валька ему сделать этого не дал.
– Меня нельзя купить. И запугать тоже. Даже то, что я ничего не знал, нисколько меня не оправдывает, в этом вы справедливы. Что касается Мухогорска, я немедленно еду к Дружникову. И будь я проклят, если не выясню в чем тут дело! И не дай бог ему меня обмануть! Не беспокойтесь, Юрий Тарасович, если то, что вы мне сообщили правда, кое-кому сильно не поздоровится! – Валька уже в бешенстве кричал в трубку, на другом конце которой бывший финдиректор Дикой замер в благоговейном ожидании чуда.
Надо ли говорить, что через час с четвертью Валька прибыл в Барвиху, и поднял на ноги охрану Дружниковской дачи. В загоне истошно лаяли собаки, несколько растерянный начальник безопасности, прекрасно знавший Вальку в лицо, не решился преградить ему дорогу, мало ли что стряслось срочного, и пропустил Вальку на территорию. Только вслед ему передал сообщение по внутренней рации.
К тому времени, когда Валька резким, стремительным шагом преодолел расстояние от ворот до внушительных, витражных входных дверей особняка, и, с гневной силой, сломал их тяжкое, пружинное сопротивление, Дружников уже встречал его в мраморной колоннаде холла. Заспанный, в махровом, банном халате, с золотым вензелем «ОДД», вышитым на кармане.
– Ты!!! – единственно смог выкрикнуть ему в лицо Валька.
Дружников в ответ брезгливо поморщился.
– Не ори! Павлика разбудишь. Он и Анюта здесь на выходные. Выпить хочешь? – Дружников сделал легкий повелительный жест, и откуда-то возник всамделишный лакей в темно-синем фраке и бабочке, полусогнутый от угодливости. – Принеси…, ладно уж, моего коньяку. И живо.
Лакей стремительно исчез, а Дружников обратился непосредственно к Вальке:
– Ты, я смотрю, все знаешь. Какой же гад, или, вернее, камикадзе, тебя просветил?
– Не твое дело! – в отчаянии бросил ему Валька, уже понимая, что все сказанное ему Юрием Тарасовичем полная и безнадежная правда.
– Не мое, так не мое, – вяло согласился Дружников. – Тебе чего надо?
– Чего мне надо? Ты, негодяй, подлец! Немедленно верни все назад, как было! – потеряв разум, зашипел на него Валька.
– А как было? – Дружников усмехнулся, явно издеваясь.
– Сам знаешь! А не вернешь – все! Ты тогда мне больше не друг, а последняя погань! И никогда больше, слышишь! Никогда больше я не пожелаю тебе удачи! – Валька не хотел, но все равно сорвался на крик.
– Я сказал, не ори! – со злой досадой оборвал его Дружников. – Мне твоя удача и даром не нужна. Слюнтяй! Слизняк! Ты меня достал. Кстати, чтобы ты не наделал глупостей, имей в виду: вечный двигатель при мне и прекрасно работает. Выкуси!
– А-а! Вот оно что! Да я тебя…! – И Валька неожиданно для себя кинулся на Дружникова с кулаками.
До Дружниковской физиономии оставалось каких-нибудь полсантиметра, когда, оглушенный сильнейшим ударом в грудь, Валька был сбит с ног, и, нелепо взмахнув руками, шумно грохнулся навзничь. Он пребольно ударился затылком о мозаичный пол, на миг потерял ощущение времени и реальности. И остался лежать, не очень понимая, отчего мир ему зрим исключительно снизу. Дружников, разъяренный и кипящий бешенством, возвышался над ним монументальной, уродливой фигурой. Валька видел вблизи его голые, покрытые рыжей шерстью, кривые ноги, и пытался подавить в себе подступающую тошноту. Ушибленная голова нестерпимо гудела.
– А ну вставай! Шут гороховый! – тяжелая, крестьянская рука вздернула Вальку вверх, заставила подняться на ноги. – Что ты мне? Ну, что ты мне? Пошел вон! Отсюда! Катись в свою панельную халупу и не смей рыпаться, пока Я не решу, как с тобой быть! Тихо сиди, понял, дерьма кусок!
Дружников бесцеремонно, не прибегая к услугам сбежавшихся на шум охранников, протащил Вальку за воротник пальто через холл к входной двери. Он был куда сильнее и массивнее Вальки, и мог справиться со своим дорогим другом, что называется, одной левой. Но Валька, озверевший уже совершенно от обиды и унижения, перестал вдруг жалко загребать ногами по скользящим плитам холла, и у самой двери извернулся, дал, что есть мочи, Дружникову в ухо. Дружников от неожиданности и сильной боли выпустил воротник своей жертвы. А Валька, недолго думая, стал развивать успех. Вцепился Дружникову в курчавые волосы, благо рост позволял это сделать, и с остервенением ударил его головой о стену раз, потом другой, до крови, потом третий. Пока Дружников, спасаясь, не двинул его ногой в коленную чашечку. Тут Валька не удержал равновесия, но, даже падая, шевелюру врага из рук не выпустил. Затем они оба покатились по полу в безобразнейшей, отчаянно грязной драке. Охранники наконец-то опомнились, бросились разнимать. Растащили, не без усилий, в разные стороны.
– Я тебе еще покажу! – грозил Валька, сдерживаемый с двух сторон дюжими молодцами в черных куртках. – Я с тобой теперь в одном поле какать не сяду! Завтра же забираю свою половину и выхожу из дела! И «Дом будущего» тоже забираю, это я его придумал!
– Какую половину? Мудак недокрученный! Да тебе и мусор из корзин в «Доме будущего» не принадлежит! Тебе в твоем поле даже подтереться нечем будет! Ты же нищий, как вытравленный глист! Половину, половину ему! – Дружников зашелся радостным, злорадным смехом. – Ты задрипанная ворона, мокрая курица! А сыр давно тю-тю! – потом приказал державшим Вальку ребятам из охраны:
– Вышвырнуть вон и не пускать. Чтоб я его больше никогда не видел!
– Пойдемте, Вилим Александрович, лучше сами, – сказал ему тихо один из ребят и мягко повел за плечо к выходу.
Валька послушно подчинился. Смысл сказанного Дружниковым доходил до него с трудом и все никак не мог дойти. Раздавленный, почти уничтоженный, он брел под конвоем к двери. И последнее, что он увидел в этом навеки оскверненном для него доме, была Аня. Она стояла сбоку, в глубине лестничного проема, под стрельчатой, резной аркой, едва обозначенная фигура в вялом, предрассветном сумраке. Но это без сомнения была она, Валька угадал бы ее присутствие и в полной темноте. Сколь давно Аня стояла так и что слышала, Валька не знал. Но она не вышла из-под арки и не заговорила, только протянула к нему руку, будто хотела его удержать, но не могла.
А потом Валька осознал себя на заднем сидении своей машины, и выглянул в окно. Мимо проносились разорванной полосой грязно-зеленые елки, какие-то разрытые канавы, и заборы, заборы, синие, коричневые, желтые. Он услышал слова водителя Кости, обращенные к нему и звучащие настойчиво одинаково: «Что случилось, Вилим Саныч? Что с вами случилось? Вилим Саныч?», и Валька вспомнил, и зашелся в праведном гневе. Наказать, непременно наказать предателя, гнусную мразь! Так же…, так же, как когда-то Рафаэля Совушкина! И немедленно! Чего бы это ни стоило. Валька пожелал и явилось.
Мир, представший перед ним, был одновременно ужасен и величественен. Ничего похожего на сияющую розовыми искрами паутину в нем не существовало. Перед ним простиралось невероятно огромное, пульсирующее нечто, полыхающее всеми оттенками кроваво-алого пламени. Паутина, вероятно, скрывалась где-то там, внутри, и добраться до нее не было никакой возможности. Валька попытался, но багряное зарево отбросило его прочь, непреодолимым щитом защищая и ограждая несказанное чудо – тот самый вечный двигатель удачи, сотканный из Валькиной любви для мерзавца Дружникова. Любая попытка пробиться к паутине была бессмысленна. Пройти Стража из пламени оказалось невозможно. И навеки, да пребудет так.
Дружников, сопровождая грозным, торжествующим взглядом изгнание бывшего дорогого друга прочь из своего дома, из своей жизни, и по возможности, из своей мысли, тоже увидел стоявшую в проеме Анюту. Это уже серьезно. Не хватало еще опасных вопросов и ненужных эмоций. И Дружников с усилием сосредоточился, надавил в необходимом месте внутри себя. С двигателем он еще не вполне освоился.
– Ну, что ты, что ты, малыш! Все это глупости. Ничего страшного не произошло. Небольшое недоразумение, – он подошел к Анюте, и нежно, насколько мог, обнял ее за талию. – Не стой здесь, простудишься. Я тебе все объясню. Потом. Ты же мне доверяешь? – и Дружников ласково, но твердо увел ее наверх.
С двигателем и в самом деле все вышло далеко не так просто, как он предполагал. Но главное, вышло. Этим для Дружникова было сказано и решено все. Все. Все произошло в одно мгновение. Не постепенно и не плавно по кривой, а внезапно, как безвременная смерть. Он и в действительности выпал из времени. Хотя дело было на переговорах, и Валька сидел рядом, а досужий депутат, с которым Дружников в этот момент вел беседу, посмотрел на него обеспокоено – уж не плохо ли внезапно сделалось его визави. Тогда Дружников, испугавшись разоблачения, собрался с силами, заставил себя держаться, как ни в чем не бывало. Что с ним случилось, он понял сразу и сразу увидел, но совладал с безумной, всепоглощающей радостью.
Вернувшись в офис «Дома будущего» заперся у себя, желая в одиночестве насладиться своим долгожданным, выстраданным приобретением, и заодно опробовать его в деле. Но тут выяснилось, что двигатель не работал просто так. Это совсем не было похоже на загадывание желаний золотой рыбке и на бороду Хоттабыча. Слов и мысленных повелений оказалось недостаточно. Пожелав нечто, Дружников сразу начинал ощущать в себе некие огромные движения, будто в нем обращались тектонические плиты земли. И удержать их в этом движении, придать нужные направления выходило непросто. От усилий бросало в жар и в дрожь. Потом желание осуществлялось, но плиты, когда скоро, когда нет, вновь сдвигались на свои плавучие места, и Дружникову приходилось трудиться сначала. Свои ограничения оказались наложенными и на него. Значит, силы придется беречь, значит, и у двигателя есть цена. Но Дружникова это обстоятельство как раз обрадовало. Бесплатному сыру он давно научился не доверять.
Вот только теперь, после выдворения Вальки, он испугался, что поступил необдуманно и немного самонадеянно – вспомнил предостережение Зули Матвеева. «А вдруг паутина исчезнет вместе с ее творцом?». Что, если его дорогой друг с горя полезет в петлю? Ах, он болван! Нужно было все-таки помягче обойтись с этим обормотом. Ну, ладно, он устроит Вальке относительно сладкую жизнь. Но что если, и это не выход? Что если дорогой друг знает и умеет нечто такое, о чем не догадывается Дружников и что может наверняка повредить двигателю? Ай-яй-яй! Как же это он не подумал-то? Но Дружников потому и был Дружниковым и никем иным, что обладал сверхъестественным умением соображать очень быстро в очень гадких ситуациях. Валька должен его опять полюбить, несмотря ни на что! Как? Да очень просто? Надо отдать двигателю приказ. Это будет стоить немалых сил? Пусть. Пожелание не продержится долго? Ерунда, он пожелает снова. Хоть каждый день. Каждый день он отныне станет начинать с одного и того же. С повеления Вальке обожать его, Дружникова.
Уровень 35. «divide et impera» (разделяй и властвуй)
На следующее утро Валька очнулся с головной болью. С чего бы? Ах, да. Он, кажется, страшно и сверх всякой меры напился вчера. Валька смутно помнил, что весь прошедший день он бесцельно и суматошно катался по городу на машине, что его вежливо, но непреклонно отказались впустить в офис «Дома будущего» вахтенные охранники, и что из каждого окна на этот инцидент глазели напуганные сотрудники фирмы. В конце концов, он добрался к вечеру до своей квартиры, где и надрался до чертиков в обществе водителя Кости. Нет, Костя вроде бы не пил. Вроде бы он просто сидел и слушал, что в пьяном бреду нес Валька. Но, кажется, Валька ничего ему не выдал. Нет, конечно, не выдал, лишь в общих словах долго жалобился на обиду и несправедливость.
Но как же болит голова! На кухне, в аптечке есть аспирин, а в холодильнике, наверняка, осталась водка. Только туда еще надо дойти. И кто это так настойчиво трезвонит в дверь? Или Вальке это кажется, а звенит просто-напросто у него в ушах. Он прислушался к себе. Нет, все-таки, в дверь. Нужно бы пойти и открыть, узнать, кого и за каким делом принесла нелегкая. Но разве по силам ему этот поход? Весьма сомнительно. Хотя в дверь звонили и звонили, с удручающей настойчивостью. Ладно уж. Так и быть. Валька поднялся на ноги, кое-как, придерживая рукой стенку, поплелся открывать.
На пороге, к своему великому удивлению, Валька узрел Иванушку Каркушу. Иванушка маячил видением на грязном, придверном резиновом коврике, смущенно переминаясь с ноги на ногу, глаз на Вальку не поднимал, кусал губы, неловко перекладывал из одной руки в другую массивный, немного потрепанный портфель. Валька поглядел недолго на его жалкую фигуру, потом ему это надоело, да и стоять было тяжко. И Валька коротко велел:
– Заходите, раз пришли. Вы сами по себе, или послали?
– Здравствуйте, Вилим Александрович! – неожиданно и с запозданием поприветствовал его Каркуша. – Я по поручению. Я не хотел. К вам рвался ехать Кошкин. Но Олег Дмитриевич ему запретили, изволили послать меня. Очень неприятно, знаете ли. Однако, с другой стороны, для вас лучше иметь дело со мной. Так что, меня это обстоятельство в некоторой мере оправдывает.
– Бросьте, Каркуша! Вы человек подневольный и совершенно не причем. И вправду, лучше уж вы. Кошкину я бы морду набил, или чего еще похуже. Если вас это успокоит, – Валька произнес свою краткую речь, и от усилий его голове стало совсем худо. – Вы проходите в кухню. А я уж за вами. Я, извиняюсь, должен выпить. Водки или аспирина. Что попадется. Лучше водки. Иначе воспринимать ваши тексты и послания буду абсолютно не в состоянии.
Вальке, конечно, попалась водка. Правда, аспирин он и не попытался отыскать. Каркуша тоже не отказался составить компанию. От нервов, и для придания бодрости в его нелегком миссионерстве. А выпив, Каркуша сразу перешел к делу.
– Вы главное поймите, Вилим Александрович. Я только передаточная инстанция. И лишь в некотором роде надзирающая.
– Да не смущайтесь, Каркуша. Говорите, как есть, после выпьем еще. Говорите, а то не налью! – шутливо пригрозил ему Валька. Странно, но ему и в самом деле вдруг стало весело. И одновременно безразлично.
Каркуша это уловил, и, приободрившись, приступил к изложению данных ему инструкций:
– Вилим Александрович, как вы поняли, на службе вам появляться более не надобно. Бумаги с просьбой об увольнении «по собственному» я принес с собой. Вы их подпишите. С Олегом Дмитриевичем искать встреч не стоит. Он не примет вас ни при каких обстоятельствах. И на телефонные звонки, кстати, тоже не ответит – вы как бы для него умерли. Уж не знаю почему, и откровенно говоря, не желаю выяснять. Я не бездушный негодяй, но у меня двое детей.
– Я все понимаю, Каркуша. И дети – это важно. Мне вы все равно помочь не в состоянии. Так что, продолжайте, не стесняйтесь, – успокоил его Валька.
– Спасибо. Так вот. С одной стороны, вы умерли. А с другой… С другой вас приказано обеспечить. Водитель и машина по-прежнему за вами. Естественно, фирма оплачивает и то, и другое. Более того, если ваше авто испортится или устареет, вам его заменят на равноценную модель. Между прочим, ваш Костя, кажется, рад, что остается при вас. Так же, на вашу кредитную карточку каждый месяц будет перечисляться денежная сумма. Первоначально обозначенная в десять тысяч долларов. Ее можно обсуждать. Если вы сочтете такое содержание недостаточным, то я уполномочен увеличить, в разумных, естественно, пределах, – тут Каркуша вопросительно посмотрел на Вальку.
– Что же, весьма неплохое содержание, – усмехнулся Валька, особенно подчеркнув последнее слово, – весьма и весьма достойное. Но не переживайте, если мне не хватит, я вам, конечно, сообщу.
– Хорошо, что вы понимаете. Вы, действительно, отныне будете иметь дело исключительно со мной. Более ни у кого нет права вступать с вами в какого-либо рода контакты. А денежный вопрос, я думаю, можно пока закрыть.
– Какие еще встанут требования ко мне в уплату за содержание? Выкладывайте, не стесняйтесь.
– Да, собственно, более никаких. Никаких особенных. Единственно, мой поручитель очень рассчитывает на ваше благоразумие. Что вы не будете ему вредить, распространять о нем слухи, помогать его конкурентам и врагам. И главное, не попадаться ему на глаза. Это Олег Дмитриевич подчеркнул отдельно. В остальном вы совершенно свободны. Конечно, самое удобное – вы просто будете жить тихо, в свое удовольствие, если это слово здесь уместно. Но и заниматься чем-либо по интересам вам отнюдь не возбраняется. Если что, если возникнут проблемы или вопросы, вы должны связаться со мной. Ваша безопасность также гарантируется моим доверителем.
– И на том спасибо. Что же, Каркуша. Свою миссию вы выполнили. Хорошо ли, плохо ли, ну уж, как смогли. А теперь давайте выпьем. Вы заслужили, – Валька наполнил стаканы. Каркуша даже не подумал отказаться.
Вальке вдруг сделалось на сердце если и не хорошо, то, во всяком случае, спокойно и как-то даже сочувственно. Он неожиданно и вдруг пожалел Дружникова. Вчерашняя сцена с ее сегодняшним продолжением словно прояснила нечто в его голове. Дружников, действительно, бедный. Гениальный, отчаянный и несчастный человек. Не выдержавший рухнувшего на него испытания властью и огромным богатством. Что же, искушение святого Антония оказалось святому Антонию не по плечу. Бывает. Но имеет ли Валька право осуждать? Искупление перед человечеством – это его долг и кара, а Дружников не обязан. Он не устраивал экологических катастроф и никого не убивал. Валька заставил его жить своей болью и вот, в итоге, вырастил из человека монстра. Так ему и надо. А у Дружникова есть оправдание. И он, конечно, бедный. Ненависть сама собой улетучилась из Валькиного сердца. Он почувствовал, что по-прежнему, отчасти любит своего бывшего дорогого друга. Что касается всего остального, Мухогорского комбината, самого «Дома будущего» и прочих предприятий, то тут, как говорится, ничего нельзя сделать. Это более не в его власти. Вот только, как же Аня? Неужели ему запрещено видеться и с ней?
«Дорогой друг» Олег Дмитриевич Дружников с усилием перевел дух. Он лежал в огромной, мраморной ванне, закинув голову на резиновую подушечку. Сердце стучало в груди сильней обычного, немного тяжело было вдыхать наполненный морскими ароматами воздух. Но плита сдвинулась. Значит, повеление, адресованное им Вальке, снова прошло по назначению. Однако, инерция возврата оказалась слишком велика. Да, только-только хватит до завтра. Потом все сначала. Но как же тяжело. Он и не думал, что будет так тяжело. За недолгое время сосуществования с двигателем Дружников все же заметил, что чем сильнее сопротивление субъекта его повелительным желаниям, тем труднее удерживать внутренние плиты в надлежащем положении. А в Валькином случае сопротивление весьма значительно. Но, может, со временем, станет легче. Может, со временем, Валькина ненависть к нему ослабнет, или накопительные силы любви возьмут свое. Пока же его каждодневная, утренняя борьба с «дорогим другом» стоила ему немалых трудов, и змеей душила горло.
А ведь у него еще куча замыслов и дел. И проблем, между прочим, тоже. На все никак его одного не хватит. Стало быть, двигателю необходимо поручать самые главные, самые жизненно важные моменты. В остальном Дружникову придется полагаться на одного себя. Но это-то он делал и раньше. Пока же у двигателя только две постоянные работы – Валька и Аня. Но Аня как раз не требует от него много сил. Лишь изредка, когда проявляет ненужный интерес к Валькиной судьбе, или наоборот, никакого интереса ни к чему не проявляет. Такое в последнее время стало случаться все чаще. Словно заводная игрушка, которая, если не накрутить пружину, не сдвинется с места. Нравилось ли Дружникову это ее новое качество, трудно было сказать. С одной стороны, живая Анюта радовала его куда больше, но с другой, так надежней и безопасней. Надо лишь время от времени заводить часы.
Более всего мучил его неразрешимый и открытый вопрос с Геной Вербицким. Тот в последнее время сделался попросту непредсказуемо тревожным оппонентом. И все из-за Вальки. Вернее, из-за его отсутствия. Вербицкому невозможно было доступными методами объяснить тотальное отстранение его «крестника» от жирного, финансово-промышленного пирога, тем более, что сам этот пирог выпекался Вербицким именно для Вальки. И лишь попутно, постольку-поскольку, для Дружникова. Пока еще, в течение последних недель удавалось забивать Вербицкому баки, ссылаясь на Валькино нервное истощение и переутомление, что вызвало его отбытие в длительный отпуск. Не сегодня, так завтра Вербицкий допросит Вальку самолично, и неизвестно, что ответит ему «дорогой друг». Хорошо, если его не покинет благоразумие, и он подтвердит версию Дружникова. Но даже если подтвердит. Бесконечно в отпуске Валька никак не сможет пребывать. Это значит – рано или поздно, придется сообщить Геннадию Петровичу, что Валька удалился от дел. И тогда Вербицкий, более никак не заинтересованный в Дружникове, попросту кинет последнего на произвол судьбы и перекроет кислород. Конечно, есть двигатель, но в случае с Вербицким он вряд ли поможет. И вообще, зачем Дружникову брать на себя лишние, нешуточные усилия, чтобы удерживать в повиновении человека, который, по существу, низачем ему не нужен, скорее, вреден, и опять же, тревожно непредсказуем. Как ручной тормоз в самолете. Не будь Вербицкого с его косвенной удачей, переданной через Татьяну Николаевну, то он, Дружников, преспокойно посадил бы в области своего губернатора, со временем осторожно переделил бы собственность. И заимел бы мощный наступательный плацдарм, откуда планировал штурмовать Москву. Да и Москвы Дружникову в его грандиозных планах было уже мало. Конечно, на Мухогорске свет клином не сошелся, заставить работать свою удачу Дружников мог в любом месте. Но жаль было потраченного времени, нервов и сил. А начинать все сначала – не значит ли это повторить пройденный путь и спасовать перед трудностями? Ну, нет, он, Дружников, никогда не отступал. Не отступит и на сей раз. Дружников принял решение и на следующий же день вылетел в Каляев.
Первым делом он повидался с Зулей. Вызвал Матвеева к себе в гостиницу, долго допрашивал.
– Неужели тебе, за столько-то времени, не удалось состряпать хоть мало-мальски сносную оппозицию? Чем ты вообще тут занимаешься? – не выдержав путаных оправданий Зули, в конце концов наорал на него Дружников.
– Чем приказано, тем и занимаюсь, – обозлено огрызнулся в ответ Зуля. – Сам бы попробовал. Говорил я тебе, что против Вербицкого идти бесполезно. Так нет, ты попер, как танк на подводную лодку. И с тем же успехом. Оппозицию ему подавай! Я и есть оппозиция, единственная и неповторимая! Как вошь на лысине. И скоро меня за выкрутасы потравят керосином. Я тут уже всем надоел, насточертел и опостылел. А что я слышу от тебя, вместо «спасибо»?
Дружников немного приутих. Вовсе не оттого, что посочувствовал Зуле. Между ним и Матвеевым, всякий раз, как дело доходило до взаимных упреков и обвинений, незримой тенью вставал тот самый автомобиль, взятый Муслимом напрокат по велению Дружникова, и подозрительно отсутствовавший в день гибели Порошевича. Где и как его старая «шестерка» развлекалась в ту ночь и в то утро, Матвеев, конечно, не допытывался. Да и зачем? Считать он умел, и мог сложить один да один. И синий призрак прочно повязал его и Дружникова в единую упряжку. Надо ли говорить, что сам Дружников от такой связи был далеко не в восторге.
– Между прочим, Вербицкий завтра прилетает из Москвы, – тоскливым голосом оповестил Матвеев. – Есть сведения, что в этот раз он намерен всерьез взять нас за горло. Мы его заели. Гена, видимо, хочет окончательно прихлопнуть назойливую муху. То есть меня. А с тебя довольно станет и Мухогорска с кабельным заводом. Вербицкий не дурак, понимает, к чему мы тянем руки. Вот и желает крепко дать по этим самым рукам.
– Ну, это мы еще посмотрим, кто и кому что даст, – с угрюмой угрозой ответил ему Дружников. И тут же, молниеносно озаренный, спросил:
– Слушай, друг мой ситный, как ты думаешь, может один вихрь удачи одолеть другой?
– В каком смысле? Если уничтожить паутину, то нет. Ты же знаешь, Валька это проверял – при столкновении они рассеиваются, и ничего не происходит.
– Это верно. Но Валька проверял только на собственных пожеланиях. А вот как будет с вечным двигателем, никто же не знает? Во мне удача действует и ощущается совсем иначе, чем если бы ее насылал Валька, – Дружников сказал и вопросительно посмотрел на Зулю.
– Не понимаю, что ты хочешь сделать?
– Да очень просто. Я, например, пожелаю нечто, что будет противоположно интересам Татьяны Николаевны, то есть во вред ее мужу. Ее вихрь должен блокировать мой собственный. Так? Так. А если не так? Если я продавлю его своей удачей? Я ведь начну не просто желать, но и направлять свои усилия. Что если двигатель окажется мощней? Что если он заставит отступить удачу Татьяны Николаевны? Ведь наш Вербицкий прикрыт лишь краем чужой силы. А у меня огромный собственный резерв.
– Ну, я наперед не скажу. Вдруг, что и выйдет, – Матвеев задумался, словно просчитывал ситуацию в уме. – Только это тебе не беспомощного Вальку на привязи держать. Черт его знает, ты ведь этого никогда не делал. И Валька не делал. Но может получиться. Попробуй. В конце концов, чем ты рискуешь? Одним разочарованием больше.
– Наверное, ничем. Но если делать, то делать быстро. До того, как Вербицкий явит свою волю завтра у губернатора.
– А в случае удачи, кого ты метишь в губернаторское кресло? – опасливо затаив дыхание, спросил Матвеев. Вопрос был задан как бы невзначай. Но для Зули имел невыразимо громадное значение. Должен же Дружников когда-нибудь расплатиться с ним за все страхи и услуги, в конце-то концов?
Дружников вопрос понял правильно. И внутренне съежился от отвращения. Неужто этот хмырь и вправду полагает, что получит из его рук такую баснословную награду? Идиот. Едва с Вербицким будет покончено, Матвеева тут же с глаз долой. Лишний свидетель и отработанный шлак. К тому же лично ему противный тип. На него даже не стоит тратить сил двигателя, чтобы держать под контролем. И без того будет сидеть тихо и помалкивать, из голого животного страха. Но Дружников, разумеется, и виду не подал о том, какие мысли одолевали его. Зуле он ответил вполне миролюбиво:
– Посмотрим, до этого еще далеко. – Но, увидев, как отвисла в разочаровании челюсть Матвеева, поспешил добавить сахару:
– Ты не думай, я не против. Только на кой ляд тебе здешняя дыра? То ли дело Москва. Со мной тебе будет куда веселей.
– Мне бы здесь, – настойчиво повторил Матвеев.
– Что, от начальства подальше, к кухне поближе? Или ты меня боишься? – насмешливо спросил Дружников. И попал в десятку.
– Боюсь, – честно сказал Матвеев. – Вокруг тебя всегда ураган. А я человек слабый. Мне бы, где поспокойней. Да и тебе выгода. Стану сидеть себе тихо и послушно, козлам бороды чесать. А в твоей команде я подкидыш. Квитницкий меня не выносит. Кадановский глядит сверху вниз, того и гляди, спроворит какую-нибудь пакость. Забыл, червь, кому обязан. Да что говорить!
– Говорить, действительно, пока рано. Но ты не грусти. Я тебя не забуду. Свое получишь, – утешил его Дружников, одновременно потешаясь над двусмысленностью собственных обещаний. – Ты вот что скажи. Когда прилетает Вербицкий?
– Рано утром. Не своим, рейсовым самолетом. Потому будет по расписанию.
– Тогда хватит трепаться. Мне надо как следует отдохнуть. Ты иди себе, – не очень вежливо выставил Дружников своего верного консультанта.
Отдых ему действительно был необходим. Завтрашним утром ему предстояла борьба с неведомым, и Бог знает, сколько она отнимет у него сил. Двигать желания и без того непростая работенка, против вражеского вихря и вовсе, наверное, адов труд. Еще неизвестно, случится ли сей труд успешен. Игра вслепую. Потому надо выспаться как следует и начать сражение на свежую голову. Вальке придется на сей раз обождать. Расходовать на него энергию выйдет неосмотрительным. Им Дружников займется потом, когда его поединок с вихрем Татьяны Николавны так или иначе завершится. А сейчас спать, и еще раз, спать.
В то же время Валька сидел в глубоком кресле в загородном доме у Вербицких, мирно пил чай, услужливо поднесенный ему нарядной горничной Татьяны Николаевны. Зачем он приехал сюда, в Жуковку, Валька не знал и сам. Просто в последние дни он инстинктивно искал тепла и покоя среди оставшихся с ним близких людей. Маму и Барсукова тревожить своими бедами он не хотел, вот и прибрел в дом к Татьяне Николаевне. Вербицкие, однако, сразу почувствовали неладное и пристали к нему с расспросами. Но Валька упорно отказывался выдавать себя. На все поползновения вытащить на свет приключившееся с ним несчастье он отвечал одно и то же: болен, устал, все надоело. Потом и вовсе ушел в тишину. Пока Геннадий Петрович, пресекая повисшее молчание, не разразился категоричной тирадой:
– Вот что, малыш. Дурака валяй в ином месте. Не хочешь говорить, не говори. Я сам все выясню. И далеко мне ходить не надо. Догадываюсь уже, кто тебе портит кровь. Не-ет, первое впечатление, оно самое верное. Ведь знал же тогда, что с этим твоим сельским скорпионом добра не выйдет. Но, ничего. Еще все поправимо. И что у вас в Мухогорске за балаган происходит? «Зэки» какие-то, ОМОН. Не может твой дружок по-людски. Тем хуже. Придется доходчиво объяснить. Завтра лечу в область, говорят, он там сейчас ошивается. Хорошо, что искать не придется. То-то я ему яйца на уши накручу.
– Не дай-то бог, Геннадий Петрович! – Валька в момент очнулся от сонного оцепенения. – Не трогайте вы его. От греха. Он сейчас опасен. Пусть идет как идет.
– Ну, нет! Напугал! Против Гены Вербицкого у него прямая кишка тонка. Обделается! Ты за меня не бойся. Хотя за беспокойство спасибо. Ты хороший парнишка, но и младенец совсем.
Валька не стал более спорить. Чем черт не шутит, может все к лучшему. Может Гене удастся образумить его дорогого друга. И тот еще вернется к нему. И все станет как прежде.
Уровень 36. Дикая охота
Будильник, встроенный в мобильный телефон, оповестил, что нынче уже шесть утра, и Дружников немедленно пробудился ото сна. Умылся холодной водой для придания бодрости, оделся в темный костюм для придания нужной строгости. После снова лег в незастеленную кровать прямо поверх одеяла. Дело ему предстояло нелегкое, а лежачее положение, безусловно, гарантировало экономию сил. Дружников сделал несколько глубоких вздохов, чтобы сосредоточиться и успокоить вдруг заволновавшееся сердце, закрыл глаза и зачем-то произвел обратный отсчет. Три, два, один. Начали.
И Дружников пожелал. Искренне и честно. Победить вихрь удачи Татьяны Николаевны так, чтобы он отступил от ее мужа, и никогда более к нему не возвращался. Дружников не стал размениваться на мелочи и требовать себе симпатий Геннадия Петровича Вербицкого или уступок с его стороны. Он сразу выразил то, чего именно в конечном итоге хотел.
Моментально почувствовал он и напряжение плит, которые, однако, никуда двигаться не спешили, словно их заклинило в ступоре. Дружников добавил усилий, но добился только того, что получил будто бы мысленный, ответный удар со стороны неведомого противника, и ощущение дрейфующих плит тут же пропало. Дружников остался ни с чем. Он попробовал еще раз и еще. С тем же результатом. Сначала желание, потом внутреннее движение в нем намертво клинило, после его отбрасывало прочь, и все исчезало. И с каждым разом силы Дружникова все более ослабевали, тело и мозг требовали передышки. Ровным счетом он предпринял шесть попыток, и последняя совершенно вымотала его. Тем временем прошло уже два часа. Скоро самолет Вербицкого приземлится, Геннадий Петрович прибудет к губернатору собственной персоной, и, как следствие, возьмет за одно место сначала Матвеева, после чего примется и за Дружникова. И сколь сильно он сможет навредить, одному лишь богу ведомо. У Дружникова, как говорится, ныне вышел полный облом, никакого оружия против Геннадия Петровича у него нет, и создать его не получается.
Но, впрочем, пока таймер работает, бомба не взорвалась. Стало быть, ее можно отключить. Он попробует снова, а потом еще раз. До тех пор, как время выйдет до последней минуты. Чем он рискует? Да разве же в риске дело! Какого черта понадобилось Вальке оделять удачей эту высокопоставленную дуру, Татьяну Николаевну, дабы утвердить ее каверзного муженька поперек Дружникову на узкой дорожке, где одному-то трудно пройти, а вдвоем и вовсе не развернуться! Разозлившись, Дружников нахрапом предпринял еще одну попытку. И, видимо, чересчур уж решительную. Ибо обратно его выставили, фигурально выражаясь, мощнейшим пинком, так, что на миг он утратил дыхание, зато приобрел сильную боль в груди.
Дружников лежал беспомощный, ждал, когда пройдет боль, и внутренне бесился от сознания постигшей его неудачи. Черт бы побрал этого Вербицкого! Черт бы побрал Вальку с его сопливой сентиментальностью! Дружников в судорожном бешенстве стукнул крепко сжатым кулаком по одеялу, промахнулся, попал по деревянному краю кровати, до синевы зашиб пальцы. И вконец осатанел. «Чтоб этот Вербицкий себе шею свернул!» – вслух выкрикнул Дружников, и неизвестно зачем, злорадно пожелал того же на деле. Все равно. Все равно сейчас сработает враждебный вихрь, и он получит в очередной раз по лбу. Ну и пусть. Дружников даже почувствовал какое-то мазохистское удовлетворение. Которое, однако, сразу прошло. Тяжелые, плавучие плиты в нем неожиданно сдвинулись.
Дружников сначала не поверил своему счастью, но мгновением позже ощутил всамделишный ужас. Все было не так. Теперь и он двигался вместе с плитами, быстрей и быстрей, еще миг, и вот он уже несется на сумасшедшей скорости, он сам и есть это невероятное движение. А навстречу… Навстречу ему мчится нечто, мощное и монструозное. Вращающийся и беснующийся, будто техасский торнадо, поток. Дружников отчетливо видел его впереди. Не глазами, конечно, но видел все равно. Другой миг, и он влетел в этот торнадо, закрутился вместе с ним в адовой пляске. Ощущение было кошмарное. Но тут же и понял: нет, не кошмарное, смертельное по-настоящему. Из этого торнадо выход есть только для одного. Либо Дружников его одолеет, либо торнадо уничтожит его в себе. Господи, какой же он болван! Дорисковался! А ведь, не зная брода, не суйся…, и так далее. Но нет времени на мудрствования и сантименты, шкуру надо спасать. Да, что же делать? Дружников интуитивно прозрел – борьбу нельзя прекращать ни на секунду. Едва лишь он отпустит плиты, ослабит напряжения и даст им уплыть от себя, позволив вражескому торнадо развалить скрепленную его волей конструкцию, – все, тут ему, Дружникову, и конец. Сколько же он сил растратил зря! Эх, если бы знать наперед! Но плакаться было совсем уж не время. Невероятным внутренним усилием Дружников все же смог затормозить и привести плиты в относительно устойчивое положение. Но это была самая малая часть огромного дела. Теперь необходимо наступать. Вопрос, как? Что он там пожелал, и с чего все началось? Чтоб Вербицкий свернул себе шею. На том и надо стоять. Он повторил и, насколько возможно, усилил свое желание. И поражен был ответной атакой торнадо, которая сама по себе уже могла убить. Однако, Дружников устоял, хотя из последних сил, и даже, в злобном порыве и неистовом желании жить, заставил торнадо ослабить свое вращение. Но надолго ли его, Дружникова, усилий хватит? Сколько времени прошло с начала сражения, Дружников не имел понятия, да это его и волновало меньше всего на свете.
К тому моменту Геннадий Петрович Вербицкий уже покинул депутатский зал прилета, в сопровождении двух личных телохранителей и невысокого человечка, по виду напоминающего колобка, – первого помощника губернатора, присланного за ним в знак уважения принимающей стороной. Спустя какую-то минуту Геннадия Петровича усадили в бронированный «мерседес», припаркованный как можно ближе к выходу из аэропорта. Вербицкий, как и положено по охранной инструкции, расположился сзади между двумя «бодигардами», помощник-колобок устроился на переднем сидении рядом с водителем. Еще несколько секунд, и тяжелая машина тронулась с места.
Вербицкий затеял непринужденный и не очень нужный разговор с колобком, так просто, чтобы скоротать время до города. Помощник, все поняв правильно, в деловые вопросы не вдавался, больше травил последние анекдоты, да расспрашивал, как там погода в Москве и вообще светская жизнь и политическая обстановка. «Мерседес», тихо завывая «мигалкой», ровной рысью глотал километры, устойчивый и бесшумный, будто торпедный катер, скользящий по гладкому, безветренному озеру. И вдруг машина сильно вильнула в сторону, как если бы ее дернула невидимая, гигантская рука. Геннадий Петрович от неожиданности завалился вправо, на одного из телохранителей. Но тут же был услужливо и даже нежно приведен в вертикальное положение:
– Что за черт?! – выругался Вербицкий. – Поаккуратней, ты там! – велел он водителю.
– Машина в порядке? – обеспокоено спросил один из охранников. – Может, тормознем, проверим?
– Да в порядке, в порядке, – успокоил его шофер. – С вечера проверяли, и еще раз с утра. Нешто мы не понимаем, кого возим? И по приборам все в полном ажуре. Дорога, вишь, она разная. Может, камешек какой, может, асфальт просел. Машина тяжелая. Да вы не волнуйтесь. Это же «мерседес», а не «москвич». Выравнивается быстро. Вот смотрите, хорошо идем.
Шофер указал головой на дорогу, не отрывая и на миг руки от руля. «Мерседес» действительно шел ровно, более никуда не вилял и, кажется, дурить далее не собирался.
– Ты гляди, гад какой-то гравий рассыпал! – посетовал водитель, и машина вздрогнула еще раз. – Руки бы оборвать! Потому и заносит.
– Так, может, Гриша, ты помедленнее поедешь? – осторожно предложил с переднего сидения колобок.
– Какой, помедленнее, весь корпус исцарапаем! Тут наоборот, газку добавить надо, – и водитель, названный Гришей, вопросительно посмотрел в зеркало заднего вида, словно ища поддержки у пассажиров.
– Верно, лучше поднажать. Быстрее проскочим, – согласился с ним один из охранников. Машина вильнула опять, уже ощутимее. – Давай, Гриша. А то Геннадию Петровичу тряска наскучила.
«Мерседес» прибавил в скорости. Несколько секунд машина действительно шла хорошо, демонстрируя дорогостоящее немецкое качество автомобилестроения. Но эти секунды были последними спокойными мгновениями. После чего «мерседес» решительно занесло. К этому времени спидометр успел добраться до отметки – сто пятьдесят километров в час.
Дружников все в том же положении возлежал на кровати. Вернее, на ней покоилось исключительно его тело. Вся прочая часть его сущностного «Я» билась в смертельном поединке в неведомых пространствах. Несчастна же плоть истекала потом так, что промокла насквозь не только рубашка, но даже пиджак. Руки и ноги вздрагивали, словно по ним ударяли электрическими разрядами. Сердце, не в силах удержаться на присущем ему месте, билось почти у самого горла. Если бы при Дружникове в это время находился врач с элементарным набором медицинских инструментов, он с удивлением бы обнаружил, что у пациента давление подскочило до катастрофически высокой точки, пульс перевалил за сто шестьдесят ударов, а температура тела, напротив, упала едва ли не до трупной. Но врача никакого не предвиделось, Дружников в нем и не нуждался.
Страшная битва была в самом разгаре, и Дружников в ней явно проигрывал. Несколько раз он все же заставил проклятое торнадо отступить, временно придушил его вращение. Но господи, чего это ему стоило! Всех мыслимых сил, – может, больше. Весь его внутренний резерв был исчерпан, а бушующий поток, казалось, имел неограниченный запас мощи. Еще одна атака, и для Дружникова она выйдет последней. А ведь при этом он постоянно должен бороться с поддерживающими его плитами, не позволяя им ускользнуть и разбежаться в стороны. Дружников ощутил себя зайцем, пойманным в медвежий капкан. Самое пугающее заключалось в том, что с каждым штурмом беспощадного торнадо он все более утрачивал связь с реальностью. Словно проваливался в обморочный туман, а после с трудом находил дорогу обратно. Если он провалится окончательно, то возвращение в мир будет уже невозможным, и тело, брошенное им на произвол судьбы, умрет на кровати. Дружникова удерживал в сознании и сверхъестественном напряжении сил единственно кромешный ужас поражения и смерти. Только это чувство еще заставляло его сражаться с торнадо и дальше. Умереть сейчас, по неописуемой глупости, что может быть обидней и страшней! И Дружников снова пробудил в себе злость, чтобы встретить торнадо лицом к лицу. Он понимал, этот бой – последний. Потом, злись не злись, его жизненные соки исчерпают себя.
Как раз в эти самые минуты с машиной Геннадия Петровича и начали происходить странные неполадки… С синхронной точностью повторяя в себе каждое кратковременное отступление торнадо с боевых позиций. Но Дружников о том, конечно же, не ведал.
Последняя атака его на торнадо была наполнена отчаянием последней же возможности. Что называется, в лоб. И потерпела крах. Плиты решительно ускользали прочь, чертов поток захлестнул его с головой и принялся планомерно растворять в себе. Кое-как зацепившись на краю отлетающего прочь сознания, Дружников совершенно непонятно к чему, додумывал финальную мысль. «И чего на меня так ополчилась эта растреклятая штука? Какое ей дело? Ну, сдохнет Вербицкий, так что? Да я его жене куда больше бы дал. Всю жизнь бы заботился! Еще почище! Только, что бы было мне дураку с ней заранее сговориться? Но она, пожалуй, все равно бы отказалась». Едва лишь Дружников подумал так, как тут же торнадо ослабил свою хватку и, внезапно выплюнув наружу его сущность, завис над ней грозной, выжидающей, ревущей массой. Дружникову почти не понадобилось времени, чтобы очнуться и сообразить. Все сделал за него природный и могучий инстинкт. Ага, клюнуло! Он сперва не осмелился поверить внезапно свалившемуся на него счастью. Кажется, монстр хочет поторговаться. Вот с кем, или с чем надо договариваться, а вовсе не с Татьяной Николаевной! Что-что, а это Дружников умеет лучше всего.
– Обещаю, что жизнь Татьяны Николаевны никак не изменится! – сказал он, не словами и не вслух, но все же сказал. – Обещаю, что жизнь Катерины Геннадьевны не изменится тоже!
Торнадо будто бы не был удовлетворен и угрожающе взвыл. Дружников немедленно поднял ставки.
– Клянусь, что жизнь их станет лучше! Много лучше! Вся собственность их мужа и отца нераздельно перейдет к ним в руки. Клянусь, что буду неуклонно умножать эту собственность! Клянусь, что стану защищать Катерину Геннадьевну и Татьяну Николаевну прежде собственной жизни. Клянусь, что превращу их будущее существование в райский сад! Возьму на лучшее место жениха Катерины Геннадьевны! Куплю виллу в Ницце для Татьяны Николаевны! – Дружников нес уже полную околесицу, обещая какие-то лишние и несущественные вещи, но торнадо это, по-видимому, очень даже нравилось. По крайней мере, от Дружникова он отступил.
– Обещаю, что никогда не нарушу своего слова! Клянусь своей жизнью и жизнью своего единственного сына! – и Дружников принес самую страшную клятву.
Вняв отчаянным его уверениям, свивающаяся вокруг спираль взвизгнула в последний раз, и вмиг отпрянула, втянула в себя воющий хвост и растаяла в нигде. А Дружников остался непонятно с чем. Однако, вполне целый и живой.
Мгновение спустя он очнулся на кровати в гостиничном номере. Ему было худо. Дружников ослаб настолько, что не мог пошевелить и мизинцем. Мокрая одежда противно липла к телу, но о том, чтобы снять ее самому, нечего было и думать. Его стали мучить холод и острая жажда. И когда он ощутил эти два земных желания, вполне уже человеческих, к нему вернулась возможность более-менее сносно соображать.
Что же, он сумел уцелеть в смертельной битве, победить не победил, но зато унес ноги. Вот только чего он этим добился? Что выиграл такой неимоверной ценой? А вдруг и впрямь ему удалось сторговать жизнь Вербицкого? Что же, об этом он скоро узнает. Если с Вербицким все в порядке, тогда его обещания и клятвы имеют цену не больше, чем погорелые акции МММ. А если наоборот… Да, что тогда? «Тогда, чего бы это мне не стоило, я сдержу свое слово!» – твердо и непреложно ответил себе Дружников. Не хватало, чтобы ужасный торнадо вернулся и призвал его к ответу! Одна мысль о повторной с ним встрече привела Дружникова в содрогание. Может, конечно, и не вернется, но рисковать – просто неприличная глупость. И вероятности достаточно, чтобы торнадо держал его в страхе своего явления до конца дней.
«Ну, и довольно об этом! Подумать, так это все пустяки! Позаботиться о двух бабах! Не цена!» – постановил Дружников и успокоился. Усталость настойчиво требовала свое, и Дружников почувствовал непреодолимую потребность хоть на недолгое время заснуть. Он не стал противиться, и через минуту уже оглушал комнату достойным богатыря храпом.
Потерявший управление «мерседес», как игрушечный волчок, завертелся посреди дороги вокруг собственной оси. Два автомобиля со встречной полосы попытались уклониться от его бронированной туши, но все равно были задеты и сметены на обочину, хотя и обошлось без человеческих жертв. Однако, столкновения с ними придали вращению машины беспорядочный характер. Бедный шофер Гриша из последних сил старался удержать управление тяжелой грудой взбесившегося железа, и, отказываясь признать поражение, крутил руль, поочередно давил на тормоз и на газ. Рядом с ним, зажмурив глаза и закрыв обеими руками лицо, тоненько выл от страха помощник-колобок. Позади оба телохранителя, сообразив, что ничем помочь Грише не смогут, тренированно и умело приняли меры для максимальной защиты доверенного им клиента. Вербицкого намертво и быстро пристегнули ремнями к сидению, и оба «бодигарда», уперевшись ручищами в передние кресла, с двух сторон закрыли и сдавили Геннадия Петровича накаченными торсами.
«Мерседес» теперь несло не по кругу, а вбок, вдоль дороги на нерегулируемый перекресток. Однако, водители других машин увидели неладное на перпендикулярной им, открытой трассе и приостановились, не решаясь ехать дальше. Первым из высокой кабины разглядел ситуацию усатый, пожилой шофер передвижного автокрана. Он и затормозил у перекрестка, ближе всех к пересечению дорог. Крану, как и его хозяину, ничего грозить не могло, можно было лишь надеяться, что свихнувшийся «мерседес» благополучно пронесет мимо. Однако, не пронесло.
Машина с ополоумевшим водителем, вопящим колобком, и не на шутку струхнувшими пассажирами заднего сидения, летела прямо крану в бок. Громоздкую конструкцию уже поздно было разворачивать и отгонять прочь, ее водителю оставалось только молиться о чуде. Спустя еще секунду «мерседес» влетел между колесами правой стороны автокрана, крыша его ударилась о крепежную платформу, и в момент была сорвана прочь, несмотря на всю свою бронированность. Водитель Гриша и колобок в ужасе упали поперек сидений друг на друга, оба телохранителя инстинктивно нагнулись в последний момент, навалившись на Вербицкого и прижав головы к его коленям. Однако, отстегнуть стиснутого ремнями Геннадия Петровича и опустить его вниз они не успели, некстати и внезапно заело один из замков. Платформа ударила Вербицкого в лоб, в самую верхнюю его часть. Голову ему не оторвало, только свезло напрочь кожу под волосами. Но удар был настолько силен, что не выдержал опорный подголовник, и Вербицкого резко запрокинуло назад. К скрежету раздираемого металла добавился неприятный и громкий хруст.
Собравшиеся вокруг места катастрофы люди помогли выбраться из машины обоим охранникам, изрезанным и обсыпанных стеклом. Не дожидаясь спасателей, вытащили и водителя Гришу с колобком, сильно пораненных, но живых. Колобок стонал и держался рукой за левое плечо, которое он сломал, ударившись о рукоятку коробки передач. Шофер Гриша отделался ушибами и сильно кровоточащими порезами.
Последним вытащили, осторожно и бережно, Геннадия Петровича Вербицкого. Уложили на расстеленный второпях брезент, кто-то принес канистру воды. Охранники стали промывать его окровавленное лицо и оскальпированный лоб. Пытались привести в чувство, делали экстренное искусственное дыхание. Долго и безуспешно. Пока чей-то робкий голос позади не остановил их усилия.
– Погодите, братцы. Это бесполезно. У него, кажется, шея сломана.
Уровень 37. «Государство – это я!»
Весть о трагической гибели Геннадия Петровича со скоростью, близкой к световой, достигла заинтересованных областных кругов. И докатилась до Дружникова, так и не позволив ему как следует выспаться. Дружников устало и как-то равнодушно выслушал телефонное сообщение, но особой радости не ощутил. Его желание оказалось исполненным с доскональной точностью, но то была Пиррова победа. Дружников досадовал. Вместо того, чтобы прийти в себя после грозившей ему смертельной опасности и обрести телесное и душевное равновесие, теперь надо вставать и куда-то двигаться, звонить, выражать соболезнования. Как будто новость не могла обождать несколько лишних часов, а потом уже сваливаться на его бедную голову. На ум ему минутной гостьей заглянула мысль, что вот он, Дружников, опять собственной волей только что угробил человека, но, не сумев пробудить безнадежно дрыхнувшую совесть, быстро ретировалась. Впрочем, Дружников был далек от сожалений. Он, между прочим, изначально вовсе не намеревался убивать Вербицкого. Потом уже поздно выходило отступать, да и некуда. Выбор был издевательски прост: или – или. А так, между прочим, Вербицкому и надо! А не надо было!.. Дальше Дружников ничего додумывать не стал, и без того все ясно.
Пока сонной мухой он ползал по номеру, с трудом приводя себя в порядок, к нему в ажиотажном состоянии ворвался Матвеев. Опять с глумливо-понятливым и одновременно трусливым выражением на лице. Дружников привычно обозлился при виде его многозначительной, противной рожи, но на сей раз скрывать свои настроения у Дружникова не было никаких человеческих сил. Его раздражение внезапно вылилось в скандальную форму, отчасти несправедливо гневную, отчасти по-детски обиженную:
– Ты, придурок! Ты почему мне не сказал? Смерти моей хотел? – подскочил он к Зуле, потрясая в воздухе крестьянским камнем-кулаком. – Отвечай, гад!
– Ты что? Ты что? – опешил Матвеев, с испуганным удивлением провожая взглядом дружниковский кулак, проносящийся у Зули под носом. – Чего я сделал-то? Ой, мамочки, да не тряси ты меня! Ничего не по-ани-има-ю-ю!
Дружников и впрямь ухватил Матвеева за лацканы пиджака, и в ярости стал зверски мотать его из стороны в сторону, как худого кутенка. Потом отшвырнул от себя в кресло у окна. Плюнул на пол, пожалел о потраченных зря усилиях. И так еле ноги держат, а тут еще… Матвеев раздавленной жабой растекся в глубоком кресле, раскинув руки и ноги, как недоделанный Буратино. И все повторял еле слышно, одними губами:
– Ты что? Ты что?
Дружникову сделалось уже не столько противно, сколько смешно. Он достаточно спокойно спросил:
– А ты что? Играть со мной вздумал? Или шутки шутить? Я те-е пошучу! Отвечай, поганка этакая, знал ты или не знал?
– Да о чем знал-то? – захныкал Зуля, понимая, что стряслось нечто из ряда вон выходящее, и его обвиняют в причастности к нарочно состряпанной гадости. Только непонятно какой.
– О том, что вихрь Татьяны Николаевны захочет меня убить? – грозно спросил его Дружников.
– Ни боже мой! Не знал! Да и откуда? Сам подумай! – начал горячо оправдываться Матвеев. Н-да, вот это номер. Но он здесь не причем и, конечно, докажет это Дружникову.
– Может, и не знал, – вдруг примирительно согласился с ним Дружников. И без промедлений выдвинул новое, совсем уж абсурдное обвинение:
– Теперь, по твоей милости, Татьяна Николаевна и Катька до смерти с моей шеи не слезут. Возись с ними!
– Это еще почему? – заинтересованно спросил Матвеев.
– Потому! – ответил ему Дружников, и не смог удержаться, коротко рассказал о своем поединке с кровожадным торнадо.
– Чудеса-а! – только и смог сказать Матвеев. Затем помолчал немного, подумал и подвел итог:
– Но, в конце концов, все случилось даже лучше, чем ты надеялся. Теперь тебе везде зеленый свет. Путь, так сказать, расчищен.
– Тебя там не было, когда я его расчищал. А то я бы посмотрел! – огрызнулся, впрочем, уже беззлобно, Дружников. – И хватит рассиживаться! Давай, давай, поднимай свою ленивую задницу. Самые важные дела сейчас начнутся. Опять же, похороны, то, да се.
– Да я уж на ногах! – на глазах повеселел Матвеев. – Ты только скажи, что от меня требуется, я всегда готов.
– Ага, прямо пионер. Ты вот что… сейчас дуй к нашему петуху-губернатору и ни на шаг от него не отходи. Да он и сам теперь тебя не прогонит. И главное, слушай, что он отныне кукарекать станет. Ну, в общем, ты все понял.
Дальше все покатилось, как по накатанной дорожке. Матвеев, само собой, сделался со временем вторым лицом в областном управлении. Но первым был отнюдь не губернатор. Тот сидел очень тихо, и даже не пытался чирикать. Уже знал, что ему дают досидеть официальный срок до новых выборов, а там попросят вон. И никакой новой поддержки для себя губернатору найти не удалось. Прямо чертовщина какая-то. Все, словно сговорились, и теперь на стороне этого выскочки Дружникова. Чуть ли не облизывают его и захлебываются от восторга. Бедный Геннадий Петрович, как он помер, так житья совсем не стало. Этот проклятый гравий на дороге! Самое обидное, что расследование, кстати весьма квалифицированное и придирчивое, подтвердило, что был и вправду несчастный случай. Как же некстати! А после началась дьявольская свистопляска. Главное, с какой скоростью этот Дружников прибрал к рукам оставшееся от Вербицкого хозяйство! Понимай так, что и всю область. Кого запугал, кого купил. Справедливости ради надо сказать, что со вдовой Вербицкого, однако, Дружников поступил по совести, и даже более чем. Видно Бога побоялся! Как говорится, не обижай вдов и сирот, и тебе воздастся. Вот и воздалось. Эта курица, Татьяна Николаевна, оформила доверенность на управление и ведение всех дел от ее имени на кого, вы думаете? Правильно думаете! На имя Дружникова! А он ей – роскошную виллу где-то на Лазурном берегу. А дочери – немыслимые бриллианты в подарок, чтоб не так убивалась по отцу. Правда, ходили слухи, что к этой самой дочери вроде бы он неравнодушен. Так что, может здесь все неспроста. Но, как бы то ни было. А только область пора переименовывать в Дружниковскую губернию.
Зуля Матвеев, сытый и довольный, и на удивление трезвый, сидел, нет, теперь уже заседал в своем кабинете. Вот оно и свершилось. Предел его мечтаний. Валька усмирен и безопасен, ведет мирную жизнь насекомого в далекой Москве. Правда, говорят, стал попивать часто. Но, авось, не сопьется. Дружников шагает вдаль семимильными шагами, и скоро самому Зуле от него выйдет благодарность за преданную службу. Выборы уже не за горами. Зуля ясно дал понять, чего именно он просит для себя. И Дружников его понял. И даже пообещал, что все будет в порядке. Завтра он самолично прилетает в область, чтобы без обиняков провозгласить свою волю и назвать имя нового кандидата на губернаторский пост. Одновременно с ним прибудут и господа из президентской администрации. Тяжелая артиллерия поддержки, так сказать. Уже понятно, как Дружников скажет, так здесь и выберут. Единоличное правление – лучшая штука на свете. А кто не согласен, того придавит вечный двигатель, многая ему лета. Зуля уже готовил заранее речь о том, как он оправдает и поведет за собой к новым демократическим завоеваниям. На бумаге получалось неплохо.
На следующий день Дружников прибыл. Новенький, двенадцатиместный «Фалькон» приземлился на полосе сверкающей, разноцветной птицей. На обоих его бортах сияли традиционным золотом огромные буквы «ОДД», оформленные в виде изящной, переплетающейся монограммы. Дружников спустился по трапу, ступил на красную, ковровую дорожку, прошел к ожидающей его машине. У дверцы преданно стоял Матвеев, улыбался во все тридцать два зуба. Дружников обменялся с Зулей рукопожатием, затем велел не разводить мерлихлюндию, а поскорее лезть в салон. Стоять на сквозном, осеннем ветру летного поля ему было неудобственно.
Вместе с Дружниковым прилетели Каркуша и убогий камердинер Тихон, это, конечно, не считая полувзвода охраны. Жаль, для триумфа Авессалома Матвеева свидетелей выйдет маловато. Но Зуля надеялся, что из Мухогорска еще подтянутся Квитницкий с задавалой Кадановкой. Все же, почитай с сегодняшнего дня, Зуля не абы кто, а всамделишный кандидат в губернаторы.
Дружников в гостиницу заезжать не пожелал, приказал везти себя прямо в выборный комитет. Матвеев так даже обрадовался. И правильно, и нечего тянуть.
В предвыборном штабе, под который временно отдали часть бывшего офиса фирмы «Уралтрубопрокат», некогда принадлежавшей покойному Вербицкому, табуном толпился народ. Правда, народ толпился мелкий: репортеры местных газет, какие-то телевизионщики, и просто второразрядные клерки. Крупный калибр давно и надежно был укрыт за мощными дверями зала заседаний, куда, под присмотром охраны направились Дружников с Зулей и Иванушкой. Следом, неотступно, как дворовой пес, привязанный к едущей телеге за веревочку, семенил на полусогнутых камердинер Тихон, на всякий случай, прикрываясь мощной спиной своего хозяина. «Он-то тут зачем?» – подивился про себя Матвеев, но долго на этой мысли не задержался. Сейчас Зуле было совсем не до Тихона.
В зале уже сидели за столами, расставленными в виде прямоугольника, ровным счетом восемнадцать человек. Местные воротилы бизнеса и политики, несколько наблюдателей из Москвы. Среди них Матвеев обнаружил и Квитницкого. Приехал также Раев, директор кабельного завода, которого Дружников, несмотря на блестящие рекомендации и уже достигнутые успехи, держал в строгости. Остальных Зуля почти всех более или менее знал. Вон, с левого краю сидит Жора Антонов, хороший мужик, с простонародной хитрецой, его прочат в вице-губернаторы. Что же, Зуля не против, работать с Жорой будет одно удовольствие. А там, на противоположном конце стола, восседает представитель сталелитейного концерна «Южноуралсталь» некий господин Нефедов, препротивный тип, вечно старающийся заглотить кус шире горла. Но и он, однако, тоже в последнее время просто, можно сказать, влюблен в Дружникова и его проекты. Иначе, как гением эпохи новорожденного капитализма, он Олега Дмитриевича и не называет. Еще бы, целую неделю усилий двигателя на него ухлопали!
Правда, сборище это предварительное, и не вполне официальное. Но здесь были именно те кулисы большой политики, за которыми и происходили истинные движения. После уже начнется предвыборная агитация и пиаровские штучки, речи и походы к избирателю, конечным итогом чего и будет губернаторское кресло.
Дружников, что неудивительно, уселся во главе собрания. По левую руку он усадил Матвеева, – одесную, как это ни поразительно, поместил камердинера Тихона. А уж дальше сел и Каркуша. Впрочем, такое странная расстановка за столом нисколько Зулю не удивила. Дружников и вообще-то с закидонами, мало ли что на него сегодня накатило. Может, решил поиздеваться над высоким собранием, вот и усадил Тихона на почетное место. Все равно проглотят. Заодно опять же показать, кто здесь хозяин.
Вступительное и очень краткое слово сказал Жора Антонов. На тему, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Потом Антонов как бы символично передал слово Дружникову, что мол, честь назвать имя первого кандидата и так далее. Будто бы возникнут кандидаты вторые и третьи! Дружников для своей речи вставать не пожелал, начал прямо с места, не замечая лежащих перед ним бумаг. Лишь по-волчьи обвел присутствующих взглядом своих жутко выкаченных глазищ. И, умеряя свой ревущий бас до приемлемых пределов, произнес:
– Ну, что. После долгих совещаний и обсуждений – («во врет и не краснеет!» – подумалось Матвееву) – мы решили так. На пост губернатора будем выдвигать самую достойную кандидатуру. Нашего уважаемого Тихона Власьевича Приходько.
Матвеев сначала подумал, что ослышался. Какое имя только что назвал Дружников? Он что, не в своем уме или белены объелся? Зуля перевел растерянный взор на Олега, но тот не соизволил посмотреть в его сторону. Зато на Матвеева глядел Каркуша, очень выразительно и сочувственно. Не может быть! Зуля дернулся было открыть рот, но Иванушка предупредительно покачал головой: мол, даже не вздумай. Тем временем Дружников продолжал:
– Все знают, что господин Приходько в течение нескольких последних лет состоял депутатом Московской городской думы от фракции ЛДПР, а также являлся исполнительным директором крупнейшего столичного акционерного общества «Дом будущего».
Господи, ну и профанация! Матвеев и захотел бы, а не смог придумать ничего более издевательского. Как же, депутат! Для виду сунули шестерку, и как возмущалось руководство фракции! Дружников их чуть ли не силой заставил. Еще бы, нужен им этот Тихон, как ястребу очки. К тому же, он там только числился, заседания по доверенности посещал экономист Ляпин. Надо же, исполнительный директор! Да его в «Доме будущего» никто в глаза не видывал, Тихон со своего места на кухне при Раисе Архиповне и носа не казал, разве подписывал бумажки, какие велели.
– Все мы знаем Тихона Власьевича как человека надежного, рассудительного и высокообразованного. Он имеет диплом с отличием академии народного хозяйства имени Плеханова, также окончил высшие финансовые курсы, созданные при Президентском Совете РФ. И в то же время Тихон Власьевич – выходец из крестьянских, народных слоев общества. Что немаловажно.
Тут до Матвеева, наконец, дошло. Какая же подлая подстава! И не вчера спланированная. Сколько бы денег ни отвалил Дружников за липовые дипломы, в один день их все равно не выправишь. Значит, Дружников готовился загодя. Значит, он давным-давно все обдумал и просчитал, а Зуле попросту морочил голову, как наперсточник деревенскому лоху. Зуля держался из последних сил, чтобы не разрыдаться прямо в зале. Это ведь не столько обидное и несправедливое кидалово. Его унизили, публично ткнули мордой в грязь, да еще теперь вытирают о его распростертое тело ноги. А он должен не подавать виду, изображать уверенность в том, что все идет как должно. Хотя почтенная публика за столами была повергнута в изумление ничуть не меньше его. Но проглотила пилюлю, и через минуту проголосовала единогласно. За кандидата в губернаторы Тихона Власьевича Приходько, вчерашнего лакея и кухонного домового. Человека с выдающейся народной внешностью и высокообразованного экономиста. Правда, Тихон считать умел хорошо, особенно, когда торговался на продуктовом рынке. Беда лишь, в таблице умножения путался, зато умел складывать столбиком.
Матвеев не помнил, как вышел из зала заседаний. Жалостливый Каркуша предусмотрительно взял его под руку. Зуля же думал одну единственную мысль: поскорее добраться до Дружникова, тет-а-тет, призвать к ответу, поставить точки над «I». Но не удалось. Пока суть да дело, Каркуша спихнул Зулю на руки Квитницкому, а тот увел его на парадный банкет, некую застольную, языческую пляску вокруг новообращенного Тихона. На банкете выяснилось, что Дружников прямо из зала уехал в аэропорт и давным-давно вылетел обратно в Москву. А при Тихоне оставил надзирающим Квитницкого и чревовещателем Жору Антонова. Сама же нынешняя роль Матвеева при новом карточном раскладе оставалась совершенно неясной. Господи, что же с ним-то теперь будет?
Что будет, выяснилось довольно скоро. В конце банкета к Зуле развинченной походкой подошел Семен Адамович Квитницкий и, покровительственно положив Зуле на плечо пухлую руку, изрек:
– Не стоит расстраиваться из-за мелочей, молодой человек. Помните, как у Высоцкого. «Жираф большой, ему видней». Вам, собственно, надлежит завтра же вернуться в Москву, где и ожидать нового назначения. Таков приказ. А пока – выше нос. Ешьте, пейте, веселитесь, – и наклоняясь к самому уху Матвеева, Семен Адамович вкрадчиво предложил:
– Не то поехали с нами в баньку. Там девочки будут. Хорошо-о.
Матвеев, совершенно уничтоженный и растерзанный, на баньку согласился.
В Москве Зуле пришлось долго ждать. Сначала ему велели сидеть покуда дома, караулить у моря погоды, мол, в скором времени позвонят. Но шли дни, потом недели, минул месяц, другой, однако, никто Матвееву не звонил. Депрессия его усугублялась еще тем, что присутствие в доме его собственной жены стало для Зули невыносимо обременительным. Лену он не видел почти год, лишь изредка ей звонил. И вел какие-то необязательные, напряженные беседы. В итоге, естественным образом совсем от нее отвык. Лена тоже не пребывала все это время в замороженном состоянии, заменив домашнюю пустоту рабочей активностью, хотя дела ее казались загадочны и темны. Домой она объявлялась поздно, если приходила вообще, выглядела очень усталой и постоянно раздражалась на Зулю. Особенно, когда ее блудному мужу ударяло в голову призвать жену к исполнению домашних обязанностей, как-то: приготовление ужина, мытье посуды или стирка Зулиного белья. Лена длинных отповедей на мужа не тратила, отвечала коротко: «А пошел ты!». И отправлялась спать или по своим делам. Зуля даже не смог улучить момент, чтобы поведать жене о несчастьях, приключившихся с ним в Каляеве, сколько-нибудь пожаловаться на судьбу и Дружникова. Хотя, Лена все вроде знала и без него. По крайней мере на Зулю она смотрела насмешливо и без сочувствия. Вскоре Зуля понял, что, вздумай он плакаться, от жены он услышит только одно: «Я тебя предупреждала!». Повлиять на Лену он не мог никак, это он сидел безработный, она же, судя по сменившейся обстановке в доме, приносила со службы много денег. Да и как иначе! Зуля разве сейчас спохватился и сообразил, что за последний год не передал своей жене ни копейки, ни на жизнь, ни просто так. Вот и на тебе, выкуси. Господи, что же делать? И Матвеев решился. Хватит с него, завтра же он отправится к Дружникову, пусть посмеет его не принять! Он тогда устроит скандал и станет кричать на улице и в подъезде фирмы всю правду, какую знает о Дружникове. Затея была совершенно беспомощной и отдавала идиотизмом, но Зуле она придала сил и решимости.
На следующий день Матвеев подошел к парадному подъезду «Дома будущего». Фирма за эти годы еще более разрослась, занимала теперь и соседний особняк, соединенный с первым красивой, стеклянной, двухъярусной галереей. К его удивлению, дюжие охранники на входе, едва взглянув на его просроченный пропуск, позволили Зуле пройти внутрь без малейших возражений. Где находится приемная и кабинетные апартаменты Дружникова он приблизительно помнил, и сразу направился туда. Но все же, как изменились нынешние интерьеры «Дома будущего»! Такую роскошь разве что в Кремле и увидишь. Разноцветный мрамор. В главном холле глубокий, украшенный золотом и малахитом фонтан. И везде, на расписных потолках, в лепных медальонах по стенам все тот же вензель «ОДД».
В приемной восхитительно роскошная и незнакомая секретарша попросила Матвеева обождать. И то хорошо, немного утешился Матвеев. Коли сразу не выставили, значит, примут. А там, может Дружников еще реабилитирует себя, и сделает Зуле какое-нибудь заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться. Мало ли что. При кромешной занятости Дружникова, тот мог вовсе позабыть про верного своего Зулю. А он, дурак, обиды копил. Надо было не ждать, тотчас явиться самому.
Зуля просидел в приемной больше часа. Но это ни о чем не говорило. Он прекрасно знал, Дружников ничего так не обожает, как заставить кого-либо нарочно дожидаться себя. Затем неприлично красивая секретарша попросила его пройти.
Матвеев прошел. И увидел то, что, впрочем, и ожидал увидеть. Необъятное пространство, набитое позолотой, кожаными диванами, разнокалиберным антиквариатом, – панели красного дерева с гобеленами, и вдали, у стены, огромный герб, отчеканенный в бронзе и покрытый цветной эмалью. Гора, извергающая лаву, под ней два огромных молота с обеих сторон, наверху лавровый венок, увенчанный лентой все с теми же золотыми буквами «ОДД». А под гербом за массивным, черным, лаковым столом восседал в кресле алого бархата, похожем на трон, собственно, Дружников.
Матвеев подошел, поздоровался нарочито веселым и бодрым голосом. Дружников ему едва кивнул, знаком предложил сесть. Зуля тут же и опустил свой зад на богатый, золоченный стул с круглой спинкой, приготовился слушать.
– Ну? – только и сказал ему Дружников.
– Да я, собственно, что, – растерялся вдруг Матвеев. – Я ждал, ждал, а никто ничего.
– Ну и пошел вон, – коротко и без эмоций ответил Дружников.
– Как «вон»? – совсем опешил Зуля.
– Так, вон. Вон отсюда, и чтоб я тебя не слышал и не видел. Тихо сиди, понял. А то будет, как с Вербицким. Хочешь?
– Нет, нет, не хочу, – поспешно и испугано заверещал Матвеев, жалобно заскулил:
– А как же..? А что же мне теперь делать?
– А что хочешь! Ищи работу. Только без моей помощи. Теперь выметайся. И помни. Если что..! Сам знаешь, – Дружников на прощание погрозил Матвееву кулаком. – И скажи жене спасибо, что я тебя до сих пор не тронул. Неохота мне с ФСБ связываться. Ну, все. Давай, катись.
Зуля вылетел из кабинета пулей и так летел и летел до самого дома. Потом он мрачно пил неделю. Потом мучительно выходил из запоя. Потом клял себя и обзывал все и всех последними словами. Называется, продал душу. А за что, спрашивается? Продал лучшего друга и себя тоже продал. Ну, ничего, Олег Дмитриевич, погоди! Будет тебе «ОДД», и хрен с повидлом тоже будет. Не все на свете такие же козлы. И еще ничего не потерянно. Есть еще в мире один человек, хоть и человек он не вполне, но он единственный может помочь Матвееву Авессалому Яковлевичу. Добрый и отзывчивый. И всем все прощающий. Его бывший дорогой друг, Валька. Завтра же к нему Зуля и пойдет. Пока дракон дремлет.
Уровень 38. Воды гнева
Утро было позднее, но для Вальки оно являло собой обычное начало дня. Как и бутылочка отечественной водочки, терпеливо поджидавшая его на столе в кухне. Нет, не стоит думать, будто Валька опустил себя настолько, что напивался вдрызг прямо с утра. Вовсе нет. Так, одна, иногда две рюмочки, по настроению. Потом он непременно закусывал крутым, варенным яичком и черным хлебом с маслом. После уж пил чай с покупным пряником. И более не употреблял ни капли до самого обеда, во время которого его организму полагалось уже три рюмочки: к супу из пакетиков, на второе с котлетным полуфабрикатом, и на третье вместо компота. Иногда початая бутылка допивалась вечером, иногда нет. Все зависело от того, собирался Валька проводить вечерние часы дома или выдвигался куда-нибудь. Навещать особенно ему было некого и незачем, но раньше его часто и почти силком вытаскивал из дому водитель Костя, который не мог спокойно лицезреть тоскливое Валькино общение с бутылочкой. Костя ходил с Валькой в кинотеатры, в основном на примитивные, голливудские комедии, иногда они посещали и Театр Эстрады, преимущественно концерты юмористов и вечера «Аншлага». Но летом Костя взял, да и женился, и теперь у него, конечно, оставалось гораздо меньше времени на выгул хозяина. Хотя, какой теперь Валька был ему хозяин! Скорее подопечный, при котором Костя являл себя в роли достаточно заботливой нянюшки, впрочем, имеющей и свою собственную личную жизнь. К Ане доступ Вальке тоже был закрыт. Временно или постоянно, неизвестно, но закрыт. Да он и не хотел показываться ей на глаза в нынешнем своем, непрезентабельном виде.
Редко он выбирался теперь и за город, к маме и Барсукову. Скрыть от них свое изменившееся положение, служебное и общественное, Валька был не в силах. И поначалу опасался маминого огорченного лица и ненужных эмоций со стороны Барсукова. Но ошибся на их счет. Людмила Ростиславовна была так даже рада, что сын ее отошел от коммерческих дел. Ее очень сильно напугало убийство в Мухогорске и более поздняя, трагическая смерть Геннадия Петровича. Вообще Людмила Ростиславовна справедливо придерживалась того мнения, что, чем дальше ее единственный сын будет от больших и опасных денег, тем прочнее умножится его долголетие и здоровье. Барсуков и вовсе повел себя в высшей мере странно. Викентий Родионович, хоть и слыл человеком тщеславным и без искры божией, однако, инстинктивным чутьем на волчьи ямы обделен не был. Потому совместные предприятия Дружникова и его пасынка внушали ему тягостные опасения. Вслух он, конечно, его никогда не выражал. Но удаление Вальки от дел воспринял с явным облегчением. Изредка давал понять, что все происходящее с Валькой – как бы само собой разумеющееся, и вообще, лично для него, Барсукова, ничего выдающегося не произошло. О Дружникове в частности Викентий Родионович упоминать избегал. С одной стороны, и из чувства самосохранения. К тому же Валька никакого бедственного ущемления не претерпел. Доход у него был постоянный и, на взгляд Барсукова, изрядный. И львиную часть этого дохода он по-родственному жертвовал в пользу матери и отчима. Машина с шофером тоже осталась за Валькой. Так что же расстраиваться? Тут наоборот, надо жить и радоваться. Об утренних бутылочках ни Барсуков, ни Людмила Ростиславовна ничего не знали.
Гибель Вербицкого тоже отчасти толкнула Вальку на родство с бутылочкой. Внезапная и роковая, она начисто перечеркнула все Валькины надежды и вероятное будущее. Понятное дело, Валька переживал смерть Геннадия Петровича, как смерть очень близкого и дорогого родственника, много плакал на похоронах и не считал нужным сдерживаться. Не понимал, как же вихрь Татьяны Николаевны не доследил. А потом по привычке, во всем обвинил себя. Ведь знал же, что глупые, жизненные случайности требуют постоянной подстраховки. Он уже и не помнил, сколько времени не желал удачи Танечке в смысле ее отношений с мужем. У них все обстояло более-менее гладко, и Валька оттого расслабился. К тому же сама Татьяна Николаевна нисколько в материальном плане не пострадала, как, впрочем, и Катюша. Тут надо отдать справедливость Дружникову. Хотя Валька никогда и не сомневался в том, что по сути Олег – человек хороший, только испортившийся под давлением обстоятельств. И Валька возлюбил Дружникова чуть ли не по-прежнему. Особенно эта любовь ощущалась по утрам, после непременных рюмочек. Худо было лишь то, что после ухода Гены Вербицкого он, Валька, остался на своем пути в нынешней жизни совсем один. Не очень представляя себе, куда же, в сущности, ему надо далее идти. И надо ли идти вообще.
Иногда, но и не то, чтобы редко, его навещала Лена Матвеева. Она ничего не обсуждала, ни о чем не спрашивала, за что Валька был ей благодарен, затем лишь приходила, чтобы помочь Вальке одолеть очередную бутылочку за беспредметным разговором. В последнее время Лена объявлялась в его квартире все чаще, и Вальке иногда начинало казаться, противоречиво и нелепо, будто Матвеева Лена к нему неравнодушна. Тогда он смеялся над своими предположениями, но визитам Лены все же был рад. По крайней мере от нее он получал новости об Ане, хотя эти новости ничего «нового» абсолютно не содержали. Жива, здорова, вроде бы процветает подле Дружникова. С Вальки и этого было достаточно. От Лены-то Валька и узнал о несчастливом возвращении Зули из губернского города в столицу, и о крахе его мечтаний. Однако, Валька не удивился и не осудил Дружникова. Ну, какой из Зули губернатор, смех один! О выдвижении же Тихона Приходько он ничего не слыхал, просто потому, что более не интересовался уральскими делами, а Лена ему о Тихоне не сообщила. Ей тоже было все равно. А потом случилось то самое утро на рождество. Православное, не католическое.
Что же, утро было позднее, и Валька успел принять все положенные рюмочки, плюс одна, за ради праздника, и даже заесть их традиционным хлебом с маслом, когда раздался звонок в дверь. Валька не очень-то и удивился. Или Костя заехал поздравить, или ведомство Лены Матвеевой тоже отмечает рождение младенца Иисуса, и Лену потянуло выпить. Он пошел открывать.
К нему действительно явился представитель семейства Матвеевых, но неожиданный и мужского пола. Надо же, Зуля пожаловал! Видать припекло. На Зулю в последнее время Валька был в некоторой обиде. Со дня смерти Вербицкого минуло уже больше года, и, стало быть, тот же срок прошел с той поры, когда Вальку отлучили от его бывшего смысла жизни. Но Зуля никак не посочувствовал, более того, ни разу не потрудился позвонить Вальке или обозначить себя как-то иначе. И вот – явление Христа народу. Небось, приперся жаловаться и плакаться. С его точки зрения Валька теперь самый подходящий для этого мероприятия человек. А его квартира – место сборища униженных и оскорбленных. Но Валька по натуре действительно был незлопамятен и отходчив, тут Матвеев оказался прав. Оттого Зуля услышал вместо недовольного восклицания вполне гостеприимное и нейтральное:
– Хорошо, что зашел. Праздник сегодня, посидим, выпьем, – с этими словами Валька и запустил Матвеева в квартиру.
Они действительно посидели. И выпили. Много и слишком не закусывая. Валька уже открывал вторую бутылку, а Зуля все никак не решался приступить к исполнению задуманной миссии. Ему было тревожно, и даже алкоголь в больших дозах не прибавлял ему отваги. Однако, тянуть с откровением не следовало, иначе Валька окажется в состоянии, когда воспринимать трагичность Зулиной повести попросту не сможет. Вон, его уже развозит. И Зуля, с усилием преступив собственные трусливые дрожания, приготовился начать. Необходим был лишь удобный момент. Который не замедлил подвернуться.
– Давай, что ли, за покойного Гену поднимем, не чокаясь? – предложил Валька, в очередной раз наполнив рюмки до краев.
– Давай! – быстро согласился Матвеев, и так же быстро сказал, чтобы уж отрезать окончательно пути к отступлению. – Все-таки, эта сволочь Дружников виртуозно его угробил.
– Думай, чего говоришь! – оборвал его Валька, и, осердившись, поставил невыпитую рюмку на стол. – Привыкли, чуть что, все валить на Олега. Он, что ли, на той дороге стоял и машину пихал под кран?
– Такому разве надо стоять? Он и за тридевять земель все сделает. Ну, чего ты на меня смотришь? Тебя там не было, а я был. Я знаю! Я все знаю. И как твой Дружников в то утро сражался с вихрем Татьяны Николаевны, и как он его подкупил. И как пожелал Вербицкому свернуть себя шею. А тот, видит бог, свернул. Между прочим, при помощи вечного двигателя, который ты же Дружникову и дал!
– Ты что несешь? Нет… Откуда ты-то знаешь? – Валька в глубоком изумлении уставился на Матвеева. Столько страшной и неожиданной информации он был не в состоянии переварить за раз, и потому выбрал из нее самый сомнительный и непонятный момент. – Постой, постой! А про вечный двигатель тебе кто сказал? Мы с тобой, как я помню, этого не обсуждали.
– Кто сказал? Да Дружников сам и сказал! Сразу, как только получил двигатель в персональное владение! – выкрикнул в запальчивости Зуля.
– А почему тебе? С каких пор ты у Олега сделался доверенным лицом? – Валькин голос звучал очень спокойно и трезво, и Матвеева это погубило и обмануло.
– Как, с каких пор? С тех самых, когда ты ему открыл, что он избран твоей удачей, – как нечто само собой разумеющееся провозгласил Матвеев.
– Ему-то я открыл! А вот ты здесь причем? Все, что Олег хотел знать, он узнавал от меня. И если бы он обратился с откровениями к тебе, то сообщил бы мне об этом. Но Олег никогда словом не обмолвился, что обсуждал с тобой свою удачу.
– Еще бы! – удовлетворенно хмыкнул Зуля. Он понял, сейчас или никогда. И пошел в ва-банк. – Ты прости меня. Так уж вышло. Я человек слабый. Ты мне, конечно, ничего не говорил про Столетова и про катастрофу на станции. Ни тогда, ни потом. Но я же не дурак, все понял и так. И очень напугался.
– Не понимаю, какое это имеет отношение к делу. Но, ты Зуля, говори, – приободрил его Валька вполне мирным тоном. А у самого вертелось на языке сократовское: «Говори, чтоб я тебя разглядел!».
– Самое прямое имеет отношение. Это я все рассказал о тебе Дружникову. Еще раньше. Так что он все знал. Ну, почти все. Я только про Актера умолчал. Опасался, он испугается и откажется. А он нарочно выманил у тебя удачу. Обманом выманил. И я ему помогал.
– Зачем? Не в смысле – тебе зачем. Ему зачем? Я бы и так ему дал. Как можно было ему не дать? Такому-то парню, – засомневался Валька. Ему вдруг показалось, что Матвеев зачем-то разыгрывает его.
– Да какому «такому» парню! Он же вся специально подстроил. Что верит в твои идеи, и что не знает про Чернобыль. Ему это было удобно. Потом «такой» парень разбогател за твой счет, потом убрал Беляевых, потом грохнул Порошевича. Да-да, это он убил Дениса Домициановича. Не сам конечно, послал Муслима. Я знаю, что говорю. В ту ночь Муслим брал мою машину. И вернулся лишь утром… Затем Дружникову стал мешать ты.
– А Вербицкий? – все так же спокойно продолжал спрашивать Валька.
– А что, Вербицкий? Он давно Дружникову поперек горла стоял. Вот Дружников и сцепился в драке с вихрем Татьяны Николаевны, – Зуля вкратце поведал, как было дело. Под конец пожаловался:
– Меня же еще обвинил, что я, мол, знал, и нарочно его не предупредил.
– Так, – не повышая голоса, но достаточно сурово сказал Валька. – И что ты от меня хочешь?
– Как это – чего я хочу? – изумился Матвеев. Вот те раз! Он что, даром тут наизнанку выворачивался? И Зуля сорвался:
– Да это тебя, а не меня, развели как последнего лоха! Обули и раздели! По полной программе! Да! Он и Аню твою увел! Ты же сам ее отдал Дружникову, идиот несчастный!
– Что? Повтори, что ты сказал? – Валька не кричал, но вид его был страшен.
«Ага! Наконец-то, зацепило!» – торжествующе подумал Матвеев.
– То и сказал. Он ведь подстроил тогда сцену в ресторане «Прага». Ну, да. С моей помощью. Ты ведь знаешь, мою Ленку против него завести ничего не стоит. А ты явил вихрь. А он хитростью выманил у тебя Аню. Как-то так пожелал, что ты сам же заставлял ее быть с ним, – Зуля на мгновение умолк. Уж очень неприятным ему показалось выражение Валькиного лица. И страх вернулся на место. Зуля жалобно запищал:
– Это ты ЕГО ненавидеть должен! Не меня! Не меня! Просто ты его не можешь ненавидеть! И знаешь, почему? Потому что он тебя держит! Да-да! Каждый день посылает двигателю приказ, чтобы ты его любил!
Валька встал из стола, так резко, что посыпалась посуда.
– Валь, ты что? Да я же тебя спас! Я ТЕБЯ СПАС! – дрожащими губами, заикаясь, пролепетал Матвеев. – Он же тебя убил бы! Если бы не я! Я сказал ему, что с твоей смертью паутина рассосется!
– Может, лучше бы он меня убил. А ты, значит, меня спас? Сначала воткнул нож в спину, и после озаботился, чтоб я не истек кровью. Это тебя развели, не меня. Я верил в то, что делал. А во что верил ты?
Валька говорил и чувствовал себя, как Христос, который умудрился слезть с креста, прежде чем его смогли до конца распять, и помощником ему в том стал Иуда, а первосвященник ничего не успел предпринять. Но Валька был все же не Христос, может, именно потому распятие не состоялось. Случилось обратное. Его разбитая жизнь, его обреченное на медленное страдание настоящее были отменены. И мир раскололся надвое. Все прощающий, многотерпеливый Валька остался в прошлом. Зуля только что упразднил его существование. А с другой стороны пропасти возник совсем иной человек.
– Убирайся из моего дома, гнида! Убирайся немедленно и навсегда! – Валька не мог, не имел возможности направить свой гнев на Дружникова, потому удар пришелся по ближайшей мишени.
Зуля, вместо того, чтобы скоро и спасительно взять ноги в руки, растеряно замешкался. Его словно бы силой пригвоздило к стулу. А воды гнева уже заливали Валькино сознание, разрушая и ища себе выхода. Они бились о толстые стены запретов, и двигатель Дружникова нерушимой преградой стоял у них на дороге. Но воды тут же нашли для себя другой путь, не растерзали Валькину душу, а ринулись ниагарой в открывшееся им пространство. Воды охватили ничтожное лицо Матвеева, сила их росла и насыщалась одним только словом: «Аня!» – оно было важнее и могущественнее, чем Гена Вербицкий и бедный Денис Домицианович и все остальные многочисленные обманы и предательства. Бог с ними. Но Аня! У каждого верблюда есть своя последняя соломинка. В каждой чаше яда – последняя капля. Перед Валькой сразу встала темная стена. И он не стал от нее убегать. Расчетливо и осторожно он ступил за ее пределы. Воды держали и несли его тело.
«Я пришел к тебе за расплатой! Я и без того много дал тебе! Выполни еще одну мою просьбу, только одну! Но в точности так, как я скажу!». Черная спираль за стеной будто бы стушевалась и загудела испугано. «Порази его громом, огнем с небес, карой божьей! Человека по имени Авессалом Матвеев! Не потому, что я не могу добраться до того, другого. А потому, что этот заслужил более остальных! Но только его одного! Никаких иных жертв и разрушений! По справедливости!». Валька сказал, и с мертвецким спокойствием зомби шагнул обратно, прочь от стены. Боль немедля тупой иглой пронзила его мозг.
Матвеев все видел. И Валькино лицо, принявшее вдруг отсутствующее и зловещее выражение, и последующую болезненную гримасу, исказившую черты. Матвеев увидел и понял. В нем ничего не осталось вдруг, кроме тошнотворного ужаса. Монстр, которого он страшился большую часть своей жизни, бесился на свободе, выпущенный никем иным, как им самим, и теперь изготовился растерзать его, Зулю Матвеева. Разум более не служил Зуле, спасовав перед непосильным испытанием, покинул его наедине с обезумевшими чувствами. А чувства, среди которых заводилой и направляющей силой был неописуемый страх, толкали Зулю на бессмысленные и бесполезные поступки. Вместо того, чтобы упасть Вальке в ноги и умолять его взять свои распоряжения обратно (Чем черт не шутит, вдруг возможно? По крайней мере это был единственный, реальный шанс), Матвеев бросился с дикими воплями из квартиры вон. Ободрал руки о замок, выскочил на лестничную клетку, с грохотом захлопнул за собой дверь, и зачем-то подпер ее всем телом. Словно закрыл опасность внутри.
Через мгновение гробовой тишины подъезда Матвеев частично вернул предательский разум на место. Так. Что теперь? Нет, нет, умирать он совсем не хочет. Но глупо стоять здесь и ждать, пока на тебя обрушится Нечто. Надо выбираться. В конце концов он многое знает о свойствах стены, и, может быть, сумеет ее обмануть. А там, глядишь, Валька одумается, захочет его спасти, и предпримет что-нибудь. Нужно лишь выиграть время. Озираться на дорогах. До самого дома идти пешком. Да нет, не идти, красться. Чтобы ни было на небе и на земле, при малейшей странности прятаться и убегать. Даже космический метеорит не сойдет с первоначально заданной вихрем траектории и не станет гоняться за ним по пятам. После запереться в квартире и Лену тоже запереть, возможно, насильно. Она, кажется, в последнее время стала очень дружна с Валькой. Ведь не захочет он причинить Лене вред? Не подходить к электроприборам и не приближаться к окнам. Слава богу, черный вихрь поражает только снаружи. Он не может убить изнутри. Скажем, заставить Зулино сердце перестать биться или заразить его тело чумой египетской.
Пока же, в первую очередь, надо безопасным способом покинуть подъезд. Значит так, вычислял Зуля, на лифте он не поедет ни за какие коврижки. Самое это гиблое место. А пойдет он тишком по лестнице. Медленно и осторожно. Подальше от перил. Если где-то откроется дверь, то он, Зуля, переждет. Нет, лучше поднимется обратно на пролет. Мало ли что: грабители, бешенные собаки, лыжные палки, горючие химикаты.
С неистово колотящимся сердцем, которое выписывало вне ритма мертвые петли, и то и дело входило в штопор, Зуля стал спускаться по ступеням. Окна высоко, это успокаивает. Значит, вывалиться у него едва ли есть шанс. Так, еще два пролета. А в подъезде тишина. Может, Валька уже передумал? Ладно, до выхода целых три этажа, там посмотрим. Матвеев остановился, перевел дух. Страшно! Как же ему страшно! Не разумнее ли вернуться? Да, да, и попросить прощения. Прощения и защиты. Это, наверное, самое мудрое решение. Но одна мысль, что ему придется проделать обратный путь наверх, привела Зулю в умственное исступление. Нет у него сил. Он машинально поставил ногу на следующую ступеньку… Когда за высоким, узким лестничным окошком внезапно что-то вспыхнуло. Зуля понял, надо бежать. И тут же раздался звон бьющегося стекла. Матвеев ринулся вниз. Не то, чтобы там безопаснее, просто вниз бежать было легче. Но уже на пятой ступеньке он не выдержал, оглянулся назад. Чтобы, на всякий случай понять, с чем он имеет дело. Вдруг опасность, благодаря его прыти, уже миновала.
Зуля на ходу обернулся и, за секунду до собственной смерти, понял, что бежал он напрасно. Нет, это действительно был не метеорит, хотя и вещь неодушевленная. Метеориты, лыжные палки, динамитные шашки, обломки стекла и впрямь не стали бы, и не смогли бы гнаться за ним. Но вот эта штука вполне могла. В силу собственной природной непредсказуемости. Очаровательная в своей угрозе, свободная как воля, и сверкающая как солнце. Шаровая молния. Матвеев успел увидеть ее и распознать, прежде, чем клубящаяся, огненная субстанция ударила его прямо в лоб. «Не очень и больно», – подумал Матвеев коротко, и то была последняя в его жизни мысль. Зулю она не утешила.
На звон разбитого стекла и удушливый запах гари из двух соседних квартир выскочили встревоженные мужчины. Они и нашли на лестничном пролете нелепо опрокинутый навзничь труп, с опаленным дочерна лицом и осыпавшимися пеплом волосами. Поднялся крик. А вскоре кто-то уже бежал к телефону, звонить в милицию.
Уровень 39. Звезда Полынь
Валька не слышал и не мог слышать криков на лестнице, но о Зулиной гибели он узнал в тот же миг, когда она случилась. Особенно резкий и мощный болевой удар уведомил его об исполнении желания. После боль поднялась в нем привычной, высокой волной. Но в Вальке, помимо боли, пребывали никуда не подевавшиеся гнев и невыносимая обида. Они-то и столкнулись с накатившей на него черной, раздирающей череп, мукой. И Валька очутился вдруг на ничейной территории.
Это было престранное ощущение. Словно бы его тело отделилось от его сущности, оставив ей лишь наблюдательные способности и голый, абсолютный разум. Валька как бы увидел себя со стороны, увидел, как боль постепенно растворяет в себе воды его гнева, и захватывает одну позицию за другой. А он следит за безмолвной битвой из своего ментального пространства, и знает, что телу его плохо. Но сам Валька, кроме знания, не чувствовал ничего. Потому, что чувств у него попросту не было.
Правда, собственное тело очень скоро сделалось Вальке неинтересным. Ну, чего смотреть, если и так все ясно. Гнев отступит и сгинет, ведь физическая боль сильней всего на свете. Пока, до своего возвращения в чувство, он может осмотреться.
Пространство вокруг Вальки было невероятно неподвижным и в то же время изменчивым, но как-то неоднородно и дискретно. Все сущее здесь предстояло перед ним в виде идеальных геометрических форм, возникавших словно из ничего и ниоткуда. Валька захотел пойти и посмотреть поближе, на вопрос «куда именно?» он тут же ответил себе, что, хотя бы вон до того дальнего, прозрачного октаэдра. Едва он подумал так, как очутился вблизи геометрической конструкции без всякого с его стороны движения. Вот это да! Октаэдр тем временем поменял цвет. Сначала на фиолетовый, потом на абсолютно черный. Валька понял, что именно эти цвета он и хотел увидеть. И тут его позвали.
Валька обернулся и обнаружил рядом с собой человеческую фигуру. Необычную и странную, но человеческую. Светящуюся, белую, идеально четкого контура. Одни линии и более ничего.
– Ты кто? – спросил фигуру Валька. Как и чем он спросил, Валька не знал сам, ведь никакого материального языка у него не было. Однако, слова не только получились в его сознании, но и нарисовались в пространстве синими, печатными знаками. Так что их попросту можно было прочесть.
– Я, – скромно ответила фигура. Ее ответ тоже возник, начертанный в ярко зеленом цвете.
– Здравствуйте, Павел Миронович, – неожиданно сказал Валька. Но уже понял, что не ошибся, и ничего неожиданного в появлении перед ним Аниного папы нет вовсе. Он ведь втайне желал увидеть Павла Мироновича и вот, увидел. – Вы настоящий? Или я вас только что придумал?
– Настоящий. Но, конечно, относительно. В том, что ты меня видишь, ничего удивительного нет. Ты позвал, я пришел. А ментальное пространство общее для всех. Кто, разумеется, не имеет тела. Или, временно выходит из него.
– Понятно, – ответил Валька, хотя на самом деле ничего понятно ему не было. – Значит, вы теперь здесь живете? В смысле, существуете?
– Нет, существую я в ином месте, – после этих слов в пространстве вспыхнула в скобках надпись: «ироническая улыбка». Однако, Павел Миронович продолжал:
– Сюда я лишь иногда захожу. Не очень-то интересно. Здешний мир – это, так сказать, «res cogitans». То есть, вещь мыслящая. В чистом виде. Абсолютная и строго логичная. Игры разума и ничего кроме.
– Я сейчас убил человека. Нарочно. И в первый раз ничуть об этом не жалею, – сообщил Аниному папе Валька. Он захотел и нарисовал вокруг множественные картины из своей памяти. Непременно желая рассказать Павлу Мироновичу в точности все, что с ним, с Валькой, случилось после его смерти.
– Что же, – ответил Анин папа после короткого раздумья. – Теперь тебе придется таким же намеренным образом убить во второй раз.
– Почему? – спросил Валька. Рядом с его вопросом в скобках возникли слова «недоверчивый ужас».
– Потому, – сказал Анин папа. И в ответ нарисовал для Вальки это самое «почему?».
Валька долго вникал в увиденное, потом спросил:
– Другого выхода нет?
– Нет, – возникло одно короткое зеленое слово. А в скобках значилось «категорически». – Ты это породил. Тебе и расхлебывать.
– Но как? Я же не могу. Я же показал вам, что над Ним у меня более нет власти.
– Есть. И твою власть Он ныне питает сам, – ответил ему папа Булавинов.
– Я не понимаю. Все равно. Объясните мне. Пожалуйста, – Валькины слова теперь походили на телеграфный текст.
– Догадайся сам. Знаний у тебя достаточно. Так что соображай, не маленький, – за фразами Павла Мироновича возникла скобка «задиристый смех». – А я тебе более не скажу ничего. И мне пора. Приятно было повидаться. Когда пожелаешь вернуться, просто напиши слово «назад» и подумай о нем, как о приказе.
Павел Миронович исчез. На месте, где он только что был, осталась надпись: «Выбрать можно и в другую сторону три точки но иногда выбор нужно послать к черту».
Валька стал думать. Мыслить было необходимо здесь и сейчас, в мире, где чувства не имели над ним власти. Итак, исходя из увиденного, он должен уничтожить Дружникова. Что же, цель ясна. Но как это сделать? Ответ прост: один вихрь должен одолеть другой вихрь. Поправка: у Вальки никакого вихря нет. И не надо. Все еще проще. Актер! Любовь – это иногда смертельная штука. Посмотри в глаза и возлюби. И вечный двигатель сам убьет своего хозяина. Но где взять столько любви? Чтобы хватило на единственный, последний вихрь? Как всегда, папа Булавинов прав. Дружников сам придаст ему силу. Изо дня в день заставляя Вальку любить его по-прежнему. И очень хорошо. Отныне он не будет сопротивляться, наоборот, станет впитывать каждую каплю этой любви.
Это, конечно, все очень складно на словах. Но что если эта безмерная любовь (а она должна непременно стать безмерной) не позволит Вальке осуществить задуманное? Что, если он не сможет уничтожить Дружникова? Которого непременно нужно уничтожить. После всего, что он видел. И как тогда быть? Тоже очень просто. Он убьет Дружникова из любви к самому Дружникову. Потому что смерть для его дорогого друга станет высшим благом, и даже спасением. По крайней мере для его бессмертной души. И вообще, как учил его в свое время Дружников? Поставь себе цель и забудь о ней. Иначе никогда ее не достигнешь. Что же, вот Валька и запрограммировал себя. Теперь надо вернуться и там, на месте, обдумывать практические пути спасения его дорогого друга. Пусть программа так и называется: «операция спасения». Валька вывел в пространстве Абсолюта, и впрямь малость скучноватом, одно слово. Назад.
В мгновение ока очутился он на полу в своей кухне и в своем теле. И взвыл от боли. Но это были уже сущие пустяки. Валька дотянулся дрожащей рукой до столешницы, приподнялся, ухватил за горлышко едва начатую бутылку, стал планомерно переливать ее содержимое себе в рот. Может, будет полегче. Тем более, что эта бутылка отныне последняя. И больше не предвидится. На работе пить не полагается. Вот он и напьется в последний раз. Вдрызг. Валька сделал несколько прожорливых глотков. Многоградусная жидкость свирепо обожгла горло. Но ничего. Вроде бы боль и вправду немного отступает. По меньшей мере Вальке теперь хватит сил добраться до кровати.
Болел он в этот раз, не так, чтобы слишком долго, но Зулины похороны, конечно же, пропустил. Да и не очень хотелось. Вовсе не потому, отнюдь, что убийце не полагается присутствовать на погребении своей жертвы. Моральные Валькины принципы вообще притупились за последнее время.
Он лежал, болел и думал. О том, что он, Вилим Александрович Мошкин, всю свою осознанную жизнь совместно с отпущенным ему даром, боролся со злом и мечтал сеять разумное, доброе, вечное, всеобщее благо. В результате породил антихриста, несколько сомнительных талантов, да еще наградил удачей и без того успешных «друзей», которые в его помощи отнюдь не нуждались. И руки его, помимо воли и желания, все равно в крови по самые плечи. И Аню он потерял. И ничегошеньки не приобрел, кроме ежедневной бутылки на столе. Вот и хватит. Достаточно. Теперь нужно исправить страшную ошибку, и плевать на собственные, тонкие душевные переживания. Дальше, как говориться, оно будет видно. Пока же необходимо спасать. Не души человеческие, и не их царствие небесное. А всего лишь жалкий, маленький, никому не нужный земной шарик от наглого «антихриста», от его любимого Олега Дмитриевича Дружникова. Так, не забыть! Непременно для блага последнего.
За время Валькиной болезни к нему наведывались посетители. Само собой, Людмила Ростиславовна пожелала дежурить у постели страждущего сына, Вальке с трудом удалось ее спровадить. Матери он наплел, что отравился несвежими консервами, и через день, другой будет уж на ногах. И потом нарочито бодро отвечал в телефонную трубку, что все в полном порядке. Необходимые продукты и лекарства Вальке привозил заботливый Костя. Он даже выразил намерение остаться в квартире на некоторое время, пока хозяин не встанет с постели. Но Валька спровадил и его, домой, к жене. Нынешний, он не нуждался ни в чьей компании и заботе, а только в покое для стратегических размышлений.
Дважды заходил и Каркуша. Раньше он являлся с инспекцией много, если раз в месяц, но Валькина болезнь заставила его изменить график посещений. Правда, Валька догадывался, что Каркуша ходит к нему не столько по доброй воле, в виду обеспокоенности его здоровьем, а выполняет несомненно соглядатайские поручения Дружникова. Но Валька и понимал, что никак иначе быть не могло. Олег ведь не дурак, и не может не сознавать, что гибель Зули Матвеева в подъезде от природного катаклизма не произошла сама по себе. Но этого понимания с Дружникова довольно. А вот зачем именно приходил к нему Зуля, и что сказал такого, отчего долго потом не прожил, Дружникову знать совсем не полагается. Для его же блага. Впрочем, думалось Вальке, Олег и не станет особенно заморачиваться. Стена никак не может ему повредить, а Зулина смерть так даже выгодна. К чему иметь лишнего свидетеля! Опять же Дружников уверен, что держит Вальку на коротком поводке. Держит то, он, конечно, держит, вот только не предполагает, что поводок этот Валька желает сделать еще короче. Ведь Зуля в том последнем разговоре перед своей смертью проговорился – Дружников ничего не знает об Актере. И Валька тоже на эту тему никогда перед Олегом не распространялся.
Лена Матвеева пришла к нему всего один раз. Посещение ее вышло странным, но на Вальке сказалось благотворно. Лена приехала на следующий день после Зулиных похорон, выглядела плохо, хотя и не казалась убитой горем. Может, хотела своими глазами убедиться в Валькиной болезни, может, желала компенсировать Валькино отсутствие на кладбище и поминках по давнему другу. Однако, разговор ее с Валькой вышел не пустой.
Для начала Лена, как водится, заинтриговала его новостями об Ане.
– Что же. И Аня на Зулины похороны пришла. Ну, как пришла? Приехала, конечно. С целым джипом охранников. Ни на шаг не отходят. Говорят, Дружников ее на минуту без наблюдения не оставляет. И Павлика тоже.
– Как она выглядела? – слабым голосом поинтересовался Валька. Он еще очень плохо себя чувствовал и оттого говорил с трудом. Однако, и жалел теперь, что не смог поехать на кладбище. Зуля ладно, бог с ним. Но он бы увидел Аню.
– Как выглядела! Обычно выглядела! Шуба из шиншиллы, а глаза неживые, словно у куклы. С ней говоришь, а она будто тебя не слышит. Но ты не переживай, я отныне ею займусь. Плевать, понравится это Дружникову или нет. Аня все-таки моя подруга, и с ней неладно.
– Спасибо тебе! – неожиданно растрогался Валька и в благодарность взял Лену за руку.
– Не за что. Между прочим, Дружников собрался жениться на стороне, – теперь уже Лена задержала Валькину дрогнувшую ладонь в своей, словно таким образом хотела придать ему сил. Жест ее вышел успокаивающим и ласковым одновременно.
– Вот те на! И на ком? – Валька, однако, расстроился куда меньше ожидаемого. Он знал почему. Очень хорошо, что Аня останется незамужней, а значит, относительно свободной дамой. Хорошо для нее, и для Дружникова. А может, кто знает, и для Вальки.
– Ну, а как ты думаешь? Уж точно не на мне. Говорят, он посватался не больше, не меньше, ко внучатой племяннице нашего президента. И получил согласие. Так что, если дело не сорвется, Дружников будет принят в самом высоком кругу. За своего.
– А что Аня? – на всякий случай спросил Валька.
– А ничего. То есть, совсем ничего. Ей вроде бы все это по барабану. Ее-то статус никак не изменится. Разве что будет своего господина и повелителя лицезреть куда реже, себе же на пользу. А может, и нет. От Дружникова всего стоит ожидать. С него станется жить на две семьи.
– Ты сама-то как? – спросил Валька, немного усовестившись.
– Не знаю. Странно, но не знаю. У меня такое ощущение, что МОЙ Зуля умер уже давным-давно, а похороны состоялись лишь вчера. Последние годы это словно бы был не он. Не тот Зуля Матвеев, за которого я выходила замуж, с которым училась в одном классе, который повез меня на могилу к своему деду, а потом чуть было не отказался на мне жениться. Помнишь? – лицо Лены согрела улыбка.
– Помню, конечно. Мы тогда все так переволновались, – ответил ей Валька и тоже светло улыбнулся.
– Знали бы мы тогда, из-за чего стоит волноваться, а из-за чего нет. Веришь, у меня уже второй день бродит в голове страшная мысль. Что для Зули очень хорошо, что он умер именно теперь. Не подумай, я вовсе не желала его смерти. Но мне кажется, жизнь его забрела в такой тупик, что из него уже просто не было нормального, человеческого выхода. Останься он в живых, дальше стало бы еще хуже, – Лена вопросительно и как-то странно посмотрела на Вальку. Глаза ее, карие, темные, немного раскосые, будто бы заволокло пленкой. Но, все равно, то были красивые глаза.
Вальке внезапно сделалось тревожно и душно. Он забрал у Лены свою руку, потом нарочито ровно сказал:
– Кто же это знает, Леночка? Кто же знает?
– Я думаю, что ты, – ответила ему Лена, все также странно глядя на Вальку.
– Почему, я? Откуда же мне знать? – Валька заволновался, приподнялся на подушках, но слишком резко. Боль ударила его в висок.
– Лежи, лежи. И извини. Я не хотела. Профессиональная привычка – ничего и никогда не говорить прямо. Я что, собственно, имею в виду? Помнишь, те братки в Мухогорске? Когда вас спасло метеоритное чудо? Помнишь, конечно. Еще бы. А мой Зуля, выходя от тебя, погиб, с большой вероятностью предположения, от шаровой молнии. Это в январе месяце. В солнечный, зимний день и в отсутствие грозовых образований в атмосфере. Само собой, шаровая молния, явление мало изученное. Пусть у академиков голова болит, как это так получилось. Но, Валя, вокруг тебя происходят странные вещи.
– Леночка, не могу же я отвечать за природные катаклизмы? – внутренне холодея, ответил ей Валька.
– Катаклизмы – дело десятое. Тут и Дружников и непонятная привязанность к нему Ани. Все на первый взгляд вроде бы нормально, а на второй – вроде бы и нет. Все эти движения происходили всегда вблизи тебя. И в них была своя система, – Лена смотрела на Вальку уже не просто с вопросительной настойчивость, а даже как бы вызывающе.
Валька вдруг мысленно махнул на все рукой. Не в силах он и далее валять ваньку! Поэтому он прямо в лоб задал Лене вопрос:
– Что ты собираешься сделать? Сдать меня в вашу организацию?
– Нет. Пусть ты не поверишь, но я и в мыслях этого не имела. В первую очередь потому, что я сильно сомневаюсь в твоей для нас полезности. А вот опасен ты можешь быть, и даже очень.
– Ты не в состоянии себе представить, насколько ты права. Пользы от меня вам и вправду никакой, по крайней мере сейчас. Да и в будущем сомнительно. А вреда может выйти столько, что не расхлебаете, – честно ответил Валька.
– Вот я и не хочу, чтобы у нас расхлебывали. Без тебя хватает. Я так понимаю, твои слова равносильны признанию? – спросила его Лена, впрочем, скорее в шутку.
– Так точно, товарищ капитан, – в тон ей ответил Валька.
– Майор, Валя, майор. Уже второй месяц. Как говорится, подарок на Новый Год. Что же, ты был со мной откровенен, и я, думаю, с тобой тоже. Может, расскажешь мне все? – Лена опять как-то странно на него посмотрела, но не как представитель правоохранительных органов. Так на него иногда смотрела мама, Людмила Ростиславовна, когда сильно тревожилась за сына.
– Спасибо тебе. Но нет. Не потому, что я тебе не доверяю. Просто, не стоит тебе впутываться.
– Может, тебе нужна моя помощь? – спросила Лена, так, будто бы речь шла о самой обыденной на свете вещи.
– Может, и нужна. Но не сейчас. Может, потом. Ты главное скажи. Неужели ты меня прощаешь?
– Ты о чем? – Лена сначала не поняла, но потом сообразила. – Ты, наверное, о Зуле? Ждешь кровавой мести за мужа? И напрасно. Это ты уж сам с собой договаривайся. Без меня. Я слишком хорошо знаю тебя, и слишком хорошо знала Зулю, каким он стал в последние годы жизни. Ничего тут копать я не желаю. Чтобы не думать о покойнике еще хуже. Ты вот что, ты отдыхай. Все остальное будет потом, когда поправишься.
Лена ушла. А Валька, само собой, стал поправляться. И не только телом.
Уровень 40. «Могила Наполеона»
Встав, наконец, на ноги, Валька, нельзя сказать, чтобы сразу включился в бурную деятельность. Хотя некоторые шаги для развития своей физической формы он все же предпринял. Даже записался в ближайший оздоровительный центр «Гиппопотам», место весьма комфортабельное и с ограничительным цензом для клиентов. Весь наличный алкоголь он вымел из квартиры если не поганой метлой, то во всяком случае раздал соседям по площадке. Первым перемены в Вальке разглядел его верный Костя. С одной стороны, в его взглядах, адресованных хозяину, появилось ярко выраженное одобрение, с другой, из Костиной манеры обращения с Валькой исчезла вдруг всякая фамильярность. А давно забытое уважение вновь обрело свои законные позиции. Костя снова ощутил себя солдатом при генерале, которому призван был служить.
Но давать сражение без четкого плана и предварительной разработки Валька полагал за глупость и опасную самонадеянность. К тому же, хотя способ убийства Дружникова и был уже выявлен, на пути претворения его плана в жизнь имелись существенные преграды. Прежде всего самая великая трудность состояла в том, что Валька более не имел никаких выходов на Дружникова. Даже когда его любовь наберет необходимую силу, как он применит ее на деле? Здесь нужен зрительный контакт, достаточно близкий и долгий. А Дружников запретил Вальке приближаться к своей персоне и на ружейный выстрел. Безусловно, не представит никакой особой трудности оказаться рядом, когда Олег, например, будет выходить из машины у «Дома будущего», или подкараулить его в Анином подъезде. Да что толку. Если его сразу же отрежет охрана, и Дружников вряд ли на ходу станет столь уж долго смотреть Вальке в глаза. Если вообще станет, а не пройдет мимо, будто не узнавая. И вообще, в этом случае Вальке не удастся настроиться на нужный лад.
Значит, надо добиться того, чтобы Валькино личное и общественное положение вознеслось на должную высоту, достаточную для того, чтобы обращаться с Дружниковым в одном круге или хотя бы пересекаться с ним. Легко сказать. Валька оглядел себя в зеркале. Высокая, худая фигура, даже выпивка и сидячий образ жизни ничего не изменили. Не красавец, конечно, но зато исчез безвозвратно щенячий взгляд и застенчивая мягкость в движениях. На Вальку с той стороны бабушкиного трюмо смотрел молодой еще и уверенный в себе человек, лишенный сантиментов и с некоторым усталым сарказмом в глазах. Которые так и остались просто светло-серыми и отнюдь не приобрели из-за жизненных катаклизмов стального оттенка, как им вроде бы полагалось. Но вот некоторая шальная, одержимая безумием искра в них, несомненно, появилась. Даже некоторый кураж блистал в Валькиных глазах. А костюм сидит на нем хорошо. Прямо-таки недурственно сидит. Жаль только придает Вальке слишком строгий вид налогового инспектора. Может, оттого, что темно синий цвет и узкий, классический покрой сейчас совсем не соответствуют Валькиной обновленной сути. Впрочем, костюм легко сменить. Как и весь имидж вообще. Надо лишь определиться с тем, в какую сторону Вальке хочется и необходимо это сделать. С этим пока нет полной ясности. Кем быть и каким быть, на эти вопросы он еще не нашел ответа.
Но как же ему вернуться в те высокие сферы, в коих он так недавно обращался? Или подняться несколько выше? Нужно вновь заняться делами. Вопрос, как? В металлургический бизнес дорога ему закрыта, и Дружников сделает все, чтобы таковой она и оставалась. Тех денег, которые каждый месяц поступают на его счет, на серьезное предприятие никак не хватит. Не с десятью тысячами затевать большие дела. Конечно, многие начинают с малого. Да вот беда, у Вальки не так уж много времени. А на это, может, бог знает, сколько лет уйдет. И получится ли вообще? Впрочем, Дружников не запретил Вальке тешиться своими проектами. По крайней мере прямо. Только поставил известное условие, чтобы любые Валькины занятия отстояли как можно дальше от сферы его интересов. Но и это, как говориться, было лишь половиной всей беды.
Другая ее половина заключалась самым непосредственным образом в том, что весь Валькин успех в новом русском бизнесе зиждился прежде исключительно на вихрях удачи Дружникова. То есть, Валька желал, Дружников делал. Теперь же у Вальки нет ни удачи, ни Дружникова. И вообще никого нет. Последний его друг недавно лег в сырую землю Ваганьковского кладбища, и никто иной, как Валька, его своими руками туда уложил. Да и другом-то Зуля ему, как оказалось, никогда не был. Вблизи него, собственно, остался один надзиратель Каркуша, но его смешно даже соблазнять посулами. Да и небезопасно. Все равно на Каркуше вихря нет. И не будет никогда. Та, прежняя сила, рождавшая вихри и восторги, Валькой была утрачена навсегда. Но не с Костей же ему и впрямь затевать дело?
Правда, вихрь есть на Танечке, Татьяне Николаевне Вербицкой. Но мысль заставить Танечку заняться серьезным бизнесом и выйти на тропу войны против Дружникова, как абсурдная, вызвала у Вальки легкий, печальный смех. Послать Татьяну Николаевну в крестовый поход, отомстить за невинно убиенного мужа, что может быть нелепее? Опять же Танечка живет себе мирно и красиво на Лазурном берегу, и, говорят, пользуется успехом у переселившихся туда нуворишей. И пусть живет. Валька управится как-нибудь без нее. Но как конкретно? Ее вихрь был последним, единственно доступным.
Тут Валька с досадой стукнул себя кулаком по темени и пребольно. Ах, он кретин! И не последний! И не единственный! Через мгновение, прямо в парадном вечернем костюме, Валька уже карабкался на табурет в прихожей, и вскоре со старых, до ужаса пыльных антресолей на пол полетел всяческий хлам. Грязные чемоданы, спортивные сумки, какие-то заплесневелые занавески, даже древняя бабушкина летняя шляпа. Должно же быть! Должно! Тогда, при переезде, он побросал все свои бумаги в пустую коробку из-под телевизора, и ничего не позволил выкинуть. Вот только куда же он это все свалил?
Через полчаса судорожных исканий, Валька обнаружил искомый предмет на дне набитого учебниками чемодана. Альбом удачи! Пожелтевший, с пропыленными страницами, но вполне читаемый и пригодный к употреблению. Да, конечно, вот оно – решение всех его проблем.
Валька уселся в прихожей прямо на пол, взял с полочки у телефона огрызок карандаша. Так, успешных «друзей» и тех, что уже в изрядном возрасте отметаем сразу. Интересуют исключительно безнадежные неудачники, такие, что давным-давно не на слуху, и вообще пропали с глаз долой широкой публики. Лучше всего из мира кино и искусства. Как же он раньше не сообразил? Дружников культурными делами и шоу-бизнесом в целом интересовался мало. Точнее, никогда вообще не интересовался. Не его это стезя. Если Валька что-то подобное затеет, он в худшем случае над ним посмеется. В лучшем не обратит должного внимания. Чем бы дитя ни тешилось. Лишь бы было довольно жизнью и Дружникову не мешало. А на каждом персонаже этой тетради, между прочим, самый настоящий вихрь. Просто давно заброшенный и растерявший удачу. Но паутина-то осталась! И нарастить ее будет парой пустяков. С Валькиным-то опытом концентрации для принудительных пожеланий! Эх, Дружников, Дружников! Все на свете есть палка о двух концах. Как же ты это забыл?
Валькин карандаш бегал по строчкам. Годен – не годен. Но только на сей раз никакой свободы марионеткам. И пусть не обижаются. Он, конечно, объяснит в свое время, зачем призвал их к новой жизни – должны же люди знать, чем рискуют, но на чистый и добровольный энтузиазм Валька более не рассчитывал. В этот раз все будет проще. В обмен на известную долю успеха непременно полное подчинение его планам. Кому не нравится, что же, второго двигателя он не допустит. Да и проболтаются вряд ли. О таких вещах обычно помалкивают, даже не очень умные представители рода «хомо сапиенс».
Итак, предварительный список готов. На первом месте у нас, («кто бы подумал!» – усмехнулся Валька) давний знакомец Рафа Совушкин, если еще не спился, конечно. Он вообще-то был ничего. Уж во всяком случае по сравнению кое с кем иным. Валька вдруг и пожалел, что двенадцать лет назад оборвал артистическую карьеру пирамидального Рафаэля. Так, далее. Илона Таримова. Да-да, ее он помнит. Черноокая красотка, столь сильно поразившая его приблизительно в шестом классе. Кажется, играла в слезливом телефильме про юношескую любовь, тогда казавшемся впечатлительному малышу шедевром отечественной кинематографии. Потом то и дело, опять-таки благодаря Вальке, мелькала в разных колхозных и бытовых драмах. После, естественно, исчезла с экранов напрочь. Сейчас ей лет тридцать восемь, не меньше. С одной стороны, все же женщина, с другой, именно слабый пол наиболее падок на медовую сладость успеха. Можно попробовать. Ага, это у нас писатель Грачевский, Эрнест Юрьевич. Неплохую фантастику сочинял, правда, не совсем научную. И, конечно, одно время был страшно популярен и знаменит. Постоянно печатался с рассказами в журнале «Знание – сила» наравне с братьями Стругацкими, появлялся в «Химии и жизни». А после переворота девяносто первого года был обвинен в сотрудничестве с органами на Лубянке, изгнан как сексот, опозорен и забыт. Еще бы, тогда Валька по уши погряз в Дружниковских предприятиях. Этому где-то должно быть около пятидесяти. Для писателя самый подходящий возраст. Вот еще, Василий Терентьевич Скачко. Ну и имечко! Неудивительно, что актерская карьера ему не удалась. Вечно юный революционер, герой-комсомолец и красный дьяволенок. В кино снимался со школьных лет. Говорят, дети-артисты редко потом продолжают успешно играть в фильмах и на сцене. Но не в этом случае. О, нет! Валька сего добродетельного пионера долго не отпускал, даже когда Скачко ему совершенно приелся. Совесть не позволяла. И как вообще он мог «подружиться» с таким типом? Слащавый парень, с темными, вечно прилизанными волосенками, подбородок, как корабельный киль, и маловыразительные голубые глаза. Зато лихо ездил верхом и здорово дрался кулаками в военно-патриотических эпопеях. Ну, были же времена! Валька сделалось весело. Впрочем, хорошо, что были. Теперь у него есть персонаж, который, хоть и в кино, но все же демонстрировал какой-никакой бойцовский дух. А если учесть, что Скачко актером был посредственным и местами скверным, то вдруг драчливые качества – это присущие ему самому черты? Такой бы пригодился. К тому же почти Валькин ровесник. Лет тридцать пять, или немного меньше.
Валька подвел итог. Верных четверо претендентов и еще штук пять в запасе. Эти запасные, правда, староваты, если вообще живы, но как крайний вариант пригодятся. Что же, главное обдумать, как правильнее выйдет для Вальки поступать далее.
Олег Дмитриевич Дружников сидел в гостиной своего загородного дома, огромной, как добрый кусок звездного неба, под собственным же портретом метр двадцать на метр восемьдесят. На портрете Дружников, облаченный в черный фрак и бабочку, выглядел менее свирепо и более облагорожено, чем в действительной жизни. Впрочем, художнику все же удалось передать во взгляде своего прототипа напряжение исходящей от него, нешуточной опасности. Самому Дружникову портрет нравился, хотя при посторонних он называл его не иначе, как «пустой мазней, но положение обязывает». В общем под этой «пустой мазней» он в данный момент и сидел. Вольно и живописно раскинув руки по пышным, диванным, золотистого шелка, подушкам.
Напротив Дружникова расположилась на низеньком стуле, почти что скамеечке для ног, симпатичная журналистка, молодая, но с уже устоявшейся, серьезной репутацией. А со стороны такого крупного еженедельника, как «Новый Негоциант», это было значимой характеристикой. Журналистка уже разложила ручки и блокнот (пользоваться диктофоном Дружников, в силу своей привередливости, запретил) и ждала приказа начинать. В углу маячил фотограф, готовил свет и аппаратуру, под бдительным, неусыпным оком Муслима.
– Ну, значит, пишите, – повелительно и неспешно начал свое интервью Дружников. – Родился я в городе Ставрополе. В семье, так сказать, интеллигентов-подвижников. Оба моих родителя закончили педагогический институт, и после самоотверженно и добровольно уехали учительствовать на село. Своими, подумать только, руками даже школу ремонтировали. Отец мой был учителем математики, от него и я, грешный, видимо, унаследовал способности. Очень скоро он сделался директором этой самой школы, и вообще, стал одним из самых уважаемых людей в районе. Но спустя год трагически погиб. Был зверски зарезан вечером у собственного дома алкашом-трактористом. Отец как-то вступился за его младшего сына, не дал этому опустившемуся пропойце отколотить ребенка. Но тот запомнил, затаил злобу, и решил, наверное, отомстить. Так мы с матерью и братом осиротели. Мать моя, Раиса Архиповна, слыла женщиной решительной и авторитетной, вскоре заступила место покойного отца и директорствовала в сельской школе почти до недавнего времени. В настоящий момент она отдыхает в Швейцарии, поправляет здоровье.
– Простите, Олег Дмитриевич, а ваш младший брат? – вежливо осведомилась журналистка, не переставая пулеметно строчить в блокноте.
– Мой брат, как и я, заметьте, окончил Московский Университет и тоже с красным дипломом… Что? Нет. Я ему в этом не помогал. Разве материально. Мой брат Георгий очень талантливый человек. Сейчас получает второе образование в Европе, – пояснил Дружников и окинул журналистку коротким взглядом. Нет, интереса не представляет, слишком вертлява. Да и тошно ему в последнее время от этих баб. Никто ему, по сути, не нужен, кроме одной только Ани. А тут еще женитьба, будь она неладна!
– А ваш бывший компаньон? Мошкин Вилим Александрович? С которым вы вместе, по слухам, начинали?
Ага, дождался все-таки! И очень хорошо. Надо разъяснить раз и навсегда. Слухи, говоришь? Значит, уже и слухи. Просто замечательно!
– Да, вы знаете, эти разговоры, действительно, не более, чем слухи. Конечно, Вилим Александрович очень часто помогал мне в делах, на дружеских началах, и даже одно время удалось его уговорить на должность моего помощника. Но ненадолго. Он, видите ли, весьма способный математик и неплохой экономист-теоретик, однако совершенно далекий от предпринимательства человек. Трагическое убийство в Мухогорске моей правой руки и фактического директора комбината Порошевича Дениса Домициановича слишком напугало моего старого друга. И он решительно отказался далее консультировать меня в коммерческих неурядицах, – Дружников сделал паузу, чтобы журналистка успела все как следует записать. – Сейчас я оказываю ему исключительно спонсорскую помощь в написании научной работы. Но, поскольку Вилим Александрович чрезвычайно занят и почти не выходит из дому, мы, можно сказать, совсем не видимся. Кстати, Вилим Александрович, очень замкнутая личность и к общению способен в весьма ограниченных формах.
Журналистка задавала еще какие-то, совсем уже мирные и посторонние вопросы, Дружников отвечал ей заученно-машинально. А у самого, против воли и настроения, в голове бесконечным кругом обращались одни и те же мысли. Зачем его «дорогой друг» Валька убил Зулю Матвеева. Почему убил, такого вопроса у Дружникова не возникало. Насколько он знал Зулю, от него потенциально можно было ожидать любую гнусность, а от испуганного Зули и любую дурость. Матвеев вполне мог наплести Вальке с три короба правды, и повернуть ее удобным себе боком. Это, да. Но почему правда вышла боком Матвееву? Не очень похоже на Вальку. Не хотелось бы Дружникову, чтобы его бывший компаньон стал находить в мести удовольствие и не обнаруживать при этом никакого раскаяния. Да и какие-то непонятные движения начались в Валькином мире. Каркуша, конечно, осведомитель аховый, но и он заметил, что Валька, вместо того, чтобы сидеть тихо, начал проявлять активность и интерес к внешней жизни. Впрочем, если это способствует его здоровью и долголетию, пусть себе. Он, Дружников, лишь немного увеличит силу ежедневно посылаемых Вальке приказов. Теперь такое возможно. Как Дружников и предвидел, настраивать Вальку на нужный лад в последнее время сделалось не в пример легче, словно ему в самом деле удалось пробудить в Вальке прежнюю, искреннюю любовь к своей особе.
Валька опаздывал. Москву за ночь засыпал варварский снегопад, о своевременной уборке и расчистке проезжих магистралей, понятно, не могло быть и речи. Хорошо, что Лена ждет его не на улице. А в книжном магазине, как раз напротив… Ну, словом, напротив того самого учреждения, где она, собственно, служит. Ого! Уже пятнадцать минут прошло с назначенного времени, а они все еще еле ползут мимо памятника первопечатнику Федорову. Валька велел Косте ехать далее, до магазина, а сам выскочил на дорогу и пошел быстрым шагом, насколько позволяло состояние тротуара и толчея на улицах.
Лену он нашел возле стойки с детективными романами, которые она неторопливо просматривала один за другим, впрочем, без намерения покупать.
– Привет, – просто поздоровался с ней Валька.
– Привет, – ответила Лена, и, потянувшись, чмокнула Вальку в щеку. – А ты похорошел.
– Да ну, ерунда. Хожу в тренажерный зал и вот…, – Валька в некотором смущении развел руками. К нежностям со стороны Лены он оказался немного не готов.
– Случилось что? – поинтересовалась Лена, вовсе не замечая Валькиного замешательства. – Ты так срочно вызвал меня с работы.
– Извини. Я как-то не подумал. Нет, ничего не случилось. Но помнишь, ты говорила, если понадобится помощь, я могу обратиться к тебе, – сказал Валька и посмотрел просительно.
– Конечно, можешь. А в чем дело?
– Вот, – Валька протянул сложенный вдвое листок бумаги. – Узнай, пожалуйста, что сталось с этими людьми. Прямо по списку. Адреса, места работы, семейное положение. Ну, словом, все, что удастся. Тебе это несравненно легче сделать, чем мне.
– Когда надо? – только и спросила Лена, взяв листок в руки.
– Не хочу тебя торопить, но, чем скорее, тем лучше?
– Может, все-таки расскажешь? – спросила его Лена, и Валька сразу понял о чем.
– Может и расскажу. В двух случаях. Если буду точно знать, что тебе это не повредит. Или… Или я окажусь в безвыходной ситуации, когда ничья безопасность уже не станет иметь значения.
И Валька, во избежание дальнейших расспросов, быстро попрощался. Вышло не очень вежливо, но он видел: Лена на него не обиделась.
Из магазина Валька не сразу вернулся домой. А сделал кое-какие покупки. После перед зеркалом их примерил. Ну, вот. Валька оглядел свое отражение со всех сторон. Настоящий модный щеголь, немного фатоватый, но не чересчур. Джинсы умопомрачительного покроя, туфли крокодиловой кожи, кричащего зеленоватого тона, пояс с огромной пряжкой, синяя рубашка «поло» и венец творения – кожаное, сиреневое полупальто с отстегивающейся подкладкой на меху. Мальбрук в поход собрался. Чем дольше Валька глядел на себя, тем больше в нем поднималась некая, восхитительная легкость. Так теперь и надо. Чтобы он отныне ни делал, чтобы ни желал, даже если пожелать придется самое страшное, новый Валька отнесется к этому легко. Вот только его нынешнее имя – Валька. Какое-то оно жалкое и отдает беспомощной наивностью. Главное, он больше не чувствует себя Валькой. Имя надо сменить. И, кстати, прическу тоже. Отрастить волосы подлиннее и собрать в хвостик. Будет обманчиво богемное впечатление. Но какое же имя выбрать? Непременно передовое и сильное. Валька стоял и склонял себя на все лады. Ага!
Пусть он теперь будет Вилли. С этаким инородным оттенком. Вилли-генерал, рыцарь в походе против тьмы. Должный освободить спящую принцессу и спасти своего рыцаря-друга. Нет, у генералов все же есть начальники. Тогда генералиссимус. Вот. Генералиссимус Вилли! Это прозвучит. Осталось единственное. Добыть себе собственную армию.
UPGRADE! GO TO LEVEL THREE!
Игра третья. Генералиссимус Вилли
Ох-хо-хо! Бедный малый в больничном бараке отдал душу бессмертную богу, он смотрел на дорожные знаки и совсем не глядел на дорогу… ИТАК?
Уровень 41. Слушайте меня, бандерлоги!
День не задался с самого утра. Первым делом в кране не обнаружилось ни капли горячей воды, и Рафе пришлось умываться и чистить зубы холодной, о целительном душе нечего было говорить. А когда Совушкин, кое-как приведя себя в порядок, вышел прогуляться к продуктовому магазинчику по соседству, то во дворе у подъезда обнаружил следующий приятный сюрприз. Окрестное хулиганье не посочувствовало обшарпанному виду его старой «восьмерки» и наглым образом отвинтило оба внешних, обзорных зеркала. Вроде и ерунда, и сам виноват, надо было не полениться загнать машину на стоянку, но, опять же, сторожу тогда пришлось бы платить полтинник, а с деньгами в последние дни у Рафы совсем вышел затык. Однако скупой всегда платит дважды. Теперь придется раскошеливаться на зеркала. «Ладно, куплю одно только левое», – попытался утешить себя Рафа, но настроение решительным и окончательным образом испортилось. Вот тебе и выходной!
В местной продуктовой лавке Рафа обстоятельно выбрал в морозильнике пачку пельменей поприличней, снял с полки бутылку растительного масла подешевле. Хотел взять еще пару пива, да, как назло, любимого «Бадаевского» не оказалось. На фоне утренних неприятностей этот казус Рафу не особенно расстроил. Бывают же у людей несчастливые дни в календаре? Хотя, с другой стороны, выходит прямая экономия в бюджете. Опять-таки, надо покупать зеркало. Рафе сделалось совсем тоскливо. На экономию он тут же плюнул. Эх, живем один раз! И Совушкин пробил в кассе упаковку из четырех крошечных бутылочек «Будвайзера». Поскольку сожалеть о необдуманных решениях было совсем не в характере Рафы, то обратно домой он пошел в приподнятом настроении, предвкушая пусть малое, но весьма чувственное пивное удовольствие. Даже на изувеченную машину посмотрел без сожаления. Подумаешь, зеркала! Зато на стоянку железного друга отгонять нет ни малейшего смысла. Снимать с его «восьмерки» все равно более нечего. Передний бампер треснут, заднего не имеется вовсе, резина лысая, как голова Котовского. А дворники еще в позапрошлом месяце сперли возле Черкизовского рынка. Так что в дождь Рафа ездит теперь подобно летчику Гастелло. Правда, в бардачке у него лежит фланелевая тряпица протирать стекло. Что есть, то есть! О тряпке Рафа подумал с некоторой гордостью. Все же хозяйственный он парень! Дура была его третья жена, да и вторая и первая тоже. Хорошо еще, что ни на одной из них он не был женат, так сказать, формально. И квартира осталась при нем. Хотя вторая его гражданская подруга Светка Лопухова вывезла из нее все, что можно. Плюс искусственный цветок из туалетной комнаты. Зато третья, Лариска, точнее, Лариса Валерьевна, много чего в квартиру привнесла. И новенький телевизор «Голдстар», и печку-гриль, и даже надувной матрац для нежданных гостей. Жаль, сбежала быстро. В спешке забыла чудный корейский фен с насадками, да так за ним и не вернулась. А ведь Лариска-то служила парикмахершей в гостинице «Космос». Ну, да фен Рафе ни к чему, вот Лариску жалко. И ничего же не сделал. Подумаешь, стукнул утюгом! Не по голове, заметьте, по плечу. Но, во-первых, был выпимши, а во-вторых, не надо лезть под руку со слезами и воплями типа «ты же обещал, сволочь этакая». Кстати, как Лариска ушла, так он пить и бросил, уже окончательно. Но не оттого, что ушла. А оттого, что нынешняя работа не дозволяет. Рафа год как крутит баранку, развозит «ленты» по кинотеатрам. Бывший дружок с «Мосфильма» устроил, он крутой – состоит ныне киномехаником в «Кодаке». Конечно, платят Рафе совсем не ахти, но зато, если ты с умом дружишь, можно хорошо подхалтурить на казенный счет.
В кухне Рафа поставил на плиту ковшик с водой, а сам, в ожидании, пока древняя электрическая конфорка раскочегарится и сварит воду до кипения, прошел в другое и единственное, жилое помещение своей однокомнатной квартирки. Зала, она же спальня, она же столовая, представляла собой контраст между относительно чистыми островками обитания ее хозяина и кошмарно захламленными углами, заваленными старыми газетами и журналами, разбитыми видеокассетами, древней одеждой, вышедшей из употребления и оттого изгнанной из шкафа. Балкон, точнее не застекленная лоджия, тоже имелся. Но наглухо стоял забитый пустыми бутылками в три ряда вверх, которые Рафа жалел выкинуть, а сдавать стеснялся, отчего-то полагая пункты приема стеклотары местом последнего человеческого падения. Но главное были не бутылки, главное, что у него вообще осталась эта квартира. Единственная благодарность, которой заслуживал его бывший, давнишний администратор Туча, настоящее болотное чмо, как раз и заключалась в том, что он заставил Рафу много лет назад приобрести этот однокомнатный кооператив. А не просадить все деньги до конца на пьянки и на баб. Квартира, само собой, была так себе. В двенадцатиэтажке по улице Никулина у юго-западного метро. Хотя райончик неплохой. Все-таки, не Кузьминки.
Рафа в ожидании выглянул в окно, узрел унылый раскопанный пустырь, на котором предполагалось какое-то элитное строительство, вернулся к дивану и включил телевизор. Если отвлечься на посторонние вещи, то, может, вода закипит скорее. По ящику шла обычная утренняя муть, и Рафа принялся жать одну за другой кнопки пульта в надежде выкрутить спортивную передачу. За этим занятием его и застал неожиданный звонок в дверь.
На пороге Рафу ожидало чудо чудное и дивное диво. Посетитель. Но столь необычный, что Рафа первым делом предположил – незнакомец ошибся дверью, домом или этажом или всем этим вместе. Незачем было к Рафе являться таким незнакомцам. Выглядел утренний заблудший гость просто-таки шикарно. Один лиловый, кожаный плащ чего стоил. А ботинки-то крокодиловой кожи! Уж в чем, в чем, в предметах мужского гардероба Рафа разбирался. Хотя сам, конечно, не имел давно возможности украшать собственную персону по первому разряду. К тому же у незнакомца был даже не первый, а какой-то заоблачный разряд. Джинсы, наверняка, от «Армани», не иначе. А пояс! Это, да. Баксов триста, не меньше того. А на поясе мобильный телефон, «Моторола», последняя модель. Рафа уже собирался вежливо задать традиционный вопрос случайного гостеприимства «вам кого?» и разъяснить чудесному посетителю ошибку, как вдруг незнакомец его опередил:
– Вы Рафаэль Совушкин? Солист группы «Пирамидальная пирамида»?
Рафу будто кто звезданул промеж глаз. Выходит, незнакомец к нему? А к кому же? Ведь ясно спросил, не он ли будет Рафаэль Совушкин. Солист «Пирамидальной пирамиды». Рафа не сразу сообразил, что солист – это тоже он. Когда это было, и кто это помнит? Однако, надо же ответить, раз человек спрашивает.
– Ну, да. Я. Солист. То есть, был солистом. А теперь я шофер, – на всякий случай предупредил незнакомца все еще ошарашенный неожиданностью Совушкин.
– Я знаю. Но это неважно, – коротко ответил незнакомый посетитель. После улыбнулся и спросил:
– Можно пройти?
– А? Ну, да. Само собой. Проходите, куда хочете. То есть хотите. В смысле, на кухню или в комнату. Только там не убрано, – честно предупредил гостя Рафа, и покосился на его нарядный костюм. – Лучше все-таки в кухню. Не то изгваздаете одежу. А я пельмени варю.
– Если угостите, буду премного благодарен. С утра еще, понимаете, не завтракал. Времени не было, – незнакомец дружелюбно и весело посмотрел на Рафу.
Совушкин поспешно закивал в ответ. Знамо дело, откуда же время-то взять. На такой прикид с утра до вечера пахать надо. Вот разве пельмени. Нет, не надо думать, что Рафе было жаль пельменей для гостя. Да пусть хоть все слопает вместе с коробкой. Беда в том, что пельмени у него самые простые, магазинные, из серии «хана желудку от дохлой собаки». Куда их такому господину! Однако, если хочет, то пусть, конечно, попробует. Рафа щедрой рукой сыпанул в ковш всю пачку. Пельмени, естественно и мгновенно слиплись, пришлось их срочно разлучать друг с другом при помощи алюминиевой вилки. Управившись с этим нелегким делом, Рафа обернулся, наконец, к незнакомцу.
– А вы, ээ-э… – тут до Рафы только дошло, что гость никак не назвался ему, а сам Рафа даже не потрудился поинтересоваться.
– Извините, забыл представиться, – вывел его из неловкого положения шикарный посетитель, – меня зовут Вилим Александрович Мошкин. А если мы с вами подружимся, в чем я мало сомневаюсь, то вы сможете звать меня просто Вилли. Впрочем, без фамильярности. Нам она будет не к лицу.
– Ага. Ладно. Меня вы и сами знаете, – ответил Рафа, но про себя подумал: «Хорошие дела! Просто Вилли. Уж не «голубой» ли он часом? Вроде не похож. А спросить, может обидеться». И Рафа решил не спрашивать. Зачем гость к нему пожаловал, он и сам вскоре разъяснит. Даже если и «голубой» и пришел его соблазнять, то он, Рафа, мужик крепкий и шутки над собой шутить не позволит.
– Вы, очевидно, желали бы узнать, для чего я к вам пожаловал? – будто читая мысли, спросил незнакомец, все тем же картинно-литературным языком. – Так вот, если вы не против, объяснения я бы, с вашего позволения, отложил на время после еды. Очень кушать хочется, видите ли.
– Да ешьте на здоровье, – охотно согласился Рафа. И далее стал уплетать пельмени в молчании. Незнакомец от него не отставал. Видать, желудок тоже имел луженый.
Когда откушали пельмени, Рафа предложил гостю на выбор чаю или пива, и тут же похвалил себя за давешнюю расточительность. «Будвайзер» выставить на стол было не стыдно. Однако, гость отказался:
– Лучше чаю. Алкоголь я не употребляю. Никогда и ни в каком виде. Ни под каким предлогом. И бесполезны любые провокации в духе «ты меня не уважаешь». Но вы пейте, если хотите. Только не много. Разговор у нас с вами грядет серьезный и очень необычный.
Рафа лишь развел руками. Мол, как же не понять. Не будь разговор серьезным, стал бы такой заоблачный гость наносить визиты по однокомнатным хибарам. А гость тем временем вновь задал вопрос, и вновь ему удалось ошарашить им Рафу:
– Скажите, Рафаэль, вы меня случайным образом не узнаете? Однако не торопитесь с ответом. Посмотрите внимательно. Даже долго.
Рафа старательно посмотрел. Но не долго. Смотри, не смотри, нет у него таких знакомых. Если и были когда, так им всем сейчас под сорок, не меньше. А этому молодому щеголю нет еще, поди, и тридцати.
– Не знаю я вас. Точно говорю. Знал бы, сказал. Чего мне врать.
– Я не спрашивал, знаете ли вы меня. Я спросил, узнаете ли вы. Но, не страшно. Я вам подскажу. В восемьдесят шестом, под Новый Год, вы подвозили в своей машине паренька. На Комсомольский проспект. И нарисовали ему на лбу фломастером автограф. С вами ехал ваш администратор Тучкин, и две девицы. Вы еще поссорились.
– Морду бить пришли. Ну, что ж, бейте. За хамство, – угрюмо ответствовал незнакомцу Рафа. Вон, оно, в чем дело-то оказалось. Смутно он помнил и тот вечер, и долговязого паренька, и собственную, стыдную выходку. А теперь паренек вырос, забурел, и явился к Рафе за ответом. – Чего ж вы сидите? Бейте. Заслужил. Вы ж за этим явились?
– Никоим образом. Неужто вы полагаете, что мне заняться более нечем? А вот что понимаете и помните свое давнишнее хамство, это очень хорошо. Я же говорил, что мы с вами подружимся. Но я спрошу далее? Помните ли вы, что с вами стало происходить в последующее за этим время? Что случилось с вашей жизнью?
– Еще бы не помнить. Жопа случилась. Как мы тогда с Тучей разлаялись, так все и пошло наперекосяк, – лицо Рафы передернулось от нахлынувших воспоминаний. – как сговорились все кругом. Совушкин, дескать, алкаш и дебошир, будто я один такой, а они ангелы, только что не летают. Писаки эти газетные тоже. Со своими статейками. Псы продажные. Им сверху велели, вот они и кинулись. Я так думаю, это Туча, гной перестоявшийся, мне нарочно устроил. Сначала поимел, потом кинул.
Рафа распалился в позабытом, праведном гневе, и явно имел намерение ругаться далее, тем более, что видел перед собой заинтересованного слушателя. Но загадочный визитер прервал его площадную тираду весьма странным комментарием:
– Не берусь судить о том, что именно представляет собой ваш бывший администратор, господина Тучкина я не знаю близко, может он и в самом деле предатель и блюдолиз. Но в ваших неприятностях, уверяю вас, он не виноват.
– А кто ж тогда? – спросил Рафа, недоверчиво и с простодушным интересом.
– Вам никогда не приходило в голову, что отчасти, я подчеркиваю, лишь отчасти, в обрушившихся на вас бедах вы некоторым образом виноваты сами? – незнакомец задал свой провокационный вопрос с обезоруживающей веселостью, без намека на нравоучения.
Оттого Рафа ответил ему так, как думал об этом сам:
– Ну, может, и виноват. Только я не напрашивался. Пел себе и пел, с ребятами группу собрал, в Москву поехал. С ментами кучу неприятностей имел. То разрешали нас, то наоборот, давали пинка под зад. Пока этот Туча не объявился. С корешами меня развел. Набрал других музыкантов, группу мою переименовал. И понеслось, – тут Рафа, до этого более обращавший свои слова к кухонному окошку, искоса посмотрел на нового своего знакомого. – Ну, знаю, знаю. По-свински я тогда поступил. Надо было послать этого Тучу куда подальше. И за друзей старых держаться. Глядишь, вместе пробились бы. Да черт меня попутал. Сразу тебе деньги, и слава, и жизнь красивая. А я каким был, таким и остался. Всем поначалу был хорош, потом вдруг разонравился. Из-за чего, спрашивается?
– Из-за меня, – коротко ответил загадочный гость.
И Рафа, в немом изумлении уставившись в лицо гостю, поежился. Нет, похоже, этот полоумный Вилли, или как там его, не шутил с ним. Но, как же это так, и кто он вообще такой?
– Да-да, вы не ослышались. Все, что с вами происходило с того момента, как вы встретили Тучкина и, если говорить упрощенно, по сегодняшний день случилось из-за меня. Вернее, потому что я так хотел. Каюсь, я был молод и глуп, а когда поумнел немного, то о вас позабыл. Так что, приношу свои извинения. Но и вы тоже хороши. Могли как-нибудь и сами. Ведь зачем-то же Господь Бог наградил вас головой на плечах?
– Ничего не понимаю, – ответил Рафа и не покривил душой. Он уже и в самом деле ничегошеньки не понимал. А незваного своего посетителя внезапно и забоялся.
– Я вам сейчас объясню. Только вы сперва успокойтесь, и, пожалуйста, не пугайтесь меня. Даю слово, никакого зла вам не причиню. Разве что, вы сами захотите, – Рафин гость двусмысленно и непонятно усмехнулся. – Так вот. С вами произошло следующее…
Все то время, что странный его гость занял своим повествованием, Рафа не проронил ни единого слова. Слушать ему было и ужасно, и любопытно. История действительно получалась из ряда вон. Однако правда ли все это? Рафу все круче одолевали сомнения. Как человек, не получивший никакого мало-мальски добросовестного образования, а просвещавшийся более в среде бабских сплетен, обывательских суеверий и городских страшилок, Рафа был склонен предполагать всамделишнее существование инопланетных тарелок, дипломированных колдунов и могущественных гипнотизеров-экстрасенсов. Но с другой стороны, одно дело слушать чужие пересуды, и совсем иное, столкнуться с потусторонним чудом на собственной кухне. К тому же, как утверждали многочисленные слухи и бульварные газеты, в мире черной и белой магии полным-полно обретается всяческих шарлатанов. Может, и его новый знакомец из их числа? Может, он на Рафину квартиру позарился? Сейчас охмурит и заставит написать завещание, а потом бац! нету Рафы Совушкина! А этот Вилли купит себе очередной костюмчик.
– Звоните вы красиво, придраться вроде бы не к чему. Только как докажете, что все это не полная брехня? – вызывающе, но и с замиранием сердца спросил Рафа гостя.
– А с вами оказалось, легче, чем я думал, – и странный Вилли по-настоящему, непритворно рассмеялся. – Вы, стало быть, не намерены объявлять меня сумасшедшим, звонить в городскую «скорую помощь» и окроплять помещение святой водой. Вам нужны лишь доказательства. Это здорово! Но ответьте мне сначала на один вопрос. Что вы станете делать после того, как доказательства будут вам предъявлены?
– Что стану делать, блин! Ну, тогда поверю, – ответил гостю Рафа и тоже непонятно почему, вдруг развеселился.
– Замечательно! Просто поверите. И даже не поинтересуетесь, зачем я вам все это рассказываю и доказываю? С какой целью? Ну, ладно. Попрошу вас минуту помолчать, – оставив веселье, строго сказал гость и стал в упор смотреть на Рафу.
Совушкину сначала сделалось не по себе, вспомнился гипноз и прочие рекламные экстрасенсорные штучки, но Рафа быстро успокоился. Никаких дурманящих флюидов он не ощущал, а взгляд гостя, чем далее, тем более делался мягким и ласковым и даже каким-то отцовски заботливым. Рафе тот взгляд был приятен. Правда, гость ни разу не посмотрел Рафе прямо в глаза, и вообще, взором своим избегал его лица. «Что ж, как хочет, так пусть глядит. Мне от того убытку никакого», – решил про себя Совушкин и нарочно выгнул грудь колесом, чтоб улучшить для гостя картину созерцания.
– Ну, вот и все. Теперь будем ждать, – неожиданно сказал его визави, и, оторвавшись от разглядывания Совушкина, поспешно смежил веки, будто боялся пропустить некий важный момент. Затем принялся как ни в чем ни бывало прихлебывать остывший чай из кружки.
– Чего ждать-то? – не понял Рафа.
– А вот скоро узнаем, – только и ответил ему гость.
Через четверть часа в полной тишине зазвенел телефон. Загадочный Вилли нервно мотнул головой, мол, снимай скорее трубку, не пожалеешь. Рафа так и сделал. Незнакомый голос на проводе сначала поинтересовался, тот ли он самый певец Совушкин, а после предложил нынче к пяти вечера подъехать в Останкино и обсудить участие в программе большого шоу, посвященной музыкальным течениям 80-х годов. Пропуск будет заказан. И голос подробно объяснил, в какую именно студию надлежит явиться. Вот тут у Рафы словно нечто перемкнуло в запутавшихся мозгах, хотя ему как раз показалось, что наоборот нечто прояснилось.
– Понял! Я все понял! Вы какой-нибудь хитрожопый продюсер! Прознали, что меня позовут обратно, и теперь спешите пенки снять! Голову мне баснями морочите! А вот хрен вам! И всем хрен! Я вам еще покажу! – и Рафа многое продолжал кричать в том же духе.
Однако, гость его совсем не испугался разоблачений, напротив, лицо его сделалось гневным и суровым, и отчасти бешеным. Роняя слова сквозь побелевшие губы, роковой посетитель произнес:
– Вы идиот. Всегда им были, им остались. Но я вынужден иметь с вами дело, и потому придется вас проучить, – и внезапно закрыл глаза, замер, словно его более не было в этой кухне.
Рафа сразу остановил свой словесный понос, неожиданно ощутив нехороший холодок муторного страха. И все то время, пока гость его сидел, закрыв глаза, Совушкин простоял перед ним навытяжку. Когда гость, наконец, очнулся, снова зазвонил телефон. Рафа, как дрессированная обезьяна, снял трубку. Незнакомый женский голос оповестил его, что произошла ошибка, и в Рафином приезде на телецентр нет нужды.
– Как же это так? – чуть не плача только и смог пожалобиться Рафа.
– А так. Я предупреждал, – тут его страшный гость достал листок бумаги и что-то записал на нем. Затем холодно произнес:
– Вот мой адрес. Когда все обдумаете и одумаетесь, сами меня найдете. Я за вами более бегать не стану. Мне, простите, недосуг.
Уровень 42. Дети подземелья
Жестокая штука эта жизнь. Жестокая и равнодушно глумливая. Как гигантская мясорубка, перемалывающая мускулы, хрящи и кости, и не вовремя зазевавшуюся крысу. Ему еще повезло, он выжил, выкарабкался, нашел свое новое имя, стал Вилли Мошкиным, генералом без войска, арбитром судьбы и летящей стрелой Зенона. Но этот человек! Бедный, бедный, убитый заживо, тихий, несчастный писатель. Он и сейчас что-то пишет, так, для себя, как понял его Вилли. Потому что привык каждый день садиться за стол. И как безропотно он согласился! Так безропотно, что принимать его согласие казалось неправильно и подло. Но не было выхода.
Вилли ехал на заднем сидении своей машины, никуда не смотрел, вспоминал только что случившуюся встречу. С писателем оказалось просто. Он давно уже почти не выходил из дому, и незваному пришельцу, наверное, даже обрадовался, если бы за последние годы не разучился этого делать. На что он жил? Грачевский без околичностей и смущения разъяснил и этот вопрос. Одно польское издательство купило права на его книги для перевода, исправно платит небольшие деньги, а когда их не хватает, то Эрнест Юрьевич приглашает барышника. То есть скупщика редких и ценных изданий. Библиотека, слава богу, великая, и до конца дней хватит. Наследников у него все равно никаких нет. Государство же обойдется и без его книжного собрания. Хватит с него и того, что оно отобрало у него смысл жизни и доброе имя. Ведь Эрнесту Юрьевичу чуть больше пятидесяти лет, в таком возрасте обычно еще не говорят о конце жизненного пути. А он вот говорит. Худой, остроносый, седой, но далеко не старик. И как он поверил! Сразу и без малейшего изумления. Может, потому что и сам творил на бумаге несуществующие, фантастические миры. И, главное, его, Вилли, он ни в чем не винил. Напротив, сказал спасибо, правда вяло и без души, за то, что его труды произвели когда-то на маленького мальчика столь потрясающее впечатление.
Он не старался оправдаться, и нисколько не отрицал того, что состоял сексотом при КГБ. Видимо, оправдываться ему надоело. Но Вилли-то знал, как на самом деле было. Лена Матвеева разведала ему и эту информацию. Хотя секретной она уже не являлась. Детская, студенческая выходка, но заплатить за нее пришлось дорогой ценой.
Еще в бытность свою слушателем пятого филологического курса института имени Мориса Тореза, юный Эрнест Грачевский сделал глупость и ввязался в историю. С иностранцами и спекулянтами. И без какого-либо собственного интереса. Просто девушка попросила. Девушка ему нравилась, и Грачевский не отказал. Он взял конверт и поехал по адресу в гостиницу «Украина». Там он должен был обменять конверт, предположительно с деньгами, сколько их и какие они, он не допытывался, на модный дубленый полушубок. Грачевский, как было велено, дал швейцару три рубля, чтобы пропустили, а на вполне дружелюбный вопрос «куда он, собственно, идет?», юный Эрнест честно ответил. Но до номера он не дошел. Взяли его еще у лифта. В конверте при досмотре оказались немецкие марки, а в указанном номере проживал некий господин Тенсфельд, гражданин Западного Берлина. И карусель закрутилась. Студент Грачевский ничего и не думал скрывать от сочувствующих ему молодцов в штатском, да и сами молодцы уже поняли, что зацепили случайную и мало интересную рыбешку. Но отпускать его все же никак не имели в виду. Разъяснили, что дело пахнет восемьдесят восьмой статьей, без смягчающих обстоятельств, потому что, девушка, конечно, от валюты откажется, и трясти ее не имеет смысла. Уж очень высокопоставленный папа. Но у Эрнеста Грачевского выход все же есть. Надо только написать заявление о добровольном сотрудничестве и по мере сил помогать органам в будущем. Тогда и статьи не будет, и в институте никто ни о чем не узнает. Даже валюту оформят как случайно найденную в лифте и честно переданную в милицию. Студент Грачевский выразил сомнение. Но молодцы в штатском сомневаться не велели, а велели вспомнить непременно о почетном гражданском долге советского человека. К тому же, успокоили они Эрнеста Юрьевича, никто не призывает его шпионить за своими товарищами. Органы интересуют лица исключительно иностранные и из загнивающих государств, а они, как известно, априори все враги и моральные дегенераты. И после недолгих, но энергичных уговоров будущий писатель Грачевский согласился. Впрочем, сведения он давал всего один раз, и действительно добровольно. На хитроумного студиозуса с далекого острова Маврикий, подпольно и нагло спекулировавшего в институте подержанными магнитофонами. К тому же, спекулянт органы мало заинтересовал, и заявление Эрнеста Юрьевича оставили без внимания. А вскоре позабыли о самом Грачевском, по крайней мере, никто и никогда из охранного заведения ни с какими претензиями и призывами к нему не обращался. Когда однажды после перестройки, неизвестный и ушлый малый, ища нездоровой популярности в сумбурных политических кругах тех времен, не вытащил на свет божий то роковое заявление. Эрнеста Юрьевича принялись мазать грязью. И коллеги по писательскому цеху, и прежние друзья, и даже соседи по дому. Вообще, все кому не лень. Эрнест Юрьевич был человек одинокий и беззащитный. С тех пор он стал изгоем. Но самое любопытное, что в последние годы книги его вновь начали повсеместно издаваться. Однако, после робких и единичных просьб, в печатных редакциях ему разъяснили, что ни о каких гонорарах не может идти и речи. А если его, народного ущемителя и грязного сексота в этом что-либо не устраивает, то он, конечно, может судиться. Вот только что скажет на это суд в свете его темного прошлого? Эрнест Юрьевич, конечно, ни с кем судиться не стал, просто смирился. Спасибо полякам, те для видимости хоть составили договор и платят какие-никакие, но деньги. Правда, и здесь не обошлось без скандала. От отечественных же издателей. Мол, зачем продал права, и так далее. Видимо, поляки выходили им конкурентами. Но сейчас отстали, и последнее время Эрнест Юрьевич живет в относительном покое.
Вот такого человека он, Вилли, каких-нибудь полчаса назад подбивал на борьбу за правое дело в общественных интересах. И в первый раз поведал постороннему ему лицу всю истину о Дружникове, представшую в видениях Павла Мироновича. Кажется, его повесть Грачевского встревожила и расстроила. Во всяком случае, Эрнест Юрьевич выразил готовность помочь генералу Вилли во всех его начинаниях, и послушно согласился записаться в рядовые. Грачевский мягко и немного робко намекнул своему будущему командиру, что совсем не представляет себе, какой от него, старого и слабого отщепенца, может выйти толк в столь грозном и опасном предприятии. Вилли тотчас успокоил его сомнения, заверив Эрнеста Юрьевича, что ничего особенного тому делать не придется. Речь не идет, конечно, ни о каких погонях по крышам с пистолетами и гранатометами, засадах и ловушках на тропе войны. От Эрнеста Юрьевича потребуется только вернуться в большой мир.
– Станете, как и раньше, известным человеком, и даже более того. Лицом, так сказать, публичным. Вхожим в высшие богемные круги, а впоследствии, и к имущим власть персонам. На правах придворного окружения, – пересказал Грачевскому в кратком изложении свой план Вилли. – Само собой, я устрою так, что к вам вернутся все авторские права на ваши произведения, и со временем создам для вас собственный издательский дом. Так что вам уж не придется распродавать вашу драгоценную библиотеку.
– Да-да, я понимаю, – согласился с ним опять испугавшийся неведомо чего Эрнест Юрьевич, – я должен буду отдавать вам все доходы и выполнять все ваши приказания. Я готов. Только, молодой человек, вам же самому сделается потом скверно, если вы окончательно угробите старика. Это я не в упрек, собственную жизнь я не так, чтобы очень уж ценю. А говорю эти слова для вашей же пользы.
– И я вам благодарен. Но вы, Эрнест Юрьевич, все неверно поняли, – Вилли старался быть предельно бережным с Грачевским, почувствовав в нем уже человека необыкновенного и по-своему выдающегося. – Вашими грядущими доходами вы сможете распоряжаться как угодно. Кроме тех сумм, которые мы с вами коллегиально решим выделить на нужды нашего предприятия. Лично для себя мне, поверьте, ничего не надобно. Я не голодаю. Что же касается так называемых приказаний, то с вами, наверное, у нас будет иная форма общения. На амбразуры я вас не пошлю. И если, не дай бог, случится нечто ужасное, то вполне вероятно, я сгину вперед вас.
Хотя Вилли и зарекался до этой встречи давать своим новобранцам хоть малую толику личной свободы, и ни о какой коллегиальности решений не помышлял, все же со стариком Грачевским он отступил от своих принципов. И теперь не жалел о данных ему обещаниях. Не тот это случай. А принципы, что ж. Это худшая клетка, в которую человека может запереть его собственное упрямство. Грачевский, судя по всему, не Совушкин. Много, если осторожно возразит или даст совет. А советы Эрнеста Юрьевича могут выйти и не лишними.
Нынче вечером Вилли предстояла еще одна встреча. На этот раз с женщиной. Второе уравнение с неизвестным за сегодняшний день. Но дело не стоило откладывать в долгий ящик. И Вилли поехал непрошеным гостем с визитом к Илоне Таримовой, очередному кандидату в новобранцы. Пока же счет был равным: одно очко в пользу Эрнеста Юрьевича, одно против «пирамидального» Рафаэля. Хотя Вилли и чувствовал определенную уверенность в том, что еще увидит Совушкина на своем пороге. Так что окончательный баланс его усилиям в этом случае подводить еще рано. Но, как бы то ни было, а Рафу впредь держать придется в ежовых рукавицах и строгом ошейнике. Однако, последнему наверняка это пойдет во благо.
Дом, к которому на лихой и быстрой «Вольво-850» подкатил Вилли, на поверку оказался ветхим, коммунальным клоповником, затерянным в переулках близ Лефортовского вала. Вот-те, нате! Слов нет, многим бывшим, успешным деятелям культуры и кинематографа сейчас живется не слишком сладко, но все же, не до такой степени. Однако, делать нечего, Вилли еще раз сверился с адресом на бумажке. Второй этаж, квартира двадцать семь.
Вилли быстро преодолел два лестничных пролета вверх, впрочем, донельзя загаженный и замусоренный подъезд рабочего гетто изрядно добавил ему скорости. Конечно, и сам Вилли вырос далеко не в барских хоромах, но однако же! Такой подъездной разрухи ему никогда прежде видеть не доводилось. У двери с намалеванным синими чернилами номером двадцать семь он остановился и перевел дух. И зря. В нос тотчас ударило едкое зловоние. Эксклюзивная смесь экскрементов, пищевых отходов, не донесенных до мусорных баков, и застарелого угара дешевых папирос. Квартира оказалась и в действительности коммунальной, на три семьи. По крайней мере, на дверном косяке имелись три кнопки электрических звонков, одна с надписью «Маня», коряво выведенной на деревянной дощечке химическим карандашом, и две совершенно без объяснительных указаний. Вилли, недолго думая, надавил на красную нижнюю, поприличней. За дерматиновой, потрепанной дверью тут же оглашено взвыла резкая трель. Но никто и не думал выходить на зов. Тогда Вилли, здраво рассудив, нажал следующую плоскую и грязную, прямоугольную пластину безымянного звонка. С тем же успехом. Ничего другого не оставалось, как прибегнуть к последнему средству, и призвать на помощь загадочную Маню. Кто-то же должен, в конце концов, обитать в этой квартире! Да и время уже вечернее, семь часов. Рабочий люд как раз возвращается к ужину. Правда, род нынешних занятий госпожи Таримовой выяснить не удалось. Лена сообщила, что постоянной работы закатившаяся звезда экрана не имеет, а ранее служила продавщицей палатки с курами-гриль на Лефортовском рынке. Но уже с полгода, как оттуда уволилась. Нынешнее место ее трудоустройства совершенно неизвестно. По документам гражданка Таримова значится в разводе, но живет одна или с кем-то совместно, установить толком не получилось. Да это было не так уж и важно.
На третий электрический призыв дверь резко отворилась, и явила в проеме здоровую бабищу, лет может быть сорока, с испитым, серым, отнюдь не дружелюбным лицом.
– Тебе чего? – испросила бабища у Вилли неожиданно высоким и довольно противным голосом.
– Вы Маня? – только и смог сказать ей несколько растерявшийся генералиссимус.
– Ну, я Маня! Е…а баня! – взвизгнула бабища и непонятно почему громко заржала. – Выпить принес?
– Честно говоря, нет, – проинформировал ее Вилли, но, увидев, как грозно двинулась на него пресловутая Маня и осознав возможные трудности в ведении такого рода переговоров, генерал решил сменить тактику. – Я могу дать, так сказать, материально. Сухими, – вспомнил он по счастью подходящее случаю выражение.
– Так давай, чего стоишь, – потребовала бабища и снова двинулась вперед.
– Вот, пожалуйста. Пятьсот рублей, – Вилли протянул ей впопыхах вынутую наугад бумажку. – Но я, собственно, не к вам. Мне нужна госпожа Таримова.
– Илонка, что ли? Так она не пьет, – сообщила ему ужасная Маня, для надежности спрятав руку с деньгами за спину. – Тоже мне, госпожа! Илонка – сукина иконка она, а не госпожа.
– Вы сами выпейте. А мне ответьте – Таримова Илона здесь проживает?
– Здеся, – уже более миролюбиво ответствовала ему Маня и оповестила:
– Дома она, дома. Только не открывает. Я уж звала с утра. Хочешь, сам попробуй. Может, тебя пустит. А я мухой до магазина слетаю. Раз такое дело.
И Маня пропала. Оставив Вилли совершенно одного в узком коридорчике, освещенном единственной сороковаттной лампочкой, без всякого плафона болтавшейся на скрученном проводе под облупившимся потолком. Из коридорчика вели три двери в жилые комнаты коммуналки, и Вилли предстояло самому определить, за какой из них скрывается необщительная Илона. Применив дедуктивный метод, Вилли вычислил, что, несомненно, за крайней правой. По той простой причине, что сама Маня скрылась в дальней комнате, а на противоположной левой двери висел во всей наглядности глухой, похожий на амбарный, замок.
Вилли постучал, и, как он предполагал, не получил ответа. Немного подумав, он решил не колотиться и не кричать объяснения в закрытую дверь, а поступил проще и разумнее. Вилли вырвал из записной книжки листок и скорописью, но разборчиво вывел послание. «Госпожа Таримова, премного извиняюсь за беспокойство, срочно должен с вами переговорить по делу, возможно, представляющему для вас интерес. Я не из милиции и не из домоуправления, а частное лицо». И просунул получившийся документ под дверь. Потом вновь постучал, негромко и тактично, словно желая привлечь внимание к своим действиям. Меньше, чем через минуту невидимая рука втянула записку внутрь комнаты. Но и только. Вилли постоял еще немного, к этому времени из соседней комнаты вышла глыбообразная Маня, одетая уже в грязно-синюю полотняную куртку, с рябым, расшитым петухами платком на голове, видимо, для похода в магазин. Она и пришла Вилли на помощь.
– Илонка, курва ты распоследняя! Человек тут мается, а ей плюнуть и утереться! Может, он от бывшего твово пришел? Илонка, стерва, открой, кому говорю! – Маня что есть силы забарабанила огромным, отекшим кулачищем в хлипкую, фанерную дверь. – Открой, говорю, не то выломаю, ты меня знаешь! – и Маня шарахнула по двери с такой силой, что сомневаться не приходилось: захочет и впрямь выломает. После сказала уже спокойно несколько оробевшему генералу:
– Выйдет, не боись. А я пойду. Некогда мне тут с вами женихаться.
Спустя несколько секунд, после того, как за Маней с шумом захлопнулась входная дверь, Вилли и впрямь впустили внутрь. Не то, чтобы это сделали невежливо, но в совершенном, театральном безмолвии. С той стороны глухо щелкнул замок, и перед ним распахнулся настежь сумеречно темный провал, без человеческого силуэта и даже будто бы без чьего бы то ни было участия и присутствия. Вилли не стал искушать судьбу и вошел в комнату, освещенную только случайным фонарем, заглядывающим с улицы в узкое окно. Осмотревшись вокруг, насколько позволяла обстановка, генерал не смог толком разобрать ничего, кроме каких-то неясных теней предметов, впрочем, не слишком обильно населявших эту мрачную пещеру Али-бабы.
– Простите, вас не затруднит включить какой-нибудь свет? – обращаясь в пустоту, спросил Вилли.
Ответа он не получил, по крайней мере, словесного, но в углу справа вспыхнул спасительным огоньком старенький, с коричневым абажуром торшер. И вполне ясно обозначил световым пятном тахту и разобранную постель на ней. На постели, лицом к Вилли лежала полуодетая женщина, рука ее свесилась вниз к торшерному выключателю. Наверное, потянувшись к нему по просьбе Вилли, женщина так и осталась лежать, покойная и безучастная ко всему на свете. На Вилли она не смотрела, и никуда не смотрела, хотя глаза ее были открыты. Генералу ничего не оставалось, как присесть перед ней на корточки.
– Простите, вы Илона Таримова? – как можно участливее спросил ее Вилли и легонько тронул женщину за плечо.
Она слабо кивнула в ответ, соглашаясь с его предположением. Что спрашивать далее и как вообще себя вести в столь непредвиденной ситуации Вилли не имел понятия. Худющая, как узник концлагеря, женщина, казалось, совсем не была похожа на ту роковую, экранную красавицу, некогда покорившую своими черными, искрометными очами его подростковое воображение. И все же это была та самая Илона Таримова. Только облезлая, как дикая привокзальная кошка, постаревшая на тысячелетие, полуседая, с выступающим, хищным и непропорционально изогнутым носом, будто одна из колдуний в «Макбете». Лишь глаза ее, теперь мечущие мрачный, холодный пламень, остались прежние. О чем и как с ней говорить, Вилли не знал. Одно было ему очевидно. Пускаться в свои разоблачительные повести и демонстрации, призывать к чему-либо эту полумертвую от неизвестного горя ведьму смешно и бессмысленно. Все равно, что обращаться с речами к поломанным часам с кукушкой.
Вилли поднялся с колен, прошелся по плохо освещенной комнате. Илону его манипуляции и движения нимало не заинтересовали, она все так же глядела в одну и ту же пустоту. Тогда Вилли, уже не стесняясь, стал осматриваться вокруг, для создания более полной картины нынешнего существования госпожи Таримовой, и для попытки определить хотя бы малейшие причины ее жуткого состояния. Комната была настолько же бедной и убогой, насколько чистой почти по больничным стандартам. Этажерка с книгами, в основном томики стихов, старый, маломерный холодильник «Иней» у противоположной стены, зеркало с прибитой под ним деревянной, резной полочкой, на полочке полдюжины банок с кремом и два тюбика помады. Еще несколько любительских акварелей в рамках, встроенный платяной шкаф, вместо двери отделенный саржевой занавеской. Вот, собственно, и все. Ни телевизора, ни магнитофона, ни примитивного радиоприемника. Да, однако, две гантели на полу, под батареей, возле окна. Вилли посмотрел на пребывающую в прострации Илону, потом снова на гантели, и пришел к выводу, что именно на них устремлен ее, леденящий в своей безнадежности, взгляд. Генерал тихо выскользнул из комнаты вон. Но не ушел далеко. А бесповоротно решил дождаться где-нибудь, пусть бы на кухне, возвращения ужасной Мани. Неважно, что любое общение с ней представлялось ему каторжным по усилиям и тошнотворным процессом. Но, возможно, именно Маня была тем единственным человеком, который мог прояснить ту огромную беду, которая довела Илону Таримову до клинически невменяемого состояния.
Ждать Маню пришлось недолго. Однако, присутствие незваного, давешнего гостя на коммунальной кухне ей, только что вернувшейся с полной сумкой и двумя подружками, такими же пропитыми толстухами, совсем не доставило удовольствия. Но Вилли сообразительно выставил мощнейшую плотину на пути потока ее виртуозной брани, пообещав и даже показав издалека еще две бумажки достоинством в пятьсот рублей, если Маня уделит ему для разговора всего-навсего пять жалких минут. Маня, недолго думая, заткнула свой фонтан, уже начавший извергать семиэтажный мат, и выставила подружек с кухни. Пусть дуют в ее комнату и накрывают на стол, пока она перекинется парой слов с «инеженером». Почему с инженером, Маня не объяснила, а Вилли не стал допытываться. У него были к Илониной соседке совсем другие вопросы. На которые Маня, жадно глотая слюну и не сводя воркующего взора с пятисотрублевых купюр, дала полные и исчерпывающие ответы.
– Илонка, она с нами, считай уже лет пять, как живет. Тоже ей тогда с мужиком не повезло. Квартиру разменяла. Ему отдельную, а ей эту комнату. Не знаю, чего там было, а только с ихнего кино, ее, видать, поперли. Ни работы тебе, ни деньжулечек-бабулечек. Я ее к нам на рынок устроила. Курой торговать. А че! Место хлебное, – тут Маня задумалась, посмотрела в окно. Потом, словно спохватившись, сказала:
– Ты не подумай чего плохого. Я Илонку никады не забижала. Так, покричу маленько, чтоб у ей голова на место встала.
– Да я вам, Маня, верю, – на всякий случай успокоил ее Вилли. – Вы рассказывайте, что дальше-то было.
– Да что было? Сосед наш, чья дверь другая. Вишь ты, замок, как на лабазе, навесил. Будто у нас воруют. Год назад въехал. Тоже чего-то в театре представлял. В дурацком, со зверями.
– В театре Дурова, наверное, – предположил Вилли.
– Вот-вот. Только его оттудова вышибли. За пьянку. Вот он и стал, Кирюха этот, Кириллом его звали, нашей Илонке лапшу вешать. Наобещал с три короба. Все таскал ей бумажки какие-то переписывать, али переделывать, ценарии что ли? Илонка, не чета нам, образованная. С такой работы бабу сдернул! Где куры, а где его бумажки. Телевизор ее пропил, еще кольцо и браслет с камушками. Скупщикам снес. А неделю назад сгинул. Теперь вот замок висит. В домоуправлении сказали: выписался он, и комната евойная, стало быть, продается. Ищи– свищи ветра в поле.
Дальше выспрашивать не было нужды. Вилли отдал, как и обещал, толстухе Мане тысячу рублей, а напоследок попросил, уже почти по-свойски.
– Тетя Маня, не в обиду, как ваша соседка в себя придет, дайте знать. Я отблагодарю, и очень хорошо. Вот моя карточка, смотрите, не потеряйте. Держите еще деньги, – Вилли выложил на стол стодолларовую купюру. – Только и вы уж присмотрите за ней. Мало ли чего. Мне она нужна живая, и по возможности здоровая.
– Уж не сомневайся, милок. Присмотрю и сообщу. Тетя Маня зря трепаться не будет, – пообещала ему Маня, и сгребла зеленую деньгу со стола, воровато сунула ее за огромных размеров лифчик. Обращение «тетя Маня» ей пришлось по душе.
Уровень 43. Иванов день
Сбор был назначен на семь часов. Вечера, естественно. Пока же Вилли занимался тем, что пытался придать нужный тон своей единственной комнате, дабы подходящая атмосфера положительно повлияла на ход собрания.
Перетащив из кухни тяжелый дубовый стол, неразборной и, наверное, дореволюционных времен, Вилли взялся за сервировку. Морока одна с этими фужерами и тарелками, и осторожность требуется. Посуда старинная, бабушке Аглае досталась еще от ее собственной бабушки. Сам Вилли никогда ею не пользовался, держал закрытой в буфете, даже протирать не рисковал, а теперь пришлось семейные реликвии отмывать от толстого слоя пыли. Но для Вилли очень важно было создать в этот вечер необходимое ему настроение и произвести впечатление, на каждого гостя различное. Для Грачевского он приготовил роль московского интеллигента из старой, добропорядочной семьи, который, во всех культурных отношениях ровня Эрнесту Юрьевичу, потомку недобитого, западнорусского, дворянского рода. Рафе Совушкину, напротив, он ожидал явиться персоной, положением и значением далеко превосходящей малограмотного шофера грузовой пролетки, хоть и бывшего эстрадного певца.
В отношении Совушкина он оказался прав, и строптивый, недалекого ума Рафаэль действительно возник однажды у подъезда Вилли Мошкина. И даже имел нахальство пожаловаться, что, вот, дескать, ему приходится уже третий день караулить у дверей, потому, как кроме адреса Вилим Александрович не соизволил оставить Рафе телефона. Правда, на пути к лифту, поймав на себе взгляд будущего своего генерала, Рафа мгновенно осекся на полуслове и сетования свои оборвал. В квартиру Вилли его тогда не позвал, а назначил прийти в субботу, на следующей неделе, ровно в семь часов. Рафа наспех поблагодарил, комичным образом стащив с головы кепку, и заверил, что явится непременно.
Некая возвышенность и скромная солидность в застолье требовалась еще и в отношении господина Скачко. Которого Вилли тоже твердо ожидал к сегодняшнему ужину и тоже в семь часов. Вспоминая свою встречу с Василием и его историю, Вилли не мог не улыбнуться. Это же захочешь, а нарочно не придумаешь.
Василий Терентьевич Скачко имел совершенно оригинальное и забавное прошлое. И то, в которое вторгся в свое время с халявной удачей мальчик Вилка Мошкин, и более позднее, когда молодой человек Валька его с этой удачей покинул. Сам же Вилли по сей день поражался, как это Васе Скачко в том далеком восьмидесятом году самостоятельно хоть в чем-то повезло. Это был, наверное, единственный, первый и последний раз в его жизни. Когда миловидного восьмиклассника пригласили, случайно выбрав из множества детей, (он пел тогда в известном самодеятельном хоре), на роль, далеко не самую главную, в несколько серийном фильме о гражданской войне. Сюжет не совсем подходящий для детского кино, но, по правде, от самой войны в картине было очень мало. В основном снимались захватывающие эпизоды с ловлей белогвардейских агентов, укрыванием раненых комиссаров, бешенной скачкой на лошадях с дублерами, секретными донесениями и прочей, псевдогероической лабудой. А в первый же съемочный день центровой персонаж Мишка Вирский из пятьдесят восьмой школы грохнулся и сломал ногу. Упал с декорации, долженствовавшей изображать деревянную колокольню, но вовсе не по сюжету, а от баловства, и растерянному режиссеру ничего не оставалось, как заменить его похожим, попавшим под руку типажом. То есть, Васей Скачко. Тем более, что Вася никуда не лазал, ничего не ломал, и вообще, к съемкам относился добросовестно. Скорее, как к всамделишней, взрослой работе, чем как к забавной игре.
Дальше все вышло предсказуемо. В кинотеатре его увидел мальчик Вилка, юный герой экрана ему приглянулся, и для Васи понеслись успешные дни и годы. Но Вася Скачко выгодно отличался от другого любимца удачи, своего коллеги по альбому, певца Рафаэля. Крепкий кулачок и мещанин, он отнюдь не намеревался бездумно транжирить свои успехи. Вася стал сколачивать из них небольшой общественный и денежный капиталец, который осмотрительно и осторожно желал вырастить в солидное и богатое достояние. Но на беду к девяносто первому году о Васе Скачко уже позабыли. Паутина его истощилась, и тут обнаружился прелюбопытный факт. Без помощи Вилима Александровича Мошкина звездный комсомолец и преуспевающий гражданин оказался просто-таки невообразимым неудачником. Вилли, прослушав до конца его историю, еще от Лены, едва удержался от смеха. Это было невероятно. Василий Терентьевич, от природы разумный, расчетливый и осторожный, на поверку вышел донельзя невезучим. За что бы он ни брался самостоятельно, ни в чем ему не хватало удачи. На момент ГКЧП, будучи уже членом партии, Вася Скачко не угадал, и отправил торжественное поздравление от себя, любимого актера кино, лично товарищу Янаеву. И надо ли говорить, что Вася страшно просчитался. Угодил в черный список и в безработные. Но, как истинный потомок зажиточных украинских крестьян, духом не пал. Принялся упорно выбираться из свалившейся на него кучи дерьма. Принародно каялся в Доме Кино, писал письма в различные партийные блоки, и, однажды, умудрился обратить на себя внимание одного из помощников генерала Руцкого. Положение его, материальное и гражданское, от этого знакомства постепенно стало выправляться, и скоро Василий Терентьевич обрел прежнее благополучие. Надо ли объяснять, что ненадолго. Он опять выбрал не ту сторону, и опять узнал об этом слишком поздно. Репутация его на сей раз оказалась скомпрометированной окончательно, и в люди путь для Скачко был закрыт.
Но Василий Терентьевич снова отказался считать себя побежденным. И решил заняться коммерцией. Осмотрительный и бережливый, он за версту обходил финансовые пирамиды и прочие сомнительные начинания. Подняв кое-какие старые связи, продав дачу и одолжив денег у жениной родни, открыл небольшое дело. Агентство, лицензированное и законное, оказывающее помощь частным лицам и организациям в проведении вечеринок, дней рождения и любых, других увеселительных и торжественных мероприятий. Нет, конечно, со звездами первой, и даже второй величины Скачко не имел дела, да и зачем звездам Василий Терентьевич! Однако, предприятие его вскоре стало процветать и приносить неплохой, достаточный для малого бизнеса доход. Фирма «Мирное веселье» постепенно обросла постоянными заказчиками из числа предпринимателей средней руки и имела устойчивую репутацию заведения, на которое можно положиться и ни о чем не думать. Праздник будет мирным и веселым. Согласно вывеске и прейскуранту. Сбережения и счета Василий Терентьевич доверил одному прогрессивному банку, платившему хороший процент. Надо ли говорить, что во время недавнего дефолта именно этот банк лопнул первым и ни шиша не вернул своим вкладчикам! А Василий Терентьевич остался без денег и без дачи. Но снова постановил себе не унывать, втравился в еще одно начинание. И заложил в банке квартиру. Трехкомнатную, улучшенной планировки, в районе Серебряный Бор. Василий Терентьевич захотел сделаться театральным продюсером. Затеял антрепризу, то есть, вольную постановку, не связанную четким контрактом ни с одним учреждением, а кочующую по залам на свой страх и риск. Антреприза была ныне в моде, и Василий Терентьевич надеялся на успех. Пьесу он выбрал с толком, современную, с откровенными текстами и сценами. Одно название чего стоило – «Извращения на лужайке». Он даже уговорил более-менее известных в театральном мире мастеров принять в ней участие, обещая немалые гонорары.
Первое представление прошло удачно. «Извращения» дали приличный сбор, отзывы в прессе были нужного ругательного тона. Следующее поднятие занавеса ожидалось через три дня. А через два музыкальный театр, в котором Скачко арендовал зал сроком на год, и все деньги и взятки уже внес вперед, с ослепительным фейерверком сгорел дотла в буквальном смысле слова. Как некогда злополучный парижский «Одеон». Так Василий Терентьевич оказался без помещения, без денег, и в обозримом будущем, без квартиры. Новый театр снимать ему было не на что. На руках у него по-прежнему оставались двое детей и жена-домохозяйка, которых все же требовалось содержать. Положение на деловом и семейном фронте сложилось критическое.
Но тут «семь лет невезения», еще мягко сказано, для Василия Терентьевича внезапно закончились, когда неделю назад его навестил престранный господин. Подъехал на дорогой иномарке с личным водителем к дому на 2-й Тверской-Ямской, где в полуподвале Вася Скачко снимал комнатку под офис. Скачко не поленился проследить за машиной через окно. Господин, хоть одет был и богато, но не солидно, а как-то по-скоморошески. Историю же Василию Терентьевичу он поведал и вовсе невероятную. Первым делом Вася, конечно же, подумал, что богемный господин обкурился марихуаны или, в лучшем случае, просто-напросто случайно спятил поблизости от его офиса. Однако, этот забавный, крикливо разубранный тип сообщил Васе такие подробности из его биографии, чуть ли не по часам, что ни о какой случайности не могло быть и речи. Да и не походил этот чудик ни на сумасшедшего, ни на, тем более, наркомана. У Васи Скачко, бедного артиста погорелого театра, выбор, прямо скажем, был невелик. Господин же произнес в своем повествовании одно очень важное слово – помощь. Из чего Василий Терентьевич сделал разумный вывод, что невероятный посетитель желает и может чем-то посодействовать несчастному, неудачливому импресарио, и не допустить его и семью до обитания на холодной улице. Чем черт не шутит, Вася Скачко был готов довериться и черту. Потому, сделав вид, что полностью поверил своему незваному собеседнику, (а в глубине души и поверил!), Вася дал согласие явиться для близкого знакомства к нему на квартиру, в субботу, в семь часов. Звали же странного господина Вилли Мошкиным. Имя, согласитесь, несколько балаганное.
Итак, до семи оставалось менее четверти часа, и Вилли придирчивым взором обозрел результаты своих усилий. Стол, накрытый пожелтевшей, в кружевах, скатертью из бабушкиных тайников, (пришлось сложить вдвое – бельгийское, старинное полотно было много больше столешницы), четыре серебряных, неудобно громоздких прибора у золоченных тарелок, побольше и поменьше, по ресторанному поставленных одна на другую. На буфетной полочке – две бутылки вина и одна с хорошим, крымским портвейном. Пока хватит, не пить же сюда придут. А у самого Вилли «сухой закон». Салаты же и прочие кулинарные изыски Вилли готовить никогда не умел и не видел нужды учиться. Оттого просто разложил по фарфоровым селедочницам накромсанные половинками огурцы и помидоры-королек. Водитель Костя, благодарение богу, мастер на все руки, запек по его просьбе в духовом шкафу упитанную, с рынка, курочку. Ее Вилли намеревался достать в последнюю очередь, чтобы птица без толку не стыла на столе. Хлеб он нарезал сам, насколько позволяла ловкость, тонкими ломтями, клюквенный морс из пакетов перелил в графин и поставил в центр. В холодильнике томился еще покупной, яблочный, немецкий пирог, но дойдет ли до него дело в процессе застолья, никак нельзя было наперед угадать. Вилли, само собой, мог приобрести и гастрономические деликатесы в соседнем, шикарном супермаркете «Атлантида», но, на первый раз, благоразумно решил не спешить, и не баловать излишне будущих своих оловянных солдатиков.
Они пришли вовремя. Все, как один. С разницей в минуты. Эрнест Юрьевич так даже выходил из лифта в тот момент, когда Рафа Совушкин бочком втискивался внутрь квартиры. Вилли представил присутствующих друг другу. Совушкин, с порога немного оробевший, уважительно и на удивление скромно пожал протянутые ему руки. Место свое на этот раз он, к счастью, понял и нашел сразу. А может, за прошедшую неделю, все же сумел хоть малость поднабраться, если не ума, то житейской осмотрительности. Василий Терентьевич и Эрнест Юрьевич сошлись на равных. За одним стояло солидное, могучее знание того, где у бутерброда масло, за другим – неуловимое и всеохватное дуновение возвышенного, аристократического духа. Так что, в итоге, складывалась гармоничная компенсация. Общий баланс был прост. Дворянин, купец и пролетарий. Сам Вилли намеревался представлять военное сословие. Безусловно руководящее.
Когда все расселись и успели несколько удовлетворить первичный голод, Вилли знаком попросил тишины. Рафа тотчас с готовностью настроился слушать и весьма неуклюже уронил на пол ножик. Впрочем, за столом он единственный чувствовал себя не в своей тарелке, и видно было, что Рафа до дрожи боится показаться смешным, но, к несчастью, благообразно вести себя не умеет. Оттого и сидит тише воды.
– Что же, господа, ни для кого из вас не секрет истинная причина ваших удач и невезений. Как вы уже поняли, каждый, кто сидит за этим столом, связан со мной одним и тем же образом… Я имею в виду, Рафаэль, что у Эрнеста Юрьевича и Василия Терентьевича есть своя, схожая с вашей, история. И такая же паутина удачи… Понятно? Ну и хорошо, – удовлетворенно закончил вступительную часть монолога Вилли. – Но из вас троих только один Эрнест Юрьевич знает всю фабулу до конца. Вам же, Василий Терентьевич и вам Рафаэль неизвестно главное. Зачем все это надо мне.
– Простите, что перебиваю, – наскоро встрял в возникшую паузу Скачко, – я так понимаю, вы вызвали нас сюда не ради одной благотворительности. У вас есть свой интерес.
– Правильно понимаете. Рад. Благотворительность осталась в прошлом. Но прошу вас запомнить, что она все же была.
– Я не спорю, – согласился Скачко, – но лучше уж без нее. О благотворительности ведь можно и позабыть. А взаимные интересы они и есть взаимные интересы.
– Я уже принес вам извинения, за то, что одарил вас и бросил, – ответил ему Вилли, впрочем, не гневно, и не виновато, а так, будто говорил о чем-то несущественном ныне. – Сейчас вопрос не в этом.
– Вопрос в цене, – опять выступил первым сообразительный Василий Терентьевич. – Как я понимаю деловые отношения, ваши услуги могут весьма дорого стоить нам всем.
– Это весьма относительно. Смотря по тому, кому что надо, – ласково возразил ему Грачевский. – Я, видите ли, немного в курсе, и оттого могу позволить себе некоторую оценку. Поверьте мне, назначение той дани, которую с нас будет взимать наш гостеприимный хозяин, весьма и весьма благородно. Хотя, несомненно, опасность велика.
– Не так уж и велика, дорогой Эрнест Юрьевич. Вы пока не знаете деталей. Но в остальном все верно, – успокоил Грачевского и двух других встревоженных гостей Вилли. – Однако, начнем. Наверняка, вы, Рафаэль и вы, Василий Терентьевич слышали, а в последнее время и часто, одно имя. Дружников Олег Дмитриевич.
– Слышали, конечно, – немедленно заверил присутствующих неугомонный Вася Скачко. Вдруг, будто сообразив нечто, он хлопнул себя по карману пиджака и сказал несколько громче, чем требовало расстояние до собеседника. – Постойте, постойте! Да я же о вас читал. Я всегда читаю «Новый негоциант», от корки до корки. А про успешных и знаменитых мне особенно интересно. В позапрошлом номере. Интервью с этим вашим Дружниковым. На целую колонку только и речи было, что он, дескать, ничем не обязан некоему Мошкину, все это гнусная провокация. Но там говорилось, что вы, вроде бы близкие друзья и прочее. Конечно, статья та была заказная, а журналисты соврут, безусловно, если дорого возьмут. Так этот Дружников, он, что? Тоже?
– Тоже, – коротко ответил ему Вилли, в этот раз достаточно жестко и неприязненно. – Вот об этом у нас и пойдет речь.
И Вилли изложил своим слушателям краткую антологию событий, на сей раз с учетом мировоззрения Рафы Совушкина, в облегченной и более доступной форме.
– Ну, круто! То есть, я хотел, сказать, ну, падла! – на миг забылся в обществе Рафа, однако, его восклицание пришлось генералиссимусу по сердцу. – Во дает, весь белый свет ему надо натянуть на… Ох, извиняюсь! Только, я, может, не хочу! Может, я, Рафа Совушкин, по-своему жить желаю! Командир, я с вами! Мне один хрен, терять нечего.
– Погодите, Рафаэль! – перебил, не вполне вежливо, Василий Терентьевич. – Вам, может, терять нечего. А мне очень даже есть чего. Кто Дружников, и кто мы. Как вы, Вилим Александрович, себе это все представляете? Да если мы только рыпнемся на этого вашего держиморду с замашками Муссолини, то и дня не продержимся. А у меня дети. Вы их, может, и не покинете, но мне, отцу, тоже пожить охота.
– На этот случай, у вас, уважаемый Василий Терентьевич, есть весьма надежная защита, – и Вилли подробно поведал присутствующим о свойствах и преимуществах паутины. Рассказал правду и о вечном двигателе, и о том, как именно он собирается уничтожить Дружникова. – Так что, вам он ничего сделать не сможет. Даже если отчаянно пожелает. Ваши вихри удачи и есть самые верные стражи. Тем более, как я недавно вам объяснил, ничего особенного делать не придется. Убить Дружникова не в ваших силах. От вас мне нужно лишь определенного рода содействие. И это содействие имеет для каждого огромную выгоду.
– А вы не боитесь, что кто-нибудь из присутствующих здесь завладеет со временем таким же вечным двигателем, и, извиняюсь, за выражение, попросту кинет вас? – спросил практичный Скачко.
– Не боюсь. Поскольку никакого вечного двигателя я вам не дам. Но в случае чего обдеру вашу паутину как липку, – Вилли многозначительно посмотрел на Совушкина.
– Он может. Е-мое! – подтвердил его слова Рафа.
– То есть, мы с вами, как бы меняемся. Ваша удача на нашу помощь? Так? И нам ничего особенно страшного не грозит? В худшем случае вернемся каждый к своему разбитому корыту, – подвел резюме Скачко.
– Абсолютно и совершенно верно, – согласился с ним генералиссимус.
– Это как же получается? Нам по ананасу, а вы в случае чего без башки останетесь? Нечестно это, – постановил великодушный Рафа.
– Не волнуйтесь за меня, Рафаэль. Мне ни в каком случае ничего не будет от Дружникова. Более того, я даже намереваюсь потребовать, чтобы он увеличил мне денежную компенсацию. Средства нам пригодятся, – самоуверенно усмехнулся Вилли. – Видите ли, Дружников ни за что не станет меня убивать. Даже если у него окажется весь мир в кармане. Потому что с моей смертью исчезнут и паутина, и удача, и двигатель. Присутствующих это тоже касается.
Вилли понимал, что покривил сейчас душой. Но в этом легком вранье он не видел вреда. Кто знает? И так надежней. Вдруг покойный Матвеев не ошибся. Только проверить сие невозможно. Потому что он, Вилли, в любом случае, не узнает результата такой опрометчивой проверки. Однако, на слушателей его заявление впечатление произвело.
– Вы как себя чувствуете? – внезапно ни к селу, ни к городу заботливо осведомился у него Василий Терентьевич. – Знаете, если вас что-то беспокоит, то у меня есть чудесный, знакомый врач с улицы Грановского. Берет совсем недорого.
– Успокойтесь, любезный Василий Терентьевич. Я никогда и ничем не болел. Исключая некоторые профессиональные недомогания и сильную аллергию на мандарины, апельсины и клубнику, – заверил Вилли беспокойного Скачко. – Так что с этой стороны вашей паутине ничего не грозит. Но ваше беспокойство я должен понимать как принципиальное согласие?
– Да. Да, я согласен. И прошу вас, называйте меня впредь, если хотите, на «вы», но просто Василий. И еще. Срок процентов по моей закладной подходит, со дня на день ко мне придут описывать имущество. Хотелось бы, поэтому знать, когда мы начнем?
– С вами, Василий, прямо с понедельника. А с вами, Эрнест Юрьевич, и с вами, Рафа, немного позже. Мне еще надо подумать, как лучше устроить ваше будущее. Если вы, конечно, тоже согласны?
– Мое согласие вы получили в прошлый визит. Сегодняшняя встреча лишь укрепила решение, – первым отозвался Эрнест Юрьевич.
– А меня можете тоже называть просто Рафа. Я только одного не пойму. Вот этот Дружников, он же умный, вроде. Так зачем ему все это надо? Ну, в смысле всем гадить, или людей хороших друг на дружку натравливать, или убивать? У него же деньжищ до черта. Живи себе и радуйся. Хочешь, в Чикаго поезжай или в Хиросиму к японцам. Или еще куда, где интересно. Можно марки собирать, например. Кино снимать. Да чего хочешь, то и можно! Какой же он антихрист, если он дурак?
– А молодой человек прав по-своему, вы согласны Вилим Александрович? – развеселился вдруг Грачевский. – Видите ли, Рафа. Вы сделали абсолютно правильное замечание. Во всем, кроме одного. Вы неверно предположили, что антихрист непременно должен обладать умом в человеческом смысле. То есть, он, несомненно, должен обладать недюжинным разумом, может быть даже гениальным в своем роде. А также огромной силой воли и, вероятно, большой физической мощью. Беда в том, что все эти качества прилагаются к мелкой и низкой душонке, вовсе неспособной добровольно нести столь тяжкий груз. Так и возникает антихрист. Настоящий, не библейский. Достойно принять свой дар он не может, совершенствоваться не хочет, а потому ему остается только одно. Подогнать весь окружающий мир под свою мерку. Хуже всего, что в данный момент это в его власти.
– Ага, понятно, – ответил Рафа, хотя слова Эрнеста Юрьевича осознал не до конца. Но запомнил из них главное. И не самый умный может быть хорошим, а тот, кто семи пядей во лбу бывает и негодяем. Выходит, к светлой голове, непременно нужно кое-что еще. Вслух же Рафа сказал:
– Ну, ничего, мы теперь ему покажем. Этому антихристу. Нас теперь четверо. Блин, прямо как четыре мушкетера!
При этих словах генералиссимуса явно и недвусмысленно передернуло. Видимо, Рафины призывы разбудили в нем некое, нехорошее воспоминание.
– Должен, вас разочаровать, Рафа, но вполне вероятно, что очень скоро нас станет пятеро. И этот пятый мушкетером никак быть не сможет. Потому что он – это она. Женщина.
– Ну, тогда у нас будет своя Констанция, – заключил Рафа. Но, вспомнив, что выбрал сравнение печальное и не самое удачное, поправился:
– Тогда миледи… Нет, это совсем фигня какая-то получается. Ладно, тогда пусть Наташа Ростова. Я все равно никого другого не знаю.
Уровень 44. Дочь фараона
В понедельник, как и обещал, Вилли занялся насущными делами Васи Скачко. И даже самолично, для пущего эффекта, явился к нему в полуподвал, чтобы наглядно продемонстрировать процедуру спасения от потенциального банкротства. Само собой, Вилли не составило бы никакого труда произвести необходимое пожелание и из собственной квартиры. Хоть из уборной! Но многочисленные шрамы, оставленные на его шкуре дубиной Дружникова, научили-таки генералиссимуса, в конце концов, продавать свои услуги за должную цену и с соответствующим антуражем.
Итак, ровно в десять утра, Костя затормозил хозяйское авто у серого, каменного здания на 2-й Тверской-Ямской. А в пять минут одиннадцатого генералиссимус уже пил чай в крошечном, темном кабинетике Василия Терентьевича. Благодушный и улыбающийся.
– Что же, вы так и будете сидеть? – осмелился после пятнадцатиминутного молчания задать вопрос Скачко. – Я думал, вы что-то сделаете, или предложите, или у вас есть план.
– А я и делаю. Точнее, уже сделал. Теперь вот жду результата, – успокоил Василия генералиссимус.
– Долго ждать-то? – недоверчиво спросил Василий Терентьевич. Не то что бы присутствие Вилли его напрягало, но было в этой ситуации что-то от недоброго розыгрыша.
– Вообще-то, нисколько не надо. Сам не пойму, в чем дело… – озадаченно сказал ему Вилли, пристально оглядел окрестности, прилегающие к рабочему месту Скачко. – Василий, вы хоть телефон в сеть включили бы? А? … Не бойтесь, не бойтесь, не ищут вас кредиторы. То-то я думаю, чего так долго? И мобильный тоже. Вот так.
Скачко, недоверчиво кося взглядом, подключил к сети аппарат на столе. А мобильный не успел. Потому что городской телефон, обретя спасительные токи, немедленно зазвонил. Василий Терентьевич вздрогнул и нерешительно потянулся к трубке. На лице его явственно проступили одновременно сомнение и некое ожидание чуда.
– Берите, берите. Не майтесь, – подбодрил его Вилли.
Василий Терентьевич крепко зажмурил оба глаза и взял трубку… спустя пару минут забыв о генералиссимусе и о сомнениях. Он вел деловые переговоры и был весь в них. Когда же телефонный разговор завершился, Скачко еще некоторое, небольшое время сидел молча и неподвижно, словно переваривал кус не по зубам, после опомнился и тут же, спешно стал отчитываться перед Вилли.
– Это из ДК железнодорожников. Предлагают помещение. Говорят, слышали про мои неприятности и про пьесу тоже. Хотят только долю от прибыли. У них там что-то сорвалось и зал пустует. А ДК хороший, богатый. Главное, вперед платить не надо. Если на следующей неделе дать два спектакля подряд, то проценты я покрою. Дальше уже буду работать «в плюс», – и тут Василий Терентьевич сделал неожиданную вещь. С рабским видом нищего на паперти заглянул робко генералиссимусу в лицо и тихим голосом спросил:
– Прикажете согласиться? Или..?
– Конечно, соглашайтесь. Иначе, зачем же я здесь сижу? Да вы и согласились уже. Неужто запамятовали?
– Ну, это я формально. Как же можно без вашего разрешения? – Скачко делал изрядные успехи в умении правильно ориентироваться в ситуации. И с надеждой спросил:
– Как вы думаете, Вилли, то есть, Вилим Александрович, долю они захотят большую?
– Нет, не большую, – ответил генералиссимус и улыбнулся.
– Вы так думаете? – на всякий случай спросил Скачко.
– Нет, я так хочу! – поставил Вилли все точки над «и». – И потом, ваш дебют у железнодорожников – всего-то начало. Для наших общих целей это смехотворно мало. Вам предстоит обдумать другой мой проект, и в скором времени заняться им параллельно.
– Все что угодно, Вилим Александрович. Все, что угодно, – запищал от восторга Скачко, продолжая доказывать на деле свою сообразительность.
– Я же просил вас. Называете меня просто Вилли. А если вам так дорога субординация, то хотя бы – генерал. Вроде, как прозвище. Это подчеркнет наше единство, – пояснил Вилли, а Скачко живо и охотно закивал в ответ головой. – Так вот, проект. Вам следует расширить вашу продюсерскую деятельность. Взять на себя директорство над эстрадной судьбой нашего Рафы Совушкина. Надеюсь, нет нужды объяснять, что очень скоро на этом поприще не будет более удачливого исполнителя, чем ваш недавний знакомый?
– Да, да. Это было бы складно, – согласился обрадованный Василий Терентьевич.
– Только предупреждаю, за Рафой вам придется присматривать в оба глаза. Он, хоть и выразил изрядный энтузиазм, но тот еще фрукт. Чтоб не запил и не набедокурил. Как-нибудь постарайтесь его по возможности обтесать. Конечно, я вам помогу, чем смогу.
– Само собой, само собой, – ответил Скачко. Роль будущего воспитателя его, видимо, не особенно обескуражила. – Обязательно за ним присмотрю.
«Ага, а Рафа за тобой, – подумал про себя генералиссимус, – чтоб ты тоже не наделал глупостей!»
Закончив с Василием Терентьевичем, Вилли покинул его и направил колеса своей «Вольво» в иное, несколько предосудительное на первый взгляд место. А именно, в клинику ЦКБ, в психо-невралгическое отделение. Впрочем, Вилли имел там насущную нужду.
Спустя пару дней после его безрадостного визита на квартиру к Илоне Таримовой, дикая Маня сдержала слово и сообщила, что ее соседке плохо. Настолько, что пришлось вызвать врача, а тот предложил единственный вариант, отдававший дешевой благотворительностью. Поместить Илону в психушку на общественных началах, в виду отсутствия у больной денег и родственников, иначе за ее жизнь он ответственности не несет. Маня слова «психушка» до смерти испугалась и тотчас вспомнила про оставленный ей «инеженером» телефон. И позвонила. И ей ответили. Никуда и ни в коем случае госпожу Таримову не отдавать, участкового доктора послать подальше вместе с его общественными началами. Последнее Маня исполнила с особенным удовольствием.
Уже через несколько часов на квартиру прибыл и «инеженер» собственной персоной. Дал Мане денег и сказал спасибо. После умчал Илонку на машине в неизвестном направлении. Маню же попросил приглядеть за комнатой. Маня, само собой, согласилась, да и было бы за чем присматривать!
Вилли тем временем повез несчастную Илону прямиком в клинику. Предварительно позвонив Каркуше и потребовав от него категорическим тоном оформить персональную страховку на имя Таримовой Илоны Рустамовны. И дал сроку два часа. Каркуша ничего переспрашивать не стал, сказал, что сделает. Вилли в этом и не сомневался. Чем больше он потребует от Иванушки пустяковых услуг, особенно в части женского пола, тем спокойней будет чувствовать себя Дружников. Да Каркуша, видимо, имел на этот счет и прямые указания, потому что даже в разрешении сверху не нуждался. Коротко ответил, что да, мол, хорошо. Собственно, речь-то шла о нескольких тысячах долларов, Дружникову плюнуть и растереть. Конечно, потом Каркуша непременно начнет выяснять, кто, да что, да откуда, но Вилли это было «до позавчера». Может, он решил заняться благотворительной деятельностью, и кто ему запретит? В том, что Дружников помнит наизусть имена из Альбома Удачи, Вилли сильно сомневался. Тем более, покойный Матвеев утверждал, что Олег видел Альбом каких-то пару раз, и то его интересовало лишь его собственное будущее. Вилли же никогда Дружникову секретную тетрадь не предъявлял, только рассказывал. Конечно, со временем, Дружников может и догадаться, но придет ли это время, и когда оно придет, было на воде вилами писано.
Илона действительно оказалась в ужасном состоянии. То ли и впрямь сошла с ума, то ли нарочно захотела уморить себя голодом. Но больше трех суток она ничего не ела, а главное, отказывалась от воды. Вид ее был кошмарен. Однако, врачи в ЦКБ, привычные никому и никогда не выдавать своих мыслей и чувств, Илону приняли спокойно. Историю ее выслушали внимательно, но без изумления и скептического недоверия. Будто бы каждый день к ним привозили с «рублевских» дач умирающих от истощения и горя полоумных женщин. Илону быстро оформили, Каркуша сработал оперативно. Состояние ее определили, как тяжелое, а Вилли сказали, что прежде чем выявлять и лечить психическое расстройство, пациентку надо спасать от обезвоживания и общей, катастрофической, ослабленности организма. А там, вполне возможно, никакой психиатр и не понадобится. Так бывает в подобных случаях. Если хорошо кормить, обеспечить нужный покой и атмосферу, дать почувствовать заботу о себе.
С тем генералиссимус Илону и оставил на попечение врачей. Но не удержался. Очень уж жалко было. Пожелал ей скорейшего выздоровления. Хотя и зарекался раздавать авансы вперед. Но опять вовремя вспомнил про клетку с принципами. Хватит уже, насиделся. И чего только люди сами себе не напридумывают! Не давай денег в долг, ни в коем случае не проси прощения первым! Не верь теще! Не пей утром кофе! Никогда, никогда не подавай нищим, они все бездельники! Не пропускай на дороге вперед чужой автомобиль! Ни за что не имей дела с кавказцами, они все воры и негодяи! Не уступай жене! Никому не позволяй звонить с твоего мобильного! Не дружи с соседями! Да мало ли что еще. И это лишь безобидные принципы. Бывает и хуже. Да что говорить, самые насущные из десяти заповедей соблюдать трудновато, у Вилли пока не слишком получилось, как он ни старался. Так зачем усложнять себе жизнь. Ставить на одну доску Илону и Василия Терентьевича, Рафу и Грачевского он не собирался.
О том, что подарил Илоне одно счастливое стечение обстоятельств, Вилли не жалел. Отчего-то померещилось ему – госпожа Таримова человек хороший, и данное ей даром не пропадет. К тому же вознаграждение за его жалостливое участие последовало довольно скоро. Не далее, как сегодня утром, лечащий врач сообщил генералиссимусу, что его подопечная почти совсем пришла в себя и достаточно окрепла, чтобы принять посетителя. К тому же сама Илона захотела, наконец, познакомится с лицом, проявившем о ней такую необычную и дорогостоящую заботу.
В клинике Вилли указали нужную палату, лечащий врач вызвался его проводить. По дороге пытался дать несколько советов, как лучше держать себя с пациенткой, предложил и собственные услуги в качестве вестового, чтобы госпожа Таримова не растерялась и не испугалась мало знакомого ей человека. Услуги расторопного и хорошо вымуштрованного лекаря Вилли отверг в решительной, но очень вежливой форме, заверив, что женщины его не боятся ни в каком виде, и он вполне справится сам. Первое осмысленное свидание с Илоной было для него важным и определяющим, лишние посредники не могли принести здесь пользу.
Илона сидела в низеньком креслице перед малоформатным телевизором, тихая и умиротворенная, смотрела какой-то дневной, повторный сериал. Выглядела она по-прежнему, далеко не красавицей, но в целом довольно сносно. Лицо ее округлилось, глаза не казались глубоко запавшими. Нос, несколько потерявшийся в пополневших щеках, уже не наводил на ассоциации с бабой Ягой. Если бы не седые пряди в волосах, Илона могла бы показаться непосвященному человеку достаточно молодой женщиной. На ней были вполне приличные халатик и пижамка, руки она держала по-ученически сложенными на коленях. На звук открываемой двери Илона повернулась не сразу, но, когда оглянулась, то посмотрела заинтересованно. Впрочем, замедленность в ее действиях Вилли никак не приписывал влиянию психотропных или снотворных препаратов. Врач заверил его, что Илоне их не давали совсем, не вышло нужды. Сейчас и вовсе лечат исключительно ваннами, витаминами и собеседованиями у психолога. Заторможенность же наблюдается от расслабленности. Так случается довольно часто после критических стрессов и острых, длительных переживаний.
Вилли поздоровался, как и положено воспитанному гостю, поставил у тумбочки пакет с фруктами и журналами, и вдруг, вместо слов, попросту улыбнулся Илоне. Та, будто бы здороваясь в ответ, улыбнулась тоже. Вилли представился полным именем, спросил немного о здоровье, чтобы с чего-то начать разговор. Илона отвечала охотно, но иногда, нет-нет, бросала на него тревожный взгляд.
– Если вы беспокоитесь, о том, зачем я вам помогаю, и когда моя помощь закончится, то позвольте сразу разъяснить неопределенность, – поспешил погасить ее беспокойство Вилли в самом начале грядущих отношений. – Сперва отвечу на второй невысказанный вопрос. Моя помощь будет продолжаться до тех пор, пока вы согласны на нее, без временных ограничений. А что касается вопроса «почему?», то тут все намного сложнее. Дело в том, что вы мне нужны.
– Я? Зачем? – изумленно, но без боязни спросила Илона.
– Чтобы вернуть вам прежнюю жизнь в кино, – без обиняков ответил ей Вилли.
– Но почему мне? Кругом полным-полно молодых, здоровых и красивых, только помани. И усилий не надо никаких, – не поверила ему Илона, но и интерес проскользнул в ее словах.
– Мне нужны именно вы. И никто другой. Я не тайный поклонник и не извращенец с «эдиповым» комплексом, который ищет мамочку в любовнице. Мама моя, слава богу, жива – здорова, и мне ее одной вполне хватает. Иногда даже чересчур, – тут Вилли позволил себе легкую шутливость, чтобы немного разрядить обстановку. – Но мне необходима ваша помощь. А чтобы ее получить, мне надо вернуть вас назад во времени.
– Моя помощь? Да чем же Я могу помочь такому, как ВЫ? – спросила Илона со смехом, впрочем, не обидным, а только недоуменным.
– Очень, знаете ли, многим. Впрочем, этого вы как раз и не знаете. Рассказывать подробно здесь не место, не то я вполне могу довольно быстро оказаться вашим соседом по палате. Но если я дам вам слово, что не предложу вам никакого криминала, не втяну в недостойное предприятие, не предам и не обижу вас, согласитесь ли вы в будущем выслушать мое предложение?
– Я думаю, да. Я ведь вам должна. И у меня нет пока причин не верить вам на слово, – ответила Илона спокойно и вполне разумно. Что не могло не обрадовать генералиссимуса.
– Не беспокойтесь, у вас будет много возможностей вернуть мне долг сторицей. Так много, что вы еще станете моим ростовщиком. Пока же я хочу от вас устного позволения перевезти ваши вещи на новую квартиру, которую я для вас сниму. Незачем вам оставаться в этом гадюшнике с вашей Маней. Она, может и не самая плохая Маня на свете, но делать вам в ее компании более нечего. Так вы согласны?
– Согласна, конечно. Если вы не шутите, – немедленно и радостно согласилась Илона.
– Не шучу. Шутки я оставил на потом. А сейчас, если вы не против, мне бы хотелось немного больше узнать о вас самой. Поверьте, это важно. О чем очень не хотите, о том можете не рассказывать. Я имею в виду ваше настоящее прошлое, а не то, которое значится в анкетах, бухгалтерских ведомостях и донесениях участкового инспектора. Пожалуйста.
И она рассказала. Историю про подлинную Илону Таримову, которой никогда не было на экране, но которая всегда существовала в действительности.
Много лет назад в семье зажиточного директора Ташкентского ателье по ремонту теле и радио аппаратуры Рустама Сардоровича Таримова родилась дочь. Единственная и долгожданная. Первая девочка после четырех мальчишек, ее старших братьев. Большеглазая, смуглая, настоящая, восточная куколка. Мама Айша, когда в дом приходили гости или просто посторонние люди, то и дело протирала дочери личико подолом платья и шептала заклятия от сглаза. Еще бы, немало завистников найдется на такую красоту. Отец Рустам Сардорович дочерью был без меры горд. Да он и вообще человеком слыл гордым. Шеи не гнул даже перед вышестоящими. Впрочем, имел на то право. И сам с положением, (через его ателье шла вся подпольная торговля японской аппаратурой в Ташкенте), и родней не обижен. Тоже богатой и влиятельной. И не в одной только столице республики. А и в Самарканде двоюродный брат директорствует над большим гастрономом, и в Фергане родная сестра замужем за местным хлопковым королем. Род Таримовых считает свое происхождение чуть ли не от самого Тамерлана. Но Рустам Сардорович возвышался над остальными родственниками будто великая глыба утеса над озерной гладью. Властный и суровый хозяин в своем доме, он и в другие дома и кабинеты умел входить так, словно одним своим появлением осчастливливал хозяев. Голос он имел низкий и бархатный, внешность осанистую и массивную, ум светлый. Возражений не терпел ни от кого. Зато сыновья его вели себя чинно и послушно, в отличие от многих обалдуев из скоро разбогатевших на социалистических хлебах семей, со старшими были уважительны, отца же почитали не менее, чем пророка Магомета, а старший Элдар на момент рождения Илоны уже помогал в коммерческих делах по ателье.
Младшую и единственную дочь Рустам Сардорович боготворил. Даже позволил матери, в благодарность за труды, назвать ее не очень подходящим на его взгляд, но красивым именем. Илону отдали в школу с английским уклоном, водили на уроки хореографии, учили музыке. С музыки-то все и началось. У Илоны оказались способности, и отец милостиво разрешил ей после восьмилетки поступить в музыкальное училище по классу рояля. Рустам Сардорович не видел в том никакого вреда. Ну, чем плохо, что его красавица дочка, и без того завидная невеста, вдобавок будет бренчать на пианино и владеть всамделишным дипломом, который можно показать и при желании повесить в рамочке на стену. Да и потом, ведь не на авиаконструктора ее учить, в самом деле! Преподавательница ее, Надежда Арутюновна, наполовину армянка, наполовину еврейка, своей ученицей не могла нахвалиться. Ее собственная карьера не слишком задалась, оставив этой пожилой даме в виде последнего причала скромное место в Ташкентском музучилище, и Надежда Арутюновна всю душу вкладывала в новую свою протеже. Как считал Рустам Сардорович, именно восторженная преподавательница и сбила Илону с праведного пути. Внушив ей, наперекор родительской воле, поступать не в местную консерваторию, а замахнуться на институт имени Гнесиных в Москве. Когда Илона впервые изложила отцу свой план, Рустам Сардорович даже не стал ругаться. Намерение Илоны показалось ему таким же смешным и абсурдным, как ее желание в возрасте примерно пяти лет выучится на цирковую дрессировщицу. И Рустам Сардорович, отсмеявшись, коротко и просто сказал «нет». Затем предложил вместо пустых фантазий лучше подумать хорошенько о подарках, которые Илона хотела бы получить на свою свадьбу в будущем году. Поскольку его брат из Самарканда уже подыскал замечательного юношу из хорошей семьи, двоюродного племянника своей жены. Звали племянника Фархадом, отец его главенствовал над кооперативным рынком в старом городе. Учительнице же отец в душе посулил пренеприятный разговор. Но он ошибался, Надежда Арутюновна оказалась не так уж виновата. Дело было в самой Илоне. Будущее по шаблону своей матери ее совершенно не вдохновляло. Она довольно уже пожила под строгой и деспотичной пятой отца, и вовсе не хотела теперь подобной жизни под командой мужа, который, возможно, вовсе не будет любить ее столь же крепко. Илона желала самостоятельности и существования, далекого от кухни и кучи детей, зато полного творческих порывов и успехов. Она жаждала права на самоопределение и любой ценой. Оттого, совместно с Надеждой Арутюновной, она измыслила побег из вавилонского плена. Накопила карманных денег, собрала все свои золотые украшения, кстати сказать, немалой цены, затем в один прекрасный день, потихоньку стащив паспорт и вооружившись дипломом и характеристикой, дала деру. В Москву. Надежда Арутюновна, во всем ей сочувствовавшая и помогавшая, снабдила Илону адресом своих московских родственников и даже созвонилась с ними, прося об услуге. А сама осталась дожидаться страшной грозы от Таримова Рустама Сардоровича.
Но никакого грома и молний в ее сторону не последовало. Как только обесчещенный отец узнал о предательском бегстве своей дочери, то пришел в холодную, ничем неисцелимую ярость. И тут же публично отлучил неблагодарную, заявив перед родственниками и знакомыми, что у него отныне нет дочери, имени ее в своем доме он слышать не желает. Даже если умирающая Илона на коленях приползет к его двери, то никакие ее мольбы не заставят его эту дверь отпереть. Все, кто знал близко Рустама Сардоровича, поняли, что это не пустая угроза, а окончательное решение. Так Илона осталась на свете одна одинешенька. Путь домой был для нее отрезан навсегда. А в Москве ей поначалу не повезло. В «Гнесинку» она не поступила. Оставаться у чужих людей теперь было неудобно, деваться некуда. Она стояла возле стенда со списками и горько плакала. Так горько, что ее заметил проходивший мимо и очень спешивший гражданин. Не юный, но и не средних лет. Торопливо и на ходу он сунул Илоне в руку какую-то бумажку и крикнул, что если у него на пробах она будет плакать точно также, то роль ей обеспечена. Илона плакать перестала и посмотрела на оторванный впопыхах листок с каракулями. Там был номер телефона и адрес.
На пробах она от отчаяния и надежд плакала еще более горько, и торопливый гражданин ее взял. А после утвердил и худсовет. Так Илона попала в первую свою картину «Белое покрывало лжи» и познакомилась с ее режиссером Славой Папаниным, однофамильцем, не родственником. Актрисой она оказалась в нужную меру талантливой и сверх всякой меры трудолюбивой, зрителям нравилась, на экране смотрелась мечтательно-экзотично, особенно на крупных планах. И с той поры понеслось. Работа, потом актерский факультет ВГИКа, потом опять нескончаемая работа. Илона, правда, несмотря на свою потрясающую работоспособность, оказалась совсем не пробивной и даже застенчивой особой, временами не умеющей постоять за себя. Но эту функцию переложил на свои плечи Слава Папанин, за которого она к тому времени уже вышла замуж. И вот Илона пахала за двоих, а ее муж устраивал дела и напоказ молился на свою кормилицу жену. До такой степени, что не позволил ни одному из своих многочисленных романов на стороне коснуться ее «божественного» слуха. Все продолжалось в замкнутом круговороте до тех пор, пока не грянул девяносто первый год. Сначала в кино все полетело к черту, потом туда же отправилась и личная жизнь Илоны Таримовой. Через пару лет, убедившись, что просто так в кино теперь денег не заработать, а на Илону, постаревшую и вымотанную, спроса нет и не предвидится, Слава быстренько нашел себе подругу из числа новых русских дам, и затеял бракоразводный процесс с дележом имущества. Илона ничего в этом не понимала и понимать не хотела, она и без того была сражена наповал. Потому шикарная квартира улице маршала Жукова досталась бывшему мужу, а Илоне от щедрот Слава Папанин купил комнату в коммуналке. Так недавняя, а ныне закатившаяся и безработная звезда экрана попала к Мане на Лефортовский вал. Попрошайничать и раболепствовать в киношных коридорах ей не позволяла гордость, никакой другой профессии, кроме актерской, Илона не имела. А дальше…
– Спасибо, а дальше я знаю, – прервал ее рассказ Вилли. И немедленно взял взволнованную, готовую расплакаться женщину за руку. – Ну-ну, не надо. Все будет хорошо. Это-то я вам обещаю.
Уровень 45. Дешевая рыбка – поганая юшка
Вот уж славно. Одна муть и тоска. Кругом. А он, между прочим, женится первый раз в жизни. На той, не на той. Какая разница. Все равно, праздник. Жизнь и без дуры-жены – сплошной подвиг, ему бы сейчас напиться и плясать, хвастливо принимать поздравления, украдкой от невесты щипать окрестных дам покрасивше. И вообще. Расслабляться в меру способностей. Как же, шиш! Даже сейчас он вынужден работать. Чтобы эта дурацкая свадьба прошла, как полагается, чтобы все остались довольны, чтобы новоиспеченная его супруга не отмочила зловредную штуку. После пусть делает, что хочет, все одно поздно кулаками махать, когда лежишь в нокауте. По чести, Дружников не собирался вовсе позволять своей только что приобретенной половине никакой особой вольности, но и усилий двигателя на нее тратить не имел в виду, разве изредка. Хватит кулака и, временами, пряника.
Свадьба влетела ему в копеечку. Хотя для Дружникова эти деньги копейками и были. Но в чужую пользу он по-прежнему считать на тысячи не умел, в лучшем случае на рубли. И то становилось жалко. А тут целую толпу поить на халяву. Ничего не поделаешь. Положение обязывает. Женина родня, бычий цепень ей в печенку, медной полушки на торжества пожертвовать не удосужилась. Думают, раз они такие высокопоставленные и чуть ли не милость ему подают, то и денег платить не должны. Ничего, он, Дружников, с них свое получит. Со временем. А когда станут не нужны… Олег Дмитриевич задумался об этом сладком моменте и плотоядно зачмокал губами, будто недокормленный вампир.
Свадьба гуляла в настоящем дворце. Дружников, с позволения страшно сказать кого, снял весь Архангельский комплекс целиком. Плюс бригада поваров из «Националя», плюс табун эстрадный кумиров, плюс Чудское озеро шампанского, плюс кибитка черной икры. Ее Дружников и сам весьма жаловал. Когда никто не видел, даже ел ложкой, обычно из салатницы. С картошкой и капустой в сметане. Но сейчас ему было не до икры.
Сватовство его длилось долго. И сам Дружников отмерял семь раз, и его личность будущая родня взвешивала неоднократно. Все же люди известные, из самого-самого узкого круга нынешнего владыки Кремля. Тут на один двигатель полагаться – запаришься. Надо из себя представлять. Он и представлял. Вообще-то, если честно, с папашей и мамашей особенных проблем не возникло. Вчерашние парвеню, позавчерашних они сторонились, опасаясь колких насмешек за спиной, а Дружников им как раз был ровня. Его образ мыслей и цели существования напоминали их собственные, денег жениху не приходилось занимать, впрочем, он и сам не занимал никому. Вполне достойный в перспективе член семейства. Особенно, если учесть, что младшая их дочка, к которой намеревался пристроиться Дружников, умом и сообразительностью не блистала, хотя, в общем-то, девушкой была симпатичной и незлой. Одно только мешало Дружникову после принятия решения быстро достичь желанной цели. Высокопоставленная избалованная девица, по имени и отчеству Полина Станиславовна, как и многие девицы до нее, Дружникова на дух не переносила. Дружников пробовал уж так и эдак, и лестью, и мытьем, и катаньем, но титулованная дура никак не желал падать в его мужицкие объятия. За это он для себя переименовал будущую свою супругу из просто дуры в дурищу. Правда, упорное нежелание Полины Станиславовны выходить за Дружникова уже свидетельствовало о том, что может, юная Полина и не являлась ровней Софье Ковалевской, и не хватала с небес ни звезд, ни метеоров, но дурой не очень-то была.
Дружников в конце концов плюнул на свои бесплодные усилия, прибегнув к излюбленному и верному рецепту. К вечному двигателю. Не очень хотелось вешать себе на шею еще одну постоянную заботу, но Дружников быстро сообразил, что постоянной ему и не нужно. От Полины Станиславовны ему не требовалось безоглядной любви, как от его Анюты, лишь формальное согласие на брак. Потому, делая очередное предложение, Дружников и запустил двигатель временно, а когда Полина Станиславовна, к собственному своему изумлению, нашла кошмарного претендента неожиданно привлекательным и согласилась, на следующее же утро усилий тратить на нее не стал. Полина Станиславовна, на другой день было передумала, но родителей уже поставили в известность, а через еще один день, не без помощи двигателя, передумала опять. И так несколько раз. Дружников, по своей прихоти, то запускал двигатель, то останавливал вновь. Пока родителям не надоело, и они постановили, что дочь просто-напросто морочит им голову капризами. На замужество давно согласна, и теперь кокетничает отказами. И папа с мамой оповестили Дружникова, пусть готовится к свадьбе. Сама Полина Станиславовна запуталась не меньше, сегодня жених нравился ей непонятно почему, а на завтра, без всяких причин, был отвратителен. Тогда она по молодости лет неосмотрительно решила, что выйдет замуж, а там уж и разберется.
О наличии у Дружникова сына и гражданской полужены непонятного статуса в семье невесты, конечно, знали. Но особого значения этому не придавали. Известное дело, кругом полным-полно раз и два и многократно разведенных друзей-приятелей, с детьми и без, а здесь даже официальной регистрации не было. Что до сына Дружникова, выделит ему отец, как полагается, со временем свою долю, и нечего тут думать. Дочери Полины это никак не касается. К тому же, совсем неплохо, что Дружников весьма заботится о своем Павлике, одно это характеризует его с положительной стороны. Навещает постоянно, и, хотя сам жадный, как смерть, на подарки не скупится, ни сыночку, ни его матери. Значит, законным его детям совсем выйдет разлюли-малина от такого отца.
Тем временем свадьба набирала обороты. Гости отдыхали и отрывались по утяжеленной программе. Алкогольные пары высокой концентрации расслабляли и позволяли хоть ненадолго забыть о статусах и положениях. Да и чего стесняться, когда все свои.
Дружников хозяйским, зорким оком обозревал мероприятие, то и дело неспешно обходя залы и гостей. С кем заговаривал, кому едва кивал издалека. Все подмечал, не упуская и деталей. Вон, на заплетающихся ногах выходит, видать в уборную, сам господин губернатор Приходько, а двое приставленных к нему приживалов-помощников поддерживают его особу под локотки. Губернатор Тихон внезапно замечает на себе неодобрительный хозяйский взгляд, и молитвенно складывает руки, при этом теряя равновесие. Мол, уж извини, не рассчитал. Дружников ему только рукой махнул – иди куда шел, остолоп. Тоже мне губернатор, хорош гусь, подумалось Дружникову. Хоть бы при людях свое жалкое достоинство соблюдал. А то стоит не так взглянуть, как высокий сановник Тихон уж пугается, того и гляди, готов рухнуть на колени. Что люди подумают? Впрочем, подумают они как раз то, что надо. Но раздражает. Правда, Тихона он любит по-своему. К примеру, за то, что кухонный губернатор никогда никаких хлопот ему не доставлял и был предан Дружникову настолько беззаветно, насколько вообще Тихону Власьевичу позволяли отпущенные богом умственные способности и внушаемый хозяином ужас.
В соседнем зале выплясывала неразлучная парочка пауков-тарантулов: Квитницкий Семен Адамович и «Армян». Оба толстые, почти до безобразия, потные и шумные, в окружении псевдоцыганского хора. С ними, само собой, выписывал кренделя добрый десяток эстрадных, приглашенных девиц из подтанцовки. К ним то и дело подлетали расторопные половые в шитых, стилизованных рубахах, подносили в водочных графинах древний, как крепостное право, коньяк. «Армян» выпивал коньяк из стопок, разом штуки три, Семен Адамович, не мелочась, дул прямо из графинов. Поодаль, у стены жалась кучка степенных, моложавых банкиров из Московского Отраслевого и собственной, дружниковской «Глории». Им и хотелось, и кололось, и градус был еще недостаточно высок.
Завидев Дружникова, тарантулы, подхватив девиц и хор, подлетели к нему и грянули «к нам приехал, к нам приехал!», нахально, но и просительно протянули стопку чокнуться. Дружников милостиво не отказал, тарантулами в последнее время он был доволен, но выпил чуть, однако, глазами указал в сторону стены, мол, займите гостей, обалдуи! Квитницкий тотчас тяжелым бомбардировщиком спикировал к скромным банковским страдальцам. Через минуту торговцы денежным товаром уже скакали без удержу в одной компании с тарантулами, причем за ту же минуту неведомым образом умудрились напиться вдрызг и распоясаться в отношении девиц. Впрочем, в компании Семена Адамовича за рекордные секунды теряли моральный облик и пристойное лицо куда более стойкие и суровые персоны.
Ага, а тут непорядок. Снежана, укрытая сенью непонятной породы древа в фаянсовой кадушке, развалившись томно с бокалом в руке на узком диванчике, охмуряла папашу невесты. Папаша, еще солидный, но уже «тепленький», на провокацию явно поддавался. По крайней мере, пухлая его, цепкая рука осторожно подкрадывалась к обнаженному Снежаниному колену.
Дружников обошел древо так, чтобы папаша его никак заметить не смог, зато Снежана увидела бы непременно. Она и увидела. Дружников погрозил сладкой обольстительнице кулаком. Снежана лишь передернула плечиком. Дескать, что тут такого? Такого и впрямь ничего особенно не было, Дружникову оно только на руку, если бы не мамаша. Не дай бог увидит своего папашу, тогда не миновать скандала. Дружников опять показал нимфе кулак, для убедительности покрутил пальцем у виска. Снежана его поняла, потому что вдруг резко встала с дивана и потащила папашу прочь из уютного угла в танцевальную залу.
Вот же чертовка! Не без умиления подумал о Снежане повеселивший Дружников. Ведь больше чем он, никто и никогда ей не даст. Потому что он платит за работу, а другие за плотские излишества и временное увлечение. Но все ей мало. Один раз, после пренеприятной истории, пришлось даже применить рукоприкладство и оттаскать за волосы. Снежана тогда рыдала в голос и кричала, что хочет замуж, а Дружников портит ей личную жизнь. Врала, конечно. Какой там муж, если при одном упоминании о семейном очаге у Снежаны судороги начинаются! Дружников ей чистосердечно пригрозил, что выдаст замуж за Кошкина. Подействовало. Снежана испугалась и немедленно успокоилась. Эх, если бы остальные проблемы разрешались столь же легко!
У буфета стояла чета Каркушей, благопристойная и трезвая, а рядом с ними уже пьяненькая Раиса Архиповна и брат Гошка. Муж и жена Каркуши были приставлены их опекать и развлекать в меру возможностей, следить, чтобы гости не обознались, и к матери жениха отнеслись с должным уважением. Дружников ненадолго подошел, чинно поцеловал мать в щеку, на Гошке заботливо поправил сбившийся галстук. Иванушке в очередной раз велел следить за тем, чтобы брату ни в коем случае не наливали водки, только вино или шампанское. Гошка все же внушал ему некоторую тревогу. Вернувшись недавно из университетских, оксфордских далей с дипломом экономиста, брат обнаружил пристрастие к истинно саксонскому пороку – питию крепких напитков без всякой закуски, что, впрочем, было весьма распространенным развлечением на британских островах. А может, на Гошке сказались скверные отцовские гены. Как бы то ни было, но Дружников более с любимого брата глаз не спускал. Определил к себе на работу в отдел планирования финансовых потоков, выделил надежный джип с водителем-охранником и приставил гувернера, бывшего спеца по научному коммунизму, профессора педагогики и истории, сурового брюзгу и мизантропа. Профессор, Альцест Карлович Миркин, мозги воспитаннику вправлял неустанно, согласно контракту своего найма, и добился того, что в его присутствии брат Гошка вел себя тихим, благовоспитанным ангелом, не подозревающим, что на свете существуют такие гадкие вещи, как спиртные напитки. Но стоило Альцесту Карловичу выпустить в силу необходимости своего «дисципулуса» в свободное плавание, как окрыленный Гошка немедленно срывался с цепи. И, невзирая на грядущие кары, в виде недельного, вечернего сидения дома за изучением трудов Карамзина или Ключевского, надирался до мертвецкого, горизонтального состояния. Альцест Карлович после этого каждый раз, с дозволения Дружникова, завинчивал гайки еще сильней. И на некоторое время превращал непутевого подопечного в совершеннейшего херувима. До очередного его одинокого выхода в свет. Потом все начиналось сызнова. Дружников уже подумывал о том, не выдать ли Альцеста Карловича за любимого двоюродного дядюшку, и бес с ним, пусть ходит с Гошкой неразлучно. Как бы из высоких родственных чувств. Пока же, в виду тяжелой и вредной работы, Дружников решил увеличить профессору жалование.
Однако, пора было идти к невесте. Поднять тост за дорогих гостей, еще раз, уже совместно, обойти залы, а там, на самолет. И к морю, на Лазурный берег, в Ниццу, на купленную ко дню свадьбы виллу. Для проведения медового месяца. Черты бы побрал и первое, и второе и третье! Месяц, не месяц, пару недель высидеть на берегу придется. А заодно, раз уж выпал случай, Дружников повидается и с Татьяной Николаевной, даст отчет о вверенном ему капитале и преподнесет дары, чтобы вихрь был спокоен.
Возле невесты пестрым роем, напоминающим издалека взрыв на серпантинной фабрике, крутились многочисленные подружки. А, вон оно что! В центре роя он обнаружил Кадановку, почти в стельку нетрезвого и в донельзя изгаженном винными пятнами смокинге. Великий финансист Кадановка гоготал, травил анекдоты, попутно шептал скабрезности в девичьи ушки. Он очень нравился невесте и подружкам, которые все слетались как мухи на сомнительный мед. Рядом отирался расфуфыренный, как цирковой конферансье, месье Кошкин, под общий шум и гам ему тоже перепадало при случае немного женского внимания. При виде приближающегося хозяина, Филя и Кадановка, виновато поджав хвосты, тут же прыснули прочь в разные стороны. Каждый по своим интересам. Кадановка – к пляшущим тарантулам, Кошин – подмигивать и мешать судомойкам на кухне.
Дружников стоял рядом с Полиной Станиславовной, отныне тоже Дружниковой, принимал последние поздравления и чувствовал себя препогано. Кругом все шумно желали им счастливого пути, долгих лет жизни, кучи ребятишек и прочую мутотень, и каждый, Дружников был в этом уверен, мечтал о том, чтобы жених с невестой поскорее убрались прочь. Чтобы безопасно начать уже настоящее веселье. А Дружников в этот миг словно очнулся от обманного сна. Все прошлые его рассуждения и доводы в пользу корыстной женитьбы вдруг показались ему ненужной чушью, глупым заблуждением и несчастьем. На что, собственно, сдалась ему эта Полина Станиславовна? Чужая, лишняя, нелюбимая. Как мельничный жернов на шее, с которым хорошо только топиться. И это не ее место. Здесь должна стоять Аня и никто другой. Аня и Павлик. Но стоит эта бездумная кукла, которая в отсутствие двигателя попросту его ненавидит. Вот Аня его никогда не ненавидела. Не любила, как своего Мошкина, это да. Но не ненавидела. Конечно, он делает это ради великой цели. Без которой его жизнь не жизнь, и не найти утоления его жажде. Когда же это все, наконец, кончится? Чем ближе вершина, тем дороже она обходится. И нет ему полного счастья. Однако пусть его нынешняя семейка не обольщается, Аню он не оставит. Съездит с этой курицей на Лазурный берег, заделает ей поскорей ребенка, а со временем и двух, для надежности, и станет жить, как ему хочется. Впрочем, Анюте он так и сказал. В памяти Дружникова всплыл сам собой недавний разговор.
Это было в Барвихе, три недели назад. Они остановились в зимнем саду, кажется, возле карликовой акации, – Дружников не очень разбирался, где у него что росло, – ждали няню Ольгу Петровну, которая должна была привести Павлика. День клонился к вечеру, Ане пришла пора уезжать в город. А он все еще не собрался сказать ей. Что свадьба его уже назначена и не за горами, заказана и оплачена, и что, вот так, наедине, они увидятся нескоро. Истерик и слез он не боялся, Анюта вообще никогда не плакала, по крайней мере, при нем. О намерении жениться на знатной кремлевской невесте, он говорил ей давно и не раз. Не называл только срок. Он и теперь дотянул до последнего. Когда дальше скрывать уже не выходило возможности. И он боялся. Того, что Аня ничего ему не скажет, не отзовется на новость совсем. По сравнению с гробовой тишиной ее равнодушия слезы и истерики казались Дружникову милыми и приятными. Или, как минимум, нормальными. Потому что в последнее время Анюта все больше напоминала спящую красавицу из сказки, подолгу замирала в безмолвии подле него, пока двигатель не оживлял и не приводил ее в чувство. Она и дома была такая же, со всеми, кроме Павлика, тут, видимо, срабатывал инстинкт. Юлия Карповна жаловалась на нее Дружникову, однако, неестественное душевное состояние дочери приписывала «излишней сытости» и просила Олега занять ее «активной, полезной деятельностью». Впрочем, Аня по-прежнему появлялась в университете на кафедре, диссертация была давно уже написана и защищена, так что кандидат наук Булавинова присутствовала более для вида. За ней числились какие-то, небольшие семинарские часы, но держали ее на преподавательской работе исключительно ради внушительной спонсорской помощи Дружникова.
– Анечка, я через две субботы женюсь, – сказал вдруг прямо и без околичностей Дружников, хотя не очень ясно. Не назвал ни дату, ни количество оставшихся дней, а лишь какие-то две субботы. – Помнишь, я говорил тебе?
– Да, помню. Нам с Павликом больше сюда приезжать не нужно? – только и спросила Аня, с выражением, при помощи которого осведомляются у первого встречного, сколько нынче времени.
– Нет, пока не нужно. Я сам к вам приеду. И в следующую субботу, и в ту, которая за ней, – сказал ей Дружников. Худшие его опасения сбывались. – Потом, может, лучше вам с Павликом поехать к морю? Возьмите бабушку и Константина Филипповича. И поезжайте. Все вместе. Куда бы тебе хотелось?
– Все равно. Куда ты скажешь. К морю, это хорошо. Павлик будет рад, – Аня несколько оживилась, на ее лице появилось беспокойство. – Как ты думаешь, он не слишком мал? Ему же всего четыре года. Лететь далеко на самолете. Мама говорит, детей до пяти лет лучше не подвергать резкой смене климата.
– Брось, твоя мама лишний раз перестраховывается, – Дружников обрадовался смене темы и принялся с жаром обсуждать перспективы своего сына на путешествие. – Европейцы по всему миру как оглашенные носятся, чуть ли не с грудными детьми. Как так и надо. И ничего. Потом, вы же не в Африку к пигмеям поедете, а на цивилизованный курорт. Я вам сниму виллу с бассейном на Сардинии. И вертолет найму на всякий случай, чтоб дежурил. К тому же бабушка Юля – врач и без котомки с лекарствами с места не сдвинется. Ну, хочешь, я своего повара Митю с вами отправлю?
– Не надо, что ты! В самом деле, не в Африку поедем. А Павлик, он вообще, все ест, ты же знаешь, – поспешно возразила ему Анюта. Идея с Сардинией ей, видимо, пришлась по душе, и принципиально она была согласна. – Только Ольгу Петровну нужно тоже взять. Павлик к ней привык.
– Ради бога. Хоть слона, если ему нравится. Значит, договорились. Поезжайте, скажем, на месяц, там сейчас самый сезон. А дальше посмотрим. Еще что-нибудь придумаем. Я переведу тебе на карточку двести тысяч. Если не будет хватать, сразу сообщи.
– Бог с тобой. Куда нам столько? – отмахнулась Аня, и лицо ее снова приняло отстраненное, безжизненное выражение.
– Ничего, ничего. Кому мне еще давать, как не вам? – возмутился Дружников и ни капельки не покривил душой.
Аня ничего не сказала в ответ. Только посмотрела. Искоса и снизу-вверх. И быстро отвела глаза в сторону. Но Дружников и без того понял.
– Глупая, глупая моя девочка! – он обнял Анюту обеими руками, поднял, попытался заглянуть в ее прекрасное, убегающее от него лицо. Дружников быстро заговорил:
– Для вас ничего не изменится. Ни для тебя, ни для Павлика. Ты просто пока этого не понимаешь. Это все и для вас тоже. Да-да. Не отворачивайся. Послушай меня. Я всегда ваш, и больше ничей. То, другое, будет всего лишь игрой, притворством. Потому что, так нужно.
– Олег, подумай сам. Что ты говоришь? – Анин голос прозвучал горько и жалобно. Но Дружников и этому был рад. Все же лучше, чем прежняя могильная безжизненность.
– Я подумал. Верь мне. Ты же всегда мне верила? И я скоро вернусь. К вам. Когда-нибудь и насовсем.
– А как же та, другая женщина? Как же она? – страшным шепотом спросила его Аня.
– Кто, Полина? Прости, пожалуйста, ее зовут Полина, – поспешно пояснил Дружников. – Для нее и для ее семьи это такая же сделка, как и для меня.
– И она согласна? – не поверила ему Анюта.
И правильно не поверила. Однако у Дружникова не было иного выхода, он солгал не моргнув глазом.
– Конечно, согласна. Это же бизнес, детка. У большой власти свои законы. Но ты не забивай себе голову. Поверь, все это вас не касается и никогда не коснется.
В дверях сада показались Ольга Петровна с маленьким Павликом, опасный разговор пора было прекращать. Но тут неожиданно Аня схватила его за руку:
– Олег, послушай, я знаю, Лена Матвеева тебе никогда не нравилась, а после смерти Зули ты ее почти возненавидел. Я знаю, не спорь. Но не отбирай у меня последнюю мою подругу. Я умоляю! – взмолилась Анюта, и будто бы отчаяние вырвалось на волю в ее словах.
– Господи, да общайся, с кем хочешь, я же не запрещаю. Просто мне казалось, Ленка настраивает тебя против меня. Ну и черт с ней, если так. Я ее не боюсь, – успокоил Анины тревоги Дружников. – А мне с ней видеться не обязательно. Так что, тут уж и ты меня не заставляй. Договорились?
Аня согласно кивнула в ответ. А Дружников остался с неприятным осадком. Что значит это ее «не отбирай у меня подругу»? Неужели Анюта о чем-то догадывается? Нет, не может такого быть. Потому что не может быть никогда. Единственный человек, который знал, спит вечным сном на Ваганьковском кладбище. Его убийца, конечно же, ни о чем не подозревает. Потому что, если бы этот болван Матвеев рассказал ему об Ане, то его бывший дорогой друг уже вопил бы от обиды на весь белый свет. И никакой двигатель бы его не заткнул. Тревожно только, что после смерти мужа Лена Матвеева зачастила в гости на Котельническую. Что же, пусть пока ходит, если Анюте нравится. Но с Матвеевой он отныне глаз не спустит. Не стоит забывать, в каком месте эта дама служит, как и о том, что его Дружникова, она терпеть не может. И это еще слабо сказано.
Но на сем месте его размышления тогда были прерваны, потому что к нему уже бежал со всех ног маленький Павлик. Он держал что-то в кулачке и кричал:
– Папа, папа! Я стрекозу поймал! На кусте! Всю зеленую! Ну, папа же!
Дружников подхватил сына на руки.
Уровень 46. Тень, знай свое место!
Для Иванушки Каркуши последние недели перед свадьбой шефа отличились истинным мучительством. Не раз и не два пытался Иванушка сговориться сам с собой, объявить Дружникову собранные им материалы, но как-то все недоставало храбрости. Нет, Иванушкиной вины ни в чем нельзя было увидать, но грозный его шеф, чем далее, тем становился страшней. Хотя самого Каркушу никакие репрессии со стороны Дружникова не касались совсем. Но тянуть с отчетом выходило уже и опасным. Потому что вблизи его подопечного Мошкина то и дело приключались странные и незапланированные движения. Если теперь шеф со своей молодой женой улетят на медовый месяц, а за это время случится какая-нибудь гадость, то Иванушке не сносить головы. Как крайнему.
Впрочем, инкриминировать Вилиму Александровичу нечто конкретное, что являлось бы прямым нарушением оговоренного контракта, не представлялось возможным. Провокаций он не устраивал, пикетов под окнами не организовывал, рискованных интервью не давал, да и не только рискованных, вообще никаких. За права свои не боролся и попыток к тому не делал. Разве пару раз попробовал добиться встречи с Дружниковым, но, встретив решительное запрещение, от своих намерений отказался. Деньги Вилим Александрович получал исправно, и, судя по банковской отчетности, тратил на совершенно мирные бытовые нужды. И все же. Все же в последнее время комару было обо что подточить нос. Непонятное происходило у бывшего компаньона Дружникова, и происходило по личной его инициативе. Господину Мошкину перестало сидеться на месте. Иванушка же имел строжайшие, как ошейник бультерьера, указания. При малейших, явных и неявных угрозах нарушения условий, немедленно информировать шефа о состоянии дел на Комсомольском проспекте. Подробно и со свидетельствами.
Но как подойти к шефу с подобной ерундой, не поддающейся вразумительному объяснению, Иванушка не знал. В отчете у него получалась сплошная глупость. Какой-то выживший из ума писатель, с которым Вилим Александрович проводит время за кружкой чая. Совершенно непонятно, откуда этот писатель вообще взялся. Водитель полугрузового фургончика, неясно за каким бесом нужный, и что у него может быть общего с господином Мошкиным? Разве что, этот Совушкин по совпадению родом из Челябинска, а это рядом с Каляевым, так мало ли кто и откуда родом? А загадочная история с опустившейся артисткой, судя по отзывам, старой, психованной ведьмой! Ведь не кто иной, как он, Каркуша, самолично оформлял эту тетку в привилегированный дурдом. Потом какой-то обанкротившийся продюсер, которому Вилим Александрович то ли сочувствует, то ли занимает деньги. Необъяснимо даже с точки зрения случайного приступа произвольной благотворительности. Водителя Костю тоже допросили с пристрастием. Но он, то ли натурально не имел понятия о подоплеке этих странностей, то ли прикидывался лопоухим веником, то ли в самом деле был дурак дураком. Только от Кости ничего толкового добиться не удалось. Ездит, куда скажут, а что за люди, кто ж его знает. Люди разные, какие попроще, а кто и высоких материй. О чем говорят? Да ни о чем особенном. С писателем про книжки и непонятно, с остальными по-свойски за жизнь. О Дружникове? Нет, Олега Дмитриевича вообще никто никогда не упоминал. А что? Он, Костя, работу знает. Было бы что, доложил.
Перед самой свадьбой, чуть ли не за день, Каркуша, наконец, решился. Лучше уж пусть высмеют и обхамят, чем покарают за недобросовестность и халатность. И Каркуша набрал внутренний коммутатор, попросил соединить с приемной Дружникова. В приемной назвал секретарю специально уговоренный код. «Внеплановый старт». Знал, что по получении такого сообщения Дружников примет его незамедлительно. Хотя кодом Иванушка пользовался впервые, однако, он не ошибся. «ОДД» немедленно затребовал Каркушу к себе. Вперед всех очередей, назначенных встреч и аудиенций.
Дружников не стал тратить времени на «здрасьте» и «как дела», сразу тревожно спросил:
– Что?!! – и привстал от волнения со своего трона. Каркуше показалось, что от нетерпения Дружников готов несолидно выбежать ему навстречу.
– Да ничего особенного, Олег Дмитриевич, – наскоро, для своего же блага, успокоил его Каркуша. – Вы же сами просили. Чуть что, даже если мне просто показалось. Сообщать немедленно и непременно.
– Что? Что показалось? Бешеный бык тебя отымей! Говори быстрее! – рявкнул Дружников и выкатил ужасные глаза совсем вон из орбит.
– Вот. Тут все написано. Где подробно, а где экстрактно, – дрожащим голосом залепетал Каркуша и трясущейся рукой положил на дальний угол стола черную, пластиковую папку.
Дружников хищной лапой схватил бумаги, несколько минут в полнейшей тишине их перелистывал. После кинул папку в верхний ящик стола. И угрюмо засопел.
– Так. Свободен. Это останется у меня, – и повернулся спиной, в своей обычной манере закончив разговор. Однако, сию же секунду передумал и на прощание счел нужным сказать Каркуше напутствие:
– Ты правильно сработал. Дальше так и поступай. Теперь вали отсюда. Мне некогда. Да, и скажи «Армяну», пусть из своей кассы выдаст тебе… э-э, мнэ-э… пять штук баксов.
Каркуша тут же и упорхнул. Обрадованный народной мудростью о том, что не знаешь наперед, где найдешь, где потеряешь.
Дружников тогда призадумался. Правда, ненадолго. Сообщение Иванушки было скорее фактом любопытным, чем тревожным. Минус одно обстоятельство. Нет, дело заключалось вовсе не в Альбоме Удачи, о котором, кстати сказать, самоуверенный Дружников даже и не вспомнил. Тем более, хорошо зная своего дорогого друга, мог с большой вероятностью ожидать и ожидал от него любую блажь. Хочет возиться с обиженными судьбой и в чем-то родственными ему душами, что же, пусть себе. Чем бы дитя ни тешилось. Будильник тревожно прозвенел для Дружникова в ином месте. В отчете сказано, что господина Мошкина то и дело видят в компании майора государственной безопасности, небезызвестной Матвеевой Елены. То она наведывается к нему на квартиру, то сам объект наблюдения спешит назначить ей свидание в каком-либо ресторане или кафе. Конечно, Дружников был в курсе, что Матвеева и раньше посещала его «дорогого друга» и не одну бутылку распила в его теплой компании. Но это случалось ДО смерти ее многомудрого идиота муженька. Теперь же, после Зулиной гибели в известном подъезде, Лене, казалось бы, на этом проклятом месте делать нечего, разве что… Разве что, у товарища майора возникли подозрения. ФСБ – организация тонкая, мыслью не обиженная, изощренной фантазией тоже. Такой их хлеб предполагать невозможное. И связываться с ними опасно. Даже Дружникову. Прямо навредить ему ни Лена, ни кто-либо другой не сможет. Только если… И тут Дружников похолодел. Почти до температуры трупа.
Если… Если они начнут не с него. Если разгадали и угадали. Если Дружников им поперек горла. А как иначе? Дороги у них разные и взаимоисключающие. Сейчас никакое ФСБ ничего ему сделать не может. Как, впрочем, и он им. Но, если не ему. Если Мошкину. Возьмут и прикончат, и лишнего не запросят. Где тогда очутится сам Дружников со своей удачей и двигателем? Положим, Матвеев ошибся, процесс обратной силы не имеет. А если не ошибся? Правильно покойник над ним смеялся: тут такое дело, пойди проверь. Вот они и проверят. И в случае успеха примутся за Дружникова. Голого и беззащитного. Потому что, никого с ним не будет, даже Ани. Одни пауки, которых он расплодил в банке и учил травить в себе злость. Что же предпринять? Дружников заметался в умственной лихорадке. Приставить к Мошкину охрану? Глупо, если это дым без огня, он только привлечет ненужное внимание. Да и какая охрана! Смешно говорить. Эти, коли непременно захотят, то достанут. Заслонить своим двигателем? Не очень-то чужой вихрь помог Вербицкому. Да и кто его знает, что за штуки у них имеются в секретном арсенале?
Но, подумав еще немного, Дружников привел себя в относительное спокойствие. Ничего ведь пока не произошло. А он уже целый детектив сочинил с трагическим финалом. Мало ли что может быть? Почему непременно на него, Дружникова, началась охота? Да и не станет его «дорогой друг» лишнего рассказывать Матвеевой. Во-первых, потому что двигатель изо дня в день исправно посылает Мошкину блаженные кванты любви к его особе. А во-вторых, тогда благообразному Вилиму Александровичу пришлось бы поведать Ленке малопривлекательную историю о том, за что и как он угробил ее любимого мужа. Сам Зуля, наверняка, тоже жене ничего не говорил. Не те у них были отношения. Контору ее покойный Матвеев и вовсе презирал, да и ставку делал на другого.
Ба! Тут Дружникова осенила потрясающая догадка. Вот же зараза! И слова иного не подберешь. То-то Матвеева взяла в последнее время за привычку шляться к его Анюте. А после на курьерских мчаться к Мошкину. Прямо бес какой-то, не баба. Думает, наивная, примирить парочку в связи с его женитьбой. Накося – выкуси! А может и наоборот. Может, втрескалась сама в Мошкина или решила подобрать ничейного мужичка. Впрочем, этого тоже никак допустить нельзя. Нечего им делать в одной лодке. Пусть уж лучше его «дорогой друг» совсем спятит с ума и благодетельствует списанным актрискам. Что угодно, только не Ленка! Но сразу за топор хвататься все же не стоит. Он, Дружников, подождет. Посмотрит, прикинет. Вдруг все прояснится и рассосется само собой. Пока же – следить за голубками в оба глаза. А лучше в десять пар профессиональных глаз.
Однако, успокоившись, он и заскучал. Прежняя тоска опять ела сердце. Это как фокус с электрической беговой дорожкой. Бежишь по ней, бежишь, перебираешь ножками изо всех сил. Бац! Ты на том же месте. Он будто Кащей, у которого игла в яйце, а яйцо в утке, и так далее. Словно тень, которой не дано покинуть своего владельца. Не станет хозяина, сгинет и тень. Дамоклов меч и карета Золушки. Господи, помоги и избавь! Нет, кто-кто, Господь ему не поможет. А дьявол уже все заплатил вперед. Надо выгребать самому. Новым Адольфом или Наполеоном. Правда, они плохо кончили… Правда, у них не было двигателя. И по головам, по головам! Дружников стиснул зубы.
Лена сидела за столиком в новомодном японском суши-баре, недавно открывшемся на углу Лубянской площади, очень удачно и кстати, и тревожно ждала, украдкой озираясь по сторонам. Бар, расположенный в полуподвале торгового цента, был местом людным и довольно тесным. Что, с точки зрения обнаружения нежелательных посетителей являло собой качество положительное, но вот с точки зрения конспирации дела в баре «Сушеное весло» обстояли из рук вон плохо. Вплотную стоявшие столики позволяли слышать чуть ли не каждое слово, произнесенное даже шепотом, несмотря на тихую музыку, звучавшую в подвальчике без перерывов. Впрочем, нежелательные лица Леной Матвеевой давно уже были отмечены. Теперь оставалось только ждать. А Вилли, как назло, запаздывал.
В половине третьего она, наконец, дождалась. Мошкин появился в дверях, оглядел зал, и сразу увидел Лену.
– Не присаживайся, мы уходим, – немедленно сказала Матвеева, когда Вилли подошел к ее столику. И солнечно улыбнулась на публику.
Вилли давно разучился задавать лишние вопросы, и потому сказал:
– Хорошо. Но позволь, я расплачусь, – чутье подсказывало ему, что сцена играется для кого-то третьего и чужого, и Вилли выдержал роль до конца.
На улице Лена сама, ничего не объясняя, подошла к водителю Косте, велела ему быть на сегодня свободным. Потом повела Вилли, неспешно и под ручку, к собственной машине, обычному, мало примечательному «Фольксвагену-Пассату». Но Вилли уже знал, что простая эта, синенькая машинка, такова лишь снаружи. А внутри под завязку напичкана мудреной техникой: противоугонной, спутниковой связи, устройством, блокирующим любые попытки прослушать разговоры, и бог знает, чем еще.
– Будешь смеяться, но за мной второй день тащится самый натуральный «хвост», – сообщила ему Лена весьма странное и пренеприятное известие несколько легкомысленным тоном. – Ладно еще, когда за тобой, Виля, присматривает «ОДД», это как раз неудивительно. Но чтоб набраться такой откровенной наглости и организовать слежку за офицером ФСБ, да притом частному лицу!
– Ты думаешь, это Дружников? – не очень доверчиво спросил Вилли.
– Он, он! Кому же другому? Были б наши, я бы знала. Да и не работают у нас так топорно. К тому же причин нет, – Лена открыла дверцу машины. – Садись давай, по дороге поговорим.
Вилли послушно сел в «Фольксваген». Ситуация со слежкой, честно говоря его, позабавила.
– Зачем Дружникову это надо? – полюбопытствовал Вилли, когда машина тронулась с места.
– А черт его темную душу знает! Скорее всего, из-за Ани. Может, он меня к тебе приревновал. А может, хочет выяснить больше о твоих делах, но концов связать не получается, – обстоятельно перебрала Лена возможные варианты. – Мне-то ты хоть расскажешь? Заметь, я не навязываюсь. Только странно все получается. Пойди туда, не скажу куда, узнай то, не скажу что. И для чего.
– Лена, милая, я не могу. Я же предупреждал тебя с самого начала. От помощи не откажусь, но в игру я тебя не возьму, – чуть ли не умоляюще ответил ей Вилли.
– Я так понимаю, что я уже в игре. Зато в отличие от тебя ходы делаю вслепую. По крайней мере, «ОДД» считает меня фигурой на доске, иначе не послал бы этих лосей шпионить. Кстати, они от нас позади на две машины. Любители. Но это, боюсь, пока. Кого он пришлет вслед за ними, угадать наперед нельзя, – несколько холодно сказала ему Лена.
– Ты не обижайся. Я тебя защитить хочу, – печально ответил Вилли, уже зная, что аргумент его неубедителен.
– Да? А кто тебя защитит? То же мне, защитник нашелся! – Матвеева резко ударила по тормозам и неожиданно свернула в переулок под кирпич. – Надоели. И ты мне надоел. Если не доверяешь, то говорить нам более не о чем. Я, между прочим, взрослый, самостоятельный человек, имею право принимать собственные решения. Когда рисковать, а когда свою голову поберечь. Так что и ты решай здесь и сейчас. Или я с тобой на равных началах, или отвезу тебя домой и на том распрощаемся. Совсем.
Вилли некоторое время молчал. Потом решился заговорить, но слова не вышли. И он опять сидел в скорбной тишине. Лена ему не мешала, ехала теперь совсем медленно. Недалеко от дома Вилли вздохнул тяжко, подразумевая под этим последнее свое возражение: «как не стыдно!», и «что ты со мной делаешь!», затем разорвал повисшее безмолвие:
– Хорошо. Я об этом еще пожалею, но… Давай договоримся так. Я беру тебя в дело. Хотя, если быть точным, это скорее миссия. Довольно неприятная, между прочим. Я посвящаю тебя в конечную цель, обо всем остальном разрешаю слушать, ну и, само собой, участвовать. Сразу все рассказывать тебе попросту бессмысленно, – закончил чтение приговора Вилли. Но, увидев на лице Лены и некоторое разочарование, пояснил:
– Это очень, очень долгая история. С корнями, как у векового баобаба. Ее нужно прояснять постепенно. В твоем случае.
– Пусть так, – нехотя согласилась Лена. – И какова цель?
– Убить Дружникова, – коротко и обыденно сказал Вилли.
– Что-о? – У Лены Матвеевой были крепкие нервы, но бедный «Фольксваген» при этом возгласе едва разминулся с придорожным столбом. – Как это, убить? Я думала, что это из-за Ани… Я думала, ты хочешь вернуть свою жизнь… Вилли, послушай, ведь не таким же способом? Ты сумасшедший!.. В этом я тебе не помо…
– Заткнись. На минуту, – очень невежливо перебил ее Мошкин. – Я не стал бы никого убивать ни за себя, ни даже за Аню. Я же сказал, что это старая, долгая и страшная история. Ты меня не слышала. А если ты не будешь слышать, то бесполезно и говорить.
– Прости. Ты меня попросту огорошил. Я слушаю, – уже более спокойно и примирительно попросила его Лена. Но машину она на всякий случай припарковала у обочины.
– Все гораздо хуже. Я не в силу своей прихоти желаю убить Дружникова. Это жизненно важно сделать. Потому что я знаю, что из него выйдет в будущем. Я ЭТО видел. Вот, пожалуйста, уже мистика начинается, – грустно пошутил Мошкин.
– И ты хочешь, чтобы наша фирма тебе в этом помогла? – совсем ничего уже не понимая, неуверенно спросила Лена.
– Ваша фирма, как ты выражаешься, ничем мне помочь не может. В случае неудачи ей самой бы ноги унести, – сказал Вилли и будто вздрогнул.
– Н-да. Может ты и прав. Эту историю, действительно, надо открывать постепенно. И когда начнем?
– Первые здравые слова за сегодняшний день. Учти, это билет в один конец, – честно предупредил подругу Вилли.
– В смысле, что предателей вы безжалостно убираете? – со смехом осведомилась Лена. Но по всему было видно, что ни капельки ей не смешно.
– Не болтай глупостей. Я имел в виду, моя тайна представляет собой такого рода знание, от коего потом немыслимо будет убежать. И забыть тоже. Это кошмар, от которого спасет только полное неведение. Как крест, тот, что возможно возложить на плечи лишь один раз.
– Ты меня не напугал. Я отныне одинокая вдова. Чей муж, в конечном итоге, погиб не от руки невольного палача, а по прихоти того, кто его приговорил. И я уверена, да, уверена, что мои подозрения более, чем справедливы. Ты понимаешь меня? – выкрикнула Лена не своим, больным и звенящим голосом.
– Понимаю. Наверное, ты имеешь право. И, как говорят на флоте, добро пожаловать на борт. Завтра, в семь вечера, в моей квартире. Там в очередной раз соберутся люди, которых ты уже знаешь заочно.
– Список? – скорее для порядка спросила Лена.
– Да, список. Но одно. В их присутствии делай вид, будто все, что происходит и все, о чем будет говориться, тебе давно и превосходно известно. Так нужно, – настоятельно попросил ее Мошкин. И со слабой улыбкой добавил:
– Не удивляйся, если кто-то из них станет называть меня генералом или даже генералиссимусом. Они, в сущности, моя армия. А в армии должен быть порядок.
– Тогда я твой начальник штаба. И в силу своих прав и обязанностей вношу рекомендацию. Встречу необходимо перенести. Все равно, на какой день, но обязательно на мою квартиру. Так что потрудись оповестить своих солдат, – постановила Лена, и тон ее не допускал возражений. – Если наш драгоценный «ОДД» не на шутку забеспокоился, то у меня безопасней. Совершенно невозможно ничего подслушать. Уж поверь. И вообще, меры по обеспечению должной конспирации я беру на себя.
– Есть, товарищ майор, – Вилли впервые за весь их непростой разговор позволил себе засмеяться. Но тут же вспомнил о другом, более печальном вопросе:
– Лена, ты давно обещала мне сказать, а теперь уж откровенность за откровенность. Пусть даже это будут совсем дурные новости. Как там Аня?
– Очень плохо, – ответила Лена и вернула долг. – Вовсе не из-за того, что «ОДД» женился на своей кремлевской кукле. Ты не думай. А с Аней что-то странное. У меня такое ощущение, что она медленно и мучительно умирает изнутри. Часть за частью. Остается одно лишь бездушное тело, глухое ко всему, что вне его самого. Ты это можешь объяснить?
– Это не могу. Я правда не знаю! – от внезапно нахлынувшего ужаса Вилли едва не лишился чувств. – Я знаю многое, что произошло до сегодняшнего дня. Теперь знаю. Но почему так? У Павла Мироновича ничего об этом не было. Я понятия не имею, как работает двигатель, и что он в силах натворить.
– Какой двигатель? И при чем тут Анин папа? – осторожно спросила Лена, беспокоясь про себя, в уме ли ее друг.
– Двигатель – это часть той самой истории. Скоро узнаешь. А Павла Мироновича я видел в день, когда погиб твой муж. Ты права, от моей руки, но не по моей вине, – Вилли вопросительно посмотрел на Лену Матвееву. Но лицо ее не выразило ненависти, скорее беспомощное сочувствие к нему, убийце Мошкину. И Вилли продолжил свою повесть далее:
– Где и в каком качестве я встретился с Аниным папой, я сейчас не смогу тебе объяснить. Скажу только, что то место было неким образом связано с другим миром, откуда проистекают успехи и неуязвимость Дружникова. И не его одного.
– Те люди, что состоят в твоей армии, они в некотором смысле подобны Дружникову? – уже с нескрываемым любопытством спросила Лена.
– Да, через меня. Но повторяю, я не знаю, каким образом все это относится к Ане. И я не знаю, что тут можно сделать и чем помочь. Я даже не понимаю всего смысла того, что ты мне рассказала об ее нынешнем состоянии. И я бессилен.
– Ничего. Тогда я попробую. Через месяц-другой, Аня и Павлик вернуться в Москву. Может, отдых поможет. Если нет, то у меня есть одно средство, – тут Лена многозначительно замолчала, словно пыталась придать своим словам особенный вес. – Это средство в твоем духе. Никакой гарантии и сплошная мистика. Но услугами этой женщины, не слишком афишируя, пользуются некоторые, далеко не последние люди в нашей фирме. Правда, она не всех принимает. Я, по воле случая и давнего государственно важного дела, с ней знакома. И как только Аня возвратится в город… Я отведу ее к Сашеньке!
Уровень 47. Кассандра, пережившая Трою
Автомобили шли обычной, строгой линией. Профессионально и четко. Но слаженная работа их водителей именно сегодня могла бы вызвать веселую улыбку у иного праздного наблюдателя, со стороны ухмыляющегося на редкостное зрелище. А посмотреть было на что.
Пара огромных, как малогабаритная квартира, черных «Навигаторов» эскортировала маленький, скромный «фольксваген», зажатый спереди и сзади их огромными тушами, будто килька между кашалотами. Сбоку, помигивая фарами, и держа дистанцию не более полуметра, к козявке «Пассату» прилепился здоровущий серебристый «мерин» последнего, наимоднейшего выпуска. Эта флотилия разнокалиберных авто двигалась по московским улицам и пробкам достаточно ловко и удивительно быстро. Путь же необычной процессии пролегал все более по столичным набережным. С Котельнической на Кремлевскую, оттуда, мимо храма Христа Спасителя, на Фрунзенскую, и далее, через Лужники, к кинотеатру «Звездный». А от него направо, на улицу Удальцова, к бывшему «совминовскому» заповеднику элитной, доперестроечной эпохи, к дому номер 24.
В «Навигаторах» охрана лениво травила анекдоты и одновременно придирчиво озирала окрестности. В «мерине» скучал одинокий, зрелого возраста водитель Аркадий Януарьевич. В виду отсутствия в салоне хозяйки ребята-телохранители, приписанные к «мерседесу», с разрешения старшего пересели в джипы, где веселей. А в кильке-«Фольксвагене» две полностью изолированные от внешнего мира женщины вели свой разговор. Вернее, говорила все больше одна из них, та что, собственно, и сидела за рулем. Вторая в основном слушала, когда равнодушно, а когда и являла заинтересованность. До некоторых пор. Потом в «Фольксвагене» стали происходить и произноситься любопытные вещи. По счастью, они были надежно застрахованы от посторонних глаз и ушей.
– И как это «ОДД» тебе позволил отправиться со мной неведомо куда? Диву даюсь, – спросила Лена у своей молчаливой подруги.
– «ОДД»? Ты теперь его так называешь? – в свою очередь спросила Аня, но не сильно интересуясь.
– Его многие так называют, – ответила Лена. – Все-таки, что в лесу сдохло, и почему с меня сняли клеймо «держать подальше от…»?
– Я попросила. Олег, между прочим, согласился сразу, – сказала ей Аня с некоторым упреком.
– Это-то меня и беспокоит, – задумчиво и тихо произнесла Лена, как бы и про себя.
– У вас давняя, взаимная антипатия. На биологическом уровне. Ничего тут не поделаешь. А согласился он потому, что…
– Да, да. Потому что, он тебя любит, что и доказывал не раз. А меня терпеть не может, что тоже доказывал не два и не три раза. Его любовь к тебе победила в славном сражении отвращение ко мне. Честь Дружникову и хвала. И хватит об этом. А скажи-ка лучше, моя дорогая, сама ты чего хочешь? Я-то тебе хоть сколечко нужна? – Лена оторвала взгляд от дороги, все равно плелась в хвосте головного джипа, и посмотрела на Анюту.
– Ты мне нужна. Ты даже не представляешь, как нужна! – Аня вдруг неожиданно и впервые за долгое время страшно разрыдалась, упав, как подрубленное деревце, на плечо своей единственной подруги. – Я, знаешь, все время как в тумане. Бреду куда-то в полусне и никуда не могу выбраться. Мне вовсе не боязно, только холодно и мертво. Словно нечто меня тянет за руки и за ноги, не дает убежать и не дает хотеть. А ведь вокруг меня люди, вещи, воздух, солнце. Но я ничего этого не вижу. Лишь туман. И в нем два огонька. Павлик и ты.
– А Виля? – очень осторожно спросила Лена, умышленно назвав Мошкина его детским, домашним и полузабытым именем. Одновременно она пыталась вести машину по дороге с невозмутимой ровностью, чтобы не давать лишний повод к беспокойству ушлой охране. В то же время ей было важно удержать плачущую и приникшую к ней Аню у себя на плече.
– Не говори! Не надо о нем! Я не могу, мне нельзя! Он с ума сошел от зависти! Олег сказал, он хотел отобрать его дело и все развалить, уничтожить! – Аня теперь плакала и кричала, терзала Ленину руку.
– И ты в это веришь? – спросила Лена, без вызова и гнева, а как бы, между прочим.
– Мне не нужно верить! И мне не нужно об этом думать! Олег с ним поступил великодушно и по-человечески! Обеспечил до конца дней, несмотря на все зло, которое ему причинили! – Аня выкрикивала фразы, словно заученную молитву, как если через нее саму выступал наружу кто-то другой.
– Не буду с тобой спорить. «ОДД», само собой, виднее, в чем и где зло. Рыбак рыбака. А вот то, что ты кричишь и плачешь, меня, надо признать, обнадеживает. Но ты успокойся, никуда я от тебя не денусь. Только скоро мы доберемся до нужного места, а мне еще надо кое-что рассказать об его обитателях.
Аня всхлипнула раз, другой, однако, плакать перестала. На подругу взглянула с пробудившимся интересом. И, по всему видать, приготовилась слушать.
– Ее зовут Сашенька. Полное имя – Александра Григорьевна Абрамова. Но так ее никто не называет. По крайней мере, из наших. Сашенька, и все. В прошлом она, кажется, была врачом или медицинской сестрой. Я не знаю, да это и не важно совершенно. Она вдова. Генерал-лейтенанта КГБ. Он погиб несколько лет назад, в самом начале Чеченской войны. Ездил с секретной миссией и не вернулся. Говорят, он был близок к генералу Крючкову, но после переворота уцелел. В общем, дело темное и тебе неинтересное. Главное, похоронили его заочно, как героя, и наше управление взяло на себя заботу о его вдове и сыне. У семьи Абрамовых, как ты понимаешь, осталось немало высокопоставленных друзей. Но после гибели мужа у Сашеньки неожиданно обнаружился сверхъестественный дар.
– Сверхъестественный дар? – переспросила, словно не поверив, Аня.
– Да, сверхъестественный дар. Во всяком случае, нечто, обычными нашими представлениями необъяснимое. В каком-то смысле Сашенька может знать настоящее, прошлое и, что важнее всего, будущее. Хотя несколько своеобразным способом.
– Ха, значит, твоя фирма пользуется услугами гадалок и ясновидящих! А я думала, это выдумки желтой прессы, – с нескрываемым скептицизмом сказала Аня. Интерес ее к посещению таинственной Сашеньки явно приугас.
– Сашенька не ясновидящая, – твердо и с некоторой суровостью возразила ей майор Матвеева. И, выжидательной паузой добившись возврата Анютиного внимания, продолжила:
– Она отвечает на вопросы. Чаще всего лишь «да» или «нет». И сама понятия не имеет, откуда она знает ответы. Парадокс в том, что Сашенька, в отличие от наших комиков-экстрасенсов, никогда не ошибается. Даже если и приблизительно не понимает, о чем идет речь. Ее, например, можно спрашивать таким образом: «То, чего я жду завтра, случится ли сегодня?». И то, что Сашенька ответит, непременно сбудется. Только никаких вопросов с «или» и «почему». Одна форма – «да?» либо «нет?». Есть у Сашеньки еще и другие аномалии, но к тебе они могут относиться разве косвенным образом.
– А как себя с ней держать? А я могу спрашивать, что угодно? – вдруг оживилась Анюта.
– Спрашивать лучше буду я. Потому что уже знаю как, – предложила Лена, но, почувствовав в Анюте опасное разочарование, поправилась:
– Ты, конечно, тоже спрашивай, и сколько угодно. Только после меня. Сначала посиди и послушай, как правильно нужно делать. Держись просто и без излишней светскости, Сашенька очень гостеприимный человек. А сына ее ты все равно не увидишь.
– Почему? Он болен? – спросила Аня таким тоном, будто свидание с Сашенькиным сыном и было смыслом ее поездки.
– Илюша? Нет, не болен. Но к гостям обычно не выходит. Он в своем роде куда более замечательный феномен, чем его мама. Официально он массажист в нашей ведомственной поликлинике. Но никогда там не бывает. Обычно за Ильей присылают машину и привозят на дом. К тем нашим сотрудникам, которые особенно ценны, или в силу своего возраста и положения имеют к нему доступ. Дело, Анюта, видишь ли, в том, что Илья Абрамов – потрясающий диагност. Может выявить любое заболевание в зачаточном состоянии. Без всяких приборов и анализов. Он чувствует и знает человеческое тело едва ли не на клеточном уровне.
– Так он тоже врач или нет? – не поняла Анюта и запуталась.
– Никакой он не врач. Во всяком случае, диплома у него нет и не было. Хотя все существующие в природе книги и учебники по медицине он знает практически наизусть. Это ходячая энциклопедия.
– Тогда почему он не хочет закончить институт и получить диплом? – удивленно спросила Аня.
– Он не «не хочет». Он не может. Илья совершенно, патологически не выносит долгого пребывания на людях. Впрочем, недолгого тоже. Максимум его общения – это десять, пятнадцать минут. И все. К тому же он страдает сильной агорафобией и избегает открытых пространств. Он очень редко по собственной воле выходит из дома. Его привозят к пациенту, он осматривает, ставит диагноз, и его увозят. Двадцать-тридцать фраз в день для Ильи предел душевного равновесия. Но у него уникальные голова и руки… Однако, мы приехали.
Лена и Анюта поднялись во второй этаж, после того, как ответственные телохранители проверили лестницу, и позвонили в массивную, красивую, обитую светлой кожей дверь. Сашенька, уже извещенная консьержем по домофону, их ждала и сразу вышла навстречу.
На Анюту эта женщина с самого начала знакомства произвела впечатление. И в первую очередь ее лицо. Которое, казалось, соединило в себе элементы, не совместимые между собой. На вид Сашеньке было едва лет тридцать пять, не более того, так удивительно молодо и хорошо она выглядела. Но черные, как смола на деревьях, аккуратно подкрашенные глаза говорили, что их владелице на много, много лет больше. Это было замечательное по неожиданности сочетание. Не худенькая и не полная, не высокая, но и не особенно низкая, словно именно в ее фигуре природа пожелала явить идеал разумной меры, Саша Абрамова моментально и бесповоротно располагала к себе. С гостьями она поздоровалась столь мило и бескорыстно радушно, будто знала их сто лет, и уже сто лет как нетерпеливо ожидала их прихода. И без промедлений с порога увела пить зеленый чай с пирогами. Даже не заинтересовавшись целью их визита.
И только Лена, все же знавшая Сашеньку не один день, уловила в ее обращении нечто тревожное. Насколько она успела узнать в свое время Александру Григорьевну, настолько могла судить о ее поведении. В свое время Лена, в силу служебной, экстренной необходимости, привозила к Сашеньке на квартиру очень разных господ и товарищей, большей частью людей, далеких от искренности и склонностей к мирному решению конфликтов. Прошлое некоторых было весьма и весьма удобрено кровью. Сашенька равно спокойно приветствовала всех. Кого жалела, кого не принимала всерьез, а кого мягко порицала, без категоричного осуждения.
Но сегодня вышло нечто чрезвычайное и особенное. Лена, в виду профессиональной необходимости, неплохо разбиралась физиогномике, и на отсутствие наблюдательности тоже не жаловалась. Потому и засекла необычное Сашенькино поведение. Едва открыв им дверь, Саша Абрамова уже улыбалась широко и счастливо, заранее готова была привечать любого гостя, ступившего на ее порог. Но в следующее мгновение, лишь мельком взглянув на Анюту, Сашенька с очевидным усилием смогла удержать на лице милую улыбку, и чем дальше, тем больших трудов ей это стоило.
Майор Матвеева знала, и по негласной характеристике, и по собственному опыту, что в повседневной жизни Сашенька совсем не выдающийся человек. Что в ней нет ни пытливости высокого ума, ни дальновидной проницательности незаурядного таланта. Что Сашенька по существу своего образа жизни была самой обыкновенной женой удрученного большой политикой мужа, домашней, любящей и послушной. А после смерти генерала Абрамова тихо блюла свое вдовство. Но на этом Сашенькина обычность заканчивалась. Потому что для сущности ее дара великий ум и прозорливая расчетливость были ни к чему. И ее необъяснимая способность отвечать на вопросы составляла отнюдь не главную часть этого дара. Саша Абрамова «видела» людей. С одного единственного взгляда. Ничто на свете ее не могло обмануть или сбить с толку. Она узнавала каждого представленного ей человека не по тем качествам, которые тот пытался демонстрировать, и не по тем, которые старался укрыть подальше от посторонних глаз. Она «видела» своих зачастую сомнительных гостей не снаружи и не изнутри, не выводила на чистую воду, не читала мысли и не объявляла пороки. Однако же, Сашенька в малую долю секунды определяла в них ту суть человеческой природы, которую никто и никогда не ведает о себе сам. Ту невыразимую часть личности, которую невозможно пересказать, потому что, собственно, она и есть «я» любой души. Для Сашеньки каждое такое «я» было своего, единственного и неповторимого оттенка. Черного ли, белого ли, неважно. Важно то, что раньше Сашенька никогда не пугалась даже самого мрачного цвета. А ведь Лена приводила к ней для беседы безнадежно хладнокровного наемного убийцу. Которому, кстати сказать, Сашенька посочувствовала особенно сильно. Но ни капельки его не испугалась.
Сейчас в лице Сашеньки Абрамовой нет-нет, а проскальзывал самый неподдельный ужас. Пусть и старательно подавляемый, но для Лены заметный. Однако, Анюта совершенно ничего не ощутила. Она даже оживилась, охотно съела предложенный Сашенькой пирожок, и было видно, что теперь она с полудетской заинтересованностью ожидает обещанных ей чудес.
Сашенька и майор Матвеева тем временем украдкой переглянулись между собой, и шоу началось. Ибо представление, данное для Ани Булавиновой, было только малой, надводной частью гигантского айсберга. Вопросы с постоянством карусели вертелись вокруг одной и той же оси. Словно невидимый барьер не позволял Ане выйти за круг дозволенных ей тем. Любит ли ее Дружников, будет ли здоров Павлик, долго ли проживут мама и Константин Филиппович? На все это Аня получила в ответ простое и успокаивающее «да». Хорошо ли ее Олегу с новой женой, бросит ли он когда-нибудь ее, Анюту, выйдет ли в будущем толк от работы в университете и даже станет ли меньше в их семье денег? Тут уж однозначно прозвучало тоже вполне мирное «нет». Вскоре Аня утратила оживление и интерес. И стала прощаться. Сашенька и Лена ее не удерживали. Майор Матвеева лишь извинилась, что из-за собственных, производственных перипетий, вынужден задержаться, и пусть Анюта ее не ждет. Впрочем, Аня и не настаивала.
– Что вы на это скажете? – спросила Лена у Сашеньки, когда за ее подругой захлопнулась дверь. – Сашенька, Александра Григорьевна! Да что с вами! Господи!..
Сашенька, только что вернувшаяся из прихожей, вместо того, чтобы сесть к столу на свое место, встала у стены, мало отличаясь цветом лица от ее синевато прозрачного кафельного фона, и теперь медленно сползала вниз.
– Да что случилось? Илья! Илья! – закричала Лена, успев подхватить Сашеньку и удержать ее от неминуемого падения на пол.
– Не надо! Не беспокой его! Сейчас пройдет. Помоги мне сесть, – попросила Сашенька, и, опираясь на руку Матвеевой, кое-как заковыляла к ближайшему стулу. – Дай мне, пожалуйста, воды похолодней. И окно открой, я задыхаюсь.
Через четверть часа дыхательных упражнений и после трех кружек воды со льдом Саша Абрамова, наконец, пришла в себя. И Лена поняла, что теперь можно разъяснить случившееся.
– Сашенька, пожалуйста, ответьте мне, что происходит? Я не для себя спрашиваю, поймите, – обратилась к ней Лена.
– Никогда ничего подобного не видела. И надеюсь, никогда больше ни увижу, – при этих словах Сашеньку передернуло. Но не от отвращения, скорее, от какого-то животного страха. Сашенька сказала вдруг дрожащим шепотом:
– Лена, там два человека в одном. Этого быть не может, но это так. Один из них женщина, а вот второй… Это даже не человек. Это черт его знает что.
– Что? Кто? Саша, да говорите же! – тут уж испугалась и Лена.
– Не знаю. Он, оно. У каждого из нас есть свой ангел за плечом. Но его не дано видеть никому, даже мне. Вот и у нее, над ней, вокруг нее, тоже. Но это не ангел. И не просто сила. Чужая личность, очень страшная. Кем-то посланная или приставленная, – Сашенька судорожно всхлипнула. – Я не могу сказать точно. Я и в самом деле никогда ни с чем подобным не имела дела.
– Тогда, позвольте, я вам помогу. Я стану вас спрашивать, а вы отвечайте? Как обычно, – предложила Лена, и ее голос задрожал. Однако, как офицер безопасности, она сразу же взяла себя в руки. – У этого нечто есть цвет?
– Да, красный, скорее пурпурный. Это Страж, – совершенно непонятно ответила Сашенька.
– Страж? Какой страж? Чей страж? Анютин страж? – Лена от неожиданности не сразу нашла нужную форму вопроса.
– Нет, не ее, а при ней. Сам по себе Страж не опасен. Опасен тот, кто его послал, – еще более загадочно ответила Сашенька.
– Ну, хорошо. Стража пока оставим. Его послал человек, по фамилии Дружников?
– Да, он, – Сашенька согласно кивнула и, похоже, испугалась куда сильнее.
– Страж нужен, чтобы держать Аню в повиновении? – продолжала задавать вопросы Лена.
– Да, для этого, – коротко ответила Сашенька.
– Это из-за Стража она перестала быть сама собой?
– Да, из-за него, – Сашенька осталась так же кратка, как и в предыдущий раз.
– Если Страж не прекратит свою гнусную работу, с Анютой может случиться что-то плохое? – спросила Лена и замерла в тревожном ожидании.
– Да, может. Она умрет. Я знаю, – сказала Сашенька и ужаснулась своим словам.
– Как быстро? То есть, у нас есть хотя бы год? Несколько лет? – Лена была в панике, но старательно держала себя в руках.
– Несколько лет у вас есть, но не больше трех. Потом Страж окончательно парализует ее личность, и та не сможет управлять телом. Тогда произойдет разрыв и конец, – против обыкновения подробно ответила Сашенька.
– Саша, скажите еще вот что. Есть ли человек, которому по силам спасти Аню и остановить того, кто послал Стража? – задала Лена самый важный вопрос.
– Такой человек есть, – ответила Сашенька, и при этих словах на ее милое лицо вернулась прежняя, нежная улыбка.
– Я не буду спрашивать вас о нем. Я и так знаю, кто он такой. И вот что, Сашенька, вы обязательно должны с ним познакомиться! – с неожиданным жаром предложила Лена Матвеева.
– Знаешь, Лена, дорогая моя, я теперь это дело и сама не оставлю. Очень уж оно жуткое и необычное. Я тебе еще понадоблюсь. А может, и твоему человеку, – Сашенька хитро подмигнула.
– А вы не боитесь? Мне показалось, что…
– Девочка моя, боюсь, и даже очень. Ты не представляешь, как боюсь. Потому что, ты не представляешь, что я видела. Мы тихие, и, к слову сказать, беззащитные люди. И я, и мой Илюша, – Сашенька с печальной нежностью посмотрела в сторону комнаты сына. – Но знаешь, с другой стороны, я часто спрашивала себя, особенно в одинокие вечера, зачем Господь послал с нами на землю свои необыкновенные дары? Уж, наверное, знал, они пригодятся. Теперь я уверена, что это так.
– Наверное, вы правы. Наверное, я еще не раз к вам приду. И если смогу, покажу вам своего человека. Но вы мне поверьте, Александра Григорьевна, – здесь Лена перешла на официальный тон. – Я постараюсь уберечь от беды и вас и вашего Илюшу. В случае чего, в случае нашего, так сказать, «провала», вы со мной никаких отдельных дел не имели и ни о каком Страже слыхом не слыхивали. Да, кстати, наша кампания против повелителя Стража завершится успехом?
И тут произошло невиданное. Саша Абрамова впервые растерянно промолчала. Потом все же сказала:
– Девочка моя, я не знаю. Надо же, это единственный случай, когда у меня не нашлось ответа на вопрос. Наверное, потому, что это не в нашей, людской компетенции. Тут уж, как говориться, на все воля Божья.
Уровень 48. Заседание продолжается
– Вот такие пироги! – вздохнула Лена, закончив пересказывать результаты своего посещения Саши Абрамовой.
– Значит, времени у нас совсем мало. А с другой стороны, его никогда не было достаточно, – ответил Вилли. Несмотря на страшную новость, внешне он был абсолютно спокоен. Да и чего теперь-то волноваться? Ясность в их положении только добавила ему уверенности и сил.
– Две цели, хотя и параллельные, могут сильно затруднить дело. Плохо, что приоритет нельзя отдать ни одной. Ты же не согласишься пожертвовать Аней? Даже ради общечеловеческого благополучия.
– Конечно, не соглашусь. Какое я могу принести благополучие совершенно абстрактному для меня человечеству, если окажусь не в состоянии уберечь от гибели самое дорогое для меня существо? Для будущей выгоды незнакомых людей позволить убивать своих близких? Мерзость какая.
– Ну, знаешь, многие до тебя ревнители счастья человеческого так не мыслили. La revolution devore ces enfants. Революция пожирает своих детей. В отечественном варианте: лес рубят, щепки летят, – возразила Лена.
– Вот пусть у них щепки и летят. А если кто в нашем приговоренном мире согласен купить спасение ценой жизни моей Ани, то я тому не защитник и не помощник. Таким экземплярам с Дружниковым как раз по дороге. Ведь даже наш Скачко, твердолобый куркуль, и тот бы меня понял. Вспомнил бы своих детишек, ради которых горло готов грызть, и понял бы! – Вилли не на шутку раскипятился, вскочил с кресла и зашагал по комнате.
– Ну, успокойся. Я ведь нарочно. Тебя подначиваю. Чтоб ты определился сам с собой. А чем метаться по квартире и пугать моего Барса, – тут Лена кивнула в сторону огромной кавказской овчарки, которая одуревшими со сна глазами следила за передвижениями генералиссимуса, – ты бы угомонился и сел. И занялся делом. Надо прикинуть наши возможности и подвести итоги тому, что мы на сегодняшний день имеем с гуся.
Вилли, пробурчав еще нечто разгневанное и невразумительное, плюхнулся обратно в кресло. Барс, убедившись, что будоражащих его сон метаний более не предвидится, зевнул, положил морду на передние лапы, и сладко засопел.
– Ладно, давай своего гуся, и сигареты кинь заодно. Как начал с Эрнестом Юрьевичем тянуть за компанию, так теперь бросить не могу, – пожаловался Вилли. – Впрочем, от курения я точно не загнусь. Это было бы смешно.
С гуся они имели не так, чтобы очень много, но и немало. Положение дел обнадеживало. Хотя это были даже еще не дела, а только самое их начало.
С Васей Скачко пока все шло по плану. Его «извращенная лужайка» колесила целое лето по южным, курортным городам и весям, и гастроли сложились более чем удачно. Еще бы! Вася не просто раздал долги и проценты, но полностью умудрился выплатить банковский заем. Теперь ему предстояло поработать на благо их секретного сообщества. Которое Лена для удобства обозначила под кодовым именем «Крестоносцы удачи».
Скачко, что, впрочем, было вполне ожиданным, по привычке и в силу неразумности, попытался торговаться с генералиссимусом. О будущем финансовом вкладе в общую кассу и о доле собственных удач. Но был строжайше остановлен и вразумлен внушением о том, насколько неуместен здесь торг. Вилли раз и навсегда, причем в сильных и местами непечатных выражениях, разъяснил Васе все спорные пункты их договора. Что Вася отныне может и должен делать только то, что ему велено. Что личное мнение его, Васи, потребуется лишь в том случае, если генералиссимус захочет его услышать. Что финансовое его участие в делах сообщества не его собачьего ума дело. И что если он, Вилли, прикажет ему снять с себя последние штаны, то Вася сделает это так быстро, насколько ему позволят собственные габариты и покрой этих самых штанов. А если господину Скачко что-то не нравится, пусть скажет об этом немедленно, Вилли тут же пойдет ему навстречу и мигом смотается к паутине, чтобы вернуть Васю в прежнее, свободное от удач состояние. Благо Скачко уже достаточно его разозлил. Василий Терентьевич на этом месте переменился в лице до бледно фиолетового цвета, какой бывает исключительно у несвежих мертвецов при лампах дневного освещения, и тоскливо залепетал оправдания. О том, что он «токмо волею пославшей мя жены», а самому ему вообще ничего не надо, и через слово плаксиво поминал обоих своих детишек. На это Вилли ответил ему коротко и беспощадно, что детишкам, само собой, он ни в коем разе голодать и холодать не даст, но если их дурак-папаша хоть на полслова проговорится своей супруге, то будет худо и ему и ни в чем неповинной жене. Скачко, услышав такое обещание, напугался уже до совершенно синюшного оттенка, и заверил генералиссимуса, что насчет жены он пошутил, и, вообще, премного благодарен.
А с прошлой недели Василий Терентьевич приступил, с изрядным рвением и оптимизмом, к организации певческой карьеры Рафы Совушкина. Сам же Рафа был отправлен генералиссимусом, приодетый и снабженный денежным довольствием за счет последнего, на те же южные курорты, проветриться и возобновить кое-какие знакомства в эстрадных кругах. Никаких особенных инструкций Рафе давать не потребовалось, его естественное бесшабашное поведение в этом случае было как раз тем, что доктор прописал. Рафа пыжился, сорил деньгами, хамил и делал туманные намеки на счет высоких покровителей. Уж конечно, при нынешней своей удаче, сумел заинтриговать и заинтересовать своей персоной некоторых устроителей эстрадных передач и концертов. А, заинтересовав, сразу отсылал алчущих к своему продюсеру господину Скачко Василию Терентьевичу, как то и было условлено заранее. С Василием Терентьевичем, уже приобретшим некоторую известность благодаря успехам «лужайки», связывались по телефону. Тот отвечал, что да, согласен рассмотреть предложения, как только вернется в Москву.
С Рафы доход выходил пока небольшой, позабытая его личность требовала изрядной раскрутки. Но Скачко «очень удачно» получил новый банковский кредит, и певческая слава Рафы Совушкина, на сей раз, выступающего соло, была видна не за горами. По крайней мере, имелось приглашение и на праздничный ноябрьский гала-концерт в зале «Россия», и устроители «Дня милиции» тоже желали видеть Рафу в числе исполнителей. Совушкин не кочевряжился. Деньгам был рад и брал, сколько давали, не считая. Похоже, материальной стороне дела Рафа придавал не слишком большое значение. Его, как ни странно, заинтересовал Дружников и главная цель «Крестоносцев удачи». Вилли этим фактом остался приятно удивлен. Ведь именно от Совушкина он ожидал львиную долю проблем и неприятностей. Рафа же напротив, усмирялся в считанные секунды, стоило ему лишь намекнуть, что так нужно для дела. Совушкин даже умудрялся держаться и не устраивать скандальных попоек, хотя, судя по всему, воздержание требовало от него нешуточных усилий. Вилли иногда и поражался тому, как переменился его буйный старый знакомец. А может, думалось порой генералиссимусу, Совушкин и не менялся вовсе. И был таков от собственной своей природы, которая ждала лишь случая и своего первооткрывателя, чтобы проявится в натуральном, присущем ей виде. Ведь изначально челябинский парнишка приехал в далекую столицу не за славой и не за длинным рублем. Он хотел только одного – петь свои песни, и чтобы как можно больше людей эти песни слушали и любили. Но попал в водоворот, и по молодости лет не устоял, остался без цели и без смысла, одинокий на суше и на воде, среди тигров и акул, которым палец в рот не клади. Младенец в джунглях. Да что греха таить, он, Вилли, тоже немало способствовал падению Совушкина. Именно своим халявным везением…
Эрнест Юрьевич Грачевский же и вовсе хлопот никаких не доставлял. Неожиданно для окружающих, но не для «Крестоносцев удачи», вблизи Эрнеста Юрьевича вдруг возник полномочный представитель издательства «Мудролюб», новорожденного, но имеющего солидную денежную базу и хорошую крышу, и осчастливил несчастного изгоя «щедрым» предложением. Заключить эксклюзивный контракт на все прошлые произведения Эрнеста Юрьевича за разовый гонорар в размере десяти тысяч долларов, сроком на пять лет. А за каждую новую книжку «Мудролюб» намерен платить автору три тысячи тех же долларов плюс десять процентов от реализации. Грачевский был готов рыдать от счастья, но Вилли слезы радости старику живо утер и разъяснил, что условия те чистое надувательство. Переговоры с «Мудролюбом» велел потянуть некоторое время. Сам же предпринял кое-какие шаги. Не обошлось и без Лены Матвеевой. Которая, через свои немалые на нынешний момент связи, подняла вопрос. Доколе общество будет издеваться над органами, стоящими на страже интересов этого самого неблагодарного общества, и в частности, над одиноким стариком, незаслуженно и несправедливо оклеветанным. Между прочим, доказывала, где следует Лена, старик к сотрудничеству пришел добровольно, вреда никому не нанес и вообще, бросать своих плохо и аморально. К тому же времена сейчас не те. Там, где следует, майору Матвеевой были должны не одну услугу, и потому несколько весьма влиятельных газет откликнулись оправдательными статьями в адрес писателя Грачевского. При этом печатные издания допустили намек, что более беззаконно обижать своего коллегу по перу не позволят, и пригрозили расследованием похитителям авторских прав. Грачевский снова стал необычайно популярен. Первым все понял и одумался все тот же молодой да ранний «Мудролюб». И про статьи, и про то, откуда нынче ветер дует. Ветер дул с Лубянки. «Мудролюб» без промедлений предложил Грачевскому новые условия. И совсем другие, «фантастические» деньги. Эрнест Юрьевич, после того, как Вилли до мельчайших подробностей изучил контракт, с предложением согласился. Теперь дело стало за малым. Эрнеста Юрьевича требовалось помаленьку выводить в свет. Для начала его «засветили» на канале «Культура», где Грачевский, миролюбивый, велеречивый и глубоко образованный, что само по себе уже редкость, пришелся как нельзя более ко двору. Но нужно было обдумать и следующий шаг. В каком именно направлении продвигать Эрнеста Юрьевича, чтобы он оказался как можно ближе к кругу обращения Дружникова.
Загвоздка вышла с одной лишь Илоной. Которая пока так и маялась без применения. Совсем не потому, что Вилли жалел и зажиливал ее долю удач. Спустя месяц после пребывания в клинике Вилли, как и обещал, перевез Илону на новую квартиру, снятую на ее имя в Филях и за весьма за приличную цену. Квартира была неплоха. А по сравнению с ее прежним коммунальным гадюшником, так просто казалась царскими хоромами. Илона так же получила достаточную сумму «подъемных» и деньги на восстановление хоть в малой степени своей былой красы. Госпожа Таримова не скрывала глубокой и трогательной благодарности, порой принимавшей столь пылкие и слезные формы, что Вилли делалось стыдно и не по себе. Илона уверяла, что отныне согласна на любые услуги, если те необходимы ее благодетелю, пусть и в кино, которое, по правде говоря, стало ей до тошноты противно. Все было радужно и обнадеживающе то той поры, пока Илона не попала на первое заседание их тайного общества.
Это случилось еще до того, как Лена Матвеева вошла в организацию на равных правах с обладателями вихрей удачи и присвоила им славное имя крестоносцев. А Вилли, к собственному своему разочарованию, с ситуацией не справился. Знакомство госпожи Таримовой с будущими крестоносцами провалилось с впечатляющим треском. Илона испугалась. Настолько, что после заседания в слезах умоляла генералиссимуса отпустить ее на свободу, уволить и помиловать. Даже готова была немедленно вернуться в коммунальную теплушку к Мане, а деньги клялась вернуть по частям. Илона молитвенно заламывала худые руки, попыталась и встать на колени, чему Вилли едва успел воспрепятствовать. Работать с ней в подобных обстоятельствах выходило невозможным совершенно. Или же иначе единственно реальным шагом представлялось сломить ее сопротивление простым пожеланием. Но Вилли не захотел даже теперь уподобиться Дружникову. Свободную волю он уважал. И ломать вот так, об колено, несчастную женщину, не причинившую ему никакого вреда, почитал делом пакостным и недостойным.
Вилли остался разочарован. Все же Илону он уверил в том, что против ее воли ни о каком сотрудничестве между ними не может быть и речи. Но предложил и далее пользоваться наемной квартирой и материальным вспомоществованием, благо, что в виду увеличения собственного содержания от Дружникова, он мог почти безболезненно снести такой расход. Однако и попросил о единственной вещи. Просто подумать и подождать. И в будущем дать генералиссимусу еще один шанс. Если нет, так нет. Но вдруг госпожа Таримова заскучает в бездеятельности, захочет настоящего дела, достойного человеческой жизни, отдохнет и оправится настолько, что сможет выслушать его доводы и причины еще раз. В результате Вилли удалось выговорить для себя право навещать и опекать госпожу Таримову. Но и только. Пару раз побывав на квартире в Филях он и заикнуться не осмелился о переменах, такой ужас от присутствия его персоны читался в темных глазах женщины.
С посвящением Лены ситуация стала понемногу меняться. Лена сразу же объявила Вилли, что в данном случае он все сделал и делает неправильно, и что психолог из него всегда был и есть никудышный.
– У бедняжки и без того темная полоса. Мужик кинул, карьера загублена и в жизни смысла не осталось. Да притом только что из психушки! Одно это подорвет веру в себя. У кого угодно. А здесь одинокая, совсем беспомощная женщина, – безжалостно приговорила тогда Лена бесплодные старания генералиссимуса. – Из тебя кадровик, как из юродивого резидент разведки.
– Ты пойми, я думал она сможет. Я все узнал о ее прежней жизни. Трудолюбивая, отзывчивая, стойкая. Все бросила, не побоялась, сбежала из дому. Настоящий боец. Ну, вроде тебя, – оправдывался, как мог, Вилли.
– Вроде меня таких вообще мало. Хотя спасибо за комплимент, – ответила ему Лена и странным, долгим взглядом задержалась на длинной тощей фигуре генералиссимуса. – Но Илона никакой не боец. И никогда не была. Даже в лучшие времена своего расцвета. Факт ее побега только подтверждает мой вывод. Настоящий боец никуда бежать не станет, он примет вызов на месте и драться будет до последнего. А бежала она от безысходности и бессилия что-то изменить. Как рецидивист с каторги. Всю ее остальную жизнь госпожу Таримову вели другие. Она не сопротивлялась и не сверяла направление.
– Так что же, отказаться? – спросил тогда Вилли, и поежился. Лена все так же не сводила с него глаз. От этого генералиссимусу одновременно делалось неловко и приятно.
– Ни в коем случае. Хотя действовать надо по-другому. Использовать втемную. Пусть успокоится, начнет радоваться жизни. Привыкнет к нашей заботе. А там уж можно будет предложить ей вернуться к работе. В кино, на телевидении, все равно. Но сделать это нужно ТОЛЬКО ради нее. Никаких стратегий, никаких, упаси боже, крестоносцев. Исключительно по дружбе и в силу сочувствия. Ну вроде, как ты искупаешь некоторую перед ней вину.
– Но это же нечестно? – в расплывчатой форме вопроса неуверенно возразил Вилли.
– По отношению к кому? Ты даешь Илоне новую жизнь, она взамен дозволяет тебе участвовать в ней. Ты ее защищаешь и опекаешь, а для равновесия используешь, где необходимо. Если однажды Илона явится на великосветскую вечеринку в сопровождении человека, которого считает своим искренним другом, так ведь этого нам и надо? Обо всем остальном пусть забудет.
Генералиссимус тогда с Леной согласился. Затем майор Матвеева взяла посредничество и общение с Илоной на себя. И, надо сказать, небезуспешно. Ее госпожа Таримова отчего-то не испугалась вовсе. Что-что, а искать и находить подход, обнаруживать слабые струны человеческих душ все же было у Лены профессиональным навыком. С госпожой Таримовой она подружилась. И теперь Лена давала отчет о результатах этой дружбы.
– До полной победы еще далеко. Но попробовать уговорить ее мне удалось. Ведь все равно без дела дома сидит. Так какая разница? Илона только робеет и стесняется, как гимназист в борделе. И ноет. Куда я одна пойду? Да вдруг узнают, что я в психушке лежала? И с бывшим муженьком ей стыдно встречаться. Ну, я ей объяснила, кто и чего в этом случае стыдиться должен. Мне пришлось пообещать ей, что в киношный мир за зипунами она пойдет не одна.
– А с кем? Конечно, с тобой? – на всякий случай осведомился Вилли. – Потому что со мной она не пойдет точно.
– Ага, делать мне нечего, как твоей Илоне эскорт составлять! Ты, милый друг, не наглей! – слова «милый друг» Лена Матвеева выговорила с особенным удовольствием. – У меня, между прочим, своя работа. И ее, как говорится, выше крыши. Тем более, в стране грядут перемены. Какие, пока не скажу. Хватит с тебя собственных забот. Пусть с ней Рафа идет.
– Кто? Да ты что? Он же из наших! Илона его как увидит, так в обморок хлопнется! Это ты ей про себя можешь втирать, будто ты моя двоюродная сестра, и я попросил тебя позаботиться об одинокой женщине. А с Рафой она знакома и знает, что он из крестоносцев! – генералиссимус чуть было не вышел из себя от нелепости предложения.
– Вилли, поверь ушлой бабе и прожженной авантюристке! Они поладят, век мне две звезды на погонах не видать. Тут дело не в том, кто такой Рафа, а в том, что Совушкин подходит ей по типу восприятия. Он легкий человек, ни на чем не заморачивается. За женщинами ухаживать умеет, своеобразно, правда, но вполне подходяще к случаю. Не то, что ты. Монах на гусарской попойке, – сказала Лена с явной досадой и даже укоризной.
– Пусть Совушкин, – нехотя согласился Вилли. И вдруг, словно озаренный некоей идеей, воскликнул:
– Слушай, а что если написать письмо Дружникову!?
– Письмо Дружникову? Про Илону? Зачем? – не поняла Лена.
– Да не про Илону! Причем здесь Илона! К шуту гороховому Илону! Я про Аню говорю. Мол, так и так. Дескать, мне стало известно, что Анюте грозит гибель от двигателя. Может быть, он ее отпустит? Ведь так или иначе, его любви конец.
– Думаешь, Аня сразу же побежит к тебе? – несколько прохладным тоном спросила его Лена.
– Не думаю. Там же Павлик. И пусть не бежит! Дело не в этом! Дело в том, что жива останется! Дружников, если такой умный, пусть ее теперь по-честному добудет. У него же все средства. И деньги, и положение, и сын. Как думаешь? Напишу и передам через Каркушу. Меня Дружников лично ни за что не примет. Я ему как бельмо и скелет в шкафу. Видеть меня не может и выкинуть боится. А письмо он возьмет. Хотя бы из интереса.
– Письмо-то он возьмет. Только это самая хреновая стратегия, какая возможна. Подумай сам. До сих пор Дружников был уверен, что ты ничего не знаешь о его гнусной проделке, и оттого спал спокойно. И тебе позволял. Когда же ты объявишь, что в курсе, как он заполучил Анюту, то, считай, половина наших карт раскрыта. Дружников сразу поймет, что Зуля рассказал тебе все. И тогда он одной левой прихлопнет и нас и наших крестоносцев. Он хитрый и найдет способ. Ведь убрал же он Вербицкого, – напомнила Лена.
– Ну, положим, крестоносцы не Вербицкий, у них, положим, у каждого полноценный вихрь, – в задумчивости произнес Вилли.
– Все равно. Письмо должна написать я. Хотя большой пользы от него и не предрекаю, – постановила Лена.
– Нет, ты сегодня однозначно не в своем уме! Как ты объяснишь? Ну, допустим, покойный муж был с тобой откровенен. Но ты то… Господи, Лена, ведь у тебя никакого вихря нет! Из всех крестоносцев, единственно у тебя! О чем я думал вообще, когда тебя втягивал! – генералиссимус в расстройстве пребольно стукнул себя по макушке. Ойкнул. – Так мне, дурню и надо. Ты понимаешь, что после этого письма у него не будет ни одной причины оставить тебя в живых?
– Ну, убрать офицера ФСБ без шума и пыли не так-то просто. Тем более, если этот офицер намекнет, что на случай своей смерти приготовил в надежном месте кое-какие документы и распоряжения. А ссориться со всей Лубянкой у Дружникова руки коротки. Ты ведь говорил, любые твои желания единичны и не всегда могут предвидеть долгое будущее. Может и с двигателем то же самое? – спросила Лена, побледневшая и взволнованная. Пылкая тревога генералиссимуса за ее жизнь и судьбу грела ей сердце. И Лена знала теперь, отчего это так.
– Может быть. Но, если все же Дружников захочет рискнуть? – продолжал настаивать на своем Вилли, ибо план Лены Матвеевой пришелся ему совсем не по душе. Подставлять свою голову, это куда ни шло. Но чужую?
– Я думаю, он захочет поторговаться. Обменять Аню на что-либо выгодное для себя. Или на мое молчание. А я пойду ему навстречу. Даже если это окажется ловушкой, все равно, хоть какой-то шанс. Так что, будем писать письмо. От моего имени. Уж, чтобы Дружников его получил, я озабочусь. Отправлю с нашей почтой и маркировкой. Такой конверт, с пометкой «лично в руки», Дружников вскроет непременно. А сейчас, не хочешь со мной поужинать? Есть пицца из супермаркета, – с надеждой в голосе предложила Лена.
– Да поздно уже, поеду домой. И Костю пора отпустить. Целый день со мной крутится, – отговорился Вилли. Пицца, если честно, его не очень прельщала. Но, увидев не на шутку огорченное лицо Лены, передумал. – Знаешь что? Не надо пиццу. Давай загуляем по-купечески и поедем в шикарный ресторан. В «Узбекистан», например. Только возьмем такси.
– Давай, – согласилась Лена и расцвела на глазах. – А такси не надо. Поедем на моей каракатице. Все равно с удостоверением никакой патруль нам не страшен, хоть до смерти упейся. Да, ты же теперь трезвенник! Вот и сядешь за руль. Выгуляем Барса и поедем. Хорошо?
И, не дожидаясь ответа, Лена свистнула собаке.
Уровень 49. Лихо, покинутое сном
Дружников стоял в центре своего кабинета, внешне величественный и спокойный, будто монумент Матери-Родине. Но изнутри его сущность раздирали в клочки противоречивые и плохо контролируемые чувства. Выкаченные и остекленевшие, как у игрушечного паяца, глаза его упирались фокусом в лежавший на столе лист бумаги. И машинально повторял он снова и снова одни и те же слова. «Если у тебя есть совесть», «иначе она умрет», «останови двигатель, пока не поздно». Фразы вонзались в мозг, отпечатывались и коварно уплывали прочь. Оттиски их крутились вокруг имени «Елена Матвеева», которым и было подписано послание на бумаге.
Холодная дрожь провидения, безумная ярость, панический страх за себя и тоскливый за Аню, злость, ревность, раскаяние и жаркий, беспредметный гнев на все вокруг одновременно вспыхнули в Дружникове, и ни одна из пробудившихся сил не желала уступать свое место другой. Пока бушевавшая внутри него безжалостная схватка не подошла к концу, он так и стоял памятником, отданным во власть собственных демонов. Но вскоре то, что должно было победить, восторжествовало над нежелательными и менее упорными в борьбе побуждениями, и Дружников очнулся.
Первым делом он с садистской медлительностью разорвал на четыре части ужасное письмо. Потом, так же неспешно и с жуткой для постороннего, человеческого глаза улыбкой, сжег каждый кусок по отдельности, за неимением пепельницы, прямо на бронзовой подставке декоративной, старинной чернильницы. А когда последний фрагмент рассыпался искрами и прахом, смахнул черный, пепельный холмик на паркетный пол и в пыль растер его носком ботинка…
Вот так. Предупреждение многое объясняло. В главную очередь все те ненормальности, которые Дружников, чем дальше, тем больше подмечал в поведении Анюты. Написанному в письме он поверил безоговорочно. Да и собственное чутье, по правде говоря, уже раньше наводило Дружникова на похожие подозрения. Однако, приговор своей любимой Олег Дмитриевич вынес мгновенно и без колебаний, как только возвратил себе способность чувствовать и рассуждать. Если такова цена, что ж, значит, Аня умрет. Потому что отпустить ее на волю было никаким образом невозможно. И разве у него есть выбор? Допустим, он разнюнится и, в порыве великодушия, дарует бедной, приговоренной женщине свободу. Любимой, между прочим, женщине, матери пока единственного, но самого дорогого на все времена, сына. Можно подумать, кто-то скажет ему за то спасибо. Как же. Едва Анюта обретет самостоятельность от двигателя и увидит воочию собственную жизнь, раздавленную мегатоннами вранья и предательства, сколь долго, спрашивается, она пребудет подле Дружникова? Ровно столько, сколько потребуется, чтобы высказать ему в лицо то, что любимая женщина о нем думает. Он достаточно хорошо успел узнать свою Анюту, чтобы понять – никакие дети, блага и привычки не отсрочат возмездия и на малую секундочку. В лучшем случае она станет презирать его в ничтожестве двигавших им желаний. А в худшем… Конечно, такие, как Анюта, не опускаются до мелкой и крупной мести. Но что помешает ей примкнуть к его врагам? Ибо впервые в своем сознании он назвал Вилима Александровича Мошкина врагом. Ладно бы, если примкнуть. Она вернется к НЕМУ, и надо ли уточнять, что ОН примет ее с распростертыми объятиями. И кто запретит ненавистной легавой сучке Матвеевой рассказать ИМ всю правду? Она знает, о да! Ничто на свете не воспрепятствует Анюте увидеть и осознать эту правду. И наслаждаться далее жизнью со своим прежним любовником, проклиная и ненавидя его, Дружникова. Уж лучше он упокоит свою любимую в гробу! Опять же, Павлик. Забрать его в новую семью сейчас совершенно немыслимо, оставить с матерью – значит навсегда отлучить от себя. Тогда его враг будет воспитывать его же собственного сына! Чего доброго, научит Павлика называть себя папой. Дойдя до этой мысли, Дружников не выдержал. Со стола вмах полетели с оглушающим грохотом и бронзовая чернильница, и портативный ноутбук и хрустальная, в золоте подставка для карандашей, и три телефонных аппарата, папки, бумаги и ежедневник с платиновой монограммой.
Секретарша Вика, уж конечно, слышала ужасающие, буйные звуки, доносившиеся из кабинета шефа, но, вышколенная и смертельно напуганная, она даже не подумала нарушить без вызова запретное уединение. И правильно сделала, иначе ее нервы ждало бы непосильное испытание и глубокое сомнение в дееспособности своего хозяина. Ибо зрелище скачущего вокруг стола, в эпилептическом бешенстве топчущего ногами поверженные обломки Дружникова было невероятным по своей абсурдности.
Однако, превратив собственный кабинет в некое подобие картины Брюлова «Последний день Помпеи», Дружников постепенно успокоился. Правда, физически, отнюдь, не душевно.
И Дружников стал размышлять. Размышления его, вызванные экстренными обстоятельствами, всегда носили брутальный и роковой для предмета раздумий характер. Но и злобное раздражение присутствовало в них. Свидетели его сокровенных тайн плодились и расползались как тараканы. Когда, к радости Дружникова, его бывший друг и нынешний враг покончил с надоедой Матвеевым, казалось, вот оно долгожданное удовлетворение спокойствием. Куда там! Оказывается, трусливый, жалкий придурок проболтался своей жене. Оказывается, жена эта, вопреки естественному чувству самосохранения, намерена вмешиваться и вмешается во внутренние дела семьи Дружникова. И чего доброго вот-вот может просветить своего приятеля-собутыльника насчет этих дел. Хорошо хоть, до такого не дошло. Иначе письмо было бы подписано другим именем, и им одним дело бы не ограничилось. Ради Ани, наверняка, Мошкин пошел бы на что угодно. Только вот беда, удовлетворенно хмыкнул про себя Дружников, двигатель помешал бы его врагу применить необдуманные и жестокие средства борьбы. Пока же Мошкин вел себя тихо, и, по отзывам Иванушки, никаких личных обид не высказывал и неприязненных выражений в адрес бывшего компаньона не дозволял. Значит, ежеутреннее послание Дружникова регулярно доходило до адресата. А недавно адресат этот потребовал, понятно, в мягкой форме, увеличения личного, денежного довольствия. Дружников тут же дал. Охота Мошкину дурака валять, изображая из себя отца-благотворителя, пусть тешится. Все равно спасибо ни от кого не дождется, и может, хоть тогда образумится. Но на периферии тревог и забот Дружникова по поводу бывшего своего соратника, проглядывало и легкое беспокойство. Согласно последнему донесению Каркуши, дела у подопечных Мошкина шли в гору. Уж не обрел ли его враг прежнюю способность порождать вихри удач? Утверждению, что дар этот утерян им навсегда, Дружников не очень-то верил. Мало ли, как оно есть на самом деле. Да вот беда, бывший друг мой ситный, одного вихря-то недостаточно! И двигателя недостаточно. Тут нужен человек подходящий, к примеру, такой, как он, Дружников. Который знает, а главное, хочет и может, использовать приобретение по назначению. А с его подопечными, пребывающими в слюнявой убогости, Мошкин никакого воображаемого общественного блага не построит. И вообще никакой прибыли не наживет, кроме геморроя. Дружникову весь этот цирковой балаган не помеха. Вот только письмо!
Естественным и самым быстрым оказалось побуждение покончить с автором послания если не с помощью Муслима, то, по крайней мере, самому запачкать руки. Что двигатель может быть идеальным орудием убийства, Дружников понял еще тогда, когда воспользовался им против Танечкиного мужа. Двигателю равно безразлично, благое или дурное начало руководит его хозяином. Лишь бы желание было искренним, и у жертвы не имелось бы собственной паутины. А уж Ленку Матвееву прикончить самому вышло бы истинным наслаждением. Но чересчур опасно. Ох, не к добру эта фраза в письме: «не советую предпринимать необдуманные меры, на сей счет имею традиционную страховку». Понятно, какую. Ему бы совсем чуть-чуть выиграть время. Громадная промышленно-финансовая империя, созданная Дружниковым потом и кровью, преимущественно чужой, вот-вот должна была преобразоваться в империю политическую. Змееныш вылуплялся из яйца. Недаром окучивал Дружников кремлевские огороды. Выборы, и не какие-нибудь, а президентские, не за горами, и кто будет иметь на них самый высший шанс? Дальше уж он развернется. Единственная темная лошадка и камень преткновения как раз и есть та самая организация, которая надежно прикрывает стерву-Ленку. Дружников, чего уж греха таить, их всех побаивался. И не на шутку. Причин к тому имелось достаточно. Не говоря уже о тайном арсенале Лубянской крепости, по слухам, самом сверхъестественном и неожиданном. Может, у них свой Мошкин имеется, да и реального Мошкина с подачи той же Матвеевой разве не по силам им заполучить? Никогда, пусть он даже сдохнет от перенапряжения, всю эту громадину, пронизанную каналами темными, держать в подчинении с помощью одного двигателя не удастся. И Дружников славному детищу Феликса Эдмундовича со всеми своими наполеоновскими планами – лишний гвоздь в железном сапожище. Не пойдет Лубянский форт к нему в услужение и добровольно не выкинет белый флаг. Это тебе не армия, не Государственная Дума и не Кабинет Министров. Эти сами все могут и сами все хотят. Да на беду желания их, зараженные все той же бациллой неведомой государственной пользы, которую Дружников в упор не видел, лежат в плоскости, ему противоположной. Вот и получится рак и щука, хорошо хоть еще без лебедя. Потому ссориться с Лубянскими викингами ему никак пока нельзя. Ну, да ничего. А вот после выборов!.. После тоже нельзя. Зато можно подкупить и заинтересовать, аккуратно заигрывая и ублажая. А до тех пор Матвеева пусть себе живет. До будущей весны. Когда все решится. Дружников на происки против конкурентов и тайную полицию не намеревался тратиться, надеялся на две самые надежные вещи в мире. На себя и на свой вечный двигатель.
С Матвеевой он потянет время. Согласится для виду помиловать Анюту, а там уж долго и нудно будет торговать условия и требовать гарантий. О молчании и невмешательстве. Дружников немедленно принялся обдумывать свой «ответ Чемберлену». Да наплевать! Он тоже напишет письмо, а Муслим кинет его прямо в почтовый ящик квартиры. Сегодня двадцать второе декабря, пока Матвеева получит и распечатает, не каждый день дома, плюс, допустим, два дня. Значит, на двадцать четвертое. Где? Да здесь же. Пусть придет на общих основаниях через приемную, как просительница. От возможности, хоть и наивной, унизить свою врагиню, Дружникову стало сладко.
Само же письмо далось Лене нелегко. Вилли вдруг заартачился. Да и она тоже была отчасти виновата. Вернее, тот незапланированный ужин, с которого все и началось. Или еще раньше, когда с Леной Матвеевой произошла непростительная глупость. Себя же уговаривала, что воздает за мужа, спасает подругу и пролагает дорогу торжеству справедливости. Все это, конечно, тоже присутствовало. Только не одно. А хотелось ей, до испуга и в тайне от себя самой, и дальше как можно ближе и тесней общаться с Вилимом Александровичем Мошкиным. Видеть его, слышать его голос, иногда, будто случайно, дотрагиваться до его руки или плеча, помогать во всем, все равно в чем, и чтоб так было всегда. Лена даже и не осознала, как влюбилась, крепко, намертво и без возможности отступления. А ведь знала его «сто лет»! Знала как Вилли, как Вальку, как мальчика Вилку, как друга покойного мужа и как вечного Анютиного рыцаря. Да полно, знала ли? Выходит, что нет. В школьных классах он был ей мало интересен. Правильный, тихий и со странностями, к тому же, чужая собственность. Далеко не красавец, тем более по сравнению с кудрявым, розовощеким, общительным Зулей. Белобрысый и худой как шест Сергея Бубки, не спортсмен и не победитель ученических олимпиад. Лена на посторонние темы общалась с ним тогда досадно редко, воспринимая, скорее, как неизбежную мебель в Анечкином окружении. Вдобавок еще и слабак – дважды при ней мальчик Вилка падал в обморок от обид, нанесенных ему Аделаидовым-младшим. А после Чернобыльской катастрофы и вовсе разнюнился, в больнице мыл горшки. Знай она тогда! Все равно ничего бы, глупая девчонка не поняла.
Затем случился Дружников, которого Вилли притащил в их компанию и на их головы. В этом тоже был в ее глазах виноват. Правда, потом Вилли удачно помирил ее с женихом, но полного оправдания себе не сыскал. А уж история с уводом Ани, почитай, его лучшим другом, совсем вышла из ряда вон. Лена стала его презирать, конечно, заочно. Как же так, не сопротивляться и не сделать ни единой попытки вернуть свое! Тоже рыцарь, называется. В придачу дружил с ними обоими и дальше, как будто ничегошеньки не произошло. Слабак и есть. Но когда Дружникову удалось втравить его в свои сомнительные начинания, Лена мнение переменила, хотя и не до конца. Картины будущего, которые восторженно рисовал перед ними тогдашний Валька, пусть и утопические совершенно, принимали на себя свет его веры и вдохновенной правды, волей-неволей призывали к чему-то радостному и высокому, и Лене тогда же сделалось его жаль. Потому, что она давно поняла, кто такой Дружников и предполагала, как тесно ему будет рядом с радужными планами своего компаньона. И не ошиблась. Но вновь особого внимания на личность Мошкина не обратила. У нее хватало собственных неприятностей. Однако, Лена, в силу давнего знакомства, как бы само собой разумеющимся образом, стала захаживать в однокомнатную берлогу отлученного изгнанника, и не столько сочувствия ради, сколько от того, что надо же было ей к кому-то пойти. Они не делились горестями, а тихо выпивали в беседах ни о чем. Но после Зулиной гибели все поменялось. В ее учреждении добросовестные наставники приучили Лену складывать два и два, хотя бы эти двойки и не были видны явно и напрямую связаны. Жалость ее преобразилась в интерес и участие. И Лена открыла для себя новый смысл жизни. Слабак и неудачник на ее глазах переродился в личность загадочную и удивительную, чем дальше, тем больше достойную восхищения. Лена уже не понимала, как это она могла когда-то думать иначе.
На первых порах бороться с непрошенным, незаконнорожденным чувством Лена не могла, просто потому, что не знала о его существовании. А когда узнала, то некоторое время пыталась выдать за естественную симпатию братьев по оружию, и бессмысленно обманывала себя. Пока дело не зашло слишком далеко, и обычная дружба стала для Лены не только неудовлетворительным, но и тягостным вариантом отношений. Пришлось узнать и жгучую ревность, и обиду на несправедливую жизнь, научится хитрой стратегии заманивать и расставлять капканы. С Зулей все было как-то проще и дешевле, возможный проигрыш не носил на себе печати катастрофы. И ведь Лена все знала про Вилли и Анюту. Экзамен на верность и прочность оказался страшен. Она, как библейский Иаков, билась с богом и ангелом, и так же покалеченная, но победившая, встретила утро. Решение оказалось жестоким и простым. Пока она нужна Вилли, пусть он будет ее. Хоть малой частью. Потому что в его сердце ничего изменить нельзя, это так же понятно и непреложно, как обращение небесных тел. После, если все получится, и Аня с их помощью ускользнет из лап Дружникова, что же, пусть возвращается к ней. Лена не уподобится его мучителям и отпустит любимого на все четыре стороны. Даже придумает и сделает так, чтобы ему легче было уйти. Но до этого еще ой! как далеко. И каждый имеет право на толику счастья.
Тогда, в ресторане «Узбекистан», раз уж выпал случай, Лена отважилась, как пушкинская Татьяна, на спорный в смысле результата, и отчаянный шаг. Объясниться первой, невзирая на то, что Вилли может понять ее превратно и отлучить от «Крестоносцев удачи» или, в лучшем случае, положить конец их задушевным общениям и приятельской доверительности. Однако, когда вторая бутылка «Шабли» была опорожнена Леной до дна, и за столом между ними царила уже полная непринужденность, Лена, выбрав удачный просвет в разговоре, сказала заветные слова:
– А ведь я тебя люблю, – и посмотрела на Вилли голубиным, воркующим взором.
– И я тебя люблю, Леночка, – мягко ответил Вилли. По его интонации Лена сделала вывод, что он ничего не понял.
– Ты всех любишь. Даже Дружникова. Но я тебя люблю в том смысле, что я тебя люблю! – в горячке собственного чувства вскрикнула Лена, не громко, но Вилли не мог сослаться на то, что не расслышал. И, кажется, понял. Потому, что переменился в лице. Лена торопливо продолжала:
– Не могу сказать, что любила тебя уже давно или всю жизнь. Это было бы неправдой. Скажи мне кто-нибудь такую нелепость лет пять назад, я бы, наверное, расхохоталась. Да только пять лет назад я тебя еще не знала. И год назад не знала. Узнала, так может, и не влюбилась бы. Это называется силой обстоятельств. И люди меняются. Ты и я. Каждый в свою сторону. Я, к примеру, изменилась так, что полюбила изменившегося тебя, и сейчас не могу понять, как вообще могла жить без этого чувства.
Лена договорила и замолчала. Вилли молчал тоже, крутил нервно в руках сервировочный ножик. На Лену он не глядел. Тишина затянулась, стала неестественной и тревожной. Но Лена не решилась ее нарушить. Что хотела, она уже сказала, и теперь ей оставалось лишь ожидание. Однако, и Вилли не мог молчать до бесконечности. Видимо, он сам это понял, потому что, отложил вдруг ножик, и, по-прежнему не глядя на Лену, заговорил глухим от волнения голосом:
– Знаешь, у меня и раньше были другие девушки и были романы. Правда, короткие и несерьезные. Все равно, Анюте нашлось бы на что пенять. Если в этом вообще есть смысл. Но главное, всех своих подруг я честно и с самого начала предупреждал. Ты, наверное, догадываешься, о чем? – Вилли вдохнул воздух с явным трудом, будто пытался справиться с тяжкой ношей, давившей ему на грудь. Дождавшись от Лены знака, что она прекрасно понимает, о ком и о чем идет речь, заговорил далее:
– Я никого не обманывал и не заставлял. Но и в голову проблем не брал. Да-да, нет-нет. Колхоз, дело добровольное. С тобой я так не смогу! Ты будешь знать, и я буду знать, что ты знаешь. Если придет время выбирать, то есть, оно обязательно придет, иначе ведь Анюта… Не могу сейчас об этом. Но когда время придет, как я смогу выбрать? Это будет одна настоящая любовь и одна настоящая дружба, два долга, которые не отдашь одновременно. Я же не турецкий султан, чтобы держать гарем.
– А тебе и не придется выбирать. Я за тебя замуж не собираюсь. При моей работе это вообще противопоказано. Я уже раз попробовала и поняла – семья не моя стихия. С Анютой ты как хочешь. Можешь потом все ей рассказать. Не думаю, что Аня придаст этому большое значение, – оптимистически предложила Лена. Как она поняла из сбивчивой речи Вилли, ее не отвергают и не отсылают, а только пытаются объяснить то, что она сама знает и так. – Вилли, это же элементарная в природе вещь. Мужчины рано или поздно женятся, и при этом оставляют своих любовниц. Многие потом дружат без обид. Разве что, мое признание помешает делу крестоносцев?
– Никак не помешает. Лена-Леночка, может, одна ты и в силах себе представить, до какой степени я устал! – Вилли посмотрел на нее по-настоящему жалобно и с тоской. – Сомневаюсь иногда, вынесу ли я весь путь до конца. А что ждет в конце? Ты-то представляешь, что меня ждет в этом конце? Какой он будет? Ты офицер спецслужбы и даже уже майор, но скажи мне по совести, тебе приходилось хоть единожды в жизни кого-то убивать?
– Нет, никогда. Убийц я видела, и невольных, и наемных. И один, как я понимаю, сейчас сидит передо мной. Но я ни разу не подняла оружия на человека, хотя имею право его носить и стреляю неплохо, – Лена сказала все это в легком замешательстве, не понимая, к чему клонит ее вдруг посуровевший собеседник.
– То-то и оно. Это как незримая линия, которая делит людей на две половины. С одной стороны, те, кто лишь видел насильственную смерть, лично, в кино, по телевизору, в милицейских сводках, но на деле не знает, каково это, когда собственноручно лишаешь человека жизни. С другой, все остальные, подобные мне и Дружникову. Самое ужасное в нас то, что убить только раз нельзя. Не получается. Потому что, мы допускаем разрешение некоторых страшных ситуаций именно с помощью убийства. И в силах это сделать. Черту, отделяющую два мира, преодолеть трудно, больно, почти невозможно. По крайней мере, для большинства из нас. Но жить за этой чертой еще невыносимей. Хотя, может, не для всех. Но я про себя говорю. Я бы с радостью согласился, чтобы кто-то близкий мне был рядом и помог нести мой злополучный крест. И чтобы этот кто-то любил меня, несмотря ни на что. Но только, это будет игра в одни ворота. Моя-то любовь не делится на части. Она отдана целиком в иные руки. Разве это честно?
– Конечно, честно, – Лена улыбнулась, и, совсем осмелев, с чувственной нежностью погладила любимого по щеке. – Ты же сам, не далее, как минуту назад, сказал. Что честно предупреждаешь своих подруг и оставляешь за ними право выбора. Вот я и выбрала. К тому же, неизвестно, что нас ждет завтра. Вдруг, самое страшное… Не вздрагивай, ты не хуже меня все знаешь. Пока же, для облегчения нашей общей участи, давай жить под девизом: лови счастливый момент, завтра твое время может для тебя закончиться.
Уровень 50. Луна луневая
И они стали жить. Потихоньку и конспиративно. О том, чтобы поселится вместе, или хотя бы увеличить число свиданий, не шло и речи. Ни в коем случае нельзя было вызвать у Дружникова и его соглядатаев лишние подозрения. Серьезные отношения между Леной Матвеевой и генералиссимусом непременно обнаружили бы у Дружникова тревогу и пристальное внимание. Так что внешне между Леной и Вилли ровным счетом ничего не изменилось. Вилли ни разу не остался ночевать в ее квартире, хотя однажды вслух пожалел об этом. Его не смущало и то обстоятельство, что квартира, собственно, принадлежала когда-то и покойному Зуле тоже. Но с Зулей квартира никак не ассоциировалась, а была непременной принадлежностью Лены Матвеевой, и только. Лена же категорически запрещала наводящие на подозрения контакты, они по-прежнему встречались не более двух раз в неделю, и чаще всего в присутствии кого-то из крестоносцев, прибывших в штаб-квартиру по необходимости.
Вилли жалел о вынужденной редкости встреч. С Леной ему на удивление было очень хорошо. Даже слишком. Дело вовсе не заключалось в кратких, но бурных постельных удовольствиях, которых, как оказалось, Вилли тоже не хватало в последнее время. Лена, что и говорить, возлюбленной была страстной и многоопытной, но Вилли в жизни попадались дамы и похлеще. Зато из его повседневных настроений вдруг ушли, как бы сами собой, одиночество и печаль полководца, который единственный отвечает за всех и за все, не имеет ни права на ошибку, ни права на человеческие слабости, и живет в полной, отрешенной от своих солдат недосягаемости. Он оказался теперь в сладостном положении генерала, у которого имеется толковая, преданная подруга или жена, одним словом, мать-командирша, руководящая и вверенным гарнизоном и, непосредственно самим его превосходительством. Перед ней он имеет возможность быть слабым и строптивым, непонятливым и капризным ребенком и вообще, самим собой. Нет нужды притворяться фараоновой статуей и богоподобным генералиссимусом. А ведь в его жизни малейшее облегчение ценилось на вес чистейших бриллиантов.
Первый серьезный спор, в котором мать-командирша одержала верх, разгорелся по поводу пресловутого письма. Вилли пробовал возражать и запрещать, в силу новых, обретенных им прав и обязанностей по отношению к подруге, но Лена его разглагольствования живо пресекла. Там, где начинается дело, нет места личным тревогам. И напомнила об Ане и ее будущей судьбе, и что тайный козырь лучше всегда держать про запас. Об Анюте, как ни странно, Лена говорила совершенно спокойно, и даже порой спекулировала ее именем, чтобы удерживать любимого от необдуманных поступков. Словно заботливая мать, которая добивается от сына примерного поведения, обещая ему в будущем награду в виде новой машинки или роликовых коньков. Письмо, конечно, было написано от имени Лены и составлено в предложенных ею выражениях. А страховки, надо сказать, никакой не имелось. Потому что в этом случае, в заклад требовалось снести не только тайну Дружникова, но и голову ее возлюбленного. Это служило лишней причиной, по которой «ОДД» не должен был ничего знать о близких между ней и Вилли отношениях. Иначе в страховку он не поверил бы ни в коем случае.
Итак, письмо было отправлено, оставалось лишь дождаться ответа. Зато неожиданно пришло и приятное известие. К трем, запущенным в будущее торпедам, прибавилась четвертая. Рафа умудрился-таки сговориться с Илоной и даже успел сводить ее на «Мосфильм», где у него обнаружились новые и старые друзья-приятели. Рафу снова поднимала вверх волна успеха, концертных предложений становилось все больше, и Вилли имел теперь возможность переориентировать денежные потоки. На новый клип Совушкина ранее был ухлопан весь гонорар Эрнеста Юрьевича, и требовалось вернуть долг. Отныне Рафе предстояло поработать на застенчивого писателя, и Вилли всерьез подумывал об открытии для Грачевского собственного издательского дома. У Эрнеста Юрьевича без толку прохлаждалось в столе немало готовых произведений, скопившихся за годы вынужденного отлучения от большой литературы, и Вилли предусмотрительно запретил продавать их «Мудролюбу». Надо ли говорить, что во всех фирмах, зарегистрированных на имя его крестоносцев, негласным учредителем с контрольным пакетом выступал сам господин Мошкин. Лена находила этот шаг весьма предусмотрительным. Вовсе не потому, что не доверяла до конца кому-то из «Крестоносцев удачи». Но когда один из снарядов достигнет цели, это обстоятельство облегчит Вилли появление в свете. Куда он явится не только на правах скромного друга большой знаменитости, но как совладелец и организатор ее успехов. Это придаст ему солидный вес, и откроет многие нужные двери. И уж одна из них наверняка должна привести к Дружникову. Сам «ОДД» охотно посещал помпезные политические и светские мероприятия, где вволю мог кичиться достигнутым положением, и на подобной вечернике или официальном высоком фуршете Вилли, при помощи одной из своих четырех «крылатых ракет», рассчитывал накрыть Дружникова последним вихрем.
По счастливой случайности, Лена Матвеева получила ответ Дружникова в тот самый день, когда он был написан и отправлен. До встречи на Эльбе, таким образом, оставалось полных два дня. И снова возникли недоразумения с генералиссимусом. Загвоздка теперь заключалась в том, как правдоподобно объяснить Дружникову, откуда могло быть известно Лене о роковых свойствах двигателя.
– Раскрыть истину, значит, подставить Сашеньку! Я на это не имею права по двум причинам, – шумно протестовала Лена, энергично размахивая правой рукой, в которой она сжимала послание Дружникова. – Потому что, я обещала ей безопасность, и потому что, Сашенька – это не просто моя знакомая, хоть и близкая. Товарищ Абрамова – в некотором роде собственность правительства, в лице его главного карательного и охранного органа, и не дай-то бог, с ней случиться неприятности! Многие у нас наверху тут же встанут на уши, а на меня сойдет лавина праведного гнева и наказаний. Немедленно начнут выяснять, кто, да за что, и выяснят, уж можешь мне поверить. Не случалось такого, чтоб не выясняли. Найдут место и Дружникову, и твоим талантам, и меня не обойдут. Но если тебе это надо..?
– Нет, не надо. Ты не хуже меня понимаешь, что вмешательство секретных служб ни к чему не приведет. Дружников выскользнет, победить не победит, но уйти сумеет. Кого из твоих начальников заставит с помощью двигателя, кого обезвредит при помощи нынешних своих кремлевских связей. Время, конечно, потеряет, но не более того. А меня при выяснении отношений между «ОДД» и Лубянкой могут запросто прихлопнуть, если дознаются о неосторожном предположении твоего покойного мужа. Что двигатель пропадет одновременно с моей смертью. Коли бы так было на самом деле, неужто, я бы сидел сейчас перед тобой живым? Давно бы руки на себя наложил, а бог бы меня простил, – тут Вилли поднял взор к потолку и наспех перекрестился. – Да только, все это блеф! Блеф и не более того. Страховка. Я ведь, вроде твоей Сашеньки, многие ответы про мой ужасный дар чувствую наперед. А раз меня не станет, то Дружникова уже никто и ничто не остановит. Но, как же быть? Сашеньку, конечно, раскрывать нельзя. Однако, и Зуля при жизни мог рассказать тебе лишь обо мне и о двигателе Дружникова, но про Аню-то он ничего знать не мог!
– Не мог. Об этом и Павел Миронович ничего не знал, когда вы виделись с ним в абстрактном пространстве. Но, допустим, я додумалась до этого сама. Допустим, Дружников не поверит, хотя он же не слепой, и должен замечать, что с Анютой твориться нечто жуткое и непонятное. Но, даже, если я не смогу убедительно солгать, это, в конце концов, неважно. А важно то обстоятельство, что мне известна его тайна, и я согласна о ней молчать. Не бескорыстно, конечно, – Лена жестоко усмехнулась. – Смотри, что дальше получается. Аня становится как бы гарантией моего честного словно. То есть, пока я держу рот на амбарном замке, ее жизнь и свобода остаются при ней. Но если я, по злому умыслу или случайно, нарушу договор, Анюту сразу вернут под опеку Стража. Ее жизнь на мое гробовое молчание.
– А дальше дело станет за мной и моими крестоносцами. Хорошо, попробуй. Все равно выхода иного нет. И, кстати, как там Рафа? Я слышал, делает успехи?
Лена, сообразив, что выиграла, и вопрос закрыт, принялась описывать похождения Совушкина в амплуа эстрадного донжуана. Рафа действительно озарил горизонты крестоносцев немалым успехом, достигнутым, однако, без непосильных трудов. Илону он не просто доставил на «Мосфильм», но успел пристроить в один из новых русских сериалов, недавняя мода на которые могла способствовать быстрому ее возврату на киношный Олимп. Роль была вторая главная. Желающих, по понятным причинам, было много. Хоть Бородинскую битву заново снимай. Но в силу известного везения, Совушкину удалось протолкнуть на завидное место собственную протеже. Сериал назывался «Афганские вдовы», тематику имел социальную и близкую к военной, покровительство высокое, серий предполагал аж целых двадцать. Это для начала. А если приживется на экране, то будут снимать и вторую часть. Самого Рафу стараниями пронырливого Василия Терентьевича пригласили петь в титрах, и это тоже указывало на растущую популярность Совушкина.
Забавно было другое. Рафа, с пионерским энтузиазмом взявшийся за первое, самостоятельное и тайное задание в пользу «Крестоносцев удачи», за полтора месяца общения с Илоной Рустамовной Таримовой, увлекся последней не на шутку. Так сказать, вжился в роль. Делу это обстоятельство никак не мешало, но боязно было за саму Илону. И Лена взялась переговорить с Совушкиным по душам. Ответ Рафы ее одновременно развеселил и привел в некоторое замешательство. По словам Рафы выходило, что именно о такой женщине он мечтал всю нескладную свою жизнь, и даже видел во сне. И вот встретил свою мечту, нежную, робкую, нуждающуюся в мужской поддержке. Такая не станет швыряться в голову пепельницами с «бычками» за поздний приход в нетрезвом виде, да при ней любой нормальный мужик и сам забудет, как она выглядит, бутылка-то! Илона старше его на восемь лет и ей за сорок? Насмешили тоже. Будто ему восемнадцать. Зато красавица, а седину, полученную в невзгодах, можно закрасить. Ему, Рафе, она и с сединой хороша. А того хмыря-дрессировщика, что мозги ей запудрил и обобрал, Рафа, нашел и крепко набил гаденышу морду. На свой страх и риск. Теперь боится доложиться генералиссимусу, потому что, допустил несанкционированное самоуправство.
Однако, на этом светлая сторона в повести Рафаэля заканчивалась. А начиналась темная и печальная. Потому как, ситуация получилась наоборот. Илона на яркое и вечное чувство Совушкина никак не реагировала, а признаваться в открытую он робел. Вдруг как пошлет подальше! И в свободное время продолжал верное служение своей Дульсинее, которая, то ли не доверяла отныне мужчинам вовсе, то ли конкретная личность Совушкина пришлась ей не по душе. Благо, у Рафы гастролей не было и не предвиделось, генералиссимус не имел в виду выпускать набирающую обороты знаменитость из Москвы. Не то Рафа бы и вовсе пропал, или, наверняка, сошел с ума от ревности. Пока же он, чуть ли не со слезами просил Лену, все еще выдававшую себя за двоюродную сестру господина Мошкина, навещать строптивую Илону почаще. И почаще напевать ей в оба прелестных ушка о том, какой замечательный парень Рафа Совушкин, и грех был бы пройти равнодушно мимо. Лена пообещала сделать все, что уложится в рамки ее ограниченного временного запаса, а Рафе напомнила и поговорку, что терпение и труд все перетрут, храбрость города берет. Генералиссимус Рафе от всего сердца посочувствовал, но и заметил, что душевные переживания пойдут его легко загорающейся натуре на пользу.
Двадцать четвертого декабря, ровно в шесть часов вечера, Лена вошла в главное здание «Дома будущего», что в Армянском переулке. Где увидела то, что и ожидала увидать: бьющую в глаза мраморно-раззолоченную роскошь, утыканную сплошь вензелями «ОДД», толпу аккуратных служащих, все с подхалимски-запуганным видом, множество камер видеонаблюдения и притулившееся с краю, скромное бюро пропусков. Лена неспешно подошла к преградившему ей вход халдею-охраннику. Предполагая любые унизительные каверзы со стороны Дружникова еще в начале своего визита, Лена протянула на всякий случай не паспорт, а служебное удостоверение, хотя не любила его лишний раз демонстрировать без нужды. Но тут угадала. Мерзкая и наглая улыбочка халдея, привыкшего умучивать подозрениями и издевательствами случайных, обычных посетителей, разом сгинула с его, ставшего несколько растерянным лица. Что же, каков поп, таков и приход.
– Какие-то проблемы, сержант? – строгим командирским голосом окликнула халдея майор Матвеева. – Потрудитесь отвечать быстро и четко, когда разговариваете со старшим по званию офицером!
Халдей при командном окрике растерялся еще больше, видимо, приказ майора и указания сверху сильно расходились между собой. Однако, взял под козырек, и отрапортовал, как положено:
– Никаких проблем, товарищ майор федеральной службы!
– Вот так. Уже лучше. Извольте немедленно выдать пропуск! – приказала Лена Матвеева, сделав каменное лицо.
– Сию минуту. То есть, так точно! – халдей все еще держал руку у козырька фуражки и что-то лихорадочно соображал. – Приказано доложить наверх о вашем появлении. Для препровождения в сопровождении!
– Докладывайте! – разрешила Лена, ни на секунду не выходя из предписанной уставом роли.
Халдей немедленно принялся тыкать в кнопки телефонного аппарата. спустя минуту протянул Лене пропуск и отрапортовал:
– Товарищ майор федеральной службы! Будьте любезны присесть в холле, за вами сейчас спустятся, – и халдей вытянулся в струнку, ожидая то ли милости, то ли дальнейших приказаний.
– Молодец! Так держать! Родина тебя не забудет! – напутствовала халдея Лена, проходя мимо него к дивану у стены, и разрешила:
– Вольно, сержант!
За ней пришли очень скоро. Крепко сбитый мужичок в дорогом костюме, крутолобый и коротконогий, представился ей по фамилии, весьма подходящей к его внешности, – полковник Быковец. Он и препроводил Лену на верхний этаж, в пентхаус к Дружникову. А там уж ей пришлось дожидаться целых полтора часа. Лена, однако, весь срок в чистилище высидела с каменным достоинством, избрав лучшую тактику отстраненного равнодушия, не обращала внимания ни на секретаршу, ни на снующих туда-сюда робкой рысцой посетителей. Майор Матвеева, очень скоро уразумев, что промурыжат ее в приемной до последней допустимой возможности, преспокойно открыла свой портфель, достала папку с бумагами. И углубилась в чтение, предоставив камере за спиной изучать служебный документ вместе с ней. Ничего, пусть, только время зря потеряют и получат в награду досадное разочарование. Впрочем, чем черт не шутит, может досужему наблюдателю и будет интересен сценарий новогоднего самодеятельного выступления их отдела, который Лене как раз поручили просмотреть и исправить в грамматическом смысле.
Когда золоченные, гигантские часы на противоположной стене уже показывали половину восьмого, красотка-секретарша вежливо пригласила госпожу Матвееву пройти.
Лена и прошла вслед за прелестной привратницей Дружниковского заповедника, позволив девушке оповестить звонким голосом хозяина владений о ее прибытии.
– Госпожа Матвеева, – провозгласила ответственная красавица, и, видимо выполняя некий наказ, немного тише добавила:
– Назначено на шесть вечера.
Наверное, последнее замечание намерено было вставлено в начало аудиенции, чтобы Лена могла сразу уразуметь свое место, а Дружников отгрузить первое хамское высказывание на счет того, что его время дорого и мало ли кто его особы дожидается, и персоны покруче, случается, загорают под дверью его кабинета. Видимо, как раз эти фразы Дружников собирался сказать, и уже высокомерно насупил брови, даже было открыл рот, но не успел. Лена его опередила:
– Ничего, милочка, – немедленно отозвалась госпожа Матвеева, обращаясь именно к красотке-секретарше, испорченной, но, похоже, не до конца растерявшей совесть. – Олег Дмитриевич еще со студенческих лет отличался слабой памятью и неумелой организацией собственного рабочего времени. Что все же, согласитесь, несколько странно для человека, с отличием закончившего математический факультет, и для современного руководителя тоже. Доить по звонку коров у него получалось лучше.
Бедная секретарша одновременно лишилась дара речи и румянца на кукольных, пухлых щечках, на лице ее читался немой, полный скрытой паники вопрос. Не уволят ли бедную девушку за одно то, что она вообще слышала подобное кошмарное заявление. Дружников в присутствии подчиненной свару затевать не стал, коротким, убийственным взглядом выставил красотку вон.
– А ты не изменилась, – злобно бросил ей Дружников вместо приветствия. – Чего надо?
– Ты все читал сам. Иначе меня бы здесь не было, – ответила ему Лена. И, поскольку Дружников не предложил ей сесть, самовольно и изящно приземлилась на ближайший стул. – Ты отпустишь Аню? Собственно, меня только это интересует.
– Что вы там за сборища устраиваете за моей спиной? Развели конспирацию. Чего Мошкин шляется к тебе со своими погорельцами?
Вот так, быка за рога, и с места в карьер. Впрочем, чего-то подобного Лена и ожидала. Не будет Дружников разводить турусы на колесах, а прежде, чем торговаться, захочет урвать бесплатный кусок. Лот еще не выставлен на продажу, а ему уже подавай гарантии. Хитрый, лютый, мелочный антихрист. Ну и ладно, мы не жадные.
– Что значит, шляется? Приходит. Но что прикажешь делать, если у тебя он, как голый в бане. Все на виду. И боится за своих подопечных.
– Ага, опять удачу раздает направо-налево. Ты мне рожи не строй, я твои хитрости насквозь вижу! – рявкнул Дружников, когда Лена в ответ попыталась придать своему лицу недоуменное выражение. – Небось знаешь, о чем речь?
– Не ори, придурок! Хочешь так? Давай! – нимало не испугавшись, отозвалась Лена. Игра в открытую была ей на руку и экономила время. – Вилли больше не может дарить вихри и удачи. Зуля определенно был в этом уверен. Да кабы мог, стал бы он тогда бояться?
– Надо же, теперь он Вилли. Имя дебильное. А на кой черт ему сдались эти отбросы? – уже тише спросил Дружников. Последний довод Лены показались ему приемлемым.
– Это для тебя они отбросы. Но для Вилли, представь себе, люди. И люди несчастные. А что ты хотел? Отобрал у человека смысл жизни, будущее и настоящее, и думал, он вот так спокойно станет, изо дня в день есть, пить, спать и доживать до старости и смерти? Ты совсем дурак? Можешь не отвечать, я знаю, что не совсем. И вихри здесь не причем. Этим людям не удачи бесплатные нужны, а простое участие и сочувствие, да немного подтолкнуть и помочь. Они не пропащие, только оступившиеся.
– Что-то слишком этим «не пропащим» везет? – снова засомневался Дружников.
– Вовсе не слишком. Нормально. Что касается Грачевского, Эрнеста Юрьевича, так это моих рук дело. Пожалела старика. Почему не помочь, если в моих силах. Мы все на его рассказах выросли, – здраво возразила Лена.
– Я – нет. Мне, положим, некогда было. Я коров доил, – не без ехидного злорадства ответил Дружников.
– Это все лирика. Доил, не доил. Не стыдился бы своего прошлого, никто бы тебя не задевал, – закрыла постороннюю тему Лена. – А вот что ты с Аней решил?
– Не знаю пока. Ты мне лучше скажи, куда это мою Анюту возила в сентябре? – опять ухватился за бесплатный кусок Дружников.
А Лена тихо испугалась по-настоящему, хоть вида не подала. Значит, отметил и запомнил. Сейчас лишнее или неправильное слово может подписать приговор невинной Сашеньке. Тогда Лена очень осторожно, но внешне непринужденно и беспечно начала игру:
– Куда возила? А-а! К гадалке. А что? – спросила она как о мало значимой вещи.
– К гадалке? Это еще зачем? – изумился Дружников.
– Ну, ты даешь! Сам женился, и сам спрашивает! За тем! Анюта хотела знать, бросишь ты ее, или нет. С три короба кто наобещал? – выставила атакующую защиту Матвеева.
– Я что наобещал, то выполню. И выполнил уже. Не твое дело. А чего гадалка сказала? – все же полюбопытствовал Дружников.
– Что все будет хорошо. Даже отлично. Ей тоже на хлеб заработать надо. Зато Анюта успокоилась, – весомо ответила Лена.
– Чушь какая-то. Чего успокаиваться-то? Можно, подумать, я… Да я… – тут Дружников оборвал себя на полуслове, испугавшись, что в присутствии своей врагини даст волю слишком личным чувствам. – И это тоже не твое дело.
– Так как насчет Ани? – напомнила, нисколько не обидевшись, Лена.
– Я же сказал, не знаю. Надо подумать. Вдруг тут подвох. Тебе, Матвеева, доверять нельзя, – пробурчал в сторону Дружников.
«Будто тебе можно!» – возмутилась про себя Лена, а вслух сказала:
– Мы в силах устроить равноценный обмен. По-честному. Ты отпустишь Аню, а я ничего не скажу Вилли. В любом случае, ты ее потеряешь. Но если она умрет, Вилим Александрович Мошкин узнает обо всем в тот же день. Посмотрим тогда, как тебе твой двигатель поможет, – угроза была столь серьезной, что Лена сочла нужным добавить:
– Но-но! Помни о моей страховке! К тому же я не тороплю и даю время подумать. Только не очень долго.
– А ты не сдаешься! – в сердцах сказал Дружников, с завистью, сквозь которую ядом сочилась неподдельная ненависть. – Прямо несгибаемая Жанна д'Арк!
– Я всего-навсего не имею привычки унижать людей, чтобы стать с ними вровень. И, слава богу, могу еще расти вверх! – не без насмешки ответила Лена.
Уровень 51. Граната и фашист
Дружников «смотрел на экран, как на рвотное». Что было немудрено. Как же так? Как же он просмотрел, проморгал? Как же? Как же это так? Его тесть, осел и старый пень, он-то куда смотрел? Если уж и папашка не знал! Что делается на белом свете, ай-ай! Но и страх накатил на Дружникова, норовил ухватить за горло. Чтобы вот так, в одночасье рухнули все его планы, такого еще не случалось никогда. Что там тесть плел задыхающимся баском в трубку? Выборов нет, и не будет. А те, что будут, заранее расписаны и определены. Рыпаться бессмысленно и опасно.
По телевизору старый и удобный, как плюшевый мишка, пьянчужка-президент деревянным голосом читал свое новогоднее отречение. И полномочия переходят к премьер-министру. Да кто он вообще такой? За последние несколько лет изрядное число выразительных и не очень личностей занимало сей гиблый пост, так что Дружников перестал следить за их пестрым, бесконечным в смене калейдоскопом, и не обращал на «петрушек» никакого внимания. Спокойно ждал выборов, уже и негласную агитацию вел во всю, кого стращал, кого намечал в жертвы двигателю. А после новогодних игрищ и торжеств собирался приступить к делу всерьез. Теперь можно растереть и забыть. Но как же ловко, черт возьми!
Беспокоила Дружникова не столько темная и тихая личность нового наследника высокого трона, сколько порт приписки этой личности. Опять, опять проклятая тайная служба становилась на его пути. Обманула, выиграла, раздавила. А он, дурак, уповал на двигатель и на выборы. Ага, станут они дожидаться, пока Дружников сделает свой ход, ударили первыми. Гады, гады! Но он в долгу не останется, теперь все, теперь или пан, или пропал, он тоже пойдет на крайние меры. Не сразу, конечно, а только при первом же удобном случае…! Одного простого повеления двигателю достаточно, чтобы этот хрупкий человечек, нынешний «и.о. президента» не проснулся завтрашним утром. И не проснулся бы! Да вот беда, тесть намекнул, что любое несвоевременное вмешательство вызовет чрезвычайное положение в стране и некая организация получит почти диктаторскую власть. Этого Дружникову допускать было никак нельзя.
Дружников бесновался в бессильном гневе, швырялся в экран первыми попавшимися под руку предметами, хорошо хоть, не разбил. Довел себя до пены у рта, судорог и заикания, и совершенно напрасно. Предаваясь в последние месяцы сладким и честолюбивым мечтам, строя и выхаживая далекие планы, Дружников несколько упустил из виду реальный мир. Оттого сильно преувеличил собственное свое значение в нем. Он видел себя могучим и непобедимым супертяжеловесом, которого подлый противник, в тайне от судей, поверг на ринге запрещенным приемом. В единственном, решающем для обоих сражении. На самом деле никакого сражения не было, и ринга не было тоже.
Вражеская сторона, которую Дружников для краткости именовал просто «организация», вовсе не имела его в виду. И даже более того, не принимала в расчетах само его существование. Дружников был слишком мелок для них. Чей-то зять, чей-то муж, варит свой грязный навар на Урале, и мечтает, дурачок, о президентских выборах. Господин Прынцалов, тот хоть имел понятие, действовал мудро и дальновидно в перспективе коммерческой рекламы. Но не был столь глуп, чтобы охотиться на президентское кресло всерьез. Дружников же, со своими амбициями у «организации» в лучшем случае вызывал пренебрежительных смех, если вообще что-либо вызывал. Как моська у слона. Никто с ним не дрался и специальных, расчетливых козней не строил. Дружников в данном случае являл собой анекдотический персонаж, Неуловимого Джо, которого никто и не собирался брать в плен. «Организация», по понятным причинам, о двигателе пока ничего не знала и не ведала, да и без него была достаточно сильна. Но крохотный лишний атом в душе Дружникова уже превысил собой критическую массу, и смертоносная реакция началась.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В программе обнаружен вирус…
(Сверкая венцом и шелестя бесподобной музыкой крыльев, к престолу приблизился Варах, ключник и серафим, склонился перед ступенями, сияя светом множества глаз.
– Дело сделано, Господин. Как на то была Твоя воля.
Пятеро других серафимов у престола одобрительно заискрились всеми цветами радуги, и в свою очередь склонились перед Владыкой. Иегуда, строгий, карающий и оттого самый отчаянный, проявил храбрость и любопытство:
– Отчего, если позволено мне узнать, Властелину моему было угодно..?
Господь засмеялся, и в небесах запел хрустальный дождь, а грешники в аду на мгновение прервали свои стенания.
– Ах, Иегуда, что за прекрасный узор у нас получился. Давно я так славно не играл на земле. Ты не находишь?
– Воля твоя, Господин, но мой ум, однако, течет во времени и не все способен охватить в единый миг, – с ворчливым добродушием отозвался Иегуда, серафим, несущий возмездие нечестивым. – Но не помогаем ли мы невольно множить зло?
– Свободная воля, мой друг, свободная воля. Не забывай об этом, – мягко отозвался задумчивый Силах, ангел молитвы.
Господь улыбнулся и ему, а серафиму по левую Свою руку молвил:
– Да, свободная воля. Ты, мой верный Гавриил, ступай на землю вновь. Ибо пришла пора, чтобы избранный Мной от несовершенных и малых сих сказал себе и тем, кто следует за ним во тьме: «Будьте, как я, ибо и я, как вы!» Отсюда пути Мои разойдутся и умножатся к славе!
Гавриил, вместо улыбки, залучился прозрачным светом и в мгновение ока устремился к земле в едином взмахе крыльев.)
Запущена антивирусная программа…
Жар сделался удушливым и невыносимым, Вилим Александрович проснулся в поту, с сильно колотящимся сердцем. В квартире, однако, окна стояли нараспашку, и привычный холод свободно вливался с морозной улицы. Отчего же вдруг сделалось так жарко? Старое, верблюжье одеяло вряд ли могло стать причиной перегрева, а ничем другим генералиссимус не был сверху укрыт. Спал по спартанской привычке, как всегда, в одних трусах и в атмосфере, мало отличной по температуре от естественно-природной. А на дворе, если верить синоптикам, должно без малого натянуть до минус десяти. Уж не заболел ли он ненароком? Да как определить, если телесные недуги по доброй воле никогда еще не заглядывали к нему в гости? Но тут Вилим Александрович вспомнил, и его снова кинуло в жар. Видение, не видение, во сне его посетило нечто. Ощущение, озарение, немедленное знание, выхваченное ниоткуда. И стало страшно. Оттого, что он увидел – пути предназначено свершиться, и первый шаг уже сделан. Не им. Настал последний шанс отступиться и выйти из игры, но некуда ему отступать. По крайней мере, не туда, куда единственно возможно. Тогда Вилим Александрович, приняв неизбежное, внезапно и вдруг остыл, и успокоился, то было мудрое решение. Лег дальше, спокойно и смиренно, спать. Все равно, знание не забудется и не исчезнет. В этом он был отчего-то непоколебимо и абсолютно уверен.
– Это и есть твой секрет? О котором мне нечего беспокоится? – спросил он у Лены Матвеевой на следующий день.
– В общем, да. Разве есть повод для беспокойства? – в свою очередь спросила Лена, но как-то растерянно и несмело. И это ее Вилли? Этот угрюмый и сосредоточенный в концентрации силы генералиссимус ничего не имел общего с усталым и грустным человеком, некогда просившим ее о бескорыстной любви и дружеской поддержке.
– Он его убьет. Не сегодня и не завтра. Но убьет при первом удобном случае, который сам же создаст, – не предположил, но безапелляционно утвердительно сообщил ей генералиссимус.
– Кто кого убьет? И зачем? – Лена уже совершенно отказывалась понимать происходящее.
– Дружников – нового президента. Твой сюрприз только что выпустил джина из бутылки. Теперь нам стоит ожидать разрушения городов и возведения дворца. И это не будет башня из слоновой кости. Но храм Кащея на черепах… Бедный, бедный мой! Он погубит остатки собственной души и еще многих вместе с собой! – генералиссимус скорбно поднес ладонь к пылающему лбу и тихо застонал.
– Я так понимаю, у тебя утренний, ритуальный приступ любви к Дружникову? – полувопросительно, полуутвердительно сказала Лена. – Ничего, это сейчас пройдет.
– Приступ любви? А, нет, это я так. Это совершенно неважно. Но вы даже не понимаете, что натворили! – Вилли сокрушенно покачал головой. – Вы вырвали у тигра кость, когда он едва изготовился ее съесть. И тигр теперь в бешенстве.
– Ну, знаешь! Не хватало еще, чтобы у нас взялись потакать желаниям какого-то Дружникова! И потом, у нас в управлении сидят обычные люди, без вихрей, и без вечных двигателей. Может, конечно, это люди не совсем обычные, а очень большие и могущественные, но не в сверхъестественном смысле. Откуда кому было знать? Ты сам не хотел ничьей помощи и уверял меня, что от нашей службы один только вред?
– Да не в этом дело! Ясно, что хотели как лучше. Но почему ты ничего заранее не сказала мне? Ведь что-то ты знала? Лена, я никогда не расспрашивал тебя о работе, и не особенно интересовался. Но я же математик и вижу логику событий. Если ты в курсе таких вещей, то и допуск у тебя высок, пусть ты всего лишь доверенный исполнитель, – генералиссимус снова не спрашивал, а утверждал свои выводы. – Ты должна была поставить меня в известность. Понимаешь? Должна!
– И что бы это изменило?? – Лена обиделась и вспылила, стараясь все же подбирать слова, чтобы не слишком задеть генералиссимуса:
– Ты опять бы стал писать и посылать проповеди Дружникову? Уговаривать от греха? Или бегал бы с плакатом у Лубянки: «Не меняйте президента! Вся власть «ОДД»!» Что? Что бы ты смог и что можешь теперь? Ты бредишь, мой дорогой, и сам себя сводишь с ума!
– Если бы я знал заранее, я не допустил бы тебя до встречи с Дружниковым. Никакого письма бы не было и в помине. Все со вчерашнего дня изменилось, – сказал Вилли все тем же уверенным, не допускающих сомнений тоном. И чтобы окончательно разъяснить последствия, генералиссимус приговорил:
– Никакого торга теперь не будет, Леночка. А если и будет, то это выйдет смертельная ловушка и обман. Ему сейчас не нужны торги. На тропе войны не торгуются, но убивают врага. А у нас мало, очень мало времени. До той поры, когда процесс станет необратим. Видишь ли, Дружников отныне начнет действовать быстро и виртуозными, непредсказуемыми способами. Если он исковеркает мир до невозвратной степени, его собственная смерть уже не умалит причиненного несчастья.
– А что будет с Аней? Значит, мы рисковали зря? – спросила Лена, и голос ее предательски задрожал. Генералиссимус говорил такие ужасные вещи, что они отказывались укладываться даже в ее видавшей виды голове.
– С Аней? С Аней станет то же, что и со всеми нами. И может, ей лучше будет умереть от руки Стража, чем жить в преображенной Дружниковым человеческой вселенной.
Лена только охнула. Испуганно, по бабьи, недостойно майора федеральной службы. Но ничего поделать не могла. Утешило ее слегка то обстоятельство, что хуже все равно не будет, если Вилли знает, о чем говорит. И она заново набралась смелости.
– Ты тоже скрываешь от меня нечто ужасное. То, что ты видел в картинах папы Булавинова. Если это по силам вынести нашим крестоносцам, то по силам и мне. Расскажи всю правду, обстоятельно и подробно, а не в общих чертах. Расскажи, чтобы я стала с ними вровень, и клянусь, я не Илона, я не испугаюсь того, что услышу.
– Ну, Илоне, я положим, ничего подобного не рассказывал. Не успел. Не дошло до этого, – генералиссимус усмехнулся, будто вспомнил нечто забавное. – Но если ты так хочешь, изволь…
Волна холодной и отчаянной злобы накатила во всей неохватности с его личного дозволения. Видения проносились одно за другим, некоторые он удерживал и заставлял повторяться вновь и вновь, смакуя собственные грядущие планы с отдельным наслаждением. Все так и будет. Или он не Дружников, грядущий владыка мира, которому мало и десяти царств. Он создаст новый Рим на семи холмах и новый закон, который нужен ему. И этот закон станет естественным законом. Хватит морочить людям головы и утруждать их жизни ненужной моралью. Право сильного, опороченное и затуманенное дешевыми болтунами, засияет при нем во всей красе. Он же пребудет первым и всесильным среди всех. Соберет в новой и нерушимой Вавилонской башне сокровища мира и установит единую власть, и разделит между слугами своими по усмотрению. Тогда все увидят и поймут, что впереди их ожидает подлинное счастье. Не станет пустых надежд на мифическую долю справедливости, и раб будет знать свое место, а господин свое. И каждый несогласный в страхе промолчит и не смутит умов, потому что иначе вместо отпущенного счастья поймает собственную смерть.
О да, ему, конечно, придется еще много убивать и воевать. Не нужно больше колебаний, лишние человеки должны быть без жалости истреблены. Сколько же можно строить козни и терпеть? Пусть пока радуются его враги. Пусть очередной «петрушка» сидит на троне. Пусть не будет выборов. Он на время затаится и исподволь, не медля, начнет убивать и вербовать. То тут, то там. В одной своей воле. А в подходящий момент затянет петлю. Всего-то и нужно несколько военных генералов, один министр, самых важных, внутренних дел, да пара политиков погорластей. Двигатель защитит и поможет. Подготовить и ударить. И тогда «организация» сама поймет, как была неправа, а куда денется? Ей Дружников тоже даст долю сокровищ, хорошую, жирную долю. Чтоб не было обидно. Иначе кто же станет держать в повиновении рабов? А свободы ни к чему, не нужно свобод. Только все запутают и без толку источат мозги. О чем темный смерд не ведает, о том и голова не болит.
Убить его никто не сможет, не по зубам. Это хорошо. Узкий круг вблизи его особы не весь и двигателю стоит поручать. Кого можно просто купить, кого напугать, кто и сам не дурак. И следить в оба глаза. Нечеловеческие здесь потребны силы. Но лучше он сдохнет на финише от истощения, чем оставит свои страсти и мечты. Лагеря тоже глупость. Их большевики придумали от бессилия. У него все будет по-иному. Каждый губернатор от него станет иметь в своих землях рабов, менять, покупать и продавать, но только с его позволения. И крепкая, страшная, сытая армия должна присутствовать вблизи под рукой, а генералов ее – время от времени оглушать повелением двигателя. Конечно, будет ропот, будут и казни. Но очень скоро все успокоятся и привыкнут, как и всегда на Руси привыкали ко всему. Опять же, некогда особенно им выйдет предаваться бунту и скрежету зубовному. Потому как руки и умы он займет войной. Как же иначе? Все малахольное и придурковатое «демократическое сообщество» пойдет на него с топорами и вилами. Да, на их беду, далеко не дойдет. Президенты и военные министры тоже люди, и, стало быть, начнут гибнуть как снулые мухи. По его верховному велению. И пребудет в рядах врагов смятение и горькая разруха. Война случится быстрая и короткая. Добрые восточные фанатики поддержат его мудрую стратегию всей душой. Их Дружников тоже вознаградит и приблизит. И править будет в долголетии и славе и передаст наследство своему сыну. Тому единственному, любимому, которого невольно и неминуемо сделает сиротой. Но Дружников явит себя не только лучшим на свете отцом, но заменит как-нибудь и мать, и друзей-приятелей, и воспитает себе достойного приемника.
Возможность грядущих ядерных атак в его видениях нисколько будущего владыку мира не испугала. До него, авось, не долетит, править он был согласен и половиной планеты. В пустыне и в смерти так даже сподручней. После из американских штатов всех выселить в Антарктиду! Пусть там нефть копают, если выживут. И будет на земле благодать.
Главное, не отступать и все делать, как задумано. Пока ничего не ведомо в «организации» о Мошкине Вилиме Александровиче. Но вот как поступить с последним, Дружников еще не знал. Смутные тревоги и подозрения бродили в его подсознании, но готовились созреть и явить наружу решение, в существовании которого Дружников был уверен. А Ленку Матвееву побоку. Надо же, простой пешки испугался. Поводить на крючке, обмануть и погубить. И ничего не давать. Расскажет Мошкину? Не успеет. Фирма гарантирует. А что прознает о страховке «организация», так поживем– увидим. Если осуществятся его планы, разве будет в завещании Матвеевой хоть малый толк? Но как же обидно! Проклятый Мошкин одной внутренней силой смог девять лет назад развернуть ход истории и опрокинуть в канаву тяжеловозную государственную телегу. Он же сам, в свою очередь, получается разве жалкой копией в сильно уменьшенном исполнении. И Аню он отныне вынужден удерживать каждодневным, насильственным вторжением в ее суть. Которое неотвратимо ведет к смерти. В то время как паутина удачи, питаемая Мошкиным, ранее справлялась с той же задачей проще и конструктивней, действуя в своей мощи лишь от случая к случаю. Ненависть к бывшему другу вдруг вспыхнула в нем с невозможной оглушительностью и совершенно выжгла из памяти тот факт, что много лет назад Валька Мошкин перевернул с ног на голову целую империю именно ради того, чтобы дать свободу некоему Олегу Дружникову. Во имя любви к последнему и справедливости.
Но тут же Дружников, оставив самоуничижения и сожаления, укорил сам себя в малодушии и трусости, в том, что разнежился и ослабил хватку в борьбе. И не заметил, как плавно перешел от апокалипсического морока собственных фантазий к их действительному и программному осуществлению. Паранойя его мании величия атомным грибом разрослась и раскинулась крыльями теней в реальном, ни в чем не виноватом перед ним, человеческом мире.
Картины, описываемые генералиссимусом своему верному начальнику штаба, возможно, не были столь красочными и умалялись некоторым бытовым косноязычием, но, по сути, в точности повторяли параллельной прямой видения «ОДД». Все же генералиссимус уступал в даре элоквенции литератору Эрнесту Юрьевичу, но от языкового упрощения его знание только выигрывало. Потому что простота в описании невольно добавляла ужаса в восприятие слушателя.
– Теперь я понимаю. Отчего ты молчал. От примитивного «Дружников захочет мирового господства» до твоих «картин» по меньшей мере, простирается бездонная пропасть. Я, кажется, в легком шоке, – Лена попробовала пошутить, но голос ее предательски сорвался петухом и не удержал испуга. – Как может живой человек хотеть всего этого?
– Не знаю. Видимо, как-то может. Были же на свете Гитлер и Сталин, Тамерлан и шах Надир. Теперь время делает новый виток. И новые зверства приходят людям на ум, – спокойно, будто читая лекцию в клубе, предположил генералиссимус.
– Какой там Гитлер! Младенец был твой Гитлер! Да наш «ОДД» ему сто очков вперед бы дал! – сморщилась Лена, как будто вот-вот собиралась расплакаться.
– Может быть, и дал. А может быть, и нет. Кто знает? Вечный двигатель есть только у него. Вот от этой печки нам и предстоит плясать. Понимаешь теперь, какой несвоевременной помехой стало наше письмо? В колеса этой машины палки не сунешь. Она кого хочешь, в пыль готова перемолоть. И ныне стала очень опасна для нас. Знаешь, давай на время забудем, что письмо и встреча вообще были. Вдруг повезет, и Дружников забудет тоже. У него сейчас, наверное, множество своих хлопот.
– Твои слова, да богу в уши! Однако что же, так и будем сидеть, сложа руки? У моря погоды дожидаться? – отозвалась с невеселой критикой Лена, начальник штаба и майор, потерявшая в эту минуту профессиональную хватку и запасной, житейский оптимизм.
– Что ты, Леночка! Некогда нам дожидаться-то. У нас теперь дел невпроворот. Только – знай, успевай-поворачивайся! Четыре наших надежды надо как можно скорей выводить на орбиту к Дружникову. Всем предстоит работать и работать. И Рафе, и Василию Терентьевичу. И в первую очередь, нашему милейшему Эрнесту Юрьевичу. Он пока идет с солидным гандикапом и скоро, наверное, поселится в телевизоре. Ну и ты, конечно, следи за Илоной, там тоже хороший шанс. А к Анюте не ходи. Не дразни гадюку под колодой, – Вилли сказал и замолчал, на мгновение задумавшись. После, словно поборов некое колебание, мягко добавил:
– Леночка, милая, не рискуй излишне и необдуманно, хотя бы ради меня. Помни, я ведь тебя люблю.
– Пусть и неправда, но приятно, – ответила Лена, в сторону и опустив лицо. Но потом посмотрела на генералиссимуса:
– Хорошо. Обещаю не рисковать… может, мне еще повезет и я не увижу, чем все закончится!
Уровень 52. Кадриль над пропастью. Фигура первая
Весна золотилась и играла лучами солнца за пыльными окнами квартиры, призывала к радости и движению, рождала новые надежды и гасила застарелые тревоги. Волей-неволей даже генералиссимус поддался ее обнадеживающему дыханию, взбодрился и повеселел.
А уж как необходимо ему было именно сегодня получить, пусть и от равнодушной природы, малый и нелишний бодрящий заряд. Ибо сегодня случится первый его выход в свет, и может, если необыкновенно повезет, то и последний. Потому что, один выстрел его надежды поразил цель. Эрнест Юрьевич, после почти полугода упорных и кропотливых стараний генералиссимуса, вышел на Дружникова. Нет, разумеется, не лично на него, это было бы слишком замечательно. Но, благодаря пожеланиям Вилли и собственным успехам на общественном и литературном поприще, Эрнест Юрьевич, принятый уже в модном, околоправительственном круге, только что открывший собственное издательство «Русское Отечество», добился «приглашения на бал». То бишь, на мощное светско-общественное мероприятие в честь юбилея Дня Победы, для богатых, знаменитых и всесильных лиц. А в приглашении для «Русского Отечества», не без содействия паутины удачи и прямого подкупа, значился вторым лицом и держатель контрольного пакета акций издательства, господин Мошкин. Заранее было известно и то, что блистательный предприниматель Дружников в сопровождении супруги непременно ожидается и явится покрасоваться в избранном обществе. Значит, у Вилли возникнет определенный шанс приблизиться к Олегу Дмитриевичу на достаточно малое расстояние, и установить, по возможности, долгий зрительный контакт. Что даст отличную от нуля вероятность сконцентрированной в генералиссимусе до температуры плазмы, любви к Дружникову явить себя в последнем, убойном действии. Вилли практического опыта сосредотачиваться мгновенно и по необходимости отнюдь не растерял, даже и приумножил, к тому же ежедневные импульсы двигателя добавляли ему уверенности. Что в нужный миг, искренне и нежно, он сможет сжечь Дружникова своим обожанием дотла.
Никаких угрызений совести в этот день, возможно и решающий, Вилли вовсе не испытывал. Хотя борьба и была. С самим собой и внутри себя. Однако, недолгая и неубедительная, словно несущая эхо уже отгремевших страстей. Слишком ясно и прозрачно представлял генералиссимус ситуацию. И чувство, внушаемое ему Дружниковым, нисколько этой ясности не мешало. Напротив, способствовало становлению его решимости. Ведь, в отличие от трагедии, нависшей над будущим Анюты Булавиновой, это чувство дружеской любви имело мощные корни в прошлом, и искусственным не было. А значит, не было и насильственным, противным природе генералиссимуса. Оно лишь добавляло часть к изначальному и давнему душевному состоянию, которое под влиянием двигателя всего лишь получило новый уклон. В сторону жалостливого исправления судьбы его заблудшего друга. Кое исправление можно произвести одним единственным способом.
Потому что, в последние дни и месяцы размышлений, генералиссимус многое для себя понял о Дружникове. И не без влияния Грачевского. Как был прав Эрнест Юрьевич, некогда в этой комнате и за этим столом говоря о подлинной природе человеческого антихриста! О темном, скрытом опасливо от посторонних глаз, нутре, которое в прискорбных обстоятельствах непременно явит себя во всей красе. Для Вилли в свое время Дружников, будто зазывала в мишурной, актерской лавке, выставил в витрине обманные и привлекательные внешней оболочкой товары. Могучий ум, расчетливый и точный, житейскую дальновидность, завидную храбрость и даже дар некоторого предвидения обстоятельств глобальных масштабов. Эти-то качества для себя и удерживал Вилли, как повод для восхищения. Такую могучую реку, да на мирную бы электростанцию! Сколько света бы было! Ведь не сразу же и не без колебаний вступил Дружников на роковую для него дорогу! И он спорил и вел яростные схватки сам с собой. Но темное нутро победило, и Дружников пожинал плод этой победы. Ах, как Вилли был однажды неправ, сравнив «ОДД» с катастрофическими монстрами прошлых времен. Не был Дружников никаким Адольфом Гитлером. Не был и Наполеоном. Потому что не принес в себе самом никакой, пусть даже бредовой, абстрактной интеллегибельной идеи. Его инстинкты и желания имели лишь природное, чуть ли не бытовое свойство. Нахватать как можно больше, для материального желудка и для удовлетворения чувственных порывов, но коли не дадут, силой отобрать у остальных. Ни к чему в данном случае расти над собой и вообще стремится к заоблачной цели. А чтоб не завидно было Дружникову тем, кто не хлебом единым жив, то пришлось «ОДД» поступить согласно закону Оккама и выбрать из всех возможных решений самое простое. Опустить мир до собственного порядка и изгнать, истребить из него тех, кто меряет человеческую жизнь иной, более достойной мерой. Как следствие, основать царство таких же, как он, разумных, хитрых и подлых животных. В чьих глазах он пребудет вечным кумиром и полубогом. По сути – «коровницыным сыном» с неограниченными возможностями и звериными наклонностями. Паучье царство, с Тифоном во главе, повергнувшее во прах олимпийских богов, вот то будущее, его мечта, без чести, морали и совести, возвращающее человечество в нравственно первобытный век. Вооруженный, однако, современными средствами пропаганды и истребления. Вплоть до ядерной бомбы. Ибо того, кого не угнетает в сожалениях безвинная гибель одного человека, не устрашит казнь и сотен тысяч людей, некстати подвернувшихся под безжалостный, с гвоздями, каблук.
Пока же, оставив в стороне печальные переживания о возможном будущем человеческой вселенной, Вилли приводил себя в порядок перед зеркалом. Темно-синий, в тонкую, серебристую полоску английский костюм, сидел на нем безупречно, галстук, завязанный еще со вчера заботливой Леночкиной рукой, вроде бы, без повреждений определен на свое место. Ботинки блестят, запонки сияют, длинные, светлые волосы богемно уложены по плечам и придают легкий артистический шарм. По крайней мере, выделят генералиссимуса из толпы и заставят не принимать слишком всерьез его особу, делающую бизнес в духовной сфере. Лена с раннего утра по телефону порывалась примчаться к генералиссимусу на квартиру, проводить его напутственными сборами и навести последний лоск. Но за домом, возможно, следили, а Вилли не хотел привлекать внимания к своему походу раньше времени. Вдруг Дружников узнает о его приглашении или заинтересуется суетой вокруг квартиры? Ни к чему все это. И Леночка поняла, зато умучила телефонными советами. Пока Вилли не посетовал на то, что звонки мешают ему сосредоточиться. В общем, так оно и было.
Дружников же последние полгода вел себя до странности тихо. Чем только лишний раз подтверждал опасения генералиссимуса о полной его боевой готовности к непредсказуемым действиям. Однако, внешне все выглядело естественно и благопристойно. Словно не было ни смены верховной власти, ни грядущих выборов на носу. В президентских гонках Дружников не участвовал и вообще свою кандидатуру не выдвигал. Наоборот, явился с поклоном в общей толпе к новому правителю и умудрился добиться некоторой благосклонности, как близкий к семейству отставного царя человек.
Казалось, поверхностно и обманчиво, что «ОДД» занят исключительно текущими делами и семейными обстоятельствами. Недавно Полина Станиславовна родила ему в законном браке дочь, которую уже окрестили в Богоявленском соборе с участием митрополита Московского. Имя дали в честь матери Дружникова – Раиса. Сама же Полина Станиславовна, по слухам, больших проблем мужу не доставляла, хотя и взбрыкивала иногда. Да и как же иначе, если Дружников по-прежнему львиную долю редкого свободного времени проводил не где-нибудь, в бывшей своей гражданской семье. А там, поди разбери, с кем он это время проводит, со старшим сыном или с его матерью? Чего таить, мать маленького Павлика настоящая раскрасавица, не убавить, не прибавить. Полина Станиславовна однажды ездила специально посмотреть на нее со стороны, издалека и в тайне. Посмотрела. И сделала вывод. Никто и никогда по доброй воле такую женщину не бросит, разве что, совсем не в своем уме. Стало быть, повод для беспокойства имеется, да еще какой. Но Полина Станиславовна переживала недолго, а вскоре оставила беспокойство совсем. Временное ее умопомрачение от внезапных приливов любви к своему супругу прошло (двигателю Дружникова было к счастью не до нее), а нынешнее полузамужнее положение вполне Полину Станиславовну устраивало. Приятностей от общества Дружникова она не испытывала, денег и уважения имела вдоволь, куда больше прежнего, да и Дружников ее в расходах и капризах негласно поощрял. С рождением дочери нашлась и цель в жизни. Порой Полина Станиславовна ощущала нечто близкое к чувству благодарности по отношению к Анюте Булавиновой. За то, что та, неведомо для себя самой, избавила Полину Станиславовну от лишнего внимания со стороны нелюбимого мужа, и, таким образом, предоставила законной жене Дружникова относительную свободу и возможность наслаждаться молодостью и ее благами. Анюту же Полина Станиславовна ни в чем не винила. Только удивлялась. Но, как говорится, на вкус и цвет… и так далее. Хотя относительно вкуса Анюты Булавиновой у нынешней жены Дружникова имелись великие сомнения. И Полина Станиславовна, по привычке, распространенной в ее кругу, приписала неотразимость своего мужа для госпожи Булавиновой исключительно великой силе денежных знаков. Впрочем, разве ее самое не продали в свое время тому же Дружникову? На этом соображении Полина Станиславовна успокоилась окончательно. Соприкасалась с мужем лишь на протокольных мероприятиях, да изредка дома, была вполне счастлива в роли молодой мамы и официальной супруги значительного человека.
Генералиссимус встретился с Эрнестом Юрьевичем на площади Гагарина, где и пересел в машину писателя. Не потому, что не доверял своему Косте, а просто не хотел ставить подневольного человека в трудную ситуацию. Что Костя вынужден доносить о каждом шаге своего хозяина, Вилли был превосходным образом осведомлен. Сам же Костя ему в этом и сознался давным-давно, не желая допускать двусмысленностей в отношениях. И даже выразил как-то готовность вводить в намеренное заблуждение опекуна Каркушу, если хозяин увидит в том нужду. Но Вилли, сердечно поблагодарив Костю, от опасной затеи отказался. Костя был на своем месте, и рисковать его отставкой генералиссимусу не хотелось. Помощь, которую мог при случае оказать Костя, не представляла большой величины, игра не стоила свеч. Однако, про себя генералиссимус держал преданность своего шофера в поле зрения и в запасе, просто так, на всякий случай.
В настоящий момент Костя мог сообщить о шефе весьма безобидную информацию. Встретился с Грачевским, пересел в его серебристый «мерседес» и умчался неведомо куда, не удосужившись доложить водителю о собственных планах.
Эрнест Юрьевич разъезжал уже и на «мерседесе», пусть не самой крутой модели, но достаточно новом и представительном. Но не мог, бедняга, до сих пор понять и принять факт свалившегося на него везения. И новая машина, и не сравнимое с прежним благосостояние, поклонники и поклонницы его таланта, старые и из поколения молодого, и досужая общественность, чуть ли не благоговейно отныне внимающая каждому его экранному и печатному слову, и собственное издательство, в недалеком будущем, собственная же остросоциальная передача на телеканале. Все это казалось Эрнесту Юрьевичу случайным и чрезмерным, оттого несколько тягостным. Но Грачевский, как мог и в чем мог, старался сослужить преданную службу своему молодому другу, был ныне одним из самых рьяных «Крестоносцев удачи».
К сегодняшнему походу Эрнест Юрьевич тоже подготовился основательно, чтобы не ударить в грязь лицом и облегчить непростую миссию генералиссимуса. Приодетый с небрежным шиком скучающего аристократа, Эрнест Юрьевич производил этим днем особенно выгодное впечатление. Такой легкий и антуражный барин мог позволить себе свободно, без стеснения подойти к любой высокопоставленной группе лиц и завязать непринужденную беседу, тем самым доставить генералиссимуса в толпе гостей к необходимому для дела месту.
В Колонном Зале бывшего Дома Союзов уже клубился и роился приглашенный люд, фуршет набирал обороты, скоро предстоял приезда мэра и персон из новой администрации, ждали и долгую речь облеченного полномочиями маршала, то ли авиации и то ли еще какого рода войск, никто не знал точно. После чего должно было состояться чествование сохранившихся до новых времен ветеранов войны генеральского звания, после предполагался вечерний разъезд по интересам.
Эрнест Юрьевич и Вилли медленно и чинно сновали в толпе. Где задерживались на необязательную, краткую беседу, где протекали мимо, как вода в песок. Вдалеке мелькнула уже габаритная фигура Квитницкого, добившегося таки в новой Думе вожделенного места. Семен Адамович сопровождал, с тягостной для него деликатностью, супругу Дружникова, юную Полину Станиславовну. Узрев среди гостей генералиссимуса, Квитницкий на миг застыл в изумлении, отвалил жирную челюсть, но тут же проследовал далее, не кивнув и не подав вида, что узнал бывшего и отставного в опале компаньона. Однако, Полину Станиславовну немедленно постарался увести подальше прочь от опасного места. Во избежание, не дай бог, неприятной ситуации. Самого Дружникова среди гостей пока обнаружить крестоносцам не удалось.
Зато, к великому своему изумлению Вилли углядел в водовороте разодетых гостей скромную особу Иванушки Каркуши. Что казалось само по себе странным. Не его ранга это мероприятие, да и не охоч Иванушка до подобных развлечений. Стало быть, мог явиться сюда только в приказном порядке. Или кого-то заменял. Или… Думать о последнем, возможном варианте Вилли не хотелось. Каркуша был один, и мало кого знал из присутствующих, но растерянным не выглядел, напротив, будто бы рыскал взглядом в толпе. Генералиссимус, не слишком раздумывая, догадался, кого мог искать Каркуша, и решил не томить, облегчить Иванушке задачу. Попросил Эрнеста Юрьевича пока что занять себя приятной беседой с кем-либо из нужных людей, а сам неспешно отправился навстречу.
Каркуша вскоре тоже в свою очередь засек долгую фигуру генералиссимуса, и поспешил с усердием сократить расстояние между собой и своим «подопечным».
– Здравствуйте, Каркуша! – поздоровался первым Вилли, и в знак мирных намерений подал руку.
Иванушка руку принял, но в лицо не посмотрел, то и дело убегал глазами мимо. Но не из смущения. Необычное напряжение чувствовалось и в его рукопожатии, и во всем нынешнем поведении. Словно Каркуша о чем-то торговался сам с собой, никак не мог сговориться, и до той поры не рисковал смотреть открыто на собеседника. Вилли ничего другого не оставалось, как взять инициативу разговора на себя. Что в данный момент было равносильно осторожному прохождению тяжелого крейсера через минное береговое заграждение. Но мямлить и трусить тоже не имело особенной выгоды для дела.
– Что же, Каркуша, вы даже здесь не оставляете меня без присмотра? Я, вроде ни разу не дал вам оснований заподозрить меня в нарушении договора. Впрочем, любопытство – не порок. А дальше вы знаете, – пошутил, но и укорил в неблаговидности генералиссимус.
– Меня послали, – коротко ответил Иванушка. На юмор он не откликнулся, но и не пресек лишний разговор.
Напротив, у Вилли определенно сложилось впечатление, что отрывистый ответ Каркуши предполагал за собой многозначительное двоеточие, а не категоричный восклицательный знак. Но вот продолжить мысль далее, за пограничные отметки, Иванушка не решился. Вилли стало вдруг интересно.
– Конечно, сами бы вы сюда не пришли, – согласился на всякий случай Вилли, но обозначил в конце предложения как бы и вопрос.
– Да, меня послал Олег Дмитриевич, – с некоторым вызовом откликнулся Каркуша. Затем не вполне понятно добавил:
– Но, может, я и сам желал прийти. И пришел.
– У вас здесь есть собственный интерес? – удивленно и с осторожностью спросил Вилли.
– Может, есть. Все может быть! – Каркуша неосмотрительно повысил голос, и группка строго одетых господ, стоявшая неподалеку, повернулась в его сторону. – Ни к чему нам препираться у всех на виду.
Каркуша повернулся, с намерением уйти прочь. Но Вилли удержал его силком, ухватив за рукав отглаженного пиджака. Почему-то важным показалось ему остановить Иванушку и сказать именно эти слова:
– Послушайте меня, Каркуша. Послушайте, только один раз. Потому что, я тоже дважды повторяться не буду!
Иванушка выдернул руку неприязненным жестом, однако, не ушел, и теперь уже осмелился поднять взгляд на генералиссимуса. С угрозой и растерянностью, одновременно отразившихся в его светло-карих, в крапинку, глазах. Вилли тем временем продолжил:
– Вы же нормальный человек, Каркуша. Порядочный, нормальный человек. Хотя и слабый, – здесь Вилли нетерпеливым жестом пресек возражения Иванушки, собравшегося было заговорить. – Не перебивайте. Я все знаю. У вас жена и дети. Двое детей. У Дружникова вам выгодно, хотя порой стыдно и страшно. Вы успокаиваете себя тем, что делаете свою не очень чистую работу ради семьи. Но так ли это нужно вашей семье, и то ли это, что ей нужно? Вы умны, вы не можете не понимать, что происходит неладное. И ваш страх…
Иванушка не дал ему договорить. Худое лицо его исказилось, словно от внезапной боли, он прервал генералиссимуса жестко и с едва заметными истерическими нотками:
– Мои страхи – это мое дело. И скажите им спасибо. Иначе мы не стояли бы тут с вами у всех на виду, как Минин и Пожарский на Красной площади! Меня послали следить за вами, как и всегда, да! Но никто не уполномочивал меня с вами разговаривать. Вы болван, Мошкин, кто бы вы там ни были! Уходите отсюда скорее. Все. Больше я вам ничего не скажу.
– Я не могу уйти отсюда! – глухим шепотом взмолился генералиссимус. – Если вы, впервые в жизни, пытаетесь быть мне другом или просто дать совет, подождите. Не убегайте от меня.
– Тогда ответьте честно! Зачем вы здесь? – озираясь по сторонам, спросил Иванушка. Он дергался и нервничал, как застигнутый врасплох любовник, однако, пока медлил и не уходил.
– Честно? Мне нужно увидеться с Дружниковым. Совсем ненадолго. Вы мне поможете? – в лоб и откровенно, делая самую великую за этот день ставку, попросил генералиссимус.
– Не помогу. Это не в моих силах. Все, что хотел, я давно дал вам понять. Уходите отсюда. Немедленно, – сказав последнее, категоричное слово, Каркуша, не прощаясь, развернулся и быстро скрылся в сгустившейся толпе.
Вилли растерянно глядел на его простывший след. В голове генералиссимуса царил в эту минуту полный и абсолютный сумбур. Делать выводы и соображать было занятием бесполезным. И Вилли отправился на поиски Эрнеста Юрьевича. Понятное дело, туманным предостережениям Каркуши он не внял, следовать им не собирался. Миссия продолжалась.
Грачевского он застал в компании мастистого телевизионного политолога и не менее солидного пресс-атташе министерства иностранных дел. Все трио бурно обсуждало судьбы обновленной России и прочило ей в недалеко будущем сразу и великие общественные катаклизмы и великие прогрессивные, реформенные преобразования. Словом, шло обычное словотрепачество ни о чем, в коем каждый из собеседников в очередной раз оттачивал до совершенства личные риторические таланты. Вежливо и как бы невзначай, генералиссимус выловил Эрнеста Юрьевича из затянувшего его пустопорожнего омута, напомнил о цели их прихода. Грачевский пристыжено извинился, предложил медленно и как бы непринужденно прогуляться по периметру зала. Вдруг их клиент уже прибыл и затерялся в суете, а они не заметили?
– Пора бы ему появится. Фуршет заканчивается, и скоро будет речь, – предупредил Грачевский, тут же полюбопытствовав:
– А с кем это вы говорили? Знакомого встретили?
– Да, и признаться, странного знакомого. По крайней мере, сегодня. Он передал мне, загадочные совершенно, предупреждения, и теперь я чувствую себя круглым идиотом. Оттого, что ни черта не понял, – пожаловался Эрнесту Юрьевичу генералиссимус.
– А что он вам сказал? – поинтересовался Грачевский, впрочем, не от пустого интереса.
Вилли сморщил лоб, на мгновение задумался, что же именно сказал ему Каркуша, и как это возможно изложить, да еще связать в нечто единое, имеющее смысл. И сложив все вместе, понял.
– Знаете, что, Эрнест Юрьевич? А ведь Дружников сегодня не приедет. Именно это и хотел сказать мне мой знакомый. Выходит, мы с вами старались зря. Вот только оттуда он узнал?
– Что узнал? Что? – встревожено вскрикнул Грачевский и невольно сделал испуганные глаза, сам себе зажал ладошкой рот.
– Вот и я бы хотел знать, что? И вообще. Что все это значит? – сказал Вилли как бы самому себе, при этом нахмурился, нервно дернув бровью. – Пойдемте отсюда, от греха подальше. Ничего не поделаешь. Один-ноль, в его пользу.
Вилли и Эрнест Юрьевич стремительно и тихо покинули высокое собрание.
Уровень 53. Фигура вторая. Дамы приглашают кавалеров
За все лето более ничего существенного не произошло. Внешние обстоятельства жизни напоминали застойное в безветренный день и безмятежное болото – никаких явных катаклизмов, никаких намеков на военные действия с чьей-либо стороны. Немного удрученные первой провальной попыткой крестоносцы исподволь готовили второй поход на Дружникова. В этот раз опять пришлось переориентироваться, теперь уже в сторону Рафы и Василия Терентьевича, вдруг, с легкой руки генералиссимуса им повезет. Хотя о лишних удачах в их случае говорить было смешно, но из-за независимого двигателя Дружникова, который обладал полной автономностью и непредсказуемой каверзностью, вполне могла иметь место и блокировка чужих везений, если они шли в разрез с желаниями самого «ОДД».
Дружников тоже вел себя вроде бы тихо и с достойным спокойствием, но генералиссимуса так легко на мякине было не провести. А в Москве стали исчезать люди. Не в смысле пропадать без вести и без слуху, но то тут, то там на важных и ответственных персон нападал мор. И не только в Москве. Смерть, принимавшая обличья скоропостижного инфаркта, глупой и необъяснимой авиакатастрофы, ничем не подкрепленного фактически выстрела ревнивой жены, с удручающей точностью и злонамеренностью накрывала государственных мужей. Всякий раз Вилли удавалось проследить отнюдь не иллюзорную связь между гибелью людей и их возможным, нежелательным вмешательством в неисповедимые пути Дружникова. Смерть поражала хорошо нацеленной молнией и вовремя, когда неугодного чиновника из антимонопольного комитета, когда бравого генерала, преградившего должностной путь приятелю и собутыльнику Дружникова, била по сошкам и помельче, порой заглядывала на самый верх, в совет федерации и губернаторские покои. Никто, впрочем, Дружникова с происшествиями не увязывал. Да и смешно было. Где предприниматель из «Дома будущего», пусть и модный олигарх, а где сердечная недостаточность, спятившая супруга или попавший в буран вертолет. Не волшебник же он, в самом деле!
Да только, каждая смерть, получалась, что называется, «в строку». И на руку никому иному, как Дружникову. Вилли не надо было даже искать, кому выгодно. Потому что, в конечном, ведомом только ему итоге, прибыль шла исключительно в карман «ОДД». Равным образом ширилось и его окружение. К старым, проверенным временем, тарантулам, добавились новые скорпионы и гробокопатели. Дружников приютил подле себя парочку отставных при новой власти министров, однако, не растерявших ни связей, ни надежд на триумфальное возвращение. Приманил и включил в свою систему, одному ему известными средствами, и нескольких бизнесменов, влиятельных и жаждущих, но опасающихся рисковать самостоятельно. Так, в окружении Дружникова появился некий господин Стоеросов Богуслав Аркадьевич, которому, помимо увесистой должности в головной структуре «Дома будущего» была вручена не совсем обычная синекура.
Набирая очки, дальновидный Дружников позарился и на духовные ценности. Для того пожелал себе места в Попечительском Совете ни в чем не повинного Большого театра. Куда отрядил своим представителем Стоеросова, мутить воду и ловить в ней, что мимо проплывет. В имперском храме искусств Богуслав Аркадьевич не вполне пришелся ко двору. Попечителям забот хватало и без него. А возглавляющий Совет господин Арипов, матерый волк от энергетики, которого никто иначе не именовал, как Князем, и с большой буквы, тут же перекрестил Богуслава Аркадьевича в Буратина Акакиевича. После чего Князь во всеуслышание заявил, что покуда Стоеросов будет освещать своим интеллектом собрания Совета, то он, Князь, лично более своей особой эти собрания не осчастливит. И передав свои полномочия жене, Князь многозначительно показал Совету внушительный шиш.
Крестоносцам все же не давала покоя неудача, случившаяся в День Победы, и жестоко оборвавшая их надежды на скорое завершение трудов. Тревожные предупреждения Каркуши пересказывались и передумывались вновь и вновь. Но даже доблестный начальник штаба майор Матвеева не находила им достаточного объяснения.
Тогда Лена решила предпринять, потихоньку от генералиссимуса, паломничество в «святые места». То есть, посетить Лубянского оракула. Так, в одно из последних воскресений августа, она отправилась с визитом к Сашеньке.
Сашенька, вопреки опасениям, встретила ее с радостной оживленностью, под которой таилось и любопытство. Видимо, Сашенька в последнее время несколько скучала без интересной работы. Лена, не желая вдаваться в подробности, коротко изложила ей суть Иванушкиных предостережений в лицах, но правильно задать Сашеньке необходимые вопросы отчего-то не получилось. Потому что Лена и сама не понимала, что именно ей хотелось бы знать и еще неизвестно почему. Общие определения дали и общие, размытые ответы. В буквальном же выражении, никакие. В обмен на вопрос, опасны ли пророчества Каркуши и есть ли в них смысл, она получила от Сашеньки однозначное «да», но дальше этого дело не пошло. Поболтав для разрядки ни о чем, Лена, однако, захотела разрешить и собственные тревоги, раз уж приехала с другого конца Москвы. И, набравшись необходимой храбрости, спросила:
– Как, по-вашему, Сашенька, мой генералиссимус хоть немного меня любит? Забавно, правда, но мне все равно, даже если и нет.
– Немного любит, – будто эхом отозвалась Сашенька.
– И на том спасибо, – вздохнула Лена. Затем, то ли желая поделиться с теплым и милым человечком, сидевшим подле нее за чашечкой чая, то ли от нахлынувших переживаний утратив над собой контроль, Лена высказала самое сокровенное:
– А знаете, по-иному быть не может. Потому что по сравнению с моим, любое такое же чувство с его стороны получится немногим. Никогда бы не подумала, будто смогу полюбить до такой степени, что случись необходимость, и жизнь отдать не жалко. Лишь бы он не мучился.
Вдруг, невольно, Лена Матвеева, еще сама не понимая, что она делает, забыв с кем, и о чем говорит, спросила:
– Думаете, я вру? Думаете, я, когда придет срок, не умру за него?
Вопрос был чисто риторическим, но Сашенькин дар, к сожалению, этого не учитывал.
– Да. Умрешь, – ответила Сашенька, которая пока не вышла из своего режима провидения и потому произносила слова автоматически, не сразу задумываясь над их смыслом.
Спустя миг ледяная лавина ужаса погребла их обеих. Лена услышала, а Сашенька, наконец, осознала, какие ответы она только что произнесла. В комнате повисло молчание. Пока душный страх не вернул майору Матвеевой необходимое ей мужество.
– Сашенька, я скоро умру? – просто и прямо спросила Лена.
– Скоро, – в тон ей ответила Александра Григорьевна.
Они помолчали еще некоторое время. Невыпитый чай безнадежно стыл в чашке, Лена грела озябшие вдруг руки об ее гладкие, фарфоровые бока. Потом она заговорила:
– Я, наверное, трусиха и лгунья. Но вот так знать наперед… От моей гибели хоть будет толк?
– Толк будет, – ответила ей помрачневшая и растерянная Сашенька.
– Все равно, мне страшно. И хочется все отменить. Но этого, наверное, сделать нельзя?
– Теперь уже нет, – тихо сказала Сашенька.
Лена не выдержала, заплакала, точно испуганный ребенок, прижав ладони к лицу. Сквозь слезы и приглушенные всхлипывания вырвались горькие фразы:
– Если уж дальше все будет без меня… Хоть бы знать, что будет… А я ничем не могу помочь… я не знаю… – плач перешел в рыдание и разнесся по квартире, отражаясь от гулких, светлых стен.
Вот тут-то и произошло кое-что удивительное и невообразимое. Чудеса в решете начались, однако, с громоподобного грохота. Как если бы кто-то с силой и в бешенстве хлопнул дверью, а после пнул ее от души ногой. Еще через мгновение в Сашенькину комнату ворвалось гневное облако, темное и очень крупногабаритное:
– Майор, встать! И сопли утереть! Живо! Тьфу, бабье! – рявкнула клубящаяся тьма. Лена немедленно вскочила со стула и вытянулась в струнку, будто перед старшим по званию.
Страшный, извергающий ругательства силуэт скоро, однако, приобрел для опешившей Лены человеческие очертания. И она признала в грозной, фундаментально массивной фигуре, одетой в черный с желтыми лампасами спортивный костюм, Сашенькиного сына Илью. Которого видела доселе единственный раз в жизни, но не запомнить не могла. Именно видела, потому что знакомством их встречу назвать было никак нельзя.
Еще в самый первый ее визит к Сашеньке, когда Лена, в то время капитан, сопровождала по служебной надобности некое секретное лицо, она и удостоилась внимания загадочного Ильи. Правда, от силы, секунд на пять. Случившиеся в те несколько минут, пока Лена и ее спутник под гостеприимное воркование Александры Григорьевны раздевались в прихожей. Когда вдруг широко распахнулась противоположная дверь, выходящая в коридор, и в темном проеме на свету возникло лицо. Хмурое, бледное, с очень темными глазами, словно заключенное в строгую рамку прямых, черных волос. А через пару мгновений дверь безмолвно захлопнулась. Лена же осталась стоять в прихожей с нехорошим ощущением, какое у нее бывало в далеком детстве при воровстве помидоров с соседской грядки. Но лицо она запомнила.
Сейчас владелец лица предстал перед ней собственной нелюдимой персоной, при этом чертыхался взахлеб, понося майора Матвееву на чем свет стоит. За беспокойство, ему причиненное. И возвышался над Леной на целую голову, что одно только нагоняло лишнего страху.
– Чего галдите? Коротко и ясно, – грубым голосом, наругавшись, осведомился Илья.
Лена не посмела ослушаться или плакать далее. Затем быстренько изложила суть их с Сашенькой беседы. Коротко и ясно.
– Поганой метлой гнать со службы. За несоответствие, – постановил Илья, с выражением неподдельного отвращения на гладком лице, и одновременно пиная в такт ножку стола. Посуда тихонько звякала при каждом его ударе, чем раздражала, по-видимому, еще больше. Однако, Илья продолжил свое гневное напутствие. – Надо быть законченным идиотом, чтобы не понять – у вас в команде «крот»! После этого вы не офицер, а черпальщик ассенизационного обоза!
Лена, если бы осмелилась шевельнуться, стукнула бы себя тяжелой, серебряной сахарницей по голове. Она-то как не сообразила! Единственно возможное объяснение, и картина складывается разумно. Но тут же перестала себя упрекать. И не сообразила бы. Это сейчас, когда Илья одной только фразой вправил ей мозги, все стало на свои места. Но очевидным вывод не был и на поверхности не лежал. Она, конечно, слышала кое-что о его способностях: неправдоподобные легенды, витающие в кулуарах Лубянки и передаваемые возбужденным шепотом. Говорили о нем, как о мрачном интеллектуале-дикаре, живущем в пещере и не переносящем на дух человеческого общества, а женщин особенно. Первобытном человеке с нечеловеческими видениями и интригующими талантами, который настолько презирал род людской, что даже иногда помогал последнему своим неестественно развитым умом. Вот и сейчас.
– И не рыдать! Не сметь! Для офицера погибнуть на посту – честь! Развела бабские истерики! – выкрикивал ей в лицо Илья, и Лена не могла не признать справедливости его негодования. – Дала присягу, держись! Или снимай погоны и иди кашу варить!
– Я же не спорю. Я так, на минуточку, растерялась, наверное, – сбивчиво оправдывалась Лена, но страшно ей уже не было.
– На минуточку! – на полтона умерив раскаты грома, оборвал ее Илья. И повернулся стремительно, чтобы уйти прочь. – Какой дурак вас, баб, на земле расплодил! Матери вопросов не задавай, кто да что. Не поможет. Страж не даст. «Крота» ищи сама… И не шумите здесь больше! Достали, хоть вешайся!
Только и сказал Сашенькин сын на прощание. Но даже если бы он напоследок дал Лене тумака, это обстоятельство нисколько не умалило бы ее благодарности. Потому что помощь Ильи нельзя было оценить и в золотом ее эквиваленте.
Лена собралась уходить тоже, но, внезапно передумала, обратилась с трепетной просьбой к Сашеньке:
– Если меня… Ну, вы понимаете. Не оставляйте Вилли совсем. Ему нужны будут не одни лишь солдаты. Но и … В общем, он же человек, – бестолково, и будто бы роняя вместо слов кровь своей души, попыталась объясниться Лена.
– Конечно же, человек, – ласково успокоила ее Сашенька и даже постаралась выдавить из себя улыбку. Безуспешно. Зато вовремя вспомнила нужную вещь:
– Помнишь, Леночка, ты обещала. Непременно познакомить с «твоим человеком». Я думаю, это обещание сейчас самое время сдержать. Я должна его видеть. Чтобы «увидеть» по-своему. Тогда мне будет легче помочь.
– Хорошо, Сашенька, как скажете, – согласилась Лена. Идея показалась ей здравой и полезной весьма. По крайней мере, она сможет передать Вилли в дружественные руки. Когда ее… Когда уже… Дальше Лена думать не стала, потому что ей вновь неудержимо захотелось плакать. А это было недостойно офицера федеральной службы.
Вилли ехал на встречу, в полезности которой сомневался в течение последних дней уже не раз. Но Лена так просила. И уверяла, что для генералиссимуса может выйти от этого свидания прямая польза. Не то, чтобы генералиссимус не верил в сверхъестественные дарования и экстраординарные способности. Сам был ходячее им подтверждение. Но в то же время не доверял фактам и чудесам, которые проверить нельзя. К ним Вилли относил всякие гадания и пророческие ясновидения. Потому, как им канонически полагалось быть туманными и многозначными. А стало быть, всегда имеется шанс истолковать случившееся, как нечто предопределенное, но недопонятое. Законспирированная Сашенька, хотя и угадала происходящее с Аней, но ведь могла же она сделать выводы просто исходя из здравого смысла, как и он сам. Правда, Лена ничего лишнего ей не рассказала. Вилли был в затруднении. Поэтому согласился на интервью.
И теперь, чин по чину, отправился в гости к Эрнесту Юрьевичу. На своей машине и с Костей. Сашенька должна была прибыть на квартиру к Грачевскому заранее, минимум за час до прихода генералиссимуса. Таково вышло настоятельное требование его Лены. Чтобы не «светить» без необходимости «достояние республики». За рядовыми крестоносцами же никакой тотальной слежки не велось, Сашенька, похоже, и вовсе не привлекла внимания Дружникова. Подумаешь, гадалка! Он и в голову не брал.
Потому Вилли прибыл к Эрнесту Юрьевичу как бы с традиционным приветом, что проделывал уже много раз, просто поболтать и развеяться в обществе тонкого и не обделенного умом собеседника. Хвост в этом случае провожал его до подъезда и далее равнодушно отцеплялся. А что к Грачевскому в сей же день явится с визитом дама, к тому же задолго до самого Вилли, так кому какое дело? Опять же, Сашенька уж конечно не будет громко объявлять, куда именно она держит путь, а всего лишь наберет код на домофоне. Пойди проверь, если придет охота или моча стукнет не в то место. Мало ли к кому в многоквартирном доме стучится респектабельная и хорошо одетая, полная внутреннего достоинства леди. Оттого, дабы не возбуждать нездоровые страсти и параноидальные подозрения, Лена отказалась сегодня сопровождать генералиссимуса. Справится и без нее, только пусть настроится на серьезный и вдумчивый лад. И как воспитанный человек воздержится от скептических замечаний, если Сашенька совсем не вызовет у него доверия.
Однако, Сашенька вызвала. Но не одно лишь доверие. А и определенное подозрение. Точнее даже не она сама, а Эрнест Юрьевич Грачевский, который впервые за время их с Вилли знакомства выказал явно поддельную радость от прибытия дорогого гостя. Похоже, что Эрнесту Юрьевичу в обществе Сашеньки было неплохо и без генералиссимуса. Вилли развеселился. Не Грачевский ли собственной персоной совсем недавно за кофе с коньяком и сигарой плакался ему на жизнь и несправедливую долю? Особенно на вероломный женский пол, которому со дня бегства жены, не доверял ни на грош. Жена же Эрнеста Юрьевича, судя по рассказам последнего, оказалась умело замаскированной мещанкой и предательницей. Покинувшей многострадального писателя без промедления, в тот же день, когда его постигла обструкция, политическая, гражданская и материальная. После этого предсказуемого всеми, кроме самого Эрнеста Юрьевича, происшествия, Грачевский разуверился в женщинах раз и навсегда. Да и они не баловали одинокого изгнанника вниманием. Когда же, после недавнего взлета, корыстные дамы немедленно возымели к нему интерес, Эрнест Юрьевич, человек чуткий и не лишенный догадливости, совершенно отвратился от женского общества. И вот, пожалуйста, извольте полюбоваться! Мало того, что Эрнест Юрьевич, ныне решительный и слабохозяйственный холостяк, выставил на стол все, что имелось в его доме наилучшего. Так еще вьется мелким бесом перед гостьей, с которой знаком-то всего каких-нибудь шестьдесят минут! Впрочем, Сашенька того стоила. Это генералиссимус понял с первого на нее взгляда.
Долгие полчаса разговор шел ни о чем. Вилли уже подумывал, что зря потратил время, и рассчитывал вербальные ходы, которые позволят ему под подходящим предлогом прервать визит и оставить вожделеющего Грачевского наедине с нежданным подарком. Но тут беседа, вяло омывавшая их невольное трио, вспенилась небезынтересными для генералиссимуса водами.
– Вам не стоит так уж страдать о себе, – сказала вдруг Сашенька, прервав необязательное повествование генералиссимуса о давней поездке в итальянские Альпы.
– Простите? – недоуменно осекся на полуслове Вилли, едва удержав изумление в рамках приличия.
– Ничего. Я говорю, что чувство вины обычно плохое подспорье. А для молодого человека, особенно. Потому что, ваши надежды и разочарования еще горячи. Если посмотреть более холодным взглядом и со стороны, то многое покажется лишним.
– Что вы имеете в виду? Я не понимаю? – озадачился Вилли, силясь вникнуть в скрытый смысл Сашенькиного заявления, которое невесть каким образом вступило в резонанс с его собственным «я».
– Понимать не надо. Достаточно лишь слушать. Я и сама иногда не понимаю до конца, что и зачем говорю, – Сашенька обратилась к нему с улыбкой, очарование которой, неподдельное и невозможное, Вилли отметил еще в первый миг знакомства. Будто в темной комнате зажгли яркий, ласкающий мягкий свет. Эрнест Юрьевич тоже склонился к Сашеньке, стараясь ревниво поймать часть этой улыбки в свои сети.
– Я вас слушаю. Честное пионерское, – звонко ответил Вилли, потому что излишняя серьезность вдруг показалась ему неуместной. Легко ему было с Сашенькой.
– Вам надо поменьше думать об исправлении природы и немного больше о возможном счастье. Тогда в нужный момент вы найдете правильный путь. Иначе можете упустить и ошибиться дорогой.
– Вы полагаете, я смогу узнать свой путь? – невольно включился Вилли в игру вопросов и ответов. И внезапно вспомнил, что для Сашеньки это далеко не игра.
– Сможете, если захотите, – твердо и не размышляя, ответила Сашенька, исполняя свою обычную работу.
– Мне, что же, будет явлен некий пароль? – не отдавая себе отчета, брякнул генералиссимус первую, пришедшую на ум глупость.
Однако, немедленно получил ответ:
– Да, пароль вам будет явлен.
– И какой же? – забыв о правилах, поинтересовался генералиссимус.
– Этого я не знаю. Задавайте вопросы правильно, – по привычке, машинально сказала Сашенька.
– Извините, это, наверное, неважно. Видимо, я должен буду сразу его вычислить. Иначе ведь это получится не пароль, – пояснил сам себе генералиссимус. И как бы у себя же спросил:
– Только, что же мне делать с тем, другим, что есть во мне? Я, наверное, кажусь вам странным, как и Анюта. Но вы меня не боитесь.
– Не боюсь. И ничего странного в вас нет. Вы обычный. Простой и хороший. Но хороший человек – это ведь еще не профессия! – с чистым, как родник, юмором подзадорила его Сашенька.
– Но как же..? Как же остальное? Я не говорил, хотя вы, наверное, и сами уже знаете. Я так чувствую, – настаивал на нужном ему откровении Вилли.
– Остальное? Остальное, дорогой мой мальчик, это – ПРИХОТЬ БОГОВ. И ничего кроме. А уж как и куда вы донесете этот крест, решать вам.
Прощаясь с Эрнестом Юрьевичем у дверей, он услышал, как Грачевский сказал вышедшей вместе с ними в прихожую Сашеньке:
– Не уходите, прошу вас! Мне надо спросить у вас жизненно важную лично для меня вещь, – и, убедившись, что Сашенька кивнула ему в знак согласия, Грачевский громко, не стесняясь присутствия генералиссимуса, воскликнул:
– Какое счастье, что ваш дар не позволит вам уйти от ответа!
Уровень 54. Фигура третья и последняя. Отыгрыш
Знать, как жить, и жить так, как знаешь – совсем разные модусы реальности. Но Вилли старался. Тревога не покидала его ни на миг, и со временем высверлила настоящую дырку в мозгу. Хотя после Сашенькиного определения его естества, он с этой тревогой смирился, как с внутренней необходимостью настоящего своего бытия. И уже лучше различал окружающий его мир.
Для начала изменил свое отношение к Лене. Теперь он порой стыдился собственного потребительского отношения к преданной и любящей подруге, пытался по мере возможностей отплатить ей вниманием и заботой. Пусть и на расстоянии. Потому как Лена в последние месяцы жестко ограничила их личные связи, а причину объяснить отказалась. В то же время, каждый раз, когда им приходилось встречаться по делам «Крестоносцев удачи», Лена смотрела на него так, словно не могла наглядеться и именно эта их встреча была чуть ли не последней в жизни. Зато, куда чаще звонила по телефону, иногда не отпускала Вилли по часу, расспрашивая о самых незначительных пустяках. Вилли ее жалел и никогда не вешал трубку первым. Хотя в нем самом зрело семя, которому он совсем не был рад. А только отныне, как бы ни сложилось его и Анютино будущее, не так просто выйдет дать отставку Лене. Его Лене. Иначе Вилли Мошкин в своих же глазах явит себя как неблагодарная тварь и негодяй. Если бы дело единственно состояло в этом! С голосом совести договориться сложно, но возможно. А как обрести равновесие внутри себя, выкинув оттуда Лену? Ставшую уже частью и опорой его повседневных забот и грядущих испытаний. Нет, Аню он сегодня любил ничуть не меньше, чем скажем, год, два, десять лет назад. Но любому человеку, каким бы он ни был, даже и Дружникову, нужны связи «на каждый день», удерживающие в кругу привязанностей и устойчивых симпатий. От частого общения, от стремления разделить с кем-то успехи и беспокойства, с кем-то, кто поймет и будет знать цену, – от всего этого отказаться можно, только если умереть. И связи эти живые, разорвать их выйдет лишь с потерями и насильственным способом. Нельзя страдать и сражаться бок о бок и не стать при этом в некотором смысле одним целым. Оттого Вилли не мог не понимать, что в случае разрыва он и Лена утратят нечто невозвратное и никак невосполнимое впоследствии. С Анютой же Булавиновой эти связи если и были в остатке, то давно уже обвисли бесплотными нитями. Уповать на то, что капкан его чувств откроется сам собой, Вилли не хотел. В случае полного успеха спасательной кампании крестоносцев выбор станет невозможен и необходим одновременно. Конечно, помышлять об исходе было рановато и самонадеянно, но и заставить себя не думать у Вилли никак не получалось. Произошло то, о чем он когда-то предупреждал свою Лену: верность, дружба, завязанная на крови, и пройденный над бездной, совместный путь неизбежно столкнулись с его давней и иррациональной любовью к Ане, и еще счастье, что выбор свой Вилли имел возможность отнести на будущее.
Заявление Сашенькиного сына о предателе в их рядах Вилли поначалу не очень принял всерьез. Но Лена настаивала. Приводила доводы. Если они верно перетолмачили намеки Иванушки, то выходило – Дружников знал заранее о том, что Вилли будет поджидать его на приеме. И это знание Дружникова встревожило. Он не прибыл сам и послал наблюдателя. Конечно, Вилли нашел и возражения. Может, его собственная физиономия настолько противна Дружникову, что тот скорее был согласен пропустить важное для него мероприятие, лишь бы избежать встречи с генералиссимусом. Испугаться он не мог. Не из-за чего, да к тому же Дружников не трусливого десятка, с двигателем и вовсе позабыл значение слова «страх». А вот и нет, в свою очередь спорила и доказывала Лена, иначе, зачем же ему понадобилось подсылать Каркушу? Когда там фиглярствовал в роли сопровождающего кавалера Семен Адамович Квитницкий. Убедиться в присутствии на фуршете генералиссимуса мог и он, а после преспокойно доложить об этом факте хозяину. Но Каркуша был. И не просто был. Он позволил себе то, чего никогда не позволял ранее. В придачу до колик испугался собственной смелости. Но он же и предупредил, не бессовестный человек, своего «подопечного» об угрозе. И настоятельно требовал уходить скорее прочь. Все это могло свидетельствовать лишь об одной, единственной вещи. Дружников не столько знал о присутствии генералиссимуса, сколько имел основания полагать это присутствие для себя небезопасным.
– Пойми, милый, и прими как данность, – уговаривала его Лена, задержав генералиссимуса в своей квартире после ухода Рафы и Василия Терентьевича, – если отбросить все остальные объяснения как несостоятельные и противоречивые, то верным будет то единственное, которое останется. Пусть даже самое плохое и невероятное. Просто методом исключения.
– И что прикажешь делать? – поджав губы, немного обиженно и позволительно капризно, спросил Вилли. Он сидел в кресле и нервно курил уже пятую сигарету подряд:
– Устроить крестоносцам допрос с пристрастием?
– Ни в коем случае, – ответила Лена, и подошла, поцеловала его в редкие волосы на макушке. Непонятно почему, но больше всего на свете ей нравилось, когда Вилли вел себя как избалованный ребенок. Часто она сама провоцировала его на подобное поведение. – Дай сюда эту гадость. Не кури сегодня больше. А крестоносцам ничего не говори. Рано или поздно все откроется и вычислится. Я же без лишнего шума постараюсь провести тайное следствие.
– Жучки, что ли, установишь? Или филеров пошлешь? – съехидничал Вилли и потянулся тишком за новой сигаретой. Лена стукнула его по руке. – Ну-у, последнюю?
– Только одну, – строго посмотрев на него, все же разрешила Лена. – Надо будет, установлю и пошлю. Но, думаю, до этого не дойдет.
– Интересно, кто из них? Рафе иудины лавры на голову не налезут, а запугать его – надорвешься до грыжи. Скачко? Вряд ли. Василий Терентьевич далеко не дурак. К тому же он стопроцентный обыватель.
– Поясни последнюю мысль, – попросила его Лена.
– Махровому обывателю, рядовому и добропорядочному, с Дружниковым никак не по дороге. Потому что, дороги у них разные. Ничего такому обывателю Олег предложить и дать не может. У него попросту нет походящего товара. Василий Терентьевич и ему подобные другие Василии Терентьевичи и Сидоры Ивановичи хотят покойного завтрашнего дня, честно заработанного достатка, надежного закона, защищающего этот достаток, свободы торговли, и правительства, которое можно за все ругать. Смысл их жизни, в большинстве случаев, – передать сбереженное в заботах имущество хорошо воспитанным детям. И этих детей Василии Терентьевичи полагают центром своего существования. Поэтому на них, как на китах, стоит весь современный цивилизованный мир. Следовательно, войны, передряги, безумные диктаторы и катаклизмы им не нужны.
– То есть, даже если Дружников предложит нашему Скачко выгодное соглашение, то Василий Терентьевич наотрез откажет? – Лена сделал вид, что понимает основную мысль генералиссимуса.
– Не так. Дружников не может предложить выгодное соглашение Скачко, потому лишь, что у него нет ни единого варианта подобного соглашения. И Василий Терентьевич, я уверен, это понимает. Какую бы сиюминутную прибыль ни посулил ему Дружников, наш Василий Терентьевич не прельстится. Потому как он человек осторожный и дальновидный. Он знает, что за временной взяткой последует непоправимый убыток. Что год, другой, он проживет с сыром и маслом на хлебе, а всю оставшуюся жизнь он и его дети будут черпать из всеобщего тюремного котла баланду. Спрашивается: оно ему надо?
– Отсюда вывод: предатель не кто иной, как Грачевский, – быстро проговорила Лена, и сама рассмеялась нелепице.
– Еще большая и полная чушь. Эрнеста Юрьевича можно однозначно исключить. Не потому, что он лично мне очень симпатичен и мы серьезно сдружились. Подумай сама, – предложил Вилли с подначкой.
– Уже подумала. Ничего не получается. Люди, подобные Грачевскому, не падают дважды. Он и без того насилу отмыл случайно замаранную честь, и теперь его можно пытать хоть в гестапо, но больше грязи на себе он не допустит. Я таких знаю. На вид слабые и безобидные. А если один раз согнулись и пережили, то вдругорядь на них где сядешь, так в том же месте и слезешь.
– Все равно. Как ни крути, это кто-то из них, – сокрушенно покачал головой Вилли.
Тревоги с осени начали нарастать. И везде Вилли мерещилась рука Дружникова. Затонула атомная подлодка – он уже подозревал козни двигателя. Разве не Дружникову выгоден подрыв державной власти? Падал ли самолет, сходил ли с рельс поезд, любые трагические и масштабные сообщения в новостях он склонен был приписать «ОДД». Лена просила его не сходить с ума. И подумать головой: зачем Дружникову топить дорогостоящую лодку с полным боевым вооружением, если в будущем она может пригодиться ему самому. Ведь Дружников бессмысленных трат не уважал. Президента же «ОДД» при желании мог скомпрометировать любым иным доступным способом, не нанося ущерба своим потенциальным владениям.
Только Вилли нового владыку Кремля жалел. Видел в экранном пространстве его худенькую, щуплую фигурку, представлял рядом с ней могучую дикость Дружникова и жалел. Президент в его видениях являл собой образ невинно убиенного святого Глеба или Бориса попеременно, Дружников же неизменно присутствовал Окаянным Святополком. И одному лишь Вилли было по силам остановить грядущее избиение младенцев. Порой безотчетно рвался он предупредить не ведающего страшной опасности главу государства и посоветовать на всякий случай запереться в противоатомном бункере. Но, во-первых, кто его пустит в Кремль, а во-вторых, мало толку от свинцовых стен против свихнувшегося Стража двигателя. Иногда он клял себя распоследним словом за то, что растратил свой дар на недостойного и по пустякам. Ах, как бы пригодилась его способность рождать вихри удачи именно теперь. Когда он смог бы прикрыть им будущую жертву Дружникова. Что было бы ему вполне по силам. Новый президент Вилли определенно нравился.
К Новому году созрела и вторая возможность выйти на «цель». На сей раз вперед прорвались Рафа и Василий Терентьевич. Праздничный концерт в Кремле, со всеми вытекающими отсюда последствиями. По регламенту продюсеру и администратору звезды полагалось быть за кулисами на всякий непредвиденный случай. Вот Вилли и пойдет в качестве этого самого администратора вместе со Скачко. Очень близкий контакт, возможно, и не понадобится. Вилли хорошо помнил, что в прошлый раз достал Актера из середины партера. А Дружников, падкий на всякого рода почести, вряд ли удовлетворится местом на галерке. Искать его надо будет в передних рядах. Плохо одно. Столько времени прошло, но поиск предателя не завершился никаким результатом. Проверка Леной возможных передвижений и разговоров, непосредственных и телефонных, ни черта не дала. Крестоносцы были чисты, аки ангелы. Вилли уже подумывал, что Илья, которого он, кстати сказать, ни разу не видел, и потому имел полное право сомневаться в способностях Сашенькиного сына, напутал или попросту разыграл их, намеренно введя в заблуждение. Хотя он и Лена, с другой стороны, пришли к похожим выводам. Как бы то ни было, завтрашний концерт все расставит по местам. Если Дружников придет, вопрос отпадет сам собой. А если нет… Вот тогда Вилли намеревался всерьез взять крестоносцев за шкирку. Чтобы Лена там ни говорила.
Ехали втроем, Вилли, Василий Терентьевич и Рафа. Во избежание «мало ли чего» машину вел Скачко. Костюм, гример и иже с ними были отправлены вперед. И ничто не мешало сосредоточиться на грядущей военной операции.
– Вы, генерал, не переживайте, я со сцены буду смотреть. Все равно у меня «фанера» на подстраховке. А как увижу – дам знак. Ты, Василий, тоже гляди в оба.
– Учи ученного, – огрызнулся Скачко. На людях Василий Терентьевич и Рафа препирались постоянно и не всегда придерживаясь цензурных нормативов. А вообще-то ладили меж собой неплохо и работали складно, как пара разномастных, но добросовестных лошадок.
Единственно, чего не выносил Скачко, так это жалоб со стороны Рафы на несчастную любовь. Потому что отношения Совушкина и прекрасной, чернобровой Илоны зашли в тупик и не желали оттуда выходить. Чем большую страсть в ухаживаниях выказывал Рафа, тем холодней и пренебрежительней обращалась с ним возрожденная и обновленная за счет генералиссимуса звезда. Однако, не прогоняла совсем. Но и благодарностей за первое трудоустройство и хлопоты Рафе не выражала. Держала на поводке и не подпускала близко. Лена Матвеева, однако, Илону всячески оправдывала. И новая карьера складывалась у госпожи Таримовой успешно, и душевное равновесие лишь недавно вернулось на свое место. Понятно, Илона не хочет рисковать. К тому же, Рафа, что и говорить, впечатление однолюба никак не производил. Тут разумнее всего выходило обождать. Что влюбленного Рафу никак не утешало. А крестоносцам от Илоны по-прежнему не предвиделось толку.
Концерт перевалил за половину. Рафа должен был выступить во втором отделении. Но Дружникова в зале пока обнаружить не удалось. Хотя и Василий Терентьевич, и Вилли, и сам Рафа под различными, благовидными предлогами отирались у сцены. Нашли и «Армяна» с губернатором Приходько и Полину Станиславовну с папашей и мамашей. Рафа опознал даже «призрака оперы» господина Стоеросова, которого пару раз встречал на светских тусовках менее крупного калибра. Но Дружникова не было нигде. Оставалось надеяться – может ко второму, заключительному отделению он все же объявится. Рафа клятвенно заверил, что во время своего номера глаз с зала не спустит, и велел осветителю направлять прожектор на зрителей, якобы, для пущего контакта.
А вскоре Рафа вышел на сцену. Слава богу, что за его спиной мощным редутом стояла «фанера». Потому что, ко второй песне Рафа сделался сам не свой. Скачко нарочно погрозил ему кулаком из-за занавеса – но бедняга Совушкин не попадал движениями губ в звучащие слова, весь бледный как поганка и потный как филин, казалось, прямо на сцене он грохнется в обморок. Вилли тут же загорелся надеждами. Вдруг Совушкин узрел в зале Дружникова, оттого и пришел в невменяемое состояние. Однако, прискакавший за кулисы неизящным козлом, задыхающийся Рафа разбил его надежды вдребезги. Беспорядочно тыча пальцем куда-то в правый, дальний угол зала, Совушкин, срывающимся голосом гукал и ахал, безуспешно пытаясь вернуть себя к членораздельной речи. Скачко сунул ему бутыль с минеральной водой. Рафа глотнул раз, другой, и, спустя минуту, наконец, заговорил нормально.
– Во беспредел! Ну, вы видали!
– Что? Кого? Рафа, ты нашел? – затеребил его генералиссимус.
– Ага, нашел. То, что не искал! – возопил Рафа и опять стал отпаивать себя водой. – Вот стерва!
– Какая стерва, кляча ты водовозная! Не мудри, пальцем покажи, кого ты нашел! – прикрикнул на него Скачко.
– Там. Там! – несколько раз трагично произнес Рафа и показал пальцем.
– Что – там? – не понял его генералиссимус.
– Она. Илонка. И не одна. Второй ряд от прохода. В углу. С каким-то хмырем. Даже не болотным, а из радиоактивного отстойника, – высказался оскорбленный Рафа. – На ушко ей шептал! – завопил Совушкин. – Сейчас пойду, вызову его и морду на бифштексы разнесу!
– Никуда ты не пойдешь! И вообще. Погоди, остынь малость. Может, это не она, – попытался утихомирить его генералиссимус.
– Ну, как же не она? Она! Да вы сами, генерал, взгляните! – и Совушкин подтащил Вилли к краю занавеса.
Вилли взглянул, куда указывал Рафа. И остолбенел. Вернее будет сказать, охренел. От того, что увидел.
В дальнем, не самом престижном секторе, но все же в партере, а не на балконе, в действительности сидела Илона. В обществе Сергея Платоновича Кадановского! Рафа и Василий Терентьевич, уж конечно, ничегошеньки не поняли, никто из них не знал Кадановку ни лично, ни понаслышке. Но Вилли, даже с такого расстояния, безусловно опознал его вальяжную, исполненную дешевого светского блеска, фигуру, с приклеенной, белозубой улыбкой на лице. Только нечего было госпоже Таримовой делать в его компании. Да и знакомство их представлялось генералиссимусу маловероятным в повседневных, случайных обстоятельствах жизни. Значит, знакомство то не было случайным, а получалось многозначительным и разоблачительным бедствием. А ведь ни ему, ни Лене личность Илоны и на ум не пришла!
Что, впрочем, было понятно и обоснованно. Илона не принадлежала к числу крестоносцев, сбежав в страхе после одного только намека на предложение генералиссимуса. Опека же над госпожой Таримовой со стороны Лены и Рафы Совушкина рассматривалась, как отчасти и благотворительная операция. Где Илона представляла нуждающуюся в участии и защите, слабую сторону. Потому-то никому не ударило в голову, что предателя надо искать вблизи, а не среди крестоносцев. Подумать на Илону, было все равно, что детективному писателю грубой и неумелой пятой попрать все законы жанра. И определить в убийцы раненного бандитской пулей полицейского его собственного соседа по реанимации. Который, вдруг, ни с того, ни с сего, восстал из коматозного обморока, и от нечего делать придушил кислородной подушкой больного на соседней койке.
Вилли раздумывал на сей раз недолго. Хорошо уже, что его крестоносцы вне подозрений. Самый тяжкий, гнетущий груз, к счастью, свалился с его и без того обремененной души. Но поведение Рафы следовало немедленно разъяснить. Для его же и общего блага. И Вилли выполнил свое давнее намерение. Взял одного из крестоносцев, в данном случае, Совушкина, за шкирку. В прямом смысле слова.
– Вы что? Вы что, генерал? – растерянно барахтался Рафа под крепкой в решимости дланью своего начальника. Вилли был выше его ростом почти на голову, и оттого Рафа натурально повис, задыхаясь в тугом вороте обсыпанного блестками костюма.
– Давай, давай, живее! Потом объясню, горе мое! – для вразумления Вилли отвесил еще и пинка под зад испуганной звезде. – И ты, Василий, сворачивай удочки! Поехали отсюда, да побыстрее!
– А как же клиент? – обалдело спросил его растерявшийся продюсер.
– Вышел весь! Операция отменяется! Давай, Вася, давай, скорее! Потом все объясню, я же сказал, – взмолился генералиссимус. Для ясности добавил, шепотом, чтоб не услыхали посторонние:
– Не приедет Дружников-то! Да и не собирался он.
Ничего не выдавая по дороге, как ни умоляли его приставучие и озабоченные крестоносцы, Вилли в лихорадочной спешке подрулил на джипе Василия Терентьевича к дому Лены. Она, конечно, не спала. Ждала сообщения о провале или об успехе. Хотя в последнем и сомневалась. Потому, что сама еще была жива. Значит, цена за победу еще не была уплачена. Но все же надеялась на чудо и на невозможное лучшее. И с порога, едва открыв дверь, узрела крах своих надежд.
Вилли коротко изложил Лене суть увиденного в Кремлевском Дворце, попутно вставляя комментарии для ничего не понимавших крестоносцев. А те, уловив смысл угрозы, стояли поодаль с открытыми ртами. Рафа, будто осьминожка, менялся в цвете лица и в его выражении. Переходя внезапно из бледного состояния страдающего Вертера к пунцовому гневному искажению.
– Теперь главное! – почти свирепо, с безжалостным и карающим взором, подступил генералиссимус к Совушкину. – Я хочу знать в мельчайших деталях, что именно, ты, Рафа, поведал Илоне о наших делах. И упаси тебя силы небесные соврать.
Тут неожиданно вместо Совушкина выступил Василий Терентьевич. Хотя его словесное извержение можно было скорее назвать аварийным взрывом на фабрике фонтанного оборудования.
– Говорил я тебе! У-у, орясина дуболомная! Говорил или нет? Шваль твоя Илонка! Как дам счас! Куда попаду! – и Скачко кинулся на Рафу с кулаками. – Индиана Джонс! Синатра доморощенный!
– Вы чего? Чего? – защищался Рафа под градом ударов, которые и впрямь доставали его куда попало, пару раз в ухо, а все больше в живот. – Не говорил я! Не говорил! Уж как ни приставала!
– Ага, значит, все-таки, приставала! – уточнил Вилли, нисколько не мешая Василию Терентьевичу мутузить Рафу. Когда же Скачко выдохся, генералиссимус сказал спокойно и как ни в чем ни бывало:
– Почему она спрашивала, теперь понятно. Но хотелось бы узнать, до какой степени ты ей «ничего не говорил».
– Ни до какой не говорил! Мне ваша Лена не велела! – Рафа жалобно посмотрел на хозяйку квартиры. – Ну, вы хоть подтвердите! Что не велели. Сами же сказали, Илонку нельзя пугать до времени. Что она, мол, не готова. Лена, ну скажите же!
– И ты ей ничего не говорил? – довольно мирным тоном спросила Лена. Изо всех присутствующих она одна была совершенно спокойна. – Только вспомни хорошенько.
– Ничего. Не хотел волновать. Вдруг она подумает, что я к ней с корыстью и прогонит меня совсем. Так, прибаутками отделывался. Что наш генерал – мужик жалостливый, но парень – первый сорт. Хотя и с закидонами. Олигархов не любит, и все рвется страну спасать от воров и капиталистов. И что бояться его не надо.
– Я ему верю, – сказала Лена. И обратилась уже исключительно к генералиссимусу. – Если бы было иначе, Илона его давно бы выставила вон. За ненадобностью. Беда только: госпожа Таримова и без Рафы знала достаточно, чтобы заставить Дружникова откопать топор войны. О том, что вся наша затея отныне провалена на корню, не приходится и говорить. А потому «Крестоносцы удачи» теперь совершенно бесполезны.
Уровень 55. Покрывало Саломеи
Думай, не думай; гадай, не гадай. Дело пустое. Как да отчего вышло. Вилли в эту ночь плюнул на осторожность, остался у Лены. Но было ему не до постельных утех. Впрочем, майору Матвеевой, тоже. Сидели они тихо, точно два сыча на чердаке заброшенного дома, сиротливого и холодного. И мысли к ним являлись студеные и безотрадные. Они даже не делились думами вслух, и так понятно было, что одинаковые. Вилли курил, много и глубоко, Лена пила. Водку и теплый томатный сок без закуски. Потом пересели рядышком на диван, и, прижавшись бок к боку, все так же курили и пили. До утра. Потому что сон все равно бы не пришел к их безнадежно уставшим, присмиревшим телам.
Кампания провалилась. Лена это давеча очень верно определила. Вся затея от начала до конца оказалась пустой тратой времени. Ни одна птица не долетела до середины Днепра. Ни один из крестоносцев теперь не принесет пользы делу. А ведь без малого два года угробил Вилли на исполнение своего замысла. Только про овраги забыл. Каверны человеческой души. Провальные и непредсказуемые. Как и всегда, будто на кинжальное острие, напоролся на собственную жалость. А за благоглупости полагалось платить. Куда подевалось его похвальное намерение держать крестников паутины в ежовых рукавицах! Но вот, опять наступил на те же грабли. И удар их раскроил череп.
Нечего больше надеяться. Дружникова из норы им не выманить. Достаточно того, что Илона могла ему сказать о главном намерении генералиссимуса. Хотя о способе не знала ничего. Об Актере она и слыхом не слыхивала. Зато наверняка поведала о том, как Вилим Александрович Мошкин затеял смертоубийство своего бывшего компаньона при помощи таких же, как она, носителей паутины. Пусть Дружников остался в уверенности относительно благонадежности своего двигателя, пусть даже посчитал затею генералиссимуса делом безнадежным. Но Вилли слишком хорошо понимал течение мыслей Дружникова, и оттого мог предсказать с космической вероятностью, что «ОДД» не станет рисковать попусту. А на всякий случай предпримет меры. Для начала сделается недоступным для любых контактов со стороны «Крестоносцев удачи». И, что хуже всего, Дружников уже знает, кто такие эти крестоносцы и в чем они ему сродни. Погорельцы судьбы – это один соус, избранники паутины – совсем иное.
Оттого никогда более он не появится ни на одном концерте или фуршете, или еще каком светском «сейшене», куда в качестве гостей, либо приглашенных исполнителей могут заявиться его враги. Главное, зная Дружникова, свободно можно было утверждать, что не станет он долго терпеть подобное, обременительное положение вещей. И попробует разрешить ситуацию в меру своей фантазии. Фантазии же Дружникова в экстраординарных случаях заканчивались, как правило, жестоким нарушением уголовного кодекса, в его части, касающейся преднамеренного лишения жизни путем злого умысла.
Дотянуться до крестоносцев, у Дружникова, пожалуй, пороха не хватит. Вилли пока в силах защитить своих солдат. Только вот Лена. Ну, как положит Дружников с прибором на страховку, которой и нет вовсе, да сорвет свою ярость на первом, кого сможет достать. Значит, Лену срочно и без лишних рассуждений надо выводить из игры. Но как это сделать? Отправить прочь из Москвы, и к черту ее секретную службу, хотя бы в Сингапур или в Буэнос-Айрес, куда Макар телят не гонял. Лишь бы подальше от Дружникова. Да полно, поможет ли? Для двигателя пространственных преград не существует. А с другой стороны, с глаз долой – из сердца вон. Вдруг и пронесет. Беда в том, что Лена его и слушать не станет. Ни за что не оставит одного, это Вилли понимал.
С утра генералиссимус все же предпринял кое-какие шаги. Так, на всякий случай. Позвонил Татьяне Николаевне, в Париж, где вдова Вербицкая проводила нынешнюю зиму, умолял снова пригласить в гости на пару месяцев маму и Барсукова. Татьяна Николаевна была не против, в Париже она слегка заскучала, но и поинтересовалась, в чем спешность. Вилли пришлось наврать ей, что с родителями у него возможны трения по поводу нового его романа. А так, пока мать и отчим будут прохлаждаться на Елисейских полях, Вилли определится с намерениями и поставит предков перед свершившимся фактом. Татьяна Николаевна в сердечных терниях своего любимчика тут же приняла горячее участие, надавала кучу жизненных советов, велела на препятствия не обращать внимания. А Люду с Барсуковым обещалась вызвать в Париж на этой же неделе, чего бы ни стоило. Впрочем, со стороны Татьяны Николаевны это вовсе не было жертвой. Мама и Викентий Родионович и без того в последние годы курсировали челноками по маршруту Россия – Франция, составляли компанию безутешной вдове. У Татьяны Николаевны, понятно, имелись во множестве и иные, гламурные, высокие знакомства, женщина она была богатая, известной советской фамилии. Для западных холостяков-альфонсов представляла и определенный коммерческий интерес. Вляпалась бы непременно, кабы паутина удачи, хранимая для Татьяны Николаевны генералиссимусом, не стояла на страже ее судьбы. Но одно дело – великосветские приятели, а для души вдова Вербицкая предпочитала общество старой, московской подруги, свидетельницы ее радостей и горестей, в коих выступала по обстоятельствам в роли утешительницы или напротив, аплодирующего успехам зала. С Людой и даже с Барсуковым уместно было вспомнить покойного Геннадия Петровича, пожаловаться на Катьку, которая как вышла замуж, так совсем отбилась от рук и носится по миру со своим Колей, нынче дипломатом, приписанным к ОНН. А к матери кажется много, если два раза в год. В общем, нежданной просьбой генералиссимуса Татьяна Николаевна была более, чем довольна. Крестоносцев, виноватых без вины, Вилли тоже не захотел расстраивать попусту. На прощание заверил, что все случившееся ерунда, что все останется, как прежде, и дело их продолжится. Только нужно ему все обдумать и внести поправки в планы. А пока, Рафа пусть поет, Василий Терентьевич ему администрирует, Грачевский пусть ваяет книги и пестует «Русское Отечество». Об очевидной бесполезности их стараний Вилли решил крестоносцам не говорить. Незачем лишать людей надежды. К тому же верилось генералиссимусу, что мука перемелется, со временем он найдет выход и испечет заветный каравай.
Об одном он не стал рассказывать никому, даже Лене. Хотя до сих пор ничего в сердце своем от подруги не таил. А только в ночь их диванного бдения «на Шипке» Вилли обуяли бесы. Вспыхнув в немом гневе на Илону, он пошел к стене. Паутина была на месте, да и куда бы она делась! Розовые, сверкающие алмазами нити, скромненько, тут и там мерцали сплетенными ячейками. Редкие еще, недобравшие соков и сил. Оборвать их было делом минутным. Вилли уже и руку протянул. Но не тронул. Постоял, постоял, и пошел себе. Если бы дозволяло окольное, лишенное материальности пространство, то и плюнул бы в пренебрежении подле. Но не было у него тела, не было и слюны для плевка. Что же, хлипкая паутина со временем рассосется сама собой. А пока пусть радуется остатком госпожа Таримова. Тридцать серебряников награды она заслужила.
Как и на чем сошлись Дружников и сериальная блесточка, Вилли волновало мало. Да и ничего бы никакое знание тут не изменило. Копать же мутную грязь у генералиссимуса не имелось даже чуточки желания. Тонкие его, прозрачные, в прожилках ниточек вен, руки тянули из пачки «Парламента» одну сигарету за другой. Он мерял шагами Ленину квартиру из конца в конец, и никуда выходить не хотел. Думал и думал, и не придумывал ничего.
А кому интересно, можем и доложить. Никто к Илоне Таримовой казачков не засылал, лисьих капканов для провокаций не ставил. Илона все решила и сделала сама. Свободной волей, кою так почитал блаженный в неведении генералиссимус.
Тревожно и муторно было Илоне. Раздражительно и зло. И непонятно, кто более досаждал ей в мыслях: рвавшийся к ней всем сердцем Совушкин, или подозрительно великодушный генералиссимус. Она не доверяла ни первому, ни второму. Но не только. В своей богатой обидами жизни Илона определенно предпочитала иметь дело с мужчинами негодяистого склада. Отчего было так, неведомо. Может, радовала Илону жертвенная роль, может, лишь грубая и корыстная, мужская сила находила отклик в ее душе. А может оправдание собственным слабостям, неспособностям противостоять невзгодам, тешилось и находило себя в добровольном желании то и дело падать в грязь. Как бы, не по своей вине. Дескать, с нее, Илоны, взятки гладки. Хоть и скрывала умелая актриса Таримова чувства свои ото всех, но коли спросили бы ее на ином суде, то ответила бы. У Мани, в ее вонючем и запьянцовском логове ей было вовсе не плохо. Даже если бы померла там от истощения и несчастной любви. Все бы ее жалели, а Маня всплакнула бы на могилке.
На первых порах и, не разобравшись, Илона почувствовала благодарность господину спонсору Мошкину за спасение. Как человеку, вызволившему ее из психушки, все равно, что престижной и дорогой. Само понятие «психоневрологическое отделение» наводило на Илону первобытный ужас. Когда же переехала на снятую специально для нее квартиру, вспомнила все и пришла в себя, то с отвращением узнала о том, что именно спонсор и благодетель ее в эту психушку упек. И не имело значения, что Вилли хотел, как лучше. Илона предпочитала смерть в клоповнике подле Мани неблагообразному излечению в стыдном заведении. Силуэт выдуманной ею трагической героини от этого знания определенно принял формы амплуа комической старухи. После, услыхав, чего именно хочет от нее спаситель, Илона и вовсе впала в коматозное состояние духа. Чудные рассказы о паутине удачи навели ее на одну только мысль – ее спонсору самое место на той самой койке, куда ошибочно, вместо себя, поместил Илону господин Мошкин, филантроп и полный псих. Чего уж говорить, кровожадное намерение истребить какого-то там Дружникова, человека не знакомого Илоне совершенно, привело ее к выводу, что надо спасаться любой ценой. Появление у нее в доме двоюродной сестры Лены ничуть ее не успокоило, но рыпаться Илона побоялась, все же ФСБ. И госпожа Таримова сделала вид, будто гостью и опекуншу принимает у себя с радостью и охотой. Когда затем к ней приставили Рафу, известного Илоне по единственному, ознакомительному собранию крестоносцев, тут пришло время для погружения в нирвану панического транса.
Пылкая любовь новоявленного поклонника Илону лишь бесила. В ее сознании черное и белое решительно поменялись местами. То, в чем с полным правом Илона могла упрекнуть бывшего мужа и неверного любовника, она перенесла на непричастного к их грехам Рафу. И про себя тяжко обвиняла его в корыстности и поддельности чувств, злонамеренной игре и умышленном в дальних планах садизме. Словно нарочно желая унизить и опоганить любовь чистую и подлинную, приписав ей пороки прежних своих обидчиков-мужчин. Оттого отыгрывалась на Рафе, как могла.
Но и на месте ей не сиделось. Популярность Илоны росла. Она благополучно перекочевала в следующий сериальный сюжет, уже на правах одинокой звезды, озаряющей сиянием метры кинопленки между рекламными паузами в пиковое вечернее время. Потому Илоне все чаще мечталось избавиться от лишней, по ее мнению, доброхотной и опасной опеки зловещего спонсора. Илоне нельзя было отказать в сообразительности, да и память у нее оказалась превосходной, тренированной в зубреже текстов, даже и в стрессовом состоянии. Фамилию «Дружников» она запомнила хорошо. А, при минимуме стараний, обнаружила и носителя имени, благо, что красочные жизнеописания «ОДД» во множестве украшали страницы серьезных деловых и несерьезных, но задающих тон изданий. Илоне осталось лишь связать между собой Олега Дмитриевича Дружникова и корпорацию «Дом будущего», чтобы понять, где искать необходимую защиту. Чего, казалось, проще: предупредить могущественного олигарха о грозящей ему опасности и тем самым заслужить его вечную благодарность, заодно и освободиться от приставленных к ней соглядатаев. Илона, недолго думая, ринулась в пасть к крокодилу.
Однако, легко принять решение, но не всегда просто дать ему жизнь. Никакого доступа или мало-мальски прямого выхода на Дружникова телезвезда не имела. Илоне пришлось удовлетвориться кривыми, не самыми надежными, зато доступными путями, и позвонить в справочную службу корпорации для рядовых просителей. Иного приемлемого телефонного номера она найти не смогла. Не в отдел кадров же ей было обращаться! Секретарь, сидевший на номере, впрочем, на удивление любезно с ней заговорила. А когда Илона назвала себя и объяснила, что она та самая Таримова, «афганская вдова» и новая телевизионная любимица, девушка на другом конце провода умилилась. Она тоже оказалась поклонницей протяжных, многосерийных историй. И выразила готовность помочь Илоне, если та изложит свое дело.
Илона, насколько могла кратко, поведала девушке-секретарю, что конкретного дела не имеет, но хотела бы переговорить, если не с самим господином Дружниковым, то с любым ответственным лицом, которому доверена личная безопасность хозяина. Ей надо сообщить кое-что относительно некоего Мошкина Вилима Александровича. Услышав последнее заявление, девушка на телефоне явно испугалась, затараторила скороговоркой, умоляла не вешать трубку. Илона и не собиралась, ведь звонила она не с телефонным хулиганством. Ожидание под легкую мелодию «Ночной серенады» продолжалось недолго. Вскоре Илоне ответил обеспокоенный, высокий мужской голос. Представился ответственным и личным адвокатом Дружникова, попросил звать его Иваном Леонидовичем. Илона еще раз донесла до его сведения, что хотела бы переговорить по поводу Мошкина Вилима Александровича, но разговор этот совершенно не телефонный. Иван Леонидович немедленно с ней согласился и пообещал связаться с Илоной в течение часа.
А спустя минуту в трубке, поднесенной Дружниковым к уху, прозвучало во второй раз роковое: «внеплановый старт». Спустя еще две Иван Леонидович Каркуша с суетливой поспешностью уже входил в кабинет «ОДД». Дружников был краток – Илону как можно скорее доставить прямо к нему, по дороге никаких разговоров с ней не вести, охране не перепоручать, а встретить на проходной лично. Каркуша, почуяв в ревущем гласе своего работодателя нешуточную грозу, кинулся со всех ног исполнять приказание.
Через два часа Илону под загорелые в солярии рученьки Иван Леонидович довел до приемной Дружникова и там сдал под ответственность секретарши Вики. В отличие от майора Матвеевой госпожу Таримову не заставили ждать. И очень скоро проводили в роскошные, рабочие покои медного магната.
Илона, попав в невиданную нигде доселе роскошь, не сразу и заметила хозяина этих богатств. А только слабо охала, озираясь и разглядывая восточный шик, даже рискнула потрогать пальчиком раззолоченную консоль, отделанную нефритом и алмазной крошкой. Дружников из глубины огромного кабинета наблюдал за гостей и быстро определился с тем, как ему выгоднее будет себя вести. Надо сказать, за последние годы мало кто из неравных ему по положению лиц удосуживался столь вежливого и приветливого обращения.
Илона пила сказочного аромата чай из сказочного фасона чашки, слушала рокочущие похвалы Дружникова ее ролям и дарованию, и думала. Что всесильный олигарх совсем не так грозен, как о нем сплетничали, хотя и сильно дурен собой. Однако же, он, несомненно «душечка» и «настоящий мужчина», к тому же галантный и внимательный собеседник. И госпожа Таримова выложила, без всяких принуждений со стороны, все, что знала о намерениях генералиссимуса, а также все о нем самом и о крестоносцах. Под конец игриво спросила:
– Дорогой Олег Дмитриевич, вы, я вижу мудрый и понимающий человек. Так ответьте мне без стеснений: разве можно назвать нормальной всю ту ерунду, которую Вилим Александрович нес про какую-то паутину удачи?
– Конечно, нет. Но и вы поймите. Вилим Александрович мой друг, чтобы он там себе не напридумывал в своем воспаленном воображении. А оно у него именно воспаленное, и между нами, по секрету, тяжело больное, – тут Дружников заговорщицки и многозначительно подмигнул Илоне выпуклым глазом. – Подумайте сами, ну как вы можете быть обязаны жизненным успехом какой-то потусторонней дьявольщине? Согласен, Мошкин вам где-то помог, хотя и сомнительным способом. Но все остальное сделал ваш бесподобный талант.
Илона засмущалась от неприкрытой и несколько грубоватой лести Дружникова, замахала отрицательно смуглой, в звенящих браслетах, рукой. Дескать, комплимент не заслужен или, как минимум, преувеличен. Но Дружников возражений не принял, нахрапом пошел в следующую галантную атаку:
– И не спорьте. Я говорю то, что знаю и вижу. Да миллионы поклонников по всей стране скажут то же самое! – Дружников в притворном отчаянии схватился своими крестьянскими ручищами за рыжие вихры на голове:
– Ах, как я жалею, что не я помог вам! Столько хлопот, столько дел, что за ними не замечаешь не то, что бедствующих талантов, а близких людей! Но поверьте мне, Илона! Если бы вы только по воле случая обратились ко мне..!
Дружников не стал объяснять словами, что бы он предпринял для спасения народной звезды, а широко и красноречиво развел руки, показывая тем самым неограниченный диапазон своих возможных благодеяний. Чем окончательно покорил дурищу-кинодиву.
– Так как же? Этого Мошкина не стоит принимать всерьез? Он действительно болен? – радостно спросила дочь фараона Таримова.
– Ну, конечно же, болен. Но это не самое печальное обстоятельство. Самое печальное – то, что мой друг категорически отказывается признавать факт своего…, хм-м, скажем, отклонения от нормы. И поэтому иногда бывает опасен сам для себя. Вот и эта нелепая организация. «Крестоносцы удачи», вы говорите?
– Да, да. Именно, что крестоносцы, – подтвердила Илона и позволила себе легкий смешок.
– Прямо средневековье какое-то. Паутина, чертовщина. Но согласитесь, не могу же я лечить его принудительно? Он все же мой друг, – сказал Дружников и замер над собственными словами. То, неясное, что зрело в нем до поры, вдруг стало приобретать формы и прерывистые контуры. Додумывать времени не было, но мысль Дружников запомнил: «принудительное лечение».
– Так что же мне делать? – неуверенно спросила Илона.
– А ничего не делать. Живите, как жили. Помощь и поддержку я вам обещаю. Но и вы помогите мне, из сострадания и присущей вам доброты. Раз уж вы приняли участие в судьбе моего страждущего друга, то доведите дело до конца, – хитрый Дружников величественным и веским взглядом смерил сидящую перед ним Илону с головы до пояса. – Я вас только прошу присмотреть за ним. Как бы эти олухи из ФСБ не втравили его в ненужное и вредное предприятие. Никакой активной деятельности не надо. Всего лишь слушайте и запоминайте. И при малейшем подозрении…
– Конечно, я вам тут же сообщу, – быстро согласилась Илона. Еще один возможный визит к олигарху показался ей достаточной наградой. – Что смогу, выясню.
– Только, ради бога, аккуратно. Излишне не рискуйте. Я вас умоляю, – и Дружников сделал вид, будто готов пустить слезу. – Если мой друг в гневе нанесет вам хоть малейший ущерб, что вряд ли, но, все равно, я себе этого не прощу. Даже если он оскорбит вас словом.
– Ах, не расстраивайтесь, слова я как-нибудь переживу, – утешила его Илона. – А убогих надо жалеть и опекать.
– Вы настоящий ангел, кому рассказать, не поверят. Но я попрошу вас еще об одном, – Дружников опустил глаза долу и трагично сложил руки на груди:
– Никому ни слова! Горько будет осознавать, что моего бедного друга сочтут в обществе умалишенным, это может сильно ему повредить. Пусть чудит, если хочет. Мы же станем стоять на страже. Так сказать, над пропастью во ржи.
– Даю вам непреложное обещание. Ни одна душа не узнает, – заверила его польщенная интимной просьбой Илона.
– Тогда мы поступим следующим образом. Поскольку я не смогу, как вы понимаете, опекать и защищать вас самолично, то приставлю к вам доверенного человека, – и Дружников лихорадочно стал соображать, кто лучше всего подойдет для этой роли.
– Ивана Леонидовича? – предложила Илона, вспомнив обходительного и кроткого адвоката.
– Нет, с Иваном Леонидовичем вы свяжетесь, если у вас будет срочное сообщение для меня. Только и ему ни слова, кроме необходимого. А вот…, вот, к примеру, Сергей Платонович Кадановский, очень, знаете ли, воспитанный и положительный мужчина, сможет стать вашим негласным другом и в случае чего, ему будет по силам и защита. Но и ему не говорите о навязчивых идеях Вилима Александровича. Пусть все, кроме нас, считают господина Мошкина нормальным человеком.
Так Илона сошлась в тайном содружестве с обалдуем Кадановкой. Который моментально и безоговорочно запал ей на сердце и на ум. И неудивительно. Сергей Платонович как раз являл собой тот тип обольстительного и поверхностного дамского угодника, какой обожала втайне Илона Рустамовна. И расплата ее была видна не за горами.
Уровень 56. Тройка, семерка, дама
Дружников дико и свирепо, в очередной раз бесился в своем кабинете. Приступы ярости с ним стали случаться все чаще, и Дружников, как мог, скрывал их от окружающих. Что все же было непросто – каждый раз приходилось восстанавливать из руин мебель, обновлять технику и посуду. Бедная Вика, личная секретарша Дружникова, запуганная до полусмерти, молчала о том, что слышала и иногда видела, но слухи просачивались и без ее помощи. Однако, Дружникову эти правдивые сплетни ничуть не вредили, напротив, делали его грозную личность еще более жуткой для подчиненных. Шуток по поводу разрушений, производимых им в состоянии бешенной одержимости, никто не отпускал. Даже и ремонтники. Слишком уж красноречиво остатки разгрома характеризовали с темной стороны самого хозяина кабинета.
Последний такой приступ случился перед этим после общения с Илоной. Тогда Дружников умудрился выдержать свою роль до конца, но, едва актриса покинула его общество, немедленно выпустил гневные пары наружу. В тот раз досталось и чеканному гербу над столом, в который Дружников запустил тяжелым, декоративным пресс-папье из бронзы и яшмы. Герб рухнул со стены и сильно попортил паркет. А Дружников разозлился еще больше и бушевал лишние минуты. Слова, какие звучали в эти мгновения в его покоях, достигая и приемной, вызвали бы неподдельную зависть у строительных чернорабочих. Мошкина он уже не только ненавидел. Из просто врага его бывший компаньон сделался врагом лютым. Может, конечно, Илона и приврала, чтобы усилить перед Дружниковым собственную значимость. Не стал бы Мошкин затевать убийство. Да и двигатель бы ему не позволил. Хотя в том, что козни строятся, и строятся именно против него, в этом Дружников был неумолимо уверен. Но каков же змей! Если не сам, то напустил на Дружникова альбомных уродов с потухшей паутиной. А все для того, чтобы доставить ему неприятности. Впрочем, одни ли неприятности? Что если два вихря вблизи смогут затеять войну друг с другом? «ОДД» вспомнил страшное сражение за душу Вербицкого, чуть не ставшее для него роковым, и его едва не стошнило. Дружников призадумался. Илона сказала определенно и не раз, что Мошкину нужен для своих клоунов отчего-то личный контакт, видимо, из-за свойств паутины, о которых он сам не имеет понятия. Немедля Дружников велел референтам и полковнику Быковцу параллельно отслеживать все официальные его встречи, проверять списки приглашенных, для обнаружения крестоносцев. И вот, дважды ушел от преследования. Но подобное положение дел его раздражало, вечно бегать Дружников отнюдь не собирался. Помимо Мошкина с его шутами хватало проблем.
Первая из них и самая болезненная, касалась Анюты. Она уходила, с каждым днем все дальше. Нет, внешне она выглядела по-прежнему бесподобно и словно бы вне времени, здоровье ее тоже не обнаруживало изъянов. Но без двигателя Аня теперь не желала и вовсе общаться с внешним миром. Даже Павлик, детскими своими капризами и попытками приласкаться к матери, едва выводил Анюту из состояния хронической апатии. Дружникову то и дело приходилось отправлять Стража с повелениями, и каждый раз сдвигать плиты, оживляющие Анюту, было все тяжелее. Он с тревогой отметил и то обстоятельство, что, чем чаще он прибегает к помощи двигателя, тем скорее прогрессирует немочь, поразившая единственную, любимую им женщину. Но мыслей о даровании Анюте спасительной свободы совсем не возникало в голове Дружникова. Отпустить Аню было для него, как и прежде, невозможно, а грядущая ее гибель доводила Дружникова до отчаяния и исступления, что только способствовало новым приступам неудержимого бешенства. Мучился он искренне и жестоко, но отступать не стал бы ни за что. Он принял за правило проводить как можно больше времени подле Ани и Павлика, пока его любимая еще жива. И ловить последние, оставшиеся моменты.
В какие-то, краткие периоды, Дружников тешил себя надеждой, что Лена соврала ему, и для Анюты нет никакой явной угрозы. Или хотя бы верил в то, что его забота и сила двигателя смогут преодолеть открытый ему, безжалостный закон. Ведь любой закон можно как-нибудь обойти, и от многих болезней есть у природы средство. Вероятно, что такое средство было припрятано и от Анютиного несчастья, но Дружников не сумел его отыскать. Он старался, как мог. Сыпал подарками и развлечениями. Даже в затею с Большим театром влез не столько из тщеславия, как ради того, чтобы вызвать у Ани хоть малейший интерес к жизни. Он помнил, как в давние времена Анюта восхищалась оперными и балетными искусствами, и желал вернуть то, позабытое восхищение, к жизни. Но Аня пришла на премьеру-другую, и даже новомодные для России постановки зарубежных режиссеров ничего не добавили к ее отсутствующему интересу. Теперь в директорской ложе сидела одна Полина Станиславовна с подругами и Стоеросовым, а Дружников театром почти не занимался. Свалил заботы на «призрака оперы», все равно в настоящий момент от Стоеросова в их совместных делах пользы выходило мало. Дружников готовил подпольный переворот. Нужные люди, собранные подле него в достаточном количестве, дали ему личную присягу на верность. Двигатель кочегарил во всю. И Дружников только ждал выгодного момента. Его он намеревался создать сам. Но до сих пор не решил, какой именно. То ли взбунтовать провинцию, то ли затеять беспорядки в столице. Крестоносцы же и связанные с ними лишние заботы получались совсем некстати.
Пока не пришло новое известие. Оно-то и вызвало мощный, равный по силе двенадцатибальному урагану, приступ ярости. Лена Матвеева навестила его Анюту и говорила с ней. И Дружникову пришлось безжалостно вытрясти из умирающей женщины суть этого разговора. Рисковать он более не хотел, особенно теперь.
Лена и вправду навестила семью академика на Котельнической. Без ведома генералиссимуса. Потому что, если бы Вилли узнал о ее планах, то категорически бы их запретил. Но Лена уже не видела иного выхода. С того дня, как они прознали о предательстве Илоны, плачевное положение «Крестоносцев удачи» никак не изменилось. Вилли продолжал обманывать своих солдат, замерших в ожидании его приказов, призывал их вести покуда привычный образ жизни и достигать новых успехов, но ничего путного измыслить не смог. Каждая посещавшая его идея оказывалась еще более бесплодной, чем предыдущая. Спектр их бредовости и беспомощности был обширен. От взятия приступом «Дома будущего» и захвата Дружников в кабинете с помощью ОМОНа, до подкарауливания у ворот его городского, элитного особняка под видом нищего бомжа. А время шло, и стучал метроном.
Тогда Лена без объявления взяла главенство на себя. Нелегкая понесла ее на встречу с Анютой. Если бы ее план увенчался успехом, то генералиссимус добился бы, наконец, своего. Хотя в результате Лена сомневалась. Но это было лучше, чем просто сидеть у мертвого пруда с удочкой.
В квартиру дежурившая у дверей термоядерная охрана не смогла ее не впустить. Лена дальновидно и заранее сговорилась с Юлией Карповной, ради сюрприза, и просила не сообщать о ее визите заранее. А в подъезде позвонила с мобильного, и Юлия Карповна вышла на порог. Швейцарам у дверей не осталось ничего, как развести в беспомощности руками. Конечно, после смены они доложат Дружникову о ее посещении, но и только. Лены не было в запрещенном списке, к тому же обещание, данное Анюте, о дозволении общения с подругой все еще имело силу.
В обновленном, «модерновом» и богатом доме Аделаидовых-Булавиновых ощущалось нечто нехорошее. С одной стороны, дом был полон жизни, по комнатам и коридорам, из детской в гостиную на первый этаж и обратно носился Павлик, за ним дородная няня и гувернантка, призванная доносить до младшего Дружникова начальную тяжесть наук. Павлик убегал от обеих, но не в силу испорченности и непослушания, единственно из озорства и избытка нерастраченной энергии. Стоило няне или бабушке прикрикнуть построже, как малыш тут же прекращал баловство. До следующего приступа активности. Однако, ни няню, ни наставницу в образовании, его живость, похоже, ничуть не раздражала. Они и сами порой включались в игру. Словно веселость Павлика позволяла им убежать от другой стороны жизни дома. Где, казалось, лежал вечный и набальзамированный покойник. В дальних комнатах, в которых угасала его мама. Если Павлик забегал в эти комнаты, няня и гувернантка всегда ждали его рядом, не желая входить внутрь, и даже избегая разговоров между собой.
Тревожились и Юлия Карповна с академиком. И ничего не понимали. Константин Филиппович, помолодевший и посвежевший подле новой жены, радовался бы безбедной старости и внуку, кабы не приемная дочь. Его угнетала непонятная чужая беда, но никаких выводов, несмотря на весь свой ум, Аделаидов сделать не мог. Саму жизнь, помимо большой науки и ее интриг, академик видел и сознавал слабо. Некогда именно от этого своего ущербного недостатка, он упустил и потерял сына. Константин Филиппович, казалось, с годами так и не научился совершенно находить за желаемым действительное. До Аниного отца ему в этом смысле было далеко, и очень жаль, потому что Лена, и хотела бы, но не могла рассчитывать на его помощь. А ведь Аделаидов был умен. Но иным видам знания решительно предпочитал глухие очки на глазах. Так и теперь, вопреки здравому смыслу и очевидности, уговаривал себя и Юлию Карповну в том, что все обойдется само собой, у Анюты всего лишь страдания от меланхолии, вызванной ее неопределенным гражданским положением. Но зато Дружников ее любит, и вероятно, эту неопределенность вскоре разрешит. И Аделаидов надеялся на лучшее. Пока же посвятил себя внуку, в котором тоже ничего не понимал.
Когда Лена вошла, Анюта сидела в обычном своем положении. В малой, дальней гостиной-кабинете перед огромным телеящиком, висящим на стене. И смотрела все программы подряд. Если вообще что-нибудь смотрела.
– Аня! Аня! – позвала ее громко Матвеева. – Обратись на меня. Ну, пожалуйста.
Лена повторила свой призыв несколько раз, прежде, чем Анюта перевела на нее безжизненный взгляд. И Лена тотчас увидела, что говорить с ней бесполезно. Что разумно будет уйти и признать свое поражение до начала военных действий. Любой на ее месте поступил бы именно так. Но Лена не была бы заслуженным майором федеральной службы, если бы отступила, не использовав призрачный шанс до конца. Она положилась на интуицию, заставив разум оглохнуть и не мешать.
Она сидела подле Анюты уже с полчаса, держала ее руку в своей, гладила ласково ее ладонь и пальцы, и сначала произносила просто слова. Как бы ни о чем. Что на работе хлопотно и ответственно, что довольствие скоро начнут повышать, что родители ее продали дачу, выгодно и дорого под застройку для коттеджного поселка. Что Павлик очень мил, а ее овчарка Барс по весне женится на породистой суке. Слышала ли ее Анюта, трудно было сказать, но, по крайней мере, она обернулась в ее сторону от телевизора. И Лена продолжала. Теперь уже с умыслом. Рассказала последние новости про Вилли, которые Анюте можно знать. Называя его нарочно для Ани не как-нибудь, а «твой Виля», именем, которые было в ходу только у той, оставшейся в детстве Анечки Булавиновой и еще у мамы генералиссимуса, да у Танечки Пуховой. А более никто его так не звал. И Лена стала вспоминать. Про фломастеры и про Новый Год, про бесконечные портфели, которые юный Виля преданно носил за своей единственной и ненаглядной, про дни рождения и подарки, про первый цветной телевизор, как Виля с Павлом Мироновичем его покупали и везли на частнике за пять рублей. При упоминании об отце в Аниных глазах вдруг мелькнул интерес, а после и тревога. Лена, уловив движение, прислушалась к себе и перешла к иным, тяжелым воспоминаниям. О болезни папы Булавинова, о клинике и дежурствах, искусно вплетая в канву и генералиссимуса. Вскоре она заметила на Аниных глазах слезу. И заговорила про похороны – своего мужа и Павла Мироновича, избирала особенно трагичные моменты и, наконец, дождалась. Аня заплакала всерьез, будто бы очнулась, сквозь горе посмотрела на нее осмысленно. Лена не упустила момент. Схватила подругу за плечи и вместо утешения стала встряхивать и тяжко ронять на нее словесные глыбы:
– Слушай меня. Слушай, если не хочешь новых смертей!! – Лена сильно повысила голос, но говорила медленно. – Ты должна сделать одну вещь. Не для меня. А чтобы никто больше не погиб. Без вины.
Аня, в такт тряске, шептала «да, да». Потом отстранила Ленины руки и спросила, вполне нормально и связно:
– Что мне сделать? Что мне сделать? – повторила она дважды. Будто дивилась звучанию собственного голоса.
– Мне надо, чтобы Виля смог увидеться с твоим Олегом. Непременно здесь, в твоей квартире, – Лена старалась преподносить информацию кратко и в простой, доступной для Ани форме. – Но ему, Олегу, ты ничего не должна говорить.
Аня посмотрела тревожно-вопросительно, и Лена поспешила ее успокоить:
– Надо, чтобы они помирились. А для этого они должны встретиться. Сделай это для него, для своего Вилечки. Если ты еще не забыла.
– Не забыла, – сказала Аня, и вдруг заплакала опять. Лена ее не утешала.
– Вот и молодец. Когда Олег будет тут и зазвонит вот этот телефон, – Лена положила подле Анюты мобильную трубку, – ты должна встать и пойти открыть дверь. Открыть сама. Непременно сама. И взять с собой Павлика. И стоять в дверях до тех пор, пока я и Виля не войдем внутрь квартиры. Или пока Олег не выйдет нам навстречу.
Лена повторила свою инструкцию несколько раз и заставила Анюту повторять за собой.
– Если вдруг забудешь, зачем тебе этот телефон и для чего он звонит, вспомни об отце. Я уверена, вспомнишь и все остальное, – сказала ей на прощание Лена.
Затем она в столовой за легким ужином повторила свою легенду Юлии Карповне и академику, те охотно согласились участвовать в примирении. Старики дали слово, что едва Дружников переступит их порог – сразу сообщат об этом Лене.
Но прежде, чем Лена успела поведать о своем сомнительном плане и куда более сомнительном успехе генералиссимусу, Олег неожиданно объявился на Котельнической. Он только что прилетел из Женевы – еще не успели спустить трап его самолета, как Дружников уже запрашивал свою службу безопасности о новостях. В преддверии переворота он был осторожен и опаслив, как никогда. И сразу узнал о визите Лены. И тоже прислушался к интуиции, которая редко его подводила. Дружников немедленно поехал на квартиру к Анюте. Было двенадцать ночи по Московскому времени.
К Аделаидовым-Булавиновым он прибыл около половины первого. Без предупреждения. Юлия Карповна, выйдя к нему навстречу, о просьбе Лены даже и не вспомнила. Ведь на дворе стояла глубокая ночь, какие тут могут быть примирения и личные услуги! Дружников сходу, строго, но в рамках вежливости, допросил Анину маму.
– Так как же, Олежек, я правильно поступила? – немного испуганно спросила его Юлия Карповна, после того, как все объяснения были даны. – Может, вы действительно помиритесь?
– Помиримся, непременно помиримся, – заверил ее Дружников, и настоятельно потребовал:
– Я должен немедленно увидеться с Аней.
Не обращая внимания на уверения Юлии Карповны, что Анюта давно спит, и хорошо бы обождать до утра, Дружников ворвался в спальню. Ему пришлось запустить двигатель на полную мощность, чтобы Страж смог заставить Анюту выложить ему весь ее разговор с Матвеевой дословно. Потом он поцеловал обессиленную женщину в губы и стремительно вышел вон. Но поехал не к себе, а в офис «Дома будущего», еле дотерпел, и в очередной раз погромил собственный кабинет.
Потом, стоя среди обломков и руин, Дружников принял решение. С этим пора кончать. Неважно, что замышляют его враги. Неважно, представляют они реальную угрозу или нет. Ему все это надоело. До смерти, чужой, не своей. И начнет он с Матвеевой. Ее страховка теперь место пустое. Пока разберутся, то да се, это уже не сможет иметь значения. Через несколько недель все будет кончено, и ее ведомство перейдет к нему в услужение. Но для начала надо так обставить дело, чтобы Мошкин не подумал сразу на него, Дружникова. Не стоит посылать сигнал двигателю и устраивать автокатастрофу, обрыв лифта или сердечный приступ. Пусть все выйдет естественно, словно обычное покушение. И Дружников постановил отправить на задание Муслима. На его последнее задание, потому что затем сам Муслим станет уже не нужен. Дружников и жалел отчасти верного своего телохранителя, но не хотел иметь свидетеля на будущее. Да и ни к чему копить лишних людей. Скоро в его распоряжении окажутся любые исполнители, разовые и многократного использования, для которых законом будет он сам. Вот только, как поступить с Мошкиным?
Все же опасность была. Мало ли что враг захочет предпринять, чем ответит на смерть подруги, и мало ли что успеет организация? Эх, кабы возможно сотворить такое чудо, и держать Мошкина одновременно живым, но, скажем, накрепко связанным по рукам и ногам! И ассоциации стремительно поплыли цепью. Связанный, психушка, Илона, душевнобольной. Шоковая терапия? Нет, нельзя. В невменяемом состоянии Мошкин будет безумен и опасен. Значит, сможет бесконтрольно перемещаться за стену, и бог весть, что натворит. Его, Дружникова, это никак не заденет, но ведь есть еще мама и Павлик, и брат Гошка! Вот если бы… Если бы, Мошкин как бы заснул, и не мог проснуться. Тут Дружников понял, что додумался до своей эврики! Организовать больничную палату на дому, держать Мошкина немощным, в коме или под наркозом. Но чтобы на всякий случай, доступно было разбудить в любой момент. Двигатель справится. Какая, в сущности, разница, на что тратить усилия? Так не один десяток лет можно протянуть при хорошем уходе. Дальше видно будет. Паралитики и больше живут. И никаких проблем. Никакого беспокойства. Достаточно пары надежных и жадных до денег врачей под периодическим контролем двигателя. Купить дом, поставить охрану, оборудовать комнату под реанимационный блок. И все. Отчего он раньше-то не сообразил! А не сообразил, оттого что предавался сентиментальности, ненужные воспоминания жили в нем. Но не желал он Мошкина в свои судьи, последние годы тяготился им, невольным свидетелем и участником их общего прошлого. А Дружников прошлое хотел забыть. Только Мошкину, нет-нет, да и удавалось это прошлое напомнить. Одним присутствием во времени и в мире. Самого же Дружникова это присутствие заставляло ощущать личную неполноценность. Тенью видел он себя в отражении жизни Мошкина, тенью и был. Но если лишить врага его собственного бытия, и при этом оставить в материальном существовании, то Дружников сможет освободиться. Остаться собой и не оглядываться. Вершить дела, в которых судей ему уже не найдется. Тогда он посмотрит, кто и чья тень! А для поддержания уверенности, станет хоть каждый день приходить любоваться на поверженного врага и смеяться ему в лицо. Без малейшего риска… Дружников сделался от этих мыслей несказанно счастлив.
Но сначала нужно убрать Матвееву. А там, глядишь, за неделю и домик с медицинскими удобствами будет готов. Похитить Мошкина едва ли составит особую трудность. Удобный момент всегда можно найти. Одни укол снотворного и в машину. Все равно его мать и Барсуков загорают в Париже второй месяц кряду. Поэтому вряд ли сразу хватятся сыночка. И вообще, нечего им после переворота делать в России. Пусть так и живут себе у Вербицкой. С остальными крестоносцами Дружников определил себе никак не поступать. Убить их, конечно, не выйдет, хоть и жаль. Да не больно-то надо! Без их благодетеля, паутина, чай, скорехонько рассосется, и станут бывшие крестоносцы нынешними неудачниками. А после всего правильный Кадановка доконает своими умелыми приемчиками эту курицу, Таримову, чтоб не путалась под ногами и не воображала о себе невесть чего. Туда ей и дорога.
Утром довольный Дружников позвонил Юлии Карповне и сообщил, что послезавтра к обеду непременно их навестит. Только пусть она тактично и как бы невзначай сообщит об этом Лене, но без подробностей. Юлия Карповна с радостью пообещала просьбу выполнить. А Дружников прикинул, что двух дней вполне достаточно такому профессионалу, как Муслим, на то, чтобы обставить ликвидацию должным образом. К тому же, ни Матвеева, ни ее дружок понятия не имеют, какой их на самом деле ожидает сюрприз на пути к Анютиному дому.
В полдень, как было условлено ранее, Юлия Карповна позвонила и передала Лене счастливое и краткое сообщение. Послезавтра, в обед. Обедал же Дружников, как правило, в два часа. И Лена вечером того же дня вытребовала к себе генералиссимуса.
Вилли приехал, старался держаться бодро, но взгляд имел грустный и беспомощный одновременно. И тут Лена его обрадовала. То есть, она так думала. Потому что, Вилли моментально утратил всю свою грусть, и разразился тропической бурей. Кричал, упрекал, просил не глупить и пожалеть хотя бы его. Но после одумался, и пришел к выводу – то, что сделано, сделано бесповоротно. Дуростью выйдет отменить. Шанс действительно был. Пусть невесомый, как привидение, и запредельно опасный, но был. Свою роль сыграло еще одно соображение. За которое Вилли стало отчасти стыдно перед Леной, но и преодолеть его он не смог. Послезавтра, если все случится, как задумано, он увидит Аню.
Уровень 57. На войне – как на войне
Ехали в машине вдвоем. Леночкин «Фольксваген» был маленькой, надежной крепостью, к тому же, лишние свидетели представляли опасность. Не то, чтобы Вилли не доверял своему Косте, и в другой день дал бы ему шанс это доверие оправдать. Но только не сегодня. Когда многое повисло на волоске случая.
В час дня Вилли на попутке добрался до квартиры Лены у Новослободской станции метрополитена, а после они потихоньку, прогулочным шагом, дошли до кооперативного гаража, где Лена арендовала место для своего верного, железного пони. Старик сторож впустил их на проходной, ворча под нос недовольные выражения, но Лене и генералиссимусу было не до сторожа. К тому же, как они поняли из обрывков его старческого негодования, тихие ругательства имели иного адресата, и к их приходу никак не относились.
Занятые думами о предстоящем им, последнем и решительном бое, они, уж конечно, не прислушались к бормотанию вахтера-старичка. И зря. Вряд ли генералиссимус, но такой профессионал, как майор Матвеева, вникни она в беззлобную брань сторожа, точно бы нашла причину расспросить старика поподробнее. Но сегодня посторонние вещи прошли мимо ее внимания.
А старичок сокрушался по поводу. Вот только нынче, с утра, и день-то выдался мирный, воскресный, без начальства, а случился скандал. Носит же нелегкая всякие инспекции по выходным! Чего дома-то не сидится? Надо же, часа два назад с экстренной, внеплановой проверкой угораздило явиться чиновнику-экологу. Да и на чиновника-то он был непохож! Хотя бумагу имел, по всем правилам написанную и с печатями. Сам нерусский, будто вчера с гор спустился за солью, громила громилой, а туда же. Старик-вахтер кавказцев вообще недолюбливал. Из-за личных обид. Один вот такой тоже ухаживал за его дочерью, потом занял у нее тяжелым трудом нажитые две тысячи долларов, только его и видели. Но этот горный человек все же был властью, а власть старик уважал. Ну, кавказец им и задал. Особенно ребятам на мойке. И сток у них в неположенном месте, и сырость развели, и химию используют для машин опасную. До кавказца-эколога нареканий мойщики ни от кого не слыхивали, оттого сразу поняли – инспектор хочет денег, потому шляется по воскресеньям. Но начальника гаража на месте не было, да и немудрено в выходной. Ребята предложили южному человеку, по виду натуральному абреку, прийти в понедельник. Тогда, мол, не обидят. Они бы и сами дали, но люди подневольные, простые работяги, разве у них те суммы! Дюжий кавказец поворчал на ломаном русском, сказал, что в понедельник и без их совета явится непременно. А пока пройдется по гаражу, посмотрит на всякий случай, где и чего. На предмет иных нарушений. И пошел. Ни сторож, ни ребята не посмели ему возразить, да и бицепсы эколога внушали уважение. После, осмотрев помещения, кавказец ушел, да напоследок обозвал вахтера «старым козлом», за то, что сторож посоветовал добру молодцу не дурака валять на ерундовой службе, но при такой силище заняться ручным трудом. На стройке или на заводе, а не сшибать рубли себе на сациви.
До Котельнической было пока далеко. Лена машину не гнала, торопиться не хотела. Пусть Дружников как следует, пообедает, может в последний раз, да и после трапезы даже самый свирепый недруг впадает в желудочное благодушие. Проезжали тем временем по бульварному кольцу, скоро Варварка и Китай-город, а там гостиница Россия, за ней и поворот на набережную. Старую, рыжую копейку, грязную и неказистую, тащившуюся за ними в небольшой пробке, ни Лена, ни генералиссимус не заметили. А и заметили бы, так только посмеялись над долгожителем советского автопрома. Какая уж тут слежка, если в заторах кругом тебя одни и те же тачки, и рады бы разъехаться, но некуда. Оттого стоят рядком, импортные, скоростные «боинги», и отечественные стрекозы. Куда деваться? Вот и копейка стоит, и традиционный кавказец, не из богатых, за рулем. Кепка до бровей, нос висит над бульдожьим, небритым подбородком. Небось, выехал полевачить, и угодил. Что же, на бульварах всегда пробки, даже в воскресный день. Не такие большие, как в будни, но случаются.
– А в сам подъезд нас пустят? – вдруг забеспокоился Вилли. Слишком быстро все происходило на этот раз, и не все детали предстоящего сражения он смог уяснить.
– Пустят. С моим удостоверением. Охрана у Дружникова только на этаже. Больше для понта, хотя лоси там стоят видные. Наш будущий, великий диктатор, как и раньше, на двигатель надеется, – со злорадством констатировала факт Лена.
– Лишь бы Аня ответила на звонок! Лишь бы ответила! – почти молился Вилли.
– Ну, трубку она не снимет, об этом уговора не было. А выйдет ли она к двери или нет, мы сможем узнать лишь на месте, – в который раз терпеливо пояснила Лена. – Нельзя ей отвечать. И так Дружников забеспокоится, откуда незнакомый телефон, да почему звонит. Но это, пусть. Только бы Анюта успела взять Павлика и выйти навстречу. Поэтому, звонок дадим в самый последний момент, за один лестничный пролет.
– А Павлика зачем? – удивился Вилли новой, неоговоренной детали.
– Затем. При сыне Дружников ничего лишнего себе не позволит и охране не даст. Не станет он ребенка травмировать. Захочет все миром утрясти. А пока он будет утрясать… Ну, тут уж ты не зевай, но, как в анекдоте, бери топор и бей тещу по голове!
– Постараюсь. Однако и мне время нужно, – осторожно предупредил Вилли.
– И много нужно? – спросила Лена.
– Не знаю. Но настроиться попробую заранее. На горячую дружескую любовь. Прямо каламбур получается. Дружеская любовь к Дружникову, – пошутил Вилли, а сам даже не улыбнулся. – Я подобный «опыт» имел всего раз. Да так напугался, что мало запомнил. Хотя одно ощущение определенно осталось: мне бы его только зацепить вихрем. Дальше ни он, ни я расцепиться не сможем. До конца.
– Дай-то бог, – пожелала ему Лена.
«Фольксваген» выезжал уже на просторную дорогу, что вела понизу, мимо гостиницы «Россия». Рыжая копейка давно отстала и куда делась, было неизвестно и все равно. А, не доезжая каких-то ста метров до светофора перед набережной, у «фольксвагена» вдруг выстрелило колесо. Машинка, непробиваемая и защищенная в смысле пассажирского салона, пошла юзом. Как ни старалась Лена, все-таки врезалась на малом ходу в бок красавцу-«ниссану», степенно плывшему по противоположной полосе дороги, и не сумевшему вовремя увернуться. Вилли чертыхнулся, Лена в сердцах ударила по рулю. Но, делать нечего, нужно было выходить навстречу разгневанному водителю золотистой «Максимы» принимать упреки и денежные претензии. Впрочем, время у них еще имелось в запасе. Лена надеялась и на свой майорский статус, который не позволит невинно пострадавшей стороне распоясаться, а скорее заставит пойти на быстрое соглашение.
Так Лена и генералиссимус покинули пуленепробиваемый и гарантированно надежный салон «фольксвагена», пошли с виноватым видом к грозному и уже начавшему орать, водителю «ниссана». Погода стояла отвратительная. Утреннее, мартовское солнышко, сменилось здоровенной тучей во все небо, сыпал даже не снег, а всамделишный, холодный дождь. Вилли на дождь подосадовал, хоть были у них на Котельнической иные дела, но не хотелось ему предстать перед Аней эдакой мокрой курицей.
Лена быстро успокоила противную сторону красной книжицей, и с долей интереса принялась осматривать злополучное колесо, явившееся причиной аварии. А посмотреть было на что. Покрышка оказалась не просто пробитой или лопнувшей от напряжения, ее слово бы разнесло в клочья гранатой, от резины почти ничего не осталось, и последние метры «фольксваген» скользил, чуть ли не на ободе. Лена нахмурилась и беспокойно огляделась вокруг. Травмированная необычным образом покрышка навела ее на тревожные мысли. Но все выглядело спокойным и в повседневном течении.
Беспокойное пребывало в ином месте, и его Лена увидеть никак не могла. Рыжая копейка, неприметно волочившаяся в хвосте по бульвару, теперь стояла у бетонной бровки на верхней, открытой парковочной террасе гостиницы, правое окно ее было наполовину приспущенным. Кавказец за рулем давно избавился от своего «аэродрома», и если бы Вилли вдруг увидел его лицо, то немедленно опознал бы давнего своего знакомца Муслима. Рядом с Муслимом лежал дистанционный передатчик, ненужный более, и блестяще отыгравший свою роль. Потому что, исправно послал сигнал тонкому, незаметному в колесной грязи кусочку пластиковой взрывчатки, микроскопическому, но достаточному, чтобы лишить автомобиль способности передвигаться. И авария приключилась удачная. На такой везение Муслим не рассчитывал.
С утра все не сразу и не очень-то задалось. Засветился он в гараже. Виноват был сторож, даром что «старый козел», Муслиму бы смолчать, да гордая кровь взяла верх. И обвинение старого дурня было несправедливым. Муслим занимался именно что, ручным трудом. Совершенствовал силы и навыки, исправно и со старанием, и в гиревом спорте, и на тренажерах, и со специальным, нанятым для их охранной группы инструктором, отставником ГРУ. Задание шефа вообще-то представлялось пустяковым. В смысле реализации, а что заказанная особа состоит на службе в федеральных органах, Муслима заботило мало. Хозяину лучше знать, подо что какое пахать поле.
Позицию он занял заранее, неказистая копейка имела мощнейший движок – Муслим успел понаблюдать и крах колеса, и аварию уже в оптический прицел винтовки. Собранная, она лежала едва укрытая на заднем сидении, ментов Муслим не боялся. Хозяин заверил его, что патрулей по дороге не случится, а его слову Муслим привык верить. Дружников же на всякий случай прикрыл своего посланца пожеланием, оттого и столкновение с «ниссаном» вышло в жилу.
Он видел, как клиент его склоняется к колесу, как озабоченно озирается, поворачивается в его сторону, и решил не тянуть, исполнить все тут же, в удобный момент. Муслим плавно нажал на курок дважды. И две пули вошли в тело. Одна в грудь, вторая в горло. Оба ранения были смертельны, Муслим это знал. Стрелять в голову не стал, все же женщина и красивая, ни к чему уродовать лицо. Бросил винтовку на сидение, не спеша, надел кепку и замотался шарфом. Потом вышел из копейки прочь и зашагал упругой походкой к метро. Кому надо, пусть ищут, только ничего не найдут. Винтовка новехонькая, отпечатков нигде и никаких. А что кавказец, так их пол-Москвы. Все, как инструктор учил. Все же пульт взял с собой, раскрошил в кармане, сжав кулак, и выкинул обломки у метро в общественную урну. Не лишне насчет взрыва колеса следователю и мозги поломать.
Вилли в момент выстрела смотрел на уничтоженную покрышку, и водитель «ниссана», отшумев, подле него тоже дивился на редкое зрелище, качал головой – ну и ну, дела! Когда раздались два омерзительных, чавкающих звука, Лена громко охнула и стала оседать на землю, схватившись рукой за горло. Вилли, не поняв абсолютно, что случилось, подхватил ее сзади под мышки, в обнимку, пытаясь удержать. И вдруг под пальцами его потекло горячее, он глянул и увидел реку крови, заливающую Лене грудь и живот. Оранжевая, демисезонная дубленка в секунды превратилась в кафтан деда Мороза, кровотечение было немыслимо страшным. Рядом по бабьи кричал водитель «ниссана». У генералиссимуса сами собой подкосились ноги, он осел на асфальт, держа в объятиях Лену. На ум приходило пока только одно – любой ценой остановить эти убийственные потоки крови. Вилли стал свободной ладонью зажимать ужасную дыру в горле, перепачкался по локоть, но не добился ничего. И тут Лена дотянулась до него, отвела его руку в сторону. Тогда он понял, что все безнадежно кончено, и посмотрел ей в лицо. Белое, почти уже безжизненное, а на губах выступала, вздуваясь пузырями, розовая пена. Как-то сразу Вилли догадался, что это кровь, перемешанная с дождем, и оттого утратившая свой природный цвет. Он осознал, что перед ним и есть сама смерть, хотел еще что-то сказать, чтобы Лена его сейчас же, непременно услышала, прежде чем уйти, и бог, либо ангел, сжалился над ним, у него получилось важное и самое главное:
– Я люблю тебя. И буду любить. Я никогда бы не бросил тебя, не ушел бы к Анюте, ты слышишь?!! – Вилли закричал, громко и ужасно. Водитель «ниссана», звонивший уже в милицию по сотовому, от неожиданности этого крика выронил мобильный в дорожную грязь.
Лена его услышала. Хотела ответить, но пробитое горло ей не позволило. Тогда Вилли склонился к самым ее губам. Ловил последний вздох и эти, последние слова. Он был близко, и у Лены еще получилось дотянуться окровавленной ладонью до его лица, прижать пальцы к щеке. Словно бы оставила печать, навеки соединившую их в сокровенном ритуале. Вилли увидел в ее гаснущих глазах: Лена поверила ему. И уловил или угадал по движению губ ее последние в жизни слова. Вернее, лишь одно слово:
– Беги! – и в этом было все.
Она не стала тратить время на признания, Вилли и без того знал, все, что она могла ему сказать, да и говорила уже не раз. А, умирая, пыталась защитить его, спасти от неминуемой судьбы. Он понял правильно: бежать не куда и не откуда, а от кого! Но бежать он не собирался. Да и некуда было ему теперь бежать.
Что с ним случилось дальше, Вилли принимал как данность и со стороны, но сам уже более ни в чем не участвовал. Только от беспомощности одиночества набрал Грачевского и сказал, что стряслась беда. Потом увидел себя в кабинете следователя, а вот в каком месте был этот кабинет, так и не понял. И следователь говорил кому-то еще в комнате:
– Толку от него мало. Совсем не в себе, бедняга. Ему бы врача.
А кто-то другой отвечал:
– Еле отняли. Не хотел отдавать – руки еле разжали. А она уже давно мертвая.
После его оставили в покое, потому что, позвонили и сказали, что нашли машину. Какую, Вилли не понял, а тут перед ним жалостливая рука поставила стакан и велела выпить. Вилли выпил и сразу выплюнул на линолеумный пол, водку не водку, но крепкий и жгучий настой, может самогон, и мужской голос спросил, куда его отвезти.
– В больницу, – попросил Вилли, не глядя ни на что.
– Эх, брат. Не в больницу, в морг. Только тебя туда не пустят.
– Ничего. Я попрошу. Или так, рядом побуду, – Вилли поднялся со стула.
– Рядом, так рядом, – вздохнул тот же голос над его ухом. – А за тобой дружок приехал.
– Какой дружок? – не понял Вилли.
– Твой. Он говорит, ты ему звонил. Говорит писатель. Известный. Вроде, правда. Да мне читать некогда, а то бы знал. Ты иди. По коридору налево и на первый этаж. Пропуск держи. Вот так. Не потеряй.
Внизу Вилли действительно ждал напуганный, и оттого излишне суетливый Грачевский. В его машине они отправились в морг. Что хотел Вилли увидеть или выяснить, он не знал, да его и не пустили внутрь. А санитар, за взятку, сунутую ему Эрнестом Юрьевичем, сказал то, что Вилли понял давно и без него. Два огнестрельных ранения и оба смертельные. С тем и уехали.
Телефон не зазвонил. Дружников уже успел откушать, поиграл с Павликом, приласкал Анюту, а трубка все молчала. Тогда Дружников понял, что теперь окончательно все. Матвеева не доехала. И не доедет теперь никуда и никогда! И чуть не завизжал от удовольствия. До зуда в одном месте хотелось расспросить Муслима о подробностях, и было жаль, что видеться им больше нельзя. Одним наслаждением получалось меньше. Впрочем, подробности Дружников мог добыть из милицейских сводок. Хотя, наверняка, убийство, заказное и непонятное, своего сотрудника, ФСБ примет к собственному расследованию.
Пару раз, как бы обеспокоено спросил Юлию Карповну, куда же подевалась мирная делегация. Та лишь пожала плечами. Может, она что не так поняла. И просила Олежека подождать еще. Что Дружников с тайным торжеством и исполнил. Алиби у него имелось железное. На всякий случай, которого никогда не могло быть.
Итак, с Матвеевой кончено. Оставалось завершить дело и пристроить Мошкина. Домик, подходящий и в охраняемом поселке, Дружников нашел и даже успел купить. Оборудование завезут через три дня. С врачами тоже все пока на мази. Нашел анестезиолога и реаниматора, и семейную бездетную чету, жена – медицинская, операционная сестра, муж будет на хозяйстве и за повара. Скоро Мошкина уже и перевозить на новое местожительство. Что враг его сможет выкинуть в последние дни непредвиденный фортель, Дружников не опасался. Мошкину свойственно было впадать в нирвану при трагичных обстоятельствах жизни, и теперь, он, наверняка, засядет дома, дабы орошать соплями батареи. А когда очнется или созреет для мести или личного следствия, то время его выйдет. К тому же двигатель исправно станет посылать ежеутренние призывы к обожанию его, Дружникова.
Муслим, тем временем, вернулся к себе домой. Хотя и не совсем к себе. Жил он в последние годы совместно с Раисой Архиповной и Гошкой, не столько для безопасности последних, сколько ради собственного удобства. Хозяин, разумеется, за верную и беспорочную службу, купил своему персональному киллеру неплохую двухкомнатную квартиру в Матвеевском. Но Муслим квартиру сдал за хорошие деньги, а сам переехал на жительство к Раисе Архиповне. Она-то его и позвала. После назначения ее домовенка Каляевским губернатором, Раиса Архиповна скучала вдали от земляков. Кошкина приглашать на поселение ей не хотелось. Вот и обратилась к Муслиму. Благо места было вдоволь.
На необъятных просторах новомодного пентхауса Муслиму полагалась во владение целая комната с персональной ванной, можно было приводить и подруг. Раиса Архиповна, как человек без предрассудков, закрывала на это глаза. В комнате по соседству, но без личных гигиенических удобств, обитал профессор Миркин, теперь безотлучно приставленный к непутевому Гошке. Профессор, как и Муслим, был личностью непьющей, и вдвоем им удавалось кое-как наставлять Гошу на путь истинный. Грозный профессор Муслима нисколько не боялся, что для последнего казалось удивительным. За то Миркина он уважал. Сам Альцест Карлович периодически одолевал Муслима расспросами, как да отчего его семья мигрировала на Ставропольские поселения, и что поделывали его предки – какие имели и сохранили обычаи. Ничего толком Муслим поведать профессору не мог, и Альцест Карлович злился, обзывал питекантропом и игнорамусом. Но Муслим не обижался, значения мудреных прозвищ он не понимал и даже принимал за похвалу.
В этот день, вернувшись с задания, Муслим застал дома одну Раису Архиповну, она и накормила труженика обедом. Вместе они посмотрели старый, но захватывающий фильм с Ван Даммом в главной роли, потом разошлись по своим делам. Раиса Архиповна – готовить ужин на всю ораву, домработниц она не признавала и в этом вопросе давала сыну решительный отпор. А Муслим – прилечь после хлопотного дня. Известий от Дружникова он не ждал, тот велел на связь не выходить, надо будет, Муслиму дадут знать. И Муслим решил пока что, до возвращения Гошки и профессора, поспать себе на пользу.
Когда он не вышел к ужину, несмотря на то, что Раиса Архиповна дважды стучала в дверь, побудку богатыря добровольно вызвался произвести Альцест Карлович, всегда утверждавший, что спать после захода солнца для здоровья вредно.
Вскоре Миркин вернулся в столовую, растерянный и бледный, но без всяких намеков на присутствие Муслима. И слабым голосом позвал:
– Раиса Архиповна, можно вас на минутку, – и жестом повелел Гошке покуда оставаться на своем месте за столом.
Когда мать Дружникова вышла за ним в коридор, Миркин нервно зашептал ей на ухо:
– Там, кажется, Муслим умер. Я потрогал, он холодный и не дышит. Я, конечно, не врач, но… – тут профессор многозначительно развел руками.
«Скорая помощь» прибыла спустя полчаса. Чтобы констатировать смерть. Помочь Муслиму ни врачи, ни медикаменты были уже не в силах. Первый, весьма предварительный диагноз звучал странно. Инфаркт миокарда.
– В столь молодом возрасте! Надо же. А мы, старики, все скрипим, – пессимистично поведал дежурному врачу свое мнение Альцест Карлович.
– Как раз ничего необычного. Парень, видать, качаться любил. Вон какие мускулы нарастил. Стероиды, небось, пачками глотал. Ну и допрыгался – сердце-то не выдержало. Все хорошо в меру, – нравоучительно сказало высокое медицинское лицо со «скорой». – Но вскрытие все равно сделать надо. Так уж положено. Хотя, по мне, и без того картина ясная.
Уровень 58. Рип ван Винкль и Святой Грааль
Поутру Дружников вызвал к себе Каркушу. Был он зол, как черт, и раздражен, как линяющая кобра. А все отчего? Само собой, из-за Мошкина. Которого на сегодняшний день Дружников ненавидел уже с такой силой, с какой может человек ненавидеть лишь часть себя. Враг его, что и предсказывал «ОДД», неделю, как не выходил из дома, и, наверное, все отопительные системы в его квартире щедро были политы скорбными слезами. А в селении Подрезково давно готовый стоял домик, и даже въехал обслуживающий персонал. Ждали лишь пациента.
Никакого труда, конечно, Дружникову не составило бы вломиться посреди ночи в Мошкинскую «однушку», и вывезти его прочь, не оставив следа. Но вот беда! При Мошкине неотлучно жил теперь сочувствующий придурок Грачевский, фантастический сказочник, и не покидал своего страждущего питомца ни на минуту. Даже продукты возил им Костя. Видимо, Грачевский всерьез опасался суицида со стороны своего друга, и оттого решил глаз с него не спускать. Будь на его месте кто другой, «ОДД» не задумываясь, привел бы план в исполнение. Одним писателем меньше, одним больше, а ему, Дружникову, так и вовсе ни к чему. Но мешала паутина удачи. Нельзя запросто ворваться в помещение, где присутствует некто, оделенный вихрем. Тем более, попытаться причинить ему вред. Чужих удач памятливый Дружников весьма опасался. Выходило единственное: терпеливо ждать. Для того и был поставлен у дома на проспекте Вернадского круглосуточный, трехсменный пост из очень, очень ответственных и преданных добровольцев его охраны. При первом удобном случае, четко оговоренном в данной им инструкции, лихие ребята должны незамедлительно начать действовать. А именно, требовалось дождаться, чтобы Мошкин остался в квартире один, или, хотя бы, без сопровождения вышел на улицу.
Дружников злился еще и оттого, что срок подходил, а воз поныне стоял груженный и бездеятельный на дворе. Для переворота все было давным-давно готово. И люди, и оперативные планы, и средства. Нужно лишь упечь в подмосковные, ближние места главную занозу в Дружниковской заднице. Оттого дело не двигалось.
Начать его, дело, после тщательных раздумий, Дружников решил все же со столицы Родины. В провинции, понятно, вышло бы быстрее и дешевле, но в Москве зато надежней. Сперва партийным его, голосистым союзникам полагалось затеять бучу, довести подначенных граждан до столкновений с милицией. А там уж и министр подключился, раздул бы конфликт, арестовывать бы не арестовывал, чтобы не подрывать численности, а вот рукоприкладство бы позволил. Под все тот же думской аккомпанемент. Пока дьявольская свистопляска не кончилась бы локальной, но неконтролируемой на первый взгляд, вооруженной потасовкой. Затем бравые генералы вступили бы в игру. Войска для усмирения столицы и все такое. Коли нынешний президент бы рыпнулся, и не отдал бы требуемый приказ, то Дружников заставил бы его силой двигателя. И после немедленно убрал, прежде чем отправиться на штыках в Кремль спасать Отечество. Без всяких выборов и возни с электоратом.
Нынешнего российского владыку Дружников презирал, и это был лишний повод устранить человека, который ничего плохого самому «ОДД», в сущности, не сделал, разве что просто жил на свете. Но жил не так, как надо, предательски занимал не свое место, которое увел из-под Дружниковского носа нарочно и нечестным способом. В это Дружников до сих пор свято верил. Да и слаб в решениях и намерениях, по мнению Дружникова, был действующий хозяин Кремля. Надо же, и шапку Мономаха ему уж подносили, и в народе окрестили Владимиром Красным Солнышком, а не взял, не осмелился, только зря людей в смущение ввел. Себя же Дружников видел на державном троне отнюдь не бестолковым Киевским князем, пусть и Красным Солнышком, охочим до византийских цесаревен и заморских принцесс. Долго и мучительно решавшим, что лучше народу русскому выйдет: целовать ли туфлю у папы или белу рученьку патриарху Константинопольскому. Нет, видел себя Дружников язычником и Вещим Олегом, погубителем Дира и Аскольда, лихо приколачивающим свой щит к Царьградским вратам. Нечего думать – его народу лучше то будет, что он сверху ему даст. И баста.
Напоследок еще хотел покончить счеты с Каркушей. Не нужен стал более Иван Леонидович, много слышал и подозрительно о многом догадывался. Квитницкий определено видел на фуршете, как Иванушка лишние слова кидал своему подопечному, к которому и приближаться-то был не уполномочен. Никогда не служил Каркуша полноценным и полноправным винтиком в подчиненной Дружникову, сплоченной команде скорпионов и тарантулов. Вот Семен Адамович и «Армян», те дело иное. Их манить не надо, только направление успевай задавать. И на пакости куда уж изобретательны. Подопрет, так и в зад поцелуют, а прикажешь – очень просто сожрут с потрохами. И главное, с удовольствием. Или, к примеру, Кадановка. Им Дружников порой восхищался. Никогда прежде не встречал он человека, который умудрялся продаваться с таким изяществом и столь задорого! Нравственные, публичные сомнения Сергей Платонович как никто умел превращать в звонкую монету. Даже от кошки драной, Таримовой, имел прибыль. Дружникова же он восторженно боялся и одновременно успевал дергать за рукав, мол, не забывай, сыпь корму, а я уж отслужу. И служил, Дружникову на загляденье, иным прочим в пример. Или, опять же, Стоеросов, его Дружников после победы намеревался допустить в узкий круг. Хорошего тарантула, с правильными задатками, можно было вырастить из опасливого и лукаво послушного «призрака оперы». Пусть и далее блюдет за народной культурой и моралью, чтобы нигде и ничего самовольно не проросло. А с Каркушей надо кончать. Он лишний человек, как лермонтовский Печорин. Нет, не выйдет из него нужного толка. В этом Дружников, чем дальше, тем больше убеждался.
Ныне отдавал он приговоренному Иванушке последние распоряжения.
– К Мошкину более не ходи. И вообще. За него ты теперь не ответственен. Все бумаги и расчеты подготовь, до завтра. Сдашь лично мне.
– А потом? В смысле, Олег Дмитриевич, что мне делать потом? – упавшим голосом спросил Каркуша. В недавнее время от текущих дел его отодвинули, одним Мошкиным он и занимался.
– Потом? – недоуменно спросил Дружников, и, поняв, что отчасти выдал себя, поспешно сказал:
– Потом дам другое дело. Ответственное. Будешь сидеть исключительно над моими личными проектами. Вроде, как поверенный в делах.
А про себя добавил: «На том свете!». Затем выпроводил Каркушу вон:
– Сейчас иди. Срок по Мошкину до завтрашнего утра. Нечего время терять.
Каркуша выскочил прочь. И опять Дружников в самоуверенности не досмотрел и не учел. Иванушка в его кабинете многое понял и сложил в законченную головоломку. Не сносить ему головы более и впредь, как пить дать с похмелья. Срок до завтра, вот он и будет срок. А потом, как с Муслимом или с этой несчастной подругой Мошкина, загадочно погибшей при подозрительных обстоятельствах. Слишком много смертей вокруг, в последние дни, особенно. Все они, без исключения, выгодны Дружникову. И тайна Мошкина. В том, что она есть, Каркуша был уверен. А еще, ему очень хотелось жить, и ради трех уже детей, и просто так. Каркуша принял решение, правильное или нет, но другого не предвиделось.
Для начала позвонил из телефона-автомата у метро на Охотном ряду, велел жене и детям, ни о чем не спрашивая, уезжать заграницу, в какое получится место, и взять с собой все доступные деньги. Притом никому не сообщать, куда едут, даже ему. Жена, подготовленная Каркушей заранее к подобному повороту событий, ужаснулась и всплакнула в трубку, но обещала все исполнить тотчас. Иванушке на душе полегчало. И он предпринял второй шаг к призрачному пока спасению. Бросив любимый свой «Чероки» на подземной стоянке у Манежа, отправился на метро, куда бы думали? Правильно, на станцию «Проспект академика Вернадского». И дальше, к шестнадцатиэтажной башне у дороги, сразу за гостиницей «Комета».
Охрана видела его и взяла на заметку, но поскольку, все знали о его кураторской должности, проходу Каркуши никто не воспрепятствовал. Только отметили в сводке.
Дверь Иванушке открыл Эрнест Юрьевич. В женском фартуке и с шумовкой в руках.
– А я вас раньше видел, молодой человек, – приветливо сказал ему Грачевский, и кивнул на кухонное орудие в руке, – если не опасаетесь прожаренных свиных бифштексов с холестерином и картофелем во фритюре, добро пожаловать к нашему столу.
Грачевский действительно безвылазно осел в квартире у Вилли. И действительно опасался за душу и жизнь своего молодого друга. Вот уж, как без малого неделю, со дня похорон Леночки, о которых и вспоминать невыносимо, несчастный генералиссимус лежал на бабушкиной кровати, отвернувшись к стене. В разговоры не вступал, ел через силу, если Эрнест Юрьевич уж слишком приставал. И никакими способами нельзя было добиться его возвращения к нормальной жизни. Грачевский приглашал уж и Рафу с его шумами и бестолковыми разглагольствованиями, и рассудительного Василия Терентьевича со вздохами и осторожными намеками на необходимость смириться и существовать далее. Пришлось обоих спровадить, из-за явных неудач их благих намерений, тем более квартира генералиссимуса была тесноватой, и без смысла толочься в ней получалось неудобным.
Теперь Грачевский имел некоторую надежду на нового визитера. Однако, тот, предварительно представившись ему Иваном Леонидовичем Каркушей, огорошил писателя странным заявлением, даже и для фантаста.
– Я к вам надолго, – сразу же определил Каркуша. Будто бы исполнил арию Васисуалия Лоханкина «я к вам пришел навеки поселиться». – Если не прогоните.
Эрнест Юрьевич, уразумев детали рассказа и безнадежный страх, звучавший в каждом слове, постановил:
– Оставайтесь, кончено. Однако спать вам придется на кухне, я вам раскладушку соображу. Кровать, как видите, занята, а на раздвижном кресле, уж простите негостеприимного старика, я нежу свои старые кости.
И Каруша остался, еще одним безвылазным жильцом Мошкинской квартиры. Он тоже жарил на кухне, помогал по хозяйству, пытался и словесно достучатся до генералиссимуса, но безуспешно. Главное, что был Каркуша до сих пор жив. А значит, решение он выбрал правильное и спасительное.
Дружников, к своему личному негодованию, беглеца Иванушку пока уничтожить не решился. Не хотелось делать этого на глазах Мошкина и его «матери Терезы», ни к чему было тревожить муравейник. И так понятно, что Каркуша никуда не денется, ну и пусть сидит, может, жабу из яйца высидит. Дружников беситься по этому поводу не стал.
Вилли, если не видел, то слышал все, что происходило в его квартире. И как приезжали Рафа и Василий Терентьевич, и как уехали ни с чем. И как хлопотал вокруг него добрейший Эрнест Юрьевич, пытался увлечь разговором и иногда уговаривал поесть. Старик изо всех сил старался и обещал сделаться в будущем отличным кулинаром. Частенько сам с собой, но как бы и для генералиссимуса, Грачевский развлекался рассказами вслух о собственных житейских проблемах. Так Вилли узнал, что Эрнест Юрьевич совсем уж было уговорил Сашеньку отважиться на второй брак, и непросто это далось, но тут выросло нежданное препятствие. Нет, дело заключалось не в Сашеньке, хотя та на первых порах Эрнесту Юрьевичу отказала решительно. В деньгах на прожитие Сашенька не нуждалась, писательскими титулами ее соблазнить не вышло – покойный ее муж тоже не последним был человеком. Однако, еще при первом знакомстве, на провокационный вопрос Грачевского, есть ли у них совместное будущее, Сашенька ответила утвердительно. И Эрнесту Юрьевичу удалось взять ее тем, что от судьбы, мол, все равно не уйдешь. На этот аргумент Сашенька возражений не нашла и дала Грачевскому предварительное согласие. Но вот, встал больной вопрос. Что делать с сыном? В их хоть и большой, но всего только двухкомнатной квартире, втроем выйдет тесно. Эрнесту Юрьевичу необходим отдельный кабинет, и Илюшу нельзя беспокоить. Переезжать же к Грачевскому им не имело смысла по двум причинам. Во-первых, квартира его тоже была всего из двух комнат, а во-вторых, Илью нельзя оставлять без ухода и присмотра.
Илья в свою очередь вышел для знакомства с женихом матери лишь раз, буркнул сквозь зубы «здрасьте», что само по себе являлось у него высшей степенью одобрения. А на невыносимо длинную для его ушей тираду Грачевского о планах на совместное проживание, ответил:
– Как угодно, – и равнодушно отвернулся, собираясь уйти.
Эрнест же Юрьевич допустил ошибку, предложив неосторожно Сашенькиному сыну на прощание:
– Да ведь вы, Илюша, тогда сможете и жениться.
Вот тут Илья мгновенно взорвался, и выразил излишне эмоциональное пожелание: скорее удавиться на собственных шнурках, чем позволить постороннему бабью отравить себе жизнь. Лучше он навечно поселится в аду, чем на один день в райских кущах с дурой-женой! Грачевский возразил, что необязательно ведь с дурой, а Илья только свирепо посмотрел и сказал:
– Живите, как хотите, я не пропаду.
Грачевскому отчего-то показалось, что и впрямь не пропадет. Зато так не показалось Сашеньке. И вот затеяли обмен и переезд. Но, разумеется, после выздоровления генералиссимуса. Пока же Эрнест Юрьевич даже не навещал Сашеньку, хотя она жила в соседнем квартале, опасался оставить Вилли одного. На Каркушу он тоже не надеялся. Тот, похоже, удручен собственным горем, и может проявить невнимательность. Вдруг затеют на пару групповое самоубийство?
Вилли слушал эпопею, сочувствовал Грачевскому, но думал о другом. О навечной утрате Леночки, о крахе всех своих трудов и упований, о бедных, обреченных крестоносцах, о мире, преданном на съедение Дружникову. О Каркуше, ищущем спасения, которое он уже не в силах никому указать. О скорой смерти Анюты, которую он сгубил, и которую все еще любит, хотя это теперь подло и стыдно перед памятью Лены. Вставать он более не желал, оттого, что незачем. Решил, вот так лежа и покорно судьбе, дожидаться конца.
Прошло еще три дня. И вот, пасмурным, поздним апрельским утром, к дому Мошкина держал свой путь человек. Одинокий, странный, он шел пешком от Удальцова к кинотеатру «Звездный», выбирая единственно ему ведомые дороги.
Он шел и читал окружающую его реальность по буквам и слогам, доступным ему одному. Все нити вероятных несчастий и происшествий, связей между нерадивым рабочим со стройки на углу и мешком с цементом в его неустойчивой тележке, автомобилем, разогнавшимся у «лежачего полицейского», встречным пешеходом и мигающим светофором, все он видел и прозревал от начала до конца. Чем начинается и чем закончится. И воздух кругом был полон смерти. Если бы только люди знали, как же ее много в обычных вещах! Может, тогда бы они не гибли столь часто и столь бессмысленно. Поскользнувшись на льду, под колесами лихача-водителя, от плохой проводки и случайных пожаров. Но он-то видел все, и мучился своими видениями. Оттого не выходил из своей комнаты по доброй воле, где смерти не было почти совсем, даже и в электророзетках, и где скелеты не смотрели на него из затемненных окон. И дело вовсе не в агорафобии, какая к черту агорафобия, не боится он ни закрытого пространства, ни открытого. Он вообще не боится ничего, кроме смерти. Да и ее не боится тоже. Он страшился лишь переходного процесса в мир иной, умирания и присущей ему боли, возможно, долгой. Оттого постоянно мучился от своих страхов, но на самом деле не боялся ничего и никого. А его способностью разложить любую настоящую и грядущую реальность по соответствующим им вероятностям, эти псевдострахи только питались в рост. Он вообще, сколько помнил себя, жил среди страха. Его опасался даже родной отец-генерал, дивился противоестественным талантам сына, – отец-то и привел его в раннем, четырнадцатилетнем возрасте в спецотдел КГБ, где его взяли на заметку. И носились с ним впоследствии, как дураки с крашенными яйцами на Пасху. Лишь мать, та одна его не боялась никогда, и была единственным человеком, кого он любил. Может, потому что и сама оказалась подобной ему, вернее, это он оказался подобен матери. Плоть от плоти и кровь от крови. Но теперь он не мог послать мать вместо себя, потому что ее жизнь ценил превыше своей. Пришлось самому покинуть берлогу и выйти в путь, но дело того стоило.
Наблюдателей у подъезда он засек сразу же и через пару мгновений знал и предвидел о них все. Что же, это не препятствие, главное препятствие у него впереди. Дозорные, впрочем, не обратили на него никакого внимания, ну, здоровый, высокий мужик, так и они не хуже, одет почти по-домашнему, спортивная куртка, синего с желтым цветов, кроссовки да теннисная повязка на голове, чтобы прохладный ветер не задувал в уши. Идет себе и идет.
На звонок к нему вышел Грачевский, забавный мамин ухажер и будущий муж, не самый плохой вариант. Только страшно занудный и склонный к велеречивому общению. Эрнест Юрьевич его немедленно опознал, но все равно, задал дурацкий вопрос:
– Илья, это вы? – и растерянно посмотрел на него, будто узрел явление Христа народу.
– Идите на кухню и не мешайте. И этого заберите, – Илья показал на сидящего в углу комнаты Каркушу.
Эрнест Юрьевич и Иванушка поспешно вышли вон. А Илья решительно и гневно ринулся к кровати, где покоилось равнодушное тело генералиссимуса.
Вилли слышал и дверной звонок и как Грачевский впустил кого-то в квартиру, но ему было все равно. Пока на Вилли вдруг сверху не обрушился настоящий ураган.
– А ну, вставай, гад! Ишь, разлегся! Другие, что ли, за тебя мусор убирать будут!
Вилли грубейшим образом скинули с кровати на пол. Он ушиб локоть и бедро, зато сразу пришел в себя и завопил:
– Вы кто? Вы что? По какому праву?
– Я тебе сейчас покажу, по какому праву! – заревело у него над головой.
Вилли поднял рассерженные глаза вверх и посмотрел. Над ним башней стоял здоровенный парень примерно одних с ним лет, в хорошем тренировочном костюме, и совсем немирного вида. Ноги парень расставил на ширине плеч, правую руку сжал в кулак, – и стало ясно, что, если Вилли далее откажется его понимать, кулак этот будет пущен в ход.
– Поднимайся, чертов сын, кому я сказал! – грозно приказал детина.
Вилли счел за лучшее встать. Из его свирепого оппонента можно было запросто выкроить двух тщедушных генералиссимусов, и Вилли опасался спорить. Хотя вблизи этот дюжий и драчливый дядька казался совсем не страшным и даже симпатичным. Только Вилли определенно где-то уже видел и эти черные, как жуки, глаза, и прямые волосы и точно такой же, высокий, чистый лоб. Но где, сразу вспомнить не смог. Парень тем временем, бесцеремонно толкнул его на кровать, а сам распахнул платяной шкаф и принялся методично вышвыривать оттуда одежду. Вилли ему не препятствовал. Он уже совершенно отказывался что-либо понимать.
Наконец, из груды тряпья, незваный гость выудил вечерний костюм, упакованный заботливо в полиэтилен, белую, свежую рубаху и галстук, на взгляд Вилли, не очень подходящий к костюму. Но у парня, видимо, на сей счет имелось иное мнение.
– Одевайся и поехали, – приказал он. После критично оглядел выбранный им выходной прикид, швырнул его Вилли, и вздохнул:
– Надо было с матерью посоветоваться.
Тут-то Вилли определенно понял, кто перед ним. И обратился по имени:
– Илья, я никуда с вами не поеду, пока вы не объясните…, – но договорить не успел. Неслабый кулак чувствительно врезался в челюсть генералиссимуса.
– Я те объясню! Насвинячил, еще выпендривается! Дружка твоего убирать поедем. Ты же этого хотел? – строго спросил его Илья. – Не бойся, синяка не будет. Я аккуратно бил.
– Дружка моего? Это Дружникова, что ли? – не поверил генералиссимус. – А как? То есть, откуда вы..? Ну, да, глупый вопрос.
– Одеваться будешь? – снова с угрозой спросил его Сашенькин сын. – Или добавить?
– Буду, – покорно согласился Вилли, и чтобы потянуть время, спросил, первое, что пришло в голову:
– Буду, если ответишь мне на один вопрос. Сможет ли бог создать камень, который он не сможет поднять?
Спросил и вдруг понял, что вот это и был заветный, обещанный ему Сашенькой, пароль. Отзыв не заставил себя ждать.
– И да, и нет. Может, и не может. Это диалектика. Единое и многое в одном и том же смысле и в одном и том же отношении. Бытие и небытие, конечное и бесконечное, взятое вместе и по отдельности. Абсолютные понятие нуля и бесконечности. И то и другое – в некотором роде число, и то и другое – нечто большее, чем число.
– Но этого же нельзя объять разумом? – подхватил идею Вилли. Вот тебе и дикарь!
– И не надо. Можно подумать, разум – последняя инстанция во Вселенной, – подвел резюме Сашенькин сын, и снова прикрикнул:
– Ты будешь одеваться или дальше намерен на меня таращиться?
– Буду, буду, – Вилли поспешно стал натягивать носки и брюки. Перед ним забрезжила пока еще непонятная до конца надежда.
Уровень 59. Король-рыбак
Когда Вилли стоял уже совсем одетый (галстук он все же осмелился выбрать на свой вкус), Сашенькин сын окриком вызвал из кухни Каркушу и Эрнеста Юрьевича. Видно было, что Илья очень старается переносить их всех хотя бы на дух и из необходимости.
– Ты, как тебя, Иван, кажется? Ну, да, Иван. Ты пойдешь вперед. Будешь отвлекать охрану, – постановил Илья, даже не дав себе труда узнать мнения Каркуши на сей счет, и объяснить, что к чему.
А мнение Иванушки было однозначным. Он побледнел, осел в кресло-раскладушку, и быстро залопотал жалкие, но решительные протесты. Что никуда и ни за что из квартиры не пойдет, и вообще, отказывается понимать глупые шутки. Вилли сообразил по напряженному выражению лица Сашенькино сына, что дело дрянь, и Каркушу сейчас могут побить.
– Пожалуйста, не трогайте его. Иванушка, бедный, и так натерпелся, – попросил Вилли, на всякий случай ухватив современного Илью Муромца за штанину.
– Надо очень, – ответил богатырь, и демонстративно заложил обе руки за спину. – Иван же у нас не дурак, Иван же у нас умный. Если столько прожил. И еще жить хочет. Хочешь или нет?
– Хочу, – обреченно ответил Каркуша. Он уже понял, что из ежовых рукавиц Ильи Муромца ему не уйти.
– Тогда выбирай, – коротко предложил Илья. – Или ты дальше сидишь здесь до очень скорого конца. Или помогаешь нам. Несколько часов неприятных ощущений, и ты на свободе. После сможешь забыть, как твоего Дружникова зовут.
Каркуша, хоть и смертельно напуганный, думал недолго.
– Что я должен сделать? – спросил Иванушка, не без надежды, что поручение окажется не слишком мучительным.
– Выйдешь впереди нас и займешь охрану полезным трудом. Чтоб не скучали, – объяснил Илья.
– И как же я буду ее занимать? Гопака у подъезда плясать? – не понял Каркуша.
– Выйдешь, подождешь, чтобы тебя обнаружили. И не очень быстро побежишь прочь. Они и тебя тоже ждут. Поэтому бросятся ловить. Но ты далеко не убегай, однако, сразу в руки не давайся. Подерись с ними немного, что ли, – предложил Илья Муромец, и с сомнением оглядел хлипкую конституцию Иванушки, слегка подсластил пилюлю:
– Ишь, бок-то кривой. Ничего, если с заданием справишься, приходи потом ко мне, так и быть, поправлю.
Перспектива драки с охранниками-профессионалами мало сказать, что не вдохновила Каркушу. Но серьезная обстановка и возникшая в нем уверенность в действиях Сашенькиного сына, а главное, надежда на счастливое разрешение их общей беды, заставили Каркушу согласиться на безумный план богатыря. К тому же он чувствовал сердцем, что никто нарочно не посылает его грудью на амбразуру, что настоящая амбразура ждет впереди, и не его, а этих двоих, загадочных для него людей. Иванушка должен всего лишь проторить им дорогу, и как обещал Илья Муромец, потерпеть час-другой ехидный надзор охраны. Ну, может, несколько тычков под ребра и пару оплеух. Детская цена за избавление.
Вышли из квартиры гуськом. А перед этим Вилли дал наичестнейшее слово повиноваться каждому приказанию Илюши, каким бы опасным и сомнительным на первый взгляд оно ни показалось.
– Я пройду там, где ты не пройдешь. И держись от меня сбоку. Кепку поглубже надвинь на глаза, – проинструктировал его перед выходом Муромец.
Из подъезда, как было уговорено, первым выскочил Каркуша. Стал на крылечке, бестолково завертел головой. Дружниковская охрана моментально его засекла и радостно бросилась хватать Иванушку. Каркуша трусливым зайцем метнулся в сторону. Могучие ребята безмолвно кинулись за ним. Двое, однако, остались сидеть в фургончике-«мерседесе», и казалось, нисколько не заинтересовались погоней, а продолжали равнодушно надзирать за входом в подъезд. Впрочем, Илья уже обнаружил в будущем коридор и в нем вероятностное окно, ухватил Вилли за локоть, и поспешил прочь, на улицу.
В этот самый момент двое в фургончике отвернулись. На незабываемое и занятное зрелище. Каркуша с криком и интеллигентными ругательствами невдалеке отбивался от четырех охранников суковатой веткой, подобранной им наспех возле цветочной клубы. Пока наблюдатели сделали обратный поворот головы, Илья и генералиссимус скорым шагом, ни в коем случае не бежать! дошли до угла дома. Стражи успели заметить лишь мелькнувшую, памятную сине-желтую куртку, и не забеспокоились. Как же, давешний мужик, всего-то. Тонкую, в сером, неприметном плаще до пят, фигуру генералиссимуса они разглядеть не смогли. Илья массивным корпусом прикрыл его сбоку.
А спустя минуту оба нырнули в метро. Ехали стоя, в последнем вагоне. До станции «Охотный ряд». Вилли, то ли переволновавшись, то ли, наоборот, от радостного нетерпения, не смог сдержаться и одолел богатыря вопросами:
– А куда мы едем? А как я встречусь с Дружниковым? А вы со мной пойдете?
На все получил ответ:
– Куда надо. Как надо. Частично.
Но Вилли не успокоился. Были еще темы, которые ему непременно хотелось прояснить, а Илья Муромец, как ему казалось, знал много неведомого.
– Вот вы, наверное, все про меня понимаете? – полуутвердительно спросил Илюшу генералиссимус. Богатырь нехотя кивнул головой. – Как вы думаете, если дело, тьфу-тьфу, выгорит, как скоро Анюта… Ну, помните, она к вам приходила, еще вашу маму напугала. Так вот, как скоро Анюта сможет вернуться в нормальное состояние?
– А-а, вон ты чего, – с нескрываемым презрением в голосе протяжно сказал Илья, – так и думал, что без бабья не обошлось. Овдоветь не успел, а тут же в новую петлю лезешь. Ничего с твоей Анютой не случится. Быстро вернется. И к тебе тоже. Бабы, они хваткие.
– Как быстро? – на всякий случай поинтересовался Вилли. Может, у Сашенькиного сына «быстро» это через год.
– Час, два. Откуда я знаю. Это из тела душу вырвать нелегко. А обратно она сразу дорогу находит. Возврат к естественному состоянию. Аристотеля, небось, не читал? – подковырнул его Илья. – Не читал. И от меня отстань. Дай хоть немного от тебя отдохнуть. Так что, до конца пути, заткнись, будь другом.
С «Охотного ряда» Вилли и Муромец быстро перешли подземным туннелем на сторону Большого театра, и Вилли изумился, неужто, сюда и ехали? Илюша дал ему последнюю инструкцию:
– Держись меня. Вопросов не задавай. Делай вид, что так и надо.
Они пошли, но не к парадному подъезду, а куда-то вбок, к зданию Новой сцены, к глухой служебной калитке с камерой и кодовым замком. Пару они с Ильей представляли наизабавнейшую. Шикарно одетый на «выход» тощий господин, и здоровенный спортсмен, хоть сейчас выставляй против Жаботинского или Алексеева, будто с тренировки и переодеться не успел. Однако, Илья уже уверенно жал кнопку связи.
Скоро тяжелая, деревянная калитка отворилась, и вышел к ним, охранник, не охранник, но лицо явно ответственное за безопасность. Илья с ним в беседы вступать не стал, сунул под нос нечто плоское, в красном переплете, чем немедленно довел привратника до состояния заикания. «Вот тебе и массажист!» – подумал про себя Вилли, провожая взглядом таинственную красную книжку.
– Этот со мной! – бросил на ходу Илья Муромец, и, не обращая более на опешившего привратника никакого внимания, подтолкнул Вилли к лестнице.
Потом они долго шли служебными переходами. Пока не вышли в залу, парадно и разноцветно украшенную, уставленную уже и столами с закусками. Тут богатырь покинул Вилли на произвол судьбы, а сам подкатил к одному из распорядителей и коротко о чем-то спросил. Метрдотель согласно и с видимой опаской закивал, показал пальцем за декоративную штору, затем поспешно убежал, будто по поручению. Илюша сделал знак генералиссимусу, мол, иди сюда скорей. Вилли послушался.
Вдвоем они исчезли за шторой, где оказались тоже два маленьких, приватных столика, уставленных легкой едой на скорую руку, видимо, для администрации. За один из столиков и сел Илья, бесцеремонно ухватил с тарелки бутерброд. Вилли скромно пристроился по соседству на стуле. А вскоре к ним вышел господин. Во фраке и с бородой, дородный и по опереточному солидный.
– А-а, Стоеросов! – торжествующе и злорадно поприветствовал его Илья Муромец.
Стоеросов, узрев, кто именно Гамлета зовет, отобразил на раскормленной ряшке все оттенки ужаса. И вместо ответа поклонился.
– Иди, сюда, Стоеросов! Иди, кому говорю! – приказал ему Илья.
Стоеросов подошел. Наклонился к богатырю, подставил угодливо ухо. Илюша быстро в то ухо зашептал. И чем больше шептал, тем более менялся в лице Стоеросов. Потом и Богуслав Аркадьевич зашептал в ответ. Но его ответ богатырю не понравился.
– Ты что, Стоеросов? Ты смотри у меня, Стоеросов! Ты меня знаешь, Стоеросов! – прикрикнул на него Илья Муромец. – Мало не покажется! Я тебя, Стоеросов, достану, и Дружников твой не поможет! Ну?
Богуслав Аркадьевич, чуть призадумавшись, согласно склонил выю. Испуг на его физиономии сменился угодливым выражением.
– То-то, Стоеросов! Сделаешь, что велено. Иначе, дуремар, смотри у меня! – Илья многозначительно погрозил Богуславу Аркадьевичу мощным кулаком.
После поднялся, положил увесистую длань генералиссимусу на плечо:
– Значит, так. Дальше ты без меня действуй. Стоеросов проведет, когда нужно будет. А там уж все от тебя зависит, – напутствовал его на прощание богатырь. И все, и пошагал обратно к декоративной занавеске.
– Погодите! – задержал его генералиссимус, от волнения сорвавшись на приглушенный крик:
– Постойте, один только вопрос. КТО ВЫ ТАКОЙ?
– Массажист из поликлиники. Ну, все? – раздраженно ответил ему Илья. Вопрос богатырю явно не доставил удовольствия.
– Знаете, это как у Булгакова. Мне кажется, что «вы не очень-то кот»? – Вилли настойчиво хотел добиться ответа.
– Кошек я люблю. Может, со временем и себе заведу, – уклончиво отозвался Илья.
– Я не в смысле кошек. Я к тому, что массажист, видимо, не единственный ваш талант? – осторожно поинтересовался генералиссимус.
– Не единственный. Но остальные мои таланты не продаются. Если это все, то я пошел, – оборвал расспросы Сашенькин сын.
– А если Стоеросов вдруг..? – крикнул в уходящую спину Вилли.
– Никаких вдруг! Стоеросов не самоубийца, а мелкий негодяй. Будь спокоен, – бросил на выходе Илья Муромец и неожиданно сказал:
– Желаю удачи!
Вилли остался сидеть. К нему никто не подходил, никто не беспокоил. Стоеросов тоже не появлялся. Прошло довольно много времени. А из соседней залы уже слышались голоса и женский смех, звон бокалов и посуды, шелест легких платьев, цокот изящных туфелек и скрип парадных лакированных ботинок. Быстрые официанты сновали туда-сюда. На Вилли они смотрели приветливо, то и дело кто-нибудь из черно-белых фигур осведомлялся у генералиссимуса, не надо ли чего? Вилли давно снял плащ и кепку, сложил их аккуратно на стуле. У одного из официантов, молодого, улыбчивого парня с пшеничного цвета усами, Вилли поинтересовался, по какому поводу очередной фуршет. Официант сначала изумился, но потом все же ответил, что имеет место большой благотворительный съезд в пользу реставрации театра, а после будет концерт, ожидают прибытия самого премьер-министра. И вправду, Вилли заметил множество осанистых ребят с переговорными устройствами, как пояснил все тот же официант, из федеральной службы охраны. Которые, вот что странно, ни разу к генералиссимусу даже не подошли и не обратились, хотя был он явно не на месте и подозрителен. Напротив, если Вилли случайно встречался с ними взглядом, службисты нарочито отворачивались, и вот чудо! один из них едва заметно, но благожелательно улыбнулся краем рта. Словно бы хотел подбодрить. Вилли и в самом деле несколько приосанился, ему вдруг показалось, что на арене он сегодня будет не один.
Через час с четвертью к нему, наконец, вышел Стоеросов. Жестом пригласил следовать за собой. А перед тем, как вступить в залу, Богуслав Аркадьевич жарко и просительно зашептал генералиссимусу на ухо:
– Уважаемый, могу ли я надеяться?
– На что? – Вилли от неожиданности даже замедлил шаг.
– Как на что? На снисхождение! – пояснил Стоеросов и сам испугался своей смелости.
– Можете. И на снисхождение, и на благодарность! – заверил его Вилли, хотя понятия не имел, о чем именно идет речь. Но счел за благо выдержать навязанную ему роль до конца. Хуже, во всяком случае, не будет.
– Тогда вам во-он туда, – Стоеросов, прикрывшись полой пиджака, указал пальцем перед собой. – Если что, я всегда к услугам. И товарищу Абрамову передайте.
Вилли поглядел в указанном направлении, и все понял. У дальнего стола, рядом с незнакомой молодой женщиной (то была Полина Станиславовна), расположился не кто иной, как Дружников собственной персоной. Очень величественной и самоуверенной персоной. Генералиссимуса вдруг прошиб холодный пот, от внезапности видения и от того, что долгожданная минута настала, а он оказался не готов. Лихорадочно пытаясь собраться с мыслями, Вилли спрятался за занавеску. Рано ему выходить, надо успокоиться, произвести нужную настройку чувств, иначе все предприятие бессмысленно. Вилли зажмурился, вспомнил Анюту, Зулю Матвеева и Дениса Домициановича, и решимость его возросла. Но все равно, недостаточно. Когда же перед его внутренним взором прошли как в замедленной киносъемке похороны Лены, генералиссимус готов был драться любой ценой. Он сделал глубокий вздох и привычно сосредоточился. Его словно шатром накрыла пылкая любовь к Дружникову, и Вилли, одернув свои праздничные вериги, выступил из-за занавеса на сцену.
Дружников в этот момент принимал из рук подоспевшего официанта два бокала с шампанским, один для себя, другой для жены, как вдруг в затылок его кольнуло некоторое беспокойство. Дружников машинально отхлебнул глоток, повернулся к залу, невежливо прервав собеседника, одного из депутатов правых фракций, и огляделся. Беспокойство в нем нарастало. Как у дичи, предчувствующей засаду. Дружников, продолжая озираться, медленно пошел вперед. И через несколько шагов не столько увидел, сколько почувствовал, и обернулся, словно на выстрел. Там, там, – черт побери, откуда он здесь взялся! – стоял его враг! Первым побуждением Олега Дмитриевича было немедленно убраться вон. Но поскольку он обычно всегда дожидался побуждения второго, то хитрый разум подсказал ему удобный момент. Охота завершена, зверь сам пришел в капкан. И Дружников обрадовался. Сейчас он передаст приказ охране, и на выходе Мошкина возьмут. Как несколько часов назад взяли Каркушу. Вот дурачье, наверное, заранее все спланировали. Только, зачем? И куда смотрел этот бестолковка, Стоеросов? Впрочем, на оба вопроса Дружников сразу нашел ответ. Стоеросов не мог смотреть никуда, потому что сроду в глаза не видывал Мошкина, и всего лишь допустил к гостям лицо с пригласительным конвертом. А что пришел сам Мошкин, то тут все проще. За последним увещеванием он пришел, за чем же еще! А как смотрит, будто мать на обожаемое дитя. Нет, двигатель, что ни говори, штука надежная. Дружников дал знак начальнику своей охраны, а когда тот подошел, коротко сообщил приказ о дальнейших действиях. Начальник был в курсе, его ребята и пасли Мошкина возле дома.
А Дружникова одолела несвоевременная лихость. Раз уж навестил его враг, так что же его разочаровывать. В последний-то раз. Дружников решил подойти, удостоить беседой. Никакой опасности Мошкин теперь не представлял, в самом деле, не пистолет же он принес в кармане пиджака! Да если бы и принес, двигатель не позволил бы ему спустить курок. Зато какой красивый конец – приблизиться к этому дохнущему от восторга червю, и высказать ему все, что Дружников о нем думал! Плюнуть в лицо, пока Мошкин еще при памяти, символически поменять местами тень и ее хозяина. И Дружников, все также сжимая в руке бокал с шампанским, шагнул навстречу генералиссимусу.
Вилли видел все манипуляции Дружникова, но спокойно выжидал в стороне. Нечто великое и восхитительное росло в нем, он уже был готов броситься к дорогому своему другу и умилиться подле него слезами. Но, в то же время, не хотел мешать, пусть Олег допьет свой бокал. Однако, Дружников увидел его раньше, засуетился, подозвал к себе какого-то грозного дядьку, затеял переговоры. Но Вилли более ни о чем не волновался, а просто ждал.
И дождался: Олег направился прямо к нему. Некрасивое, располневшее его лицо было злым и оттого слегка перекошенным, но для Вилли все равно милее любых иных. Дружников посмотрел на него, по-бычьи, с ненавистью. Вилли посмотрел в ответ. Взгляды их встретились. И зацепились на миг. Этого мига хватило. Вилли обуял всплеск наслаждения, он пропал в неподвижном пространстве, вслед за ним туда же ухнул и Дружников. Страж, возникший между ними, приободрился, потянулся к Вилли, и жадно стал всасывать соки его восторгов. И разрастался, разрастался до неимоверных пределов. Очень скоро Стражу стало тесно. Да, у костра можно греться целую вечность, но упаси бог, совать в огонь руку, ногу или голову. А при пожаре в закрытом помещении..! У-у-у!!! Что будет!
Дружников сначала не понял, что произошло, потом у него уже не осталось времени на раздумья. Плиты в нем самопроизвольно сдвинулись, он не мог ни отвести взгляда, ни даже пошевелиться. И он тоже увидел Стража. Бушующего, пляшущего в танце Шивы-разрушителя, неодолимо ликующего. Страж заполнял собой все доступное пространство и вытеснял из него Дружникова. Но тому деваться было некуда, и Дружников завопил от ужаса и нестерпимой боли. Вопль этот не услышал никто, кроме генералиссимуса. Олег, мучаясь в адском пламени, забыл про Мошкина, про власть и спасение, про все на свете. Он желал в тот миг одного – чтобы дьявольская боль поскорее кончилась, любой ценой, пусть даже ценой смерти. И его желание было немедленно исполнено. Страж выжег его из тела, и после в бешенном вихре рассыпался сам. Занавес опустился.
Вилли никогда еще не наблюдал ничего похожего. С Актером в прошлый раз все вышло совсем не так. Да и не было у Актера ни двигателя, ни Стража. А потом, когда генералиссимус выпал, наконец, из пустого, опаленного пространства, то увидел, как Дружников прямо перед ним безжизненной кучей оседает на пол. Вот из его руки выпадает бокал, шампанское расплескивается, брызгает на платье какой-то женщине, та взвизгивает от неожиданности. Бокал падает дальше на паркет, но не разбивается, а катится в сторону, с легким траурным звоном. Дружников уже лежит, распластанный на полу, рука его вытянута, словно он хочет достать хрустальную, пустую чашу, но не может. Она откатилась слишком далеко. Между Вилли и Дружниковым суетятся напуганные гости. Но тело Дружникова отныне мертво. Не будет в этот раз ни больницы, ни лишних минут жизни. Страж, это не простой вихрь, он убивает быстро, и мощь его огромна.
Вилли подумалось, что вот и сегодня, как в те далекие дни, вскрытие будет строго засекречено. По одному виду мертвого Дружникова можно определенно предсказать. Труп, черный лицом, словно бы скелет, обтянутый старческой кожей, лежал жалкий, внутри вдруг ставшего непомерно большим для него костюма. Дамы вскрикивали, мужчины осипшими голосами требовали помощь. Да какая там помощь! Коронера вызывать надо, чтобы доставить неудавшегося диктатора в морг. Любовь внутри Вилли к этому моменту заместилась жалостливой брезгливостью и легкой ностальгией о пережитом, но стоять над телом своей жертвы ему было ни к чему. Работа сделана, душа опустошена, хорошо бы домой, поспать. И пусть Эрнест Юрьевич приготовит ему свои удивительные свиные бифштексы.
На выходе метались ребята из охранной службы Дружникова, не знали, что предпринять. Выполнять приказ и хватать клиента, или плюнуть на все и заняться собственной судьбой. Ведь хозяин их мертв, так имеют ли силу его страшные повеления? Однако, сомнения охраны были разрешены кардинальным образом. Едва они дернулись навстречу выходящему Мошкину, как сразу к ним приблизились тихие и жутковатые господа из федеральной безопасности, и многозначительно замерли вокруг. Ребята тут же подняли руки, мол, мы ничего, братаны, мы так. А клиент тем временем преспокойно дошел до стоянки такси, взял машину и уехал.
Надо сказать, что происшествия с охраной, как и своих неожиданных заступников, Вилим Александрович Мошкин даже не заметил. А и заметил бы, то не догадался отнести на свой счет. Он был счастлив и свободен.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ: 0000
ПРИСВОЕННЫЙ УРОВЕНЬ: ИФРИТ
МЕСТО: 0001
Вилим Александрович только следующим утром понял, что натворил, когда в его квартиру пыльным торнадо ворвался Иванушка, еще вчера самовольно освободившийся из цепких лап Дружниковских телохранителей. Следом без спросу, словно к себе домой, вперся к нему и Эрнест Юрьевич, вдобавок притащил на буксире смутно знакомого, плешивого человечка, задыхающегося от скоростного передвижения и непонятного волнения. Человечек представился Васнецовым Игорем Петровичем, и Мошкин его неотчетливо вспомнил. Это будто бы тот самый нотариус, что много лет назад оформлял с раздражающей дотошностью завещание Дружникова перед поездкой на Кипр. Завещание и сейчас в виде копии присутствовало при Игоре Петровиче. Все в том же неизменном виде.
А по всесильной букве того позабытого завещания выходило, что единственным распорядителем и душеприказчиком покойника был и есть Вилим Александрович Мошкин. К нему переходят права на все учреждения и имущества, из коих он, по своему усмотрению, должен выделить часть каждому члену Дружниковского семейства. Он же является и финансовым опекуном обоих его несовершеннолетних детей, и двух жен, гражданской и юридической, а также матери и брата Георгия Дмитриевича. Завещание, составленное в общих чертах, предусматривало любые случайности, и безоговорочно передавало всю полноту власти Вилиму Александровичу. Вот тебе бабушка, и Юрьев день!
Про завещание-то он позабыл! Сколько лет прошло. И Дружников позабыл тоже. Если и помнил, то из гордыни или из безразличия переписывать не стал. Видать, Олег себе два срока жизни намерял, при его-то удаче, и уж во всяком случае, не собирался заканчивать эту жизнь ранее Вилима Александровича. А теперь все рухнуло на его, Мошкина, плечи.
– Кто-то, кроме тебя, Ваня, уже знает? – безнадежно спросил он у Каркуши.
– Побойтесь бога, Вилим Саныч, все знают. Завхоз Кошкин с утра мечется по офису, вензеля гипсовые и золоченные сбивает, а те, что нарисованы, закрашивает. Собирался новые спешно малевать, – пожаловался ему Каркуша.
– Это, какие же? – усмехнулся ему в ответ Мошкин.
– Как, какие? Вместо «ОДД» теперь полагается «ВАМ», да я его пока остановил. Чтоб не проявлял лишний энтузиазм. Ведь правильно? – на всякий случай уточнил Каркуша.
– Правильно, не то слово. Мне сейчас только вензелей не хватает, – одобрил запрет Вилим Александрович. Ему все никак не удавалось до конца прийти в себя.
– Да, там еще головорезы верховные к вам прорывались, но я ваших телефонов не дал и адреса тоже. Боюсь, это ненадолго. Квитницкий сейчас словесно пытает начальника охраны, и скоро уломает, так что ждите ходоков, – предупредил Каркуша.
– Вот что, Иван, свяжись-ка ты с Квитиницким по-быстрому, скажи, чтоб ко мне не лез. А выполнял твои распоряжения. И вообще, принимай текущие дела. Будешь пока управляющим от моего имени. Я в курс происходящего у вас вникать стану долго и добросовестно – ты мне поможешь. Как тогда, у подъезда? – и Вилим Александрович подмигнул заговорщицки не ждавшему такой милости Ивану Леонидовичу.
– Еще бы! Я ту драку до смерти не забуду. Но с нашими башибузуками, пожалуй, потрудней будет. Они скользкие, – посетовал ему Каркуша.
– А если они такие скользкие, то пусть скользят себе подальше. Так и скажи. Я с ними цацкаться не стану. Все, кончились беспредельные Дружниковские времена, – постановил Вилим Александрович.
Вскоре наделенный нежданными полномочиями Каркуша ускакал по срочным надобностям, забрал с собой и нотариуса Васнецова. Однако, Вилиму Александровичу еще полагалось зайти в его контору, подписать нужные бумаги о передаче и получении наследственных, распорядительских прав.
Не успел Мошкин прийти в себя и попытаться до конца осознать происходящее, как Эрнест Юрьевич уже вводил нового посетителя. Точнее будет сказать, посетительницу. Молодую и пригожую, хотя и траурно одетую. Посетительница представилась ему Полиной Станиславовной Дружниковой, на Мошкина взирала с опаской и сомнением. Впрочем, недолго. Тернистая ее жизнь с покойным мужем научила Полину Станиславовну разбираться в людях. И она завела насущный разговор о будущем, своем и дочери Раисы. Мошкин быстро ее успокоил, заверил, что приложит все старания и опекуном станет заботливым. Только бы Полина Станиславовна согласилась навсегда впредь не пытаться ущемить в правах старшего сына Дружникова и его маму, Анну Павловну Булавинову.
– Все же, они вам как-никак родня. А Павлик единокровный брат вашей Раечке. Хорошо бы их со временем познакомить. Глядишь, вырастут, начнут помогать друг-дружке, – вкрадчивым и полным надежды голосом увещевал вдову Вилим Александрович. – Что вам с Анютой делить-то теперь?
– А нам и раньше делить было нечего. Дура я, что вообще пошла за него. Все мой папаша. Сейчас сидит тихо, о моих правах и внучки боится даже заикнуться. Он нынче у власти в опале, за прошлые художества, а мы, бедные, без всякой поддержки остались, – пожаловалась Полина Станиславовна. И с игривым намерением, сквозь наращенные ресницы, посмотрела на Мошкина. Очень симпатичен ей был господин душеприказчик. Вот за кого бы замуж пойти! А то угораздило же ее! При воспоминании о покойном муже госпожу Дружникову передернуло от отвращения.
Сроду Вилим Александрович не видел такой веселой и жизнерадостной вдовы, как Полина Станиславовна. Только что изображала из себя робкую просительницу, а, успокоившись его заверениями, тут же предстала соблазнительной сиреной. Да уж, новоиспеченная вдова тосковать и убиваться по ушедшему скоропостижно мужу явно не собиралась. Полина Станиславовна была Мошкину приятна, льстила и ее охотничья повадка, и интерес. Но Вилим Александрович вскорости ожидал увидеть у себя в квартире совсем другую женщину. Полина Станиславовна, видно, это почувствовала, и загрустила слегка. Однако, Мошкин ее развеселил уверениями в вечной своей преданности, и посоветовал, раз такое дело, долго не думать, искать очередного спутника в жизни. На этот раз самостоятельно. Полина Станиславовна ответила, что всенепременно так и сделает, едва ей позволят приличия, и от этих мыслей пришла в превосходное настроение.
После ее ухода Вилим Александрович призадумался. Ноша, свалившаяся на его плечи, давала о себе знать. И он начал неторопливый подсчет количеству людских судеб, оставленных отныне на его заботы. Выходило много. Само собой, дети и жены, еще мать Дружникова. Брат Гошка и его опекун, какой-то профессор Миркин. Потом его собственные крестоносцы, хорошо хоть Грачевского можно передать на попечение Сашеньке, вдобавок несчастный губернатор Тихон, которого очень скоро попрут из области, и надо будет заняться его устройством. Для начала вернуть на кухню к Раисе Архиповне и излечить от регулярных запоев. Вот Миркину и дополнительный воспитуемый. Илону ему теперь тоже было жаль бросать на произвол случая, но и удач дарить не хотелось. И Мошкин порешил оставить ее под надзором Кадановки, а последнему наказать и пригрозить, но и заинтересовать материально. Плюс Татьяна Николаевна и его собственная семья, Каркуша и даже Кошкин. Это не считая заводов, пароходов, самолетов, лесопилок и бог весть еще какого имущества.
Откуда ни возьмись, Вилиму Александровичу пришла нежданно светлая на первый взгляд мысль. А что если? Ведь именно об этом он когда-то мечтал. И вот, может воплотить те мечты в жизнь. Переделать мир по-своему, справедливо и на гуманный образец, – место Дружникова стоит пустое и неостывшее, – взять благо людей в свои руки и дать им счастье. Тем более, что вчера он определенно почувствовал – свершилось чудо. Ему возвращена способность дарить новые вихри и удачи. Но вспомнил недавно рассказанную ему Эрнестом Юрьевичем притчу, о мальчике, сражавшимся с драконом – чтобы добыть охраняемые огнедышащим гадом сокровища и отдать их своему народу. Мальчик победил дракона, ибо бился за правое дело, и сокровища освободил. Но никакому народу не отдал. Искушение оказалось сильнее его. Он, в свою очередь, стал драконом при богатствах и сторожил их до прихода следующего воителя за общинное благо.
Нет уж, решил для себя Вилим Александрович. И решил окончательно. Никаких благ он воевать не станет. А мир, ну что мир? Мир устроится, как-нибудь, сам собой. Как и раньше устраивался веками без его участия. И все пойдет далее согласно естественному ходу вещей и законов. Ни в каком его вмешательстве нет нужды. У страны есть всенародно и легитимно избранный президент, пусть у него болит за всех голова. К тому же голова у нынешнего президента была, что надо, если считать Илью Муромца отчасти и его посланником. У хрупкого человечка в Кремле оказались железная хватка и стальные челюсти. Он, Мошкин, наивно думал, что спасает его президентское превосходительство. А это не президента, выходило, нужно спасать, скорее Дружникова от него.
Но его неподкупную честность мучил один вопрос. Как поступить с той частью имущества, что была по-воровски отнята Дружниковым из государственного котла. Ладно, банк, авиакомпания, лесоторговля и пароходство, их одних хватит на все семейства и подопечные души вместе взятые. К тому же, дело можно развивать. Но ведь большая часть уральских заводов изъята из казны обманом! Только Вилим Александрович задался этой проблемой, как в комнате зазвонил телефон. Мошкин снял трубку, и к великому своему изумлению услышал на проводе голос богатыря Илья. Вот те раз, а он уж думал, что с загадочным псевдомассажистом судьба его более не сведет никогда! Илья Муромец был в своем репертуаре и послал коня сразу в галоп.
– Что думаешь делать с наследством? – в лоб вопросил его богатырь, едва поздоровавшись.
– Сам сейчас головной болью маялся. Не знаю. Там ведь все не совсем чисто, – пожаловался ему Мошкин. Ведь неспроста же звонил ему Муромский Илья?
– Вернешь украденное государству. По сходной цене. И это не пожелание, а приказ. Понял меня, Мошкин? – грозно зарычал в трубку Илья.
– Могу и бесплатно, – обиделся Вилим Александрович.
– Ты не дури. Говорят, по сходной цене, значит, так и сделай. Тем более, деньги не твои, а только тебе доверены. Чем дальше заняться хочешь? – уже более миролюбиво поинтересовался Муромец.
– Чем дальше? Все тем же. Дел невпроворот. С имуществами, что останутся, поди управься.
– Того и держись, – ответил Илья и вдруг выдал Мошкину неожиданное наставление. – Ты вот что. Когда в следующий раз захочешь удивить мир очередной высокой идеей, дай сначала себе по башке, а еще лучше пойди и утопись. Всем спокойней станет.
– Да я уж и сам понял, – печально ответил богатырю Вилим Александрович.
– Вот и молодец, что понял. Я тебе сейчас скажу намек, и ты его тоже постарайся понять. Не лезь никуда больше, кто бы тебя ни уговаривал, и какие бы златые горы ни сулил. Не делай чудовищных глупостей, Мошкин!
– Ага, ладно, – машинально согласился Вилим Александрович, ему вдруг безумно захотелось разыграть лихого богатыря. Хотелось и придумалось. – Обещаю тебе никуда не лезть, если выполнишь одно мое условие.
– Ну? – неохотно отозвался с другого конца провода Илюша.
– Если ты в ближайшее время женишься! Вот! – торжествующе закричал в трубку Мокшин.
– Пошел ты к… в… и на..! – проорал в ответ Илья и дал отбой.
«Красиво послал. От души», – подумал про себя Мошкин. Но принял шкодливое решение объединить совместно усилия с Грачевским и непременно сыскать богатырю невесту. «Женится, куда денется. Хотя бы для того, чтоб от него отстали, – злорадно и смешливо сказал себе Вилим Александрович, – хватит ему на печи лежать. Пусть тянет общую лямку. Жена – это тебе не мама, быстро по стойке смирно встанешь! Вот хотя бы взять Полину Станиславовну, чем не невеста?» При воспоминании о вдове Дружникова его снова одолели мысли и ожидания той, которая непременно должна была к нему вернуться.
А уже близился вечер. Грачевский давно ушел делиться радостью с Сашенькой. Вилим Александрович невнимательно смотрел по спутнику Кубок Либертадорес, матч «Сантос» – «Бока Хуниорс». Начинал и волноваться. Но долгожданный звонок все же прозвенел в его холостяцкой квартире. Это и вправду была она. Живая, здоровая, нервная и полная недоуменного беспокойства. С полноценной душой и немыслимо прекрасным телом. Его Анюта.
Он ждал ее прихода и одновременно опасался его. Нет, вовсе не из моральных соображений. Он уже привык за эти часы, как восточный владыка, наследовать гарем убиенного им предшественника. И то, что он вскорости непременно собирался заменить маленькому Павлику безвременно погибшего от его руки отца, тоже ничуть не смущало Вилима Александровича. Он боялся только, что Лена сейчас, наверное, смотрит на него с небес, и осуждает его. А может и не осуждает. Понимает, что есть вещи, которые не в его власти. Бедная Леночка, ведь если бы не ее смерть, то не смог бы он собраться тогда у выходного занавеса и сделать то, что должен был сделать. Неужто кто-то наверху нарочно устроил ее погибель, чтобы такой ценой дать ему силу? Думать об этом Вилиму Александровичу не хотелось.
– Аня, ты ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо, – торопливо и неловко заговорил он первым, отчего-то вспомнив тревоги Полины Станиславовны. – Ты теперь очень богатая женщина и таковой останешься. Ручаюсь.
– Я – богатая женщина? – непритворно удивилась Анюта. Она и впрямь многое проспала. – Но я не поэтому. Я… Виля, что со мной было? Как это МОГЛО быть?
Анюта не дождалась ответа, бросилась с плачем Вилиму Александровичу на грудь.
– Ну, будет, будет. Все хорошо, – он успокаивал ее, обнимал, гладил по волосам и целовал в щеки, – ну, не надо. А давай-ка лучше пить чай… Нет, сегодня мы будем пить вино. Кажется, немного осталось от Эрнеста Юрьевича… Ведь ты вернулась.
– Я вернулась, – ответила сквозь слезы Аня. – Навсегда.
Потом они пили чай и пили вино, и Мошкин нарушил сухой закон. Но война окончилась, и соблюдать пост далее было уже не нужно. Когда же он, наконец, осмелился подсесть к своей Анюте и поцеловать ее всерьез, проклятый телефон вновь разразился трелью. Вилим Александрович, мысленно чертыхаясь, снял трубку.
Звонивший ему немедленно представился, и от этого представления у Мошкина на мгновение перехватило дух. А, закончив представление, его собеседник сообщил торжественным, левитановским голосом:
– Господин, Мошкин, Вас желает видеть господин Президент Российской Федерации! Машина за Вами уже отправлена.
Вилим Александрович замер с трубкой в руках. От растерянности тупо уставился в потолок. Там, на потолке, видимые только ему одному, горели синие буквы: «Виля, не делай глупостей!» И подпись: «Павел Миронович Булавинов».
Тра-та-та, тра-та-та! Мы везем с собой кота! Ехали и пели, Довезли и съели!«№;%?%:?*(()№;%:,!!!()0!!!!»»№;;%!787849590№;%;??**-=+_*)()*?:3478569060х№»;=-689
STOP…

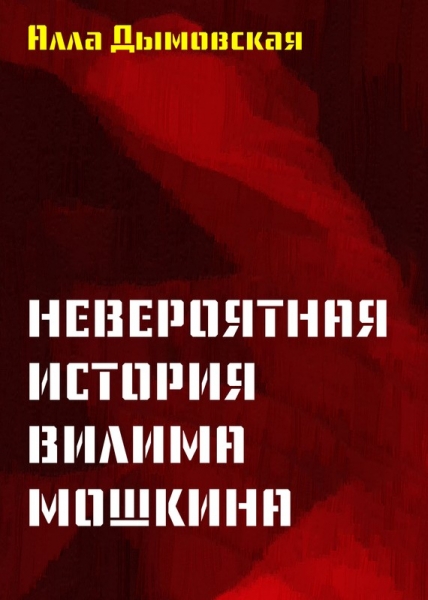


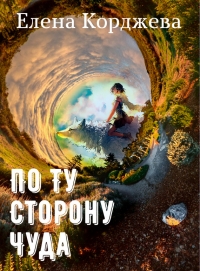
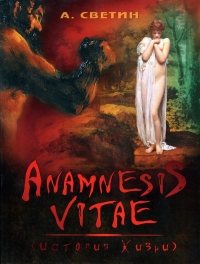





Комментарии к книге «Невероятная история Вилима Мошкина», Алла Дымовская
Всего 0 комментариев