Роберт Беннетт Город лестниц
Robert Jackson Bennett
City of Stairs
Copyright © 2014 by Robert Jackson Bennett. All rights reserved.
© Марина Осипова, перевод, 2015
© Дарья Кузнецова, иллюстрация, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *
Посвящается Эшли, которая помогает мне верить в лучшее будущее
Это художественное произведение. Имена, персонажи и события вымышлены, все совпадения с реальными людьми, событиями и местами случайны.
И сказала им Олвос: «Зачем вы сделали это, дети мои? Почему небо скрылось за клубами дыма? Зачем вы отправились на войну в далекие страны и пролили кровь в чужих землях?»
И они ответили Ей: «Ты сказала, что мы народ Твой, и на нас Твое благословение, и возрадовались мы в сердце своем, и умножилось наше счастье. Однако увидели мы неких людей не из Твоего народа, жестоковыйных и невежественных, и не захотели они пойти под руку Твою. Не пожелали они открыть слух свой для Твоих песен и положить слова Твои себе на язык. И тогда приступили мы к ним, и сбросили их со скал, и обрушили жилища их, и пролили их кровь, и развеяли их по ветру, и праведны были наши деяния. Ибо мы – избранный народ Твой, и на нас Твое благословение. Мы Твои, и через это облечены праведностью. Разве не таково слово Твое, данное нам в прошлом?»
И Олвос ничего не ответила.
Книга Красного Лотоса, часть IV, 13.51–13.59
Злейший себя
– …В таком случае, полагаю, – заявляет Василий Ярославцев, – речь должна идти о наличии умысла! Не правда ли? Я прекрасно понимаю, что суд может не согласиться со мной – этот суд всегда выносил решение исходя из последствий поступков, а не намерений ответчика, – однако все же спрошу: неужели вы наложите столь существенный штраф на честного, скромного предпринимателя – и за что?! За непреднамеренное причинение вреда? Да еще и столь… мгм… абстрактного, с позволения сказать, характера?
Гулкий кашель в зале прерывает напряженное молчание. Из окна видно, как тени облаков бегут по стенам Мирграда.
Губернатор Турин Мулагеш хочет печально вздохнуть, но не решается. И смотрит на часы. «Гражданин определенно в ударе, – думает она. – Еще шесть минут – и он побьет рекорд предыдущего говоруна…»
– И вот мои свидетели! Мои друзья… – начинает перечислять Ярославцев, – …соседи, работники, близкие, мои кредиторы наконец! Эти люди прекрасно меня знают – зачем им лгать? И они раз за разом повторяли: это просто стечение обстоятельств. Неприятное – безусловно! Но совершенно случайное!
Мулагеш косится в сторону стола, за которым расположились члены Высокого суда. Прокурор Джиндаш с очень серьезным лицом сосредоточенно обрисовывает собственную руку на бланке Министерства иностранных дел. Слева от нее Главный дипломат Труни пристально разглядывает весьма объемные прелести девушки в первом ряду. Рядом с Труни, в самом конце стола, пустует кресло, в котором положено сидеть приглашенному профессору доктору Ефрему Панъюю. Впрочем, профессор в последнее время нечасто тут появлялся. И хорошо, и отлично! Потому что присутствие профессора Панъюя в этом зале – да что там говорить, в самой этой проклятой стране! – сплошная головная боль для губернатора Мулагеш. Да.
– Я призываю Высокий суд, – и тут Ярославцев отважно колотит по столу, – к здравомыслию!
«Надо бы приискать кого другого, – мрачно думает Мулагеш, – чтоб вместо меня сюда таскался». Пустые мечты… Как губернатор полиса Мирград, столицы Континента, она обязана председательствовать на всех судебных заседаниях. Даже на таких дурацких.
– Общеизвестно – и вы обязаны принять это во внимание! – что я никогда не имел никакого на-ме-ре-ния! Я вообще думать не думал, что знак, висевший перед моей лавкой, имеет… словом, имеет ту природу, которую имеет!
В зале поднимается ропот – все прекрасно понимают, что хочет, но не может сказать Ярославцев. Труни поглаживает бороду и подается вперед: девица в первом ряду скрестила ноги. Джиндаш раскрашивает ногти нарисованной руки. Мулагеш быстро оглядывает толпу, привычно выделяя болезных и увечных: мальчик на костылях – рахит, женщина с коростой на лице – ветряная оспа, а что с человеком, что приткнулся в углу? Ладно, будем надеяться, что это просто грязь. Хотя… Так, нет, пусть это будет грязь. Ярославцев один из немногих континентцев, кто добился хоть небольшого, но успеха в жизни – он может позволить себе жилье с водопроводом. Так что в его лице мы наблюдаем отмытого от грязи представителя континентальной расы: бледнокожего, с грубыми чертами лица и темными глазами. Мужчины все как один заросшие бородищами – смотреть страшно. Мулагеш и остальные сайпурцы являют собой полную противоположность континентальному типу: невысокие, тонкие в кости, смуглые, с длинноватыми носами и узкими подбородками. И привычные к более теплому климату – вот почему Труни кутается в эту нелепую медвежью шубу! Ах, солнечный Сайпур за Южными морями, как до тебя далеко…
В какой-то степени – причем в самой малой! – Мулагеш может понять равнодушие судей: Континент – жуткая отсталая дыра. Даже не так: Континент – упорствующая в своей отсталости дыра. Мрак и ужас. И зачем мы их оккупировали? Нищая, убогая страна… нет, понятно, зачем оккупировали, более того, у Сайпура о-оочень уважительные причины для этого… «Кстати, а почему мы все еще зовемся оккупантами? – вдруг задумывается Мулагеш. – Мы здесь уже сколько? Семьдесят пять лет? Интересно, когда нас местные за своих признают…» Однако попробуй подойти к кому-нибудь прям в этом зале и сказать: вот, на тебе денег, пойди купи лекарств и вымойся! Так нет же, континентцы тебе скорее в руку плюнут. От сайпурца им и медного гроша не надо.
И Мулагеш понимает, почему сайпурцев так презирают. Сейчас местные все сплошь бедняки и нищие, но когда-то континентцы были самой опасной, самой грозной на свете человеческой расой. «И они это прекрасно помнят, – думает Мулагеш, замечая, как кто-то смотрит на нее из зала с нескрываемой ненавистью. – Вот почему они нас так ненавидят…»
И тут Ярославцев собирается с духом.
«Так. Начина-ааается», – обреченно думает Мулагеш.
– У меня не было намерений, – четко и ясно выговаривает он, – придать моей вывеске сходство с талисманом какого-либо Божества, знаком небесной власти или сигилой какого-либо бога!
В зале тут же зашептались и зароптали – пока негромко. На Мулагеш и остальных сайпурцев эта пафосная речь не производит, впрочем, ровно никакого впечатления.
– Они что, не знают? – шипит Джиндаш. – Нам на каждом заседании по нарушениям Светских Установлений такое говорят! Сколько можно!
– Тихо, – шепчет в ответ Мулагеш.
Ярославцев понимает, что только что нарушил закон перед лицом власть предержащих, и это его воодушевляет.
– Да! Я не имел намерений выказать преданность какому-либо Божеству! Я вообще ничего – слышите? Ничего! – не знаю ни о каких Божествах! Не знаю, кем и чем они были…
Мулагеш хочет закатить глаза, но вовремя останавливается. Ну конечно. Так мы вам и поверили, господин Ярославцев. Да каждый – слышите! каждый! – континентец знает хоть что-нибудь о Божествах. А говорить, что не знает, – все равно что спорить с тем, что дождь – мокрый.
– …И поэтому я не мог знать и предполагать, что знак, который я вывесил над своим магазином дамских шляпок, имеет сходство – совершенно случайное, заметьте! – с божественной сигилой!
В зале вдруг повисает молчание. Мулагеш поднимает взгляд: ах, вот оно что, Ярославцев просто закончил свою речь.
– У вас все, господин Ярославцев? – спрашивает она.
Тот явно колеблется:
– Ммм… э-э-э… да? Хотя… да, да. Пожалуй, все.
– Благодарю. Можете присесть.
Слово берет прокурор Джиндаш. И выставляет на всеобщее обозрение фотографию вывески «Шляпы от Ярославцева». А под буквами четко виден довольно большой знак: прямая линия с причудливой завитушкой на конце – при желании в ней можно увидеть поля шляпы.
Джиндаш разворачивается на каблуках лицом к залу:
– Это ваша вывеска, господин Ярославтсев?
Джиндаш коверкает фамилию, причем вряд ли специально: просто все эти континентальные имена – они же непроизносимые. Все эти «-цевы», «-чевы» и прочие «-овы» – поди их различи. Нет, если больше десяти лет, как Мулагеш, здесь прожил, все нормально, – но Джиндаш не жил здесь десять лет.
– Д-да, – отвечает Ярославцев.
– Благодарю.
И Джиндаш демонстрирует изображение судьям и всем присутствующим в зале.
– Прошу суд отметить, что господин Ярославцев признал, что эта вывеска – да, именно эта вывеска – принадлежит ему.
ГД Труни многозначительно кивает. Континентцы в зале тревожно перешептываются. Джиндаш открывает свой дипломат с видом фокусника, готовящегося вытащить из шляпы кролика, – и Мулагеш морщится: клоун отвратительный, поганец, и зачем его назначили сюда, в Мирград… Прокурор тем временем вынимает из чемоданчика печатный оттиск с похожим знаком: прямая линия, внизу завитушка. Но на этом рисунке линия и завитушка туго сплетены из виноградных лоз – вон внизу даже листики видны.
При виде знака зрители дружно ахают. Кто-то порывается осенить себя священным знамением, но вовремя спохватывается – они же все-таки в зале суда. Ярославцев вздрагивает и съеживается.
Труни фыркает:
– Ничего они не знают о Божествах, как же…
– Если бы достопочтенный доктор Ефрем Панъюй присутствовал на этом заседании, – и Джиндаш указывает на пустое кресло рядом с Труни, – он бы без труда опознал бы в этом рисунке священный знак Божества… ах, прошу прощения, покойного Божества…
В зале поднимается сердитый ропот, и Мулагеш мысленно помечает: при любом удобном случае наградить этого высокомерного сукина сына переводом куда-нибудь подальше. И похолоднее. И чтобы крысы кругом бегали.
Джиндаш заканчивает фразу:
– …известного как Аханас. Данная сигила, по мнению континентцев, способствовала плодородию, плодовитости и придавала жизненных сил. Помещенная же на вывеску, она служила косвенным знаком того, что шляпы из этого магазина способны наделить покупателя подобными качествами. И хотя господин Ярославцев может опротестовать это, я узнал от его поверенных, что дело его резко пошло вверх, после того как над магазином была помещена эта вывеска! Судите сами: квартальная прибыль выросла на двадцать три процента! Вы только представьте себе…
Джиндаш кладет рисунок на стол и показывает два пальца на одной руке и три на другой:
– Двадцать. Три. Процента. Каково?!
– Ах ты ж батюшки! – качает головой Труни.
Мулагеш в замешательстве закрывает лицо ладонью.
– Но как вы?.. – лепечет Ярославцев.
– Простите, господин Ярославцев, – цедит Джиндаш, – но сейчас моя очередь говорить, не правда ли? Именно. Так вот о чем бишь я. Светские Установления, принятые Сайпурским парламентом в 1650 году, прямо запрещают и объявляют вне закона любое публичное признание существования божественного на Континенте. Любое публичное признание – намеки и косвенные упоминания тоже. Никаких исключений! Произнести имя Божества вслух – точно такое же нарушение закона, как упасть на колени посреди улицы, выкрикивая молитвы! Любое подобное действие считается нарушением Светских Установлений и неотвратимо влечет за собой наказание. Что же до нашего дела, то существенное увеличение прибыли прямо доказывает, что господин Ярославцев повесил этот знак, осознавая, что делает, а следовательно, преднамеренно!
– Это ложь! – выкрикивает Ярославцев.
– Господин Ярославцев был прекрасно осведомлен о божественной природе этого знака. И совершенно неважно, что Божество, соотносимое с этой сигилой, признано мертвым. Совершенно неважно, что эта сигила, естественно, не обладала никакими особыми свойствами и не могла наделить никого и ничего никакими качествами. Важно, что умысел в данном случае – налицо. И потому действия господина Ярославцева квалифицируются как нарушение, влекущее за собой наложение штрафа… – тут Джиндаш сверяется со своими записями, – …в пятнадцать тысяч дрекелей.
Толпа в зале угрожающе ворочается, ропот переходит в низкое злое ворчание.
Ярославцев шипит, брызгая слюной:
– Вы… не имеете права… как же так!
Джиндаш гордо шествует к своему креслу и опускается в него. И оборачивается к Мулагеш с гордой улыбкой. Вот так бы взяла и врезала ему кулаком по физиономии…
Как бы хотелось обойтись без этой трескотни и показухи! Дела о нарушении Светских Установлений очень редко доходят до суда – не чаще, чем раз в пять месяцев. Обычно в таких случаях ответчик предпочитает иметь дело с губернаторскими чиновниками. Но иногда… о, иногда ответчика посещает невероятная уверенность в себе. И в своей правоте. И тогда он идет в суд. И каждый раз итогом оказывается нелепый спектакль.
Мулагеш оглядывает набитый битком зал – даже за скамьями у стены люди стоят. На что любуются? Это же скучное разбирательство по дурацкому муниципальному иску! Как в театр пришли, понимаешь…
Хотя нет – какой театр? Они пришли не на суд посмотреть. И Мулагеш смотрит в сторону пустующего кресла доктора Ефрема Панъюя. Они пришли посмотреть на человека, от которого у нее сплошные проблемы…
Так или иначе, если дело о нарушении Светских Установлений доходит до суда, ответчик почти всегда проигрывает. За двадцать лет, пока она тут губернаторствует, Мулагеш всего три раза вынесла оправдательный приговор. А все почему? Потому что сайпурские законы делают из этих людей преступников. А они просто живут, как привыкли…
Мулагеш покашливает, прочищая горло.
– Обвинение представило свои доказательства. Господин Ярославцев, вам предоставляется возможность опровергнуть сказанное.
– Но… но это… это нечестно! – сердито заявляет Ярославцев. – Выходит, вам можно рассуждать о наших сигилах, а нам нет? Это наши сигилы, знаки наших богов, между прочим! Наши, а не ваши! Почему мы должны молчать?!
– Штаб-квартира губернатора полиса, – и Джиндаш широким жестом обводит зал, – с точки зрения закона является территорией Сайпура. Она не подпадает под действие Светских Установлений, применяемых только на Континенте.
– Но это… это возмутительно! Нет, это даже не возмутительно… это… это ересь! Самая натуральная ересь!
И Ярославцев вскакивает.
В зале суда повисает мертвая тишина. Все изумленно таращатся на Ярославцева.
«Отлично, – думает Мулагеш. – Только публичных выступлений против властей нам и не хватало».
– Вы не имеете права так поступать с нами, – упорно продолжает Ярославцев. – Вы уничтожаете все, связанное с Божественным! Произведения искусства, книги – вы людей арестовываете за простое упоминание имени!..
– Мы здесь собрались не для того, – строго прерывает его Джиндаш, – чтобы обсуждать законы или историю.
– Нет уж позвольте! Мы будем обсуждать здесь историю, потому что ваши Светские Установления отказывают нам в праве знать ее! Я… да я раньше никогда не видел знак, что вы сейчас показывали, знак… знак…
– Знак вашего Божества, – безжалостно заканчивает Джиндаш. – По имени Аханас.
Мулагеш видит в зале двух Отцов Города – так в Мирграде называют членов городского совета. Почтенные мужи смотрят на Джиндаша, в их взглядах читается холодная ненависть.
– Да! – восклицает Ярославцев. – А почему я не видел этого знака? Потому что его запретили! А ведь она была нашей богиней! Нашей!
Присутствующие оборачиваются на охранников у дверей зала – видно, думают, что те сейчас кинутся на Ярославцева и изрубят в куски.
– Вы что, хотите эти доводы привести в качестве опровержения? – усмехается Труни.
– А вы… вы позволили этому человеку… – и Ярославцев упирает обвиняющий перст в пустое кресло доктора Ефрема Панъюя, – …приехать в нашу страну и прочитать все наши легенды, все наши сказания… изучить нашу историю – которой мы сами не знаем! Не знаем, потому что вы нам запретили!
Мулагеш морщится: ну естественно. Этого следовало ожидать.
Нет, понятно, что на часах мировой истории возраст Сайпура как сверхдержавы исчисляется в минутах. А до Великой Войны в течение многих веков Сайпур был колонией Континента. Точнее, Божеств Континента, которые его завоевали и удерживали под своей властью. И в Мирграде этого не забыли – иначе с чего бы Отцы Города ворчат: мол, что за времена настали, господа прислуживают слугам. Понятно, что не на публике ворчат, но все равно…
И, надо сказать, Министерство иностранных дел проявило вопиющую некомпетентность и удивительную халатность, когда проигнорировало все сообщения о напряженной обстановке и позволило достопочтенному доктору Панъюю прибыть сюда, в Мирград, с целью изучения древней истории Континента – той самой истории, которую континентцы по закону лишены права изучать. А ведь Мулагеш писала в Министерство: прибытие профессора вызовет протесты общественности. И все случилось как она и предсказывала: пребывание доктора Панъюя в Мирграде менее всего походило на визит, предпринятый во имя миролюбия и взаимопонимания; пришлось разбираться с протестами, угрозами и даже одним нападением – если можно было таковым назвать случай, когда кто-то бросил в доктора Панъюя камень, но случайно попал в полицейского, прямо по подбородку.
– Этот человек, – упорно продолжает Ярославцев, тыча перстом указующим в пустое кресло, – самим своим присутствием оскорбляет Мирград и весь Континент! Этот человек – живое подтверждение тому, что Сайпур презирает нас и не считает нужным считаться с нами!
– Так-так, – хмурится Труни. – Это уж слишком, вы не находите?
– Почему он читает то, что нам читать непозволительно?! – злится Ярославцев. – Он читает книги, написанные нашими предками! Дедами и прадедами!
– Он читает эти книги, потому что у него есть разрешение, – строго отвечает Джиндаш. – Разрешение Министерства иностранных дел. Профессор находится здесь с дипломатическим визитом в качестве посланника, если хотите. И какое все это имеет отношение к судебному…
– Думаете, выиграли войну и можете делать все, что хотите?! Так нет же! – выкрикивает Ярославцев. – Мы проиграли, да, но вы не смеете лишать нас нашего наследия! Руки прочь от наших культурных ценностей!
– Задай им жару, Василий! – выкрикивает кто-то из задних рядов.
Мулагеш хватается за свой молоток и колотит по столу. В зале мгновенно воцаряется тишина.
– Господин Ярославцев, могу ли я считать, что вы закончили приводить опровержения доводов обвинения? – устало спрашивает она.
– Я… я считаю этот суд незаконным! – хрипло выкрикивает тот.
– Принято к сведению. Главный дипломат Труни, каков будет ваш вердикт?
– О-о-о, виновен, – усмехается Труни. – Очень и очень виновен, просто до невозможности виновен.
Все взгляды в зале устремляются на Мулагеш. Ярославцев горько качает головой, губы беззвучно шепчут: нет, нет, нет…
Перекурить бы.
– Господин Ярославцев, – четко произносит она. – Если бы вы отказались оспаривать предъявленное вам обвинение, вам был бы назначен существенно меньший штраф. Однако, несмотря на рекомендацию суда и – заметьте! – данный лично мною совет, вы потребовали публичного рассмотрения дела. Полагаю, вы понимаете, что в данном деле обвинение предъявило исчерпывающие доказательства вашей виновности. Как правильно отметил прокурор Джиндаш, мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать историю. Мы имеем дело с последствиями исторических событий прошлого, и не нам их менять. Поэтому я с глубочайшим сожалением вынуждена…
Гулко бухает входная дверь. К ней одновременно поворачиваются семьдесят два человека.
На пороге стоит маленький сайпурец. Видно, что ему очень не по себе. И еще он очень встревожен. Мулагеш знает его: Питри как-то там, из посольства, мелкая сошка у Труни на побегушках.
Питри сглатывает и жалобно семенит через весь зал к расположившимся в креслах судьям.
– И что? – сердито говорит Мулагеш. – Вы в курсе, что прервали заседание суда? Надеюсь, у вас уважительная причина!
Питри протягивает руку. В руке у него записка. Мулагеш берет ее, разворачивает и читает:
«ТЕЛО ЕФРЕМА ПАНЪЮЯ НАЙДЕНО В ЕГО КАБИНЕТЕ В МИРГРАДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ПОХОЖЕ, ЕГО УБИЛИ».
Мулагеш поднимает глаза и смотрит в зал. Зал смотрит на нее.
Пора заканчивать с этим фарсом. Теперь всем точно будет не до дурацких судебных заседаний…
Она откашливается:
– Господин Ярославцев… В свете только что случившегося я вынуждена пересмотреть отношение к вашему делу.
Джиндаш и Труни одновременно восклицают:
– Что такое?
Ярославцев хмурится:
– Что такое?
– Можете ли вы сказать, господин Ярославцев, что извлекли должный урок из случившегося? – четко выговаривает Мулагеш.
В зал осторожно просачиваются два континентца. Они проталкиваются к стоящим в толпе знакомым, шепчут на ухо. Вскоре весь зал оживленно переговаривается.
– … убит?.. – громко переспрашивает кто-то.
– У-урок?.. – повторяет Ярославцев.
– Я спрошу без обиняков, господин Ярославцев, – ровно говорит Мулагеш. – Вы ведь не дурак, правда? Вы ведь больше не будете вешать над лавкой божественную сигилу, чтобы привлечь покупателей?
– Что вы делаете? – шипит Джиндаш.
Мулагеш отдает ему записку. Джиндаш пробегает ее глазами и заметно бледнеет.
– О нет… Во имя всех морей, нет…
– …забили до смерти! – громко сообщает кто-то в зале.
Весь Мирград уже в курсе. Естественно.
– Я… нет, – выходит из оцепенения Ярославцев. – Я… конечно… нет, я не буду, что вы?
Записку читает Труни, ахает и в ужасе оборачивается к пустому креслу доктора Панъюя, словно ожидая увидеть там труп безвременно почившего профессора.
– Я удовлетворена вашим ответом, – громко произносит Мулагеш и стучит молотком. – В таком случае как председатель суда я объявляю высказанное достопочтенным Главным дипломатом Труни мнение несущественным и закрываю ваше дело. Вы можете покинуть зал.
– Да? Правда могу? – изумленно переспрашивает Ярославцев.
– Правда можете, – чеканит Мулагеш. – И я бы на вашем месте немедленно воспользовалась этой возможностью. Немедленно – значит очень быстро, прямо руки в ноги, господин Ярославцев.
Люди в зале не скрывают своей радости. Кто-то кричит во всю глотку:
– Он мертв! Воистину, он мертв! О, славная победа!
Джиндаш оседает в кресле, словно из него выдернули позвоночник.
– И что же нам теперь делать? – в ужасе бормочет Труни.
В толпе кто-то причитает:
– Нет! Нет! Подумайте сами! Кого они теперь пришлют?
Кто-то орет в ответ:
– Да кому какое дело!
– Вы что, не понимаете?! – отвечает тот же плаксивый голос. – Они снова нападут! Опять война, оккупация, понимаете?! Они возьмут злейших себя и займут его место!
Мулагеш откладывает судейский молоток и с облегченным вздохом закуривает.
* * *
Питри мнется и не находит себе места. Вот как у них это получается, а? Как у жителей Мирграда получается спокойно посиживать рядом со стенами и даже жить рядом с ними? Ведь каждый же день поднимаешь жалюзи или там шторы раздвигаешь, выглядываешь из окошка – а они тут! И как они с ума не сходят?..
Питри пытается не смотреть туда. Он смотрит на часы – ага, на пять минут отстают и скоро отстанут на шесть, на семь и так далее… Питри разглядывает свои ногти – вроде все нормально, вот только на мизинце ноготь какой-то сморщенный, какая досада. Питри даже станционного смотрителя разглядывает – а тот злобно таращится в ответ. А потом Питри все-таки не выдерживает и… делает это. Быстренько, воровато смотрит влево. На восток. Там стены. Стоят и поджидают, когда Питри на них посмотрит.
Дело даже не в их размере. Хотя и в размере тоже – поди ж ты какие громадины. Дело в том, что вот он смотрит вверх, вверх – кончаются же они где-то, есть же у них верх, правда? – так вот Питри смотрит на них, и… и… в общем, в какой-то момент он их больше… не видит. Не видит стен. Вместо них проступают очертания далеких холмов, взблескивают звезды, ночной ветер качает деревья. И этот ночной пейзаж просматривается сквозь стены как сквозь мутное стекло, гадательно. И вообще, у всех нормальных стен есть верх, да? Так вот у этих – нет. Нет верха. Зубцов. Нету ничего. Там только ночное небо и толстая, довольная морда луны. А вот если смотреть не на стены, а вдоль них – о, совсем другое дело! Глаз выхватывает их плавный изгиб, очертания постепенно сгущаются, и Питри прекрасно видит домики и полуразвалившиеся здания, а где-то через сто ярдов свет городских фонарей отражается в гладкой ровной стене, как в огромном зеркале.
А если б он подходил к городу и приблизился к стенам, увидел бы просто камень. Обычный белый камень. Вот такое вот трогательное проявление заботы: существа, воздвигшие эти укрепления, хотели уберечь город от врага и в то же время не лишать его жителей рассветов и закатов. Вроде бы ничего опасного и страшного, милое такое чудо, а Питри все равно тревожится и трясется. С чего, спрашивается? Однако ж такова обычная реакция сайпурца на чудесное…
Питри снова взглядывает на часы и подсчитывает, сколько минут прошло. Поезд опаздывает? Все-таки это не совсем обычный поезд. Может, они всегда опаздывают? А может, это вообще поезда вне расписания. Да. А может, тот, кто управляет этим поездом, не в курсе, что получена официальная телеграмма, а в ней черным по белому написано: «В 3.00 утра». А ведь он, Питри, тоже лицо официальное, да! И он очень серьезно относится к этому очень серьезному тайному заданию! А может, всем просто плевать, что где-то на платформе ждет поезда человек, и человеку этому холодно, голодно и вообще страшно смотреть на эти стены. И станционный смотритель таращится так, словно убить хочет! И зенки какие страшные – бледно-голубые, брррр…
Питри горько вздыхает. Если бы он сейчас умирал и видел перед глазами всю прошлую жизнь до этого самого момента, до чего скучное вышло бы зрелище. Он-то думал, что назначение в сайпурское посольство – о-го-го-го какая интересная работа! Мир повидать, опять же, хотелось. Экзотические страны посмотреть. Ну и с экзотическими красотками познакомиться, не без этого. А что вышло? Вышло, что чего ни вспомнишь – Питри стоит и ждет. Он ведь кто? Ассистент помощника администратора посольства. И в качестве такового Питри выучился ждать, что ничего нового и волнующего не будет, а будет лишь новое и совершенно не волнующее, и будет он стоять и смотреть, как минутная стрелка проворачивается в циферблате, как рычаг в моторе машины, которая не желает заводиться… Еще он понял, зачем помощникам нужны младшие помощники: чтобы сгружать на них убийственно скучные мелкие дела, которыми полнится день чиновника.
Питри смотрит на часы. Сколько прошло? Двадцать минут?.. Изо рта вырывается мутное облачко пара. Во имя всех морей, ну и работа у него…
Может, попросить о переводе? А что, для сайпурца на Континенте открывается не так уж и мало возможностей: территория разделена на четыре региона, которыми управляют региональные губернаторы, им подчинены губернаторы полисов, которые, в свою очередь, управляют большими городами Континента, а им подчиняются посольства, которые… кстати, а вот, чем занимаются посольства, Питри пока так и не понял. Чем-то таким с культурой связанным. Вот почему столько народу всегда задействовано…
Станционный смотритель выдвигается из своей комнатки и занимает позицию у края платформы. Оборачивается и смотрит на Питри, тот в ответ кивает и улыбается. Смотритель окидывает медленным мрачным взглядом тюрбан Питри и его короткую темную бородку и мрачно же сопит: за версту шалотником пахнет! И, напоследок смерив Питри уничтожающим взглядом – мол, смотри мне, только попробуй что-нить здесь стянуть! – поворачивается и уходит обратно в тепло. Можно подумать, на этой безлюдной платформе можно что-то украсть.
Как же они нас ненавидят! С другой стороны, ну да, ненавидят. Вот к этому, кстати, он успел привыкнуть, хотя не так уж и долго прослужил в посольстве. Мы велели им все забыть, но разве можно такое забыть? Нет уж, ни нам, ни им – да вообще никому! – такое не под силу.
И все-таки раньше Питри недооценивал природу этой ненависти. Он ее толком не понимал, пока сюда не приехал и все своими глазами не увидел: все эти ободранные стены и витрины магазинов, фасады, с которых сколотили барельефы и убрали статуи, толпы людей, заполняющие улицы Мирграда в определенные часы дня, чтобы побродить туда-сюда, – эти люди как будто знали, что пришло время почтить… в общем, почтить и уважить кого-то, но сделать ничего не могли и потому просто толпились. А еще он постоянно натыкался в городе на площади с круговым движением и тупики, где когда-то что-то стояло, – это чувствовалось кожей. Прежде здесь возвышалась грандиозная статуя, или часовня, полная запаха ладана, – а теперь все, ничего не осталось. Замостили камнем и воткнули фонарь. Или разбили чахлый муниципальный сквер. Или скамейку поставили.
В Сайпуре все абсолютно уверены в том, что за семьдесят пять лет Светские Установления радикально изменили на Континенте все. И местные смирились и свыклись с новой жизнью. Но здесь, в Мирграде, Питри явственно ощутил, что, конечно, кое-что поменялось: естественно, никто из жителей Мирграда более не упоминал, не чтил и не признавал существование Божественного ни в каком из его аспектов. Во всяком случае, вслух не упоминал. А на самом деле Светские Установления обернулись полным пшиком.
Город все помнит. И все знает. Прошлое вошло в его кровь и плоть и ныне разговаривает умолчаниями с теми, кто имеет уши и слышит.
Питри ежится. Холодно.
Впрочем, ему не очень-то хочется снова оказаться в посольстве, где все так и бурлит от беспокойства и суматохи, вызванных убийством доктора Ефрема Панъюя. Телеграфы выплевывают бумаги, словно пьяницы, блюющие на пороге бара. Неустанно брякают и звякают телефоны. Между дверями снуют секретарши, с жестокостью сорокопутов нанизывая бумаги на железные штыри.
Но одна-единственная телеграмма заставила всех замереть, как статуи:
«К-ПОС ТИВАНИ МИРГРАД ВОКЗАЛ ИМ. МОРОВА ПРИБЫТИЕ 3.00 ШКРГ512»
Судя по коду в конце телеграммы, прибыла она не от губернатора полиса, а из штаб-квартиры самого регионального губернатора. А это, чтобы вы знали, единственное место, где есть прямая связь с Сайпуром. А еще секретарша Департамента связи, трясясь от ужаса, сообщила, что туда телеграмму наверняка прислали аж из-за Южных морей из самого Министерства иностранных дел.
Тут все жарко заспорили, кто должен встречать этого загадочного Тивани, – ведь его же явно послали отыскать и примерно наказать виновных в смерти профессора! А как же иначе, Сайпур ведь должен отмстить за лучшего из своих сынов! Разве предпринятые профессором разыскания не должны были стать прорывом в науке? И тут все быстренько решили, что встречать гостя должен Питри. Потому что он молодой и приятный в обхождении. А возразить Питри не мог, потому что в комнате его как раз не было.
А потом все стали обсуждать непонятное «к-пос», в смысле «культурный посол». С чего бы им посылать сюда такую мелкую сошку? Ведь все знают: на эту должность набирают чуть ли не студентиков, зеленую молодежь с завиральными идеями насчет того, что, мол, надо изучать чужую культуру и историю. Уважающие себя сайпурцы из метрополии такого образа мыслей чурались. Обычно эти КП служили всего лишь украшением на приемах и праздниках. Так с чего бы теперь засылать одного из них в самую гущу крупнейшего дипломатического скандала нашего времени?
– А вдруг, – решился высказать коллегам свои мысли Питри, – это все никак не связано? Может, это просто совпадение?
– Ну конечно же, это никакое не совпадение! – заявил Нидайин, помощник заведующего Департаментом связи. – Телеграмма пришла буквально через несколько часов после нашего сообщения о случившемся! В Министерстве узнали и отреагировали.
– Но почему КП? Они б еще сантехника прислали. Или арфиста…
– А вдруг, – протянул Нидайин, – этот господин Тивани никакой не культурный посол? Мало ли кто он на самом деле!
– Ты на что это намекаешь? – испугался Питри, и у него нестерпимо зачесалась голова под тюрбаном. – Ты намекаешь, что официальная телеграмма содержит ложные сведения?!
А Нидайин только вздохнул и покачал головой:
– Ох, Питри. И как тебя только в Министерство взяли?
И теперь Питри стоит, мерзнет и мрачно думает: «Ненавижу тебя, Нидайин. Вот увидишь, когда-нибудь я приглашу твою красавицу-девушку на танец, и она без памяти влюбится в меня, и ты придешь домой и наткнешься на нас, мокрых и счастливых, в спальне, и подлое твое сердце пронзит страшная боль!»
Впрочем, что тут думать? Сглупил он, сглупил. Нидайин-то хотел сказать, что у этого Тивани просто удостоверение КП выправлено, а на самом-то деле он тайный секретный агент, под прикрытием работающий на вражеской территории! Такие люди изничтожают врагов родины и в зародыше подавляют сопротивление сайпурским властям, да. Мысленному взору Питри тут же предстает крепко сбитый бородач, крест-накрест перетянутый патронташем со взрывчаткой, в зубах у него тускло блестит кинжал, испробовавший немало крови в темных закоулках… Чем больше Питри о таком думает, тем больше он боится загадочного Тивани. А вдруг он выскочит из вагона подобно огнеглазому джиннифриту и заплюет его, Питри, черным ядом из острозубой пасти?! Очень, очень страшно все и непонятно…
С востока доносится гул. Питри оборачивается к городским стенам – вот оно, крошечное отверстие у самого их подножия. Отсюда оно кажется проточенной червем дырочкой, а на самом деле это туннель в тридцать футов высотой!
В черном зеве тоннеля вспыхивает свет. Следом доносится грохот и скрежет, и из отверстия вырывается поезд.
Хотя какой это поезд – одно название: старый, на ладан дышащий паровоз тащит одинокий хлипкий вагончик. Ни дать ни взять шахтерская вагонетка, в такой только между терриконами кататься. Да уж, неподходящее средство передвижения для дипломата. Даже для культурного посла неподходящее.
А поезд тем временем с лязгом останавливается у платформы. Питри тут же подскакивает к дверям вагона, выпятив грудь и элегантно заложив руки за спину. Как он выглядит? Все пуговицы застегнуты? Тюрбан на сторону не съехал? Эполеты начищены? А кто их знает, может, и нет! И Питри судорожно облизывает палец и принимается натирать золоченое шитье. Тут дверь с диким скрипом отворяется, и там…
Красное. Нет, какое красное – бордовое. Там все бордовое, словно занавеску в проеме повесили. Занавеска сдвигается, и изумленному взгляду Питри предстает что-то длинное, белое и с пуговицами посередине.
Оказывается, это вовсе не занавеска. Это грудь мужчины в темно-бордовом пальто. Да не просто мужчины – а настоящего гиганта, Питри раньше таких видеть и не доводилось!
Гигант распрямляется и выдвигается из вагона. Ноги его бухают по доскам, обрушиваются на дерево подобно жерновам. Питри отшатывается назад – экая громадина! На ногах у незнакомца чудовищного размера черные сапоги, по голенищам их метет длинное бордовое пальто, рубашка расстегнута, шейного платка нет и в помине, а на голове красуется широкополая серая шляпа, лихо, по-пиратски, надвинутая на один глаз. Правая рука затянута в мягкую серую перчатку, на левой – только плетеный золотой браслет. Странно, зачем ему женская побрякушка?.. Росту в нем поболее, чем шесть с половиной футов, в спине и в плечах он невероятно широк, но тело поджарое, ни единой унции жира. И лицо худощавое, голодное какое-то. Кстати, о лице – ничего себе внешность у сайпурского посла! Кожа белая, испещренная розовыми шрамами, борода и волосы бледно-золотистые, а глаза – точнее, глаз, ибо глаз у незнакомца один, на месте второго зияет темный, прикрытый веком провал – тоже бледный-бледный, ледяного серого цвета.
Дрейлинг он. Северянин. Как это ни удивительно, но посол оказался дикарем-горцем, чужаком и для Сайпура, и для Континента.
Вот это Министерство отреагировало… И если это действительно их реакция, жди беды…
Гигант окидывает Питри ровным, равнодушным взглядом, словно бы прикидывая: наступить на этого мелкого сайпурца, раздавить как букашку – или повременить?
Питри сгибается в осторожном поклоне:
– Рад видеть вас, посол Тивани, в ч-чудесном городе Мирград! Меня зовут Питри Сутурашни. Надеюсь, вы хорошо доехали?
Молчание.
Застывший в поклоне Питри осторожно приподымает лицо и косится. Гигант разглядывает его, вздернув бровь, удивленно и чуть презрительно.
Откуда-то из-за спины гиганта доносится звук – кто-то прочищает горло. Гигант, ни полслова не говоря, разворачивается и топает к будке станционного смотрителя.
Питри задумчиво чешет в голове и смотрит ему вслед. Покашливание повторяется, и тут до него доходит, что в дверях вагона стоит еще кто-то.
Это маленькая, ростом даже ниже Питри, сайпурка. Темнокожая, очень просто одетая: голубой пиджак и платье – впрочем, платье приметное, сайпурского кроя. На носу у нее очки, и она внимательно смотрит на него через толстенные линзы. На женщине легкий серый плащ, голубая шляпка с узкими полями и бумажной орхидеей на тулье. Какие-то у нее глаза не такие… У гиганта взгляд невероятно спокойный, прямо до дрожи неживой, а у нее все наоборот: глаза большие, темные, они подобны глубоким колодцам, в которых плещутся рыбы.
Тут женщина улыбается. Улыбка у нее не то чтобы приятная или неприятная – она как превосходное серебряное блюдо, которое выставляют по большим праздникам, а потом начищают и убирают в шкаф.
– Благодарю, что встретили меня в такой поздний час, – говорит она.
Питри смотрит на нее, потом на гиганта – тот, кстати, как раз протискивается в будку к смотрителю, и смотритель явно нервничает.
– П-посол Тивани?
Она кивает и сходит на перрон.
Женщина?! Этот загадочный Тивани – женщина?! Но почему же они…
О, будь проклят Департамент связи! Чтоб им провалиться, сплетникам и лгунам!
– Полагаю, что Главный дипломат Труни, – невозмутимо продолжает женщина, – занят ликвидацией последствий убийства? В противном случае он бы встретил меня лично, не правда ли?
– Э-э…
Вообще-то он, Питри, не в курсе того, чем занят ГД Труни. Ему до ГД Труни как до звезд небесных, но не признаваться же в этом вслух?
А она все так же смотрит на него сквозь очки. Медленно смигивает. На Питри накатывает тишина, подобная океанскому приливу, и эта тишина заливает его с головой. Он пытается что-то придумать, что-то сказать – и выдавливает наконец:
– Рад видеть вас в Мирграде!
Нет, нет, неправильно, не так! Но не молчать же? И он глупо договаривает:
– Надеюсь, вы хорошо доехали?
Нет! Что он несет, что он несет!
Она некоторое время молча смотрит на него и наконец произносит:
– Вас зовут Питри, так вы сказали?
– Д-да.
За спиной раздается крик. Питри оборачивается и смотрит на того, кто кричит, а Тивани нет – она продолжает разглядывать Питри, как диковинного жука. А Питри видит, как гигант выдирает у станционного смотрителя из рук какую-то штуку – это какой-то планшет, да. А смотрителю это явно не нравится. Гигант склоняется над ним, снимает с правой руки серую перчатку и разжимает пальцы, показывая… что-то. Смотритель, только что багровый, как свекла, мгновенно бледнеет. Гигант отдирает какую-то бумажку, возвращает планшет смотрителю и выдвигается из будки.
– Кто… это?
– Это мой секретарь, – безмятежно отзывается Тивани. – Сигруд.
Гигант вынимает спичку, чиркает ее о ноготь большого пальца и подпаливает бумажку.
– С-секретарь? – выдавливает Питри.
Пламя лижет пальцы гиганта, но тот ничем не выдает боли. Если он ее вообще чувствует… А когда бумажка окончательно прогорает, он дует на нее. Р-раз – и полетели, полетели огненные бабочки пепла по платформе. Потом гигант натягивает серую перчатку и обводит станцию холодным, спокойным взглядом.
– Да, – отвечает Тивани. – А теперь, если вам нетрудно, не могли бы мы отправиться непосредственно в посольство? Уведомило ли посольство официальных лиц Мирграда о моем прибытии?
– Э-э-э…
– Понятно. Находится ли тело профессора на территории посольства?
У Питри голова идет кругом. А в самом деле, куда девают тело, когда оно умирает? С духом-то все понятно, а вот с телом-то что происходит?
– Понятно, – вздыхает Тивани. – Вы на машине приехали?
Питри кивает.
– Отлично. Идемте же к машине.
Питри снова кивает. А голова все равно идет кругом! И вот он ведет госпожу Тивани через длинные тени перрона в улочку, где стоит машина. И все оборачивается и оборачивается, смотрит и не верит своим глазам.
Это что же, они ее, что ли, сюда прислали?! Вот эту девчонку? Серую мышку с тоненьким голоском? Сюда, в логово врага, оплот ненависти? Ее же к утру сожрут и косточками плюнут…
Даже сейчас, после многолетних разысканий и изучения предметов культуры, мы не в состоянии восстановить их зримый облик. Скульптуры, картины, фрески, барельефы и резные панно либо непоследовательны в их представлении, либо слишком абстрактны. Так, Колкана изображали и как гладкий камень в тени дерева, и как темную гору в свете яркого солнца, и даже как глиняного человека, сидящего на вершине горы. И тем не менее четкие визуальные образы дают нам более ясное представление, чем те, где объекты нашего исследования возникают в виде абстрактных рисунков или цветовых узоров, едва намеченных кистью художника. Так, к примеру, если верить древним живописцам Континента, Божество Жугов являлось в облике стаи скворцов – ни больше ни меньше.
Данные исследований отрывочны, и мы не можем сделать никаких определенных выводов, исходя из этих сведений. Действительно ли запечатленные скульпторами и художниками существа представали перед людьми в таком облике? Или мы имеем дело с ограничениями человеческого восприятия, и произведения древних мастеров свидетельствуют об опыте, отличном от обычного зрительного?
Возможно, жители Континента не были в состоянии полностью осмыслить представавшее их глазам. А теперь, когда Божества мертвы, мы так никогда и не узнаем правды.
Проходит время, и все замолкают – и люди, и вещи. И боги, похоже, не исключение.
Д. Ефрем Панъюй. Искусство Континента: его сущность и особенности
Свет цивилизации
Она едет и смотрит по сторонам.
Она смотрит на полуобрушенные арки, на просевшие, некогда могучие своды, на проржавевшие шпили и путаные улочки. Смотрит на потускневшие ажурные узоры на фасадах, на пестрые изразцы провалившихся куполов, темные от сажи стекла тимпанов, перекошенные, через одно битые окна. Смотрит на людей – худых от недоедания, оборванных, рахитичных. Как они шныряют по длинным галереям, жмутся в тени дверных ниш – нищие города призрачной славы, города сгинувших диковин. Она смотрит и видит то, что ожидала увидеть, и все же… вид унылых развалин тревожит воображение, и оно живо рисует город таким, каким он был семьдесят, восемьдесят, девяносто лет назад…
Мирград. Град, Стеной обнесенный. Святейшая гора. Престол мира. Город лестниц.
Она, кстати, так никогда и не понимала – при чем тут лестницы? Стены, горы, престолы – понятно, звучит величественно. Но лестницы?
А вот теперь Ашара – или просто Шара, как она предпочитает зваться, – наконец понимает, при чем тут лестницы. Ибо они тут повсюду: вьются в воздухе, ведут в никуда, вздымаются огромными холмами, уводя вверх прямо с тротуаров, переплетаются на разной высоте, как ручьи на лесном склоне, нежданно возникают перед глазами, подобно водопадам и белопенным потокам, и буквально через несколько ярдов открывается нежданный и захватывающий вид…
Наверное, это новое имя. Его могли дать только после Войны. После того, когда все… исчезло.
Так вот как выглядит Миг. Точнее, его последствия…
Интересно, куда вели все эти лестницы раньше, до Войны? Явно не туда, куда сейчас. Просто не верится, что она здесь, что она приехала сюда, что это происходит именно с ней…
Мирград. Город Богов.
Она смотрит в окно машины, и перед ней проплывает город – некогда столица мира, а ныне место запустения и погибели. Но жители упорно отказываются покидать его – Мирград до сих пор третий или четвертый город в мире по населенности. Хотя раньше он был гораздо, гораздо больше… И почему они держатся за эти руины? Зачем живут в опустевшем, выпотрошенном городе, среди вечного холода и теней прошлого?
– У вас глаза не болят? – вдруг спрашивает Питри.
– Простите?.. – удивляется Шара.
– Проблем со зрением не возникает, нет? У меня, знаете ли, иногда прям плывет все перед глазами – поначалу-то, когда я только приехал, такое часто случалось. Знаете, смотришь вот так вокруг, и вдруг, в некоторых местах… словом… что-то там не так, в этих местах. И прямо мутит тебя от этого. Говорят, раньше такое сплошь и рядом случалось, а сейчас уже пореже.
– И на что это похоже, Питри? – спрашивает Шара, хотя ответ ей известен: об этом феномене она много, очень много читала. И слышала о нем тоже много.
– На что похоже?.. Даже не знаю, как сказать… Словно бы в стекло смотришь.
– В стекло?
– Нет, ну не в стекло, конечно. А словно бы в окно. Но окно это выходит на какое-то место, а места этого больше нет. Не знаю, как сказать точнее… В общем, увидите – сами все поймете.
Историк в ней борется с оперативником: «Нет, ты только посмотри на эти арки, на названия улиц, на зазубрины на стенах, смотри, вот тут здание волной пошло» – хлопает в ладоши историк. «Наблюдай за людьми, за их походкой, подмечай, как они оглядываются» – это уже оперативник. А улицы, кстати, почитай что пусты – с другой стороны, это логично, время уже за полночь. Здания все низкие, маленькие… Машина выбирается на горку, с нее открывается вид на город – сплошь плоские крыши, жмущиеся к земле дома. И так до самых Стен. Надо же, ни одного высокого здания, как непривычно…
А ведь раньше здесь возносились к небу величественные строения. До Войны. А теперь перед глазами пусто – ни шпиля, ни башни. Неужели все это взяло и исчезло в одно мгновение?
– Вы, наверное, в курсе, – говорит Питри, – но в окрестностях посольства лучше передвигаться на машине. Район вокруг… не самый хороший. Люди говорят, что, когда посольство въехало в здание, народ поприличнее быстренько перебрался в другие районы. Говорят, рядом с шалотниками жить не хотели…
– Ах, ну да… – бормочет Шара. – Я и забыла, что они нас так здесь называют.
Конечно, шалотники, – ведь мы, сайпурцы, этот шалот куда только не кладем! С другой стороны, могли бы и поточнее обзываться: ведь настоящий сайпурец луку-шалоту твердо предпочитает чеснок.
Шара косится на Сигруда. Тот смотрит прямо вперед – во всяком случае, так кажется. Понять, на что смотрит Сигруд в какой-то конкретный момент, обычно нелегко. Он сидит совершенно неподвижно, излучая презрительное равнодушие к окружающим – истукан истуканом. Так или иначе, но зрелище его явно не впечатляет. Мирград ему неинтересен. Очередной город из очередной поездки, угрозы нет, его, Сигруда, вмешательства не требуется. Вот Сигруд и не обращает на город никакого внимания.
Так, надо сосредоточиться – следующие несколько часов обещают быть очень нелегкими. Предстоит разобраться с парой заковыристых дел. А еще Шара пытается прогнать мысль, назойливо бьющуюся в голове со вчерашнего дня. С той самой минуты в Аханастане, когда в ладони ей легла лента телеграфа. Она пытается прогнать эту мысль и не может.
«Бедный мой Ефрем… Как такое могло с тобой случиться?»
* * *
Кабинет ГД Труни похож на обычный чиновничий кабинет в Сайпуре. Вот только обставлен он с крикливой роскошью: жалюзи темного дерева, на полу ковер с цветочным рисунком, светло-синие стены, над столом – медные лампы с яркими плафонами наборного стекла. Со стены свешивает крупные листья родной сайпурский папоротник «слоновье ухо», хрупкие волнистые листья серо-зеленой волной струятся из выстланного мхом вазона. А под папоротником кипит на крохотной свечке чайничек с водой – из носика поднимается струйка пара и увлажняет растение, привычное к тропическому климату. Какая уж тут метизация культур, не говоря о тесном взаимодействии на уровне искусства и науки, ведущем к укреплению межрегиональных связей, – и в помине здесь нет того, о чем так громко заявляют на заседаниях министерских комитетов в далеком Сайпуре.
Однако то, как обставлен этот кабинет, – далеко не самое страшное. Самое страшное висит на стене за письменным столом.
Шара смотрит на стену и не может отвести глаз – гипнотическая притягательность ужасного, ничего не поделаешь. В душе поднимается ярость: как?! Как можно быть таким идиотом?!
Труни размашистым шагом входит в кабинет. Выражение лица у него трагически-мрачное, словно бы это он умер, а не Ефрем.
– Культурный посол Тивани, – приветствует он гостью.
Выставляет вперед левую ногу, вскидывает правое плечо и отвешивает картинно-вежливый поклон:
– Вы оказали нам честь своим визитом, пусть нынешние обстоятельства и омрачают радость от вашего прибытия.
Интересно, какую подготовительную школу он посещал в Сайпуре? Естественно, она ознакомилась с его досье и лишний раз убедилась в том, что бесперспективных в силу своей тупости отпрысков влиятельных семейств распихивают по сайпурским посольствам за границей. А ведь этот глупец уверен, что она из точно такой же семьи, – потому и старается произвести впечатление.
– Пребывание здесь – честь для меня.
– И для нас тоже. Мы…
Тут Труни подымает взгляд и обнаруживает, что в кресле в углу развалился Сигруд. Сидит себе спокойненько и набивает трубку.
– Э-э-э… К-кто это?
– Это Сигруд, – отвечает Шара. – Мой секретарь.
– Его присутствие обязательно?
– Сигруд – мой помощник во всех делах. В том числе конфиденциальных.
Труни внимательно разглядывает его:
– Он глухой? Тупой?
Сигруд косится на него одним глазом. Затем возвращается к своему занятию.
– Ни то ни другое.
– Ну что ж… – говорит Труни. Промакивает лоб платком и берет себя в руки. – Что ж, как вижу, профессор оставил после себя достойную память, – и он усаживается за стол, – если министр Комайд немедленно выслала служащего за его останками. Вы ведь всю ночь провели в дороге?
Шара кивает.
– Батюшки мои, какой ужас! Где чай?! – вдруг ни с того ни с сего орет он. – Где чай, я вас спрашиваю?!
И он хватает со стола колокольчик и звонит, звонит в него с перекошенным лицом, а потом еще и долбит им по столу, требуя немедленного исполнения приказа. В комнату бочком протискивается девушка не более пятнадцати лет от роду, в руках у нее огромный, как линкор, поднос с чаем.
– Ты где запропастилась?! – рявкает он. – Не видишь – у нас гостья!
Девушка испуганно опускает глаза и разливает чай по чашкам. Труни поворачивается к Шаре, словно бы они одни в комнате:
– Я так понимаю, вы были поблизости, в Аханастане? Преотвратный город – во всяком случае, таково мое личное мнение. Там полно чаек, а эти мерзкие птицы – прирожденные воры. А местные берут с них пример!
Небрежным движением двух пальцев он отсылает девушку, которая низко кланяется, прежде чем попятиться к двери.
– Однако же наш долг – принести им свет цивилизации. Я имею в виду – местным, а не чайкам, конечно.
И он счастливо смеется собственной шутке.
– Не хотите ли чаю? Это наш лучший сирлан!
Шара натянуто улыбается и отрицательно качает головой. На самом деле она жить без кофеина не может и многое бы отдала за чашку чаю, но провалиться ей на этом месте, если она примет от ГД Труни хоть что-нибудь.
– Как угодно. В Мирграде – уверен, вы об этом наслышаны, – все по-другому. Кое-что здесь неустанно сопротивляется нашему влиянию, и я имею в виду не только городские стены. Помилуйте, всего три месяца назад губернатору полиса пришлось вмешаться и помешать расправе над женщиной, которая сошлась с другим мужчиной, – прошу прощения, что вынужден говорить о таких неприличных вещах с молодой девушкой, но они хотели повесить эту женщину за то, что она сошлась с другим мужчиной, после того как умер ее муж! Причем этот несчастный муж умер много лет назад! Отцы Города остались глухи к моему мнению, но Мулагеш они… – Тут он осекается: – М-да. Не странно ли, что город, наиболее пострадавший в прошлом, так упорно противится всему новому?
Шара улыбается и кивает:
– Полностью согласна с вами.
Над его плечом висит эта картина, и она прямо-таки притягивает ее взгляд…
– Так, значит, останки доктора Панъюя находятся в этом здании?
– Что? Ах да. – Он пытается прожевать только что откушенный кусок печенья. – Простите… да, да, тело здесь. Какой кошмар! Ужасная трагедия.
– Могу ли я осмотреть его перед отправкой?
– Вы хотите осмотреть останки? Но они… прошу прощения, но труп выглядит, мгм, крайне непрезентабельно.
– Я в курсе обстоятельств его смерти.
– Вот как? А вы в курсе, что это была страшная смерть? Насильственная! Ужасная смерть, девочка моя.
Девочка моя, значит. Ну-ну.
– Мне уже сообщили об этом. Но я должна осмотреть тело.
– Вы уверены?
– Абсолютно.
– Ну что ж… мгм.
И он расплывается в любезнейшей из улыбок.
– Вот что я вам скажу, девочка моя. Я вас очень хорошо понимаю, ибо сам был таким же: молодой КП, патриот своей страны, изображал бурную деятельность в этом политическом цирке… Вы меня понимаете – старался изо всех сил, чтобы меня заметили. Но, поверьте мне, все это впустую. Это как обрывать телефон, когда вас никто не слушает. На другом конце провода просто никого нет. Усвойте это. Министерству попросту не до культурных послов, они никому там не сдались. Это что-то вроде дедовщины, моя дорогая: пока не отслужил свое – не мельтеши. Так что не утруждайте себя лишний раз. Займитесь лучше чем-нибудь более приятным и полезным. Уверен, скоро они пришлют разбираться с этим делом кого-нибудь посерьезнее.
Шара даже не сердится: ярость перекипела и уступила место жалостливому изумлению. Думая над достойным ответом, она обводит глазами комнату – и перед ней опять оказывается эта картина.
Труни примечает, куда она смотрит:
– Ах! Вижу, вам пришлась по душе жемчужина моей коллекции.
И он вальяжно указывает на полотно:
– «Ночь Красных Песков» Ришны. Работа, исполненная подлинно патриотического духа. Не оригинал, к сожалению, копия, но очень старинная. И весьма точная.
Хотя Шаре многажды приходилось видеть эту картину – еще бы, в Сайпуре она висит чуть ли не в каждой школе и ратуше – она, тем не менее, пробуждает в ней мучительное любопытство и смутную тревогу. На картине изображено поле битвы – бескрайние пески ночной пустыни. На ближайшей к зрителю гряде барханов выстроилась немногочисленная и убого экипированная армия сайпурцев. А напротив – впечатляющая стена закованных в броню мечников. На них тяжелые, сверкающие, массивные доспехи, полностью закрывающие тело, забрала шлемов – разевающие в яростном крике пасть демоны, мечи потрясают воображение своей длиной – футов шесть, не меньше, и каждый клинок горит холодным огнем. Словом, глядя на картину, сразу понимаешь: сейчас эти стальные воины врежутся в строй нищих, оборванных сайпурцев и пройдут через него, как нож через масло. И все же что-то испугало этих несгибаемых меченосцев – все взгляды обращены на сайпурца, который стоит на вершине высокого бархана позади строя своих воинов. Храбрец в развевающемся на ветру плаще – предводитель убогого войска, несомненно. И в руках у него странное оружие: ствол длинный и тонкий, хрупкий, как тельце стрекозы, и из дула его вырывается огненный шарик, летящий по дуге над головами вражеских солдат. И крохотный этот снаряд попадает в…
Во… что-то непонятное. Возможно, в человека – только огромного и укрытого тенью. Трудно разглядеть фигуру: возможно, художник и сам не знал, как выглядело то, что он хотел нарисовать.
Шара разглядывает предводителя сайпурцев. Естественно, она в курсе, что картина грешит историческими неточностями: кадж на самом деле стоял перед строем сайпурцев в Ночь Красных Песков, и он не стрелял лично. Он вообще предпочел держаться подальше от оружия. Некоторые историки, насколько она помнит, считают, что это был акт личного мужества, другие полагают, что кадж, на самом-то деле, еще не имел случая применить свое экспериментальное оружие на деле и не знал, чем все закончится – успехом или тотальной неудачей. На случай неудачи он и держался подальше – мало ли что. И тем не менее. Где бы он на самом деле ни стоял, именно в момент того судьбоносного выстрела все и началось.
Так. Довольно вежливости.
– Вы именно в этом кабинете принимаете Отцов Города, посол? – спрашивает Шара.
– Мммм… в смысле? Ах да, конечно.
– Увидев эту картину, они что-нибудь говорили?
– По правде говоря, не припоминаю. Хотя временами они просто застывали, глядя на нее. Я полагаю, от восхищения. Великолепная работа, не находите?
Она улыбается:
– Главный дипломат Труни, знаете ли вы, с какой целью в этот город прибыл профессор Панъюй?
– Э-э-э-э… в смысле… да, конечно, знаю. Переполох поднялся знатный! Он же полез во все эти их пыльные старые музеи, разворошил все эти старинные свитки… Письма так и сыпались. Я даже сохранил некоторые…
И он начинает рыться в ящике стола.
– А вы в курсе, что решение о поездке принимала министр иностранных дел Винья Комайд?
– Да, и что?
– В таком случае вы, должно быть, осознаете, что расследование смерти профессора и ее обстоятельств не входит в сферу полномочий посольства, губернатора полиса и даже регионального губернатора, а осуществляется непосредственно Министерством иностранных дел?
Глазки цвета птичьей неожиданности забегали – задумался, этажи иерархии просчитывает.
– Ну… да, это было бы логично…
– В таком случае имею вам сообщить, – чеканит Шара, – что мое звание культурного посла в данном случае – техническая формальность.
Усы Главного дипломата приходят в судорожное движение. Труни стреляет глазками в Сигруда, словно бы пытаясь удостовериться, правда ли это, но тот неподвижно сидит в кресле, сплетя пальцы.
– Т-техническая формальность?
– Именно. А поскольку, как я вижу, вы склонны считать мое появление в Мирграде чем-то вроде технической формальности, вынуждена вам сообщить, что мой приезд вызван совершенно иными причинами.
И она запускает руку в свою сумочку, вынимает кожаный медальон и пододвигает его к Труни. Тот мгновенно узнает аккуратный оттиск герба Сайпура по центру и скромные буковки по низу: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ.
Увиденное не сразу вмещается Главному дипломату в голову. Потом он выдает ошеломленное:
– Ничесе… м-да.
– Итак, – цедит Шара, – вы теперь в курсе, что перед вами – ваше непосредственное начальство.
И она тянет руку к колокольчику, решительно берет его со стола и оглушительно звонит. В кабинет входит давешняя девушка и явно не знает, как себя вести, потому что вместо босса к ней обращается Шара:
– Бригаду сюда. Немедленно снять и вынести эту картину.
Труни вскипает, брызгая слюной:
– Что? Что вы хотите этим сказать, снять и…
– Я хочу этим сказать, – жестко перебивает его Шара, – что собираюсь придать этому кабинету достойный вид. Чтобы люди входили сюда и видели, что здесь сидит ответственный работник. И начну я непосредственно с этой картины – потому что она представляет в несоответствующем романтическом виде трагический момент истории Континента, за которым последовало грандиозное кровопролитие.
– Еще бы! Между прочим, это великий момент для нашего народа, сударыня…
– Да. Для нашего народа – да. А для их народа – нет. И вот что я вам скажу, господин Труни. Я практически уверена, что причина тому, что Отцы Города не прислушиваются к вашему мнению и не уважают вас, а в последние пять лет – если вы обратили на это внимание! – вы не получили никакого повышения, так вот причина этим неприятностям – только одна! Вы умудрились повесить у себя в кабинете картину, которая оскорбляет и приводит в ярость – да, господин Труни, в ярость! – людей, с которыми вы должны были сотрудничать. Сигруд!
Гигант мгновенно оказывается на ногах.
– Поскольку обслуживающий персонал, похоже, медленно реагирует на команды, которые отдает не господин Труни, на них отреагируешь ты! Немедленно сними со стены эту картину и сломай – да, именно сломай ее! – об колено! И, Труни, – присядьте. Нам нужно обсудить условия вашей отставки.
* * *
Вышвырнув наконец Труни, Шара возвращается к письменному столу, наливает себе большую чашку чая и выпивает ее. До дна. И да, она очень довольна, что картину убрали. Пусть это и непатриотично, но она довольна. И чем дольше она работает на Министерство, тем отвратительней такие проявления шовинизма.
И она поднимает взгляд на Сигруда. Тот заседает в уголке, водрузив ноги на письменный стол. В руках у него обрывок изничтоженного холста.
– Что скажешь? – говорит она. – Я не перегнула палку?
Он отвечает ей красноречивым взглядом: мол, сама-то как думаешь?
– Ну и замечательно, – говорит Шара. – Я даже рада это слышать. Сказать по правде, я получила огромное удовольствие.
Сигруд вежливо откашливается и произносит своим голосом дикаря, голосом дыма и грязи, с акцентом, бьющим по ушам, как кувалда:
– Кто такая Шара Тивани?
– Мало кому известный культурный посол, ее отправили проходить службу в Жугостан шесть лет тому назад. Она погибла – несчастный случай на воде. Но девушка проявила недюжинные бюрократические способности: все инстанции завалены ее отчетами. И когда истек срок ее допуска, и пришло время вычеркнуть ее из ведомостей, я решила не спешить с этим. И воспользовалась ее документами.
– Потому что вы тезки?
– Возможно. Но мы и в другом похожи. Скажи честно: разве я не выгляжу так же? Мелкая серая мышка? Безобидная чинуша-бумагомарака?
Сигруд криво усмехается:
– Никто не поверит, что ты – КП и мышка. Ты же Труни уволила.
– А я и не хочу, чтобы верили. Я хочу, чтобы они не знали что и думать. Беспокоились. Гадали, кто я такая на самом деле.
И она подходит к окну и оглядывает затянутое дымом печных труб небо. Если разворошить гнездо шершней, они вылетают и бросаются на тебя. Но, по крайней мере, у тебя есть шанс разглядеть каждого из этих шершней.
– Ну, если тебе так уж охота, чтобы они вылетели и бросились, – усмехается Сигруд, – назвалась бы своим настоящим именем.
– Я сказала, что хочу разворошить гнездо, а не погибнуть смертью храбрых.
Сигруд насмешливо улыбается и принимается разглядывать обрывок холста.
– Что ты там хочешь увидеть? – удивляется Шара.
И он разворачивает обрывок к ней. Оказывается, это часть картины, на которой изображен кадж: строгий патрицианский профиль, освещенный вспышкой выстрела.
Сигруд гудит:
– Даже я заметил фамильное сходство.
– Прекрати! – рявкает Шара. – И убери это наконец!
Сигруд улыбается, сворачивает обрывок картины и вышвыривает его в мусорную корзину.
– Вот и хорошо, – кивает Шара.
И наливает себе вторую чашку чаю. Все тело ликует.
– Ну что ж, теперь пора браться за дело. Пожалуйста, пригласи сюда Питри.
И, уже тише, добавляет:
– Нам надо осмотреть тело.
* * *
В комнатке жарко, душно, пусто. К счастью, разложение еще не затронуло тело, и здесь не пахнет. Шара смотрит на то, что лежит на койке. На свешивающуюся тонкую ногу. Словно бы Ефрем взял и прилег подремать…
Она не видит своего героя. Не видит щуплого, тихого и милого человека, с которым она когда-то познакомилась. Она видит запекшуюся, ободранную плоть, почти утратившую сходство с человеческим лицом. Конечно, потом она видит что-то знакомое: тонкую, как у птицы, шею, льняной костюм, длинные точеные запястья и пальцы и, конечно, конечно, его нелепые яркие носки… Но это не Ефрем Панъюй. Нет. Не он.
Она касается лацканов пиджака – их как в лапшу нашинковали.
– Что случилось с его одеждой?
Питри, Сигруд и охранник наклоняются посмотреть.
– Простите? – спрашивает охранник.
Поскольку в посольстве нет морга, бренные останки доктора Ефрема Панъюя перенесли в сейфовое хранилище. И теперь они лежат здесь на кушетке, подобно ценному грузу, дожидающемуся официального разрешения на вывоз. Впрочем, в каком-то смысле это так и есть.
– Посмотрите на его одежду, – говорит Шара. – Швы, манжеты – все вспорото. Даже на брюках манжеты – и те взрезали.
– И что?
– Вы получили тело в таком состоянии?
Охранник удостаивает тело подозрительного взгляда:
– Ну мы точно ничего с ним не делали.
– В таком случае это сделала мирградская полиция?
– Ну… наверное… Простите, госпожа, я не очень-то в курсе.
Шара стоит неподвижно. Она, конечно, видела такое раньше. И даже сама проводила досмотр, пару раз точно: чем больше на человеке надето, чем больше на одежде карманов, подкладок, отворотов и манжет, тем проще спрятать конфиденциальные материалы.
И тут, безусловно, напрашивается очевидный вопрос. С чего бы кому-то в Мирграде думать, что историку, прибывшему в город с дипломатической миссией, есть что прятать под манжетой?
– Вы можете идти, – говорит она.
– Что?
– Можете оставить нас.
– Ну… Это хранилище для особо ценных предметов, госпожа. Я не могу вас просто взять и оставить…
Шара поднимает на него глаза. Может, усталость или горе растопили всегдашнюю бесстрастность или усвоенная от поколений предков привычка отдавать приказы дала себя знать – так или иначе, охранник смущенно покашливает, чешет за ухом и быстренько обнаруживает какое-то срочное дело в коридоре.
Питри направляется следом, но она останавливает его:
– Нет, Питри. Ты останься. Пожалуйста.
– Вы уверены?
– Абсолютно. Мне хотелось бы выслушать мнение сотрудника посольства. Пусть и не облеченного особыми… полномочиями.
И она оборачивается к Сигруду:
– Что скажешь?
Сигруд склоняется над худеньким телом. Внимательно осматривает череп – ни дать ни взять эксперт, устанавливающий подлинность картины. К явному неудовольствию Питри, Сигруд поддевает кусочек кожи и разглядывает проломы в черепе.
– Какой-то рабочий инструмент, – выносит он свой вердикт. – Может, гаечный ключ. Что-то с выступами.
– Уверен?
Тот кивает.
– То есть здесь – никаких зацепок?
Сигруд пожимает плечами. Может, никаких. А может, и есть какие-то.
– Первый удар нанесли в лоб.
И он показывает на то, что некогда было левой бровью профессора.
– Отметины здесь глубокие. Остальные… не такие глубокие.
«Это мог быть любой инструмент, – думает Шара. – Любое оружие. И это мог сделать кто угодно».
Шара смотрит и смотрит на тело. И уже второй раз за ночь говорит себе: «Не обращаем внимания на частности, зрим в корень». Но… вот он лежит, ее учитель. С размозженным лицом. Тонкие запястья и шея. Рубашка. Галстук. Такие знакомые. Это тоже частности? Как на них не обращать внимания?
Одну секундочку. Одну секундочку. Галстук?..
– Питри… вам часто приходилось видеть профессора? – спрашивает она.
– Ну… я его видел, да. Но мы не были знакомы, если вы это имеете в виду.
– Тогда вы, наверное, не сможете припомнить… – осторожно формулирует она, – или сможете… давно ли профессор стал носить галстуки?
– Галстуки?.. Не знаю, госпожа…
Шара протягивает руку и подхватывает галстук за кончик. Какой он… Полосатый, красный и молочно-белый. Шелковый, прекрасной выделки. Изыск северной моды, совсем недавно обретший популярность.
– Доктор Ефрем Панъюй, которого знала я, – тихо говорит она, – предпочитал шейные платки. Так принято в академических кругах, насколько я знаю. Профессура носит шейные платки – обычно оранжевые, розовые или красные. Цвета университета. А вот в галстуке я его не видела ни разу. Вы разбираетесь в галстуках, Питри?
– Мгм. Ну… немного. Их здесь все носят.
– Именно. Здесь. А не в Сайпуре. И не кажется ли вам, что это галстук необычно тонкой работы?
И она переворачивает его – поглядите, мол.
– Очень тонкая работа, да. И шелк такой… тонкий.
– Ну… да… А что?
Не отрывая взгляда от галстука, она протягивает Сигруду ладонь:
– Нож, пожалуйста.
В ручище гиганта мгновенно возникает что-то тоненькое и блестящее – похоже на скальпель. Он вручает его Шаре. Та поправляет очки на переносице и низко склоняется над телом. Сквозь рубашку Ефрема просачивается слабый запах разложения. Шара старается не обращать на него внимания – это действительно частность. Неприятная частность, на которую нельзя отвлекаться.
Она пристально рассматривает белые полосы на шелке. «Нет, белые ему бы не подошли. Слишком заметно получилось бы…»
Вот оно – невероятно тонкая красная нить, едва заметные стежки на красном. Маленький квадрат, похожий на карманчик, на обратной стороне галстука.
Внутри белый лоскуток. Нет, не от галстука, от чего-то другого. Она осторожно вынимает его и расправляет на свету.
Несколько строчек угольным карандашом – похоже на шифр…
– Им бы и в голову не пришло искать в галстуке, – тихо говорит она. – Особенно в дорогом галстуке. Они не ожидали от сайпурца такого трюка, правда? И он об этом прекрасно знал.
Питри изумленно таращится на вспоротый галстук.
– Где же он научился таким трюкам?
Шара отдает скальпель Сигруду.
– А вот это, – говорит она, – очень хороший вопрос.
* * *
В окно кабинета прокрадывается утренний свет, осторожно ползет по пустой столешнице и голому ковру, истыканному ножками вынесенной мебели. Шара подходит к окну. Как же странно: по идее, городские стены должны закрывать солнечный свет – во всяком случае, пока оно не стоит в зените, но она видит, как светило поднимается над горизонтом… Стены странно прозрачны, смотришь сквозь них – и солнце словно бы затянуто легкой дымкой.
«Как же звали того человека, – думает Шара, – что писал об этом?» Она прищелкивает пальцами, пытаясь вспомнить.
– Вочек, – наконец выговаривает она. – Антон Вочек. Точно.
Профессор Мирградского университета. Автор теории – старой, правда, он сформулировал ее несколько десятков лет тому назад. Тем не менее. Профессор настаивал: тот факт, что Чудесные Стены никуда не делись – а это самое старое и знаменитое чудо из многих чудес Мирграда, – указывает на то, что одно или даже несколько Божеств-основателей города до сих пор в каком-то смысле живы. Подобное нарушение СУ не осталось безнаказанным: естественно, профессор тут же ушел в подполье, и никто его с тех пор не видел. Тем не менее теория не снискала популярности у континентцев. Ибо, если Божества живы, логично спросить, где же они? Почему не спешат на помощь своему народу?
«Вот главная проблема с чудесами, – вспоминает она слова Ефрема. – Голая фактология. Либо чудо есть, либо его нет».
Словно только вчера они об этом говорили… А на самом деле – что-то около года назад. Когда Ефрем Панъюй прибыл на Континент, Шара обучила его базовым техникам: экстренно эвакуироваться из опасного места, избегать слежки, преодолевать бюрократические препоны и – хотя она полагала это избыточным – как создавать и поддерживать тайники для обмена сообщениями. Дополнительные, так сказать, меры безопасности: мало ли что случится, сайпурцев на Континенте совсем не любят… Естественно, поручить такое Шаре – самому опытному из действующих на Континенте оперативников – было все равно, что отправить ее подтирать нос ребенку. Другие бы на ее месте обиделись на такое поручение, а она – она упорно добивалась, чтобы ей дали эту работу. Потому что из всех сайпурцев она больше всего почитала и уважала Ефрема Панъюя: реформатора, лектора и известнейшего историка. Ефрем Панъюй! Человек, которому Сайпур обязан новой концепцией своего прошлого, человек, воскресивший судебную систему Сайпура, человек, который вырвал сайпурские школы из рук богачей и подарил образование жителям трущоб. Так странно было сидеть напротив этого великого человека в Аханастане и смотреть, как он терпеливо кивает в ответ на ее объяснения: мол, когда на заставе в Мирграде требуют показать документы, на самом деле им нужны не документы, а банкнота в двадцать дрекелей. Шара надеялась, что голос не дрожал от благоговейного ужаса… Да уж, опыт совершенно ирреальный, но Шара бережно хранила это воспоминание в памяти. И гордилась им.
Она завершила инструктаж, и Ефрем отправился в Мирград. А она все гадала: встретятся они еще – не встретятся… И вот вчера на стол легла телеграмма: что его нашли мертвым. Точнее – нет. Не мертвым. Убитым. Это уже выбило ее из колеи, а обнаружив, что покойный умел прятать тайные послания в своей одежде – чему она совершенно точно его не учила! – Шара и вовсе не знала что и думать…
«Интересно, – думает она, – он точно здесь историческими разысканиями занимался?»
Шара трет глаза. Спина затекла – сколько в поезде ехали, еще бы… Но она смотрит на часы и думает, думает…
В Сайпуре уже без чего-то восемь.
Шара очень не хочет этого делать. Она устала, в конце концов. Она слишком слаба. Однако, если не сделать это сейчас, потом придется дорого заплатить за промедление. Вроде бы ничего особенного – всего лишь короткая поездка в Мирград, не отчиталась – ну и что, простительный промах. Вот только из Сайпура такой промах может выглядеть как акт государственной измены.
И она приоткрывает дверь своего нового кабинета. В коридоре никого. Она закрывает дверь. Запирает ее на замок. Подходит к окну и закрывает наружные жалюзи – фух, как хорошо сразу стало. Все-таки ее утомило странное, расплывчатое солнце. А потом она наглухо задвигает окно.
Шмыгает носом, разминает пальцы. Облизывает указательный и принимается писать на оконном стекле.
Шаре часто приходится нарушать закон. Работа такая. Но одно дело – нарушить законы страны, когда ты на вражеской территории. И совсем другое – проделать то, что Шара делает сейчас. В Сайпуре того, что она делает, смертельно боятся. А здесь, на Континенте, это запрещают, искореняют и всячески преследуют нарушителей. Хотя именно на Континенте впервые проделали это.
Ибо сейчас, непосредственно в кабинете ГД Труни, Шара собирается совершить чудо.
Как и всегда, почти ничего не замечаешь: легкое движение воздуха, холодок на коже, словно бы кто-то дверь приоткрыл и сквозняком потянуло. Она выводит знак за знаком, и стекло под ее пальцем размягчается. Последние буквы она выписывает словно бы по воде.
Стекло стало другим: его заволокло инеем, а потом мороз отступает, однако через окно больше не видно жалюзи. В стене зияет дыра. И в дыре Шара видит другой кабинет, где за массивным столом тикового дерева сидит высокая красивая женщина и изучает содержимое толстой папки.
«Как непривычно себя ощущаешь, – мелькает в голове, – когда вот так вот берешь – и в прямом смысле меняешь мир…»
Вообще-то Шара считает, что она выше подобных чувств, но все-таки ее не на шутку сердит вот что: внушительные технологические достижения Сайпура по-прежнему уступают большей части божественных фокусов. Божество Олвос совершала это маленькое чудо уже сотни лет назад: именно так Она могла заглянуть в одно замерзшее озеро и разговаривать с кем-то другим через другое замерзшее озеро, где бы то ни находилось. Шара так и не сумела понять, почему это чудо срабатывает не только со льдом, но и со стеклом. Самая распространенная теория такова, что стекло на Континенте обозначалось словом, очень похожим на слово «лед», и из-за этого лингвистического казуса чудо сработало и на той и на другой поверхности. Хотя… Божествам очень нравилось стекло, они использовали его в самых разных целях, подчас очень странных: так, они могли поместить вещь или даже человека в стекло шириной не толще волоска – прямо как солнечный луч в кристалл.
Женщина за истаявшим стеклом поднимает взгляд. Странная перспектива – словно в иллюминатор смотришь… На самом же деле по другую сторону стекла жалюзи, а за ним – пустота, стофутовый обрыв. Все это игра цвета и звука: где-то в Галадеше, за Южными морями, в Сайпуре, из окна кабинета этой женщины выглядывает Шара, а за ее спиной проступают очертания комнаты ГД Труни.
Женщина вздрагивает от неожиданности, губы ее приходят в движение. Голос тоже слышен, далекий и резкий, как металлическое эхо в водосточной трубе:
– Ой! Ой!
– Можно подумать, вы ожидали увидеть кого-то другого, – говорит Шара.
– Нет. Я ждала, когда ты выйдешь на связь, но не ожидала, что ты прибегнешь к… экстренным средствам связи.
«Экстренное средство связи» искажает голос, но даже так чувствуется, какой он низкий и хриплый. Прокуренный.
– Вы бы предпочли, чтобы я к нему не прибегала?
– Ты так редко используешь выданные тебе средства… – говорит женщина, поднимается и подходит к стеклу, – …по назначению.
– Вы правы. Потому что ситуация… не экстренная, – признает Шара. – Я хотела бы сообщить, что я… в общем, в Мирграде нужно кое-что сделать. По линии оперативной работы.
Женщина в зеркале стекла улыбается. Несмотря на возраст, она все еще удивительно красива: локоны цвета воронова крыла рассыпаны по плечам, и только в падающей на лоб пряди видна седина. Хотя в ее годы многие женщины перестают следить за фигурой, дама в зеркале выглядит превосходно: все изгибы на месте, и это такие изгибы, которых у Шары нет и не будет. Но секрет обаяния тетушки Виньи не в красоте. Нет, все дело в глазах – они у нее большие, широко расставленные, темно-карие. И смотрит тетушка Винья так, словно бы припоминает события долгой и бурной жизни. Жизни, которой можно до смерти позавидовать.
– Ну какая же это оперативная работа? – усмехается Винья. – Обычное дипломатическое поручение.
Шара с облегчением вздыхает – про себя:
– Как вы узнали?
– Документы на имя Тивани, – отвечает Винья. – Они у тебя много лет без дела лежали. Я обычно замечаю такие вещи. Когда кто-нибудь, скажем так, утаскивает с фуршета в рукаве пару печенюшек. А потом это имя всплывает в ночь, когда приходят известия о судьбе бедняги Ефрема. Я верно поняла, чем ты там занимаешься?
«Зря я это сделала, – проносится в голове у Шары. – Я слишком устала для этого разговора».
– Шара, что на тебя нашло? – Голос тетушки звучит мягко и успокаивающе. – Ты же прекрасно знаешь, что я бы ни за что не разрешила тебе ехать.
– А почему нет? Остальные оперативники не успели бы прибыть так быстро. Я – самая подходящая кандидатура, чтобы вести расследование.
– Нет. Не самая. Потому что ты лично в нем заинтересована. Тебя с Ефремом связывают личные отношения. Для тебя найдутся другие дела. И да, ты обязана была уведомить меня, прежде чем ехать.
– Осмелюсь попросить вас проверить почту, – чеканит Шара.
Тень раздражения омрачает лицо Виньи. Она подходит к двери, опускает руку в щель почтового ящика и перебирает накопившуюся стопку депеш. И вытаскивает бумажный листок.
– Прибыло четыре часа назад, – говорит она. – Очень вовремя.
– Именно. Итак, – кивает сама себе Шара. – Все формальности соблюдены. Я не нарушила ни одной директивы. Я – самый старший по званию оперативник. И я прекрасно разбираюсь в материале. Лучше, чем я, историю Мирграда не знает никто.
– О да, – соглашается Винья. И снова подходит к стеклу. – Ты прекрасно разбираешься в истории Континента. Пожалуй, нет в мире человека, который знал бы больше об их мертвых богах. Ефрем знал больше, но он умер.
Шара опускает взгляд.
– Прости, – вздыхает Винья. – Я причинила тебе боль. Но ты должна понять… мне довольно трудно выказывать сострадание подобно обычному человеку. Даже в этом случае.
– Я знаю, – отвечает Шара.
Семь с лишним лет назад тетушка Винья заступила на должность министра иностранных дел. Она всегда была мотором и сердцем Министерства и всегда держала в руке нити важнейших решений. Просто в какой-то момент настало время официально признать этот факт. Однако с тех пор, как она заняла руководящий пост, полномочия Министерства расширились, а сферы ответственности распространились… практически на все. Теперь Министерство присматривает и за торговлей, и за промышленностью, и за политическими партиями. Даже проблемами окружающей среды занимается. И теперь всякий раз, когда Шара оказывается рядом с Сайпуром – а это случается нечасто, – до нее доходят слухи, что Винья Комайд, матриарх знаменитой семьи Комайд, не просто большая шишка, а одна из самых больших шишек в галадешском политикуме, – так вот люди поговаривают, что она не прочь занять кресло премьер-министра. При самой мысли об этом Шара волнуется и трепещет: а вдруг, если тетя займет высшую должность в Сайпуре – да что там в Сайпуре, в мире! – она сможет наконец-то вернуться домой… Но что это будет за дом?..
– Если бы не ты обучала Ефрема, – говорит Винья, – если бы не ты вела его, не ты тестировала – а ведь ты сама вызвалась и проводила с ним так много времени… ты же сама все понимаешь, дочка. Если бы не это, я бы мигом тебя вызвала… Но кураторам нельзя заниматься делами, связанными со смертью их оперативников. Ты это тоже знаешь.
– Я не была его куратором. Я его только обучала.
– Согласна. Но и ты согласись: за тобой числится один серьезный проступок. Безответственное поведение, и причиной стала как раз личная заинтересованность.
Шара горько вздыхает:
– Я просто поверить не могу, что мы говорим об этой… истории. Сколько можно?
– Не мы, а я говорю. А ты отказываешься слушать. А в политических кругах мне эту историю припоминают до сих пор – всякий раз, когда я заговариваю о расширении финансирования.
– Это случилось семнадцать лет назад?
– Шестнадцать. Уж я-то знаю. У избирателей короткая память. А у политиков – очень долгая.
– Но после того, как я уехала, разве я доставляла хоть какие-нибудь неприятности? Ни одного скандала, ни одного нарекания. Вы же знаете меня, тетушка. Я прекрасный работник.
– Нет, сокровище мое, я не стану этого отрицать…
И Винья со вздохом замолкает. И глубоко задумывается.
Шара сидит с бесстрастным лицом, на котором, она надеется, невозможно ничего прочесть. Сидит и быстро перебирает в памяти свои реплики – что она успела сказать за эти пять минут. Беседа развивалась совсем не так, как она предполагала: Шара ждала, что тетя ее сурово отчитает, поскольку все выглядит так, словно она ненароком вмешалась в какую-то глубоко секретную и весьма опасную операцию, участником которой, судя по всему, был Панъюй. Но пока тетушка Винья не подает виду и говорит о Панъюе словно тот обычный историк, которому дали поручение по дипломатической линии… «Что значит: либо она не в курсе, – думает Шара, – либо не хочет, чтобы я знала, что она в курсе».
Потому-то Шара сидит и молчит. Если сидеть, молчать и смотреть, можно очень многое узнать – несмотря на все попытки собеседника скрыть истину. Винья, конечно, ее тетя. Но не бывает такого, чтоб начальник и находящийся у него в подчинении оперативный работник не ощущали себя в каком-то смысле соперниками.
– Что ж, – говорит наконец Винья. – Что ж. Раз так, излагай. Что там сейчас за ситуация?
Интересно дело оборачивается. Ну ладно.
– Люди живут очень бедно. Они недовольны. И будет изрядным преуменьшением сказать, что ГД Труни не слишком хорошо руководил посольством.
– Труни?.. Господи ты боже мой, я и забыла, что они засунули его туда… Молодые девицы в поле зрения были?
Шара вспоминает девушку, приносившую чай.
– Одна.
– Беременная?
– Я ничего такого не заметила.
– Слава морям! Замечательно, хоть здесь обошлось…
– А как быть с Мулагеш? Губернатором полиса? Она демонстративно держалась… подальше от мирградской политики. Строго следовала инструкциям, так сказать. Могу я на нее положиться?
– Возможно. Она из армейских. Участвовала в подавлении восстаний. Железная женщина. Ты с такими всегда хорошо ладила. Так, а что там с профессором?
– Я нахожусь в процессе сбора информации, – сообщает Шара.
Она сейчас сама беззаботность и услужливость. Все в порядке, все хорошо, сообщает ее голос.
– А когда ты узнаешь, кто и почему его убил, что станешь делать? – спрашивает Винья.
– Оценю ситуацию на предмет возможной угрозы безопасности Сайпура.
– Значит, о мести и не помышляешь?
– Как можно думать о мести, – чеканит Шара, – когда глаза всего мира устремлены на тебя? Мы должны быть благоразумны и не проливать крови. Я, как и всегда, готова стать послушным орудием в руках руководства нашей страны.
– Ну хватит высоких слов, – отмахивается Винья, – можно подумать, кто-то верит во всю эту риторику…
И задумчиво глядит в сторону.
– Скажем так, Шара. Я буду щедра к тебе. Я дам тебе сроку… ну, скажем… неделю.
Шара вспыхивает:
– Неделю?!
– Да. За эту неделю ты должна выяснить, есть ли в этом деле что-то важное для Сайпура. В конце концов, весь Мирград до последнего человека мечтал убить беднягу! Может, это был дворник, откуда мы знаем? Так что я дам тебе неделю на то, чтобы доказать обоснованность твоего присутствия в Мирграде. В противном случае я тебя отзову и отправлю кого-то другого уладить оставшиеся формальности. Это дело не для тебя, дорогая, Министерство сможет тебе предложить задания, достойные твоего опыта и умений, не сомневайся.
– Неделя…
И Шара лихорадочно думает про себя: сказать про записку? Не сказать? Потом решает: нет, если скажу, вреда будет больше, чем пользы.
– Что такое? Не эта ли храбрая девушка только что сообщила мне, что она – самый старший по званию оперативник на указанной территории? Да еще таким тоном, словно она дунет – и все разлетится, как карточный домик… – И Винья поводит тонкими пальцами, показывая, как, крутясь в воздухе, разлетаются карты. – Если ты такая опытная и умная, моя дорогая, тебе и пары часов хватит! Не правда ли?
Шара поправляет очки на переносице. Ничего не поделаешь, тетя ее переиграла.
– Ладно.
– Вот и хорошо. Держи меня в курсе. И да, постарайся сделать так, чтобы твой человек никого не убил. По крайней мере в ближайшие несколько дней.
– Не могу ничего обещать.
– Знаю. Я на всякий случай попросила.
– Если я в течение неделю сумею справиться с ситуацией, – медленно выговаривает Шара. – Если я совершу невозможное и закрою дело, есть ли у меня шанс…
– На что?
– На то, что меня переведут.
– Переведут? Куда?
– Обратно в Галадеш.
Винья непонимающе глядит на нее, и Шара напоминает:
– Мы же говорили об этом. В прошлый раз.
– Ах да, да, – спохватывается Винья. – Действительно, в прошлый раз, да…
«Все ты помнишь, – думает Шара. – Потому что мы говорили об этом и в позапрошлый раз, и позапозапрошлый раз…»
– Должна признать, – улыбается Винья, – что ты единственный оперативник, который желает, чтобы его перевели на кабинетную работу в головном офисе. Я думала, тебе нравится на Континенте. Ты же столько их изучала, столько опыта накоплено…
– Я не была в Сайпуре, – тихо говорит Шара, – шестнадцать лет.
– Шара… – Винье, судя по улыбке, очень неловко. – Ты прекрасно знаешь: ты – мой самый ценный сотрудник на Континенте. Ты лучше всех представляешь себе, что такое Божества… более того, в Галадеше ведь никто не подозревает, что Божественное не исчезло окончательно, что на Континенте сохраняются следы его присутствия…
Сколько раз Шара это слышала, сколько раз…
– Министерство придерживается точки зрения, что рассекречивать информацию о существовании Божественного, точнее, его остаточном присутствии нецелесообразно. Сайпурцы предпочитают верить в то, что все это стало историей. Точнее, прахом. Что ничего этого больше не существует. Они не должны узнать, что на Континенте активны некоторые чудеса. И им точно не следует знать, что там остались кое-какие божественные существа. Которых вы с напарником так замечательно… элиминируете.
Шара молчит. Тетушка даже отдаленно не представляет себе, что это значит – уничтожить божественное существо.
– Пока Божества пребывают в своем нынешнем состоянии – то есть технически мертвом – нас все устраивает. И даже более чем устраивает. Незачем говорить людям то, что они не хотят слышать, – продолжает Винья.
Шара вздыхает и проговаривает очевидное:
– А поскольку я видела слишком много вещей и существ, существование которых мы не можем официально признать, я не могу вернуться домой.
– Учитывая, кто ты, мы уверены: как только ты вернешься, тебя станут усиленно расспрашивать. А поскольку ты знаешь слишком много о том, что никому знать не надо…
Шара закрывает глаза.
– Подожди немного, родная моя, – вздыхает Винья. – Ты же видишь, я делаю для тебя все, что могу. Сейчас входят в силу политики, которые прислушиваются к моему мнению. Скоро у них не останется другого выбора – им придется согласиться со мной…
– Проблема в том, – тихо говорит Шара, – что мы, оперативники, сражаемся ради того, чтобы дома было все спокойно. Но… время от времени нам нужно возвращаться домой. Просто для того, чтобы помнить – какой он, этот дом, ради которого мы сражаемся.
Винья презрительно отфыркивается:
– Что за сантименты! Ты – Комайд, детка. Ты – дочь своих родителей. Ты мое дитя. Ты патриотка. Где ты – там Сайпур.
«У меня на глазах умерло столько людей, – хотела бы сказать Шара. – И я подписала столько смертных приговоров, что перестала быть похожей на родителей. Я стала другой. Совсем другой».
Винья улыбается, глаза блестят от слез:
– Пожалуйста, береги себя, девочка моя. В Мирграде вес истории ощущается сильней, чем в прочих местах. Я бы на твоем месте следила за каждым своим шагом. Ведь ты – прямой потомок человека, который не оставил от прежнего Континента камня на камне.
И она протягивает руку, протирает стекло и исчезает из виду.
Задача Министерства иностранных дел состоит в том, чтобы упорядочивать то, что в принципе не поддается упорядочиванию.
Так или иначе, если нечто невозможно сделать, это не значит, что жители Сайпура не должны ожидать, что это все-таки будет сделано: в конце концов, разве перед Войной невозможное не случалось на Континенте каждый день и каждый час?
И разве не по этой причине в Сайпуре и остальном мире людям снятся по ночам кошмары?
Из письма премьер-министра Анты Дуниджеш министру Винье Комайд. 1712 г.
Запретное
Мирградский университет прячется в тени городских стен на западной окраине. Это целый каменный лабиринт комнат, переходов, двориков. На потемневших от дождя стенах расцветают темные пятна мха, плиты полов и тротуаров стерты до гладкости – наверняка множеством ног, ходивших по этому камню в течение долгих веков… Толстые и раздутые печные трубы напоминают осиные гнезда, а не детали архитектуры – так не строят, по меньшей мере, вот уже несколько столетий.
Однако Шара заходит в здание и оглядывается: ого, а с водопроводом и канализацией дела обстоят более чем замечательно. Труб почти не видно – разве что тут выглядывает колено стояка, там на потолке виднеются противопожарные оросители. Ну и, конечно, везде, как и положено, раковины и краны. Вполне современного вида.
Шара пытается скрыть улыбку. Она прекрасно знает: университет выглядит старинным, но на самом деле постройке лет двадцать с небольшим.
– В каком мы крыле? – спрашивает она.
– Лингвистическом, – отвечает Нидайин. – Они предпочитают говорить не «крыло», а «камера».
Шара медленно смигивает: как грубо и быстро ее поправили, однако. Нидайин – типичный работник посольства: заносчивый, самодовольный, самоуверенный. И, тем не менее, он занимает должность посольского представителя по связям с общественностью, а значит, в его обязанности входит сопровождать послов и дипломатов во время важных визитов – например, в университет.
– Какие длинные тут камеры, – бормочет Питри, оглядываясь. – На коридор больше похоже, а не на комнату…
– Слово «камера», – с нажимом произносит Нидайин, – имеет глубоко символическое значение.
– И какое же?
Нидайин явно не ожидает, что его примутся экзаменовать по этому вопросу. Поэтому он гордо отвечает:
– К расследованию это не относится, уж будьте уверены. Так что неважно, какое.
Среди каменных стен гуляет эхо шагов. После смерти доктора Панъюя университет опустел. Возможно, это все голубоватые отсветы ламп на стенах (кстати, лампы газовые), но Шара не может отделаться от ощущения, что они внутри чего-то… живого. То ли в улье, то ли в брюхе огромного животного. Возможно, архитекторы именно этого эффекта и добивались.
Интересно, как Ефрем относился к этому зданию. Она уже осмотрела его комнаты в посольстве: естественно, пусто. Голо. Хоть шаром покати. Но другого Шара и не ждала: Ефрем был из тех людей, что живет работой. А уж такая работа поглощала его целиком – еще бы, город какой! Легендарный город. Кладезь для историка. Наверняка какой-нибудь ящик стола университетского кабинета Панъюя ломится от карандашных рисунков: здешние карнизы, ворота, и конечно – десятки набросков с дверными ручками. Ефрема буквально гипнотизировало все, что люди делали руками. «Сразу видно, как они взаимодействуют с миром, – пояснил он ей как-то. – В глазах отражается душа, а вот материя, подсознательное, основа поведения – все это в руках. Понаблюдай за руками человека – и узнаешь его сердце». Возможно, он говорил правду – потому что сам Ефрем, приближаясь к очередному открытию, всегда трогал предметы: проводил пальцами по столешницам, постукивал по стенам, ковырял землю, оглаживал спелые фрукты… Ибо для Ефрема Панъюя и целого мира было мало – он хотел видеть и знать больше и больше.
– Так, я заинтригован, – заявляет Питри.
– Я же сказал – это неважно, – упирается Нидайин.
– Тебе откуда знать? – сердится Питри.
– Уж я-то знаю, – заявляет Нидайин. – Просто у меня под рукой нет справочных материалов. А я бы не хотел давать непроверенную информацию.
– Чепуха какая, – не сдается Питри.
Сигруд тихонько вздыхает. По его меркам, это все равно, что кулаком по столу треснуть.
Шара прочищает горло и говорит:
– В университете шесть камер, потому что континентцы представляли себе мир в виде сердца с шестью камерами, и каждая считалась домом определенного Божества. От Божества к Божеству перетекала сила – и так рождалось течение времени, судьбы, событий. Так обращалась кровь мира. Университет – это микрокосм, отражающий общее устройство вещей. Приходя сюда, можно было научиться всему обо всем. Во всяком случае, так было задумано.
– Это правда? – изумляется Питри.
– Да, – кивает Шара. – Но это – не изначальный университет. Настоящий был уничтожен во время Войны.
– Во время Мига, хотели вы сказать, – поправляет ее Нидайин. – Исчез вместе с большинством построек Мирграда. Правильно?
Шара не обращает на него ровно никакого внимания.
– Университет выстроили заново, основываясь на довоенных изображениях и рисунках. Мирградцы настаивали, чтобы здание восстановили в прежнем облике. Они даже разобрали огромное число старинных зданий, чтобы строительство велось из подлинного древнего камня. Они хотели вернуть ему подлинный облик – правда, с некоторыми оговорками, – тут она осторожно дотрагивается до газового рожка, – ведь им пришлось согласиться на кое-какие современные новшества.
– Откуда вы все это знаете? – спрашивает Питри.
Шара поправляет очки:
– Что здесь сейчас преподают?
– Мгм… сейчас – в основном экономику, – отвечает Нидайин. – Основы торговли. Базовые рабочие навыки. В основном, потому, что полис приложил массу усилий, чтобы войти в число мировых финансовых игроков. Это все дело рук движения «За Новый Мирград». Правда, в последнее время они не столь активны – некоторые люди воспринимают их действия как призыв к модернизации. Что так и есть, на самом деле. Так что вокруг кампуса время от времени проходят демонстрации протеста. Либо из-за «Нового Мирграда», либо, мгм…
– Из-за доктора Панъюя, – продолжает за него Шара.
– Да.
– Я так понимаю, – говорит Питри, отсутствующим взглядом скользя по дверям, – что они не могут преподавать историю.
– В большом объеме – нет, – соглашается Нидайин. – Материалы курса строго цензурируются на предмет соответствия СУ. Из-за Светских Установлений у них, по правде говоря, ничего толком преподавать здесь не получается. И у них проблемы с обучением естественным наукам и базовым физическим законам. Потому что в прошлом здесь не работали базовые физические законы. А в некоторых местах – так и до сих не работают.
«Естественно, – думает Шара. – Как здесь преподавать естественные науки, если каждый здешний рассвет опровергает законы природы?»
Сигруд резко останавливается. Дважды принюхивается, а потом оборачивается к одной из дверей по правой стороне коридора. Она ничем не отличается от других дверей: толстое дерево, толстое стекло посередине. Никаких надписей.
– Это кабинет доктора Панъюя? – спрашивает Шара.
– Да, – отвечает Нидайин. – А как он…
– Сюда кто-нибудь, кроме полицейских, заходил?
– Не думаю.
Но Шара все равно морщится. Одна полиция чего стоит…
– Нидайин, Питри, – я была бы признательна, если бы вы прошлись по комнатам и кабинетам этой камеры университета. Нам нужно знать, кто из сотрудников мог находиться рядом, а также в каких отношениях эти сотрудники состояли с доктором Панъюем.
– Вы уверены, что нам следует начинать расследование таких масштабов? – спрашивает Нидайин.
Шара одаривает его не то чтобы холодным – так, еле теплым взглядом.
– В смысле… я бы не хотел показать грубым, но… вы же просто исполняете обязанности Главного дипломата, – выговаривает он.
– Да, – соглашается Шара. – Исполняю. И следую приказам губернатора полиса, в чем вы сейчас убедитесь.
И предъявляет ему розовую ленточку телеграммы.
Нидайин открывает ее и читает:
«К-ПОС ТИВАНИ ПРЕДВ РАССЛЕД ПОЛИС ОКАЗ ВСЕМЕРН СОДЕЙСТВ ТЧК ГШК512»
– Вот оно что, – говорит Нидайин.
– Всего лишь предварительное расследование, – кивает Шара. – Но по свежим следам работать проще, и мы должны этим воспользоваться. Во всяком случае, так меня учили. Вы согласны?
– Да, – кивает Нидайин. – Согласен совершенно.
И они с Питри принимаются обходить соседние кабинеты. Отойдя на двадцать шагов, они снова начинают ругаться.
Ничего, это их должно занять на какое-то время…
Она засовывает телеграмму в карман пальто. Скорее всего, эта бумага больше не потребуется.
Естественно, губернатор полиса Мулагеш никакой телеграммы не отправляла, просто хорошо, когда у тебя в любом Департаменте связи сидят друзья, готовые помочь в любом деле.
– А теперь, – бормочет Шара, – посмотрим, что там.
* * *
Кабинет доктора Ефрема Панъюя по колено заполнен, как водой, клочками бумаги, и письменный стол плывет по этому желтоватому морю подобно огромной барже. Шара включает газовые лампы и оглядывает комнату, пытаясь представить масштабы бедствия: стены увешаны пробковыми досками, в них торчат бесчисленные кнопки. На некоторых еще остались обрывки бумаги.
– Полицейские их содрали, все до единого, – тихо говорит она. – Уверена, что так и было.
Кабинет мал и грязен – и совсем не подходит для такого известного исследователя. В стене окно, но оно забрано витражным стеклом таких темных тонов, что вовсе не пропускает света.
– Нам придется сложить это все в пакеты и отвезти в посольство.
Она делает паузу. Потом спрашивает:
– Скажи мне. За нами следили по дороге сюда, сколько их было?
Сигруд поднимает два пальца.
– Профессионалы?
– Вряд ли.
– Нидайин или Питри их заметили?
Сигруд одаривает ее красноречивым взглядом: сама-то, мол, как думаешь?
Шара улыбается:
– Я же тебе говорила. Развороши гнездо шершней… Впрочем, к делу. Что ты об этом думаешь?
Сигруд принюхивается и трет нос:
– Ну… Очевидно, кто-то что-то искал. Но я думаю, что не нашел.
Шара согласно кивает – приятно, когда кто-то подтверждает правильность твоих выводов. Единственный серый глаз Сигруда обшаривает волны бумажного моря.
– Если бы они что-то искали и нашли это, они бы остановились. Но, судя по тому, что я вижу, они не останавливались.
– Отлично. Я вижу то же самое.
Остается главный вопрос: а что же они искали? Записку из галстука Панъюя? Шара еще не уверена, но ей все больше кажется: нет, Ефрема убили вовсе не из-за того, что он, еретик и чужак, приехал в город богов.
«Предположения ничего не стоят, – напоминает себе Шара. – Ты ничего не знаешь наверняка, пока не узнаешь это наверняка».
– Ну хорошо, – говорит Шара. – Где?
Сигруд снова принюхивается, пробирается сквозь горы обрывков к столу и ногой разгребает бумагу не со стороны, с которой ставят стул, а с противоположной. На каменном полу четко просматривается темное большое пятно. Она подходит все ближе и наконец чувствует запах с медным привкусом – пахнет засохшей кровью.
– Значит, когда сюда вошли, он не сидел за столом, – бормочет Шара.
– Думаю, что нет.
Если бы только знать, как профессор лежал, когда его нашли, что было рядом, что было на нем… В полицейском отчете что-то такое написали, но, как ему доверять, этому отчету, если они даже изрезанную одежду Панъюя не упомянули. Значит, надо работать с тем, что есть.
– Не мог бы ты принести мне сумку для этих бумаг? – тихо говорит она.
Сигруд кивает и уходит.
Шара оглядывается. Делает осторожный шаг вперед, наклоняется и поднимает обрывок бумаги:
…проблема в том, что биография каджа и в особенности необычная история его восхождения к власти не делают менее значимыми его действия. Да, его отец был из коллаборационистов, но нам ничего не известно о его матери. Мы знаем, что кадж был ученым, увлекался естественными науками и экспериментаторством, и, хотя никто из его близких не погиб в резне, он…
Она поднимает другой:
…остается только догадываться, в каких целях использовалась в изначальном университете камера Олвос. Рассказывали, что она не одобряла действия континентцев и других Божеств. Она считалась Божеством надежды, света и стойкости, и, когда Олвос покинула мир в 775 году, на заре Золотого Века Континента, это восприняли как огромную трагедию. Точные причины ее ухода стали предметом жаркой дискуссии: появился ряд текстов, в которых прямо говорилось, что Олвос предсказала: на пути, избранном другими Божествами, всех ждет лишь горе. Многие из этих текстов были мгновенно уничтожены, возможно другими Божествами…
И еще один:
…судя по всему, пребывание каджа на Континенте, до самой его смерти от инфекции в 1646 году, не изобиловало событиями. Он спал, ел, жил один, к другим обращался, только чтобы отдать приказ. Его бессменный помощник Сагреша вспоминает в одном из своих писем: «Он словно бы увидел родину тех, кто нас завоевал и так долго нами правил, и до боли разочаровался. И хотя он ни разу не сказал этого вслух, я словно бы слышала его мысли: „Разве не должна земля богов быть под стать богам?“» И хотя кадж, конечно, не мог знать, что на нем лежит прямая ответственность за бедственное состояние земель Континента, ибо именно кадж убил Божество Таалаврас, и именно это вызвало Миг…
Знакомые строки – она уже читала это. Старые опубликованные работы. Видимо, он привез сюда свои книги, а полиция изодрала их в клочья во время «обыска». Возможно, уничтожение знаменитых сайпурских монографий доставило им море удовольствия. А может, это вовсе и не полиция сделала.
Тут взгляд ее наталкивается на что-то большое и толстое в углу. Это что-то оказывается внушительным сейфом с мощной дверью. И дверь эта, заметьте, распахнута настежь. Шара осматривает замок – сложный. Очень сложный. Сама она не эксперт-медвежатник, но нескольких знавала. Знакомцы спасовали бы перед таким замком. Однако видимых повреждений нет, следов взлома нет, на двери тоже ни царапины. И внутри сейфа пусто. Словно так оно и было всегда.
Шара садится подумать. И тут на глаза ей попадается уголок бумажки – он торчит из кучи мусора, но выглядит совершенно иначе: это не клочок страницы из академической публикации, а официальный бланк с печатью Министерства иностранных дел в левом углу и печатью губернатора полиса в правом.
Шара выуживает его из кучи. Это запрос. Заполнен от руки лично Ефремом. Что именно он запрашивал, не очень понятно – в бланке есть только код. ACCWHS14–347. Ефрем расписался внизу, но требуется еще одна подпись. Внизу на бланке читается: ТУРИН МУЛАГЕШ, ГУБЕРНАТОР ПОЛИСА, МИРГРАД.
– Нашла что-нибудь? – доносится из-за двери голос Сигруда.
– Пока не знаю, – отвечает Шара.
Пока они запихивают в сумку бумаги, Шара обнаруживает, что это не единственный документ, имеющий отношение к губернатору полиса, который попал в руки Ефрема: среди обрывков – множество пропусков, явно выданных охранником, когда Ефрем проходил… куда-то.
Собрав все, она пересчитывает: девятнадцать пропусков. Ефрем вряд ли специально хранил их: они же наверняка все одноразовые. Просто приходил в кабинет и выворачивал карманы.
Шара поглядывает на сейф в углу: а ведь наверняка Ефрем приносил сюда не только пропуска…
Тут в дверь вваливаются очень задерганные Нидайин с Питри. У Нидайина в руках длинная, захватанная бумажка.
– Вот, – говорит он. – Мы закончили. Всего получилось шестьдесят три человека, и мы записали, с каких они кафедр, на какой должности, в каких отношениях состояли с профессором и…
– Отличная работа, – кивает Шара. – Сигруд, присовокупи это, пожалуйста, к нашей коллекции. Думаю, мы сделали все, что нужно. Пора отправляться обратно в посольство. И да, Питри. Думаю, тебе придется снова заправить машину. Полагаю, нас ждет небольшая поездка за пределы Мирграда.
– А куда мы едем? – спрашивает Питри.
Шара перебирает в кармане пропуска:
– Честно говоря, пока не знаю.
* * *
Они выходят из университета и подходят к машине. Шара замедляет шаг.
Сигруд идет сзади. И с легким присвистом выдыхает через нос.
Она смотрит вниз и в сторону, на его руки.
Он едва заметно пристукивает по правому бедру указательным и средним пальцами. Шара смотрит вправо.
Выглядят они как обычные люди, которые решили выпить чашечку чая в кафе. С другой стороны, а как им еще выглядеть? Вот мужчина в плотном сером пальто, с масляными волосами и двухдневной щетиной медленно разворачивает обертку сигары. А вот женщина, пятидесяти или пятидесяти пяти лет, изможденная, несчастная, с красными стертыми руками. Седые волосы стянуты в тугой узел. Женщина не поднимает глаз от шитья, но Шара видит: ее руки дрожат.
Нет. Это не профессионалы.
– Мы высадим тебя за углом, – тихо говорит Шара. – И ты проследишь за ними.
Сигруд кивает и лезет в машину.
* * *
Выехать из Мирграда не так-то просто: бесконечно предъявляешь пропуск – один, другой, на блокпостах, перед блокпостом, конечно, пробка, машина подолгу стоит в заторах, потом опять возникает полосатый красно-белый шлагбаум, и постовой ищет имя-фамилию в бесконечных списках… И все служащие – затянутые в черную или фиолетовую униформу с рядами медных блестящих пуговиц – все как один континентцы. Неужели мы навели в городе такой порядок, что местные готовы задушить Мирград собственными руками? Однако документы Шары, как по мановению волшебной палочки, поднимают любые шлагбаумы, постовые лихорадочно машут рукой – проезжайте, мол, быстрей-быстрей, иногда даже отдают честь. Поэтому они с Питри выбираются из лабиринта блокпостов всего-то за полчаса – рядовым гражданам Мирграда это удается, только если они встают очень и очень рано.
Со «штаб-квартирой» губернатора полиса на Континенте всегда очень непросто. Шара знает: официальная позиция Сайпура такова, что штаб-квартира губернатора, будь то регионального, будь то полисного уровня, – явление временное. Она, как сайпурский чиновник, сама не раз повторяла это на разные лады. Далее обычно утверждалось, что губернатор и его штаб-квартира пребывают на территории Континента исключительно в целях наблюдения за деятельностью ограниченного воинского контингента Сайпура, целью которого является обеспечение мира и безопасности на Континенте. Каковой контингент будет пребывать на Континенте до тех пор, пока мир и безопасность не укрепятся, и Континент более не будет нуждаться в усилиях по их обеспечению. И с тех пор каждый континентец каждый день повторял: ну и когда же придет это время?
Судя по бетонным стенам в двадцать футов высотой, пулеметным гнездам, железным воротам и доносившимся с верха стены командам часовых (кстати, стены Мирграда находились всего-то в двух милях), мир и безопасность Континента еще нуждаются в укреплении. Во всяком случае, такое впечатление производит штаб-квартира губернатора полиса Мулагеш. Впечатляющее сооружение – такие на века строят.
Внутри все выглядит аскетично – ничего лишнего. Из больших, от пола до потолка, окон за губернаторским столом прекрасно просматриваются пологие зеленые холмы, обнесенные бетонной стеной. На плацу маршируют солдаты, дюжины голубых тюрбанов поворачиваются по команде.
– Губернатор Мулагеш скоро будет, – говорит адъютант – молодой человек с точеным и голодным злым лицом. – Она на дистанции.
– В смысле где? – переспрашивает Шара.
Адъютант улыбается, явно думая, что вот это вот – вежливая улыбка.
– Пробежка у нее.
– О. Понятно. Что ж, я подожду – не проблема.
Он снова улыбается, словно бы желая сказать: можно подумать, у тебя выбор есть.
Шара осматривается в чужом кабинете. Интерьер прост, как топор: сплошные гладкие серые поверхности. Голая функциональность.
Боковая дверь открывается, и в комнату входит невысокая женщина лет сорока пяти в обычном спортивном сером топе, голубых бриджах и в сапогах. Она мокра от пота, пот крупными каплями стекает по широченным и очень смуглым плечам. Женщина останавливается и окидывает Шару очень холодным изучающим взглядом. Потом так же холодно улыбается и направляется к столу. Берется за угол, вскидывает правую ногу, хватается за лодыжку правой рукой и растягивает мышцу бедра.
И небрежно бросает:
– Ну привет, что ли.
Шара улыбается и встает. Турин Мулагеш – под стать своему кабинету: жесткая, холодная, подтянутая и профессиональная. Она рождена, чтобы сражаться и наводить порядок среди хаоса, и иначе жить не может. А еще она очень мускулистая, таких женщин Шаре еще видеть не приходилось: бицепсы бугрятся, шея и плечи перетянуты канатами сухожилий. Шаре приходилось слышать о подвигах Мулагеш во время кампании по подавлению восстаний, вспыхивавших тут и там после Лета Черных Рек. Что ж, теперь она видит чудовищный шрам на левой скуле губернатора, разбитые костяшки пальцев – и верит каждому слову. А еще очень странно видеть на совершенно бюрократической должности такого человека…
– Добрый день, губернатор Мулагеш, – говорит Шара. – Я…
– Я знаю, кто вы, – обрывает ее Мулагеш.
Опускает ногу, выдвигает ящик и вытаскивает сигариллу.
– Вы – новенькая. Как там вас называют? Главный посол?
– Да. Ашара Тивани, технически культурный…
– Да-да. Культурный посол. Вчера приехали, да?
– Да, точно.
Мулагеш плюхается в кресло и кладет ноги на стол.
– Такое впечатление, что нам этого Труни всего две недели назад подсунули. И как меня еще в отставку не выпинали? Я, чесслово, думала, что он город спалит. А мне – отвечай. Придурок сраный…
И она вскидывает взгляд на Шару. Глаза у нее серые. Цвета стали.
– А может, он тут все и поджег. В конце концов, это он отвечал за безопасность Панъюя.
И она тыкает в Шару незажженным концом сигариллы:
– Вы ж из-за него здесь, правда?
– Это одна из причин, да.
– А другая, как я полагаю, – говорит Мулагеш и затягивается, – это выяснить для Министерства, насколько мои действия – точнее, мое бездействие – могли поспособствовать гибели нашего культурного эмиссара? Потому что гибель его произошла, как ни крути, во вверенном мне городе. Так?
– Я бы не стала заниматься этим в первую очередь, – быстро ответила Шара.
– Поди ж ты, – усмехается губернатор. – Я смотрю, вам нет равных в искусстве дипломатических формулировок…
– Но это правда, – пожимает плечами Шара.
– Я думаю, что это правда для вас. А вот что по этому поводу думает Министерство – другой вопрос.
Мулагеш вздыхает, и голова ее окутывается веночком дыма.
– Слушайте, я на самом деле рада, что вы приехали. Потому что, может, хоть к вам они прислушаются – а то я уж год как им про это талдычу, а толку чуть. Так вот, я как услышала про эту вашу культурную экспедицию, или как там еще называлась эта хрень, я сразу сказала: кончится все очень хреново. Мирград – он как слон. У него ооочень долгая память. В Аханастане, Таалвастане – в общем, в остальных городах – там народ как-то собрался в кучку. Модернизация там идет и все такое. Туда железную дорогу тянут, медобслуживание есть… женщинам они право голоса предоставили – прикиньте?
И она фыркает, харкает и сплевывает в корзину для мусора.
– А здесь… – и она тыкает пальцем в окно, куда-то в сторону Мирграда, – …все думают, что в Золотом Веке живут. Ну или должны жить. Время от времени они про это дело забывают, мы получаем передышку. А потом какой-то ублюдок опять ворошит это гнездовище, и – бац! – я разгребаюсь с очередным кризисом. Причем вмешиваться я не могу, как вы понимаете. Потому как официальная позиция у нас – «руками не трогать». Ну в Галадеше-то им по хрен, как мы тут выкручиваемся, между ними и нами целый океан, пока переплывешь, заманаешься. А вот у нас стены-то ихние – прям под носом. И вся эта их официальная позиция с нашего расстояния до тех стен видится как хрень собачья, и вообще…
Шара решает перебить горячую тираду:
– Губернатор Мулагеш, позвольте, прежде чем мы продолжим…
– Да?
– Кто убил доктора Панъюя? По вашему мнению?
Мулагеш ошарашенно смотрит на нее:
– По моему мнению? Адский ад… Даже не знаю. Да кто угодно, вообще-то. Его каждый первый в городе хотел укокошить. И потом, мне отмашки не давали это дело расследовать.
– Но вы же что-то думали по этому поводу…
– А то. Конечно, думала.
И Мулагеш окидывает Шару долгим изучающим взглядом.
– А вам-то что с того? Вы ж дипломат. По вечеринкам шляться сюда прибыли. Разве нет?
Шара запускает руку за пазуху и извлекает оттуда медальон сотрудника Министерства иностранных дел.
Мулагеш наклоняется вперед и – надо отдать ей должное – изучает его с совершенно каменным лицом.
Долго изучает. А потом читает вытесненное на медальоне имя:
– Комайд.
– Да, – подтверждает Шара.
– А не Тивани, правильно?
– Правильно, – подтверждает Шара.
– Комайд. Как Винья Комайд?
Шара смотрит ей в глаза. Не мигая.
Мулагеш откидывается на спинку стула. И после долгого молчания спрашивает:
– Сколько вам лет?
– Тридцать пять.
– Значит… Та история, шестнадцать лет назад. Национальная партия. Это было?..
Теперь очередь Шары сохранять каменное выражение лица.
Мулагеш медленно кивает. Шаре кажется, что в глазах ее мелькнула озорная искра.
– Ага. Что ж вы сразу-то не сказали?
– Боюсь, вы начали говорить, прежде чем я успела сказать хоть слово.
– Эт правда, – кивает Мулагеш. – У меня после бега рот не закрывается.
И она снова прихватывает зубами сигариллу.
– Выходит, вы тут и впрямь собираетесь убийство профессора расследовать.
– Я собираюсь выяснить, – Шара убирает медальон обратно, – есть ли в Мирграде силы, представляющие угрозу Сайпуру.
– В Мирграде? Вы смеетесь, что ли? Да они за последние пятнадцать лет токо-токо из кромешной нищеты выползли! Я сюда приехала – город жуткий был, словно по нему только что войска каджа прошли. Канализации даже не было, люди в ведра срали. Какая угроза Сайпуру, вы о чем?
– То же самое говорили перед Летом Черных Рек. Но потом мы ввели Установления – и Мирград восстал. А ведь жилось горожанам гораздо хуже, чем сейчас. Дело не в уровне жизни, как показывает опыт. У этого города сердце исполнено страсти, а страсть не поверяется деньгами…
– Как поэтично, – усмехается Мулагеш. И проводит большим пальцем вдоль шрама на челюсти. – Но, похоже, вы правы.
Она еще сильнее откидывается на спинку кресла – как только не перекинется, надо же – и глубоко задумывается.
Шара даже знает, о чем думает губернатор. Протянуть или нет руку помощи этой таинственной новой посланнице? Ведь как часто случается с министерскими чиновниками – один неверный шаг, и все добрые дела оборачиваются жуткой катастрофой. И все, кто поддерживал инициативы оступившегося, жестоко платятся за ошибку…
– Я нуждаюсь в вашей помощи, губернатор, – говорит Шара. – Я не могу рассчитывать лишь на полномочия посольства.
Мулагеш фыркает:
– Еще бы.
– Рада, что вы меня понимаете. Я готова сделать все необходимое, чтобы заручиться вашей поддержкой.
– Что, серьезно?
– Да. Я кровно заинтересована в том, чтобы как можно быстрее разобраться с этим делом. И без вашей помощи мне не обойтись.
Мулагеш, пожевав сигариллу, заявляет:
– Откуда мне знать, что вы способны исполнить мое желание?
– Вы удивитесь, узнав, какие у меня возможности.
– Ну ладно. Смотрите, посол Комайд. Я не против того, чтобы быть слугой. В конце концов, все мы, служащие, и есть слуги. Но я прослужила достаточно. И я хочу получить назначение куда-нибудь в приличное место. Получше, чем эта дыра.
Шара кивает: ей кажется, она понимает, куда клонит губернатор:
– Аханастан?
Мулагеш смеется:
– Аханастан? Вы серьезно думаете, что мне нужно больше ответственности? Клянусь морями, нет. Я, уважаемая посол, хочу получить назначение в Джаврат. Да.
– В Джаврат? – недоуменно переспрашивает Шара.
– Да. Я хочу отправиться в этот тихий уголок посреди Южных морей. Там пальмы. Солнце. Пляжи! Там хорошее вино, мужчины нормальные, а не с кожей цвета говяжьего жира. Я хочу уехать как можно дальше от Континента, посол. Потому как этот Континент мне уже поперек горла, вот.
Вот это да. Какой неожиданный поворот. Полис Аханастан – портовый город, причем порт там международного значения. А поскольку после Войны торговля все больше идет через морские пути, Аханастан – один из немногих полисов Континента, где можно заработать. Плюс, поскольку основа военной мощи Сайпура – его флот, Аханастан – город, теснее всех связанный с Сайпуром. А его губернатор – одна из ключевых фигур в мировой политике. Любой сайпурский чиновник хотел бы получить эту должность… а если Мулагеш желала назначения на крохотный остров Джаврат, это значило только одно: она хочет выйти из политической игры. А Шара еще не встречала сайпурца, который бы добровольно вышел из игры…
– Ну что скажете? – поинтересовалась Мулагеш. – Это возможно?
– О, это… возможно. Конечно, возможно, – кивает Шара. – Боюсь только, в Министерстве будут несколько… обескуражены.
– Мне не нужно продвижение по службе, – говорит Мулагеш. – Смотрите, сколько мне там осталось, той жизни? Лет двадцать? Или даже меньше? Я хочу погреть свои кости в каком-нибудь приятном месте, посол. А все эти аппаратные игры, интриги… Тошнит меня от них уже.
– Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы получили это назначение.
Мулагеш улыбается, как могла бы улыбнуться акула. Если бы умела.
– Ну и прекрасно. Тогда… начнем, не правда ли?
* * *
– Движение «За Новый Мирград», говорите… Эти ребята – они словно дрожжи в сортир бросили, вот что я вам скажу, – сообщает Мулагеш. – И говно там крепко забродило, да. Люди ж не слепые, они видят, что на модернизации можно кучу денег поднять. Сотрудничество с Сайпуром, вот это все, ну вы понимаете. И они хотят получить эти деньги. А вот местные мирградские богачи сотрудничать не хотят ни в какую. И орут, да так громко, что бедные их слышат и слушают.
– А какое отношение к этому всему имел доктор Панъюй?
– Ну эти антиновомирградцы что говорят? Что обновленцы, видите ли, «отступили от пути истинного»! – И Мулагеш всем видом показывает, где она видала этот путь и эту истину: и глаза закатывает, и ехидно улыбается, и рукой пренебрежительно отмахивается. – Причем истинный путь – это не то, как раньше жили. А то, как должно, видите ли, жить. А самые крикливые из них гордо называют себя «реставрационистами», хотя, что тут реставрировать, сами посудите. Это такие самозваные и самоназначенные хранители мирградской национальной и культурной идентичности. Ну вы поняли меня – засранцы как они есть. И когда сюда приехал Панъюй и начал ворошить и копать местную историю и культуру, они все как один заверещали и принялись тыкать в него пальцем.
– Ага, – понимающе кивает Шара.
– Ну да. Потому как реставрационисты – они ж теряли поддержку. Дураков нет процветанию и бабкам «пошли вон» говорить… Ну а, когда ты не можешь победить в дискуссии, что ты делаешь? Правильно. Ты меняешь тему разговора.
– То есть они просто отвлекали внимание, я правильно поняла?
– Угу. Тыкали пальцем в мерзкого сайпурца, который заявился в святой город с благословения иностранной державы, с которой некоторые отщепенцы собираются завязать тесные связи. И орали, выли, и визжали, и скулили на все голоса: мол, святотатство, как так можно! Не думаю, что им было дело до Панъюя и его миссии по «укреплению культурных связей» – хотя, может, кому-то и было… Но как карту они его отыграли на отлично. И хотя теперь все они, конечно, заявили, что никаким боком к убийству не относятся: типа просто хотели инициировать политическую дискуссию. Ну вы поняли: добрую старую политическую дискуссию, в которой вытирают ноги об оппонента и мерзко так клевещут. Ничего необычного, согласитесь…
Действительно. Ничего удивительного. Политика может рядиться в разные одежды, но если убрать показуху и церемонии, останется одна и та же неприглядная действительность.
– А это как-то может быть связано с убийством доктора Панъюя?
– Может быть связано. А может и не быть. Может, какой-то псих наслушался всех этих разговоров, да и заколотил профессора до смерти? А что, вполне возможный сценарий. Значит ли это, что в его смерти нужно винить мирградских политиков? Возможно, да. Можем ли мы что-то тут поделать? Наверное, нет.
– А что, если кто-то из мирградских влиятельных лиц, – говорит Шара, – соучастник?
Мулагеш даже прекращает гонять во рту сигариллу:
– Что вы имеете в виду?
– Мы осмотрели кабинет профессора. Его разгромили и разграбили. И я подозреваю, что это не могло случиться без молчаливого согласия кого-то из мирградских полицейских. Большую часть бумаг изорвали в клочья. Но кто-то явно что-то искал.
– И что именно?
– Я не знаю.
– Тогда почему вы пришли ко мне?
– Ну… Все может проясниться, если я узнаю, чем именно он занимался.
И Шара запускает руку в карман пальто, достает пропуска. Кладет их на стол Мулагеш и пододвигает к ней.
Мулагеш изменяется в лице. Вынимает изо рта сигариллу, долго, не двигаясь, сидит с ней в руке. Потом кладет ее на стол.
– Твою же ж мать…
– Что это такое, губернатор? – спрашивает Шара.
Мулагеш мрачно сопит.
– Что это, губернатор?
– Карточки посетителя, – неохотно поясняет Мулагеш. – Крепятся на груди, к карману рубашки. Чтобы мы видели, что у человека есть допуск. Они действительны только неделю. Ну потому что… мгм… потому что допуск… эгм… секретный. Очень. Я так понимаю, он просроченные карточки с собой увозил. Хотя было приказано их уничтожать! Вот что бывает, когда такое гражданским поручают.
– Допуск… к чему?
Мулагеш перекатывает сигариллу по столу.
– Я, вообще, думала, вы в курсе. В смысле, ну… каждый же, в общем-то, знает про… Склады.
От этих слов у Шары в буквальном смысле падает челюсть.
– Склады? Вы имеете в виду… Запретные склады?
Мулагеш неохотно кивает.
– Так что же, они… существуют?!
Она снова вздыхает.
– Да. Да. Они существуют.
Потом чешет за ухом, расстроенно повторяя:
– Твою же ж мать…
* * *
– Они меня туда отвезли сразу, как я на должность заступила, в первую же неделю, – рассказывает Мулагеш. – Давно это было… В общем, посадили в машину, повезли куда-то за город. И, главное дело, не говорят мне, куда едем. И тут такие перед нами бункеры, бункеры! Много бункеров – несколько десятков. Я спросила еще: а там что? Они так плечами в ответ пожали: да ничего особенного. Пшеница, шины, провода – вот это вот все. А в одном – в одном все было иначе. Он был другой, хотя выглядел точно так же. Для маскировки, понимаете? Типа как лучше прятаться? У всех на виду. Ну мы ж, сайпурцы, ребята умные. Дошлые. Правда, двери они не открыли. Просто сказали: вот, типа, здесь он. Он существует. Взаправду. И в целях обеспечения максимальной собственной и общественной безопасности вам об этом лучше ни с кем не говорить. И даже думать о нем забудьте. Так для всех лучше будет. Ну я и не говорила. И не думала. А потом… потом приехал профессор.
Шара изумленно вытаращилась:
– Так что же… Доктор Панъюй… он туда, выходит, ездил?
– Так он же ж историю изучать приехал! – пожимает плечами Мулагеш. – А где ж ее изучать, как не на Запретном складе? Он как раз историей и набит… В общем… в общем, поэтому это дело такое. Опасное, понимаете?
Шара сидит и молчит. Она настолько ошарашена, что не может говорить. Запретные склады всегда были чем-то вроде детской страшилки. В Министерстве никто всерьез не верил в их существование! Правда, если вчитаться в текст Светских Установлений… да, есть там один крохотный подпункт. Можно сказать, косвенный намек. Вот такой:
«Не позволяется вывозить с территории Континента никакие предметы, произведения искусства, артефакты и устройства, представляющие ценность для народов, населяющих Континент. В целях безопасности и ради сохранения этих предметов доступ к ним должен быть ограничен в случае, если природа этих предметов, произведений искусства, артефактов или устройств прямо противоречит требованиям Светских Установлений».
Как известно любому студенту, изучавшему довоенную историю, – а Шара как раз занималась периодом, предшествующим Великой Войне, – на Континенте таких предметов было просто несметное, несчитаное количество. До вторжения войск каджа население Континента невозбранно пользовалось в своей ежедневной жизни чудесными предметами – более того, оно даже не мыслило себе жизни без них, ибо на магических артефактах держался весь уклад жизни: на чайниках, в которых никогда не переводилась вода, одеялах, которые грели при любой погоде, замках, которые открывались лишь каплей крови определенного человека… В текстах, переживших Великую Войну, упоминаются дюжины и дюжины таких предметов. И естественно, некоторые чудесные вещи были не такими уж безобидными.
И тут возникает логичный вопрос: а где сейчас находятся все эти предметы? Если Божества создали великое множество таких вещей, а согласно Светским Установлениям Сайпур не имел права их вывезти с Континента или уничтожить (кстати, многие считали, что это неверное и странное дипломатическое решение), куда же они подевались?
И некоторые полагали, что логичный ответ таков: да, все эти вещи все еще здесь. Где-то на Континенте. Где-то они спрятаны. Надежно укрыты от посторонних глаз, на складах настолько секретных, что само упоминание их под запретом.
Нет, это невозможно. Это попросту нереально – скрыть от сотрудников Министерства, постоянно пересекающихся по работе, складские помещения такого размера. И такой важности! Шара за все время работы ни разу не то что не слышала о них – даже намека не было на то, что они существуют! А Шара, надо сказать, за время работы повидала многое…
– Как это… как это вообще возможно?! – спрашивает Шара. – Как можно держать в секрете существование такой громадины?
– Думаю, – отзывается Мулагеш, – это потому, что склад очень старый. Ходят слухи, что их несколько, но на самом деле он один. И его построили очень давно – когда все нынешние шпионские сети еще не действовали. Адский ад – да его построили еще до того, как на Континенте учредили губернаторства и связь с Сайпуром наладили… На самом деле в Министерстве вам бы все сказали, если бы вы запросили информацию. Но вы же не запросили…
– Но почему здесь? В Мирграде?!
– Ну почему в Мирграде – совсем не в Мирграде. Рядом с Мирградом. Когда кадж умер, его помощники собрали все обнаруженные им чудесные предметы и упрятали под замок. Предметов этих оказалось так много, что перевозка стала невозможной – заметили бы. Так что пришлось оставить их там, где собрали. И строить хранилище прямо на месте.
– И сколько их?
– Тысячи. Мне кажется.
– Вам кажется или вы знаете?
– Слушайте, ну я туда по понятным причинам не полезла. Мало ли что туда напихано? Там есть каталог, все по полочкам разложено, двери на замке – все как надо. И мне совершенно неинтересно, что там лежит. Потому что штуки, которые там собраны, – в общем, считается, что они утрачены. Что их больше нет. И меня это вполне устраивало. Умерли так умерли, все.
Шара с огромным трудом берет себя в руки и возвращается к текущим делам:
– Так. А Панъюя, выходит, не устраивало?
– Он приехал, чтобы изучать историю, но так, как до него никто не делал, – отвечает Мулагеш. – Бьюсь об заклад: именно ради Склада он и приехал. Мы же сидим жопой на куче артефактов – и все. Похоже, в Министерстве кто-то захотел поменять расклад. Захотел вскрыть шкатулочку.
Шаре весьма обидно это слышать. Выходит, ее предали? Не ввели в курс дела? Ефрем ни о чем таком ни разу не говорил… неудивительно, что он так хорошо учился шпионскому ремеслу. Ему уже было что скрывать…
Так. А ведь Винья наверняка в курсе. Так зачем совать руку в змеиную нору? Не первый раз Шара натыкалась на следы деятельности тети и уже понимала: меньше лезешь в дела тети Виньи – целей будешь.
И тут она вспомнила: Ефрем на кушетке в подвале посольства. Вместо умного лица с тонкими чертами – кровавая маска.
И тут сердце Шары ухает в пятки: «Ох, Ефрем… уж не тетя ли Винья тебя убила?..»
– А вы знаете, какие артефакты он изучал? – спрашивает Шара.
– Он сказал, что его интересуют только книги. Ну и пара неактивных предметов.
Шара кивает. Значение термина ей известно: «активными» называли вполне обычные, на первый взгляд, вещи – шкатулку, ручку, картину, – наделенные чудесными свойствами. Свойства эти могут быть явными, а могут быть и скрытыми. Вот, к примеру, изображения Святого Варчека были очевидно чудесными: фигуры на полотнах бродили туда-сюда и сплетничали. А вот простыни Божества по имени Жугов обнаруживали свои чудесные свойства, только когда в постель, которая была ими застелена, кто-то ложился – и мгновенно переносился на залитый лунным светом пляж в совершенно голом виде.
Но когда божественная сила, благодаря которой эти вещи становились чудесными, уходила – проще говоря, когда Бог умирал, – чудесные свойства быстро улетучивались. И такие предметы называли «неактивными»: то есть более не чудесными, но все равно не вызывающими доверия.
– Я не знаю, что конкретно его интересовало, – сказала Мулагеш. – Я вообще не очень разбираюсь в этих штуках – и не желаю разбираться, если уж на то пошло. Все это напихали туда еще во времена каджа, и с тех пор туда никто не совался. А потом приехал Панъюй… Нет, он, конечно, понимал, что к чему. Знал, чем рискует. Он вообще много чего знал про эти штуки. Сдается мне, он все эти старые сказки и легенды проштудировал, прежде чем туда пойти. И он вел себя очень осторожно. И если что оттуда выносил, то хранил бережно и держал под постоянным наблюдением.
– Он оттуда что-то выносил?!
Мулагеш лишь пожимает плечами:
– Кое-что – да, выносил. Судя по тому, что он рассказывал, большая часть тамошних экспонатов – просто старый хлам. И еще там хранятся горы книг. Ими-то профессор сначала больше всего интересовался. Ну он так сказал. Отобрал некоторые и вынес за… пределы Склада. Потому что там их было читать… неприятно, наверное.
«Сейф», – мелькает в голове у Шары.
– И вы считаете, что убийство как-то связано со Складом?
– Нет, ну оно, конечно, может быть с ним связано, – соглашается Мулагеш. – Но я так не думаю. Ведь дело-то в чем? Никто ж про этот Склад особо не знает. За хранилищем, частью которого он является, очень внимательно следят. Все на контроле. Никаких происшествий не замечено. Так что, скорее всего, профессора убили из-за ажиотажа вокруг его работы.
– Но ведь Склад опасен, предельно опасен!
– Послушайте меня внимательно, пожалуйста. Я в Мирграде мало что могу делать, но мониторить ситуацию могу и умею. Так вот в Склад никто проникнуть не пытался. Я в этом абсолютно уверена. Вам потребовался мой совет? Вот что я советую: приглядитесь к реставрационистам – это, похоже, их рук дело.
Шара недовольно морщится. Потом осторожно спрашивает:
– Я так понимаю… мне, наверное, вряд ли можно будет оформить доступ к этому Скла…
– Нет, – обрывает ее Мулагеш. – Нельзя будет оформить.
– Я понимаю, что у меня нет разрешения, но ведь если никто не узна…
– Стоп. Фразу не надо заканчивать, ладно? Делая мне подобное предложение, вы совершаете государственную измену.
Шара одаривает ее злющим взглядом:
– В этих материях я не менее сведуща, чем Панъюй!
– Вот и хорошо, – сообщает Мулагеш. – Но вас ведь не за этим сюда посылали, правда? И у вас есть доступ? Нет доступа. Ну и все. Вещь можно сохранить в тайне, только если никому ее не показывать. Никому – значит, никому, посол Комайд. Даже вам.
Шара поправляет на переносице очки. Ах, так?! Ну ладно, она еще подумает над этим вопросом. Позже. Очень хорошо подумает.
– Итак, – произносит она наконец. – Реставрационисты, говорите?
Мулагеш одобрительно кивает:
– Они самые.
– У вас есть информаторы?
– Ни одного, – качает головой Мулагеш. – Во всяком случае, нет такого, которому можно было бы доверять. Я не желаю лезть в это болото. К тому же они наверняка что-то пронюхают и начнут орать, что я за ними слежу. Зачем мне это?
– Как насчет обновленцев? Тех, кто поддерживает «Новый Мирград»? Они ведь могут нам помочь.
– До определенной степени. Впрочем, среди Отцов Города есть одна серьезная фигура – даже странно, как он решился открыто поддержать движение… Но вот открыто якшаться с нами, сайпурцами, он вряд ли захочет. Вы же понимаете – его тотчас же заподозрят в тайном злонамеренном сговоре. Хотя… официальных мероприятий никто не отменял, правда? Раз в месяц он устраивает прием для своих сторонников – что-то вроде благотворительного вечера в поддержку современных деятелей искусства. Ну и выборы на носу, опять же… Так вот, он обычно присылает мне и Главному дипломату официальные приглашения. Если хотите с ним переговорить – отправляйтесь туда.
– Расскажите мне о нем побольше.
– Он из состоятельной семьи – причем очень старинной и очень состоятельной. Несколько лет назад они много вложили в торговлю кирпичом – выгодное дельце, особенно если город перестраивать… Ну и в политике они активны, а как же. Кто-то из Вотровых обязательно избирается в городской совет уже… м-мать, это ж сколько ж лет будет?.. Шестьдесят, не меньше.
Шара, методично кивавшая каждой фразе, застывает без движения.
Прокручивает в голове то, что только что услышала. Прокручивает снова и снова.
Ох ты ж! А может, она ослышалась? Мало ли…
– Простите, – решается переспросить она. – Как вы, говорите, их фамилия?
– Вотровы. А почему вы спрашиваете?
Шара медленно откидывается на спинку кресла.
– Имя. Как его зовут, вот о чем я думаю…
– И?
– Уж не Воханнес ли?
Мулагеш вопросительно заламывает бровь:
– Вы знакомы?
Шара не отвечает.
Она вспоминает – и воспоминания обрушиваются на нее страшной тяжестью. Словно бы все это было сказано только вчера.
Когда они встречались в последний раз, он сказал: «Если приедешь ко мне на родину – будешь моей принцессой». А она ответила: «Милый мой мальчик, тебе не принцесса нужна, а принц. Правда ведь? Но на родине, вот незадача, у тебя с этим не срастется – камнями забьют». И самоуверенная улыбочка стаяла с его лица, а голубые глаза заледенели, и лед этот был хрупок и пошел трещинами, словно его бросили в теплую воду. И она поняла: вот сейчас она его обидела. Насмерть. Проникла в некий тайник его души и спалила там все дотла.
Шара зажмуривается и щиплет переносицу.
– Ох ты ж, мама дорогая…
* * *
Колонны рвутся в серое небо, пронзая его раз за разом, полосуя, вспарывая. Небо истекает слабой моросью, и та блестящей испариной оседает на фасадах. Война разворотила город, изранила здания – война давно окончилась, но город так и стоит костями-кишками наружу. Истощенные дети карабкаются по развалинам храма, на обвалившихся стенах танцует пламя костров, в провалах и подвалах звенят крики. Грязные мелкие оборванцы скачут, как обезьянки, бросаются к прохожим, тянут руки, выклянчивая монетку, еду – да что угодно: улыбку, теплый ночлег… Но в рукавах лохмотьев поблескивает железо: в рванине детишки прячут ножики, и тому, кто подаст им из жалости, не поздоровится. В Мирграде подрастает молодое поколение.
Те, мимо кого идет Сигруд, молчат. Не просят милостыню, не угрожают. Просто молчат и не двигаются с места, пока он не скрывается из виду.
Перед ним улицу переходит стайка замотанных в тяжелую шерсть женщин – плечи ссутулены, глаза скромно опущены. Шея, плечи и щиколотки тщательно прикрыты одеждой. Скрипят и пыхтят допотопные авто. Воняет лошадиным навозом. Из канализационных труб, торчащих почему-то из верхних этажей, все льется прямо на тротуары. Этот город слишком стар и слишком традиционен для нормальной канализации. Безлицые статуи провожают его с колоннад отсутствующими глазами. С балконов приземистых толстостенных зданий доносятся звуки музыки и смех – там живут богатые и именитые. Люди, которые не выставляют свою жизнь напоказ. Оттуда выглядывают мужчины в черных костюмах, на груди их блестят медали и знаки, они окидывают Сигруда негодующими взглядами, словно бы вопрошая: «Что это за безобразие? Как дикарь с гор мог оказаться в респектабельном квартале?» А рядом с дворцом-луковицей возникает вдруг странный фасад, похожий на выпавший кусочек головоломки: в половине окон нет стекол, а к рамам жмется деревянная лесенка. И кругом, кругом они – лестницы. Лестницы, завивающиеся потоками и ручьями, со стертыми скругленными ступенями и острыми новыми, широченные и узкие-узкие…
И Сигруд топает по ним, по одной, по другой, неуклонно следуя за мужчиной и женщиной. Те быстро уходят, словно убегают, от университета, но что это за погоня? Никакого удовольствия. Непрофессионалы – одно слово. За улицей вообще не следят. И еще они переругиваются – то тихо, то громко. И хотя Сигруд держится на расстоянии, кое-что он слышит.
Мужчина говорит:
– Этого следовало ожидать! Тебя предупреждали, говорили, что такое возможно!
Женщина отвечает сначала тихо, а потом зло повышает голос:
– …и тут они! Явились! Ко мне на работу! Туда, где я днюю и ночую, завтракаю! Да я те полы не десять и не двадцать лет мою, а они! Явились!
И снова вступает мужчина:
– А то ты не знала, что это опасно! Не знала? Знала! И что ж, на попятную теперь? От веры хочешь отречься?!
Женщина замолкает.
Сигруд закатывает свой единственный глаз. Простаки бесполезные… По правде говоря, от таких даже прятаться не стоит – все равно не заметят. Конечно, он снял и свернул свое бордовое пальто – слишком заметно на улице. Пальто, в общем, он нес под мышкой, но ведь в нем самом добрых шесть с половиной футов росту! Да, человеку таких габаритов трудно укрыться от взгляда. Но Сигруд знает: толпа во многом похожа на отдельного человека. У нее есть своя психология, привычки, природа. Толпа бездумно принимает форму – люди выстраиваются в цепочки и ряды, когда идут, определенным образом огибают препятствия. Тут все четко и согласованно, как в хорошо поставленном танце. Надо просто занять место в таком построении – как рыба зависает в стороне от косяка, который вдруг резко меняет направление и стремительно растворяется в глубине океана. Толпы, как и люди, не способны к самопознанию.
Пара останавливается у накренившегося, странным образом закругленного многоквартирного дома. Женщина, посерев лицом, ломает пальцы и выслушивает мужчину – тот что-то ей шепчет, видимо последние распоряжения. А потом она входит в дом. Спрятавшись в конюшне, Сигруд аккуратно записывает адрес строения.
– Эй! – Из боковой двери вылетает мальчишка-конюх. – Ты кто такой? Ты че здесь…
Сигруд оборачивается и смотрит на мальчишку.
Тот разом осекается:
– Э-э… ну я…
Сигруд поворачивается обратно к улице. Мужчина идет дальше по тротуару. Сигруд выходит из конюшни и следует за ним.
Вот теперь это больше походит на настоящую слежку. Мужчина углубляется в мирградские кварталы, которые более всего пострадали от Мига, Войны и прочих жутких катастроф, которые обрушились на город в тот сложный период мировой истории. Лестниц становится в три, а то и в четыре раза больше – Сигруд быстро сбивается со счета. Лестницы завиваются вверх и обрываются в чистом небе – на высоте десяти, двадцати, а то и тридцати футов. Они походят на кости или волнистые рога какой-то огромной экзотической антилопы. На некоторых верхних площадках гнездятся птицы и ночуют кошки. А вот и вовсе дурацкий вид – огромная базальтовая лестница рассекла целый холм – целая пропасть футов сорок глубиной из-за нее образовалась. Мало того, она еще и несколько домишек попутно туда завалила, и их руины до сих пор жалостно топорщатся на самом краешке провала, грозясь в любой момент сверзиться внутрь…
К счастью, человек, которого выслеживает Сигруд, не поднимается и не спускается по этим ведущим в никуда ступеням – он деловито шагает по улицам и проулкам. Впрочем, здешние улочки выглядят так же безумно, как и лестницы. Сигруд с интересом посматривает на вросшие друг в друга здания, напоминающие слепленные шаловливыми детскими ручонками игрушки: вот на века построенный офис приличной адвокатской конторы или чего-то подобного отрастил себе с одного угла совершенно неуместную баню. А некоторые влезшие внутрь чужого фасада здания словно бы иссекли скальпелем и сунули не туда: вот этот кусок обувной лавки явно вырезали и перекинули, запихав посреди банка.
Темп погони нарастает. Объект, которого ведет Сигруд, резко сворачивает влево. Сигруд следует за ним. Объект проскакивает в щель среди груды камней, некогда бывшей высокой стеной. Сигруд ныряет в другую дыру, но визуального контакта не теряет. Объект – Сигруд в этом абсолютно уверен – не догадывается о том, что за ним ведут наружное наблюдение, и взбегает по шаткой лестнице на крышу старой церкви. Сигруд резво скачет за ним со ступеньки на ступеньку, стараясь попадать в ритм его шагов. Расстояние между ним и объектом сокращается.
Сигруд выбирается наверх и осторожно выглядывает – а вот и объект, бежит прямо к краю… Стоп, он же не собирается останавливаться! Тридцать футов до карниза, двадцать, пять… Что это? Он…
Он прыгает.
Перед глазами Сигруда напоследок взлетают полы серого плаща – и человек камнем падает вниз на мостовую, разведя руки и растопырив пальцы.
Сигруд хмурится, выбирается на крышу и подходит к краю.
Вот она, мостовая, футах в сорока внизу. Однако… ни тела, ни отпечатка… вообще ничего. Может, он на что-нибудь спрыгнул? Но нет, не на что ему спрыгивать – стена гладкая и отвесная. Словно бы он бросился вниз, а потом просто…
Исчез.
Сигруд недовольно ворчит. Вот ведь незадача какая…
Не спуститься ли вниз по стене? С другой стороны, зачем? И он возвращается на лестницу и спускается на улицу.
И опять – никого. Похоже, в этой части Мирграда людей вообще нет.
Сигруд ощупывает булыжники мостовой, камень за камнем. Теплых среди них нет. Холодный, твердый камень.
Он вздыхает.
Чего он только не навидался, работая с Шарой Комайд, – странности, ужасы, диковины и непонятности случались с ним куда как часто. Тем не менее ни разу он не испугался и не взволновался. Странности и ужасности Сигруда просто раздражают – и ничего больше.
И он разворачивается – пора возвращаться в посольство. И тут… тут его посещает нездешнее чувство.
Улица. Она словно бы изменилась в один миг – и на одно мгновение. Когда он не смотрел на нее, а видел лишь краешком глаза. Это невозможно, но он это видел, точно видел: брошенные дома и облупленные фасады исчезли, а вместо них в небо вознеслись немыслимые, сверкающие бело-золотые башни небоскребов.
Мы даже отдаленно не можем себе представить размер ущерба, нанесенного Мигом.
Дело даже не в масштабах разрушений – хотя масштаб был поистине огромен. Дело в природе этих разрушений: они настолько не укладываются в привычные понятия, что мы – сайпурцы, континентцы, вообще все, кто пережил Миг или родился после, – даже не можем представить себе, что потеряли.
Впрочем, на языке фактов ситуацию можно описать, пусть и поверхностно, так:
В 1639 году, после первой увенчавшейся успехом попытки убить Божество и уничтожения дислоцированных в Сайпуре отрядов континентальной армии, Авшакта си Комайд, недавно принявший венец каджа, собрал крошечный и довольно жалкий флот и отплыл к берегам Континента – который в те времена, естественно, назывался Святыми землями.
Святые земли оказались совершенно не готовы к подобному: почти тысячу лет тамошние жители наслаждались покровительством Божеств, и сама идея, что кто-то, и уж тем более сайпурец, вторгнется в Святые земли, представлялась совершенно невероятной. Еще более невероятной была сама мысль о том, что кто-то сумеет убить Божество. Тем не менее жители Святых земель и оставшиеся в живых три Божества (напомним, что Олвос и Колкан задолго до этого покинули мир) весьма обеспокоились долгим отсутствием Божества Вуртьи: они не знали, что Вуртья погибла в Ночь Красных Песков в 1638 году, а ее армия была перебита. Вот почему, когда у южных берегов, близ Аханастана, показался флот, Божества предположили, что это возвращается их сестра со своими сподвижниками, и действовали, исходя из этого.
Это и привело их к гибели. Кадж готовился к вооруженному столкновению при высадке и потому снабдил несколько кораблей теми же аппаратами, с помощью которых он убил Вуртью. А Божества настолько беспокоились о судьбе сестры, что в порт Аханастана встречать флот прибыл сам Таалаврас, предводитель Божеств.
В дошедших до нас воспоминаниях моряков каджа произошедшее в порту описывается по-разному. Кто-то говорил, что видел «нависшую над гаванью человекоподобную фигуру двенадцати футов росту, с орлиною головой». Другие рассказывали, что глазам их предстала «огромная статуя, обликом чем-то напоминающая человека, вся в лесах, – и при этом истукан двигался». Были и такие, кто увидел только «луч синего света, упирающийся в небеса».
Но в каком бы виде не предстал в тот момент Таалаврас, дальнейшее известно точно: кадж направил на него свой аппарат, выстрелил и убил, как и Вуртью перед тем.
Но, поскольку Таалаврас был богом-строителем, все построенное им исчезло в тот же миг. Судя по величине ущерба, нанесенного Мигом, построил он больше, чем предполагалось. По сути, Таалаврас изменил самые основания реальности Континента. Природа этих изменений, скорее всего, недоступна уму смертного человека. Тем не менее, когда эти изменения исчезли – представим себе это так, словно опоры и крепежи обрушились, гайки и болты выпали, – то самая реальность Святых земель внезапно изменилась.
Матросы каджа не видели Мига: они рассказывают только о страшном шторме, который не давал им высадиться два дня и три ночи. Они считали, что буря вызвана Божествами ради защиты их земель, и не повернули назад только благодаря решимости каджа. Они и не подозревали, что всего в несколько милях от них происходит катастрофа вселенского масштаба.
Целые страны исчезли с лица земли. На месте улиц зияли провалы. Храмы обратились в пепел. Звезды пропали с небосклона. Небо закрыли тучи, и климат Континента необратимо изменился: некогда солнечные, изобилующие песками сухие земли обратились в неприветливо холодные, влажные и вечно пасмурные – прямо как земли дрейлингов на севере. Здания божественной природы схлопнулись в одиноко стоящие камни, и их обитателей, похоже, постигла страшная участь. А Мирград, город священный по преимуществу, над которым Таалаврас неустанно трудился более всего, в один страшный миг уменьшился в диаметре на мили и мили, и так самая природа города едва ли не уничтожилась, а сотни тысяч жителей – если не больше, причем настолько больше, что даже подумать о таком страшно, – перестали существовать. Сам Престол мира, храм и зал собраний Божеств, полностью исчез, осталась лишь его колокольня – и та уменьшилась в размере, так что теперь в ней всего несколько ярусов.
Словом, целый образ жизни – вместе со своей историей и знанием о себе – погиб в один миг.
Д. Ефрем Панъюй. К вопросу об утраченной истории. 1682 г.
Мертвые языки
Едва процарапанные карандашом буквы сливаются в скудном свете ламп. Шара недовольно цокает языком, зажигает еще одну лампу, садится за стол и снова пытается прочитать написанное. Проклятый город, насколько же они тут отсталые, что даже в посольстве нельзя добиться нормального напора газа в лампах?
Она переписала зашифрованную записку профессора на несколько листов бумаги, пытаясь выжать из перекрученных букв правду, – с тем же успехом можно было стараться выжать воду из камня. Рядом с документами остывала чашка нуньянского чая (Шара решила сделать перерыв с сирланом – если она продолжит его потреблять в таких же количествах, запасов посольства хватит едва ли на неделю). Она так низко склоняется над документами, что тепло ламп обжигает лицо.
Судя по расстановке букв, это все-таки адрес. Она уже разобралась с частью шифра, однако это, скорее всего, даже не шифр в обычном смысле слова: скорее, послание просто записано буквами нескольких наугад выбранных алфавитов. Вот это, похоже, согласные, их верхняя часть – из гешати, мертвого языка Западного Сайпура. Над нижней половиной пришлось покорпеть пару часов, но она все-таки разгадала их: это, судя по всему, чотокан – невероятно редкий и практически неизвестный (поскольку никому не понятный) язык, на котором говорят в горах к востоку от дрейлингских республик.
Осталось разобраться с гласными.
А потом с цифрами.
Ох уж эти цифры…
Теперь она уже не так сильно восхищается профессором. «Что ж ты делаешь, Панъюй, старый ты хитрющий лис…»
Шара отставляет в сторону чашку и откидывается в кресле. Очень хочется верить, что она никак не может разобраться с запиской просто потому, что шифр сложный. На самом же деле она не желает себе признаться в том, что просто не может сосредоточиться. И думает о другом.
«Он здесь. Здесь, в городе. В этом же городе. Возможно, всего в нескольких кварталах отсюда. И как я упустила это из виду? Разве можно быть такой дурой…»
* * *
Все это началось – как и многие другие Шарины дела и занятия длиною в жизнь – с игры.
Первый день триместра в академии Фадури в Галадеше – всегда очень напряженный. Юные дарования изо всех округов и со всех островов Сайпура обнаружили, что просторные коридоры и аудитории Фадури заполнены такими же юными дарованиями. И быстро поняли, что, несмотря на внушаемое с детства «ты – особенный и не такой, как все», здесь они могут оказаться вовсе не такими уж особенными. Это дома все они гении, а тут – тут нужно из кожи вон вылезти, чтобы доказать, что ты лучший. Потому что доказывать это придется лучшим из лучших.
Чтобы разрядить обстановку, школа в выходные перед началом занятий традиционно устраивала соревнования по батлану. Затея снискала такую популярность, что родители изо всех сил натаскивали детей перед приездом – видимо, руководствуясь ошибочным представлением, что высокое место в турнирной таблице гарантирует их чаду хорошие оценки и обеспеченное будущее.
Шара Комайд, тогда шестнадцати лет от роду, не разделяла общих тревог и ожиданий. Во-первых, она пребывала в неколебимой уверенности, что она – самая способная и лучше ее в академии не сыскать. Во-вторых, к батлану она относилась с некоторой долей презрения, ибо полагала ее игрой для выпендрежников, к тому же слишком зависимой от случая и везения: игроки по очереди бросали кости, и выпавшие очки определяли их дальнейшие действия. Да, это добавляло игре непредсказуемости, но выводило ее из-под контроля. Поэтому она всегда предпочитала товос-ва – похожую на батлан, но требующую больше мысленных усилий и более медленную игру. В ней победа доставалась тому, кто умел думать на несколько ходов вперед. Так или иначе, играть в нее случалось крайне редко: это была континентская игра, и в Сайпуре о ней почти никто не слышал.
Впрочем, уроки, усвоенные при игре в товос-ва, могли пригодиться и в батлане. До определенной степени, конечно. Чтобы совладать с фактором случайности, приходилось думать намного, намного вперед. Но если ты умел это делать и планировал свои следующие ходы – о, в таком случае разделать ординарного игрока в батлан не составляло никакого труда.
В те выходные перед началом триместра Шара проложила себе место в верхние строчки турнирной таблицы с безжалостностью акулы. Поскольку она выиграла в первой дюжине состязаний, ей, чтобы добраться до финала, предстояло выиграть еще за тремя дюжинами досок. Сидящие напротив игроки вызывали у нее все больше презрения: прямо как дети, ей-ей, они попадались в ее ловушки один за другим, а все потому, что полагали, что играют в одну игру, а на самом деле им навязывали совсем другую. И она без стеснения выказывала, что чувствует по отношению к незадачливым противникам: вздыхала напоказ, закатывала глаза, подпирала подбородок рукой, укоризненно сопя, когда все они делали один дурацкий непродуманный ход за другим.
Другие студенты посматривали на нее с неприкрытой ненавистью. А когда они прознали, что ей на самом деле шестнадцать, то есть на два года меньше, чем обычному первокурснику Фадури, ненависть сгустилась в ярость.
Шара настолько уверилась, что без труда выиграет состязания, что совершенно не обращала внимания на турнирную таблицу. А когда все-таки взглянула, то с удивлением обнаружила, что другой игрок учинил практически то же, что и она: растерзал противников и вырвался наверх. Сидел он с другой стороны коридора. И фамилия у него была Вотров.
Она откинулась в кресле и огляделась по сторонам: где же он? Обнаружить его в толпе оказалась куда как просто.
К ее удивлению, он был не сайпурцем, а континентцем: высокий, худой голубоглазый молодой человек с белой кожей, рыжими волосами и волевым подбородком.
– Я сделал свой ход, – сообщил соперник Шары.
– Ш-ш-ш-ш… – отмахнулась Шара – она во все глаза смотрела на юношу, подмечая каждое его движение.
– Что? – сердито переспросил соперник.
– Ой, ну ладно, ладно, – нетерпеливо отозвалась Шара и сделала два хода, которые в следующем заходе должны были обернуться для сидящего напротив сокрушительным поражением.
И продолжила пожирать глазами континентца.
Богачи оттуда частенько посылали своих отпрысков на учебу в Сайпур. В конце концов, Сайпур – самая богатая и процветающая страна в мире, а на Континенте все еще неспокойно. А выглядел парень сущим аристократом: сидел, с ленцой развалясь в кресле, глядел приветливо, но не скрывал скуки и при этом все время болтал с игроками напротив, весело подначивая их, – прямо как за светским разговором в кофейне.
Тут юноша поднял взгляд, и их глаза встретились. Он широко улыбнулся и подмигнул.
Обескураженная Шара вернулась к партии.
В конечном счете, после двух часов непрерывной игры и разгромных партий с половиной студенческого населения Фадури, Шара оказалась лицом к лицу с континентцем. Они встретились в финале, один на один, а все остальные, студенты и преподаватели, стояли вокруг и наблюдали за партией.
Она недоверчиво посмотрела на континентского мальчишку: тот с самоуверенной улыбочкой потянулся, со щелчком размял костяшки пальцев и заявил:
– Ну что ж, сыграем? Наконец-то настало время для первой настоящей партии!
И принялся расставлять фигуры батлана.
– Не понимаю, о чем ты, – пробурчала Шара – она делала то же самое.
– Хм. Возможно, – протянул он. – Скажи мне вот что. Ты когда-нибудь слышала о такой игре, как товос-ва?
Сердце Шары екнуло. Очередная фигура замерла на весу над доской.
– Там, откуда я родом, эта игра очень популярна! – радостно сообщил парень. – Да, у нас в Мирграде проводится ежегодный турнир по товос-ва! И я… дай-ка припомнить… сколько же турниров я выиграл? Помню, что три подряд, просто не помню, когда точно…
Шара закончила расставлять фигуры.
– Сударь, предлагаю вам прекратить разглагольствовать и начать игру.
Он посмотрел на ее фигуры и расхохотался:
– Приятно видеть, что твои подозрения небеспочвенны! Это похоже на Финт Мискени, правда ведь? – веселился он. – Или было бы похоже, играй мы в товос-ва. Хорошо, что это батлан, да?
И он поставил на место свою последнюю фигуру.
Шара оглядела их:
– А это, – кивнула она, – Петля Стровского.
Он торжествующе осклабился.
– Или ты хочешь заставить меня поверить, что это она, – продолжила Шара. – Потому что сдается мне, что через три хода это станет Бастионом Авангарда, а после – Основным Флангом.
Юноша поморгал, словно ему залепили пощечину. Улыбка сползла с его лица.
– Но хорошо, что это батлан, да? – свирепо проговорила Шара. И наклонилась над доской: – Ты выглядишь куда привлекательней, красавчик, – прошипела она, – с отмытым от самодовольства лицом.
Студенты вокруг согласно ахнули.
Парень сверлил ее пристальным взглядом. Хохотнул всего единожды, словно бы не веря своим ушам. Потом коротко бросил:
– Кидай кости.
– С удовольствием, – кивнула Шара.
По столку покатились фигурки слоновой кости, и игра началась.
Поединок их растянулся аж на четыре часа: они бесконечно примеривались друг к другу, то и дело занимая оборонительную позицию, перестраивая фигуры и меняя комбинации. Как сказал один преподаватель, более консервативной партии в батлан он еще не видел. Впрочем, на самом деле они, конечно, играли совсем не в батлан, а в совершенно другую игру – причудливую смесь батлана и товос-ва, которую сами же изобретали в ходе схватки.
Он беспрерывно болтал, щебетал, журчал, как ручеек, – обращенный к ней поток слов не иссякал ни на минуту. Шара упорно молчала три часа – три часа подначек и подшучиваний. А потом континентский мальчишка изрек:
– И все же скажи мне: неужели в твоей жизни так мало веселья, что ты тратишь время на изучение непонятных иностранных игр?
Он сделал ход, который выглядел весьма агрессивным, но Шара-то знала, что это финт.
– У тебя что, нет друзей? Близких?
– Ты так уверен, что научиться играть в твою игру очень сложно, – процедила рассерженная Шара, – но для меня ваши игры и ваша культура – просто чепуха и детский лепет.
И она проигнорировала расставленную ей ловушку и пошла в самоубийственную – на несведущий взгляд – атаку.
Он расхохотался:
– Заговорила-таки! Этот боевой топорик, оказывается, наделен даром речи!
– Уверена, что благодаря своему положению в обществе ты привык к беспрекословному повиновению и потаканию малейшим прихотям, а те, кто обманывает твои ожидания, кажутся тебе совершенно невыносимыми представителями человечества.
– Возможно. Возможно, я забрался так далеко только для того, чтобы услышать подобную отповедь. Однако удивляет меня вот что: какие же удары судьбы обрушились на тебя, мой милый боевой топорик, что ты получила такую бритвенную заточку?
И он свернул наступление и укрепил оборону. (За его спиной какой-то студент недовольно проворчал: «Ну и когда они начнут играть по-настоящему?»)
– Ошибаетесь, сударь, – сказала Шара. – Вы просто излишне чувствительны. На самом деле, дорогой принц, я ожидала, что это жесткое, не подбитое плюшем кресло натрет вам попку.
Студенты рассмеялись, а Шара принялась спокойно и методично готовить ему западню.
Юный континентец, похоже, и не думал обижаться. Напротив, в глазах его вспыхнул странный огонек.
– Ах, моя дорогая, – протянул он, – если ты возьмешься проверить, так ли это, я, пожалуй, не стану возражать…
И сделал следующий ход.
– Что это значит? – возмущенно спросила Шара.
И сделала еще один ход – словно бы отступая, а на самом деле заманивая в ловушку.
– Не прикидывайся невинной овечкой! – парировал он. – Это ты подняла тему, не я! Я просто уступаю тебе инициативу…
И он сделал еще один ход – наобум, не думая.
– Что-то я не вижу, чтобы ты уступал мне, – пробормотала Шара.
Она отступала, отступала, подкинула еще и приманку и все думала: «Странно, почему он вдруг стал так промахиваться?»
– Внешность, – сообщил парень, – бывает обманчива.
И он бросил кости – и снова бросился в атаку.
– Согласна, – покивала Шара. – Итак. Не хочешь на этом закончить?
– Закончить что, позволь спросить?
– Партию. Если хочешь, можем прямо сейчас взять и разойтись.
– Ты предлагаешь ничью?
– Нет, – отрезала Шара. – Я ставлю тебя в известность о том, что я выиграла. Это, конечно, произойдет через несколько ходов, но… в общем, я выиграла.
Наблюдавшие за игрой студенты стали изумленно переглядываться.
Континентец наклонился над столом, присмотрелся к ее фигурам, потом внимательно оглядел свои – похоже, последние несколько раз он действительно ходил наобум. Тут Шара поняла: а ведь он даже не смотрел на доску. Он не сводил глаз с нее.
Парень разинул рот.
– Ох, – проговорил он. – Кажется, я понимаю…
– Еще бы, – сказала Шара.
– Хм. Так-так. Нет, давай-ка мы поступим честно и отыграем партию до конца, идет?
Это была формальность, которая продлилась чуть дольше положенного благодаря нескольким удачным броскам костей, но вскоре Шара собирала его фигурки с доски. К ее вящему раздражению, континентец не выглядел пристыженным или сконфуженным: он просто продолжал ей улыбаться.
Она сделала то, что сочла предпоследним ходом.
– Не могу не спросить. Ну и как это – проиграть сайпурской девчонке?
– Ты, – сообщил он, покорно склоняя шею под ее клинок – деваться все равно было некуда, – не девчонка.
Она на миг замерла: о чем это он?
Шара сняла с доски его последнюю фигуру. Зрители вокруг восторженно заорали, но она их едва слышала. Любит он загадывать загадки… Что он имел в виду?
– Готова дать возможность отыграться – когда захочешь.
– Ну я, по правде, – весело проговорил он, – предпочел бы перепихнуться.
Она ошалело вытаращилась.
Он подмигнул, встал и пошел к своей компании. Шара посмотрела ему вслед, потом оглядела восторженно голосящую толпу студентов.
Интересно, кто-нибудь еще это услышал? Он что, всерьез? Нет, правда?
– Это кто такой был? – громко спросила она.
– Ты что, правда не знаешь? – спросили ее в ответ.
– Нет.
– Да ты что! Ты действительно не в курсе, что играла против Воханнеса Вотрова? Самого мажорного мажора на всем Континенте, будь он неладен?
Шара посмотрела на пустую доску и задумалась: а что, если этот парень играл не в батлан и не в товос-ва, а в какую-то совсем другую игру. Причем совершенно ей, Шаре, не известную.
* * *
Эти проклятые цифры сведут ее с ума. И жизнь укоротят на пару десятков лет.
Она расшифровала практически всю записку. Вычитывалось в ней сейчас следующее: _ _ _ Х_Й-СТ___Т, БАНК СВ___ГО М_ _ _В_ _ ВЫ, ЯЧ_ _ _А_ _ _ _ Г _В _НИ Т_ _ _КАН_ _ _ _.
Значит, ячейка. В каком-то банке. Который назван в честь какой-то святой. В обычном случае это бы чрезвычайно сузило выборку, но в Мирграде Хай-стрит – очень длинная улица, и практически каждый первый банк назван в честь какого-нибудь святого.
Вообще-то, на Континенте практически все названо в честь святых. Это Шаре тоже прекрасно известно. Сайпурские историки подсчитали, что на Континенте перед Великой Войной насчитывалось что-то около семидесяти тысяч святых: похоже, Божества подмахивали сертификаты о святости не глядя и раздавали их направо и налево. Когда в силу вступили СУ, убрать имена святых из обихода – а также переименовать все города и края, названные в честь Божеств и божественных созданий, – оказалось непосильной задачей, и поэтому Сайпур сделал вид, что идет на огромную уступку и соглашается смотреть на это сквозь пальцы. Хотя на самом деле на это дело просто плюнули за неимением сил и ресурсов. А сейчас Шара смотрит на текст записки и искренне сожалеет об этом. Потому что имплементация Светских Установлений изрядно упростила бы ее задачу.
Имена. Да уж, с ними всегда столько мороки… Посмотреть хотя бы на Южные моря – какие же они Южные? Они ведь лежат к северо-востоку от Сайпура! Но называются Южными по той просто причине, что получили свое имя на Континенте. А имена – как уже начали понимать в Сайпуре – не так-то просто сменить. Они намертво цепляются за вещи.
А еще эти цифры… Шара еще не разобралась с ними, но уже прикидывала, как там и что. Числительные и цифры в древних языках – вообще гиблое дело. Так, например, одна секта особо фанатичных почитателей Божества Жугова отказалась от числа 17. Почему – никто из историков так и не сумел выяснить.
Она хорошо помнит их с Панъюем беседу на конспиративной квартире в Аханастане:
– Мертвых языков – как звезд в небе, – сказал он.
– Так много? – удивилась Шара.
– Древние жители Континента знали, что делали. Они прекрасно понимали, что власть над умами можно взять, только контролируя язык покоренных наций. Когда национальные языки умерли, вместе с ними исчезли образ мышления и свойственная им картина мира. Они мертвы, и их не вернуть.
– Вы – один из тех академических ученых, что пытаются возродить родной язык Сайпура? – спросила Шара.
– Нет. Сайпур – большая страна, там у каждой провинции был свой родной язык. Подобные предприятия оставьте ура-патриотам, мне до них дела нет.
– Тогда какой смысл всем этим заниматься?
Он разжег трубку. И сказал:
– Хм. Все мы обращаемся к нашему прошлому, чтобы узнать, как пришли к настоящему, разве нет?
И все-таки он ей соврал. Использовал втемную. И не сказал, зачем сюда едет.
Шара возвращается к работе. Впереди много часов работы. К тому же работа отвлекает от ненужных воспоминаний.
* * *
Отучившись два месяца, они снова встретились. Шара сидела в библиотеке – читала о деяниях Сагреши, героической помощницы каджа. Читала и краем глаза заметила, что кто-то сел за стол у окна.
Он склонил голову над книгой, золотисто-рыжие кудри падали на лоб. Похоже, он не умел сидеть прямо: сейчас он весь скривился и завалился назад. На коленях лежал том работ о Тинадеши – инженере, строившем на Континенте первые железные дороги.
Шара окинула его сердитым взглядом. Потом подумала, поднялась, собрала свои книги и уселась напротив. И стала молча смотреть на него.
Он даже не поднял головы. Просто перевернул страницу и через некоторое время сказал:
– И что же тебе от меня нужно?
– Почему ты тогда сказал это?
И он поглядел на нее сквозь упавшие на глаза спутанные волосы. И хотя Шара была не из тех, кто злоупотребляет алкоголем, характерная припухлость век объяснила ей многое – в Фадури преподаватели называли это «утренним недомоганием».
– Что – это? – спросил он. – Ах, на турнире…
Она кивнула.
– Ну… – И тут он скривился и, словно застеснявшись чего-то, уткнулся обратно в книгу: – Да зацепить тебя хотелось. Ты ж серьезная такая вся сидела до невозможности. Не улыбнулась ни разу, несмотря на все победы.
– Но что конкретно ты имел в виду?
Тут он посмотрел на нее – явно не понимая, чего от него хотят:
– Э-э-э… ты… серьезно спрашиваешь?
– Ну да.
– А сама-то как думаешь? Что конкретно я мог иметь в виду, когда сказал, что хочу с тобой перепихнуться? – неуверенно выговорил он.
– Да я не об этом, – пренебрежительно отмахнулась Шара. – С этим все понятно. Я о другом. Ты сказал, что я… не девчонка.
– Ты что, на это разозлилась? Серьезно?!
Шара смерила его злющим взглядом.
– Так, понятно, – сказал он. – Короче. Я девчонок достаточно повидал. Девочкой, кстати, можно быть в любом возрасте. В сорок. В пятьдесят. Есть в них какая-то взбалмошность – впрочем, и сорокалетний мужчина может вести себя воинственно-агрессивно, словно нетерпеливый мальчик пяти лет от роду. Но – в любом возрасте можно быть и женщиной. А ты, моя дорогая, уже к шести годам, уверен, приобрела душу пятидесятитрехлетней или даже пятидесятичетырехлетней женщины. Мне это абсолютно очевидно. Ты – не девчонка.
И он снова уткнулся в книгу:
– Ты – сто процентов женщина. Причем, скорее всего, весьма преклонных годов.
Шара подумала над этим. А потом вытащила собственные книги, разложилась и принялась читать – там же, куда села, напротив него. В ней кипели ярость и гнев, но в то же время она чувствовала себя странным образом польщенной.
– Да, эта биография Тинадеши – полное говно. Так, на всякий случай предупреждаю, – сообщила она.
– Правда?
– Угу. Автор предвзят. Плюс у него сомнительные ссылки.
– Ах, вот оно что. Ссылки, значит. Это очень важно.
– Да.
Он перевернул страницу.
– А кстати, – вдруг сказал он, – а ты, случайно, не думала над той, другой фразой? Ну насчет того, чтобы перепихнуться?
– Заткнись.
Он улыбнулся.
* * *
И они стали встречаться в библиотеке почти каждый день, и их отношения очень походили на ту игру в батлан: долгое, изматывающее противостояние, в котором никто не мог толком продвинуться или уступить. С самого начала Шара понимала, что, если принять во внимание национальность, они поменялись ролями: она выступала суровым непреклонным консерватором, фанатично защищавшим правильный образ жизни и преимущества дисциплины и служения ближнему. А он – он вел себя как снисходительный вольнодумец, держащийся точки зрения, что если кому-то заблагорассудится что-то сделать, и это никому не вредит, более того, если у человека есть деньги, чтобы оплатить свою прихоть, то кому, в конце-то концов, какое дело?
Оба соглашались с тем, что их страны находятся в критически опасном состоянии. «Сайпур разжирел и размяк, занимаясь торговлей, – сказала ему как-то Шара. – Мы считаем, что безопасность можно купить за деньги. И никому, совершенно никому не приходит в голову, что за безопасность нужно бороться – каждый день, каждый час».
Воханнес закатил глаза:
– Батюшки, какая жуткая у тебя картина мира. Мало того что циничная, так еще и скучная до зевоты.
– Я права, – упорствовала Шара. – Сайпур стал тем, чем стал, благодаря военной силе. А вот гражданское правительство у нас излишне мягкотелое.
– И что ты собираешься предложить? Чтобы сайпурские дети выучили еще одну клятву верности Родине? – расхохотался Воханнес. – Дорогая моя Шара, неужели ты не видишь? Сила Сайпура в том, что он позволяет людям быть людьми. В отличие от Континента.
– Ты… ты – восхищаешься – Сайпуром? Ты ведь континентец!
– Конечно, восхищаюсь! И не только за то, что здесь я не смогу подхватить проказу – чего, увы, нельзя сказать о Континенте. Просто здесь… здесь вы как-то человечнее, что ли. Разве ты не знаешь, как редко такое встречается?
– Я-то думала, что тебе нужны дисциплина и взыскания, – протянула Шара. – Вера и самоотречение.
– Так думают не все континентцы, а только колкастани, – сказал Воханнес. – И это ублюдочный образ жизни. Поверь мне.
Шара покачала головой:
– Ты неправ. Мир можно поддерживать только силой. И верой в идею. Так всегда было – и ничего не поменялось.
– Я смотрю, для тебя в мире царят холод и мрак, дорогая моя Шара, – улыбнулся Воханнес. – Надеюсь, что твой прадед научил тебя главному: даже один человек может изменить к лучшему жизни многих.
– Восхищаешься каджем? За такое на Континенте тебя убьют.
– На Континенте меня вообще за кучу вещей могут убить.
Оба, как и положено образованным отпрыскам влиятельных семейств, полагали очевидным, что вскоре изменят судьбы мира, – вот только никак не могли сойтись на том, как же их лучше поменять. Шара беспрестанно фонтанировала идеями: написать объемный исторический труд о сайпурской и мировой истории? Или пойти в политику, как тетушка? Воханнес тоже не отставал: профинансировать грандиозный дизайнерский проект перестройки всех полисов Континента? Или вложить деньги в радикально новую бизнес-идею?
Его тошнило от ее идей, ее – от его, и они не скупились на желчные комментарии, оплевывая респективные замыслы.
Вполне возможно, что они оказались в одной постели просто потому, что устали от нескончаемых словесных баталий.
Однако дело было, конечно, не только в этом. Шара ведь хорошо понимала: ей не с кем было поговорить по душам – пока она не встретила Воханнеса. А он, похоже, чувствовал себя так же: оба из респектабельных знаменитых семей, оба сироты – и оба, благодаря своему происхождению, выросли в тотальной изоляции. Их отношения весьма походили на ту игру, что они вели во время состязания: их приходилось выдумывать каждый день наново, и никто, кроме них, не мог разобраться, что вообще между ними происходит.
На первом и втором курсе Шара, если не училась, беспрерывно – просто беспрерывно и постоянно – занималась сексом. Она только потом смогла это оценить. А на выходных, когда горничные академии не выходили на работу и все могли ночевать где вздумается, она оставалась у него в комнате и могла продремать в его объятиях целый день – время от времени удивляясь, как ее сюда занесло и что она делает в постели чужестранца родом из краев, которые ей положено всем сердцем ненавидеть.
Нет, она не считала, что это любовь. Она не считала, что это любовь, когда стала непривычно сердиться и тревожиться в его отсутствие. Она не думала, что это любовь, когда получила от него записку и испытала странное чувство облегчения. И она не думала, что это любовь, когда ловила себя на мысли: а как они будут жить через пять, десять, пятнадцать лет. Ей вообще не приходило в голову, что вот это – любовь.
А спустя годы корила себя: как же мы были глупы в молодости… Не видели того, что перед носом…
* * *
Шара откидывается в кресле и обозревает результат своего труда:
3411 ХАЙ-СТРИТ, БАНК СВЯТОГО МОРНВЬЕВЫ, ЯЧЕЙКА 0813, ГИВЕНИ ТАОРСКАН 63611
Вытирает пот со лба, смотрит на часы – три утра. И тут же наваливается усталость.
Но самое трудное еще впереди. Надо же как-то добраться до содержимого ячейки. Но как?
В дверь стучат.
– Войдите, – говорит она.
Дверь распахивается. Сигруд вдвигается внутрь комнаты, усаживается напротив и принимается неспешно набивать трубку.
– Как все прошло?
Странное у него выражение лица – растерянное. Словно бы он продолжает смотреть на что-то безмерно его удивившее.
– Плохо?
– Плохо, – кивает он. – Но и хорошо тоже. А еще… странно.
– Что случилось?
Он сердито пихает в рот трубку.
– В общем, про тех двоих. Сначала женщина. В общем, она работает в университете. Уборщицей. Зовут ее Ирина Торская. Не замужем. Семьи нет. Увлечений нет. Только работа. Я проверил, где она убирала, – у профессора в кабинете. И на квартире. Ее приставили к уборке у доктора Панъюя с самого его приезда сюда.
– Отлично, – кивает Шара. – Возьмем, значит, ее в разработку.
– Второй, который мужчина… а вот он…
Тут Сигруд рассказывает, что с ним приключилось в безлюдных трущобах Мирграда.
– Так что же, он просто… исчез? – спрашивает Шара.
Сигруд кивает.
– Звук какой-нибудь необычный ты слышал? Как хлыстом щелкнули?
Сигруд отрицательно качает головой.
– Хм. Если бы ты услышал что-то похожее на щелчок хлыста, я бы подумала, что это…
– Кладовка Парези.
– Парнези.
– Какая разница!
Шара задумчиво потирает виски. Святой Парнези умер несколько веков тому назад, а вот труды его никуда не делись и продолжают доставлять неприятности. Парнези был священником Жугова и умудрился влюбиться в монахиню-колкастани. Поскольку Колкан к сексу относился крайне неприязненно, Парнези столкнулся с определенными трудностями во время визитов в монастырь своей возлюбленной. А деятельный и хитрый Жугов изобрел чудесную штуку, позволившую Парнези исчезать без следа под носом у врагов – как божественных, так и смертных: кладовку, или невидимый воздушный карман, в который можно нырнуть в любой миг. Так он и проникал в монастырь на свидания к любимой.
Естественно, подобное чудо можно использовать в совсем небезобидных целях. Так, два года назад Шара потратила три месяца жизни на то, чтобы разобраться с утечкой документов в посольстве в Аханастане. Виноваты оказались трое торговых атташе, которые каким-то образом наложили руки на чудесный артефакт. И если бы один из них не злоупотреблял одеколоном – а надо сказать, что запах в Кладовке Парнези не спрячешь, – Сигруд бы его ни за что не поймал. Но так вышло, что он все-таки изловил преступника и поступил с ним крайне невежливо… Зато изменник быстро сознался и выдал имена сообщников.
– Я-то боялась, что это чудо после происшествия в Аханастане станет излишне популярным… – пробормотала Шара. – Только этого нам и не хватало. Последствия были бы жуткими… Но если это не Парнези… А ты положительно уверен, что он прямо взял и исчез?
– Я умею отыскивать людей, – с непреклонной и равнодушной уверенностью заявил Сигруд. – Этого человека я отыскать не смог.
– А ты, случайно, не видел – он не вытаскивал кусок серебристой материи? Скальп Жугова имеет примерно такие свойства… Но его уже сорок лет как не видели… выглядит как серебристая простыня. Не видел такой?
– Ты упускаешь главное, – сказал Сигруд. – Даже если этот человек стал невидимкой – он упал с высоты нескольких этажей. Он должен был разбиться насмерть.
– Упс. Да, точно.
– А я ничего такого не увидел. Я обыскал каждую пядь улиц вокруг. Обыскал квартал. Опросил всех, кого можно. И ничего не нашел. Но…
– Но что?
– На одно мгновение… словом, мне показалось, что я не там, а в другом месте.
– Батюшки, о чем это ты?
– Сам не знаю, – вздохнул Сигруд. – Но словно бы я оказался в… старинном городе, что ли. Я видел здания, которых там не было.
– Какого рода здания?
Сигруд пожимает плечами:
– Словами описать не могу. Не получается.
Шара поправляет на носу очки. Вот это да. Плохо дело…
– Как у тебя дела? – спрашивает Сигруд, оглядывая пучок ламп и кучи бумажек. – Гляжу, ты аж три чайника употребила… Так что все либо очень хорошо, либо очень плохо.
– Все как у тебя – есть хорошие новости, и есть плохие новости. Письмо Панъюя в банковской ячейке. Вот только я не знаю, как до него добраться.
– Ты ведь не собираешься отправить меня грабить банк?
– Нет-нет-нет! Ни за что! – ужасается Шара. – Могу себе представить заголовки газет…
И количество трупов, м-да…
– Как насчет подергать за ниточки?
– Ниточки?
– Ну ты же дипломат, – говорит Сигруд. – А Отцы Города – они как марионетки, разве нет? Вот и подергай их, пусть подрыгаются.
– Не уверена, что это поможет. Я, конечно, могла бы надавить на них… но вдруг за ячейкой установлено наблюдение? Потому что сдается мне, что за Панъюем следили, и очень пристально. Он занимался такими вещами… словом, я не знала, что он этим занимается. И он, похоже, не спешил поставить меня в известность.
Она поднимает взгляд на Сигруда:
– Я не уверена, что должна рассказывать тебе про это. Но, если ты спросишь, я отвечу.
Сигруд пожимает плечами:
– Мне как-то все равно, если честно.
Шара вздыхает с нескрываемым облегчением. Все-таки здорово, что у нее такой «секретарь», – ему совершенно плевать на все эти пляски вокруг умолчаний и конфиденциальности: он совершенно удовлетворен свой ролью молотка в мире гвоздей.
– Ну и прекрасно, – кивает Шара. – Я бы не хотела афишировать, что мы проявляем особый интерес к разысканиям Панъюя, – потому что если они узнают, что мы не знаем того, что знал Панъюй… В общем, может нехорошо получиться. Нам нужно действовать тоньше. Правда, я пока не знаю, как.
– Так что же нам делать сейчас?
Сначала Шара не находит, что ответить. А потом, очень постепенно, понимает, что ответ она обдумывала всю ночь. Просто не замечала этого.
Да, решение очевидно. Но какой же на сердце из-за этого камень… И все равно. Это сработает. Обязательно сработает. Так что будет глупо не попробовать.
– Ну… – тянет Шара. – У нас есть одна наводка. Кто у нас в Министерстве соображает в финансах?
– Финансах?
– Да. Особо интересует банковское дело.
Сигруд пожимает плечами:
– По-моему, я слышал, что Юндзи все еще работает…
Шара делает пометку:
– Юндзи подойдет. Я с ним в ближайшее время свяжусь. Пусть проверит… Думаю, я права. Но мне нужно, чтобы он сообщил точную информацию насчет того, как все там обстоит с финансовой точки зрения.
– Значит, мы до сих пор сами по себе? Я и ты против всего Мирграда?
Шара заканчивает писать:
– Хм. Нет. Думаю, мы одни не справимся. Начинай рассылать агентов. Думаю, нам понадобятся люди. Точнее, глаза. Но они не должны знать, что работают по заданию Министерства. Впрочем, что я говорю: ты прекрасно справляешься с подрядчиками.
– И сколько мы им готовы заплатить?
Шара называет цену.
– Вот почему у меня прекрасно получается с ними справляться, – кивает Сигруд.
– Отлично. И последнее. Вынуждена спросить: у тебя есть одежда для вечеринки?
Сигруд лениво указывает на свои заляпанные грязью сапоги и выпачканную в саже рубашку:
– А что, на вечеринку в этом не пустят?
* * *
В предрассветной мгле Шара лежит и ждет, когда к ней придет сон. И вспоминает.
Случилось это ближе к середине срока, отпущенного их роману, хотя ни она, ни Воханнес об этом не догадывались. Она увидела его под деревом. Во сидел и смотрел, как в водах Хамарды проплывают байдарки, – наступило время тренировок по гребле. Команда девушек как раз спустила суденышко на воду и забиралась в него. Когда Шара подошла и присела к нему на колени – она часто так делала, – то почувствовала, что сзади в нее уперлось что-то мягкое и объемное.
– Мне начинать волноваться? – поинтересовалась она.
– Насчет чего? – удивился он.
– А ты как думаешь?
– Дорогая, я на природе стараюсь вообще не думать. Отдых портит, знаешь ли.
– Должна ли я волноваться, – уточнила она, – насчет того, что когда-нибудь ты подаришь своей благосклонностью другую девушку?
Воханнес расхохотался. Он был искренне удивлен:
– Надо же, боевой топорик способен на ревность!
– Зачем ревновать без причины? – И она запустила руку за спину и пощупала шишку под штанами. – А это, сдается мне, вполне себе причина.
Он довольно проворчал:
– Я и не думал, что у нас все настолько официально.
– По-твоему, мы сейчас степень официальности обсуждаем?
– Ну да. А разве нет? Дорогая, разве ты не хочешь этим сказать, что ты принадлежишь мне, а я – тебе? Неужели ты хочешь быть моей девушкой всегда? И принадлежать только и исключительно мне?
Шара не ответила. И отвернулась.
– Что случилось? – спросил Воханнес.
– Да ничего.
– Нет, ну что случилось, правда? – Он явно расстроился. – Что такого я сейчас сказал?
– Я же сказала – ничего!
– Но я же вижу, что очень даже чего. Ты распространяешь вокруг себя ледяной холод, дорогая.
– Ну… наверное, это действительно неважно. Просто я… В общем, все дело в нас. В том, как мы, сайпурцы, устроены.
– Ох, Шара, не томи, выкладывай. Могу ведь я узнать, в чем дело, правда?
– Ну, для тебя-то тут ничего такого ужасного нет. Для тебя совершенно нормально сказать: «ты принадлежишь мне». Что я – твоя девушка. Просто мы так не говорим. И тебе, наверное, трудно понять, почему… ведь вами, жителями Континента, никогда не владели. Вы никогда не были чьей-то собственностью. И когда это говоришь именно ты, Во, поверь, это звучит… очень своеобразно.
Воханнес тихо охнул:
– Боги мои, Шара, ты что, не знаешь, что я ничего такого не…
– Я знаю. Что ты не имел в виду. Я знаю, что для тебя это совершенно невинный оборот речи. Но принадлежать кому-то, быть чьим-то – поверь, здесь в это вкладывают совершенно другое значение. Мы так не выражаемся. Потому что люди не забыли – каково оно было. Тогда. В прежние времена. Они всё помнят.
– Помните, говоришь? – неожиданно зло отозвался Воханнес. – А мы – не помним. Мы потеряли нашу память. Ее у нас отняли. Твой проклятый пра-пра-пра-хрен-его-знает-дедушка и отнял.
– Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда…
– Знаю, а как же. Но, видишь ли, в чем дело. Твой народ хранит свои воспоминания. Даже самые неприятные. Вам разрешено учить нашу историю. Твою мать, да здесь в библиотеке больше информации по нашему прошлому, чем у нас на Континенте! Но, если я попытаюсь провезти домой хоть одну книгу, меня оштрафуют. Или арестуют. Или вообще не знаю что со мной сделают. Вы же и арестуете.
Шара смущенно притихла. Оба развернулись к реке. В камышах лебедь изогнул длинную белую шею и ударил черным клювом. Потом вскинул голову – с зажатой в клюве крохотной белой лягушкой. Та жалобно сучила лапками.
– Ненавижу, – пробормотал Воханнес.
– Что ненавидишь?
– Что мы разные.
И надолго замолчал.
– И то, что мы, похоже, не очень-то хорошо знаем друг друга.
Шара наблюдала, как гребцы мчат свои суденышки по реке. Вздувались блестящие от пота мышцы. Сначала промчались девушки, а за ними – юноши. Одеты они были гораздо легче, и мускулатура просматривалась прекрасно.
Ей показалось? Или шишка у нее за спиной стала тверже, когда юношеская команда вырвалась на утренний свет из тени ив?
Он вздохнул:
– Ну и денек.
Мы не можем быть самими собой. Нам не разрешают. Быть собой – это преступление. Быть собой – это грех. Быть собой – это воровство.
Мы – работа. Только работа. Мы – древесина, вырубленная из деревьев родного края. Мы – руда, исторгнутая нами из костей нашего края, мы – кукуруза и пшеница, что мы выращиваем на наших полях.
И мы никогда не будем иметь части во всем этом. Мы никогда не будем жить в домах из срубленных нами деревьев. Мы никогда не сможем отковать и выплавить инструменты из металла, который мы добыли. Все это – не для нас.
Мы живем не для себя.
Мы живем для тех людей, что живут за большой водой. Для детей богов. Мы для них – такой же металл, камень и дерево, они нами пользуются.
Мы не протестуем, потому что у нас нет голоса. Иметь голос – это преступление.
Мы даже и подумать не можем о том, чтобы протестовать. Думать о таком – преступление. Вот эти слова – слова, что вы слышите, – они украдены у меня.
Мы – не избранные. Мы – не дети богов. У нас нет души, мы дети праха, мы как грязь и глина.
Но если это так, то почему боги нас вообще сотворили? И если наше предназначение – только трудиться ради чужого блага, зачем они дали нам разум, зачем одарили желаниями? Почему бы не сотворить нас безмысленными, подобно скоту в полях или курам на насестах?
Мои праотцы и праматери умерли рабами. Я умру рабом. Мои дети умрут рабами. Но если мы – всего лишь собственность детей богов, то почему боги разрешили нам испытывать горе?
Боги жестоки не потому, что заставляют нас работать. Они жестоки, потому что позволяют нам надеяться.
Анонимное свидетельство из Сайпура, ок. 1470 г.
То, что у него получается лучше всего
Дом семейства Вотровых – одно из самых современных зданий в Мирграде. Однако по виду ни за что не догадаешься: приземистый, грузный домина громоздится перед тобой массой серого камня, и даже трогательно-хрупкие контрфорсы не исправят впечатления. Растопыренные в стороны стены испещряют крохотные, подобно дырочкам от булавки, оконца, в некоторых пляшут узкие язычки свечных огней. С севера вечно поддувало холодом, но с южной стороны дом раскрывался уступами террас, постепенно сужавшихся до крошечного вороньего гнезда на самом верху. Шаре, привыкшей в Сайпуре к воздушным минималистским сооружениям из дерева, здание напоминает уродливый водяной полип. Есть в нем что-то примитивное, дикарское. Однако по мирградским меркам это совершеннейший авангард – ибо, в отличие от особняков других знатных семейств, этот был выстроен с оглядкой на холодную и ветреную погоду. А климат в Мирграде, как ни посмотри, резко изменился не так уж давно.
«Эти люди скорей умрут, чем признают, что мир изменился», – думает Шара, покачиваясь на заднем сиденье автомобиля.
Сердце трепещет. Неужели он вправду там, внутри? Она не знала, где он живет, а теперь видит этот дом и осознает: да, у него была своя жизнь, с ней не связанная. И эта мысль внушает странную тревогу.
Спокойнее, спокойнее. Нельзя давать волю этим мысленным шепоткам и бормотаниям. Шара приказывает шепоткам в голове замолчать, но от этого они становятся лишь громче.
К воротам особняка тянется громадный хвост из автомобилей и карет. Шара наблюдает, как самые богатые и знаменитые граждане Мирграда выбираются из своих разномастных транспортных средств, пряча лицо в воротники пальто. На улице стоит мороз. Очередь движется крайне медленно, и только через полчаса нетерпеливо бормочущий, кривящийся от недовольства Питри заводит машину в ворота и подкатывает к дверям.
Лакей встречает ее взглядом хладным, как ночной ветер. Шара вручает ему официальное приглашение. Тот забирает его, коротко кивает и указывает рукой в белоснежной перчатке на дверь – которую демонстративно не собирается открывать.
Амортизаторы душераздирающе скрипят, и из авто выбирается Сигруд. И ставит ножищу на нижнюю ступень лестницы. У лакея едва заметно дергается щека, и он, отвесив Шаре глубокий поклон, распахивает дверь.
И она переступает порог особняка. На скольких вечеринках ей удалось побывать – и каких! Там среди гостей прохаживались генералы, предводители бандформирований и гордые своим ремеслом убийцы. И тем не менее – никогда она не боялась так, как сейчас…
Интерьер особняка резко контрастирует с его суровым внешним видом – внутри все отделано с непринужденной роскошью. Холл освещают сотни газовых рожков под голубоватыми стеклянными колпачками, под куполом потолка сверкает хрустальная люстра невозможно сложной конструкции, похожая на гигантский светящийся сталактит. В центре зала полыхают огнем два огромных камина, а винтовая лестница, закладывая широкие круги, полого уводит вверх, под сумрачные своды дома.
Голос в ее голове – очень похожий на тетушку Винью, кстати, – произносит: «Ты могла бы жить здесь с ним. А всему виной – твоя гордость».
«Он меня не любил, – отвечает она. – И я его не любила».
Нет, она, конечно, не дурочка и не станет убеждать себя, что это правда. С другой стороны, и не совсем ложь…
– Он такой огромный, – слышит она голос рядом с собой, – потому что у него в кармане все строительные компании, будь они неладны. Вот почему.
Мулагеш стоит возле колонны по стойке смирно. У Шары начинает болеть спина от одного взгляда на губернатора. На Мулагеш – военная форма. Отглаженная, пуговицы начищены, ни пятнышка, ни пылинки. Волосы увязаны в строгий узел, черные сапоги сияют зеркальным блеском. Левая сторона груди увешана медалями, причем наград так много, что неуместившиеся висят и справа. В общем и целом она выглядит не как хорошо одетая женщина, а как тщательно собранный из отдельных деталей человек. Шару так и подмывает пощупать швы на френче на предмет заклепок.
– Прежний дом исчез в Миг, – говорит Мулагеш. – Во всяком случае, так мне сказали.
– Приветствую, губернатор. Выглядите… впечатляюще.
Мулагеш кивает, но глаз от толпящихся у камина гостей не отводит.
– Люблю напоминать этим гражданам, кто есть кто, – говорит она. – Дипломатия дипломатией, а военное присутствие Сайпура в моем лице со счетов пусть не сбрасывают.
Солдаты бывшими не бывают, это точно. Рядом с камином возвышается постамент. На нем – пять небольших статуй.
– Я так понимаю, что это и есть повод для вечеринки? – спрашивает Шара.
– Похоже, что так, – кивает Мулагеш.
Они с Шарой неторопливо направляются к статуям.
– Должен состояться аукцион, выручка пойдет в фонд партии «Новый Мирград» – ну и на другие столь же полезные, хм, дела. Вотров – известный меценат. Кстати, смелые идеи у скульптора, вы только посмотрите на это…
И впрямь: это не обнаженная натура в прямом смысле – все интересные места либо задрапированы одеждой, либо закрыты, к примеру, грифом гитары. Три женские статуи, две мужские, ничего особо красивого: приземистые, коренастые фигуры, с широкими бедрами и толстыми ляжками.
Шара щурится, читая подпись под скульптурной группой, и читает вслух:
– «Крестьяне на отдыхе».
– Угу, – кивает Мулагеш. – Ровно две вещи, о которых в Мирграде не желают задумываться: нагота и бедность. Впрочем, наготу здесь вообще не переносят на дух.
– Я в курсе местных взглядов на сексуальность.
– Такими взглядами испепелить можно… – бормочет Мулагеш, подхватывает с подноса проходящего мимо лакея бокал с элем и наполовину осушает его. – С ними даже говорить об этом невозможно.
– Да, это вполне ожидаемо. То, что здесь косо смотрят на наши… более прогрессивные представления о браке, широко известно, – сухо отвечает Шара.
Мулагеш фыркает:
– Не знаю, когда я замуж выходила, ничего прогрессивного в наших представлениях не заметила.
Во времена владычества Континентальной империи сайпурцы рассматривались как движимое имущество, и хозяева (как корпорации, так и отдельные континентцы) могли насильно женить их и выдавать замуж – а также принуждать к разводу. Когда кадж сверг власть Континента, законы о семье и браке принимали во многом под влиянием этих травм: так, в Сайпуре два взрослых человека могут заключить по взаимному согласию брак на шесть лет. Затем этот контракт продлевается или заканчивается по истечении срока. Поэтому сайпурцы женятся и выходят замуж неоднократно – два или даже три раза. И хотя гомосексуальный брак в Сайпуре официально не признан, подобные союзы не запрещены государством, которое стоит на страже личных свобод.
Шара приглядывается к одной из статуй – точнее, к красноречиво выпирающему из-под одежды причинному месту.
– Похоже, это самая настоящая контркультура…
– Это плевок в глаза богатеньким – вот что это.
– Фи, как грубо, – произносит голос за их спинами.
Высокая, стройная молодая женщина в пышных мехах подходит поближе. Она очень, очень молода, ей едва за двадцать. Красивая – темные волосы, высокие острые скулы. Она выглядит как истинная жительница Континента – и в то же время утонченно-космополитично. Нечасто встретишь такое сочетание.
– Я бы сказала, что эта скульптурная группа открывает новый взгляд на вещи.
Мулагеш поднимает стакан и насмешливо замечает:
– Ну что ж, тогда за новый взгляд. За то, чтобы он прижился и распространился.
– Судя по вашему тону, вы не очень-то в это верите, губернатор.
Мулагеш что-то нечленораздельно ворчит, прихлебывая эль.
Молодая женщина вовсе не удивлена такой реакцией, нет. Однако она все равно говорит:
– Ваш скептицизм очень расстраивает нас, губернатор. А ведь мы надеемся, что, как представитель вашей страны, вы поддержите наши усилия…
– Я тут, знаете ли, сижу не затем, чтобы кого-то поддерживать. Я даже официальных заявлений делать не могу. Но я, по долгу службы, часто выслушиваю, что говорят Отцы Города, госпожа Ивонна. И я не слишком уверена, что ваши амбициозные прожекты им по душе.
– Времена меняются, – отвечает девушка.
– Это так, – отвечает Мулагеш. И сердито отворачивается к огню. – Но медленнее, чем вам кажется.
Девушка вздыхает и разворачивается к Шаре:
– Надеюсь, вам не передалось пессимистичное настроение госпожи губернатора? Мне бы так хотелось, чтобы ваш первый выход в свет в Мирграде прошел в более приятной атмосфере… Вы же наш новый культурный посол, разве нет?
– Да, – соглашается Шара. И отвешивает вежливый поклон. – Шара Тивани, культурный посол, чиновник второго ранга, исполняющая обязанности главы сайпурского посольства.
– А я – Ивонна Стройкова, помощник куратора студии, которая любезно предоставила нам эти произведения искусства. Мне очень приятно, что вы нашли время прийти, но я должна предупредить: увы, здесь не все встретят вас с легким сердцем – к сожалению, от предубеждений прошлого не так-то просто избавиться… Однако я надеюсь, что ближе к концу этого вечера мы станем хорошими друзьями.
– Вы очень, очень любезны, – кивает Шара. – Благодарю вас.
– Что ж, позвольте в таком случае представить вас гостям, – улыбается Ивонна. – Ибо я более чем уверена, что госпожа губернатор не снизойдет до таких прозаических дел…
Мулагеш подхватывает с подноса еще один эль.
– Вам конец, посол, – сообщает она. – Но будьте осторожнее с этой девицей. Ей нравится, видите ли, рисковать…
– …и пить шампанское, – светло улыбается в ответ Ивонна.
И тут же становится понятно, что, несмотря на юный возраст, госпожа Ивонна Стройкова – настоящая светская львица: она прокладывает дорогу в толпе гламурных знаменитостей и богачей, как акула в стае рыбок. В течение часа Шара успевает поклониться и пожать руки практически каждому представителю собравшегося в зале звездного общества.
– Я всегда хотела быть художницей, – доверительно сообщает Ивонна Шаре. – Но, увы, ничего из этого не вышло. У меня недостало… впрочем, даже не знаю, как сказать. Наверное, воображения. А может, амбициозности. Возможно, того и другого. Чтобы создать что-то новое, нужно быть немного не от мира сего. А я… я – плоть от плоти нашего мира, даже слишком плоть от плоти…
От камина доносится негромкий ропот.
– Что бы это значило? – удивляется Ивонна, но Шаре все видно: Сигруд.
Упирается ногой в камень и достает из огня пылающий уголек. Даже отсюда Шара слышит, как тот шипит в пальцах Сигруда, – но лицо гиганта ничем не выдает боли. Он спокойно подносит его к трубке, делает две глубокие затяжки, выдыхает клуб дыма – и выбрасывает уголек обратно в камин. А потом неспешно бредет в темный уголок, прислоняется к стене со скрещенными на груди руками и мрачно оглядывает зал.
– А это что за удивительное создание? – ужасается Ивонна.
Шара тихонько покашливает и безмятежно отвечает:
– Мой секретарь. Сигруд.
– Вы держите дрейлинга в секретарях?!
– Да.
– Но, позвольте… они же… дикари, разве нет?..
– Все мы – продукт обстоятельств.
Ивонна звонко смеется:
– Ах, госпожа посол… А вы умеете шокировать – и это прекрасно! Уверена, мы станем лучшими подругами. Ах! Как вовремя!
И она убегает прочь от Шары – к высокому бородатому джентльмену, который медленно спускается по лестнице, тяжело опираясь на белую трость. Его явно беспокоит правое бедро – правая рука то и дело тянется туда, однако он изо всех сил сохраняет царственную осанку. На нем элегантный, довольно консервативный белый смокинг и расшитый золотом кушак.
– Ах, мой дорогой! Что ж так долго! Я-то думала, мы, женщины, вечно опаздываем, одеваясь, но куда нам до мужчин!
– Проклятый дом. Когда-нибудь я не выдержу и установлю здесь подъемник! – ворчит он. – Эти проклятые лестницы однажды меня доконают, вот увидишь…
Ивонна обвивается вокруг его плечей:
– Ты ворчишь, как старичок!
– Я и есть старичок!
– Старички так не целуются! – И Ивонна привлекает его к себе, несмотря на шутливое сопротивление. Кто-то в толпе отзывается на сцену тихим: «Ух ты!» – Нет, – отпуская его губы, выносит вердикт девушка. – Совсем не как старичок. Но я буду проверять каждый день, дорогой…
– В таком случае, тебе следует заранее записаться на прием, милая. Как ты знаешь, я ужасно, ужасно занят. Итак. Кто же сегодня вечером пользуется моими неслыханными щедротами? – весело произносит он.
И огладывает толпу. Отсветы пламени из очага высвечивают его лицо.
И сердце Шары сжимается: она-то считала, что он и впрямь старик, а он не постарел. Совсем.
Волосы отросли, да, и, хотя на висках пробивается седина, они все того же странного рыжеватого оттенка. Бородка и вовсе медно-рыжая, коротко подстриженная – совсем не похожая на обычный для богатых континентцев комок нечесаной шерсти под подбородком. Волевой подбородок, все та же самодовольная улыбочка. Глаза, хоть и потеряли в блеске – не горит в них уже знакомый диковатый огонек, – все такие же ярко-голубые. Как у нее в воспоминаниях…
Гости и тонкие ценители искусства уже подбираются к хозяину с приветствиями.
– Батюшки, какая толпа. Надеюсь, вы все при бумажниках? – И он счастливо смеется, здороваясь с каждым.
И хотя наверняка он лично знаком едва ли с десятком гостей, каждого он приветствует как старого друга.
Шара наблюдает за ним. Она испугана. Насмерть. И заворожена. Она оцепенела от ужаса. Он совсем, совсем не изменился.
И обнаруживает, что ненавидит его за это. Как грубо и непорядочно с его стороны исчезнуть на годы и вот – нате пожалуйста! – снова вынырнуть из небытия совершенно тем же человеком!
– Ты видел статуи? – спрашивает его Ивонна. – Дорогой, тебе непременно нужно их увидеть. Они восхитительно отвратительны. Я их обожаю. Жду не дождусь завтрашнего дня, хочу почитать, что напишут газетчики.
– Наверняка всякие гадости, – улыбается он.
– О, непременно, непременно! Крики и истерика, вопли и слезы. Я очень на это надеюсь. Ривеньи – с литейного завода, помнишь? Он здесь. Ты хотел, чтобы он как-нибудь пришел, да? Так вот он пришел. Я-то думала, он свирепый и суровый, как и положено быть промышленнику, но нет, он такой милый-милый… Поговори с ним, он такой приятный. Я принесу тебе конверт для чека. Ах, и сегодня у нас в гостях наш новый культурный посол, и ты знаешь, у нее помощник – ни за что не догадаешься! – се-ве-ря-нин! Нет, ты можешь себе представить? Северянин – секретарь! И он тоже здесь, дорогой, ты только подумай, он сунул голую руку – в огонь! Невозможные, положительно невозможные вещи творятся сегодня вечером, я хотела сказать, что сегодняшний вечер, дорогой, задался, задался, в этом не может быть сомнений!
И он снова поднимает взгляд и обводит веселыми глазами зал. Сначала он ее не видит. Ноги у Шары подгибаются, словно от удара в челюсть. Не заметил…
А потом глаза его вспыхивают, и он медленно, медленно-медленно возвращается взглядом к ней.
В течение нескольких секунд на лице его сменяется множество выражений: растерянности. Узнавания. Изумления. И гнева. А следом тонкие черты его лица принимают вполне знакомый вид: губы кривятся в высокомерной, самодовольной усмешке.
– Новый культурный посол, значит, – тихо выговаривает он.
Шара поправляет на переносице очки. Мамочки, что же делать?
* * *
Сигруд глядит в огонь. И массирует большим пальцем ладонь затянутой в перчатку руки. И припоминает старинное северное присловье: «Завидуй огню, ибо огонь либо есть, либо его нет. Пламя не чувствует радости, печали, злости. Оно либо горит, либо не горит».
Сигруду понадобилось несколько лет для того, чтобы понять, о чем это. А еще больше лет прошло, прежде чем он выучился быть как огонь: просто живым. И все.
Он смотрит, как кружат в толпе друг вокруг друга Шара и человек с тростью. Как они останавливаются и отворачиваются друг от друга – отворачиваются, да не совсем, и исподтишка посматривают: через чье-то плечо или искоса, стараясь, чтобы другой не заметил взгляда.
Они наблюдают друг за другом, изо всех сил стараясь этого не делать. Экий неуклюжий танец.
Человек с тростью все посматривает на часы: наверное, не хочет, чтобы его заподозрили в поспешности. Обаяв всех гостей скопом и каждого по отдельности, он наконец-то выхватывает из толпы лакея и что-то шепчет ему на ухо. Тот пару раз обегает многолюдное сборище, а потом подходит к Шаре и вручает белую карточку. Шара, улыбаясь, убирает ее в карман, а потом, под каким-то предлогом отделавшись от разговорчивой девушки в мехах, прокрадывается наверх.
Сигруд снова поворачивается к огню. Конечно, они любовники. Их движения так и поют о прошлых ласках. Это даже смешно: Шара Комайд – и любовница? Она маленькая и тихая, но он-то знает, что она – такое же живое оружие, как и он, Сигруд. И все-таки глупо удивляться. Все создания на свете хоть недолго, но любили в своей жизни.
И он припоминает, как ходил на китобое «Свордйалин»: скользкая от крови и жира палуба, команда обдирает, как с яблока, с убитого кита шкуру. У борта полощется в воде воняющая, истекающая красным туша, над ней орут и дерутся тысячи чаек. Погоня, поединок с китом, старший помощник раз за разом тычет алебардой в легкие зверюги, и наконец из дыхательного отверстия бьет уже не вода, а кровь, а потом они идут обратно к кораблю и тащат мертвого кита за собой… Когда все это заканчивалось, Сигруд где-нибудь в трюме вынимал из-за ворота медальон. И долго держал в ладонях. А потом открывал и смотрел, смотрел на то, что там внутри, и дрожал огонек свечи…
Сигруд смотрит на руку в перчатке – болит. Он уже не помнит, какой он был, этот медальон. И портрета, что внутри, тоже не помнит. Помнит только ощущение – как медальон лежал в ладони. А может, ему просто кажется.
– Я смотрю, ты занят, – слышит он голос рядом с собой.
Женщина средних лет, судя по виду, очень состоятельная, присаживается у огня рядом с ним.
– Выпьешь?
И протягивает ему кубок с вином.
Сигруд пожимает плечами, принимает кубок и осушает одним глотком. Золотой браслет на его левом запястье звенит о пуговицы обшлага. Женщина смотрит заинтересованно – ей любопытно.
– Ты очень необычный гость, – говорит она. – Держу пари: таких, как ты, у Вотровых еще не видали.
Сигруд попыхивает трубкой и смотрит на огонь.
– Так что тебя сюда привело?
Сигруд делает долгую затяжку. Обдумывает ответ.
– Беда, – отвечает он наконец.
Кто-то отпустил непристойную шутку: часть толпы взрывается хохотом, некоторые гости морщатся и оскорбленно отворачиваются.
* * *
Снизу доносятся звон бокалов и приглушенный смех. Звуки веселья эхом раскатываются по пустотам этого перекрученного дома-уродца. Призрачный хохот, просачивающийся сквозь толщу камня, звучит жутковато.
Лестница закручивается бесконечной спиралью. Шара все поднимается, поднимается. Интересно, где он? Ждет ее на самом верху? А если да? Ох, тогда лучше оступиться и укатиться вниз по ступеням. Она не сможет, не сможет заговорить с ним.
Нет, надо взять себя в руки. Тут лестница выводит ее в… библиотеку? Великоват зал для библиотеки… На стене – фамильный портрет в массивной раме. За два года, что длился их роман, Воханнес ни словом не обмолвился о своих родителях – кстати, почему? Разве это не странно? – но выглядят они ровно так, как она и предполагала: гордые, суровые лица, царственная осанка. Папа Вотров в чем-то вроде военного френча, грудь увешана медалями и лентами, на маме Вотровой – роскошное розовое бальное платье. Такие родители не воспитывают детей, а проверяют – на предмет соответствия стандартам качества. Но вот удивительная деталь: рядом с родителями стоит одиннадцатилетний Воханнес, а подле него – еще один мальчик, чуть постарше, более бледный и темноглазый. Однако сходство этих двоих не оставляет сомнений – братья. Почему же Воханнес ни разу не упомянул, что у него есть брат?
Откуда-то налетает порыв ветра, огоньки свечей пускаются в пляс. Шара облизывает пальцы – дует из соседнего окна. Она подходит туда.
Внизу морем бело-голубых огоньков простирается Мирград. Луна идет на убыль, но в ее скудном свете Шара различает странные и чуждые формы среди гребней крыш: полуобрушенный храм, руины роскошной усадьбы, прихотливый извив зависшей в воздухе лестницы.
Шара смотрит вниз. Стены дома, оказывается, патрулируют охранники в касках и с самострелами в руках. Как интересно! Когда они въезжали в главные ворота, никакой охраны не было видно…
Она оборачивается на звук открывающейся двери. Створки медленно распахиваются, в щель просовывается кончик белой трости.
Надо бежать. Сейчас или никогда. Стыдно, конечно, так трусить, но Шара ничего не может с собой поделать.
Он, прихрамывая, входит в комнату. Белый смокинг отливает золотистым в свете ламп. Поглядывает искоса, но в глаза не смотрит. И сразу направляется к столику с напитками, что-то наливает. И, тяжело припадая на одну ногу, направляется к ней.
– Эта комната, – говорит она, – слишком большая. Ты не находишь?
– Все зависит от того, как ее используют.
Она не знает, куда девать руки. И куда всю себя девать, тоже не знает. Что с ней, в конце концов, она ведь встречалась и с куда более высокопоставленными лицами, с аристократами, откуда эти неловкость и скованность?
– Прошу прощения, что отнимаю твое внимание. Ты должен быть с гостями.
– Ах, ты об этом. Ничего страшного. Там все идет своим чередом.
И он улыбается – по-прежнему ослепительно.
– Я, так сказать, на иголках не сижу – ибо знаю, чем все так или иначе закончится. Как тебе вид?
– Он… великолепен.
– Именно.
И он подходит и становится рядом с ней.
– Отец мог бесконечно говорить о виде, что открывается из этого окна. Точнее, о том, что можно было отсюда увидеть прежде. Он показывал и говорил: «Смотри, вот здесь, на углу, возвышался Коготь Киврея! А там, через парк, – Колодец Аханас, на всю улицу очередь тянулась!» На меня это производило колоссальное впечатление. Я был буквально влюблен в этот город. А потом сообразил, что папа просто не мог этого видеть, – все это исчезло задолго до того, как он родился. Он мог только догадываться и предполагать, но не описывать. А сейчас мне совершенно все равно, что он имел в виду. Древности меня более не интересуют.
Шара сдержанно кивает.
Воханнес одаривает ее косым взглядом:
– Ну же. Давай, выкладывай.
– Выкладывать что?
– То, что хотела мне сказать. Я же вижу – тебя прямо распирает.
– Ну… – и она откашливается. – Если ты действительно хочешь знать… Коготь Киврея – это был такой высокий железный памятник с маленькой дверцей спереди. Туда люди заходили и обнаруживали нечто, предназначенное им. Какой-то предмет, который полностью менял их жизнь. Иногда к лучшему – например, узел с лекарствами, чтобы вылечить больного родственника. А иногда – к худшему: скажем, мешок с монетами и адрес проститутки, которая потом доводила человека до разорения.
– Как интересно!
– Ну, это было что-то вроде памятника странному чувству юмора Жугова: это Божество любило подшутить. Над всеми, кто под руку попадался.
– Понятно. Ну а Колодец?
– Ничего особенного, просто целебная вода. У Анахас их было много.
Он с улыбкой качает головой:
– Ты все такая же невозможная всезнайка.
Она отвечает кривоватой усмешкой:
– А ты все такой же самодовольный беспечный невежда.
– Выходит, невежество – это когда тебе нет до чего-то дела?
– Именно. Это и есть определение невежества, по сути.
Он меряет ее оценивающим взглядом:
– А знаешь, ты выглядишь совершенно не так, как я ожидал.
Вот это да! Какая наглость! Она даже язык проглотила от злости…
– Я-то думал, ты будешь вся такая в сапогах, в армейском сером… – между тем продолжает он. – Как Мулагеш. Только активнее.
– Я что, была такая ужасная, когда училась?
– Ты была незамутненной бодрой фашисточкой, – отрезает Во. – Ну или людоедкой-ультрапатриоткой, что почти одно и то же. В Сайпуре почти все дети такие. Так что я ожидал, что сюда ты заявишься гарцующей победительницей. А ты… ты просочилась в заднюю дверь, как мышка.
– Заткнись, Во! Какого…
Он хохочет.
– Потрясающе! Сколько лет прошло, а мы все такие же! И болтаем о том же! Так скажи мне – арестовать тебя за грубое нарушение СУ? Ты пару находящихся под запретом имен озвучила…
– Напоминаю, что согласно букве закона, – цедит Шара, – земля, на которой стоит посол Сайпура, считается сайпурской землей. А, кстати, ты в курсе, что твое изумляющее ослиным тупизмом излияние на тему семьи было самым длинным из всех, что я слышала? Что ты раньше мне ни о чем таком не рассказывал?
– Правда?
– Пока мы учились, ты вообще о них не рассказывал.
Шара кивает на картину на стене:
– И никогда не говорил, что у тебя есть брат. Он так похож на тебя.
Улыбка на лице Воханнеса разом становится натянутой.
– У меня был брат, – поправляет он. – И я не рассказывал, потому что братом он был никудышным. Впрочем, он научил меня играть в товос-ва – за что я ему признателен, ибо благодаря этому мы познакомились.
Шара пытается уловить в реплике хоть намек на иронию, но… похоже, ее собеседник совершенно серьезен.
– Он умер еще до того, как я пошел в школу. Умер не вместе с родителями, в Чумные года, а… потом.
– Прости.
– Да ладно, не за что мне тебя прощать. Я по нему не горевал. Я же сказал: плохим он был братом.
– Ты унаследовал фантастический особняк. Об этом ты тоже не рассказывал.
– Это потому, что в то время я его еще не построил.
И он поскреб камень пола кончиком трости.
– Я снес прежний особняк Вотровых. В ту же секунду, как вернулся домой из Сайпура. И построил этот дом. А все мои опекуны – эти старые тролли ходили за мной гуськом, именно что гуськом, как птенцы за мамой-уткой! – все они заходились в горестных криках. А ведь это был даже не настоящий особняк Вотровых! По крайней мере не древний дом с многовековой историей, о котором все твердили! Куда делся тот дом, вообще никто не знает. Исчез вместе с Мирградом. Мы просто делали вид, что ничего такого не произошло. Что дом – прежний, и не было ничего – ни Мига, ни Великой Войны… ничего. Правда, я очень жалею, что согласился на такие лестницы. Будь они прокляты.
И он, морщась, дотрагивается до бедра.
– Это на лестнице ты получил травму?
Он, все еще с болезненной гримасой на лице, кивает.
– Прости, – вздыхает она. – Беспокоит?
– Когда влажность высокая – еще как. Но скажи мне честно, умоляю.
И он разводит руки и разворачивает профиль к свету.
– Забудь про бедро. Что, сильно изранил меня клинок времени? Правда ведь – нет? Я – все тот же красавчик, в которого ты без памяти влюбилась с первого взгляда. Давай, скажи это.
Шара с трудом сдерживается, чтобы не выпихнуть его в окно.
– Ты уникальный придурок, Во. Вот это точно никуда не делось.
– Значит, ты согласна со мной. Я, Шара, в серую милую мышку не верю. Слишком острые были углы у той девочки, которую я знал. Такие не спилишь.
– А может, ты просто недостаточно хорошо меня знал? – парирует Шара. – Кстати, как думаешь: твоим родителям этот дом понравился бы? А вечеринка?
Он широко ухмыляется:
– О, естественно, нет! Они бы не одобрили – ни дом, ни вечеринку. Ни то, что я веду разговор с агентом спецслужб Сайпура.
Внизу кто-то разражается хохотом. Звенит разбитое стекло, и толпа выдыхает одобрительное: «Аххх».
Шара молчит. Ну что ж, вот мы и перешли к важным вещам.
– Рад, что ты не отпираешься, – говорит Воханнес. – К тому же ты особо и не скрывалась. И потом. Ашара Комайд, отличница из отличниц в Фадури, племянница министра иностранных дел, прапрапраправнучка каджа, чтоб его разразило, – и дослужилась лишь до скромной должности культурного посла? Ни за что не поверю.
Она невесело улыбается в ответ. Польстил так польстил.
– И хотя Ашара – имя более чем распространенное… – продолжает он, – …Комайд – совсем другое дело. Тебе нужно было срочно избавиться от фамилии. Поэтому теперь ты Тивани.
– Я могла выйти замуж, – говорит Шара. – И взять фамилию мужа.
– Ты не замужем, – отмахивается Воханнес. И выплескивает то, что осталось в бокале, в окно. – Я знаю, как выглядят замужние женщины. Пара штрихов там, пара значимых деталей здесь. Ничего этого в тебе нет. Как, не боишься, что тебя узнают?
– Кто? – пожимает плечами Шара. – Из выпускников Фадури на Континенте только мы с тобой и живем. Все политиканы, с которыми завязана моя семья, – в Галадеше. Остаются только континентцы и военные чины, но из них меня в лицо не знает никто.
– А если кто-то пойдет по следу Ашары Комайд?
– Они обнаружат официальные сведения о том, что она ведет уединенный образ жизни, учительствуя в крохотном городке Тохмай на юге Сайпура. Школа там закрылась, если я не ошибаюсь, года четыре назад.
– Умно придумано. Итак. Сотрудник твоего ранга прибывает в Мирград – ради чего? Дело в Панъюе, я думаю. Правильно? Не знаю, почему ты решила обратиться ко мне. Изо всех людей, хм. Я бегал от этого профессора, как от чумы. Слишком много политических последствий пришлось бы расхлебывать…
Шара четко выговаривает:
– Реставрационисты.
Воханнес медленно кивает:
– Вот оно что. В чутье на расклад тебе не откажешь… В самом деле, кто знает о них больше, чем человек, которого они ненавидят больше всех на свете?
Воханнес ненадолго задумывается.
– Что ж, давай поговорим. Но не здесь, – выговаривает он наконец. – Выберем комнату поменьше, где эхо не так гуляет.
* * *
Лакей Бородкин притопывает от холода перед дверью дома Вотровых. Как же глупо и печально, что он вынужден здесь мерзнуть. Вечеринка началась – когда? Час назад? Или даже меньше? И, тем не менее, в обязанности Бородкина входит открывать дверь перед гостями, подзывать машины и всячески обихаживать визитеров. А эти глупцы что делают? Приезжают с большой помпой, чтобы все на них глазели, красуются перед людьми – а потом быстренько уезжают. А господин Вотров – он же умный, он понимает, что те, что раньше всех смываются, обычно самые влиятельные, и облизывать их нужно по первому классу. Но все-таки, что, эти денежные тузы не могут побыть в доме чуть подольше? Чтобы Бородкин успел заскочить на кухню, глотнуть сливового вина, понюшку табачку взять да замерзлые ноги у огня погреть? Но нет, еще чего, на такое их не хватает! И вот он притопывает на морозе и думает: а не пойти ли на кухню работать? Картошку там, морковку чистить – поди плохо? Служба как служба, а что…
Какой-то жестяной звон доносится с западной стороны – словно консервная банка по мостовой прокатилась… Что бы это значило? И он тянет шею, приглядываясь. Вот стражник на западной стене – хм, а разве их не двое? Господин Вотров, конечно, не любит при гостях афишировать, что приходится вооруженную охрану держать – еще бы, при таких-то политических взглядах! – но обычно, когда вечеринка начинается, патрули на виду держатся…
Бородкин сердито бурчит. А охранник-то не дурак, чуть что – шмыг в тепло. И тут он щурится, приглядываясь: а это что такое? Там, на стене? Крадется, что ль, кто-то, к оставшемуся в одиночестве стражнику?
И тут в конце подъездной аллеи вспыхивают фары. Хрипло кашляет, заводясь, мотор, и машина со скрипом подкатывает к дому.
– Только этого мне не хватало! – И Бородкин выскакивает и машет руками: – Нет! Нет! Говорю тебе, нет! Ты что творишь?
А машина так и едет на него! И катится, и катится! Бородкин кричит:
– Подъезжать только по вызову! Ты понял? Я тебя ж еще не вызывал! И плевать мне, что тебе хозяин сказал, подъедешь, когда вызову, понял?
Машина останавливается прямо перед ним. Краем глаза Бородкин успевает заметить движение на стене: от нее отделяется темная фигура и что-то направляет на последнего стражника. Раздается щелчок, стражник цепенеет и заваливается на спину, а каска его слетает и с жестяным звоном катится по улице.
Из окна машины на Бородкина смотрит, поблескивая, арбалетный болт. А голос произносит:
– Не волнуйся. Нас – вызывали.
Сухой щелчок – и в глазах Бородкина все заваливается куда-то набок.
* * *
Сигруд глядит в огонь и вспоминает, вспоминает…
Красная от крови вода, в руках алебарда. А в глубине – чудовищная тень, колотится, стонет, разбрызгивая слизь и кровь. Он тогда думал, что прошел через ад. Оказалось, что он просто не знал, что это такое – настоящий ад…
Кожа перчатки скрипит, когда он сжимает пальцы.
– Все хорошо? – осторожно спрашивает его спутница. И внимательно оглядывает его. – Может, еще вина?
И делает знак лакею.
И тут Сигруд слышит это. Слабый, очень слабый, но отчетливый щелчок. Тихий щелчок у самых дверей дома. Он очень хорошо знает, что это за звук.
Ну наконец-то. Хоть какое-то развлечение.
– Вот, – говорит женщина. И поворачивается с полным бокалом. – Вот твое…
И изумленно смотрит на опустевшее место рядом с ней.
* * *
– Главный враг старого Мирграда, – говорит Воханнес, – не Сайпур. И не я. И даже не движение «За Новый Мирград». Его главный враг – время.
Они сидят на кровати в одной из гостевых комнат. Как и все покои на этом этаже, она отделана красным – теплых, глубоких тонов – и позолотой. Территория усадьбы заканчивается как раз под ее окном, внизу плавно изгибается внешняя стена.
– В Мирграде создался чудовищный разрыв в возрасте: после Мига и Великой Войны жизнь очень не скоро вошла в нормальное русло. Малая – и сокращающаяся часть населения все еще помнит, как оно было в старину, и цепляется за эти традиции. А есть другая, причем растущая часть населения, которая ничего про это не знает и знать не хочет. Они знают только, что бедны и что это неправильно.
– Движение «За Новый Мирград», – тихо повторяет Шара.
Воханнес отмахивается:
– Это просто название. Речь идет не только о политике. Все дело в смене поколений – а я к подобному, как понимаешь, руку не прикладывал. Так, просто волну оседлал.
– И реставрационисты тебя за это ненавидят.
– Я же говорю: они сражаются против истории. А у нее невозможно выиграть.
– Они тебе угрожали, Во?
– Что за чушь!
– Тогда почему у тебя охрана периметр патрулирует?
Он кривится:
– Вот ты о чем. Что ж, я эту тему не люблю затрагивать… Но, думаю, ты меня поймешь. Прямых угроз не было. Никогда. Но город качает и часто заносит – люди много говорят о том, что своего надо добиваться силой. Особенно часто об этом заговаривает Эрнст Уиклов, по совместительству – надо же! – один из наиболее важных участников реставрационистской игры. Тоже Отец Города. Консерватор, догматик. Денег не жалеет. Ну да, ты могла бы сказать, что это мой политический оппонент. Я никогда не вступаю с ним в конфликт – и мне это совершенно не нужно, – но он рисует меня не как политического оппонента, а как сущего демона из ада.
– Какой милый человек…
– Не пытайся говорить иносказаниями, у тебя все равно не получится.
– А этот Уиклов, – задумчиво говорит Шара, – он, случайно, не…
– Хочешь спросить, не он ли стоит за протестами против деятельности Панъюя? – Улыбка Воханнеса становится неожиданно свирепой, и лицо перекашивает уродливая гримаса. – А как же! Он и стоит. Уверен, Уиклов по уши увяз в этом деле, и, если ты науськаешь на него ваших псов, я плакать не стану. Это не человек – это мешок козлиного дерьма с бородой.
– Движение «За Новый Мирград» поддерживают еще двое Отцов Города, – говорит она. – Но их не ненавидят так, как тебя.
– И вправду, – кивает Воханнес. – Пожалуй, я стал чем-то вроде, хм, символической фигуры. Плюс меня всегда отличал хороший вкус в архитектуре и искусстве, а это, как ты понимаешь, трудно простить… Ну и, конечно, мне нравится их эпатировать. Я декадентствую у всех на виду – и это воистину нестерпимо, это же такое оскорбление для всех этих ревнителей скромности и благочестия, привыкших подавлять все свои естественные желания… А их полные длиннот скучные инвективы привлекают мне новых избирателей.
И он грациозным движением подносит к губам сигарету.
– Беспроигрышный вариант – для меня. И, конечно, они недовольны моей биографией – ведь я же учился в Сайпуре, все равно что наполовину сайпурец.
И тут он бросает на нее виноватый взгляд:
– Впрочем… есть у меня пара… хм… спорных проектов.
– Это каких же?
– Ну… Сайпур, как известно, – самый главный покупатель на рынке оружия. Но его солдаты вооружены самострелами, а не винтовками. Только арбалетами, понимаешь? А почему? Наверняка ты знаешь, почему. Все дело в селитре. В Сайпуре и на территории его сателлитов селитру не добывают, а без нее пороха не сделаешь. А вот на Континенте как раз большие залежи селитры…
– Ты что же… хочешь поставлять вооружение Сайпуру?! – ошеломленно спрашивает Шара.
А ведь она хотела спросить совсем другое: почему я впервые об этом слышу?..
Он пожимает плечами:
– Моя семья всегда владела кирпичными заводами. Добыча природных ископаемых – почти то же самое.
– Но, Во… это же… Ты что – идиот?!
– Идиот?
– Ну да! Это гораздо, гораздо опаснее всех твоих политических кривляний вместе взятых! Даже обычная торговля с Сайпуром вызовет всеобщую вражду, что уж говорить о поставках оружия! Тебя давно убить должны были за такие эскапады!
– Ну… я просто еще не делал никаких публичных заявлений… Плюс ваша страна не спешит с одобрением подобных сделок…
– Ты действительно хочешь наживаться на войне?
– Я тебе скажу, чего я хочу, – цедит Воханнес. – Я хочу превратить Мирград в индустриальный процветающий город. А какой вид промышленности больше всего нужен Сайпуру? Правильно, вас интересует только военная промышленность. Самая развитая индустрия в мире. А Мирград прозябает. Кроме Аханастана, у нас даже портов нормальных нет. А с верфей Галадеша каждый месяц сходит новенький дредноут. Так вот, у нас есть ресурсы, чтобы брать заказы не хуже! Мы тоже можем участвовать в производстве смерти и жути! Шара, я не могу изменить геополитический расклад. Зато я могу использовать его в своих целях.
С ума сойти. Она нервно хихикает:
– Батюшки… Приходилось мне иметь дело и с бандитствующими князьками, и с полевыми командирами… но я подумать не могла, что Воханнес Вотров станет одним из них.
Воханнес царственно выпрямляет спину:
– Я делаю все возможное ради блага моего народа.
– Умоляю тебя, Во, – вздыхает она. – Избавь меня от пафосных заявлений. Хватит с меня напыщенной риторики.
– А это не риторика. И не пафосное заявление, Шара. Я и раньше пытался заинтересовать Сайпур и его сателлитов в торговом сотрудничестве. Но Сайпур, видишь ли, не желает оказывать нам такой услуги. Он как раз заинтересован в том, чтобы сохранять статус-кво. Сайпур контролирует все и вся. Они не желают, чтобы мы тут пели гимны Божествам, – но и богатый и процветающий Мирград им тоже не нужен. И если мне придется в открытую торговать своим политическим телом, чтобы помочь родине, – что ж, так тому и быть.
А ведь он совершенно не изменился. Эта мысль шокирует и, одновременно, веселит ее. Он все такой же благородный идеалист – правда, крайне своеобразный, если не сказать извращенный…
– Во, послушай, пожалуйста, меня внимательно, – говорит Шара. – Я работала с людьми, у которых были такие же планы, как у тебя. Я их знаю как облупленных: увидел одного – считай, что с сотней познакомился. И большинство из них сейчас кормит червей. Или рыб. Или птиц. Или корни деревьев – бывают и такие варианты.
– Ах, вот оно что. Переживаешь, значит, за мою безопасность.
– Да! Переживаю, представь себе! Я не хочу, чтобы ты играл в эти игры!
– Ты не хочешь, чтобы я влезал в ваши игры. Вот что ты хочешь сказать.
– Да! И мне стоит большого труда понять, зачем ты лезешь в это! Тебе мало того, что ты уже имеешь?
– А что я имею, позволь спросить?
– Как что? Огромное состояние. Отличные политические перспективы. Очаровательную любовницу, наконец!
– Мы помолвлены, – холодно сообщает Воханнес.
И тут сердце Шары разрывается. И оттуда прямо в живот хлещет ледяная вода.
– А-а, – отзывается она.
Ее это вообще не должно интересовать. Ни в малейшей степени. Ведь она – профессионал! Какая глупость, какая глупость, нельзя так расклеиваться…
– Да. Сегодня она не надела кольца. На нем брульянт величиной с бокал для виски.
И он взвешивает на ладони воображаемые караты.
– Она говорит, это дань условностям. Да к тому же безвкусица. Так оно и есть, но все же. Однако мы еще не назначили дату свадьбы. Что она, что я к планированию не очень способны…
И Воханнес принимается разглядывать свои руки.
– Прости. Наверное, тебе… – тут он тихонько покашливает, – не очень приятно об этом слышать.
– Я всегда знала, что тебе предназначено великое будущее, Во, – выговаривает она. – Но, если честно… я никогда не предполагала, что такие, как ты, женятся. В смысле…
Тут наступает неловкая пауза.
Наконец он кивает.
– Да, – осторожно выговаривает он. – Но. Некоторые… э-э-э… предпочтения… гм… словом, они приемлемы за границей, а здесь… гм… словом, здесь к ним не столь терпимо относятся. Колкастани родился – колкастани и помрешь…
Он вздыхает и принимается растирать больное бедро.
– Мне нужна твоя помощь, Шара. От Мирграда остались одни развалины, это правда. Но он может стать великим городом. Сайпур держит в руках ключи от всех сейфов мира – пусть хоть чуть-чуть дверку приоткроют! Это все, что мне нужно. Попроси меня об ответной услуге. Попроси обо всем, что захочешь. Я все сделаю. Только помоги мне.
Никогда еще реальность собственной работы не казалась ей настолько нереальной и нелепой.
Но ответить она не успела – внизу вдруг пронзительно закричали.
– Это что еще такое? – растерянно спрашивает Воханнес.
Шара уже стоит у окна. Под внешней стеной усадьбы скрючились два тела.
– Угу, – тихо говорит она.
* * *
Они вышибают дверь и врываются в зал. Движения их отточены, как в танце – смертельном и прекрасном. Серые одежды развеваются, когда они, подобно хищным птицам, кидаются на этих развращенных декадентов. У Чейшека маска немного съехала, левый глаз не очень хорошо видит, но ничего. Сверкающий меч возмездия. Избранный – вот кто он.
«Смотри, как визжат и трясутся эти предатели, эти грешники! Смотри, как трусливо они бегут! Глядите на меня, о грешники! Бойтесь меня, ибо пришел час расплаты!»
Его соратник подбегает к бару и ударом ноги опрокидывает стойку. Бутылки бьются, зал окутывают пары алкоголя. Чейшек с братьями по оружию кричит: на пол! На пол, на пол, на пол, сукины дети! Чейшек направляет самострел на какого-то мужчину, который не спешит пугаться, рычит этому грешнику в лицо и валит на пол.
Как прекрасно быть орудием Божества. Как это прекрасно – сражаться во имя праведности.
Какая-то женщина заходится в крике. Чейшек грубо затыкает ее – нечего тут.
Быстро же они управились с этими мягкотелыми ублюдками. Другого от этих рафинированных тварей ждать не приходится. Губернатор полиса, кстати, здесь. И им приказано не трогать ее даже пальцем. Но почему? Почему?! Почему они должны простить человека, который подписал столько несправедливых приговоров?!
Заложники покорно попискивают на полу. Предводитель – имени Чейшек, естественно, не знает, да и зачем им имена? Они единое целое! – прогуливается между развратниками и вздергивает каждого за волосы – чтобы в лицо заглянуть.
Потом тяжело роняет:
– Тут нет.
– Ты уверен? – спрашивает Чейшек.
– Я знаю, кто нам нужен.
И он оглядывает толпу заложников. А потом подходит к пожилой женщине, нацеливает самострел прямо ей в левый глаз и жестко спрашивает:
– Где?
Та плачет.
– Где, я спрашиваю?!
– Я не понимаю, о чем вы!
– Кто-то о-ооочень важный здесь отсутствует, не правда ли? – издевательски ухмыляется он. – И где же эта важная персона, а?!
Старуха, всхлипывая, указывает на лестницу.
– А ты не врешь?
– Нет! – вскрикивает она. – Вотров и та женщина – они наверх пошли!
– Женщина? – Тут предводитель на мгновение задумывается. – Так он не один? Ты уверена?
– Да! И… – Она принимается оглядываться.
– Что? Что такое?
– И еще один был тут… в красном пальто… Тоже нет его…
– Кого-кого?
Женщина не отвечает, он прихватывает ее за волосы и встряхивает:
– Ты о ком? – взревывает предводитель.
Женщина всхлипывает, явно потеряв дар речи от страха.
Тогда предводитель отпускает ее и указывает на троих:
– Вы – остаетесь здесь. Глаз с них не спускать. Кто дернется – убить на месте.
Потом указывает на Чейшека и еще четверых:
– Вы – за мной. Идем наверх.
Они неслышно взбегают вверх по лестнице, подобно волкам, мчащимся сквозь зимний лес. Чейшек весь дрожит от радости, возбуждения и ярости. Он сейчас – воплощение карающей праведности, он выныривает из холодной ночи и обрушивает возмездие на предателей, грешников и погрязших в мерзости невежд. Он, правда, ожидал большего: сплетения обнаженных тел, оргии с заграничным спиртным, тяжелого запаха ладана, плывущего в воздухе над потерявшими стыд… Чейшек слыхал, что под Кивосом, к примеру, есть места, где – с подачи мерзостного Сайпура, естественно, – женщины ходят по улицам в платьях, что едва прикрывают их… их…
От одной мысли об этом он краснеет.
«Самая мысль о таком греховна! Изгони скверну из разума, очисти свой дух!»
И вот они на втором этаже. Предводитель поднимает затянутую в перчатку руку. Они замирают на месте. Предводитель крутит головой, внимательно оглядывая коридор сквозь черные щелки маски. Потом жестом приказывает Чейшеку и двоим другим – обыскать этаж. А сам с остальными идет выше.
Чейшек бежит по коридорам, заглядывает в комнаты. Никого. Огромный дом, а как пусто! Вот она какая, нечестивая роскошь и страсть к излишествам! Родине нужен камень, а Вотров его впустую использует!
Подбегает к углу и дважды стучит по стене. Прислушивается: вот ответный стук. А вот и еще один слышится вдалеке. Он кивает: товарищи близко. И бежит дальше.
Выглядывает в окна. Никого. Осматривает комнаты. Пусто, кругом кровати. Может, он здесь любовниц своих держит, этот Вотров? По одной на комнату? От самой мысли бросает в жар и хочется помыться…
Так, не отвлекаться. Смотреть внимательней. И он снова стучит по стене. Слышит откуда-то из глубин дома ответное тук-тук, а потом…
Потом – ничего.
Он застывает на месте. Прислушивается. Снова стучит. И снова – второй откликается, а третий – нет.
Может, товарищ слишком далеко и не слышит? Но Чейшек исполняет отданный на такой случай приказ: возвращается в коридор и к лестнице.
На лестнице он снова дважды стучит по стене. Прислушивается.
И в этот раз ему не отвечает никто. Ни третий, ни второй товарищ.
Внутри нарастает паника. Он снова стучит.
Ничего. Чейшек судорожно оглядывается: что происходит? И тут он видит – кто-то сидит в темной прихожей. Сидит, развалившись в плюшевом белом кресле.
Чейшек поднимает самострел. Человек в кресле не шевелится. Он, похоже, вообще его не замечает. Чейшек отступает к стене и осторожно крадется в ее тени, не спуская самострела с сидящего человека…
И тут он подбирается совсем близко и видит: на сидящем серая одежда, а на коленях лежит серая маска.
Чейшек опускает самострел.
Это один из его товарищей. И тем не менее – маску он снял. А им приказывали никогда не снимать маску.
Чейшек делает два осторожных шага и замирает. Обнаженную шею человека пересекает красно-багровая полоса взрезанной плоти. Неподвижный взгляд уперт в потолок. Живые так не смотрят.
Чейшека тошнит. Он отчаянно вертит головой: на помощь! Постучать в стену, позвать товарищей! Но нет. Здесь, в этих стенах, бродит еще кто-то. И этому кому-то нельзя выдавать, где он.
Этого не может быть. Не должно было случиться такого! Они всего лишь богатые бездельники, художники…
И тут он застывает на месте.
Что это за звук доносится из северного коридора? Рвота, что ли, у кого-то открылась?
Он вскидывает самострел. Кровь колотится в ушах. Он осторожно ступает по полу, огибает угол и…
Вот его товарищ. Стоит в дверях комнаты, его плохо видно. Стоит и дрожит, плечи дергаются, руки безвольно висят вдоль тела. А на маске что-то такое есть, что-то большое, бело-розовое и неровное, и тянется это что-то за дверь, а дальше Чейшек не видит.
И он подходит ближе, и понимает: это что-то на лице товарища – на самом деле две здоровенные ручищи, и они обхватили голову соратника, а большие пальцы глубоко ушли в глазницы! Ушли по самые костяшки!
Товарищ хрипит и булькает горлом. Из-под больших пальцев выплескивается кровь, заливает запястья, стены, пол.
Теперь Чейшек все видит.
В тени за дверью – человек гигантского роста. Стоит! И убивает его соратника голыми руками!
Тут здоровяк поднимает взгляд. Единственный глаз вспыхивает бледным огнем.
Чейшек орет от ужаса и стреляет, не целясь. Гигант отскакивает, бросает тело соратника, опрокидывается назад. И растягивается на полу во весь рост. И лежит неподвижно.
Чейшек плачет навзрыд. Подбегает к павшему товарищу и срывает с того маску. Увидев, во что превратилось лицо соратника, он взвывает от горя.
Баюкая тело товарища в руках, Чейшек стонет. Вот что случается с лучшими сынами отчизны. Вот участь праведных во времена торжества мерзости… Но выговорить все это он не может, мешают всхлипы.
– Но я убил его, убил… – выговаривает он наконец, обращаясь к мертвому соратнику. – Молю, пусть этого хватит. Пожалуйста. Я убил человека, который сделал это с то…
И тут до ушей доносится недовольное ворчание. Чейшек, опешив, замолкает и вскидывает взгляд.
С удивительным упорством здоровяк ворочается, а потом медленно садится. И осматривает лежащие на коленях ладони.
Открывает левую. А в ней в свете газовых ламп поблескивает болт. Болт из самострела Чейшека. Здоровяк просто выхватил его из воздуха, и тот не успел поразить цель.
Гигант смотрит на болт с веселым удивлением, как на причудливую детскую игрушку. А затем смотрит на Чейшека. И единственный его глаз исполнен холодного серо-зеленого спокойствия, подобного сердцу айсберга.
Чейшек пытается перезарядить самострел. Что-то мелькает совсем рядом. На горле его смыкаются пальцы, к глазам приливает кровь, пол исчезает из виду, и последним Чейшек видит летящее ему навстречу оконное стекло. Стекло разбивается вокруг него, и он падает в объятия холодной ночи. А следом – на холодную улицу внизу.
* * *
Когда двое врываются в комнату, Шара полностью готова: она сидит на кровати и не шевелится. С поднятыми вверх руками. А вот Воханнес совершенно не желает следовать ее советам: он вскакивает, выставляет перед собой на манер рапиры трость и сыпет проклятиями.
– Руки вверх! – орет один из налетчиков.
– Именно это я и сделала, – спокойно сообщает Шара.
– На пол! Лечь на пол! – ревет другой.
Все они одеты, отмечает она про себя, в одинаковые серые робы, перетянутые на локтях и коленях и вокруг шеи. Какие-то церемониальные одежды, не иначе. И на всех – странные плоские серые маски.
– Давайте все сядем и спокойно поговорим, – предлагает Шара.
Воханнес успокаиваться не желает и верещит:
– Да я в рот имел всех ваших сраных предков! Вандалы! Как смеете! Не желаю слушать, ни слова ни желаю слушать, твари поганые!
– Во, – предостерегающе выговаривает Шара.
– На пол, я сказал! – орет второй налетчик. – Немедленно, я сказал!
– Хватай его! – приказывает первый.
– Послушайте, – говорит Шара.
– Пошли в жопу! – орет Воханнес.
И с размаху тычет в налетчика тростью.
Тот взрыкивает от боли:
– А ну прекрати!
– Я сказал на пол, чтоб вас разразило! – орет другой налетчик.
Но Воханнес уже занес свою трость. Человек в маске хватает ее за кончик, они неуклюже тянут трость каждый в свою сторону, Воханнес отпускает рукоять, и оба падают на спину.
Цокает арбалет, Шара чуть сдвигается влево, и болт свистит над ухом, раздирая воздух там, где только что была ее шея. И бьет в деревянное изголовье кровати, уходя туда чуть ли не на половину.
Все трое мужчин изумленно таращатся на нее – и на еще дрожащий болт за ее спиной.
Шара осторожно откашливается:
– Послушайте, – говорит она налетчикам. – Послушайте меня очень внимательно. Вы совершили чудовищную ошибку.
– Заткнись! На пол легла! – гавкает один из них.
– Вы должны медленно и аккуратно положить на пол оружие, – мягким и журчащим, как свежее молоко, голосом произносит Шара, – и спокойно сдаться.
– Мерзкая шалотница, – рычит один из них. – Заткнись! И ляг на пол, тебе говорят!
– А чтоб тебе… – Воханнес тщетно пытается встать.
– Во, прекрати, – тихо говорит она.
– Почему, мать его за ногу?
– Потому что опасности нет.
– Заткнись, сука! – орет налетчик.
– Да они тебе чуть лицо не прострелили! – ужасается Воханнес.
– Согласна, некоторая опасность наличествует, – кивает она. – Но мы… просто мы должны подождать.
Двое налетчиков, как она замечает, заметно нервничают, так что, когда Воханнес задает свой вопрос, они едва заметно выдыхают с облегчением:
– Чего подождать?
– Сигруда.
– Что? Ты о чем?
– Нам просто нужно подождать, – говорит Шара. – Подождать, пока он не придет и не сделает то, что у него получается лучше всего.
Тут она обращается к налетчикам:
– Я помогу моему другу подняться. Я не вооружена. Пожалуйста, не стреляйте.
И она протягивает руку и помогает Воханнесу сесть на кровать.
– Кто такой… Сигруд? – спрашивает тот.
Неподалеку слышится дикий крик и звон разбиваемого стекла. Следом наступает тишина.
– Вот это – Сигруд, – поясняет Шара.
Налетчики переглядываются. Под масками не видно лиц, но чувствуется, что они насторожились.
– Вам нужно положить оружие на пол, – еще раз говорит Шара. – И подождать здесь вместе с нами. Если вы послушаетесь меня, возможно, останетесь живы. Будьте благоразумны, прошу.
Человек в маске – очевидно, предводитель – говорит:
– Она нам зубы заговаривает. Мерзкая шалотница просто дурит нам голову. Не слушайте ее. Это дворецкий что-то уронил. Иди проверь. Если кого увидишь – убей. Убей с чистой совестью.
Второй человек в маске, все еще не оправившись от шока, мелко кивает и направляется к двери. Тут предводитель хватает его за плечо и произносит:
– Она морочит нам голову. А нас ждет награда.
Похлопывает его по спине, и тот уходит.
– Ты только что отправил его на верную смерть, – говорит Шара.
– Заткнись! – гавкает предводитель.
Теперь видно, как тяжело он дышит.
– Остальные твои люди мертвы. Или умирают. Сдавайся.
– А вы только это и можете предложить, правда? Сдаться. Сдаться и отступить. Но хватит. Мы – больше – не отступим. Нам некуда больше отступать. Мы вам все уже сдали.
– Я у тебя ничего не прошу, – выговаривает Шара.
– Еще как просишь. Сложить оружие. Отказаться от свободы. Отказаться вообще от всего.
– Мы не на войне. Сейчас время мира.
– Вашего мира. Мира для таких, как он, – с отвращением выговаривает он и тычет пальцем в Воханнеса.
– Эй, полегче! – возмущается тот.
– Вы всегда заодно с грешниками, трусами и святотатцами, – цедит предводитель. – С людьми, которые предали своих предков. И все, что было им дорого. Вот так вы воюете с нами.
– Мы, – жестко выговаривает Шара. – Не. На. Войне.
Предводитель наклоняется к ней и шипит:
– А я – на войне. Я буду воевать с каждым шалотником, который осмеливается ступить на землю Святого Города.
Шара молчит. Предводитель выпрямляется и прислушивается. Слышать ему больше нечего.
– Твой друг мертв, – холодно поясняет Шара.
– Заткнись, – говорит налетчик.
И вытаскивает из-за плеча короткий тонкий меч.
– Поднимайся. Я сам выведу вас отсюда.
Шара, поддерживая хромающего и пошатывающегося Воханнеса, выходит из гостевой комнаты и идет по коридору. Предводитель не отстает ни на шаг.
И тут она останавливается.
– Что встали? – рявкает налетчик.
– Ты что, не видишь, что впереди творится? – спрашивает Шара.
Тот выходит вперед и видит, что на полу что-то лежит.
– Нет, – выдыхает он и бежит туда.
Это смятое тело в маске – и в глубокой луже крови. И хотя горла под серой мокрой тканью не видно, понятно, что оно перерезано от уха до уха. Предводитель опускается на колени и, осторожно просунув руку под маску, дотрагивается до лба мертвеца. И что-то шепчет. А спустя мгновение встает. Рука, держащая меч, заметно дрожит.
– Шагайте дальше, – выдавливает он, и Шара понимает – плачет.
Они идут. Поначалу кажется, что в доме стоит страшная мертвая тишина. Но они не успевают добраться до лестниц, как слышат шум борьбы: треск ломающегося дерева, звон бьющегося фарфора, хриплый крик. И тут они видят, что дверь в большой зал по левую руку широко распахнута, и в проеме мечутся тени.
– Бальный зал, – бормочет Воханнес.
Главарь, выставив меч, делает несколько быстрых шагов. Потом собирается с духом и бросается в комнату.
Шара тащит за собой Воханнеса и идет следом. Правда, она и так знает, что там увидит.
Бальный зал оказывается богато декорированным. Правда, сейчас декор изрядно подпортили: один из налетчиков стоит на коленях и дико верещит, придерживая запястье: обрубленная рука брызжет кровью, заливая паркет. Другой налетчик сидит в углу – мертвый: короткий черный кинжал торчит у него в горле. В центре зала стоял обеденный стол, но сейчас он опрокинут, а за импровизированной баррикадой высится Сигруд, весь в крови и испарине. Левый локоть его намертво сомкнулся на шее третьего налетчика, который жалостно размахивает руками. А правой рукой Сигруд держит то, что раньше было люстрой – похоже, он только что оборвал ее с потолка, – и отмахивается ей от еще одного налетчика, который напрыгивает на него с мечом. И хотя из-за мельтешения хрустальных подвесок трудно понять, что к чему, похоже все-таки, что налетчик отступает с каждым ударом, а между ударами Сигруд успевает треснуть кулаком, в котором зажата люстра, по морде бедняге, что зажат у него под локтем. Вот такая сложная комбинация.
Созерцая открывшуюся диспозицию, главарь налетчиков некоторое время ошалело таращится, а потом с пронзительным криком вскидывает меч, бросается вперед и перепрыгивает через стол.
Сигруд бросает на него сердитый взгляд – мол, только тебя тут не хватало – и просто поднимает несчастного, которого прижимает к боку. Меч главаря входит тому точно в спину.
Оба налетчика застывают в ужасе. Сигруд взмахивает люстрой, та подцепляет клинок третьего, налетчик падает на пол. Следом на него обрушивается люстра.
Главарь отпускает рукоять меча, выхватывает короткий кинжал и с яростным криком бросается на Сигруда.
Сигруд отпускает голову мертвого (или умирающего) бедняги, перехватывает запястье предводителя до того, как тот успевает нанести удар, и с размаху бьет его головой в лоб. А потом широко раскрывает рот – Воханнес тут же начинает вопить от ужаса – и вцепляется нападающему в горло. И зубами вырывает ему кадык.
Вокруг все накрывает прямо-таки океанской волной кровищи. В голове Шары возникает неуместное: «Вот это точно в газеты попадет», – и ей становится немного совестно.
Сигруд, теперь весь в кроваво-алом, отпихивает тело главаря, выдирает из спины мертвеца меч и отточенным движением бросает его на манер дротика в верещащего налетчика с отрубленной кистью. Острие клинка входит тому прямо под челюстной сустав. Налетчик мгновенно замолкает и оседает на пол. Вонзившийся ему в шею меч покачивается в ране, но не выпадает – слишком глубоко засел. Покачивание сопровождается крайне неприятным для слуха поскрипыванием металла о кость.
Сигруд разворачивается к последнему налетчику, который со стонами копошится под остатками люстры.
– Нет, – приказывает Шара.
Сигруд оборачивается к ней. Единственный глаз полыхает ледяным огнем гнева.
– Он нам нужен живым.
– Они стреляли в меня, – говорит дрейлинг, поднимая кровоточащую ладонь. – Из самострела.
– Он нам нужен живым, Сигруд. Живым – значит не мертвым.
– А они стреляли в меня, гады! – взрывается он. – Болтом запустили!
– Наверняка кто-то еще есть внизу, – успокаивающе говорит Шара. – И потом, там заложники, Сигруд. Подумай об этом. Иди, разберись. Только аккуратно.
Сигруд корчит обиженную гримасу ребенка, которого отправили застилать кровать. Он подходит к мертвецу с кинжалом в шее, вытаскивает из тела клинок и топает прочь.
Воханнес в ужасе оглядывает залитый кровью и разгромленный бальный зал:
– Вот это? – выдыхает наконец он. – Вот это у твоего человека получается лучше всего?
Шара подходит к налетчику, пытающемуся высвободиться из-под люстры, и забирает у него оружие.
– У всех разные таланты.
* * *
Сигруд сбегает вниз по лестнице. Людей в масках в зале не видно.
– О, какое счастье, вы вернулись, а то мы… – начинает было говорить одна женщина.
Потом видит, что Сигруд залит кровью. И начинает пронзительно визжать.
А вот Мулагеш его вид совершенно не взволновал. Она покашливает, и Сигруд находит ее взглядом: вот она, рядом с колонной. Губернатор полиса сидит над человеком в сером и, похоже, деловито душит его ленточкой веселенькой расцветки. Мулагеш поднимает лицо – под глазом сияет свежий фингал. И сообщает:
– Еще двое. Убежали.
Сигруд вылетает на крыльцо, но авто уже катится прочь – правда, у бандитов никак не получается набрать скорость. Сапожищи Сигруда грохочут по брусчатке – догнать! В машине мужской голос надрывается:
– Быстрей! Быстрей!
Ему в ответ:
– Я стараюсь!
Авто переключается на повышенную передачу, но не успевает укатиться: Сигруд распластывается в прыжке и хватается за заднюю дверь.
– Проклятие! – слышатся вопли изнутри. – О, боги!
Руки у Сигруда скользкие от крови, он чуть не падает. Но успевает вскочить на подножку, а потом размахивается правой и всаживает черный кинжал в крышу авто.
– Проклятие, пристрели его! – орут из машины.
В окне появляется самострел. Сигруд отшатывается. Болт прорезает стекло, проходит в дюйме от его лица. В окне дырка, но оно не разбилось. Сигруд бьет по стеклу левой рукой, хватает выстрелившего в него человека за воротник и пару раз хорошенько прикладывает его головой о дверь и крышу машины.
Водитель в панике, авто виляет. Сигруд пролетает мимо разинувших рот посетителей кофеен, посетителей ресторанов и возчиков. Ребенок хохочет и в восторге тычет пальчиком в авто.
Наконец он чувствует – человек потерял сознание. Сигруд тянет его прочь из окна – выкинуть вон! Но тут машина закладывает очередной вираж…
И Сигруд вскидывает взгляд. На него летит угол дома. Водитель хочет скребануть боком по стене здания – и соскрести Сигруда.
На крышу? Нет, не успеть! Он выдергивает кинжал и спрыгивает с подножки.
Удар о мостовую выходит болезненным, но тому, кто свесился из разбитого окна машины, приходится гораздо хуже: с влажным чмоканьем от потерявшего сознание человека что-то отделяется и катится по улице. Сигруд слышит, как водитель орет от ужаса, остаток тела выпадает из окна и закатывается в канаву.
Машина заходит по широкой дуге и сворачивает в переулок. Сигруд в бессильной ярости вскакивает на ноги и мчится следом. Вот переулок. Авто остановилось в нескольких ярдах впереди. Он подскакивает и распахивает водительскую дверь.
Никого. Машина пуста.
Сигруд судорожно оглядывается. Переулок заканчивается тупиком. Упирается в глухую стену. А вокруг – никаких путей к отступлению. Ни окон, ни лестниц, ни канализационных решеток, ни люков, ни дверей.
Сигруд свирепо рычит и пихает кинжал в ножны. И медленно идет обратно, ощупывая стены. Ни одна не подается. Водитель, похоже, просто растворился в воздухе.
Сигруд вздыхает и почесывает щеку:
– Снова-здорово…
Я камень под деревом.
Я гора под солнцем.
Я река под землей.
Обитель моя – в пещерах среди холмов.
Обитель моя – твое сердце.
Я видел, что ты хранишь в нем.
Я видел, что живет в разуме человеков.
Я – правосудие. Я – справедливость.
Я – Колкан, слушайте меня и повинуйтесь.
Колкастава. Книга Вторая
Запечатленная память
Офицерская столовая в полицейском управлении Мирграда – отличный наблюдательный пункт. Отсюда прекрасно видно, как нарастает паника, – потому что в большие окна прекрасно просматриваются приемные, где от души скандалят политики, репортеры, взбешенные граждане и родственники заложников. А еще оттуда прекрасно видны комнаты для допросов, где мирградские полицейские тщетно пытаются разобраться, кто тут подозреваемый, кого надо отправить в больницу и что же им все-таки делать с Сигрудом, будь он неладен.
– Не скрою, для меня это совершенно новый опыт, – тихо произносит Шара.
– Правда? – удивляется Мулагеш. – Я-то думала, уж пару раз вас точно должны были арестовывать.
– Нет. Ничего подобного. Меня – никогда не арестовывали. На то я и координатор. У руководителей свои профессиональные преимущества.
– Наверно. Выглядите очень спокойной для человека, на которого только что совершили покушение. Как самочувствие?
Шара пожимает плечами. На самом деле она чувствует, что оказалась в комичном положении: в самом деле, сидит тут и чай прихлебывает за компанию с Мулагеш. А вокруг вон что творится. Благодаря их статусу – ну и тому, что Мулагеш в хороших отношениях с полицейским руководством, – их тут же отделили от других вызволенных заложников. Мулагеш сидит с пакетом льда у глаза и то и дело рычит насчет того, что «надо было быстрей, мать его за ногу, поворачиваться». И фырчит, что так ей, «старой калоше», и надо. Губернатор уже оповестила ближайший аванпост, и скоро сюда прибудет небольшой взвод сайпурских ветеранов – на всякий случай. Пусть охраняют. Шара ничего не говорит вслух, но идея ей не нравится: собственная охрана зачастую только мешает драться с противником. И потом, Сигруд – самая лучшая охрана. Вот только Сигруд на данный момент сидит и остывает в одиночке. А схваченный живым налетчик заперт в крохотной камере, обычно резервируемой для самых опасных преступников.
Офицер доливает чаю, и Шара тут же его выпивает.
– Это четвертый чайник, – предупреждает Мулагеш.
– И что?
– Ничего. Вы всегда столько чаю выпиваете?
– Только при исполнении.
– Такие люди, как вы, всегда при исполнении.
Шара пожимает плечами, делая очередной глоток.
– Если продолжите поглощать чай в таком темпе, обзаведитесь хорошим урологом. Не помешает.
– Как глаз?
– Отвратительно. Я пропустила удар – это унизительно! Но случались со мной штуки и похуже.
– Ну будет вам. В конце концов, в стычке победа осталась за вами.
– В прежние деньки, – вздыхает Мулагеш, – я таких кретинов одной левой укладывала. А теперь уж нет, куда мне. Эх, я бы все отдала… – тут она кривится от боли, прощупывая фингал, – …за молодость. Хотя… вряд ли даже в самые лучшие времена я бы сумела сравниться с вашим человеком. В доме он выступил на отлично. Где вы его отыскали?
– В очень неприятном месте, – честно отвечает Шара.
И она медленно погружается в размышления. Тревожные крики и вопли постепенно затихают, и она начинает составлять список.
С Шариной точки зрения, хороший список – это половина успеха в работе оперативника. Вторая половина – хороший запас терпения. Если вдуматься, шпионаж – не что иное, как сбор информации и распределение ее по категориям. Объект нужно определить в нужную группу. Выяснить, где находится объект, и почему мы можем быть в этом уверены. Кто у нас еще есть в этом регионе. Вот мы выделили группы, теперь нужно понять, какому уровню опасности они соответствуют. И так далее и так далее.
Поэтому, когда Шара оказывается в тупике, она распределяет свои мысли по разрядам, вымолачивая их, отделяя зерна от плевел, прогоняя через лабиринт размышлений, пытаясь выжать каплю истины из уже известного. Так, в ходе самодопроса, появляется бесконечный список примечаний, характеристик, категорий и исключений.
Факт: На меня напали меньше чем неделю спустя после убийства Ефрема Панъюя.
I. Я не уверена, что это именно на меня совершали нападение.
А. Тогда на кого?
1. Во хочет поставлять оружие в Сайпур. Достаточная причина, чтобы его тут укокошили.
а. А почему тогда они не убили Во сразу? Могли бы застрелить прямо с порога комнаты, как только увидели.
б. Он еще не заявлял публично о своих намерениях.
1) Это еще ничего не значит – могла быть утечка.
II. Ефрема забили насмерть каким-то тупым инструментом прямо в рабочем кабинете. А эти люди выглядели профессионалами.
А. Это ты так думаешь. Между прочим, того, кто убил Ефрема, не поймали. Вот тебе доказательство высочайшего профессионализма убийцы.
1. Профессионализм и некомпетентность местных властей – две большие разницы, как здесь выражаются.
Б. На Ефрема могли напасть из-за его поездок на Склад. А ни я, ни Во к хранилищу отношения не имеем.
1. Но я же знаю, что он существует.
а. Навряд ли меня хотели убить исключительно по этой причине.
2. Мы, все трое, закоренелые еретики, с точки зрения обычного континентца.
а. Слишком общая характеристика. Под определение ереси на Континенте попадает буквально все.
Факт: Ефрем Панъюй что-то изучал в стенах Запретного склада.
I. Винья в курсе? Конечно, в курсе, как же иначе…
А. Мог ли Ефрем работать на Континент? Не предатель ли он?
1. Не будь дурой.
Б. А почему меня не поставили в известность? Что там такое запрятано, что мне знать не следует?
1. Да куча всего, еще бы.
2. Могли ли континентцы его убить, чтобы получить доступ к Складу?
а. Мулагеш абсолютно уверена, что в Склад, кроме Ефрема, никто больше не заходил.
В. Если Винья в курсе задания Ефрема, то почему она разрешила мне остаться?
1. Может, она думает, что я слишком тупа, чтобы разобраться что к чему.
2. Может, она хочет уберечь меня? От чего?
а. Не будь дурой. На тебя только что напали – естественно, никто тебя ни от чего не уберегает.
3. А не хочет ли она, чтобы меня убили?
а. Она твоя тетя.
1) Она сначала министр, а потом уж твоя тетя.
а) Хорошо, но зачем министру нужно, чтобы меня убили?
2) Если Винья хочет, чтобы меня убили, меня убьют, и рассуждать тут не о чем.
4. Хотела ли Винья, чтобы убили Ефрема?
а. Похоже на то, что Ефрем был агентом Министерства. Зачем убивать собственного оперативника?
Факт: Я не спала уже двадцать три часа.
I. Мне нужно выпить еще чаю, тьфу ты пропасть.
Шара вздыхает:
– Капитан Незрев еще не приехал?
– Нет, – качает головой Мулагеш. – Еще нет. Но сейчас четыре утра, и он живет далеко от управления.
– Вы знаете, где он живет? Откуда?
– Не надо тут цветуечком прикидываться, госпожа посол, – хмурится Мулагеш. – Вам не идет.
Шара про себя ухмыляется: эх, молодость, молодость, вот зачем ты губернатору…
– Хотя у нас с Незревым есть некоторое общее… хм… прошлое, я не уверена, что этого хватит, чтобы ему показалась привлекательной идея передать в руки посла иностранной державы уголовное дело такой важности.
– А я и не претендую, – быстро говорит Шара. – У них свое расследование, у меня свое. Я просто хочу первой поговорить с захваченным боевиком.
«В Кивосе все-таки гораздо, гораздо проще действовать, – думает она. – Мы бы взяли его на улице и сделали вид, что такого человека вообще не было… Хм, интересно, а ведь тебе все сложнее работать в цивилизованных странах. Это звоночек, Шара. Все-таки Воханнес молодец – хранит верность идеалам молодости. Зря, конечно, но все равно здорово…»
И тут ее осеняет. Шара хватает со стола старую газету и судорожно перелистывает страницы, пока не находит статью под броским заголовком: «Отец Города Уиклов против иммигрантских гетто». А ниже – фотография мужчины с круглым, зло скукоженным лицом и чудовищных размеров бородищей. Бррр… Словно бы он смотрит и думает: наорать сразу? Или для начала громко отчитать?
– Почему вы читаете об Уиклове? – интересуется Мулагеш.
– Вы его знаете?
– Кто ж его не знает! Говно человек, по правде говоря.
– Мне тут подсказали, – говорит Шара, – что он может быть как-то связан с убийством Панъюя.
– Это Вотров вам такое сказал?
Шара кивает.
– Я бы на вашем месте вела себя осмотрительнее, посол, – говорит Мулагеш. – Вполне возможно, Вотров натравливает вас на своих личных врагов.
Шара продолжает разглядывать фотографию, но Мулагеш озвучила ее опасение: она ведь действует вслепую. Обычно ей давали шесть месяцев или шесть недель на подготовку операции. А не шесть часов.
И наливает себе еще чаю. Нет, Шара не станет говорить Мулагеш, что потребляет кофеин в таком количестве, если работа совсем, совсем не спорится.
Капитан Незрев – кстати, красавец-мужчина, на десять лет моложе Мулагеш, – добирается до управления к пяти тридцати утра. Сначала он весьма несговорчив, как это водится у людей, которых разбудили в такую рань. Но Шара поднаторела в игре «я сейчас покажу тебе бумажку, а потом удостоверение, а потом еще бумажку», а еще пару раз ввернула грозное «международный инцидент», и потому капитан в конце концов мрачно отмахивается: «у вас есть час, время пошло».
– Отлично, – кивает Шара – ограничение по времени она намерена игнорировать. – А что там с Вотровым?
– Он дал показания, невеста сгребла его в кучу и уволокла домой, – сообщает Незрев. – Этого мужика любая баба будет за член водить – если сумеет ухватиться, конечно.
Он ожидает, что Шара хихикнет, но той, как ни странно, совершенно не до смеха.
* * *
Схваченный боевик оказывается парнишкой лет восемнадцати от роду. Он сидит за большим деревянным столом, занимающим почти всю камеру. Увидев ее, он выпрямляется, одаривает ее злющим взглядом и, потирая запястье, сердито выговаривает:
– А, это ты. А тебе-то что от меня надо?
– Я прослежу, чтобы тебе оказали необходимую медицинскую помощь.
И она придерживает дверь для доктора. Тот еле стоит на ногах от усталости.
Чем дольше врач осматривает арестанта, тем сильнее у него вытягивается лицо:
– Этот мальчик упал на оконное стекло? Почему он так изрезан?
– Его несколько раз ударили хрустальной люстрой.
Доктор хмыкает и качает головой, словно желая сказать: с ума сойти, какие затейливые способы изыскивают люди, чтобы причинить друг другу телесные повреждения.
– Большинство порезов поверхностные… А вот запястье он потянул серьезно.
Закончив, доктор отвешивает поклон и удаляется. Шара садится напротив юноши и ставит сумку на пол рядом с собой. В комнате зябко: стены из толстого камня, а тот, кто проектировал помещение, не озаботился провести сюда отопление.
– Как ты себя чувствуешь? – спрашивает Шара.
Мальчишка гордо молчит в ответ.
– Пожалуй, я спрошу прямо и без уверток, – говорит она. – Я хочу знать: зачем ты на меня напал?
Он вскидывает взгляд, с мгновение они смотрят в глаза друг другу, потом мальчишка отворачивается.
– Тебя действительно за этим туда послали? У твоих коллег были все возможности, но…
Он смаргивает.
– Как тебя зовут?
– У нас нет имен, – отвечает юноша.
– Совсем нет?
– Совсем нет.
– А почему?
Он явно хотел бы ответить, но не решается.
– Так почему?
– Потому что мы – умолкшие, – выговаривает мальчишка.
– Что это значит?
– У нас нет прошлого. Нет истории. Нет страны.
Похоже, он декламирует давно заученные строки.
– Нам отказано в этом. Но нам это и не нужно. Нам не нужно все это, чтобы знать, кто мы такие.
– И кто же вы такие?
– Мы – ожившее прошлое. Нас не забудешь. От нас не отвернешься. Мы – запечатленная память.
– В таком случае вы – реставрационисты, – делает вывод Шара.
Юноша молчит.
– Ты – реставрационист?
Он отворачивается.
– Оружие. Одежда. Машина, – перечисляет Шара. – Все это стоит немалых денег. Когда такие суммы перечисляют или передают из рук в руки, люди это замечают. Сейчас мы ищем тех, кто финансировал налет. И кого мы найдем? Уиклова? Эрнста Уиклова?
Никакой реакции.
– Он ведь богат и поддерживает Реставрацию, правда? Я смотрю, на его предвыборных плакатах часто изображают оружие… Если мы потянем за эту ниточку, мы ведь его найдем на другом кончике? Да, дитя мое?
Мальчик буравит взглядом столешницу.
Голос Шары звучит очень ласково:
– Ты не похож на закоренелого преступника. На человека, склонного к насилию. Тогда зачем тебе лезть в такие дела? Разве у тебя нет дома? Все это – грязные политические делишки. Я могу сделать так, что все это закончится. Могу сделать так, чтобы тебя отпустили.
– Я ничего вам не расскажу, – говорит мальчик. – Я не могу. Я – из умолкших. И это вы заставили нас замолчать.
– Боюсь, тут ты очень сильно ошибаешься.
– Ничего подобного! Много ты знаешь, женщина! – сердится мальчишка.
И снова окидывает ее злющим взглядом. А потом отводит глаза, но они против воли скользят по ее открытой шее и ключицам.
Ах, вот оно что. Он из староверов.
– Надеюсь, я не нарушаю никаких ваших правил, – обеспокоенно произносит Шара. – Тебя не накажут за то, что ты оставался наедине с незамужней женщиной?
– Ты не женщина, – цедит мальчишка. – Чтобы быть женщиной, нужно быть человеком. А шалотников мы за людей не считаем.
Шара мило улыбается:
– Но если это правда, то почему ты так нервничаешь?
Мальчишка молчит.
Шара не считает себя красавицей, но отчего бы не попробовать зайти и с этой стороны.
– Как же здесь жарко, – произносит она. – Тебе не жарко? У меня руки потеют, когда мне жарко.
И она принимается за перчатки – стягивает их, медленно, палец за пальцем. А потом аккуратно складывает и кладет на стол.
– А твои руки не вспотели?
И она протягивает пальцы к его больному запястью.
Он отдергивает руку, как от огня:
– Не прикасайся ко мне, женщина! Не пытайся завлечь меня своей… своей тайной женственностью!
Шара с трудом сдерживает смех. Она никогда не слышала, чтобы этот термин произносили вслух, – разве что на уроках истории. Да еще и с такой искренней горячностью…
– Ты слишком разговорчив для того, кто отказывается говорить. Правда, должна признать: ты говоришь меньше, чем твой друг.
И она вынимает из сумки папку и принимается изучать ее содержимое.
– Кто? – подозрительно спрашивает юноша.
– Мы захватили еще одного человека из ваших, – поясняет Шара. – Он тоже отказывался называть нам свое имя. Даже умирая. Но рассказал о многом…
Естественно, во всем этом нет ни слова правды: Сигруд перебил всех налетчиков. За исключением того, кто исчез. Но она смотрит на мальчишку с улыбкой. И, излучая приветливость, спрашивает:
– Так как работает трюк с исчезновением?
Мальчишка вздрагивает.
– Я знаю, что именно с его помощью вы перемещаетесь по городу, – чеканит Шара. – Машины, люди – заезжаете в переулок, едете по нему, а потом – раз! И исчезаете. Это похоже на… чудо, мой мальчик.
Виски парнишки блестят от пота.
– Он бредил, – говорит Шара. – Предсмертный бред. Умирал от потери крови. Я сначала не знала, правда это или нет, но… теперь я думаю, что большая часть из того, что он говорил, – правда. И это очень примечательный фокус, скажу я тебе…
– Это… это неправда, – выдавливает мальчик. – Никто из нас ничего бы вам не рассказал. Даже умирая. Можете бросить нас в Слондхейм – и все равно мы будем молчать.
– Я могу отправить тебя в Слондхейм, дитя, – вздыхает Шара. – Мне приходилось бывать в этой тюрьме. Она страшнее, чем ты думаешь.
– Мы вам ничего не расскажем. И не рассказали бы!
– Да, но он ведь был в полубессознательном состоянии… Не контролировал себя… Его можно понять. Что еще он нам расскажет? Если ты заговоришь, если расскажешь все как есть, тебе будет оказано снисхождение. Мы сделаем так, что ты вернешься домой, к маме. И забудешь все, как страшный сон. Но если ты не станешь сотрудничать…
– Нет, – отрезает мальчик. – Нет. Мы никогда… не буду я сотрудничать. Нас ждет награда!
– Какая?
Тут парнишка делает глубокий вдох – волнуется. И принимается что-то напевать.
– Это что?
Шара наклоняется поближе, чтобы расслышать.
Мальчишка поет:
– «На горе у камня, ждет нас там награда! Святая святых! На горе у камня, ждет нас там награда! Святая святых!»
– Твоей единственной наградой станут тюрьма и смерть, – отзывается Шара. – Твои товарищи умерли. Я видела их смерть. И ты видел. И что, наградили их? Получили они то, чего хотели?
– «На горе у камня, ждет нас там награда! Святая святых! – громче повторяет парнишка. – На горе у камня, ждет нас там награда! Святая святых!»
– А их семьи? Они получили награду? Их друзья – получили награду? Или у них и этого нет?
Но парнишка поет и поет одно и то же, как заведенный. Шара вздыхает, задумывается на мгновение – а потом выходит из комнаты.
* * *
– Ты мне нужен, боец, – говорит Шара.
Сигруд приоткрывает один глаз. Он сидит, скорчившись, в углу камеры. Рука перевязана, от крови его минимально отмыли. Но он не спит, Шара точно знает: вон трубочка попыхивает.
– Они тебя отпустят. Очень скоро, – поясняет она. – Я сумела этого добиться, несмотря на… потери в живой силе. Заложники все в один голос твердят, что ты вел себя как герой.
Сигруд равнодушно и презрительно пожимает плечами.
– Хорошо. А теперь скажи мне вот что. Мы с тобой говорили о наружном наблюдении и о том, чтобы нанять агентов через подрядчиков. Получилось?
Он кивает.
– Отлично. Мне понадобится помощь… мускулов, так скажем. Когда тебя отпустят, отправляйся за этой уборщицей из университета. Той, что мыла полы у Панъюя. Которая за нами тогда следила. Нужно было сразу это сделать, но мы были… заняты. Хватай ее и вези в посольство. Я хочу допросить ее лично. И я хочу, чтобы нанятые через твоих подрядчиков агенты установили наружное наблюдение за ее квартирой. Посмотрели, кто заходит, кто выходит. И все это нужно сделать до… – тут она смотрит на часы, – до шести вечера. И тебя не должны заметить. Действуй исходя из того, что за тобой и за ней следят. Понятно?
Сигруд вздыхает. Потом недовольно кривится, словно бы перебирая в уме альтернативы и постепенно приходя к выводу, что все равно никаких других планов на вечер не было.
– До шести, значит.
– Отлично.
– Недобиток, – выговаривает он. – Заговорил?
– Нет. И не заговорит. Так мне кажется.
– И что дальше?
Шара поправляет на переносице очки:
– Я попробую потянуть время, но обычными способами его не расколешь.
– И что дальше?
– Ну…
И она смотрит в угол камеры в глубокой задумчивости.
– Думаю, придется накачать его наркотиками.
Сигруд разом оживляется. Меряет ее недоверчивым взглядом. Потом улыбается:
– Что ж. По крайней мере повеселишься.
* * *
Шара стоит у двери камеры, внимательно разглядывая парнишку через смотровую щель. Потом переводит взгляд на часы: сорок минут. Мальчишка встряхивает головой, словно его знобит, потом берет чашку с водой и отпивает. Семь глотков. Маловато, было бы лучше, если бы его мучила жажда…
Мальчик все ниже и ниже наклоняется над столешницей, словно бы из него выпускают воздух. Шара снова смотрит на часы: вещество действует не то чтобы медленно, но хотелось бы побыстрее.
– Не самое завораживающее зрелище, как я понимаю.
Это подходит Мулагеш.
– Не самое, – соглашается Шара.
– Хм. Я слышала, что арестованный молчит.
– Молчит. Увы, мы имеем дело с фанатиком. Впрочем, это вполне ожидаемо. Не думаю, что он боится смерти. Его скорее беспокоит то, что произойдет после.
Парнишка в камере поднимает голову и упирается взглядом в стену. На лице – благоговейный ужас. И восторг. Тело его сотрясает легкая дрожь.
– Что это с ним? – хмурится Мулагеш. – Он что, псих?
– Нет, что вы. Впрочем, возможно и псих, конечно, учитывая характер его поступков. Но то, что мы наблюдаем, не болезнь, нет.
– А что же это?
– Это… не слишком обычный метод допроса. В Кивосе он популярен. Полезная штука, когда время поджимает. Хотя я бы не отказалась от четырех или пяти часов. Зато дешево и сердито. Нужны только темная комната, немного звуковых спецэффектов и… философский камень.
– Что?..
– Не прикидывайтесь цветуечком, госпожа губернатор, – говорит Шара. – Вам не идет.
– Вы что, наркотиками его накачали?!
– Да. Это сильный галлюциноген, кстати, здесь он в ходу, и давно. Его, правда, используют совсем не в рекреационных целях. Что понятно, учитывая характер его употребления.
Мулагеш ошалело смотрит на нее и не находит что сказать.
– Известны десятки легенд, описывающих, как люди принимали его, чтобы вступить в более тесный контакт с Божеством, – с отсутствующим видом продолжает Шара. – Расширение сознания, слияние с бесконечным – вот это все. Более того, оно увеличивало силу некоторых чудес: адепты Божеств принимали его для усиления чудесных способностей. Сильнодействующее вещество, ничего не скажешь. И при этом – всего лишь наркотик.
– Вы что, эту штуку при себе носите?
– Я посылала за ней в посольство, Питри ездил. Обычно я стараюсь создать у них впечатление, что они дома, с температурой, а вокруг – члены семьи. Или люди, притворяющиеся ими. Человек перевозбуждается и выкладывает все подчистую. Но я не уверена, что здесь будет то же самое: в тюремной камере бред может принять характер…
Парнишка ахает, смотрит на свою руку, потом на потолок. А потом хватается за голову и всхлипывает.
– …кошмара.
– Но это же пытка.
– Нет, – спокойно отвечает Шара. – Пытки я видела. Это даже близко не стояло. И потом, под наркотиком люди говорят… скажем, правду. А под пыткой – то, что вы хотите услышать. К тому же люди склонны считать этот метод допроса более щадящим. Хотя бы потому, что потом никто не может сказать с точностью, было это или нет.
– Как же хорошо, что я осталась в армии, – бормочет Мулагеш. – И не пошла в разведку. Как мерзко на душе-то сразу стало…
– Было бы еще мерзее, если бы мы не получали в ходе допросов информацию, которая позволяет спасти множество жизней.
– Выходит, мораль мы оставляем за порогом допросной камеры.
– У государств нет морали, – говорит Шара, по памяти цитируя тетушку Винью. – Только интересы.
– А хоть бы и так. Но все равно… вы – и это все… как-то не вяжется.
– Почему?
– Ну… Меня не было в Галадеше, когда разразился тот скандал с Национальной партией. Впрочем, новость и так повсюду разлетелась. Все, абсолютно все обсуждали эту историю. У всех на глазах блестящая карьера кандидата в премьер-министры рассыпалась в труху… Плюс еще эта попытка самоубийства партийного казначея – нет ничего постыднее, чем попытаться благородно уйти из жизни и потерпеть неудачу… Но больше всего обсуждали девушку, из-за которой все и случилось. Девушку, которая слишком сильно раскачала лодку.
Шара медленно смаргивает. Дальше по коридору стоят трое полицейских и разговаривают на повышенных тонах, причем все злее и злее.
– Все говорили: она не виновата, – продолжает Мулагеш. – Просто слишком молоденькая, вот и не разобралась. Сколько ей было – двадцать? Запальчивая, неопытная – не понимала еще, что некоторых коррупционеров трогать нельзя. Что в змеиное гнездо голыми руками не лезут.
Из кабинета выскакивает разъяренная секретарша и сердито призывает полицейских к порядку. Обменявшись злющими взглядами, те расходятся.
– Она следовала велениям сердца, – говорит Мулагеш, – а не разума. Ну и наворотила лишнего.
Шара смотрит на парнишку в камере: тот ерзает, готовясь то ли заплакать, то ли рассмеяться.
– Я всегда считала, – продолжает Мулагеш, – что та девушка – хороший человек, которому досталась поганая работа. Вот и все.
Мальчик откидывается на стуле и упирается затылком в стену. Глаза у него остекленелые, невидящие. Шара захлопывает смотровую щель.
Так, хватит.
– Простите, но мне пора, – говорит она, открывает дверь, проскальзывает внутрь и запирает ее за собой.
В жизни не была она так счастлива, заходя в тюремную камеру.
* * *
Парнишка пытается сфокусироваться:
– Кто здесь?
Шара успокаивает его:
– Тихо, тихо. Не волнуйся. Это я. Все хорошо.
– Кто? Кто это? – Он облизывает губы. Одежда его мокра от пота.
– Тебе нужно успокоиться и расслабиться. Ты выздоравливаешь.
– Правда?
– Да. Ты упал и стукнулся головой. Не помнишь?
Он напряженно щурится, силясь разобраться:
– Может быть… Мне кажется… я упал… на той вечеринке…
– Да. И мы поместили тебя в прохладное темное место. Чтобы ты успокоился. Ты перевозбудился немного, но теперь все будет хорошо.
– Правда? Со мной правда все будет хорошо?
– Конечно. Ты же в больнице. Просто полежишь здесь еще немного, на всякий случай.
– Нет! Нельзя, мне нужно идти! Я должен… – И он возится на стуле, пытаясь встать.
– Что ты должен сделать?
– Я должен вернуться к остальным.
– К кому? К твоим друзьям?
Он сглатывает и кивает. Дыхание становится частым и тяжелым. Перед глазами у него сейчас мелькают дрыгающиеся тени, взрываются кислотные цвета, проносятся холодные огни…
– Ну полно, куда ты пойдешь в таком состоянии? – повторяет она.
Он пытается ответить на вопрос:
– Н-нет… мне нужно… идти…
– Боюсь, ничего из этого не получится, – успокаивающе говорит она. – Ты нуждаешься в уходе и лечении. Но мы можем предупредить твоих друзей. Где их найти?
– Где? – растерянно переспрашивает он.
– Да. Где живут твои друзья?
– Они… они в другом месте. Это место из другого места. Мне… мне так кажется.
– Хорошо. А где находится это место?
Он трет глаза. А когда поднимает взгляд, Шара видит, что там лопнуло несколько сосудов.
– Где? – повторяет она.
– Это… это не такое место, как здесь. Оно… древнее. Где все так, как должно быть.
– Как должно быть?
– Да, как должно быть. Все должно быть так, как там.
– А как ты попадаешь в то место, где тебя ждут друзья?
– Трудно объяснить.
И он смотрит на лампу под потолком. Потом в сторону, словно ему больно смотреть на свет. А потом мямлит:
– Мир… он стертый. То есть истертый.
– В смысле?
– Он неполон. Город неполон. Есть места, где что-то стояло, а теперь пусто. Его забрали. Соединительная… – тут он мучительно морщит лоб, – …ткань. Но все это можно увидеть. Попасть туда. В то место. Если ты оттуда. Золото… закоптилось. Но все равно блестит. Жемчужина раскололась. Но город… все равно стоит. Он здесь… – и он стучит по груди… – он такой, как здесь.
– Значит, вот так люди исчезают?
Парнишка смеется:
– Исчезают? Какая… чушь…
Он находит саму эту идею настолько комичной, что едва не падает со стула.
Шара пытается зайти с другой стороны:
– Зачем ты пришел сегодня вечером на вечеринку?
– Сегодня вечером?
– Да.
– А… – и он обхватывает руками голову. – А вы уверены, что это было сегодня вечером? Это было так давно…
– Нет. Не давно. Всего-то несколько часов назад.
– Но я чувствовал, как сквозь пальцы утекали годы, – шепчет он. – Утекали, как ветер.
Тут он задумывается.
– Мы приходили за… металлом.
– За металлом?
– Да. Мы хотели купить, но получалось слишком медленно. Нам он не нравится. Мы его ненавидим. Но он был нам нужен.
– Вотров?
– Да. Он.
Шара кивает.
– А женщина имела к этому какое-то отношение?
– Кто?
– Ну… – тут она колеблется с мгновение… – ну эта… шалотница.
– Ах, она! – И парнишка снова хохочет. – Ой, представляете, мы понятия не имели, что она там окажется!
– Понятно, – тихо говорит Шара. – А для чего вам нужен металл?
– Мы не можем летать на кораблях из дерева, – говорит мальчик. – Нам так сказали. Они развалятся. Дерево слишком хрупкое.
Его глаза провожают в воздухе какой-то невидимый предмет.
– Ух ты… Красота какая…
Похоже, она перестаралась с дозой…
– Это вы с друзьями убили доктора Панъюя?
– Кого?
– Того шалотника-профессора.
– У шалотников не может быть профессоров. Умишком недотягивают.
– Я про того мелкого иностранного профессора, который святотатствовал.
– Все иностранцы – святотатцы. Само их существование – оскорбление веры! Есть только мы! Мы – дети богов. Остальные – они из праха и глины. Они живут и не платят нам дань! Вот где святотатство!
Он вдруг хмурится и скрючивается, словно от боли в животе:
– Ох…
– Сюда приехал человек, он занимался исследованиями в университете, – Шара говорит медленно и очень разборчиво. – Вы не хотели, чтобы он тут работал. Весь город не хотел, в смысле. Люди протестовали.
Парнишка трет глаза:
– Ох… Моя голова… В моей голове… там что-то есть…
– Он умер несколько дней назад. Припоминаешь?
Мальчишка скулит:
– В голове… у меня там внутри что-то есть…
И бьет костяшками пальцев по черепу – да так сильно, что слышен стук.
– Пожалуйста… помогите мне убрать его оттуда!
– Кто-то напал на него в университете. Его забили до смерти.
– Пожалуйста! Умоляю!
– Расскажи мне все, что знаешь о профессоре.
– Он у меня в голове! – визжит парень. – Внутри! Он там! Он так долго пребывал в заточении! Я хочу видеть свет, дайте мне увидеть свет!
– Проклятие, – бормочет Шара. Подходит к двери камеры и кладет руку на смотровую щель. – Ты хочешь увидеть свет?
– Да! – верещит парень. – Во имя всех богов, да!
– Отлично.
И Шара открывает щель. Внутрь просачивается свет.
– Ну вот, – говорит она. И разворачивается к арестанту: – Теперь ты расскажешь мне о…
Но парнишки больше нет.
И не только парнишки – половины комнаты тоже. Словно бы полкамеры залило черной водой, а в центре этой черной стены – маленькое отверстие. Оттуда бьет желтый свет. Желтый, как небо перед грозой.
– Ох ты ж… – выдыхает Шара.
Отверстие с желтым светом расширяется. В голову Шары кто-то лезет, безжалостно распахивая дверку громадными ручищами…
В голове напоследок мелькает: странно, ведь это я давала ему наркотик, а не он мне…
А потом Шара начинает видеть… кучу всего.
* * *
Перед ней – дерево, старое и перекрученное.
Дерево растет на вершине одинокого холма. Его ветки – как темный купол на фоне желтого неба.
Под деревом лежит камень. Темный и до блеска отполированный. Он такой гладкий, что кажется мокрым.
А в середине камня вырезано лицо. Шара с трудом различает его черты…
И тут раздается подобный грому голос:
КТО ТЫ?
И тут все исчезает – и холм, и дерево, и камень. Картинка меняется.
* * *
Солнце. Яркое, яростное, слепящее. Не привычный шар света над головой – нет. Солнце такое, словно бы небо – из тонкой желтой бумаги, а за ним стоит кто-то с горящим факелом.
Этот край освещает древний огонь. Но кто возжег его?
Под солнцем высится одинокая гора. Странная – похожа на болезненно выпрямленную колонну. Вершина ее гладкая и круглая – прямо как тот камень под деревом. А склоны отвесные и морщинистые. Что-то в этой горе есть неприятно… живое. Хотя, наверное, это все из-за ее неестественной гладкости. Наверху ярится солнце.
Тот же оглушающий голос:
КАК ТЫ СЮДА ПОПАЛА?
И снова все пропадает из виду.
* * *
Перед ней – склон холма. На камнях пляшут отсветы пламени. Ночь. Вокруг мельтешат тени – лица, руки, все звериное, уродливое. Над головой паучьим яйцом зависла огромная, раздутая луна. Она балансирует на вершине холма, и кто-то в треуголке скачет на ее фоне и поднимает что-то к небу – кружку?.. – словно бы приглашая луну присоединиться к веселью.
Через ночное небо чернющей тучей летят и оглушительно пищат скворцы.
ЧТО-ТО НЕ МОГУ ТЕБЯ РАЗГЛЯДЕТЬ. ПОДОЙДИ-КА ПОБЛИЖЕ.
Тьма улетучивается. Ее утаскивают из этого странного пространства.
* * *
Равнина. Ее пересекает дорога. На желтом небе снова солнце, похожее на прогоревший факел. Равнина пыльная, дорога пустая.
Она летит над дорогой, в нескольких дюймах над пыльной поверхностью, словно бы кто-то везет ее на веревочке.
На горизонте набухают комковатые, желтые, бесплодные холмы. Она болтается в воздухе и летит, летит к ним, потом над их гладкими склонами и наконец видит расселину, похожую на разрез. Пещеру.
И в ней кто-то есть, и он тянет ее к себе.
Она влетает. Свет угасает.
Эти холмы полые, ты знала?
Хотя нет, это не холмы. Это статуи.
А ты знаешь, кого они изображают?
У дальней стены пещеры кто-то сидит. Она их не видит. Кажется, вон там есть кто-то высокий, в серой плотной, просторной одежде…
Лица она не видит, но чувствует на себе взгляды.
НУ ЗДРАВСТВУЙ. МЫ ЗАЖДАЛИСЬ.
Рук она не видит, но чувствует, что кто-то схватил ее и не отпускает.
ТЫ КАК СЮДА ПОПАЛА? ВПРОЧЕМ, КАКАЯ РАЗНИЦА? ВЫПУСТИ МЕНЯ.
Движения она тоже не видит, но чувствует, как смыкаются вокруг стены.
ВЫПУСТИ МЕНЯ. ТЫ ДОЛЖНА ВЫПУСТИТЬ МЕНЯ.
Серая ткань хлопает на ветру. Все ближе, ближе, хотя ничего не видно.
ОНИ НЕ ИМЕЛИ ПРАВА. НЕ ИМЕЛИ ПРАВА ТАК СО МНОЙ ПОСТУПАТЬ!
Шара пытается вырваться. Упирается ладонями, хочет оттолкнуться. Пусти! Пусти!
ТЫ ДОЛЖНА ВЫПУСТИТЬ МЕНЯ.
И тут во тьме вспыхивает яркое пламя.
* * *
Шара не сразу понимает, что стоит посреди камеры. А перед ней пылает огонь, отсветы пламени мечутся по каменным стенам, прямо как в пещере. Такой же, как в ее видениях. Она в пещере? И тут она слышит истошные крики Мулагеш: «Шара! Шара! Уходи оттуда немедленно! Что ты стоишь! Выходи, разрази тебя гром!» И понимает – да это же допросная камера, а она в ней…
А еще рядом слышится еще один голос. Кто-то вопит, отчаянно, на пределе громкости.
И тут пылающий встает на ноги, смотрит на нее и протягивает руки.
И среди пламени она различает лицо, вспухающие волдыри и треснувшую кожу.
Это парнишка. Он горит, словно его облили керосином и подожгли.
Он открывает рот, чтобы снова закричать. Пламя заливается ему в глотку, кипит и вздувается на языке слюна.
Дверь за ней распахивается настежь. Мулагеш хватает ее и выволакивает в коридор.
Дверь камеры захлопывается, просветы и щели полыхают огнем. В дверь с той стороны колотят, за дверью визжат. Подбегают полицейские, они растеряны, не знают, что делать.
– Ох ты ж, – выдыхает Мулагеш. – Во имя всех морей! Да что ж это творится, мать его за ногу! Одеяла несите! Надо сбить огонь с этого человека! Шевелись, шевелись, я сказала!
С той стороны стучат все слабее. В воздухе разливается запах горелого жира, прямо как в свечной лавке. К двери наконец-то подносят одеяла, но из-под нее уже валит темный дым.
Они собираются с духом и открывают дверь. Изнутри камера вся почернела и выгорела. Там стоит густой, как черная вода, дым, завивающийся толстыми кольцами.
– Нет, – бормочет Мулагеш. – Нет. Ох. Опоздали мы. Опоздали.
В черном море медленно всплывает силуэт – скорчившееся на полу тело. Шара хочет подойти, но Мулагеш решительно отталкивает ее прочь.
* * *
В участке царит дикий переполох. В коридорах давка, люди орут и визжат, ломятся к выходу. Шара хочет спросить, с чего такой шум, но в голове пусто, и язык не ворочается.
Сквозь толпу к ней прорываются сайпурские солдаты. Она чувствует, как Мулагеш пихает ее в спину, и она оказывается в их объятиях. Чувствует, как ее выволакивают наружу, выдирая из ополоумевшей толпы.
Она чувствует, но не осознает. Наверное, это и есть шок. Даже любопытно наблюдать за собой со стороны…
Ее запихивают в машину вместе с Мулагеш и двумя солдатами. Питри тревожно оглядывается. Мулагеш приказывает: «Жми в посольство! Давай, чего ждешь!» Авто трогается, рядом чихает мотор броневика с гербом губернатора полиса, и машина пристраивается им в хвост.
– За крышами наблюдаем! – рявкает Мулагеш на солдат. – За переулками смотрим!
– Что вы хотите, чтоб они увидели? – тихо спрашивает Шара.
– Вы что, рехнулись?! Убийц они вылавливают! За шесть часов на вас дважды напали, дважды, вы понимаете – нет? Во имя всех морей, как он это провернул-то… Какое-то устройство? Фляжка с маслом? И как полиция это прохлопала! Может, они ему же и пронесли в камеру? С них, зараз, станется…
Ах, вот оно что. Мулагеш считает, что парнишка на нее напал.
Но он – не напал. «Я точно знаю, что случилось. Правда, раньше о таком мне приходилось лишь читать…»
– Я была без сознания, – говорит Шара. – А что вы видели?
– Нет, вы были в сознании! – возражает Мулагеш. – Вы стояли, смотрели на него. Прямо в глаза. Я не знаю, я думала, вы ему там голову морочите. А потом вы подошли к двери, открыли смотровую щель – и я смогла заглянуть внутрь. Вы сказали что-то о свете и развернулись, а потом вы двое просто… уставились друг на друга!
– И долго это продолжалось?
– Адский ад, понятия не имею. Потом он просто… вспыхнул. Я не заметила, чтобы он на что-то нажал или вытащил. Кнопку не нажимал, зажигалки в руках не было. Он даже не шевелился, когда это случилось! Я не знаю, чем он воспользовался, но я хочу знать, что это было. Может, у них не одна такая штука.
– А… вы голос в комнате не слышали?
– Что?
– Голос не слышали? Пока мы смотрели друг на друга?
Мулагеш отводит глаза от улицы и поворачивается к Шаре:
– Это все шок. Вам нужно прилечь и отдохнуть. Делами займусь я. Я знаю, что делать. Это мои обязанности. Хорошо?
«Он говорил со мной из сердца мира. Впрочем, нет. Он и был сердцем этого мира».
– Вам не стоит, – тихо говорит Шара, – гонять попусту своих людей.
– Шара, вам нужно прилечь и…
– Нет, – говорит Шара. – Послушайте меня внимательно. Это не было нападением. Спланированным и продуманным. И это была не попытка убийства.
– Тогда что это было?
Шара колеблется: сказать? Не сказать? Нет. Сказать. Груз некоторых тайн невыносим.
Она садится ровнее и говорит, обращаясь к Питри:
– Простите, Питри, вы не могли бы остановиться? Это ненадолго? А когда остановите машину, не могли бы вы поднять перегородку между вами и пассажирским сиденьем?
– Что? – вскидывается Мулагеш. – Зачем?
– Боюсь, вашим солдатам надо пересесть к Питри на переднее сиденье, – говорит она. – Я хочу, чтобы все сказанное осталось между нами.
* * *
В окне проплывают разрушенные здания – есть в них что-то от диких, природных пейзажей. Серый ледник сползает по морозному склону… За стеклом мелькает бледное личико – девушка выбрасывает на улицу огромную кучу человеческих экскрементов. Прохожие останавливаются лишь на мгновение – для них это привычное зрелище.
– Пожалуй, я знаю историю Континента лучше, чем кто-либо из ныне живущих, – говорит Шара. – Конечно, раньше был еще один человек. Он знал даже больше, чем я. Ефрем Панъюй. Но он ушел из жизни, и осталась только я.
– Что вы хотите этим сказать? – хмурится Мулагеш.
– Я читала о случаях самовозгорания на Континенте. Такого уже несколько десятилетий как не случалось, но раньше… раньше такое время от времени происходило. И тогда все прекрасно знали причину этих самовозгораний. Они были следствием одержимости Божеством.
– Чего-чего? – тихо спрашивает Мулагеш.
– Одержимости Божеством. Божественное существо могло осуществлять прямой контакт со смертным, наделяя его своим разумом. Практически как марионетку. Так часто поступали младшие божественные сущности: феи, духи, фамильяры и прочие.
– И всех их кадж уничтожил в ходе Великой Чистки, – кивает Мулагеш. – Разве нет?
– Так считается, да. Но первородные Божества не могли схожим образом управляться со смертными. Они были слишком велики для такого. Слишком могущественны. Смертное тело не выдерживало контакта. Слишком сильное трение при духовном соитии, если так можно выразиться. Итогом становилось возгорание.
Мулагеш замолкает. Надолго.
– И… вы считаете, что именно это и произошло.
– Я абсолютно уверена в этом.
– Почему?
– Потому что… – тут она делает глубокий вдох, – …то, что вселилось в мальчика, говорило со мной. Вам, тем, кто находился за дверью, казалось, что мы просто стоим и смотрим друг на друга. Но меня… меня что-то куда-то затащило. Надолго. Затянуло меня к себе. Хотело рассмотреть повнимательнее. И хотело, чтобы я его освободила… из того места, где оно находилось.
– Оно говорило с вами?
– Да.
Мулагеш сглатывает слюну:
– Вы… вы уверены?
– Да.
– А это не мог быть побочный эффект от наркотика, которым вы накачали мальчишку? Может, препарат проник в кровь через кожу?
– Уверена, что наркотик сыграл свою роль. Но не такую, как вы думаете. Как я говорила, философский камень использовали для общения с Божествами. Судя по сохранившимся записям, он выполнял роль… смазки, скажем так. Похоже, я, сама того не подозревая, открыла в этом мальчике дверь для… того существа, которое им завладело.
– Того существа… – эхом повторяет Мулагеш.
– Да.
– Но… это не… просто какое-то существо. Потому что вы ведь, похоже, знаете, кто это был.
– Да.
– Потому что, если то, что вы говорите, правда, единственное существо, которое могло вызвать самовозгорание, это…
– Да. Первородное Божество.
– И… если вы действительно это видели, и именно оно вселилось в этого мальчика, это значит… это значит только одно.
– Да, – говорит Шара. – Это значит, что по крайней мере один из Богов жив.
Победа в Войне – поворотный момент в сайпурской истории. Тем не менее в тени деяний каджа и сражений Великой Войны остался период, соответствующий годам, последовавшим за падением Континента, – а ведь он столь же важен для Сайпура, как и гибель Божеств. Но сейчас об этом времени редко вспоминают.
Возможно, потому, что события, последовавшие за Великой Войной, вспоминать крайне неприятно.
После того как кадж убил последнее Божество, стало ясно, что Божества защищали Континент – и в какой-то мере Сайпур – не только от внешнего вторжения, но и от огромного числа вирусов и болезней. В течение двадцати лет после смерти Жугова, последнего Божества, ужасы чумы и ежегодных эпидемий стали так же привычны, как дождь и снег.
В Чумные года (если понимать под ними временной период, названный так официальными историками) во всем мире умерло неисчислимое количество людей. Континент, будучи в существенной степени зависимым от Божеств, пострадал особенно сильно: сразу после Мига примерно треть его населения вымерла от разнообразных заболеваний. Сайпурские солдаты – которые были столь же уязвимы для чумы, как и жители Континента, – описывали в письмах домой ужасы эпидемии: улицы, заваленные разлагающимися трупами, реки трупов высотой в два человеческих роста, нескончаемые вереницы носилок, тянущиеся к пылающим на окраинах полисов погребальным кострам. Каждый город страдал от нашествия насекомых, крыс, котов, волков – всех вредителей не перечислишь. На Континенте человека встречал и не отпускал запах разлагающейся плоти – куда бы тот ни направился.
А вот Сайпур, будучи колонией, на которую изливалось совсем немного божественных милостей, оказался лучше подготовлен к эпидемии – ведь сайпурцы знали толк в обычной, не чудесной медицине и санитарии. Заболевших помещали в карантин, а когда солдаты возвращались домой, их тоже моментально помещали в карантин, что в тот период вызывало большое недовольство сайпурцев. Так или иначе, хотя Чумные года стали тяжелым временем и для Сайпура, страна потеряла в этой внезапной мощной вспышке эпидемий не более десяти тысяч жителей.
Самодостаточность Сайпура помогла ему и в том, что касается развития технологий. Все 867 лет зависимости Сайпур вынужден был поставлять на Континент товары и продукты, которые производил безо всякой божественной помощи. (Вопрос, почему Божествам вообще понадобился сайпурский импорт, хотя они могли сами производить все необходимое чудесным способом, остается дискуссионным и пользуется печальной известностью среди сайпурских ученых.) Угроза, подталкивавшая сайпурцев к развитию техники, неожиданно исчезла, и Сайпур обнаружил, что сидит на золотой жиле, – причем все плоды трудов его жителей теперь принадлежат им. Результатом стала феноменальная по темпам технологическая революция. Сама Валлайша Тинадеши, традиционно считающаяся известнейшей из великих инженеров того времени, перед тем как исчезнуть в Вуртьястане, говорила, что в эти двадцать лет «можно было кинуть камнем в окно в Галадеше и попасть сразу в четырех гениев». (Кстати, любопытно отметить, что сам кадж был естествоиспытателем-любителем и в своем имении ставил опыты.)
В отличие от Сайпура, Континент – обуреваемый чумой, страдающий от голода – становился все более беспомощным. В отсутствие единой власти полисы погрязли во внутренних конфликтах. Короли-бандиты появлялись как грибы после дождя. Сайпурские солдаты, отправляясь домой, приносили с собой вести о случаях каннибализма, пытках, рабстве, групповых изнасилованиях. Люди, которые раньше были светилами для всего мира, чуть ли не в мгновение ока принялись совершать чудовищные, варварские дикости.
Только что сформированному сайпурскому парламенту показалось совершенно логичным – хоть и крайне неприятным – решение: Сайпур, столь долго пребывавший в статусе подчиненного государства, должен вмешаться во внутренние дела Континента и навести там порядок. Необходима новая интервенция – на этот раз не военная, а мирная. Континент нуждается в восстановлении.
Но я не уверен, что они поняли, с чем имеют дело. Ибо у Континента – несмотря на Миг, Чумные года и долгие годы раздробленности и бандитизма – долгая память. Долгая и горькая.
Они помнят, чем они были раньше, и сознают, сколь многое утратили.
Д. Ефрем Панъюй. Нежданная гегемония
Опасная честность
По крышам стекает тусклый утренний свет. Шара щурится на небо, точнее, на закрывающие его стены Мирграда – интересно, где они начинаются и где кончаются? Потому что видит она только рассветное небо… А может, бриллиантовая россыпь звезд над розовеющим утренним солнцем – лишь игра воображения? Это же не солнце, напоминает она себе. И неба на самом деле не видно. Это мираж, созданный стенами. Ну или… впрочем, точно никто не знает, что это. А мирградским голубям не до таких сложностей: они просыпаются в гнездах, ерошат перья и, закладывая широкие виражи, спускаются на городские улицы.
Шара не боится. Она раз за разом повторяет это себе спокойным, уверенным голосом доктора.
Она никогда не думала о знании как о бремени. Но как же тяжело его носить в себе…
А тихий мягкий голосок в голове замечает: а чего ты хотела? Шара слишком долго провела в закрытом отделе министерской библиотеки и прекрасно знает, что в сайпурских школах преподают детям только одну версию истории – крайне неполную. Где пробел на пробеле. И все равно. Кошмар, который тебя преследовал всю жизнь, рвется в явь. Ты была права, да, к этому следовало подготовиться. Но что теперь делать-то?!
А еще ее изводит мысль о Складе. А там-то что ее ждет?! А еще больше ее изводит подозрение, что в Склад мог пробраться кто-то еще. Да, это технически невозможно. Но с ней только что разговаривало технически мертвое Божество, и ее личная концепция невозможного резко поменялась.
Шара берет со стола утреннюю газету и в сотый раз перечитывает репортаж об ужасных смертях прошлого вечера. Вот это два особо интересных абзаца:
«Воханнес Вотров выразил соболезнования родственникам слуг, погибших во время нападения на усадьбу. Тем не менее Вотров заявил, что не удивлен случившимся: „Вы только посмотрите, какая ныне принята риторика, – неудивительно, что некоторые граждане сочли, что насилие – единственный метод решения проблем. Им изо дня в день твердят, что предлагаемое движением „За Новый Мирград“ видение будущего города несет лишь разрушение и смерть, что мы – сборище лжецов и обманщиков. Не сомневаюсь, что эти люди полагали, что выступают защитниками общественной морали – и именно об этом я сожалею более всего“.
Отец Города Эрнст Уиклов, постоянный оппонент Вотрова и движения „За Новый Мирград“, решительно опроверг подобные заявления: „Попытки заработать политические дивиденды на страшной трагедии выглядят более чем отвратительно, – заявил он в интервью, данном спустя всего несколько часов после нападения. – Сейчас время траура и размышлений, кое-кому не стоит пытаться встать в позу обиженной добродетели“. Господин Воханнес был недоступен для комментариев».
В дверь стучат, Мулагеш просовывает в комнату голову:
– Я не хотела никого пускать, но одно исключение все же решила сделать – тут ваш мальчик.
– Мой кто?
Мулагеш открывает дверь во всю ширину, и в коридоре обнаруживается Воханнес – крайне понурый и несчастный, несмотря на элегантный серый костюм и роскошную шубу белого меха.
– Ах, вот кто, – кивает Шара. – Проходи.
Воханнес, прихрамывая, заходит в комнату.
– Должен сказать, очень рад видеть тебя целой и невредимой. Подумать – два покушения в один день! Я, конечно, знал, что ты важная персона, но… – тут он потирает бедро, – не знал, что настолько важная.
Шара закатывает глаза:
– Как я погляжу, ты все такой же милый и обаятельный, Во. Пожалуйста, присаживайся. У меня плохие новости, к сожалению.
Он садится, и Шара понимает, что нынешнее стечение обстоятельств она находит скорее удачным – отвратительно, конечно, с ее стороны, но что поделаешь… Чтобы заставить Воханнеса сделать то, что она хочет, он должен быть испуган, и не на шутку.
– Плохие новости? – удивляется Во. – Что может быть хуже разрушений и… пятен, ужасных пятен по всему моему дому?
– Безусловно, мы все компенсируем, – говорит Шара. – В конце концов, твой дом разгромил сотрудник Министерства.
– Этот человек работает на Министерство?! Серьезно? На тебя? Но он же… дрейлинг, разве нет? Они же все заделались пиратами, после того как их игрушечное королевство прекратило существование…
– Может, и так, – пожимает плечами Шара. – Но он спас тебе жизнь.
Воханнес некоторое время молчит, стряхивая с сигареты пепел.
– Ну… Я не думаю, что… Так, постой. Что значит – мою жизнь?
– То и значит, – отвечает Шара. – Эти люди пришли не по мою душу. А по твою, Во.
Он в ужасе таращится на нее, так и не донеся сигарету до открытого рта.
– Это и есть плохие новости, о которых я хотела рассказать, – мягко заканчивает она.
– Выходит, он… он…
Шара пересказывает все, что ей удалось выяснить в ходе допроса арестованного налетчика:
– Впрочем, тебе несказанно повезло, что ты сидишь передо мной, – успокаивающе говорит она. – Возможно, я – единственный человек на Континенте, способный помочь тебе.
– Помочь мне в чем?
– Помочь остаться в живых. Ты видел, как были одеты нападавшие?
Лицо его ожесточается:
– Колкастани…
– Да. Их уже много десятков лет на Континенте не видели. Да, это колкастани. Это не вопрос политики, Во. Я думаю, это – вопрос веры. Эти люди готовы умереть ради своей веры. И им что-то от тебя нужно. А если они готовы умереть за веру, они снова попытаются получить это.
– Получить… что?
– Налетчик, которого я допрашивала, пребывал в состоянии… мгм… которое не позволило детально расспросить его. Но он совершенно четко сказал вот что: им нужен твой металл. Ты понимаешь, о чем речь?
Воханнес почти на минуту застывает с отсутствующим взглядом. И только потом осознает, что ему задали вопрос:
– Мой металл?
– Да. Не думаю, что имелся в виду драгоценный металл – золото или серебро. Но ты сам говорил, что хотел бы стать экспортером природных ресурсов…
– Ну… я тебе говорил, что мой главный козырь – это добыча селитры… А селитра – не металл, как ты знаешь.
– Я в курсе, какие вещества относятся к металлам, а какие нет, – отвечает она. – Как ты помнишь, мы посещали одно и то же учебное заведение, Во.
– Да, да… А кроме селитры… – тут Воханнес чешет бровь, потом приглаживает ее, – …кроме нее, получается… только сталь. Но это же совершенно новый проект, про него никто…
– Сталь?
– Да. Никто на Континенте не производит сталь – потому что никто не может себе этого позволить. Очень дорого.
– А ты можешь?
– Да. Но речь, конечно, идет не об огромном производстве. Для выплавки стали нужна специальная печь. Ее дорого строить и дорого поддерживать в рабочем состоянии. Производство скорее экспериментальное, и я не особо в нем заинтересован – издержки колоссальные… И потом, в Мирграде же нет строительства – в смысле серьезного строительства, зачем нам сталь в таком количестве…
– Но ты производишь сталь?
– Да. И я понятия не имею, зачем она сдалась реакционерам вроде реставрационистов.
– Он сказал, что металл им нужен для кораблей, которые будут ходить по воздуху.
– Для чего?!
Шара пожимает плечами:
– Ну вот так он сказал.
– Да он просто псих. Бред какой-то. Ну и хорошо, теперь с этим все понятно, потому что я уж начал волноваться…
– Скажем так: этот человек был под воздействием определенных веществ. Но, увы, повторный допрос невозможен. Арестованный скончался.
– Как он умер?
Шара молчит. В памяти встает лицо мальчишки, охваченное пламенем, – огонь заливается ему в рот, и он пытается закричать…
– На данный момент не могу сказать, – говорит она. – Но все это было крайне неприятно. Вообще, все это крайне неприятно для меня, Во. И мне не нравится, что ты во все это замешан. Ты для них как громоотвод…
Она осторожно касается лежащей перед ней газеты:
– И пожалуйста, не надо усугублять ситуацию.
Воханнес изучающе смотрит на нее:
– Шара. Я очень надеюсь, что ты не предложишь мне сделать это. Хотя, похоже, все-таки предложишь.
– Но я все-таки рискну предположить, что к тебе заявились с визитами все твои союзники и прочие поддерживающие лица, – говорит Шара, – а также рискну предположить, что все они, пусть и разными словами, сказали одно и то же: что атака на усадьбу позволила тебе сколотить немалый политический капитал. На тебя напали, ты выжил – это серьезный козырь в игре. Я также рискну предположить, что и ты, и они полагаете целесообразным выжать из этого инцидента как можно больше репортажей в прессе.
– На меня напали, – сердито говорит он. – Я что, не могу публично указать на тех, кто за этим стоит?
– Нет. Не можешь. Во всяком случае, пока я иду по их следу, – отрезает Шара. – Я хочу, чтобы ты больше не светился в газетах, Во. И я не хочу, чтобы ты раздувал это дело.
Короткий смешок:
– Да неужели?
– Угу. Неужели. Это дело оказалось крайне заковыристым. Прошу тебя не усложнять ситуацию.
– Значит, речь о твоем деле? С ума сойти! Ты только что сошла с поезда, и вдруг оказывается, что мой город – это твоя подконтрольная территория? Твоя ситуация и твое положение? Теперь ты будешь нам указывать, что говорить и что делать? Боги… Не столь просвещенный человек, как я, Шара, сказал бы, что такое поведение характерно для…
Шара заламывает бровь.
Воханнес смущенно покашливает:
– Послушай, Шара. Я целую жизнь положил на то, чтобы построить карьеру в политике. Кучу денег на это угрохал. Я год за годом бился головой в невидимую стену вокруг этого Континента, пытаясь добиться помощи, финансирования, поддержки, достойного образования для населения. И вот сейчас, когда, похоже, у меня может что-то выгореть, когда, возможно, я смогу получить объединенную поддержку жителей Мирграда… ты хочешь, чтобы я опустил руки и ничего не делал? Выборы в совет Отцов Города – в следующем месяце!
– Это важнее, чем голоса избирателей.
– А я говорю не о голосах избирателей. Речь о судьбе города. И всего Континента!
– Вот именно ими я и занимаюсь.
– Судьба этих людей – в моих руках!
– И в моих, – жестко говорит Шара. – Только они об этом не знают.
– Да уж конечно! Универсальное оправдание на любой случай!
– Я тебе не враг. Я – твой союзник. Я была честна с тобой, Во. И это опасная для меня честность. Теперь ты должен довериться мне. Я хочу, чтобы ты избегал публичности. Недолго. Если твое движение действительно пользуется всеобщей поддержкой, кратковременное отсутствие лидера ему не повредит.
Он всегда был болезненно самолюбив и потому заглатывает наживку.
– Кратковременное, говоришь? Насколько кратковременное?
– Надеюсь, что минимальное по срокам. Чем скорее я разберусь с делом, тем быстрее ты сможешь вернуться к работе. И отпустить телохранителей.
– Одну секундочку! Каких еще телохранителей?!
Шара помешивает чай.
– Таких. Обычных телохранителей. Я приставлю к тебе сайпурскую охрану.
Воханнес окидывает ее неверящим взглядом и хохочет:
– Ты… ты собираешься заключить меня под стражу? Правда, что ли? Это нонсенс!
– Ты будешь совершенно свободен в своих действиях. До определенной степени, конечно. Они просто будут присматривать за тобой.
– Ты хоть представляешь себе, как ужасно это будет выглядеть? Как мне передвигаться по городу? С эскортом вооруженных до зубов сайпурцев?
– Я думала, мы только что все обговорили. В том числе и то, что тебе вообще нельзя выезжать в город, – сердится Шара. – Ты должен вести частную жизнь. Некоторое время. Надеюсь, я сумею обеспечить ее безопасность – естественно, если ты ко мне прислушаешься. Но ты можешь сократить это время… если сделаешь кое-что для меня.
– Батюшки… – Воханнес трет глаза. – Тебе от меня что-то нужно? Значит, так Министерство добивается того, чего хочет, от людей?
– Во. Шестнадцать человек погибли. Среди них люди, которые работали у тебя в усадьбе. Я вижу в этом очень серьезную проблему. Думаю, что ты должен относиться к этому так же.
– А я, знаешь ли, тоже считаю, что это все очень серьезно! Это ты говоришь, что мне надо сидеть на попе ровно!
– Ничего подобного! Есть один банк, в ячейке которого кое-что лежит на хранении. Я не знаю, что это, но мне нужна эта вещь.
– И ты хочешь, чтобы я ее заполучил?
Она кивает.
– Ну и как я, по-твоему, должен это провернуть? Одеться в черное и проникнуть в хранилище под покровом тьмы? Я-то думал, у вас для этого есть специально обученные люди.
– Я ожидала, что ты придумаешь какой-то более простой способ получить эту штуку. Прежде всего, потому, что ты являешься собственником этого банка.
Воханнес удивленно смигивает:
– Я? Собственник?..
– Да.
И Шара пододвигает ему лист с текстом расшифрованной записки Панъюя.
Он долго изучает его:
– Ты уверена, что этот банк принадлежит мне? Название ничего не говорит…
– Как же здорово, – усмехается Шара, – быть настолько богатым, чтобы даже не знать, что тебе принадлежит, а что нет. Но да, я уверена. Я проверяла: банк принадлежит тебе лично. Если бы ты сумел каким-либо образом под благовидным предлогом заполучить содержимое этой ячейки и передать его мне, это очень помогло бы следствию раскрыть дело. А как только я раскрою дело, ты сможешь попрощаться с охраной и приступить к работе.
Воханнес ворчит что-то насчет грубого попрания его гражданских прав, а потом сворачивает листок и сердито пихает его в карман. Потом встает и заявляет:
– Если ты и вправду мой союзник, ты должна вести себя соответствующе.
– Это ты к чему?
– Как ты сама говорила, у нас общая цель: мирный и процветающий Мирград. Разве нет?
И вот тут Шара очень жалеет об этих неосторожно оброненных словах – ибо прекрасно знает, что ничего такого Министерство иностранных дел вовсе не хочет.
– Будь на моей стороне, – говорит он. – Помоги мне.
– Ты о поставках вооружений? О том, чтобы получить контракт?
– Я об усилении сайпурского присутствия в Мирграде, – говорит он. – О настоящей помощи. О настоящей вовлеченности в дела города. А не о постоянных увертках и отговорках. Сейчас сюда течет крохотный ручеек, а нам нужен поток. Наводнение, которое бы смыло стагнацию. Давай, Шара, поддай жару, задействуй связи. Мне нужна политическая поддержка.
– Мы не можем открыто поддерживать местных политических лидеров. Когда-нибудь – возможно, но сейчас обстоятельства…
– Обстоятельства всегда будут неблагоприятными, – злится Воханнес. – Потому что сделать это очень непросто.
– Во…
– Шара, мой город и моя страна – безобразно бедны. И я искренне считаю, что эта дорога может привести только к вспышке насилия. Я даю тебе шанс попытаться нам помочь. Вывести нас на другую дорогу.
– Я не могу принять твое предложение, – говорит Шара. – Не сейчас, Во. Извини. Может, когда-нибудь в другой раз.
– Нет. Ты сама в это не веришь. Ты здесь не для того, чтобы изменить мир к лучшему, Шара. Вы хотите, чтобы все оставалось как есть. Реставрационисты смотрят в прошлое, Сайпур интересует только нынешнее статус-кво, а о будущем никто не думает.
– Мне очень жаль, – говорит она. – Но я не могу тебе помочь.
– Нет, тебе совсем не жаль. Ты – представитель своей страны. А страны жалости не чувствуют.
И он разворачивается и, прихрамывая, уходит.
* * *
Шара снова стоит у окна. Теперь над крышами Мирграда бушует утро, подсвечивая золотистым дымы над печными трубами. Она делает большой глоток чаю. Импортный. Возможно, даже из Галадеша. В голове мелькает: а что, если она зависима вовсе не от кофеина, а от вкуса и запаха дома, который остался так далеко?..
Шара открывает окно и ежится, когда в лицо ударяет ледяной воздух. Потом опускает жалюзи, закрывает окно.
Облизывает палец, с сомнением смотрит на стекло несколько мгновений и начинает писать.
Интересно, почему она всякий раз это делает, когда наиболее уязвима?
Медленно текут тени. По кабинету бежит странный сквозняк. Где-то в комнате открывается невидимая дверь неведомо куда. И тогда она видит в стекле…
Пустой кабинет.
Шара садится и ждет.
Через двадцать минут входит Винья Комайд с кучей бумаг в руках. На ней платье, которое она называет «боевым доспехом»: ярко-красное, очень дорогое. В нем она невероятно привлекательна и столь же импозантна. В красном платье Винья всегда – как бы ни складывалась ситуация – оказывалась в центре любой комнаты. Увидев платье в магазине, тетушка купила сразу пять штук, а потом добилась того, чтобы всю линейку сняли с производства и отозвали из магазинов. «Я не могла доверить это платье никому другому, – поделилась она потом с Шарой. – Оно слишком опасное».
– Важная встреча? – спрашивает Шара.
Тетя Винья поднимает взгляд и хмурится:
– Нет, – говорит она с легким раздражением. – Но на ней присутствовали важные люди. Почему ты связываешься со мной по каналу экстренной связи? Если что-то нашла – отправь как положено.
– У нас тут шестнадцать трупов, – говорит Шара. – Все континентцы. Убиты во время нападения на мирградского политика. Отца Города. Он остался жив.
Винья застывает на месте. Потом смотрит на стопу бумаг в руках – все неотложные дела, без сомнения, – вздыхает и откладывает их в сторону. Подходит ближе, садится напротив стекла и спрашивает:
– Как это случилось?
– Они напали во время благотворительной вечеринки. На которой присутствовала я.
Винья закатывает глаза:
– Ах да. Ты и… как его зовут…
– Сигруд.
– Да. Сколько, говоришь, трупов?
– Шестнадцать.
– Ну что ж, учитывая его способности – вполне ожидаемое число. Во имя всех проклятых морей, Шара, как ты можешь держать при себе это чудище. У нас что ни день, то инцидент с дрейлингами! Моя дорогая, они же пи-ра-ты!
– Они не всегда были пиратами. При короле все было иначе.
– Ах да, их погибший король, о котором они горланят песни… Король и исчезнувший принц, который однажды вернется под развернутыми парусами… Я так понимаю, именно эти трогательные напевы они исполняют, разоряя северные берега Континента. Дорогая, согласись – они дикари. Просто дикари.
– Этот человек показал себя с самой лучшей стороны – в том числе и прошлой ночью. И много раз до того.
– Разведка существует для того, чтобы предотвращать кровопролития! А не устраивать кровавые бани вроде этой!
– А еще разведка в наибольшей степени подвержена влиянию среды, – говорит Шара. – Мы работаем с переменными, изменить число которых зачастую не в нашей власти.
– Терпеть не могу, когда ты меня цитируешь, – хмурится Винья. – Но хорошо. И что? Какие-то мужланы налетели на какого-то члена городского управления или как его там. Ну и что? Обычное дело. Зачем связываться со мной?
– Потому что я убеждена, – говорит Шара, – это как-то связано со смертью Панъюя.
Винья застывает на месте. Смотрит в сторону, затем медленно переводит взгляд на Шару:
– Что?!
– Я подозреваю, – говорит Шара, – что смерть Панъюя явилась актом возмездия со стороны реакционного местного движения, с целью подорвать влияние Сайпура в регионе и вернуть Континент – или по крайней мере Мирград – ко временам прежней славы.
Винья некоторое время просто сидит и молчит. А потом спрашивает:
– А как ты сумела это установить?
– За ним следили, – отвечает Шара. – И я подозреваю, что следили именно агенты этого реакционного движения.
– Ты подозреваешь? И только?
– Скажем так: я считаю, что это очень и очень возможно. А точнее – пусть я пока и не могу это подтвердить – я думаю, что его убили из-за того, что они узнали, чем на самом деле Панъюй занимался. Что к налаживанию межкультурных связей его задание не имело никакого отношения.
Винья вздыхает и потирает виски:
– Ах, вот оно что.
Шара кивает:
– Именно.
– Значит, ты узнала, что это была за… исследовательская миссия.
– Выходит, ты знаешь, что Склад существует?
– Естественно, знаю! – зло вскидывается Винья. – Ради него Ефрем туда и поехал! Ради чего же еще!
– И ты дала ему добро?
Винья закатывает глаза.
– Ах, вот оно что. Это ты все спланировала…
– Естественно, планировала операцию я, моя дорогая. Но идея – о, идея была Ефрема. Просто меня она очень заинтересовала.
– А что это была за идея?
– Ах, ну тебе-то это не так интересно будет слушать, ты же у нас спец по Божественному… Ты и так все знаешь. Или узнала бы, если бы Ефрему разрешили опубликовать монографию. Однако, как сейчас принято выражаться, его идею не слишком… э-э-э… одобряли. Она представлялась слишком опасной.
– И что это была за идея?
– Мы стараемся не поднимать здесь тему Божественного – боги умерли, и это прекрасно, нечего их воскрешать даже словами, – но, если все же заговариваем о этом, мы принимаем точку зрения континентцев: связь людей с Божествами была односторонней. Боги спускали сверху приказы, озвучивая континентцам свои желания, те сообщали об этом миру, и все повиновались. Реальность повиновалась.
– И что?
– А то, – медленно выговаривает Винья, – что в ходе исследований Ефрем постепенно разуверился в том, что дело обстояло именно так. Он полагал, что связь была двусторонней. Стороны шли на взаимные уступки, о чем мало кто подозревал… Божества формировали собственные миры, собственные реальности – вот их-то с грехом пополам сумели реконструировать наши историки, основываясь на противоречащих друг другу мифах творения, посмертных видениях, реальностных помехах и прочем, и прочем.
И она нетерпеливо машет рукой, словно бы разгоняя ненужные частности.
– Естественно, – говорит Шара, которой эти тезисы вполне знакомы.
Континентом правили сразу шесть Божеств, и это создавало много проблем, и в том числе проблему конфликта мифологий: так, к примеру, никто не мог взять в толк, как мир мог быть создан из горящего золотого угля, извлеченного из пламени сердца Олвос, и, одновременно, из камня, вырубленного Колканом из горы в лучах садящегося солнца? Как могла душа после смерти обратиться в скворца и присоединиться к стае таких же птиц, сопровождающих Жугова, и одновременно уплыть вниз по реке смерти, волны которой вынесли бы ее на берег в садах Аханас, где душа проросла бы орхидеей? Все Божества совершенно однозначно описывали такие вещи, и их воззрения никак не согласовывались между собой.
Сайпурским историкам понадобилось много времени, чтобы разобраться с тем, как это все воспринимали жители Континента. Бесплодные споры длились до тех пор, пока кто-то не указал, что рассогласование мифологических систем происходит по географическому принципу: люди, жившие в непосредственном соседстве с Божеством, придерживались совпадающих с его мифологией взглядов. Как только историки совместили ареалы распространения тех или иных сюжетов с картой, оказалось, что границы доминирования определенных мифологий до удивления четкие: можно было в буквальном смысле провести линию там, где кончалось влияние одного Божества и начиналось влияние другого. И, как пришлось признать историкам, человек, находящийся в сфере – или тени – определенного Божества, существовал в специфической реальности, внутри которой все, что Божество требовало считать истиной, являлось неоспоримым фактом.
Так, на территории Вуртьи мир был сотворен из костей вражеской армии, истребленной ею на небесных ледяных полях.
А если вы переезжали в земли Аханас, всем становилось очевидно, что мир произошел из семени, которое она выловила из реки грязи и омыла своими слезами.
А если человек подъезжал к Таалаврасу, становилось совершенно ясно, что мир – это механизм, созданный им из небесной тверди, который он в течение тысяч лет отлаживал и проектировал. И так далее и тому подобное.
То, что Божества полагали истиной, и было непреложной истиной в тех краях. А когда кадж убил богов, эти верования перестали быть истиной.
В поддержку этой теории также свидетельствовало явление, названное «реальностными помехами». С ним столкнулись после того, как кадж убил четверых из шести изначальных Божеств: судя по всему, мир «помнил», что его части некогда жили в разных реальностях, и ему было трудно собраться в единое целое. Сайпурские солдаты вспоминали реки, текущие в небо, серебро, оборачивающееся свинцом в некоторых местах, деревья, которые цвели и засыхали несколько раз на дню, плодородные земли, обращающиеся в потрескавшиеся пустоши, если глядеть на них с одного места, и тут же принимающие прежний вид, если наблюдающий делал несколько шагов в сторону. Так или иначе, мир разобрался с этими проблемами, и «реальностные помехи» перестали беспокоить Континент. Мир восстановился, сугубых разрушений удалось избежать. Правда, целостностной реальность Континента так и не стала.
Винья тем временем продолжила:
– Ефрем полагал, что смертные адепты и последователи Божеств также участвовали в создании этих реальностей. Он, тем не менее, не был в этом положительно уверен, поскольку не имел доступа к нужным источникам информации. Ты понимаешь, каким. Опасным источникам.
– Которые все находились на Складе.
– Именно. Так что он написал статью, в которой изложил свою теорию, и разослал ее для публикации. Ее тут же направили мне – поскольку на такие вещи у нас смотрят очень и очень косо. Думаю, что они хотели, чтобы я его посадила. Или отправила в изгнание. Что-то вроде этого.
– А вместо этого ты дала ему ровно то, о чем он просил. Почему?
– Ну сама-то подумай, Шара, – качает головой Винья. – Сайпур сейчас – единственная супердержава. Наша мощь очевидна для всех. Никто в мире даже подумать не может о том, чтобы угрожать нам. Разве что… мы знаем, что Божества существовали. И хотя они были убиты, мы не знаем, что они были за существа, и как у них получалось делать то, что получалось. Мы не знаем, откуда они взялись. Мы даже не знаем, как именно у каджа получилось их убить.
– Ты говоришь о них как об оружии.
Винья пожимает плечами:
– Возможно. Но только представь себе: Божество могло пожелать, чтобы все живое было пожрано огнем, – и огонь вспыхивал! Подобное существо стало бы оружием, которое бы положило конец эпохе войны, как мы ее себе представляем. Армия, флот – необходимость в них отпала бы за ненадобностью. Солдаты тоже не нужны. У нас оружие – у врага потери, вот как бы обстояло дело.
Шара чувствует, как в животе шевелится что-то холодное. Это ужас.
– И ты хотела… хотела… вывести кого-то такого для Сайпура?!
Винья хохочет:
– Ах ты батюшки, нет, конечно! Нет, нет, что ты? Я вполне, вполне довольна своим положением. Я же не сумасшедшая – зачем мне здесь кто-то, обладающий… да, назовем это так… обладающий большим авторитетом, чем я? Но я очень, очень не хотела бы, чтобы кто-то другой обзавелся подобной сущностью. Вот эта мысль, признаюсь, не давала мне покоя. Мне – и многим другим. Если бы Ефрем смог ответить на все эти вопросы: откуда боги взялись, как они действовали – о, тогда мы сумели бы предотвратить их возвращение. Да, и если бы ему удалось отыскать хоть какую-то информацию об оружии каджа – о котором мы до сих абсолютно ничего не знаем, – это тоже помогло бы мне спать спокойней.
– Ты стала бы спать спокойней, если бы знала, как убить бога?
Винья с деланой беспечностью пожимает плечами:
– Что ж, таково бремя власти! Ефрема, впрочем, именно эта тема не слишком интересовала. Мне кажется, она казалась ему слишком скучной для исследования. Но что-то – это лучше, чем ничего. Согласись.
– И мы тогда… Я хотела сказать… Мы бы тогда узнали, почему нас отвергли, – тихо говорит Шара.
Винья молчит. Потом медленно кивает:
– Да. Мы бы наконец узнали, почему.
И обе замолкают, ибо слова излишни: каждому сайпурцу до сих пор не по себе от одной мысли о том, что его предки жили в чудовищном рабстве. Но так же каждого сайпурца занимает тревожная мысль: почему? Почему им отказали в боге? Почему именно Континенту досталась вся благодать покровителей – вместе с властью, мощью, чудесными артефактами и привилегиями, о которых в Сайпуре даже мечтать не смели? Откуда взялось это жуткое неравенство? И хотя сайпурцы, на первый взгляд, кажутся невысокими и любопытными людьми, ставящими превыше всего богатство и образованность, человек, достаточно поживший в Сайпуре, вскоре понимает, что в сердце его жителей пылает холодный огонь гнева – и рождает в их душах неожиданную жестокость. «Они называют нас безбожными, – время от времени говорят друг другу сайпурцы. – Можно подумать, у нас был выбор».
– Так что мы представили это все как дипломатическую миссию, – говорит Винья. – Эдакую попытку исцелить давние раны и улучшить взаимопонимание между нашими народами. На самом же деле нас интересовали исключительно хранящиеся на Складе книги. Вот и все. Я… я искренне полагала, что Ефрему ничто не угрожает. Мы думали, что в этом грязном, убогом и нищем городе ему никто не помешает заниматься своими делами.
Шара молчит – она не знает, как задать вопрос, который так и вертится у нее на языке. Наконец решается:
– Мне вот любопытно… – медленно произносит она. – Почему ты не рассказала мне об этом сразу? Когда я приехала в Мирград?
Винья презрительно отфыркивается и выпрямляет спину. И отводит взгляд. Винья не знает, как ответить на вопрос, глаза бегают.
Шара немного наклоняется вперед – чтобы не упустить ни единого ее движения.
– Это был абсолютно засекреченный проект, – наконец сообщает Винья. И продолжает буравить взглядом стекло, потом внимательно изучает что-то над Шариным ухом. А потом они все-таки встречаются взглядами. – Если бы ты нашла преступника – что ж, отлично. А если бы нет – мы бы привлекли к расследованию другие ресурсы.
Губы Виньи кривятся в надменной улыбке.
Внутри Шары все кричит: она лжет! Лжет, лжет, лжет! Она лжет!
И тогда Шара решается: нет, она не расскажет тете о том, чему стала свидетелем в тюремной камере. Да, это против всех доводов разума: Винья же хочет убить Божество, буде таковое объявится, так что ей по понятным причинам очень важно узнать, что Шара наткнулась именно на такое существо… Но нет. Шара чувствует: что-то тут не так. Совсем не так. Она также умом понимает, что это все несерьезно, что это обычная для куратора паранойя… И не она ли сама наставляла агентов: мол, паранойя для сотрудника спецслужб – дело обычное… Но нет. В последнее время тетя сама на себя не похожа. И Шара буквально нутром чувствует – Винья лжет. За семнадцать лет службы она успела расспросить и допросить достаточно людей, чтобы научиться доверять инстинктам.
Это, конечно, нереально. Совсем. Но… что, если тетушка… действует вовсе не в интересах нации? Интересно, кому под силу набрать компромата, чтобы превратить очевидного кандидата на пост премьера в свою послушную марионетку? Шара не может удержаться от самоиронии: надо же, какая новость под луной – продажный политик… В конце концов, это же понятно: последние ступеньки политической лестницы не одолеть без крайне неприятных компромиссов. И если говорить о скелетах в шкафу, то они есть у каждого, а уж у Виньи, стоит шкафы пооткрывать, парадным маршем выйдет такой взвод скелетов, что мало не покажется…
Но Шара, к собственному удивлению, чувствует себя виноватой. Ей стыдно за собственное решение. В конце концов, эта женщина воспитала ее. Заботилась о ней. Когда родители умерли в Чумные годы, занималась Шариным образованием. Но… Винья ведь тоже всегда была прежде всего министром, а потом уж тетушкой. Так и Шара всегда была прежде всего оперативником.
Поэтому она решает следовать собственному старому правилу: если сомневаешься, выжидай и веди наблюдение.
Винья встряхивается:
– Ну ладно. Так что там с этим движением, о котором ты толковала?
Шара дает краткую характеристику движению «За Новый Мирград».
– Ах, вот оно что, – кивает Винья. – Как же, как же, припоминаю. Все это как-то связано с человеком, который хочет поставлять нам оружие.
– Да. Вотровым.
– Да, да. Некоторым министрам идея пришлась весьма по вкусу, но я изо всех сил пытаюсь остановить этот проект. Нет уж, от Мирграда – изо всех мест! – мы ни в чем зависеть не будем. И уж тем более мы не должны зависеть от тамошних поставок пороха. Значит, это на Вотрова напали прошлым вечером?
– Да.
Теперь Шара тщательно взвешивает каждое свое слово – что сказать Винье, а что нет. И решает не упоминать тот факт, что реставрационистам понадобилась сталь с заводов Воханнеса.
– Вотров, Вотров… знакомая фамилия, вот только почему знакомая?..
– Мы… мы однокашники.
Винья вскидывает палец:
– Ага! Теперь-то я припоминаю… Так это он? Парнишка из Фадури?! Каков… А теперь, значит, он нам стволы желает поставлять, гляди-ка… Ах, в свое время я волновалась, что он тебя забрюхатит.
– Тетушка!
– Но ты от него не залетала, нет?
– Тетушка!!!
– Ну хорошо, хорошо…
– Я думаю, что от идеи поставлять боеприпасы он не отступится, – говорит Шара. – Это так, для сведения. Индустриализация Континента – его цель. И он будет идти к ней.
– Пусть идет куда хочет, – отрезает Винья. – Но, пока я занимаю это кресло, его мечтам сбыться не суждено. Континент останется в том состоянии, в котором пребывает сейчас. На данный момент мы наконец достигли чего-то вроде стабильности.
– На Континенте это как-то не ощущается, – возражает Шара.
Винья пренебрежительно отмахивается:
– Континент есть Континент. Здесь всегда так, причем с самой Войны. Надеюсь, Шара, ты не раскисла и не поддалась чувствам? А то, знаешь ли, в мире много стран, которые не прочь выжать из Сайпура финансовую помощь. И все они стонут на один мотив: ах, детки умирают от голода на улицах, ах, льется кровь невинных – ну и так далее и тому подобное. Мы такие песни раз по двадцать на дню слышим. Но мудрый занимается собственным домом, а дела других оставляет судьбе. Особенно если другие – это Континент. Но хватит об этом. Итак. Ты хочешь, чтобы я продлила твою командировку, правильно я поняла? Есть что-то серьезное?
– Мы собираемся допросить человека, работающего на реставрационистов. Их тайного агента.
– И кто этот агент?
– Это… уборщица.
Винья хохочет:
– Кто-кто?
– Уборщица! В университете! Где, хочу тебе напомнить, работал Панъюй. Также хочу напомнить, что большинство оперативных работников и вообще сотрудников на задании – люди самых скромных профессий.
– Хм, – прищуривается Винья. – Ты права. Кстати, тогда уж спрошу: есть еще что-нибудь по убийству Панъюя?
Так-так-так. Шара пытается сохранить бесстрастное выражение лица, завернуться в мантию холода:
– Нет, пока нет. Но мы работаем, у нас есть пара ниточек.
– Как интересно.
Алый, как гранат, язычок Виньи, облизывает передние резцы. Тетушка улыбается.
– Потому что мне известно, что ты всего пару дней назад запрашивала информацию по одному банку. И ничего мне об этом не сказала.
У Шары кровь леденеет в жилах: она что, следит за всеми запросами, которые поступают от имени племянницы?
Она лихорадочно подыскивает оправдание:
– Я… да, я делала такой запрос. Досье на Вотрова собирала.
– Правда? – усмехается Винья. – В Мирграде Вотрову принадлежит несколько банков. Причем крупных банков, не то что мелочь, которой ты заинтересовалась. Кстати, этим мелким банчком Вотров владеет через густую сеть посредников. Так мне любопытно: почему тебе нужен именно этот банк?
– По причинам, которые я только что изложила. Если ему было что скрывать, он прятал это там.
Винья медленно кивает:
– Но расследование подобного характера требует полной финансовой проверки. Ты ее не начинала.
– Замоталась, – быстро отвечает Шара. – Столько трупов – немудрено и забыть было.
Винья и Шара долго смотрят друг на друга через оконные стекла, и лица их совершенно бесстрастны.
– Значит, это никак не связано с тем фактом, – тихо произносит Винья, – что этот банк – ближайший к Мирградскому университету. И с тем, что там предоставляют клиентам ячейки для хранения ценностей?
Так. Значит, ей все известно.
– Ячейки? – невинно переспрашивает Шара.
Ее слова прямо-таки сочатся удивлением: а это-то тут при чем, дражайшая тетя?
– Да. Кстати, ты сама обожаешь устраивать тайники в таких банках. Видимо, тебе нравятся финансисты. Они ориентированы на процесс больше, чем на результат. Прямо как ты.
– Тетушка, но зачем мне бы понадобился тайник в Мирграде? Я здесь всего ничего…
– Это точно.
Глаза Виньи странным образом обращаются вовнутрь, и Шара с ужасом чувствует, что ее видят насквозь. И тут же понимает: вот так Винья добивалась нужных результатов на всех этих бесчисленных заседаниях комитетов и во время разбора полетов.
– Но ты же наверняка научила Ефрема, как устраивать тайники.
Оставалось надеяться, что по лбу не течет пот.
– Тетушка Винья, я не пойму, к чему вы клоните…
– Шара. Милая моя девочка, – медленно произносит Винья. – Ты же ничего от меня не скрываешь, правда?
Шара бледно улыбается:
– Я? Скрываю? Мне до вас далеко, тетушка.
– Я – твой руководитель. Ограничивать доступ людей к определенным видам информации – одна из моих должностных обязанностей. И я скажу тебе, чем для меня все это пахнет… Сдается мне, детка, что ты обнаружила, что у Панъюя был тайник. Но ты еще не добралась до его содержимого. И не хочешь докладывать об этом, пока не увидишь, что там лежит. Так или иначе, милая, напомню, – цедит Винья таким ледяным тоном, что Шара ощущает каждую ее фразу как оплеуху, – Панъюй был моим агентом. Это моя спецоперация. Я сейчас редко занимаюсь оперативной работой, но, когда занимаюсь, не терплю, когда лезут под руку. И результат этой операции – какой бы он ни был – я увижу первая. Я первая получу информацию, Шара. Она не попадет в руки другого оперативника, который оказался на месте по воле случая. Или агента, не имеющего отношения к операции. И если агент решит это сделать, его очень быстро уберут с театра оперативных действий. Так понятнее?
Шара медленно смигивает.
– Ты хорошо поняла меня, Шара? – жестко спрашивает Винья.
И хотя Шара стоит молча и не двигаясь, в голове у нее идет жесткая дискуссия. Похоже, у нее четыре опции. Она может:
1. Рассказать своей тете, что контактировала с Божеством, и потому ей просто необходим доступ ко всем материалам, собранным Панъюем. (Но это значит, что ей придется поделиться самой опасной тайной современной истории с коррумпированным политиком.)
2. Не говорить ни о тайнике Панъюя, ни о контакте с Божеством и заняться расследованием лично. (Но тогда она рискует тем, что ее вовсе отзовут из Мирграда – хотя тетушку сейчас, похоже, ничего, кроме тайника Ефрема, не интересует.)
3. Передать содержимое банковской ячейки тетушке – там, скорее всего, лежит предмет, из-за которого Панъюя и убили: хотели им завладеть, но не вышло. А потом расследовать смерть Панъюя и контакт с Божеством самостоятельно.
4. Сказать Винье, что не станет заглядывать в ячейку, послушать, что скажет горничная, и принять решение исходя из этого.
Отлично. Номер четвертый. Так тому и быть.
– Если я доберусь до тайника Ефрема, – говорит Шара, – вы можете быть уверены, что я передам все его содержимое вам, тетушка.
– И не будешь смотреть, что там внутри.
– Конечно, не буду. Я расследую смерть Ефрема исключительно для того, чтобы добраться до виновных. Остальное меня не интересует.
Винья кивает, губы ее растягиваются в широкой улыбке:
– Какая продуктивная у нас была встреча! Тайны, интриги, расследования! Историко-культурные реминисценции! Я скоро пришлю к тебе кое-кого кое-что забрать. Потому что мне кажется, что Ефрем не зря ездил в Мирград. И я думаю, что результаты его трудов скоро окажутся у тебя в руках.
Что в переводе означало: я знаю, что труд Ефрема дал результаты, и я высылаю за ним человека, чтобы ты не успела наложить на них руки.
– Благодарю, тетушка, – кивает Шара. – Я признательна за любую поддержку.
– Всегда пожалуйста, дорогая, – улыбается Винья. – Сила спецслужбы в оперативниках, ты же знаешь. Мы обязаны поддерживать наших иностранных агентов: работа делается не в кабинетах, а на земле, которой касаются грубые подошвы их сапог.
И она снова улыбается:
– Будь осторожна, дорогая, держи меня в курсе.
И протирает стекло кончиками пальцев.
Пока Шара пытается сообразить, из какой речи поперты эти пафосные строки, лицо тетушки растворяется, и она успевает пробормотать исчезающему изображению:
– В-всего наилучшего.
Люди говорят мне: о, вы великая женщина, ведь вы помогли каджу убить богов. Они говорят мне это со слезами на глазах. Дергают за рукава, за подол, пытаются коснуться руки. Словно бы я – бог.
А я им говорю: «Я не поднимала меч на богов. Я не убивала их. Я ни одной стрелы по ним не выпустила. Все сделал он, только он. Только он знал, как действует это оружие. А потом он умер и унес все свои секреты в могилу».
И правильно сделал. Людям не должно знать такие вещи.
По правде говоря, на Континенте нам почти не пришлось воевать. Боги умерли – или умирали. Земля умерла – или умирала. Мы видели ужасы, которых не описать словами. Да и не хочется их описывать. Война, большей частью, шла в наших душах.
Сопротивление нам оказывало только племя, которое другие континентцы называли Благословенными. Я так поняла, это были потомки брачных союзов между людьми и Божествами, плод противоестественной связи с богами или детьми богов. Эти существа собрали вокруг себя полуголодное и страдающее от болезней ополчение и пошли на нас войной.
Сражались они отчаянно, и я ненавидела Благословенных всеми фибрами души. Их так трудно было убить… О нет, не в неуязвимости или крепости рук и мышц было дело. С Благословенными была удача. Невозможная, невероятная удача. Они жили под заклятием вечной удачи, зачарованной, колдовской жизнью, ибо такова судьба детей богов. Хотя чем больше они смешивали кровь со смертными, тем больше слабели защитные чары.
И все же чары их не спасли. Мы низвергли и их. Мы безжалостно изничтожали их крохотные армии и заливали улицы их кровью. Мы складывали из их тел костры на городских площадях и смотрели, как они горят. И они горели точно так же, как трупы обычных мужчин и женщин. И детей.
И жители городов выходили на площади и смотрели на пламя этих костров. И мы видели, как вместе с телами истаивают в огне их надежды и сердца.
И я стояла и думала: останемся ли мы, солдаты Сайпура, людьми? Останемся ли мы женщинами и мужчинами, после того как убили и сожгли этих мужчин и этих женщин?
Таков был наш путь к победе.
Из «Воспоминаний Джиндай Сагреши, первой помощницы каджа»
Шара в шестой раз смотрит на часы и горько вздыхает: так и есть, половина четвертого. Еще рано.
Сегодня все пошло наперекосяк. Сигруда выпустили под залог к началу рабочего дня, поэтому, когда он приехал за университетской уборщицей, та уже ушла на работу. И хотя Шаре, как сотруднице Министерства, полномочия позволяли сделать многое, ворваться в университет и силой увести оттуда работника она не могла.
Итак. Уборщица вернется домой где-то через полтора часа. Шара сквозь зубы информирует Питри, что пойдет прогуляться. Тот начинает было протестовать, но она одаривает его таким взглядом, что бедняга замолкает на полуслове. И потом, на ней плащ с капюшоном, так что в ней не сразу признают сайпурку.
Перед Шарой разворачиваются извилистые улицы и проулки, она идет мимо влажных серых стен, по блестящим булыжникам мостовой, через ледяную кашицу цвета хаки. Нос отмерзает и становится хрупким и болезненно чувствительным, пальцы ног немеют от холода. Она-то хотела выйти подышать, чтобы проветриться, но параноидальные подозрения и сомнения стоят в голове густым туманом.
А потом она вскидывает взгляд и видит человека. И застывает на месте.
На человеке одеяние бледно-оранжевого цвета и… все. Ни обуви, ни шапки – более того, у него и волос нет, он совершенно лыс. И перчаток тоже нет. Руки у него голые и, как и лицо, смуглые от загара.
Шара изумленно таращится: невозможно. Этого просто не может быть. Это же… запрещено!
Поднимается ледяной, пронизывающий ветер. Но человеку в оранжевом все равно. Тут он замечает ее взгляд и благодушно улыбается:
– Вы что-то ищете?
Голос у него глубокий и веселый.
– Или вы просто хотите погреться?
И показывает пальцем вверх. Над ним висит вывеска: «Ночлежный дом „На улице Дровскани“».
– Я… не знаю, – бормочет Шара.
– Ну что ж… А может, вы хотите сделать пожертвование?
Шара задумывается и понимает, что этот человек ее не на шутку заинтриговал.
– Возможно…
– Прекрасно! – радостно вскрикивает тот. – В таком случае позвольте вам показать, чем мы тут занимаемся, – уверяю, вам понравится. Как мило и предусмотрительно с вашей стороны предложить нам вспомоществование в такой холодный день!
Шара следует за ним:
– Да…
– Люди даже из дому выходить не желают, не то что милостыню подавать…
– Да… Простите. Могу я задать вам один вопрос?
– Вы можете спросить меня, – тут он распахивает дверь, – все что захотите.
– Вы… олвостани?..
Тут он останавливается и оглядывается – вид у него немного растерянный и одновременно обиженный:
– Нет, – говорит он. – Это же противозаконно – служить Божеству. Разве нет?
Шара не знает, что сказать. Человек в оранжевом снова показывает блестящие зубы в улыбке, и они заходят в ночлежку.
Оборванцы и дрожащие от холода мужчины и женщины теснятся вокруг широкого и длинного очага, на котором булькает множество котелков. Кругом кашляют и постанывают, дети жалостно скулят.
– Но ваша одежда, – не унимается Шара. – Ваше поведение…
– А какое отношение, – парирует человек в оранжевом, – они имеют к Божественному?
– Но исторически… в прошлом… так одевались олвостани!
– В прошлом, если человек хотел вознести хвалу Божеству, он поднимал взгляд к небу и простирал к нему руки.
Он притаскивает из кухни пустой котел, наливает туда суп и гулко стучит ложкой по краю.
– А если это сделать сейчас? На улице? Арестуют ли такого человека?
Шара оглядывается на кухню. Там снуют другие помощники, и на многих – такие же оранжевые одежды. И все они веселы, все безволосы. И всем им морозный воздух нипочем.
– Но если вы не олвостани, – настаивает Шара, – то кто же вы?
– Мы – служители приюта для ищущих укрытия от холода, кто же еще?
– Да, конечно. Но кто вы, лично вы?
– Я? Полагаю, что человек. Человек, который хочет помогать другим людям.
Шара пытается зайти с другого боку:
– А почему вы не носите теплую одежду? Вам разве не холодно?
– Холодно?
– На улице мороз. Я видела, как рыбаки вертят во льду лунки!
– Лед – это личное дело воды, – говорит человек в оранжевом. – Температура ветра – это личное дело ветра. А температура моих ног, рук и прочего – мое личное дело.
– Потому что, – произносит Шара, припоминая цитату из старинных книг, – вы обрели тайное пламя сердца.
Человек останавливается и явно пытается сдержать довольнейшую из улыбок – ему определенно импонирует то, что сейчас сказала Шара.
– Так все-таки, вы – олвостани? – не отстает она.
– Как же можно быть олвостани, – разводит руками человек в оранжевом, – в отсутствие Олвос?
И тут до нее доходит.
– Ох, – выдыхает Шара. – Вспомнила. Вы… Живущие в Рассеянии?..
Человек в оранжевом недовольно морщится: мол, называйте нас как заблагорассудится.
Когда Божество Олвос покинула Континент, ее адепты не ушли. Часть из них осталась. Первыми их увидели жители Жугостана и Вуртьястана – во всяком случае, именно там впервые летописи фиксируют появление людей в желтых или оранжевых хламидах, безо всяких украшений, обуви, перчаток и даже волос, словно бы эти люди с радостью оставляли себя на милость стихий. Они переходили из города в город, из деревни в деревню, с единственной целью – помогать людям, отчаянно нуждавшимся в помощи. Но они не называли себя олвостани, священниками, монахами – словом, не причисляли себя ни к какому сословию. Некоторые называли их «Покинутыми», кто-то «Живущими в Рассеянии», а сами они не называли себя никак и отказывались от любого имени. «Вот, мы есть, – отвечали они на все вопросы. – Что еще тут скажешь?»
– Боюсь, вы ошибаетесь, – говорит ей человек в оранжевой хламиде. – Мы не называем себя так.
– Конечно, не называете, – соглашается Шара. – Вы же отвергаете всякое имя, разве нет?
– Нам нечего отвергать. Имена – личное дело других людей. Они помогают людям различать, чем они являются, а чем нет.
– Так что вы делаете здесь, в Мирграде? Зачем вы сюда пришли?
Он указывает на толкущихся у огня несчастных. Среди них есть целые семьи с малыми детьми: вот отец стаскивает башмачки с синих от холода ножек девочки – чтобы малышка погрела их у очага.
– Вот это, – говорит человек в оранжевом, и теперь на лице у него нет и следа радости, – вполне уважительная причина.
– Значит, вы живете ради того, чтобы давать людям надежду. Прямо как сказано в старых книгах. Быть светом во тьме.
– В старых книгах много чего сказано. А вы цитируете эти слова, как будто это что-то особенное, только там написанное. Словно бы для человека не естественно увидеть ближнего в беде и протянуть руку помощи. Словно бы… – тихо продолжает он, – …для того, чтобы сделать что-то необычное – или то, что вы лично считаете необычным, – человек должен получить приказ. От Божества.
– Но разве в вашем случае это не так?
– А в вашем? Вы еще не сделали пожертвование, но если бы вы дали нам денег – это случилось бы из-за того, что вам приказали?
И он подхватывает ломоть черного хлеба.
– Нет.
– Вы же сайпурка. Разве вы нуждаетесь в Божестве, чтобы жить как живете?
– Это другое. Мы с вами из разных стран.
– Мне никогда не приходилось видеть страну, – говорит человек в оранжевом. – Я всегда видел просто землю под ногами.
– Вы это делаете, – упирается Шара, – потому что так велела Олвос.
– Я никогда не видел Олвос, – отвечает он. Нанизывает хлеб на толстую проволоку и держит его над угольями. – А вы?
– Если бы не Олвос, вас бы здесь не было, – продолжает гнуть свое Шара. – Олвос основала ваш орден. Без нее этого приюта не было бы.
– Если бы эта Олвос – кстати, насколько я помню, закон запрещает мне признавать ее существование…
Шара нетерпеливо машет рукой: ну что за глупости, мол…
– Так вот, если Олвос и приходила к нам, то ее величайшим деянием было дать нам вот какое знание: мы не нуждаемся в ее присутствии, чтобы творить добро. Добро можно творить везде, всегда, и помогать может каждый и каждому. Наши жизни подчиняются куче надуманных, лишних правил… – Он отламывает кусочек хлеба. Корочка ломается, от нее поднимается легкий пар. – А ведь все на самом деле просто.
Он протягивает кусок исходящего горячим паром хлеба:
– Не хотите? Мне кажется, вы замерзли.
Она не успевает ответить – по улице бежит Питри, громко окликая ее. Шара бросает человеку в оранжевом одеянии монету в десять дрекелей – тот подхватывает ее в воздухе с удивительной ловкостью – и выбегает.
Этот человек до сих пор следует заветам своего бога. Отсюда вопрос: а кто еще в Мирграде делает то же самое? Причем не с самыми миролюбивыми намерениями?
* * *
В коридоре посольства сидит пожилая женщина. Глаза у нее красные, как свекла, – плакала. В свете ламп видно, как под носом блестят сопли. Костяшки пальцев у нее тоже красные – от многолетнего соприкосновения с водой и мылом.
– Это она? – тихо спрашивает Шара.
– Она, – говорит Сигруд. – Точно она.
Шара внимательно рассматривает женщину. Да, это она с другим доморощенным тайным агентом следила за ними по дороге от университета. Надо же, это было всего пару дней назад… Итак, Ирина Торская, уборщица, а по совместительству, видимо, реставрационистка. Это она убиралась в кабинете Панъюя. Неужели эта старуха замешана в убийстве?
Шара хмурится и вздыхает. Нет, она не может себе позволить запороть второй допрос.
– Поставьте, пожалуйста, стол и два стула в углу приемной. У окна, – приказывает она Питри. – Заварите кофе. Только хорошего, пожалуйста. Если у нас найдется, то «витлов».
– У нас есть, но… он же дорогой, – бормочет Питри.
– А мне плевать. Делайте как я говорю. И да, сервируйте его в нашем лучшем фарфоре. И побыстрее.
Питри резво уносится выполнять поручение.
– Она думает, ты ее собираешься убить, – тихо сообщает Сигруд.
– С чего бы это ей такое думать? – удивляется Шара.
Сигруд пожимает плечами.
– Она не сопротивлялась?
– Она пошла за мной с таким видом, – говорит Сигруд, – словно ждала этого весь день.
Шара продолжает наблюдать за женщиной: та пытается отереть слезы, но руки дрожат так сильно, что она утирается чуть ли не локтем. Насколько проще было бы допрашивать обычного головореза…
Приготовления в приемной завершены, и Питри отводит пожилую всхлипывающую женщину туда, где Шара ждет ее за небольшим скромным столом, на котором сервированы две чашки, блюдца, печенье, сахар, сливки и исходящий паром кофейник. Несмотря на приличные размеры помещения, в уголке разом стало уютно – ни дать ни взять чья-то маленькая гостиная.
– Садитесь, – командует Шара.
Торская хлюпает носом и садится.
– Не хотите ли выпить кофе? – спрашивает Шара.
– Кофе?
– Да.
И Шара наливает кофе себе.
– Почему вы предлагаете мне кофе?
– А почему бы и нет? Вы ведь у нас в гостях.
Ирина обдумывает ответ, потом кивает. Шара наливает ей кофе. Ирина принюхивается к завивающемуся над чашкой пару:
– «Витлов»?
– Очень хочу услышать ваше мнение, – говорит Шара. – Зачастую люди, которых мы принимаем, чувствуют себя обязанными нахваливать все, что пробуют. Им, конечно, не откажешь в вежливости, но хотелось бы честных отзывов. Что скажете?
Ирина прихлебывает кофе и чмокает:
– Замечательный вкус. Просто отличный. На удивление хороший кофе.
Шара улыбается:
– Вот и прекрасно.
А потом улыбка ее становится печальной:
– Скажите… а почему вы плакали?
– Что?
– Почему вы сейчас сидели и плакали?
– Почему?.. – Ирина задумывается, а потом отвечает: – А почему бы мне не плакать? Причин веселиться у меня нет. Мне остается только плакать.
– Вы в чем-то провинились? Ошиблись где-то?
Торская издает горький смешок:
– А вы разве не знаете?
Шара не отвечает. Она просто сидит и наблюдает за собеседницей.
– Оглядываясь на прошлое, я понимаю: я только и делала, что ошибалась, – вздыхает Ирина. – Всегда и во всем. Это все была одна большая ошибка. Это-то им от нас и нужно? Всем этим идеалистам и фантазерам. Им нужно, чтобы мы совершали ошибки вместо них…
– Вместо кого вы ошибались?
Ответом ей становится тот же горький смех:
– О, они слишком умны, чтобы посвящать старуху вроде меня в свои помыслы… Они знали, что я… как бы ловчей выразиться… они знали, что рискуют из-за меня. Обойтись без меня они не могли, но знали, что рискуют. Ох… как подумаю о матушке, о бабушке… что бы они сказали, если б увидели меня сейчас… И я…
Тут она снова пытается залиться слезами.
Прежде чем у нее получается, Шара быстро спрашивает:
– А почему они не могли без вас обойтись?
– Почему? Да я же единственная там убиралась. Разве нет?
– У профессора?
Ирина кивает.
– Я же одна могла к нему заходить в университетский кабинет. И они пришли и сказали: «Ты ведь дочь славного Мирграда! Разве пепел прошлого не стучится в твое сердце?!» И я сказала, что, конечно, стучится, а как же. Они не удивились и даже до вежливости не снизошли – видно, привыкли, что все соглашаются…
Шара понимающе кивает – и быстро прикидывает новую стратегию допроса. Она всего несколько раз имела дело с такими информаторами: обычно эти люди настолько обозлены на жизнь, замучены и запуганы, что сведения бьют из них ключом. Точнее, выливаются потоком, сносящим все на своем пути. Допрашивать такого информатора – все равно что пытаться удержаться на спине бешеной лошади.
Она пытается зайти с другого боку и успокоить женщину:
– А как вас зовут?
Ирина вытирает слезы:
– А вы разве не знаете?
Шара отвечает ей печальным взглядом, в котором при желании можно прочесть что угодно.
– Меня зовут Ирина, Ирина Торская, – тихо отвечает ее собеседница. – Я уборщица в университете. И я отмывала от грязи тамошние стены и полы двадцать четыре года. С самого времени, как его построили. Точнее, восстановили. А теперь я думаю: помру – и эти камни меня забудут…
– И вы работали с доктором Панъюем?
– Работала?.. Да будет вам. Вы так говорите – работала, словно мы были коллеги. Словно он со мной, как с равной, советовался, типа: «Вот, Ирина, какое дело, нужно ваше мнение…» Я уборщицей была. Чашки за ним мыла. Пол мела, полировала медь, обметала пыль с книжных полок. Со всех этих бесконечных полок… – Тут ее немного отпускает, и праведная ярость уходит из голоса. – Вы меня убьете?
– С чего бы мне убивать вас?
– За то, что его убили. Это ж из-за меня.
– В смысле? Вы же его не убивали.
– Нет, конечно, это не я его убила. Но я думаю… без меня тут не обошлось.
– Как это произошло, Ирина? Расскажите мне, пожалуйста.
Та делает глубокий вдох, откашливается:
– Он проработал в университете всего несколько дней, когда они пришли. Прямо в квартиру заявились. Я ведь ходила на… собрания… всякие. Там собирались люди, которые не хотели больше иметь дела с шало… с сайпурцами.
Шара кивает. Она понимает Ирину, и Ирина это видит.
– Вы меня за это ненавидите? – спрашивает она.
– Некогда – да, могла бы ненавидеть, – вдруг – и неожиданно для себя – честно отвечает Шара.
– А сейчас – нет?
– У меня на ненависть не хватает ни сил, ни энергии, – вздыхает Шара. – Я просто хочу понять других людей. А люди – они и есть люди.
И, бледно улыбаясь, пожимает плечами: мол, что тут поделаешь?
Ирина кивает:
– Думаю, это мудро – так к жизни относиться. Я была не настолько мудра. Я ходила на собрания. Во мне было много гнева. Мы все были полны гнева. И эти люди… так они на меня и вышли.
– А кто они?
– Они никогда не называли мне своих имен. Я спрашивала, но мне ответили, что так безопасней. Сказали, что им грозит опасность. Всегда. Кто им угрожает, не сказали.
– Сколько их было?
– Трое.
– Как они выглядели?
Ирина их описывает, Шара конспектирует. Словесный портрет первых двух – невысокого роста, темноглазые, темноволосые, с густой бородой – подойдет практически каждому жителю Мирграда мужского пола. А вот последний примечателен:
– Он высокий был, – говорит Ирина. – И бледный такой. И исхудавший, прямо сущий скелет. Похоже, только бульоном питался, бедняга. Если б за собой следил, был бы красавцем. Говорил мало. Только смотрел на меня, наблюдал. И ничему не удивлялся, что бы я ни сказала. Они знали, что я работаю в университете. Откуда, ума не приложу. А еще они попросили меня сослужить службу Мирграду. И им. Как в старину это делали. И я согласилась.
Ирина откашливается снова:
– Я должна была следить за ним. За профессором то есть. Красть заметки, залезать в ящики, папки просматривать.
– А что вы искали?
Ирина краснеет, но ничего не отвечает.
– Так что же вы должны были найти, Ирина?
– Я? Ничего…
– Но как вы должны были понять, что вы нашли нечто нужное?
Тут Ирина краснеет еще сильней:
– Я… я должна была… догадаться…
– Почему?
– Потому что… слова… – глаза ее снова набухают слезами. – Я смотрю на бумагу, а ничего не понимаю…
– В смысле?
– Не учили меня этому! Не было у нас в Мирграде школ, когда я росла… А когда школы открыли, я уж слишком стара стала, где уж мне было учиться… Я только притворялась, что читать умею. Возьму книгу и вытаращусь в нее. Ну и… – Она поджимает губы – прямо как обиженный ребенок. – А я пыталась. – Тут она запускает руку в карман и вытаскивает оттуда смятую листовку – явно антисайпурскую. – Я пыталась ведь выучиться. Я хотела учиться – чтобы праведной быть. Я хотела знать. А вышло только притворяться…
Шара вовсе не удивлена: безграмотность на Континенте до сих пор зашкаливает.
– И что же вы сделали? Когда они попросили вас шпионить за ним?
– Я сказала, что согласна. Я не хотела их подвести. А еще я… я его ненавидела. Ненавидела я этого профессора, веселый все время такой ходил, книжки по нашей истории читал, а мы… а я… – Тут она осекается. И потом четко выговаривает: – Я решила принести им список.
– Список чего?
– Не знаю. Профессор над ним постоянно работал, так что он важный был, без сомнения. Но для меня это был всего лишь список. Длинный. Со множеством квадратиков, прямо сверху донизу они шли и из стороны в сторону, а в них буквы и цифры. Я много недель подряд это делала. Вынести целиком не могла – он же сразу бы хватился. И у него всегда была с собой лишь часть листков из этого списка. Так что я по страничке, по две-три-четыре выносила, запиралась в подсобке и переписывала. Поначалу трудно было, но потом я прямо за пару минут стала управляться. Я писать не умею, а списывать – могу, и еще как! – гордо заявляет женщина. – И я отдавала им копии.
– Сколько копий страниц вы им передали?
– Десятки. Наверное, больше ста – времени-то сколько прошло. У меня неплохо получалось, да, – говорит она, явно гордясь собой. – И они так обрадовались, когда я им в первый раз этот список притащила, что прямо дальше некуда. Они даже расплакались от радости. И я почувствовала… почувствовала… – тут она снова осекается – не находит слов, чтобы сформулировать мысль.
– А почему вы перестали носить им копии?
– Они так велели. Сначала-то нет – после первого раза они все недовольней и недовольней становились: «Это, конечно, хорошо, но нам не это нужно, совсем не это». Словно я виновата! И тут однажды тот, бледный джентльмен, он что-то такое в списке углядел. Он не улыбнулся, нет, но эдак прищурился – и кивнул. И тогда они рассмеялись и сказали: «Отлично! Очень хорошо! Отлично!» Словно бы отыскали наконец нужную штуку. И все, они больше меня ничего выносить оттуда не просили.
Шара чувствует, что ее захлестывает холодный ужас:
– Какое это было число?
– Число? Да разве я помню?
– Месяц?
– Тепло еще было… наверное… поздняя осень? Думаю, это было в месяце Тува, вот.
– Вы можете еще что-нибудь рассказать мне об этом списке? Любые детали.
– Я все, что знала, уже рассказала.
– Вы скопировали его. Сотни раз. Что вы видели на этих страницах?
Ирина задумывается:
– Ну… номера страниц.
– А еще?
– А еще… там был… А, там был штамп в уголку. Нет, не штамп, а как бы знак такой, в углу каждой страницы. Что-то вроде… птицы, которая на стене сидит.
Шара некоторое время сидит молча. Потом спрашивает:
– А у нее на голове хохолок был? А крылья она держала распростертыми?
И она расставляет руки, чтобы было нагляднее.
– Да. Я таких птиц в жизни не видела.
Это потому, что птица эта – эндемик. Обитает только в Сайпуре. Шара прекрасно знает, о каком гербе идет речь. И на свете есть только один список с печатью губернатора полиса, который мог привести реставрационистов в такой восторг. Значит, наши враги уже несколько месяцев назад знали о существовании Запретного склада. Более того, они также знали, что там хранится. А ведь даже она, Шара, не имеет такого допуска…
Как же ее угораздило пообещать тетушке не заглядывать в тайник Панъюя – вдруг там лежит ответ на все ее вопросы…
– Что все это значит? – спрашивает Ирина.
– Я еще точно не знаю, – отвечает Шара.
– Я-то думала, что ненавижу профессора, – говорит Ирина. – Но, когда мне сказали, что он убит, я поняла – нет, я его никогда по-настоящему не ненавидела. Я хотела, но не ненавидела. Меня другое злило. Я ненавидела… то, что за всем этим стояло. Всю жизнь меня унижали, сколько ж можно…
И она поднимает на Шару полные слез глаза:
– Что вы со мной сделаете? Убьете?
– Нет, Ирина. Убийство невиновных – с этим не ко мне.
– Но я же виновна. Это из-за меня его убили.
– Откуда вы знаете? Вы же сами сказали: за этим всем что-то стоит. И, должна вам сказать, вы правы. За всем этим стоит нечто куда большее, чем я, вы и даже смерть профессора…
Лицо Ирины светлеет, она с облегчением выдыхает:
– Вы правда так думаете?
Шара пытается не выдать своих страхов:
– Я это знаю.
И тут женщина резко вскидывает голову: с улицы доносятся вопли. Кто-то истошно кричит: «Пропустите! Пустите меня немедленно!»
– Что случилось? – спрашивает Ирина.
Шара наклоняет к окну и осторожно отодвигает пальчиком штору. Перед воротами посольства собралась небольшая толпа: блестит золотое шитье на поясе Отца Города. Рядом толкутся явно официального вида лица в грязно-белых хламидах. А перед ними, изнутри, стоит Мулагеш: руки сложены на груди, ноги в боевой стойке. Губернатор сочится презрением, как костер дымом.
Шара вежливо улыбается Ирине:
– Прошу простить, я на минутку.
* * *
Рев этот Шара слышит даже из-за закрытых входных дверей.
– Это издевательство! Нарушение всех мыслимых этических и политических принципов! – орет какой-то мужчина. – Преступление! Это что, объявление войны, я вас спрашиваю?! Вы похитили женщину! Силой увели из собственного дома! Пожилую уборщицу, отдавшую жизнь служению стариннейшему и самому почитаемому из учреждений Мирграда! Губернатор, я требую, чтобы вы отошли и пропустили нас! И немедленно отпустили несчастную женщину! А если вы этого не сделаете, уверяю вас: дойдет до международного скандала! Я понятно выражаюсь?!
Мулагеш что-то бормочет в ответ, но ее сложно расслышать.
– Угроза нападения? Какая еще угроза нападения?! – вопит в ответ мужчина. – Что здесь под угрозой, так это права и привилегии граждан Мирграда!
Шара идет через двор. Так, а вот и Сигруд – притаился в тени, подпирает спиной стену. Отец Города вцепляется в ворота, как узник в решетку камеры. Он высокий для континентца, лицо смуглое – и местами ярко-красное, словно картофелину облили глазурью и отправили в печь для обжига. Половину лица – аж до самых глаз – закрывает густая бородища, более похожая на шерсть.
Шара узнает его: как же, та статья в газете. А этот Эрнст Уиклов в жизни даже страшнее, чем на фото…
А за ним выстроились по меньшей мере дюжина бородачей в грязно-белых хламидах – мирградские адвокаты. И все они не сводят с Мулагеш пристальных глазок, и каждый держит в правой руке кожаный портфель на манер меча.
Так, только адвокатов нам теперь не хватало… Помереть, что ли? Разом все заботы кончатся…
– Поскольку посольство – это, с точки зрения закона, территория Сайпура… – начинает Мулагеш.
Уиклов хохочет:
– О, не сомневаюсь! Дай вам волю, и вы целый мир назовете сайпурской территорией!
– Поскольку территория посольства – часть Сайпура, – цедит сквозь зубы Мулагеш, – мы имеем право не доводить до вашего сведения, кто на ней находится, а кто нет.
– А вам и не надо этого делать! Ибо мои коллеги и друзья собственными глазами видели, как сюда привезли бедную женщину!
Шара оглядывается на Сигруда: тот хмурится, явно беспокоясь. Обычно он замечает любой «хвост», так что если кто-то и впрямь сумел сделать это незамеченным – что ж, это должен быть настоящий самородок…
Уиклов тем временем продолжает:
– Вот что я вам скажу, губернатор Мулягеш! – Произнося ее имя, он намеренно коверкает его. – Если дитя Мирграда пострадает или ему будут угрожать ваши клевреты – о, не сомневайтесь! Улицы содрогнутся от гласа народного, призывающего сровнять с землей ваше посольство, вашу резиденцию и вышвырнуть вас с нашей земли! Нам следовало поступить так еще много лет назад!
– Зря горло дерете, Уиклов, – усмехается Мулагеш. – Что-то я не вижу здесь протестующих толп: только вы, да я, да двор пустой.
– Если не отпустите несчастную женщину, толпу я вам гарантирую! Я вам тут целый мятеж устрою!
– Отпустим? У нас на территории нет лиц, которых удерживают силой. Сюда все приходят по своей воле.
– По своей воле, говорите?! К ней в квартиру вломилось вот это чудище! – И Уиклов тычет пальцем в Сигруда. Тот со скучающим видом почесывает нос. – Вы ее запугали! Угрожали ей! Это все равно, что захватили!
Шара откашливается и замечает:
– Вы ошибаетесь, сэр. Сударыня Торская только что пила со мной кофе. Я могу лично подтвердить это.
Уиклов разворачивается к ней – он так и излучает презрение:
– А вы кто такая? Нет, минутку… вас прислали вместо этого подлого болвана Труни? Если так, вы мне не указ! Вы бы еще заставили меня пьяного дебила слушаться!
Шара медленно смигивает. Давненько с ней не разговаривали в таком тоне… Она спрашивает:
– Вы, как я понимаю, будете Эрнст Уиклов?
Он свирепо кивает:
– Так я и знал, что попаду в ваши черные списки! Ха! Как вы меня там назвали? «Враг Сайпура», я более чем уверен! Что ж, знайте: мне лестно сознавать, что вы готовы убить меня в любой момент!
– Боюсь вас разочаровать, сэр, – холодно отвечает Шара. – Я лишь вчера узнала о вашем существовании. Из местной газеты.
Мулагеш зажимает рот ладонью – чтобы не расхохотаться в голос. Уиклов краснеет от ярости.
– Да уж, наглости вашему племени не занимать! – цедит он. – Барышня, учтите: ни вы, ни ваш губернатор не сможете выйти сухими из воды! Нас не обмануть дипломатическими уловками! Ибо факты таковы: вы держите в заложниках гражданку Мирграда! Наверняка из мелочного желания отомстить за вчерашнюю потасовку!
– Потасовку? – тихо переспрашивает Мулагеш. – Шестнадцать человек погибли. Их убили – каждого из них. Я присутствовала при этом. Видела тела. А вы?
– Я не нуждаюсь в дальнейших подтверждениях того, что ваши люди развязали кровавую бойню! – гордо заявляет он.
– Вы бы определились – либо потасовка, либо кровавая бойня, – усмехается Мулагеш.
– Вопрос спорный, – отрезает Уиклов. – Итак. Удерживаете ли вы женщину по имени Ирина Торская на территории посольства? Если вы будете и дальше упорствовать во лжи, утверждая, что нет, не удерживаете, мы с коллегами подадим иск в самые высокие инстанции, утверждая, что вы своими действиями нарушили множество международных договоренностей и соглашений! Я лично добьюсь того, чтобы вам запретили въезд в наши края! Чтоб ноги вашей здесь больше не было! Я понятно выражаюсь?!
Шара кривится: Уиклов, конечно, напропалую блефует – смешно вестись на такую чушь. Но он явно умеет привлекать к себе внимание, а излишнее внимание – это совсем не то, что ей сейчас нужно. С тех пор как ее посетили видения, ощущения у Шары такие, словно она сидит на ящике с динамитом, а люди бегают вокруг и норовят поддать огоньку.
– Ага! – вдруг орет Уиклов. – Вот она! Вот она!
Все оборачиваются. Шара тоже оборачивается, видит Торскую, осторожно выглядывающую из дверей посольства, и сердце ее обрывается.
– Видите! – торжествующе орет Уиклов. – Видите ее?! Ее там держали насильно! Как я и говорил! Это же она, разве нет?!
Шара решительно направляется к Ирине. Та таращится на Уиклова, в широко раскрытых глазах – благоговейный ужас.
– Ирина, вам нельзя выходить, – говорит Шара. – Здесь небезопасно.
– Я слышала, как назвали мое имя, – тихо говорит она. – Это… Отец Города? Это правда Отец Города Уиклов?
– Вы знаете его? Вам знаком кто-либо из сопровождающих его лиц? – осторожно интересуется Шара.
Ирина отрицательно мотает головой:
– И что же… они про меня спрашивали? Прямо вот про меня?
– Ирина! – орет Уиклов. – Не слушай ее! Иди ко мне, Ирина! Не слушай их!
– За вашей квартирой следили, – говорит Шара. – Они следили за вашими передвижениями, за всем, что вы делали. Даже после того, как вы выполнили данное вам задание.
– Ирина! Иди к нам! Что ты с ней разговариваешь, иди сюда!
– Я бы не советовала вам идти с ними, Ирина. Я не знаю, по какой причине они явились сюда, но их забота не кажется мне искренней.
Ирина завороженно смотрит на Уиклова, который зверски трясет решетку ворот. Мулагеш приказывает немедленно прекратить это, но тот продолжает истошно орать:
– Ирина, они хотят тебе зла! Они замышляют! Против тебя и Мирграда! Не слушай эту глупую бабу!
– Ирина. Я очень прошу. Я не советую вам идти туда, – напирает Шара. – Люди, которые стоят за всем этим, крайне опасны. Вы это прекрасно знаете.
– Но Отец Города никогда бы…
– Я тебя слышу! – верещит Уиклов – кстати, врет. – Я все слышу! Слышу, как ты уговариваешь эту несчастную женщину отказаться от своих прав гражданки Мирграда! Не слушай ее, Ирина!
– Ирина, – повторяет Шара. – Подумайте. Подумайте сами.
Но Уиклов продолжает вопить:
– Она – не твоей расы! Она не из твоего народа! Она не священного рода, как я и ты, как все твои братья и сестры! Их законы запрещают нам говорить это, но ты в сердце своем знаешь – это правда!
Ирина поднимает взгляд на Шару, и та понимает: все.
– П-простите, но я… я не могу иначе, – шепчет она.
И идет через двор к воротам.
Уиклов снова трясет решетку, гаркает на Мулагеш, требуя открыть. Мулагеш смотрит на Шару. Шара лихорадочно пытается что-нибудь придумать, как-то это предотвратить… но ничего не приходит в голову. Мулагеш сухо кивает. Лицо у нее – мрачней некуда. Механизм ворот приходит в действие, колесики и шестеренки крутятся и звякают, и решетка медленно отъезжает в сторону.
Проходят годы, бьются волны, Душа заглядывает за утесы, На руках твоих кровь и соленая вода, Ветер поет в соснах, закрой глаза. Мы – клинок на ветру, Уголь в снегу, Тень под волной, И мы помним. Мы помним дни в море, золотую реку, Дни храбрых походов, сокровища несчетные. Они назвали нас варварами, Но мы знали, что жили в мире. А вражду мы узнали тоже, Она пришла незваной гостьей, И надолго поселилась у нас, Но короли изгнали ее. Из окна смотрело острое копье, Рвалось пламя факелов, Ползло по стропилам, по крыше, В ночи кричали – никто не ответил. И так мы лишились его, и семьи его больше нет. Нашей семьи мы лишились, ибо нет у нас короля. Он ушел неоплаканный. Похитили тело славного Харквальда, Бросили его в волны, на поживу морским тварям, Скормили его рыбам, что питают наших детей. Красные дни пришли, темные дни, Время пиратов и беззакония, Бесконечной войны. Берега наши пусты, а могилы полны. Мы помним о нем. Мы помним о его семье, И сына его помним, хоть он и исчез. Мы помним юного Даувкинда И знаем: когда-нибудь Он вернется И спасет нас от нас самих.Народная дрейлингская песня. 1700 г.
То, что написано в хрониках
Шара стоит и смотрит, как уходят от ворот люди. Мулагеш и Сигруд осторожно подходят к ней.
– М-да, – вздыхает Мулагеш. – Как-то не слишком хорошо оно обернулось…
Шара с этим полностью согласна. По правде говоря, в последние тридцать шесть часов дела шли не слишком хорошо. А если быть совсем честной, то следовало признать: дела шли безобразно плохо.
Итак, ситуация: реставрационисты знают о существовании Запретного Склада. Хуже того, они, похоже, разнюхали, что на Складе хранится некий артефакт, который им до зарезу нужен. Остается вопрос: они уже проникли в Склад? И если проникли, то начали использовать нужный предмет? Что, если именно по этой причине Шара сумела вступить в контакт с Божеством?
И вот еще какой вопрос, даже позаковыристее: а зачем им убивать Панъюя, после того как они получили от него нужные сведения? Они же не могли не знать, что расследовать убийство приедут «плохие ребята».
Шара трет глаза. И тихонько рычит от отчаяния.
Питри смущенно покашливает.
– Вы… как? В порядке?
– Нет, – еле слышно отвечает Шара. – Не в порядке.
– Вам что-нибудь принести?
Указательным и большим пальцами Шара сильно сдавливает перемычку кожи между пальцами другой ладони. Тупая боль пробивается сквозь скрежет льдин, заполонивших усталый мозг.
Что ж. Другого выхода нет.
– Мне нужен, – говорит она, – нож.
– Что? – удивляется Питри.
– Да, нож. Поострее.
– Ой, – пугается он.
– И железная сковородка.
Мулагеш изумленно наклоняет голову:
– Что?
– А еще две луковицы, петрушка, соль, перец, паприка, три фунта козлятины. Ну и все пока.
Сигруд со стоном закрывает лицо руками. Шара подчеркнуто не обращает на него внимания и направляется обратно в здание.
– Пошли, – говорит она, приглашая их за собой.
– Что?! – вопрошает Мулагеш. – Что происходит, мать вашу?
Сигруд что-то ворчит себе под нос, а потом неохотно поясняет:
– Она всегда, когда злится сильно, готовит.
Шара останавливается и, не оборачиваясь, упирается пальцем в Сигруда:
– Твои агенты еще в деле?
– Естественно, – пожимает плечами Сигруд.
– Тогда пусть проследят за Торской и Уикловым. И докладывают каждый час.
– А почему бы тебе не поручить это мне? – еще больше удивляется Сигруд.
– Ты мне нужен здесь, – отвечает Шара. И добавляет, широко шагая по коридору: – Нам надо тут кое с чем разобраться.
– С чем это? – настораживается Мулагеш.
– С кое-чем мертвым, – отвечает Шара. – Или с тем, что должно было умереть, но не умерло.
* * *
Как хорошо, наверное, быть ножом: всегда идти по пути наименьшего сопротивления, инстинктивно находить слабые места, рассекать сухожилия, кожу и шелуху так же легко, как травинка воду потока. Нож соскальзывает и скользит, съезжает и скатывается, оставляя на доске крохотные завитки апельсиновой и лимонной кожуры, дынные шкурки – они похожи на кучу свернувшихся лент тикерного аппарата. Плоть нож пилит медленно, разрезая вены и мышцы, сухожилия и хрящи, измельчает куски козлятины так, что они более не похожи на часть тела живого существа.
А всего-то нужны хороший нож и хорошая сковородка. С помощью этих незамысловатых вещей можно сотворить все что угодно.
Шара зажигает спичку, водит ей у газовой горелки. Вдоль плиты вспыхивают синеватые огоньки, нежно облизывают сковородку. Она наливает в сковородку масла, затем принимается за лук.
– Их изначально было шестеро, – тихо говорит Шара. На лице ее пляшут отсветы газовых огоньков. – Во всяком случае, шестеро из них явили себя миру. Олвос, принесшая свет. Колкан-судья. Вуртья, воительница. Аханас, сеятельница. Жугов – тот был трикстер, скворцовый пастух. Ну и Таалаврас-строитель.
Мулагеш до хруста сжимает кулак:
– Я все это знаю. Это все знают.
– Вы знаете только часть того, что о них известно, – говорит Шара.
Она стоит перед плитой – точнее, рядом плит – в просторной посольской кухне. Раньше здесь кипела работа – готовили для многочисленных дипломатических приемов. А потом прислали Труни и все пришло в упадок. Мулагеш с Сигрудом облюбовали для себя столик для прислуги и на пару окутываются дымом – Мулагеш попыхивает сигариллой, Сигруд – трубкой. А Питри бегает в кладовую и обратно, беспрерывно донося овощи, специи и солонину.
– О многом просто не рассказывают в школах. Согласно Светским Установлениям на Континенте запрещено поднимать такие темы, но в Сайпуре тоже много ограничений. Историкам время от времени позволяют опубликовать монографию-другую, однако большинство исследований сразу отправляется на вечное хранение. Особенно если они – о Древних, о Небеснейших. О Божествах. Все шестеро возникли на Континенте – насколько давно, никто толком не знает – и все шестеро обустроили здесь свои владения. Все шестеро враждовали и жили как кошка с собакой – по примерным прикидкам, не менее пяти веков.
– Я и не знала, что они дрались друг с другом, – бормочет Мулагеш. – Я думала, они союзники были…
Шара надрезает кожицу на луковице, а потом обдирает ее и выкидывает прозрачную шкурку в мусор.
– Они и стали союзниками. Но сначала они ожесточенно сражались: за территорию, последователей – за все, короче. Но где-то в начале семисотых годов они вдруг перестали враждовать и решили объединиться. А вскоре после этого – перешли к экспансии. Причем крайне быстрой. Это стало началом Золотого Века Континента – и порабощения Сайпура. Об этом периоде нашей истории мы знаем много, хотя хотелось бы знать поменьше.
Она вытаскивает доску для резки, пробует ее на изгиб, а затем бросает на стол.
– Представьте себе Континент в виде пирога – ибо он имеет округлую форму, – разрезанного на шесть частей. А здесь, в центре – ось колеса.
– Мирград, – кивает Сигруд. И выпускает из губ струйку дыма.
– Да, – кивает Шара.
Она разрезает луковицу пополам, швыряет половинку на доску и сильно сжимает. Крохотные сосудики лука истекают белым. Нож исполняет частое стаккато, и луковица разваливается на кучку белых кубиков.
– Престол мира. Город, который не принадлежал никому – и принадлежал одновременно всем. Его заложили, когда они решили объединиться. В конце концов, у каждого Божества уже был собственный город. У Колкана – Колкастан, у Таалавраса – Таалвастан, у Аханас – Аханастан, у Жугова – Жугостан, у Вуртьи – Вуртьястан. А Мирград должен был принадлежать всем сообща.
– Но вы только пять городов назвали, – подает голос Питри из-за горы сельдерея.
– Точно. Некогда и у Олвос был город. Но она оставила Континент вскоре после того, как Божества решили объединиться. А когда она ушла, ее последователи оставили город. Как они сами сказали – на волю пепла и пыли. И никто не знает, где он стоял.
– А почему она ушла? – спрашивает Мулагеш.
– Никто точно не знает. Может, она просто была не расположена к общению с другими Божествами. А может, в чем-то с ними не соглашалась. А может, не пожелала принимать участие в Великой Экспансии – когда Континент завоевал практически весь мир. Так или иначе, из летописей и хроник она исчезла: последний раз с Олвос говорили в 775 году.
– Одну секундочку, – вскидывается Мулагеш. – Это что же получается – все эти годы все были в курсе, что одно из Божеств вполне себе могло остаться в живых? Я-то думала, кадж их всех поубивал!
– Да, но давайте припомним, чему нас учили. Припомним, кого именно и когда он убил.
И Шара принимается загибать пальцы:
– Вуртью он убил в Сайпуре, в Ночь Красных Песков. Таалавраса и Аханас – во время высадки на Континент. А Жугова он убил в Мирграде. Когда и кто вам сказал, что Олвос тоже была убита? Или Колкан, если уж на то пошло?
– Но… но все сходятся на том, что после вторжения каджа исторические источники становятся очень путаными, – говорит Мулагеш. – И никто не может сказать с уверенностью, что там происходило. Он вполне мог и Олвос, и… как его… Колкана убить, разве нет?
– Отчасти это так. Наши сведения об этом периоде обрывочны. Мы знаем, что кадж применил свое оружие против Божеств – причем мы не знаем, что это было за оружие, – и боги исчезли. Но это совершенно не гарантирует, что они исчезли навсегда и не существуют в настоящее время. Некоторые чудеса прекрасно работают и по сю пору. Несмотря на все наши усилия, божественное начало не покинуло Континент. Наши хроники крайне неточно описывают даже известные события: так, к примеру, он убил Жугова только через три года – целых три года! – после взятия Мирграда. В общедоступной литературе никогда не упоминается этот факт.
– Я этого не знал, – пугается Питри. – Я думал, Жугова казнили во время Великой Чистки! Меня так в школе учили!
– Это потому, что никто не хочет вспоминать, как долго Жугов скрывался! – поясняет Шара. – Ведь в таком случае кадж не выглядит всесильным героем. Жугов не вступал в бой и не нападал на армию каджа – он просто спрятался. Но тот не отступал. Или понимал, что нужно сначала сломить дух врага – в таком случае можно победить его тело. Вот почему он начал Чистку.
Шара давит чеснок лезвием ножа, режет на кубики и бросает к луку.
– Великая Чистка была совсем не такой, как ее описывают в сайпурских учебниках истории. Ее любят изображать эдаким торжеством праведности и справедливости, но… Словом, божественных существ на Континенте не уничтожили разом и бескровно оружием каджа. Их не прогнали обратно на небеса или в море.
– Тогда… что же случилось? – тихо спрашивает Питри.
– Их выволакивали из домов, – отвечает Шара. И смотрит на рукоять ножа – она масляная и скользкая. – Их гнали толпами по улицам, как животных. И убивали так же – как животных на бойне. Младших Божеств, в отличие от их создателей, можно убить обычным оружием.
Сигруд зло ухмыляется – видно, с удовольствием припоминая какой-то жестокий бой.
– В Мирграде, к примеру, есть несколько массовых захоронений, – продолжает Шара. – Кто знает, чьи кости мы увидим, если потревожим их? Изящные крылья гитир, крылатых пони Аханас? Фаланги пальцев ховтарика, двадцатипалого арфиста из дворцов Таалавраса? Противоестественно соединенные кости мховоста, человека-на-шарнирах? Жугов держал таких страшилищ для собственного развлечения… Это если, конечно, кадж с солдатами не истолкли их всех в труху… а я, если честно, полагаю, что так и было. Возможно, они считали, что поступают справедливо. Разве сайпурцы не жили веками под пятой этих существ? Разве не были они жуткими чудовищами? Но один солдат писал, что из пылающих костров доносились крики боли, и некоторые из этих существ выглядели и вели себя как дети и умоляли о милости. Но их – не помиловали.
Мулагеш молчит. Дым от ее сигариллы истончился до жидкой струйки. Сигруд водит пальцем по клинку своего черного кинжала.
Шара проверяет, как там рис – тот вымачивается в курином бульоне. Потом она пробует темный и густой соус. Принюхавшись, добавляет чесноку.
– Когда Чистка закончилась, Жугов вышел к ним. Он скрывался, как рассказывали, в оконном стекле – что именно это значит, я не могу сказать. Опять-таки – я знаю лишь то, что написано в хрониках. Жугов отправил гонца непосредственно к каджу и попросил о встрече. Наедине. К великому удивлению своих помощников, кадж согласился. Возможно, кадж обладал даром предвидения: ибо, когда он встретился с последним остававшимся с живых Божеством, Жугов, по единогласному свидетельству летописцев, никакой угрозы уже не представлял. Он сотрясался от неконтролируемых рыданий и оплакивал смерть и разрушения в городах Континента.
– В Сайпур бы съездил, посмотрел на то, что с нами делали, – с горечью выговаривает Мулагеш. – Глядишь, и рыдал бы поменьше.
– Возможно. Так вот они встретились с глазу на глаз в заброшенном храме. Точнее, в его развалинах. Хотя воспоминания помощников каджа не позволяют с уверенностью сказать, где именно эти руины находились. Или находятся. Они провели там большую часть ночи. Что они там друг другу сказали, никто не знает. Кадж долго не появлялся, и помощники уже опасались, что случилось непоправимое. А потом он вышел. Причем перед этим он собственными руками убил Жугова. Так вот, кадж вышел – и он был весь в слезах. Почему он плакал, никто не знает. Но подтвердил, что Жугов мертв.
Шара обтирает нож.
– После этой последней победы кадж стал мрачным и молчаливым, начал пить. Он умер от инфекции меньше чем четыре месяца спустя – похоже, он пал одной из первых жертв Великой Чумы.
Сигруд принюхивается, потирая нос. Похоже, такие истории его не очень-то интересуют. Мулагеш, напротив, ловит каждое слово.
– Значит, Жугов и был тем богом, которого убили последним.
Шара солит козлятину, затем бросает ее на сковородку к поджаривающимся овощам.
– Да. Следом пришли Чумные годы, и это было прямым следствием того, что божественная защита Континента пала вместе с последним Божеством. Поэтому мы можем быть уверены, что Жугов покинул этот мир.
Мулагеш задумчиво говорит:
– Странно это все как-то… вы перечисляете Божеств, словно подозреваемых в деле о краже имущества. Словно мы можем взять и выстроить их у стены, а потом привести жертву на очную ставку, чтобы она указала на преступника. Значит, подтверждена смерть – в смысле люди видели, как они умерли, – только Вуртьи, Таалавраса, Анахас и Жугова?
– Очень точно сформулировано, – кивает Шара.
– Остаются непосчитанными Олвос и Колкан.
– Да.
– Вы ничего не сказали по поводу Колкана.
– Совершенно верно. О его существовании нам известно довольно много. А вот как он умер… вот об этом никто на знает. Более того, мы даже думаем, что и на Континенте никто не располагает такими сведениями.
– Он тоже ушел, как Олвос? – спрашивает Питри.
Шара обтирает руки полотенцем:
– Нет. Он не ушел. Во всяком случае, мы так не думаем.
– Тогда что с ним случилось?
Шара смотрит на время. Через двадцать минут все будет готово.
– А вот это, – говорит она, усаживаясь на стул, – совершенно другая история.
* * *
– Колкан, как рассказывают, был богом правосудия. Богом порядка. Еще его называли Каменный человек, Тот, что обитает на Высотах, Далекий Пастырь. Он запечатлен во многих обликах, но самый распространенный – сидящий на горе человек, протягивающий обе руки ладонями вверх. Словно бы ждущий, что на эти ладони положат нечто, что нужно взвесить. Он взвешивает и судит. Изо всех шестерых он был самым активным – с другими и не сравнить. Жугов дурачил своих смертных адептов, морочил и забавлялся, превращая их в животных: в волков, но чаще всего в скворцов. А иногда и брюхатил их, причем независимо от пола – да, и до такого доходило…
Питри в буквальном смысле роняет челюсть. Шара продолжает:
– Таалаврас и Аханас занимались соответственно строительством и растительной жизнью, их интересовали великие свершения, и жизнь смертных волновала постольку-поскольку. Олвос, как вы знаете, и вовсе ушла из мира. Вуртья – та была, конечно, весьма активна и лично водила людей в набеги, а также предводительствовала армиями. Но никто из них даже близко не может сравниться с Колканом, которого дела смертных просто завораживали. По правде сказать, они были натуральным идефиксом Колкана.
Шара аккуратно переворачивает мясо, жир шипит и брызгается. Она быстро отдергивает руку, раскаленная капля масла пролетает мимо костяшек пальцев.
– Колкан просто хотел, чтобы его адепты вели правильную и упорядоченную жизнь. Заложив город Колкастан, он велел своим последователям приходить к нему с любыми вопросами и сомнениями, сказав, что он лично будет на них отвечать, судить людей и помогать им. И люди, надо сказать, весьма воодушевились этой идеей. В хрониках пишут об очередях длиной в пять, десять, пятнадцать миль. О том, как люди падали в обмороки, голодали, заболевали и теряли здоровье, пока ждали. Летописи, конечно, неточны, но считается, что Колкан в течение ста шестидесяти лет сидел на одном месте день и ночь и выслушивал все эти миллионы людей.
– Во имя всех морей… – бормочет потрясенная Мулагеш.
– Да, – кивает Шара. – Историки согласны в том, что это оказало определенное воздействие и на Колкана. Со временем он понял, что действует неэффективно. Поэтому он сказал, что время суда закончилось, вышел из своего храма и начал издавать эдикты – основываясь на том, что услышал за то время, пока сидел и судил.
Сигруд достает из кладовки ветчину. Садится, срезает своим черным кинжалом завиток идеальной толщины и принимается жевать, с отсутствующим видом строгая остальную часть свиной ноги.
– За два года Колкан успел издать тысячу двести эдиктов. С современной точки зрения, это натуральная авторитарная дичь, к тому же эти запреты донельзя произвольны: эдикты запрещали класть такой камень на эдакий, женщины не должны были заплетать волосы на такой-то манер, в это время дня можно говорить, а в это – молчать, это мясо можно вялить, а это нет… ну и так далее. Вы бы подумали: ну нет, нормальные люди этому воспротивятся, попытаются как-то освободиться… Но колкастани – не попытались. Они обрадовались этим правилам – всей тысяче и двумстам эдиктам. Потому что, если их Божество сказало, что они этих законов достойны – как же они будут их не достойны?
– Вы шутите… – слабо стонет Питри.
– Я абсолютно серьезна. Они искренне пытались исполнять все предписания, даже самые безумные. Но, естественно, никто из нас не совершенен, и полностью следовать правилам получалось лишь у немногих. Но сами-то эдикты считались абсолютно правильными – людям очень нравилось, что им говорят, как и что делать. Поэтому в какой-то момент Колкан решил, что дело в недостаточном стремлении следовать эдиктам.
Шара снимает крышку с кастрюли с рисом. От риса поднимаются клубы пара, очки ее мгновенно запотевают. Она отступает, снимает очки и протирает их.
– Так началась эпоха Установлений о наказаниях. Это был постоянно редактируемый документ, в котором фиксировалось, как нужно… мгм… стимулировать людей следовать законам. Со временем в них стала прослеживаться тенденция к… как бы это сказать?.. к истязанию плоти.
– Истязанию плоти?.. – эхом отзывается Мулагеш.
– Людей били плетьми. Клеймили. Подрезали сухожилия, ослепляли, а самым злостным преступникам отрубали конечности: так, например, вору отрубали правую руку. Но виновных никогда не убивали. Ибо Колкан постановил, что жизнь – священна. Даже он сам не мог нарушить собственного предписания. Одним из самых известных наказаний было применение так называемого Перста Колкана. Это такой круглый камушек, который при соприкосновении с плотью становится все тяжелее, одновременно раскаляясь. Палачи связывали жертв и клали Перст им на ногу. Или на живот. Или на грудь. Или…
Тут раздается отчаянный скрип кожи: правая, затянутая в перчатку рука Сигруда сжата в кулак, и этот кулак дрожит. Гигант намертво закусил чубук трубки, а черный нож глубоко вонзил в свиной окорок…
Шара откашливается.
– В общем, вы поняли, о чем речь, – говорит она. – Причем люди, которых наказывали, совершенно не возражали. И не сопротивлялись. Они приветствовали истязания, полагая себя справедливо приговоренными, и даже раболепно благодарили за них.
Со временем наказания Колкана стали очень суровыми. И странными. Он явно страдал навязчивыми идеями греховности всего плотского, а в особенности сексуальности. И хотел, чтобы о ней ничто не напоминало. Ирония судьбы в том, что избранный им метод репрессий странным образом знаком нам, сайпурцам. Ибо он запретил любое публичное упоминание всего относящегося к женскому полу и анатомии. Точно так же некоторые наши законы подвергают цензуре то, о чем можно говорить вслух.
– Что? – вскидывается Мулагеш. – Ну и ничего подобного! Это совсем не похоже на Светские Установления! Мы пытаемся запретить нечто действительно опасное!
– А вот Колкан считал, что нет ничего опасней сексуальности. Сайпурские историки не пришли к единому мнению, почему он решил цензурировать именно упоминание женского пола. Вопрос остается спорным, и дискуссии не утихают. Так или иначе, Колкан постановил, чтобы его клирики и святые заставили женщин ходить в общественных местах полностью закутанными, а также объявить вне закона любое упоминание женской анатомии и сексуальности – в любой форме. Это явление получило название «Искоренение несовершенств». Однако исполнение этого эдикта поставило последователей Колкана в двусмысленное положение, которое со стороны даже может показаться смешным: как сформулировать закон, ставящий вне закона нечто, что вы не можете назвать, даже в тексте закона? Поэтому законодатели изобрели расплывчатый термин «тайная женственность», под которым можно понимать что угодно, как вы догадываетесь. Поэтому законом можно было вертеть как угодно – и прощать, и приговаривать к суровым карам. Все зависело от судьи.
Шара разом припоминает холод тюремной камеры, тянущиеся к ней тени. И шепот парнишки: «Не пытайся завлечь меня своей тайной женственностью!»
– Ситуация все ухудшалась и ухудшалась. Колкан настоял, чтобы все его последователи – абсолютно все, а не только женщины – «не выставляли напоказ свою плоть» и отказывали себе в абсолютно всех плотских удовольствиях: в наслаждении пищей, питьем, прикосновении к обнаженной человеческой коже, даже в удобном ложе для сна, – ибо Колкан приказал всем адептам спать на каменных плитах. Физическое удовольствие отрицалось на корню. А наказания становились все чудовищнее: кастрация, клиторэктомия, жуткие по своей жестокости ампутации конечностей. И так далее.
Однако теперь на это все стали косо посматривать другие Божества. Они поддерживали отношения между собой – а некоторые даже вступали в любовную связь, – но старались не вмешиваться в дела друг друга. Однако Колкан стал навязывать свои пристрастия не только на своей территории. Так, он потребовал, чтобы в Мирграде приняли его взгляды на сексуальность, а ведь другие Божества спокойно относились к гомосексуальности и свободной любви. Теперь же все это оказалось вне закона. Жугов особенно противился новым законам, однако представления Колкана укоренились в Мирграде – и ими до сих пор руководствуются, несмотря на то что случилось потом. В конце концов Жугов убедил остальных Божеств, что надо с этим что-то делать.
– Делать что? – вздрогнула Мулагеш. – Только не говорите мне, что случилась вторая война, о которой у нас никто не знает.
– Нет, – качает головой Шара. – Войны не было. В 1442 году Колкан просто взял и исчез. Безо всяких объяснений.
В кухне повисло молчание.
– Это что же… он… просто… исчез? – спрашивает Питри.
– Да.
– Как оружие каджа? – спрашивает Мулагеш.
– Не совсем, – отвечает Шара. – Построенное Колканом никуда не делось. Колкастан остался стоять там, где стоял. Но кое-что изменилось: буквально за одну ночь все, кто пострадал от Колкановых истязаний, исцелились, причем полностью, у них даже руки-ноги отросли. Правда, те, кто умер, увы, не воскресли. Это странно само по себе, но еще удивительней то, что жертвы даже не могли припомнить, что им некогда нанесли увечья, – словно бы воспоминания о наказании стерли из их памяти.
– Но как… – И Сигруд закатывает единственный глаз, пытаясь сформулировать вопрос. – Откуда тогда ты знаешь, что их увечили?
Шара кивает:
– Хороший вопрос. Это заняло некоторое время, но сайпурским историкам удалось установить, что именно в 1442 году произошла большая путаница в исторических свидетельствах. Они выяснили – путем фронтального анализа всех записей, дневников и свидетельских показаний, – что в Колкастане и Мирграде исчезли все записи касательно устроенных по велению Колкана истязаний. Все записи за все годы, пока они продолжались. Мы знаем то, что знаем, благодаря текстам, сохранившимся в местах, удаленных от Колкастана и Мирграда. Они по каким-то причинам избежали зачистки.
– И вы полагаете, что это дело рук остальных четырех Божеств, – говорит Мулагеш.
– Да, я так полагаю. Особенно потому, что они после неожиданного исчезновения Колкана даже слова не проронили об этом. Нам не удалось найти ничего подобного на манифест или декларацию… Они просто его больше не упоминали. Словно бы он и не существовал никогда. Они отредактировали реальность. Точнее, переписали ее наново.
– А это… – выговаривает Мулагеш. – То есть… вы думаете, что в видении вам явилось… оно? Исчезнувшее Божество, а не мертвое?
Шара думает. А потом отвечает:
– Нет.
– Почему нет?
– Те, кто на нас напал, были одеты и разговаривали как колкастани самого традиционного толка. Но я читала свидетельства тех, кто общался с Божествами. То существо, что вступило со мной в контакт в тюремной камере, вело себя совсем не так. Оно даже не выражалось связно: это была какофония голосов и образов – словно бы со мной общались сразу несколько личностей в одной оболочке. Я не знаю, как это назвать. Даже Колкан должен был разговаривать не так путано и безумно, как то, что общалось со мной…
Все надолго замолкают. Сигруд тихонько отрыгивает.
– А что случилось… – тут он опять рыгает, – …с людьми?
– Людьми?
Он отмахивается:
– Ну этими… колкановскими людьми.
– А, ты об этом… А представляешь – ничего не произошло. Они так и продолжили заниматься всем этим без Колкана. Носили предписанные одежды, следовали заповедям – даже Установлениям о наказаниях, хотя не в такой мере, как прежде. У них сохранились смутные воспоминания о Колкане, а также его эдикты – вот они никуда не исчезли. И они делали то, что прежде. Конечно, все стало не настолько ужасно, как при Колкане, истязаний поубавилось, но в общем и целом их вера не изменилась. Последователи Колкана живут и в Колкастане, и в Мирграде до сих пор – как ты мог это заметить.
– Значит, скульптуры в салоне Вотрова вызвали такой скандал потому, – медленно выговаривает Мулагеш, – что какой-то сумасшедший бог объявил их неприличными три сотни лет назад?!
– Более или менее.
Шара смотрит на часы, потом на козлятину – жир почти весь вытопился. Она вылавливает мясо и дает соку стечь.
– Думаю, это как движение по инерции, – говорит она. – Разогнавшись, не остановишься.
На плиту падает жир и шипит, подобно обрушивающейся в море лаве.
* * *
Сигруд, Мулагеш и Питри наворачивают за обе щеки – ни дать ни взять оголодавшие беженцы. Тут и козлятина в карри, и мягкий белый рис, и жареные пирожки с овощной начинкой, дыня с ветчиной. Буквально через несколько минут от изящно сервированных Шарой блюд остаются обкусанные ошметки.
– Это… – Мулагеш неизящно икает, – …было великолепно. Я такого карри много лет уж не едала. Прям как дома. Где вы научились готовить?
– От другого агента.
Шара попивает чай, но к еде не притрагивается.
– Я как-то застряла в одном месте, операция затягивалась. Пришлось обходиться тем, что было в распоряжении.
Она откидывается на стуле и смотрит вверх. По каменному потолку тянутся полосы копоти. У них маслянистый отблеск – жирный след от всего, что тут жарили и парили…
– Вы абсолютно уверены, прямо абсолютно, без тени сомнения, что на Складе все было спокойно? Вот прямо ни единого происшествия?
– Ни одного, – с полным ртом сообщает Мулагеш. – Я буквально только что туда человечка отправила – чисто проверить. Но я знаю вот что: может, они и хотели бы напасть, да у них силенок не хватает.
– Почему вы так в этом уверены?
– Нападение на усадьбу Вотрова потребовало от них крайнего напряжения сил. Это не было отвлекающим маневром. По мне, так они от отчаяния туда полезли. Нет, на две подобные операции, да еще одновременные, их не хватит.
– И все равно мы усилим охрану Склада.
– Естественно.
– И внутреннюю, и наружную.
– Э-э-э-э… нет.
Мулагеш откашливается и обтирает рот:
– Внутри Склада никакой охраны у нас нет.
– Вообще нет?
– Вообще нет. Туда никто не заходит.
– Даже патрульные?
– Да я туда никого загнать не смогу, даже приказом. Шара, там жуть. И призраки. Не надо тревожить то, что там… сидит.
– А у вас есть список того, что лежит на Складе?
– Есть, конечно.
– И я не думаю… – медленно выговаривает Шара, – что он хранится в единственном экземпляре, правда? Хотя бы одна копия, да должна быть. Ведь Ефрем выносил список частями для изучения, наверняка у вас есть еще экземпляр – на всякий случай…
– Ну да, у нас их два – экземпляра в смысле. А вы почему спрашиваете?
– Я припоминаю вот что, – так же медленно говорит Шара. – Ирина Торская сказала мне, что она скопировала где-то сто страниц этого списка, прежде чем реставрационисты нашли там нужную вещь.
– И что?
– А то. Нам известно, что их заинтересовало то, что было на последних страницах из этих ста. А когда они нашли, что искали, – что-то, что должно было им помочь, они перестали искать. Это случилось, как считает Ирина, где-то в месяце Тува. Так что нам просто нужно просмотреть те части списка, что он изучал в этот период…
– …и мы поймем, что было нужно реставрационистам! Естественно! Твою мать, блестящая мысль!
– Увы, так мы не слишком сузим область поиска. Будем искать не иголку в стоге сена, а иголку в стоге поменьше. Ирина рассказывала мне о списке – там на каждой странице дюжина предметов перечислена. Так что нам предстоит изучить не несколько тысяч записей, а несколько сотен.
Мулагеш со вздохом опускает голову:
– Несколько сотен…
– Для начала – да, – говорит Шара. – А что до Ирины…
Тут она разворачивается к Сигруду.
– Мы ведем наблюдение, – говорит тот.
– Ты доверяешь людям, которых нанял?
– Я знаю, сколько мы им платим, – говорит он. – Это простая работа, проблем быть не должно. Ее отвели домой, как доложили. И оставили одну. Мы ведем наблюдение за квартирой.
– Ее нельзя упустить. Она может вывести нас на реставрационистов. И мы должны не выпускать Уиклова из поля зрения.
– Мы… – и Сигруд вытаскивает нож из свиной ноги, – ведем наблюдение.
Шара барабанит пальцами по чашке. Как там говорится? Сиди и думай, авось что-нибудь надумаешь.
– Если вы пьете чай только за работой, – говорит Мулагеш, – лучше перейти на кофе. Я так понимаю, что впереди у нас работы – невпроворот. Так вот кофе вставляет больше.
– Кофе освежает тело, – возражает Шара. – Чай освежает душу.
– Так на душе тяжело?
Шара решает промолчать в ответ.
– Вы что, так ничего и не попробуете? – жалобно говорит Питри. – Возьмите хоть кусочек, а то мы сейчас все съедим.
– Нам это все ни в жисть не съесть, – замечает Мулагеш.
– Хм… Нет, – качает головой Шара. В голове у нее плавает туман, в тумане ворочаются мысли…
– А почему? Разве вы не хотите есть?
– Дело не в этом. Просто так вышло, – говорит Шара, наливая себе еще чаю, – что вкус этих блюд слишком напоминает мне о доме. Если я хочу почувствовать на губах вкус родины – пусть это будет чай.
* * *
Деревянный ящик пришелся гробу точно по размеру – практически дюйм в дюйм. Интересно, это что же у них, целая индустрия по изготовлению ящиков для транспортировки гробов? Столько наших людей здесь умирает?
– Заколотить сейчас? – спрашивает бригадир.
Он и трое грузчиков не скрывают своего нетерпения.
– Подождите еще чуть-чуть, – тихо говорит Шара.
И проводит рукой по дереву гроба – лакированная сосна. Большинству сайпурцев не приходится рассчитывать на такое.
– Я бы хотела побыть здесь еще немного.
Бригадир мнется:
– Понимаете… Поезд на Аханастан отходит через час. Если опоздаем…
– …вычтут деньги из причитающейся вам суммы. Да. Я оплачу штраф в случае опоздания. Не волнуйтесь. Еще чуть-чуть. Хорошо?
Бригадир пожимает плечами, делает знак своим людям, и Шара остается одна в переулке за зданием посольства.
Проводы должны быть пышнее. Но обычно все происходит именно так. Оперативник в Джаврате. Бригадир шахтеров, которого они завербовали в Колкастане. Торговец из Жугостана, который ходил от дома к дому и продавал фотоаппараты – ну и делал снимки жильцов, естественно, исключительно для рекламы своей продукции… Никого из них она не проводила в последний путь как подобало. И они до сих пор неприкаянно бродят у нее в голове – как некогда при жизни.
«Если бы я могла поехать с тобой, – говорит она гробу, – чтобы прийти на похороны, – я бы поехала».
И Шара вспоминает их первую встречу в Аханастане, свою радость: надо же, он совсем такой, как она себе представляла! Стильно одетый, с искрящимися умом глазами! После дня занятий он позволил себе восхититься ее начитанностью: «В каком университете вы учились? Простите, но я почему-то не знаком с вашими публикациями…» А когда она сказала ему, что ее не публиковали и никогда не опубликуют и что ее работа по своему характеру весьма и весьма далека от академической, он помолчал, подумал, а потом спросил:
– Простите, но я должен задать этот вопрос. Вы ведь… мгм… вы ведь та самая Ашара Комайд, да? Все как-то тушуются и не хотят говорить правду, но ведь… все из-за той истории, да?
Шара бледно улыбнулась и с неохотой кивнула.
– Гонджеш и Ашадра – ваши родители?
Она внутренне сжалась, но снова кивнула.
Он снова помолчал.
– Понимаете… я их знал. Шапочное знакомство, конечно… Но мы были знакомы. Еще давно, во времена реформ. Вы знали это.
Шара тихонько пискнула:
– Да.
– Они были гораздо более активными участниками движения, чем я. Я довольствовался кабинетной работой, письма писал, статьи. А они – о, они действительно заходили в трущобы, ездили в пораженные чумой края. Разворачивали полевые госпитали, оказывали медицинскую помощь… Думаю, они прекрасно осознавали, что это опасно – чума ведь была такой заразной… но все равно ходили. И ездили. А я… я часто думаю, что я – трус. По сравнению с ними – трус. Ученый, замкнувшийся в башне из слоновой кости.
– Я так не думаю, – быстро ответила Шара.
– Почему?
– Я думаю, что вы… вы изменили историю. Вы изменили историю именно тогда, когда это было нужно.
Он немного посуровел лицом, услышав это:
– Изменил? О нет, госпожа Комайд, я ничего не изменял. Я просто рассказал то, что считал правдой. Я вообще считаю, что историки должны быть хранителями правды. Мы должны рассказывать о событиях все без утайки – честно. Не искажая факты. Это самое большое благо, которое мы можем принести. И, как служащая Министерства, вы должны спросить себя: какая правда вам ближе?
И после этого он как-то отстранился, словно бы учуял, что она – существо с совершенно другими ценностями. И что цели у нее и мировоззрение другие. Что им не по пути, и они не сойдутся во взглядах рано или поздно. И Шара хотела сказать: «Пожалуйста, нет, нет, не отвергайте меня – я такой же историк, как и вы. Я тоже взыскую истины».
Но она не могла это сказать, ибо в сердце своем знала, что это ложь.
Я знавала много людей, обладавших некоторыми привилегиями. И все они, все до единого, старались выжать из них максимум. То же самое можно сказать о воззрениях, политических партиях, финансовой системе, власти – все они основаны на беззастенчивом использовании привилегий.
Государства, на мой взгляд, устроены не для того, чтобы поддерживать привилегии граждан. Наоборот, они суть механизм, их ограничивающий: другими словами – государство решает, кого не стоит приглашать к столу.
К сожалению, люди часто позволяют предрассудкам, обидам и суевериям влиять на решения по ограничению привилегий, в то время как наиболее эффективным было бы принимать их вполне хладнокровно.
Министр иностранных дел Винья Комайд.
Из письма премьер-министру. 1688 г.
Еще одно зимнее утро. Шара открывает дверь и выходит во двор. Охранник, по самые глаза укутанный в меха, оборачивается к ней и докладывает:
– Он у главных ворот, мы не пустили его внутрь, потому что…
– Все в порядке, – говорит Шара.
И идет через двор. Ветви деревьев склоняются под тяжестью наледи, похожей на черное стекло, трещины стен искрятся жемчужно-белым – видно, ночью ударил морозец, иней совсем свежий. Шара держит в руке кружку с кофе, та оставляет в воздухе реку пара, похожую на пенный след корабля. Интересно, что днем все воспринимается совершенно иначе – все такое чистое, холодное и блестящее. Совсем не похоже на вчерашнюю ночь, когда Уиклов гавкал на нее через решетку, подобно сторожевому псу…
Ворота со скрежетом раздвигаются. На подъездной дорожке стоит мальчишка, в высоко поднятой руке его – серебряный поднос. На парнишке ливрея, но, похоже, ему пришлось прогуляться – под носом замерзли сопли. Еще его трясет от холода, поэтому непонятно, улыбается он или просто лицо от озноба перекосило.
– П-посол Тивани?
– Кто вы?
– У м-меня д-для вас… з-записка.
И он протягивает ей серебряный поднос. В центре лежит белая карточка.
Шара подцепляет ее непослушными от мороза пальцами и, щурясь, читает:
ЕГО ЭМИНЕНЦИЯ ВОХАННЕС ВОТРОВ
ОТЕЦ ГОРОДА В СОВЕТЕ 14, 15, 16 СОЗЫВА
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ЧУДЕСНУЮ ВЕЧЕРИНКУ
СЕГОДНЯ
В КЛУБЕ ГОШТО К-СОЛДА В 7.30
БУДЕТ ВЕСЕЛО ПРИХОДИТЕ
Шара сминает карточку.
– Спасибо, – говорит она и отбрасывает комок бумаги.
Надо же, как не везет-то… Ведь она обещала Винье не заглядывать туда. Что же делать…
– Из-звините, госпожа… – мямлит мальчишка. – Извините, что отвлекаю, но м-могу я идти?
Шара окидывает посланца суровым взглядом, затем пихает ему в руку кружку с кофе:
– Держи. Это тебе пригодится больше, чем мне.
Мальчишка плетется прочь. Шара разворачивается и быстро идет к дверям посольства.
На соседней улице заходится в плаче ребенок: дети играли в снежки, и снаряды последнего залпа содержали в себе больше льда, чем снега. Тротуары ощетиниваются негодующе поднятыми пальчиками, звенят сердитые крики: «Это нечестно! Нечестно!»
* * *
Дверь клуба «Гошток-Солда» открывается, и Шара наталкивается на непроницаемую стену дыма. Причем лакеи совершенно ее не замечают и жестами приглашают внутрь, словно бы густая завеса тумана – это именно то, что должен видеть гость. С улицы задувает ветер, раздирает дым на полосы, тот расползается нитями, и Шара наконец может разглядеть подрагивающие огоньки свечей, отблески света на покрытых жиром вилках, хохочущие лица мужчин.
Потом в нос ей бьет застарелая табачная вонь, и она чуть не вылетает обратно на улицу.
Потом глаза привыкают: дым не такой густой, как вначале показалось, но потолка все равно не видно, люстры и лампы, казалось, свисают прямо с небесного свода. Метрдотель сердито, не скрывая удивления, смотрит на нее и просит назвать имя пригласившего лица – действительно, что еще взять с сайпурки, не удостоверение же члена клуба ей предъявлять…
– Вотров, – говорит Шара.
Метрдотель сухо кивает – мол, так я и знал – и приглашает ее внутрь.
Шару ведут через лабиринт приватных кабинетов, барных стоек и ниш с диванчиками, кругом сидят мужчины в костюмах и мантиях, блестят серые зубы, лысины и черные сапоги. В спертом воздухе плавают, как оранжево-красные бабочки, ошметки сигарного пепла. Здесь все пропитано маслом и дымом, дым завивается у подола ее юбки и простуженно сипит: «Это кто еще такая? Что за странное существо проникло сюда? Кто, кто это?..»
Она проходит мимо столиков, и посетители потрясенно замолкают, из ниш с диванами высовываются лысые головы. Ее настороженно изучают. Естественно. Ее присутствие оскорбительно сразу по двум причинам: она женщина и она сайпурка…
Перед ней отдергивают портьеру красного бархата, и Шара оказывается в просторной задней комнате. Во главе стола размером с баржу восседает, развалившись в кресле, Воханнес. Лицо его скрыто огромной, как палатка, газетой, ноги в светло-коричневых (зато грязных) сапогах он водрузил на стол. За ним в очень удобных креслах расположилась сайпурская охрана. Один из телохранителей поднимает взгляд, видит Шару и приветственно машет рукой. И с извиняющимся видом пожимает плечами: мол, это была не наша идея. Газетная палатка над Воханнесом чуть-чуть проседает, из-за листа выглядывает хитрый ярко-голубой глаз, и палатка мгновенно складывается.
Воханнес вскакивает – так быстро, как позволяет больное бедро, – и отвешивает поклон:
– Госпожа Тивани!
Из него бы хороший распорядитель на танцах получился. Шут гороховый.
– И двух дней не прошло с нашей прошлой встречи, – замечает Шара. – Так что обойдемся без приветственных церемоний.
– О нет! Напротив! Мы никак не можем без них обойтись! Подумать только, ведь я встречаюсь с… как там в пословице? Враг моего врага – мой…
– Во, ты о чем, вообще? Ты принес то, о чем я просила?
– А как же. И я прекрасно провел время, пытаясь заполучить эту штуку. Но сначала…
Воханнес дважды хлопает в ладоши. На его перчатках белого бархата пятна типографской краски.
– Сэр, не будете ли вы так добры принести нам две бутылки белого сливового вина и поднос улиток?
Официант кланяется, как игрушка на пружинке:
– Безусловно.
– Улитки?.. – тихо ужасается Шара.
– А вы, джентльмены, – тут Воханнес оборачивается к сайпурской охране, – не желаете ли отведать прохладительных напитков?
Один из телохранителей открывает рот, чтобы ответить, смотрит на Шару и закрывает рот. И отрицательно мотает головой.
– Как угодно. Прошу.
И Воханнес картинным жестом указывает на кресло рядом с собой:
– Присаживайтесь. Я несказанно рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Вы ведь очень занятая женщина.
– Интересное ты выбрал место для встречи. Полагаю, прокаженного здесь бы встретили сердечнее…
– Ах, я подумал, что если могу приехать к вам на работу, то и вы вполне можете наведаться ко мне. И хотя это славное заведение внешне выглядит как развратный притон старых ретроградов, пардон консерваторов, сударыня Тивани, уверяю вас: именно здесь бьется живое сердце мирградской торговли. Если бы вы могли видеть финансовые потоки как золотые реки, текущие над нашими головами – да, прямо тут, среди всего этого дыма и пошлых шуток, над этими лысыми головами и мясной похлебкой, – именно здесь золотая река заворачивается в самый глубокий, тугой и не поддающийся пальцам узел. Я приглашаю вас осмотреть раздолбанную, заляпанную по самые мачты дерьмом посудину, что несет знамя мирградской торговли прямо в море процветания и успеха.
– Возможно, я ошибаюсь, но… – щурится Шара, – …мне кажется, что тебе здесь не очень-то нравится… вершить важные дела, пардон работать.
– У меня нет выбора, – отвечает Воханнес. – Нужно принимать жизнь такой, какая она есть. Может показаться, что это одно здание, но на самом деле их несколько. Всякий дом в Мирграде есть дом разделенный, а этот дом в особенности, мой боевой топорик, – он просто на ленты порван. Каждый стол с диванчиками помечен особым цветом, и это цвета соперничающих партий. На этих половицах можно было бы мелом расчертить барьеры, разделяющие некоторых членов клуба. Впрочем, половицы слишком рассохлись, ничего не выйдет. А в последнее время этот клуб – так же, как и весь город, – разделился на две главные партии. Мою и… ну…
И он бросает ей на колени газету. На странице обведена крохотная заметка: «Уиклов бросает вызов посольству».
– Ты привлекла внимание щелкоперов, моя дорогая, – замечает Воханнес.
Шара проглядывает статейку:
– Да, – кивает она. – Мне об этом доложили. А тебе что за дело?
– Дорогая, я размышлял над тем, как протянуть тебе руку помощи.
– С ума сойти…
– А с Уикловым я могу тебе очень помочь.
Из клубов дыма материализуется официант с бутылкой белого сливового вина. Он с поклоном демонстрирует бутылку Воханнесу. Тот оглядывает этикетку, кивает и лениво протягивает руку, в которой мгновенно возникает наполненный до краев хрустальный бокал. Официант с сомнением переводит взгляд с него на Шару и обратно, словно бы спрашивая: серьезно? Вы действительно хотите, чтобы я и ее обслужил? Воханнес гневно кивает, и сердитый официант совершает перед ней ту же церемонию, правда в несколько облегченной версии.
– Бесстыжий говнюк, – резюмирует Воханнес, когда официант удаляется. – И часто здесь с тобой так обходятся?
– Во, что конкретно ты предлагаешь?
– Что конкретно я предлагаю? Я очень конкретно предлагаю кое-какие материалы на Уиклова. Причем я готов сделать это по доброте душевной. С условием, конечно, что вы закопаете толстого ублюдка.
Шара потягивает вино, но ничего не отвечает. Она смотрит на стоящий рядом с креслом Воханнеса чемодан. Такой же белый, бархатный и дурацкий, как его перчатки. Во имя всех морей, неужели я доверила оперативное задание клоуну? И тут она видит второй чемодан, с другой стороны кресла. Интересно, там тоже содержимое ячейки? Сколько же там всего вещей лежало?
– Ну и что же это за материалы на Уиклова?
– Ах, а вот с этим все не так-то просто… Я, видишь ли, не из тех, кто любит все эти грязные, я бы даже сказал – подлые, политические игры и махинации. Несмотря на то что происходит, хм, сейчас. Это не в моем стиле. Ведь я… – тут он изящно помахивает тонким пальцем, подыскивая выражение, – …неисправимый идеалист. Я пользуюсь такой популярностью именно потому, что никогда не пачкаю рук.
– А теперь ты хочешь их немножко запачкать.
– Если этот засиженный навозными мухами кусок помета и впрямь связан с людьми, которые напали на нас и убили Панъюя, я, признаться честно, не слишком опечалюсь, если его уберут с политической арены. Сам я не могу вонзить ему в спину нож, но могу передать кинжал кому-нибудь более умелому…
В комнату, рассекая смрадную завесу тумана, влетает официант с огромным плоским камнем с дырочками. Поверхность камня залита маслом, а в дырочках торчат какие-то бежевые пуговки.
– Что ты хочешь этим сказать, Во? – в очередной раз задает она уточняющий вопрос.
Воханнес принюхивается и берется за вилочку величиной с иголку.
– У меня есть друг, который подвизается в торговом доме Уиклова. Да, так Уиклов и составил состояние – он, видишь ли, один из немногих ветеранов старой гвардии, кто снисходит до торговли. Он зарабатывал на… картошке. Что ж, ему подходит. Возиться с чем-то, что растет в грязи и темноте…
Он подцепляет вилочкой улитку, кладет ее в рот и стонет:
– Го…ря…чаяяяя… Ммм…
И быстренько зажимает крохотный комок улиточьей плоти между зубами, выдыхает и проглатывает его.
– Очень горячие. Так вот. Я убедил этого человека из торгового дома Уиклова посмотреть, куда инвестировал и что покупал Уиклов в течение прошлого года.
И он торжествующе улыбается и похлопывает по второму чемодану, что стоит рядом с креслом.
– Уверен, дело нечисто. Наверняка ничего непристойного – даже жаль. Но колкастани родился – колкастани и помрешь, а Уиклов просто образцовый колкастани. Но какая-то грязючка там имеется. И мне бы очень хотелось, чтобы вы ее увидели.
Шара задает прямой вопрос:
– Он финансирует реставрационистов?
– Я просмотрел документы, но, увы, вынужден признать: такого не заметил. К сожалению. Хотя есть там некая странность…
– Какая?
– Ковроткачество.
– Что? Подожди, ты о чем?
– О ковроткачестве, – бестрепетно повторяет Воханнес. – Видишь ли, Уиклов выкупил, прямо на корню, три ткацкие фабрики в пригородах. Ну ты знаешь, здоровенные такие мануфактуры, на таких ковры производят…
– Я понимаю, о чем речь.
– Так вот. Он их выкупил. Причем за большие деньги. И даже названия не сменил.
– И ты думаешь, не сменил, потому что не хочет, чтобы о покупке прознали? – спрашивает Шара.
– Именно. Но я нюхом чую: что-то тут не так. Что-то там такое еще есть, просто я не вижу этого чего-то. Но, с другой стороны, за мной и не стоят спецслужбы целой супердержавы.
Шара глубоко задумывается.
– Он купил эти ткацкие фабрики в месяц Тува? Позже?
– Хм… Я не помню всех деталей с точностью, но… думаю, что позже.
А вот это интересно.
– Насколько ты доверяешь своему информатору?
– Полностью.
– Почему?
Воханнес колеблется. Потом говорит:
– Я знаю его. Он мой… близкий друг, – медленно выговаривает он. – Этого должно быть достаточно.
Шара хочет расспросить подробнее, но вдруг понимает, о чем идет речь. Она смущенно покашливает и говорит:
– Понятно.
И смотрит на Воханнеса. Тот потягивает вино, видно, что ему не по себе: он бледен, лоб весь в испарине. И вдруг он кажется ей сморщенным и мягким, тонким, как искусно вытканный лен.
– Послушай, Во. Я… я сейчас скажу тебе кое-что… и я нечасто говорю это добровольным информаторам, чтоб ты знал.
– И что это будет?
– Я хочу дать тебе возможность забрать назад свое предложение.
– Чтоооо?..
– Я хочу дать тебе возможность передумать, – отвечает Шара. – Потому что, если ты снова предложишь мне эти бумаги, я возьму их в оборот, это точно. С моей стороны было бы непростительным промахом не воспользоваться таким шансом. И если кто-то спросит, откуда я получила эти материалы – а они спросят, в этом сомневаться не приходится, – мне придется все рассказать. Я не могу с уверенностью прогнозировать, что за этим последует, но, когда разбирательство по делу завершится, есть полновесный шанс, что когда-нибудь в будущем в Сайпуре, в очень публичном месте, например в суде или на каком-нибудь заседании, кто-нибудь засвидетельствует, что Воханнес Вотров, Отец Города Мирграда, предоставил сайпурскому правительству ценные материалы, полностью отдавая себе отчет в том, что эти документы приведут к осуждению другого Отца Города. А подобные вещи… они не остаются без ответа, Во.
Воханнес молча созерцает медленный вальс свечного огонька.
– Я через это уже проходила, – говорит Шара. – Мне приходилось терять информаторов – именно после таких заявлений. Я использую людей, Во. Это моя работа. Это не слишком чистоплотно. У нашей деятельности есть… последствия. И… И если ты снова предложишь мне взять эти документы, я возьму их, потому что это мой долг. Но я все равно хочу, чтобы ты хорошенько подумал, прежде чем передал мне этот чемодан.
Воханнес поднимает на нее ярко-голубые глаза. А ведь они у него, наверное, и во младенчестве такие были… ничего не поменялось.
– Переходи ко мне. Работай на меня, – вдруг предлагает он.
– Что?!
– Тебе не нравится твоя работа.
И он вонзает вилку в улитку и дует на нее. На скатерть дождем сыплются масляные капли.
– Переходи ко мне. Вот это будет поворот. Мы ведь не старая гвардия. На меня такие не работают. У нас огромные планы на будущее. Мы новаторы. А еще… я в состоянии предложить тебе зарплату поистине немыслимых размеров.
Шара ошалело таращится на него, не веря собственным ушам:
– Ты шутишь.
– Я абсолютно серьезен. Серьезен, как сама смерть.
– Я… Во, я не буду на тебя работать, ты что!
– Адский ад, ну тогда… становись во главе компании.
Он делает еще один шумный глоток, заедает вино улиткой.
– Для меня это все – лишняя головная боль. Управлять компаниями, вкладывать деньги – ну его, не люблю. А я буду свадебным генералом. Пусть меня изберут Отцом Города, и буду я… ну не знаю… приветственно рукой махать на торжественных заседаниях и парадах.
Шара начинает хохотать. Потом закрывает лицо ладонями.
– А что ты смеешься? – Он все еще пытается сохранять серьезную мину, но улыбка выдает его. – Ну вот что? Я серьезно с тобой разговариваю. Будь со мной.
Улыбка изглаживается с его лица:
– Давай жить вместе.
Шара тоже перестает смеяться. Поморщившись, она ворчит:
– Ох, Во. Ну зачем…
– Что зачем?
– Зачем ты это сейчас сказал?
– Я имел в виду… Ох, да ладно тебе! Я предлагаю тебе жизнь здесь, в Мирграде!
– Да? Что-то непохоже. И потом… именно это ты мне и предложил, когда закончил академию.
Воханнес робко оглядывается на сайпурских телохранителей:
– Джентльмены, не могли бы вы… мгм… оставить нас с дамой наедине? Ненадолго?
Телохранители пожимают плечами и выходят. И встают у двери в комнату.
– Что-то все наперекосяк идет… Шара, я совсем не это имел в виду, – говорит Воханнес.
И горько смеется.
– Так зачем ты меня сюда пригласил? Чтобы сделать предложение за ужином в дорогом ресторане?
– Это не дорогой ресторан, тут табачищем воняет…
Повисает молчание. В соседней комнате кто-то раскатисто смеется, смех переходит в эмфизематозный кашель.
– Хочешь вернуть меня? Это не принесет нам счастья, – говорит Шара.
Воханнес обиженно откидывается в кресле. И принимается изучать содержимое своего бокала.
– Я не та, что раньше, – говорит она. – И ты тоже стал другим.
– Все это так… неловко… – мрачно бормочет он.
– Во, ты помолвлен! Забыл?
– Ах да, конечно.
И он поднимает руки в беспомощном жесте: мол, ну и что? Что это за помолвка такая?
– Мы хорошо смотримся вместе, не отрицаю. Кутим вовсю. Газетчики вокруг нас так и вьются…
– Но ты ее не любишь?
– Кому-то непременно нужна любовь. Кому-то нет. Это как при покупке дома: вам нужен камин в главном зале? Окна в спальне? Любовь? Так вот, для меня любовь – это опция. Могу обойтись и без нее.
– Я не верю.
– А что, по-твоему, у меня есть выбор? – рычит он. – Ты… ты этих мужланов видела? За столиками? Ты представляешь, что они сделают…
Он с трудом берет себя в руки.
– Моя жизнь грязнее, чем ты думаешь, Шара.
– Ты вообще не представляешь, что такое настоящая грязь, Во.
– Ты меня вообще не знаешь.
Он поднимает на нее пристальный взгляд. Щеки его дрожат. В уголке правого глаза набухает слеза.
– Я могу сдать тебе Уиклова с потрохами. Он заслужил. Забирайте его. Размажьте его по стенке.
– Мне очень жаль, что ты с таким удовольствием преследуешь колкастани.
Он злобно хохочет:
– А что, они этого не заслужили? В смысле моя собственная семья, чтоб их всех разразило… Давай, расскажи мне о преследованиях! Да эти фанатики столетиями только и делали, что преследовали несогласных! Даже без своего проклятого… – тут он осторожно оглядывается по сторонам и шепотом заканчивает фразу: – …Бога.
– Но они твои соотечественники! Ведь именно им ты так хочешь помочь? Во, скажи честно, ты хочешь реформ? Или ты хочешь спалить Мирград дотла?
Воханнес потрясенно молчит.
– Твоя семья была из колкастани? – тихо спрашивает Шара.
Он кивает.
– Ты мне не говорил.
Снова он бледнеет, кожа на глазах становится тонкой и прозрачной. Воханнес морщит лоб, обдумывая ответ:
– Да. Не говорил. Я не думал, что про это нужно специально говорить – в то время в Мирграде все чуть ли не поголовно были колкастани. Ну и до сих пор – тоже все колкастани. Да что там, почти все население Континента – колкастани. Они привыкли жить без Божества. После вторжения каджа и Войны для них жизнь почти не изменилась, так что они сумели адаптироваться лучше прочих…
И он выливает остатки вина в бокал. Одно из колец нежно позванивает о хрустальную кромку. Из бутылки падают последние капли.
– Мой отец… он был богатым колкастани. А богатые колкастани – они самые страшные. Колкастани считают, что человеку много за что положено стыдиться с самого рождения. На самом деле, человек рождается в нечестии и стыде – так они считают. А богатые к перечню грехов добавляют бедность. Ведь человек рождается бедным, правда? Какое безобразие… Отец был строг с нами. Провинившись, мы шли и срезали прут… – тут он показывает указательный палец: – …Вот такой толщины. И он нас стегал. Если мы срезали слишком тонкую розгу, он шел за другой – уже по своему вкусу. Он был прижимист, но розог – о, розог он для нас не жалел…
Воханнес снова булькает вином.
– Брат его очень любил. Думаю, отец его тоже любил. Взаимное такое, мгм, чувство. Может, потому, что Волька был старше, – отец терпеть не мог детей, ведь они ведут себя не как разумные взрослые, а это безобразие. А когда отец умер… брат не простил. Никого и ничего. Он возненавидел весь мир. В особенности Сайпур – ведь мы, континентцы, считали, что Чума – сайпурское изобретение. Когда ему исполнилось пятнадцать, он заделался кем-то вроде монаха и присоединился к группе паломников: они отправились в экспедицию на крайний север, во льды, чтобы отыскать какой-то храм, чтоб ему провалиться… Бросил меня на нянек и служанок. Мне было девять. И не вернулся. Годы спустя я узнал, что они все там погибли, вся экспедиция. Замерзли насмерть. Сидели там и ждали чуда… – Воханнес поднимает к губам бокал, – …а чуда не случилось. И да, я, пожалуй, желаю разорить Уиклова. Он – препятствие на пути Континента к светлому будущему. Потому что с такими людьми никакого светлого будущего у нас не будет – только мертвое, пыльное, скучное прошлое. Так или иначе, если вы его уделаете, я плакать не стану.
Шара зажмуривается. «Я распространяю порок, – думает она, – как инфекцию. Никто не может устоять».
– Если ты предложишь мне эти документы, мне придется их взять.
– Бери их, Шара. Ты же этим на жизнь зарабатываешь? Вот возьми и размажь его.
Шара открывает глаза:
– Хорошо. Я возьму бумаги. Я так понимаю, содержимое ячейки – в другом чемодане?
– Ты правильно понимаешь.
Он подхватывает баул, шлепает на стол и тянется к замкам.
– Нет, – быстро говорит Шара. – не надо.
– Но почему?
– Я… к сожалению, мне пришлось кое-что пообещать.
А тетушка Винья очень хорошо помнит, кто и что ей пообещал. И тех, кто не сдержал слова, она тоже очень хорошо помнит.
А что, если… если взять не послушаться приказа тетки. И поднять крышку чемодана. Впрочем, тогда под ее ногами разверзнется натуральный ад. Тетушка Винья зря угрозами не разбрасывается. Что ж, оставим это на крайний случай. Интересно, дураки именно так себя ведут в ситуации, когда выбора нет?
– Ты можешь просто передать мне чемодан. Министерство выплатит тебе щедрое вознаграждение.
– Ты хочешь, чтобы я отдал тебе это вместе с чемоданом? – Воханнес даже рот раскрыл от удивления. – Но это очень дорогой чемодан! Он стоит бешеных денег!
– Сколько?
– Понятия не имею, я же его не покупал, у меня этим специально обученные люди занимаются…
Он что-то ворчит под нос и оглядывает чемоданы:
– Нет, ну точно, бешеные деньги…
– Вышли нам счет, и мы компенсируем их стоимость.
И Шара стаскивает чемодан со стола. Он не слишком тяжелый. Она лихорадочно перебирает варианты: там бумаги? Книги? Или даже… артефакт? Затем она берет у Во второй чемодан. И стоит перед ним – в каждой руке по чемодану. Ситуация идиотская, вид дурацкий – словно бы она в отпуск на пляж собралась.
– Почему так получается, – говорит Воханнес, провожая ее до двери, – что, когда мы заканчиваем дело, всегда остается такое чувство, что и ты, и я остались внакладе?
– Это потому, Во, что дела у нас неправильные. Нехорошие дела.
* * *
Она выходит из клуба, и в легкие врывается свежий воздух – прямо как из-под воды вынырнула… Одежду придется выкинуть – она безнадежно пропахла табачищем.
– Ах… – слышится голосок. – Это вы, госпожа Тивани?
Шара поднимает взгляд, и сердце ее обрывается. На заднем сиденье длинного дорогого авто сидит Ивонна Стройкова. Бледная как снег, с ярко накрашенными губами – совершенно прозрачная и бесцветная, даже прозрачнее, чем тогда на приеме. Из-под меховой шапки на лоб спадает тщательно подвитая черная прядь, Ивонна заправляет ее за ухо. Она изо всех сил старается не показать виду, но ничего не получается: Ивонна шокирована тем, что видит.
– Ах, – говорит Шара. – Здравствуйте, госпожа Стройкова.
Темные глаза Ивонны скользят по дверям клуба – девушка не скрывает горечи.
– Вот, значит, как. Это с вами он сегодня встречался.
– Да.
Так, надо быстро что-то придумать.
– Он представил меня кое-кому.
Шара медленно подходит к окну машины.
– У него много планов относительно сотрудничества с Сайпуром. Такие знакомства весьма полезны для дела.
Хорошая версия: правды в ней где-то одна шестая, зато звучит убедительно.
– В этом клубе?.. Здесь же собирается исключительно старая гвардия…
– Полагаю, времена меняются, или как там говорится в пословице…
Ивонна смотрит на белые чемоданы и кивает. Судя по ее виду, она не верит ни единому слову.
– Вы же были знакомы прежде, не правда ли?
Шара, после некоторой паузы, отвечает:
– Нет. Нет, мы не были знакомы.
– Хм. Могу я попросить вас кое о чем, госпожа Тивани?
– Конечно.
– Прошу вас… относитесь к нему бережно.
– Простите?
– Бравада, хвастовство – это все напускное. На самом деле он очень ранимый.
– Что именно вы…
– Он ведь сказал вам, что сломал бедро, когда упал с лестницы?
Ивонна качает головой:
– На самом деле это случилось в клубе. Но не в таком, как этот. В том клубе мужчины тоже встречаются с мужчинами… можно и так сказать. Но на этом сходство оканчивается.
Шара чувствует, как бешено колотится сердце. Ведь она знала, знала. Так почему же это ее так удивляет?
– В ту ночь полиция устроила облаву, – говорит Ивонна. – Как вы, наверное, знаете, в Мирграде до сих пор очень сильны традиции колкастани. Подобные… отношения… они под строжайшим запретом. В ту ночь схватили много людей и обошлись с ними самым жестоким образом. Он чуть не умер. Переломы бедра очень плохо срастаются… – Ивонна горько улыбается. – Но он не извлек из этого никакого урока. И пошел в политику. Он хотел перемен. В конце концов, именно Эрнст Уиклов приказал полиции устроить эту облаву.
Из клуба вываливается толпа пьяных мужчин. Они громко хохочут, вокруг их воротников увивается, как нежная любовница, дым.
– Почему вы встречаетесь с ним? – спрашивает Шара.
– Потому что я его люблю, – отвечает Ивонна. И грустно вздыхает. – Я люблю его таким, какой он есть. Мне нравятся его замыслы. И я хочу уберечь его от беды. Надеюсь, таково же и ваше желание…
Белая длинная машина Ивонны вспыхивает в свете фар – это подъехал Питри, Шара слышит, как он окликает ее из посольского авто. Открывается дверь клуба, в проеме возникает Воханнес. Белый мех шубы блестит в свете фонарей.
Ивонна улыбается:
– Прощайте, госпожа Тивани. Хорошего вам вечера.
* * *
Шара до сих пор помнит этот день. Случилось все ближе к концу второго триместра, на второй год их обучения в Фадури. Она шла вверх по лестнице, а мимо нее вниз по ступенькам скатился Рушни Сидтури. Она поздоровалась, а вот Рушни, весь потный и встрепанный, ничего не ответил. А когда она вошла к Во, она увидела его сидящим в кресле возле стола, без рубашки. Ноги он закинул на подоконник, руки заложил за голову. И в голове ее прозвучал тревожный звоночек – ведь он сидел так только после того, как занимался любовью.
Они говорили – о чем-то совершенно невинном, – а она бочком придвинулась к кровати. И пощупала простыни.
Простыни были влажные. А в одном месте – как раз там, где положено находиться бедрам и спине, если лежать на кровати, – и вовсе мокрые.
И юный Рушни так спешил, так спешил – прямо как на пожаре…
Тогда Шара не стала выяснять отношения. Она решила присмотреться к тому, что происходит. («На самом деле, – гораздо позже думала она, – именно так я себя всегда и вела. Я не вмешивалась даже в собственную жизнь. А только смотрела и выжидала. И действовала из-за кулис».) И она стала замечать, как много времени Во проводит в компании молодых людей. Как их обнимает. Стала замечать, как он на них смотрит, как он сразу расслабляется и мягчеет рядом с ними…
Интересно, а он все это понимает? Так она тогда думала. А она – ей-то что делать?
И однажды Шара не выдержала и тихо зашла в его комнаты, когда он и – надо же, она даже не помнила имя этого парнишки, Рой его звали, что ли, – нежно и медленно занимались друг другом в той самой постели, где Во шептал ей на ухо, как сильно он ее любит. Буквально два дня назад.
Стоило увидеть их лица, когда она подошла и осторожно покашляла. Мальчишка рванул прочь сразу. Во орал как резаный, костеря ее на чем свет стоит. А она стояла и молчала.
Он очень хотел, чтобы она наорала на него в ответ. Шара это прекрасно понимала. Но не захотела делать ему такой подарок. Это была не ссора. Она вообще не имела никакого отношения к тому, что он совершил. Это было предательство. Чистой воды.
А самое ужасное – этот мальчишка очень походил на нее. У Шары никогда не было – ни тогда, ни потом – этих типично женских округлостей: по сути, у нее было тело мальчика – сплошные плечи и никаких бедер. И никакой груди, естественно. «Неужели я была лишь дешевым заменителем? – думала она потом. – Чем не способ заниматься запретной любовью, не совершая ничего запретного?» И даже так она все равно не могла заменить настоящее – чего-то в ней, знать, не хватало.
Он умолял ее сказать хоть слово. Ответить. Крикнуть в ответ. Она молчала. Она вышла из его комнат – и из его жизни. На все оставшееся время их учебы.
(Она, кстати, до сих пор с гордостью вспоминает об этом эпизоде: вот ведь, смолчала. Сумела. Стояла гордая и неприступная. А еще ей было до сих пор стыдно: это что же, она так расклеилась и так струсила, что даже наорать в ответ не сумела?..)
И Шара набросилась на учебу – как же, настоящий патриот обязан отлично успевать по всем предметам… Он пришел к ней уже после окончания курса, после выпускного, когда собрал вещи и готовился сесть на поезд, отходящий в порт. Оттуда ему предстояло отплыть на Континент. Он умолял ее поехать вместе с ним, умолял помочь стать тем, кем он всегда хотел стать. Он пытался подкупить ее, рассказывал дурацкие сказки про то, как в Мирграде она станет настоящей принцессой, буде на то ее воля. А Шара, вся такая холодная – как лед, как сталь холодная, – взяла и ударила побольнее. Бросила ему в лицо: «Милый мой мальчик, тебе не принцесса нужна, а принц. Правда ведь? Но на родине, вот незадача, у тебя с этим не срастется – камнями забьют». И захлопнула дверь у него перед носом.
«Когда-нибудь, – сказала ей тетушка Винья, – ты все узнаешь. И все поймешь. Ничего, поболит – и перестанет. Все будет хорошо».
Тетушка Винья оказалась неправа. Она редко ошибалась, но в тот раз ошиблась прямо-таки чудовищно. Увы.
Я взошел на холмы близ Жугостана, и душу мою охватил страх. В небе висела желто-бурая луна, похожая на пятно от чая. А холмы стояли белые и нагие, и низкие деревца тянули ко мне кривые ветви. Кругом кочки, идти трудно, приходилось спускаться в долины, где я терялся в глухой тьме. Или мне так казалось…
А иногда я видел костры, и отблески пламени плясали на искривленных стволах. Из тьмы доносились крики – животных или людей, притворяющихся животными. Или животных, притворяющихся людьми. А еще я слышал голоса: «Идем с нами, – шептали они. – Станцуй с нами!»
«Нет, – отвечал я. – У меня важное поручение. На плечах моих – Бремя. Я должен вручить Бремя самому Жугову, и никому другому». А они хохотали.
Как же я хотел вернуться обратно в Таалвастан! Как хотел вернуться домой! Я безмерно жалел о том, что согласился взять это Бремя от Святого Трифона. И все же меня разбирало любопытство, не знаю, почему: то ли из-за этих голосов на ветру, или смешков из шелестящей чащи, или света желтой луны… Жугостан казался мне местом сокрытым, полным непреходящей тайны, и в глубине души я желал увидеть и разглядеть больше.
Я повернул и оказался в долине, полной крохотных хижин из звериных шкур. В центре пылал огромный костер. Вокруг пламени плясали, вопя и распевая песни, люди. Я прижался к стволу дерева и в ужасе смотрел, как люди валились наземь и лихорадочно совокуплялись.
И тут я услышал шаги за спиной. Я обернулся и увидел, что на тропе стоит старец в царских одеждах. Волосы его были заплетены и уложены в высокую прическу, как у добропорядочных таалвастани.
Он извинился за то, что нечаянно испугал меня. Я спросил его, по какому делу он прибыл сюда, и он ответил, что прибыл с торговым поручением из Мирграда. Он же подумал, что я пришел сюда с тем же, ибо видел мое Бремя.
– Сущие дикари, не правда ли? – сказал он.
Я же ответил, что не понимаю, как люди могут вести подобную жизнь.
– Они полагают себя свободными, – сказал он. – Но истина в том, что они порабощены собственными желаниями.
И он сказал мне, что разбил неподалеку палатку, в месте укромном и скрытом, и предложил мне кров и ночлег в этом странном месте. И он казался добрым и участливым, и я поверил ему, и пошел за ним мимо скрюченных стволов.
А он шел и вдруг сказал:
– Иногда я очень хочу вернуть молодость! Ибо я стар, и плоть моя немощна, но самое главное – довлеет надо мной знание, полученное за годы жизни. А ведь иногда так хочется сбросить его оковы и бремя и быть таким же молодым и страстным!
Я же сказал ему, что он должен гордиться собой, ибо дожил до преклонных годов, не уступив нечестивым желаниям.
– Ты удивил меня, – сказал он. – Ты молод, неужели запретные и разнузданные удовольствия не влекут тебя?
Я же ответил, что подобное отвращает меня, – но в сердце знал, что солгал.
– А ты никогда не думал, что потакание своим желаниям делает тебя чуточку свободнее?
И тут меня прошиб пот. Бремя мое тяжким грузом свисало с шеи. И я сказал, что иногда мысли мои уводили меня на запретный путь безрассудства. И сегодня ночью мне их особенно трудно обуздать.
А он резко свернул в густой чаще, и я не мог более видеть его, но следовал за его голосом.
– Жугостан – в каком-то смысле запретный город, – говорил голос из тьмы. – Ты знал об этом?
Я увидел у себя под ногами одежды старца – похоже, он сбросил их на ходу.
С крон деревьев сорвалась в ночное небо стая скворцов.
– Он не стоит на месте, – говорил голос. – Он пляшет среди холмов.
И я прошел мимо дерева и увидел, что с ветки свисает парик – заплетенные волосы старца.
– Он является там, где его не ждут, – сказал голос.
И я увидел куст, а на его ветвях – обрывок ткани. Но нет, то была не ткань, а маска – маска старца.
И из-за деревьев до меня донеслось:
– Прямо как сам Жугов.
И я вышел на поляну и увидел длинный низкий шатер из звериных шкур. И на каждой ветке сидело по маленькому скворцу, и все они смотрели на меня темными холодными глазами.
И я видел, что следы ведут ко входу в шатер. И пошел по следам и встал у входа.
– Войди, – шепнул мне голос, и я услышал в нем ликование, – и сложи свое Бремя.
Я стоял и не знал, как быть. И заговорило во мне искушение. И я прислушался к его голосу.
Под взглядами скворцов я сбросил одежды и отвязал сандалии. Я стоял нагой под ночным ветром и дрожал. А потом я вошел в шатер.
Так я познал Жугова, Небесного Плясуна, Торговца Лицами, Владыку Песен, Пастуха Скворцов. И, прежде чем он дотронулся до меня, я уже знал, что люблю его.
Мемуары Святого Киврея, священника и 78-го женомужа Жугова, ок. 982 г.
Выжившие
Мулагеш бежит.
Она бежит через замерзшие холмы, по грязным тропинкам, мимо мокрых рощиц. Она бежит, не давая себе роздыху, пока легкие не обжигает дыхание, а ноги не перестают слушаться.
Ей сорок восемь, и скоро подобные пробежки станут ей не по силам. Так что лучше поотдуваться сейчас, пока получается. Ей нравится бег: это самое настоящее боевое искусство, только противник в нем ты сам. И победить его становится с каждым шагом все труднее. Она так давно ни с кем не дралась (фингал под глазом, кстати, до сих пор беспокоит на пробежке), что это, пожалуй, единственный из доступных ей сейчас поединков.
Со времени их последней встречи с Шарой Комайд прошла почти неделя, но Мулагеш все думает и думает о том, что сказала ей «культурный посол». Во имя всех морей, хоть бы эта девочка ошиблась. Мысль высасывает из нее силы, и каждый новой подъем дается ей труднее предыдущего, но Мулагеш все думает и думает.
О том, что один из богов – жив. А может, они вообще никуда не делись, а так и жили здесь все время!
Мулагеш, как каждый военный – да что там, каждый сайпурец, – в детстве мечтала быть как кадж. И вот сейчас ее мечта готова сбыться – и что же, одна мысль об этом приводит ее в ужас! Каждый сайпурский ребенок вырос в тени общего кошмара: Божества, огромные неясные сущности, подобно гигантским рыбам ворочающиеся в глубинах истории… Шара рассказывает о них, словно они политики или генералы, но для Мулагеш и остальных сайпурцев они – бука, мрак и ужас, чудища, которых даже называть по имени нельзя, мало ли что…
«Как бы я хотела оказаться на обычной войне, – думает она. – Окопы, арбалетные болты, обычные солдаты. Люди, у которых из ран идет обычная кровь». Мулагеш прошла через кампанию Лета Черных Рек – да уж, это натуральная ирония судьбы – желать, чтобы вернулись жуткие дни грязи, гроз и ночных нападений. Для сайпурцев это была короткая победоносная война, а вот Мулагеш искренне надеялась, что никогда больше такого не увидит.
И все равно! Это лучше, чем то, во что она вляпалась сейчас!
А еще эта девчонка так уверена в себе. Она что, все это в умных книжках вычитала? Или у каджа все потомки такие, нам, простым смертным, не понять?
А еще Мулагеш помнит, как день спустя юная Шара Комайд дрожала под ее одеялом, пытаясь удержать в руках чашку чая…
Во имя всех морей – пусть она ошибается, а?
Мулагеш вбегает в штаб-квартиру и обнаруживает на столе стопку бумаг. На стуле лежит записка, оставленная адъютантом:
«Проверили все записи. Вот страницы, что в прошлом месяце выносили наружу. Долго же мы рылись, дайте ребятам отгул, что ли. Вы, конечно, начальство, но мое дело предложить».
Она просматривает бумаги: это двадцать страниц из реестра предметов, хранящихся на Запретном Складе.
Мулагеш никогда не заглядывала в этот список – не хотела. А теперь волей-неволей она читает записи, сделанные десятилетия назад сайпурскими солдатами, которые привезли все эти штуки на Склад и заперли их там на веки вечные. Они уже наверняка умерли, эти люди, что давным-давно написали:
368. Полка С5–158. Стекло Киврея: небольшая мраморная бусина, в которой, как считается, заключено спящее тело Святого Киврея, жугостанского священника, который каждую ночь менял пол (одно из чудес Жугова). Чудесная природа не подтверждена.
369. Полка С5–159. Железный ключик: точное имя неизвестно, но с его помощью любая дверь может открыться (а может и не открыться) в тропический лес. Механизм работы не выяснен. Сохраняет чудесные свойства.
370. Полка С5–160. Бюст Аханас: некогда источал слезы, обладающие целительными свойствами. Те, кто ими воспользовался, также могли левитировать. Чудесные свойства утрачены.
371. Полка С5–161. Девять каменных чаш: если их поставить на солнце, каждое утро они будут наполняться козьим молоком. Чудесные свойства утрачены.
372. Полка С5–162. Ухо Жугова: покрытый резьбой каменный дверной проем, в котором нет двери. Укреплен на железных колесиках. Считается, что у него есть проем-близнец, и вне зависимости от того, где находится другое Ухо, и при условии соблюдения правил использования, можно войти в одну дверь и выйти из другой. Мы полагаем, что проем-близнец уничтожен. Чудесные свойства утрачены.
373. Полка С5–163. Эдикты Колкана, книги с 783 по 797: пятнадцать томов, в которых излагаются взгляды Колкана на танцы. Суммарный вес: 378 фунтов. Чудесных свойств не имеют, но содержание представляет большую опасность для населения.
374. Полка С5–164. Стеклянный шар. В нем находились маленький пруд и нависшее над водой дерево, Аханас удалялась туда, когда находилась в расстроенных чувствах. Чудесные свойства утрачены.
И так далее и тому подобное на двадцати страницах. Больше двухсот предметов, обладающих чудесными свойствами. Многие чудовищно опасны до сих пор.
– Ох ты ж мама дорогая… – бормочет Мулагеш.
И падает на стул, неожиданно почувствовав себя старой развалиной.
* * *
В сумке у Шары звякает и брякает, звенит и бабахается. С грохотом и звоном она заходит в переулок. Сумку она собирала почти до вечера, складывая туда кусочки серебра, жемчужины, пакеты с лепестками маргариток, стеклянные трубки и колбочки. И хотя она все как следует сложила и упаковала, звук от нее – как от человека-оркестра в поисках уголка для выступления. Наконец-то она дошла до нужного переулка – можно остановиться и перестать терзать собственные уши.
Шара внимательно осматривает переулок. Он ничем не отличается от сотен других: позабытая людьми узкая каменная щель. Правда, этот переулок – не прямой, он огибает круглую стену дома с западной стороны. Отсюда до усадьбы Вотровых – рукой подать, каких-то три квартала.
Шара приглядывается к мостовой: так, вот извилистый тормозной след на камне, вот тут машина пошла вразнос – черные полосы словно неумелой кистью прорисованы. Вот тут они свернули за угол. И поехали по переулку. Шаг, еще шаг, под ногами канализационная труба, так, огибаем кучу отбросов. Здесь черный след резины не так четко виден, хотя по-прежнему заметен. Они переехали через эту кочку, через трубу – она поднимает взгляд, так, вот опрокинутый мусорный бак, осколки стекла, значит, тут они разнесли помойку, а тут…
А вот тут след шин прерывается.
– Он вышел из машины, – бормочет она, – вышел и…
И что? Как человек может просто взять и раствориться в воздухе?
Шара, в отличие от Сигруда той ночью, когда напали на дом Воханнеса, не тратит время на обстукивание и ощупывание стен и мостовой. Она вынимает кусок желтого мела и проводит от стены до стены длинную линию. Где-то на этой линии располагается дверь. Вот только как ее отыскать?
И она опускает свой мешок наземь. Начнем с самого простого и старого фокуса: берем банку, высыпаем в нее лепестки маргариток, посвященных Аханас, – кстати, потом эти лепестки сами собой вернутся в пакет, – встряхиваем банку и высыпаем лепестки. А потом берем щепоть кладбищенской грязи, размазываем ее по дну банки, протираем насухо и приставляем горлышко к глазу на манер телескопа.
Что с банкой, что без банки переулок выглядит одинаково. Ага, через линзу донышка можно по-особому увидеть мирградские стены: вот это зеленовато-голубое фосфоресцирующее свечение в вечернем небе – это они.
Так, убираем банку. Естественно, теперь стены не светятся: они прозрачные, как всегда. Банка – это линза, через которую видны божественные артефакты, а стены – именно такой артефакт, вот и меняют облик, если смотреть через стекло.
Однако это значит вот что: дверь, через которую сбежали нападавшие, сделана не руками Божеств.
А ведь это невозможно. Они исчезли, растворились в воздухе – значит, у них был артефакт. Артефакт может быть только Божественным по природе.
Шара принимается мерить переулок шагами. Уже четыре ночи подряд Шара наведывается сюда и в другое место, где на глазах Сигруда исчез человек. Она пробует трюк за трюком, ставит эксперимент за экспериментом – и все безрезультатно. А что ей еще остается делать? Сигруд следит за Торской. Та сидит в своей квартире. Питри, Нидайин и еще несколько сотрудников посольства проверяют компании, куда в этом году Уиклов вкладывал деньги. Работы у них невпроворот. Шара очень хотела бы сидеть с ними, такие вещи нужно отслеживать, но она имеет опыт обращения с Божественным – и потому должна заниматься тем, чем занимается сейчас.
Ах да, вот еще странность: после того как Уиклов уволок с собой госпожу Торскую, его в Мирграде не видели. На запрос о его местопребывании в конторе ответили: «Хозяин уехал в загородное имение под Жугостаном. По семейным делам».
Одним словом, люди исчезают, один за другим, а куда – поди пойми. Шара снова склоняется над своим чудо-мешком. Возможно, в переданном Воханнесом белом чемодане ответы на все вопросы лежат грудами, подобно алмазам в сказочной пещере. Но нет, открыть чемодан – значит навлечь на себя гнев Виньи. К этому Шара пока еще не готова. Во всяком случае, сначала она хочет разгадать загадку переулка.
Так, попробуем еще кое-что. Шара высыпает на мостовую маковые зернышки – мимо, они не ложатся в вытянутую фигуру, указывающую на прореху в реальности, какую обычно оставляют Божества. Шара пишет на пергаменте первые строки гимна Вуртье и проносит его из конца в конец переулка – если она наступит на освященную Вуртьей землю, гимн сам собой допишется до конца, свирепым размашистым почерком богини. Впрочем, то, что этот трюк не срабатывает, вполне ожидаемо: ни одно чудо Вуртьи, даже самое незамысловатое, не работало после Ночи Красных Песков.
Попробуем-как теперь вот это…
Как же вы исчезли, господа хорошие?..
А теперь вот это…
Как вам удалось провернуть такую штуку?..
И вот это…
Но как, как?!
Так. Последнее испытание: Шара запускает монетку вниз по переулку, та быстро катится по камням – если перед ней возникнет божественное препятствие, любого характера, монетка резко остановится и плашмя упадет на землю, словно бы магнитом притянутая к мостовой. Но нет, она катится и катится, а потом описывает полукруг и заваливается самым естественным образом.
Шара вздыхает, запускает руку в сумку и вынимает бутылку чаю. И прихлебывает горячий напиток. Вкус у него затхлый и перезаваренный – она слишком долго таскала его с собой, да и влажность тут повышенная.
Шара снова вздыхает, расчищает на земле пятачок и садится прямо на землю, прислонившись спиной к стене. И погружается в воспоминания – о последнем дне обучения, о последнем дне, проведенном на родной земле, последнем разе, когда пила по-настоящему хороший чай.
* * *
– Как ты это сделала? – спросила тетушка Винья. – Вот скажи мне. Как?
Юная Шара Комайд – обессиленная, оголодавшая и умирающая от жажды – недоуменно посмотрела на тетю и запихала в рот еще кусок. В столовой учебного корпуса было пусто, и потому ее чавканье отзывалось особо громким эхом.
– Ты упрямо держалась своей версии, хотя они и так и сяк тебя трепали и допрашивали, – сказала Винья. – И ты ни разу не сбилась, всегда отвечала одно и то же. Каждый раз, все шесть дней. Ты хоть знаешь, как часто такое случается? До тебя – раза два или три такое видели. За всю историю Министерства!
И она с видимым удовольствием оглядела девятнадцатилетнюю племянницу поверх узеньких очков.
– Большинство ломаются на третий день, потому что не могут уснуть. Ломаются из-за музыки – из-за звука этой басовой струны, монотонного и беспрерывного. Что-то такое в них щелкает – и все. Им задают вопрос, они дают неправильный ответ. Но ты отвечала так, словно вообще ничего не слышала.
– А ты? – пробубнила Шара с набитым картошкой ртом.
– Что я?
– Ты сломалась?
Винья расхохоталась:
– Дорогуша, это я придумала всю эту процедуру! И сама через нее, естественно, не проходила. Так что давай рассказывай. Как ты это сделала?
Шара хлюпнула чаем:
– Что сделала, тетушка?
– Ну как что? Как ты выдержала? Ты не сломалась после шести дней психологических пыток.
Шара застыла, глядя на пронзенную вилкой куриную грудку у себя в тарелке.
– Ты не хочешь рассказывать? – спросила Винья.
– Я… стесняюсь.
– Я твоя тетя, милая.
– Ты также мое непосредственное начальство.
– Ну будет тебе, – отмахнулась тетя. – Не сегодня. Сегодня – наш последний вечер перед долгой разлукой.
– Долгой разлукой?
– Ну не такой уж долгой, дорогая. Так что – как?
– Я думала… – Тут Шара сглотнула. – Думала о родителях.
Винья пожевала губами:
– Вот оно что.
– Я думала о том, что им пришлось вынести. Когда они умирали. Я читала о Чуме. Я знаю, что смерть от нее… мучительная.
Винья горестно покивала:
– Да. Это так. Я видела все своими глазами.
– И вот я думала о них и о том, что пришлось пережить Сайпуру под гнетом Континента… О рабстве, притеснениях, унижении. И вдруг мне стало так легко. Ну и подумаешь – эта музыка. Ну и что, что спать не дают, воды нет, еды нет и вопросы одни и те же задают снова и снова… С тем, что пришлось пережить родителям и сайпурцам в старину, это никак не сравнится. Вот и все.
Винья улыбнулась и сняла очки:
– Мне кажется, ты самый ярый патриот из всех, кого я знаю. Я так горжусь тобой, моя дорогая. Особенно потому, что… одним словом, ты… ты заставила нас поволноваться.
– Из-за чего?
– Как тебе объяснить, моя дорогая… Я всегда знала, что ты увлекаешься историей. В Фадури это было твоим коньком. В особенности – история Континента. И когда ты пришла к нам, мы дали тебе доступ к секретным, знаешь ли, материалам. Подобные вещи мы не разрешаем даже в Фадури преподавать… А ты – ты засела там, и как начала зубрить все это нафталиновое старье! Подобные увлечения в правительстве считают… нездоровыми.
– Но я же столько там узнала, в этом хранилище! – удивилась Шара. – Эти тексты так многое объясняют! В Фадури нам давали только обрывочные сведения. Столько лакун, а тут – тут все на полках стояло, изучай не хочу!
– Нас интересует не прошлое, – сказала Винья, – а настоящее. Но больше всего, Шара, я волновалась из-за другого. Скажу тебе честно, я переживала из-за того мальчишки, с которым ты сблизилась в академии. Я боялась, что он тебя… развратил.
Шара скривилась в кислой гримасе:
– Не говори мне о нем, – отрезала она. – Он для меня все равно что мертв. Он вероломный и никчемный. Прямо как этот проклятый Континент.
– О, я понимаю, – вздохнула Винья. – Тебе пришлось нелегко. После школы ты жаждала изменить мир к лучшему. Воплотить свои мечты об идеальном Сайпуре.
Винья грустно улыбнулась.
– И я знаю, что именно поэтому ты и затеяла то расследование. Я о Раджандре.
Шара удивленно вскинула голову:
– Тетя… Я… я не хочу говорить о…
– Не нужно бояться прошлого, милая. Его нужно принять таким, какое оно есть. Ты заподозрила, что Раджандра Адеш нечист на руку. Подумала, что он использует фонды партии… нецелевым образом. И ты была права. Он действительно нецелевым образом использовал деньги партии. Коррупционер чистой воды – вот кто он был. Это правда. И я думаю, что ты, когда вывела его на чистую воду, хотела произвести впечатление – на меня. На всех нас. Но ты также должна понять, что коррупция в высших эшелонах власти – это не коррупция. Это закон жизни. Да, неписаный. Но закон. Как в том случае. Ты поняла меня?
Шара опустила голову.
– Ты сломала карьеру человеку, которого все прочили в премьер-министры. Ты лишила правящую партию лидера. Из-за твоего расследования казначей партии едва не покончил жизнь самоубийством. Этот идиот даже толком покончить с собой не сумел – попытался повеситься у себя в кабинете, намотав веревку на водопроводную трубу. Рухнул на пол вместе с трубой, бедный придурок, чуть потолок не обвалил.
Винья горестно цокает языком.
– Дорогая, ты – Комайд, и это гарантирует нам защиту. Но лишь до определенной степени. Но то, что ты натворила… об этом еще долгие годы будут вспоминать, и не сказать чтобы с одобрением.
– Мне очень жаль, тетушка… – шепчет Шара.
– Я знаю. А теперь послушай. В мире правит бал коррупция, люди страдают от социального неравенства, – говорит Винья. – Тебя воспитали патриоткой, ты любишь Сайпур и считаешь, что сайпурские ценности следует прививать во всем мире, – но это, дорогая, не входит в твои задачи. Твоя работа в Министерстве заключается не в том, чтобы искоренить коррупцию и неравенство, а в том, чтобы использовать их во благо Сайпура. Это твои рабочие инструменты. Твоя задача – сделать так, чтобы прошлое не вернулось. Никогда. Чтобы мы никогда больше не жили в нищете и унижении. Коррупция и неравенство – очень полезные вещи. Если они нам выгодны, мы их поддержим. Это понятно?
Шара тогда вспомнила слова Воханнеса: «Мало того что циничная, так еще и скучная до зевоты картина мира…»
– Ты поняла меня? – снова спросила Винья.
– Поняла, – ответила Шара.
– Я знаю, ты любишь родину, – сказала Винья. – Я знаю, что ты любишь нашу страну, как любила родителей. Что ты хочешь почтить их память, а также память всех сайпурцев, отдавших жизнь за свободу нашей Родины. Но ты будешь служить Сайпуру не на виду, а в тени, и когда-нибудь Сайпур попросит тебя предать его ценности ради его безопасности.
– И тогда…
– Тогда что?
– Тогда, когда я все сделаю… смогу я вернуться домой?
Винья улыбнулась:
– Конечно! Конечно, сможешь! Уверена, ты всего на несколько месяцев уезжаешь! Очень скоро мы снова увидимся. А теперь поешь и отдохни. Твой корабль отходит утром. Ах, как же здорово: моя племянница – в одном строю со мной!
И как же она улыбалась, когда это говорила…
* * *
Утром, да. И было это почти шестнадцать лет тому назад…
За эти шестнадцать лет Шара выполнила столько заданий, проделала столько работы, что никакому оперативнику в мире – не то что на Континенте – с ней не сравниться. И хотя некогда Шара Комайд так и пылала патриотическим рвением, но постепенно бесконечные смерти и предательства вытравили из нее энтузиазм, и с тех пор страстное желание утвердить власть Сайпура постепенно сменилось желанием просто защитить его, а затем и оно ссохлось до тоски по родине – ей так хотелось снова побывать там, а потом уж и умирать можно… Впрочем, она, чем дальше, тем больше уверяется, что и этому желанию не суждено сбыться.
«Тренировки, идейная подготовка, рвение, вера… – размышляет она, потягивая чай в переулке. – И все это свелось к такой малости. Наверное, так себя чувствует человек, разуверившийся в своем боге…»
А кроме того, она начала задаваться вопросом: ее не пускают на родину – а почему? Из-за этого политического скандала с Национальной партией? Да полноте, о нем наверняка уже и думать забыли… Тогда почему ее держат в отдалении? Ах, если б до высылки из Сайпура у нее хватило ума обзавестись знакомствами в парламенте… (С другой стороны, ее опыт общения с Божественным чрезвычайно опасен, этого не отнимешь: она сейчас сама как ходячий Запретный Склад. Так что да, не зря родина ее отвергает…)
– Посол Тивани?
Она оборачивается. На углу стоит Питри, тут же припаркована машина. Шара, наверное, так сильно задумалась, что не заметила, как он подъехал.
– Питри? Что вы тут делаете? А как же финансовые отчеты Уиклова, почему вы не в посольстве?
– У меня вести от Сигруда, – говорит он. – Госпожа Торская покинула квартиру. Ее оттуда увели Уиклов и еще какой-то человек. Сигруд дал мне адрес. Только адрес.
Шарины штучки звонко цокают и брякают, валясь в мешок. Быстрее, быстрее! Она бежит в конец переулка, поднимает серебряную монетку, потом прыгает на заднее сиденье машины.
Они проезжают с четверть мили, прежде чем она понимает: монетка как-то потеряла в блеске. Она поднимает грошик к свету.
И удивленно ахает. А потом улыбается.
Монетка больше не серебряная – она трансмутировала. В свинец.
* * *
Шара и Питри едут по той части Мирграда, что наиболее пострадала от Мига: за окном проплывают причудливо обрезанные и перекореженные здания и неестественно сужающиеся улицы. Вот они проезжают мимо прачечной, та тянется, изгибается и к следующему перекрестку перерождается в банк. А вот хлипкие здания с непривычно огромными и кривыми входными дверями – такие явно не для людей… Наверняка они просто вдруг взяли и возникли в одночасье…
– Что-нибудь на Уиклова нашли? – спрашивает она.
– Есть немного, – кивает Питри. – Вы были правы насчет ткацких фабрик. Ему совершенно точно принадлежат аж три штуки в восточном Мирграде. А еще мы заметили: примерно в то же время, как Уиклов начал скупать ткацкие фабрики, он стал импортировать материалы, причем из Сайпура – с ним работает некая «Корпорация Видаши».
– Видаши, Видаши… – что-то такое знакомое… – Подожди… Они же очисткой руды занимаются?
– Ага, – подтверждает Питри. Машина закладывает широкий вираж – они поворачивают. – Похоже, Уиклов покупал у них крохотные партии стали. Каждый месяц, прям как часы. Причем странные цифры в накладных, каждый раз разные: то тысяча пятьсот фунтов, то тысяча девятьсот фунтов… Мы не очень по…
Шара вскидывается на сиденье:
– Это все из-за ограничений по весу.
– Что?
– Ограничения по весу – вот что! Министерство иностранных дел проверяет всех, кто приобретает большие партии товаров! Нефти, дерева, камня, металла… Мы хотим знать, кому продаем товар, особенно если они покупают много… А для стали проверке подлежат партии, превышающие…
– Две тысячи фунтов, – ахает Питри. – И так он ни разу не привлек внимания Министерства!
Тот мальчишка в тюремной камере на допросе бормотал в наркотическом бреду что-то про «металл», который они хотели получить от Воханнеса… И тогда это вдвойне странно: зачем пытаться похитить Вотрова, если сталь уже поступает к ним по совершенно законным каналам?
И тут до нее доходит: а что, если она их просто-напросто спугнула? Она же хотела разворошить гнездо шершней – и вот нате, пожалуйста… Им не хватило купленной стали. Панъюя убили, в город прибыл оперативник, и они занервничали и пошли ва-банк.
Она смотрит в окно, в голове лихорадочно бегут мысли: что же они строят, а? Зачем им так много стали?
И она все думает и думает, и тут над крышами возникает высоченная черная башня – десятиэтажная эбонитовая громадина рассекает серое ночное небо.
Сердце Шары сжимается.
Только не это. Только не туда. Неужели они потащили Торскую туда…
Она еще там не была. И даже странно, что оно еще существует, это проклятое место.
Надо же, кадж столько всего разрушил и стер с лица земли, а это… это осталось стоять.
* * *
Питри паркуется в переулке. Между древних створок ворочается тьма, из теней выныривает Сигруд и идет к ней через улицу.
– Только не говори мне, что они пошли туда, – стонет Шара, выбираясь из авто.
– Куда – туда? – удивляется Сигруд.
– В колокольню.
Сигруд насмешливо фыркает:
– А что тут такого?
Шара вздыхает и поправляет очки:
– Показывай.
В кварталах, пострадавших от Мига, по ночам царит непроницаемая тьма: никто не смог провести сюда газ – под землей там тоже не пойми что творится. Одна строительная компания предприняла храбрую попытку проложить трубу – и что же, они наткнулись на лист железа толщиной в три фута, шириной в сорок и длиной – как они прикинули – не меньше четверти мили. Он просто лежал, зарытый в суглинок под улицами. Никто не смог объяснить, как он туда попал и что там делает: в конце концов, все списали – как это всегда и бывало – на необъяснимые и непреднамеренные последствия Мига. И хотя с листом железа вполне можно было разобраться, компания расторгла контракт на проведение работ. Наверное, там прикинули, что еще можно откопать в братской могиле под улицами Мирграда, и решили, что лучше туда не соваться.
В центре этого изуродованного квартала – огромный пустой парк. Из влажной земли торчат молоденькие пихты – их недавно посадили, все растительность в Мирграде погибла после резкого изменения климата. За парком стоит длинное здание, над северным крылом которого торчит здоровенная башня – колокольня с весьма любопытной, скелетного вида конструкцией на вершине: плетенный из металлических прутьев шар, в котором, похоже, некогда размещались колокола. А теперь он пуст. Стены из глины ободраны и расползаются, плоскую крышу время и непогода тоже не пощадили – она бугристая и неровная, как тундра, по которой прополз ледник.
– Они пошли внутрь? – спрашивает Шара.
– Нет, – отвечает Сигруд.
И показывает на какое-то жутко запущенное строение на краю парка.
– Уиклов и тот человек повели ее туда. Это рядом. А почему ты так волнуешься?
– Потому что это, – Шара кивает в сторону колокольни, – самая старая постройка в Мирграде. Не считая стен. Это был естественный центр Мирграда, хотя после Мига все перекосилось и от былой симметрии ничего не осталось. Это Средоточие Престола мира. Обычно его называли просто – Престол мира, хотя приезжие так называли сам Мирград.
– Здесь был храм?
– Что-то вроде того. Эдакий сайпурский парламент, но только для Божеств. Хотя я представляла нечто более грандиозное. Сейчас оно выглядит убого, а я читала, что здание славилось своими витражами. Однако я также читала, что Миг не пощадил и его. Похоже, прежде башня была гораздо, гораздо выше. У каждого Божества на ней висел свой колокол, и удар каждого колокола имел разные… последствия.
– Например?
Шара пожимает плечами:
– Никто толком не знает. Вот почему мне здесь не по себе. Так, значит, Уиклов персонально явился за ней.
– Уиклов и еще один. Они пришли и повели Торскую в это маленькое здание. А сорок минут назад Уиклов и его помощник оттуда вышли. Без Торской. Я ее не видел.
– Однако как они расхрабрились – делают что хотят среди бела дня… И куда они направились после?
Лицо Сигруда темнеет.
– Дай-ка догадаюсь, – кивает Шара. – Они попетляли по улицам, а потом вдруг взяли и…
– …исчезли, – мрачно подтверждает Сигруд. – Да. Уже в третий раз. А еще я запомнил… – и он стучит по голове, да так сильно, что слышно, как палец ударяется о кость, – …каждое место, где эти люди исчезали. Особой системы не видно, но исчезали они всегда либо в этом квартале, либо в соседнем западном.
– То есть в местах, что более всего пострадали из-за Мига… – бормочет Шара. – А это подтверждает мою теорию. Я еще не совсем уверена, но…
И она проводит ладонью по ободранной кирпичной стене:
– Они воспользовались некоторыми последствиями – или длящимся воздействием – Мига.
– Как ты можешь быть уверена?
– Серебряная монетка, – говорит Шара, – превратилась в свинцовую не более часа назад. Я запустила ее по переулку, где исчез налетчик. Такие вещи случались сразу после Мига.
– А почему ты уверена, что это не чудо?
– Потому что я тестировала это место на чудо всеми доступными способами, – говорит Шара. – И ничего. Вообще никаких следов божественного воздействия. Значит, дело в Миге. Кстати, замечу, что до сих пор не существует никаких исчерпывающих исследований Мига. Континент носится со своими ранами, как злая старуха – с обидами. Я планирую этим заняться, когда выдастся свободная минутка. А сейчас давай посмотрим, что у нас тут…
Они подходят к убогому строеньицу, Шара пропускает Сигруда вперед – тот должен осмотреть здание. Сигруд обходит дом, потом качает головой и кивает на вход.
– Никого, – говорит он, когда она подходит ближе. – Дверь незаперта. В окна тоже никого не видно. Но окон почитай что и нет.
– Что это за здание?
– Муниципальное непонятно что. Думаю, хотели здесь что-то строить, как-то облагородить квартал. А потом, скорее всего, передумали.
«Да на их месте любой бы передумал», – думает про себя Шара.
Сигруд подходит к двери и вынимает черный кинжал. Заглядывает внутрь, тихо заходит. Шара немного выжидает, потом идет следом.
Внутри пусто – ни мебели, ничего. Голые стены. Комнаты тянутся анфиладой, переходят из одной в другую. Дверки маленькие. Кстати, в этом здании, в отличие от всех остальных в квартале, есть газ! Голубые огоньки рожков пляшут под потолком, немного разгоняя мрак.
– Они оставили свет включенным, – бормочет Шара, но Сигруд подносит палец к губам.
Склоняет голову к плечу, прислушиваясь, и лицо дрейлинга принимает необычное выражение – словно бы ему послышалось что-то не то.
– Здесь кто-то есть? – тихо спрашивает Шара.
– Пока не уверен.
Сигруд идет дальше, заглядывает в каждую комнату. Шара идет следом. Комнаты похожи одна на другую: маленькие, пустые, никакие. Торской нигде не видно. И двери все на одной линии располагаются: заглянешь в одну – заглянешь и во все остальные.
Потому что все они стоят раскрытые.
Кроме последней. Вот она закрыта, и сквозь замочную скважину проникает дрожащий желтоватый свет.
«Что-то мне это совсем не нравится», – думает Шара.
И снова Сигруд останавливается.
– Опять этот звук. Это… смех, – наконец говорит он.
– Смех?!
– Да. Детский. Очень тихий.
– Где смеются?
Он указывает на закрытую дверь.
– А больше ничего не слышно?
Он молча качает головой.
– Ну хорошо, – вздыхает Шара. – Идем, что уж…
Как она и ожидала, все комнаты, через которые они идут к закрытой двери, пусты. Они подходят ближе, и она тоже слышит – смех. Тихий, мягкий, словно бы за закрытой дверью весело играет ребенок.
– Запах интересный, – замечает Сигруд. – Пахнет солью и пылью.
– Что ж тут интересного?
– Интересно, что там этой соли и пыли несметное количество.
И он снова указывает на дверь. Потом опускается на корточки и заглядывает в замочную скважину. Свет оттуда заливает ярким пятнышком его прищуренный глаз, веко дрожит, когда Сигруд силится разглядеть то, что их ждет за дверью.
– Что-нибудь видишь?
– Вижу… круг, на полу. Из белого порошка. Много свечей. Очень много. И одежду.
– Одежду?
– Кучу одежды на полу. – Потом он добавляет: – Женской одежды.
Шара легонько похлопывает его по плечу – отойди, мол, и занимает место у замочной скважины. Ее чуть не сносит потоком света, льющегося оттуда: вдоль стен запертой комнаты выстроились канделябры, и в каждом горит по пять, десять, двадцать свечей. Комната так и полыхает огнем, даже щеку через скважину обжигает. Потом глаза привыкают, и она видит на полу широкий круг, насыпанный чем-то белым. Соль это? Или пыль? А с краю глаз различает кучу одежды – она высится с другой стороны белого круга.
Сердце ее сжимается: в куче лежит и темно-синяя ткань. Из такой было платье госпожи Торской, когда они виделись в последний раз.
А потом в поле зрения появляется что-то еще… что-то прозрачное и белое, оно невесомо плывет в воздухе – что это? Край длинного белого платья? Шара вздрагивает от неожиданности, но глаз от скважины не отводит. А потом она видит над белой тканью темноволосую макушку – черные локоны блестят в свете свечей. А потом белое существо убегает.
– Там кто-то есть, – тихо говорит она Сигруду.
И снова – детский смех. Но что-то там не так…
– Ребенок, – говорит она. – А может…
– Отойди, – командует Сигруд.
– Но… я не уверена…
– Отойди.
Шара отходит. Он проверяет ручку двери – не заперто. Сигруд пригибается, держа наготове кинжал, и осторожно открывает дверь.
И тут же смех сменяют вопли боли. Шара не может заглянуть внутрь – слишком далеко стоит, а вот Сигруд может, и он явно не видит никакой угрозы – он бросает на нее обеспокоенный, смущенный взгляд и быстро входит.
– Подожди! – кричит Шара. – Стой!
И влетает в комнату.
* * *
Все происходит так быстро, что Шара едва успевает оглядеться. Сначала ее слепит жаркий свет канделябров, они тут так часто понаставлены – попробуй между ними проберись; вот широкий круг из белых кристаллов, похоже, это все-таки соль, а в центре круга сидит девочка лет четырех, в широком блестящем белом платье, с вьющимися темными волосами и ярко-красными губками. Она сидит в соляном круге и потирает коленку… впрочем, это Шара думает, что она потирает коленку, потому что ни коленки, ни тела девочки не видно под белым платьем – только головка торчит. Даже рук не видно – только белая ткань шевелится…
– Больно! – выкрикивает девочка. – Очень больно!
В ноздри бьет запах пыли. Он забивается в нос, в горло, липнет к гортани.
Сигруд делает нерешительный шаг вперед.
– Может… ей помочь? – спрашивает он.
Соль. Соляной круг.
– Стой! – снова говорит Шара.
И хватает его за рукав, не пуская, но он такой большой, что увлекает ее за собой, она чуть не падает.
Девочка корчится от боли:
– Помогите!
– Ты не хочешь подойти к ней? – спрашивает Сигруд.
– Нет! Стой на месте! И смотри.
И Шара показывает на пол. Они уже в двух футах от насыпанного солью круга.
– Это что такое? – спрашивает Сигруд.
– Это соль, она тут для…
– Пожалуйста, помогите мне! – всхлипывает девчушка. – Пожалуйста, ну помогите же, вы должны мне помочь!
Шара приглядывается – платье-то великовато для такой малышки, и под ним все комом бугрится, словно бы тельце девочки уродливо раздуто…
Откуда она это знает?..
– Стой где стоишь, Сигруд. Смотри, что я буду делать, и… – она откашливается. – Пожалуйста, – звучно и громко обращается она к девочке, – не могла бы ты показать нам свои ступни?
Сигруд ошалело таращится на нее:
– Чтоооо?
– Пожалуйста! – плачет девчушка. – Пожалуйста, сделайте что-нибудь!
– Мы тебе поможем, если ты покажешь нам свои ступни.
Девочка жалостно стонет:
– Какое вам дело? Почему вы… мне больно, больно, больно!
– Мы поможем тебе, причем быстро, – говорит Шара. – Мы очень хорошо умеем оказывать первую помощь. Но, пожалуйста, сначала покажи нам ступни!
Девчушка принимается раскачиваться взад-вперед:
– Я умираю! – завывает она. – У меня кровь течеееет! Пожалуйста, помогите мне!
– Покажи нам ступни. Немедленно!
– Я так понимаю, – медленно выговаривает Сигруд, – что ты считаешь, что это вовсе не девочка.
Девочка начинает вопить от боли. Шара мрачно качает головой:
– Смотри. И думай. Соль на полу, замыкающая ее в круг… А у самого круга – одежда Торской, словно бы она ее сбросила, входя в круг соли…
Девчушка, все еще вереща от боли, пытается подползти к ним. Какие странные, неестественные у нее движения: она не опирается на руки – интересно, а они, вообще, у нее есть?.. – и подпрыгивает, придвигаясь все ближе, поддавая коленками. Она как перчаточная кукла из материи, с твердой раскрашенной головкой, но как же натурально выглядят эти слезы и волосы…
Однако ступни девочка так и не показывает. Даже пока подбирается к ним, словно подкатываясь, подкатываясь…
Шару душит запах пыли: гортань словно глиной обмазана, в глазах свербит, как от песка.
Под платьем что-то шевелится. И это совсем не похоже на тело четырехлетней девочки – оно гораздо больше…
«Во имя всех морей… – думает Шара. – Быть того не может…»
– Пожалуйста, ну помогите же мне! – плачет девочка. – Мне так больно, так больно!
– Отойди, Сигруд. Не подпускай к себе это существо.
Сигруд отступает.
– Нет! – вскрикивает девочка. И, как червяк извиваясь, подползает к самому краю круга. Теперь их разделяют какие-то дюймы. – Нет! Пожалуйста! Не бросайте меня здесь!
– Ты не настоящая, – говорит Шара девочке. – Ты просто приманка.
– Приманка? – удивляется Сигруд. – Для кого?
– Для тебя и для меня.
Девчушка разражается слезами и съеживается у края круга.
– Пожалуйстаааа… – плачет она. – Пожалуйста, возьмите меня на ручки… Меня так давно никто не брал на ручкиии…
– Хватит, не прикидывайся, – зло бросает Шара. – Мы знаем, кто ты.
Девчушка принимается визжать, да так, что уши закладывает.
– Хватит! – кричит Шара. – Хватит с нас этого цирка! Нас не проведешь!
Вопли тут же прекращаются. Внезапно наступает пугающая тишина.
Девочка не поднимает глаз: она сидит, скорчившись, абсолютно неподвижно. Как неживая.
– Как же тебе удалось выжить? – хмурится Шара. – Я-то думала, вы все умерли во время Большой Чистки.
Локоны колышутся, головка девочки склоняется набок.
– Ты – мховост, да? Ручное чудище Жугова…
Девочка выпрямляет спину, но движения ее пугающе неестественны, как у марионетки. С лица сошла гримаска боли, теперь оно пустое и безжизненное. Как у куклы.
Под платьем что-то шебуршится. Девочка словно бы проваливается в складки ткани. Над ней взлетает клуб пыли.
Ткань завивается складками вокруг того, что медленно поднимается на ноги.
Шара смотрит на это, и ее тут же начинает бурно тошнить.
* * *
Тварь чем-то напоминает человека: у нее есть туловище, ноги и руки. Но все какое-то отвратительно вытянутое, рыхлое, не тело, а сплошные суставы – под гладкой кожей выпирают и двигаются, бугрятся, ходят туда-сюда твердые костные округлости. Тело обмотано белой тканью, посеревшей от пыли, а ступни – то ли человечьи, то ли гусиные: крупные, сращенные, перепончатые, с тремя толстыми большими пальцами, и на каждом – крохотный ноготок правильной формы. Но самое мерзкое – это голова: с затылка – обычный череп лысеющего человека, с венчиком длинных седых путаных волос, а вместо лица, вместо челюсти – что-то длинное и несуразное вроде широкого длинного плоского клюва. Опять на гуся смахивает, только без глаз… Но клюв этот – он не из твердого кератина, как у нормальных гусей и уток, а из той суставчатой человечьей плоти, словно бы у человека срослись пальцы рук, а он их свел, и теперь они торчат веером у запястий.
Мховост обиженно щелкает клювом на Шару – раздается влажное шлепанье: фапфапфапфап… Где-то в голове эхом отдается детский смех, плач, крик. Чудище разевает клюв, и Шара видит: там нет ни зубов, ни пищевода – только все та же костистая, волосатая плоть.
Ее опять тошнит, она жалостно блюет на пол, причем успевает отвернуться – нельзя, чтобы вырвало на соль на полу, никак нельзя…
Сигруд молча таращится на мерзостную тварь, а та выгуливается перед ним, как задиристый петух, подначивая всем своим видом: ну давай, давай, убей меня!
– Мне его, – медленно выговаривает гигант, – прибить?
– Нет, – выдыхает Шара между спазмами. Из нее изливается новый фонтан рвоты.
Мховост опять щелкает клювом – и снова где-то на задворках разума хохочут призрачные дети. А ведь он смеется надо мной…
– Не наступай на соль! Разрушишь круг – умрем оба!
– А девочка?
– Ее тут никогда не было… Это чудесное существо, хотя чудо это темное…
Шара сплевывает желчью. Мховост сердито машет на нее конечностями. Хуже всего, что эти движения смотрятся отвратительной пародией на человеческие: их даже понять можно… Тварь злится: мол, ну же, давай, давай, что ты еще про меня скажешь?
– Ты ведь убил Ирину Торскую, правда? – спрашивает Шара. – Они ее привели сюда, и она зашла в круг.
Мховост снова изъясняется на свой неизъяснимый, но жутковато понятный манер: оборачивается к куче одежды и безразлично пожимает плечами: «Эта старуха?» И презрительно отмахивается: «Что мне до нее…» И снова щелкает на них клювом.
– А он может… – Сигруд красноречиво крутит в руке кинжал, – …прекратить вот так вот шлепать, а?
– Он хочет, чтобы ты зашел в круг. Чтобы ты подошел, и тогда он проглотит тебя. Целиком.
Фапфапфапфап.
Сигруд одаривает ее весьма скептическим взглядом.
– Это существо из кожи и костей, – поясняет Шара. – Но это не его кожа и кости. Увы, но где-то внутри находятся и смертные останки Ирины Торской, которые чудище приспособило для своих надобностей.
Мховост начинает ощупывать брюхо многосуставчатыми пальцами: мол, где тут эта Торская, а?
Экий шутник. Впрочем, чему тут удивляться, известно ведь, чье это создание…
– Так как же ты выжил? – спрашивает Шара. – Разве ты не должен был умереть вслед за Жуговым?
Тварь замирает. Безглазая морда поворачивается в сторону Шары. А потом тварь начинает ходить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, словно пытаясь вырваться из соляного круга.
– Что это он делает? – спрашивает Сигруд.
– Он безумен, – говорит Шара. – Жугов пребывал в мрачном расположении духа, когда сотворил этих существ… Это человек-на-шарнирах, голос под скатертью. Они существовали затем, чтобы насмехаться над людьми, подхлестывать и раздражать их. Их нужно просить показать ступни – тогда они принимают истинный облик, ибо только ступни скрыть не могут. Но все равно… я не понимаю, почему оно еще живо… Жугов – он мертв? – спрашивает она чудище.
Мховост все так же расхаживает взад и вперед. Потом останавливается, задумывается – и пожимает плечами.
– Как ты здесь оказался?
Снова пожимает плечами.
– Я знала, что они способны протянуть какое-то время… – говорит Шара, – но не думала, что божественные существа способны прожить так долго, после того как Божества погибли…
Мховост вытягивает отвратительно длинную плоскую ладонь и покачивает ей из стороны в сторону: может, и способны. А может, и нет.
– Эти двое, что приходили сюда, – говорит Шара. – Они тебя здесь и заперли?
Тварь снова принимается расхаживать туда-сюда – ага, злится, значит, она права.
– Как долго они держали тебя в этом здании?
Тварь имитирует смех – все-таки какое удивительное создание, и какая отталкивающая, но красноречивая пантомима… – и пренебрежительно отмахивается: мол, глупый вопрос.
– Значит, долго.
Тварь пожимает плечами.
– Ты выглядишь вполне упитанным. Скольких еще ты убил?
Тварь качает головой и грозится пальцем: не-не-не. И потом нежно, ласково поглаживает живот: с чего это ты решила, что они умерли?
В разуме Шары так много пустых темных комнат, и там смеются, смеются дети… К горлу карабкается новый позыв рвоты. Так, надо собраться.
– Скольких… скольких они затолкали в этот круг?
Мховост шлепает клювом. Пожимает плечами.
– Значит, многих.
Снова пожимает плечами.
Шара шепчет:
– Но как, как тебе удалось прожить так долго?..
Мховост принимается вальсировать в кругу соли: па, разворот, па, разворот…
– Как же мне хочется убить эту гадину, – выдыхает Сигруд.
Мховост разворачивается в пируэте и издевательски виляет попой: мол, накося выкуси.
– Прямо руки чешутся, – добавляет Сигруд, глядя на костлявый зад гадины. – Нам ведь уже приходилось убивать божественных существ…
– Слушай меня, мерзкая тварь, – холодно говорит Шара. – Я – потомок человека, который истребил твой народ, низверг Божеств и обратил их в прах, человека, который прошел огнем и мечом по вашей земле и сжег здесь все дотла – причем в считаные недели. Мои предки убили и предали земле десятки, сотни твоих братьев и сестер, и там они пребывают, разлагаясь и обращаясь в грязь, отныне и до века. И если захочу, я протяну руку к тебе и совершу над тобой то же самое, не сомневайся. А теперь говори: твой создатель, Божество Жугов, – истинно ли то, что он покинул этот мир и более сюда не вернется?
Мховост медленно останавливается. Похоже, он над чем-то размышляет – и в эти мгновения даже выглядит опечаленным. А потом разворачивается, смотрит на Шару – и качает головой.
– Тогда где же он?
Чудище пожимает плечами – но уже не издевательски-зло: видно, что ему грустно, плохо и одиноко. Ни дать ни взять брошенный ребенок…
– Эти двое, что приходили сюда. Один из них – лысый и толстый, да?
Мховост возобновляет маятниковое хождение в круге.
Значит, да.
– А другой – как он выглядел?
И тут мховост начинает вилять задом, кладет руку на бедро, другую сгибает в запястье в женоподобном жесте. И он вышагивает внутри круга, самодовольно поглаживая себя под клювом: мол, поглядите, какой я красавец, ах, как я себе нравлюсь…
«А вот это, – думает Шара, – совсем не похоже на людей из круга общения Уиклова».
– Как Уиклов заточил тебя сюда? – спрашивает она.
Мховост резко останавливается, смотрит на ее, а потом перегибается пополам в безмолвном хохоте. И машет рукой: мол, ох, уморила! Уиклов – запер! Тоже скажешь!
– Значит, это был не Уиклов, – понимающе прищуривается Шара. – Тогда кто?
Тварь снова оттопыривает ручку, женовидно изгибается и качает головой – и морда у нее при этом стервозная донельзя.
– Значит, тот, другой. И кто он?
Ловкий кувырок – и мховост начинает шлепать по кругу на руках, раскачивая ножищами в воздухе.
– Кто он?
Свет в комнате мерцает – огоньки свечей вздрагивают и дергаются. И тут Шара замечает: а ведь пламя всегда отклоняется в одну и ту же сторону…
Значит, тут есть сквозняк?
Она оглядывает стены. В дальнем углу, залитом янтарной тенью, ей видится что-то вроде щели в стене. Там дверь? Или стенная панель?
Так, теперь смотрим на пол. Соляной круг занимает почти всю площадь комнаты: до тайной дверки не дойдешь, не ступив внутрь, к мховосту. Он сидит здесь, как сторожевой пес…
– Что за той дверью? – спрашивает Шара.
Мховост смотрит на нее, снова кувыркается и приземляется на ноги. Наклоняет по-собачьи голову и картинно почесывает лысую макушку длинным пальцем с четырьмя фалангами.
«Божеств, – припоминает она, – можно убить только оружием каджа. А вот младшие существа – более уязвимы, и у каждого были свои слабости».
Так, пора решаться.
– Скольких ты съел, пока был заточен здесь?
И снова тварь перегибается пополам в издевательском хохоте. И танцующим шагом подходит к Сигруду – придирчиво осматривает его, прикидывая, каков он в бедрах, большой ли у него живот. Насмешничает. Вот я тебя сожру – влезешь в меня?
– Я так понимаю, многих, – говорит Шара. – И тебе они пришлись по вкусу, держу пари.
Мховост мгновенно перетекает к ней, смотрит в лицо и проводит пальцем вдоль рта – надо же, как сексуально у него получается, бррр…
Шара оборачивается к стоящему за спиной канделябру.
– Такие штуки, между прочим, под запретом.
И она вынимает свечу и переворачивает ее. Естественно, основание помечено символом Олвос – язык пламени между двумя параллельными линиями. «Огонь в лесу».
– Такие свечи никогда не гаснут и дают яркий белый свет.
И она подносит ладонь к огоньку:
– А вот жар от них… о, жар от них – вполне настоящий. Это никакая не иллюзия.
Мховост застывает и медленно убирает палец ото рта.
– А ведь эти канделябры поставили сюда специально, правда? – улыбается Шара. – На случай, если тебе вдруг удастся выбраться из круга, верно я говорю? Ты тварь, созданная из пыли и тряпок, тебе придется очень аккуратно пробираться между ними, чтобы случайно не задеть пламя – и не загореться.
Мховост быстро опускает руку и отступает на шаг.
– Госпожа Торская – она ведь как увидела тебя, так и бросилась на помощь, правда? – тихо говорит Шара. – Бросилась на помощь маленькой девочке.
Шара вспоминает, как Ирина сидела над чашкой кофе: «Я пыталась выучиться. Хотела жить праведно. Хотела знать. А вышло только притворяться».
Мховост злобно щелкает на нее клювом: фапфапфапфап…
Шара размахивается и запускает в него свечкой.
Тварь мгновенно вспыхивает: ффух – и из груди у нее вырывается ярко-оранжевый язык пламени. Миг спустя творение Жугова окутывается оранжево-белым с головы до ног. Машет руками, извивается.
Где-то на задворках разума Шары истошно визжат дети.
Тут она снова вспоминает мальчишку в тюремной камере. Надо же, опять огонь, и опять по ее вине.
Пылающее существо бьется в соляном круге, налетая на невидимые стены. Искры и ошметки одежды разлетаются, как горящий вишневый цвет. Тварь обхватывает руками голову, жуткая пасть разевается в безмолвном крике.
А потом фигура истаивает, пламя потухает. Между канделябрами завивается пепел. Вскоре и он исчезает, и только черные отметины на полу напоминают о произошедшем.
И Олвос сказала: «Ничто не уходит навсегда, Мир как прилив, Он возвращается и уходит, К прежнему месту и от него, Так возрадуйтесь, ибо те, кто потерял, снова обретут утраченное, Улыбайтесь, ибо все ваши благие дела вернутся к вам сторицей, Плачьте, ибо злые дела ваши тоже не исчезнут, и воздастся вам, Или вашим детям, или детям ваших детей, И вы пожнете то, что посеяли, И что посеяно, то вы и пожнете».Книга Красного Лотоса, часть IV. 13.51–13.59
Воссоздание
Шара идет к потайной двери через комнату. Шагнув в соляной круг, она внутренне сжимается: а ну как тварь воскреснет и бросится? Но ничего не происходит.
Она ощупывает щель в стене, поддевает ее пальцами – бесполезно, та не поддается.
– Подойди, посмотри сам, – зовет она. – Ты видишь здесь ручку? Или кнопку? Или рычаг?
Сигруд осторожно отодвигает ее в сторону тыльной стороной ладони. Потом отходит на шаг и со всей силы бьет ногой в стену.
Тишина взрывается оглушительным треском. Половина двери проваливается, а вторая половина, исходя белесой пылью, вдруг покрывается трещинами и рассыпается на части, как битое зеркало. Над кусочками стены вьются белые, остро пахнущие облачка.
Шара дотрагивается до обломков – на пальцах остаются белые следы.
– Ах, вот оно что, – бормочет она. – Штукатурка.
И она засовывает голову в дыру, вглядываясь в темноту.
Вниз под крутым углом уходят земляные ступени.
Сигруд подхватывает один из шкворчащих канделябров:
– Мне кажется, нам пригодится такая штука.
* * *
Ступени все не кончаются: нескончаемая лестница ведет вниз, под ногами мокро и мягко, потому что они ступают по темной черной глине. Шара и Сигруд спускаются молча. Они не обсуждают тварь, которую только что повстречали, и он не спрашивает, откуда она узнала, как с ней расправиться: восемь или десять лет назад спросил бы, а сейчас – нет. Оба слишком долго проработали вместе, и их теперь мало что может удивить: ну подумаешь, чудесное существо. Увидел, поступил с ним как должно, пошел работать дальше. Хотя вот таких волшебных существ они, конечно, еще не видали. Вот же гадость.
– Как ты думаешь, в каком направлении мы движемся? – спрашивает Шара.
– На запад.
– К колокольне?
Сигруд кивает после некоторого раздумья.
– Значит, скоро мы окажемся… прямо под ней.
– Да. Более или менее.
Шара припоминает, как газовая компания отказалась от подряда в этом квартале, решив не тревожить то, что похоронено под Мирградом.
– У меня вот вопрос, – замечает Сигруд. – А как они это все сделали, и никто даже не заметил?
Шара осматривает стены туннеля:
– Похоже, этим ходом довольно долго пользовались. Смотри, как стены обтерлись. Но все равно, похоже, что прокладывали они его… огнем. Они его выжгли.
– Что?
Она показывает на черные отметины на стенах. И на песчаные выступы, спекшиеся в стекло.
– Это что же, кто-то взял и выжег в земле такую дырищу? – удивляется Сигруд.
– Похоже на то, – кивает Шара. – Как паяльником в металлической пластине.
– Ты такое раньше видела?
– По правде говоря… нет. И то, что я вижу, мне определенно не нравится.
Белые огоньки свечей высвечивают земляные стены. До щеки нежно дотрагивается странный сквознячок. Шара поправляет очки.
Ступеньки сглаживаются – или расплавляются? Стены отступают, а потом из земляных становятся каменными – хотя нет, это же не просто стена, это барельеф, причем крайне искусно высеченный… И хотя в дрожащем свете трудно рассмотреть узор, Шара уверена, что видела хрупкую фигурку Аханас и указующий перст Таалавраса.
А проход становится все шире и шире. А потом и вовсе куда-то исчезает.
– Батюшки… – бормочет Шара.
Свет свечей разгоняет тьму. Тени отступают, раздвигаясь, подобно занавесу, открывая глазам огромный зал.
Вспыхивают, дрожат, взблескивают отблески на дальних стенах, на резном камне…
– Батюшки мои…
Она осматривается. Зал огромен и чем-то напоминает гигантскую матку: потолок и кровля закругляются и смыкаются в единой точке, образовывая подобие гигантского сталагната. Зал разделен на шесть частей, сходящихся в центре подобно лепесткам и рыльцу невероятно пышной орхидеи. И каждый дюйм стен, потолка и пола покрыт резьбой: тут глифы, сигилы и пиктограммы, изображающие события нездешние и приводящие в благоговейный ужас: вот мужчина извлекает шипастый цветок из черепа и обвивает стебель вокруг языка, а вот три выпотрошенные женщины купаются в горном потоке, и глаза их подобны стеклянным бусинам, а с берега смотрит олень. Вот женщина зашивает надрез у себя под мышкой, а оттуда высовывается пустое лицо мужчины, словно бы она зашивает мужчину внутри себя. В небе кружат четыре ворона, под ними мужчина вонзает копье в землю, и оттуда бьет вода… и так далее и тому подобное: образы великого и тайного смысла, ей недоступного и неведомого.
– Где… – Сигруд хрюкает, откашливается и громко сглатывает. – Где мы?
В центре, у подножия «сталагната», Шара видит кучку рыхлой земли. Откуда ей здесь взяться? Она идет вперед, осторожно ступая по наклонному полу.
Сталагнат оказывается винтовой лестницей, поддерживаемой пятью колоннами: изначально их было шесть, но одну, как она замечает, убрали.
Шесть залов, шесть колонн, шесть Божеств…
Лестница упирается в заваленную землей дыру в потолке – там камни и крошащийся суглинок, словно земля над лестницей просела.
– Конечно, – осеняет ее. – Естественно!
– Что такое? – спрашивает Сигруд.
Шара осматривает первую колонну: она покрыта искусной резьбой, уподобившей камень стволу сосны, по которому ползет язычок пламени. Следующая колонна прямая и строгая, ее испещряет сложный повторяющийся орнамент, в котором угадываются математические формулы. А следующая колонна изваяна так, что напоминает пальмовый ствол, только вместо обрубленных листьев там зубы и ножи, и тысячи сплавленных клинков хищно устремляют вверх свои острия. А следующая имеет вид переплетенных лоз, извитых и старых, и сама колонна чуть изогнута подобно растению. А последняя из пяти колонн напоминает смерч, в котором хаотично закружило бутоны цветов, мех, листья, песок, – чего там только нет…
Шара сжимает кулаки и дрожит, как школьница:
– Вот оно! – радостно кричит она. – Значит, это оно и есть! Самое настоящее! Просто оно все время было внизу!
– Что за оно? – осведомляется Сигруд, на которого архитектурные красоты не произвели вовсе никакого впечатления.
– Ты что, не видишь? Святилище! Все говорили, что колокольня Престола мира уменьшилась после Мига! Но это не так! Потому что – вот оно, основание колокольни!
И она обводит рукой колонны, подпирающие лестницу:
– Эти ступени ведут наверх!
– И что?
– А то! Что колокольня не уменьшилась! Храм просто ушел под землю – вот что! Та убогая глиняная мазанка в парке никогда не была истинным Престолом мира! А ведь все так считают, даже в здесь, в Мирграде! А Престол мира – вот он! Это здесь Божества сходились и разговаривали!
Шара большую часть своей взрослой жизни посвятила изучению истории, поэтому открытие такого масштаба буквально кружит ей голову – ну и что, что это история Континента, сейчас не до патриотизма. Но тут подает свой трезвый голос рассудок: «Странное совпадение, не находишь? Главная святыня Мирграда просто взяла и ушла под землю, и никто об этом не знал восемьдесят лет? А Эрнст Уиклов, единственный изо всех людей, вдруг взял да и пробурил туннель сюда? Никто не прокладывает подземные ходы в неизвестность – нужно знать, куда хочешь выйти. Так что он знал. А если знал – значит, кто-то рассказал ему об этом».
Шара вынимает свечку из канделябра, который держит Сигруд.
– Иди. Расскажи Мулагеш. Быстро! Если новость об этом зале просочится в город, и люди узнают, что Престол все еще существует… и что он в руках сайпурцев… ох, тогда нам светит новое Лето Черных Рек. И да, пусть запустят перехват и возьмут Уиклова. Оповестить все блокпосты, внутри и снаружи города. Мы собрали на него достаточно – хотя бы для допроса, если не для ареста.
– А ты что будешь делать? – интересуется Сигруд.
– Останусь здесь и осмотрю зал.
– Одной свечки тебе достаточно?
– Она, вообще-то, тебе предназначается.
И она отдает ему свечку и показывает на канделябр:
– А вот это отдай мне, пожалуйста. Мне нужнее.
Сигруд заламывает бровь, пожимает плечами и отдает канделябр Шаре. И уходит вверх по земляному туннелю. На ступенях некоторое время пляшут слабые отблески света, а потом затухают. И Шара остается одна в огромном зале.
Свечи шипят и плюются воском. Где-то тихо капает вода – чпок… чпок… кап-кап-кап… А со стен на нее смотрят тысячи каменных глаз.
* * *
Она не сразу привыкает к мысли, что это не пещера, а храм, который должен стоять над землей. Вот почему в стенах каждого выпуклого зала зияют огромные дыры – там ведь были гигантские окна, и, хотя она стоит далеко от них, у самой винтовой лестницы, похоже, что все они разбиты, – хотя нет, не все. Одно цело. Значит, вот что случилось со знаменитыми витражами Престола мира… Они разбиты, и осколки их почили в грязище под городом.
Шара оглядывает шесть атриумов: каждый отделан в особом стиле, видимо соответствующем вкусам отдельного Божества, – так же, как и поддерживающие лестницу колонны. Да, вот сигилы Олвос, Таалавраса, Аханас, Вуртьи, Жугова, а вот и…
– Хм.
Да уж. Несмотря на то что Престол мира целиком ушел под землю, целостность он, похоже, не сохранил: стены, пол и потолок одного атриума гладкие и чистые. Никакой резьбы. Словно бы кто-то прошелся с напильником и все это счистил.
И тут Шара видит: кто-то совсем недавно взялся за реставрацию этого пустого зала! Вот, часть пола выложена резными плитами – и они гораздо темнее камня, которым отделаны остальные атрии. Но работа не окончена, кругом разбросаны фрагменты узора: образы, слова, сигилы – недорассказанные истории и недописанные мифы. И очень много пустых мест, над которыми еще не начинали трудиться.
На этих новых темных камнях то и дело повторяется рисунок: человекообразная фигура в центре зала выслушивает просителя. И рядом – знакомая сигила: весы, схематически прорисованные как две черточки на квадратной вилке-ножке.
Руки Колкана. Ждут, чтобы взвешивать и судить…
Шара оглядывается: так и есть, колонны в этом атриуме нет. Исчезла.
Вот так вот можно отредактировать не просто книгу, а историю мира. Диковатое ощущение…
«А ведь раньше здесь все было изузорено, как и в других секциях, – думает Шара. – Держу пари, все исчезло в 1442 году, когда Колкан бесследно пропал из нашего мира». Она смотрит на разложенные в прихотливом порядке пиктограммы. А теперь кто-то взялся вписать недостающие строки в историю…
Шара усмехается: похоже, кое-кто слишком серьезно относится к термину «реставрационизм».
Но ведь это тщетные усилия! Сколько тут еще пустого потолка, пола и стены? На вид, несколько тысяч квадратных футов! И потом, разве им известно, что тут было изначально изображено? И откуда они взяли этот камень?
Шара подбегает и начинает рассматривать плиты пола. Камни сами по себе прекрасны – темные, гладкие, таких она еще не видела. И пиктограммы незнакомые, на них неизвестные события и деяния: Колкан здесь изображен в длинной мантии с капюшоном, вот он делает разрез на обнаженном человеческом теле, и оттуда вырывается чистый белый свет, заливая пологие холмы вокруг.
Может, это камни из другого храма? Она проводит пальцем по изгибам резьбы. Кто-то взял их из сохранившегося храма Колкана и привез сюда. Чтобы отстроить заново принадлежащую Колкану часть Престола мира…
Неужели все это дело рук Эрнста Уиклова?
И тут она видит – впереди что-то шевелится. Шара медленно поднимает взгляд. На стене что-то… дергается?..
Вглядевшись, она понимает, что смотрит на здоровенную пустую раму. Та стоит на полу всего в нескольких ярдах, и ничего, естественно, не дергалось – точнее, это тень от рамы плясала на стене в дрожащем пламени свечек.
Шара осматривает остальные залы – ни в одном нет такой рамы. Видимо, ее сюда притащил тот же человек, что пытался восстановить атриум Колкана, – и, наверное, он же проделал подземный ход, заключил мховоста в магический круг и оставил его сторожить потайную дверь.
Шара идет к раме. Это каменный дверной проем высотой примерно в девять футов. Логично, ведь в довоенные времена, до Мига, континентцы были гораздо выше ростом – сказывалось хорошее питание. Косяки отсутствующей двери изукрашены искуснейшей, поражающей воображение резьбой (впрочем, это типично для артефактов Божественной эпохи): тут и густой мех, который так и хочется погладить, и сухое дерево, и меловой камень, и скворцы. Но резьба не имеет никакого отношения к Колкану, во всяком случае, Шара читала, что Колкан терпеть не мог украшения любого рода…
Шара дотрагивается до каменной скворушки:
– Разве ты – не любимая птичка Жугова?
Она дотрагивается до птички, и дверь отъезжает назад. Шара смотрит вниз – ага, рама укреплена на четырех металлических колесиках. Шара снова толкает ее – и та со скрипом отъезжает дальше. Интересно, кому могла понадобиться дверная рама на колесиках?
Шара разглядывает окно Колканова атриума. В каждом зале изначально было по витражу, посвященному каждому из Божеств. Сохранилась масса свидетельств их красоты – люди восторгались непередаваемой игрой синего и красного, такой тонкой, что глаз ее не воспринимал, зато сердце – сердце чувствовало прекрасно. Очень жаль, что витражи разбились. Но, с другой стороны… а почему стекло в Колкановом зале цело? Оно прозрачное, без единого рисунка, но – целое. Шара медленно водит перед ним канделябром, вглядываясь в отражение: это обычное, ничем не примечательное окно. Да, большое и прозрачное, но обычное. Возможно, витраж исчез, оставив после себя простое стекло, в миг, когда исчез Колкан? Но если даже так, то почему это стекло уцелело, а остальные – разбились?
Она поднимает канделябр и осматривает остальные круглые залы.
Некогда, в дни ее молодости, тетушка Винья отвела ее в Национальную библиотеку в Галадеше. Шара читала запоем, но на тот момент она даже представить себе не могла истинную ценность книг, возможности, которые они предоставляют: что их можно сохранить для вечности, запасать их, как инженеры запасают воду, только это бесконечный ресурс времени и знания, хранящийся в чернилах и бумаге и выстроенный вдоль полок… Что это память, принявшая физический облик, совершенный и неизменный, подобный залитому в стекло шершню: жало наготове, с него свешивается капелька яда, мгновение остановлено и пребудет таковым навеки…
Тогда она испытала настоящее потрясение. Это было – тут в голове быстро мелькнуло воспоминание о том, как они с Во читали друг напротив друга в библиотеке, – это было очень похоже на первую любовь.
А теперь она вдруг нашла все это под землей, словно бы все чувства, слова и рассказы жителей Континента уносило дождевой водой, и влага эта впитывалась в землю, просачивалась сквозь глину, по капле, по капельке, через пустоты в грунте – медленно кристаллизуясь здесь, в этом огромном зале.
И вот теперь во тьме под Мирградом Шара Комайд ступает на древний камень, и любовь вновь настигает ее.
* * *
На лестнице гулко топочут. Шара отрывает взгляд от пиктограммы Олвос – так и есть, ступени залиты ярким светом. Свечи несут.
Вбегает Мулагеш, за ней Сигруд и двое солдат с канделябрами. Быстрым взглядом она окидывает огромную внутренность храма и расстроенно опускает плечи: мама дорогая, ну мы и влипли. И вздыхает:
– Твою маман…
– Это же настоящее археологическое открытие! – радостно восклицает Шара.
Она уже идет навстречу губернатору через атриум.
– Угу, можно и так назвать, – мрачно отзывается Мулагеш.
– Вы людей у входа поставили?
– Да. Пятеро солдат.
– Смотрите, сколько тут всего! – Шара осторожно обходит грязную лужу. – Огромное помещение, гигантское! Полагаю, это самое серьезное открытие со времен войны, со времен Мига! Это величайшее историческое открытие в… мгм… истории! Да найди мы хотя бы часть здешней стены или пола, фрагмент камня со здешними пиктограммами – даже это было бы почитай что революционным свершением в науке, в Галадеше бы с ума сошли от радости, а тут – у нас целое здание, целое, нетронутое! Это… – у Шары перехватывает дыхание от восторга, – это же просто в голове не укладывается!
Мулагеш оглядывает своды потолка. И поглаживает шрамы на челюсти костяшками пальцев:
– Это точно. Не укладывается.
– Смотрите! Вот здесь, в этой секции! – Шара наклоняется. – Эти барельефы площадью в несколько квадратных ярдов – да они дают нам больше знания об Аханас, чем все многолетние исторические разыскания! Мы же почти ничего о ней не знаем! Аханастан, как вам, должно быть, известно, чрезвычайно пострадал от Мига – да что там – он практически исчез, целиком. И Сайпуру пришлось отстроить его почти с нуля!
– Угу.
– Но этот барельеф объясняет, почему он исчез! Он подтверждает теорию, что Аханас, по сути, вырастила город, посеяв чудесные семена, которые затем выросли в здания, дома, улицы, фонари… Персики светились по ночам и так освещали улицы, а вместо водопровода и канализации была виноградная лоза, по которой все закачивалось и откачивалось… Это невероятно!
Мулагеш почесывает уголок рта:
– Да уж.
– А когда Аханас умерла, все, абсолютно все это исчезло. Более того, теперь есть еще одно объяснение тому, откуда взялась эта лакуна в знаниях! Если все, что здесь сказано, правда, то аханастани действительно верили, что всякая жизнь и все части тела священны, – и потому они не принимали лекарств, не стригли волосы, не брились и не стригли ногти, не чистили зубы и даже… не омывали… мгм… нижнюю часть тела.
– Хммм.
– Но это потому, что они в этом и не нуждались! Аханас справлялась сама, все их нужды удовлетворялись сами собой! Они жили в полной гармонии с огромным городом, это была органическая цивилизация! Но после Мига, когда по Континенту стали распространяться болезни, они наверняка отказались принимать лекарства, не стали лечиться… Поэтому практически все аханастани Континента попросту умерли! Не выжили! Вы можете себе такое представить? Можете?
– Угу, – кивает Мулагеш. И любезнейшим голосом добавляет: – Вы ведь понимаете, что нам придется завалить подземный ход, не так ли?
– А эта секция, – продолжает было тараторить Шара, – она… она…
И тут она опускает голову и медленно выдыхает. И медленно поднимает взгляд на губернатора.
Мулагеш мрачно улыбается и кивает:
– Естественно, понимаете. Вы прекрасно знаете, что подобную штуку невозможно сохранить в тайне. Мы не сможем скрыть, что нашли под землей громадный храм. Ну поставим мы часовых. А люди начнут спрашивать: а что это они тут часовых понаставили, и что это они здесь стерегут, и они будут спрашивать и спрашивать и в конце концов докопаются до истины. Или начнем мы раскопки, к примеру, станем изучать все это, исследовать, и тут же все увидят, что сюда нагнали технику и людей, – и опять же начнут спрашивать. И они будут спрашивать и спрашивать, пока не докопаются, что тут и как. Проблем, – Мулагеш обтачивает обломанный ноготь о край барельефа, как о маникюрную пилку, – не избежать. А самое страшное – об этом знает Уиклов. И если мы тут начнем копаться и что-то делать, он тут же воткнет нам нож в спину: «Ляляля, подлые сайпурцы прячут от нас святой храм в земле, трогают наши святые изображения своими грязными сайпурскими пальцами, ляляля». Вы представляете, как у них у всех бомбанет? Вы представляете, что случится, посол? Я даже не судьбу вашего расследования имею в виду – я о целом Континенте сейчас говорю. И о Сайпуре тоже.
Шара вздыхает. Она ожидала, что этот довод приведут, но надеялась, что удастся избежать радикальных мер.
– Вы действительно хотите… просто обрушить свод? Вы действительно считаете, что это – лучший выход из положения?
– Я бы предпочла залить этот поганый туннель цементом. Но техника привлечет слишком много лишнего внимания. Тут у входа вбиты деревянные стойки, это сто процентов крепеж. Справимся за час.
– А как быть с уликами? Тут кто-то работал. Реставрировал резьбу в атриуме Колкана. Они сюда даже каменный дверной проем притащили, хотя я понятия не имею, зачем. Но, как бы то ни было, этот кто-то явно сотрудничает с Уикловым!
– Вы настолько уверены в этом, что готовы рискнуть? А если континентцы пронюхают о храме?
Шара трет глаза, затем прислоняется к стене и окидывает взглядом Престол мира.
– Я смотрю на это, – говорит она, – и понимаю, что я бы тут с радостью провела остаток жизни. Смотрела бы, изучала каждую завитушку…
– Если бы вы были историком, – говорит Мулагеш, – вы бы так и поступили.
Шара вздрагивает – слова губернатора неприятно задели ее.
– Но вы – не историк, посол. Вы – слуга государства, – тихо говорит Мулагеш. – Мы обе выполняем свой долг. У нас есть обязанности. К здешним барельефам отношения не имеющие.
В голове у Шары звучит спокойный голос Ефрема Панъюя: «Какая правда вам ближе?»
Канделябры плюются воском. На стенах танцуют тысячи теней. Древние лица сердито смотрят из мрака.
– Хорошо. Заваливайте ход, – говорит Шара.
* * *
А потом она плетется и плетется вверх по лестнице, а ступени все не кончаются. Шара пытается запомнить, намертво отпечатать в памяти все, что она увидела, все, что прочитала. Во имя всех морей, мы не можем себе позволить потерять и это…
– Значит, там внизу ничего чудесного не было? – спрашивает Мулагеш.
– Во всяком случае, мне на глаза ничего такого не попалось… – с отсутствующим видом откликается Шара.
– Фух, как хорошо-то, – говорит Мулагеш. И, достав из кармана пальто конверт, передает его Шаре. – Мы тут просматривали выкраденные страницы списка предметов со Склада, и мне аж поплохело: вдруг эти штуки не только там лежат, вдруг они еще где-то завалялись и кто-то на них наткнется! Именно эти двадцать страниц сильно обрадовали реставрационистов. Точнее, что-то из списка. Но я думаю, что им в руки попала и куча других листов. Мы не знаем, сколько…
Так, а вот на это стоит отвлечься. Шара выхватывает конверт из руки Мулагеш, вскрывает его и читает:
356. Полка С4–145. Травертиновы сапоги: с их помощью можно делать огромные, в несколько миль шаги и пересечь Континент за день. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО, чтобы одна нога обязательно касалась земли: изначально здесь была вторая пара, но во время испытаний человек, надевший сапоги, подпрыгнул и улетел в стратосферу. Оставшаяся в наличии пара сохраняет чудесные свойства.
357. Полка С4–146. Колканов ковер: маленький коврик, который СОВЕРШЕННО ТОЧНО может летать. ЧРЕЗВЫЧАЙНО сложен в управлении. Хроники сообщают, что Колкан благословил каждую нить ковра, наделив ее чудесной способностью летать, так что теоретически каждая нить способна поднять в воздух многотонный вес – мы, правда, не решились провести испытания. Сохраняет чудесные свойства.
358. Полка С4–147. Игрушечная тележка: исчезает в новолуние, снова появляется в полнолуние, доверху наполненная медными монетками с профилем Жугова. Однажды вернулась нагруженная костями (не человеческими). Сохраняет чудесные свойства.
359. Полка С4–148. Стеклянное окно: изначально служило тюрьмой многочисленным арестантам-аханастани, которых помещали внутрь стекла. После гибели Аханас окно два месяца кровоточило, арестантов больше никто не видел.
360. Полка С4–149. Эдикты Колкана: книги с 237 по 243. Семь томов посвящены женской обуви: как ее изготавливать, носить, выбрасывать, чистить и так далее.
– М-мама дорогая… – тихо говорит Шара.
Мулагеш останавливается, чтобы чиркнуть спичкой о камень, торчащий из стены туннеля.
– Да уж…
– Выходит, Склад набит вот такими вот штуками?!
– Ну им просто попалась часть каталога, в которой сконцентрированы активные, не потерявшие чудесных свойств артефакты. И стекла много, кстати…
– Божества очень любили стекло. Тайники там устраивали… – бормочет Шара.
– В смысле?
– В смысле прятали туда вещи. Или людей. Жрецы знали, как совершать чудо Освобождения, точнее, их было много, таких чудес. Человеку посылали обычную стеклянную бусину, он совершал нужное чудо, разбивал стекло, а там… – Шара совершает в воздухе пассы, – …горы золота, особняк, замок, невеста или… в общем, все что угодно.
И она замолкает, снова погружаясь в чтение: список завораживает ее. И пугает до смерти. Зачитавшись, она даже едва замечает, что выходит из туннеля, – ах да, света больше, в комнате мховоста ярко горят свечи в канделябрах…
Мулагеш кивает двум молодым солдатикам с топорами и кувалдами:
– Вперед, – приказывает она.
Солдаты идут в туннель.
Шара читает последние страницы.
Кулаки ее сжимаются, едва не разорвав бумагу.
– Подождите! – кричит она. – Стойте, подождите!
– Подождать? – возмущается Мулагеш. – Чего?
– Смотрите, – говорит Шара.
И показывает на один из пунктов:
372. Полка С5–162. Ухо Жугова: покрытый резьбой каменный дверной проем, в котором нет двери. Укреплен на железных колесиках. Считается, что у него есть проем-близнец, и, вне зависимости от того, где находится другое Ухо, и при условии соблюдения правил использования, можно войти в одну дверь и выйти из другой. Мы полагаем, что проем-близнец уничтожен. Чудесные свойства утрачены.
– Вы припоминаете, – спрашивает Шара, – каменную дверь в атриуме Колкана? Мы только что ее видели?
– Да-да-да… – Мулагеш медленно поднимает глаза – причем лицо ее не меняет своего выражения. – Вы… думаете…
– Да.
Мулагеш на мгновение задумывается:
– Значит, если одно Ухо тут внизу…
– …а его близнец – в здании Склада…
Они смотрят друг на друга еще секунду. А потом одновременно бросаются к туннелю. Сигруд и еще двое солдат изумленно смотрят на это, а потом тоже бегут к лестнице.
* * *
– А все-таки, если подумать, это все равно самый лучший выход, – нараспев произносит Мулагеш. Губернатора не видно – темно. – Взять и размолотить эту гадость.
Шара поднимает канделябр повыше, оглядывая дверной проем:
– Вы разве не хотите узнать наверняка, пользовались дверью или нет? А что, если они сумели пробраться на Склад?
Слышится тихое потрескивание – Мулагеш затягивается сигариллой.
– Они могли туда пробраться, дотронуться до какой-нибудь жути и благополучно помереть.
– Ну тогда я лично с удовольствием посмотрела бы на труп.
И оглядывает резную каменную раму: неужели ничего? Ни надписи, ни словечка, ни рычажка, ни кнопки? Впрочем, такие вещи не нуждаются в механизмах. Точнее, механизм у них есть, но это механизм чуда, он куда более абстрактен…
Сигруд безмятежно лежит на полу, словно отдыхает на солнечном пригорке.
– Может, – замечает он, – нужно что-то с другой дверью сделать?
– Предпочтительный вариант лично для меня, – отзывается Шара. И бормочет строки из Жугоставы – впустую, дверь никак не реагирует. – Тогда эта дверь бесполезна. Если, конечно, Склад хорошо охраняется.
– Он прекрасно охраняется! – сердито гаркает Мулагеш.
Шара пробует зайти с другой стороны – а вознесем-ка мы хвалу главным святым из числа жугостани! И это тоже не срабатывает – дверь не подается. Вот, значит, как чувствует себя распутник, пытающийся склеить девицу на вечеринке, – то один комплимент отпустит, то другой…
– Мне все-таки кажется, – наконец говорит она, – что я делаю что-то не то.
Мулагеш с трудом подавляет свирепый зевок:
– С чего это вы так решили?
Шара рассеянно переводит взгляд на дальнюю стену атриума Жугова: на одной из пиктограмм запечатлена какая-то невероятно сложная по эквилибристике оргия.
– Жугов требовал, чтобы ему доказывали преданность не словами, а делом. Ввязывались во что-нибудь безумное, спонтанно, отдавая всего себя…
Оргией предводительствует некая фигура в остроконечном колпаке, в одной руке у нее кувшин вина, а в другой – нож.
– Он требовал, чтобы ему приносили жертвы кровью, потом, слезами, эмоциями…
И тут она припоминает знаменитый пассаж из Жугоставы: «Те же, что не желают расставаться с кровью и страхами, отвергают вино и забавы, кто, получив возможность выбрать, дрожат и в страхе отступают, – о нет, таковые не будут допущены ко мне».
Вино. И плоть. Вот она, разгадка.
– Сигруд, – говорит Шара. – Дай-ка мне свою фляжку.
Сигруд поднимает голову и недоуменно хмурится.
– Я знаю, у тебя есть. И да, мне на это плевать. Просто дай мне флягу. И кинжал.
Мулагеш тушит сигариллу о стену, огненными брызгами летят искры.
– Что-то мне совсем не нравится, какой оборот приняло это дело…
Сигруд поднимается, шебуршится в карманах пальто, там что-то позвякивает – без сомнения, какой-то крайне неприятный инструментарий – и вынимает здоровенную бутыль коричневого стекла.
– Это что? – спрашивает Шара.
– Сказали, что сливовое вино, – пожимает плечами Сигруд. – Но пахнет оно… в общем, сдается мне, что тот торговец малешко наврал.
– А ты… попробовал?
– Ну да. И даже не ослеп. Так что… – и он протягивает ей кинжальчик.
«Это либо сработает… – думает Шара, – либо я окажусь в крайне неловком положении…» Сигруд выдирает из бутыли пробку – да уж, пахнет это пойло так, что аж глаза слезятся, – а она стаскивает зубами перчатку со свободной руки. Так, надо собраться. И Шара режет ладонь кинжалом.
Мулагеш ошалело охает:
– Это что еще за…
Шара приникает к порезу и слизывает кровь – рана кровоточит обильно, кровь заполняет рот, вкус у нее медно-соленый, Шару тошнит. И она отрывает ладонь от губ и делает быстрый глоток из бутыли.
Да уж, такой дряни ей еще не проходилось пробовать. Желудок содрогается в рвотных спазмах, рвота карабкается вверх по пищеводу… Нет, нет, сейчас нельзя! Она разворачивается к дверному проему, разевает рот и оплевывает пустоту в раме замешанной на алкоголе кровью.
Вот теперь – можно. И даже сил нет посмотреть, сработало или нет. Шара успевает отдать бутыль и кинжал Сигруду, падает на четвереньки, и ее бурно рвет. Впрочем, большая часть содержимого желудка покинула ее еще при виде мховоста, поэтому блевать почитай что и нечем.
Она слышит, как Мулагеш нечленораздельно кхекает и охает.
И как тихонько скрипит сталь – это Сигруд потянул черный кинжал из ножен.
– Что? – хрипит она. И утирает выбитые рвотой слезы. – Что там? Получилось?
Она поднимает голову: мгм, да. Действительно, пока непонятно.
Дверной проем залила непроницаемая чернота, словно кто-то, пока она не смотрела, вставил туда пластину черного графита. Одна из солдат Мулагеш, любопытствуя, забегает за дверь – что ж, ее совершенно не видно за глухой тьмой внутри. Девушка высовывается с другой стороны двери:
– Ну что? Ничего?
– Ничего, – качает головой Мулагеш. – А что, оно должно было повести себя… – ей явно не хватает слов: – …Так?
– По крайней мере оно отреагировало, – вздыхает Шара. Берет канделябр и подходит к двери.
– Осторожно! – вскрикивает Мулагеш. – Вдруг… не знаю… оттуда что-нибудь возьмет и выпрыгнет!
И тут Шара замечает, что чернота внутри проема не так плотна, как кажется: она подходит ближе, тени отступают, и из тьмы выплывают высокие металлические стеллажи и трухлявый деревянный пол.
«Полки, – понимает она. – Я вижу ряды полок. Очень много рядов полок».
– Во имя всех морей и звезд… – шепчет Мулагеш. – Что это?
Сердце Шары екает: неужели это вид с полки С5–162, на которой стоит парное Ухо Жугова?
Шара поднимает с пола комок земли, прикидывает расстояние и запускает его в дверь.
Комок пролетает через дверной проем, исчезает в темноте – и, судя по глухому удару о деревянный пол, падает наземь.
– Пролетел насквозь, – глубокомысленно замечает Сигруд.
«Итак, – мелькает у Шары в голове, – владыка Жугов все-таки позволил нам войти в свою тень».
А вот это – тоже серьезная проблема. Она ничего не говорит вслух, но мрачно думает: только что они обнаружили вполне себе живое божественное существо из сотворенных Жуговым, а теперь вот глядите: один из его чудесных артефактов вполне себе функционирует… «Интересно, – думает Шара, – кто, кроме каджа, присутствовал при смерти Жугова?..»
Так, пора возвращаться к делу.
– Ну что ж, заглянем и посмотрим, что там и как?
* * *
Ее на мгновение накрывает тенью, пламя свечей в канделябре съеживается и едва не угасает – а потом тянет неприятным сквознячком, и… и все, скрипит под ногами рассохшийся деревянный пол.
Она вышла. С той стороны.
Шара делает осторожный вдох и тут же захлебывается кашлем.
Воздух внутри Запретного Склада – немыслимо затхлый, куда там до него Престолу мира: словно бы ты зашел с улицы в дом стариков-скопидомов. Шара жалостно перхает в окровавленный платок, которым обмотана ладонь.
– Здесь что, вообще вентиляции нет?
Мулагеш, прежде чем войти в дверь, предусмотрительно обвязала голову банданой.
– На хрена ж она тут сдалась? – зло вопрошает она.
Сигруд входит следом. Если воздух и доставляет ему неприятности, он этого никак не показывает.
Мулагеш оборачивается к двери-близнецу. Та удобно расположилась на самой нижней полке стеллажа С5. Двое оставшихся в атриуме солдат тревожно переминаются с ноги на ногу и смотрят на них.
– Нет, это что, все взаправду происходит? – громко вопрошает Мулагеш. – Мы вот так взяли и перенеслись на несколько миль от Мирграда?
Шара поднимает канделябр вверх: над их головами уходят в высоту полки – да их тут с четырехэтажный дом понаставлено… Где-то совсем высоко Шара различает – или ей только кажется? – жестяную крышу. В дюжине футов притаился огромный скелет старинной лестницы на колесиках.
– Я бы сказала, что, раз мы здесь, – да, мы взяли и перенеслись.
И вот они втроем стоят посреди Запретного Склада и прислушиваются.
Темнота полнится поскрипываниями, вздохами и глухим гулом. Звякают монетки, кто-то скребется о дерево. Похоже, давление воздуха в зале постоянно меняется – или ей кажется? Но нет: либо что-то внутри Склада обморочило ее организм, и кожа, внутреннее ухо и синусы шлют ложные сигналы, либо тысячи безмолвных сил накатывают на нее подобно океанским течениям – и растворяются в воздухе.
Сколько же здесь припрятано артефактов? Молчащих во тьме, но активных, работающих? Эхо скольких божественных слов все еще гуляет под этой крышей?
Сигруд указывает вниз:
– Посмотри-ка.
На деревянном полу толстым слоем лежит пыль, но в этом проходе ее покров потревожен – и недавно. Следы. Много следов.
– Я так понимаю, – говорит Мулагеш, – что здесь натоптал наш таинственный противник.
Шара пытается сосредоточиться: цепочки следов идут сразу во все стороны и путаются. Похоже, злоумышленник успел прогуляться сюда не один раз.
– Нужно смотреть, все ли стоит, как стояло, не производились ли с предметами какие-то манипуляции, – говорит Шара. – А потом, нам нужно понять, не пропало ли что-то. Логично ожидать, что если что-то пропадет – то с полок из нашего списка. Ведь именно там находилось что-то, что весьма заинтересовало реставрационистов. Так что… – она быстро просматривает страницы, – …нам нужно осмотреть полки С4, С5 и С6.
– Так ведь он мог просто взять и спереть первую попавшуюся вещь, – вздыхает Мулагеш.
– Да. И так могло быть.
Большое вам спасибо, госпожа губернатор, за то, что лишний раз напомнили о бесплодности наших усилий.
– У каждого есть свечки, правильно? Так вот, давайте разделимся, ну, конечно, присматривать надо друг за другом… и вообще, нам нужно отсюда как можно скорее убраться. И я не думаю, что в этом есть необходимость, но все равно скажу: ничего не трогать. Не ничего не трогать – а вообще – ничего – никогда – не – трогать. И если что-то попробует привлечь ваше внимание или попросит… помочь, так вот – не помогайте и не обращайте внимания. Просто идите мимо.
– А что, эти… предметы… действительно соображают? В смысле у них собственные мозги есть? – удивляется Сигруд.
Память услужливо подсказывает Шаре длинный список чудесных предметов, обладавших собственным разумом – либо имитировавших таковой.
– Вы, главное, просто ничего не трогайте, – говорит она. – И от полок – ото всех! – подальше держитесь.
Шара идет к полкам стеллажа С4, Мулагеш – С5, Сигруд – С6. Идя по проходу, она размышляет о том, сколько лет этому зданию. Скрипучие полки скоро разменяют девятый десяток. И каждый год оставил на них отпечаток.
– Кадж не считал, что свезти все на склад – это окончательное решение проблемы, ведь так? – шепотом произносит она, оглядывая стеллажи. – А мы – мы просто делали вид, что этого места не существует. И думали, что все как-нибудь само рассосется.
Каждое место на полке помечено крохотной металлической табличкой с номером. И все, более никакой информации о помещенном на полку предмете нет. А предметы, надо сказать, там лежали, мягко говоря, самые разнообразные.
Вот полка, целиком занятая разобранной на части огромной статуей. На месте лица – гладкая поверхность, даже черты не намечены. Только орнамент идет по всей голове – фракталоподобный, извивающийся. «Таалаврас, – думает Шара. – Или одно из его воплощений».
Деревянный ящик, весь опутанный цепями со множеством замков. Изнутри доносится мелкий топоток и поскребывание, словно бы множество маленьких существ царапают дерево коготками. Здесь Шара старается не задерживаться.
На верхней полке источает нездешний свет золотой меч. Рядом стоят двенадцать коротких толстых стеклянных колонн. И тут же – большая серебряная чаша, усаженная драгоценными камнями. А следом – горы и горы книг и свитков.
Она идет дальше. Вот шестьдесят оконных стекол. Латунная нога. Мертвое тело, запеленутое в одеяло, перевязанное серебряной бечевкой.
А конца прохода, кстати, даже не видно. «Здесь лежат, – думает она, – полторы тысячи лет истории. Истории артефактов».
Историк в ней говорит: «Ах, как же прекрасно, что кадж решил сохранить все это!»
Оперативник возражает: «Он должен был уничтожить все эти предметы, все до единого, при первой же возможности».
– Посол? – слышится голос Мулагеш.
– Да?
– Вы… что-то сказали сейчас?
– Нет. – Некоторое время Шара молчит. – Нет, не думаю, что я что-то говорила вслух.
Ответом ей служит долгое молчание. Шара осматривает коллекцию серебряных больших пальцев.
– А может быть так, чтобы эти штуки разговаривали у тебя в голове? – интересуется наконец Мулагеш.
– Здесь все может быть, – отвечает Шара. – Просто не обращайте на это внимания.
Ведро, полное детской обуви.
Трость из конского волоса.
Шкаф, из которого вываливаются древние пергаменты.
Маска из ткани в виде лица старика.
Деревянная статуэтка мужчины с семью эрегированными членами разной длины.
Она пытается сосредоточиться на поиске, но мозг лихорадочно перебирает все бережно сохраненные в памяти легенды, пытаясь пристроить увиденное здесь в тысячи старинных сюжетов. Неужели это – тот самый узел, в котором держали спутанной грозу? Когда его развязывали, шел бесконечный дождь… А это – уж не арфа ли это ховтарика из придворных Таалавраса? Музыканта, игра которого оживляла гобелены? А это? Батюшки, да ведь это же та самая алая стрела Вуртьи! Ей богиня пронзила брюхо приливной волны и обратила ту в спокойное течение!
– Нет, – вдруг слышит она голос Сигруда. – Нет. Это не так.
– Сигруд? – окликает его Шара. – Ты там как? В порядке?
Ответом ей становится тихое гудение – источник звука находится всего в нескольких ярдах от нее.
– Нет! – вскрикивает Сигруд. – Это ложь!
Шара быстро идет по проходу – так, а вот и Сигруд. Стоит с противоположной стороны полки и пристально смотрит на черный полированный шарик в выстеленной бархатом шкатулке.
– Сигруд?
– Нет, – строго говорит он шарику. – Я ушел оттуда. И я… я больше не там. Не там, понял?
– Что это с ним? – беспокоится Мулагеш.
– Сигруд, послушай меня, – говорит Шара.
– Они умерли… – он пытается подыскать объяснение, – …потому что хотели меня обидеть!
– Сигруд…
– Нет. Нет! Нет, я не стану этого делать!
Черный полированный шарик слегка поворачивается на своем бархатном ложе – ни дать ни взять пес, склоняющий голову, словно спрашивая: а почему нет?
– Потому что я, – с трудом выговаривает Сигруд, – не король!
– Сигруд! – орет Шара.
Он вздрагивает и удивленно моргает. Черный шарик опускается поглубже в шкатулку – ему явно жаль терять собеседника.
Сигруд медленно разворачивается к ней:
– Что… что это было?
– Ты здесь, – говорит она. – Ты здесь, мы пришли на Запретный склад. Ты здесь, со мной.
Дрейлинг потрясенно потирает висок.
– Вещи, которые собраны здесь… они очень старые, – объясняет она. – И мне кажется, им тут скучно. И они… жрали друг друга в темноте. Как рыбы в высыхающем водоеме.
– На полках все на месте, – ворчит он. – Они аж ломятся от всякой… всячины.
– Я тоже не обнаружила недостач, – слышится из другого прохода голос Мулагеш. – Ты же не заставишь нас лезть на верхние полки по лестницам, правда?
– Их двигали? Лестницы? Посмотри на пыль на полу.
Молчание. Потом:
– Нет.
– Значит, это что-то с нижних полок.
И Шара сосредотачивается на осмотре стеллажей.
Ищем. Ищем.
Четыре латунные масляные лампы. Полированная доска безо всяких надписей. Детские куклы. Прялка с медленно крутящимся колесом, хотя что тут прясть – неведомо, ведь нет ни кудели, ни пряхи…
И тут, с самого края, буквально в шаге…
Ничего.
Возможно, что-то там и есть. Но Шара ничего не видит на этом участке полки.
Неужели нашла? Неужели здесь что-то лежало, и это забрали?
Она решительно направляется к пустующему месту. Глаза настолько привыкли к множеству разнообразных предметов на окоеме зрения, что она не особо обращает внимание на то, что у нее под ногами. Но, подходя к пустующей полке, она на мгновение задумывается: видела я или не видела что-то блестящее на полу?
Неужели провод?
И тут что-то захлестывает ее лодыжку, натягивается, рвется с тихим – дзынь!
Из следующего прохода доносится тихий металлический звон – это скачет по доскам крохотный стальной ключик.
Сигруд надсадно ревет:
– На пол! Все на пол!
И тут же расцветает оранжевое пламя, грохочет взрыв.
Справа прокатывается жаркая волна, опаляя бок. Шару вздергивают на ноги, она влетает плечом в соседние полки, с них летят древние сокровища: кувыркается в воздухе кожаная сумка, извергая из себя бесконечный поток золотых монет, бледная лента на палочке падает на землю и обращается в листья.
Вокруг нее все крутится, крутится – пыль, металл, старое дерево, она падает на пол, цепляется руками за полку, но подняться не может.
Справа бушует пламя, под потолком сворачивается, как черная кошка в лучах солнца, дым.
Слева обрушивается с полки статуя Таалавраса. Сигруд неуклюже подбирается поближе, опускается на колени.
– Ты как? – спрашивает. И дотрагивается до головы: – У тебя тут волосы сгорели…
– Что это было за чудо, разрази его гром? – выдыхает она.
– Это было не чудо, – отзывается он и оборачивается к расползающемуся пламени. – Это была мина. Зажигательная, как мне кажется. А может, не взорвалась толком.
– Что за хрень здесь творится? – слышится крик Мулагеш.
Где-то в темноте пищат тоненькие голоски.
Пламя бежит по пыльному полу, взлетает на полку и принимается поедать одеяло, в которое завернут труп.
– Нам надо уходить, – говорит Сигруд. – Здесь много сухого дерева – сгорит за пару минут.
Шара смотрит на разгорающийся пожар. Полка справа уже занялась и ярко пылает.
– Здесь ничего не стояло, – бормочет она. – На той полке впереди – не было ничего. Что-то оттуда украли.
Она пытается ткнуть пальцем в нужном направлении, палец пьяно утыкается в пол.
– Нам нужно уходить, – настойчиво повторяет Сигруд.
В темноте слышны резкие хлопки, словно что-то лопается. В огне кто-то истошно верещит.
– Да что, мать его за ногу три раза, здесь происходит?! – свирепо орет Мулагеш.
Шара смотрит на Сигруда. И кивает.
Тот поднимает ее как перышко и без усилий перекидывает через плечо.
– Мы уходим! – орет он Мулагеш.
Сигруд бежит по проходу, поворачивает направо и кратчайшим путем мчится к каменному дверному проему.
Через лес высоченных стеллажей сочится злой алый свет.
Десятилетия. Века. Хотя нет. Больше.
Все, все погибло.
* * *
И вот они снова в зале Престола мира. Сигруд осторожно опускает Шару на пол.
Та кашляет, потом слабым голосом спрашивает:
– Сильно меня обожгло?
Сигруд просит ее сжать и разжать пальцы ног и рук. Пальцы повинуются.
– Отлично, – говорит он. – Не, не особо пожгло. Бровь спалило. Волосы чуть-чуть. И лицо у тебя красное. Но это не ожог. Во всяком случае, не сильный. Повезло тебе.
И он поднимает взгляд на каменную дверь, за которой бушует адское пламя.
– Я уж не знаю, о чем думали те, кто устроил эту ловушку. Но когда я это услышал… – Тут Сигруд красноречиво качает головой. – Этот звук я узнаю из тысячи.
Мулагеш опирается на плечо солдата и разражается сухим кашлем. Между приступами она умудряется прикурить другую сигариллу.
– Это что же, значит, получается. Эти сукины дети, они что – заминировали, мать его, Склад?! Чисто на тот случай, что мы их выследим?!
Из каменного проема струится опаляющий жар.
«И всякий раз, – думает Шара, – они оказывались на шаг впереди меня».
– Так. Заваливаем туннель, – командует она. – Пора кончать с этим проклятым капищем.
* * *
Во тьме Склада умирают в пламени легенды, исчезают сокровища. Тысячи книг обращаются в кудрявый пепел. Огонь пожирает картины, выедая их изнутри. На полу лужицами собирается воск от бесчисленных свечей, разложенных на полках, затейливой бахромой капель повисает на перекладинах. Где-то в самых глубоких тенях всхлипывают невидимые голоса.
Но не все артефакты уничтожает пламя.
На полке стоит большой, пузатый глиняный кувшин, и жар не опаляет его. На его покрытой глазурью поверхности видны сложные знаки, выведенные тонкой кистью: черными чернилами прорисованы там сигилы могущества, символы сдерживания, знаки обуздания.
Но жар нарастает, и чернила пузырятся, трескаются – и блекнут. Восковая печать на пробке тает и каплями стекает на полку.
Что-то внутри кувшина счастливо рычит, чувствуя, как исчезают стены тюрьмы.
Кувшин начинает раскачиваться туда-сюда, туда-сюда, а потом накреняется, падает с полки и разбивается.
Из кувшина вырывается тьма. Она растет, опрокидывая стеллажи, подобно костяшкам домино. Узник кувшина растет, растет – до тех пор, пока голова его не касается крыши Склада.
Единственный желтый глаз обводит взглядом пламя, дым, горящие полки.
И высокий пронзительный голос визжит, злобно и радостно: «Свободен! Наконец-то свободен! Наконец-то свободен!»
Я мягок с вами, дети мои, ибо велика моя любовь.
Но знайте, что любовь и мягкость не порождают чистоты: к чистоте приходят через лишения, и назидания, и истязание плоти. Вот почему я создал этих священных существ, дабы они помогли вам не сбиться с пути и преподать вам уроки, коих не в силах вынести мое сердце:
Укму, небесного скорохода, обходящего стены дозором, нашептывающего на ухо. Он увидит слабости, скрытые от вашего глаза, и так вы сразитесь с ними, пока не возвыситесь над собой. Таков Укма.
Усину, путешественницу и странницу, проникающую в дом через окно, пепельную женщину. Оставляйте милостыню и не обижайте слабых, ибо в облике нищего может вам встретиться Усина, и месть ее будет страшна.
А к тем, кто не способен очиститься, кто не раскается, кто не знает стыда, что живет в вашем сердце, – к тем придет Урав, зверь из моря, заплывающий в реки, и пасть его полна зубов, а глаз у него один. Во тьме положил я обиталище ему, и грешников, что слепы к свету, он проглотит, и в брюхе зверя ждет их вечное страдание, и истают грешные под взором его, источающим презрение, и так познают они мою праведность, и прощение, и любовь.
Колкастава. Книга Третья
Ты познаешь боль
Влад Пьянков сидит на берегу Солды и пытается убедить себя, что не настолько уж пьян. Он уже прикончил почти все сливовое вино в кувшине и говорит себе: мол, был бы я пьян в стельку, так вино б казалось вязким и кислым – но нет! никаких, так сказать, отрицательных ощущений! Сплошная красота и сладость! И потом, разве ж он просто так пьет? Нет! Это все из-за холода! Вы гляньте, как пар изо рта-то идет! Гляньте, какие льдины по Солде плывут, как пузыри-то со дна идут, вон как черная вода бурлит в ледяных оконцах! Холодная ночка, что и говорить, и в такую ночь человек может позволить себе лишнего. И его за это нужно – что? Простить.
Он смотрит на восток, где высятся мирградские стены – огромные белые утесы, поблескивающие в лунном свете. Он свирепо оглядывает их и сообщает: «На-до!» И звучно икает. «На-до про-стить! Вот!»
И тут он понимает, что на холме, что за спиной, что-то горит. Да что горит – пылает! Свет яркий, оранжевый, не каждый день такое увидишь.
Пожар у них, значит. Наверное, один из складов загорелся – и таперича, значит, горит.
– Эхма…
Он чешет за ухом: что делать-то? Мож, кого на помощь позвать? Но это ж подняться нужно, а как? И он снова отхлебывает из кувшина, вздыхает и горько повторяет:
– Эхма…
И тут за проволочной сеткой, которой обнесены склады, нарисовывается какая-то темная тень. Длинная такая и здоровенная.
И потом кто-то орет – лязгающий такой, скрежещущий звук. И тень бросается на ограду, звенья проволоки лопаются, как струны арфы.
Что-то огромное несется вниз по склону. Влад думает: не медведь ли? Наверняка медведь, потому как зверюга здоровенная, и рычит, и пыхтит на ходу! Однако ж, судя по звуку, – если и медведь, то какой-то уж слишком огромный… нет, не медведь это, вовсе не медведь!
Оно подбегает к деревьям на берегу и сигает в воду.
Влад пьян, зверюга бежит быстро, так что видит он ее всего какой-то миг – ух ты, дым от нее идет, наверное, на пожаре попалило. А сквозь дым видать что-то такое толстое и пупырчатое, и когти и щупальца какие-то торчат и блестят в лунном свете.
Зверюга бабахается на лед, с грохотом проламывает его и камнем уходит в темные воды.
А потом Влад видит, как что-то такое шевелится подо льдом – опять зверюга, только теперь она длинная, струистая, как прекрасный цветок с длинными тычинками… И плывет так грациозно, причем против течения! Прям к стенам Мирграда плывет. И тут она переворачивается, и Влад видит одинокий желтый огонек – противный какой, хотя вроде горит неярко, но как-то от него не по себе…
Тварь уплывает вниз по реке. Кстати, зверюга, когда на лед бабахалась, расколотила лед, а он в два фута толщиной, не меньше. Значит, сигануло на тот лед что-то очень, очень тяжелое…
Влад поднимает кувшин, принюхивается, заглядывает внутрь – купить еще? Не купить? Влад пока не решил.
* * *
Фиврей и Соврений сидят под мостом через Солду в крохотном шалаше. Слабо горит лампа. Обычно в такую погоду рыбу не ловят, но эти двое знают один секрет: прямо под мостом, где река расширяется и глубина приличная, стоят форели, дюжинами. Фиврей считает, что они сбиваются сюда, потому как здесь корма много и тепло.
– От ветра небось прячутся, – сообщает он всякий раз, как опускает леску в крохотную лунку.
– Умные, заразы, – ворчит Соврений.
– А что ты жалуешься? Ты сколько прошлой ночью поймал?
Соврений протягивает руки в перчатках к подвешенной надо льдом жаровне.
– Шесть, – с неохотой признает он.
– А перед этим?
– Восемь. Но на кой мне та рыба, ежели я пальцы на ногах отморожу?
– Тю, – отмахивается Фиврей. – Рыбак – он должен быть как кремень! Настоящий мужик! Такая работа – она не для слабаков, вот что я скажу!
«А как насчет у бабы в постели понежиться?» – думает Соврений. Тоже ведь мужская работа, ежели подумать! А вот ему, к примеру, больше хочется к бабе, чем на лед, – это что, не по-мужски, а?
И тут они слышат тихое постукивание.
– Клюет? – вскидывается Соврений.
Фиврей осматривает жерлицу над шестидюймовой лункой во льду – белый флажок на леске лишь слегка подрагивает.
– Нет, – говорит он. – Они, похоже, просто играют с наживкой.
И тут они, вдобавок к постукиванию, слышат странное тонкое то ли попискивание, то ли поскрипывание – словно кто-то водит пальцем по стеклу. Соврений хочет что-то сказать, но тут приходит в движение флажок на его жерлице.
– И тут то же самое! – замечает он. – Не клюет, но… что-то там есть.
Фиврей дергает за леску:
– А мож, ошиб… ох ты ж.
И он снова дергает за леску.
– Зацепилась за что-то!
Соврений смотрит, как дергается флаг на жерлице Фиврея:
– Ты уверен, что это не рыба?
– Не вытягивается. Как за камень цепануло! И что это за скрип такой, аж ухо режет?!
– Может, ветер? – И Соврений из любопытства дергает за свою леску – тоже зацепилась и не вытягивается. – У меня то же самое! Это что же, у нас оба крючка за что-то зацепились? – И он недоверчиво качает головой. – Пару минут назад все чисто ж было!
– Может, мусор какой течением нанесло?
– Тогда почему леску не порвало? – И Соврений осматривает лед у них под ногами.
Может, ему и кажется, но… под наметенным на лед снегом он различает слабый желтый огонек.
– А это что еще такое? – и тычет в огонек пальцем.
Феврей подскакивает и тоже смотрит на желтый свет, пробивающийся из-подо льда:
– А это что еще такое?
– Вот и я о чем!
Оба смотрят на огонек, потом друг на друга.
Под жаровней снег немного растопился. Они вскакивают и принимаются сметать его ногами. Лед становится прозрачнее.
Фиврей охает:
– Что за?.. О, небо, да что же это?..
Что-то прижимается ко льду с обратной стороны, прямо у них под ногами. Соврению эта тварь живо напоминает морскую звезду – однажды он видел такую, с моря привезли. Но эта зверюга гораздо больше – футов тридцать в диаметре, да и конечностей у нее больше, гораздо больше, и некоторые толстые, а другие тоненькие-тоненькие. А в центре ярко горит свет, и утыканная зубищами пасть сосет лед, чмокая черными деснами.
Постукивание и потрескивание становятся громче. Соврений оглядывает лапы твари и видит, что оканчиваются они коготками, которые выпиливают лед вокруг них ровным, как циркулем очерченным кругом!
– О нет, – выдыхает Соврений.
Свет дважды смаргивает. Это глаз, понимает Соврений.
С оглушительным треском лед под ними проседает, и под ногами безмолвно раскрывается тысячезубая пасть.
* * *
Чайная Восковой в такие холодные вечера набита народом под завязку, сама же Марья Воскова полагает, что дело не в чае – ейные дуралеи чай заваривать не умеют, это ж ежу понятно. Клиентов привлекает атмосфера: тут разливают в огромных количествах кипяток, булькают котлы, в зале горят десятки газовых рожков… В теплую погоду в эдакой бане и задохнуться недолго, но, когда сгущаются холодные зимние сумерки, лучшего места для отдыха не найти.
В последние десятилетия чайные стали невероятно популярны на Континенте: что раньше считалось безвкусным сайпурским новшеством, со временем стало цениться – еще бы, ведь климат на Континенте становится холоднее с каждым годом. Плюс свою роль сыграло то, что Марья прибегла к старинному рецепту народных травников: если чай заваривать с пригоршней маковых зерен, он так хорошо расслабляет… даже не сравнить с обычным чаем. Благодаря секретному рецепту Марья впятеро увеличила объем продаж.
Она оглядывает толпу клиентов, стоя на пороге кухни. Люди сгрудились у столиков, как беженцы в поисках крыши над головой. Волосы их вьются и поблескивают в жарком воздухе. Латунные лампы отбрасывают на влажные деревянные стены призмы охряного света. Западные окна выходят на весьма живописный берег реки, но сейчас они настолько запотели, что походят на залитую сливками гренку.
Один мужчина у барной стойки пытается ухватить свою чашку. Руки его не слушаются, глаза медленно смигивают, как у совы. Марья подзывает официанта, кивает на мужчину и говорит: «Ему уже хватит». И отсылает мальчишку.
– Хорошая выручка для этого часа, – говорит один из подавальщиков, вытирая покрытый испариной лоб.
– Я бы сказала – слишком хорошая, – отвечает Марья. – Все забито, остались места только на галерее второго этажа.
– В смысле – слишком хорошая?
– Мы не позволим алчности возобладать над мудростью, дружок. – И Марья задумчиво постукивает по подбородку. – Завтра – никакой фирменной заварки.
Подавальщик ошеломлен, но пытается не подать виду:
– Как, вообще никакой?
– Никакой. Не хочу привлекать излишнее внимание.
– А что делать, если люди начнут жаловаться на… качество чая?
– Мы скажем, – отвечает Марья, – что нас заставили использовать новые бочки, и от этого изменился вкус чая. Не знаю, скажем что-нибудь насчет новых сайпурских правил. Они поверят. А мы им скажем, что вскоре все исправим.
Официанта грубо окликает парочка у барной стойки – мужчина средних лет, вальяжно приобнимающий молодку с округлыми формами, по виду – сущую ветреницу. «В бабушкино время, – думает Марья, – за обнимания в общественном месте плетьми секли. Времена меняются, однако…»
– Иди же, – вздыхает она. – Дай им чем глотку залить, пусть заткнутся.
Подавальщик уходит. Марья внимательно оглядывает зал: не озорует ли кто? Все ли в порядке? Ага, вот что не в порядке: на галерее лампа мигает.
Она с ворчанием лезет вверх по лестнице и видит, что ошибалась: лампа не мигает, она прыгает на цепочке и раскачивается, как пойманная рыба на леске.
– Да что такое… – И Марья поднимает взгляд к балке, к которой крепится цепочка лампы.
И в безмолвном ужасе созерцает, как балка выгибается, словно что-то на крыше тянет ее на себя. В штукатурке на потолке даже трещины показались – вон, расходятся, как на льду, который тяжести не выдерживает!
Марья инстинктивно бросается к окну, потом вспоминает – запотели окна-то! Но нет, снова она ошиблась: выходящие на запад окна словно бы протерли снаружи…
Но кто и что мог это сделать? Чайная стоит на берегу реки, от воды футов тридцать, не меньше!
И она подходит к запотевшему изнутри окну, протирает его и всматривается в мутное стекло.
И тут же видит одинокий желтый огонек внизу, на берегу реки.
А потом она видит что-то большое, черное и блестящее, и это что-то прилипло к стене чайной – ни дать ни взять вымазанный в смоле корень дерева, и он разматывается и карабкается, карабкается по стене вверх!
А еще прямо перед ее носом возникает что-то похожее на тонкий черный палец с когтем на конце, и этот коготок осторожно стучится в оконное стекло.
– Что за?.. – успевает сказать Марья.
А потом раздается громовой грохот, сверху ливнем летят куски штукатурки и куски дерева, и столь ценимая клиентами влажность Чайного дома Восковой улетучивается, клубами пара исчезая в зимнем ночном небе – потому что с дома срывают крышу и верхнюю стену.
В лицо бьет ледяной ветер, и Марья смигивает. Ужас парализовал и клиентов, большинство потрясенно молчат, слышится лишь несколько вскриков. И тут обрушивается другая стена, прямо в замерзшую реку, увлекая за собой галерею – и стоящую там Марью Воскову.
Она падает и видит, что та же судьба постигла многих клиентов. В голове мелькает безумная мысль: «Нас размажет по льду, как дюжину яиц…» И в эти нескончаемые секунды длящегося падения она вдруг видит, что под ней не лед – внизу лишь желтый свет, свивающиеся щупальца и жадно разинутая, подрагивающая от предвкушения зубастая пасть.
* * *
– Я что сказала, а?! Я сказала направить на помощь пяти пожарным командам каждого, каждого, мать вашу за ногу, солдата! – бушует внизу Мулагеш. – И проследите, чтобы это нашло, мать твою, отражение в телеграмме! И скажите капралу, чтоб исполнял приказ немедленно, и что любое промедление будет ему стоить очень дорого! Понятно – нет?!
Шара ежится в своем кабинете. Мулагеш со своими людьми расположились во всех помещениях первого этажа посольства: телеграфы отстукивают приказы, у всех дверей дежурят солдаты. В обычной обстановке она бы командовала операцией из своей штаб-квартиры, но посольство ближе к месту происшествия.
– Свяжитесь с генералом Нуром в форте Сагреша! – орет она. – Уведомите его о том, что произошло! Нам понадобится любая помощь, которую он сможет предложить! Как только он ответит, доложить мне немедленно! Даже если я приказала не беспокоить!
Шара потирает виски:
– Во имя всех морей, – бормочет она, – неужели обязательно так орать?
Шара очень довольна, что устранением последствий занялась Мулагеш, – в конце концов, это именно ее юрисдикция, и Шара может держаться в стороне на вполне законных основаниях. Но в глубине души она хотела бы, чтобы Мулагеш и ее солдаты просто покинули здание и оставили ее в покое.
Сигруд сидит в уголке и натачивает черный кинжал. Шкряб-шкряб, шкряб-шкряб… Настырный звук становится все громче, и вот он уже отдается эхом в Шариной голове.
– Это обязательно делать прямо сейчас? – спрашивает она.
Сигруд пытается скрести ножом потише.
– Че-то ты не в настроении…
– Я сегодня вечером чуть на мине не подорвалась, если ты не заметил.
Он пожимает плечами и сплевывает на лезвие:
– В первый раз, что ли?
– И мы спалили бесценное историческое наследие! – шипит она – не орать же про это громко.
– И что?
– А то! Я за все время службы так не лажала! А мне, знаешь ли, не нравится попадать впросак. Я к этому не привыкла. Да.
Шкрябанье замедляется – Сигруд думает.
– Это правда. Таких промашек мы еще не допускали.
– Это не одна промашка! Мы с самого приезда в Мирград промахиваемся! – И она залпом осушает чашку чая с видом моряка, опрокидывающего стакан виски.
– Зато опыт какой. Налажали, зато во время одной операции. Будем учиться на ошибках.
– Мне бы твой оптимизм, – мрачно отвечает Шара. – Я уже почти жалею, что сюда приехала.
– Почти?
– Да, почти. Потому что… хоть мы и по уши в дерьме, я бы все равно не доверила операцию другому агенту. Ты только подумай, что бы тут творилось, если бы приехала Комальта! Или Юсуф!
– А что, эти двое еще живы? Надо же, я думал, они уже давно на болт нарвались…
– Вот именно!
Она встает, подходит к окну и распахивает его:
– Мне нужен свежий воздух! Голова раскалывается от этого ора… – Она делает глубокий вдох, прислушивается и мрачно потирает глаза. – Даже на улицах орут! Нет мне покоя в этом проклятом го… – И тут она осекается. – Постой. Который час?
Сигруд тоже подходит к окну:
– Поздний. Слишком поздний для такого шума. – Он склоняет голову к плечу, прислушиваясь. – И они действительно орут. Ты не преувеличиваешь.
Шара оглядывает темные улицы Мирграда:
– Что происходит?
В ночи звенит еще один дикий вопль. Кто-то бежит по улице с бессвязными криками.
– Понятия не имею… – отвечает Сигруд.
Внизу Мулагеш свирепо диктует ответную телеграмму генералу Нуру: мол, нет, мы не были атакованы, потому что в таком случае надо было бы безопасников под суд отдать, но Нур должен действовать так, словно бы мы были именно что атакованы! И немедленно оказать помощь!
Шара открывает окно настежь. Со стороны реки доносится грохот. Над крышами взмывает облако белой пыли.
– Это что, здание сейчас обрушилось? – спрашивает она.
По улице снова бегут и вопят. В окнах зажигаются свечи, открываются двери. Человек высовывается и громко кричит: что случилось, что случилось? Наконец ему отвечают: «В реке! Чудище в реке!»
Шара смотрит на Сигруда. И с трудом выдавливает:
– Ч-что?..
И тут снизу раздается знакомый голос:
– Шара! – орет Мулагеш. – Тут какой-то дебил пришел! Тебя спрашивает, не уходит!
Шара и Сигруд ссыпаются вниз по лестнице. В коридоре стоят и жмутся Питри и офицер мирградской полиции. Полицейский очень нервничает.
– Посол Тивани, тут капитан Незрев из управления полиции Мирграда прислал человека, – говорит Питри.
– Гоните его в шею! – рявкает Мулагеш. – Мы и так по маковку в дерьме, еще с ними тут разбираться!
Шара безуспешно пытается успокоиться и не нервничать.
– Что у вас за дело?
Офицер сглатывает, по лицу его обильно катится пот.
– М-мы… эв-вакуируем все дома и здания на берегу реки. А поскольку посольство – приоритетный объект… – а мне, говорит весь его вид, не повезло с поручением, направили именно к вам, – нам нужно, чтобы вы немедленно покинули здание.
Мулагеш заканчивает с очередной телеграммой и оборачивается к ним:
– Одну секундочку, какого хрена? Никуда мы не пойдем!
– Ну… Капитан Незрев, он…
– Он хороший и добросовестный офицер, но не ему указывать, что нам делать, разрази его гром. Это территория Сайпура.
– Мы… губернатор, поверьте, мы в курсе, но… в общем, он настаивает, чтобы вы и посол немедленно эвакуировались.
– Почему? – спрашивает Шара.
Офицер начинает потеть с утроенной силой:
– Мы… мы… в общем, мы пока точно не можем сказать.
– Но это как-то связано с тем, что происходит снаружи?
Офицер неохотно кивает.
– Так что же происходит снаружи, не изволите ли сказать?
Полицейский явно колеблется: говорить не говорить? А потом плечи его поникают, как у человека, который готовится сообщить что-то крайне его смущающее:
– Там… в Солде… что-то есть. Что-то большое.
– И?
– И оно… убивает людей. Хватает с берега и утаскивает в воду.
Мулагеш массирует центр лба:
– Во имя всех морей, а…
– Даже на берег выползало и в дома лезло, – говорит полицейский. – И оно… здоровенное. Мы не знаем, что это, но эвакуируем все прибрежные кварталы. И посольство тоже.
– И это началось буквально недавно? – спрашивает Шара. – В течение нескольких последних часов?
Офицер кивает.
Шара и Сигруд молча переглядываются. Шара выразительно смотрит: «Со Склада вылезло?» Сигруд мрачно кивает: «Откуда ж еще?»
– Благодарю за то, что поставили нас в известность, офицер, – говорит Шара. Она протягивает руку, Сигруд бросает ей пальто. – Мы в кратчайшие сроки покинем здание. Где сейчас Незрев?
– Он на мосту через Солду, – отвечает полицейский. – Тварь выслеживает. Но почему вы…
– Отлично, – говорит Шара, вдеваясь в рукава пальто. – Мы будем счастливы составить ему компанию.
* * *
Перила моста через Солду невысоки и защитить от ветра не могут, поэтому все сгибаются в три погибели, прячась от ледяных порывов. Шара очень жалеет, что не замоталась в меха и не обулась в боты на толстой резиновой подошве. Мулагеш, как начала браниться, выходя из посольства, так и продолжает сыпать ругательствами, правда, теперь ее голос немного дрожит от холода. Капитан Незрев сидит, прислонившись спиной к перилам, и выслушивает доклады своих офицеров и их посыльных – те сидят в засаде среди домов и улиц на берегу реки. Только Сигруд не прячет лицо от ветра. Он стоит на коленях и внимательно смотрит на широкую ледяную ленту реки под мостом.
Шара осторожно высовывается из-за каменных перил. Солда с высоты моста напоминает гигантский пазл, который не успели сложить: во льду зияют огромные дыры – либо идеально круглые, либо в форме полумесяца. На западном берегу белеют два развороченных дома: фасады и стены обрушены, обломки известняка валяются в грязи, как куски творога.
– А это места… – показывает Шара, – где он напал?
– Да, – кивает Незрев. – Мы не видели, как это произошло. Сигнал тревоги поступил слишком поздно. И это просто чудо… – тут он осекается, понимая, что сказал лишнее, но Шара нетерпеливо взмахивает рукой: мол, не чинитесь, что уж там, – …это, мгм, очень и очень хорошо, что оно не бросилось на мост. Надеюсь, что, если тварь – что бы это ни было – полезет, мост выдержит. Это единственная переправа через Солду в радиусе четырех миль.
– Сколько людей погибло? – спрашивает Мулагеш.
– Пропали без вести и убиты в общей сложности двадцать семь человек, – сообщает Незрев. – Их сдернули с берега, утянули под лед или выдрали из собственных домов.
– Батюшки… – бормочет Шара. – Что же это… что же это может быть?..
Незрев колеблется некоторое время, потом говорит:
– Нам сказали, – медленно выговаривает он, – что это морское чудище, многолапое.
Шара некоторое время молча осмысляет сказанное. Незрев и его офицеры внимательно смотрят на нее, выжидая: как она воспримет известие?
– Оно похоже на дракона? – наконец спрашивает Шара.
Незрев вздыхает с облегчением: его восприняли всерьез – отлично.
– Нет. Это… ну на морское чудище, говорю, похоже. Только здоровенное.
Шара кивает и задумывается. «Морское чудище, многолапое». Что ж, к сожалению, это сильно сужает список подозреваемых.
– Ну так что, вы знаете, что это за зверюга, чтоб ей провалиться? – спрашивает Незрев.
Шара смотрит на берег: стена разрушенного дома вдруг падает и с шумом плюхается в реку.
– Есть у меня кое-какие соображения, – вздыхает она. – Ну… ну да ладно. Одним словом, я подозреваю, что это существо… в общем, здесь налицо нарушение СУ.
В первый раз она видит капитана Незрева в состоянии неиллюзорного шока.
– Вы хотите сказать, что это – божественное существо?
– Возможно. Не все божественные существа благи и праведны, – говорит Шара.
– И что же вы собираетесь делать? – интересуется один из незревских помощников. – Оштрафовать его?
Сигруд громко цокает языком.
Шара резко выпрямляется:
– Ты его видишь?
– Я вижу, – тут он наклоняет голову к плечу и щурится, – что-то.
Все осторожно высовывают голову над перилами. В нескольких сотнях футов к югу под толстым льдом плывет слабый желтый огонек.
– Там Михаил и Орност, – беспокоится Незрев. – Они сидят прямо за стеной, там, на берегу!
Огонек подо льдом замирает. Затем до них доносится тихий скрип и скрежет. Шара удивленно наблюдает за тем, как на льду появляется широкий круг, словно бы кто-то аккуратно выпиливает его под водой.
– Виктор, – командует Незрев одному из своих офицеров, – беги туда и скажи им, чтобы быстро уходили. Немедленно!
Офицер вскакивает и убегает со всех ног.
Круг льда медленно уходит в воду и исчезает из полыньи. Экая сообразительная тварь, мелькает в голове у Шары. Желтый огонек выплывает на середину дыры. Незрев разражается цветистыми ругательствами. Что-то маленькое и тоненькое высовывается из полыньи и крутится в воздухе, словно бы принюхиваясь. А потом вылезают еще отростки – или щупальца? – и цепляются за край льда.
И тут желтый огонек уходит глубже под воду. «Он готовится, – понимает Шара, – к прыжку!»
Тварь вылетает из воды, вышибая ливень ледяных осколков, с такой мощью, что даже на мосту их окатывает мелкой моросью.
Незрев и полицейские в ужасе орут, Мулагеш охает и прикрывает рот ладонью, Шара и Сигруд, привыкшие к виду чудищ и чудовищ, молча смотрят и наблюдают.
Это не медуза, и не кальмар, и не креветка, а противоестественная помесь всех троих футов тридцати в длину – испускающее слабый свет существо с длинным, покрытым черным панцирем туловом и – возможно – головой, с шевелящимся и дрыгающимся скопищем щупалец вместо морды. Щупальца достаточно длинны, чтобы дотянуться до берега, они вздымаются в воздух подобно копьям наступающей фаланги.
Две тени вскакивают и припускают вдоль реки. До моста доносятся истошные крики ужаса. Один бежит слишком медленно – к нему устремляется щупальце, и человек волчком вертится на месте.
– Во имя всех богов, нет! – шепчет Незрев.
И тут подбегает другой офицер, с горящим факелом и бросает его в наползающие щупальца. Тварь мешкает, и двое полицейских успевают отбежать на безопасное расстояние.
Тварь выползает на берег и верещит на них. Голос ее странным образом напоминает птичий. Щупальца обыскивают почву, выворачивают камни и швыряют их в убегающих полицейских – впрочем, ни один не попадает в цель, большая часть обрушивается на крышу и стены домика, которому не повезло оказаться поблизости. Тварь дважды испускает свой странный крик и уползает обратно под лед. И медленно уплывает вниз по течению.
– Боги мои, – бормочет Незрев. – Боги мои боги. Что это было?
Шара кивает – ее подозрения подтвердились.
– Похоже, я знаю.
Она протирает очки краем шарфа. «Во тьме обиталище его» – припоминает она. «И он проглотит недостойных, и пожрет их».
– Я полагаю, капитан Незрев, что мы только что видели легендарного Урава.
Ответом ей становится абсолютное молчание.
– Урав? – наконец вскидывается какой-то офицер. – Урав Наказывающий?
Незрев яростно пихает его: мол, ты что, не видишь, с кем разговариваешь?
– Не смотрите так, капитан, – говорит Шара. – Вы совершенно спокойно можете признать, что знаете о таком существе. Даже если это и противоречит Светским Установлениям. У нас есть… смягчающие обстоятельства.
– Я думал, Урав – это что-то из сказок… – неохотно признается один из офицеров.
– О нет, – качает головой Шара. – Колкан частенько поручал свою работу фамильярам и божественным существам. Урав был ужаснейшим из всех, самым опасным – и, похоже, самым любимым из его созданий.
Она смотрит, как вращается подо льдом желтый глаз: видимо, оглядывает берег, высматривая грешников. «А для Урава, – вспоминает Шара, – кто не грешен?»
– Существо из глубин, в чьем брюхе души грешников корчатся под его взглядом.
– А какого хрена он объявился в моем городе и убивает невинных людей? – взвивается Незрев.
– В данный момент не могу с уверенностью ничего сказать, – быстро говорит Шара, сознавая, что лжет.
Она прекрасно помнит, как читала в библиотеке Галадеша: после внезапного исчезновения Колкана Урав, оставшийся без присмотра хозяина, впал в безумие. Жугову пришлось изловить его, заманив в кувшин вина, настоянного на человеческом грехе. Там Урава и запечатали.
«А если это правда, – думает Шара, – то есть только одно место, куда этот кувшин мог попасть…»
И снова проклинает себя за неуклюжесть: ну как она могла споткнуться о растяжку? Кто знает, что еще вырвалось со Склада и теперь свободно гуляет по миру?
– А что мы можем поделать с такой тварью, чтоб ей провалиться? – мрачно спрашивает Мулагеш.
– Ну, – говорит Шара, – некоторых младших божественных существ вполне возможно убить – они устроены определенным образом, и у них есть уязвимые места. И потом, вспомните Великую Чистку – там обошлись ножами, копьями и топорами.
Полицейским этот разговор явно неприятен, они неловко мнутся: все-таки упоминать подобные вещи строжайше запрещено. А некоторые даже разозлились – хорошо, что она не сказала, что всего несколько часов назад учинила всем чисткам чистку на Складе…
– У меня нет никакого желания, – говорит Незрев, – подвергать жизнь моих людей опасности. Я не хочу, чтобы они стреляли по этой твари подо льдом.
– Болтами лед и так и так не пробьешь, – пожимает плечами Мулагеш.
– Нужно дождаться, когда лед растает, – предлагает Незрев. – Или костры разложить, чтобы он начал таять. Там и посмотрим, что можно сделать.
– Ну так и что потом? – спрашивает Мулагеш. – Атаковать его на лодках? С гарпунами? Как кита?
Незрев колеблется. Он оборачивается и смотрит на офицеров, тем явно не нравится такой план.
Сигруд снова цокает языком, словно бы что-то взвешивая в уме. А потом сообщает:
– Я могу убить его.
Молчание.
Потом все медленно разворачиваются к нему.
Шара смотрит обеспокоенно: «Ты уверен?» Но Сигруд стоит с непроницаемым видом.
– Что? – удивляется Мулагеш. – Сейчас?
– Это… – тут Сигруд начинает тужиться лицом – как всегда он делает, когда пытается перевести какое-нибудь дрейлингское выражение, – …тварь из воды, – заканчивает наконец он. – А я убил много тварей из воды.
– Вы… вы что это – серьезно?! – ужасается Незрев.
– Я убил, – спокойно повторяет Сигруд, – много тварей из воды. Эта тварь от них отличается… – он наблюдает, как Урав замирает под водой, прикидывая, нужна ли ему еще одна дыра во льду, – и, передумав, уплывает. – Но не настолько.
– А что конкретно должны при этом делать мои люди? – спрашивает Незрев.
– Я, если честно, думаю… – тут Сигруд скребет подбородок и действительно думает, – …что ваши люди мне не понадобятся.
– Вы что, хотите сказать, что сумеете в одиночку убить это чудовищное божественное создание? – потрясенно спрашивает Мулагеш.
Сигруд серьезно задумывается над ее вопросом. Потом утвердительно кивает:
– Да. Обстоятельства благоприятные. Река не такая уж широкая.
– В Солде, – неверяще уточняет Незрев, – почти миля ширины!
– Но это же не море, – отвечает Сигруд. – И не океан. К которым я привык. И тут еще лед… – и он пожимает плечами. – Все намного проще.
– Он за один сегодняшний вечер убил человек тридцать, – говорит Незрев. – Он и тебя убьет с такой же легкостью.
– Возможно. Но. Если так… – Сигруд снова пожимает плечами. – Значит, я умру.
Незрев и другие полицейские смотрят на него так, словно глазам своим не верят.
Шара вежливо покашливает:
– Прежде чем мы продолжим обдумывать это предложение, – говорит она, – я бы хотела заручиться одобрением капитана Незрева.
– А вам-то на кой сдалось мое одобрение? – удивляется капитан. – Это ж ваш человек – не мой собирается тут самоубиться!
– Видите ли какое дело. Несмотря на всевозможные Установления, плавающее сейчас в реке существо почитается как священное практически всеми жителями Континента, – говорит Шара. – Это ведь, как ни крути, герой мифов и легенд, ваше национальное культурное достояние. Часть вашего культурного наследия. Если вы хотите, чтобы мы его убили – по сути, убили вашу живую легенду, – мы бы хотели получить от вас четкое и ясно сформулированное разрешение на подобное действие.
С весьма кислым выражением лица Незрев замечает:
– Жопу пытаетесь прикрыть, да?
– Не без этого. Но Урав – это неотъемлемая часть вашей мифологии – не нашей. Мы – не континентцы. А некоторые континентцы вполне способны приравнять убийство Урава к уничтожению бесценного произведения искусства.
– А ничего, – замечает Мулагеш, – что это произведение искусства сейчас шаромыжится по городу и людей жрет?
Шара кивает:
– Очень верное наблюдение.
Незрев недовольно кривится. Пока он мучается, не зная, какое решение принять, подходят, пошатываясь и загнанно дыша, трое полицейских: Виктор, тот самый офицер, которого послали предупредить Михаила и Орноста, и, судя по всему, эти двое. Один придерживает мокрую от крови правую руку.
– Михаил ранен, – докладывает Виктор. – Оно цапнуло его за руку, ну и… пары пальцев нет как нет.
Незрев некоторое время молчит. И смотрит, как перемещается подо льдом слабый огонек. А потом:
– Так, вы, оба двое, отправляйтесь в отделение, потом в госпиталь.
И переводит взгляд на Сигруда:
– Что тебе понадобится?
Сигруд оглядывается на реку:
– Мне понадобятся, – задумчиво говорит он, – две сотни футов буксирного каната, три куска корабельного каната каждый по сотне футов, фонарь, алебарда, три гарпуна и несколько галлонов жира.
– Чего-чего галлонов? – тихо интересуется Мулагеш.
– Жира, – отвечает Сигруд. – Животного жира. Если найдется, китового. Если не найдется – свиного или говяжьего.
Мулагеш переводит ошалелый взгляд на Шару, та лишь пожимает плечами: сама, мол, без понятия.
Сигруд поглаживает бороду:
– Да, и еще. Разведите большой костер. Он мне понадобится, когда я закончу. Потому что для этого дела мне придется полностью раздеться.
* * *
– Льняное семя, – говорит Шара и бросает его в котел с растопленным говяжьим жиром. – Горец. Бечевка с шестью узлами. И кедровая смола.
Она оглядывается на нагруженную всякой всячиной тачку – ее прикатили из посольства. С реки снова доносятся пронзительные крики. Она не обращает на них внимания.
– Соль и серебро. Хорошо бы иметь побольше того и другого…
Она бросает серебряную десертную ложечку в мешочек с морской солью и встряхивает его.
– Но надеюсь, и этого хватит…
И она высыпает содержимое мешочка в котел.
Питри зачарованно наблюдает за ее действиями: мол, глазам своим не верю!
– Вы действительно считаете, что это как-то подействует?
– Очень на это надеюсь, – отзывается Шара. Она набирает пригоршню марантового корня и бросает в котел. – Каждый из божественных фамильяров не переносил какого-либо элемента… Мы не можем с уверенностью сказать – как и всегда, впрочем, – поступили ли так Божества намеренно – возможно, с целью подарить своим смертным последователям средство защиты от собственных созданий, мало ли что те замыслят, – или это получилось случайно, и Божества, возможно в силу своей природы, просто не ожидали такого подвоха. Так или иначе, но божественных существ можно отогнать с помощью этих веществ: ибо они вызывали у фамильяров удушье, чесотку, паралич, даже смерть…
– Что-то типа аллергии? – спрашивает Питри.
Шара замирает, понимая, что Питри сейчас сказал то, что сайпурские историки уже годы как пытаются сформулировать.
– Да. Именно так.
– А что, у Урава аллергия… на все эти элементы?
– Понятия не имею. Но это вещества, которые всегда были не по нраву божественным существам. Надеюсь, – и она бросает в котел немного полыни, – что хотя бы пара из них подействует. Чем шире спектр, тем больше шансов на удачу, да.
Сигруд и полицейские капитана Незрева заканчивают приготовления: они перекинули веревку через мост и закрепили петлю узлом. Теперь Шара ясно видит, что Сигруд – моряк: узлы у него вяжутся мгновенно, вот он вскидывает бухты канатов на плечи, карабкается по мосту, словно у него на пальцах ног кошки. Он сбрасывает три корабельных каната с моста – они гулко обрушиваются на лед. Оставшийся конец буксирного каната, что-то около сотни футов длиной, он тоже сбрасывает на лед. Урав пока не обращает никакого внимания на их усилия, предпочитая разорять доки, находящиеся где-то в миле вниз по течению: видимо, надеется отыскать неосторожного глупца, пренебрегшего приказом об эвакуации.
Сигруд подходит к завернутому в провощенную парусину оружию. Поднимает гарпун с иззубренным наконечником толщиной в руку Шары. На конце у того железное кольцо – здоровенное, для невероятно толстой веревки. «Что же это за рыба, – мелькает в голове у Шары, – что на нее нужно ходить с таким гарпуном?» Сигруд пробует оружие на изгиб, удовлетворенно кивает, опускается на колени и проводит пальцем вдоль лезвия алебарды.
– Хорошая сталь, – замечает он. – И ковка хорошая.
– И ты не сомневаешься в правильности избранного пути? – спрашивает Шара.
– Мы такое и раньше делали, – отвечает Сигруд. – Никакой разницы не вижу.
– Это тебе не мховост!
– Тьфу, – презрительно морщится Сигруд. – Тоже мне чудище.
– Ну ладно. Но это и не дорнова, которую мы нашли в Аханастане, – замечает Шара. – Это тебе не какой-нибудь бесенок или мелочь пузатая, которую ты привык пачками убивать!
– А дальше ты скажешь – это тебе не дракон!
– Разве то был дракон? Так, дракончик! – И Шара разводит руки на три фута. – И потом, дракона добила я.
– Вот именно – добила. А бил – я, – отфыркивается Сигруд.
– Ты как-то несерьезно ко всему относишься. Мы, конечно, много чего интересного в жизни повидали, но вот это вот, – и она тычет пальцем в мерзлую реку, – это, считай, живое Божество. Такого мир уже много десятилетий не видывал!
Он пожимает плечами:
– Я же сказал, – вздыхает он. – Это тварь из воды. А там, в глубине, твари из воды все очень похожи. Неважно, кто их создал и откуда они взялись. Они похожи.
– И ты настолько уверен в себе, что действительно хочешь попытаться убить эту тварь в одиночку?
– Чем больше времени проводишь в море, – объясняет Сигруд, – тем больше учишься. Чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, что любые помощники только мешают.
И он сбрасывает свое пальто, рубашку, бриджи, оставаясь в обтягивающем и по-старомодному длинном нижнем белье. Под кожей у него перекатываются мускулы, бугрятся на плечах, спине и шее, но Сигруд не производит впечатления горы мышц, напротив, в облике его есть что-то волчье, какая-то узнаваемая худоба хищника, который сжигает больше энергии, добывая пищу, чем получает, питаясь.
– Убивать надо один на один – вот что я скажу.
– Иногда я… клянусь, иногда я так устаю от твоего позерства! – восклицает Шара.
Сигруд вскидывает на нее потерянный и немного тревожный взгляд.
– Нет, ты, конечно, можешь думать, что эта твоя комическая лаконичность – добродетель, но для меня – нет, это никакая не добродетель! Это ни для кого, кто ценит твою жизнь, – не добродетель! Пусть ты сам свою жизнь не ценишь – ну и что! Так и знай! – И она с непритворным испугом смотрит на него. – Я не прошу тебя так поступать. Ты ведь знаешь? Я бы никогда тебя о таком не попросила.
– Я знаю, – говорит он.
– Тогда почему?
Он молчит – думает.
– Почему? – спрашивает она снова.
– Потому что это все, что я умею делать, – говорит он, пожимая плечами. – И умею делать хорошо. Сегодня я смогу спасти много жизней. А рисковать буду – только своей.
Шара молчит.
– Благослови меня, Шара Комайд.
– Я не уполномочена раздавать благословения, – отвечает она. – Но я принимаю твое решение. Хоть оно мне и не нравится.
Он кивает, говорит: «Хорошо» и снимает нижнюю рубашку. За время совместной работы Шара много раз видела его без рубашки – и даже вообще без одежды, и каждый раз ее поражало жутковатое обилие шрамов, завивающихся по его рукам и спине: тут и клейма, и следы плети, и порезы, и сквозные ранения… Но она знает, что самая страшная рана скрыта под перчаткой, в которую затянута правая ладонь.
Сигруд принимается стаскивать с себя длинное нижнее белье.
– Я не думаю, – говорит Шара, – что есть необходимость снимать с себя абсолютно всю оде…
Но Сигруд лишь отмахивается и сбрасывает трусы, совершенно не стесняясь окружающих.
Шара вздыхает. Незрев с офицерами – все как один непреклонные бесстрастные мирградцы – завороженно таращатся на бесстыдно открывшуюся их глазам наготу. Мулагеш скалится в акульей улыбке.
– Вот в такие моменты, – замечает она, – мне прямо нравится моя работа.
На Сигруде из всей одежды остались только сапоги, ножны с кинжалом (он их перевесил на правое бедро), перчатка на правой руке и золотой браслет на левой. Он зачерпывает жир из котла, вопросительно поднимает бровь, разглядев плавающую там маранту и другие ингредиенты – «Это я на всякий случай, для страховки», объясняет Шара, – снова пожимает плечами и принимается намазывать его толстым слоем на плечи, грудь, руки и бедра.
– Если понадобится помощь, не стесняйтесь, так и скажите, – бормочет Мулагеш.
Шара окатывает ее негодующим взглядом, Мулагеш снова весело ухмыляется безо всяких признаков раскаяния.
Последними Сигруд намазывает жиром лицо и волосы. Теперь он действительно напоминает дикаря: грязное, звероподобное существо из далекого прошлого человеческой расы.
– Думаю, – говорит он, – что я готов.
И смотрит на Незрева:
– Постарайтесь развернуть тварь к мосту, если понадобится.
– Не знаю, получится ли, – говорит Незрев. – Но мы постараемся.
– Это ваша единственная задача, – кивает Сигруд. – Я хочу, чтобы тварь сосредоточилась исключительно на мне. На мне, и только на мне, это понятно?
Незрев кивает.
– Вот и хорошо.
Сигруд меряет взглядом мост, словно бы прикидывая: выдержит ли? Затем закидывает на плечо сверток с оружием и направляется вниз по мосту – к берегу.
Мулагеш подает ему фонарь:
– Удачи, боец, – говорит она.
Сигруд кивает с отсутствующим видом, словно бы вышел подышать воздухом, а с ним соседка поздоровалась.
Перед Шарой он останавливается, снимает золотой браслет с левого запястья и отдает ей.
– Я его сберегу, – говорит она.
– Я знаю. Если я сегодня все-таки умру… – говорит он и осекается. Потом мешкает, оглядывая заснеженный простор замерзшей реки. – Моя семья… Ты…
– О твоей семье обязательно позаботятся, – говорит Шара. – Я лично прослежу. И ты знаешь это.
– Но ты… ты им расскажешь? Обо мне? О том, кем я был?
– Только если это не подвергнет их жизнь опасности.
Он кивает, говорит: «Спасибо» и идет дальше.
Шара окликает его:
– Сигруд! Послушай… если все обернется плохо, Урав… похоже, он тебя не убьет.
Он оглядывается:
– Это как?
– Похоже, люди, которых он проглотил сегодня, не мертвы. Но их постигла участь худшая смерти: согласно Колкаставе, грешники попадают в брюхо Урава живыми, и там их ждет наказание – болью, стыдом, раскаянием… Под взглядом Урава всякая надежда умирает.
– Как же он может смотреть на тех, кто сидит в его брюхе? – озадаченно спрашивает Сигруд.
– Это чудо, он ведь божественное существо. Внутри Урава, как мне кажется, находится ад особого рода. Избавить от него может лишь одно – благословение Колкана…
– И ты можешь мне его дать?
– …которое никто не получал с тех пор, как он исчез около трехсот лет тому назад.
– Тогда что ты хочешь этим сказать?
– Я хочу сказать, что если случится так, что Урав проглотит тебя… – и она опускает взгляд к ножнам с клинком, – …возможно, нужно будет взять дело в свои собственные руки.
Он медленно кивает. А потом снова говорит: «Спасибо» и добавляет:
– А тебе, возможно, лучше уйти с моста.
– Почему?
– Хороший бой – дело такое, – философски замечает Сигруд. – Никто не знает, как пойдет.
* * *
Шаги Сигруда гулко отдаются на льду. Он сразу приметил: лед не менее двух футов толщиной. «Хороший лед, – думает он. – В самый раз для саней и лошадей».
Он идет по замерзшей реке. Ветер покусывает за уши. На вымазанных жиром руках и ногах поблескивают, как драгоценные камни, миллионы снежинок: вскоре он становится похож на переливающегося искрами снеговика, топающего через серо-голубой простор.
Он вспоминает, как это было раньше: вот они едут по льду, за спиной скрипят сани, бухают копыта лошади, он оглядывается на Хильд и дочек, укутанных в меховую полость, те хихикают и смеются…
Нельзя сейчас об этом думать.
Сигруд смаргивает и сосредотачивается на веревках, свисающих с моста. Огни Мирграда теперь мерцают из дальней дали, словно бы это не огромный мегаполис, а крохотный городок на далеком берегу.
Сколько раз он такое уже видел, пока ходил под парусами? Десять? Сто раз? Отвесные скалы Дрейлингского края, огоньки крохотных хижин вдоль берега. Он просыпался и видел, как кружат и вскрикивают над вершинами утесов чайки.
«Нельзя сейчас думать об этом», – снова говорит он себе. Но мучительная память не отпускает, она как заноза в пальце, которую так трудно вытащить…
Журчит и всплескивает вода. Пасмурное небо над головой. Костры на вымерзших камнях берега.
Он вспоминает, как пришел из моря в последний раз. Молод он был, и сердце его тосковало по семье. А когда они бросили якорь у дрейлингских берегов, до их ушей дошли страшные новости: «Король! Они убили короля с сыновьями, всех убили! Они жгут дома! Город сожгли! Что же нам теперь делать?»
Он весь оцепенел, как услышал. Он не понял, не смог понять, как такое могло произойти. У него не укладывалось в голове. И он спрашивал, спрашивал раз за разом: «Всех сыновей? Всех? Вы уверены?» И ему неизменно отвечали: «Выбили род Харквальда. Иссяк род королей, нет их более, горе нам, горе».
Под ногами Сигруда хрустит лед. «Мир труслив, – думает он. – Он не смеет меняться у тебя на глазах. Он ждет, когда ты отвернешься, и прыгает тебе на холку…»
Он идет по замерзшей Солде. Жир на его теле застыл молочно-белой коркой, корка идет трещинами – ни дать ни взять голем из свечной лавки. Он идет к месту, где с центральной арки моста свисает буксировочный канат. Пока он стоял на мосту, тот казался узким, что там ширины в этих сорока, а то и меньше футах. А с реки он видится огромной черной становой костью, рассекающей небо.
Камень выдержит. Должен выдержать. Если он все сделает правильно, мост не обвалится.
Сигруд слышит плеск воды. Он смотрит вправо и видит в тени моста геометрически правильный круг полыньи. Вода качает в ней густой слой деревянных обломков. Видимо, это обломки шалаша, а те, кто в нем сидел, давно погибли.
Наконец он подходит к свисающей веревке, сворачивает в кольцо конец буксирного каната и затягивает его узлом из корабельной веревки. Узел настолько привычен, что пальцы вяжут его сами.
А пока вяжет узел, вспоминает.
Он вспоминает, как кинулся домой, после того как узнал о перевороте. И как прибежал, а на месте дома – пепелище, и нет никого. И вокруг все разворочено, и земля солью посыпана.
Он вспоминает, как откопал в мокром пепле выгоревшей спальни хрупкие белые косточки. Как рыл могилы во дворе. Как хоронил обгоревшие, развалившиеся на части неполные скелеты, не разбери-поймешь, где чья косточка. Посмертная головоломка, оставшаяся от человеческих жизней.
Он не смог узнать в них жену и дочерей. Но постарался изо всех сил разгрести кости на три кучки. Потом он их похоронил и оплакал.
Так. Хватит.
Сигруд привязывает оставшиеся канаты к петле на буксирном тросе, а противоположные концы веревок вдевает в гарпуны и закрепляет. И вонзает гарпуны в лед, в линию, каждый в пятидесяти футах от другого.
Перед центральным гарпуном Сигруд ставит на лед фонарь. И вычерчивает острием алебарды четыре глубокие, длинные линии, сходящиеся в одной точке – прямо перед фонарем. Закончив трудиться, он оглядывает распластавшуюся на льду огромную звезду. А потом он садится в этой точке голыми ягодицами на лед, кладет на колени алебарду и ждет.
Где-то безутешно крякает утка.
С восточного берега ветер доносит обрывки истошных воплей.
Сигруд пытается сосредоточиться на настоящем, но воспоминания не отступают. И не дают покоя.
Он вспоминает, как объявили: теперь у нас новая страна, называется Дрейлингские республики. Это уродливое образование с трудом можно было назвать страной, да и название вызывало только грустную улыбку: какие такие республики? Обычные пиратские государства, алчные и погрязшие в коррупции.
Сигрудом тогда владели горе и гнев. Как и многие, он решил не сдаваться без боя. И, как и многие, проиграл, попался. Его бросили в Слондхейм, в тюрьму на утесе, чтобы он пожалел, что не умер. Так они сказали.
И оказалось, что не соврали. Он не знал, сколько лет провел в одиночной камере на жидкой овсянке, ведя долгие разговоры с самим собой. Конечно, отчасти вина лежала и на нем: как только его выпускали, он тут же набрасывался на первого встречного, пытаясь убить. Часто у него получалось. И тогда они решили: хватит. Сигруд выходить из камеры больше не будет. Пусть живет и сдохнет во тьме.
Но однажды открылась щель в двери его камеры, и Сигруд увидел странное лицо. Таких ему раньше видеть не приходилось: то была женщина со смуглой кожей и длинным носом, темными глазами и губами, а еще на лице она носила – подумать только! – какую-то стеклянную штуку: у нее перед каждым глазом по прозрачному кругляшку было. Однако всякое изумление улетучилось, когда лицо сообщило: «Твои жена и дети живы и в безопасности. Мне удалось их отыскать. Если хочешь поговорить со мной, я вернусь завтра».
И щель с грохотом закрылась. Послышался звук удаляющихся шагов.
Так Сигруд впервые увидел Шару Комайд.
Сколько лет они уже вместе работают? Десять? Одиннадцать? Какая разница, если подумать. Какой прок в этих годах, в этой новой жизни…
Сигруд смаргивает. Веки слипаются от натекшего жира.
Он думает о детях, которые стали ему чужими, о том, что они уже выросли. И о молодой женщине, которая некогда была его женой. Наверное, она уже по новой вышла замуж, и у его детей теперь новый отец…
Он смотрит на свои ладони. Они покрыты шрамами и блестящим жиром. Сигруд не узнает свои руки.
На горизонте подо льдом мигает слабый желтый свет.
Сигруд стирает жир с ладоней, проверяет, не скользит ли в пальцах древко алебарды.
«Все идет так, как должно идти, – думает он. – Холод, тьма, во тьме ждет смерть».
Сигруд ждет.
* * *
Желтый огонек подплывает все ближе и ближе, грациозно и плавно перемещаясь подо льдом. Сигруд слышит постукивания – словно бы слепец с тросточкой приближается. «Оно прислушивается, – думает он, – к отзвукам, чтобы понять, что там на поверхности».
Теперь лед поскрипывает под ним. Желтое свечение в двадцати футах, а само световое пятно – не менее фута в поперечнике. Похоже на глаз гигантского кальмара… Да, помнится, ел он такого кальмара, потушили в рыбном бульоне и съели. И его было крайне непросто выловить, того кальмара…
Сигруд не видит сквозь лед, но слышит, как что-то пощелкивает в пятнадцати – нет, в десяти футах от него. Оглянувшись, видит, что вокруг выпиливается правильный круг, а еще видит, что правильно оценил ширину тулова чудища: круг пересекает все четыре линии, что он вычертил на льду. Сейчас дрейлинг словно бы сидит в центре огромного белого пирога, разрезанного на восемь частей.
Он медленно встает. Лед жалобно скрипит под ногами – столько раз его резали и царапали, ему трудно держать человека… Сигруд выдергивает гарпун и встает в центр круга.
Под ним извивается что-то темное. Желтый свет подплыл ему под самые ноги.
«Интересно, – думает дрейлинг, – сумею ли я узнать, каков ты на вкус…»
Правой рукой заносит гарпун. Делает глубокий вдох.
И вот, не дожидаясь, что тварь подо льдом закончит выпиливать круг, он поднимает зажатую в левой руке алебарду и с размаху бьет массивным клинком по льду.
Тот тут же раскалывается у него под ногами, и Сигруд проваливается в ледяную воду.
Урав – так его назвала Шара – не ожидает нападения и отпрядывает в сторону. Сигруд кажется себе крохотным перед надвинувшейся клубящейся темной массой – ласточка против грозовой тучи.
Сигруд видит, как шевелятся десятки щупалец, видит огромный глаз с красными прожилками сосудов, а под глазом – пасть футов шесть в ширину… но пасть пока закрыта.
Он бьет гарпуном, зазубренное острие глубоко входит в черную плоть Урава в нескольких дюймах от огромного глаза.
Урав разевает пасть – от боли, не от желания напасть и съесть. Единственный глаз теперь уставлен на Сигруда, а тот размахивается алебардой и с размаху всаживает ее твари в пасть. В воде, как огоньки фейерверка, разлетаются блестящие белые зубы.
Урав извивается от боли и ярости. Щупальца выстреливают вперед, обвивают Сигруда за ногу, но соскальзывают по толстому слою жира. Более того, такое впечатление, что жир их обжигает, – Урав отдергивает щупальца, словно ему больно, и Сигруд видит, что на черной коже вспухают волдыри.
«Если Шара узнает, что ее трюк сработал, – думает дрейлинг, – то вообще никогда с меня не слезет…»
Вода вокруг кипит, его снова пытаются схватить за лодыжку, щупальце снова соскальзывает. Урав теперь полностью сосредоточен на нем, вокруг завиваются бесчисленные щупальца, готовясь нанести решающий удар.
Время выбираться из воды! Левой он нащупывает канат – крепко держится, хороший узел – и поднимает себя из воды на лед.
Тело протестует против резкой смены температуры, но Сигруд заставляет себя забыть об этом – надо бежать, быстро бежать за воткнутым справа гарпуном. За ним раскалывается на мелкие части лед, на бегу он оборачивается: Урав дергает и тянет за канат, разбивая лед вокруг, но оборвать веревку не может.
Разъяренная тварь выкидывается из воды, тысячи конечностей продвигают вперед похожую на связку луковиц башку. Щупальце змеится вперед и хватает Сигруда за левую руку, коготь впивается в бицепс, он падает лицом вниз и чувствует, что его волокут по льду.
Он пытается удержаться, высвободиться, но щупальце держит крепко, хотя черная кожа шипит там, где касается тела. Урав рычит от боли и бешенства, колотит по льду, взбивая его в снежную крошку: нет, нет, ревет чудище, врешь, не уйдешь.
Сигруд рубит по щупальцу алебардой – раз, два, вот тебе! Хватка ослабевает, и с тихим хлопком Сигруд высвобождается.
«Слава всем морям, – думает Сигруд на бегу, – за то, что эти коровы нагуляли хороший жирок…»
– Стреляйте! – орет сверху Незрев. – Утыкайте эту тварь болтами!
Болты свистят в воздухе, бьют в лед. Многие застревают в панцире Урава. Тварь пронзительно вопит и бьется на канате, который гудит, как гитарная струна.
Сигруд хватает второй гарпун, но Урав уже переключился на людей на мосту. Щупальца взмывают вверх, шевелясь, как клубок кобр, и обрушиваются на мост. Удару вторят крики ужаса, два тела срываются и падают вниз с дальней стороны моста. «Пожалуйста, – думает Сигруд, – пусть это будет не Шара!»
Одно из щупалец свивается, в нем зажат размахивающий руками и ногами полицейский. Урав запихивает его в разверстую пасть. По льду бежит глубокая трещина – зимний панцирь реки не выдерживает веса дерущихся.
«А вот этого, – думает Сигруд, – мне совсем не надо».
Он бежит с алебардой под мышкой и бросает второй гарпун. И едва не промахивается – так чудище колотится, натягивая веревку. Но гарпун, тем не менее, глубоко вонзается Ураву в спину. Урав снова взвывает от боли и хлещет всеми лапищами по льду. Желтый глаз свирепо буравит его взглядом. Сигруд успевает заметить, как к нему несется толстенное щупальце – как бревно в половодье. Тут мир вспыхивает звездами и огоньками, и он скользит по льду.
Сейчас ударит? Но нет, со стоном приподняв голову, Сигруд видит, что Урав запутался в веревках. Однако канат первого гарпуна все-таки лопнул, и сеть вокруг чудища непрочна.
Сигруд рычит, трясет головой и проверяет, как там руки и ноги, – более или менее в порядке. Алебарда валяется рядом, но древко сломалось, превратив ее в короткий топор. Он поднимает его и бежит к третьему гарпуну. Третий удар – решающий.
«Пусть он запутается окончательно, – свистит в голове. – Пусть обессилеет, а потом я забью его насмерть. Буду рубить по легким, пока оно не захлебнется в собственной крови…»
С моста через Солду летят камни.
«Вот только что делать, – думает дрейлинг, – если он мост разнесет…»
Он смотрит, как Урав раз за разом бросается на мост, на лед летит каменная крошка.
Зря Незрев приказал открыть огонь. Урав должен был сражаться с ним, и только с ним, не отвлекаться на других.
Вот почему Сигруд терпеть не может, когда ему помогают.
Урав в конвульсиях расколотил почти весь лед под мостом, последний гарпун торчит из куска, который раскачивается в воде, как большой поплавок. Со вздохом Сигруд прыгает в воду – холод такой, словно его кувалдой по голове огрели, плывет к гарпуну, выдирает его изо льда и подтягивается на веревке. Ну вот он наконец и на твердом льду.
Руки и ноги занемели от холода, ступни и ладони не слушаются, словно их нет больше. Урав извивается в веревочных кольцах и разевает пасть, чтобы в очередной раз заверещать. Прочь сомнения! Сигруд размахивается и всаживает гарпун в верхнее нёбо твари.
Чудище воет от боли, извивается в путах, показывая – наконец! – мягкое, белое, желеобразное брюхо.
Вперед.
И дрейлинг бросается вперед с алебардой наперевес, уворачивается от щупальца, оскальзывается, падает, встает на ноги…
Лес дрыгающихся, завивающихся щупалец позади. И он начинает беспощадно рубить брюхо твари.
Урав завывает, вопит, визжит, колотится. Сигруда окатывают потоки черной крови. Тело кричит, что его окатывают то кипятком, то жгучим холодом. Но дрейлинг рубит и полосует, рубит и полосует.
Он вспоминает, как хоронил те кости во дворе.
Вот тебе алебардой!
Он вспоминает, как посмотрел вверх и увидел, как в камеру проник тоненький, как игла, лучик солнечного света, и он попытался поймать эту искристую булавку в ладони.
Вот тебе алебардой!
Он вспоминает, как исчезали вдали родные берега, а он стоял на палубе сайпурского дредноута и смотрел вдаль.
Вот тебе алебардой. И вдруг он сознает, что все это время орал на пределе легких.
«Я проклинаю мир не за то, что он украл мое сокровище. Я проклинаю его за то, что мне сказали, что сокровище при мне, лишь после того, как я стал другим человеком».
Урав стонет, скулит. Щупальца теряют хватку. Из твари словно выходит воздух, и она сдувается, медленно оседая, как огромное черное дерево. Веревки гудят и жалуются под грузом огромного тела, но держат, и Урав беспомощно висит в их тенетах.
До Сигруда доходит, что на мосту вопят от радости. Но он видит: внутри твари все еще бьется сердце, там есть кровоток, органы пульсируют… «Он еще не сдох. Не сдох…»
И тут из моря щупалец у его ног вдруг всплывает ярко-золотой глаз. Прищуривается, пристально оглядывая дрейлинга.
И бессильно обвисшие конечности вдруг наливаются силой, взлетают вверх, вцепляются в самую слабую опору моста и рвут ее на себя.
Сигруд едва успевает заметить, как справа мелькает что-то темное, на глазах увеличивающееся в размере, – и тут в нескольких ярдах от него лед проламывает огромный камень.
Сигруд успевает только сказать:
– Вот дерь…
И тут лед под ним накреняется, как детские качельки, и его подкидывает футов на сорок. А потом над ним смыкаются холод и вода.
Вода врывается в нос и глотку. Течение заливается в синусы, просачивается в легкие, еще немного – и он кашлянет…
Нельзя тонуть.
Внутри горит воздух. Он опрокидывается на спину, смотрит вверх: над ним небо, непроницаемое, как расплавленное стекло.
Нельзя тонуть.
Над ним бьется в веревках Урав. А над тварью плотной черной аркой выгибается мост.
Сигруд отталкивается ногами и плывет к расширяющейся над ним полынье.
И тут плотная черная арка моста становится менее… плотной. Сквозь призму взбаламученной воды и льда кажется, что она вовсе исчезла. И тут в темную воду бухает камень десяти футов в поперечнике, вокруг него завиваются и колышутся ленты пузырей. Сигруд кидается в сторону, а следом набегает ударная волна и отбрасывает еще дальше…
Нельзя тонуть. Нельзя попадать под камень.
В воду обрушиваются еще камни, гулко бухают вокруг, и его выносит вверх, вверх…
Поверхность воды плотная, он не может пробить ее, не получается…
И тогда он раздирает ее руками, открывает рот и вдыхает полной грудью зимний воздух.
Сигруд выползает из воды на лед. Подальше от моста лед, к счастью, так же прочен. Он оглядывается и видит, что моста больше нет: он рушится в воду, поднимая волну за волной… и Урава, кстати, нигде не видно.
Накатывает слабость, знобит. Сигруд стоит на коленях на льду и выглядывает хоть какой-то знак, что его ждут: костер, веревку, лодку наконец… Но все, что он видит, – это шар слабого желтого света, свет скользит к нему под водой, расталкивая глыбы льда, как обрывки салфетки.
– Хм, – говорит он себе.
И смотрит на свои руки и ноги: во время боя жир смылся, а с ним – и те защитные свойства, которыми наделила его Шара.
И тут вокруг Сигруда вырастает лес щупалец, и разевается перед ним дрожащая, ширящаяся пасть, в которой не хватает многих зубов. А потом дрейлинга мягко толкают в спину, словно бы приглашая внутрь.
* * *
Сигруд открывает глаз.
Он сидит на широкой черной равнине. Небо над головой тоже черное. Он понимает, что вокруг есть пейзаж, только потому, что на горизонте висит огромный горящий желтый глаз, и отсветы желтого ложатся на черные пески.
Он слышит голос: ТЫ ПОЗНАЕШЬ БОЛЬ.
Сигруд оглядывается: кругом тянется поле, на поле сидят трупы, сухие, пепельно-бледные, словно бы из них выкипятили всю влагу. На одном – форма полицейского, у другого в руке удочка. Все трупы сидят лицом к глазу, и на каждом лице, иссушенном и сером, гримаса дикой боли.
И тут он видит, что груди трупов приподымаются в ритме медленного дыхания.
Значит… значит, они – живы…
Снова тот же голос: ТЫ ПОЗНАЕШЬ БОЛЬ, ИБО ТЫ ПАЛ.
Сигруд смотрит вниз. Он все еще обнажен, на нем лишь сапоги, перевязь с кинжалом и перчатка на правой руке.
Он дотрагивается до кинжала и припоминает слова Шары: «Возможно, придется взять дело в собственные руки…»
Голос произносит: ТЫ ПОЗНАЕШЬ БОЛЬ, ИБО ТЫ НЕЧИСТ.
Сигруд вынимает кинжал из ножен и думает: почему бы не прижать его к запястью, не вскрыть вену… но почему-то замирает в сомнениях.
Голос сообщает: ТЫ ПОЗНАЕШЬ БОЛЬ И ЧЕРЕЗ БОЛЬ ОБРЕТЕШЬ ПРАВЕДНОСТЬ.
Сигруд ждет, кончик клинка завис над запястьем. Черная равнина окрашивается, течет, меняет очертания, и наконец вокруг поднимаются стены его прежней камеры в Слондхейме – тюрьме, где тьма и холод день за днем высасывали из него жизнь. «И что, – удивляется дрейлинг, – это и есть жуткий ад Урава?» Похоже, что так, но он не спешит опускать лезвие.
В двери его камеры горит огромный желтый глаз. Слышится голос: ТЫ ПОЗНАЕШЬ БОЛЬ. ТЫ ПОЗНАЕШЬ СТРАДАНИЕ. ТЫ ОЧИСТИШЬСЯ ОТ ГРЕХА.
Сигруд ждет. Ждет, что откроются старые раны, а переломы и ушибы, которыми его наградили в тюрьме, напомнят о себе свежей болью… но этого не происходит.
Голос теперь звучит немного недовольно: ТЫ ПОЗНАЕШЬ БОЛЬ.
Сигруд оглядывается, кончик клинка завис над запястьем.
– Хорошо, – медленно выговаривает он. – Но – когда?
Голос не отвечает.
– Разве это не ад? – спрашивает Сигруд. – Разве я не должен страдать?
В ответ – молчание. Стены исчезают, мгновенно перетекая в другие декорации, одна другой ужаснее: вот он лежит на утыканном гвоздями ложе, висит над извергающимся вулканом, тонет в черной глубине моря, возвращается в Дрейланд и видит дымы над горизонтом… Но ни одно из видений не причиняет ему физической или душевной боли.
Сигруд озирается:
– А что, собственно, происходит? – спрашивает он, окончательно запутавшись.
Стены расплываются, и теперь он снова сидит на черной равнине рядом с хрипло дышащими пепельными трупами, а его буравит яростным взглядом желтый глаз. На мгновение его посещает мысль: может, меня не берет, потому что я дрейлинг? Хотя нет, вряд ли…
И тут он сознает, что правая ладонь легонько подрагивает. Он смотрит на правую руку, скрытую под перчаткой, и до него наконец доходит.
Голос сердито произносит: БОЛЬ – ТВОЕ БУДУЩЕЕ. БОЛЬ ОЧИЩАЕТ.
Сигруд говорит:
– Но ты не можешь научить меня боли, – и принимается стаскивать тугую перчатку с пальцев, – ибо я уже познал ее.
И дрейлинг сдирает с ладони перчатку.
В центре алеет ужасный ярко-алый шрам, напоминающий клеймо, – только он врезан глубоко в плоть: круг с грубым изображением весов в середине.
«Руки Колкана, – вспоминает Сигруд, – всегда готовы взвешивать и вершить суд».
И он поднимает ладонь, показывая ее яркому желтому глазу.
– Перст твоего бога коснулся меня, – раздельно произносит он, – и я выжил. Я познал боль и теперь ношу ее с собой. Она со мной, каждый день. Поэтому ты не можешь мне причинить боль. Ты не можешь научить меня тому, что я уже знаю.
Огромный глаз неотрывно смотрит на него.
А потом смигивает.
Сигруд бросается вперед и всаживает в него кинжал.
* * *
Шара и Мулагеш стоят на берегу и смотрят на воду – туда, где Урав нырнул в последний раз.
– Ну же! – орет Незрев. – Уходим!
И Шара, и Мулагеш промокли до нитки – еще бы, они тащили из Солды Незрева, который отделался переломами обеих рук, переломом ноги и легким переохлаждением.
– Любовью всех богов заклинаю – унесите меня отсюда! – орет он, но Шара не обращает на него никакого внимания.
Она смотрит и смотрит на реку в ожидании невозможного: вдруг Урав сейчас вынырнет и выплюнет Сигруда, а тот возьмет и поскачет по волнам, как запущенный блинчиком камушек…
Но в темной воде лишь колышутся осколки льда.
– Нам нужно уходить, – говорит Мулагеш.
– Да! – орет Незрев. – Да, во имя всех богов, я именно это вам битый час уже талдычу!
– Что? – тихо переспрашивает Шара.
– Нам нужно, – раздельно повторяет Мулагеш, – уйти от реки. Тварь разозлена, мало ли что она теперь выкинет. Я знаю, что ты не хочешь оставлять друга, но нам нужно идти.
Полицейские перекрикиваются через реку, Незрев стонет и подвывает. Никто не знает, как теперь переправиться через Солду. Начальства теперь как бы нет, что делать дальше, никто не знает, но, похоже, полицейские пришли к компромиссу, решив залить в воду керосин и поджечь его.
– Так, теперь нам точно пора отсюда валить, – мрачно замечает Мулагеш.
Шара сооружает носилки из своего пальто, они кладут на него Незрева и вдвоем волокут прочь от реки. Остальные офицеры подгоняют к берегу повозку с бочками. Они даже не пытаются разгрузить их и опрокинуть как положено – просто рубят топором. Бочки разламываются, керосин стекает в реку.
Шара лихорадочно пытается найти какое-то решение – хоть бы и чудесное, сейчас самое время для нездешних трюков: молитва Колкану, нужное слово из Жугоставы, но… ничего не приходит на ум.
По реке, завиваясь, как змеи, в кольца, ползут завитки пламени. Лед шипит, становится гладким, как полированный мрамор, и быстро отступает.
Они почти дошли до тянущейся вдоль реки дороги, и тут одеяло огня на реке начинает резко проседать.
– Смотрите! – восклицает Шара.
Пламя шипит и стреляет языками.
– Пожалуйста, – скулит Незрев, – пожалуйста, не останавливайтесь!
Из Солды в туче брызг вылетает Урав и, корчась и визжа, принимается молотить конечностями.
– Огонь! – кричит кто-то. – Сработало!
Но Шара не очень-то в этом уверена. Урав, судя по всему, реагирует не на что-то внешнее – у него, похоже, какой-то приступ. Он напоминает ей старика в парке, которого хватил удар: у того так же беспорядочно двигались и дрожали руки и ноги…
Урав, визжа и булькая, разбивает лед, разбрызгивает озеро огня, колотит щупальцами по берегу, заодно раскатывая по камню остатки моста через Солду, а потом наконец вышвыривается на землю, судорожно открывая и закрывая пасть, жалобно поскуливая, как напуганная собака.
– Что, мать вашу, здесь происходит? – изумляется Мулагеш.
Урав разевает пасть и издает долгий монотонный вопль… и из брюха у него высовывается маленький черный зуб – прямо под раззявленной глоткой.
Нет. Это не зуб. Это нож.
– Нет, – говорит Шара. – Неужели это…
Урав снова верещит, нож дергается и медленно начинает вспарывать брюхо твари. Кровь толчками выплескивается на землю, шипит на льду. Из длинного разреза прорывается ладонь со сжатыми, на манер клинка, пальцами.
– О-фи-геть, – тихо говорит Мулагеш.
Дальше следует жуткая пародия на роды: из разреза струей бьют внутренности, вытекают гнилые кишки, а потом выпадает вымазанное кровью и жиром тело Сигруда. Он некоторое время лежит на спине и таращится в небо, потом перекатывается на живот, поднимается на четвереньки и начинает бурно блевать.
* * *
До Шары доносятся вопли радости, но ей не до них – она бежит по прибрежной дороге к Сигруду. Подбежав, она резко притормаживает – вонь стоит такая, что она налетает на нее, как на стену. Но Шара прорывается сквозь смрад, бросается к Сигруду и падает на колени.
– Но как? – вскрикивает она. С уха у него свисает какая-то мелкая железка, она осторожно снимает ее. – Как у тебя получилось? Как ты смог выжить?
Сигруд валится на спину, глотая воздух. Он натужно перхает, засовывает руку в рот и вытягивает оттуда тягучий длинный серый обрывок плоти.
– Повезло, – выдыхает он. И отшвыривает серый ошметок, тот шлепается на кучу внутренностей с влажным хлопком. – Везучий я. И дурной.
Внутри Урава что-то шевелится, и из распоротого брюха селем ползут еще внутренности. Шара подхватывает Сигруда на ноги – надо уходить, пока их не залило этой дрянью. И тут она замечает, что на правой руке у него нет перчатки – а ведь он никогда не снимал ее.
Сигруд неверяще оглядывается на Урава:
– Подумать только… – и он прикладывает палец к правой ноздре и высмаркивает из левой небольшой океан крайне вонючей крови. – Подумать только, что внутри этой твари было вот это все…
– Что – все? Что, там действительно был ад, Сигруд?
Сигруда бросает на колени новый приступ кашля. Через Солду несутся новые радостные крики и вопли, и они все громче. Шара смотрит на берег и обнаруживает, что там радуются и веселятся не только полицейские, но и обычные горожане, – мужчины, женщины и дети высыпали из домов и поют и хлопают в ладоши от радости.
«Ох ты ж батюшки, – понимает она, – мы же у всех на глазах это побоище устроили…»
Слева одна за другой разгораются вспышки фотоаппаратов: репортеры уже набежали со своими треногами и теперь отщелкивают кадр за кадром.
А за ними стоит человек, которого она совершенно не ожидала здесь увидеть.
Воханнес Вотров. Похоже, он решил изменить привычному экстравагантному стилю: теперь на нем темно-коричневое пальто и черная, застегнутая под горло рубашка. Выглядит он исхудавшим и бледным. И смотрит на Шару расслабленно и презрительно, словно она жук, бьющийся в оконное стекло. И тут она замечает, что при нем нет трости.
Вокруг Воханнеса и фотографов собирается толпа. Сигруда и Шару беспрестанно хлопают по спине, выкрикивая поздравления. А когда она снова оглядывается на фотографов, Воханнеса уже и след простыл.
Я не виню тех, кто восхищается сайпурской историей. Ведь что такое история? Это сюжет, драма, а сюжет нашей драмы местами поражает воображение. Но мы должны помнить ее целиком, помнить, что случилось на самом деле, чтобы избежать избирательной амнезии. Ибо Великая Война началась не с вторжения на Континент и не с гибели Божества Вуртьи.
Эта история началась с ребенка.
Я не знаю, как ее звали. А жаль – учитывая то, что с ней случилось, она заслуживает того, чтобы люди помнили ее имя. В протоколах суда написано, что она жила со своими родителями на ферме в провинции Малидеши и была из тех, кого называют простушками, – ибо природа не наделила ее подвижным умом. Как и многие дети ее возраста, она любила играть со спичками, и, возможно, ее умственная ограниченность усилила это влечение.
В один из дней 1631 года она нашла на дороге перевернутую повозку, рядом с которой никого не было. Там лежало множество ящиков с бумагами, и, увидев такую кипу и, как я понимаю, сообразив, что рядом нет взрослых, она поддалась искушению.
Девочка взяла спички и принялась жечь эти бумаги, одну за другой.
А потом вернулись те, кто ехал в этой повозке. Это были континентцы, богатые таалвастани, которым принадлежало в округе много рисовых полей. Увидев, как она жжет бумагу, они пришли в ярость, ибо девочка, сама того не зная, жгла списки Таалваставы, священного писания Таалавраса, и для них то было тяжкое преступление.
Они отвели ее к местному континентскому магистрату и потребовали наказать ее за ересь и святотатство. Родители девочки умоляли сжалиться над ребенком, который в силу умственной ограниченности не ведал, что творил. Жители деревни также присоединились к просьбе и просили назначить легкое наказание, а то и вовсе отпустить девочку.
Однако континентцы приступили к судье с такими словами: если сайпурец пожелал сжечь святое писание, его самого следует предать той же участи. И судья, который сам был континентцем, выслушал их и согласился.
И они сожгли ее заживо на городской площади Малидеши на глазах у жителей: согласно протоколам суда, они подвесили ее на дереве на цепи и разложили костер у ее ног, а когда она, плача, вскарабкалась по цепи, чтобы убежать от огня, они отрубили ей ноги и руки, и мне доподлинно неизвестно, истекла ли она кровью или умерла в огне.
Я не думаю, что континентцы были готовы к тому, что жители поведут себя так, как повели: в конце концов, то были обычные бедные сайпурцы, слабые и безвольные, привычные к унижениям и плохому обращению. Но при виде столь ужасной казни городок Малидеши взбунтовался. Магистрат разнесли, а судей и палачей забили камнями до смерти.
Целую неделю они праздновали новообретенную свободу. Я бы хотел написать, что тогда и началось Восстание Колоний, и что Сайпур под впечатлением от этого смелого поступка встал под руку каджа и атаковал Континент. Но прошла неделя, и континентцы вернулись – на этот раз с армией. И Малидеши вы больше не найдете ни на одной карте, а о его существовании напоминает только выжженная полоса земли на морском берегу и насыпь длиной в одну шестую мили – под ней покоятся останки восставших граждан Малидеши.
О бойне пошли разговоры. И жителей колоний постепенно охватил тихий холодный гнев.
Мы мало знаем о кадже. Мы даже не знаем, кем была его мать. Но мы знаем, что он жил в провинции Тохмай, граничащей с Малидеши, и мы знаем, что сразу после этого массового убийства он взялся за свои эксперименты, и один из них увенчался созданием оружия, которое позволило сбросить иго Континента.
Лавина сносит в океан крохотный камень, и, таинственной волей судьбы, этот камешек вызывает цунами.
Я бы очень хотел знать о прошлом не все. Еще я бы хотел, чтобы каких-то событий удалось бы избежать. Но прошлое есть прошлое, и кто-то должен помнить о нем и говорить об этом.
Доктор Ефрем Панъюй. Об утерянной истории
Спасение
– Переломов нет, – констатирует доктор. – Возможны трещины. Очень много ушибов, таких сильных, что я не исключил бы ушиб кости. Я бы, конечно, мог поставить более точный диагноз, если бы пациент дал себя осмотреть… тщательнее.
Сигруд откидывается на кровать с горшком картофельной водки на коленях и сурово ворчит в ответ. Половина лица у него ярко-красная, вторая половина – черно-серая, как гнилой фрукт. В свете слабоватых газовых ламп – вот такое освещение в здании посольства, ничего не поделаешь, – выглядит он сущим неупокоенным мертвецом. Он позволил доктору пощупать живот и посмотреть, как он двигает головой, руками и ногами. На остальные вопросы доктора Сигруд отзывается мрачным рычанием.
– Он говорит, что его не беспокоит живот, – сообщает доктор. – Что, доложу я вам, совершенно невероятно. А еще я не вижу следов обморожения – что тоже, по правде говоря, выходит за рамки обычного.
– Что еще за «обморожение»? – спрашивает Сигруд. – Никогда о таком не слышал.
– Вы что, хотите сказать, – отзывается доктор, – что у дрейлингов обморожения не бывает?
– У нас бывает сильно холодно, – тут Сигруд мощно прикладывается к посудине, – и несильно холодно.
Доктор, недовольный и расстроенный, обращается к Шаре:
– Я скажу вот что: если он переживет ночь, его здоровье вне опасности. Я также скажу, что если он хочет жить и дальше, то ему следует разрешить профессионалам от медицины выполнять их работу! А не обращаться с нами так, словно мы тут… нежеланные посетители!
Сигруд гадко смеется.
Доктор, сердито бормоча, откланивается, и Шара провожает его до входной двери. У ворот посольства толпятся люди – они пришли сюда от реки.
– Прошу вас, – говорит Шара, – если это возможно, не распространяться о деталях осмотра…
– Это было бы неэтично с профессиональной точки зрения! – гордо заявляет доктор. – К тому же осмотр был проведен настолько поверхностно, что я бы предпочел, чтобы никто о нем не знал.
И он насаживает шляпу на голову и гордо удаляется. Кто-то в толпе орет: «Вон она!» – и ворота высвечивает яркая фотографическая вспышка.
Шара недовольно кривится и захлопывает дверь. Фотография – недавнее изобретение, ей не более пяти лет от роду, однако уже сейчас понятно, что она его терпеть не может: «Запечатление образов, – думает сайпурка, – чревато серьезными осложнениями в нашей работе…»
Шара возвращается в здание и поднимается по лестнице. Персонал посольства провожает ее обведенными темными кругами глазами – люди валятся с ног и ждут разрешения упасть и уснуть. И тут по лестнице, спешно топая сапогами, ссыпается Мулагеш.
– Пожар на Складе потушен, – докладывает она. Поднимает бутылку и прикладывается. – Из посольства никто не выйдет, пока мы не поймем, что на уме у населения этого города – в смысле, будут ли они нас убивать за то, что мы убили домашнее животное ихнего бога. Или что это еще было – насрать мне. Отцы Города постановили, что восстановят мост на собственные средства. А я собираюсь напиться и завалиться спать прямо здесь. Надеюсь, вы не возражаете.
– Не возражаю.
– И вот что: когда все это закончится, вы уж, пожалуйста, сдержите свое обещание! Чтоб меня в Джаврат перевели, и пропади оно все пропадом!
– Я сдержу.
И она идет мимо Мулагеш, и входит в комнату к Сигруду, и садится в изножье его кровати. Сигруд проводит пальцем по горлышку бутылки – снова и снова.
– Держи, – говорит Шара.
Протягивает Сигруду золотой браслет и кладет на огромную ладонь.
– Спасибо, – отвечает он и застегивает украшение на левом запястье.
– Ты действительно хорошо себя чувствуешь? – спрашивает Шара.
– Ну да, – отзывается Сигруд. – И не в таких переделках случалось бывать.
– Да неужели?
Сигруд задумчиво кивает.
– Но как, как ты выжил?
Он думает некоторое время, а потом поднимает свою правую ладонь, перевязанную медицинским бинтом. Бинт он разматывает, и Шара видит ярко-алый отпечаток весов на ладони.
– Благодаря этому.
Шара разглядывает рисунок:
– Но это… это не благословение Колкана…
– Возможно, что и нет. Но я думаю, что… наказание и благословение Колкана – одно и то же.
Шара вспоминает, как Ефрем читал из «Книги Красного Лотоса» Олвос и комментировал: «Божества не сознавали себя так, как мы сознаем себя, и их непреднамеренные действия говорят о них больше, чем преднамеренные».
Сигруд смотрит на свою ладонь. Глаз его блестит среди припухших век, как спинка жука между крыльев. Он смаргивает – теперь Шара видит, насколько он пьян, – и говорит:
– Ты знаешь, как я это получил?
– Кое-что знаю, – кивает она. – Знаю, что эта отметина от Перста Колкана.
Он кивает в ответ. Между ними повисает молчание.
– Я знала, что у тебя она есть, – говорит она. – Я знала, что это. Но мне казалось, что я не имею права задавать вопросы.
– И правильно казалось. Шрамы – окна в боль, и лучше их не трогать.
Он массирует ладонь и говорит:
– Я даже не знаю, откуда они его заполучили там, в Слондхейме. Такой редкий и мощный артефакт – хотя выглядел как обычный шарик. Серый такой, и на нем весы вырезаны. Им приходилось его таскать в шкатулке со специальной такой подкладкой…
– Серой шерсти, наверное, – говорит Шара. – Колкастани ее особенно ценили.
– Ну как скажешь. Нас было девятеро. Они держали нас в камере, всех вместе. Мы пили ржавую воду из подтекающей трубы, срали в углу, голодали. Голодали долго, очень долго. Я не знаю, сколько времени они морили нас голодом. Но однажды тюремщики пришли к нам с этим камушком в ящичке и тарелкой с курицей – целой курицей! – сказали: «Тому, кто удержит этот крошечный камушек в течение целой минуты, мы дадим поесть». И все наперебой стали вызываться, а я не стал, потому что знал, что это за люди. В Слондхейме они творили что хотели, играли с нами в кошки-мышки. Науськивали нас друг на друга, и мы друг друга убивали…
И он сжимает левый кулак. Посеченные розовыми шрамами холмы костяшек вспыхивают белым.
– Так что я понимал: что-то тут не то. И вот первый вызвался подержать в руке эту гальку, и, как только взял ее, так сразу начал орать. И с руки кровь потекла, словно бы ее проткнули. Он бросил его, и камушек бухнул об пол так, словно это был целый булыжник. А тюремщики расхохотались и сказали: «Давай поднимай», – а тот не смог. Словно бы этот мелкий камень тысячу тонн весил. А тюремщики обернули его в серую ткань и подняли. Мы не понимали, что это, мы только знали, что помираем с голоду, и мы снова попытались, лишь бы только поесть, хотя бы чуть-чуть. Но никто из нас не смог. Кто-то продержался двадцать секунд. Кто-то даже тридцать. Руки у них кровили будь здоров. И раны остались жуткие. И все они роняли этот камень. Этот крохотный Перст Колкана.
Сигруд отпивает вина.
– И тогда… я тоже попробовал. Но, прежде чем взять его в руку, я подумал… подумал обо всем, что потерял. Вот это пламя, что живет у нас в сердце, которое заставляет жить дальше, оно погасло. И даже сейчас оно не горит. И… И я хотел, чтобы этот камень сокрушил меня. Понимаешь? Я жаждал этой боли. Так что я его взял в руку. Удержал.
И он смотрит на ладонь так, словно камень до сих пор лежит в ней.
– Я до сих пор чувствую его вес. Словно бы я его держу. Я взял его в руку не для того, чтобы пожрать, а для того, чтобы умереть.
Ладонь сжимается в кулак.
– Но поесть я поел. Я держал в руке Перст Колкана не минуту, а целых три. И когда они, очень расстроенные, забрали у меня камень, они сказали: «Можешь есть, ты же победил. Но сначала реши: будешь есть эту курицу один? Или поделишься с сокамерниками?» И они все смотрели на меня… живые мертвецы, худые, бледные, изможденные, они истаивали у меня на глазах…
Сигруд начинает бинтовать руку:
– Я тогда даже не подумал ни о чем таком, – тихо сказал он, – ни на секунду не задумался. Тюремщики перевели меня в другую камеру, я сожрал курицу и уснул. А меньше чем через неделю из моей старой камеры стали выволакивать тело за телом.
Он закрепляет повязку и массирует ладонь.
– Божества создали ад, и не один, – говорит он, – но все они бледнеют перед тем, что создали для себя люди.
* * *
Шара закрывает дверь в комнату Сигруда и останавливается посреди коридора. Ноги у нее дрожат, и ей требуется некоторое время, чтобы понять: сейчас она упадет. И тогда она садится, прямо в коридоре и делает глубокий вдох.
Шаре приходилось руководить многими оперативниками, и многих она потеряла. И тогда она считала себя безупречным профессионалом: эффективно действующим, но лично не заинтересованным, совесть же ее вместе со здравым рассудком были закопаны глубоко-глубоко в маленькой герметичной стеклянной колбе. Грязная реальность не имела к ним никакого отношения.
Но потерять Сигруда… Теперь она знает, что такое цепенящий ужас. Она испытала его, когда Сигруд исчез в темных водах Солды…
«Он жив, – говорит она себе. – Он жив, и с ним все будет хорошо». Хорошо – с поправкой на то, что он весь избит и покрыт синяками и одиноко сидит в крохотной вонючей комнатушке.
Шара качает головой. До чего же настоящее похоже на прошлое. Десять лет назад это было, а кажется, что только вчера.
Шара вспоминает, какой маленькой была дверь в эту каюту. Крохотная, практически люк. И каюта тоже самая маленькая – меньше на сайпурском дредноуте не найти. Она постучала в дверь, стук эхом загулял в коридоре. Ей не ответили. Тогда она открыла дверь, и в нос ударила вонь, да такая застарелая, что ноги, и без того слабые от морской болезни, едва не подогнулись. За плечом покашлял сайпурский лейтенант. И заметил: «Будьте осторожны с ним, сударыня». Наверное, думал, что эта двадцатипятилетняя пигалица пытается свести счеты с жизнью, не иначе.
Она вошла внутрь. В комнате не было света, но она разглядела огромного мужчину, сидевшего, скрестив ноги, в углу. Сидел он с видом побитой собаки: волосы свисали патлами, кожа вся в синяках и воспаленных ссадинах. Голову он свесил, так что глаз не видно, – впрочем, у него один глаз, нужно это помнить. Но человек вздрогнул, когда в комнату неожиданно ударил свет.
Она закрыла дверь и села в противоположном углу. И стала ждать. Он вообще не двигался.
– Мы покидаем территориальные воды дрейлингов, – сказала она. – Ты не хочешь кинуть последний взгляд на берега родины?
Он не ответил.
– Ты не выходил из каюты. Но ведь ты свободен. Разве ты не хочешь прогуляться? Тебе ведь много лет не выпадал такой случай.
Молчание.
– А помыться не хочешь? У нас есть горячая вода.
Гигант тихонько что-то проворчал – словно бы решился заговорить, но в последний момент передумал.
– Да?
Он говорил с таким акцентом, что она его с трудом понимала:
– Это все… не взаправду.
– Что?
Он махнул рукой:
– Да все.
– Нет, все это взаправду. Я тебе даю в этом слово. Твоя дверь не заперта. Ты свободен.
Он покачал головой:
– Нет. Этого не может быть. Они… моя семья…
Шара молчала, но он ничего больше не сказал.
– Они живы, как я тебе тогда и сказала, – тихо проговорила она.
– Я их похоронил. Я держал в руках их кости.
– Я не могу с уверенностью сказать, чьи кости это были, но это точно не кости твоих домочадцев.
– Ты лжешь.
– Нет, не лгу. Твою жену, Хильд, и твоих дочерей незадолго до переворота тайно вывез из страны слуга вашей семьи. Они перешли границу Вуртьястана буквально за два дня до того, как все случилось. И там они и жили все последние шесть лет, выдавая себя за родственников этого слуги. Они стали фермерами – не ахти какими преуспевающими, я думаю, ибо люди с таким происхождением навряд ли когда-либо обрабатывали землю, но в целом они живут вполне сносно.
Далее следует долгое молчание. А потом:
– Есть… Есть у тебя доказательства, что это правда?
– Когда я нашла твою семью, им грозила опасность. Их искали – и продолжают искать, по свету рыщут агенты, чья задача – найти всех уцелевших членов твоего рода. Мы перевезли твою семью из Вуртьястана, потому что я сочла, что там небезопасно. Это было нелегко проделать, потому что твоя жена… как бы это помягче сказать… волевая женщина.
Он едва заметно улыбается.
– Но мы сумели это сделать. А когда все завершилось, твоя жена сделала одному из наших офицеров подарок в знак благодарности.
Шара залезла в карман и вытащила холстяной мешочек. Открыла, вынула блестящий плетеный золотой браслет со звеньями в форме высоких гребнистых волн.
И отдала дрейлингу:
– Тебе знакома эта вещь?
Он долго смотрел на браслет, и золото казалось таким ярким и чистым на его исполосованной шрамами грязной ладони. Пальцы его задрожали.
– Почему бы тебе не подняться со мной на палубу? – мягко предложила она.
Он медленно поднялся, все еще не в силах оторвать глаз от браслета. Она открыла дверь, и он вышел за ней следом и пошел вверх по лестнице, с видом сонного ребенка, которого загоняют в кроватку.
Оказавшись на воздухе, Шара мгновенно получила пощечину от холодного ветра, замерла, задохнувшись, а потом перегнулась пополам и выбралась на палубу дредноута. Гигант вообще ничего не заметил, просто перешагнул порог, поднял глаза к небу и замер в благоговейном молчании. Когда его привели на борт, он избегал смотреть вверх, и она, помнится, все удивлялась – почему? А сейчас поняла. Наверняка он слишком долго пробыл взаперти. Вид открытого огромного простора его пугает.
– Пойдем, – сказала она и повела его к ограждению. За волнами таились черные утесы дрейлингских берегов. – Мне сказали, что суша не так уж далеко, как кажется. Хотя я думаю, что ты разбираешься в этом получше моего.
Он посмотрел на золотой браслет, застегнул его на запястье и поднял руку вверх – чтобы рассмотреть получше.
– Я ведь не смогу их увидеть, правда?
Она покачала головой:
– Это опасно – и для них, и для тебя. Такова нынешняя ситуация. Но она, возможно, изменится.
– Чего ты хочешь от меня? – спросил он.
– От тебя? На данный момент ничего.
– Ты спасла мою семью. Ты вытащила меня из тюрьмы. Почему?
– Я считаю, что ты можешь предоставить ценную информацию о дрейлингских странах, – говорит Шара. – Она поможет дестабилизировать любые отношения, которые могут установиться у Дрейлингских республик с Континентом.
В голосе послышались самодовольные нотки: это было первой большой победой в ее карьере разведчицы, и ей еще не хватало опыта, чтобы понять: гордость лучше не показывать.
– Этого недостаточно.
– Недостаточно для чего?
– Для того, чтобы сделать для меня то, что ты сделала.
Шара примолкла, не зная, что сказать.
– Попроси меня о чем-нибудь, – проговорил он.
– О чем?
– О чем-нибудь. О чем угодно.
– Но мне ничего от тебя не нужно.
Он рассмеялся:
– Еще как нужно.
– Я – офицер сайпурской разведки, – раздраженно сказала она. – Я не нуждаюсь в твоих ус…
– Ты – молоденькая девочка, – отрезал он, – которая не умеет править кораблем, не умеет драться и никогда в своей жизни не проливала крови. Ты, должно быть, неглупа, но сдается мне, что ты нуждаешься в моих услугах. Но ты слишком горда, чтобы попросить о них.
Шара смерила его сердитым взглядом:
– И кем же ты собираешься стать при мне? Телохранителем? Секретарем? Неужели опустишься до такого?
– Опуститься?.. – И он снова отвернулся к морю. – Опуститься… Ты не знаешь, что на самом деле значит опуститься. Ты даже не представляешь, что они там со мной сделали. Это нельзя словами передать. А теперь… мне все равно – носить воду, прислуживать за столом, драться, убивать – что бы ни уготовило мне будущее, мне все равно. Все равно.
Он повторил это с таким напором, словно самого себя пытался убедить. А потом повернулся и пристально посмотрел на нее, бледную и задумчивую:
– Попроси меня о чем-нибудь. Попроси.
И под слоем грязи на исполосованном шрамами лице Шара разглядела сокровенное желание: на свой особый извращенный манер он просил у нее разрешения на смерть, ибо не представлял себе, что еще можно с собой сделать.
Шара смотрела, как истаивают на горизонте дрейлингские утесы. И тогда она поступила так, как не сумела бы поступить сейчас: открыла Сигруду свое сердце, сказала ему правду и дала обещание – хотя не знала, сможет ли сдержать его.
– Тогда я попрошу тебя вот о чем, – медленно произнесла она. – Я попрошу тебя помнить, что ты не прощаешься с родиной навсегда. Что однажды я помогу тебе вернуться домой. Я помогу тебе составить и излечить то, что было сломано. Я обещаю, что привезу тебя обратно.
Дрейлинг посмотрел на море, и единственный глаз его сиял. А потом, к ее величайшему удивлению, он опустился на колени, вцепился в ограждение борта и разрыдался.
* * *
– Вы уверены, что не передумаете? – слышит она знакомый голос.
– Я уверена, что мне даже подумать не дали! – отвечает голос Мулагеш. – Ваш проклятый совет не предоставил мне такой возможности!
– Да они даже проголосовать не могут! – снова тот же голос. – На заседании не набралось кворума! А вы можете употребить свое влияние, Турин?!
– Ох ты ж… во имя всех морей… – бормочет Мулагеш, и чувствуется, что она изрядно подшофе и очень, очень устала. – После всего, что сегодня было, мне только этого и не хватало… Нет уж, я поступлю так, как мне сказали! А мне сказали – пошла в жопу!
Шара входит в кухню и видит там Воханнеса Вотрова в его обычной белой шубе. Воханнес стоит перед Мулагеш, а та мрачно созерцает его поверх наполненного до краев стакана с виски. Трость Вотрова выстукивает нетерпеливое стаккато по каблуку его сапога.
– Я полагала, что мы изолировали посольство от внешнего мира и не принимаем посетителей, – говорит Шара. – Особенно этого посетителя.
Воханнес разворачивается и одаривает ее широкой улыбкой:
– Кого я вижу! Торжествующая воительница возвращается с победой! Эпическое, эпическое сражение!
– Во, у меня правда нет времени слушать твои сомнительные комплименты, так что не расточай их понапрасну. Как ты проник внутрь?
– Расточая сомнительные комплименты, естественно! – радостно сообщает Воханнес. – Пожалуйста, помоги мне! Мы обязаны убедить губернатора Мулагеш встать и заняться делом. Вы все упускаете потрясающую возможность, не делайте этого!
– Даже не подумаю, – заявляет Мулагеш. – Моя задница даже на дюйм не оторвется от этого кресла. Во всяком случае, сегодняшним вечером это исключено.
– Но в городе дикий хаос! – восклицает Воханнес. – Половина города не может попасть в другую половину, потому что мост обрушен, и приходится обходить все стены по кругу! И я прекрасно знаю, что у Мирграда нет средств, чтобы начать восстановительные работы!
– Одну секундочку. Разве не тебе принадлежит большинство мирградских строительных компаний? – спрашивает Шара.
– Ну… да, но… мои компании действительно могли бы начать работу, чтобы был какой-то… мгм… задел, но… но это не идет ни в какое сравнение с возможностями губернатора полиса! Или регионального губернатора!
– С какой стати нам в этом участвовать?
– Вы считаете, что вам нет никакой выгоды в том, что весь Мирград будет зависеть от ваших строителей и проектировщиков?
– И нам, естественно, придется работать с его компаниями, ага, – кивает на Воханнеса Мулагеш.
– Считайте это просто дополнительным бонусом, – улыбается Воханнес.
– Хорош бонус, – бормочет Мулагеш.
– Во, сегодня погибли десятки людей, – говорит Шара. – Я знаю, что у тебя свои задачи и планы, но можно вести себя хоть немного достойнее? Разве ты не должен оплакивать своих соотечественников?
Улыбка Воханнеса гаснет на глазах, рот застывает в злой гримасе.
– Мне очень неприятно напоминать вам об этом, посол, – ядовитым тоном отвечает он, – но все же придется. Нынешняя трагедия – далеко не первое бедствие, которое обрушилось на Мирград. Не припоминаете, что случилось на улице Ошкева? А я напомню. В провал, образовавшийся вследствие Мига, вдруг обвалились два многоквартирных дома и школа. Мы оплакивали их тогда, но какой в том был прок? И да, не припоминаете, как в результате технической ошибки Континентальной газовой компании, тянувшей газ в Прибрежном квартале, вспыхнул пожар, который не могли потушить целых шесть дней? Мы оплакивали их тогда, но какой в том был прок?
Шара оборачивается к Мулагеш, но та неохотно пожимает плечами: нет, мол, он ничего не придумывает, все так и было.
– Трагедии в Мирграде случаются регулярно, – безжалостно продолжает Воханнес. – А траур лишь маскирует реальную проблему: Мирград отчаянно нуждается в помощи. Город необходимо перестраивать. По-настоящему реконструировать и перестраивать, и мы не можем здесь обойтись собственными силами!
– Прости, – говорит Шара. – Я не должна была так говорить.
И она садится – ноги отвечают ей благодарственной песнью – и трет глаза.
– Но ведь мост только что обвалился, – стонет она, – и уже нужно что-то придумывать, плести какие-то интриги… Так что там насчет городского совета?
– Отцы Города созвали внеочередное заседание, чтобы обсудить, какие меры надлежит принять, – говорит Воханнес. – После того как мы в общем и целом обговорили план спасательных мероприятий, я предложил обратиться к Сайпуру за помощью в восстановительных работах. Они все проголосовали против, но никакой альтернативы не предложили. Но голосование на самом деле не имеет никакой силы, потому что Уиклов – не присутствовал.
Шара задумчиво барабанит пальцами по столу:
– Вот, значит, как…
– Угу. Интересно, да? А между прочим, его уже с неделю никто не видел. С тех самых пор, как он стоял у ворот посольства и выкрикивал оскорбления в твой адрес.
«А ведь Сигруд видел, как он отвел Торскую к мховосту, – думает Шара, – а потом исчез в переулке…»
Она некоторое время сидит в задумчивости, потом беспомощно оборачивается к Мулагеш: мол, а вы что посоветуете?
– Пожалуйста, не надо говорить, что мне сейчас нужно встать и куда-то пойти… – умоляюще произносит та.
– Я не скажу, – отвечает Шара. – Во всяком случае, сегодня. Это… Во, это подождет до утра.
– Ковать железо, – вспыхивает Воханнес, – нужно пока оно горячо!
– Я ничего не решаю! Политикой занимаются совсем другие люди!
– Но у тебя же есть среди них друзья, причем высокопоставленные?
– В свете того, что произошло сегодня вечером, они могут пересмотреть свое отношение ко мне.
И она горько вздыхает.
– Во, ты даже представить себе не можешь, что случилось буквально несколько часов тому назад. Это абсолютно конфиденциальная информация, но я скажу тебе: мы понесли очень, очень серьезные потери. Более того, мы находимся в полном неведении относительно того, кто наши враги и чем они занимаются. Так что сейчас не время для больших проектов. На сегодня Мирград нужно оставить Мирграду.
– Именно эта стратегия, – говорит Воханнес, – подарила нам реставрационистов, большое спасибо. И все, что случится потом – а оно случится, – будет следствием этой недальновидной политики. Город маринуется в собственном соку. А трагедия, подобная сегодняшней, позволит разорвать этот порочный круг! Шара, прошу тебя! Воспользуйся нынешним шансом!
– За сегодняшний вечер у меня случилась не одна, а несколько трагедий. – И она горько смеется. – Нет, такие союзники тебе не нужны. К рассвету, возможно, у меня даже работы не будет.
– Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. Особенно потому, что сейчас каждый мужчина, женщина и ребенок в Мирграде считают вас героями, совершившими славный подвиг.
Мулагеш и Шара сидели в своих креслах, явно подремывая, но тут они быстро смаргивают и просыпаются.
– Ч-что? – переспрашивает Мулагеш.
– В смысле – что? – переспрашивает в свою очередь Воханнес.
– В смысле… что вы сейчас сказали?
– Вы что… не поняли до сих пор? Вон та толпа… – и он показывает на север, в сторону ворот. – Думаете, они орут от злости? Хотят своротить ворота? Нет! Они вопят от восхищения! Восхищения, понимаете? Вы убили чудище, которое терроризировало город, у всех на глазах! Это же… в общем, это действительно подвиг, достойный увековечивания в легендах.
Шара бормочет:
– Но это же было священное создание… На городской площади раньше был храм Урава! Они этой твари поклонялись! Раньше!
– Ключевое слово здесь – раньше. Это было триста лет тому назад! А сейчас оно пыталось нас всех убить!
– Но… Но это же Сигруд все сделал!
Он пожимает плечами:
– Ликование нарастает. Отцы Города не знают, что делать. У тебя есть шанс стать первым гражданином Сайпура, получившим официальную благодарность городских властей. И если бы ты или кто-то из Галадеша дали себе такой труд, вы могли бы войти в город под одобрительные аплодисменты, отстроить мост и считаться спасителями Мирграда отныне и до века!
Шара и Мулагеш ошарашенно переглядываются. Воханнес вынимает папиросу из крохотного серебряного портсигара и вставляет ее в мундштук.
– Будем, правда, надеяться, – говорит он, – что они не сумеют дознаться, кто ты на самом деле. Уж больно у твоей семьи… мгм… известная история, а нам не нужны всякие неприятные исторические параллели, правда?
* * *
Шара пьет. А что, почему бы и нет? Она боец среди бойцов, выжившие пьют за победу. И за тех, кто погиб. Вино кружит усталую голову, Воханнес присоединяется к ним с Мулагеш, и вечер преображается: из горького и нервного становится уютным и домашним, как их прежние вечера в школе, когда они сидели в общей гостиной с однокашниками, болтали о том о сем и прицельно игнорировали безумный, безумный мир за ее стенами.
Какое же это прекрасное чувство – чувство общности…
В сиреневых предрассветных сумерках Мулагеш задремывает в кресле. Воханнес, заботливо поддерживая Шару под руку, ведет ее наверх. Она останавливается перевести дух у большого окна на лестничной площадке. Звезды разлеглись на одеяле из мягких фиолетовых облаков, укрывающем Мирград, – вид настолько живописный, что кажется картиной бесстыдно сентиментального художника.
Воханнес прихрамывает следом. Сейчас он выглядит очень хрупким.
– Я… – Шара понимает, что этого лучше не говорить, но она настолько пьяна, что уже не может остановиться: – Тот несчастный случай, Во… мне очень жаль, что так случилось.
– Такова наша жизнь, – тихо отвечает он. Если он и знает, что она знает, как он в действительности получил эту травму, то не показывает. – Я хочу изменить ее и прошу твоей помощи.
Когда они наконец добираются до комнаты, Шара садится на кровать и подпирает лоб руками. Комната кружится и качается подобно палубе корабля.
– Давненько, – слышит она в темноте голос Воханнеса, – не был я в спальне женщины…
– А как же вы с Ивонной?..
Он качает головой:
– Там… там немного не то, что ты думаешь.
Она ложится на спину. Воханнес кривовато улыбается, садится рядом и, опираясь на руку, зависает над ней. Их бедра соприкасаются.
Она удивленно моргает:
– Я как-то не думала, что тебе это интересно…
– Ну… и здесь тоже… немного не то, что ты думаешь.
Она печально улыбается. Бедняга, думает она. Вечно он разрывается между двумя мирами…
– Разве я тебе не противна? – спрашивает она.
– С чего бы это?
– Я отказываюсь делать то, что ты хочешь. Я не помогаю ни тебе, ни Мирграду, ни Континенту. Я твой враг. Препятствие на пути к цели.
– Мой враг – ваша политическая стратегия, – вздыхает он. – Когда-нибудь у меня получится тебя переубедить. Возможно, сегодня.
– Не говори ерунды. Зачем промышленному магнату злоупотреблять доверием подвыпившей женщины?
– Хм. А ты знаешь, – говорит Воханнес, – что, когда я вернулся, по городу пошли слухи, что я завел сайпурскую любовницу? Как меня за это поносили! Но и завидовали тоже, конечно. Но мне было все равно.
Глаза его увлажняются – неужели плачет?
– Я встречался с тобой не из-за тяги к экзотике. Я встречался с тобой, потому что ты – это ты.
Вот как он смеет быть таким красивым, а?
– Если ты не хочешь меня, – говорит он, – просто скажи «нет», и я уйду.
Она обдумывает его слова и испускает преувеличенно тяжелый вздох:
– Ты всегда ставишь меня перед такими сложными дилеммами…
Он целует ее в шею. Его борода щекочет ей скулу.
– Хммм… Ах… Ну ладно. – И она тянет за уголок покрывала и откидывает его. – Полагаю… – тут она с трудом сдерживает смех – он целует ее ключицу, – …что настало время забраться в кровать.
– Кто я такой, чтобы отказывать послу в его прихоти? – И он сбрасывает свою белую шубу.
«Это было такое важное заседание, – думает Шара, – что ему пришлось переодеться?»
Она, наверное, произнесла это вслух, потому что Воханнес оборачивается и говорит:
– А я не переодевался. Я весь вечер в одном и том же.
Шара пытается уцепиться за эту мысль – «что-то тут не то», – но тут он принимается расстегивать на ней блузку, и она начинает думать сразу о нескольких вещах…
* * *
– Как бы ты хотел, чтобы я легла?
– Как тебе хочется, а что?
– Ну… я хотела сказать… ну… у тебя же бедро…
– Ах да. Да. Ты права.
– Так… Вот так хорошо?
– Так хорошо. О… так ооочень хорошо…
«Зря я это все затеяла», – думает Шара. И гонит от себя эту мысль – неужели и в этой простой радости ей нужно себе отказывать?
Но нет, мысль не уходит.
– Во…
– Да?
– А тебе… тебе правда сейчас приятно?
– Да.
– Ты уверен?
– Да.
– Я просто почему спрашиваю…
– Я знаю! Я все понимаю. Просто… мы немного перепили…
– Ты абсолютно уверен, что тебе не больно?
– Нет! Все отлично! Ты все… все прекрасно делаешь.
– Угу. А может, мне передвинуться? Вот сюда? Так лучше?
– Д-да, – голос у него какой-то слишком серьезный. – Лучше.
– Правда?
– Это…
– Да?
– Это не должно быть так… так сложно…
– Во… Если ты не хочешь…
– Но я хочу! Хочу!
– Я знаю, но… но ты не должен чувствовать себя обязанным делать это…
– Я… я просто… Боги. – И он падает на постель рядом с ней.
В темной комнате медленно течет время. Неужели он уснул?..
– Прости, – тихо говорит он.
– Все в порядке.
– Похоже, – шепчет он, – я уже не тот, что прежде.
– А я и не просила тебя быть прежним.
Некоторое время она слышит лишь его тяжелое дыхание. Плачет?..
– «Мир – наше горнило», – шепчет он. – «Обжигая, он придает нам форму».
Шара знает, откуда эти строки.
– Колкастава?
Он горько смеется:
– Возможно, Волька был прав. Колкастани родился – колкастани и помрешь.
А потом он замолкает.
Вот что за человек будет думать о своем брате, лежа голым с женщиной? А потом они оба засыпают, и им снятся тревожные сны.
* * *
Взбаламученное сознание Шары пытается всплыть в темных, масляных похмельных водах. Наволочка трет, как наждачная бумага, руки, лежащие поверх одеяла, замерзли насмерть, а укрытые ноги, напротив, горят, как в лихорадке.
Чей-то голос гаркает:
– Вставай! Вставай!
Кто-то поднимает с ее лица подушку, глаза безжалостно режет дневной свет.
– Повернись! – Это голос Мулагеш. – И вставай! Ну!
Шара ворочается на простынях. Мулагеш стоит над ней с утренней газетой в руках. Причем газету она держит словно это отрубленная голова врага.
– Что? – выдыхает Шара. – Ну что?
К счастью, на ней надета комбинация. Воханнеса, кстати, и след уже простыл. Интересно, уж не от стыда ли сбежал? Неужели он о ней такого низкого мнения? Как обидно-то…
– Читай! – приказывает Мулагеш. И тычет пальцем в расплывающуюся перед глазами статью.
– Вы хотите, чтобы я…
– Читай, говорю.
Шара шарит в подушках и с трудом находит очки. Надвинув их на нос, она обнаруживает на первой полосе газеты свою большую черно-белую фотографию. Она запечатлена на берегу Солды: за ней высится мертвая туша Урава, а у ее ног, весь в крови, сидит Сигруд – впрочем, лицо его скрыто гривой масляных волос. По правде говоря, лучше фотографии она не видала: царственный профиль и обдуваемая ветром река угольно-черных волос…
Однако, по мере того как она знакомится со статьей, ее изумление нарастает.
«Мирград спасен!
Прошлой ночью прилегающие к Солде центральные кварталы Мирграда подверглись внезапному, необъяснимому и поистине ужасному нападению. Власти подтверждают, что огромное водоплавающее существо (природа этого существа вынуждает нашу газету называть его так расплывчато, ибо любая более точная его характеристика повлечет за собой нежелательные юридические последствия) проплыло вверх по течению Солды, пробило лед и принялось хватать гуляющих по знаменитым променадам людей и затаскивать их в ледяную воду.
Размер и масса существа были таковы, что оно сумело сровнять с землей несколько стоявших на берегу зданий, до того как муниципальные службы сумели отреагировать. Двадцать семь наших сограждан постигла внезапная и ужасная смерть, и на момент отправки номера в печать (4 утра) все еще приходили сообщения о погибших. Большинство тел найти не удалось.
Полицейское управление Мирграда быстро дало отпор неведомому существу, намереваясь изловить или уничтожить его, однако это нанесло непоправимый ущерб мосту через Солду: тот обрушился в воду. Шесть офицеров погибли, девять ранены, включая знаменитого капитана Миклава Незрева. Согласно сведениям, полученным нами этим утром, состояние капитана Незрева стабильное, он находится на попечении персонала лечебницы Семи Сестер.
Однако удивительней всего оказался финал этой истории: существо было повержено совершенно не подходящим Мирграду героем. Газета получила сведения, что недавно назначенная в сайпурское посольство Ашара Тивани на самом деле не кто иная, как Ашара Комайд, племянница министра иностранных дел Сайпура Виньи Комайд и правнучка противоречивой фигуры – генерала Авшакты си Комайда, печально известного последнего каджа Сайпура. Наши источники подтвердили, что именно благодаря ее усилиям и вкладу в операцию существо удалось остановить и убить.
„Посол и ее помощники установили природу существа и описали способ, каким его можно уничтожить, – поведал нам предпочевший остаться неназванным источник в правительстве города. – Если бы не ее помощь, десятки, а то и сотни жителей Мирграда погибли бы“.
Несколько офицеров полиции также отозвались в хвалебных выражениях о поведении посла во время нападения: „Мы попытались эвакуировать посольство, но она настояла на том, чтобы прийти нам на помощь, – сказал Виктор Поврой, сержант полицейского управления Мирграда. – Она и ее коллеги сразу отправились к реке. Я ни разу не видел, чтобы так быстро был составлен столь смелый план“.
Посол и губернатор полиса Турин Мулагеш, как нам было сказано, также спасли жизнь капитану Незреву. „Если бы не они, – подтвердил Поврой, – он бы утонул или замерз насмерть“.
Так или иначе, остается непроясненным ряд вопросов: почему посол скрывала свое настоящее имя? Почему она оказалась лучше всех подготовленной к бою с подобным существом? И какие последствия для всего Мирграда может возыметь то, что представитель семьи Комайд снова занимает руководящую должность в городе?
Ко времени публикации этого материала мы не сумели получить официального комментария посольства».
Шара ошарашенно смотрит в газету с бредовой надеждой, что вот сейчас слова исполнят заковыристый танец и выстроятся в новом порядке. И расскажут совершенно другую историю.
– О нет, – шепчет она.
Конечно, агента могут раскрыть. В любой момент его истинное имя может стать известным врагу, оказаться в досье, которое составили на тебя в некоей далекой вражеской стране. Это одно. Все агенты готовы к подобному повороту судьбы.
Но когда твое имя публикуют на первой полосе газеты, и теперь оно известно не только в тайных коридорах власти, но и во всех гостиных и пабах по всему миру… Вот это, надо сказать, не просто ужас, а ужас из ужасов.
– Нет, – снова и снова повторяет Шара. – Нет. Этого… этого не может быть.
– Еще как может, – мрачно сообщает Мулагеш.
– Это же… это же…
– «Континентский вестник».
– То есть он продается не только в Мирграде, но и…
– …на всем Континенте, – безжалостно заканчивает Мулагеш. – Да.
И тут Шара наконец-то осознает, насколько ужасно ее положение:
– Ооооо… Оооо… О нет, нет, нет!!!
– Кто знал, кто ты такая? – спрашивает Мулагеш.
– Ты, – говорит Шара. – Сигруд, Во… Пара сотрудников подозревает, что я на самом деле занимаю немного другую должность, но одно дело подозревать, а другое – иметь точную информацию, что я…
– …правнучка каджа. Да, это тебе не хухры-мухры, согласна, – кивает Мулагеш. – Ну за себя я точно знаю, что ничего никому не сказала. Я вообще с прессой не общаюсь.
– Сигруд тоже, – бормочет Шара. – Значит…
Она перебирает варианты один за другим.
Винья? Шара теперь не знает, что ей думать о своей тете. Она почти уверена, что ее кто-то перекупил, но Винья продастся только ради политической выгоды. Уступит толику власти лишь для того, чтобы получить больше. А этот ход повлечет для нее очень нежелательные политические последствия…
И Шара снова и снова просчитывает все и вся, отчаянно пытаясь избежать напрашивающегося вывода.
– Это мог быть только Воханнес, – наконец произносит она.
– Согласна. Но… почему?
Неужели это такая мелкая месть за прошлую ночь? Нет, вряд ли. А может, это возмездие за то, что она отказалась помочь Мирграду? Или…
– А может… может, он пытается, используя меня, привлечь внимание Галадеша? – спрашивает она вслух.
– И зачем для этого сдавать тебя как агента? – удивляется Мулагеш.
– Ну… Это очень любопытный сюжет, разве нет? Правнучка каджа заявляется в Мирград и спасает город. Люди наверняка заинтересуются… Будут говорить об этом… А слова в мире геополитики – это все равно что действия. Это привлечет к Мирграду внимание всего мира. И тогда он сможет нанести решающий удар. В смысле ты же его видела. Все, что ему нужно, – это оказаться на сцене в свете огней рампы.
– Да, но… но ведь это же, – замечает Мулагеш, – самый идиотский из возможных способов привлечь внимание Галадеша. Разве нет?
Шара и согласна, и не согласна. А еще она припоминает, что там бормотал Во, засыпая: «Колкастани родился…»
Что-то она пропустила. Не заметила. Что-то не складывается. Но, что бы там ни было, теперь она точно знает: Во нельзя доверять. На самом деле, было глупо довериться ему: работать с надломленным, подверженным страстям человеком, который сам не знает, чего хочет, – разве это хорошее решение?..
И тут где-то в комнате кто-то вежливо покашливает.
Мулагеш выглядывает в окно, потом интересуется:
– Ну и что это было?
Шара прекрасно знает, что это было. Она с детства помнит это характерное покашливание: мол, ну-ну, что там у нас, а нельзя ли побыстрее, милая?
– Снаружи никого, – удивляется Мулагеш, чуть отодвигая шторы, – в смысле, кроме толпы, никого. Но мне же не послышалось, правда?
Шара оглядывается на забранное ставнями окно у стола. Нижнее стекло странно поблескивает, и отражается она в нем как-то криво.
– Губернатор, – говорит Шара. – Вы не могли бы… оставить меня на некоторое время?
– Блевать будем?
– Такое возможно. Мне просто нужно… собраться с силами.
– Жду внизу, – говорит Мулагеш. – Но долго ждать не буду, сразу предупреждаю. Дел по горло, мне нужно как можно скорее вернуться в штаб-квартиру.
– Понимаю.
Щелкает замок двери. Шара подходит к окну как раз в тот момент, когда в нем появляется лицо тетушки.
* * *
– Думаю… что в произошедшем я виновата в той же мере, что и ты, – говорит Винья.
Шара ничего не говорит. И не двигается. Она молчит. И наблюдает. Винья, кстати, тоже держится сдержанно и отстраненно. Они смотрят друг на друга через стекло с одинаковым выражением: немного подозрительным, обиженным и одновременно опечаленным.
– Мне следовало остановить тебя, когда ты была моложе, – говорит Винья. – Твой интерес к Континенту всегда был крайне… нездоровым. Но я доверяла тебе все больше и больше и все чаще отпускала тебя действовать самостоятельно. И теперь об этом жалею. Возможно, мне следовало чаще отправлять тебя домой. Возможно, в этом ты была права. Возможно, если бы ты побывала здесь и своими глазами увидела, как идут дела в парламенте, насколько все изменилось и… насколько шатко наше положение, ты бы действовала иначе.
Ах, вот оно что. Политическая карьера тетушки теперь в опасности. Но вчера Шара сражалась с огнем и с Уравом, и ей нелегко проявить симпатию к человеку, жалующемуся на то, что у него возникло некоторое недопонимание с некоторыми членами парламента. По правде говоря, Шаре вообще неохота принимать какое-либо участие в этой беседе. Она вполне удовлетворена своей ролью слушателя: пусть тетушка говорит, а Шара будет смотреть, как намерения и мотивы Виньи кристаллизуются на стекле, подобно первому инею.
– Отношение к вопросу существенно изменилось – буквально за день. Долгое время никто даже и думать не думал о том, чтобы вести дела с Континентом, но теперь… Теперь эта идея кажется весьма привлекательной. Теперь вдруг нам любопытно. И теперь, несмотря на все мои усилия последних десяти лет, министры пересматривают свое отношение к Континенту. Их помощники и референты просматривают корреспонденцию с Континентом и видят, что сотни и сотни петиций подписаны одним и тем же именем: Вотров, Вотров, Вотров…
Внутри у Шары все сжалось. Этого она не ожидала. Неужели она права? Неужели Во сдал ее, чтобы сорвать куш в этой безумной партии? И – а вот это и вовсе порядочная дичь – неужели у него… получилось? И ведь надо же, все случилось прямо накануне выборов Отцов Города…
– Я так понимаю, что ты ждешь, – говорит Винья, – когда я перейду к описанию действий, которые собираюсь предпринять.
Шара поджимает губы и моргает. Вот и вся реакция на слова Виньи, а та пусть сама думает, как все это понимать.
Винья качает головой:
– Я должна была прямо запретить тебе осматривать Склад, – говорит она. – Я должна была знать, что ты, с твоей нездоровой фиксацией на Континенте, не сможешь противостоять искушению.
Шара заламывает бровь:
– Одну секундочку. Что вы…
– Но, естественно, как только ты узнала, что Склад действительно существует, ты попыталась туда проникнуть, – продолжает Винья. – Ты полезла туда и принялась шерстить полки.
– Да что такое! Тетя Винья, я не хотела идти туда! Мне пришлось!
– Да что ты? Ты сообщила мне, что допрашиваешь университетскую уборщицу касательно обстоятельств смерти доктора Панъюя, а потом – раз! – и уже нашла способ проникнуть на Склад! А ведь это самое засекреченное здание в мире! А потом ты его сжигаешь, а затем сражаешься в реке с чудовищами божественного происхождения, и все это попадает на первые полосы газет! Которые публикуют твое настоящее имя! Шара, я пытаюсь понять, как все могло сложиться таким образом! И мне все больше кажется – дело именно в том, что ты, с твоим интересом ко всем этим замшелым мертвым богам, пролезла туда, чтобы просто поглазеть! Как в пыльный музей, будь он неладен! А потом ты все спалила и до кучи освободила какую-то жуткую божественную гадину!
У Шары в буквальном смысле отваливается челюсть. Она настолько ошарашена, что не может найтись со словами для ответа. В последние сорок восемь часов чего только с ней не случалось, но вот это… это просто ни в какое сравнение не идет по безумию и несправедливости.
– Я… Да… Чтоб вы знали, Склад был заминирован!
– Да неужели? Реставрационистами, да? – Винья произносит название так, словно говорит о шайке неграмотных фермеров, ничего, кроме картошки, в жизни не видевших.
– Да!
– И как же они туда проникли?
– Они… они воспользовались чудом!
– Ах, вот оно что, – кивает Винья. – Чудом, значит. Как удачно все совпало, надо же. Особенно когда, с чисто теоретической точки зрения, ни одно из этих чудес не должно уже работать. Так что, с чего бы им минировать Склад, набитый священными, с их точки зрения, реликвиями?
– Чтобы замести следы.
– И куда же вели их предполагаемые следы, моя дорогая?
– Там было… Они хотели что-то оттуда украсть!
– Что именно?
– Не знаю! Именно там и стояла растяжка!
– Значит, это ты ее зацепила, да?
Шара в такой ярости, что с трудом выплевывает слова:
– Они! Они попадали на Склад с помощью древнего божественного чуда! В течение нескольких месяцев!
– И для чего же они собирались использовать это нечто, украденное со Склада?
– Я не знаю!
– Вот, значит, как. Ты не знаешь.
– Пока! Пока не знаю! Но я знаю, что… что это как-то связано со сталью!
Звучит жалко – это даже сама Шара понимает.
– Я как раз расследую это дело!
Винья кивает и медленно опускается в кресло. И задумывается.
– Поговори с Мулагеш! С Сигрудом! Да с кем угодно! – горячится Шара.
– Репутация Мулагеш изрядно подмочена, – отмахивается Винья. – Охранять Склад было ее обязанностью, и что? От Склада осталась груда пепла. А твоего дрейлинга я даже слушать не буду – ты бы мне еще предложила проконсультироваться с бешеной собакой… Но самое главное, Шара, дорогая, в том, что ни один оперативник на всем Континенте не докладывал ни о чем похожем. Никто не заметил твоего заговора.
– Это потому, что они отличные конспираторы! В отличие от нас! Я приехала в Мирград, когда по стенам уже полчища крыс бегали! Они начали подготовку задолго до моего прибытия!
Винья закатывает глаза и качает головой с расстроенным и озабоченным видом родственницы, которой приходится выслушивать слабоумного дедушку за семейным ужином.
– Ты мне не веришь, – в отчаянии произносит Шара.
– Шара, ты отправилась в Мирград расследовать дело, пахнувшее жутким международным скандалом, – чтобы тут же устроить другой, гораздо более громкий. Слава морям, что на Континенте не подозревают о существовании Склада. Если бы они прознали, что ты пустила по ветру сотни лет их драгоценной истории, они бы потребовали твою голову! И мою тоже! Ты хоть представляешь себе последствия того, что учинила? Плюс, увлекшись всеми этими махинациями, ты где-то прокололась, и тебя раскрыли. И это меня, на данном этапе, совершенно не удивляет. Ты либо слишком самоуверенна и глупа, либо слишком опрометчива и глупа, и я не знаю, что хуже. Еще я заметила, что ты ничего еще не сказала о собственно деле – об убийстве Панъюя. А ведь именно ради его расследования я разрешила тебе остаться в Мирграде, разве нет? И как – могут ли твои новейшие разыскания в области местной конспирологии пролить свет на то, кто его убил?
Шара смотрит на белый чемодан Воханнеса под столом.
– А может, и найдется кое-что, – свирепо заявляет она, – если ты позволишь мне просмотреть материалы из тайника!
Винья резко подается вперед:
– Если ты запустила туда руки, знай – ты нарушила прямой приказ Министерства! Эти материалы первой просмотрю я! Только я! И если я решу, что в них содержится что-то полезное для тебя, я дам тебе доступ! Вот так работает вертикаль управления! На принципе субординации построено все наше агентство, все спецслужбы! И я не позволю моей зарвавшейся племяннице взломать систему только потому, что ей кажется, что, начитавшись старых пыльных книжек, она что-то там такое поймет и посрамит своим глубоким знанием других оперативников! Твое увлечение божественным всегда было проблемой, а не достоинством! И сейчас, вот прямо сейчас, у меня руки чешутся выдернуть тебя из Мирграда и посадить на первый же корабль в Сайпур!
Несмотря на ссору, несмотря на то что дома ее точно ждет наказание, несмотря на все – сердце Шары подпрыгивает и радостно кувыркается при этих словах. Вернуться домой, в Галадеш… И все же ей закрадывается в душу подозрение: разочарование Виньи в ней какое-то слишком уж нарочитое: «Неужели тетушка сейчас активно меня дискредитирует?» Мысль кажется невероятной, но потом Шара понимает, что сама проделывала это множество раз со своими врагами: зачем убивать человека, если можно выставить его некомпетентным дурачком?
– Но, – продолжает Винья, – я не могу этого сделать. Причем именно из-за того, что ты тут устроила. Ты же теперь у нас в Сайпуре герой, Шара. Спасительница Мирграда! Приветствуем торжествующего победителя, изничтожившего чудище, которое он сам и выпустил на свободу! Слишком много сейчас ведется разговоров в коридорах власти, и я не знаю, какие в конечном счете будут приняты решения. Мне бы очень хотелось рассказать им, как ты напортачила, – но, увы, для этого придется раскрыть тайну существования Склада, чего я, естественно, не могу сделать. Так что, дабы не подвергать опасности мои работающие и продуктивные стратегии, я не буду ничего предпринимать. Я ничего не буду делать – только отдам им то, что они хотят. Тебя.
– Меня?
– Да. Я повышаю тебя в должности, моя дорогая. Теперь ты официально Главный дипломат в Мирграде. Больше не провалишь ни одной секретной операции – должность не позволит.
Шара бледнеет:
– О нет.
– О да. Будешь публичной фигурой. С этого момента я лишаю тебя всех полномочий агента спецслужб. У тебя больше не будет доступа к секретным материалам и операциям. Если ты сделаешь запрос, ни один оперативник Министерства тебе не ответит. Ты станешь лицом Сайпура в Мирграде. Будешь у всех на глазах, получишь большую известность. Уверена, ты сумеешь снискать любовь и аплодисменты публики, – ядовито улыбаясь, говорит Винья.
Шаре становится плохо. Нет ничего – абсолютно ничего! – страшнее для оперативника, чем публичная должность, на которой ему придется считаться со всеми официальными запретами и ограничениями, которые он привык обходить в своей прежней теневой жизни.
– Думаю, ты будешь очень занята, – говорит Винья. – Мирграду и Сайпуру нужно о многом поговорить, как выясняется. Что ж, пусть они говорят через тебя. Я не знаю, сговорились ли вы с этим, как его, Вотровым, чтобы это все устроить, но если да, то что ж – гордись, у вас все получилось. Ну что ж, раз так, принимай на плечи положенный груз работы – никто за тебя ее делать не будет.
«Значит, вот оно, ее наказание, – думает Шара. – Уж лучше суд и тюрьма, хотя кто знает… во всяком случае, с милосердием у Виньи всегда было напряженно…»
Шара осторожно прокашливается. Ей все больше кажется, что она играет в батлан с человеком, который тайно ведет совершенно другую игру, но терять ей нечего, так что…
– Тетушка Винья… послушайте меня, пожалуйста.
– Да?
– Если… если бы я сказала вам, что есть реальная, вполне вероятная угроза… в Мирграде… что я сама, лично, видела доказательства тому, что одно из изначальных Божеств, в той или иной форме, выжило?.. Что бы вы сделали?
Винья смотрит жалостливо:
– И это – твоя великая тайна? Твое ужасное подозрение? Ты за этим, что ли, отправилась на Склад?
– Да. Я уверена в этом. Я абсолютно в этом уверена, тетя Винья.
– О, Шара… Я поступлю точно так же, как и тогда, когда мне это сказали в последний раз. Два месяца тому назад. И перед этим – семь месяцев тому назад. И перед тем разом, и еще раньше, и еще раньше… Я получаю в год в среднем десять докладов, в которых мне сообщают, что боги не умерли, что они живы-здоровы, просто пребывают не здесь, но собираются вернуться. Мы получали такие отчеты регулярно с самой Войны, дорогая. Если бы мы их сложили друг на друга, куча, уверяю тебя, выросла бы до третьего этажа! И все эти люди абсолютно уверены, что это произойдет, – потому что Континент в этом не сомневается. Это их глупая сказочка, отчаянная мечта – прямо как у дрейлингов с их Даувкиндом. Исчезнувшие короли и королевы, которые когда-нибудь приплывут обратно… Это чушь, Шара.
– Но… Я лучше всех разбираюсь в Божественном, я – эксперт в этой области! Разве это не в счет?
– Ты – оперативник, помешавшийся на Божественном, – мягко уточняет Винья. – А это, согласись, совершенно другое дело. У тебя могут быть интересы и увлечения, Шара, но ты прежде всего – слуга Сайпура.
Шара едва удерживается от того, чтобы не выкрикнуть во все горло: «Как ты, тетушка, да? На кого ты работаешь? Кто тебя подкупил? Почему ты стала все скрывать от меня, почему ты так нерационально себя ведешь? Раньше такого за тобой не водилось…» Но она, конечно, не кричит: раскрывать карты в такой ситуации было бы неразумно.
– Возможно, это пойдет тебе на пользу, – продолжает меж тем Винья. – Возможно, это послужит тебе хорошим уроком, и ты сделаешь нужные выводы.
Шара кивает с подавленным видом. А сама думает: «Не сомневайтесь, тетушка, я уже сделала нужные выводы».
– Мне очень жаль, дорогая, но, прошу, больше не выходи со мной на связь таким способом, – говорит Винья. – Во всяком случае, пока все не устаканится. Мы должны быть очень осторожными в такой сложной обстановке. За нами внимательно наблюдают. А чудеса, как тебе известно, крайне опасны.
Винья печально улыбается:
– До свидания, моя дорогая.
И стирает свое отражение со стекла.
Стоя посреди пустой комнаты, Шара вдруг понимает, что осталась совсем одна.
* * *
Шара медленно закрывает ставни. Ее руки дрожат от ярости. Ее уничтожили, заставили себя почувствовать беспомощной жертвой. Растоптали ее репутацию и достоинство. А она стояла и смотрела и ничего не могла с этим поделать. «Какой точный расчет, – говорит она себе. – Винья располосовала меня с хирургической точностью. Вот почему я так злюсь – она прекрасно знала, куда бить. Что сказать, чтобы было больнее». Злиться, тем не менее, Шара не перестает.
Если бы можно было с кем-то об этом поговорить. Но единственный человек, с кем можно было побеседовать о Божественном, – это Панъюй. Был. С ним она и разговаривала – в течение тех немногих дней, что продлилась его подготовка.
И тут взгляд ее падает на белый чемодан под столом.
Она подходит, выдвигает его, кладет на стол и замирает в задумчивости.
Шара Комайд окончила курс академии при Министерстве иностранных дел с рекордно низким числом взысканий. Из Фадури она выпустилась с высшим баллом. И она всегда была одним из немногих агентов высокого полета, что сами заполняли все бумаги и писали отчеты – чем очень гордилась.
Шара всегда была хорошим солдатом. Никогда не позволяла себе лишнего. И вот к чему это все привело.
Однако она все равно не может заставить себя просто взять и открыть чемодан.
«Просто помни о том, что твоей карьере и так и эдак уже пришел конец. Рисковать нечем».
Щелкают замки, приподнимается крышка.
Внутри лежит перевязанная бечевкой пачка бумаги. Листы покрыты легким, как паутинка, почерком, и ей не нужно видеть заваливающуюся «Т» или неровную «М», чтобы понять – писал Ефрем. Первая страница отличается от остальных: на ней что-то торопливо начеркали и шлепнули поверх пачки.
На все про все у нее есть один день. После истории с Уравом в посольство скоро прибудут люди Виньи.
Шара устраивается в кресле и развязывает бечевку.
Здравствуйте.
Если вы это читаете, значит, вы нашли ячейку, записанную на подставное имя, но принадлежащую доктору Ефрему Панъюю из Галадеша.
Впрочем, вы наверняка это уже знаете, поскольку единственным свидетельством того, что эта ячейка существует, была записка, написанная шифром из элементов гешати, чотокана, дрейлингского и авранти, поэтому найти ячейку сможет лишь человек, обладающий приличным опытом в переводе с древних языков.
Поэтому я, наверное, должен сказать: Здравствуй, Шара.
Если ты это читаешь, значит, я либо умер, либо пропал без вести, либо нахожусь в безопасном месте рядом с тобой. Искренне надеюсь на третий вариант: ты это читаешь, я сижу напротив, и мы оба хохочем над этим дурацким письмом, которое я совершенно зря писал.
Но сейчас я совершенно не убежден, что зря пишу его.
Далее идут страницы моего личного дневника (во всяком случае, здесь то, что я сумел вынести из кабинета), который я вел в Мирграде с 12 числа месяца Скорпиона до четвертого дня месяца Крысы.
Надеюсь, эти материалы помогут тебе завершить за меня мое исследование. Похоже, я докопался до какой-то страшной правды, и моя жизнь в опасности. Однако я точно не знаю, что это за правда. Точнее, которая из правд – мне их открылось несколько. Я никогда не был мудрым и светским человеком, здесь ты уверенно дашь мне фору, поэтому надеюсь, что у тебя получится сделать то, что не вышло у меня.
Искренне надеюсь на новую встречу. Если ее не случится, желаю тебе вести твои разыскания в безопасности.
Всегда твой,
Ефрем Панъюй
16-й день месяца Крысы
Дневник Ефрема Панъюя
12-й день месяца Скорпиона
Мирград
Нет, это положительно смешно.
Я просматриваю свои заметки в кабинете (более убогого и темного помещения в университете не сыскать), параллельно заглядывая в список вещей со склада министра Комайд, и тут меня осеняет: а ведь мы спасли и сохранили невероятное количество всего. Какая же огромная передо мной стоит задача!
На данный момент я на три четверти продвинулся в работе по составлению списка, состоящего пока исключительно из документов: эдикты жрецов, Божеств, слуг Божеств, любые свидетельства «перемен в политике» (да, я вынужден использовать это мерзкое слово по отношению к тому, что исследую). Передо мной стопка бумаги мне по колено. Я когда-то пошутил, что умру похороненный под бумажками, и что же? Похоже, это грозит обернуться пророчеством. Но материал фантастически интересен, этого не отнимешь. Я бы еще месяц назад убил бы за то, чтобы получить отсюда хоть страничку. А сейчас чувствую, что тону в море сокровищ.
Наброски, наброски… И где мне хранить все эти наброски…
27-й день месяца Скорпиона
Что ж, похоже, начинает вырисовываться некоторая система.
Должен признать, что да, я могу быть предвзят. Я сосредоточил внимание на самом очевидном событии для отслеживания взаимосвязи – Ночи Собрания и основании Мирграда. И хотя я вижу здесь определенную взаимосвязь, это не значит, что я непременно прав.
Однако факты таковы:
В 717 году, когда Божества и их народы все еще спорили и сражались за территорию, жрец из таалвастани написал серию сочинений, в которых описал, какие блага могут воспоследовать от союза с Жугостаном. В Таалвастане эти заметки снискали невероятную популярность, их зачитывали в местах собраний.
В 720 году, на другой стороне Континента, фаланга вуртьястани помогла странствующему монаху-олвостани вернуться домой, а потом эти люди довольно долго размышляли над тем, как много, оказывается, у них общего с соседями, с которыми они ведут войну. Соображения эти нашли отражение в нескольких письмах, впоследствии отосланных высокопоставленному адепту из вуртьястани, который заметил, что полностью согласен с ними.
В том же году в Аханастане окружной магистрат описывал в письмах сестре городское собрание, на котором выражалась горячая поддержка колкастани, – и это несмотря на шестистороннюю войну, которая все еще продолжалась.
И так далее и тому подобное. Я могу процитировать еще более тридцати документов, в которых выражается вполне определенная симпатия к последователям других Божеств, более того, они все чаще и чаще попадаются мне на глаза – и это на фоне продолжающейся войны с другими Божествами.
И тут «вдруг» наступает 723 год, когда все шесть Божеств вдруг решают собраться – отсюда Ночь Собрания – в месте, на котором позже будет основан Мирград. Они встречаются, разбираются со взаимными претензиями и с тех пор составляют, скажем так, пантеон более или менее равноправных Божеств… Однако все просмотренные мной религиозные тексты указывают на то, что это решение было принято безо всяких предварительных консультаций с их смертными последователями! Если основываться исключительно на священных писаниях, это было совершенно «одностороннее» решение Божеств – что логично, ибо зачем богу спрашиваться у его или ее последователей, как политику у избирателей? Тем не менее перемены явно назревали уже давно, причем среди их смертной паствы!
Две эти группы – смертные и Божества – оказывается, существовали вовсе не по раздельности, как нам представлялось ранее.
Безусловно, масштаб событий здесь до абсурдности велик, и я уподобляюсь человеку, который пытается вычислить курс корабля по тому, как разлетаются чайки под порывами ветра, но… это в принципе соответствует тому, что я ожидал увидеть.
Как бы я хотел написать об этом Шаре! Однако я не уверен, что ее интерес ко мне был подлинным: в самом деле, кто может с уверенностью сказать, какое чувство у таких людей подлинное, а какое – наигранное?
Я в последнее время частенько захаживаю в одно кафе неподалеку от Престола мира. Мирград там до сих пор не оправился от Мига, он так и вибрирует в старых костях города, выворачивая и путая то и это, и там я наблюдаю за тем, как играют и дерутся дети, сплетничают и смеются над чем-то домохозяйки, курят, играют в карты, пьют мужчины. Еще они пытаются ухаживать за женщинами – правда, у них редко выходит что-то путное…
Надо же, даже в таком безумном месте люди влюбляются и ссорятся из-за пустяков. Жизнь продолжается, я смотрю на это с улыбкой.
15-й день месяца Ленивца
Надо сказать, что даже я, ветеран читальных залов, подустал от своей работы. Как бы я хотел поскорее расправиться с этими разысканиями, чтобы приступить к следующей задаче: биографии каджа. Судите сами – это же положительно смешно: профиль этого незаурядного человека вычеканен на монетах, мы видим его на флагах, штандартах и где угодно, и, тем не менее, мы знаем о нем так же мало, как и о ниспровергнутых им Божествах. В особенности это касается способа, коим он их убил. Я могу понять, почему министр настаивала на том, чтобы я посвятил себя сначала именно этой задаче, однако я, по глупости своей, сумел ее убедить, что, раз континентцы до сих пор черпают свою гордость в чувстве зависимости от Божеств, было бы геополитически более выгодно выяснить истинную природу их связи с богами.
Нет, вы только послушайте. Я говорю совсем как Шара.
Нет, конечно, когда принимаешься за новую тему, трава кажется зеленее, но дело в том, что личность каджа меня буквально завораживала, сколько себя помню. Он оказывается на исторической сцене как-то совершенно вдруг, словно бы этот молодой человек из состоятельной семьи, активно сотрудничавшей с Континентом, высовывает голову из-за кулис и – выходит и начинает действовать. Я изучал генеалогические древа его семейства и не нашел практически ничего, имеющего касательство к родословной этого человека. В некоторых списках его отца упоминают как никогда не женившегося! Неужели кадж был незаконным сыном? Да и был ли он сыном того человека?
Так, теперь я разговариваю не как Шара. Я разговариваю как повитуха-сплетница.
Я время от времени захожу в кварталы, поврежденные Мигом. Лестницы там вздымаются в небо подобно огромным стеблям кукурузы – и неожиданно обрываются. Дети играют в веселые догонялки: бегут на самый верх, подначивая друг друга наступить на самую верхнюю ступеньку, а потом со смехом улепетывают вниз.
И так они бегают вверх и вниз по лестницам, снова и снова, быстро, во все лопатки, однако путь их никуда не ведет.
Как я их понимаю.
Так, мне нужно сосредоточиться. …Я должен изучить нити истории, календари, даты, посмотреть, согласуются ли они друг с другом.
А если нет, если я ошибся, какое значение это имеет для Континента? А для Сайпура?
29-й день месяца Ленивца
Вчера я повстречал человека, которому вряд ли разрешено заниматься тем, чем он занимается. Я видел монахиню-олвостани.
Во всяком случае, я думаю, что это была монахиня. Но я не уверен. Я сделал перерыв в работе и вышел на берег Солды понежиться на солнышке и зарисовать мост через реку (кстати, он гораздо у́же всех виденных мною ранее мостов – впрочем, неудивительно, ведь строили его исключительно для пешеходов и повозок) и вздымающиеся за ним стены. И тут она подошла – невысокая женщина с выбритой головой, в оранжевой хламиде.
Она спросила меня, что я делаю, и я рассказал. Показал ей свой рисунок, каковой ей пришелся весьма по нраву. «Вы ухватили самую суть, – сказала она. – Зря говорят, что чудес более не случается!»
Я спросил, как ее зовут. Она ответила, что у нее нет имени. Тогда я спросил, как называется орден, к которому она принадлежит. Она ответила, что нет такого, орденов нынче тоже не дают (видимо, пошутила). Я спросил ее, что она думает о нынешнем Мирграде. Она пожала плечами: «Его выдумывают заново».
Я спросил, что она имеет в виду.
«Забвение, – сказала она, – прекрасно. Забывая, ты переделываешь себя. Континент должен погрузиться в забвение. Забыть. Он пытается помнить – а должен забыть. Чтобы превратиться в бабочку, гусеница должна забыть, что она была гусеницей. И тогда станет так, словно гусеницы и не было никогда, а была только бабочка».
Ее слова настолько поразили меня, что я впал в глубокую задумчивость. А она запустила в Солду два камушка, поклонилась мне и ушла.
2-й день месяца Черепахи
Я набрел на нечто поистине удивительное. И, одновременно, ужасающее. Оказывается, перед Великой Экспансией на Континенте велись жаркие споры, содержание которых пролило свет на странности взаимодействия Божеств и смертных.
С 768 по 760 годы:
В Аханастане жрец каждый день выходил на берег и читал проповеди о дальних странах. В Вуртьястане наставник боевых искусств указывал на идущие на восток горные ущелья, а также на лежащие за ними края дрейлингов и говорил о том, что дождь, должно быть, проливается с той стороны гор. Вдохновившись его словами, в горы ушло несколько экспедиций. Затем в Жугостане певец-скворец (что стоит за этим обозначением, мне еще предстоит выяснить) в течение трех дней распевал поэму, посвященную течениям в океане, тому, как они уносят человека к дальним краям и, возможно, к другим народам… и так далее и тому подобное.
Итак, очевидно, что континентцы в ту пору задумываются о других землях. Я обнаружил массу текстов, в которых выражается желание расширить текущие географические познания.
А еще я просмотрел божественные эдикты всех родов и видов за этот же самый период времени – и что же? Я не отыскал ни единого упоминания стран за пределами Континента!
Странно, что Божества упорно молчали в отношении предметов, которые так живо обсуждала их смертная паства.
Однако посмотрите только, какие речи завели континентцы между 771 и 774 годами.
В Колкастане городской магистрат заявил, что, поскольку Континент благословлен Божествами, им принадлежит все: звезды, облака и волны в океане. В Вуртьястане «висельная жрица» задалась вопросом, почему они куют клинки, которые не проливают крови, ибо им больше не с кем воевать, и спросила, не грех ли это. В Аханастане «моховица» (монахиня?) написала эпическую поэму о том, что может случиться, если Аханастан вырастет таким большим (выходит, город был живой? Нужно рассмотреть этот вопрос подробнее), что начнет причинять самому себе вред, и это приведет к дисгармонии, голоду и истощению. Поэма снискала бешеную популярность, вызвала много споров и тревоги, некоторые прихожане даже потребовали заточить моховицу в тюрьму.
Итак, континентцы задумывались – хотя и не говорили об этом прямо – об экспансии. Очевидно, что они опасались истощения и голода, и, чем больше они об этом думали, тем больше укреплялись в мысли, что они заслуживали того, чтобы им принадлежали другие земли.
Божества же тем временем ни о какой экспансии не задумывались: Колкан как раз развивал мысли, которые положили начало его открытым судебным заседаниям, а Таалаврас, который всегда держался сам по себе, занимался стенами города – и, как мне кажется, изменял глубинную природу Мирграда ведомыми лишь ему одному способами… Все они занимались исключительно собственными идеалами, в то время как народы Континента беспокоились о том, какое будущее их ожидает.
И вот в 772 году все шесть Божеств встречаются в Мирграде и постановляют – ранее мы полагали это спонтанным, неизъяснимым в своей неожиданности поступком – начать Великую Экспансию, которая ознаменовалась завоеванием и порабощением всех близлежащих стран и земель, включая Сайпур.
Даже континентцы выразили некоторое удивление этим решением – что странно. Разве не они сами задумывались над этим какое-то время?..
Мои доводы могут показаться недостаточными, однако это компенсируется обилием свидетельств: в ходе исследования я отметил более шестисот упоминаний подобных явлений, пусть и не столь грандиозного масштаба: эдикты, которые принимались сильно после того, как формировалось общественное мнение в пользу этого решения, законы, которые провозглашались обязательными уже после того, как все начинали им следовать, гонения и предрассудки, которые были в ходу задолго до того, как Божества или их священники объявляли о своей к ним приверженности…
И этот список можно продолжать и продолжать.
Вырисовывается вот какая зависимость: континентцы принимали решения, укоренялись в определенных склонностях – а Божества следовали им, узаконивая ту или иную общественную практику.
Так кто руководил кем? Свидетельствует ли это о подсознательном голосовании, которые Божества затем претворяли в жизнь?
Иногда я думаю: а что, если континентцы походили на косяк рыб, который может спугнуть и направить в другую сторону одна-единственная рыба, за которой следуют десятки остальных? И так посверкивающее облако чешуи в глубине океана неожиданно меняет свой курс…
Не были ли Божества суммой воль этого облака? Воплощением, так сказать, национального подсознания? Или они черпали силу в мыслях и славословиях миллионов людей, но также и подчинялись каждой из этих мыслей, подобно огромным жутким марионеткам, пляшущим на ниточках в руках миллионов кукловодов?
Это знание, как я понимаю, невероятно опасно. Ведь континентцы так гордятся тем, что их действия одобряли сами Божества. Эта мысль придает им силу… А что, если они слышали лишь эхо собственных голосов, многократно усиленное нездешними пустотами и пещерами? Что, если, разговаривая с Божествами, они на самом деле беседовали с гигантскими проекциями самих себя?
И если я прав, то окажется, что континентцам никогда не приказывали нападать на Сайпур, никогда не приказывали порабощать нас, никогда не приказывали навязать свой жестокий режим всему миру: боги всего лишь узаконили их желания.
Все наши знания об истории – сплошная ложь.
Откуда пришли боги? Что они такое?
Эти мысли лишают меня сна. Ночами я расслабляюсь за игрой в карты на крыше посольства. Оттуда видно, как обезображен город. С высоты он видится огромной картой схлестнувшихся реальностей.
Столь многое позабыто. Если этот город действительно куколка, то крайне безобразная.
24-й день месяца Черепахи
Министр удовлетворена промежуточными результатами исследования, однако запрашивает дополнительные подтверждения. Я уже накопал гору материалов по противоречиям в континентальной истории – и для меня этого было бы вполне достаточно – однако, что ж, найду еще.
Но случилось кое-что абсурдное: в кучах бумаг в кабинете я отыскал ветхие листки с письмами какого-то солдата, близкого к лейтенанту Сагреше, а значит – принадлежавшего к ближайшему окружению самого каджа! Как я мог их не заметить?! Возможно, они просто не попались мне на глаза… Хотя иногда мне кажется, что в моем кабинете в университете хозяйничают какие-то посторонние лица. Возможно, правда, это глупая паранойя.
Однако то, что пишет этот солдат, открывает глаза на очень, очень многое.
Мы долгое время думали, что кадж использовал какое-то стрелковое оружие – пушку, пистолет или арбалет, который выбрасывал какую-то особую пулю или молнию, от которой Божества не могли защититься.
Но теперь мне кажется, что мы изучали вопрос, так сказать, не с того конца: мы строили гипотезы касательно самого оружия, его ствола, а не того, чем оно стреляло. А этот солдат описывает действие «твердого металла» или «черного свинца», который кадж изготовлял и хранил, причем очень бережно! Вот что он написал о том, как кадж казнил Божество Жугова:
«Мы пошли за каджем в город, к какому-то храму, белому с серебром, со стенами, изузоренными звездами из пурпурного стекла. Я не видел бога в храме и опасался, что это ловушка, однако наш генерал не проявил никакого беспокойства, лишь зарядил черным свинцом свой ручной пистолет и вошел. Шло время, мы начали волноваться, и тут раздался выстрел, а потом наш генерал медленно вышел. И он – плакал!»
Ценное историческое свидетельство – к тому же переворачивающее наши традиционные представления!
Что, если вовсе не оружие было важно? Что, если главное – это металл, из которого была изготовлена пуля? Мы знаем, что кадж занимался алхимией, – сохранились сведения о его экспериментах. Что, если ему удалось получить вещество, которое оказалось смертельно для Божеств – как для нас была бы смертельной стрела в сердце?
А еще страннее вот что. Солдат пишет, что кадж упоминал некую джиннифриту, которую держали в сайпурской усадьбе его отца. Нам известно, что некоторым коллаборационистам из числа наиболее услуживших Континенту выдавали божественных прислужников в качестве награды. Однако уже само предположение о том, что кадж имел тесные контакты с существом божественной природы, пахнет грандиозным скандалом! Джиннифриты застилали постели, подавали еду, наливали вино своим хозяевам… Я даже представить себе не могу реакцию публики, если станет известно, что каджу услуживали именно таким образом.
Пожалуй, не стоит пока отсылать эту информацию министру, нужно накопить еще материала.
20-й день месяца Кота
Я не уверен, что найденные материалы свидетельствуют в пользу каджа… Я отыскал еще несколько писем людей из его ближайшего окружения, написанных сразу после захвата Мирграда, когда кадж погрузился в такую тяжелую депрессию, что перестал разговаривать с кем бы то ни было.
Я получил подтверждение, что таинственным оружием каджа действительно был «черный свинец», или «твердый металл», – металл, чью реальность не могли изменить по своей воле Божества. Божества и их слуги оказались бессильны перед ним, так что каджу оставалось лишь подобрать подходящее стрелковое оружие, причем обычное огнестрельное ему вполне годилось.
Но как он его создал… вот это оказалось неожиданным.
После ужасной бойни в Малидеши, когда все сайпурцы возмутились жестокой казнью умственно отсталой девочки, кадж пришел в такую ярость, что действительно приступил к экспериментам, – но это мы знали и раньше. Но оказалось, что он ставил опыты на прислуживавшей его семье джиннифрите! Судя по тому, что мне удалось прочесть, эксперименты эти больше походили на пытку, причем чудовищную: ведь джиннифрита была скована клятвой служения семье Комайдов, и так кадж принудил ее к повиновению, жег ее и наносил ей раны – и так до тех пор, пока не создал материал, который действовал не только на джиннифриту, но и на всех божественных существ, включая самих Божеств… а получив это вещество, он казнил существо, прислуживавшее ему с самого детства.
Вызовет ли эта информация ликование у сайпурских националистов? Или они, подобно мне, ужаснутся? Я так и не нашел никаких сведений о матери каджа… Неужели он, подобно Божествам, попросту материализовался из ниоткуда? Какие волны истории выплюнули его на сайпурский берег?
19-й день месяца Медведя
Похоже, мне грозит опасность.
За мной следят – я в этом уверен. Водитель такси, уборщица в университете, продавец газет, который никогда не уходит с моей улицы и газет не продает… Да, за мной установили слежку.
Вчера я устроил проверку: отправил отчет министру телеграфом и стал смотреть, что будут делать эти люди. Продавец газет стоял где всегда, наблюдая за мной, и тут к нему подбежал молодой человек, что-то прошептал на ухо и убежал прочь… Продавец газет постоял-постоял пару минут, а потом тихонько ушел.
Получается, он читает мои отчеты? Мои сообщения перехватывают?
И что мне сказать министру? А может, сообщить Шаре? Или губернатору?
А если они следят за каждым моим движением, что тогда?
6-й день месяца Жаворонка
Теперь я в этом положительно уверен: часть моих заметок украдена. И некоторые страницы из каталога губернаторского Склада тоже. …Но я не уверен, что могу доверять губернатору. А что, если информатор – кто-то из ее сотрудников?
Отцы Города сплотились против меня. Они требуют линчевать меня, убить… В университете тоже протесты, от посольства никакой помощи – еще бы, с таким-то Главным дипломатом, подлая он вздорная жаба… Какой же я дурак, зачем я сюда вообще приехал!
Я начал отправлять министру сообщения, которые должны показаться ей подозрительными: мол, что я не успеваю, извините, задерживаю материал… Она просто обязана понять, что происходит что-то не то.
Но дело в том, что теперь я подозреваю и ее. Целыми днями я думаю о Благословенных, о том, какое значение это может иметь не только для Сайпура, но и для Континента…
Неужели все, во что мы верили прежде, – ложь?
29-й день месяца …
А может мне и здесь не писать все как ест
Все как есть то есть
Уже и ошибки делаю
Благословенные
Смотри за окнами смотри
4-й день месяца Крысы
История не позволит нам ничего забыть: она вернется в другом обличье, под другим именем, заявляя, что это некто новый и замечательный… Но забыть – не позволит.
Наверное, я умру здесь, в Мирграде.
И возможно, тогда куколка станет бабочкой.
* * *
Шара берет последний листок, аккуратно его переворачивает и кладет к остальным.
Внизу кто-то требует еще кофе, ему кричат в ответ, что сейчас принесут.
На крыше посольства курлыкают голуби, сплетничая по-голубиному.
Шара чувствует, что сейчас упадет в обморок. Она едва сидит в кресле.
Что такое мировоззрение? Серия допущений, уверенность в правдивости некоторых утверждений, убежденность, что все так, как есть, потому что так всегда было и по-другому быть не может: ибо другой мир, другая картинка просто неприемлемы для этого мировоззрения.
Шара всегда считала, что некоторые мировоззрения более изменчивы, чем другие: одни – упрощенные, излишне жесткие, другие – достаточно широкие, с проницаемыми границами, открытые другим мыслям и идеям… И довольно долго Шара считала, что у нее-то как раз мировоззрение второго типа.
А сейчас… Сейчас ей кажется, что все допущения и факты, на которых основан ее мир, тают у нее под ногами, и она вот-вот упадет в бездонную пропасть…
Как же хрупок и мал, оказывается, наш мир.
Все тайны, убийства и интриги прошедших дней съеживаются до малозначительной чуши.
Ложь. Кругом ложь. Все, чему нас учили, – сплошная ложь.
Она перевязывает бумаги новой бечевкой, кладет их в белый чемодан и захлопывает крышку.
Я пою и резвлюсь, Пляшу и кружусь, Плету веселые узоры, Но не прекословьте мне, дети, Ибо во всех кострах Мирграда не сыскать вам угля, В Южных морях не увидеть шторма, На земле не найти стихии Страшнее моего гнева. Ибо имя мне – Жугов, И я не прощаю.Жугостава. Книга Шестая
Божественный город
Дни летят кувырком друг за другом.
Встречи, заседания, встречи. Шара больше не человек – она живое воплощение своей должности. По иронии судьбы, теперь она бессильна. Лишена настоящих полномочий. Ее ведут из конференц-комнаты в конференц-комнату, где она выслушивает бесконечные просьбы жителей Мирграда, Континента, налогоплательщиков, купцов, богатых, бедных… Она живет от повестки дня до повестки дня, листок с которой пихают ей в руку, как только она переступает очередной порог. Там уныло чередуются безликие, ничего не значащие названия: сегодня вы присутствуете на заседании Законодательной вспомогательной ассоциации кварталов Киврея. Или – а теперь у нас заседание Комитета по многообещающим культурно-благотворительным проектам. Или – а потом мы идем на заседание Специальной комиссии по городскому планированию и изменению границ избирательных округов.
Винья, несомненно, знала, что делала: отправила ее в самые ужасные круги ада – ибо нет преисподней страшнее, чем заседания комитетов. Шара теперь должна присутствовать на заседании комитета, которое решает, кого избрать председателем других комитетов, а потом она идет на заседания комитетов, на которых утверждается повестка дня следующих заседаний, а потом она сидит на заседаниях, где решается, кто будет назначен назначающим назначения в комитетах.
Шара сидит и приветливо улыбается, что, кстати, крайне нелегко ей дается: изнутри ее распирают кипящие, шебуршащиеся, стонущие страшные тайны. Иногда ей кажется, что город нашпигован тикающими бомбами, которые вот-вот взорвутся, и только она об этом знает, однако не имеет права никого предупредить. Каждое утро она просыпается в холодном поту и кидается читать утренние газеты: не случилось ли чего ужасного? Страшные заговоры плетутся, возможно, всего в паре кварталов от ее офиса…
Однако в мире все тихо и спокойно. Над Солдой торчат сайпурские краны – мост неуклонно восстанавливают. Воханнес не появлялся с той самой не слишком удачной ночи, и Шара все еще не решила, свидетельствует ли это о том, что именно он выдал ее газетчикам. И, даже если бы она не подозревала его, все равно не очень понятно, как им теперь смотреть друг другу в глаза. Эрнст Уиклов тоже, кстати, пропал. Мулагеш, получив несколько неприятных телеграмм от регионального губернатора, с большой неохотой вернулась к исполнению своих обычных обязанностей. Насчет происхождения телеграмм даже и думать не надо – тетушка Винья постаралась.
Но у Шары в голове порхают листки из дневника Панъюя, и она слушает, как ей рассказывают о бесконечных проблемах Мирграда и Континента, и нужно ведь улыбаться и не подавать виду, а в мозгу стучит: «Все это ложь. Одна большая ложь. Все, во что верят эти люди, во что верят в Сайпуре, построено на лжи. И я – единственный человек в мире, который об этом знает».
А самое ужасное – она вообще не продвинулась в расследовании убийства Панъюя. После стольких предательств, должностных промахов и жутких открытий она вынуждена признать: то, ради чего она прибыла в Мирград, не дается в руки.
Работать надо, работать дальше. Как там говорится? Сиди и думай, авось что-нибудь надумаешь.
Сигруда она не видела уже больше недели. Ну и хорошо – ведь она велела ему понаблюдать за всеми мануфактурами, принадлежащими Уиклову. Может, сам Уиклов и пропал, но мануфактуры-то никуда не делись, а ведь они – одна из трех главных ставок реставрационистского заговора. Прочие – сталь и то, что им удалось украсть со Склада. Винья, конечно, запретила даже думать о любой секретной деятельности, но, с другой стороны, что секретного в том, что человек стоит на улице и смотрит, что происходит в здании напротив?
Так что на данный момент она просто наблюдает и ждет.
Точнее, в данный конкретный момент она ждет, когда стемнеет. Потому что сегодня вечером ей предстоит – наконец-то! – настоящая работа.
* * *
Сигруд, стоя на коленях посреди переулка, поднимает голову и смотрит на нее. Уже так темно, что трудно разглядеть, какой глаз у него закрыт повязкой.
– Опаздываешь, – говорит он.
– Заткнись, – рявкает Шара, подбегая. – Я весь вечер пыталась смыться. Эти заседания, они как воры: ходят за тобой хвостом, ждут, когда ты зазеваешься, – и набрасываются.
Она прислоняется к стене, тяжело дыша. Прямо за Сигрудом на мостовой виднеется проведенная мелом черта – та самая, что начертила Шара, когда пыталась понять, каким образом посреди города бесследно исчезают люди.
– Принес?
Сигруд встряхивает в руке мешок, внутри что-то позвякивает.
– Обошлось недешево.
– Ну так это же старинные монеты, с чего им быть дешевыми? Так, давай поглядим, что тут у нас.
Она садится на землю и начинает перебирать содержимое мешка – около шести фунтов монет разного достоинства и вида. Впрочем, у них есть две общие черты: они все старинные, и все континентские.
– Похоже, тут деньги изо всех полисов, – бормочет Шара. – Таалвастан, Вуртьястан, Колкастан, Аханастан, Ол… Одну минутку. Это что, правда монета из Олвостана?!
Сигруд пожимает плечами.
– Да ей цены нет!
– Ты хотела, чтобы я нашел монеты всех городов. Ну я и нашел. Только не спрашивай, как я их нашел, ладно?
Шара разглядывает деньги.
– Хорошо. Итак. Разная чеканка, разные значения… Вопрос вот в чем: какие из значений имеют значение?
Сигруд озадаченно смотрит на нее:
– Что?
– Неважно, – отмахивается Шара. – Есть лишь один способ узнать.
И она разворачивается и бросает монеты. Те укатываются по переулку – за меловую линию. Звенят на бетоне, скачут, прыгают, катятся и замирают среди отбросов.
Сигруд и Шара ждут, когда все монетки улягутся, а затем идут их осматривать.
– Серебро. Серебро, – бормочет Сигруд. – И эта осталась серебряной… Ага. Вот, смотри. Свинец.
Шара протягивает руку. Он вкладывает ей в ладонь монету, они продолжают разглядывать кругляши на земле.
– Серебро, серебро, серебро… Серебро… Свинец. И серебро. Две свинцовые.
Шара с Сигрудом встречаются в этом переулке дважды в неделю. Шара не против и трех раз, но загруженность не позволяет: по вечерам устраивают приемы, званые ужины и прочие мероприятия, на которых обязательно должен присутствовать Главный дипломат Мирграда. Однако Шара не перестает думать о переулке и его невидимой двери ни на одну секунду.
Открывается ли эта дверь по каким-то особым дням? Или в определенное время? А что, если это зависит от фазы луны? Или просто нужно подойти к ней под особым углом? Однако Сигруд видел, как люди вбегали и буквально падали в такую дверь, – значит, угол здесь ни при чем. Должен ли кто-то придерживать эту дверь с другой стороны? А что, если через нее могут проходить только мужчины, а женщины нет? Нет, конечно, нет, это было бы уже слишком…
Метод проб и ошибок, одним словом. Перебираем все возможности, пока не останется одна-единственная.
Минут десять Шара собирает с земли свинцовые монеты – да их тут целая пригоршня, оказывается. А потом она присаживается и начинает их рассматривать одну за другой.
– Ну? – интересуется Сигруд.
Шара продолжает считать вполголоса.
– Ну?
– Да! Да! Все как я и думала. Все свинцовые – из Жугостана, Колкастана или Олвостана. Остальные остались серебряными.
Сигруд раскуривает трубку. Оранжевые отсветы пробегают по щербатым кирпичным стенам, светится единственный глаз.
– И что?
– А то, что происходящее в этом переулке происходит только с монетами определенного рода. Эта реакция – сродни химической. Нужны правильные ингредиенты. Не заклинание, не жест, не… не знаю, что. В общем, нужны только определенные вещи.
– Похоже на стражника, – говорит Сигруд.
– В смысле?
– На стражника у ворот крепости. Он смотрит на твою эмблему и цвета. Какой у тебя флаг. Если неправильные, то не пустит.
– Да, наверное, это как солдатская фор… – Тут Шара осекается.
И, медленно опускаясь на землю, оглядывает темный переулок.
– Что? – удивляется Сигруд.
– Форма… Сигруд – что и кто исчез тут в последний раз? – тихо спрашивает она.
– Мммм… Человек. За рулем машины.
– Да. Но представь, что этот переулок – ворота крепости, и тут стоит что-то невидимое, как тот самый стражник, о котором ты говорил…
– И смотрит на форму, – понимающе кивает Сигруд. – То есть ты хочешь сказать…
– Я вот хочу спросить, – поднимает она на него взгляд, взблескивая очками в лунном свете. – Ты сможешь быстренько раздобыть нам одежду колкастани? Как у тех людей, которых ты тогда убил?
Сигруд вздыхает:
– Ох ты ж батюшки…
* * *
Еще одна холодная ночь с небом, затянутым облачной дымкой и размытым, как кофейное пятно, месяцем. Шара стоит и ждет. Подходит Сигруд с тяжелой сумкой на плече.
– А теперь ты опаздываешь. Где тебя носило? Неужели так трудно найти одежду?
– Одежду-то, – медленно выговаривает он, – не проблема найти. Но ладно, вот она.
И он лезет в сумку и передает один комплект Шаре.
Это тяжелый, тугой, неровный комок серой шерсти. Ткань очень плотная, даже твердая, как тюленья кожа. «Еще бы, – думает Шара. – Колкастани даже миллиметра греховной плоти миру не покажут…»
– Отлично! – восклицает она. – Мне спросить, как ты это достал, или лучше не надо?
Сигруд пожимает плечами:
– Я нескольких полицейских офицеров по бабам сводил. Иногда лучше не усложнять. Я им нравлюсь, после Урава-то.
Шара ощупывает ткань, ее тонкие пальчики перебирают нити.
– Ладно-ладно… Здесь, должно быть… Так, одну минутку.
Ткань вокруг шеи затвердела и царапается, словно бы к ней краска присохла или…
– Подожди-ка… это что, кровь?!
– Ты что думаешь, у меня было время простирнуть их?
Шара вздыхает:
– Ну ладно. Работа превыше всего, я так понимаю. А теперь… Ага. Вот оно.
Она нащупывает что-то твердое в воротнике, выворачивает ткань, раздвигает шерстяные нити и обнаруживает тонкое медное ожерелье с символом Колкана. Дальше она нащупывает бугорки на запястьях, щиколотках, поясе… все это безделушки и украшения со знаком Колкановых весов.
Шара смеется:
– Ну наконец-то! Так я и думала! Это не монеты как таковые, но сигилы и символы похожи. Вот тебе и разгадка! А ведь это было очевидно с самого начала! Даже не знаю, как я сразу…
И она радостно вскидывает взгляд на Сигруда и обнаруживает, что тот весьма опечален:
– Что такое?
– Да я вот стою и думаю… как тебе сказать, – вздыхает он.
– Как мне сказать? Быстро и четко – вот как.
Он потирает подбородок.
– Ладно. В общем, там, на ткацких фабриках… ну за которыми ты мне поручила проследить…
– Да?
– Сначала там ничего особенного не происходило, работали и работали себе люди. Ну, в общем, как обычно: шерсть, нити, рабочие, ковры… скукота.
– Ну и?
– А вот сегодня… и вчера… на двух фабриках… я видел кое-кого. Одного и того же человека. Он приезжал и на одну фабрику, и на другую.
Шара медленно разворачивает одежду.
– Кого?
Сигруд еще сильнее трет подбородок:
– Вотрова.
– Что?!
– Я понимаю.
Шара изумленно смотрит на него:
– Подожди… Воханнес Вотров лично приезжал на эти фабрики?
Сигруд, морщась, кивает:
– Да.
– Но… зачем бы ему это делать?
– Понятия не имею. Но я его видел. Лично Воханнеса Вотрова. Причем приезжал он… тайно. Хотел проникнуть с черного хода, чтоб никто не заметил. Но я заметил. И подумал еще: может, он их купить хочет, эти фабрики, ну чтобы Уиклову насолить… Но потом проверил: нет, все они по-прежнему принадлежат Уиклову, и никто не пытался их приобрести. Вот почему я опоздал.
– Ты… уверен?
– Уверен. Это Воханнес Вотров. Собственной персоной. Правда, выглядел он не очень. Как будто болел. Несчастный он был какой-то. Я еще посмотрел и подумал: похоже, при смерти человек. И даже одет был не как обычно, а как забитый монашек…
Тут Шара запутывается настолько, что даже перестает думать о переулке и его чудесах:
– Подожди, ты что же, хочешь сказать, что Воханнес Вотров заодно с реставрационистами?!
Сигруд поднимает обе руки: мол, извини, если что.
– Я же просто рассказываю, что видел. Он тайно проник на фабрику, которая принадлежит Уиклову, обделал там какие-то делишки, потом поехал на другую фабрику. И люди там, похоже, знали его. Так что это, как я понимаю, далеко не первый его визит.
– Но почему?.. Зачем рассказывать нам об этих фабриках, возбуждать наши подозрения, если он… в общем, если он там чем-то таким занимается?
Сигруд пожал плечами:
– Выглядел он очень плохо. Честно скажу: мне кажется, он очень болен.
Сказав это, он наступает на больную мозоль. Потому что Шару уже давно посещает мысль: а что, если Воханнес Вотров… не в себе? Уж больно странно себя ведет. Зачем выдавать ее? Зачем ему, когда он получил ровно то, чего хотел от сайпурского правительства, избегать с ней встреч – ведь она же теперь официальное лицо, представляющее Сайпур в Мирграде? С чего бы ему, человеку, чью жизнь изуродовало колкастанское воспитание, бормотать в пьяном сне строки из Колкаставы?
Единственный логический ответ таков: Воханнес и так был личностью противоречивой, а теперь, видимо, противоречия приобрели и вовсе клинический характер. Возможно, он настолько болен, что не отдает отчета в собственных действиях…
– Мы тут ничего не можем поделать, – наконец произносит Шара. – Мы… мы должны действовать дальше согласно плану.
– Отлично, – кивает Сигруд. – Так что ты там говорила…
Шара пытается переключиться:
– Ах да. Одежда – в нее вшиты амулеты. Медальончики, браслетики и прочие штучки с символами Колкана – прямо как наши монеты. Так что, если в этой одежде пройти через какое-то место в этом переулке, оно среагирует – прямо как на монеты.
– А это значит…
– Это значит…
Шара сворачивает одежду в тугой ком, разворачивается и кидает его за меловую линию.
Только комок не перелетает через линию.
Сигруд смигивает.
Ком серой шерсти просто исчезает в воздухе.
– Отлично, – выдыхает Шара. – По правде говоря, я не была уверена, что это сработает.
– Что?..
– Ой, извини, если что… Я надеюсь, у тебя их больше, чем два комплекта…
– Что сейчас… что произошло?
– Думаю, что я была права, – говорит Шара. – Во время Мига с этим переулком что-то произошло. Причем это глубинные изменения. На уровне реальности.
Она отряхивает руки и оборачивается к прочерченной мелом линии.
– Мы стали свидетелями «реальностных помех» – причем это первый случай со времен Великой Войны.
* * *
– После Войны, когда Божеств убили, реальность не сразу обрела внутреннее равновесие, – говорит Шара. – В одном городе, к примеру, истинным считалось одно утверждение, а в другом – прямо противоположное. А когда Божеств убили, эти земли должны были как-то примирить воззрения и прийти к общему знаменателю относительно своего истинного состояния. Это был длительный процесс, а пока он шел, имели место…
– Помехи, – кивает Сигруд.
– Ну да. Возникали участки, где базовые принципы физики не работали. Миг изменил фундаментальную природу здешней реальности.
– А как так вышло, что здесь случился разрыв реальности, и никто этого не заметил?
– Думаю, отчасти из-за того… – и Шара обводит рукой улицу, – что уж больно место подходящее.
А место типичное для Мирграда – вокруг все перекрученное, перепутанное, рябое: здания, вросшие в другие здания, улицы, оканчивающиеся колтунами лестниц.
– Ведь все видят: Мирград так и не оправился после Мига.
– А с другой стороны… – он тычет пальцем в невидимый участок земли, не зная, как толком его назвать, – этих… помех… – там что, другая реальность?
– Думаю, да, – кивает Шара. – В частности, реальность, для которой важно, какому Божеству ты поклоняешься и чьи сигилы и символы носишь.
– В таком случае, правду говорит присловье: по одежке встречают…
– Сколько у тебя комплектов?
Сигруд заглядывает в сумку:
– Три.
– Тогда, пожалуйста, дай мне самый маленький. Мы идем на ту сторону.
Шара и Сигруд натягивают одежду – каждый свой комплект: на Шаре все висит, на Сигруде еле сходится. Видок у них тот еще.
– А все-таки жаль, что ты не успел их постирать, – ворчит Шара. – Эти тряпки прямо колом стоят от засохшей крови…
– Ты уверена, что сработает? – спрашивает Сигруд.
– Да. Потому что однажды ты туда чуть не попал.
Сигруд хмурится:
– Правда?
– Да. Когда ты увидел, как исчез тот первый человек – который прыгнул с крыши. И ты сказал, что на мгновение тебе привиделся город с высокими бело-золотыми домами… И я думаю, что единственная причина, по которой ты это увидел, – тут она показывает на затянутую в серую перчатку правую руку Сигруда: – Вот это.
– Потому что ко мне прикоснулся, – говорит Сигруд, – Перст Колкана.
– На тебе знак Божества, поэтому реальность тебя приняла. Во всяком случае, частично.
Шара натягивает на голову капюшон и идет к меловой линии.
– Я пойду первым, – говорит Сигруд. – С той стороны – вражеская территория. Только те, кто на нас нападал, переходили туда.
Шара широко улыбается – впервые за несколько недель.
– Я полжизни провела за чтением книг о других реальностях. И я ни за что не откажусь от шанса попасть в другую реальность первой – даже если моя жизнь под угрозой.
И решительно направляется вперед.
* * *
В отличие от перехода в Запретный склад, этот проходит совершенно незаметно – ничего не меняется. Шара даже сомневается: полноте, да шагнула ли она куда-то? Вокруг – все тот же переулок, под ногами камень мостовой, и улица впереди точно такая же.
Шара смотрит под ноги. Там лежит узел с серой одеждой.
Она оборачивается и видит, как Сигруд возникает – иного слова и не подобрать – из воздуха посередине улицы. Единственный глаз смигивает под серым капюшоном, гигант спрашивает:
– И что, это и есть переход?
– Наверное, – отвечает Шара. – Особой разницы, правда, я не…
И тут же осекается и изумленно раскрывает глаза, глядя Сигруду через плечо.
– Что? – удивляется он. Оборачивается и только и может выдавить: – Ух ты.
Первое настоящее, заметное отличие состоит в том, что через одно здание от них начинается день. Причем не просто день, а прекрасный день: с безоблачным, пронзительно-голубым небом. Шара поворачивается и смотрит в противоположную сторону: над крышами домов темнеет чернильно-дымно-фиолетовое ночное небо. Здесь даже время расходится в показаниях…
Однако на этом настоящие различия вовсе не заканчиваются: там, где заканчивается переулок, где начинается прекрасный день, возвышаются огромные, великолепные, потрясающе красивые белые небоскребы, с золотым верхом и золотой же отделкой. Стены покрыты переплетающимся растительным узором из керамики, над его лентами круглятся хрупкие белые арки, поблескивают украшенные стеклом и жемчугом оконные переплеты.
– А это, – тихо говорит Сигруд, – еще что такое?
Шара, задыхаясь от восторга, на заплетающихся ногах выходит на улицу и обнаруживает, что весь квартал застроен невозможными лилейно-белыми зданиями с затейливыми фризами – и ни один не повторяется. Стены покрывают каллиграфические узоры, напоминающие переплетенные лозы или строки из книг: вот, к примеру, одно из зданий исписано громадными буквами, складывающимися в цитаты из вуртьястанской «Книги копий». У Шары в буквальном смысле перегревается мозг – так много ее окружает надписей и изображений: Зеленый Рассвет и гибель Святого Варчека… Таалаврас чинит арку, поддерживающую мир… Аханас возвращает людям семя солнца…
– Ох ты ж… – Она вся дрожит. А потом падает на колени. – Ох ты ж мама дорогая…
– Что это за место? – спрашивает Сигруд, подходя поближе.
И тут она вспоминает слова Святого Киврея: мы жили словно бы в городе из цветочных лепестков…
– Мирград, – отвечает Шара. – Но тот, старинный Мирград. Божественный город.
* * *
– Я думал, это все разрушено, – говорит Сигруд.
– Нет! Он… исчез! – восклицает Шара. – Мирград резко потерял в площади во время Мига – целые кварталы вдруг взяли и исчезли. Некоторые, конечно, были разрушены – но, судя по всему, не все. Эта часть Мирграда спаслась, но оказалась отрезанной – и к нашей реальности ее привязывают лишь тонкие нити…
В солнечных лучах кружатся мотыльки. Хрустальные окна внутреннего двора разбрасывают по мостовой золотые блики.
– Значит, вот за это они сражаются? Сюда хотят вернуться? – И он, задирая голову, смотрит единственным глазом на увенчанную широким золотым куполом башню в полмили высотой. – Что ж, их можно понять…
– Это лишь жалкая часть прежнего города, – говорит Шара. – А все остальное действительно исчезло. И здания, и люди, которые в них находились.
Фонтан, изваянный в виде кипы жасминовых веток, счастливо журчит. С бортика на бортик, поблескивая зелеными глазами, перелетают стрекозы.
– Тысячи человек… – бормочет Сигруд.
Шара качает головой:
– Миллионы.
А потом на мгновение задумывается и говорит:
– Так. Дай-ка попробую…
Она вытягивает руки и что-то бормочет. Первые три попытки оканчиваются ничем.
– Что ты делаешь? – удивляется Сигруд.
Но с четвертого раза…
В ее ладонях возникает стеклянная сфера размером с яблоко. Шара заливисто хохочет:
– Работает! Оно работает! А ну-ка…
И она подносит шарик к лучу света, и тот мгновенно вспыхивает ярким золотом. Шара хихикает, опускает его на землю и запускает к Сигруду. Тот останавливает его сапогом – но свет не уходит, озаряя его снизу.
– Чудо, – поясняет Шара. – Из «Книги Красного Лотоса», книги Олвос. Которое не работает… ну, в нашем Мирграде. А здесь…
– Вполне себе работает.
– Потому что здесь реальность подчиняется другим законам. Смотри – давай, запусти его обратно ко мне.
Шара поднимает шар, подбрасывает и кричит:
– Оставайся здесь и освещай! – И сияющая сфера зависает в десяти футах над ними, заливая улицы мягким светом. – Такие повсюду в Мирграде висели, вместо фонарей. Гораздо удобнее, согласись…
– И прекрасно показывает, где мы находимся, – неодобрительно замечает Сигруд. – Пожалуйста, погаси ее.
– Ну… На самом деле я не знаю, как это сделать.
Ворча, Сигруд поднимает с земли камень и запускает его в сферу. Шара вскрикивает и прикрывает руками голову. Камень попадает точно в цель, сфера лопается и рассыпается тучей пыли, которую тут же сносит вниз по улице ветер.
– Ну хоть камень ведет себя как обычно, – удовлетворенно замечает Сигруд.
* * *
Они бродят по Старому Мирграду – так Шара назвала место, где они находятся, – не имея четкого представления о том, что ищут. Город покинут и заброшен: сады пусты, во внутренних дворах никого. Однако все такое беленькое и чистенькое, и Шара даже порадовалась, что наглухо завернута в серую ткань, – уж больно сильно солнце отражается от этих белых поверхностей… И хотя город поистине прекрасен, она не может не вспоминать Ефремову теорию: «Интересно, а это боги его таким сделали? Или они просто сотворили то, чего желали континентцы?»
Иногда они заглядывают в переулки покинутого города и видят нечто неожиданное: вместо такого же переулка или внутренностей здания их глазам предстают грязные, загаженные улочки, по которым шагают хмурые горожане, или сточные канавы, ведущие в Солду, или глухие кирпичные стены.
– Вот еще помехи, – замечает Шара. – Связь с Новым Мирградом – нашим Мирградом.
Сигруд останавливается и заглядывает в окно, за которым кухня какой-то старухи. Он смотрит, как та отрубает головы четырем форелям.
– Интересно, они нас видят?
– Простите! – кричит Шара в окно. – Простии-иите!
Старуха бормочет:
– Как же я ненавижу форель… Боги мои, как же я ненавижу эту форель…
– Похоже, не слышат, – резюмирует Шара. – Пойдем.
А через несколько кварталов они набредают на огромную усадьбу, останавливаются и любуются белостенным особняком, арками в форме подковы, засаженными цветами двориками (ныне заросшими сорняками) и десятками сверкающих прудов, в которых отражается похожий на цветок дом.
– Хм, кто же здесь жил? – задумывается Шара. – Наверняка священник высокого ранга или кто-то из Благословенных…
Сигруд указывает на одну из арок:
– На самом деле это один наш знакомый.
Над аркой четко читается надпись: ДОМ ВОТРОВЫХ.
– Ах, вот оно что… – тихо говорит Шара. – Могла бы и сама догадаться. Воханнес говорил, что настоящий дом исчез во время Мига. Но я и думать не могла, что он был настолько прекрасен.
– «Кто-то из Благословенных» – это кто? – спрашивает Сигруд.
– Человек, в чьих жилах текла божественная кровь, – говорит Шара. – Потомки богов становились героями, святыми… им сопутствовала невероятная удача, о них слагали легенды… Мир вокруг Благословенных менялся сам собою и дарил им то, что они хотели.
Шара припоминает последние строки из дневника Ефрема. И это слово, одно на строке, – «Благословенные».
– Наверное, это здорово, так жить, – замечает Сигруд. – А что, семья Вотровых – из них?
– Нет, нет, что ты? Эти семьи очень бережно хранят память о своем происхождении. Если бы Вотровы были из них, они бы раструбили об этом на весь мир, не сомневайся. Так… постой-ка.
И она показывает на внутренний дворик с примятыми сорняками:
– Здесь кто-то был! Причем недавно!
Сигруд подходит к вытоптанному месту, присаживается на корточки и изучает следы на земле.
– Здесь прошло много людей. Очень много. Думаю, все мужчины. И да, это случилось недавно.
Он осторожно входит в высокую траву:
– И они были тяжело нагружены… – Потом показывает вперед, на другую арку в форме подковы, за которой открывается склон холма: – Вот туда они пошли.
И показывает на особняк: – А вот оттуда они вышли.
– Ты сможешь их выследить?
Сигруд смотрит на нее с безмолвным укором: мол, что за глупый вопрос – конечно, смогу.
Шара сначала думает, не разделиться ли им, но потом решает, что лучше держаться вместе. «Если потеряемся поодиночке, сможем ли выйти?»
– Мы пойдем туда, куда они пошли, – говорит она. – И если останется время, посмотрим, откуда они вышли.
Они идут по белым улицам, через дворики, огибая сады. Тишина тяжело давит на уши, и скоро в каждом солнечном блике Шаре начинает мерещиться острие арбалетного болта.
«Все континентцы сговариваются против нас. И зачем я только пустила Воханнеса в свою постель, какая глупость…»
– А почему ты не танцуешь? – вдруг спрашивает Сигруд.
– Что? Танцую?
– Я-то думал, – поясняет он, – что ты, завидев Старый Мирград, пустишься в пляс. Будешь бегать туда-сюда, зарисовывать то и это…
– Как Ефрем… – И она задумывается. – Я бы хотела, да. Я бы тут остаток жизни провела, если честно. Но в Мирграде каждый исторический объект словно бы усажен лезвиями, и чем ближе подходишь, чтобы разглядеть, тем сильнее ранишься…
Над журчащим на белокаменном ложе ручьем нависает дом с изогнутыми стенами – видимо, архитектор хотел придать ему сходство с вулканом.
– Я не думаю, что такова природа истории, – говорит Сигруд.
– Да? А что же это?
– Думаю, – говорит он, – что такова природа жизни.
– Правда? Какая-то она грустная, эта правда…
– Жизнь полна чудесных опасностей и опасных чудес, – говорит Сигруд. Смотрит в небо, и шрамы на его лице поблескивают в ярком солнечном свете. – Они ранят нас, но остаются невидимы: от раны словно бы круги по воде расходятся, как от брошенного камня, и это может случиться не сразу, а через годы, в далеком будущем…
– Наверное, ты прав.
– Мы думаем, что идем вперед, даже бежим, но на самом деле мы все время бежим на месте. Мы заключены в моменте времени, в событии, которое случилось много лет тому назад.
– Тогда что же нам делать?
Он пожимает плечами:
– Нужно учиться жить с этим.
Ветер поднимает из пыли крохотный смерч, и тот уносится, клонясь туда и сюда, вниз по белой улочке.
– Это место добавляет тебе созерцательности, как я погляжу… – замечает Шара.
– Нет, – качает головой он. – Это я давно уже придумал для себя.
Выпуклое окно на вершине круглого дома отражает в себе голубое небо – ни дать ни взять лазурный пузырь совершенной формы.
– Ты, – говорит Шара, – не тот человек, которого я освободила из тюрьмы.
Он снова пожимает плечами:
– Может, и нет.
– Ты стал мудрее. Мудрее, чем я. Так мне кажется. Ты никогда не задумывался: может, настало время вернуться домой?
Сигруд на мгновение застывает без движения, взгляд единственного глаза мечется по молочно-белым камням мостовой. А потом звучит твердое:
– Нет.
– Нет? Никогда не вернешься?
– Они меня не узнают. Я стал другим. И они теперь – другие люди. Как и я. И им не понравится то, во что я превратился.
Они некоторое время идут молча.
– Думаю, ты ошибаешься, – говори Шара.
Сигруд отзывается:
– Думай что хочешь.
* * *
Они идут и идут дальше по следу.
– Конечно, они не могли протащить сюда машины, правда? – размышляет вслух Шара. – Помехи бы не позволили, ведь автомобили – слишком современная вещь.
– Я бы предпочел, чтобы они пару лошадок привели.
– И оставили их нам? Вот это повезло бы… – И тут Шара осекается и внимательно оглядывает высокое круглое здание по левую руку.
– Что? – спрашивает Сигруд.
Шара рассматривает стены с окнами в виде восьмиконечных звезд, забранных ярко-фиолетовым стеклом.
– Сейчас-то что? – удивляется Сигруд.
Шара разглядывает фасад: да, поверху идет сокращенная цитата из Жугоставы:
ТЕ ЖЕ, КТО, ПОЛУЧИВ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ, ДРОЖАТ И В СТРАХЕ ОТСТУПАЮТ, – О НЕТ, ТАКОВЫЕ НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ КО МНЕ.
– Я читала об этом здании, – бормочет Шара.
– Я так думаю, что ты о каждом здании здесь читала.
– Нет! Я читала об этом здании… совсем недавно.
Она подходит и дотрагивается до белых стен. Вспоминает строки из дневника Ефрема, цитату из письма сайпурского солдата, где он описывает смерть Жугова: «Мы пошли за каджем в город, к какому-то храму, белому с серебром, со стенами, изузоренными звездами из пурпурного стекла. Я не видел бога в храме и опасался, что это ловушка, однако наш генерал не проявил никакого беспокойства, лишь зарядил черным свинцом свой ручной пистолет и вошел».
Ноги ее не слушаются. Но она подходит к воротам храма – крашенное белым дерево с резьбой в виде звезд и меха – и распахивает их.
За ними открывается пустой двор. В колодце высоких стен голубеет небо. В центре – высохший фонтан, вокруг – низкие скамьи.
Шара медленно подходит к ним. И ощупывает, словно бы желая убедиться в их реальности.
«Неужели, – думает она, – именно здесь и сидел бог? А мой прадедушка – он сидел рядом? Или стоял над ним?»
Она медленно опускается на скамью. Дерево отвечает тихим скрипом.
«Неужели именно здесь погиб Жугов? Неужели это оно?»
Да, пожалуй, это оно и есть. Просто невероятно, что она видит это место, исчезнувшее из нашего мира вместе с целым фрагментом реальности. Но это, как она знает, вполне возможно. После Мига наступил полный хаос: где-то реальность проседала, распадаясь на части, и те исчезали, а потом вдруг снова проявлялись в видимом мире…
Она смотрит вправо. Дворик опоясывает низкая галерея: толстую рубленую крышу поддерживают белые деревянные колонны.
В одной она видит крохотную черную дырочку. На высоте человеческого плеча, если человек сидит.
Сидит и, возможно, держит в руке пистолет. Приставив его к чьему-то виску.
Она подходит к колонне, и вдруг ее посещает необъяснимое чувство: внутри что-то есть! И это что-то смотрит на нее. «Я тебя здесь уже так долго, – шепчет крохотная черная дырочка, – так долго жду!»
– Сигруд, – хриплым от волнения голосом говорит она, – дай мне свой кинжал.
Он вкладывает в ее ладонь тяжелую черную рукоять. Шара делает глубокий вздох и просовывает острие клинка в дырку в дереве.
Острие со звоном наталкивается на что-то металлическое. Шара долбит дерево, расширяя отверстие, высвобождая то, что застряло внутри.
На камень пола со стуком выпадает что-то маленькое и черное. Шара нагибается и поднимает кусочек темного, очень темного металла, смятого там, где он ударился о дерево. Слиток небольшой – величиной с фигу.
Она взвешивает его в ладони.
«Жугов мертв, – думает Шара. – Мертв. Иначе… откуда здесь это?»
– Что это? – спрашивает Сигруд.
– Эта маленькая штучка, – тихо отвечает Шара, – и есть то оружие, что ниспровергло богов.
* * *
Они идут дальше по следу, который ведет через лабиринт путаных улиц и наконец приводит на середину чьей-то бывшей гостиной. И там обрывается.
– Где они? – удивляется Сигруд. – След заканчивается здесь!
Шара опускается на колени и осматривает пол – безрезультатно.
– Я так и не поняла, как именно ты находишь след. Где конкретно он заканчивается?
Сигруд показывает: это участок пола и не в углу, и не в центре комнаты.
– Еще один участок с помехами… – кивает Шара. – Просто не такой заметный.
– И что, думаешь, через него мы сможем выйти обратно?
– Я не думаю, что наша реальность – наша обычная реальность, в смысле – кого-то может отвергнуть. В отличие от этой. Вопрос только в том, где конкретно мы выйдем обратно?
– Я думаю, на этот раз тебе стоит пропустить меня вперед, – говорит Сигруд. – Мы знаем, что там наши враги, и они что-то… замышляют. Так что глупо тебе лезть первой. Согласна?
– Согласна.
Сигруд становится на то место на полу. И постепенно размывается в воздухе: сначала исчезает правая нога, потом пояс и плечи, правда, все происходит слишком быстро – глаза не успевают рассмотреть.
Она ждет. Терпение ее вознаграждает удивительное зрелище: из воздуха появляются голова и рука Сигруда.
Рука приглашающе машет, а потом прикладывает палец к губам.
Она идет к нужному месту, собираясь с духом.
В прошлый раз вокруг почти ничего не изменилось, но в этот… о, здесь все по-другому! Белый город исчезает, а сверху льется фиолетово-голубоватый свет утра. Вокруг бесплодные песчаные горы. Из меловой почвы торчат искривленные деревца – они низко пригибаются к земле, словно пасущиеся животные.
– Ну и где мы оказались? – интересуется Сигруд.
Шара лихорадочно перебирает варианты:
– Это не Мирград. Совершенно точно не Мирград. Интересно… Оказывается, между Старым Мирградом и реальным городом нет жесткой географической связи…
Сигруд нетерпеливо поднимает вверх указательный палец: мол, а поскорее сориентироваться никак нельзя?
– Думаю… думаю, мы рядом с Жугостаном.
Шара пригибает тонкую веточку дерева и разглядывает листья:
– Да. Этот вид можжевельника произрастает только рядом с Жугостаном. Они добавляли его ягоды в вино…
– Значит… значит, Жугостан так или иначе, но имеет к этому отношение?
– По правде говоря, я понятия не имею, – качает головой Шара. Она разворачивается и осматривает место, через которое они только что совершили переход: да, тут заметно некоторое воздействие Мига. Вот спекшийся песок, а вот перекрученные и мутировавшие деревья… Но в общем и целом – не зная о существовании точки помех, ни в жизнь не догадаешься, что здесь что-то не так с реальностью.
Шара отламывает ветку и сдирает кору, обнажая тонкую полоску зеленой сердцевины. А потом втыкает ветку в землю.
– Чтобы пометить точку входа, – поясняет она. – А теперь – веди.
След ведет в долину, потом в холмы, все выше и выше, они наконец взбираются на гребень, и оттуда…
– Ложись! – страшным шепотом приказывает Сигруд. – Ложись!
Хватает ее за плечо и валит лицом вниз. И вдавливает в мягкий песок склона.
Шара лежит без движения. И прислушивается. А потом слышит: голоса. И стук молотков.
Сигруд осторожно высматривает что-то через подлесок.
– Нас заметили? – шепчет Шара.
Он отрицательно качает головой:
– Нет. Но я не очень понимаю, на что смотрю.
– Мне можно приподняться?
– Думаю, да, – говорит он. – Они далеко внизу, в долине. И они очень заняты.
Она поднимает голову и подползает к месту, откуда удобнее смотреть на происходящее внизу. В долине горят костры: похоже, эти люди готовятся работать в темноте ночи. Но вот, что они мастерят… это действительно трудно понять. Шара видит шесть длинных широких предметов из блестящего металла. Сначала ей кажется, что это гигантские башмаки с заостренными носами и квадратной пяткой, какие носят в Вуртьястане, но нет – у этих гигантских металлических башмаков есть окна и двери, лестницы и люки… А в середине высится что-то похожее на мачту, только без паруса.
Шара говорит:
– Они чем-то похожи на…
– Корабли, – кивает Сигруд. – Лодки. Огромные металлические лодки. Только без парусов. И от океана далековато.
Она прищуривается: вокруг кораблей суетятся рабочие. Вкручивают болты, сваривают пластины. И все одеты в традиционную закрытую одежду колкастани.
– Это точно реставрационисты, – бормочет она. – Но разрази их гром, если я понимаю, зачем они строят металлические корабли посреди песчаных холмов? Отсюда до океана сотни миль! Вот, значит, для чего им была нужна сталь…
– Не особо мощный флот, как я погляжу, – с презрением замечает Сигруд. – Шесть кораблей? И только-то? Даже если они сумеют спустить их на воду, что можно сделать с жалкими шестью кораблями?
Шара задумывается:
– Почти две тысячи фунтов стали ежемесячно в течение года – на много кораблей не хватит… Но сталь им понадобилась явно для этого!
– И что они с ними собираются делать?
– Вот не знаю. Может, на Складе они обнаружили артефакт, который позволяет создать океан там, где хочется?
Восемь человек закатывают что-то по сходням на одну из лодок. Даже в неярком свете Шара прекрасно видит, что это, и сердце ее замирает от ужаса.
– Ох ты ж, – бормочет она.
– Это то, что я думаю? – мрачно спрашивает Сигруд.
– Да, – отвечает она. – Шестидюймовая пушка. Я такие видела только на сайпурских дредноутах.
И она присматривается к другим кораблям – там тоже есть пушечные порты.
– Похоже, у них есть – или ожидается – аж тридцать шесть проклятых пушек.
– Ну так что они собираются с ними делать? Обстреливать пустоши вокруг? Воевать с белками?
– Не знаю, – пожимает плечами Шара. – Узнать это – твоя задача.
Пауза.
– Что? – Это говорит Сигруд.
– Я возвращаюсь в Мирград, – Шара смотрит через плечо и, к сожалению, не обнаруживает там никакого Мирграда, – в смысле в настоящий Мирград. Отправлю телеграмму Мулагеш. Но мы не можем оставить реставрационистов здесь без присмотра. Мало ли что они тут собираются учинить.
– Значит, твой план такой, – говорит Сигруд. – Уйти и бросить меня одного. Чтобы, если что, я один всех пальцем раскидал и справился с шестью железными кораблями, каждый с шестью пушками на борту?
– Я прошу тебя присмотреть за ними. И действовать только в том случае, если действовать начнут они.
– И мне следует…
– Проникнуть в их расположение, если получится. В свое время у тебя прекрасно получалось ловить «зайцев» на корабле, разве нет? Уверен, ты освоил пару их лучших трюков. Если я доберусь до Мирграда вовремя, вернусь через несколько дней с небольшой армией.
– Через несколько дней?!
Шара ободряюще пожимает ему плечо, шепчет: «Удачи» и уползает вниз по склону.
* * *
Обратный путь через белоснежные кварталы Старого Мирграда почему-то дается Шаре с большим трудом. Она пытается осмыслить и разгадать секреты странных кораблей посреди песков, Воханнеса, зачем-то сотрудничающего с Уикловым, однако мысли то и дело возвращаются к тяжелому предмету, который подпрыгивает в кармане при каждом шаге.
Надо же, у нее в кармане лежит нечто, испробовавшее божественной крови.
И тут ее осеняет: а ведь у нее сейчас огромное технологическое преимущество! Какой бы заговор ни плели там Уиклов и Воханнес со своими реставрационистами, им даже в голову прийти не может, что к ней в руки попало оружие каджа! Пусть даже очень маленькая его часть, но все равно! Однако вот вопрос: как ей воспользоваться этим шариком?..
Когда Шара возвращается в Мирград – настоящий, нынешний Мирград – она сбрасывает с себя колкастанскую робу и направляется прямиком в слесарную мастерскую.
– Чем могу помочь? – И тут клерк понимает, что перед ним стоит знаменитая Победительница Урава.
– Хотела бы заказать у вас одну вещь, – говорит она, опережая его следующую реплику.
– Ах, мгм, ох, да. Конечно. И что бы вы хотели заказать?
Она кладет на прилавок маленький металлический шарик.
– Наконечник для арбалетного болта, – говорит она. – Или небольшой кинжал.
– Но… все-таки, что конкретно? Наконечник или кинжал?
– Наверное, вещь, которую можно будет использовать и так и эдак. Мне бы хотелось получить нечто… универсальное.
Клерк поднимает со стойки шарик черного металла:
– А на кого вы собираетесь охотиться, извините за личный вопрос?
Шара улыбается и отвечает:
– Скажем, на… оленя?
* * *
ГД Комайд в ГШК512
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ТЧК
РЕСТАВРАЦИОНИСТЫ ПЛАНИРУЮТ МАССИРОВАННУЮ АТАКУ ТЧК
ТРЕБУЮ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ ВСЕ ВОИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА БОЕВЫХ ПОЗИЦИЯХ В МИРГРАДЕ ТЧК
ПОС512
ГП МУЛАГЕШ В ПОС512
ТЫ ЧТО ВКОНЕЦ ОХРЕНЕЛА ТЧК
ТЕБЯ Ж ОТ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТСТРАНИЛИ ТЧК
ДАВАЙ РАССКАЗЫВАЙ ПОДРОБНЕЙ ТЧК
ГШК512
ГД КОМАЙД ГШК 512
НЕ МОГУ ТЧК
СЛИШКОМ ДОЛГО РАССКАЗЫВАТЬ ТЧК
ПРОБЛЕМУ ЮРИСДИКЦИИ СЧИТАЮ НЕСУЩЕСТВЕННОЙ ТЧК
В СВЯЗИ С УРОВНЕМ УГРОЗЫ ТЧК
ПРОШУ НАЧАТЬ НЕМЕДЛЕННУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ ТЧК
ПОС512
ГП МУЛАГЕШ ПОС512
ПРОШУ УТОЧНИТЬ УРОВЕНЬ УГРОЗЫ ТЧК
НУЖНЫ ДЕТАЛИ ТЧК
ПЯТЬ СОТЕН СОЛДАТ В ГОРОД ВЫВЕЗТИ ЭТО ТЕБЕ НЕ ВОЗ С КАРТОШКОЙ ПЕРЕДВИНУТЬ ТЧК
ГШК512
ГД КОМАЙД – ГШК512
У РЕСТАВРАЦИОНИСТОВ ШЕСТИДЮЙМОВЫЕ ПУШКИ ЧИСЛОМ БОЛЕЕ 30 ТАКИЕ РАЗМЕЩАЮТ НА ДРЕДНОУТАХ ТЧК
ОБЪЕКТ НАПАДЕНИЯ ПОКА НЕ ВЫЯВЛЕН ТЧК
ГШК512
ГП МУЛАГЕШ – ПОС 512
ЕСЛИ ПОСЛУШАЮСЬ ВОЗЬМЕШЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЧК
ТАКЖЕ НАПОМИНАЮ ПРО ДЖАВРАТ ТЧК
ГШК 512
ГД КОМАЙД – ГШК512
ЕСЛИ АРМИЯ НЕ ОТРЕАГИРУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВОЗЛАГАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДЕТ НЕКОМУ МИНИСТЕРСТВО УНИЧТОЖАТ ТЧК
ДЖАВРАТ ТОЖЕ ТЧК
ПОС512
ГП МУЛАГЕШ – ПОС512
НАЧИНАЮ МОБИЛИЗАЦИЮ НЕМЕДЛЕННО ТЧК
ЕСЛИ ИЗ-ЗА ТЕБЯ НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ВОЙНА НЕ ПРОЩУ ТАК И ЗНАЙ ТЧК
ГШК512
ГД КОМАЙД – ГШК512
ВОЙНА УЖЕ НАЧАЛАСЬ ТЧК
ПОС512
* * *
«Как же хочется проспать подряд восемь часов, хотя бы разок, – думает Шара. – Я бы заплатила. Я бы украла эти восемь часов. Что-нибудь бы придумала».
Но спать Шара не может. Время поджимает: войска Мулагеш прибудут с часу на час, а в голове стучит: я что-то упустила, упустила… А ведь она тонет в информации: тут и дневник Ефрема, и каталог вещей из Склада, и финансовые документы, история Континента, запретные списки, вотровские дочерние компании, собственники ткацких фабрик – и все это так и кружится перед глазами, пока в голове не остается лишь одно: «Пожалуйста, успокойся, перестать думать и успокойся, просто перестань, перестань, перестань…»
В дверь стучат. Шара орет:
– Нельзя!
За дверью мнутся. Потом она слышит голос Питри:
– Ну, мне кажется, вам лучше…
– Нельзя! Я никого не принимаю! Никого! Я же сказала!
– Я знаю, но…
– Никаких заседаний! Вообще никаких! Скажи им, что я… что я заболела! Скажи им, что умираю, плевать, что они подумают!
– Хорошо, хорошо… но это немножко другое… – и он осторожно прокрадывается в комнату. – Это письмо.
– Ох, Питри… – и она устало трет глаза. – Ну что я тебе сделала, что ты меня так мучаешь… Это от Мулагеш?
– Нет. От Вотрова. Мальчишка принес, на серебряном подносе. И оно… очень странное.
Шара берет письмо. Там написано:
В ТОВОС-ВА ИГРУ МОЖНО ЗАВЕРШИТЬ В ОДИН
ХОД, НО ОППОНЕНТ НЕ СРАЗУ ПОЙМЕТ, ЧТО ВСЕ КОНЧЕНО.
Я ЗНАЮ, КОГДА Я ПРОИГРАЛ.
ПРИХОДИ К НОВОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ СОЛДУ, НО, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИ ОДНА.
Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОБ ЭТОМ ПРОНЮХАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ. НЕ ХОЧУ ИСПОРТИТЬ ВСЕ, ЧТО МНЕ УЖЕ
УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ГОРОДА.
В.
Шара несколько раз перечитывает записку:
– Он что, серьезно?
– А про что там?
– Честно говоря, сама не понимаю, – говорит Шара.
Неужели Вотров действительно замешан в заговоре реставрационистов? Звучит абсурдно, конечно, но если это действительно так, то выдвижение военных частей подрезало им крылышки… Но тогда непонятно, откуда у него сведения об этом?..
Все это как-то не складывается в единое целое. Или Воханнес действительно сошел с ума – а она вовсе не исключает, что это вполне могло случиться, – или она не видит довольно большого куска этой головоломки…
– И что вы будете делать? – спрашивает Питри.
– Ну, – вздыхает она, – если бы он попросил меня прийти к нему домой или встретиться где-то еще наедине, я бы, конечно, не пошла. Но у Нового Моста всегда полно людей, это жутко популярное место. Думаю, он не сумасшедший и не будет делать глупостей на публике.
И все равно остается вопрос: а дальше-то что с ним делать? «Оперативник сам решает проблемы со своими агентами, – говорит она себе. – И хотя он не агент, он мой человек». Но на самом деле она просто не хочет, чтобы с Во разбирался какой-то другой представитель Министерства. Мятежники и вражеские агенты часто исчезают. И оказывается, что они умерли ужасной смертью.
«Если кто-то и сможет отговорить Во от участия в заварухе, – думает она, – то только я».
– Питри, не могли бы вы принести мне пальто и термос с чаем, – говорит Шара. – Если я не вернусь через два часа, вы должны сказать Мулагеш, чтобы она немедленно приказала обыскать дом Вотрова. С этим человеком происходит что-то очень странное.
Питри выбегает из кабинета, а Шара перечитывает записку. «Я так и не поняла, в какую игру мы с Во играли…»
Возможно, сейчас самое время разобраться.
* * *
Прогулка действует на Шару успокаивающе: визгливые, бормочущие в уши вопросы отступают, вычищенные из головы спиралями лестниц и изгибами улочек. И вот она уже идет спокойным прогулочным шагом и любуется рекой.
«Подумать только, – говорит она себе, – за убогим фасадом этого города скрывается тайный оазис, мифический рай, и, чтобы найти его, нужно только пальчиком поскрести…»
Чайки голосят, утки крякают, гоняясь друг за другом и за хлебными крошками.
«Сколько бы чудес ни придумали Божества, – напоминает она себе, – вполне возможно, они были такими же рабами Континента, как в свое время мы, сайпурцы».
На берегу рассевшиеся вокруг костерков бродяги жарят рыбу. Один, явно пьяный, кричит, что каждая рыбка на его сковородке – кусочек Урава. Его громко урезонивают остальные.
Шара вдруг принимает решение: когда вся эта история с Уикловым и Вотровым закончится – правда, чем она закончится, до сих пор неясно – она уйдет из Министерства, вернется в Старый Мирград и продолжит дело Ефрема. Еще два месяца назад она сочла бы саму идею увольнения безумной, однако теперь, с тетушкой Виньей во главе Министерства, причем на неопределенно долгое время, Галадеш и другие сайпурские земли для нее под запретом. А находки последнего времени оживили в ней интерес к континентальному прошлому. Что ей эта министерская карьера? Она готова ее отдать за несколько минут, что ей выпали в Старом Мирграде. Шара чувствует себя словно бы жила среди дыма и гари, и тут ей удалось глотнуть чистого горного воздуха.
А еще она злорадно подумывает о том, чтобы сотворить какое-нибудь чудо. Интересно, что еще ей позволит учинить Старый Мирград: проходить сквозь стены? Вызвать еду с неба или из земли? Или полететь? Или…
Или даже…
И тут она замедляет шаг и останавливается.
Две чайки дерутся и щелкают друг на друга клювами из-за картофельного очистка.
– Полететь… – шепчет она.
И припоминает пункт из списка предметов, находящихся на хранении в Запретном Складе:
Колканов ковер: маленький коврик, который СОВЕРШЕННО ТОЧНО может летать. ЧРЕЗВЫЧАЙНО сложен в управлении. Хроники сообщают, что Колкан благословил каждую нить ковра, наделив ее чудесной способностью летать, так что теоретически каждая нить способна поднять в воздух многотонный вес.
Конечно. Ковер, каждая нить которого благословлена Божеством.
И ткацкая фабрика, на которой можно без проблем этот ковер распустить.
И небольшая армада стальных кораблей в безводных холмах.
Парнишка в камере, шепчущий: «Мы не можем летать по воздуху в деревянных кораблях».
Похоже, они не собираются плыть по воде.
– Батюшки мои… – шепчет Шара.
* * *
Сигруд слышит какое-то лязганье и резко поднимает голову. И быстро переключает внимание с дорог, ведущих в долину, на шесть кораблей, что все еще пришвартованы к земле. На мачтах поднимают паруса и что-то растягивают с левого и правого борта.
Странные на этих стальных мачтах паруса: Сигруд много всяких на своем веку повидал, но эти, похоже, рассчитаны на ветра невероятной силы. Однако штук, которые натягивают по бортам этих кораблей, Сигруд в жизни еще не видел. Они длинные, широкие и тонкие, с кучей вращающихся деталек. Они напоминают ему рыбьи плавники, а вообще, впору решить, что это…
– Крылья, – тихо произносит он.
Он наблюдает за тем, как реставрационисты снаряжают корабли.
«Начинай действовать, – сказала Шара, – когда действовать начнут они».
А они ведь начали действовать, разве нет?
Сигруд проверяет, в ножнах ли кинжал, и начинает осторожно спускаться вниз.
* * *
Новый Мост через Солду оплетают леса. Сайпурские краны под надзором сайпурских инженеров укладывают в холодные воды реки огромные плиты основания. Континентцы наблюдают за процессом с берегов и крыш ближайших домов: эта демонстрация мощи производит на них сильное впечатление.
У Шары в голове толкутся мысли, она все еще пытается осмыслить посетившее ее озарение: «Такие корабли можно построить где угодно, где угодно пришвартовать, и никто, никто вообще не будет ждать нападения с воздуха».
А еще ее грызет, подобно червю, другая мысль: «Но, если Воханнес заодно с реставрационистами, зачем им нападать на его дом?»
А вот и он сам – так что этот вопрос Шара сможет задать Вотрову лично. Тот сидит на скамейке, элегантно скрестив ноги и сложив руки на коленях. И смотрит вниз, туда, где прогуливается публика. Не на нее. На Во не обычная для него экстравагантная одежда – он опять надел темно-коричневое пальто и черную, под горло застегнутую рубашку, прямо как в ту ночь, когда они сражались с Уравом.
Она вспоминает, что сказал Сигруд: «Он даже одет был не как обычно, а как забитый монашек».
Она оглядывает толпу. Рядом с Воханнесом никого нет. А он, похоже, ее заметил. И тут же отвернулся, так что она видит теперь только его затылок…
– Да что с тобой такое, Во? – спрашивает она, подходя ближе. – Ты болен? Ты рехнулся? Или ты действительно все это загодя спланировал?
Он поворачивается к ней и улыбается. И тут она замечает, что при нем нет трости.
– Счастлив признаться, что да, спланировал загодя, – весело отвечает он.
Шара застывает на месте: теперь она видит, почему он отворачивался.
Лицо очень похоже: та же квадратная сильная челюсть, та же обаятельная улыбка. Вот только запавшие, словно бы вдавленные глубоко в череп глаза, темные, почти черные.
Времени на раздумья нет – она разворачивается и бежит прочь.
И тут кто-то – а точнее, невысокий парнишка совершенно безобидного вида – подскакивает и выставляет ей подножку. Она падает на землю.
Незнакомец встает со скамьи и подходит к ней, любезно улыбаясь.
– А я-то думал: придешь ты, не придешь, – говорит он, – но решил, что если напишу про товос-ва – дело в шляпе. В конце концов, именно я его научил этой игре. Весьма приятно, что это сработало!
Она пытается подняться. Незнакомец что-то бормочет и делает в ее сторону какой-то жест. Над ухом что-то громко щелкает, как кнутом. Она смотрит вниз и понимает, что стала полностью прозрачной: сквозь ноги, точнее, то место, где должны быть ее ноги, прекрасно видно камни мостовой.
«Кладовка Парнези», догадывается Шара. И тут же кто-то прижимает к ее рту тряпку: ноздри наполняются удушливыми парами, глаза заволакивает, и ей разом становится трудно стоять.
Она падает им на руки. Сколько их? Двое, трое? Незнакомец – Воханнес, который оказался не Воханнесом, – вытирает нос.
– Очень хорошо, – говорит он. – Пойдемте.
Они несут ее вдоль берега реки. Пары все больше туманят голову. Она думает: «Почему никто не бросается мне на помощь?» Но зеваки лишь с любопытством провожают взглядом мужчин, которые идут так, словно несут что-то тяжелое и невидимое.
А потом Шара сдается. Пары сгущаются, и она засыпает.
За снежными холмами, У замерзшей реки, За ближней рощей Я буду ждать тебя. Я всегда буду ждать тебя там. Мой огонь не погаснет Светом среди холода, Станет светом для тебя и меня, Ибо такова сила моей любви. И хотя иногда кажется, что меня нет, Знай, что мой костер всегда рядом С теми, кто любит И готов делиться любовью.Книга Красного Лотоса, часть II, 9.12–9.24
Семейные связи
Она приходит в себя и видит гладкую серую стену. В легкие затекает струйка воздуха, и тело заходится в приступе кашля.
– Ага! – весело кричит кто-то. – Батюшки! Да она никак очнулась!
Шара перекатывается на другой бок, в голове плещутся туман и дурман. Она в пустой комнате без единого окна, и все-таки эта комната кажется ей смутно знакомой.
В комнате две двери: одна закрытая, другая открытая. Незнакомец стоит в проеме открытой двери. Теперь на нем традиционная колкастанская роба. Он улыбается, но глубоко сидящие глаза поблескивают, как влажные камушки.
– Я действительно не понимаю, – тянет он, – что он в тебе нашел.
Шара медленно смигивает. «Хлороформ, – так же медленно вспоминает она. – Еще час ждать, пока в голове прояснится…»
– Ты, насколько я вижу, обычная мелкая сайпурочка, – брезгливо продолжает незнакомец. – Низенькая, коричневая, как грязь, – точнее, коричневая, как глина, – вот как следует о вас о говорить. Цвет земли, мускусный и мерзкий, неестественно темный для плоти. И нос у тебя крючком, и подбородок, как у всех у вас, безвольный. Запястья тоже типичные для вашего племени: тонюсенькие и хрупкие. Руки волосатые, непривлекательные, как и остальное твое тело. Да уж, полагаю, тебе приходится частенько бриться, и все равно, сколько ни скребись – твое тело даже в сравнение не идет с освященной плотью женщины из Святых земель. Груди у тебя не болтаются мешками, как часто случается у самок вашей породы, но на них и смотреть не стоит – их почитай что и нет. А уж глаза у тебя, милая… Ты только посмотри на эти очки. Ты без них хоть видишь, а? Я даже представить себе не могу, каково это? Быть таким малорослым уродцем, случайным выкидышем природы? Какая же грустная у тебя жизнь – ведь ты существо из земель праха, человечек из глины…
И он качает головой, улыбаясь, – и улыбка эта глядится жуткой пародией на улыбку Во. Та – безмерно обаятельна, а эта – о, это гримаса едва сдерживаемого гнева.
– Однако истинная природа вашего преступления, подлинный смысл проступка – в том, что вы отказываетесь признавать это! Вы не желаете признать свою вину – подленькую и гадкую, как и все вы! Вам неведом стыд! Вы не покрываете тело! Вы не склоняетесь к нашим ногам! Вы отказываетесь признавать, что вы, существа, которых не коснулись боги, лишенные благословений, прозябающие во тьме невежества, – вы не нужны! Вы случайный продукт, ненадобный этому миру, где вас терпят исключительно в качестве рабов! Вы еще смеете на что-то претендовать – и вот это и есть ваш подлинный смертный грех. Впрочем, не уверен, что существа вашей породы способны на грех, а не подобны здесь бессмысленным животным…
Он очень похож на Воханнеса: жестами, статью… И в то же время подобен усохшей, хрупкой копии Во: как он покачивает бедрами, как складывает на груди руки… И тут Шара вспоминает мховоста, как тот нарочито женственно ходил взад-вперед, явно подражая кому-то, кого она еще не встречала…
Шара сглатывает и спрашивает:
– Кто…
– Если тебя разломать, – говорит незнакомец, – внутри ты окажешься пустой… Ты – глиняная оболочка, лишь похожая на человека. И все-таки, что ты в ней нашел? А, Воханнес?
И незнакомец смотрит в угол комнаты.
Там на полу сидит, обняв руками колени, Воханнес: лицо в ужасных кровоподтеках, один глаз заплыл огромным зеленым, как кожа лягушки, синяком, на верхней губе запеклась кровь.
– Во… – шепчет Шара.
– Я думал, она искушала тебя плотски, – морщится незнакомец. – В таком случае это хотя бы объясняло вашу интрижку. Но тут даже искушать нечем – никакой плоти на этих мощах… Скажу честно: я не вижу в этом создании ни единой черты, которая могла бы пробудить желание. Действительно не вижу, младший братец…
Шара смигивает.
Братец?..
Она сипит:
– В… В…
Незнакомец медленно оборачивается к ней и вопросительно поднимает бровь.
Память услужливо подсовывает слова Воханнеса: «Когда ему исполнилось пятнадцать, он присоединился к группе паломников: они отправились в экспедицию на крайний север, во льды, чтобы отыскать какой-то храм, чтоб ему провалиться…»
– В… Волька? – выговаривает наконец она. – Волька Вотров?
Он улыбается:
– Поди ж ты! Ты знаешь мое имя, глиняное дитя.
Она пытается собраться с мыслями, но те пьяно расползаются:
– Я… я думала, ты погиб…
Он с лучезарной улыбкой качает головой:
– Смерть – это для слабаков.
* * *
– «А для тех, кто желает познать меня, – цитирует Волька, – для тех, кто хочет предстать передо мной, нет боли слишком сильной, ни испытания неподъемного, ни наказания слишком малого, чтобы пройти и стерпеть. Ибо вы – дети мои, и должно вам пострадать на пути к величию».
Волька снисходительно поглядывает на Воханнеса, но отвечает ему Шара:
– Колкастава.
Сияющая улыбка на устах Вольки мгновенно угасает, и он обращает на Шару ледяной взгляд.
– Книга Вторая, если я не ошибаюсь, – продолжает она. – Разъяснения для Святого Морнвьевы по поводу того, что его племянник погиб под лавиной.
– И Морнвьева настолько устыдился, – говорит Волька, – что спросил Отца Колкана о случившемся, досаждал ему такими вопросами…
– …что отсек себе правую руку, – говорит Шара, – и правую ногу, выколол правый глаз и отрезал правое яичко.
Волька ухмыляется:
– Странно слышать, как существо, подобное тебе, произносит священные слова! Словно бы птица заговорила…
– Так вы хотите сказать, – продолжает Шара, – что через пытки вы приведете нас к совершенству?
– Я не собираюсь пытать вас. По крайней мере я не замышляю ничего более жестокого, чем то, что я уже сделал с моим младшим братцем. Но да, вы встанете на путь самосовершенствования. Ибо вы познаете стыд. И этот огонек гордыни в твоих глазах погаснет. Ты хотя бы понимаешь, о чем говоришь?
– Готова побиться об заклад: ты считаешь, что Колкан жив, – говорит Шара.
Улыбка Вольки угасает окончательно.
– А где же вы были, господин Вотров? – спрашивает она. – Как вам удалось выжить? Мне сказали, вы погибли.
– А я действительно умер, дитя праха, – говорит Волька. – Умер на горе, на дальнем севере. И был возрожден.
Он раскрывает ладонь – там пляшут отблески свечи, хотя огонька Шара не видит.
– Старые чудеса живы во мне.
И он сжимает ладонь, и невидимое пламя умирает.
– Это было испытание духа. За ним мы и отправились в монастырь Ковашты – хотели испытать себя. Все остальные умерли во время паломничества. Все умерли, хотя были старше и опытнее меня. И сильнее. Они умирали от голода и холода. Заболевали и погибали. И только я шел и шел вперед. Только я был достоин. Только я прорывался сквозь ветер и снег и скальные зубы, чтобы отыскать Ковашту, последний монастырь, забытую обитель Отца нашего Колкана, где во сне ему были явлены святые предписания, что несли миру порядок и устроение. Я почти три десятка лет провел там, один в каменных стенах, питаясь крохами, я пил воду из растопленного снега… и читал. Я много узнал.
И он тянет указательные палец и до чего-то дотрагивается – словно бы дверной проем закрывает стекло, и он ведет пальцем по середине, и побелевший кончик пальца упирается во что-то твердое и скользит по невидимой преграде.
– Колокол Бабочки. Одно из самых древних чудес Колкана. Изначально его использовали, чтобы заставить людей сознаться в грехе, – видишь ли, воздух не может проникнуть туда или оттуда, и только на пороге смерти люди говорят истинную правду… Но не беспокойся. Тебя ждет другая судьба.
И он переводит взгляд на Шару:
– Вы проиграли, вы знаете? Ты и твои люди.
Шара молчит.
– Ты знаешь об этом? Отвечай.
– Нет, – говорит Шара. – Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
– Естественно. Куда тебе. Вы слишком примитивны для этого. Ибо там, видишь ли, я нашел… его.
И он опускает руку за ворот и вынимает амулет – весы Колкана.
– Я медитировал годами, но слух мой оставался закрытым. И тогда я принял решение: буду медитировать до тех пор, пока не умру. И тогда я услышал его шепот, ибо смерть представлялась мне худшей участью, чем это горькое молчание… Я едва не умер с голоду. Возможно, я действительно умер от голода. Но я услышал его. Услышал его шепот в Мирграде. Я услышал Отца Колкана! Он не умирал! Он никогда не покидал наш мир! Его не коснулась рука вашего… каджа!
Тут Волька срывается на свирепое рычание – Шара видит желто-коричневые зубы.
– Мне было видение: часть Мирграда – истинного Мирграда, Божественного Города – сохранилась, и вы не сумели до нее добраться! Она скрыта от вас! Она скрыта ото всех! И тогда я узнал, что есть еще надежда для моего народа. Я увидел свет во мраке, спасение, ожидающее святых и бодрствующих. Я мог вернуться, дабы избавить нас от плена. Нужно лишь пробраться к нему. Найти его. И освободить. Нашего Отца. Нашего пропавшего Отца.
– Все как в прежние добрые времена, – бормочет Воханнес. – Чуть что – бегом к папочке…
Блаженная радость разом смывается с лица Вольки.
– Заткнись! – рычит он. – Заткнись! Заткни свою грязную пасть, предатель!
Воханнес молчит.
Волька смотрит на него, дрожа от ярости.
– Твой… твой рот осквернен! Чего касались твои губы, грязное ты отродье? Чьей плоти? Женской? Мужской? А может, детской?
Воханнес закатывает глаза:
– Батюшки, какое дурновкусие…
– Я всегда знал, что ты уродец, – цедил Волька. – Ты всегда им был, маленький Во. Что-то в тебе было неправильное – проглядывало некое несовершенство, которое следовало вырвать с корнем, как дурную траву…
Воханнес с равнодушным видом втягивает сопли и вытирает нос.
– И что же, ты даже не попытаешься оправдаться?
– А нужно? – искренне удивляется Воханнес. – Вообще-то я считаю, что мне оправдываться не в чем.
– Отец согласился со мной. Ты знал это? Однажды он сказал мне, что хотел, чтобы вы с матерью умерли, не пережив родов! Сказал, что это избавило бы его от бремени – от слабовольной жены и слабака-сына!
Воханнес сохраняет бесстрастный вид. Только кадык на шее дергается.
– Это откровение, – говорит он, – нисколько меня не удивляет. Очень в духе батюшки. Он всегда был такой милый и добрый…
– Треплешь грязным своим языком отцовское имя? Хочешь, чтобы я возненавидел тебя сильнее? Так знай – это невозможно!
– Срать я хотел, – четко и раздельно отвечает Воханнес, – на отцовское имя, на род Вотровых, и на вашего Колкана я тоже срать хотел. И я очень рад, что кадж не убил Колкана. Потому что теперь сайпурцы разделаются с ним, как с остальными богами, и у меня будет отличный шанс долезть до его подбородка и насрать прямо ему в рот.
Волько ошеломленно смотрит на него, не в силах выговорить ни слова.
Потом ненавидяще шепчет:
– Не будет у тебя такого шанса. Я оставлю вас в живых, тебя и ее, чтобы Колкан сам судил вас и вынес вам приговор. Ты ведь и подозревать не мог, правда? А ведь он все это время пребывал в Мирграде, взвешивая грехи этого города. Он наблюдал за тобой. Он ждал. Он знает, что ты натворил. Я подниму Престол мира из могилы. И когда он придет, ты познаешь боль, младший братец.
Шара уже сообразила, что это за комната, в которой нет ни мебели, ни штор: она хорошо помнит, как смеялся над ней мховост, и как она ткнула свечкой ему в грудь. И земляные ступени ведущей вниз лестницы она тоже помнит…
«Я знаю, где мы находимся, – думает она, – и где находится Колкан, я тоже знаю».
– Он ведь там, внизу? В зале Престола мира, правда? – громко задает она вопрос.
Волька оборачивается и смотрит, словно бы она только что залепила ему пощечину.
Воханнес хмурится:
– В той древней развалюхе?
– Нет, нет. Под землей скрыт настоящий Престол мира, он в нескольких ярдах под нами.
И она прикрывает глаза. В голове все еще плавает туман хлороформа, но настырная мысль дрыгается и лезет, лезет наружу:
– А еще Божества любили использовать стекло как кладовку… Аханас держала заключенных в оконном стекле, а в маленьком стеклянном шарике у нее была целая загородная усадьба. Жугов упокоил тело Святого Киврея в стеклянной бусине. А когда я оказалась там, внизу, в зале Престола мира, я стала искать знаменитые витражи, о которых столько читала… но все окна были разбиты. Кроме одного-единственного, в атриуме колкастани. И я еще подумала: как интересно, что оно осталось целым, не треснуло, и оно без рисунков.
Шара распахивает глаза:
– Ведь именно там его заточили другие боги, правда? Это стекло стало для Колкана тюрьмой в течение последних трехсот лет. Живой бог, скованный внутри оконного стекла…
* * *
– Я не очень понимаю, о чем речь, – живенько заявляет Воханнес, – но, похоже, сейчас начнется самое веселье, да, Волька?
– Как вы собираетесь освободить его? – спрашивает Шара.
Волька меряет ее гневным взглядом, воздух с шумом вырывается у него из ноздрей.
– Хотя… – добавляет она, – это ведь может быть обычное чудо Высвобождения. Известное любому священнику…
– Не любому, – хриплым от ненависти голосом отзывается Волька.
– Значит, более мощное. Возможно, – медленно выговаривает Шара. – Возможно, это что-то из наследия монахов Ковашты? Что-то, что ты вычитал в их книгах?
Волька рычит, словно бы его ударили.
– А ты уверен, братец, – хихикает Воханнес, – что она тебе в чем-то уступает? По мне, так наоборот…
– А Уиклов? – продолжает Шара. – Он будет в этом участвовать? Это ты руководил всеми его действиями, правда? Это ты запер здесь мховоста. Чтобы он сторожил подземный ход…
– То, что случилось с Уикловым, покажется тебе благословением – в сравнении с тем, что ждет тебя, – рявкает в ответ Волька. – Уиклов, он… он был истинно верующим. Настоящим колкастани. Но он привел тебя к Престолу мира, а потом ты сообразила, как я обнаружил Склад украденных вами вещей… словом, я не смог его простить.
– И что ты сделал?
Волька пожимает плечами:
– Мне же нужно было как-то выяснить, как на самом деле работает Колокол Бабочки. Я ведь никогда не видел его в действии. А Уиклов… как раз под руку подвернулся. Я напомнил себе: все мы – лишь инструменты в руках Божеств. А то, что ты гонялась за Уикловым, тоже было мне на руку. Ты даже представить себе не могла, что я здесь, так что у меня было много времени, чтобы все продумать и распланировать до твоего приезда.
– Но я ведь тебя напугала, не правда ли? – говорит Шара. – Ты ведь не ожидал, что я приеду. Ты сразу начал спешить: вы напали на дом Воханнеса, чтобы заставить его дать вам то, что вы хотели.
– Приезд правнучки каджа вызовет беспокойство у любого истинного колкастани, – высокомерно отвечает Волька. – А я знал, кто ты.
И снова он показывает в улыбке коричневые, как старое дерево, зубы.
– Я часами, дни напролет разглядывал портреты каджа, думал о нем, ненавидел его, страстно желая оказаться там и убить, изменить ход истории… И, едва увидев тебя, я сразу узнал эти глаза, этот нос и губы – я увидел ожившее прошлое. Я сразу понял, из какого ты рода. А дальше оказалось не так уж и сложно разузнать, кто ты, – и еще проще было сообщить об этом моим соотечественникам.
– Подожди-ка… так это ты выдал меня газетчикам?
И оглядывается на Воханнеса, который непонимающе смотрит то на брата, то на нее.
– Но они, против всех ожиданий, не восстали против тебя, не повесили тебя на первом уличном фонаре… – цедит Волька. – Они возносили тебе хвалы за убийство Урава – священного детища Колкана! Я искренне не понимаю: ты действительно настолько талантлива, или все эти твои появления в ненужном месте в ненужное время – лишь совпадения? Как сегодня, к примеру. Ты действительно шла по нашему следу до истинной усадьбы Вотровых? Или просто случайно на нее набрела?
– Ах, вот оно что, – говорит Шара. – Значит, ты был в доме? Когда мы с Сигрудом ходили по Старому Мирграду. Ты видел нас.
– Если бы все шло по плану, мне бы не было нужды исполнять этот ритуал! – шипит Волька. – Однако снова и снова ты заявляешься куда не надо, и мы вынуждены действовать ранее задуманного! Ты вошла в истинный Мирград. Ты видела снаряженные корабли. Поэтому, увы, пусть и несколько волюнтаристским образом, но новая эпоха начнется сегодня.
– Ты собираешься уничтожить город пушечным огнем? С кораблей? – спрашивает Шара. – Зачем тебе летающие корабли? Ты же собрался освобождать Божество? Разве Колкан не может обратить нас в камень мановением руки?
– Зачем мне город? – усмехается Волька. – Гораздо мудрее будет разделять и властвовать… Сайпур – дитя моря, его сила – в кораблях. Наши воздушные суда помчатся прямо в Сайпур и расстреляют его верфи и гавани, а ваша оскорбляющая творение нация даже не успеет опомниться. Нам бы побольше кораблей, но, несомненно, даже с шестью мы на голову превосходим Сайпур, с военной точки зрения. Да, Сайпур силен, но они не ожидают атаки с воздуха. А мы налетим на них, как гроза, и с небес прольется огонь. Мы уподобимся ангелам, несущим разрушение и смерть. Мы кастрируем твою подлую страну, ибо иного она и не заслуживает.
Это заявление, как ни странно, ужасает ее более, чем планы по воскрешению какого-то там бога. «Там по шесть шестидюймовок на корабль, – быстро думает она. – Всего тридцать шесть пушек. Они в один день разнесут нашу инфраструктуру в пыль, сайпурский флот не оправится от потерь в течение месяцев – даже лет… И нам придется сражаться со связанными за спиной руками…»
– А это хорошо, знаешь ли, – говорит Волька. – Это правильно. Мир – наше горнило, и пламя придает нам форму. Ты познаешь боль. Оба вы познаете боль. Так надо. Плоть ваша очистится страданием, и грех совлечется с вас, но, возможно, некая часть плоти и осколок кости будут спасены и станут достойны его, – он переводит дыхание. – Вы оба предстанете перед ним. И так я найду милость в очах его – ибо передам в его руки не только отступника из отступников, но и дитя человека, что поднял руку на богов.
Волька отступает в сторону. В проеме появляются двое крепко сбитых мужчин в колкастанских робах. С тихим хлопком вызванный Волькой Колокол Бабочки рассеивается. Двое мужчин подходят к Шаре и Воханнесу, жестоко бросают их на каменный пол и туго спутывают руки. Они не сопротивляются – к Шаре еще не вернулась острота чувств и реакции, а Воханнеса, видимо, хорошо отделали, когда били.
– И знаешь что, Волька? – сплевывает Шара, когда ее вздергивают на ноги. – В свете того, что ты тут обо мне наговорил… А тебе известно, что изначально континентцы были столь же смуглы, как и сайпурцы? Сейчас континентцы белокожи, но лишь потому, что климат изменился и солнца мало. Так что ты зря восхищаешься белокожестью – это, так сказать, вовсе не божественная черта в вас. И ты бы сам мог узнать это, если б дал себе труд почитать писания других Божеств, а не только Колкана. Тот, как известно, избегал упоминаний плоти, не говоря уж о цвете кожи.
Волька пытается принять царственную позу.
– Врешь, шалотница, и все племя твое – лживое! – заявляет он и уходит.
* * *
Марек Ашковский, капитан доброго корабля «Морнвьева», через зеленые линзы защитных очков любуется пестрой картиной рассветного неба. На горизонте, как газетные заголовки, висят облака. Далеко внизу – наверное в паре миль, Марек не очень уверен, – пролетают темные, серые поля Континента.
Марек шарит в кармане комбинезона, нащупывает часы и прикидывает время.
– Два часа! – орет он, перекрикивая гудение ветра. – Два часа до берега!
Команда разражается радостными кликами. На всех – плотная термоодежда, очки и маски, и все они привязаны к палубе толстыми канатами: Джейкоби уже сдувало, когда с правого борта ударил резкий порыв, его вытащили на палубу товарищи, а парень ругался и отплевывался, отирая побагровевшее лицо.
«Два часа», – думает Марек. Через два часа он выяснит, на что годится добрый корабль «Морнвьева» – а также двадцать членов экипажа, шесть пушек и три сотни шестидюймовых снарядов – кроме как быстро лететь очень высоко над землей. Он до последнего сомневался, что судно сумеет оторваться от земли, – уж очень туго шли эксперименты с Ковром Колкана: в первый раз они взяли только одну нитку, и, когда приведенный Волькой священник прочитал активирующую молитву, нитка рванула в воздух так быстро, что священник не успел отступить в сторону и ему срезало бо́льшую часть лица.
«С чудесным, – заметил Волька, глядя на орущего от боли человека, – нужно обращаться крайне осторожно».
Им понадобилось несколько месяцев, чтобы стабилизировать действие нитей – в случае «Морнвьевы» пяти нитей, который поднимали вес в восемьсот тонн, – и еще несколько месяцев на то, чтобы закупить необходимую для конструкции сталь. И все это время Марек – искренне преданный, как он считал, делу – не верил, что это сработает.
И вот посмотрите – они летят выше самой высокой башни Аханастана, подобно пущенному в атмосферу ядру, их гонят вперед узкие, как мечи, паруса и мощные крылья.
«Не забывай, – напоминает он себе, – что у тебя есть миссия и долг. Мы отправились в поход не ради твоей славы, Марек Ашковский, и не ради славы человеков, но во славу Отца Колкана».
Но втайне Марек лелеет мечту: увидеть, что же скажет Колкан, когда их пушки обрушат беспощадный огонь на сайпурцев, и на тех наконец-то найдется управа. Они сровняют с землей и разнесут в клочья чудовищные верфи Галадеша… При одной мысли об этом сердце заходится от радости…
Марек спускается в трюм – уже раз в седьмой, наверное. Но спускается – посмотреть, как там пушки. Никто из континентцев не обладал доселе такой огневой мощью – и он исполняется гордости за огромные, массивные стволы и здоровенные снаряды, каждый толще его руки. И все механизировано! Чтобы выстрелить, нужно лишь на рычаг нажать!
Марек обходит три пушки по левому борту: Святого Киврея, Святого Юрека и Святого Василия. С ними все в порядке. Потом он обходит три пушки по правому борту: Святого Саввы, Святого Говроса и Святого…
Так. Марек останавливается перед Святым Ташкаем. Опираясь на пушку, там стоит высокий мужчина в драной колкастанской робе. И смотрит в отверстие пушечного порта, как бегут, взрезая облака, за кормой «Морнвьевы» добрые корабли «Усина» и «Укма».
Капитан Марек не верит своим глазам:
– Кто?.. Кто вы?..
– Никогда не ходил на воздушном корабле, – безмятежно замечает человек. – На чем только ни ходил – а вот на воздушном корабле нет.
Марек хочет спросить его, почему на нем нет очков, и почему он одет не по уставу, и где его канат, почему не привязан! Но спрашивать глупо, потому что Марек прекрасно знает, что в команде у него нет человека таких габаритов, правда ведь?
Незнакомец переводит взгляд на Марека. Один глаз под маской у него темный.
– И что же, – спрашивает он, – им как обычным кораблем управляют?
– Ну… – Марек заглядывает ему за спину: и как прикажете действовать в этой абсурдной ситуации? – А ты почему не на палубе, матрос? И почему не привязан к мачте? Ты же можешь упа…
– А пушки? Они могут действовать в режиме воздух-воздух?
– А… зачем?
– Я так и думал. Да, я так и думал. – И незнакомец наклоняет голову к плечу и начинает размышлять вслух: – Шесть пушек на борту и пять других кораблей… Один выстрел – один корабль. Это просто, управлюсь.
Он кивает собственным мыслям.
– Благодарю. Это ценные сведения.
И тут перед глазами Марека происходит какое-то неуловимое движение, и он вдруг чувствует себя так, словно бы проглотил большой кусок льда.
Он смотрит вниз и видит, что между ребрами у него торчит рукоять очень длинного кинжала. Корабль начинает кружиться вокруг.
– Хорошо, когда капитану удается умереть, – слышит он голос незнакомца, – до того, как он увидит смерть своих людей. Уйди тихо и с благодарностью.
Последнее, что видит Марек, – это гигант, выравнивающий и наводящий Святого Ташкая на добрый корабль «Усина» вдали.
* * *
Шаре знаком путь, по которому их ведут: их толкают через пустые узкие коридоры, к комнате, где держали мховоста – на полу так и остался круг из соли, – и вниз по туннелю, ведущему к Престолу мира. Он, кстати, полностью отреставрирован.
– Вы завалили туннель, но мне ничего не стоило восстановить его, – усмехается Волька. – Сомневаюсь, что ты знаешь чудо, к которому я прибег.
Шаре до того не приходило в голову, что туннель создали чудесным способом, однако теперь она задумывается над этим – что ж, вывод очевиден:
– Свеча Овского, – быстро говорит она.
Волька каменеет лицом, потом взмахивает рукой и ведет всех в туннель, освещая путь своим невидимым светом. Воханнес хихикает.
«Он еще не освободил Колкана, – лихорадочно думает Шара. – Может, Мулагеш… вдруг она сумеет…»
И тут она понимает: а ведь Мулагеш сейчас обыскивает особняк Вотровых. Или это, или укрепляет стены посольства. Ни то ни другое им не поможет. А Сигруд в милях отсюда, в холмах за Жугостаном. Они одни.
Туннель тянется и тянется. Шара представляет, как они входят в зал, а там их ждет Колкан – глиняный человек, сидящий у стены пещеры, и глаза у него серые и пустые.
– Прости меня, Во, – шепчет Шара в темноте.
– Тебе не за что извиняться, – шепчет Во в ответ. – Мне жаль, что тебе пришлось познакомиться с этим мелким говню…
– Молчать! – прикрикивает один из охранников и бьет Воханнеса по почке. Тот вскрикивает и ковыляет дальше.
Они входят в зал Престола мира. Воханнес изумленно охает. Шара бы очень хотела испытать те же благоговейные чувства, что и в первый раз, однако сейчас храм видится ей темным лабиринтом, в котором по черным углам гуляет неясный шепот.
Два десятка реставрационистов, все в колкастанских робах, стоят перед пустым окном в атриуме Колкана. А рядом Шара видит лестницу.
«Это правда. Они действительно хотят его освободить».
Волька подходит к лестнице, которая ведет в исчезнувшую колокольню Престола мира. И поднимает руку, в которой поблескивает оранжевое пламя.
– Сначала мы вернем храму прежнее великолепие, – произносит он.
Наставляет палец на Шару и Воханнеса и что-то бормочет. Раздается писк, словно бы он ведет пальцами по стеклу. Руки Шары по-прежнему связаны, но она выставляет вперед ногу, и пальцы натыкаются на невидимую преграду. «Снова Колокол Бабочки».
– Экономьте воздух, – усмехается Волька. – Этот – гораздо меньше по размеру, чем прежний.
С напыщенной улыбкой старосты-отличника он поднимается вверх по ступеням к колокольне и скрывается из виду.
– Он, наверное, придумал и как колокольню восстановить… – тихо говорит Шара.
– Молчать! – приказывает один из реставрационистов.
– Ее засыпали всего несколько дней тому назад.
– Молчать, я сказал!
– И что ты сделаешь? Ударишь нас кулаком через стенку? – усмехается Воханнес.
Реставрационист принимает угрожающий вид, а потом отворачивается, словно бы вспомнив о более важном деле.
– Я должна была понять, что к этому и идет, – стонет Шара. – Должна была предвидеть…
– Шара, заткнись, – шепчет Воханнес. – Слушай, но у тебя же есть какой-нибудь козырь в рукаве, правда? Ты же знаешь, как нам выпутаться?
– Ну… если честно, нет.
– Но ведь кавалерия скоро прибудет, правда? Тебя же хватятся и начнут искать, разве нет?
– Искать-то будут, но точно не здесь!
– Ладно, но… Шара, пожалуйста. Пожалуйста, придумай что-нибудь! – шипит он. – Нужно что-нибудь придумать! Ты должна, потому что у меня точно ничего не получится! Я вообще, твою мать, не понимаю, что здесь творится! Пожалуйста, а? Давай, напрягись!
Шара лихорадочно думает, но придумать, как выбраться из Колокола Бабочки, не получается. Она вообще не знала, что такое чудо существует! И даже если они выберутся из-под колпака, куда им идти? Что могут сделать против двадцати пяти реставрационистов раненый хромец и одурманенная хрупкая женщина девяноста фунтов весу? «Я могла бы вытащить нас отсюда, проложив туннель Свечой Овского… если бы я знала, как ей пользоваться. Но я не знаю. Я просто знаю об этом чуде, а это не одно и то же». Если бы им было куда спрятаться… в другой туннель, к примеру… или…
…или исчезнуть.
– Кладовка Парнези, – тихо говорит она.
– Что? – шепотом переспрашивает Воханнес.
– Кладовка Парнези – это чудо, которым воспользовался твой брат, чтобы меня похитить. С его помощью можно поместить человека в невидимый воздушный карман – и там его не увидеть ни смертному, ни Божеству, что важно.
«Потому что его изобрел Жугов, – припоминает Шара, – чтобы его священник мог проникать в женский монастырь Колкана. И здесь оно прекрасно сработает…»
– Так что даже если сюда заявится сам Колкан…
– Мы будем в безопасности. Он нас не увидит.
– Отлично. Ну… тогда давай! Сделай это, а?
– У меня вообще-то руки связаны, – шепчет в ответ Шара. – А мне нужно произнести строчку из Жугоставы и сделать определенный жест.
– З-зараза… – бормочет Воханнес. И смотрит на реставрационистов. – Так. Так, давай-ка мы развернемся…
Медленно-медленно они поворачиваются друг к другу спинами. Воханнес принимается неуклюже дергать за спутывающие ее руки веревки.
– Удачи, – бормочет Шара. – Но я, если честно, думаю, что там все завязано на совесть.
Один из реставрационистов хохочет:
– Ах ты ж, смотрите, да они никак обхитрить нас хотят! Давай-давай, старайся, мерзкий ты извращенец! Из Колокола тебя выпустит сам Отец Колкан, развязанные руки тебе не помогут!
– А когда он снимет с тебя Колокол, – вторит ему другой, – ты пожалеешь, что не задохнулся там насмерть.
И третий:
– Это что, первый раз, когда ты к женщине прикоснулся, Вотров? Так я и думал…
Воханнес не обращает на них внимания и шепчет:
– Ты действительно считаешь, что мой братец может вернуть Колкана в наш мир?
Шара смотрит на прозрачное стекло окна в Колкановом зале.
– Ну… Я полагаю, что да, в том стекле действительно заключено какое-то Божество.
– Но… не Колкан?
– Мне кажется, что я разговаривала с этим Божеством, – говорит Шара. – В ту ночь, когда они напали на твой дом. Я видела сцены из нескольких священных текстов… Но они шли как-то вразнобой. Кроме того, я заметила, что чудеса Жугова тоже, как ни странно, работают – та же Кладовка Парнези, к примеру, – так что я уже не уверена, что Жугов мертв…
Воханнес сердито ворчит, пытаясь распутать узел, который не поддается.
– Значит, ты на самом деле… не знаешь.
– Именно.
– Прекрасно.
Он продолжает дергать за веревки. Шару посещает несвоевременная озорная мысль: а ведь это самый интимный их контакт с той самой ночи, как убили Урава…
– Я рад, что мы вместе, – говорит Воханнес. – Несмотря на все – вместе.
– Когда освободимся, держись поближе, – предупреждает Шара. – Кладовка Парнези маленькая.
– Это понятно, но, пожалуйста, выслушай меня. Я рад, Шара. Понимаешь?
Она молчит. А потом говорит:
– А зря.
– Почему?
– Потому что, когда меня раскрыли… я подумала, что это сделал ты.
Он перестает распутывать веревку:
– Я?!
– Да. Ты. Ты ведь вдруг получил все, что хотел, Во. Все. А кроме тебя, только один человек знал, кто я такая. И мы подумали, что это ты приходил на ткацкую фабрику. Но это был не ты. Это был…
– Волька.
Она не видит его, но Воханнес стоит совершенно неподвижно.
– Но… Шара, я же… я же никогда бы не смог так поступить с тобой! Никогда! Я бы не смог. Ни за что!
– Я знаю! Теперь-то я это знаю, Во! Но я… я решила, что ты болен! Сошел с ума! Что-то с тобой было не то! Ты выглядел таким несчастным, таким жалким…
Она чувствует, что Воханнес оборачивается:
– Может, ты не так уж и неправа, – тихо говорит он. – Возможно, со мной действительно творится что-то не то. Но, возможно, что со мной всегда было все плохо.
– Что ты имеешь в виду?
– Я хочу сказать… я хочу сказать, ты только посмотри на этих людей! Я ведь вырос с ними! – Реставрационисты тем временем опускаются на колени в Колкановом зале и начинают молиться. – Ты только посмотри на них! Они же молятся о боли, о наказании! Они считают, что ненависть – священна, что все человеческое – это греховно! Естественно, со мной что-то не то! С таким-то воспитанием!
Шара слышит далекий удар колокола.
– Что это было? – вскидывается Во.
– Нам надо спешить, – говорит Шара.
Первому колоколу отвечает другой.
– Почему?
Звонит еще один колокол. И еще один. И еще один. И все они звонят по-разному, одни – большие, другие поменьше, но самое главное, каждый звон на свой лад отзывается в ее разуме, и в ответ на каждый удар приливает свой поток образов: вот звонит один колокол, и ее затопляют видения жарких, затянутых туманом болот, над которыми переплетаются лианы и расцветают гроздья орхидей; звонит другой – и в ноздри врывается запах растопленной смолы, опилок и извести; звонит другой – и она слышит звон мечей, карканье ворон и боевые кличи; со следующим звоном на губах у нее остается вкус вина, мяса с кровью, сахара, крови и, похоже, семени; удар – и она слышит натужный скрип огромных камней, придавленных тяжестью друг друга; и с последним звоном руки ее замерзают, как на морозе, а ноги и сердце согреваются мерцающим пламенем.
«У каждого Божества свой колокол, – думает Шара. – Я не знаю, как он это сделал, я даже не очень понимаю, что он делает, но каким-то образом Волька сумел прозвонить во все колокола Престола мира.
– Что происходит, Шара? – спрашивает Воханнес.
– Посмотри в окно, – отвечает она, – и увидишь.
С каждым ударом сердца все светлее становится за оконным стеклом. Но это не божественный свет, а солнечный. Золотой солнечный свет, словно бы солнце светит так ярко, что лучи его проникают сквозь все слои почвы, чтобы озарить это темное мрачное место.
«Это не солнце светит сквозь землю, – догадывается Шара. – Это мы поднимаемся из земли».
– Он его двигает, – выдыхает она. – Поднимает! Он поднимает Престол мира на поверхность!
* * *
Солдаты Мулагеш возятся во дворе посольства, явно не понимая, зачем им здесь строить оборонительные сооружения. И тут что-то происходит с солнечным светом.
Сама Мулагеш наблюдает за работой от ворот: высокие белые стены посольства с металлической решеткой поверху очень красивы, но совершенно беззащитны с военной точки зрения. Да и само посольство уязвимо: оно стоит на перекрестке двух оживленных улиц – одна идет вдоль стен, а вторая пересекает Мирград из конца в конец и упирается прямо в ворота посольства. Выглянешь из-за кованой решетки – и все просматривается насквозь, до самого центра города. «Если Шара права насчет шестидюймовых пушек, – думает губернатор, – нас можно расстрелять в упор, с какого угла ни зайди».
Несмотря на это, Мулагеш не особо подгоняет солдат – ибо втайне она надеется, что Шара жестоко ошиблась. Но, когда издалека до нее доносится колокольный звон, а тени от ограждения на стене начинают выплясывать на булыжнике двора, рот ее сам собой открывается – да так широко, что из него выпадает сигарилла.
Она оборачивается. Движется само солнце: и хотя из-за стен Мирграда светило видится словно бы заволоченным дымкой, оно все равно похоже на каплю жидкого золота, которая вдруг взяла и потекла, извиваясь и приплясывая, через все небо, увеличиваясь и дрыгаясь, – а потом остановилась с противоположной стороны, явно готовясь садиться за горизонт.
«Это что же, на наших глазах целый день украли, что ли?» – удивляется Мулагеш.
Настырный, ни на что не похожий колокольный звон действует на нервы, словно бы каждый удар бьет по невидимым защитам, разнося их в прах и тут же восстанавливая.
А потом желто-оранжевый солнечный свет разливается над крышами Мирграда. Один луч бьет вниз, словно бы пронизывая покрывало облаков – только облаков нигде не видно! – и отражается от ярко сияющей колокольни в центре города.
Сияние настолько ярко, что Мулагеш с солдатами вынуждены отвести глаза. А когда те привыкают к свету, они обнаруживают, что солнечный свет – причем закатный! – отражается от широкой полированной крыши. Мулагеш все еще прикрывает глаза ладонью от нестерпимого блеска.
В центре города возвышается гигантский, богато украшенный молочно-белый собор с колокольней почти в полмили высотой.
– Это что такое? – ахает один из лейтенантов. – Откуда оно взялось?
Мулагеш вздыхает. «Как же я не люблю, – думает она, – когда правы оказываются паникеры…»
– Ну ладно! – свирепо орет она. – Покорнейше прошу оторвать глазики от горизонта и двигать тазом в сторону оборонительных сооружений! Быстро укрепляем стены, на батареи выносим огнестрел! Быстро, я сказала!
– Огнестрел? – переспрашивает одна из ее капралов – девушка чуть за двадцать. Она озабоченно хмурится и обтирает потный лоб. – Губернатор, вы уверены?
– Абсолютно. А ну за работу, а то я придам вашим элегантным задницам ускорение с помощью мощного пенделя! Что смотрите – сапогом по жопе хотите получить?! А ну за работу, уроды, мать вашу!
Я потерялся в океанах судьбы и времени,
Но, по крайней мере, у меня есть любовь.
Граффити на стене гостиной в Фадури
То и пожнешь
Волька спускается вниз по ступеням с довольным видом.
– Я совершил много благих дел, – громко заявляет он. – И я думаю, что Отец Колкан будет доволен!
Воханнес зло фыркает в ответ.
– А сейчас, – Волька завершает свой триумфальный спуск по лестнице, – время вернуть его домой.
И он косится в ту сторону, где стоят под колпаком Шара с Воханнесом.
– Возможно, после этого мы обнимемся как настоящие братья. Возможно, он очистит тебя. Возможно, он смилуется.
– Если он сотворил тебя по своему образу и подобию, Волька, – бросает Воханнес, – я бы, сука, на это сильно не надеялся.
Волька презрительно кривится и идет в зал Колкана. Реставрационисты выстроились перед прозрачным оконным стеклом – коленопреклоненная паства в ожидании пророка. Волька невесомо и уверенно скользит меж ними – прямо как дебютантка на балу, почему-то думает Шара, – и останавливается перед каким-то человеком.
Путы на запястьях Шары начинают подаваться.
– Давай, Во, – отчаянно шепчет она, – давай, получается!
Воханнес с ворчанием дергает за веревки.
– Молот, – тихо приказывает Волька.
Человек протягивает ему длинный серебряный молот. Волька осторожно принимает его, подходит к лестнице и медленно взбирается к окну.
Шара дергает большой палец из петли – но лишь туже затягивает веревку на запястье.
Волька прикладывает серебряный молот к губам и шепчет, а потом нараспев читает что-то.
«Я не хочу его видеть, – думает Шара. – Я не могу. Только не он, только не Колкан…»
Шара извивается в веревках. Что-то горячее стекает в ладонь. И тут она чувствует, как одна веревка соскальзывает с ободранных костяшек пальцев, потом другая – с большого.
Серебряный молот дрожит, его очертания размываются, словно бы сам металл содрогается от силы, которую уже не может удержать в себе.
Воханнес берется за веревки, Шара делает рывок – вдруг разорвутся, но нет, они выдерживают.
Волька заносит молот. Желто-оранжевый солнечный свет ослепительно отражается от его головки.
В ладонь Шары уже не капает, а течет, пальцам горячо и мокро.
«Кто-нибудь, сделайте же что-нибудь», – в ужасе думает Шара.
Волька кричит и бьет молотом.
Стекло лопается с тонким звоном.
Из окна льется солнечный свет, высвечивая белые плиты пола, те ярко вспыхивают. Это солнце, звезда, светоч чистый, страшный и нездешний.
Воханнес и Шара вскрикивают, ослепленные этим сиянием. Вспышка столь неожиданна и ярка, что они отворачиваются – и падают. Запястье дергает болью – похоже, она его вывихнула, и серьезно.
А потом наступает тишина. Шара ждет, потом решается поднять взгляд.
Люди в колкастанских робах смотрят на что-то, что стоит перед ними.
Точнее, на кого-то. У разбитого окна кто-то стоит, и плечи этого кого-то озаряет закатное солнце.
Этот кто-то похож на человека, только очень высокого – не менее девяти футов ростом. На нем – если это действительно мужчина – толстые серые одежды, плотно укутывающие его с головы до пят: лицо, руки, ноги – все скрыто. Голова удивленно поворачивается из стороны в сторону – существо оглядывается, рассматривая зал и коленопреклоненных людей, словно бы его только что разбудили после долгого и странного сна.
– Нет, – шепчет Шара.
– Он жив, – вскрикивает Волька. – Он жив!
Закутанная фигура поворачивает голову к нему.
– Отец Колкан! – кричит Волька. – Отец Колкан, ты снова с нами! Мы спасены! Мы спасены!
* * *
Волька быстренько слезает с лестницы и присоединяется к остальным – те все это время оставались в полной неподвижности. Волька падает на колени и простирается перед Божеством, протянув руки к его ногам.
– Отец Колкан, – выдыхает Волька, – с тобой все хорошо?
Колкан молчит. Его можно принять за статую, если бы не ветерок, который шевелит складки одежды.
– Тебя так долго не было, – говорит Волька. – Хотел бы я сказать, что ты очнулся – и вот, мир хорош и благоустроен. Но в твое отсутствие случилось страшное: колонии наши взбунтовались, они убили твоих братьев и сестер и поработили нас!
Люди вокруг кивают и осторожно посматривают на Колкана, ожидая, что тот как-то выкажет свое изумление и гнев. Однако тот молчит и стоит неподвижно.
– Во, – шепчет Шара.
– Да?
– Делай как я.
И Шара переворачивается лицом вниз, становится на колени и склоняется, касаясь лбом пола.
– Что ты…
– Покаяние, – тихо говорит Шара. – Колкан не отвергнет покаяние.
– Что?!
– Отдай ему земной поклон! И так и сиди! Все остальное он сочтет за оскорбление!
Воханнес неохотно переворачивается и склоняется в поклоне.
«Если Колкан не станет обращать на нас особого внимания, – думает Шара, – возможно, я довершу начатое Во и справлюсь с этим узлом!»
– Вуртью убили в колониях, – продолжает жаловаться Волька. – Таалавраса и Аханас убили, когда жители колоний вторглись на Континент. А Жугов, этот трус, сдался им, и его казнили! И теперь жители колоний отдают нам приказы, как каким-то псам, и они объявили вне закона нашу любовь к тебе, Отец Колкан. Нам не дозволено поклоняться тебе, как прежде, они хотят изгнать тебя из наших сердец. Но мы ждали тебя, Отец Колкан! Я и мои последователи не отреклись от веры и много потрудились, дабы вернуть тебя! Мы даже отстроили твой зал в Престоле мира! Я самолично возил камни из самой Ковашты, чтобы достойно встретить твое возвращение! А еще мы захватили и привели сюда самого злого из еретиков, ослушавшегося твоих повелений, а также дитя того самого человека, что завоевал Святые земли!
Волька оборачивается и тычет пальцем в Шару и Воханнеса – и на мгновение лишается дара речи, увидев их застывшими в покаянных поклонах.
– Хитроумные трусы, они простерлись перед тобой, умоляя о милосердии! Но о том же умоляем и мы! Все мы умоляем тебя: смилостивься, Отец Колкан! Мы твои преданные служители! Мы умоляем тебя: пожалуйста, освободи нас от оков, восстань и верни в мир свет праведности и славы!
В Престоле мира повисает молчание. Шара осторожно подымает голову, чтобы лучше видеть, и принимается тихонько высвобождать из пут руку.
Голова Колкана поворачивается туда и сюда – бог оглядывает свою крохотную, одетую в черное паству.
Потом он переминается с ноги на ногу и осматривает остальные залы Престола мира.
Где-то в храме слышится голос – Шара слышит его не смертным слухом, но разумом – приглушенный голос, подобный скрежету давящих друг друга камней. И произносит он всего одно слово:
– ГДЕ?
Волька смущенно молчит и поднимает голову:
– Г-где что, Отец Колкан?
Колкан продолжает оглядывать Престол мира. Голос звучит снова:
– ГДЕ ПЛАМЯ И ВОРОБЕЙ?
Волька изумленно смигивает и оглядывается на помощников, те отвечают ему столь же озадаченными взглядами:
– Я… не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Отец Колкан.
– МЕНЯ ВСТРЕЧАЮТ, – сообщает голос, – ПРЕДЛАГАЯ МНЕ ПЛАМЯ И ВОРОБЬЯ.
Повисает долгое молчание.
– ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПРИНЕСЛИ ИХ?
– Я… никогда не слышал об этом ритуале, Отец Колкан… – мямлит Волька. Он поднимает голову от пола и теперь стоит на коленях, как и остальные. – Я столько читал о тебе, но… но ты так долго отсутствовал в нашем мире – много сотен лет. Видимо, то был обряд, о котором мне не удалось найти сведений!
– ТЫ ЧТО ЖЕ, – гремит голос, – ХОЧЕШЬ ОСКОРБИТЬ МЕНЯ?
– Нет! Нет, нет! Нет, Отец Колкан, мы бы никогда не осмелились на такое!
И Волькины соратники отчаянно трясут головами: мол, ни за что!
– ТОГДА ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПРИНЕСЛИ ИХ?
– Я просто… я не знал, Отец Колкан. Я даже не очень знаю, что они…
– НЕЗНАНИЕ, – гремит голос, – НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Колкан делает шаг вперед и оглядывает свою паству. И кивает, словно бы разглядел в них многое:
– ВЫ НЕДОСТОЙНЫ!
Волька от ужаса и изумления теряет дар речи.
Голос продолжает:
– ВЫ ОМЫЛИ ФРУКТЫ В ВОДАХ ОКЕАНА. ВЫ СМЕШИВАЛИ ХЛОПКОВЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ НИТИ В ВАШИХ ОДЕЖДАХ. ВЫ ВЫДУВАЛИ СТЕКЛО СО МНОЖЕСТВОМ НЕСОВЕРШЕНСТВ. ВЫ ЕЛИ ПЛОТЬ ПЕВЧИХ ПТИЦ. Я ВИЖУ КАЖДЫЙ ИЗ ВАШИХ ГРЕХОВ. ВЫ НЕ РАСКАИВАЕТЕСЬ В НИХ. А ТЕПЕРЬ, КОГДА Я ВЕРНУЛСЯ, ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕ МЕНЯ БЕЗ ПЛАМЕНИ И ВОРОБЬЕВ.
Волька и его соратники переглядываются, не зная, что делать.
– О-отец Колкан, пожалуйста, – бормочет Волька, – пожалуйста, прости нас. Мы следовали тем твоим эдиктам, которые смогли найти, которые мы знали. Но мы освободили тебя, Отец Колкан! Прошу, прости нас…
Колкан направляет на него палец. Волька застывает на месте.
– ПРОЩЕНИЕ, – гремит Колканов голос, – ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ.
Колкан оглядывает Волькиных соратников:
– ВЫ ПОДОБНЫ ПРАХУ, КАМНЮ И ГРЯЗИ.
С того места, где стоит Шара, ничего не видно – была ли вспышка или нет. Но в одно мгновение живые люди превращаются в статуи темного камня.
Волька стоит перед Колканом, все еще обездвиженный, но живой: Шара видит, как шевелятся глаза в глазницах.
– А ТЫ… – возглашает Колкан. – ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ТЫ НЕ ПОДОБЕН ПРАХУ, КАМНЮ И ГРЯЗИ. Я НАПОМИНАЮ ТЕБЕ, КТО ТЫ ЕСТЬ.
Колкан, судя по всему, снял с Вольки чары неподвижности, и тот оседает на пол, хватая ртом воздух.
– Я… Я буду… выдыхает он. – Я буду помнить, Отец Колкан. Я запомню… – и тут он осекается на полуслове, сгибается пополам и вскрикивает от боли: – О! Мой живот!
И Шара видит, как живот Вольки вспухает на глазах, словно у беременной женщины. В ужасе она снова утыкается лицом в пол.
Волька вопит все громче и громче, а потом крик обрывается странным бульканьем. Она слышит, как падает на пол тело. С хлопком Колокол Бабочки вокруг них исчезает, а Волька молчит, хотя она слышит, как он корчится.
– ТЫ ПОЗНАЕШЬ БОЛЬ.
Она слышит странный звук – словно бы раздирают плотную ткань. Шара не хочет, не желает на это смотреть, но все равно поднимает взгляд. Черные круглые камни – сотни таких камней – вываливаются из разорванного живота Вольки. Камни блестят от крови, и куча все растет и растет у Шары на глазах.
Она охает. Колкан приоборачивается, и она снова утыкается лбом в пол.
– ХМ, – слышит она Колканов голос.
Они с Воханнесом застыли в неподвижности. Шара слышит его загнанное дыхание.
– Я ЗНАЮ, ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ, – бухает голос. – И ОДОБРЯЮ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ. ПРОШЛО МНОГО ЛЕТ, НО СМЕРТНЫЕ ВСЕ ЕЩЕ НУЖДАЮТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ Я РАССУДИЛ ИХ.
Шара чувствует, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Может, Колкан превращает их в камень? Но нет, ее просто парализовало от ужаса. Как и Воханнеса.
Раздается треск, и Воханнес вдруг скользит к Колкану, словно бы каменный пол храма превратился в конвейер. Краем глаза Шара видит, что Воханнес в ужасе оглядывается на нее. «Не бросай меня! – читает она в его глазах. – Не бросай!»
– ПРИБЛИЗЬСЯ, – гремит Колканов голос. – И ИЗЛОЖИ СВОЕ ДЕЛО.
Шара не видит, но слышит голос Воханнеса:
– М-мое дело?
– ДА. ТЫ ПРИНЯЛ ПОЗУ КАЮЩЕГОСЯ, УСТЫДИВШЕГОСЯ. ИЗЛОЖИ СВОЕ ДЕЛО, И Я ВЫНЕСУ ПРИГОВОР.
«Наверное, он думает, что к нему пришли, как раньше, до того как он написал свои эдикты, – думает Шара. – Но Во ведь не соображает, что делает!»
Повисает долгое молчание. Потом Воханнес говорит:
– Я… я не стар, Отец Колкан, но я повидал жизнь. Я… потерял семью. Друзей. И дом – тоже потерял, так тоже можно сказать. Но… но я не буду отвлекать тебя рассказами об этом.
Воханнес практически выкрикивает слово «отвлекать». В другой ситуации Шара бы закатила глаза: мол, тоньше надо работать, Во…
– Я каюсь, Отец Колкан, – продолжает Воханнес. Голос его набирает силу: – Да, каюсь. Мне жаль. И мне стыдно. Особенно мне стыдно за то, что от меня требовали стыдиться, и что этого от меня ждали.
Тут он сглатывает слюну.
– И мне стыдно за то, что я, до определенной степени, уступал их требованиям. Я ненавидел себя и продолжаю себя ненавидеть. Я ненавидел себя за то, что не знал, как жить иначе.
Мне жаль. Мне жаль, что меня угораздило родиться в мире, где от тебя требуют брезговать собой. Мне жаль, что мои сограждане считают, что все человеческое нужно подавлять, что это нечто отвратительное и гадкое. Мне, мать твою, реально грустно от этого. Правда.
Если бы Шара могла пошевелиться, у нее бы челюсть отвалилась от изумления.
– Я каюсь, – говорит Воханнес. – Я раскаиваюсь в том, что этот гребаный стыд разрушил мои отношения со столькими людьми. Я раскаиваюсь в том, что позволил стыду и внутренней неустроенности выплеснуться на других. Я трахал мужчин и трахал женщин, Отец Колкан. Я у многих отсосал, и у меня многие отсосали. Я трахал – и меня трахали. И это было прекрасно, правда. Я замечательно провел время и очень хотел бы повторить. Правда.
Тут он хихикает.
– Мне несказанно повезло, что я встретил и держал в объятиях столько замечательных, красивых людей – правда, они все были красивые, милые, выдающиеся люди! – и я очень сожалею, что мое отвращение к самому себе оттолкнуло их.
Я любил тебя, Шара. Правда любил. Получилось у меня не ахти, как всегда – на мой косой-кривой особый манер. Но я любил тебя. И до сих пор люблю.
Я не знаю, сотворил ли ты наш мир, Отец Колкан. Я не знаю, сотворил ли ты таким наш народ – или он сам таким сделался. Но если это действительно твоим словам меня учили с детства, если ты действительно заповедал нам вот так вот подло ненавидеть себя, умерщвлять плоть, как последним идиотам, если вот это разрушительное представление, что быть человеком, любить, совершать ошибки – это плохо, если это действительно твоя идея, то… В общем… в таком случае – а не пошел бы ты на хер, Отец Колкан.
В зале повисает нестерпимо долгое молчание.
А потом раздается голос Колкана, и голос этот дрожит от злости:
– ТЫ НЕДОСТОИН.
И тишину Престола мира вспарывают крики.
Шара борется с параличом – вскочить! Подбежать к Во! Но ничего не выходит – чудо Колкана пригвоздило ее к полу.
Она хочет кричать от боли вместе с Воханнесом, а он кричит все громче – это крик невыносимой, непредставимо ужасной боли, а Колкан все не унимается, и пытка длится и длится.
И тут оковы чуда спадают, и она снова свободна.
Шара садится и видит: Колкан стоит перед Воханнесом, прижав к его лбу длинный, обмотанный тряпкой палец. Воханнес дрожит, плоть его сотрясается, словно бы Божество вливает в него все новую боль и муку. Вот почему Колкан забыл о ней!
«Беги к нему!» – взывает часть ее.
Другая говорит: «Он отвлек на себя Колкана, чтобы спасти тебя. Колкан настолько разгневан, что ты выпала из поля его зрения. Что же ты собираешься делать с этим шансом?»
Заливаясь слезами, она выдергивает руки из ослабевших веревок, закрывает глаза, вспоминает строки из Жугоставы и рисует в воздухе дверь.
Свист и щелчок – словно бы хлыстом стегнули. Она вступает в Кладовку и перестает видеть собственное тело.
Колкан поднимает взгляд. Воханнес падает на пол. Он бледен, как снег, и не шевелится.
Шара прикрывает глаза и затаивает дыхание: Кладовка Парнези пропускает звук.
Колкан неуклюже шагает вперед, поворачивая голову – обыскивает взглядом Престол мира. Шара чувствует, как на нее волной накатывает мощь, увлекая за собой в океанскую глубину… «Он ищет меня, пытается нащупать меня…»
Ей страшно до тошноты. Колкан всего в четырех футах от нее – какой же он огромный. И как же от него воняет падалью – смрад струится из-под всех этих его многослойных плащей…
– Я МОГ БЫ ОБРУШИТЬ ЭТОТ ХРАМ, – гудит его голос. – И СОКРУШИТЬ ТЕБЯ. ЕСЛИ ТЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ.
Он поднимает взгляд к потолку зала.
– НО МЕНЯ ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА.
И вдруг Колкан исчезает, словно бы его здесь никогда не было.
Шара все еще не решается вздохнуть. Она судорожно оглядывается: а вдруг он спрятался в каком-нибудь темном уголке?
И тут с неба колоколом гудит голос: «ЭТОТ ГОРОД СТАЛ ОБИТАЛИЩЕМ НЕДОСТОЙНЫХ».
– О нет, – ахает Шара.
Она смотрит на Воханнеса – как бы она хотела подойти к нему… «Правильно расставляй приоритеты, – рявкает в ее голове оперативник. – Потом нагорюешься…»
Она шепчет:
– Прости меня, Во.
Вскакивает на ноги и выбегает из храма.
* * *
Повсюду в Мирграде: на рыбных рынках и в переулках, на берегу Солды и в чайных – люди в изумлении таращатся на огромный белый собор, который ни с того ни с сего соткался в чистом воздухе. И подпрыгивают на месте, услышав гулкий Колканов голос. По улицам разносится:
– ВЫ НАРУШИЛИ БЕСЧИСЛЕННЫЕ ЗАКОНЫ!
Дети перестают играть и замирают, прислушиваясь.
– ВЫ ВОЗЛЕГАЛИ ДРУГ С ДРУГОМ С РАДОСТЬЮ.
Подметальщик с метлой в руках медленно поворачивается и устремляет взгляд в небо.
– ВЫ КЛАЛИ ПОЛЫ ИЗ БЕЛОГО КАМНЯ.
Пожилые люди в клубе «Гошток-Солда» озадаченно смотрят друг на друга, а потом на бутылки вина и виски.
– ВЫ ЕЛИ ЯРКИЕ ФРУКТЫ, – гремит голос, – И ОСТАВЛЯЛИ ИХ СЕМЕНА ГНИТЬ В КАНАВАХ.
В парикмахерской рядом с Солдой брадобрей от неожиданности сбрил ус пожилому клиенту. Тот тоже ошарашен услышанным и пока ничего не заметил.
– ВЫ ХОДИЛИ ДНЕМ, – гудит голос, – НЕ ПОКРЫВАЯ ПЛОТЬ. ВЫ ЖИВЕТЕ С ПЛОТЬЮ ОТ ПЛОТИ. ВЫ РАЗГЛЯДЫВАЛИ ТАЙНОЕ И ПОЗНАЛИ ТО, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ СКРЫТО. Я ОПЛАКИВАЮ ВАШИ ГРЕХИ!
В лечебнице Семи Сестер капитан Незрев, весь обмотанный бинтами, откладывает трубку и кричит сестрам:
– Какого хрена? Что тут творится?!
– ВЫ СБИЛИСЬ С ПУТИ ПРАВЕДНОСТИ, – гремит голос.
Потом наступает молчание. А потом:
– Я НАСТАВЛЮ ВАС В ИСТИНЕ.
Мирград заливает охряной свет. Люди прикрывают глаза ладонями, отворачиваются от окон…
А когда они снова поднимают взгляд, то видят, что город изменился: целые кварталы подвинули, чтобы освободить место для…
Старушка на углу улиц Святого Гоштока и Святой Гиели падает на колени в благоговейном ужасе и бормочет:
– Во имя всех богов… во имя всех богов…
…величественных, потрясающе красивых белых небоскребов с выложенными золотом фасадами. Они похожи на гигантских белых цапель, бродящих в сером болоте современного Мирграда.
– ВЫ ОСТАВИЛИ МОЕ УЧЕНИЕ, – снова вступает голос. – Я ВЕРНУЛСЯ, ДАБЫ НАПОМНИТЬ ВАМ ОБ ИСТИНЕ. ВЫ БУДЕТЕ ОЧИЩЕНЫ ОТ ГРЕХА. ВЫ ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ИСКУШЕНИЙ.
На улице Святого Василия поднимается ветер. Словно бы во сне десятки прохожих вдруг стекаются к центру улицы, выстраиваются плечом к плечу, лицами к северу. Матери, отцы, сыновья и дочери – они не откликаются на жалобные клики друзей и близких, когда те в ужасе пытаются дозваться до них.
Ветер усиливается. Граждане Мирграда закрываются ладонями и отворачиваются. Слышится звон и звяканье, словно бы ветер гонит вниз по мостовой сотни металлических пластин. А когда люди опускают ладони и поднимают взгляд, они не верят собственным глазам.
Там, где стояли обычные прохожие, выстроились в боевые порядки пять сотен солдат в полном доспехе. Толстые блестящие латы покрывают каждый дюйм их тела: они настолько толсты, что воины напоминают ожившие брони. С наверший шлемов ужасающе скалятся демоны, мечи их огромны, длиной чуть ли не в шесть футов, и по клинкам их струится холодный огонь.
И только Шара Комайд, со всех ног бегущая к посольству, видит в них что-то знакомое: впрочем, разве это не она попросила Сигруда разодрать картину из кабинета ГД Труни?
Над улицей разносится голос Колкана:
– ВЫ ПОЗНАЕТЕ БОЛЬ, И ЧЕРЕЗ БОЛЬ ВЫ ПОЗНАЕТЕ ПРАВЕДНОСТЬ.
Солдаты разворачиваются к застывшим на тротуарах людям и поднимают мечи.
* * *
Завидев бегущую к укреплениям Шару, Мулагеш орет:
– Какого хрена? О чем вещает эта голосина?
– Это Колкан! – говорит Шара, пытаясь отдышаться.
– Бог, что ли?!
– Да! Он говорит о том, что нарушили его эдикты!
– Про белые каменные полы? Про то, что кто-то ел яркие фрукты? Ты серьезно?!
Солдаты помогают Шаре перелезть через заграждения.
– Да, это все его эдикты!
– Откуда взялись эти белые здания, чтоб им пусто было?
– Это Старый Мирград, – отвечает Шара. – Часть Мирграда, которая сохранила прежний вид. Он, похоже, втянул ее в наш мир и воткнул посреди обычных зданий!
– Я вообще… – Мулагеш пытается подобрать слова, – вообще ни хрена не понимаю, о чем ты. Ладно, проехали. А что он сейчас-то собирается делать? И что нам делать – вот что самое главное?
С улицы доносятся вопли и лязг железа. Мулагеш ставит ладонь козырьком и вглядывается в даль:
– В нашу сторону люди бегут, – говорит она. – Что происходит?
– Тебе приходилось видеть картину «Ночь Красных Песков»? Ришны?
– Ну да…
– Ты помнишь, как выглядела на ней противостоявшая каджу армия Континента?
– Да, я… – И тут Мулагеш опускает ладонь и поворачивается к Шаре. Глаза ее наполняются ужасом.
– Да, – вздыхает Шара. – Похоже, Ришна рисовала их с натуры.
– Сколько? Сколько их?..
– Несколько сотен, – говорит Шара. – И Колкан в любой момент может наделать новых, если пожелает. Он же Божество, в конце концов. Но у меня, похоже, есть оружие, о котором он не подозревает.
Они с Мулагеш бегут вверх в кабинет. Шара выдвигает ящик стола и достает оттуда наконечник арбалетного болта из черного свинца.
– Вот, – тихо говорит она.
– И что это такое?
– Это металл, с помощью которого кадж убил Божеств, – поясняет Шара. – Он не подвержен божественному воздействию. Кадж пустил эту пулю в череп Жугову, когда казнил его. А теперь нам нужно выманить Колкана на открытое пространство, и тогда, возможно, кому-то удастся выстрелить в него. Как во время Великой Войны.
– Ну ладно… Так, даже если все, что ты говоришь, правда, – хмурится Мулагеш, – разве у каджа во время Великой Войны такие штуки не сотнями исчислялись?
– Мммм… да.
– А у тебя – только одна?
– Да.
– Ладно. И как мы его выманим?
– Ну…
– А что, если промахнемся?!
– Ну тогда мы… тогда нужно будет пойти и подобрать наконечник. Мне так кажется.
Мулагеш смотрит на Шару, словно глазам своим не верит.
– У меня не было времени составить подробный план! – восклицает та.
– А мне что теперь делать?!
– Я понятия не имела, что все это случится прямо сейчас!
– Так вот оно случилось и происходит! Прямо сейчас! И скажу откровенно, Главный дипломат: что-то мне не верится, что план сработает!
Пол вздрагивает. Снаружи раздаются вопли солдат. Шара и Мулагеш бросаются к окну – и успевают увидеть, как оседает, словно взорванное изнутри, четырехэтажное здание в десяти кварталах от них. Через тучу пыли и кучи мусора маршируют блестящие сталью фигуры, наставив огромные мечи остриями вверх.
– Они что, дома могут рушить на своем пути? – ахает Шара.
– Ну и как ты предполагаешь, – мрачно спрашивает Мулагеш, – справиться с этими ребятами?
Шара поправляет на носу очки:
– Что у нас с оружием?
– Обычные самострелы плюс пять небольших скорострельных пушек.
Мулагеш складывает большой и указательный пальцы кружочком:
– Ты их заводишь, и они стреляют вот такими кругляшиками, по две штуки в секунду.
– Покрупнее калибром пушек нет?
Мулагеш отрицательно качает головой:
– Нет. Условиями договора на Континенте запрещена передвижная крупнокалиберная артиллерия.
– А эти кругляшики смогут пробить доспехи этих… существ?
– Ну… это же божественные доспехи?
– Но, возможно, Колкан, – рассуждает Шара вслух, – не знает о существовании пороха?
– Очень не хотелось бы ставить этот эксперимент на себе. Я бы предложила отступить. Но эти существа, похоже, очень быстро передвигаются.
– И, даже если мы отступим, воздушные корабли никуда не делись, к сожалению… – замечает Шара.
Мулагеш неверяще смотрит на нее:
– Какие еще воздушные корабли?
– Нет времени объяснять. У нас телеграф работает?
Мулагеш снова качает головой:
– Перестал. Пару минут назад. Вообще все, что от электричества запитано, отключилось.
– Видимо, это все Колкан. Но я не думаю, что мы можем отступить, а еще я не думаю, что мы можем остаться. И предупредить Галадеш тоже не можем… – Шара трет виски.
«Всегда считала, что когда-нибудь придется умереть за родину, но чтоб так…»
Она оглядывается на выдвинутый ящик с глупой детской надеждой: а вдруг там завалялся еще один наконечник черного свинца?
Но вместо этого на глаза ей попадается кожаный мешочек. А в нем, как она прекрасно знает, – десяток с небольшим белых таблеточек.
– Хм… – И Шара вынимает мешочек и заглядывает в него.
– Если у тебя возникли какие-то соображения, – замечает Мулагеш, – мой тебе совет: думай быстрее.
Шара вынимает таблетку и взвешивает ее на ладони:
– Философский камень.
– Наркотик, который ты дала тому парнишке в тюрьме?
– Да. С его помощью можно общаться с Божествами. Но он также повышает эффективность некоторых чудес.
– И что?
«Это самоубийство», – думает Шара.
– Ну так и что? – снова спрашивает Мулагеш.
«А не воспользоваться этим шансом – тоже самоубийство».
И Шара неохотно отвечает:
– Так получилось… что я знаю много чудес. М-да.
* * *
– Значит, так! – выкрикивает Мулагеш. – Всем внимание!
В нескольких кварталах обрушивается еще одно здание, сайпурские солдаты нервно переглядываются, но Мулагеш невозмутимо продолжает:
– С самого детства каждый из вас мечтал вырасти и стать как кадж, правильно? Вы хотели сражаться в этих битвах, побеждать, как он, покрыть себя бессмертной славой? Так вот, напомню вам, мальчики и девочки, об одном историческом событии!
На берегу Солды что-то взрывается, и в небо между двумя белыми небоскребами выстреливает огненный шар двадцати футов в диаметре.
– Помните, почему Ночь Красных Песков назвали Ночью Красных Песков? Потому что кадж привел свою жалкую армию из сотни с небольшим освобожденных рабов в пустыню Хадеш, и там они встретились лицом к лицу не только с Божеством Вуртьей, но с пятью тысячами – слыхали, тысячами! – закованных в броню воинов Континента. Воинов, очень похожих на этих.
И она показывает на улицу, по которой шествуют серебряные фигуры и полосуют мечами людей, повозки, машины и здания – словом, все, что встречают на своем пути.
– Континентцы в десять раз превосходили их числом, армии стояли на равнине, и у наших предков не было ровно никакого стратегического преимущества! Любой вменяемый стратег сказал бы: все, им конец! Проклятие – даже я бы сказала: все, конец! Но они – победили! Потому что кадж прицелился из своей пушки с особым зарядом – и выстрелил Вуртье прямо в лобешник!
И Мулагеш для пущей иллюстративности стучит себе по лбу.
– В тот же момент Вуртья умерла, и доспехи континентцев – такие толстые, тяжелые, непробиваемые и в то же время чудесно легкие – вдруг налились обычной тяжестью! И их армию просто придавило весом собственной брони! Эти испуганные солдаты оказались совершенно беспомощны без поддержки своего Божества и глупо копошились под тяжестью сотен фунтов кованой стали! И армия каджа, эта толпа оборванных рабов и крестьян, которых всю жизнь били и унижали эти солдаты, прошла сквозь них, как нож через масло, и перебила их ножами, камнями и, мать твою, садовыми инструментами!
Один из кранов над мостом через Солду начинает качаться вперед и назад, как метроном, а потом падает в ледяную воду. Над городом кружатся верещащие стаи бурых скворцов.
– За ночь они перебили пять тысяч солдат! Они их растоптали, как давильщик виноградные грозди! Кровь текла рекой им по щиколотку! Вот почему, мальчики и девочки, ту ночь назвали Ночью Красных Песков!
Шара стоит посреди двора, пересчитывает пилюли и прикидывает нужную дозировку. «А вдруг я сойду с ума? А если Колкан ворвется мне в разум и растерзает меня? Или я просто рухну наземь мертвая, а мои люди умрут следом? А может, ничего страшного не случится, и я почувствую себя словно бы чая перепила?»
– А теперь – о текущей боевой задаче! – рявкает Мулагеш. – Да, нас до смешного мало! Но мы – обученные солдаты! И на нашей стороне – правнучка каджа, которая всего месяц назад расправилась с божественным чудовищем, разорявшим город! Вы, наверное, думаете, что попали в старинную легенду? Как бы не так! Вы станете легендой! Вы – герои, о которых будут слагать песни в веках! И вы – победите!
К вящему Шариному удивлению, солдаты разражаются свирепыми криками, а потом принимаются скандировать: «Ко-майд! Ко-майд! Ко-майд!»
Шара заливается пунцовой краской и бормочет:
– Ох ты ж батюшки…
– А теперь – все на батареи! – приказывает Мулагеш. – Целимся этим тварям в глаза, поняли? На них броня, но и в броне есть щелки!
Солдаты с боевым кличем бегут на укрепления. Мулагеш прогулочным шагом направляется к Шаре:
– Ну как тебе речь?
– Отличная, – кивает Шара. – Тебе за деньги их нужно толкать.
– Очень смешно, – отфыркивается Мулагеш. И выглядывает за ворота. – А эти твари знают, что мы здесь. На каждое здание они отряжают по дюжине бойцов, так что нам тоже достанется. Ты как, готова?
Шара колеблется:
– Это в пять раз больше того, что я вкатила парню в тюрьме.
– И что?
– Я не в курсе, как количество соотносится с качеством.
– И?
– Я хочу сказать, что, даже если это сработает, вполне может так случиться, что умру от передозировки.
Мулагеш пожимает плечами:
– Такое возможно, да. Добро пожаловать на войну. Но ты уж давай постарайся им вломить до того, как помрешь, хорошо?
– Как ты… как ты можешь так спокойно говорить об этом?
Мулагеш смотрит, как приближаются закованные в броню солдаты.
– Это как с плаванием, – говорит она. – Сначала ты думаешь: все, забыла, как на воде держаться, а потом прыгаешь и сразу понимаешь, что ничего ты не забывала. Так что, если вы готовы, Главный дипломат, – и она кивает на пилюли в ладони Шары, – самое время действовать. Потому что сейчас мы поймем, чего стоят наши пушки.
* * *
Латники выстраиваются в линию и переходят в наступление, маршируя с метрономной точностью. Сталь оглушающе брякает, по улице гуляет, отдаваясь от стен домов, эхо. Мулагеш взбирается на передовую батарею и кричит:
– Цель – крайне правый в шеренге!
Пушки медленно поворачиваются, нацеливая дула на самого крайнего латника. Тот никак не реагирует.
Мулагеш ждет, пока солдаты подойдут на расстояние выстрела, потом отмахивает рукой и ревет:
– Огонь!
Оказывается, выстрелы скорострельных пушек по звуку совсем не похожи на выстрелы – скорее, на визг большой пилы на лесопилке. Бронзовые гильзы радугой ссыпаются с батарей и со звяканьем катятся по камню двора. Шара смотрит, втайне надеясь, что латник просто взорвется, – но тот лишь замедляет шаг, а на его нагрудной пластине, лице и ногах появляются дырочки и вмятины. На ходу он звенит и скрежещет, как кухонный шкаф, набитый сковородками и кастрюлями.
Пушки поливают его огнем, латник наконец застывает, пошатываясь на искореженных ногах. Падает он лишь после тридцати секунд непрерывного обстрела. И тут же из дырок в броне, шумно хлопая крыльями, вылетает стая скворцов, а латы распадаются, словно бы держались на веревочках. «Скворцы, откуда они здесь? – удивляется про себя Шара. – Это же любимый фокус Жугова…» Идущий следом солдат бестрепетно переступает через разбитый доспех – смерть товарища явно не произвела на него никакого впечатления…
Мулагеш оглядывается на Шару и мрачно качает головой: мол, плохо дело.
– Продолжаем вести огонь! – приказывает она своим людям, и те поливают очередями наступающих солдат – латники замедляют шаг, но не останавливаются.
«Их десять, – думает Шара. – Чтобы всех расстрелять, нужно целых пять минут».
Латники уже в сотне ярдов от ворот. Ножной доспех звякает и брякает с каждым шагом.
– Давай, Шара! – кричит Мулагеш. – Мы не сможем их остановить!
Шара смотрит на горстку крохотных таблеток в ладони.
– Семьдесят ярдов.
– Давай же!
«Будь проклята моя злосчастная судьба», – думает она.
Запихивает таблетки в рот и проглатывает.
* * *
Шара ждет. Ничего не происходит.
Латники уже в пятидесяти ярдах.
– Ох ты ж, – бормочет Шара. – Ой, нет. Они не действуют! Я ничего не…
И осекается. Потом подается вперед, хватается за живот и прижимает ладонь ко рту.
– Я что-то… – и сглатывает. – Что-то я не очень себя…
Падает на колени, кашляет и извергает из себя бурный поток рвоты – причем рвет ее белым снегом, словно бы внутри у нее целый снежный пик, с которого сходит лавина, и эта лавина вылетает у нее изо рта, вместе с камнями, ветками и комками темной грязи.
Один из солдат брезгливо отворачивается:
– Во имя всех морей…
Мир вокруг Шары идет рябью. В уголках глаз вспыхивают яркие цвета. Небо подобно свитку, земля – смоле, белые небоскребы Мирграда пылают, как факелы.
«Ойойойойойойойоейей…»
Кожу морозит и жжет. Глаза горят. Язык не помещается во рту. Она кричит, кричит, орет, не переставая, секунд пять. Потом берет себя в руки.
– Посол? – наклоняется к ней Мулагеш. – С вами все в порядке?
«Это просто галлюцинации», – пытается она убедить себя.
На камнях проступают буквы: ЭТО ПРОСТО ГАЛЛЮЦИНАЦИИ.
Шара выдыхает:
– Какой интересный, однако, этот наркотик…
Но слова выговаривают маленькие ротики, открывшиеся на тыльной стороне ее ладоней.
– Как любопытно!
– Что ты сидишь! – Мулагеш выкрикивает слова, а они завиваются в воздухе огненными кольцами. – Давай действуй!
Шара смотрит на наступающих солдат. Пересчитывает их и выкрикивает:
– Девять! – Кстати, зачем она это кричит, непонятно.
Зато она видит, что латники – это ходячие клубки сложных чудес, но внутри брони – живые человеческие существа, насильно призванные Колканом на службу. «А когда броня не выдерживает, – догадывается она, – чудо тут же превращает их в скворцов и отсылает прочь. …Это очень в духе Жугова…»
Она бежит к укреплениям и кричит наступающим латникам:
– Что за доспех на вас? Он от Колкана? Или от Жугова? Какому Божеству вы служите?
Но они, конечно, не отвечают.
Тогда она разражается безумным хохотом:
– Аааа, постойте-ка! Постойте! Я забыла! Забыла! Забыла-забыла!
Двадцать ярдов.
– Что забыла? – орет Мулагеш.
– Я забыла, что знаю, как пользоваться Свечой Овского! – радостно орет Шара в ответ. – Я об этом читала!
И она разворачивается ко взводу латников – «пугала», думает она – и припоминает природу чуда: «Все сердца подобны свече. Сосредоточься на свете твоего, и он сметет все преграды».
Шара представляет наступающих латников в виде металлической стены.
И тут по доспехам солдат бежит золотисто-медовый огонек. А потом…
Словно бы огромный столп горящего ветра бьет в них: солдаты раскаляются докрасна, тают…
…и вдруг вверх взлетает гигантская стая щебечущих и посвистывающих скворцов. Они мечутся в ущелье улиц и устремляются к небу, подобные темной грозовой туче, роняющей коричневые перышки.
Латники обвалились на землю, образовав хлюпающее озеро расплавленного металла. Только ступни остались нетронутыми, и они торчат из блестящих желто-красных волн, как девять пар позабытых металлических сапог.
Шара таращится на собственные ладони. На них крупными буквами написано: ТВОЮ МАМАН, ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
– Твою маман, получилось! – орет Мулагеш.
Солдаты поддерживают ее воплями радости и удивления и колотят самострелами по стене посольства.
Еще три латника разворачиваются и маршируют к ним. Пушки осыпают их очередями, металлические солдаты содрогаются, как от холода, но не останавливаются.
И тут Шару посещает безумная мысль: «Чудеса – они же как официальный запрос. То есть ты распечатываешь бланк, заполняешь его и подаешь в нужное окошко! И получаешь нужный результат! Но ведь это необязательно делать каждый раз! Можно же и на ходу что-то придумать, просто нужно правильно все делать!»
– Про что это она там орет? – недоверчиво переспрашивает Мулагеш.
– Про какие-то официальные бланки… – ошарашенно отвечает ей солдат.
Шара упирает палец в крайнего левого латника. «Ты – человек, на котором надет доспех, – думает она, – но доспех этот – он же из ложек!»
И латник рассыпается, как песочный замок, который слизнула волна, и обрушивается кучей звенящих металлических ложек. Взлетает новая скворцовая стая, устремляясь в темнеющее небо.
Шара разражается хохотом, хлопая в ладоши, как ребенок, которому показали фокус.
– Какого хрена? – хмурится Мулагеш.
Шара тычет пальцем в следующих двух солдат, крича: «Ложки, ложки!» – и оба латника тоже рассыпаются. Щебеча, вспархивают, как с потревоженной ветки, скворцы.
– Это же просто! – кричит Шара. – Это просто, нужно только понять, как это работает! А я раньше не знала! Это как с телом – там столько мускулов, сгибай не хочу, а ты просто про них не знаешь!
И тут небо смаргивает, словно бы оно – большой бумажный задник, и к нему только что кто-то подошел из-за сцены. Кто-то очень большой.
И только Шара чувствует, как дрожит воздух.
В ухо ей втекает тихий голос Колкана: «Олвос? Это ведь ты?»
Улыбка изглаживается с лица Шары.
– Ох ты ж, – говорит она. – Ой, мама.
– Что такое? – вскидывается Мулагеш.
Голос внутри Шариной головы спрашивает: «Олвос? Что ты делаешь? Почему ты не помогла нам?»
– Да что происходит? – нетерпеливо спрашивает Мулагеш.
– Он знает, что я здесь, – отвечает Шара. – Колкан знает, что я здесь.
* * *
– А ты уверена, что это не очередная галлюцинация? – спрашивает Мулагеш.
Голос настойчиво зовет: «Олвос? Сестра-супруга? Почему ты прячешься от меня? От нас?»
– Я уверена, – вздыхает Шара. – Не думаю, что стала бы галлюцинировать на эту тему…
– И что ты собираешься делать?
Шара трет подбородок.
– Мне нужно возвести собственные укрепления на случай штурма.
Она разворачивается к городу. Думает: «С чего вдруг он решил, что я – это Олвос?»
В ее разум как будто просовывается чья-то рука и пытается схватить эту мысль.
«Олвос? – зовет голос. – Это ты? Тебе так же больно, как нам?»
Ей нужно очистить свой разум. Нужно очистить свой разум.
Начнем с физической реальности вокруг: латники – существа, обладающие физическим телом. И она раскатывает улицу, идущую вдоль стен посольства (сайпурские солдаты ошарашенно наблюдают за тем, как исчезают камни мостовой и асфальт), и наполняет ее ледяной водой. Водой такой холодной, что от нее трескается металл…
Теперь перед посольством колеблется густая лента тумана. Два латника выходят из развалин лавки. Скорострельные пушки дают по ним очередь, а потом солдаты входят в озеро змеящегося морозного тумана. Слышится шипение быстро сжимающегося металла, и латники мгновенно покрываются тонким слоем льда. От следующего залпа их броня взрывается дождем зеркальных осколков, и в небо взлетают сотни скворцов.
Голос – или два голоса? – внутри головы спрашивает: «Почему ты сражаешься против нас? Разве ты совершила какой-то проступок?»
«Мне нужно возвести защиту, – думает Шара. – Мне нужно изгнать его из головы».
Надо же, оказывается, информация поступает к нам по множеству каналов, но они зачастую совершенно несовместимы… Через антенну не пошлешь телеграмму, а радиоприемник не сладит с обычным документом – хотя и то и другое несет информацию… так же и человеческий мозг: у него так мало каналов… так мало антенн, приемников… Но мозг Шары вдруг обзавелся несказанным числом дополнительных антенн и приемников, и вся информация, которую она считала сокрытой, теперь непрерывным потоком струится ей в разум.
Шара смотрит на Мирград и видит механизмы за задником реальности, все эти колесики, шестерни и стойки. А еще она видит, что все это переломано и пришло в негодность. Как же сложно был устроен этот город до Мига! Гораздо сложнее, чем кто-либо мог предполагать! «Значит, вот что сотворил Таалаврас, – думает она, – до того как умер… Цепочки чудес, замыкающихся на чудеса, которые и приводили в движение весь этот сложный механизм за сценой…»
И она принимается за работу: нужно выстроить убежище из обломков субреальности. Мулагеш и солдатам кажется, что Шара дирижирует невидимым оркестром, но они не видят, как она возвращает на место тяжелейшие конструкции, ибо Божественное скрыто от их глаз. «Словно возводишь пристройку, – думает Шара, – из обломков моста».
Голос в ее голове спрашивает: «Почему ты бежишь от нас? Почему ты покинула нас, Олвос?»
Шара удивляется: «Да что такое тут творится?»
Она закладывает дыру огромным обломком, и в тот же миг гаснет свет. И она видит…
…Колкана. Тот стоит перед ней в море тьмы, и его серые одежды идут рябью. «Они заточили меня, – шепчет он. – Заперли, сунули в крохотный уголок реальности, а я всего-то хотел помочь своим людям. …И тогда ко мне пришел Жугов. Он посетил меня в моей камере и сделал мне больно. Очень, очень больно…»
Колкан исчезает, и на его месте возникает худосочный человек в треуголке с колокольчиками и в шутовском костюме из меха. «А мне пришлось! – рычит он. В голосе его слышится писк тысяч разозленных скворцов. – Они нас убивали! Убивали наших детей! Сваливали тела наших детей во рвы, и они там гнили! Я должен был что-то сделать! Я должен был спрятаться!»
Видение исчезает. Шара все покрыта холодным потом и дрожит.
«Я должна закрыть от них свой разум».
Краешком глаза она видит, как приближаются новые латники, входят в туман и леденеют. «Огонь», – командует Мулагеш. Пушки расстреливают их в упор, над улицей порхают скворцы.
Разум Шары ощупывает невидимую преграду. Она практически видит прорехи в ней – через дыры просвечивает небо цвета желтого пергамента. «Там, снаружи, – думает она, – Колкан изменяет под себя реальный мир – и его божественная сила преобразует Мирград». Она хватается за другие детали божественного механизма и закрывает ими дыры, но тут же…
…снова появляется Колкан и говорит: «Ты была старше, единственная из всех, кто был старше меня. Я слушался тебя, Олвос. А когда ты ушла, я исполнился страха и спросил у своей паствы: что мне делать? Мне кажется, я совершил много ошибок, Олвос…»
Колкан исчезает, вместо него снова возникает худой человек в треуголке и сердито кричит: «Я искал тебя! Где я только не искал тебя, Олвос! Ты ведь тоже выжила, как я, а больше никто! Мне пришлось сымитировать собственную смерть, смотреть на то, как умирают мои создания, мои дети! Мне пришлось прятаться в жалкой клетке, где сидел Колкан, – годами! Годами!»
Шара пытается сосредоточиться.
«Жугов, выходит, тоже жив, – и эта мысль исполняет ее ужаса. Она заделывает и эту дыру. – Но ведь, когда стекло разбилось, оттуда вышел только Колкан?»
Так много маленьких дырочек… И в каждую может пролезть он… или они… или кем они там теперь стали…
«Мне его не остановить, – думает Шара. – Это просто временная защитная мера, я просто откладываю неизбежное, а в это время они жгут Мирград и убивают людей».
В ледяной туман заходят и застывают еще пятнадцать латников. Пушки Мулагеш разносят их в клочья. Над улицей, как мухи, кружат скворцы.
Колкан возникает перед ней: «Что же мне делать? Что же нам делать?» И исчезает.
Появляется Жугов, плюется слюной и рычит: «Убей их всех! Убей их за то, что они с нами сделали! Инцест, матереубийство, горе и ужас! Мое собственное потомство, мой родич из Благословенных пошел против нас и убивал нас, как скотину! Жги их! Жги!»
И тут она понимает: «Нет… Нет, это невозможно… Я ведь видела только одно Божество в зале Престола мира, слышала только один голос – разве нет?»
Звон и звяканье – это шагают новые латники. Скрежещут орудия. Верещат миллионы скворцов…
И тут небо идет рябью, подобно поверхности темного озера.
Над Мирградом разносится гулкий голос Колкана: «ОСТАНОВИТЕСЬ».
Армии закованных в броню солдат застывают на месте.
Шара чувствует, как обращается на нее взгляд гигантского ока.
Она смотрит на улицу перед посольством. В шести кварталах от ворот высится закутанная в плащ фигура. Она чувствует на себе изучающий взгляд.
Колкан склоняет голову к плечу. «ТЫ, – слышит она его голос, – НЕ ОЛВОС».
Шара лихорадочно пытается собрать что-то из божественных инструментов вокруг себя – надо защитить людей!
Колкан качает головой. «ТРЮКИ И УЛОВКИ», – говорит он.
По воздуху пробегает ощутимая дрожь. Из переулков выходят сотни латников, и все они выстраиваются на улице, ведущей к посольству.
«ВСЕ ЭТО ЛИШЬ ТРЮКИ И УЛОВКИ».
Море закованных в броню солдат разворачивается к посольству и приходит в движение.
– Нет, – шепчет Шара. – Нет, нет, нет…
И тут же на выстроенную ей защиту накатывает тяжелой волной чужая мощь: ледяная река растекается, уголок из божественных деталей скрипит и стонет под ее тяжестью, и самый ум ее трепещет. В череп, как в тонущий корабль, заливается безумие. Шара пытается отбиться. «Но я как жучок, – думает она, – который пытается удержать занесенную над ним ступню человека».
Ледяное озеро исчезает. Улицы запружены солдатами в блестящих латах. Трое подходят и обрушивают свои огромные мечи на стены. Клинки их рубят белый камень, сайпурские солдаты с дикими криками падают с батареи. И тут, к Шариному удивлению, малыш Питри Сутурашни с тоненьким боевым кличем вспрыгивает на покинутое укрепление и открывает огонь. Шара пытается защититься Свечой Овского, но из воздуха словно бы весь кислород высосали, и у нее не получается даже искры высечь.
Словно бы вокруг стены сдвигаются, давят, поднимается за дамбой вода, грозя перелиться через край…
«Я умру, как умерли бесчисленные сайпурцы до меня», – думает она.
Тысяча божественных воинов атакует ее невидимые стены.
«Меня раздавит божественная машинерия».
И тут один из сайпурских солдат вскрикивает:
– Смотрите! Там, в небе! Корабли! По небу плывут корабли!!!
Шара чувствует, как давление разом ослабевает. И обессиленно падает наземь, ловя ртом воздух.
Она заглядывает за парапет стены и видит, что Колкан тоже смотрит вверх: похоже, такой поворот событий застал врасплох и его.
Шара, давясь и кашляя, думает: «Нет, только не это! Они уже уничтожили Галадеш? Столько усилий – и лишь для того, чтобы под конец потерять все?..»
А потом она слышит, как солдат кричит:
– Это что – дрейлингский флаг на летучем корабле?
Мулагеш отвечает:
– Знакомый флаг. Это стяг короля Харквальда. Но что, провалиться мне на этом месте, тут происходит?
И Шара кратко поясняет:
– Сигруд.
* * *
Добрый корабль «Морнвьева», ранее имевший двадцать три матроса экипажа, теперь несет на палубе лишь одного безбилетника. «Морнвьева» режет килем облака и ветер, как сонное видение. Сигруд стоит у штурвала, попыхивая трубочкой, и правит на зюйд-зюйд-вест.
Сигруд смеется. Он уже давно не смеялся, даже забыл – как это, смеяться. Впервые за столько лет он стоит на палубе корабля с трубкой в зубах… Благословение, которого он уже не ждал.
«Нет ничего лучше, чем снова выйти в плавание».
На мачте висит здоровенная стальная пластина с очень большим кольцом. Раньше к нему были привязаны двадцать три каната – чтобы экипаж за борт не улетел. Теперь же там болтаются лишь двадцать три обрубленных конца, и они колотятся о сталь мачты под порывами жестокого ветра.
Честно говоря, захват корабля прошел как никогда просто и гладко: просто наводи пушку на следующий за флагманом корабль да стреляй (потом уже Сигруд решил, что корабль был вовсе не предназначен для того, чтобы стрелять из всех орудий, так что ему несказанно повезло, что судно не развалилось в воздухе от нагрузки), затем беги на палубу и, воспользовавшись переполохом, перерезай все канаты. А после становись за штурвал и легонько так корабль наклони…
Сигруд злорадно улыбается, припоминая, как, размахивая руками и ногами, падали сквозь облака черные фигурки, летя навстречу твердым объятиям матушки-земли.
Реставрационисты были готовы прозакладывать что угодно, что Сайпур не ждет атаки с воздуха. Что ж, они точно так же не ожидали воздушного боя.
Сигруд видит внизу посольство, и реку серебряных солдат перед ним, и гигантскую замотанную фигуру за ними.
Он задает кораблю курс и быстро бежит в трюм. Сигруд, конечно, не знал, что увидит внизу – уж такого он точно не ждал! – но пушки держал наготове. Хотя некоторым еще нужно прицел подправить.
«Цель прямо по курсу, – напоминает он себе. – Начало серебряной полосы – и дальше вниз».
– Огонь, – командует себе Сигруд.
* * *
Когда в разговор вступает шестидюймовка, грохот раздается такой, словно бы целая гора осела.
– Ложись! – орет Мулагеш, но Шара не слушает.
Она поворачивается к улице и вызывает толстую-толстую стену из мягкого снега. И приказывает ей повиснуть в воздухе.
Первые шеренги латников взрываются. Видимо, божественные доспехи способны уберечь много от чего, но на шестидюймовые пушки Божества не закладывались.
Ударной волной Шару и остальных сносит с батареи. Фасады зданий сечет осколками. Шрапнель влетает в снежное покрывало, замедляется и мягко падает на землю. Небо чернеет от скворцов.
В небесах раздается следующий залп, потом еще один, и еще, словно бы над головами у них бушует чудовищная гроза. Султаны взрывов расцветают вдоль улицы, все ближе и ближе к Колкану, который продолжает стоять, склонив голову к плечу, словно бы думая: «Это все очень необычно. Очень».
* * *
Сигруд с удовлетворением наблюдает, как его пушки разносят в клочья божественную армию. Он выравнивает курс «Морнвьевы», направляя ее прямо на закутанную фигуру. «У меня на борту пара сотен снарядов, – думает он. – Фейерверк получится за-ме-ча-тельный».
И тут он видит белое здание со стеклянной крышей – из Старого Мирграда, кстати. «Что эти небоскребы делают здесь?» – удивляется дрейлинг.
Подходит к борту и готовится.
– Возможно, я не выживу, – говорит он вслух. Потом пожимает плечами.
«Ну и ладно. Я всегда думал, что умру на палубе корабля».
Сигруд прыгает. Стеклянная крыша летит навстречу слишком быстро, он видит, как в ее сверкании отражается небо.
«Рука, – вдруг понимает он. – Рука больше не болит».
Небо раскалывается.
* * *
У Шары получается сесть как раз вовремя – чтобы увидеть, как дымную завесу над ними вспарывает стальной киль корабля. От борта отделяется крохотная черная фигурка и летит отвесно вниз на крышу белоснежного здания.
Колкан с любопытством наблюдает, как снижается металлический корабль, как летит прямо на него, как крылья задевают фасады домов, осыпая улицу дождем каменных осколков.
Шара понимает, что сейчас должно произойти. Она быстро вывешивает еще один слой снега, потом добавляет еще один и еще один и орет что есть мочи:
– Все прочь со стены! Все уходим со стены!
Колкан глядит на летящий на него нос корабля с некоторым изумлением, морщит лоб…
И тут мир вспыхивает.
* * *
Шара оглохла, ослепла и онемела… Вокруг звякает, брякает, грохает, трещит, верещит, хлопает, и она уверена, что это не из-за того, что она перебрала с психоделиками. Она слышит, как рядом стонет Мулагеш:
– Моя рука… моя рука… мать твою, рука…
Шара садится и оглядывается. Вот ворота – их выбило и перекрутило. А за ними – сплошное пламя и дым. А потом ветер медленно развеивает дымовую завесу.
Здания, лавки и дома вдоль по улице, ведущей к посольству, наполовину снесены и выпотрошены. Наружу торчат зубы балок, над обнажившимися фундаментами зияют внутренностями гостиные. Мостовая разбита в пыль, улица превратилась в каменистую, исходящую дымом канаву. На подоконниках, уличных фонарях, тротуарах сидят скворцы и молча смотрят на… что-то.
Колкан стоит посреди улицы, чуть согнувшись, полы плаща и укутывающие его тряпки развевает дымный ветер.
«Нет, – понимает Шара. – Это не Колкан».
Шара встает, вынимает наконечник черного свинца из кармана и, прихрамывая, идет вниз по улице к молчащему Божеству.
– Что, больно было? – кричит она.
Божество не отвечает.
– Ты впервые испытал на себе разрушительную мощь современной эпохи, – говорит она. – Возможно, современность отвергает тебя – так же, как и ты отвергаешь ее.
Божество поднимает голову, чтобы посмотреть на приближающуюся Шару. Но все так же молчит.
– Возможно, у тебя еще есть силы сражаться. Но, честно говоря, мне так не кажется. Этот мир не желает принимать тебя. А самое главное, ты не хочешь в нем оставаться.
Божество гневно заявляет:
– Я – БОЛЬ!
Шара встает перед ним и говорит:
– Но ты и удовольствие.
Божество колеблется и произносит:
– Я – ПРАВОСУДИЕ.
– Ты – разврат.
В ответ она слышит вызывающее:
– Я – ПОРЯДОК!
– Ты – хаос.
– Я – СПОКОЙСТВИЕ!
– Ты – безумие.
– Я – ДИСЦИПЛИНА!
– Ты – мятеж.
Дрожа от ярости, Божество выговаривает:
– Я – КОЛКАН!
Шара качает головой:
– Ты – Жугов.
Божество молчит. И хотя она не видит его глаз, она чувствует, что оно смотрит на нее.
– Жугов инсценировал свою смерть, правда? – говорит Шара. – Он увидел, что случилось с Континентом, и инсценировал свою смерть. Спрятался, а вместо себя послал двойника. Он же Божество обмана, трикстер в конце концов. В старинных рукописях сказано, что он прятался в оконном стекле, но я не понимала, что это значило, – точнее, до сегодняшнего дня не понимала. А когда я увидела место заточения Колкана – прозрачное оконное стекло…
Божество склоняет голову. По телу его пробегает легкая дрожь. А потом оно поднимает руку и раздвигает одежды.
Это Колкан: строгий человек из глины и камня.
Это Жугов: худой, смешливый человек в мехах и в шляпе с колокольчиками.
Они слились, переплетаясь, врастая друг в друга, сплавившись в единое целое. Голова Колкана с искаженным лицом Жугова на Колкановой шее, с одного боку одна рука, а с другого – раздвоенная конечность с двумя стиснутыми кулаками… Две ноги, но у одной ноги две ступни…
Оно смотрит на нее мутными, безумными глазами, пошатываясь и мучительно страдая. Жалкое подобие человеческого существа. А потом его лицо морщится и начинает плакать. Два рта кричат на два голоса:
– Я – все! Я – ничто! Я начало и конец! Я огонь, я вода! Я свет и я тьма! Я хаос и я порядок! Я жизнь и я смерть!
Оно оборачивается к разрушенным домам Мирграда:
– Слушайте меня! Прислушаетесь ли вы ко мне? Я ведь выслушивал вас! Выслушаете ли вы меня? Просто скажите, чем я должен для вас стать! Скажите мне! Пожалуйста, просто скажите! Скажите, пожалуйста!
– Теперь я понимаю, – говорит Шара. – Эта тюрьма была рассчитана только на Колкана, правда?
– Чтобы Жугов мог там укрыться, он должен бы стать Колканом, – выговаривает Божество. И зажимает ладонями уши, словно бы не желая слышать жуткую какофонию. – Слишком много всего, слишком много. Все в одном. Мне нужно было стать и тем и другим… Служить слишком многим людям… Слишком много, слишком… Мир – это слишком для меня… – И оно жалобно смотрит на Шару: – Я так больше не хочу.
Шара опускает глаза и смотрит на крохотное черное лезвие в своей руке.
Божество, проследив ее взгляд, кивает и произносит обоими ртами:
– Сделай это.
Несмотря на все, Шара не решается ударить.
– Сделай это, – повторяет Божество. – Я так и не сумел понять, чего им надо. Я так и не сумел понять, каким они хотели меня видеть.
Божество опускается на колени:
– Сделай это. Пожалуйста.
Шара обходит Божество, встает сзади и низко наклоняется. И приставляет черное лезвие к его горлу.
И говорит:
– Прости.
А Божество шепчет в ответ:
– Благодарю.
Шара берет его за лоб и проводит лезвием по горлу.
В тот же миг Божество исчезает, словно бы и не было его никогда.
Воздух исполняется грохота и стонов: сотни белых небоскребов рушатся, а бесчисленное множество скворцов с оглушающим щебетом взлетает в небо.
Хороший историк держит прошлое в голове, а будущее – в сердце.
Ефрем Панъюй. Об утерянной истории
Что посеешь
Шара лежит в горячей ванне, пытаясь ни о чем не думать. В комнате темно. Прозрачное белое белье липнет к коже. На глазах – повязка, не пропускающая свет, но Шара все равно видит взрывы цветного света и яркие миры, а голова гудит и бренчит от чудовищной мигрени. А еще ей кажется, что лучше бы она от этих философских камушков просто умерла: она не ожидала, что похмелье будет таким жестким и психоделичным.
Но еще Шара знает: то, что врачи вообще занялись ей, – большая удача. Больницы Мирграда переполнены ранеными и изувеченными. И только здесь, в госпитале при губернаторской штаб-квартире, Шаре с товарищами оказали помощь.
Она слышит, как открывается дверь, и кто-то в мягкой обуви входит в комнату.
Шара садится и хрипло спрашивает:
– Сколько.
Человек медленно опускается на стул рядом с ванной.
– Сколько? – снова спрашивает она.
Голос Питри отвечает:
– Больше двух тысяч.
Шара закрывает глаза под повязкой. Щеки обжигают слезы.
– Генерал Нур сообщает, что это, несмотря на все, еще неплохо, могло быть и хуже. В Мирграде много разрушений: я имею в виду те кварталы, что стояли на месте, где появились здания из Старого Миргарда. А потом большая часть этих новых зданий обрушилась, после того как вы убили Колкана.
– Это был не Колкан, – хрипло отвечает Шара. – Но, пожалуйста, ближе к делу.
– Ну, в общем, генерал Нур говорит, что две тысячи погибших – это еще небольшие потери, учитывая масштаб разрушений. Он думает, что вы отвлекли Кол… упс, он думает, что вы отвлекли на себя Божество, оно замедлило свое продвижение и горожане успели эвакуироваться. А еще много людей, как я это понимаю, были превращены в каких-то птиц. Через несколько часов после того, как Божество умерло, они стали превращаться обратно в людей: испуганных, замерзших и, мгм, совершенно голых.
– Серьезно?
– Ага. В холмах вокруг Мирграда вдруг материализовались несколько сотен голых человек. Им всем, конечно, грозило переохлаждение, хотя мы тут же собрали, одели их и оказали им медицинскую помощь. Нур спрашивает, есть ли у вас этому какое-то объяснение.
– Это обычный трюк Жугова, просто он проделал его с большим количеством народу, – кивает Шара. – Когда он хотел кого-то спрятать, то превращал человека в стаю скворцов. Я так понимаю, он хотел спасти людей от судьбы, уготованной им Колканом. Он принял их под свое покровительство, и они не погибли, а улетели в виде птиц. Но откуда тогда столько жертв?
Питри кашляет.
– Большинство погибли в обрушенных зданиях. Но также большие потери имели место в ходе эвакуации. Видимо, началась давка…
«Какое это нейтральное слово – „потери“, – думает Шара. – И приятное. Сидишь за столом, и не мертвый человек у тебя перед глазами, а просто циферка».
– Это же трагедия, Питри, – выговаривает Шара. – Чудовищная, ужасная трагедия.
– Да, да, но… Это же был их бог, правда? И он делал то, что они просили, разве нет?
– Нет, – резко отвечает Шара. И, подумав, добавляет: – И да.
– Генерал Нур в курсе, что вам требуется время для не столько физической, сколько… мгм… умственной реабилитации. Но он также попросил меня уточнить ее примерные, мгм, сроки.
– Тебя повысили в должности, Питри. Мои поздравления.
Питри снова смущенно откашливается:
– Ну как бы да. Я теперь помощник регионального губернатора. В основном потому, что большая часть сотрудников посольства и штаб-квартиры… нездоровы.
– Во время боя ты проявил себя с самой лучшей стороны. Ты этого заслуживаешь. Как себя чувствует Мулагеш?
– Состояние стабильное. Руку… спасти не удалось. Ее буквально перемололо. Но, по крайней мере, это была не правая рука.
Шара стонет.
– Но Мулагеш как-то спокойно к этому относится. И даже на больничной койке сигарету изо рта не выпускает. Все очень всполошились из-за этого, кстати, а ей хоть бы что. А вот Сигруд…
У Шары внутри все сжимается. «Пожалуйста, – быстро проносится в голове, – только не он…»
– Ему все доктора поражаются.
– Как это?
– Во-первых, потому, что он остался в живых, – объясняет Питри. – А пока они вынимали из него осколки стекла – кстати, их там целых три фунта набралось, представляете? – и шрапнель, они обнаружили…
Тут, судя по шелесту, Питри извлекает бумажный список:
– Вот. Четыре арбалетных наконечника, одну пулю, пять дротиков – это что-то такое экзотическое, из дикарского обихода…
«Это из Кивоса, – кивает себе Шара. – А я ведь говорила ему: позови доктора, позови доктора…»
– …шесть зубов, похоже акульих. Доктора пришли к заключению, что большая часть этих предметов оказалась в теле пациента в результате ранений и стычек, предшествовавших этому, мгм, сражению.
– Это правильное заключение. Он будет жить?
– Будет. Правда, ему нужно некоторое время полежать в больнице, но жить он точно будет. Он, кстати, вы не поверите, надеется на полное выздоровление. А еще он… такой… веселый.
– Веселый? Сигруд?
– Мммм, ну да. Спросил вот. Как у меня дела. Потом дал денег и попросил доставить ему… мгм… – тут Питри снова откашливается, – …женщину на ночь.
Шара изумленно качает головой: вот это да. Исчезнешь на пару дней, вернешься – а тут буквально все поменялось.
– Простите, что спрашиваю, – говорит Питри. – Но генерал Нур очень настаивал, чтобы я выяснил все касательно Божества, или Божеств, или…
Шара не отвечает. Она медленно опускается обратно в ванну.
– Даже если у вас нет конкретных соображений… даже если у вас есть только догадки относительно произошедшего… Уверен, он будет рад рассмотреть любую предоставленную вами информацию.
Шара вздыхает и погружается в воду. Теплая жидкость заливается в уши. «Пусть она смоет все воспоминания, – думает она. – Пусть унесет с собой». Итак, что она может сказать по поводу Жугова, спрятавшегося в стекле вместе с Колканом.
– Я полагаю, что именно Жугов погрузил Престол мира под землю своей божественной силой, – так он хотел обеспечить безопасность своего укрытия. Но, прежде чем проделать это, он послал фамильяра – возможно, мховоста в своем обличье – на встречу с каджем. Чтобы тот сдался. Кадж убил фамильяра, а когда это произошло, Жугов дотянулся до многих своих творений и уничтожил их… чтобы никто даже заподозрить не мог, что он все еще жив.
– Зачем бы ему это делать?
– Из мести, я думаю, – говорит Шара. – Он был весьма веселым Божеством, но обидчикам мстил неуклонно и изобретательно. Жугов знал, что у каджа есть оружие, над которым Божества не властны, так что он, похоже, решил выждать время и вернуться, когда ему уже ничто не будет угрожать. Я не знаю, как он планировал это сделать. Возможно, он устроил все так, что с ним мог вступить в контакт человек, посвятивший себя поискам бога, – это объясняет, во всяком случае, то, что он откликнулся Вольке Вотрову. Но это только догадка. Но я не думаю, что Жугов знал про побочные эффекты от пребывания в тюрьме Колкана.
– Что они сольются?
– Да. Изуродованное существо, с которым я разговаривала, сказало, что тюрьма предназначалась только для Колкана. Чтобы там остаться, Жугову пришлось медленно но верно сплавиться с Колканом – возможно, тот его поглотил. Они были абсолютно противоположными по темпераменту Божествами: хаос и порядок, сладострастие и целомудрие… И потом, ведь именно Жугов убедил остальных Божеств заточить Колкана. Конечным результатом стало безумное, сбитое с толку существо, которое умоляло о смерти.
– Нур хотел бы, чтобы я подтвердил, что больше никаких Божеств тут не появится.
– Я могу лишь с уверенностью сказать, что никто не знает, где на данный момент находится Олвос – последняя из выживших Божеств. Но ее никто не видел последние тысячу лет, так что я не думаю, что она представляет угрозу. Олвос не проявляла никакого интереса к делам этого мира, с тех пор как исчезла, а это случилось задолго до рождения каджа.
– А еще… мы бы хотели получить подтверждение тому, что другой человек не в состоянии получить способности, которыми вас наделили философские камушки…
– А вот насчет этого я не могу быть до конца уверена. Но, скорее всего, так и есть. С течением времени божественное начало покидает Континент, так что философские камни дают доступ каждый раз к меньшему резервуару силы.
– А что, раньше, во времена расцвета, на Континенте все так и происходило? Съел горсть таблеток – и все, ты наделен божественным могуществом?
Шара усмехается:
– На случай, если ты позабыл, Божество едва не раздавило меня, как букашку, когда я привлекла его внимание. Так что до божественного могущества мне было очень и очень далеко. Но да, именно так все здесь и происходило: сохранились свидетельства того, что священники и адепты принимали большое количество философских камней и совершали потрясающие воображение чудеса – и очень часто умирали вскоре после этого.
Шара трет лоб:
– Если честно, я им почти завидую.
Питри некоторое время молчит. А потом:
– Газеты в Галадеше… Они думают, вы г…
– Не надо про это, – говорит Шара.
– Но вы теперь зна…
– Я не желаю про это слушать. Они вообще там не понимают, что к чему. Они должны не праздновать, а скорбеть. Да, среди погибших большинство составляют континентцы. И да, это континентцы, введенные в заблуждение, не сознающие, что творят, освободили своего континентского бога и попросили его атаковать нас. Но меня до этого столько раз спрашивали, могу ли я помочь Континенту! Мне задавали этот вопрос до катастрофы, понимаешь? Думаю, когда я услышала эти просьбы, было уже поздно что-либо делать. Но меня предупредили, что это случится, а я предпочла действовать в рамках нашей стандартной политики. То есть не делать ничего.
– Нур обязательно поможет выжившим, Главный дипломат. Он очень серьезно относится к этой задаче. Сайпур поможет Мирграду пережить эту катастрофу.
– Пережить, – вздыхает Шара, опускаясь в воду. – Пережить – а дальше что делать?
Вода заполняет уши, заливает лицо, но в плеске и бульканье она слышит голос Ефрема Панъюя – да, это одна смерть из нескольких тысяч, вот только воспоминание о ней будет преследовать Шару до конца ее дней.
* * *
Три дня спустя Шара объезжает город вместе с исполнительным комитетом генерала Нура – проинспектировать, как ведутся восстановительные работы. Бронеавтомобиль подпрыгивает и лязгает на разбитых дорогах, усиливая головную боль, которая и не думает отступать. Еще она не может обойтись без темных очков – солнечный свет до сих пор режет глаза, и доктора говорят, что, возможно, с этим придется жить. Что ж, это по-своему логично: она видела нечто не предназначенное смертному взгляду, и ее увечье – наказание для преступившей запрет.
– Уверяю, абсолютной необходимости в вашем присутствии нет, – говорит генерал Нур, не скрывая неодобрения. – Мы все держим под контролем. Вам бы полежать еще, Главный дипломат Комайд, чтобы скорее поправиться.
– Это мой долг Главного дипломата Мирграда, – говорит она. – Я обязана следить за благосостоянием граждан вверенного мне города. И я буду ездить туда, куда пожелаю. А еще у меня есть личные причины для этой поездки.
То, что она видит, разрывает ей сердце: родители и дети в бинтах, полевые госпитали, переполненные ранеными, временные хибары, длинные ряды деревянных гробов, и среди них много совсем маленьких…
Где-то среди погибших затерялся Во.
«Если бы я раньше напала на след Вольки, – думает Шара, – этого бы не случилось…»
– Это как Миг, – говорит она вслух. – Так обстояло дело после Мига.
– Мы предупреждали, – негромко говорит Нур, заходя в палатку походного лазарета, – что вам не понравится то, что вы увидите.
– Я знала, что мне не понравится, – откликается Шара. – Но я обязана увидеть это своими глазами.
– Но все не так уж грустно. У нас есть помощники из местных жителей.
И Нур указывает в сторону, где суетятся бритые наголо и босые континентцы в бледно-оранжевых одеяниях.
– Эти люди буквально наводнили наши учреждения и в некоторых местах обходятся уже совершенно без нашей помощи. Это бесценный дар судьбы, должен сказать. Они очень нам помогают, пока не прибыла помощь из Галадеша.
Одна из олвостанских монахинь – невысокая, крепко сбитая женщина – поворачивается к Шаре и низко кланяется.
Шара отдает ответный поклон. И обнаруживает, что плачет.
– Главный дипломат! – Генерал Нур удивлен и встревожен. – Вы?.. Вас отвезти обратно в посольство?
– Нет, нет, – мотает головой Шара. – Нет, со мной все в порядке.
И она подходит к монахине, отвешивает еще один поклон и говорит:
– Я вам очень признательна за все, что вы делаете.
– Не за что, – отвечает та. У нее очень добрая улыбка. И глаза – большие и странного цвета – красно-карие, как янтарь.
– Пожалуйста, не плачьте. Почему вы так плачете?
– Я просто… Это так замечательно, что вы пришли нам на помощь, когда никто вас не звал.
– Но нас позвали, – удивляется монахиня. – Нас позвало страдание. И мы пришли. Пожалуйста, не плачьте.
И она берет Шару за руку.
Ладони ее касается что-то сухое и квадратное – записка?
Монахиня кланяется на прощание, и Шара присоединяется к свите генерала. А когда остается одна, быстро вынимает из кармана записку и читает:
Я ЗНАЮ ДРУГА ЕФРЕМА ПАНЪЮЯ.
ВСТРЕЧАЕМСЯ ЗА ВОРОТАМИ ШТАБ-КВАРТИРЫ ГУБЕРНАТОРА В 9.00. Я ОТВЕДУ ВАС К НЕМУ.
Шара подходит к костру палаточного лагеря и бросает туда записку.
* * *
За городом холодно, но не так холодно, как раньше. Пар идет изо рта по-прежнему, но облачко уже не такое большое. Значит, скоро весна. «Времена года сменяют друг друга, даже если бог умер», – думает Шара.
За стенами штаб-квартиры круглятся в звездном свете холмы, месяц еле просвечивает сквозь облака, а дорога извивается лентой цвета слоновой кости.
В темноте слышны шаги. Шара оглядывается – часовых нет, все правильно.
– Вы здесь? – спрашивает она темноту.
В ответ ей шепчут:
– Иди туда.
И на опушке леса кто-то поднимает свечу – и тут же гасит ее пламя.
Шара идет туда, где видела свет. Незнакомец откидывает капюшон, под капюшоном поблескивает бритая голова. Подойдя поближе, Шара узнает, кто перед ней, – та самая монахиня из лазарета.
– Кто вы? – спрашивает Шара.
– Друг, – отвечает та. И манит Шару: подойди, мол, поближе. – Благодарю за то, что пришли. С вами никого больше нет?
– Нет.
– Отлично. Тогда я провожу вас дальше. Пожалуйста, не отставайте. Этой дорогой ходили немногие, и она немного опасна.
– Куда вы меня ведете?
– К другому другу. Я вижу, что у вас много вопросов. Я знаю того, кто может ответить на некоторые из них.
Она разворачивается и ведет Шару в лес.
Лунный свет струится по плечам монахини, они все идут и идут.
– Вы можете мне еще что-нибудь сказать?
– О, я могу вам сказать гораздо больше, чем уже сказала, – отвечает монахиня. – Но вам от этого не будет никакого проку.
Шара сердито поджимает губы – выходит, нет проку и в том, чтобы вопросы задавать.
Тропинка изгибается, извивается и то и дело поворачивает. Шара уже начинает сомневаться в правильности своего решения: как она вообще позволила выманить себя из губернаторской штаб-квартиры? А потом она понимает: а ведь лес-то гораздо больше, чем казался вначале.
Тропа забирает вверх. Шара и монахиня осторожно перешагивают заваленные камнями борозды, перепрыгивают через известняковые ложа ручьев, пробираются через тесно растущие сосны.
Шара думает: «Когда это, интересно, они успели здесь сосны посадить?»
Дышит она с трудом, изо рта вырываются большие клубы пара. Они выходят на вершину каменистого холма, оттуда открывается заснеженный, молочно-белый в лунном свете пейзаж. «А я-то думала, что уже потеплело…»
– Что это за место?
Монахиня молча указывает: мол, идем дальше. Ее босые ноги оставляют крохотные следы на снегу.
Они спускаются и снова поднимаются на замерзшие холмы, переходят через замерзшую реку. Вокруг простирается алебастровый, бесцветный мир: завитки и прочерки лунного света на льду, черные тени. Но впереди, в сосновом леске приветливо мерцает алое пламя.
«Я знаю, где мы, – думает Шара. – Я читала об этом».
Они входят в лесок. У большого костра уложены два бревна, на которые можно присесть погреться, у ствола – каменная полка, на которой выстроились каменные чашечки и блестит оловянный простецкий чайник. Шара ожидает, что кто-то выйдет навстречу, возможно, выступит из-за ствола дерева, но на поляне ни души.
– Где же они? – спрашивает Шара. – И где тот друг, на встречу с которым вы меня привели?
Монахиня идет к каменной полке и разливает чай в две чашечки.
– Они еще не пришли?
– Они здесь, – говорит монахиня.
И сбрасывает свою хламиду. Спина ее обнажена, а под одеянием не обнаруживается ничего, кроме меховой юбки.
Она поворачивается и передает Шаре чашку: теплую, словно бы посудина грелась на открытом огне. «А ведь она всего лишь подержала ее в руке», – думает Шара.
– Выпей, – говорит монахиня. – Согреешься.
Но Шара не пьет и подозрительно оглядывает монахиню.
– Ты мне не веришь? – спрашивает та.
– Я вас не знаю.
Монахиня улыбается:
– Ты уверена?
Огонь костра отражается в ее глазах, которые вспыхивают, как оранжевые драгоценные камни. И, даже когда женщина отступает от костра, на лице ее сохраняется теплый, трепетный отсвет.
Свет во тьме.
Нет. Нет, нет. Этого не может быть.
– Олвос? – шепчет Шара.
– Умница ты моя, – улыбается монахиня и садится.
* * *
– Но как?.. – мямлит Шара. – Как?
– Ты не отпила, – говорит Олвос. – Попробуй, вкусно.
Шара, заинтригованная, отпивает из каменной чашки и обнаруживает, что Божество право: какой теплый, пряный настой, от него словно бы уголек в животе загорается и греет. И тут она понимает, что вкус ей знаком:
– Стойте… Это же… чай!
– Да. Сирлан. Из Сайпура. Мне он тоже пришелся по душе. Хотя, признаюсь, проще убиться, чем достать его.
Шара ошарашенно таращится на нее, на чашку, на костер, на лес за спиной. Потом выдавливает:
– Но я… я думала, ты ушла…
– Я и ушла, – невозмутимо говорит Олвос. – Обернись еще раз. Ты видишь Мирград? Нет. Так что я действительно ушла, и мне это очень нравится. Здесь мне хорошо, сижу, кругом тихо-спокойно, никто от раздумий не отвлекает.
Шара сидит и думает: «Неужели после всего, что случилось, я угодила прямиком в западню?»
– Ты, наверное, думаешь, – говорит Олвос, – что я заманила тебя сюда, чтобы отомстить.
Шара даже не пытается скрыть испуг.
– Что ж, я ушла, но я все еще Божество. И это – мои владения. – И Олвос похлопывает по бревну, на котором сидит. – Я с ними ни за что не расстанусь. А сердца тех, кто приходит сюда, открыты мне. Ты, Шара Комайд, правнучка Авшакты си Комайда, последнего каджа Сайпура, думаешь, не заманила ли я тебя сюда, чтобы уничтожить, воспользовавшись тем, что ты пришла одна и без охраны. Уничтожить в отместку за преступления твоей семьи, твои собственные и за бесчисленные беды, которые принесли ваши законы и войны.
Глаза Олвос ярко блестят, словно бы под веками у нее скрыты огненные кольца. А потом пламя в ее глазах угасает.
– Но это будет невероятно глупым поступком. Глупым, дурацким и бесполезным. И я даже немного разочарована, что ты подозреваешь меня в таких странных намерениях. В конце концов, я не зря покинула мир, когда Континент решил стать империей. Причем я ушла не только потому, что это было неправильно. Это было, прежде всего, недальновидно: ибо время всегда заставляет платить за ошибки. Даже если ошибаются… Божества.
Шара все еще не может поверить, что все это происходит на самом деле, а не снится ей. Но Олвос настолько выбивается из ее привычных представлений о Божестве, что она даже не знает что и думать: это действительно богиня? Тогда почему она ведет себя как рыбачка или портниха?
– Значит, поэтому вы покинули Континент? Потому что вам не понравилась идея Великой Экспансии?
Олвос достает длинную тонкую трубку. Подносит ее прямо к огню, раскуривает и смотрит на Шару, словно бы прикидывая, хороший ли она собеседник.
– Ты прочитала записки господина Панъюя, да?
– Д-да… Но как вы у…
– Тогда ты знаешь, что он подозревал, что разум Божеств отчасти контролировался – если можно так выразиться.
– Он думал… что имело место что-то вроде подсознательного голосования.
– Как грубо сказано… – замечает Олвос. – Но что-то в этой формулировке есть… Мы – Божества, точнее, мы были таковыми, Шара Комайд. Мы черпаем силу из сердец, разума и веры людей. Но перед тем, из кого ты черпаешь силу, ты – бессилен.
Олвос концом чубука чертит полукруг на земле:
– Люди верят в бога, – и она завершает круг, – а бог говорит им, во что верить. Это цикл, подобный возвращению воды в океан, которая потом испаряется, проливается дождем, который падает в реку, а та снова впадает в океан. Но есть одно отличие. У идей есть вес. Да. А еще они обладают напором. Когда идея рождается, она распространяется и становится все тяжелее и тяжелее – и в конце концов ей уже никто не может сопротивляться, даже Божества.
Олвос долго смотрит в огонь, обтирая землю с трубки большим и указательным пальцами.
– Идеи какого рода? – спрашивает Шара.
– Я впервые заметила это в Ночь Собрания. Я почувствовала, что разделяю идеи и мысли, которые мне не принадлежат. Я поступала определенным образом не потому, что хотела этого, но потому, что чувствовала – так надо. Я походила на героя истории, которую писал кто-то другой. В ту ночь я решила, как и другие Божества, что надо объединиться, основать Мирград и жить там в мире, – во всяком случае, мы считали, что это и есть мир и спокойствие… Но то, что произошло, меня очень встревожило.
– Тогда как у тебя получилось все бросить и уйти? – удивляется Шара. – Ты же была привязана, завязана на желания твоей паствы. Так как ты сумела покинуть мир?
Олвос одаривает Шару насмешливым взглядом: мол, а что, сама никак не догадаешься?
– Если только, – продолжает Шара, – сами люди не попросили тебя покинуть их…
– Именно так они и поступили.
– Но почему?!
– Ну, я думаю, что хорошо их обучила, – с гордостью говорит Олвос. И смотрит на Шарину чашку. – Батюшки, ты что, уже всю чашку опростала?
– Э-э-э… да…
– Ох ты ж!
И она, неодобрительно ворча, наливает Шаре еще чаю.
– Заварка была такой крепости, что дохлая лошадь бы ожила… Ну да ладно. Понимаешь, если действовать правильно – а ты не чужда политики и знаешь, о чем речь, – ситуация начинает воспроизводить саму себя. Я очень рано научилась не говорить со своими ребятами свысока, а ходить между ними, общаться с ними и на собственном примере показывать, что надо делать, – а не изрекать повеления. И однажды я сказала: ребята, а вы ведь можете делать все то же самое, глядя друг на друга: не нужна вам толстая книга предписаний, разъясняющая, что можно делать, а что нельзя, а нужны только опыт и решимость действовать. И когда я почувствовала, что эта идея набрала во мне нужный… напор, почувствовала, что меня тащит и волочет за ними и скоро утащит совсем, – тогда я поговорила с моими самыми преданными последователями, и они просто… – хитро улыбнулась Олвос: мол, представляешь? сама ушам своим не поверила! – они просто сказали, что, в принципе, во мне больше не нуждаются.
– Вы шутите!
– Нет, – отвечает Олвос. – Люди связаны с богом отношениями типа «ты мне – я тебе», а мы пришли к консенсусу, что эти отношения исчерпаны. Но подобная стратегия – задать определенный ход мысли, а потом самоустраниться – не всегда приносит хорошие результаты.
И она горько качает головой:
– Бедный Колкан. Он никогда толком не понимал ни себя, ни своих людей.
– Он говорил со мной. Сказал, что нуждался в тебе.
– Да, – грустно кивает Олвос. – Мы с Колканом были старшими. Мы первыми поняли, как это все устроено, – во всяком случае, мне так кажется. Но у Колкана всегда были проблемы с организацией процесса. Он позволял людям указывать ему, что делать, – я смотрела издалека, как он сидит и выслушивает их… Как я и сказала им напоследок, добром это все не кончилось.
– Так что вы считаете, что Колкан не несет полной ответственности за то, что натворил?
Олвос фыркает:
– Люди – такие странные существа, Шара Комайд… Они ценят наказание, потому что видят в нем признание важности своих действий – а значит, собственной важности. В конце концов – смысл наказывать за то, что не имеет никакого значения? Посмотри на колкастани: они реально считают, что мир существует единственно для того, чтобы вгонять их в краску, унижать, наказывать и испытывать! Все создано только ради них, родимых! Мир полон гадостей и боли, но все это исключительно ради того, чтобы они страдали! Так что Колкан всего лишь дал им то, чего они хотели.
– Но это же… безумие какое-то.
– Нет. Это – тщеславие. И я смотрела издалека, как другими Божествами овладевало такое же тщеславие, и они вставали на путь, ведущий к гибели и бедствиям – для них и их народов. Я предупреждала их, но они не обратили внимания на мои слова. Тщеславие никому здесь не в новинку, сударыня Комайд. И никуда оно не делось после того, как Божества покинули мир. Оно просто сменило место обитания.
– Перебралось в Сайпур, хотите сказать?
Олвос качает головой из стороны в сторону – и да и нет.
– Но сейчас мы стоим на перекрестке истории. И мы можем выбрать: прислушаться к нашептываниям тщеславия и идти дальше по той же дороге… или избрать совершенно новый путь.
– Поэтому вы обратились ко мне? Чтобы все изменить? – спрашивает Шара.
– Ну… – тянет Олвос. – Скажем так, сначала я обратилась… к другому человеку.
В костре что-то с шумом лопается, расшвыривая искры, которые с шипением потухают на земле.
– Вы обратились к Ефрему, да? – догадывается Шара.
– Да, – кивает Олвос.
– Вы подошли к нему, когда он рисовал на берегу реки. И поговорили с ним.
– Я сделала гораздо больше, – признается Олвос. – Да, я время от времени вмешиваюсь в ход истории, Шара Комайд. Впрочем, не то чтобы вмешиваюсь – скорее, подталкиваю в нужное русло. А Ефрему я помогла с исследованием. Направив его в нужную сторону, причем нужную ему самому. И время от времени контролировала, как идет дело.
– Он бы с удовольствием с вами побеседовал. Вот как мы сейчас.
– Не сомневаюсь. Он был таким умницей, к тому же умел сострадать, а это немало. Я думала, что у него получится как-то разобраться с недовольством, которое он вызвал. Но оказалось, что я ошибалась. Пожалуй, такой старый гнев можно выкорчевать только насилием. Хотя я продолжаю надеяться, что мы сумеем опровергнуть этот тезис.
Шара допивает чай и вспоминает, что же так обеспокоило ее, когда она читала дневник Ефрема.
– Это вы подложили ему на стол дневник солдата армии каджа? Потому что я хорошо знаю Ефрема: он ни за что не пропустил бы документ такой важности.
Олвос кивает с растерянным видом:
– Да, я. И это, похоже, мое самое главное упущение. Я надеялась, что он прекрасно поймет – это абсолютно секретные сведения. Но он не понял. Он решил, что этой информацией нужно поделиться со всеми… Он ведь думал, что особой правды не бывает. Он служил истине – как он ее понимал. Это было его главной добродетелью – и именно это привело его к гибели.
– Но… что такого особенного было в тех письмах? – удивляется Шара. – Черный свинец?
Олвос откладывает трубку:
– Нет, нет. Впрочем, отчасти и да… Хотя ладно. Вот смотри, тебе не кажется удивительным, сударыня Шара Комайд, что твой прадедушка сумел изобрести этот черный свинец?
– Он ведь ставил эксперименты на своей домашней джиннифрите, я правильно поняла?
– Да, – мрачно отвечает Олвос. – Это истинная правда. Но даже так, разве шансы на получение такого необычного материала не ускользающе малы, как тебе кажется?
Шара лихорадочно перебирает в голове все, что запомнила, но не находится с ответом.
– А тебе не кажется, – медленно произносит Олвос, – что создание черного свинца – это самое настоящее чудо?
Это слово сдвигает камушек в мозгу Шары, и он падает в море ее мыслей.
Ефрем писал: «Мы очень мало знаем о кадже. Мы даже не знаем, кем была его мать».
– А ведь отнюдь не все способны творить чудеса, – вкрадчиво говорит Олвос.
Между стволов деревьев пролетает легкий ветерок, и угли ярко вспыхивают.
Ефрем писал: «Джиннифриты застилали постели, подавали еду, наливали вино своим хозяевам… Я даже представить себе не могу реакцию публики, если станет известно, что каджу прислуживали именно таким образом…»
В костер медленно закатывается бревно, похожее на кита в море.
А вот еще, когда она говорила с Жуговым: «Мое собственное потомство, мой родич из Благословенных пошел против нас и убивал нас, как скотину!»
В костер, кружась, слетают снежинки и умирают над огнем.
– Благословенные были легендарными героями, Шара Комайд, – тихо говорит Олвос. – Потомками Божеств и смертных. Их удача была такова, что самый мир приспосабливался к их нуждам.
У Шары голова идет кругом:
– Вы… вы что же, хотите сказать…
– Думаю, никто не догадался, кто его мать, – задумчиво замечает Олвос, – потому что никто этого даже вообразить не мог.
* * *
– Ее звали Лиша, – тихо говорит Олвос. – Как и все потомки Божеств, она обладала собственной силой – небольшой, но все же. А еще она была милой и доброй. Спокойной. Умом не блистала, зато была очень отзывчивой. И очень хотела услужить батюшке.
Олвос делает затяжку.
– Священники Жугова из кожи вон лезли, чтобы обеспечить поддержку среди сайпурцев, потому что именно на поставках сайпурской пшеницы и винограда держался Жугостан. Поэтому он предложил сдать внаем, – тут она брезгливо морщит нос – мол, фу, как это вообще пришло им в голову, – свою дочь сайпурцу, который бы сумел обеспечить бесперебойность этих поставок. На время, конечно. Никакой сексуальной подоплеки тут не было – ее отдавали в услужение, вот и все. Но тут случилось нечто неожиданное для Жугова: его дочь и человек, которому ее отдали в услужение, полюбили друг друга.
Естественно, они держали это в тайне. Для всех она оставалась его… горничной.
Шара чувствует, как Олвос овладевает холодный гнев.
– А когда она родила ребенка, то все сочли подобное родство настолько ужасным и опасным, что не поставили в известность даже ребенка.
Шаре становится плохо.
– Кадж, – шепчет она.
– Да. Его отец умер, когда он был совсем юн. И ему никто не сказал, что божественная служанка в его усадьбе – его мать. Потому, наверное, что он возненавидел все Божественное, а его мать была милой и доброй, не слишком умной и не хотела расстраивать его. А потом случилось то, что случилось в Малидеши.
Что-то падает в снег и шипит. Это горячая слеза со щеки Олвос.
– И Авшакта си Комайд решил, что нужно что-то делать.
Олвос пытается заговорить снова, но не может.
– Значит, он пытал собственную мать, – говорит Шара, – чтобы отыскать способ убить богов.
Олвос с трудом кивает.
– И хотя кадж не знал этого, он был из рода Благословенных, поэтому действительно сумел изобрести то, что хотел, и свергнуть власть Континента.
– После того как убил свою жалкую служанку, естественно.
Шара зажмуривается. Она отказывается верить в это. Это слишком ужасно.
– Я так долго держала это в себе, – говорит Олвос. – Господину Панъюю я всего лишь сделала намек – но сказать никому не сказала. Но это хорошо – выговориться. Это хорошо – рассказать кому-то о том, что произошло с моей дочерью.
– Вашей дочерью? То есть вы и Жугов…
– Он был очень обаятельным мужчиной, – признается Олвос. – И хотя я видела, что он совершенно безумен, меня все равно влекло к нему.
– Очень хорошо вас понимаю, – кивает Шара.
– Жугов был умен и сразу понял, что к чему, когда на Континент вторглись войска каджа. Он понял, что в гордыне своей породил смерть Континента и других Божеств. А перед тем, как спрятаться в тюрьме Колкана, он отомстил – послал фамильяра, который рассказал страшному вражескому полководцу о том, кто была его мать.
– Понятно, – вздыхает Шара. – Кадж, после того как убил Жугова, впал в тяжелую депрессию, спился и умер.
– Горечь порождает горечь, – говорит Олвос. – Стыд порождает стыд.
– Ты пожнешь то, что посеял, – говорит Шара. – И что посеял, то и пожнешь.
Олвос улыбается:
– Ты цитируешь мои слова – это приятно.
Улыбка изглаживается с ее лица.
– Я так долго жила с этим знанием… И все эти годы я знала, что политическое равновесие и новая замечательная страна, двигающая вперед технический прогресс, – все это зиждется исключительно на лжи. Сайпур и Континент исходят взаимной ненавистью, совершенно не подозревая, что породили друг друга. Они не разделены, а связаны общей судьбой. Когда приехал Ефрем, я решила, что пора раскрыть этот секрет. Но ты же понимаешь, что это значит… для тебя.
Шара слышит собственное дыхание, и оно кажется ей очень громким. Еще она чувствует, как колотится кровь в сосудах на лбу и за ушами.
– Да, – слабым голосом отвечает она. – Это значит, что моя… моя семья…
Как сильно горит этот костер, у нее сейчас глаза вскипят…
– …что в нас течет божественная кровь.
– Да.
– Мы… мы – те самые существа, которых больше всего боится наша страна.
– Да.
– Вот почему Колкан и Жугов подумали, что я – это вы.
– Возможно, что и так.
Шара плачет – не от горя, а от злости.
– Значит, все, что я сделала в жизни, не в счет?
– Не в счет?
– Но ведь мир приспосабливается к желаниям Благословенных, разве нет? Он помогает им совершать великие деяния – не потому, что они на них способны, а в силу их природы. Значит, все, что я сделала, – это понарошку?
Олвос затягивается трубкой и выдыхает дым.
– Ты, конечно, позабыла, – говорит она, – что Благословенная кровь от поколения к поколению слабеет. А очень часто теряет силу буквально сразу.
Она меряет Шару взглядом горячих блестящих глаз.
– Сударыня Комайд, вы как считаете, у вас жизнь легкая?
Шара вытирает глаза:
– Н-нет…
– И что, ты получала все, что хотела?
Шара припоминает, как падал наземь бледный помертвевший Во.
– Нет.
– Ты считаешь, – спрашивает Олвос, – что это в ближайшее время может перемениться?
Шара отрицательно мотает головой. «Если и изменится, – думает она, – то только к худшему – могу что угодно прозакладывать, что так и будет…»
– Ты – не из Благословенных, Шара Комайд, – говорит Олвос. – И хотя ты приходишься дальней родственницей мне и Жугову, мир обращается с тобой как со всеми остальными, – то есть плюет на тебя с высокой башни. Считай себя везучей. А вот с твоими родственниками… не все так просто.
Холодный ветерок щекочет Шарину шею.
В костре опять что-то лопается, снопом летят искры.
– Поняла, – говорит она.
Олвос поглядывает на нее из-под полуприкрытых век, словно бы прикидывая, что она будет делать дальше.
– Я рассказала тебе много, очень много, Шара Комайд. Дала тебе бесценную информацию. Что ты собираешься с ней делать?
В разуме Шары бушуют и свиваются гнев, горечь и жалость, взрываются фейерверками, но это лишь поверхность – со своими завихрениями, дурацкими кувырканьями и лихорадочными порывами. А со дна пузырьком всплывает… мысль.
Олвос кивает:
– Отлично. Возможно, я мудрее, чем думала. Божества – они не всегда понимают, что делают. Может, мы такие же орудия в руках судьбы, как и смертные… И возможно, я выбрала Ефрема лишь затем, чтобы сюда приехала ты.
Шара дышит очень медленно:
– Я думаю, – говорит она, – что мне пора домой.
– Хорошо, – соглашается Олвос.
И чубуком трубки показывает на просвет между двумя стволами:
– Пройдешь между ними – попадешь к себе в спальню. Хочешь уйти – иди.
Шара поднимается и смотрит на сидящую Олвос, не зная, как поступить.
– Я увижу тебя снова?
– А ты хочешь меня снова увидеть?
– Я… мне кажется, это будет здорово, да.
– Что ж… И ты знаешь, и я знаю, что, если ты решишься на то, что я думаю, и у тебя все получится, твой путь уведет тебя прочь от этих берегов. А я не хочу покидать это место – я не раздаю указаний своим последователям, но все-таки за ними нужно приглядывать.
И она стучит трубкой по пальцу:
– Но, если ты когда-нибудь вернешься, я, возможно, сочту уместным встретиться с тобой.
– Отлично, – говорит Шара. – У меня остался всего один вопрос.
– Да?
– Откуда вы пришли?
– Откуда я пришла?
– Ты и остальные Божества – все вы. Откуда вы взялись? Вы существуете только потому, что люди в вас верят? Или вы… нечто другое?
Олвос с мрачным и печальным видом обдумывает вопрос.
– Это… это все непросто объяснить.
И она втягивает воздух сквозь зубы.
– Ты знала, что Божества обладают удивительным свойством переделывать реальность?
– Естественно.
– Не только вашу реальность. Не только реальность твоего народа – но и свою собственную. Каждый раз, когда люди верили, что я пришла из определенного места, я выходила оттуда – и совершенно не помнила о предыдущих подобных эпизодах – и о том, кем я была раньше.
Она делает вдох.
– Я – Олвос. Я извлекла горящий золотистый уголь этого мира из огня собственного сердца. Из своих слез я сотворила звезды, оплакивая солнце во время первой ночи этого мира. А родилась я, когда тьма этого мира настолько сгустилась, что высекла искру, – и этой искрой была я. Вот что я знаю о себе. И я не знаю, кем я была раньше, до того, как узнала все это. Я пыталась разобраться, понять, откуда я пришла изначально, но история, как ты, наверное, знаешь, похожа на винтовую лестницу, по которой идешь, и кажется, что поднимаешься, а на самом деле остаешься на месте.
– Тогда почему у сайпурцев никогда не было собственного Божества? Нам просто не повезло?
– Ты же видела, что произошло, Шара, – говорить Олвос. – И ты знаешь свою историю. Ты уверена, что вам не повезло, если у вас не было Божества?
Она встает и целует Шару в лоб. Губы у нее такие горячие, что обжигают кожу.
– Я бы сказала: удачи тебе, дитя, – говорит она. – Но я думаю, что ты сама разберешься, что тебе больше нужно.
Шара делает шаг в сторону от костра. И проходит между деревьями.
А потом оборачивается, чтобы попрощаться, но видит только пустую стену своей спальни. Она снова растерянно поворачивается – и видит собственную кровать.
А потом она садится на кровать и начинает думать.
* * *
– Турин? – шепчет Шара. – Турин!
Мулагеш с ворчанием приоткрывает один глаз.
– Во имя всех морей, – хриплым со сна голосом отвечает она. – Я рада, что ты нашла время зайти ко мне, но почему это нужно делать в два часа ночи?
Мулагеш уже не та – от веселой крепкой женщины ничего не осталось. Она сильно потеряла в весе за время пребывания в больнице, и у нее до сих пор синяки под глазами. Левая рука заканчивается чуть пониже локтя культей, обмотанной белыми бинтами. Она видит, как Шара смотрит на нее.
– Надеюсь, – Мулагеш поднимает изувеченную руку, – это не помешает мне плавать в Джаврате. По крайней мере рука, которой я стакан ко рту поднимаю, при мне.
– Ты как?
– Нормально. А ты как, девочка? Смотри-ка… живая. Это самое главное. А черные очки придают тебе… мгм… шарма…
– Живая, живая, – вздыхает Шара. – Турин… мне очень… в общем, мне жаль, и я бы хотела, чтобы для тебя это все…
– Ну хватит стонать-то, – говорит Мулагеш. – Я вот эти самые слова недавно сама произносила. Но обращены они были к мальчишкам и девчонкам, про которых я доподлинно знала – не выживут. А я – выжила. И благодарна за это. А ты себя не вини. Зато у меня теперь есть железная причина, чтобы просить о переводе.
Шара бледно улыбается.
– Так, одну секундочку, все же остается в силе? Меня переведут? В Джаврат, как и договаривались?
– Вполне возможно, вполне возможно, – кивает Шара.
– Так, ты говоришь про это как про пункт договора, который можно выполнить, а можно и вычеркнуть. А я не припоминаю, чтобы я подписывала договор. Я припоминаю, что я вот так вот ясно и четко сказала: «Если я это сделаю, то меня переведут в Джаврат», а ты, как я помню, ответила: «Хорошо». А что, у тебя какие-то другие воспоминания о том разговоре?
– Я попросила об ответных услугах кое-каких чиновников среднего звена в Министерстве, – говорит Шара.
– Что-то мне подсказывает, что сейчас начнутся всякие «и», а потом и «но»…
– Конечно.
И Шара поправляет на носу очки:
– А еще у меня через два часа поезд в Аханастан. А завтра я отплываю в Галадеш.
– И что? – подозрительно щурясь, спрашивает Мулагеш.
– Если я исчезну – ладно, скажу без экивоков… если меня тайно ликвидируют – во время путешествия или по прибытии в Сайпур, – тогда тебя отправят в Джаврат буквально через несколько месяцев.
– Если с тобой что сделают?!
– Но, если я все-таки останусь в живых, – продолжает Шара, – тогда многое изменится.
– Что именно?
– Например, Министерство иностранных дел.
– Каким образом оно изменится?
– Скажем, оно, возможно, перестанет существовать.
Где-то в соседней палате кто-то кашляет.
– А ты уверена, что ты головой не треснулась во время операции, а то знаешь как оно бывает…
– Я думаю, что у нас с тобой, Турин, была похожая работа, – говорит Шара. – Ты не должна была вмешиваться в дела Мирграда – потому что тут ничего не должно было меняться. А я постоянно вмешивалась в дела Континента, но для того, чтобы сохранить текущий статус-кво: чтобы Континент оставался нищим, а вся торговля сосредоточилась бы в руках сайпурцев. Континент оставим континентцам, – цитирует Шара по памяти. – Что значит – пусть он и дальше остается бедным, диким и никому не нужным.
– Не надо мне рассказывать, какая у нас тут политика. Я двадцать лет жизни угробила на ее претворение в жизнь. Так что ты собираешься делать?
– Я хочу все поменять. Но если я все поменяю, – говорит Шара, – то мне на Континенте понадобятся союзники.
– Твою ж маман!..
– В особенности они мне будут нужны здесь, в Мирграде.
– Твою мать!
– Потому что единственный человек, которому я доверю прикрывать мне спину, – говорит Шара, – это генерал Турин Мулагеш.
– Вообще-то я прежде всего губернатор. И я в чине полковника, кстати.
– Если я выживу и сделаю то, что запланировала, – говорит Шара, – не будешь больше полковником.
Мулагеш смаргивает и выдает злой смешок:
– Хочешь сделать из меня Сагрешу при кадже? Я же сказала – не хочу я продвижения по службе. Я хочу выйти из игры!
– Я собираюсь радикально изменить правила игры, – говорит Шара.
– Во имя всех морей… ты что, серьезно?
Шара делает глубокий вдох:
– Вообще-то, да. Я не знаю, сколько радикальных реформ мне удастся осуществить, – но я планирую множество. На прошлой неделе Министерство подвело нас. Тебя, Турин. Мирград. Результат – тысячи трупов.
– Ты… ты действительно считаешь, что у тебя что-то получится? Ты реально считаешь, что это возможно? А может, – тут Мулагеш хихикает, – ты просто наивная идиотка, а?
Шара пожимает плечами:
– Я на прошлой неделе бога убила. Что в сравнении с этим какое-то министерство?
– Ну, в принципе, да…
– Ты поможешь мне, Турин? Нас с тобой держали за слуг, и потому мы годами обслуживали политиков. А теперь я предлагаю тебе реальный шанс послужить родине.
– Твою мать… – и Мулагеш чешет шрамы на челюсти правой рукой и думает. – Ну ладно. Должна признаться, это интересное предложение.
– Я так и думала, что ты это скажешь.
– И вообще, я припоминаю, жалованье у генерала – раза в два побольше, чем у полковника…
Шара улыбается:
– Вполне можно себе позволить частые отпуска в Джаврате.
* * *
Шара тихонько пробирается по больничному коридору к комнате Сигруда.
«Неужели так и формируются правительства? Заваливаешься среди ночи в палату к раненому и требуешь от него немедленно принять решение…»
Она останавливается на пороге отделения и оглядывает море коек – на каждой лежит бледный белый сверток, у некоторых приподняты руки или ноги, некоторых вообще не видно под бинтами… Интересно, какое из ее решений уложило этих людей на больничную койку, и можно ли было этого избежать…
Из-за стены до нее доносится голос Сигруда:
– Я слышу тебя, Шара. Если хочешь зайти – заходи.
Шара открывает дверь и заходит в палату. Сигруд погребен под повязками, швами и трубками, из него вытекают и втекают какие-то жидкости, наполняя какие-то пакеты, толстый шов тянется через всю левую бровь к волосам, левая ноздря разодрана, а вместо левой щеки сплошное красное месиво. А так – Сигруд как Сигруд.
– Как ты узнал, что это я? – спрашивает она.
– По походке, – отвечает он. – Ты же маленькая, ступаешь как котенок.
– Буду считать, что это комплимент.
И она садится у кровати.
– Как ты?
– Почему ты не приходила?
– А тебе-то что?
– Ты думала, что я не захочу тебя видеть?
– Сигруд, которого я знала и с которым работала в течение десяти лет, плевал на все. Только не говори мне, что, разминувшись со смертью, ты решил изменить свою жизнь – потому что ты столько раз со смертью встречался, причем зачастую на моих глазах, и это не производило на тебя ровно никакого впечатления.
– Кто-то, – говорит Сигруд, – понарассказывал тебе обо мне всякой ерунды.
Он задумывается. Потом замечает:
– А знаешь, я даже не понимаю, что это на меня нашло. Просто, когда я прыгал с этого корабля, я, вообще-то, о будущем не думал – потому что считал, что сейчас убьюсь и помру. Но впервые мне было… хорошо. Я почувствовал, что вот, покидаю мир, и этот мир – хорош. Нет, он не замечательный, но хороший. А теперь я жив и могу еще пожить в мире, который может стать… хорошим.
Он пожимает плечами:
– Возможно, я просто снова хочу на корабле ходить.
Она улыбается:
– А как это отразилось на твоих планах на будущее?
– А почему ты спрашиваешь?
– А вот почему. Если все пойдет как я запланировала, я больше не буду обычным оперативником. Я вернусь в Галадеш и получу какую-нибудь должность. И перестану нуждаться в твоих услугах.
– Ты что же, бросаешь меня? Оставишь гнить на больничной койке?
– Нет. Но эта должность, которую я получу, она будет очень, очень важной. Я даже не знаю, как она будет называться, потому что для нее еще нет названия, и, если все получится, мне придется его придумать. Но мне понадобится поддержка, в том числе и за границей. Думаю, у меня будет верный союзник здесь, в Мирграде, но этого мало.
– А надо…
– Ну, к примеру, надо бы навести порядок в Северных морях…
Грусть на лице Сигруда сменяет неприкрытая тревога:
– Нет.
– А если, к примеру, человек, которого дрейлинги считали погибшим, вдруг вернется?
– Нет!
– А если переворот, в результате которого убили короля Харквальда, будет объявлен нелегитимным, а пиратов обуздают…
Сигруд барабанит пальцами по руке, кипя от злости. И молчит.
Что-то с тихим бульканьем стекает по одной из трубок.
– Ты даже не подумаешь над моим предложением? – говорит Шара.
– Даже когда отец был жив, – говорит Сигруд, – меня отталкивала сама идея… ну что придется править…
– Ну так я тебя и не прошу об этом. Мне, по правде говоря, никогда не нравились монархии. Я спрашиваю вот о чем, – медленно, но упорно выговаривает Шара, – я спрашиваю – если бы ты, Даувкинд, последний принц дрейлингских берегов…
Сигруд закатывает свой единственный глаз.
– …вернулся бы в пиратские государства, в эти Дрейлингские республики, причем с полной, абсолютно полной поддержкой Сайпура… – Вот тут Сигруд сразу прислушался. – …Ты мог бы начать, скажем, какие-то реформы? Разве это не облегчило бы положение дрейлингского народа?
Сигруд некоторое время молчит.
– Я знаю, – тут он запускает руку под повязки и чешется, – что если уж ты об этом заговорила, то это действительно серьезно.
– Еще как серьезно. Но это может случиться, а может и не случиться. Я возвращаюсь в Сайпур, но… я могу погибнуть.
– Тогда я должен ехать с тобой!
– Нет, – отрезает Шара. – Я тебя с собой не возьму. Отчасти потому, что я практически уверена в успехе. Но я также хочу, чтобы у тебя была своя собственная жизнь, Сигруд. Я хочу, чтобы ты ждал здесь, подлечился – неважно, получится у меня или нет. Если в Министерстве иностранных дел ничего не изменится, знай – я погибла.
– Шара…
– А если это случится… – тут она вкладывает ему в ладонь крохотную записку, – …то вот название деревни, где прячутся твоя жена и дочери.
Сигруд потрясенно смаргивает.
– Если я погибну, то вот тебе моя последняя воля: я хочу, чтобы ты вернулся к ним. Вернулся домой, Сигруд, – говорит Шара. – Когда-то ты мне сказал, что отец и муж, которого они знали, погиб, а огонь жизни в тебе потух. Но я считаю, что это чушь. И гордыня. Я думаю, что ты, Сигруд йе Харквальдссон, просто боишься. Ты боишься, что дети твои выросли и что близкие тебя не узнают. Или не захотят иметь с тобой дела.
– Шара…
– Сигруд, больше всего в жизни я хотела бы узнать своих родителей. Ведь я так хотела быть достойной их памяти… У меня не будет такого шанса, а у твоих детей он еще есть. И я думаю, что они с ума сойдут от радости, узнав, кто приехал.
Сигруд изумленно смотрит на клочок бумаги у себя на ладони.
– Я был не готов, – ворчит, – к такому штурму.
– А мне раньше и не приходилось тебя убеждать, – говорит Шара. – Теперь ты знаешь, почему я такой хороший оперативник.
– А что за чушь про Даувкинда… – сердится Сигруд. – Это же детская сказочка! Они же верят, что сын короля Харквальда какой-то… мгм… прекрасный принц! Рассказывают, что он выйдет из моря, оседлав гребень волны, да еще и на флейте при этом будет играть! На флейте, представляешь! А тут я такой заявляюсь…
– Ты сражался в стольких битвах, так почему же медлишь перед этой, решающей?
– Одно дело убивать, – говорит Сигруд, – а другое – лезть в политику.
Шара похлопывает его по руке:
– Я тебе обязательно дам кого-нибудь в помощники. И тут не все сведется к политике. Многие пиратские корольки, как я понимаю, вряд ли захотят добровольно отказаться от власти. Так что не бойся, Сигруд, твои боевые навыки еще понадобятся, и не раз.
Она смотрит на часы:
– Я опаздываю. Поезд отходит через час, и мне нужно подготовиться к моей последней встрече.
– Собираешься еще кого-нибудь запугать-застращать?
– Нет, никаких запугиваний, – мрачно говорит Шара, поднимаясь. – Это будут нормальные такие угрозы.
Сигруд осторожно прячет записку:
– Мы скоро увидимся?
– Возможно.
Она улыбается, берет его руку в свою и целует исполосованные шрамами костяшки.
– Если справимся, то на мировых подмостках встретимся как равные.
– На случай, если что произойдет с тобой или со мной, я хочу, чтобы ты знала, – говорит Сигруд: – Ты всегда была хорошим другом, Шара Комайд. А я знаю всего несколько хороших людей. И я думаю, что ты – одна из них.
– Ты же из-за меня пару раз чуть не погиб!
– Чуть не погиб… подумаешь! – И его единственный глаз вспыхивает в свете газовой лампы. – Чего не сделаешь для хорошего друга…
* * *
Рассветные лучи окрашивают стены Мирграда в персиковый цвет. Они надвигаются, вырастая над фиолетовыми полями, и поезд летит им навстречу. «Интересно, днем стены какого цвета? Алебастрового? – думает она. – Или цвета кости? Вот как его назвать, этот цвет? И что мне писать? И что я всем скажу?»
Визжат и фырчат колеса поезда. Она дотрагивается до окна, в стекле призрачно отражается ее лицо.
«Я не забуду. Ни за что не забуду».
Она не заедет в Мирград: железнодорожная ветка идет прямо в штаб-квартиру губернатора Аханастана. Поэтому она не увидит проседающий храм Престола мира. Не увидит краны над мостом через Солду. Не увидит, как строители выкапывают из мусорных куч древний белый камень – камень Божественного города. И не увидит, что они с ним сделают. Она не увидит, как кружат над дымными столбами голубиные армады, приветствуя новый день. Она не увидит, как на рынке раскатывают циновки, раскладывают на них товар, как бродят по улицам торговцы, громко выкрикивая цены, – словно бы ничего не произошло в этом городе…
«Я тебя не увижу, – говорит она городу, – но всегда буду помнить».
Стены все растут и растут, приближаясь, а потом пролетают мимо – и начинают уменьшаться за спиной.
«Когда я вернусь к тебе, – думает она, – если вернусь, узнаю ли я тебя? Не останешься ли ты таким лишь в моей памяти? Может, я приеду и тебя не узнаю?»
Она могла те же вопросы задать Галадешу: родному городу, где прошла ее жизнь. Городу, который она не видела целых шестнадцать лет. «Узнаю ли я его? Узнает ли он меня?»
Стены ужались до крохотного цилиндра бело-персикового цвета, банки, плавающей на черных волнах.
«Пусть все и уйдет в прошлое, – говорит она им, – но я не забуду».
* * *
Она ждет больше двух часов. Пока корабль не слишком качает – так, легонько переваливает с боку на бок, но очень скоро они выйдут в открытое море, и волны основательно их потреплют.
У нее достаточно просторная каюта – лучшее из того, что может предложить торговое судно. Она пообещала за нее щедрое вознаграждение от Министерства по возвращении в Галадеш. «Пенни за фунт, – размышляет она. – Дороже груза этот торговец еще не возил…»
Она смотрит в иллюминатор. С той стороны волнуются Южные моря, но в стекле отражается большой темный офис и тиковый письменный стол.
Наконец в офис входит тетушка Винья, вся встрепанная и замученная. И принимается яростно перебирать бумаги на столе, выдирать ящики, грохотать дверцами.
– Где оно? – бормочет она. – Где оно? Эти вопросы, эти проклятые вопросы!
Она хватает стопку бумаг, проглядывает их – и сердито вышвыривает в мусорное ведро.
– Похоже, – говорит Шара, – встречи прошли не очень-то гладко.
Винья резко вскидывает голову и озадаченно смотрит на Шару в окне.
– Ты…
– Я.
– Ты что делаешь? – приходит в себя Винья. – Да тебя арестовать за такое мало! Чудо на Континенте? Это государственная измена, чтоб ты знала!
– Что ж, тогда очень хорошо, что я уже не на Континенте.
– Что?!
– Это, как нетрудно заметить, вовсе не мой кабинет. – И Шара обводит рукой каюту. – Ты видишь меня в каюте судна, идущего по Южному морю. Курсом, естественно, на Галадеш.
Винья открывает и закрывает рот. Но продолжает молчать.
– Я возвращаюсь домой, тетя Винья, – говорит Шара. – Ты не можешь больше удерживать меня за границей.
– Я… еще как могу! Только попробуй вернуться! Я тебя тут же в тюрьму упрячу! Да я тебя под изгнание подведу! Неподчинение приказам Министерства иностранных дел – это измена! И мне… Мне плевать, что ты тут у нас известная личность, ты даже представить себе не можешь масштаб моих полномочий! Я тебя закопаю и мне слова никто не скажет!
– И что же это за полномочия, тетушка?
– Я имею право ликвидировать любые угрозы Министерству иностранных дел, не консультируясь ни с кем и в режиме полной секретности, я никому не подотчетна! Никакой надзорный орган, мать его, мне не указ!
– Значит, именно это, – медленно выговаривает Шара, – случилось с доктором Панъюем?
Праведный гнев Виньи мгновенно улетучивается. Она поникает, словно бы из нее вынули спинной хребет.
– Ч-что?
– Я бы на твоем месте, – говорит Шара, – присела.
Но Винья, похоже, не в силах двинуться с места – слишком ошарашена.
– Ну, как хочешь, – пожимает плечами Шара. – Я буду краткой. Скажем так. У меня есть впечатление, что где-то среди телеграмм и приказов и прочих исходящих сообщений Министерства – во всех этой куче совсекретных, не предназначенных для посторонних глаз, никем не досматриваемых и технически не существующих депеш – есть приказ какому-нибудь не слишком разборчивому бандиту на Континенте. Который уведомляет его об угрозе национальной безопасности в лице доктора Ефрема Панъюя в университете Мирграда, и что он или она уполномочены ликвидировать его без лишнего шума, а также обыскать офис и библиотеку и уничтожить все конфиденциальные материалы.
Шара поправляет очки:
– Ведь так?
Лицо Виньи заливает смертельная бледность.
– Ты ведь и эту беседу хочешь завершить таким же образом, правда, тетушка? – говорит Шара. – Но ты хочешь знать, что я знаю и как я это узнала. Ты хочешь узнать, знаю ли я, к примеру, почему доктора Панъюя назначили национальной угрозой, – точнее, знаю ли я, что ты это сделала по очень личным причинам.
Шара ждет, но Винья молчит и не шевелится. Только на щеке жилка дрожит, но, может, ей кажется.
– А я знаю, – безжалостно продолжает она. – Я знаю, тетушка. Я знаю, что ты – из числа Благословенных, Винья. Я знаю, что ты – потомок твари, которая снится в кошмарах добропорядочным сайпурским гражданам.
Винья смаргивает. По щекам у нее текут слезы.
– Ефрем Панъюй за время пребывания в Мирграде дознался об истинных родственных связях каджа, – говорит Шара. – И он, будучи честным и ответственным сайпурским исследователем, отослал тебе отчет – не подозревая, что тем самым подписал себе смертный приговор. Потому что для него истина всегда оставалась истиной, и было немыслимо скрыть ее.
Винья, успешно сопротивлявшаяся возрасту почти пятнадцать лет, опускается в кресло медленно-медленно, как настоящая старуха.
– Естественно, тебе это не понравилось, – говорит Шара. – Как и каджу – он тоже очень расстроился, когда об этом узнал. А Ефрем, естественно, планировал предать огласке результаты исследования: в конце концов, он же был историк, а не шпион. Поэтому ты и среагировала на него, как на угрозу национальной безопасности. И приказала его, как вы говорите, ликвидировать.
Винья сглатывает слюну.
– Это ведь так, тетушка Винья?
Винья целых полминуты пытается заговорить и не может. Наконец она выдавливает из себя тихое:
– Я… я просто хотела, чтобы это исчезло. Хотела жить дальше так, словно бы я этого не слышала.
Иллюминатор покрыт солеными брызгами. На палубе кто-то отпускает шутку, слушатели разражаются ехидным смехом.
– Зачем? – спрашивает Шара. – Почему ты разрешила мне остаться в Мирграде? Ты же знала, что я могу дознаться правды. Почему ты не воспользовалась служебными полномочиями и не перевела меня в другое место?
– Потому что я… испугалась.
– Чего?
– Тебя, – признается Винья.
– Меня?!
– Да, – кивает та. – Я всегда боялась тебя, Шара. С самого твоего детства. В Сайпуре всегда лучше относились к тебе, чем ко мне, – из-за твоих родителей. А у меня много врагов. И им было бы очень легко оказать поддержку тебе – и скинуть меня.
– Так вот почему ты разрешила мне остаться в Мирграде?
– Я знала, что, если заставлю тебя уехать, это вызовет у тебя подозрения! – говорит Винья. – Ты так привязываешься к людям… Если бы я встала у тебя на пути, ты бы лишь ожесточилась и продолжила упорствовать. И я подумала: мы же уничтожили записи Ефрема. Ты погорюешь с неделю, а потом уедешь из Мирграда. Получишь новое задание – и все само рассосется.
– И тут люди Вольки напали на усадьбу Вотровых, – говорит Шара. – И все изменилось.
Винья качает головой:
– Ты не представляешь, что я пережила, прочитав этот отчет, – говорит она. – Оказывается, я не только веду свой род от… чудовищ, но и все, чего я добилась, оно вдруг стало… незаконным! Незаконным таким приобретением! Словно бы мне все поднесли на блюдечке! Мне было тошно, мне словно пощечин надавали! Ты понимаешь, что это значит, какие последствия может иметь? То, что я – и ты, кстати! – в родстве с богами!
Шара пожимает плечами:
– Меня воспитывали с мыслью, что кадж более или менее равен богам, – отвечает она. – Спаситель. Много лет я пыталась умилостивить его грозную тень. Честно говоря, для меня мало что изменилось в жизни.
– Но ведь все достижения – это фикция! Кругом сплошная ложь! Про каджа нам лгали. Сайпур стоит на лжи! И Министерство…
– Да, – кивает Шара. – И Министерство тоже.
Винья утирает слезу:
– Терпеть не могу плакать. Это такой позор…
И она меряет Шару злобным взглядом через иллюминатор:
– И что ты собираешься делать?
Шара обдумывает формулировку.
– Судьба Благословенных зачастую так трагична, – говорит она. – Кадж перебил их во время Великой Войны. А потом сам встретил горькую и жалкую смерть на Континенте. А теперь ты…
– Ты не посмеешь, – шепчет Винья.
– Не посмею, – соглашается Шара. – И не смогу. У тебя, тетушка, в руках рычаги власти. Правда, убивать меня на пике популярности неразумно, потому что это привлечет излишнее внимание. Даже ты, тетушка, не сможешь себе это позволить. Так что я дам тебе выбор: подай в отставку. И передай бразды правления мне.
– Тебе?
– Да.
– Передать тебе… передать тебе власть надо всеми генералами? Передать тебе контроль над нашей разведкой, над нашими операциями?
– Да, – мило улыбаясь, говорит Шара. – Или этим буду заниматься я – или мы обе ничего не получим. Потому что, если ты, тетушка, не подашь в отставку, я раскрою твою жуткую семейную тайну.
Винья выглядит так, словно ее сейчас стошнит.
– Я понимаю, что мои акции в Галадеше сейчас выросли, – скромно вздыхает Шара. – В конце концов, я единственный человек, кроме каджа, которому удалось убить Божество – точнее, двух Божеств. Против трех, что убил кадж. Да, плюс Урав. Они никого не короновали каджем после Авшакты, но я не сомневаюсь, что сейчас в Сайпуре живо обсуждают эту идею. Думаю, что, если я об этом скажу, ко мне прислушаются. Так или иначе, тетушка, твое время в Министерстве истекло.
Винья трет лицо и раскачивается в кресле:
– Почему?..
– Почему что?
– Почему ты это делаешь? Почему так поступаешь со мной?
– Я так поступаю не с тобой, тетушка Винья. Ты себе льстишь. Просто времена меняются. Четыре дня назад в Мирграде воскресла сама история и отвергла настоящее – а настоящее, в свою очередь, отвергло ее. Нам открылся новый путь, и мы можем пойти по нему. Мы можем оставить все как есть – оставить мир несбалансированным, с единственной супердержавой, в руках которой сосредоточена вся власть…
– Или?
– Или мы можем сотрудничать с Континентом, – говорит Шара. – И взрастить равную себе державу, которая бы нас сдерживала.
Винья ошарашена:
– Ты что же… хочешь возвысить Континент?!
– Да.
И Шара поправляет на носу очки.
– На самом деле, я планирую вложить миллиарды в восстановление этой страны.
– Но… но они же – континентцы!
– Они прежде всего люди, – говорит Шара. – И они попросили у меня помощи. И они ее получат.
Винья массирует виски:
– Ты… ты…
– Я также планирую, – продолжает Шара, – отменить СУ и снять гриф секретности с истории Континента.
Тетушка Винья бессильно оседает. Лицо у нее бледнее заварного крема.
– Не думаю, что мы можем построить будущее, – говорит Шара, – не зная правды о прошлом. Время начать честный разговор о том, каким был мир раньше и каким он стал сейчас.
– Меня сейчас стошнит, – говорит Винья. – Ты что же, хочешь вернуть им знание об их богах?
– Их боги мертвы, – говорит Шара. – Их время ушло. И я это точно знаю. Сейчас время для всех нас двигаться вперед. Со временем я даже смогу сказать правду о том, чьим сыном был кадж, – хотя на это может понадобиться несколько десятилетий.
– Шара… Дорогая…
– Такая вот у меня политическая программа, тетушка, – говорит Шара. – Будет сказано, что время изменилось, – и это правда – и что те, кто держится за прошлое, должны либо приспособиться, либо уйти. Ты можешь уйти изящно и легко – передав пост новому поколению. Особенно после того, как я вернулась с такой громкой победой. Кстати, тебя, может, даже похвалят за предусмотрительность – ведь именно ты решила, что мне нужно остаться в Мирграде. Разве это не прекрасно? А еще я могу сделать так, что ты не уйдешь ни с чем, – я могу назначить тебя, к примеру, главой исследовательского института или престижной школы, в которой о тебе хорошо позаботятся. Или я могу сместить тебя. Ты же сама говорила, что у тебя в Галадеше много врагов, тетя. А у меня в руках здоровенный такой кинжал, который я могу им в любой момент передать – и они его тут же воткнут тебе в спину.
Винья смотрит на нее, хватая воздух ртом:
– Ты… ты действительно…
– Я буду на месте через два дня, тетушка, – говорит Шара. – Подумай над моими словами.
И она проводит по иллюминатору двумя пальцами, и ее тетя исчезает.
* * *
Солнечный свет отражается от облаков, скачет по волнам, рябью бежит по палубе. Высоко над кораблем плывут чайки и время от времени переваливаются с одного воздушного потока на другой, на мгновение проседая в воздухе. Шара чуть крепче, чем нужно, вцепляется в керамический контейнер, когда накреняется левый борт, – моряк из нее никудышный. Команда мгновенно это поняла и принимает во внимание. А Шара благодарна судьбе за то, что море сегодня спокойное.
– Скоро уже, капитан? – спрашивает она.
Капитан отрывается от беседы с гардемарином:
– Я мог бы вам сказать точное время прибытия, – говорит он, – если бы вы назвали мне пункт назначения.
– Я же называла, капитан.
– Я бы сказал, Главный дипломат, что названная вами «равноудаленная от Сайпура и Континента точка» не такая уж точная отметина на карте. Прошу прощения, если обидел.
– А мне и не нужна точная точка, – вздыхает Шара. – Просто скажите мне, когда мы перевалим за вторую половину пути, хорошо?
Капитан качает головой:
– Ну… скажем, через полчаса. Море спокойное, ветер благоприятный – возможно, что и раньше. А почему вы хотите это знать?
Шара отворачивается и идет на корму с контейнером под мышкой. Она смотрит на буруны, оставляемые кораблем, на его длинный след. Эта полоса странно гладкой воды тянется на мили – а потом извечное колыхание волн поглощает ее, и она исчезает.
Шара долго смотрит на море. Ветер нежно поглаживает волосы и пальто. На очках крохотными бриллиантиками дрожат брызги соленой воды. Ветер радует то мягким теплом, то приятной свежестью.
– Долгий путь нам пришлось проделать, правда, Во? – говорит она керамическому контейнеру. – Но обернешься – глядь, а ведь за один миг жизнь пролетела.
Чайка ныряет к ней, что-то крича, – может, спрашивает о чем-то?
Они отказывались кремировать его – потому что кремация на Континенте считается ересью. Но Шара отказалась хоронить его в семейном склепе Вотровых – нельзя, чтобы он упокоился рядом с людьми, которые превратили его жизнь в ад. И она забрала его с собой. А все, что от него осталось после визита в кремационную печь, собрали в маленький контейнер – и теперь Во свободен от боли, памяти и мучений, которым его подвергли его страна и его бог.
Она не будет плакать. Она так решила. И потом – над чем тут плакать? Что случилось, то случилось.
– Родовые муки, – говорит она вслух. – Вот чем были наши жизни, правда? Колеса времени проворачиваются и лязгают, и так рождается новая эпоха.
По щекам бьет холодный ветер.
– Но рождению предшествует боль. Мучительные схватки. К несчастью, это все случилось с нами, но…
Капитан кричит, что они подошли близко к нужной точке.
– …бабочке нужно покинуть куколку…
И она принимается отворачивать крышку. Сердце бьется чаще.
– …и позабыть, что когда-то она была гусеницей.
Чайки издают новый жалобный крик.
Она переворачивает контейнер, оттуда темными извивами выпадает пепел, ветер растрепывает серую тучку, и та оседает на гладкую полосу воды, которую оставляет за собой корабль.
Она выбрасывает контейнер за борт. Тот практически мгновенно погружается в темные волны.
Она смотрит на волны. Интересно, что они знают? Что они помнят?
«Проходит время, и все замолкают – и люди, и вещи, – думает она. – Но я буду говорить о вас и за вас, за всех вас. Все то время, что мне отпущено».
А потом она разворачивается и идет на нос корабля – смотреть, как плывет по небу солнце, как бьются под ветром блестящие новые волны. И ждать, когда впереди покажутся родные берега.







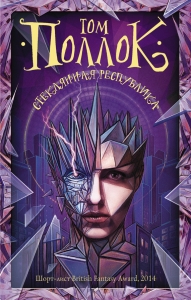
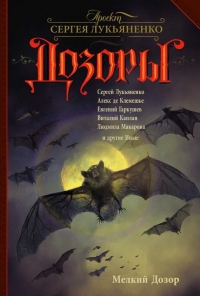

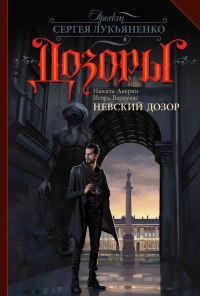

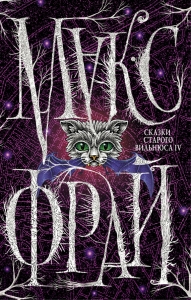
Комментарии к книге «Город лестниц», Роберт Джексон Беннетт
Всего 0 комментариев