Лариса Бортникова, Алексей Провоторов Зеркальный гамбит
♀ – Лариса Бортникова
♂ – Алексей Провоторов
© Лариса Бортникова, Алексей Провоторов, 2018
© Александр Павлов, иллюстрации, 2018
© Анатолий Дубовик, художественное оформление, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Зеркальный гамбит
Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя.
Рэй БрэдбериТвоя игра не может быть лучше, чем твой худший ход.
Дэн ХейсманТакой был вечер… Фиолетовый, тихий и странный. И то, что они остались вдруг вдвоем, тоже было странным, неловким, неуютным. Два почти незнакомца в чужой компании, где все давно друг друга знают и до них никому нет дела.
– А давай в шахматы, а? Умеешь?
Он хотел предложить партию в карты (он отлично играл в карты), но какие карты, когда есть только он, она, погасший уже камин… и пара часов до рассвета? И ещё шахматный столик. И тоненький, едва заметный слой пыли на доске.
– Ээээ, – она замялась. – Ну, я примерно знаю, как надо ходить. Но игрок из меня так себе.
– Из меня тоже, – он уверенно (на самом деле нет, но ему хотелось, чтобы это выглядело именно так) цапнул со стола две пешки. Черную и белую. Зажал их в кулаках, завел кулаки за спину. – Выбирай.
– С ума сошел, – рассмеялась она. – Ладно. Выбираю левую. Только, чур, не смеяться.
Он раскрыл ладонь.
– Белая. А тебе везет. Белые обычно начинают и выигры…
– Ух ты. Да у нас тут шахматисты! – кто-то заглянул в гостиную, засмеялся громко. – Что, Карпов против Каспарова?
Она неожиданно покраснела.
– Да. Шахматисты, – он сел на пуфик, стоящий возле шахматного стола. Потянулся. Зевнул. – Ну что, подруга, разыграем «бессмертную»?
– Как пойдет.
Села напротив. Шепнула так, чтоб слышал только он:
– А пешки ж могут прыгать через клеточку?
– Могут! – подмигнул. – Прыгай. А ещё каждая пешка может стать королевой.
– О! Это я знаю! Е2 – Е4.
1. Пешка
Олицетворение простого бойца на пути к цели, инициации, обретению собственной воли. Пешки подчиняются Меркурию и Венере, паре любовников.
И пешка имеет силу, когда ею двигает сильный человек.
Борис Самсонов♀ Новое платье для Долорес Романо Светлая фигура Лариса Бортникова
Две женщины: одна добра, как хлеб, и не нарушит клятвы, другая мирры благородней и клятвы не дает.
Роберт Грейвз«Я вернусь и привезу тебе новое платье». Сколько раз Долорес Романо слышала это обещание. Сколько раз Долорес Романо стелила клетчатую скатерть и доставала из буфета тарелки под пасту болоньезе. Сколько раз Долорес Романо роняла слезы в салат, отчего шарики моцареллы становились горько-солёными. «Я вернусь и привезу тебе новое платье». Шифоньер скрипел тяжелыми дверцами. По утрам Долорес Романо открывала дубовые створки, вдыхала запах нафталина и отдушки из масла иланг-иланг.
Ждала.
С Долорес Романо можно было говорить о чем угодно. О новом кремнезёмовом композите для кальсон и о том, что теперь на учениях все мочатся прямо в скаф, не опасаясь опрелостей и чесотки; о самих скафах, которые не выдерживают больше кило по Моосбахеру, отчего во время последнего отступления три полка новобранцев превратились в омлет; о том, что в новостях об этом, как обычно, промолчали, но «bro-radio» подсуетилось, и начкурса, полгода назад списанный по инвалидности, напился в каптёрке и потом бродил по казарме, облёвывая паркет.
С Долорес можно было говорить обо всём: о том, что позавчера капрал несправедливо поставил в наряд; о несвежей тушёнке, которую ротный приказал «жрать и облизываться»; об утренних эрекциях; о том, что через неделю – полевые занятия, а откосить не выйдет; а также о том, что скоро выпуск и хочешь не хочешь, но придется сменить курсантский китель на боевой камуфляж.
Долорес слушала, смахивала слезу и ставила на стол тарелки под пасту болоньезе. Курсант Чезаре Броччио смотрел на её мягкие ладони и думал, что за все эти годы Долорес так и не сменила серую трикотажную юбку и кофту крупной вязки на что-нибудь нарядное.
«Я вернусь и привезу тебе новое платье, – клялся Чезаре. – Это будет длинное ярко-красное платье из мернского шёлка. Ты только жди». Долорес подходила близко-близко, так что аромат молока, меда и свежестиранных простыней обволакивал юношу с головы до ног. Она брала круглую лысую голову Чезаре в свои большие ладони и баюкала долго и нежно, до тех пор, пока Чезаре не начинал проваливаться в сонливую негу. Потом они шли в спальню, где кровать наскрипывала уютные колыбельные, где тяжелые груди Долорес и её нежный живот дарили покой и надежду.
– Я буду ждать тебя, Чичче, – шептала Долорес. – Буду ждать. И ты обязательно вернёшься.
«Мужчины должны воевать»! Негодяй, выдумавший эту ложь, давно уже умер, как и тот, который солгал, что мужчины не плачут. Когда-нибудь матери, жёны, невесты, сёстры, подруги опомнятся и предадут анафеме этих подлецов. Но пока мужчины продолжают убивать мужчин, оставляя женщинам право оплакивать мертвых и ждать живых. Ждать и верить, что солдат обязательно вернётся. Ждать, невзирая на то, что во входящем блоке коммуникатора давно нет новых сообщений и что на запрос «ФИО – Звание – Номер части» над эмиттером всплывают матовые строчки мартиролога.
Ждать.
Встречать, ежевечерне выстраивая на клетчатом льняном плацу круглые тарелки под пасту болоньезе. Заправлять соусом салат из пресных шариков моцареллы, крошечных томатов и лука, нарезанного кольцами. Держать наготове кувшин с домашним вином. «Возвращаются лишь те, кого ждут», – тот, кто первым выдумал эту ложь, давно уже умер.
Но теперь каждый раз, когда сержант Чезаре Броччио идет в бой, он вспоминает о том, что дома у него осталась Долорес Романо. «Я привезу ей новое платье», – твердит сержант, и ему становится легче, его жизнь приобретает смысл, а его слишком вероятная смерть отодвигается на неопределённый срок.
* * *
Чезаре Броччио мог бы стать учёным. Или таксистом. Или полицейским. Он мог бы стать адвокатом, нейрохирургом или бухгалтером. Он мог бы петь в Опере или, одетый в оранжевую муниципальную робу, собирать контейнеры с мусором по понедельникам и средам. Мог бы, если бы родился девочкой. Но Чезаре не повезло.
Когда биотехнолог A-категории Мария Таледжио очнулась после кесарева и обнаружила на своем запястье синюю пластиковую браслетку, она с облегчением вздохнула: хорошо, что всё закончилось. Мария дотянулась до пульта вызова сестры, нажала на кнопку с нужной пиктограммой. Через минуту дверь в послеоперационный блок отъехала в сторону, впуская посетителей.
– Ваш мальчик просто чудо! Крепыш и здоровяк, пригодный к воинской службе. Поздравляю с выполнением гражданского долга, – главный акушер роддома лично зашла поздравить роженицу. Голос врача звенел бодрыми интонациями, успешно подражая контральто ведущей утренних фронтовых хроник.
– Благодарю, – Мария Таледжио приняла аккуратный свёрток и немедленно, точно боялась испачкаться, положила его в пластиковую кюветку, привинченную к ложементу. – Оформите идентификацию на имя Чезаре Броччио.
– Чезаре Броччио – подходящее имя для сына воина, – улыбнулась главврач и, посерьёзнев, добавила: – Надеюсь, он будет его достоин.
– Надеюсь, – равнодушно произнесла Мария, откинулась на подушку и облизнула сухие тонкие губы.
– Воспитание? Вскармливание? Что-то уже решили? – медсестра выудила из кармашка униформы стилус, чтобы занести информацию в персональный файл пациентки.
– Вскармливание искусственное, разумеется. Воспитание… – Мария подумала с четверть секунды и решительно продолжила: —…домашнее. Если это… этот мальчик…то есть Чезаре не требует спецухода, я хотела бы выписаться к вечеру.
– Мы подготовим всё необходимое, – кивок. Профессиональная улыбка. Сестра засеменила вслед за главным акушером, оставив мать и сына вдвоем.
Мария тяжело повернулась набок, потянулась к сыну. Коснулась было крошечной ладошки, но тут же отдернула руку. Словно опасалась обжечься или запачкаться. Скрипнула зубами и снова откинулась на спину, не обращая внимания на Чезаре, который вдруг захныкал, почуяв мать. Мария Р. Таледжио, не моргая, смотрела на потолочную видеопанель: звук и трехмерка сбоили, отчего молоденькая хроникёрша то и дело сдувалась в камбалу, смешно открывала плоский рот, что-то перечисляя. Прямо поверх её изображения, похожие на окопных вшей, сыпались слева направо буквы, цифры, значки – последняя информация с Мерны. Мария следила за тем, как списки погибших за последние сутки сменяются списками раненых, как строчки выползают из-под левой ладони ведущей и скрываются под её правым рукавом, и жалела, что завтра целый день придется проторчать дома, потому что няню для этого… для мальчика… для Чезаре… обещали подослать лишь с понедельника.
«Ничего. Поработаю с домашнего терминала», – решила Мария и с раздражением нажала на кнопку вызова сиделки – ребёнок закричал. Наверное, проголодался.
* * *
– Что значит А-спец! Сразу видно умную женщину и сознательного гражданина! Первородка, но никаких истерик, слёз, скандалов и тому подобное. Да ещё и решила взять ребёнка в семью, – делилась главврач с коллегами на вечерней пятиминутке. – Разве это не очередное подтверждение гипотезы корреляции социального статуса с уровнем гражданской ответственности? С такими женщинами мы непобедимы! И сегодня же другой, совершенно омерзительный случай: пациентка решила избавиться от сына, потом передумала и решила «избавить» его от воинской службы, но ничего, кроме грубого членовредительства, ей в голову не пришло. Едва успели спасти новорожденного, а саму эту дрянь – язык не поворачивается назвать её матерью – передали куда следует. Проглядела досье. И что вы думаете? Она – курьерша, не добирающая даже до категории Д.
– Отсутствие самоконтроля, ленивый, нетренированный ум, минимум логического мышления препятствуют подавлению животных инстинктов. Если заглянуть в архивы… – анестезиолог, репродукт-неспособная женщина лет сорока, собралась было поддержать коллегу, но оборвала реплику, обнаружив, что по её бахилам только что проехался полотер. – Что вы себе позволяете?!
– Ноги подбирать надо, – буркнула одетая в форму медперсонала категории Е старуха. – Наполучают себе репродуктивных броней, а потом рассуждают тут… Попробовала бы выносить и родить шестерых, как я…
* * *
«Если ждать, то солдат обязательно вернётся». Все-таки такое могла выдумать только женщина. Изнуренная бессонницей женщина с надеждой в сухих глазах. Ждать и вздрагивать от каждого шороха в подъезде. Ждать и крепить переносной терминал к прикроватному блоку, настроив громкость на «шах», чтобы случайно не пропустить входящий звонок. Ждать, и нарезать кольцами лук, и стелить скатерть, и ставить круглые тарелки под пасту болоньезе.
Ждать.
«Я вернусь и привезу тебе платье»! – обещал солдат. Поэтому Долорес Романо выключает монитор до того, как мартиролог успевает загрузить номер нужной части, и спешит на кухню, чтобы добавить в бак с молоком чайную ложку лимонной кислоты. На столе замерли по стойке «смирно» тарелки, а в открытую дверь спальни видна застеленная свежим бельём кровать. Ждать!
* * *
Полупустая пыльная студия в Квинсе, где Чезаре провел первые восемь лет своей жизни, принадлежала Институту биотехнологий. Мария Таледжио как ведущий специалист категории А пользовалась правом на льготное жильё и личный транспорт. Пока Чезаре был совсем маленьким, Институт выделял приходящую няню. Потом эта же няня – пожилая женщина с серым, похожим на половую тряпку лицом – возила Чезаре и ещё нескольких сыновей работников Института в ведомственные ясли. Там, в яслях, Чезаре впервые осознал разницу между мальчиками и девочками. Он не мог пояснить словами, но ему казалось, что это похоже на нечестную игру в прятки, где у девочек всегда фора, и даже если их найти, они всё равно оказываются в выигрыше.
А ещё за девочками всегда приходили мамы. За мальчиками обычно приходили или женщины с серыми тряпичными лицами, или никто. Случались исключения. Например, сопливого Хосе из старшей группы мама забирала сама. Неопрятная тётка с голограммой охранника на нагрудном кармашке каждый вечер стояла у входного бокса и ждала, когда Хосе выбежит к ней навстречу. Она по-жабьи приседала, широко расставляла руки, и Хосе с разбега бросался на её шею. «Нюня, тряпка», – дразнили Хосе остальные. Чезаре тоже дразнил, хотя порой ему хотелось отпихнуть везунчика Хосе и самому уткнуться носом в переливающийся зелёным шеврон чужой мамы.
Однажды утром Чезаре подкараулил Марию за завтраком и спросил напрямую: «Скажи. Если бы я родился девочкой, ты бы сама забирала меня из яслей?» Она пожала плечами: «Ты мальчик и солдат. Все, что необходимо для воспитания солдата, получаешь с избытком. Я не могу нефункционально расходовать своё время», – добавила уже в дверях. Мария всегда уходила рано, а возвращалась заполночь, когда в Квинсе отключали освещение и прожектора-энергосберегайки кромсали лучами небо на треугольные лоскуты. Чезаре прятался под одеяло, чтобы не видеть пляшущих чёрных уродцев на стенах, и ждал мать. «Не спишь? – луч фонарика скользил по комнате. – Ложись. Уже поздно. И постарайся не отвлекать меня, Чезаре. Мне нужно ещё поработать».
* * *
Мать всегда называла его полным именем, поэтому, когда Чезаре впервые услышал, как Долорес Романо произносит «Чичче», как её певучий голос оглаживает каждый звук его имени, как мягко пружинит «ч» о влажное женское нёбо, он обмер. Он даже закусил губу, пытаясь удостовериться в том, что не спит и что эта полная женщина в длинной юбке и кофте с продолговатыми деревянными пуговицами действительно обращается к нему – Чезаре Броччио.
В тот день Чезаре исполнилось одиннадцать, и он уже три года назад перевёлся из общеобразовательной начальной школы с совместным обучением в кадетское училище. Там, в «кадетке», он, как и тысячи других мальчиков, осваивал азы мужской науки убивать и не быть убитым сразу. Шесть суток в казарме – день расписан по минутам: подъём, кросс, стройподготовка, тир, теория, снова тир, лётный симулятор, тренажерка, тир, сампо… Сутки дома. Увольнение начиналось в двенадцать часов ноль-ноль минут каждую субботу. Ровно через двадцать четыре часа зелёная полоса на рукаве превращалась в ядовито-оранжевую – сигнал для патрулей о нарушении курсантом казарменного режима. Каждую субботу Чезаре брёл до Квинса пешком, чтобы приблизительно в двадцать один час ноль-ноль минут открыть дверь студии и пробраться по тёмному коридору на кухню. Там он залезал на высокий металлический стул и старался не заснуть. Получалось трудно – бесконечные тренировки выматывали организм.
– Чезаре, ты здесь? – Мария сутулой тенью скользила к холодильнику, доставала банку с бобами и присаживалась напротив. – Как училище?
– Вчера отстрелялся лучше всех. По стройподготовке тоже первый! – Чезаре гордо выпрямлял спину, словно она могла разглядеть его в полутьме.
– Ясно. Ложись спать. И постарайся не мешать, мне нужно ещё поработать.
* * *
В тот день, а вернее, утро ему исполнилось одиннадцать. Нашивка предупреждающе мигнула – до установленного срока прибытия в часть оставалось три часа. Чезаре сидел на бетонных ступеньках подъезда и врал черноволосой соседской девочке про пленного мернийца, на котором в тренажёрке отрабатываются приёмы рукопашной борьбы. Девочка недоверчиво щурилась, однако слушала с интересом.
– Поможешь донести, солдатик? Лифт сломан, а мне на пятнадцатый, – немолодая, одетая в вязаную кофту и серую трикотажную юбку женщина доставала из старенького смарта какие-то пакеты и тяжелый бидон.
– Курсант Броччио к вашим услугам, мэм, – Чезаре вскочил и лихо, чтобы произвести впечатление на девочку, приподнял бидон с асфальта.
– Не надорвись, – женщина улыбалась, но не снисходительно или чуть отстраненно – к таким улыбкам в свой адрес Чезаре давно привык, – а с ласковой усмешкой. – Там пятнадцать литров. Давай-ка я возьму бидон сама, а ты держи остальное. Идём. Заодно накормлю тебя завтраком.
– В полдень я обязан быть в части, мэм. Но от завтрака не откажусь, – Чезаре подмигнул заскучавшей девочке и, подхватив свертки, направился к входу.
Вот тогда-то Чезаре и познакомился с синьорой Романо. Точнее, познакомились они через несколько минут в столовой уютной квартирки на пятнадцатом этаже. Когда клетчатая скатерть легла на стол, когда большие круглые тарелки – одна жёлтая, другая синяя – встали напротив друг друга, Долорес сказала:
– Чезаре – слишком колюче, поэтому я стану звать тебя Чичче. А ты можешь называть меня просто Долорес, – над её верхней губой дрожала маленькая родинка, а от кофты домашней вязки пахло почему-то молоком и мёдом. – Говоришь, у тебя сегодня день рождения? Поздравляю, милый.
* * *
Следующего увольнения Чезаре Броччио ждал так, как не ждал ещё ничего за свою одиннадцатилетнюю мужскую жизнь. Он впервые не пошел бродить по городу, а сел на транспорт, идущий прямо в Квинс. Помявшись недолго перед дверью с идентификатором «Д. Романо», Чезаре решительно надавил на кнопку звонка. Звук колокольчика, приглушенный изоляцией, заметался и угас, а потом Чезаре услышал шаги.
– Чичче? – динамики искажали её голос, усиливая едва заметную обычно хрипотцу.
– У меня дома никого, а ключ я в другом кителе оста… – он не успел договорить. Дверь распахнулась, и деревянные продолговатые пуговицы замаячили прямо перед носом.
– Конечно, заходи. Я как раз варю кофе. Ты ведь любишь кофе?
Двадцать три часа – период между 12:30 субботы и 11:30 воскресенья – Чезаре провел в квартирке на пятнадцатом этаже. После того как они разобрались с кофе, Долорес предложила перебраться на кухню. Чезаре устроился на стуле и с любопытством следил за тем, как Долорес режет бесформенный желтоватый сгусток длинным ножом, как мешает зернистую массу шумовкой. Как сливает через выложенный бинтом дуршлаг сыворотку и подвешивает влажный узел к специальному кронштейну над раковиной.
– Какой мягкий и прохладный, – Чезаре трогал получившуюся желтоватую массу через марлю. – Как… Как мертвый. А что с ним будет дальше?
– Сыр! – расхохоталась Долорес. – Сыр будет. Моцарелла. Маленькие сырные кругляши. Такие же симпатичные, как те, что у меня в холодильнике. И очень вкусные. Ну, пошли ужинать, солдат.
Они ели пиццу и захрустывали её свежими огурцами. Потом листали комиксы, в которых отважный Полковник Смит-Вессон уничтожает мернийский флагман и спасает пленных пехотинцев, потом они говорили о том, что у каждого в жизни есть свое предназначение и что в Центральном парке недавно открыли монумент погибшим героям, и надо бы в следующее воскресенье пойти посмотреть. А ближе к вечерним сводкам Чезаре сморило.
Долорес расстелила на диване простыню в синий горошек по белому полю. И когда лысая, похожая на модель земного шара голова курсанта Броччио коснулась подушки, Долорес запела. Она мычала что-то бессвязное, монотонное, глупое, но от этого мычания Чезаре стало спокойно. И он уснул.
* * *
Чезаре терпел день или два. В среду, когда рота собралась в душевой после тренажёрки, он не выдержал. Со старательным безразличием Чезаре расписывал друзьям «чудаковатую тетку, что живет на двадцать этажей ниже, одевается в тряпье, не умеет настраивать домашний терминал и не знает элементарной таблицы коэффициентов коагуляции Шавиньоля».
– Но кормит от пуза. Правда! И такая… ну не знаю. Не как другие. Нормальная, что ли! Такаая… – Чезаре неожиданно для себя расплылся в улыбке.
– Тетка? А что она от тебя хочет? – Дваро – смешливый пацан с параллельного потока – рассматривал синяк на лодыжке.
– Кто их разберет, этих баб пониженной категории, – Чезаре ухмыльнулся, точно так же, как и капрал, когда речь заходила о женщинах. Потом нахмурился и пояснил: – Я не уточнял, но по виду она вроде как «Д» или даже «Е», а у них инстинкты первичны. Может, у неё сын или даже сыновья там… на Мерне, вот она и компенсирует подсознательно. Но очень смешная! Знаете, у неё терминал какой модели? В жизни не догадаетесь…
– Ну-ка, ну-ка, бро… – пятикурсник по имени Збринц, недавно получивший нашивки младшего сержанта и от этого нестерпимо высокомерный, высунул голову из-под душа и уставился на Чезаре с картинным удивлением. – А за войну она с тобой трет? А за мернийцев? Хроники зырите? А комиксы фронтовые?
– Ну да, – кивнул Чезаре. – С ней вообще про что угодно можно говорить. Она слушает внимательно и совсем не поучает. Я же и поясняю, что тетка смешная и глупая. «Е» или «Д», не выше.
– Ха! Дурак! Сур-мать это! Надо быть идиотом, чтобы не сообразить, что тебе подсунули сур-мать, – Збринц переключил режим, и теперь жесткие струи ударялись о его жилистые плечи и разлетались ледяными брызгами. – Значит, или ты психтесты слил, или наши дятлы настучали чего особистам. А «тетка» эта твоя – понятно кто. Психотерапевт-целевик категории А со специализацией суррогатной солдатской матери.
– В смысле сур-мать? Как это? – Чезаре недоверчиво нахмурился.
– Так это! Ты же «домашний», бро? Да? Твоя биологическая тебя на домашнем воспитании держит? По экспериментальной программе?
– Ну да, – Чезаре кивнул и попятился. Ему показалось вдруг, что его только что обвинили в чем-то неприличном. Словно он скрысятничал и попался.
– И чего ты хочешь? У вас, домашних, с головой непорядок. Хреновый вышел эксперимент. И солдаты из вас хреновые! – Збринц потянулся, хрустнул суставами. – Нас – госов – родина подняла и воспитала, её мы и защищать, выходит, будем. До последней капли крови! А ты кого станешь защищать? А? За что пойдешь месить мернийское дерьмо? За мамочку свою био, которая тебя на улице увидит – в упор не узнает? За сестричку-спеца или за отдельную халупу в даунтауне? Нет? То-то же! Червивая у вас мотивация и никакого патриотизма. Давно пора «домашку» отменить – толку от неё с белкин хрен и экономии столько же. Ну, а пока не отменили, надо вас, телков слюнявых, как-то выправлять. Психику надо вашу нежную лечить, чтобы вы, как положено мужчинам, жгли врага, а не раздумывали, на кой такой хер вам это сдалось. Ясно, бро?
Збринц выскочил из-под колючих струй, быстро вытерся и, натянув форму за положенную уставом минуту, выбежал из душевой. Чезаре молча топтался возле именного контейнера и то набирал, то сбрасывал код.
– Ооо! Как он тебя приложил! А я, кстати, слышал, – Дваро скользнул мимо Чезаре в освободившуюся кабинку и оттуда страшно зашипел, – что сур-матери вообще киборги. Им в бошки вставляют шунты, а во лбу у них камеры и самописцы. Ты сам её спроси, и посмотришь, что она тебе ответит.
– Долорес – человек! – Чезаре вспыхнул и пошел на друга, размахивая скрученными в жгут кальсонами. – Бить буду сейчас.
– А я тоже домашний и тоже хожу к одной сур-матери по имени Долорес. Она делает сэндвичи с тунцом. Кажется, субмарины, – почти прошептал Эторки – худенький тихий мальчик, до этого молча ожидавший своей очереди. – Она хорошая.
– Точно. Хорошая, как микроволновка, – заржал Дваро.
– Мне наплевать, что у неё в башке! – неожиданно для себя Чезаре закричал во весь голос. – Наплевать! Даже если там встроен целый оружейный склад и полевая кухня! Она меня слушает! И понимает! И ждёт!
– Чего орёшь? – Дваро выскочил из-под душа, едва не задев сменившего его Эторки плечом. Пробежал на цыпочках по холодному полу к своему контейнеру, схватил из верхнего отсека полотенце. – Ходи сколько влезет. И Эторки пусть ходит. Я просто говорю, что это у них работа такая. Им за это платят.
– Плевать! – Чезаре вдруг со всех сил вмазал кулаком по контрольной панели душевой. Эторки, словно ошпаренный, вылетел из-под ледяной струи, запрыгал, захлопал ладонями по бокам, пытаясь согреться. Дваро прыснул, Чезаре, не удержавшись, рассмеялся вслед, а уже за ним разразился громким хохотом сам Эторки.
* * *
Субботу Чезаре провел в части. На следующей неделе его поставили в наряд, потом рота выехала на учения. И лишь ещё через одну субботу он наконец таки выбрался в город. Отметив увольнительную на КПП, Чезаре помчался на армейский челнок до Центрального парка. В парке, возле монумента погибшим героям, ждала Долорес Романо. День выдался ветреный, и Долорес куталась в кофту, застегнутую на продолговатые деревянные пуговицы. «Знаешь, Чичче, ты должен гордиться своим отцом», – проговорила она, трогая выгравированные на списке фамилии. Чезаре хотел было ободряюще взять Долорес за руку, но вспомнил Збринца и только усмехнулся.
– Не поднимешься домой к себе? – спросила Долорес вечером, когда они уже убрали свежую моцареллу в холодильник, перелистали новый журнал с комиксами про Смит-Вессона и собрались посмотреть блок военной анимации.
– Не-а, – мотнул головой Чезаре, – она… ну, Мария… она всё равно не заметит, дома я или нет.
– Смотри сам, Чичче. Главное, чтобы не волновалась.
– Долорес! Я же мальчик! Солдат! Кто волнуется за мальчиков?
– Конечно, – глаза Долорес потемнели, точно она вспомнила что-то очень грустное, – но я бы всё равно волновалась.
«Тебе по работе так положено», – хотел съязвить Чезаре, но почему-то промолчал. Вместо этого он зевнул, потянулся за пультом терминала и резко – слишком резко для одиннадцатилетнего подростка – заметил:
– Моей био-матери нельзя растрачивать свой потенциал на нефункциональные действия и эмоции. Она – специалист A-категории. Ей после моего рождения даже репродукт-бронь выдали, чтобы она могла полностью погрузиться в работу. Кстати, а какая у тебя категория?
– Да… То есть… – Долорес замялась, – ты прав, Чичче. У твоей био… мамы много важных задач. Пора перебираться в гостиную, анимешки уже наверняка давно начались. Я тут наделала сэндвичей с тунцом – возьми их завтра с собой. Угости друзей.
– Спасибо. Не хочу, – Чезаре поднялся и защелкнул карабин ремня. – Я передумал. Пойду-ка я домой. Не люблю мультики. И тунец ненавижу!
В ту ночь Чезаре долго не мог заснуть. Он жалел о том, что не дал Долорес понять: Чезаре Броччио нельзя обмануть, нельзя приручить салатом, макаронами и простынями в горох. Ближе к утру, когда он решил прекратить всякое общение с синьорой Романо и начал проваливаться в сон, вернулась мать.
– Ты здесь? – она упала в кресло и закрыла глаза. – Как учёба? Постарайся не ворочаться, я ещё поработаю.
– Послушай, Мария… – Чезаре поднялся, сел на кровати, прижав колени к груди, и уставился на мать. За те недели, что он провел вне дома, она ещё больше похудела. – Могу я тебя кое о чём спросить?
– Только поторопись, у меня мало времени.
– Ты жалеешь, что не получила бронь до того, как я родился? – голос Чезаре дрогнул, но он справился с собой и продолжил: – Ты жалеешь, что у тебя сын, а не дочь? Ты обо мне иногда вспоминаешь? Я тебе вообще нужен? Ответь мне, пожалуйста.
– Странные вопросы, – Мария тяжело поднялась с кресла и подошла к окну. Лучи прожекторов резали черное небо на лоскуты. – Но я отвечу, хотя не вижу в этом смысла. Мне некогда и незачем сожалеть о сделанном, Чезаре. Я репродукт-способная женщина. Мой гражданский долг – выносить и родить мальчика. Лучше не одного. Помимо репродукции, у меня, как и у любого A-специалиста, имеются обязанности. Много обязанностей. Слишком много, чтобы нефункционально растрачивать себя. А у вас, мужчин, всего лишь один долг и одна обязанность – воевать. Поэтому ты необходим мне и обществу. И, разумеется, я часто вспоминаю о тебе. Ведь ты – мой сын.
– Врёшь! Всё ты врёшь! Я для тебя не особенный, а просто мальчик! Один из всех этих мальчиков и мужчин. Я для тебя, как все! – Чезаре запнулся. Продолжил зло, отчаянно: – Тебе насрать, есть я или нет, зайду я домой в субботу или пропаду навсегда. И оттуда, с Мерны, ты не станешь меня ждать. Вернусь я или сдохну – тебе всё равно! Всем био-матерям всё равно! Мы для вас – тупые сырные головы, можно выловить из чана одну или другую, какая первой попадется, потом съесть или выкинуть, а в мире ничего не изменится!
– Хм. Если рассуждать в масштабах государства, ты прав. А так – нет, – Мария задернула жалюзи и устало зевнула. – Ложись-ка спать, Чезаре.
В следующую субботу ровно в двенадцать тридцать курсант Чезаре Броччио топтался у двери квартиры на пятнадцатом этаже высотного дома в Квинсе. Там, где, как всегда, ждала его Долорес Романо.
* * *
Пять лет – это так мало, особенно если они затесались между детством и совершеннолетием. Пять лет – много, когда идет война. Пять лет – жалкие крохи, если на жизнь отведено всего лишь двадцать четыре часа в неделю: с 12:00 субботы по 12:00 воскресенья, к тому же целых шестьдесят минут занимает дорога.
Чезаре Броччио побрился, прилепил новенькие курсовки на парадный китель и заполнил увольнительную – последнюю перед выпускными. Через неделю курс поедет на полигон, где в течение месяца комиссия, состоящая из А-спецов и ветеранов, будет убеждать себя в том, что выпуск готов убивать и не быть убитым сразу. Потом им – ещё курсантам – вручат дипломы, присвоят очередные звания и повезут в порт. А там погрузят в карго-шаттлы, из которых только что выкатили контейнеры без маркировки.
* * *
«Мужчины должны воевать». Какая разница, кто и когда придумал эту ложь. Главное, что хочешь не хочешь, но уже совсем скоро придется сменить курсантский китель на боевой камуфляж. Десять лет бесконечных занятий и изнурительных тренировок. И всё только для того, чтобы убивать и быть убитым как можно позже. Или всё-таки победить и вернуться домой с новым платьем для Долорес Романо. Красным платьем из мернского шёлка.
– В город идешь, бро? – Эторки стоял в наряде на КПП.
– Да. Надо с Долорес попрощаться. Позже могу и не успеть.
– А я уже простился, – погрустнел Эторки. – Вчера вернулся и сразу в наряд. Вот незадача.
– Слушай, – Чезаре наклонился над окошком стеклянной дежурки, зашептал в динамик, – слушай, Эторки, мы никогда об этом не говорили… и не надо.
– Не надо, – согласился Эторки. – Лучше продолжать верить, что у нас разные Долорес.
– Спасибо, бро. Ну, я помчал. До завтра.
Подъёмник, как всегда, барахлил. Чезаре легко взлетел на пятнадцатый этаж, привычно свернул в правое крыло и надавил кнопку звонка. Пять лет назад ему приходилось привставать на цыпочки, а теперь кнопка торчала точно на уровне глаз. Чезаре прижался ухом к обивке двери, услышал быстрые приближающиеся шаги.
– Чичче. Я ждала тебя. Заходи. Сегодня болоньезе, как ты любишь, – Долорес сияла нежной улыбкой.
– В следующую субботу я на полигоне, – Чезаре пришлось нагнуться, чтобы чмокнуть Долорес в щеку. – Дальше не знаю. Вероятно, сразу на Мерну. Там сейчас жарко, сама знаешь.
Они сидели на кухне. Чезаре в сотый, может быть, раз наблюдал за тем, как Долорес возится с сыром. Как достает из высокой кастрюли вязкий сгусток, режет его на кубики, снова ставит на плиту. Как потом вымешивает жир и осторожно сливает его в стеклянную банку. Руки Долорес, ловкие и очень быстрые, мяли сырную массу, растягивали её, складывали и снова тянули. Постепенно бесформенные пряди становились однородными, принимая форму шара.
– Завораживает, – усмехнулся Чезаре. Встал. Долил в бокал вина. – Будто ты лепишь из сыра человечков. Сырных солдатиков. Иди ко мне.
Долорес засмущалась. Она всегда смущалась и краснела, когда Чезаре смотрел на неё «по-мужски». Словно не было этих месяцев их странной, неправильной близости, совсем не похожей на близость любовников или друзей.
* * *
Впервые это случилось почти год назад. Чезаре пришел из кадетки позже обычного и сразу врубил терминал. Ведущая щебетала что-то об открытии нового исследовательского центра, а строчки мернийского мартиролога, как всегда, порхали между её ухоженными пальцами.
– Обедать! – позвала Долорес из кухни. – Паста стынет.
Чезаре не ответил. Долорес обеспокоенно заглянула в гостиную. Он лежал на спине с закрытыми глазами и молчал.
– Что-то случилось, Чичче? Заболел? Опять с капралом неприятности? Что?
– Збринц… Я его не узнал… – кадык неприятно дрожал, но голос Чезаре звучал спокойно.
– Расскажи! Пожалуйста, расскажи. Я всё пойму. Только не молчи так. Слышишь? – Долорес присела на край софы, отложила полотенце в сторону. Положила теплую руку на лоб юноши.
– Этой ночью была панихида… – начал говорить Чезаре. – Обычная. Такая бывает всегда, когда наших выпускников привозят оттуда… с Мерны. Собрали все курсы на малом плацу, генерал зачитал приказ о посмертном награждении. Потом А-спец из министерства что-то нудное плела, про героев, которым повезло, что их нашли целыми, вернули домой, и теперь они будут лежать в родной земле. Всё как всегда. Потом стали по очереди вывозить гробы, чтобы мы могли попрощаться, как полагается. И салют… На панихидах очень красивый салют! Небо такое цветное, будто в горошек. Мне нравится.
Долорес слушала тихо, едва дыша.
– Дальше… Говори, Чичче.
– Дальше? – Чезаре скрипнул зубами. – Ты, наверное, не знаешь: сейчас в целях экономии делают один ящик на несколько погибших. Транспортировка с Мерны дешевле, и вообще… Они там все вместе, аккуратно очень лежат, как ботинки в калошнице или… или как твоя моцарелла. Вообще удобно. Панихиды гораздо быстрее заканчиваются. Раньше подолгу, а теперь быстрее. Они ещё моторизированные – ящики эти. На колесном ходу. Едут себе друг за другом: один, второй, третий…
– Говори, Чичче.
– А тут наша рота как раз дежурила. Поэтому когда там с последним ящиком что-то случилось и он встал намертво уже за плацем, пришлось его до крематория доталкивать вручную. Я шел слева, а там как раз список тех, кто внутри… Смотрю – напротив шестнадцатого номера – Збринц. Понимаешь? Наш Збринц. Мы с ним дрались в каптёрке, а потом он меня за куревом в самоход гонял.
– Я здесь, Чичче, – Долорес легла рядом с Чезаре, прижалась к его худому телу. – Говори.
– И я сказал ребятам, чтобы сдвинули крышку. Сам не понимаю зачем. Может быть, хотел посмотреть или попрощаться по-настоящему. Не понимаю.
– Говори…
– Я его не узнал, Долорес. Их там двадцать или двадцать пять лежало. И я не узнал Збринца… Совсем. Они были совсем одинаковые. Я не узнал его! – Чезаре вдруг обхватил Долорес руками, уткнулся ей в шею и захлебнулся, задрожал, заметался, словно хотел что-то ещё сказать, сделать, но не знал как. – Долорес! Мне страшно. Я не хочу так.
– Не бойся. Не бойся ничего, мальчик мой, – она целовала его лицо, смуглые щеки, сухие напуганные глаза. – Всё будет хорошо. Я же рядом. Всё будет хорошо. Ты слышишь? Слышишь меня? Я буду тебя ждать, и ты обязательно вернешься.
Он вжимался в её такое родное, такое знакомое тело, и в голове у него вспыхивали цветные огни, сначала немного похожие на всполохи салюта, а потом непохожие уже ни на что, но нестерпимо прекрасные. Чезаре сам не понял, как стянул с Долорес её старую кофту, как её юбка оказалась где-то в ногах и как Долорес вдруг стала такой близкой, что нельзя было разобрать, где заканчивается Долорес Романо и начинается он сам – Чезаре Броччио.
Они стали любовниками, и сначала Чезаре было немного стыдно, но потом он привык, и радость от встречи с Долорес стала в тысячу раз сильнее, чем прежде. Теперь он совсем иначе целовал её при встрече и не стеснялся, когда она заходила в ванную, чтобы подать свежее бельё.
* * *
– Иди ко мне, – Чезаре любовался её смущением.
– Погоди, Чичче. Уберу моцареллу в холодильник.
– Позже, – звонко щелкнул карабин ремня. – Я очень соскучился.
Потом Чезаре Броччио курил и думал, что всё будет хорошо, и он обязательно вернется сюда и сядет за стол, покрытый клетчатой скатертью. Он думал, что по статистике на Мерне в первый год погибает всего лишь половина новобранцев, значит, у него есть отличный шанс выжить.
– Я горжусь тобой и верю, что ты будешь сражаться как настоящий мужчина, – прошептала Долорес.
– Давно хотел тебя спросить… – Чезаре запнулся. – У тебя есть… были дети? Точнее, сын?
– Я репродукт-неспособная, – голос Долорес полнился искренним сожалением.
– Разве в сур-матери берут неспособных? – Чезаре и сам не ожидал, что вопрос, который все эти годы считался табу, вдруг выскочит сам по себе.
– Что? – Долорес перевернулась на живот, потом привстала на локте, заглянула в лицо Чезаре. – Что ты сказал?
– Ну, я знаю, что ты сур-мать! – отчетливо повторил Чезаре. – С самого начала знал.
– Чичче! Чичче! С чего ты это взял?! Это же… Боже ты мой! Глупый! Какой же ты глупый. Маленький мой милый мальчик! Чичче! Да я… Ты… На, смотри! – Долорес вскочила с кровати, бросилась к высокому шкафу, распахнула створки. Рухнув перед шкафом на колени, Долорес достала откуда-то с самой нижней полки коробку, вытряхнула содержимое на ковер и вытащила оттуда карточки. – Смотри!
Сертификат о репродукт-непригодности, прошлогоднее подтверждение категории С, проф-удостоверение, идентификационная карточка. Долорес, почти захлебываясь слезами, швыряла в Чезаре документы один за другим. Чезаре, ошеломлённый, ничего не соображающий, сидел на кровати и часто моргал.
– Как не сур-мать? Как?
– Вот так! – рыдала Долорес. – Я техник. Простой пищевик-С, работаю по свободному графику. Понимаешь?
– Так ты просто Долорес? Никакая не сур…
– Да нет же! Господи! – Долорес тормошила юношу за плечи, целовала, плакала и смеялась одновременно. – Почему прямо не спросил? Глупый мой!
– Не знаю. Я балбес! Знаешь, я лишний раз думать об этом боялся. Где уж спрашивать?
– Лучше бы спросил! Как бы тогда всё было по-другому!
– Теперь и так всё по-другому, – Чезаре вдруг почувствовал, как в носу у него оживает щекотная жилка, а по щекам начинает стекать горячее и солёное. – Ты теперь просто моя Долорес.
– Чичче! Мой Чичче! Я буду тебя ждать! Обещаю.
– А я обещаю, что вернусь и привезу тебе платье! Красное. Из мернийского шёлка!
* * *
Вечером Чезаре хотел забежать наверх, в пыльную студию, где провел первые восемь лет своей жизни. Хотел попрощаться с Марией, поблагодарить за то, что когда-то она стала его био, извиниться, что уже года три не навещал, добавить что-нибудь про гражданский долг, про победу над врагом. Но неожиданно заснул, а с утра оказалось уже поздно – Мария ушла. Чезаре побродил по старой студии, подошёл к окну, раздвинул жалюзи, взглянул вниз – на Квинс – и спустился обратно.
Долорес не поехала провожать Чезаре до КПП, хотя он просил. «Боюсь, не выдержу», – извиняясь, пояснила она и снова заплакала. Слезы капали в недоеденный салат, отчего шарики моцареллы становились горько-солёными.
Долорес Романо и Чезаре Броччио попрощались у подъезда, там же, где и познакомились почти шесть лет назад. Когда дверь подъезда закрылась за Долорес, Чезаре наконец смог повернуться и пойти прочь. На войну.
Теперь каждый раз, когда сержант Чезаре Броччио идет в бой, он вспоминает о том, что дома его ждет Долорес Романо. «Я привезу ей новое красное платье», – твердит сержант, и ему становится легче, его жизнь приобретает смысл, а его слишком вероятная смерть отодвигается на неопределенный срок.
Известно, что возвращаются те, кого ждут.
* * *
Мария Таледжио встретилась с Долорес Романо только через два дня после ухода Чезаре на войну. Долорес, затянутая в униформу специалиста А-категории, поджидала в парке напротив корпуса институтской лаборатории.
– Чезаре ушел? – Мария кивнула Долорес как старой знакомой и присела на край скамьи. – Вы смогли убедить его, что вы, ммм…. Настоящая?
– Да. Всё вышло очень естественно и убедительно, не беспокойтесь. Мальчик уверен, что синьора Романо – это синьора Романо, и только. И знает, что его дома ждут. Всё, как вы просили.
– Я и не беспокоюсь, – Мария запнулась. – Возможно, моя просьба показалась вам странной. Но Чезаре всё-таки мой ребёнок, пусть и мальчик.
– Понимаю, – чуть хрипловатый голос успокаивающе зашелестел. – Сейчас многие био-матери первой волны просят о чем-то подобном. Нефункциональная эмоция, привязанность к сыновьям – печальный результат домашнего воспитания. Хорошо, что этот нелепый эксперимент остановили. Мальчик – на то и мальчик, чтобы воевать. Знаете, о чем я мечтаю, Мария? Чтобы уже запустили промышленное производство клонов, и чтобы женщины наконец-то избавились от этого унизительного и утомительного репродуктивного долга. Чтобы можно было просто рожать дочерей, жить, любить, радоваться…
– Рожать дочерей. Любить. Радоваться, – повторила Мария вполголоса и улыбнулась. – Да. Именно так.
Они попрощались вежливо, без лишних церемоний, как и положено двум спецам категории А. Мария ещё недолго посидела в парке, глядя на воробьёв, бултыхающихся в луже. Один, с вздорным хохолком и несуразно длинными лапами, особенно отчаянно нырял в холодную воду. Раз за разом, стряхивая с перьев серые брызги, лез в лужу и возвращался на берег. Возвращался? Мария закрыла глаза, досчитала до пяти. Потом встала и обычным упругим шагом направилась к выходу.
Вечером она не поехала в Квинс, впервые за многие годы заночевав в лаборантской. Работа над проектом подходила к концу, требовалось лишь выбить гранты на полевые испытания.
* * *
Через полгода сыворотка на термофильной основе – разработка группы технологов под руководством Марии Таледжио – пройдёт предварительное согласование.
Конструкторский отдел Института приступит к проектированию репродукт-системы с рабочим названием «Броччио Ферма».
Через пять лет несколько десятков «ферм» введут в эксплуатацию, а через десять месяцев они выйдут на проектные мощности.
Ещё через пять лет правительство отменит Закон об обязательной репродукции.
Женщинам не нужно будет больше рожать солдат – клонов идеального солдата Осо-Ирати Броччио.
Объёмы производства клонов увеличатся в сотни раз.
В результате удастся сначала приостановить атаки мернийского флота, а потом и перейти в наступление.
Группу биотехнологов во главе с М. Таледжио представят к правительственной награде. На церемонию награждения Мария Таледжио придёт со своей пятилетней дочерью.
* * *
Но это потом. А пока сержант Чезаре Броччио идет в атаку… Пока сержант Дваро Броччио идет в атаку… Пока сержант Эторки Броччио идет в атаку… Пока сержант Збринц Броччио идет в атаку…
Они идут в атаку! Мальчики. Солдаты. Похожие друг на друга, как шарики моцареллы, но все же разные.
Ведь одному из них нужно непременно привезти красное платье из мернийского шёлка для Долорес Романо. А значит, вернуться!
Ведь возвращаются лишь те, кого ждут.
♂ Сие – тварям Тёмная фигура Алексей Провоторов
Я иду, а пепел, наверное, шуршит под ногами. Я ничего не слышу сейчас, но должен же он шуршать.
Я серый, белый, чёрный в этом бесцветном мире. Моё тело ещё покрывает закопчённый металл, а вот ткань сгорела. Тлеют остатки плаща у самой шеи, тлеют обгорелые манжеты, но кольчужные перчатки пока держатся.
Я не вижу края. Конечно, нет. Край мира, надо же придумать такую чушь. Пепел опускается и взлетает вверх, как неправильный снегопад. Кричат, наверное, птицы, но я не слышу и их. Он летают вокруг, серые и лохматые от пепла; наматывают спирали. Нет уж, я ни одной не дам приблизиться ко мне. Я рискую пропустить послание от Устины, но, в конце концов, кто поручится, что там, в письме, не то самое слово, которое заставит меня рухнуть?
Может быть, птицы – конечно, это вороны, кто ж ещё, – даже кричат это слово, чтобы Гварда услышал и начертал его передо мной. Но я не знаю этого. В ушах всё звенит после огненного урагана, которым он встретил меня на подступах. А ещё я не ведаю, жарко сейчас на самом деле или холодно. Я просто иду.
Разбавленный, редкий воздух вокруг меня дрожит, плохо держит птиц. Они прыгают, волочат крылья; я отгоняю их, отшвыриваю.
«… И рыбы в воде, и птицы в небе, и древа в чаще будут противиться ему». Если б какому-то ему. Это ведь про меня написано. Про того, кто решит наперекор Богам сходить посмотреть за край мира. Уж на этот счёт Божья книга права. Я вспоминаю догорающую чащу и тихо смеюсь. Противьтесь. Я своими глазами увижу, что у мира нет края.
Держись там, Устина. Скоро всё кончится. Я уже вижу что-то за близкой грядой, выше пепла. Гору, дальнюю скалу – не знаю. Но оно – за краем известной карты. А значит, что-то там да есть. Мы были правы, Устина, подруга. Может быть, ты согласно киваешь сейчас, и твои золотые кудрявые волосы качаются, как пружинки. Я скучаю по тебе.
Меч в моей руке потёк каплями, но одна сторона пока остра, а лезвию ещё хватает длины. Этот меч не имеет имени. Значит, его нельзя заговорить.
Кожа моя пошла трещинами, но это не те трещины, которые могли бы остановить меня. Уж крови-то точно нет.
Ты будешь плакать кровавыми слезами, обещала волчица; ты побежишь в ужасе, сказал мне тот, огромный, прижавшись ко льду.
Теперь все они позади. Впереди лишь Гварда, и он смотрит на меня. Я вижу четыре смазанные точки, оранжевые, как настоящее пламя. Когда он поводит головой, за ними тянутся огненные нити. Наверное, он мог бы начертать слово в воздухе, просто двигая мордой, если бы додумался. Ему сейчас трудно. У него больше нет огня, а моя сталь ещё при мне. И не только она, что важнее. Интересно, какой здесь запах? Я не знаю. Не чувствую. Здесь и воздуха-то почти нет, а тот, что был – выгорел.
Пепел уже не летает, только редко падает с туманной высоты.
А вот и птицы отстали.
* * *
…За городом изгнанных, именуемым Миртва, встретил я рагану Теорезу, колдунью и божницу. Я не узнал её сразу, да и она меня, но там, при Миртве, пала моя тайна. Не имя, но суть.
Скорее всего, позже Теореза отправила птицу к Олефиру, что, как Божья гончая, летел уже по моему следу на своём медном коне. Того выковали ещё под присмотром самих Богов, прежде чем они покинули мир, наказав беречь бесчисленные заветы.
Мне бы не помешал такой, ибо лошади отказывались носить меня; уж животные-то чуяли. И потому я шёл пешком, пешком же вошёл и в город, где обрёл немногое и утратил нечто.
А было это так.
Я уже миновал обвалившиеся сизые башни, заплетённые багряным плющом, и пустую узорную мостовую главной площади и приближался теперь к западным окраинам города. Он был невелик, и покинутых домов я видал достаточно – мало кто хотел жить так близко от Закоты. Не так уж много вёрст отделяло Миртву от края карты, который многие считали и краем бытия человеческого; и ещё меньше – от земель, признанных божниками заповедными. Это было последнее селение на моём пути. Его основали некогда изгнанники королевства, и теперь ещё в Миртву ссылали провинившихся перед короной, хоть она давно уже была в руках у божников, а не на голове законного продолжателя династии.
Впрочем, до короны мне не было дела. Она никогда не могла стать моей, а значит, не могла и волновать меня. У меня имелись другие цели. Я был фигурой, которая намеревалась пересечь доску для игры не затем, чтобы вырасти в ранге, а чтобы нарушить все правила, шагнув за край доски.
На улице, протянувшейся по склону, на усыпанной золотом мостовой, я поднял яркий лист, на который едва не наступил. Зелёный. Может быть, последний зелёный лист всей этой осени.
Я подобрал его, почти не веря удаче. Только час назад птица с лапкой, перевязанной лентой, настигла меня. Лента была зелёной и совсем небольшой, но я забрал и её вместе с письмом, прежде чем отпустить птицу. Я положил ленту в сумку, рядом со склянками, чтоб была под рукой.
Я сжал черенок забранными в железо пальцами, думая, как сохранить лист в походе. Мне предстояло идти всю ночь, а прошлая выдалась морозной; и солнце уже наливалось малиновым, сваливаясь в зимний закат. Я чувствовал, что снег близко. Не сегодня, так завтра эти земли заберёт белизна, и мне негде будет добыть зелени, которая так нужна.
Если бы я знал об этом до начала пути. О, и плащ мой был бы зелен, и доспех, и рукоять меча я покрыл бы зелёными камнями. Да я б лицо выкрасил в зелёный цвет, если б ведал.
Теперь приходилось довольствоваться малым.
– Зачем тебе лист, рыцарь? – спросил меня человек, проходивший мимо.
– Дочери на игрушки, – ответил я неохотно. Я не любил города, в основном за то, что в них жили люди. А по их мнению, рыцарь должен поднимать лишь розы, брошенные прекрасной дамой, и по улицам ходить если не с окровавленным мечом в руках, то с головой врага или кубком победы.
Вряд ли я отсеку голову врагу своему, и уж кубка за эту победу мне точно не вручат. И так за мной погоня; Устина писала, что божники в ярости. Конечно, я бы тоже был в ярости, укради у меня кто-нибудь целую связку столь ценных и столь древних книг.
Однажды я побывал в городе, где больше не было людей. И, стоя под красными небесами, глядя на пустые дома, в тёмные окна без света, я понял, что мне не хочется уходить. А отсюда, из Миртвы, хотелось уйти поскорее.
Я спрятал лист в сумку, положив в сложенное письмо, и пошёл дальше. Прятал я и лицо – под низко надвинутым капюшоном серого плаща и высоко поднятым шейным платком. Я не хотел, чтоб Олефир знал, с кем ему сражаться. А что он летит за мной, я не сомневался. Впрочем, Олефир меня не волновал – я знал, что мы не встретимся, только бы мне пересечь реку. А она была недалека. Дальше уж меня отдадут на откуп Гварде, буде таковой существует и ждёт нарушителей на краю мира.
Проклятое словосочетание, преследует меня. У мира нет никакого края, что бы ни было написано в Божьей книге, что бы ни лгали столетиями божники, рисуя круг и назидательно грозя тяжёлыми от золота перстами над краем карты, где белое, незаполненное поле вокруг мирового диска было помечено лишь двумя словами: сие – тварям.
Я шёл, осматриваясь.
Осень упала на город, засыпала его золотом, бронзой, пурпуром. Улочки на склонах холмов утопали в опавшей листве, камень стен укутал плющ, как будто окрестные леса хотели утащить городок в себя. Пройдёшь вперёд – есть город, вернёшься назад – нет.
Вот было бы хорошо.
Я никогда не бывал здесь раньше. Но путь мой был не так уж долог, и это немного пугало меня. Границы известного, разрешённого Богами мира оказались не столь велики, как привыкли себе представлять люди, никогда не выбиравшиеся из Центра. Нет, велики, конечно же, но не гигантских, я бы сказал, размеров. С некоторых пор я начал подозревать, что эти границы – обман. Что мир – не диск, вращающийся в пустоте по воле Богов, и что за краем его не обитают злобные твари, ибо мир – это шар.
Размышляя об этом, у одного из дворов я увидел облетевшую, одичалую грушку. На ветках ютились маленькие, круглые, скорее всего невероятно терпкие плоды. Я остановился и сорвал горсть, потому что они были зелены.
– Эти совсем не вкусные, рыцарь; угостить тебя спелыми жёлтыми? – спросила молодая хозяйка, выглядывая из калитки.
– Нет, спасибо, – ответил я. – Люблю бросать их в напиток. Для кислоты.
Я пошёл дальше, пока не вышел из обвалившихся, обмазанных глиной, белёных старых ворот, оставил за спиной город, где никогда не узнают, что у меня нет дочери и что я не люблю кислого. Город, где я добыл немного зелени.
Девушка в цветочном венке, в простом платье, с белой кожей и чёрными волосами, пасла на лугу овечку. Белую, пушистую, словно облачко. Шар шерсти и крутые рога. Я даже морды не видел.
У девушки была зелёная лента в косе, а во второй, как я увидел секунду спустя, – красная.
– Девица, подари ленту рыцарю, – попросил я, проходя мимо.
– Зачем рыцарю лента? – спросила она, улыбаясь ровными белыми зубами. Конечно. Я взглянул на ногти.
– На память о такой красавице, – ответил я, не изобретая пышных поводов.
Лицо её показалось мне знакомым, и я не удивился.
Девушка взялась за красную.
– Мне бы зелёную, – сказал я.
– Зачем тебе зелёная, рыцарь? Красная красивее!
– Красному, – сказал я, глядя ей в лицо, – и дурачок рад. А я не дурачок.
– Я поняла, – ответила девушка, и глаза её потемнели, сравнявшись цветом с провалами зрачков. Ну, собственно, я не слишком таился. Да и она тоже – такие красные губы, белые зубы, цветные глаза и розовые ногти бывают только у колдуний. Нет, красивых девушек полно, но эти всегда перегибают.
И вот когда глаза её стали почти черны, я узнал её, рагану Теорезу. Ибо мы были знакомы, как знакомы почти все колдуны Центра.
Надолго ли надела она платье, надолго ли подняла глаза от чёрных книг?..
– Восстань! – рявкнула дева, являя покрытый синими татуировками язык. Не в магических целях – просто ради моды. У неё ещё и уши были проколоты. Вот пошесть.
Овца зашевелилась, разогнулась, разворачиваясь, как зверь броненосец, являя миру мослы и жилы, металл и дублёную кожу. Кадавр из железа и кости, покрытый шерстью.
Ростом он оказался повыше меня; живот был пуст и провален, и обвитый проволокой позвоночник виднелся среди всяких металлических шипов и шестерней, насаженных на выступы костей. Готов поспорить, я узнал зубы от бороны и грабель, и рыбацкую пику.
На рёбра, стянутые сыромятными лентами, были набиты стальные острия; кости – явно не только овечьи – украшала затейливая резьба. Руки оказались человеческие, числом четыре; а вместо головы был конский череп с бараньими рогами, увитый лентами; один зуб его был медный, а второй стальной, и в глазах его было пусто, лишь свиток старой бумаги слабо желтел в темноте.
Он был страшен, на первый-то взгляд. Я бы понял рыцарей, которые бросили бы меч и бежали. Я же свой не бросил. Я носил простой клинок, безымянный, и магия ничего не смогла сделать с ним.
Рагана отскочила в сторону, когда её боец шагнул ко мне, а я к нему.
Сильный, скотина, и быстрый. Он не стал фехтовать, а просто ударил по моему мечу, подавшись вниз половиной тела, и тот чуть не вылетел из руки. Его меч скользнул поверх моего и попал мне в лицо, так, что брызнули осколки. Мой же клинок он взял рукой, не чувствующей боли, и стал выворачивать. Второй удар пришёлся мне в шею, раскроил капюшон.
Я рванул меч, отрезая кадавру пальцы, пригнулся, уходя от удара круглым деревянным щитом. Тут было важно, чтоб он не обрушил ничего мне на голову, я мог и не выдержать.
Я перебросил меч лезвием вверх, резко разогнулся, и его левая верхняя рука в обратном движении налетела на лезвие. Её срезало вместе со щитом; обескровленная плоть полетела на жёлтую траву, а я рукоятью нанёс удар ему в голову, развалив конский череп. Моя рука тоже была тяжела.
Его повело вбок, и, прежде чем он выровнялся и ткнул мечом в мою сторону, я выдрал из его головы свиток и разорвал его. Потом толкнул ослабевшее тело на землю – оно с грохотом упало в пыль, и некоторые кости, например, ключицы, сломались; – и начертал клинком ему на лбу короткое слово.
Теореза глядела на меня во все глаза. Она никак не ожидала, что я свалю её творение. Ну да, кого другого он бы убил. Но никого другого здесь не было.
Я шагнул к ней, и она запнулась о свой складной стул и упала на локти.
– Ленту ты дашь наконец или нет? – спросил я, приподняв девичью косу лезвием меча.
Рябь прошла по атласу, не пропала, а собралась в чешуйки, и зелёная змея, мгновение назад бывшая лентой, устремилась ко мне по мечу.
Я выругался и бросил клинок, но она нырнула в рукав, скользнув по кольчужной рукавице, и укусила меня в тот самый момент, когда я поймал её за хвост.
По крайней мере, попыталась.
Теореза было расхохоталась, но быстро замолкла.
Я выбросил змеюку подальше, одновременно наступив ногой на меч, чтоб рагана не сцапала. Разрезанный капюшон съехал на затылок.
– Дошло? – спросил я с досадой. – Расскажи им теперь.
– Ах ты сволочь, – сказала она. – А наши гадают, чего никто не смог тебя уделать. Чтоб тебе неладно было.
«Красавицы проклянут его и отвергнут; зверь заговорит с ним чёрной пастью в час хладный, и рыбы в воде, и птицы в небе, и древа в чащах будут противиться ему».
Ладно, что поделать. Ленту вот жалко. Дальше городов уже не будет, и ничего такого зелёного я уже не достану. Змею, что ли, надо было поймать?..
– Ты хоть кто? – спросила она.
– Ха, – невесело, но удивлённо сказал я. – Смеёшься, что ли?
– Отступись, – сказала она. – Ты проклянёшь сам себя, когда увидишь край мира и чудовищ, что живут за ним. Но они узрят тебя, и будет поздно.
– Нет никакого края, – сказал я. – И никаких чудовищ. Ты врёшь, проклятое отродье, и все вы врёте. Я поговорю с тобой, когда вернусь.
– Ты не вернёшься, – сказала ведьма.
– Я удивлю тебя.
Теореза рассмеялась, и смех её сопровождал меня, пока город не скрылся за поворотом дороги.
– Проклят! Будь проклят! Да ты уже проклят и проклянёшь сам себя! Сам!
Я всегда знал, что божники, хоть жрецы, хоть колдуньи, хоть городские пижонки вроде Теорезы – слегка неуравновешенные. И старался поменьше с ними связываться. И правда, какие нормальные люди будут так гоняться за мной из-за пары книжек и моего желания выбраться за пределы карты? Ну не верю я в запреты Богов – что в самих Богов мне верить не мешает, ибо их в прошлом лицезрели слишком многие, – но ведь не убивать же за это, в конце концов?
Я шёл, кроша сабатонами сухие листья, пока не вошёл наконец под сень леса, и он принял меня, заглушив далёкий злой смех раганы.
Солнце истаяло в дымке. Близился вечер, и редкие лужи в лосиных следах подёрнулись ледком. Он звенел под ногами.
Никто не хотел, чтобы я достиг края мира. Потому что у него нет края. Старым сказкам жрецов придёт конец, если окажется, что мир кругом существует. Наверное, наши земли в легендах других, неведомых стран почитают за опасные – наши границы стерегут истинные твари, и все они не за пределами круглой карты, а внутри неё. Стерегут нас от нас же. Чтоб мы всегда сидели здесь, ждали Богов и чествовали божников. А они правили бы всем, чем можно править, якобы блюдя заветы о том, каким Боги хотели бы найти свой мир, когда вернутся.
…Только вот что-то всё больше стало подпадать под эти заветы.
Может, в древности Богам легче было управляться именно так; может, они и правда укрывали нас, свой народ, от каких-то грозивших нам тогда опасностей. Но с тех пор, как они истаяли в голубой дымке неба, оставив лишь сброшенные рога и отмершие когти, никто из людей, живущих в пределах Диска, не покидал его. Герой давних преданий, Агап, рыцарь с чибисом на гербе, однажды бросил вызов божникам, – такой же, как и мы с Устиной. И, по рассказам, тоже нашёл ключи, которыми Боги усмиряли Гвард, самых мощных своих созданий, коих оставили на страже границ мира, якобы от тварей, обитающих в бездне.
Но Агап, перебравшись через реку Закоту, что будто бы опоясывала мировой диск, так никогда больше и не вернулся; можно было бы поверить, что он ушел за поля карты, но конь его возвратился к реке, и свидетели видели рану и кровь у коня на боку и репейник в гриве. Конь не смог переплыть реку обратно и исчез в заповедных лугах за нею. С тех пор никто из живущих, кроме божников, за Закотой не бывал.
Может, Боги и вернутся, хотя, кажется, уже вряд ли – видно, есть у них ещё миры, кроме этого, – но в то, что мир не диск, я верил безоговорочно. Я сам видел книгу, где доказывалось, что мир – это шар; я знал, что Агап видел её и оставил запись «Просмотрено Агапом из Скуй» на последнем листе; и Устина видела книгу тоже. Та, судя по всему, была древней, когда автограф легендарного героя был ещё свеж.
Об этом думал я, пока наползали тучи и багровело за ними высокое осеннее небо, в лесу, оранжевом и жёлтом.
Я вынырнул из своих мыслей и остановился, ибо почуял зверя. Не дыхание, не шелест, не лай загоняющий, а взор. И не в затылок или спину, как, бывает, бросают взгляд, желая зла, а в лицо, в глаза.
Я остановился, не шевелясь, замер, истинно как статуя, и вгляделся в синие тени, из которых уже выглядывала скорая холодная ночь. Ничего, только полосатая птица перелетела с ветки на ветку да лист упал с клёна.
«… И зверь заговорит…»
Замирать, видно, у меня и правда получалось хорошо. Были тому причины, было и подтверждение: бурундук перебежал дорогу едва ли не в локте от меня, видно, приняв за каменное изваяние. Синица села на плечо. Я выждал ещё немного – не из осторожности, а потому что хотел посмотреть на бурундука и синицу, – и шагнул вперёд. И тут из теней и кружения листьев, рыжий и седой, как сам лес, вышел зверь. Большой, зараза, в холке мне по пояс. По шерсти его пробегали искры. Он сморщил нос и оскалил желтоватые зубы и тёмные дёсны.
– Не заграждай пути, – сказал я, и убоялся, что он ответит мне.
– Я не пропущу тебя, – ответил он хриплым высоким голосом, и я увидел, что пасть его черна.
Ну вот, значит, я и дошёл до черты, и древние механизмы провернулись на своих осях. Второе совпадение с Божьей книгой за один вечер.
– Почему? – спросил я его.
– Ты идёшь на край мира.
– У мира нет края.
– Боги велели людям никогда не заглядывать за него.
– А тебе велели стеречь? Ты не думал наплевать на приказы богов, которых уже полтысячи лет никто не видел?
– Я не предам создателей и не накличу тварей, что живут за краем мира. И тебе не дам.
– Боишься за свой лес? – я рассмеялся.
– Боюсь за весь мир.
– Извини, глупо звучит, учитывая твой вид.
– А ты свой таишь.
– Есть причины.
– Уваливай.
– Как грубо.
– Я могу и порвать.
– Я могу и зарубить.
– Был тут один такой.
– Не такой. Да и его, Агапа, ты как-то пропустил?
Зверь нахмурился, пошуршал лапой в листьях.
– То не я, то был отец моего отца.
– Назвать его дедом, что, вера не позволяет?
– Я верю в то, что Боги вернутся.
– Я и не отрицаю. Просто хочу посмотреть, что там за клеткой, которую они для нас отвели.
– Там твари, рыцарь. Но ты не увидишь и их – Гварда остановит тебя, как остановил Агапа.
Я шагнул к нему, и зверь подвинул лапу вперёд. Изящную, я бы сказал. Он весь был словно нарисован хорошим графиком, почти утончённый, с золотыми глазами и тёмной шерстяной маской на рыжей, не то волчьей, не то лисьей морде. Лапы его были подобны волчьим, когти кривы, а хвостов было, конечно, семь.
– Уходи, – сказал я.
– Возвращайся, – сказал он одновременно со мной.
– Нет – ответили мы хором, и я рванул из ножен меч, а он взвился с места, словно пружина.
Как мог быстро отскочил я в сторону, и зверь толкнул меня лапой и плечом, так, что я полетел в листву.
Клинок свистнул, рассекая холодный воздух, и зверь прянул вперёд, ниже меча, чтобы ударить меня лапами в грудь. Я отступил в сторону и развернулся, не опуская клинка.
Зверя занесло в листве, но он повернулся на удивление быстро, распахнул пасть и снова припал к земле перед прыжком. Я подал руку от плеча вперёд, и клинок вошёл ему в пасть.
Мне оставалось лишь дожать удар.
Вместо этого я медленно, медленно потянул клинок на себя, по языку зверя. Металл скрежетнул о зубы.
За спиной зверя, выкатившись из леса, стояли два маленьких волчонка. Пушистых, неуклюжих.
– Твои? – спросил я.
Тот кивнул, осторожно.
Теперь я понял, что это была самка. Боги, почему иногда я так туп.
– Я оставлю вас в покое, если ты дашь мне пройти.
Ещё одно согласное движение головой.
Я достал меч. Он был чист, ни капли крови.
Охапкой осенних листьев я вытер его.
– Но ты будешь плакать кровавыми слезами, когда увидишь край мира, – сказала волчица, или кто она там. – Я бы не дала тебе пройти, несмотря ни на что. Но есть шанс, что тебя остановят другие. Пока он есть, я не буду рисковать детьми.
– Я бы не тронул твоих детей в любом случае, – сказал я. – А теперь я ухожу. Живи и дай жить другим.
– Ладно, я-то что. Так, просто предостережение. Гварда разберётся.
– Спасибо, конечно, теперь я уведомлен. И пойду по своим делам.
– Ты не вернёшься, – сказала волчица.
– Я уже слышал это, – ответил я. – Когда-нибудь я вернусь, отведу тебя к краю карты и покажу земли, что лежат за ним.
С этими словами я отвернулся от неё и пошагал дальше. Мне казалось, что она вцепится мне в шею, но она осталась стоять там, где стояла. Когда я не выдержал и обернулся, её уже не было, только низкая ветка качнулась. Как ладонь, отгоняя: иди, мол.
Невидимое за ветвями и тучами солнце скатилось за горизонт и погасло, наступила ночь, а ночью пошёл снег, и тонкий лёд снова звенел у меня под ногами. К утру лес стал чёрным и белым, только иногда алый лист проглядывал из-под покрова. Я прошагал целый день, и ночь, ожидая стука медных копыт, но его не случилось. Никаких препятствий. И никакой зелени.
Снова наступило утро, и я подумал, что скоро уже станет видна Закота.
Я вышел к ней спустя час. Не стал доставать карту, не стал ничего сверять. Это была та самая река, которая опоясывала мир. Если верить карте, конечно. Как могла река течь, если ей некуда было течь, если она не имела начала и конца? В Божьей книге, написанной нашими предками под диктовку самих божественных исполинов, было записано, что вращение диска придавало ей движение. Море на карте мира было в центре диска.
В другой же древней книге, на неизвестном языке, но с прекрасными иллюстрациями, мир был шаром. Ни я, ни Устина не нашли на тех картах нашей страны, но, честно, я не так уж представлял себе, как её там искать. Я и не был во многих её местах; сюда же, на Запад, я отправился лишь потому, что именно на Гварду Западного пути некогда нашёл управу Агап. А значит, ключ этого Гварды точно описывался в старых фолиантах божников, которые Устина осталась читать после моего поспешного отбытия.
И этим ключом был цвет. Теперь уже я знал и это, и какой именно цвет. Жаль, его здесь не было.
…На реке лежал лёд. Наступала зима, подкрадывалась от края мира, края, которого не может быть; и маленькую лодочку, вмёрзшую в ил у самого берега, припорошил снег. На скамье пестрели свежие следы белки: маленькие ладошки и ступни. Отчего-то они подняли мне настроение.
Я осмотрелся в прозрачном, стылом воздухе и начал спускаться к берегу, придерживаясь за плети багровой, как вчерашний закат, прибрежной ежевики. Все ягоды на ней уже засохли, и все листья стали из зелёных багровыми.
Конечно же, я не собирался возвращаться: ведь Олефир был, скорее всего, близко, да и неизвестно, не пришлось ли уже бежать Устине, оставив своё убежище. Божники не теряли времени; раз меня поджидала Теореза, приманивая зеленью, значит, они уже знали, что мне известен ключ. Они знали это не от Устины – тогда птицы от подруги я уже не дождался бы, – а просто потому, что им было известно, что же написано в книгах, которые мы украли.
Мне стоило спешить, пока они не узнали моё имя и не наложили заклятий. Теореза не могла сказать его Олефиру или отослать птицей к жрецам – другое она увидела под капюшоном, а не знакомое ей лицо.
Пара воронов железно перекрикивалась в белом небе, медленно падал снег, такой редкий, что я не сразу его заметил. Стояла тишина. Я понимал, что могу не перейти реку. Хотя, подойдя к берегу, убедился, что лёд уже достаточно прочен. Наверное, он лёг ещё вчера – погода иногда и в Центре выкидывала странные штуки, словно бы и правда зависела от неких незримых колец. Но сейчас она играла мне на руку, и я не стал об этом размышлять.
Лёд лёг на чистую воду, без снега, и был прозрачен. Слабый ночной снегопад присыпал его, но ветер смёл снег с середины реки, и казалось, что я шагаю по воде или по стеклу. Глубина подо мной молчала. Только лениво колыхались подо льдом чуть светлые полосы водорослей. Зелёных. Но я не мог достать их.
Я шёл, глядя в завораживающую глубину, и заметил движение.
То, что я считал очертаниями подводного рельефа, тенями в струях воды, сдвинулось, стремительно воспарив к поверхности. И ударило снизу в лёд.
Огромный рот прижался снизу к ледяной глади. Он поглотил бы и меня, и пару лодок за раз.
– Остановись! Ты в ужасе побежишь назад, когда доберёшься до края мира!
Голос звучал, словно из бочки, глухо, мощно, но разборчиво. Дрожь прошла по доспеху.
Я не стал отвечать ему.
– Ты станешь искать убежища, но будет поздно!
По льду пошла трещина, и я ускорил шаг, радуясь широким подошвам. Жаль, весил я в доспехе немало.
– Ты не вернёшься!
Вместо ответа я побежал, как мог, ибо оно снова ударило в лёд, он треснул, и стылая вода хлынула по глади. Трещина с сухим хрустом обогнала меня в долю секунды; а за ней другая. Вода из трещин примерзала на бегу. Я прибавил ходу, поскользнулся и упал на колено и руку. Лязгнули склянки в сумке, и, поднявшись, на бегу я распахнул её, чтобы проверить, целы ли. Мне бы ничего не сделалось, но проливать их содержимое на льду я не хотел.
Стекло не треснуло, жидкость оставалась в сосудах, зато налетевший ветер, словно назло, выдернул из сумки лёгкую зелёную ленточку и понёс вдоль реки.
От третьего удара лёд вздыбился осколками, тёмная вода залила ступни. Но я был уже у заснеженных корней, у берега. Спустя мгновение я вскочил на сушу.
Громадный некто, похожий на рыбу налима, чёрный и тяжёлый, выпрыгнул до половины из воды, хватая воздух белыми губами над страшной пастью, и обрушился в воду, мягко, почти без плеска, как и не было его.
Я отбежал на всякий случай подальше и вскарабкался на склон. Но за спиной было тихо, никто не шумел, никто ничего не говорил.
Я обернулся на реку. Чёрная вода уже успокоилась, сожрав мою зелень, а вот на том берегу я увидел движение. Медно-красный, заиндевевший конь выехал на берег, и человек в чёрном плаще досадливо выругался. Впереди него, прижавшись к его покрытой бронёй груди, сидела рагана, и красная лента по-прежнему была у неё в волосах.
Снег в эту минуту повалил сильнее, и я даже немного полюбовался ими, пока Олефир ругался. Гроза беглецов и верный пёс божников. Я показал ему один жест и пошёл дальше, уже не оборачиваясь.
Даже не будь в воде этого громадного, он бы в речку не полез – утлая лодка не выдержала бы металлического коня, а мостов через эту реку не наводили. Ибо Божьи твари не трогают только божников, и лишь тем можно приближаться к краю мира, раз в год, чтобы покормить Гварду.
Теперь и я ступил на запретные земли, и даже шёл по ним, никем не остановленный, слушая, как свистят в лесу птицы. Местность ощутимо подымалась вверх.
Все отстали от меня, и я шёл ещё несколько дней. Птицы перестали приносить вести, и я понял, что Устине пришлось бежать. Если только она не была схвачена, в чём я сильно сомневался.
Я проверил свои находки. Негусто. Лист засох и поблёк, груши сморщились, пожелтели и покрылись чёрными пятнами. Вот тебе и вся зелень.
В карту я для порядка заглянул, хотя и так знал, что максимум на ширину ногтя отстою от внешнего контура и белого поля за ним. Сие – тварям, написано там, с краю. Буква Т потекла.
Тварь, по крайней мере одна, должна была ждать меня ещё в пределах карты. В начале похода я надеялся, что Гварда – лишь страшные сказки, придуманные жрецами; но всё больше убеждался, что книга Богов всё же не везде врёт. Так что Гварду они вполне могли там оставить: беречь очерченную границу.
И если Устина права, если ключом действительно служит зелёный цвет; если Гварда ляжет, как послушный пёс, стоит показать ему что-нибудь зелёное – то мне ему показать нечего. А пройду ли я его без ключа – большой вопрос.
Впрочем, всех остальных я вроде бы миновал. Хотя… Птицы и древа. Меня беспокоили эти птицы и древа. Иногда я посматривал на небо, не летит ли там что-нибудь величиной с коня.
Нет, никого там не было. Ни чудовища, ни даже воробья.
Тут царила какая-то пустая, почти бесснежная зима.
Начались скалы, а к скалам жался голый чёрный лес. Небо словно истончилось и потемнело. На камнях, облитых серым мёртвым мхом, иногда я видел царапины. Словно что-то точило о них когти.
Что-то, передразнил я себя. Каков романтик. Как будто я не знаю.
Гварда, конечно. Спускался, бродил здесь, да и точил.
Я прикинул размер когтей и подумал, что Божья книга таки не врёт. А жаль, я так надеялся на то, что они там прихвастнули.
Я ускорил шаг, всматриваясь в лес, который казался засохшим. Он стоял, чёрный, будто в нём запуталась ночь, сухой, покрытые скудным снегом вышние ветви были как штрихи по краю. Кое-где тускло бронзовели кроны зимних дубов, жадных до собственной листвы. Они будут хранить её всю зиму. Странно, подумал я, ведь Гварда ходит здесь, как же зелень, которая для него запретна?
Потом понял. Пока лес зелен, он и не приближается сюда; никак не может. И именно поэтому божники отправляются кормить Гвард среди лета.
Я вошёл под лесную неприветливую сень и пошагал вперёд. Здесь когда-то была дорога; кроны над головой не смыкались, тянули друг к другу ветви, но пока достать не могли. Лет через сто тут и впрямь всё зарастёт.
Тоннель был достаточно широк, чтобы здесь прошёл Гварда. Такой, каким он нарисован на старых жёлтых страницах дрожащей рукой.
Да уж, я б под диктовку Богов вообще ничего не нарисовал бы.
– Помогиии… – тоскливый, с переливом, звонкий голос позвал меня. Рассыпался о деревья, и, подрагивая, разлёгся в холодном воздухе.
– Помогиии… – и мольба, и просьба, и жажда, и страстное желание ответа. Да что ты будешь делать.
Я остановился и прислушался. Далеко слева. Кого б ещё занесло в такую даль? Кто мог терзать невинную – а может, тысячу раз виновную – жертву?
По второму вопросу я мог бы составить список. Но не Гварда, и то хорошо. Там на помощь-то особо не позовёшь.
– Помогииии…
Иду. Разве ж я пройду мимо, последний рыцарь на краю мира? Я усмехнулся.
Было в этих криках о помощи что-то задумчивое. И такое личное. Не помогите, а помоги. Как будто мне.
Эх, подумал я. Красавицы проклянут его, и отвергнут.
И свернул с тропы в чащу.
Было темно. Чёрные палые листья, тёмно-серые стволы, головокружительное сплетение веток; мир, будто бы второпях заштрихованный пером – рваные, колючие линии, терновник, дубы и что-то неведомое мне. Голос доносился всё чётче, не то чтобы громкий, но хорошо слышный в тишине. Хотя воздух тут был редкий, как будто разбавленный пустотой.
Я пригнулся и вынул меч. Он путался в зарослях и немного мешал, но мало ли чего. В конце концов я наловчился отводить им ветки с дороги. Но те всё равно лезли в лицо, а одна стянула с меня капюшон. Я напялил его обратно. Не от холода – холодно мне не было, голодно тоже; – а ради образа. Так не было видно моего лица, а в темноте – тем более.
– Ээээээээй… – голос уже не просил о помощи, просто звал. Мне, первый раз за всё путешествие, вдруг сделалось не по себе. Дался мне этот край. Сидят себе люди дома, слушают, что сказали им Боги, и ждут, когда те вернутся с полными пригоршнями процветания. А меня вот понесло за поля.
Я вышел в низину, где росло одно лишь дерево. Старое, величины непомерной; наверное, четверо таких, как я, могли бы обнять его.
Оно росло из крутой, глубокой впадины. Чтобы спуститься к нему, мне нужно было скользить по откосу.
– Помоги же, рыцарь! Спустись и освободи меня! – голос шёл прямо из большого тёмного дупла, начинавшегося на высоте четырёх футов от земли. Отсюда разглядеть я никого не мог.
– Чудовище схватило меня и приковало здесь! – раздался звон цепи, и бледная рука на мгновение мелькнула в темноте.
Я ступил на край и съехал вниз по склону.
Дерево качнулось, изгибаясь, с рёвом и грохотом обрушило на меня ветви. Земля выскочила из-под ног, и я кубарем полетел вперёд, прямо головой в дупло. Которое враз ощетинилось треугольными, сырыми шипастыми крючьями. Или зубами.
И древа…
Удар. Я влетел в тёмное липкое пространство головой вперёд, и тут же пасть древа сомкнулась у меня на спине. Чудовищный удар сотряс всё моё тело.
Я вонзил меч в днище этой пасти и оттолкнулся, отчаянно рванувшись назад.
Пасть приоткрылась и снова ударила, поведя в сторону. Меня собирались пережёвывать.
Доспех не выдержал, кожаные пластины на животе лопнули, наплечник смялся и разошёлся по шву; плащ промок и разорвался. Я же не чувствовал никакой боли.
Рёв, грохот и всё такое, конечно, мешали. Я перехватил меч лезвием вверх и вонзил в нёбо. Потом рванулся и выбрался из пасти. Что я успел увидеть, кроме ржавого железного мусора – так это кости и маленькие, бледные веточки, выросшие внутри дупла и похожие на руки. Никакой, даже завалящей красавицы, готовой меня отвергнуть. Только я и деревянная тварь.
– Притворяешься, скотина, – выдохнул я и тут же получил хлёсткий удар ветками в лицо. Кто-нибудь другой и глаз лишился бы.
– Скотина, – повторял я, обрубая ветви, норовящие ударить по голове; изловчившись, второй рукой я достал склянку и запустил ее в дупло, сдавив перед этим в кулаке. Косая насечка на стекле лопнула, склянка разбилась, и бесцветная жидкость, резко посинев, вспыхнула и расплескалась огнём по всей пасти.
Должен же я был захватить пару на всякий случай.
Древо заорало, теперь без слов, и исторгло из себя горящую ветошь, кости и железо. Интересное железо. Нагрудник, например, с чибисом, гербом Агапа. И истлевшую, но целую ещё суму.
И нечто, что я схватил мгновенно, не пожалев двух секунд, хотя древо уже пылало, как хороший факел. И орало не переставая. Не знаю, что оно такое было, но, схватив ту штуку на простой цепочке, я побежал оттуда так быстро, как не бегал ещё никогда.
Вот только лес загорелся на славу, не обращая никакого внимания на снег у себя на ветвях. Огненная стена шла за мной, и я начал ломиться наискосок, желая скорее достичь старой дороги.
В любом случае, я продвинулся уже дальше, чем легендарный герой, который на деле оказался не так прочен, как я.
Я вырвался на дорогу. И когда лес кончился, а за спиной у меня, обдавая искрами и пеплом, воспылало гигантское пожарище, мой плащ ещё был относительно бел и почти нигде не прожжён.
Но ненадолго.
Я поднялся на острые камни по некоему подобию тропы, и, стоя у подножия мглистых скал, чувствуя ветер, толкающий меня в спину, настигнутый дымом и пеплом, я узрел Гварду наверху, в каменном гнезде. И, содрогнувшись, пошёл к нему, не доставая меча. Откуда-то с высоты, из-за клубов дыма, планировал ворон; за ним другой, и вроде бы ещё один. Устина? Или, может, уже божники? Такой фокус был бы в их стиле – если они нашли её убежище, то могли отправить по моему следу воронов, со словом, которое, конечно, подобрали для меня, глядя на следы наших приготовлений. Устина вряд ли попалась, она слишком хороша в своём деле. Но посланий я читать не буду, даже если они и от неё. Ибо я уже у цели.
Я надвинул капюшон пониже, пригнул голову и пошагал вперёд и вверх, где на условном краю мира открыл четыре огненных глаза Гварда Запада, страж древних и суровых Богов.
* * *
Конечно, он рад бы ещё раз ударить издалека пламенем, но запасы его в лёгких, или где там, истекли. С острой, шипастой морды, с загнутого крюка над пастью падают кипящие огненные капли, но это уже не то. Я подхожу ближе, на расстояние прямой схватки, и, наконец, Гварда, огромный, рукастый, цвета камня, сдвигается с места, и, как ящер, рвётся ко мне.
Я поднимаю меч, но надеюсь не на него. В левой руке у меня чистейший зелёный камень в стальной оправе, ключ Гварды, похищенный Агапом у божников. Я показываю ключ, зелёный и граненый, чудовищу, и оно припадает на лапы. Кладёт голову на зализанный пламенем, ещё горячий камень. В глазах его тоска. Во всех четырёх.
– Лежать, – говорю я, словно командую собаке. А что мне ещё говорить"? Я не знаю. Он лежит…
Вдали, чуть выше края скал, я вижу какой-то исполинский, далёкий силуэт – горный кряж или отдельный пик. Я поднимаюсь, чтобы выйти на край скалистой гряды, который со времён Богов зовут краем мира.
Кожа моя трескается всё сильнее, сыплется чешуйками, осколками. Камень падает на камень.
Человек бы тут не выдержал… И я бы давно сгинул, гораздо раньше даже, чем схватился с кадавром раганы. Если бы шёл в своём теле.
Но я, колдун Центра по рождению и обучению, хорошо научился создавать другие. Синяя глина, рыжая глина, белая глина, огонь, колдовские шестерни и свиток со словами, замурованный в крепкое нутро. И вот мой человеческий разум – в каменно-прочном, по-звериному гибком, неприхотливом, несокрушимом, безликом теле, которому не нужны ни отдых, ни еда. Моё же тело лежит, словно в забытьи, в надёжном доме, далеко и отсюда, и от нашего с Устиной убежиищ.
Я поднимаюсь на самый гребень. Я, победитель.
Внезапно откуда-то сверху, с высоты облаков, падает ворон, перемахнувший-таки и выжженные территории, и скальный подъём. Падает мне почти в руки, заслоняя горизонт. Я узнаю его. Это точно ворон Устины, на лапке письмо, на нём – её печать, её почерк.
«Остановись и читай!»
Красными чернилами.
Не вовремя, ведь я уже вижу за дымом очертания неведомых гор.
Но я останавливаюсь, вскрываю письмо и читаю.
«Игнат, остановись! Божья книга права!
Мир есть диск, и за краем его живут твари. Я нашла это в книгах, которые мы украли.
Гварды сидят на краю мира, а люди никогда не должны показываться на нём. Так твари думают, что на нашем диске живут сплошь опасные чудовища, равные им.
А шар же – родной мир Богов, и ту книгу они принесли оттуда. То их шар, не наш. Наша – плоскость.
Беги оттуда. Ни за что не приближайся к краю. Сейчас Богов нет, и, стоит тварям из-за края узреть человека, как они не пощадят никого, как бывало в иные времена на других мирах.
Надеюсь, ты читаешь это, Игнат.
И да помогут нам Боги.
Устина».
Медленно я разжимаю пальцы, и письмо падает в бездну; ветер как раз унёс дым.
Я стою на срезе земли, на краю, и вижу слоистые пласты, уходящие в полную звёзд черноту. Вдалеке, в огромном далеке висит остров, похожий на гору, на пик, на летающую скалу; и с него на меня взирает тварь. Я не могу оценить её размер, но думаю почему-то, что Гварда рядом с ней покажется не крупнее пса.
Тварь вытягивает шею, встаёт на сложенные крылья. И я понимаю, что она заметила меня.
И что она не одна.
Ужас пронзает мою душу насквозь, и я понимаю, что я наделал.
Разглядела ли она меня? Узрела ли во мне человека? Боги, я не знаю. Но я поднимаю глиняную ладонь и мечом царапаю на ней слово, которое заставит моё тело рассыпаться и рухнуть. Я смотрю на то, что пишу, и, лишь только я завершаю последнюю черту, как приходит лёгкость, невесомость и полная темнота. Хватает меня невидимой лапой и разбивает на куски.
* * *
С диким криком на вдохе я очнулся в своём личном убежище, крупная дрожь била меня, когда я вскочил.
– Будь ты проклят!.. – выдохнул я, не забыв добавить своё имя. Из носа и уголков глаз шла кровь от резкого перемещения, но мне было всё равно.
Я думал об одном – как быстро очнётся Гварда на краю мира, если за нами придут твари. И как быстро он сможет начать их жечь.
2. Конь
Защитник, блуждающий Рыцарь. Символизирует использование как интеллектуального, так и духовного пути. Прыжок коня – интуитивный и плутовской ход. Конь подчиняется Марсу, мужскому началу.
Ничего, я тоже не подарок, — У меня в запасе – ход конём. Владимир Высоцкий♀ О шнырях и шеланях Тёмная фигура Лариса Бортникова
Как сейчас помню, что, когда Хетко становилось одиноко, он начинал бузить! Когда Хетко начинал бузить, на селе били в пожарный колокол и – врассыпную. Можно было, конечно, предложить Хетко гномьих кровяных колбасок, студня из эльфьих ушек подсунуть корытце-другое, а толку? Ходил, бедолага, по улицам и вопил как резаный, а кого встретит – порвет на части и с костями сожрет! Так он ретивое успокаивал. Тётка Сумия, не та, что торгует шерстью в лавке на углу, а другая – из кроволюбов, говорила, мол, пара ему требуется. А где найти-то эту самую пару, когда Хетко из охотничьих шнырей один-одинёшенек остался. Все повывелись. Может, за Северным Хребтом и прятались ещё какие, а у нас в околоте только один Хетко шнырял туда-сюда.
Нет, не подумайте, он так зверь незлобивый, в большинстве своём травоядный, а вот, случалось… Дык, оно у всех случается. Иногда меня самого как прихватит этот «случАй» – такое творится! Шерсть отовсюду прёт, когти крюками заворачиваются, и зубищи лезут, аж дёсны кровят. Я тогда Рогнеде – жене своей, ору: «Тащи цепь, Рогнедка! Сейчас бузить начну!» Она баба бывалая, в момент все дела побоку, и в чулан. Привяжет меня к печке, водицы поставит перед мордой, а сама к тёще – «оборот» пережидать. У Рогнедки другой коленкор – русалит помаленьку. Порой ждёшь всю ночь, а она под утро прыг в кровать! Фу ты! Мокрая, плотвой воняет, залезешь ей между ног, а там одна чешуя зелёная – сразу всю охоту отбивает. А так красавица она у меня – Рогнеда, из первых переселенцев, как и я. За это нас на селе особливо уважают и даже побаиваются. Ну, и из-за Хетко раньше тоже опасались, ясен пень. Хетко – супружницы моей приданое, а кроме него, ещё три сундука всякого добра и драконка с упряжью. Хорошая драконка, расписная. Бывало, впряжешь в неё ящурку, крикнешь: «Охо, каурая!» – и на разгон, а там как полетел, как полетел… Красотища! Хетко пока щенком считался, в драконку запросто влезал, а подрос, пришлось бедолаге пеходралом шуровать. Мы с Рогнедкой меж облачков ныряем, песни поём, а шнырь внизу скользит лохматой тенью. Очень, я вам скажу, внушительный выезд получался! В гости, или там к бывшему Старосте околотошному только так и ездили, чтоб уважение питал.
* * *
А вообще-то я не об этом. Вернее, о Хетко, поскольку не будь его, ничего бы и не сталось, но не с того начал. А надо бы с другого. Вот так, к примеру.
У нас на селе, да и во всей околоте порядок завсегда крепкий держался. Народ наш весёлый, но не особо шальной. Убивства, разумеется, происходили, но только по делу. Либо обиду смыть, либо законный охотничий трофей взять. А охота – святое! Здесь своих-чужих нету. За неделю вывесишь на тын красный горшок, все знают – на охоту собрался. Кто послабее, за сельские ворота не выходи! А коли не трусишь – пожалуйста. Либо я тебя, либо ты меня. В топях или в лесу каждый – дичь! Так уж испокон веков завелось, по-иному не бывает. Если же не сельский по дороге попадётся, его беда. Нечего по чужим угодьям шастать, сам виноват. А уж пришлый! Хотя пришлые в околоту не совались, окромя чудоборцев.
С этой братией у нас завсегда разговор особый. У каждого накопилось. Я, к примеру, когда впервые чудоборца повстречал, ещё мальцом был. Тогда затаиться подвезло, а мамка с выводком не успела. Во второй раз чуть было не помер. К нам на хутор один забрёл – камня на камне не оставил. Батю, жён его, детушек… и тех не пожалел. Пожег всех белым пламенем. Я схитрил, в прихвостни подался. Набрехал, что желаю, мол, самолично от нечистой сути отказаться и прочую нелюдь гнобить. Пришлый надо мной руками помахал, меж бровей вонючей мазью потёр и в город с собой забрал. Вот так и выжил. Потом ещё года два с ним чудоборил, рясу себе справил кожаную, амулетов понавешал – оно с амулетами сподручнее. Словишь хоть лешака, хоть нявку, хоть семейство гангрелов степных, помашешь перед ними заговорёнными кулонами – те и замрут. А на эльфов-длинноухов с гномьём только сила нужна и злость, а этого во мне – с лихвой. Неплохое это занятие – чудоборство. С одной стороны, от пришлых спасение, с другой – вроде не просто на «пожрать» убиваешь, а из соображениев… Нравилось мне.
А однажды на берегинь с «моим» пошли. Плёвое дело! Тот в озерцо посохом ткнул – забурлила гладь. Берегиньки голые, вонючие, из кипятка наружу скачут, визжат, будто оглашенные, а мы их добиваем заговорёнными кольями. Пока я – одну, чудоборец – пяток. И что-то вдруг мне тошно стало! До этого всё – трын-трава, а тут – тошно! Отбежал под кустик, яичницу с салом наружу скинуть. Гляжу, а в камышовой поросли девчонка притаилась. Глазищи с блюдце, тина ко лбу прилипла. Трясется. Меня как оглушили! Развернулся я, хребтом выгнулся, завыл. В «оборот» пустился. Это под полную луну хоть не хоть «бузить» приходится, а в будний день – токмо от душевных мук и переживаний. Ох и прихватило меня то переживание! Чудоборку – хозяина своего – раскидал шматками по бережку, он даже «волчью звезду» супротив меня достать не успел. Девки обратно в озерцо поползли, а Рогнедку я (то Рогнедка была) взял за руку и повел в околоту. Указ тогда только-только вышел. Мол, пусть весь нелюдь соберётся и тихонько в околотах далёких сгинет, а там его трогать не будут, если нелюдь зла чинить не станет. Вот и ушли мы. Там остепенился, землянку отрыл, Рогнедкиной родни с приданым дождался. Зажили помаленьку. Рясу с амулетами Рогнедка во дворе зарыла – подальше от греха.
Чудоборцев долгонько в округе не видать было, а потом снова надоедать начали. То гномы посыльного пришлют, в пещерах встретился, мол. То Староста примчится, сход соберет, шепнёт про случайно забредшего в околоту чужого. Да не верил я никогда в такие вот случайности! Эх, опять сбился. Не о том речь.
* * *
После свадьбы нашей уже вёсен десять прошло, а то и поболее. Сидим мы с Рогнедкой как-то на крылечке, чай пьём. Чай вкусный, шишками отдаёт. Тут надо сказать, землянка наша точно рядом с лесом пряталась – крайняя на селе. Пьём, значит, и вдруг из чащи выходит дед. Дед как дед, только родом из последних пришлых, из человеков то есть. Этих вмиг распознать можно: зрачки страшные, круглые, а ногти на пальцах (тьфу ты, мерзость) розовые, будто шкурка дитёнка новорожденного. Подходит к нам, усами шевелит, улыбается. Потом присел на приступочку, с посоха былинку сдул. У посоха набалдашник огненным переливается, жаром пышет. Нас с Рогнедкой в момент трясун хватил. Надо бы бежать, да ноги онемели. Прижались мы друг к другу, сцепились пальцами от ужаса. Не простой дед – чудоборец!
– Не пустите переночевать, люди добрые? – глянул на меня, вроде и ласково, да только стужей от него пахнуло.
– Отчего же не пустить, – лепечу, а сам думаю, не иначе прознал про мои истории. Нехорошим в башке мелькнуло – может, Рогнедкой отделаюсь. А что? Нечисть ещё та! Мало того, что русалка, так к тому же и баба!
– Да ты не трепещи, волчок. Не за этим я пришел. И жёнку успокой.
Я ещё пуще испужался. Надо же, сразу распознал во мне звериное. Даже ноздрёй не повел, а понял.
– А что ж тебе надобно, мил человек? – спрашиваю, а сам на посох пялюсь. По переливу-то ясно – силы чудоборец немереной!
– Слухи ходят, хозяин, что охотник ты знатный…
– А что слухи, что слухи! – Рогнедка с крыльца скок, и руки в боки воткнула – не то ерепенится, не то плавники ладонями прикрывает. – Меньше верить надо! А если и охотник, так только по мелочи.
– Ты бы чайку-то плеснула, рыбка. Утомился я. Значит, «по мелочи»? А мне мелочь и надобна. Говорят, осталась у вас в Руцуловых топях шелань. Врут, поди, но проверить стоит. Проводник нужен.
– От ты хрень! – у меня от волнения подмышки вспотели. Псиной завоняло. – Неужто взаправду шелань?
Дед плечами пожал, посмотрел на меня хитро. Потом взгляд на сараюшку перевёл, где Хетко от солнца прятался.
– На рассвете пойдём. Высплюсь хорошенько, и тронемся.
Рогнедка ему во дворе постелила, сама к матушке бегом, а я остался. Заснуть не мог, думал.
Шелань (или, как её по старинке кличут – «желань») – зверушка не простая, самая что ни на есть волшебная зверушка. Кто словит её да приголубит, тому выполнит шелань хотение самое потаённое, самое долгожданное, то, что никому, даже бабе родной ночью выболтать боишься, а то и сам толком не ведаешь. Потаённое у каждого – одно. И тут уж твои разные думки или громкие слова сути не имеют. Чует хитрюга, что у тебя внутри искрой трепещет, и иного исполнить никак не может! Вот возжелай я, к примеру, стать царём эльфийским, и трезвонь о том на всех углах. Для шелани такое – раз плюнуть! Только не мое это, не взаправдашное. И никак не смог бы я на лесном троне сидеть. Или, скажем, старостой околотошным – тоже не смог бы, потому как внутрях стремления такого нет… Или Рогнедка, вон, по ночам хнычет – по дитю тоскует. Только какие дети-то у оборотня и русалки? А шелань всё бы вывернула, как мечтается. И стала бы жёнушка люльку качать и малышонка баюкать. Но не моё это великое желание, а Рогнедкино. И как бы жалостью я ни маялся, не вышло бы такого счастья.
Долго не спал, думал, что не ведаю, чего бы натворила зверушка-желанка, случись мне её поймать. Всего себя перерыл – переворошил, будто сена сноп, а не понял… Даже огорчился. Неужто всю жизнь впустую проваландался, ни искорки в душе не скопил. Потом, правда, успокоился – всё одно не владеть желанкой! Ведь чтоб махрютку пушистенькую поймать, сперва норку тайную вызнать требуется, а водится шелань в топях непроходимых, куда даже берегуны соваться не смеют. До места ещё добраться нужно, да по дороге злое творить никак не след – кровь унюхает, испугается зверёк. А брать шелань можно только на слово-приворот хитрое. Шкурка у шелани золотая, глаза зумрудные, ушки махонькие. К норке надобно подкрасться близёхонько, позвать ласково. И тогда выскочит она наружу, поведёт блестящим носиком и – прыг к хозяину в ладошки. Тут-то оно и свершится! Сбудется сердцем выпестованное! Всё может шелань, всё ей по силам. Кроха, но волшба ей дадена великая! Потом можно выпускать зверушку – чудесного толку от неё не остаётся, и на вид становится она точно мышь – неприметная, да вонючая.
А ещё сообразил я, что дед и про норку пронюхал, и словцо лелеет, и светлое желание своё уж наверняка знает. А что один не пошел, помощи просит, так то понятно. Как сам в топь-то полезет? Сгинет старик. Туда в одиночку даже я не ходок, хоть в человечьем, хоть в волчьем обличьи. А вот Хетко запросто! Не я чудоборцу надобен, а шнырь болотный, так-то.
* * *
Поутру раненько поднялся, ящурке корму задал, шныря проверил. Вышел во двор, а дед в бочонке с дождевой водой плещется – проснулся уже.
– Встал, волчок? – чудоборец посохом повертел, протер рукавом, залюбовался. На заре особливо чудно блестели искорки.
– Встал. Сейчас Хетко выведу. Чай, без него не пойдём?
– Не пойдём. Ты с собой покушать побольше возьми. Баловать по пути не дозволю.
– Ясно, – понурился я маленько. Понял, что охотиться чудоборец мне не даст, чтоб шелань не спугнуть ненароком.
– И не обессудь, но коль худое удумаешь, живым не оставлю.
Кивнул я. Его правда – шелань шеланью, а жизнь подороже ценится. Оставит чудоборец Рогнедку вдовой, развернётся и домой пошагает, а через год снова вернётся как ни в чём не бывало. Встречал я эту братию. Нелюдь для них – что мошкара лесная.
– И еще, волчок, – дед ко лбу ладонь козырьком приставил, прищурился, на опушку глянул, – с другом я. Так его, как меня, уважать и слушать станешь. Ну, чего медлишь? Пора!
Не полюбилось мне сказанное, и верно – только мы втроем на тропу выбрались, унюхал я чудоборова дружка, вздыбил загривком. Хетко тоже волноваться начал от знакомого запаха. А уж когда из травы навстречу длинноух выскочил, чуть не позабыл я стариковы наставления. С трудом удержался и шныря приструнил. Длинноух Хетко с ног до головы оглядел, присвистнул. На меня не покосился даже, только ладонью махнул. До самого заката молча шли. Впереди я с Хетко, за мной дед, а эльф чуть поодаль. На ночь под кедром разложились. Хетко в клубок свернулся, я по привычке к нему прижался – теплее так, а дед посохом пошуровал, костерок развел и прилёг рядышком. Длинноух исчез, но не далеко – я его всей кожей чуял.
– А ты молодец, чудобор, не выдохся, – это я правду сказал. За мной из наших сельских мало кто поспешает, а тут пришлый.
– Привычное дело, – дед в костерок дунул, тот ещё пуще затрещал. – Подходи, волчок. Звать-то тебя хоть как?
– Грэшем кличут, – соврал я, – а ты кто будешь?
– Воле я, Седой Воле, а друга моего Иэль зовут.
Вот это штука! Если не брешет старик, длинноух из самых первых, да ещё и самка. Сколько ж ему, тьфу ты… ей вёсен-то будет? Я глаза прикрыл, дремлю вроде, а сам прикидываю: в одну буквицу имечко – точно из первых! Тля белоглазая! Из-за них все невзгоды на наши головы и порушились! Заявились неведомо откуда, вытравили нас с родной земелюшки. Заставили побросать тёплые норы, похватать детушек, в холодные пещеры переселиться. Сколько лесух да кикимор от ядовитых стрел погибло! А кроволюбов сколько? Уже вслед за длинноухами гномье племя прибыло. Те уживчивые, хитрые. Со всеми договориться сумели. С нашими околотами торговлю сладили, эльфов тёплыми плащами да серебряными наконечниками для стрел приручили, человечкам камушки бестолковые из гор наковыряли. На гномов-землероев горькой обиды вроде и нету, да только чужие они. Но хуже белоглазых не было и нет народа! И правильно, что человеки передавили их всех! А кого не успели ещё, те – на нашей совести!
Хетко заскулил, видно, лесная вошь в ухо попала, пришлось подняться…
– Не спишь, Грэшем? – чудобор серым пеньком скрючился у огня.
– Заснёшь тут с вами, – не хотел я грубо, но уж так вышло.
– Не любишь ты нас, а?
– А за что любить-то, за то, что в околоты согнали и за нечисть держите? – и что меня пропёрло? Видать, с голодухи – за весь день только вяленой рыбы кусок сжевал. – Если мы на вас не похожи, чай не значит, что…
– Истину говоришь – любить не за что, – перебил дед, – да и мы вас не жалуем. Мешаемся друг другу – не можем землю одну поделить. А вот хотел бы ты, Грэшем, жить как прежде? Чтоб без чужих, чтоб свободно… Чтоб по дедовскому охотничьему закону, а? Ведь так у вас принято?
– Кто ж не хочет, – присел я на корточки, на стариковскую бороду уставился. Понять пытался, чего мудрит-то.
– Вот, вот… И я о том же мечтаю, и Иэль… И Хейрем.
– А это ещё кто? – удивился я.
– Завтра увидишь, у Руцуловой горы ждать нас будет, – дед в рясу, словно в одеяло, закутался и захрапел. Посох, правда, в руке цепко держал. Опасался.
* * *
Хейрем, краснолицый, узкоглазый, соскочил с круглого камня и, перебирая толстенькими ножками, потрусил к нам. То, что неведомый Хейрем самое что ни на есть обыкновенное гномьё, я ещё вчера сообразил, пока ворочался да над чудоборовыми словами размышлял. Только никак не сообразовывалось в башке, что ж они всем гуртом за шеланью-то направились. Спросить не решался, не проводниково это дело – с вопросами лезть. К беседе прислушивался, разобрать пытался. Да где там! Гном попался болтливый, за один день всю свою жизнь расписать сумел: как родился, как женился, как деток рожал. К полудню меня уже зевота умаяла, эльф посерел с тоски, а дед ничего – слушал, улыбался. Дорога попервой хорошая была, утоптанная. Потом тропкой обернулась, а там уж через чащобу продираться пришлось. Хетко впереди ломился, а мы за ним по ободранному сушняку хрустели. Путь мне был неведомый, но по приметам да по ветерку слабенькому, тиной припахивающему, шли прямиком куда следует. Помыслилось было: «А не завести ли в непролазную глушь чужаков, а там бросить, не жалеючи, на верную гибель». Но тут же и передумалось. И ведь уж не столько чудоборца страшился, сколько любопытство заело. Уж больно хотелось узнать, что за зверёк такой – «шелань», и зачем это Седой Воле – пришлый чудоборец – такую толпу собрал. К болотам уже в сумерках подобрались.
– Спать тут будем. Хетко, лежать! – я котомку на землю скинул, сел на травку, вздохнул. Красотища-то какая! Облака котятами белыми балуются, за красной ленточкой зари угнаться норовят. Лес шумит, ветерком плещет, крошит на поляну жёлтой листвой. Обернулся, а длинноух к ясеню жмется, ладонями кору трогает, лопочет по-своему. Я ему мешать не стал, смекнул, что лечит он деревце. Умеют они это, надо признать. Чудобор с Хейремом в сторонке стояли, шептались о чём-то. Я уши навострил, но понять не понял – уж больно тихо.
– Долго еще? – глаза белые, голос шуршит, и мясом пахнет.
Меня передернуло, но сдержался. Сказал спокойно, даже усмехнуться получилось, не скалясь.
– Думаю, к обеду в самую топь проберёмся, а там Хетко пущу. За шнырём след в след ступать надо, а то затянет.
– Хороший шнырь, умный, – это уже дед с гномом подтянулись.
– Угу, редкий зверь. Не осталось почти.
– Горных хисталей тоже нет, а чудные были твари. Шелань, опять же, попереводилась вся, – гном башкой мотал, сокрушался, – драконы плодиться не хотят, скоро и их по пальцам пересчитать можно будет.
– Так раньше, когда вами тут ещё и не пахло, всякого навалом было. И шарушки двухвостые, и хмеры ядовитые… А гривастые свиксы такого страху нагоняли. Вы и не застали, поди? – подколол я. Мол, не запамятуйте, кто здесь самого древнего роду будет, кого эта земля первого встретила и кому родной стала.
– Да… Чудесен наш мир, леп безмерно, – чудоборец растянулся рядом с Хетко, запустил пальцы в его шерсть. Тот не фыркнул даже, зажмурился, – только чересчур разный народ в нём обитает, чтоб сумело одно солнце всех принять и согреть.
– Пока вас не было, нам хватало, – разозлился я.
– А всё оттого, – глазом не моргнул чудоборец, – что законы у нас непохожие. Вот скажи, к примеру, Хейрем, какой у гномов главный Закон.
– Семья да ремесло, – выкрикнул гном, – а здесь никакого покоя. С женой на ярмарку выехать боишься, не то нечисть зацапает, не то эльф пристрелит, не то людь ограбит. А что, и скажу: плохо нам, неуютно. Вот.
– А ты Иэль, ну? – дед взглядом успокоил раскрасневшегося землероя, тронул ладонью расшитый эльфийский плащ.
– Свобода, любовь, красота, – прошептал (или прошептала – их разве разберешь?) Иэль, – без чужих.
– А у нас – охота. Вечный закон – побеждает сильный. Так мы живём, – прорычал я, влезая без приглашения, – и никто нас за это не судил и судить не смеет!
– Видите? У каждого – своя правда. И у всех – похожая ненависть друг к другу и мечта похожая – жить по своему завету, как до нас жили наши прадеды, как должны жить наши внуки.
– Продолжай, чудоборец, – Иэль пристально, не мигая, уставилась на старика.
– Я к тому, что потаённое у каждого из нас одно, а то и нету его ещё в помине, или неясное оно, неокрепшее, бестолковое. Вот, скажем, вдруг Хейрем больше всего мечтает в душе птицей стать, а Грэшем старостой околотошным…
– Да не хочу я старостой, ни к чему это мне, – перебил я.
– Наверное, не хочешь. Это я хотел разъяснить, что порой мы сами не ведаем, что за тайный огонёк в душах у нас пылает. А вот нелюбовь наша взаимная – огромная, живая, хоть в руки бери, словно зверушку дивную – шелань, что может только раз исполнить самое важное. И если соединить искры нашей ненависти в единое, такое пламя разгорится, что огонечку и не чета вовсе. А слову приворотному я вас научу. Простенькое оно совсем.
Тут-то я и понял, куда дед клонит. Нет, не хотел чудоборец нам добра и не меньше, а то и пуще меня длинноухов да землероев не терпел, а уж что про моё племя думал, по лицу его я сразу приметил. Только не доверял своей людской сути – боялся, что желание глупое пересилит мечту великую – мечту о своей земле… Вот зачем собрал он нас – разных, злобой дышащих… Если мы все вместе шелань позовём, то исполнит то, что нам вчетвером одинаково хочется. «Одна ненависть и одно желание»… Не знаю и знать не хочу, чего дед другим наплёл, чем заманил, напугал чем, да только первый раз за всю жизнь признал я за пришлым первенство и захотел ему в ноги поклониться.
– Я маленько тугодум, мне потяжелее, чем вам, будет, – Хейрем на камушек присел, ладошки к щекам приложил, а между пальцев слёзы заблестели. Эльф головой согласно мотнул, засмеялся. Я до этого эльфьего смеха и не слыхивал. Красиво, оказывается, будто галька речная пересыпается по дну озерца.
– А ты что скажешь, оборотень? Или не с нами?
Горло у меня вроде как сцепило, только глазами моргал сильно-сильно, чтобы поняли.
* * *
Если бы не топь непролазная, прямо в ночь бы и помчались, попетляли по кочкам. Слово дед нам сказал, не соврал – совсем лёгкое оказалось. Я уж потом дивился, Рогнедке расписывал, что ведь ни капли не помыслил для себя утаить. Мог ведь уйти ночью и Хетко забрать, а не ушёл. Потому что стало это желание для нас всех будто костёр – жгучий и яростный. А чуть рассвет занялся, уже все на ногах были. Я шныря с цепи спустил. «Искать, Хетко! Шелань!» – крикнул. Тот и рванул по болоту. По дороге пару кикиморок спугнули – Хетко не остановился даже. Понял, что не просто так охотимся – за мечтой спешим. Хороший зверь – болотный шнырь, и друг хороший – всё понимает, всё чувствует. Бежал впереди, а за ним и мы неслись как угорелые. Следы у Хетко огромные, заметные. Где ступит, туда спокойно вставать можно. Гному, правда, тяжело пришлось. У Хетко шаг, сами понимаете – десять гномьих. Пришлось землероя на закорках тащить. А остальные ничего – приноровились прыгать. За чудобора побаивался я – ан зря: он на посох, словно на костыль, опирался и бойчее прочих ногами перебирал. В самую глубь забрались, я уже сомневаться начал, да и Хетко шеланей в жизни не нюхал… И вдруг замер Хетко, задышал тяжело, ноздрями задвигал.
– Сидеть, – кричу, – сидеть!
– Неужто нашел? – землерой мне из-за спины орёт. Я его подхватил за ноги покрепче и к шнырю. Подбежал, уставился под лапищи шныриные, а там… Мамочки!!! Сидит под жиденьким кустиком такая рыженькая, ростом с Рогнедкину ладошку, носик махонький, ушек не видать совсем, а глазищи напуганные и зеленью из них расчудесной сверкает. А хвостика-то и нету. Нету у шеланей хвостика.
– Она, что ли? – выдохнул тихо, но так, чтобы гном услышал.
– Почём знаю, – отвечает, а у самого сердце стучит так, что я аж рёбрами чую.
Пока на зверушку дивились, эльф подоспел, за локоть чудоборца поддерживает. Выдохся всё ж таки старик. Я на него обернулся, гляжу – что-то не так. Оказывается, упал дед наш и посох свой прямо в трясину уронил. Утопла чудоборова сила. Посторонились мы, пропустили старика. Тот руками всплеснул.
Заискрились круглые зрачки, узнал дед волшебную зверушку – шелань. Долго чудобор рыженькой любовался, а потом примостился на корточки и к нам повернулся, мол, пора… Я Хейрема на землю поставил, к длинноуху плечом притиснулся. Сопка небольшая попалась, места едва хватало, но ничего – уместились. Ладонь к ладони прижали невиданным ковшом. Сцепились мои лохматые пальцы, белая с синеватыми жилками рука Иэль, мозолистые кулачки гнома-землероя и вся в морщинах дедова сухая ладонь. Слово приворотное медленно, в один голос прошептали – коротенькое оно. В жизни мне так жутко не было, как в тот миг, словно душу собственную в клыках сдавил сильно-сильно, а потом замелькало, закружило всё вокруг… и остановилось.
Я глаза раскрыл тихонечко и обмер! Как стояли вчетвером, так и стоим, только бледные все очень, а болото, сопки, кусточки чахлые да небо синее ничуть не поменялись. И ветер всё так же тиной пахнет.
– И что же? – эльф первым очухался. – Что?
– Не знаю, – дед руками развел, улыбнулся, а у самого на щеках мокро, – не знаю. Видно, всё – ложь. И никаких шеланей нет и в помине, а есть только мыши рыжие – болотные. Или слово не верное, или… Не знаю…
– А зверёк-то где? – Хейрем озирался.
– И правда, где зверёк? И это, Хетко куда девался? – у меня голова гудела, да ещё, как я ни выворачивался, как носом ни водил, шныря своего найти не мог. Исчез шнырь, будто и вовсе не было. И шелань с ним исчезла.
– Убежать не мог? Спрятаться? – в голосе эльфа сквозило сочувствие.
– Куда бежать-то? Где ты тут хоть деревце видишь? Сплошная зелёная гладь да трясина.
– Кхе, кхе, кхе… Шнырь, говорите? Кхе, кхе, кхе… – Седой Воле хохотал, схватившись руками за бороду. Я испугался, что старик от горя обезумел, потряс его за плечи.
– Дед, а дед, ты вставай давай. Нам ещё обратно пилить. Хорошо бы к закату управиться.
– Шелань-то взаправду волшебная тварь. Чудо расчудесное, а мы не поняли…
– То есть? – длинноух меня от старика оттащил, – Объясни, чудобор!
– Значит, кто поймает шелань да приручит, тому и – удача, верно? Значит, как раньше жить мечтали, как по закону, верно? Кхе, кхе, кхе… Чтобы чужих не было…
– Ну, не томи, – я злиться начал, не на деда – нет, на свою тупоголовость.
– Грэшем, друг мой, кто зверушку поймал?
– Ну, мы поймали. Хетко загнал, а мы… Хетко?!
– Шнырь?! – в один голос завопили эльф с гномом.
– Он самый!
– А слово, слово-то… Да и о чём животина мечтать-то может?
– Мечтать? Думаю, о том же, о чем и мы все – о свободе! И к чему ему слово. Шнырь да шелань – одного рода-племени твари. Вот ты, волчок, намекал, будто первыми вы на эту землю ступили, будто твои родичи ею по праву владеть могут?
– Ну…
– А про сутей древних позабыл? Драконы, хистали, свиксы твои гривастые, шныри те же да шелани рыжие испокон веков здесь водились. Из полей, лесов кто их согнал да повывел?
– Ну, – почесал я шею, – так вроде ж – зверьё. Как иначе-то?
– Мы тоже об оборотнях так думаем… Думали, – прошептала Иэль.
– Без пришлых, значит… В этом мире мы все, выходит – пришлые. Без разницы кто. А истинные хозяева… Больше нас о земле своей печалились. Вот и исполнили шнырь да шелань заветную мечту. Увели свой род от чужих, и сами ушли.
– Кормил Хетко, кормил, блох вычёсывал, а он… – огорчился я.
– Про прошлое своё позабыл, однако, Корр? Не ему одному свобода и дедовский закон дороже миски с похлёбкой.
Вздрогнул я, когда дед меня по имени назвал. Знал, получается. Всё время знал.
– И что же теперь? – Хейрем никак не мог сообразить, что произошло.
– Обратно пойдём, – я подхватил его и привычно уже пристроил у себя на спине. – Держись крепче и не пужайся, сейчас «оборачиваться» стану. Иначе пути не найдём, шныря-то нет больше.
– Обопрись, старик, – Иэль чудобору плечо подставила, усмехнулась. – А ведь они могли не уходить, могли нас вон вышвырнуть… Странно.
* * *
Как добрались, рассказывать не стану. Ну его! Дохромали потихонечку. Воле у меня в землянке ещё долго отлёживался. По вечерам говорили мы помногу. Обо всём: о жизни, о законе, о вражде, о ненависти и любви, о прощении и мудрости. Иэль заглядывала, приносила травки разные, шепталась о чем-то с Рогнедкой. Рогнедка ходила вся красная, загадочная. Потом уж, когда забрюхатела, призналась, что пила особый настой и мне в еду пыли разной подсыпала. Хейрем с семейством приезжал, забрал драконку (к чему она, коли ящурки не стало) и смастерил из неё люльку, всю камушками усыпанную. А когда на сходе меня в старосты околотошные прочить начали, сказал я нашим про мысль, что мне покоя не давала. Сказал, что раз уж жить нам с длинноухами, землероями да человеками плечом к плечу, то надо бы…
А Хетко… Что Хетко? Поди, нашёл себе на новых землях подружку и не бузит больше.
♂ Волк, Всадник и Цветок Светлая фигура Алексей Провоторов
Снова наступал вечер, и Волк С Тысячею Морд опять нагонял меня.
Я уже слышал этот топот, от которого дрожала трава и умолкали смущённые птицы. Он мчался за мною, перепрыгивая реки и прошивая стрелою леса.
Я решил не гнать Коня, чтобы Волк С Тысячею Морд догнал меня засветло.
В долине меж зелёных холмов, именуемой Эллен-трэй, он меня и настиг.
Он забежал наперёд, и мы остановились.
– Стой, тебе не проехать дальше! – заявил он, ссаживая со спины Фолма и Макхама. У Макхама развязалась шнуровка на сапоге, и он в ней запутался. Я удивлялся, как он поутру находит край у кровати, чтобы с неё встать. Я сказал ему об этом, и он окрысился, показывая длинные и тонкие, как иглы, зубы. Их я уже видел раньше.
– Перестань, в конце концов, смеяться над моими людьми! – оскорбился Волк С Тысячею Морд. – Ты, между прочим, ничем не лучше их, да к тому же воришка! – Где ты здесь заметил людей? – спросил я, озираясь по сторонам. Голубые и розовые мотыльки порхали над травами, не решаясь сесть на дрожащие ещё стебли. – Отдай мне моё! – рявкнул он и бросился вперёд. Но стальная бабочка, что я выпустил из руки, села ему на нос и укусила его ядовитой иглою. Он умер в прыжке, и, когда рухнул на траву, она запылала под его телом.
– Ну вот, опять он умер, – сказал я Фолму и Макхаму. Они не осмелились заступить мне путь, и я погнал Коня дальше, зная, что у меня снова появилось время, теперь уже до полуночи.
«Сие Волк С Тысячею Морд, – сказано в книге, – и число ему – тысяча».
Я поправил цепь, которую мне так и не пришлось размотать, и дальше гнал Коня на пределе.
Кругом были зелёные холмы, только над головой – алое закатное небо. Мой светлый конь тоже казался красным, а узоры на его шкуре, днём тёмносиние, теперь выглядели угольными рисунками.
– Потерпи, Конь, – сказал я ему. – Когда мы доберёмся до Поля Вод, я дам тебе отдохнуть.
Я звал его просто Конём, ибо его создатель не озаботился такой мелочью, как дать ему имя, а никто другой сделать это был не вправе; даже я.
Мы скакали уже сутки, с того времени, как я выжулил у Волка С Тысячею Морд его сокровище. Он не сразу бросился в погоню, а то мне было бы не уйти. Два раза он уже догнал нас, на рассвете и в час зенита. Первый раз он был очень удивлён, когда стальная змея, что я выпустил из мешка, скользнула к нему в траве и убила его. Волк С Тысячею Морд двигался куда быстрее моего Коня, но это здорово задержало его. Во второй раз я отделался от него, выпустив стальную мышь, которую, правда, Фолм чуть не разрубил мечом. Вот теперь это повторилось снова, и до полуночи я мог его не ждать.
Мы летели во весь опор, ноги коня слились в сверкающие полосы; первые звёзды на небе, как обычно, сложились в знакомое имя; потом взошла луна, и в ее свете Конь снова обрёл свои настоящие цвета: серебристо-белый с тёмно-синими спиралями узоров. Луна же в эту ночь была огромной и странной; видно, где-то неподалёку творилось колдовство.
Мы проехали земли Тарамиска, Нижней Дельвии и Поймута. Дельвийские эльфы, нервничая, с криками бросались прочь от моего коня, горстями выскакивая из-под копыт. Большой чёрный ворон какое-то время летел за нами, выкрикивая всякие слова; белые цветы в заводях Поймута провожали нас, поворачивая вслед пышные соцветия; у Левой горы Вечный Повешенный приветливо помахал нам рукой из своей петли; я улыбнулся и помахал ему в ответ, когда мы пролетали мимо.
Постепенно луна поднималась всё выше, и странные знаки наконец исчезли с неё, так что стало светлее. Полночь застала нас в безмолвных лесах Кератаса. На широкой лесной дороге, откуда ветер вымел все палые листья, я снова услыхал поступь Волка С Тысячею Морд. На этот раз я не придерживал Коня, пытаясь выиграть время.
Он догнал меня быстро, пролетел мимо – его халат развевался на ветру – и развернулся мордой ко мне так резво, что его даже занесло. Мой Конь встал на дыбы. Я на всякий случай ослабил обмотанную вокруг руки цепь, а вторую руку запустил в мешок, откуда ранее извлёк змею, мышь и бабочку. Честно говоря, на мешок у меня было больше надежды, чем на цепь.
Волк С Тысячею Морд остановился, и Фолм с Макхамом спрыгнули на землю. Они явно были злы. Фолм вытащил меч, лезвие которого появлялось, лишь когда он держал его в руках; так он носил на поясе лишь рукоять. Макхам, доигравшийся в своё время с магией до того, что начал терять человеческий облик, хотел произнести какое-то заклинание, но, по обыкновению, прикусил язык. Ума не приложу, зачем Волк С Тысячею Морд его с собой таскает.
– Ты не уйдёшь далеко, даже если у тебя в запасе есть ещё фокусы, – хрипло сказал Волк С Тысячею Морд. – Я уже разослал почтовых птиц; тебя задержат. Впереди по дороге много кто должен мне за проигрыш в карты!
– Недоумки, которые умудрились проиграть даже тебе, вряд ли сообразят, с какого краю сесть на лошадь, – сказал я. Нарочно, конечно – Волк С Тысячею Морд был отличным игроком. Но я-то, можно сказать, у него выиграл.
Волк С Тысячею Морд какое-то время стоял молча. Сейчас у него была одна башка, только морды постоянно менялись, словно на болванку волчьей головы проецировали «волшебным фонарём» лики разных волков.
Потом он сказал:
– Ты ведь выиграл у меня нечестно. Ты жульничал.
– Но ведь ты тоже жульничал! – отвечал я, тихонько шаря в мешке.
– Но ты жульничал ПО-ДРУГОМУ! У тебя была ДРУГАЯ тактика! – Волк С Тысячею Морд побелел от возмущения. Он орал и брызгал слюной:
– Кто тебе не давал жульничать в том же ключе, что и я?! Я бы и слова не сказал! Это было бы ЧЕСТНО!!! А ты сделал НЕЧЕСТНО!!!
Я вытащил руку из мешка, и стальная птица с клювом, полным яда, порхнула к нему.
Фолм взмахнул своим громадным палашом и припечатал мою птицу к земле. Пружинки и шестерёнки рассыпались в ядовитой лужице.
Волк С Тысячею Морд замолчал и посмотрел на птицу, приподняв переднюю лапу. Какое-то время он стоял так, а потом нахмурил лоб и поинтересовался:
– А кто делает все эти штучки, скажи на милость?
Я с досадой отмахнулся:
– Кузнец Логин из Тембло. Он ковал их специально под мой заказ.
Я мог назвать имя кузнеца, абсолютно не беспокоясь о его безопасности. Я знал, что Волк С Тысячею Морд никогда зря не подставит свою жизнь под удар.
И впрямь, он отошёл от птицы и задумчиво промолвил:
– Спасибо, что сказал. Буду обходить десятой дорогой двор кузнеца Логина, если меня занесёт в это чёртово Тембло. Взять его, ребята.
Фолм и Макхам рванулись вперёд, и я взмахнул своей боевой цепью. Фолм перекатился через лопатки, а Макхам, как обычно, замешкался. И шипованный шар на конце моей цепи раздробил ему голову.
Фолм замахнулся мечом, но я стегнул цепью ещё раз, и её кончик, обвившись вокруг рукояти, вырвал оружие из его рук. Клинок моментально исчез, рукоять я отбросил в сторону. Через секунду Фолм погиб. Моя цепь скована таким образом, что каждое следующее звено более плоское и более острое, чем предыдущее, так что на конце это уже хлыст из отточенных лезвий. Ещё на конец цепи надевается железный шар, чтобы удар был тяжелее. Его можно снять, но сегодня я этого не сделал.
Волк С Тысячею Морд зарычал. В отличие от него, у его людей не было никакой форы на убийства, и теперь они умерли насовсем.
Он прыгнул, низко, стелясь над землёй, и полоснул Коня по ногам. Конь взвился свечой, одна из спиралей в узоре закрутилась туже, а раны на ногах мгновенно затянулись. Существует поверье, что мой Конь падёт лишь тогда, когда узоры сплошным ковром скроют его шкуру; до тех же пор он неуязвим, и каждый шрам лишь добавляет богатства рисунку.
Мы кружили по поляне, и я едва успевал отбиваться цепью. Волк С Тысячею Морд был куда крепче своих ныне мёртвых помощников, и мы дрались всерьёз. Затем мне повезло, и цепь, обмотавшись вокруг его шеи, перерезала горло. Он упал, и палые листья вокруг сразу же запылали. Я подхватил цепь, и мы полетели во весь опор дальше, получив передышку до утра. Я оглянулся лишь раз. Волк С Тысячею Морд пылал, и горели листья вокруг него, чтобы он вскоре вышел возрождённым из собственного погребального костра.
Когда мы играли в карты у него в саду, я проиграл ему довольно много раз. Мы играли на форы, и в конце первого этапа у него оказалось куда больше фор на смерть от моей руки, чем у меня – от его. Но что поделать; серия проигрышей была частью моего плана, необходимой, чтобы выманить его на большую игру.
Потом, когда он поставил на кон своё сокровище, я сжульничал, используя иную технику, чем он, и выиграл. Он ничего не заметил поначалу, будучи расстроен проигрышем. Знаете, грыз землю, катался на спине и всё такое. Я не дал ему опомниться, подхватил выигрыш и был таков.
Потом, видимо, придя в себя, он что-то заподозрил, начал вспоминать партию и понял, что я его обманул. Он в самом деле и слова бы мне не сказал, надуй я его тем же способом, каким он всё время пытался надуть меня. Мой же поступок он посчитал за оскорбление и взвился в погоню.
Теперь я убегал от него, стараясь как можно скорее добраться до дому. Пока мне везло, и при таких делах он мог догонять меня не чаще четырёх раз в сутки. Но фокусы в мешке у меня кончились, а цепь, хоть и серьёзное оружие, против Волка С Тысячею Морд была слабовата. Да к тому же, если бы он убил меня, ему не надо было никуда скакать. Он мог спокойно дожидаться моего воскрешения, греясь у костра, чтобы попытать счастья снова. А меня от роковой черты отделяло куда меньшее количество смертей, чем его.
Поэтому мы с Конём старались покрыть до утра как можно большее расстояние. Мы покинули Кератас, проскочили Навейский мост, кощунственное строение из рёбер дракона; спугнули стаю светящихся птиц у какого-то болота, пересекли вброд реку Дилак, разгоняя некрасивых разжиревших сирен с крашеными волосами, и наконец выбрались на широкую дорогу, что вела в Зелёную Аламейду, где во всех семьях рождалось лишь по одному ребёнку. Страж-У-Ворот, отупевший от трёхсот лет охранной работы без отдыха, даже не заметил нас; призраки в оставшихся слева Зелёных Башнях дули в призрачные трубы, пытаясь привлечь внимание, но никто, конечно, их не слышал. В общем-то, всё шло как обычно в этих краях.
Мы продолжали скачку, надеясь затемно покинуть Зелёную Аламейду, ибо у Волка С Тысячею Морд могли быть здесь союзники. Джуд фон Плейн, хозяин здешнего края, был любитель поиграть в карты.
Но по всему было видно, что мы не успеем. Нас пытались остановить бродяги, чтобы продать ворованных коней. Нас пытались остановить какие-то девушки в коротких одеждах. Нас пытались остановить вежливые молодые люди, чтобы спросить время и денег на дорогу до дома.
Мы, конечно, не остановились, но времени потеряли довольно. Ночь складывалась не в нашу пользу, и меня одолевали нехорошие предчувствия.
В конце концов взошло солнце, и Волк С Тысячею Морд догнал меня снова. Он хотел вышибить меня из седла, но я пригнулся как мог низко, и он пролетел у меня над головой. Потом он остановился и развернулся, и мы тоже остановились.
– Нет, ты всё-таки негодяй, – сказал Волк С Тысячею Морд, тяжело дыша. – Какой чёрт дёрнул тебя убивать Макхама?
– Но ты же не стал бы мешать им убивать меня? – поинтересовался я, делая ударение на последнем слове. Волк С Тысячею Морд (теперь у него было десятка два голов, морды на которых всё время менялись) помолчал, поскрёб лапой бок под шёлковым халатом, а затем заявил, что я сам виноват.
– Но послушай, – ответил я, – как можно обвинять меня в нечестном выигрыше, если любой посторонний наблюдатель вообще не засчитал бы нашу игру! Во имя Чётных и Нечётных Богов! Мы ведь мухлевали оба!
– Я! Уже! Объяснял! – заорал Волк С Тысячею Морд, подпрыгнув на месте. – Ты мошенник, и сам это знаешь!
Я не стал спорить. Я и впрямь отлично знал, что смошенничал не по правилам, но, чёрт возьми, ведь выигрыш того стоил! Ни у кого больше не было такого чудесного сокровища, как то, что я вёз за спиною, в хрустальном футляре и кожаном чехле. Я представил, как привезу его домой, и довольная улыбка появилась на моём в общем-то непримечательном лице.
Вот только Волк С Тысячею Морд готов был убить меня за это сокровище, и я вовсе не был уверен, что он ограничится первым убийством и ускачет восвояси с отобранным богатством. К тому же ему вряд ли захочется лезть в костёр. Он отлично знал, что огонь футляру не повредит.
– Отдай мне его, и мы расстанемся. Я даже это тебе верну – пришлю с птицей, – он показал мне короткую нитку синих бус, три из которых треснули и помутнели. Форы.
Честно говоря, на моей нити бусин было только две. Я редко выигрывал, вплоть до финала.
Я накрутил на палец прядь своих светлых волос. Пора было помыть голову. Да и подстричься не мешало – волосы отросли почти до пояса, и я напоминал какого-то дурачка из героических сказок.
– Нет, – сказал я. – Мне он нужнее, чем тебе.
И распустил цепь.
– Ах ты гадёныш! – возмутился Волк С Тысячею Морд и выпрямился на задних лапах. – Слезай с лошади! Будем драться на земле!
Я скептически вздохнул и спрыгнул с Коня. Шар с цепи я снимать не стал.
Волк С Тысячею Морд скользнул ко мне, нырнул под взвившуюся цепь и угодил мне лапой в челюсть. Я перехватил его вторую лапу, а левой нанёс апперкот.
Удар был хорош, жаль только, попал в пасть. Я еле успел выдернуть руку – ободрал, конечно – и пнул сапогом его в живот.
– Вот подлец, – пробормотал он, складываясь пополам. Я был слабее его, но в кулачном бою на двух ногах он был не силён. Он сманил меня с коня только затем, чтобы я не мог толком орудовать цепью.
Я отскочил назад и намотал цепь на руку, так что под низом были обычные звенья, а верхним слоем уже шли заточенные. Шар противовесом болтался у локтя.
Волк С Тысячею Морд снова бросился ко мне, метя когтями под рёбра, но я уклонился и с разворота ударил защищённой рукой в ухо. В какое именно из сорока, я не обратил внимания. Главное, он покачнулся, и хоть и ткнул меня сжатой лапой под дых, но несильно. Я врезал ему в центральную морду и пнул в лодыжку носком сапога. Потом отскочил и приспустил цепь. Дюймовые комары накручивали спирали вокруг нас, на лету ловя брызги крови.
Волк С Тысячею Морд остервенело помотал головами и прыгнул – на четвереньках, как зверь.
Это был сигнал к окончанию честной драки, и я в момент размотал цепь, орудуя ею, как хлыстом. Минуты две он гонял меня по поляне, вокруг восьмёрками скакал мой Конь, так что было весело. Потом я запнулся и упал.
Волк С Тысячею Морд вонзил когти мне в грудь, а потом, несмотря на мои попытки задушить его цепью (я не продвинулся дальше поиска подходящей шеи), полоснул меня лапой поперёк горла и отскочил.
Последнее, что я увидел сквозь пелену собственной горящей крови, это Волка С Тысячею Морд, пытавшегося тяпнуть моего Коня за ногу.
…Я пришёл в себя посреди кучи горячего пепла. Солнце уже давно взошло и светило мне прямо в глаза. Я лежал на спине, и футляр неудобно врезался в тело даже сквозь одежду и кожаный мешок.
Я приподнялся на локтях, морщась, и огляделся.
Конь пасся неподалёку, докуда не достало спалившее траву пламя; Волк С Тысячею Морд сидел на границе сожжённого круга, зажав передние лапы между коленями.
– Привет, привет, – кивнул он. – Поднимайся, мне нужно то, что у тебя за спиной, – он поднялся, почёсывая лапой нос.
– Блохи? – поинтересовался я, вынимая из-за пазухи нитку с форами. Всё тело болело, от пепла и солнца резало глаза. Щурясь, я осмотрел бусы. Один из вишнёвых стеклянных шариков лопнул почти пополам и затуманился некрасивым сизым оттенком. Я вздохнул и спрятал их обратно.
Волк С Тысячею Морд подошёл и поставил лапу мне на грудь. Сил не было никаких.
– Ты же отлично знаешь, – сказал он, – что это не смешно. У меня не больше блох, чем у тебя.
Я издевательски почесал в затылке, потом поскрёб в боку. Он вздохнул, закатив глаза к небу. У него пока была одна голова.
– Перевернись-ка, я заберу футляр, – сказал он, убирая лапу.
Я сел посреди пожарища, опираясь на руки. Вся кожа щемила, все кости ныли. Я начинал сочувствовать Волку С Тысячею Морд.
– Подожди, сейчас отдам, – сказал я. – Не лезь своими лапами.
Я встал на ноги, ещё шатаясь, хоть силы быстро возвращались ко мне. Стянул со спины длинный кожаный чехол на ремне; распустил завязки.
– Держи, зараза, – пробурчал я, вынимая футляр.
– Нет, почему это я зараза?! – возмутился он. Вместо ответа я стукнул его футляром в висок, прямо углом, а потом подхватил свою цепь и накинул ему на шею.
Я хотел его задушить, но цепь была острая, и я случайно перепилил ему горло. Из раны вырвалось пламя, и тело Волка С Тысячею Морд запылало.
Мой посмертный костёр выжег всю траву, и Волк С Тысячею Морд горел в гордом одиночестве. Я подозвал Коня, засунул футляр с выигрышем на прежнее место, и мы поскакали дальше.
Ближе к полудню рослый рыцарь в белых доспехах заступил нам дорогу. Я остановил Коня, потому что дорога за спиной рыцаря была перегорожена раз пять хорошей шипованной цепью.
– Эй, слезай, слезай! – крикнул он мне. – Именем Джуда фон Плейна, Властителя Аламейды, стой!
– Джуд, хватит дурачиться, – укорил я его. – Ну что за манера давить авторитетом? Кроме того, ты хозяин только Зелёной Аламейды, а не всей.
Джуд фон Плейн смутился.
– Ну так, это… В долг чести моему товарищу, Волку С Тысячею Морд, я останавливаю тебя и велю в счет платы за проезд отдать то, что ты выиграл у вышеозначенного господина в карты!
– Хватит ходить вокруг да около, – сказал я. – Я выиграл, например, пару фор на убийство. Одна осталась. Нужна? – я посмотрел на него, и не думая слезать с Коня.
И чёрт меня подери, если он не задумался на секунду.
Потом до него дошло положение, и он довольно осклабился.
– Поскольку я волен забрать весь выигрыш, то и фору в том числе, – объяснил он скорее себе, чем мне. – Но не забудь о главном – о том, что в хрустале у тебя за спиною!
– Джуд, как тебе не стыдно, – сказал я, – проигрался в карты и обираешь честных людей. Я же тебе заплатил в тот раз, за проезд в обе стороны. А если тебе ещё чего-то надо, подойди и возьми, если можешь.
Джуд потоптался на месте, глядя на распущенную цепь. Она покачивалась, как маятник, длинная, из серебристо-зелёного металла с железным шаром на конце. Когда-то Логин выковал её из позвоночника Злого Змея, которого я убил на Поле Вод. Она утончалась к концу, где была отлично заточена. К ней не приставала кровь.
– Хорошее у тебя оружие, – сказал он. – Как называется?
– Сейчас оно называется Убийца Фолма Иногда Меченосца, – ответил я. – И если ты будешь продолжать задуманное, то оно может сменить имя на Убийцу Джуда фон Плейна.
Джуд цокнул языком.
– Так Фолм Иногда Меченосец мёртв?
– Да. И Макхам тоже. Пропусти меня, и у цепи пока останется прежнее имя.
Джуд покачал головой. В нём было футов семь росту; на нём были его знаменитые перфорированные доспехи. Удар меча они держали отлично, а сквозная перфорация обеспечивала мобильность и вентиляцию. От любой же стрелы они, как известно, были заговорены. У пояса висел его меч. Он ничего особенного собой не являл.
– Не грозись, – сказал он, – мы с тобой силой пока не мерились.
Я убрал шар с цепи.
– Джуд, – сказал я, – если мне повезёт, я смогу снять тебе голову одним взмахом руки. Ты слишком близко стоишь. Подумай, хочется ли тебе погибать из-за глупого долга? Я ведь не отдам тебе ничего. Не затем я был убит на рассвете на твоей земле, чтобы позволить этому произойти ещё раз.
Джуд какое-то время смотрел мне прямо в глаза, затем отвёл взгляд.
– Тогда мне снимет голову Волк С Тысячею Морд, – сказал он. – Что я скажу ему?
– Скажи, что я победил тебя, – ответил я. – Он тебя не тронет. Ты ведь и впрямь хорошо меня задержал. Я не думаю, что ты хочешь быть убийцей либо жертвой, но тебе достанется одна из этих ролей, если мы начнём драку.
– Он мне не поверит, – сказал Джуд.
– Давай я хлестну цепью тебе по доспехам, – предложил я. – Останется след.
Он молчал где-то с минуту, а затем кивнул головой.
…Когда мы понеслись дальше, я ещё какое-то время слышал звон снова натягиваемых им цепей, которые он снимал, чтобы пропустить меня.
«А сие Джуд, повелевающий Зелёною Аламей-дою, – сказано в книге. – Телом он могуч, а духом в сомненьях. Числом же он один».
Мы теперь ехали по землям Розовой Аламейды, где всегда родилось множество близнецов. Волка С Тысячею Морд следовало ждать к зениту – хоть я убил его позже, чем встало солнце, но Джуд задержал меня.
Конь скакал всё так же быстро, как и сутки назад, но я знал, что даже он рано или поздно устанет. Хотя он отдохнул, пока я горел, и это было неплохо, ибо я боялся, что он не продержится до Поля Вод. Теперь была ещё надежда на Глухую Ночь. А пока альбиносы-вороны выделывали спирали в небе над нами, сопровождая нас до границы, а чёрные лебеди скалили на нас свои зубы из грязных болот. Мы оставили справа Розовые Башни, где призраки всё так же, как всегда, били в призрачные барабаны, тщетно пытаясь отвадить любопытных; но как всегда, их осаждали толпы, собравшиеся посмотреть на диво – привидений, что не исчезали при свете дня. В общем, всё было так, как и должно быть в этих землях в это время года.
Мы достигли Мостика Ведьм. Как всегда, ведьмы-близняшки, Джессика и Эшли, с горящими запавшими глазами и грязными белыми волосами, похожими на паклю (потому что, ручаюсь, они белили их магией), стояли у моста в надежде содрать с проезжающих денег. Жадность состарила их прежде времени.
– Эй, стой, всадник, а не то заколдую! – крикнула Эшли. Я их неплохо различал по блеску зрачков.
– Сёстры, протрите ваши запавшие глаза! – прикрикнул я на них. – Я же прежде заплатил вам за проезд в обе стороны!
Джессика досадливо мотнула головой, и я въехал на мост.
– Задержите лучше Волка С Тысячею Морд, – попросил я. – Он будет грызться из-за каждой лишней копейки.
Сказав это, я свистнул коню, и мы поспешили убраться, пока ведьмы не передумали. Этот мост принадлежал им и был построен на заклинаниях. Стоило сёстрам хором произнести ключевое слово, и он обрушится. Так же по заклинанию они могли и восстановить его обратно.
«Сие ведьмы, одинаковые лицом и равные по сестринству, – сказано в книге. – Они завистливы и жадны, как и все в этих землях. Число же им – двое».
Незадолго до зенита меня снова остановили. Это были хозяева Розовой Аламейды, близнецы с противными именами Иональд и Джональд Офзеленды.
– Стоять! Всем стоять! Коню стоять! – закричал Иональд Офзеленд, указывая на широкую яму, дно которой было утыкано кольями. Яму вырыли недавно. Она была велика и занимала всю дорогу.
Я остановил Коня.
– Чего вам надо от меня, Офзеленды? Сёстры пропустили меня. Что ж вы не задержали меня там? Или те, кто живёт на ваших землях, вам уже не подчиняются?
– Слезай с коня и отдай долг, – заявил Джональд, мрачный и небритый. На гербе у них был изображён вепрь на зелёном фоне.
– Ступай своей свинье под хвост, – ответствовал я, разматывая цепь. – Я не должен тебе ничего, ибо за пересечение твоих земель заплатил в двойном размере. В тот раз, когда ехал здесь несколько дней назад. Ты забыл?
– Ты должен Волку С Тысячею Морд, значит, должен мне, – Джональд обнажил меч. Это был несуразно огромных размеров палаш, которым можно было перерубить пополам коня. Иональд был вооружен подобным же образом. Меч Джональда назывался Джоксель, а у его брата, соответственно, Иоксель.
– Это ты должен Волку С Тысячею Морд, – ответил я ему. – Он сейчас будет здесь. Убейте его, и вы никому не будете должны.
Я был всё ещё зол на него за то, что он разодрал мне горло утром. Кроме того, я сказал это, чтобы разозлить Джональда и перейти наконец к активным действиям, потому что я не хотел терять время.
Я не думал, что они согласятся.
Как раз в сию же минуту показался Волк С Тысячею Морд; в один прыжок достигнув нас, он остановился, тяжело дыша.
– Ну, ребята, спасибо за помощь, – прохрипел он, пуская слюни. Он уже явно устал.
– Отдавай футляр, – сказал он мне, протягивая лапу.
– То, что в футляре, принадлежит нам, – сказал Иональд, упреждающе опустив палаш между мной и Волком С Тысячею Морд. – Мы с братом так решили. Я думаю, это справедливая плата за вторжение сразу стольких личностей в наши земли.
Волк С Тысячею Морд какое-то время молчал.
– Хватайте его, пока вы в силе, – сказал он потом, – и я всё прощу.
Глаза его сузились.
Иональд колебался какую-то секунду. Потом поднял палаш и опустил его на Волка С Тысячею Морд.
Тот взвился вихрем, вынырнув из-под удара; тяжёлая лапа раскровенила Иональду лоб. Джональд бросился справа и рассёк Волку С Тысячею Морд бедро. Тот обернулся и с разворота сорвал Джональду голову; меч Иональда, как гильотина, опустился ему на спину и разрубил позвоночник.
Волк С Тысячею Морд рухнул. Его пасть сжалась на стальном сапоге Иональда, и он рванул его на себя, а когда тот запнулся и упал, слепо озираясь залитыми кровью глазами, Волк С Тысячею Морд в отчаянном рывке подтянулся на передних лапах и вцепился Иональду в горло.
Через секунду всё было кончено. Я спрыгнул с Коня и подошёл к тому, кто так долго преследовал меня, что уже успел стать привычным.
– Я умираю, – сказал он. – Насовсем. И они тоже. Мы никогда не играли на форы. – Тут его взгляд затуманился, глаза из жёлтых стали розовыми. Изо рта текла тёмная кровь. – Но и ты не пройдёшь дальше. На закате ты будешь у Делты, и Красные Девы не дадут тебе пройти.
Он закрыл глаза.
Я хотел сказать ему, что, если он умрёт, мне не нужно будет больше спешить, и я смогу переждать опасный закатный час. Но я ничего не сказал. Я молча взмахнул цепью, проклиная себя за мягкотелость, и добил его.
Потом сел в седло и поехал дальше, сначала медленно, по кромке над ямой, а потом всё быстрее и быстрее. У меня было время до заката.
За моей спиной пылали волчье тело и придорожная трава, да ещё волосы убитых Офзелендов. О них в книге не сказано уже ничего.
Номинально Волка С Тысячею Морд опять убил я, и это значило, что вскоре он снова оживёт и бросится за мной в погоню. Это обещало мне проблемы, но я не хотел, чтобы Волк С Тысячею Морд умирал так, как это устроили хозяева Розовой Аламейды.
Мы покинули её, когда солнце было на полпути к закату.
Красная и оранжевая трава на полях пестрела серебряными цветами, и серебряные же рыбы пели из прозрачных ручьёв. Голоса у некоторых были хриплые – наверное, от холодной воды. Дриады из ближних рощ звали всякого проезжего расчесать им волосы, но далеко не каждый соглашался на эту нудную работу, хотя платили дриады всегда наличными.
У озера с белой водой я встретил монаха в чёрных одеждах. Он сидел на мостках и болтал ногами.
– Подай денежку на храм, благородный путник! – попросил он, вежливо улыбаясь.
– А чей храм? – спросил я, придерживая Коня.
– Азгарота, Хтонического Ужаса, – ответил монах, показывая мне кулончик с пентаграммкой.
– А, – сказал я, развязывая кошелёк, – тогда держи.
Я дал ему тяжёлую золотую монету, и мы поехали дальше, благословляемые добрым монахом.
Время летело, дорога стлалась Коню под копыта, и мы непрестанно приближались к Делте, в недобрый закатный час.
В любое другое время здешние места были абсолютно безопасны, но на закате тут появлялись Красные Девы и не пропускали никого, пока тот не отдавал им всё до нитки. А если кто думал сопротивляться, то из их черепов потом делали шары для игры в кегли, склеивая воедино самые округлые их части.
Я надеялся миновать их земли прежде, чем Волк С Тысячею Морд догонит меня. Они ведь были способны задержать и его тоже.
И, как он и предсказывал перед прошлой смертью, я въехал в их земли как раз на закате.
Сам Волк С Тысячею Морд догнал меня минутой позже.
– Отдавай Цветок и сматываем назад, – запыхавшись, проговорил он. – Утром поедешь домой.
– Нет, – ответил я, – я тебе его не дам.
Волк С Тысячею Морд оскалился и приготовился сшибить меня с Коня.
– Подожди; – взмолился я, – давай отложим это на потом. Прислушайся, они уже идут!
Поросшие травой холмы задрожали, и Красные Девы, именуемые также Рыжими Девками, все на конях, высыпали из-за холмов и окружили нас плотным кольцом. Их было очень много.
Все они были рыжеволосые, кареглазые, в красных штанах и безрукавках; ногти у всех были покрашены в красный цвет, а губы накрашены ярко-алым. Кони у всех были тоже рыжей масти. В руках они держали сабли оттенка меди, и в свете заката клинки тоже казались алыми.
Мы стали спиной к спине, вернее, Волк С Тысячею Морд стал спиной к заду Коня. Я не собирался ничего им отдавать, и он, ясное дело, тоже.
Вперёд выехала главная Девка, именуемая Матильдой.
– Отдавайте всё, – сказала она, – и езжайте в любую сторону.
– Ни за что, – сказал я.
– Никогда, – прорычал Волк С Тысячею Морд.
– Тогда вы умрёте, – сказала Матильда, подняв руку.
– Уже случалось, – сказал я и расчехлил футляр.
Правду говорили об этом Цветке, будто любая девушка застывает на месте, поражённая его красотой. Красные Девы, увидевшие его, изумлённо ахнули и прижали руки к сердцу, опустив оружие. Я тронул Коня шагом вперёд, и они начали расступаться передо мной.
Но Девы за моей спиной, Цветка не разглядевшие, угрожающе рванулись на нас. И тогда Волк С Тысячею Морд на мгновение явил все свои лики, ужасной тысячеголовой тенью нависнув над толпою, и две тысячи глаз обожгли каждого, кто видел его в то мгновение. И Девы шарахнулись назад, охваченные страхом.
Так, ужасом и красотой очистив путь, мы рванулись напролом, но минутное замешательство прошло, и девы, зажмурив глаза, со свистом ринулись на нас в атаку. Саблями они управлялись и вслепую.
Я был ближе к спасению, чем Волк С Тысячею Морд, ибо стоял впереди него по ходу движения; и я прорвался. Десяток сабель ударил Коня в грудь, но раны зажили в мгновение, только узор на шкуре пустил новые ветви; и мы вылетели на дорогу. Конь стрелой пустился вперёд, и последнее, что я видел в неверных изломах хрусталя, это отражение того, как Волк С Тысячею Морд, теперь о двух десятках голов, пачками раскидывает Красных Дев, мешающих друг другу в толпе, прорываясь на свободу. Я верил, что у него получится.
«Сие Красные Девы, – сказано в книге, – и их кони и люди червонны. Числа же им несть».
Солнце село, и вместе с темнотой на землю стала опускаться давящая тишина. Птицы засыпали прямо у Коня под копытами, у меня начали слипаться глаза. Я заметил, что Конь тоже подволакивает ноги.
Наступала шестая ночь недели, и, как обычно, это была Глухая Ночь. В такую ночь ни человек, ни зверь, ни нелюдь не может ничего, кроме как спать до самого утра. Бороться невозможно, и нет такой магии, чтобы преодолеть эту силу природы. Звёзды и луна никогда не светят в такую ночь, и блуждающие огоньки, а также светящиеся растения и существа теряют свою силу. Огонь не горит такими ночами.
Поэтому мы дотащились до ближайшего придорожного дуба, и я упал на землю, сунув под голову кулак. Конь повалился рядом на траву, и мы заснули.
…Утром мы пришли в себя поздно; солнце уже встало, и птицы просыпались в дорожной пыли. Всё тело ломило, голова соображала плохо, в руках не было силы, как и всегда, когда ночуешь в Глухую Ночь вне дома.
Седлая Коня, я подумал о том, как там Волк С Тысячею Морд. Если он пробился сквозь армию Красных Дев, то, наверное, заснул, израненный, где-то неподалёку от Делты и не скоро ещё мог догнать меня.
Цветок в хрустале я снова повесил за спину, упрятав в кожу. Он пока ещё мог обойтись без воды, но мне не терпелось привезти его домой.
В кронах зелёных дубов пересвистывались невидимые птицы (иногда они стайкой перелетали с дерева на дерево, но их и тогда не было видно – лишь дрожало марево в воздухе да слышался шум крыльев). Становилось жарко, яркие ажурные цветы красовались в сочной траве; бабочки с девичьими портретами на крыльях порхали слева направо; солнце затягивали сизоватые облака; пахло сладко и дурманяще.
Близилось Поле Вод, почти родное; близился и полдень.
В полдень, на дороге среди луга, я повстречал всадника.
– Эй, остановись-ка на минуту! – попросил он, поднимая руку.
Это был рослый молодой детина в сверкающих хромом доспехах, с благородным цинизмом на чистом лице; при нём был белоснежный клинок длины непомерной.
– Здравствуй, рыцарь, – сказал я, останавливая Коня, – и прости, что тороплю тебя, но я спешу. Что за дело у тебя ко мне?
– Здравствуй и ты, – ответил он. – Моё имя Хлодвиг, и я ищу дракона, чтобы сразиться с ним! Не знаешь ли ты драконов в здешних местах?
– Штырь тебе в забрало, Хлодвиг! – морщась, воскликнул я. – Ты что, драконобоец?
– Я драконобоец от прадеда! – гордо отвечал Хлодвиг. – Это семейное дело.
– Так небось и твои предки приложили руку к Навейскому мосту? – спросил я.
– Мой дед лично пожертвовал восемь рёбер из своих запасов на его постройку, – ответил он мне, подбоченясь. Малый явно гордился своим дедом.
– Интересно, что бы сказал твой дед, вздумай кто-нибудь соорудить что бы то ни было из его костей? – поинтересовался я хмуро. Драконов я любил.
– Но такой у меня бизнес! – Хлодвиг развёл руками, показывая, что и он драконов режет не из ненависти.
– Да ну его, такой бизнес, – сказал я. – Говорят, до тридцати доживает один из девяти драконобойцев?
– Меньше, – сказал он. – Драконы перестали нас бояться. Злые они пошли какие-то. Намедни Тинкельвиндля, коллегу, оранжевый дракон из Гедда опозорил на всю округу. Стянул с него латные штаны и отхлестал хвостом по полной программе, а потом отпустил. Представляешь?
Я представил жёсткий и шиповатый тяжеленный драконий хвост и поёжился.
– А доспехи зачем такие блестящие? – спросил я, щурясь.
– А это чтоб дракон вообще заметил, с кем ему надо драться. Мелкие мы в их глазах, понимаешь? – вздохнул Хлодвиг, глядя в горизонт. – Так не знаешь, нет тут драконов в округе?
Я пожал плечами.
– Нет вроде. Был Злой Змей на Поле Вод тут неподалёку, так его я убил. Вот видишь, цепь из него сделал, – я показал Хлодвигу цепь.
Он разглядывал её какое-то время.
– Хорошая, – сказал он, помолчав. – Ну ладно, поеду искать дракона. А то мне уже за замок нечем платить в этом месяце.
– Слушай, а ты не мог бы на другое магическое существо поохотиться? – спросил я его.
– Например? – осведомился он.
– Например, на Волка С Тысячею Морд?
– Исключено, – Хлодвиг вздохнул. – Я ему в том году проиграл фору на убийство, и, боюсь, это поставит нас в неравные условия.
– У меня как раз есть одна, – сказал я, доставая её из-за пазухи. – Хочешь, подарю?
Он заинтересованно вскинул бровь.
– Если задержишь его на часок-другой, я пришлю тебе пару сотен серебром, только скажи адрес.
– Хорошо, – согласился Хлодвиг, – подожду его здесь. Мимо не проедет, он меня знает. А гонорар отошлёшь в Риэрдин, леди Рент. Я у неё замок снимаю.
– По рукам, – ответил я, и мы, скрепив сделку, разъехались.
Солнце достигло зенита и перевалило на западную половину неба. Наконец мы выехали к родному Полю Вод, и я дал Коню напиться, а сам умылся тёплой прозрачной водой. Я не ел уже несколько дней, и голова кружилась, но я не мог не залюбоваться голубой гладью воды под прядями тумана, что раскинулась от лесов слева до зарослей справа. Потом я снова сел на Коня, и мы шагом поехали по неглубокой, по колено, воде. Вокруг цвели кувшинки и лотосы, а серебряные змеи с мохнатыми гривами сопровождали нас, ныряя и выныривая, прошивая воду стежками. Кругом росли огромные кораллы, белые, красные и жёлтые, а иногда красные с зелёным или синие с жёлтым. Дальние дождевые леса скрывал влажный туман.
Мне оставалось проехать миль десять до границы моих владений. Поле Вод осталось позади, и вокруг теперь были невысокие холмы, поросшие травой и ягодами, и обычные деревья – клёны, ясени и бузина.
Я уже не спешил. Видно, Хлодвиг сдержал обещание и задержал Волка С Тысячею Морд. Я очень хотел поскорее оказаться дома, но я уже так устал от бешеной скачки, и Конь мой тоже устал.
Я вёз домой Самый Красивый Цветок, единственный в мире. Он стоил того, чтобы за него умереть, и я уже сделал это один раз, а Волк С Тысячею Морд – и не один. Цветок был невыносимо прекрасен, он был идеален. Он был главным сокровищем Волка С Тысячею Морд, пока я не обманул его в карты. Многие думали, что моим главным сокровищем является Конь, но это было не так. Моё главное сокровище всегда было дома.
Когда уже наметились сумерки, я услышал его позади.
До моих владений оставалось всего ничего, и мы припустили по дороге во всю прыть. Конь, отдохнувший и напившийся воды с Поля Вод, летел как стрела, тоже чуя близость дома. Позади гремел Волк С Тысячею Морд, прошивая воздух, который с рёвом закручивался в вихрь за его хвостом.
Он летел быстрее птицы, но он находился вдали от своей земли, был множество раз лишён жизни, участвовал в полудесятке драк и просто устал.
Какое-то время я видел его – даже теперь он плавно, но неумолимо догонял нас – а потом он рванулся вперёд в отчаянном броске, на мгновение слившись в сияющую полосу.
Но секундой раньше мы успели.
Конь легко и непринуждённо замедлил бег, пошёл по кругу и остановился. Я сполз на родную землю и рухнул на траву у дороги. Только теперь я понял, как же я устал.
Волк С Тысячею Морд лежал недалеко, шагах в десяти от меня, по ту сторону пограничного столба, и тяжело дышал.
– Это нечестно, – спустя какое-то время прохрипел он. – Это нечестно. Пригласи меня.
Я поднял голову и рассмеялся.
– Ну, я же пригласил тебя в свои владения, – обиженно сказал он.
Я покачал головой.
– Нет, Волк, – на своей земле я имел силу не именовать его полным титулом, чего не мог за её пределами; – я тебя никогда не приглашу. Можешь бегать взад и вперёд по транзитной дороге, сколько хочешь. Она прорезает мои земли западнее, и все имеют право ездить по ней, не ступая на обочину.
Волк устало отмахнулся лапой. Рваный и грязный халат на нём, бывший когда-то золотым, оказывается, был расшит серебряными розочками – я только сейчас заметил.
– Ладно, чего уж там. Посадишь его в тени, и поливай почаще. Рядом можешь зажечь свечу.
– Так ты признаёшь проигрыш? – спросил я, перевернувшись на живот.
– Ну ты же его довёз, – Волк почесал лапой под рёбрами. – А я ещё один выращу; лет через десять. Покажешь мне его ещё раз, перед тем как уйти?
– Конечно.
Я подумал о всей нашей гонке. Второй раз я бы такого не хотел.
– Слушай, а сколько ты заплатил Сестричкам? – спросил я его.
Он усмехнулся:
– Я просто перепрыгнул их дурацкую речку.
Я засмеялся.
– Ладно; а что ты сделал с Хлодвигом?
– С кем? – Волк нахмурил лоб, явно не понимая, о чём я.
– Ну, с драконобойцем. Такой верзила в латах, что поджидал тебя недалеко от Поля Вод.
– А, этот Хлодвиг? Вот не думал, что ты его знаешь! – удивился Волк С Тысячею Морд. – Так его там не было. Я видел его последний раз в прошлом году.
Я помолчал.
– А что, ты его нанял, что ли? – спросил Волк.
– Угу. У него теперь та фора на убийство, что у меня оставалась. Ну, твоя, в смысле.
Волк снова усмехнулся.
– Встречу его – верну на исходные позиции.
– У него клинок метра полтора, – предупредил я.
– Засуну ему в какое-нибудь естественное отверстие, – пообещал Волк, улыбаясь.
Я поднялся на ноги. Солнце уходило в дымку, и начинало вечереть.
– Смотри, – сказал я, снимая с хрусталя чехол. Самый Красивый Цветок засиял мягким светом. Волк С Тысячею Морд какое-то время смотрел на него, потом вздохнул и опустил голову.
– Передавай привет, – сказал он, поднялся на четыре лапы, и, попрощавшись, ускакал.
Мы с Конём остались одни. Отсюда до дома было ещё миль десять. Я снова сел в седло, и мы поехали домой.
Пели соловьи в тёмной листве, где-то шумел ручей, полевые колокольчики цвели у обочин. Дорога по родной земле, без спешки и драк, была просто наслаждением. Я улыбался.
Я подъехал к моему двухэтажному дому, когда уже начало темнеть. Я не знал, спит ли Эми или уже проснулась. Когда я уезжал, она спала, заснув, может быть, на неделю. Это иногда с ней бывало.
Она встретила меня, стоя в дверях и улыбаясь. Моя Эми.
– Привет, милый! – сказала она мне. – Я проснулась, а тебя не было. Я тебя ждала.
«Сие Всадник, – сказано в книге обо мне. – Он счастлив, ибо его всегда ждут дома. Числа же ему безразличны».
– Привет, любимая, – сказал я. – Кажется, я нашёл, что поставить в ту терракотовую вазу у лестницы.
– Правда? Как хорошо! А я уж собиралась её убрать!
Я наконец слез на землю, и мы поцеловались.
– Посмотри, – сказал я, снимая чехол с футляра с цветком. – Правда, красиво?
– Ой, – сказала Эми своим бархатным голосом, – милый, это же, наверное, самый красивый цветок в мире!
– Угадала, – сказал я, беря её за руку. Я оглянулся. Конь уже ушёл на свой любимый луг за левым крылом дома, чтобы отдыхать и валяться по траве. – Потом посадим его в саду. А пока пускай постоит в доме. Только налей в вазу воды и зажги рядом свечу.
– Я тебя люблю! – сказала она, и мы вошли в дом. И прежде чем задвинуть дубовый засов на шершавой деревянной двери, сквозь прозрачный витраж я увидел, как первые звёзды на сиреневом небе, как и всегда, складываются в её имя.
3. Офицер
Олицетворяет духовную власть, позитивный интеллектуальный путь и благочестивый путь духовный. Офицер, Слон, или Епископ, подчиняется Юпитеру, повелителю эмоций.
Только хороший слон достоин жертвы,
плохого слона можно и проиграть.
Юрий Разуваев♀ Мы рождены Тёмная фигура Лариса Бортникова
– Петька! Щемаешь, сука? Вставай! Сталин нагнулся! С концами! Вставай, Петька! Или хочешь, не вставай! Всем нам всё равно кабздец! И Берзикяна нашего убили и выкрали!!!
Онофриенко вопил чуть громче обычного. Но не это меня насторожило. Из-за работающего прямо за стенкой дизеля мы тут иначе как ором и не разговариваем. Командирский КАПШ – каркасная арктическая палатка Шапошникова – примыкает прямо к генераторной, чего, в общем-то, делать не стоит. Зато от дизеля, выведенного радиатором прямо в палатку, тепло. Поэтому выбор у нас простой – орать или мерзнуть. Вы бы что выбрали?
В общем, то, что майор орал, было нормой. Вот только выглядел он трезвым. Бескомпромиссно и абсолютно трезвым! Я на него пялился, ни шиша спросонья не соображая, и только думал, что у Онофриенко харя под ушанкой чего-то вытянулась по стойке смирно. Нос строгий, как у покойника. И уши в череп всосались.
– Петька, ёпть! Гурика Берзикяна… Хлопчика нашего убили! И Сталина расхерачили! Это всё негры!
– Товарищ майор, как можно Берзикяна убить, когда он и так уже неживой? – проорал я в ответ и тут же зевнул. Из тёпленького спальника в стужу вылезать не хотелось. – И почему негры? Они сюда не ходят же!
– А потому, Петька, что негры не ходят, но летают!!! А я, Петька, потерял бдительность, утаил от тебя некоторые важные сведения, и черножопые, воспользовавшись нашим с тобой преступным разгильдяйством, пересекли государственную границу Союза Советских Социалистических Республик! Убрали часового. И Сталина – того…
– Товарищ майор. Вы уверены? Вы это своими глазами видели? Вы только не тревожьтесь, пожалуйста, – я наконец-то проснулся. И осознал – Онофриенко таки докирялся до белочки. А ведь в особом отделе меня предупреждали, что у майора случается. Вот! Дождался! Случилось…
– Ёпть! Ты что, лейтенант? Намекаешь, что у меня белка, что ли?!
В таких ситуациях больному ничего определенного говорить не следует. Ни да. Ни нет. Но следует ласково кивать и ни в коем случае не делать резких движений. Колюще-режущие предметы спрятать, табельное оружие изъять. Вот это, про табельное оружие, конечно, интересный момент. Как у такого здорового говнюка, как Онофриенко, который к тому же мой командир, забрать тэтэшку? А вот хер знает как… Лаской, ёпть! И уговорами. Цыпа-цыпа-цыпа.
– Константин Саныч! Вы б с выводами не торопились. Отдохните, чайку попейте. А я сейчас, если не возражаете, скоренько оденусь и сбегаю погляжу, что там такое с зарядником. Может, рано нам ещё скорбеть! Может, ещё покоптим, а? Может, вы ошиблись, и рядовой Берзикян просто разрядился, а у Сталина форсунки засорились – гвоздиком маленечко поковырять, продуть, и оно зафурычит.
– Какие форррррсууунки, ёпть?! Гвоздиком жопу себе ковыряй, умник! Раз я сказал, что Сталину хана, значит, так и есть! Я его семь лет как облупленного! Каждый бздёж, каждый чих его за пятьсот метров различу!!! Уши прочисть, лейтенант! Молчит Сталин! Молчит, ёпть, как рыба об лед! Потому что скопытился! Ты кто такой, спрашиваю, чтобы сомневаться в командире? Фраер столичный – говно на лопате! – завёлся Онофриенко и орал все три минуты, пока я кой-как одевался, натирал рожу вазелином и искал по КАПШу ящик с инструментом. Однако стоило мне решительно шагнуть к тамбуру, как майор тут же посторонился, беспрепятственно пропуская меня наружу.
– Фонарик запасной возьми. И внимательнее, Петька! Тщательнее! Мож, и вправду форсунки. Может, и вправду белка.
Так я впервые почувствовал, что такое быть чьей-то последней надеждой. И целых десять секунд мною владела сладкая мысль, что всё в порядке. А то, что Онофриенко чертей или там негров летающих ловит, ну… Подлечится со временем, выправится. Здоровый же лоб. Однако, споткнувшись о что-то металлическое и тяжелое, я вдруг вспотел. И это несмотря на минус тридцать по Цельсию. Ёпть! Ёпть! Ёпть! Прямо возле сорванной дверцы кунга валялся берзикяновский ранец. Разъемы, те, которыми ранец крепится к спине бойца, слетели ко всем чертям, а из металлического кожуха торчали пучки проводов и трубок – ранец выдирали из солдата, что называется, с мясом. Разыскивать тело бойца я не стал – всё с Гуриком и так было ясно. Перепрыгнув через ранец, я рванул прямо к Сталину. Где-то с минуту теплилась надежда, что я сумею его завести и, может быть, даже успею найти и «воскресить» Берзикяна. Но чем пристальнее я всматривался в промасленное нутро зарядника, тем меньше во мне оставалось веры в наше светлое будущее. Онофриенко оказался прав – нагнулся наш Иосиф Виссарионович. С концами. И, похоже, не по собственному желанию.
Картина была настолько хрестоматийной, что хоть в «Справочник диверсанта» её вставляй. Злоумышленник снял часового, забрался в кунг, взломал регулятор оборотов, и дизель тут же пошел вразнос. Шатун, не выдержав нагрузки, оторвался от поршня, развернулся поперек, и его со всей дури вхерачило коленвалом в стенку. Ремонту Сталин не подлежал. В чугунной бочине блока зияла дырища размером с кулак и эдак кокетливо поблескивала острыми рваными краями. Я сидел на корточках перед мертвым Сталиным и подсвечивал его фонариком то справа, то слева.
Кабздец!
Прав майор – теперь всем нам кабздец. И, в общем, какая разница, пришли негры или прилетели. Какая разница, чья здесь вина – майора Онофриенко, который не просыхал последние три недели, отчего застава осталась целиком на мне… Или же это я облажался, положившись на старшину Непомирая, а сам решив наконец-то как следует отоспаться.
Кабздец – он и в Африке… Я рассмеялся, поняв вдруг, что про Африку – это я сейчас загнул. Где та Африка, а где мы! Но ведь кабздец же!
Теперь нас с майором полюбэ загонят под трибунал! А ребята… Ребята без Сталина и двух дней не протянут. Мозги у них без него отключатся – и кабздец. Это для меня с майором Сталин – здоровущая чугунная дура – триггерный зарядник, которым в ранцевые аккумуляторы бойцов можно натолкать электричества под завязку. А для ребяток наших Сталин – всё! Благодаря Сталину хлопцы ходят, дышат, живут. Благодаря ему они охраняют… точнее, охраняли до сегодняшнего утра северные рубежи нашей Родины. Службу бессрочную тащили под командованием двух разгильдяев – майора Онофриенко и лейтенанта Егорова. Который, на их беду, попал сюда тоже… из-за Сталина, только не триггерного, а настоящего. Того, что живее всех живых.
«Добрый день или вечер, сыночек мой Петенька».
Мама пишет письма каждую неделю. Сочиняет специально глупости, так, чтобы цензор из особого отдела перенаправлял их адресату сразу, не задумываясь о скрытых смыслах. Смешно. Да пиши она хоть о Фульхенсио Батиста, всё равно у неё выйдут глупости. Почерк у мамы некрасивый. Буквы неровные, трусливые. Много ошибок. Например, «передает» мама всегда пишет как «перидает». И это ни капли не смешит, но раздражает. «Папа перидает тебе привет». Мамина ложь во спасение не раздражает, но смешит.
Как будто я не догадываюсь, что пишет она втайне от отца. Если не успевает на почту до вечера, то прячет конверт в нижний ящик комода, тот самый, где хранит Майкино приданое. Отец, конечно, в курсе про тайник. Но молчит. И будет молчать до тех пор, пока не застанет маму за «преступлением». А застанет он её тогда, когда сочтёт своевременным. Когда отцу зачем-нибудь потребуются её испуг, стыд, отчаянно прижатые к груди ладони и спотыкающиеся о его насмешливый взгляд оправдания. Театр кукол, мать вашу! И батя мой – Образцов хренов в новой папахе и штанах с лампасами.
У отца почерк каллиграфический. Ни единой помарки. Запятые на месте – крошечные, но значительные. По значительности уступают лишь точкам. Там, где отец ставит точку, говорить больше не о чем.
* * *
«Всё. Закругляйтесь. Нечего тянуть кота за хвост», – скомандовал отец, заглянув в гостиную, где я, мама и Майка сидели «перед дорожкой» – мама в кресле, сложив ладони на коленях и остарушившись лицом; Майка – на моем клетчатом чемодане; я – на табуретке, бодрящийся и весёлый, в форме, только вчера взятой из ателье. Щелкунчик! Прямо хоть сейчас под ёлку!
Отец зашел в гостиную только за тем, чтобы поставить точку. Не для себя или меня – мы определились с пунктуацией ещё неделю назад, – но для матери с сестрой. Чтобы им стало ясно раз и навсегда: любые просьбы, слёзы, уговоры и «прочее бабство» бес-смыс-лен-ны!
– Толик… Ну как же? Не попрощались толком! Аааах… – ахнула мама, и они переглянулись с Майкой и сразу же обе вскочили и начали суетиться, совать мне в руки какую-то авоську с беляшами и солеными огурцами в двухлитровой банке, и обещать писать каждую неделю. И я нацепил эту авоську на запястье, так что ручки больно врезались в кожу, подхватил чемодан и слетел вниз по лестнице, чтобы не ждать лифта, чтобы не тянуть кота за хвост. Точка.
На батю я не обижался. Непросто было ему пояснять однополчанам и сослуживцам, что его сын просто пьяный идиот. И что он ничего особенного не имел в виду, заявив во всеуслышание, что и без товарища Сталина земля будет вертеться, журчать ручьи, петь птички и так далее. Наверное, отцу было бы легче, не случись это досадное недоразумение в День Победы, когда генерал-майор авиации товарищ В. произнёс самый главный тост.
На батю я не обижался. Ничуть. Он сделал всё что мог, и даже больше.
Отцовская «Победа» ждала меня у подъезда. Я оценил жест.
* * *
Мама пишет каждую неделю. Я знаю, хотя почта сюда не доходит. Мамины рассказы о том, как она навещала в роддоме какую-то Мурочку и что заканчивается дачный сезон, а антоновки нынче уродилось столько, что варенье уже некуда раскладывать, о том, что Майка подхватила простуду, отчего не поехала в лагерь, а также «папа перидает привет» оседают в особом отделе Энской части, к которой я приписан. Энкавэдэшник – щекастый пончик-сибиряк, чтоб не испортить полировку стола, подкладывает мамины письма под стакан с чаем. Его девственному мозгу невдомёк, что донышко у стакана влажное. Через неделю, получив свежую почту, он шлепает штамп «просмотрено военной цензурой» поверх поплывших «кружком» чернил и убирает письмо в архивную ячейку. Раз в полмесяца из этой же ячейки он достает стопку листов, исписанных моим каллиграфическим (единственное, что досталось от отца) почерком, берет первый попавшийся лист, перечитывает… «Здравствуй, мама. У меня всё хорошо…»
Похожие одно на другое, как близнецы, – бери любое – не ошибешься, – письма делались по шаблону, предоставленному Пончиком.
– Свежие формуляры! Значит, так. Переписываешь своей рукой, добавляешь имена собственные в выделенных красным местах, и шесть шарей. Родные спокойны. Девушка довольна. Друзья не забывают. Держи! С полсотни до вечера накропаешь – и шесть шарей. Дату я потом сам подставлю, – лейтенант улыбался. Как есть – пончик. Не хватало только сахарной пудры поверх лоснящегося краснощёкого лица. Я поморщился, но «письмовник» взял. Сидел потом за новым полированным столом, прихлебывая кирпичный, на удивление вкусный чай. «А я без подстаканника пью. Люблю, чтоб пальцам горячо…, – зачем-то пояснил Пончик, кивая на свой стакан. – И не волнуйся, лейтенант. Всё шесть шарей. Никаких сбоев. Если какая срочность… Свадьба там… Похороны… Сразу сообщим». «Да. Конечно», – я немного подумал, приписал в конце «привет папе» и поставил жирную точку.
* * *
О том, что майор Онофриенко прилично закладывает за воротник, мне сообщил Пончик. Мол, всё шесть шарей, но начзаставы – человек со странностями. Начальник особого отдела оказался прямее. После официального инструктажа предложил выйти на крыльцо покурить и там, затягиваясь «Ленд-лизом», сказал:
– Чтоб ты знал, лейтенант. Онофриенко квасит как сапожник. Ему в отставку пора. Выдохнуть надо майору. Он ведь седьмой год на льдине торчит безвылазно. Считай, сразу после Победы о переводе в Энск приказ получил. Здесь и бойцов своих дожидался. Ну, а потом вместе с ними прямиком пошуровал на льдину. На самый крайний – крайнее не бывает – рубеж. Вояка! Мужик отличный. Но пьёт. Сильно пьёт. Бывает, что и допивается до всякого. Рапорты от него, мягко говоря, странные приходят. Давно отозвали бы, только заменить было некем. Однако контингент заставы майор знает досконально, боевую задачу тоже усвоил в деталях. Ты его слушай и, если что, не залупайся. Инструкций тоже не нарушай – они чай не хером писаны. Ясно?
– Так точно, товарищ полковник.
– Точно. Так… – передразнил полковник. – Как же тебя сюда занесло? Как вас вообще в такие места заносит? Чистеньких, хрустящих, прямо от сиськи молочной… Что ж ты напортачил такого в своей белокаменной?
– В личном деле всё есть.
– В твоем личном деле три абзаца. Отличник учебы, спортсмен, комсомолец… Пурга всякая – пять кило повидла. Но ты почему-то тут, а не там. И впереди у тебя, лейтенант, минимум пять, а то и все семь сучьих лет сучьего дрейфа. Нет, не штрафбат, конечно, но далеко не Минводы. Что ж тебя папашка твой не отмазал, а?
– В личном деле всё есть, товарищ полковник.
– Зарядил, как попка, – полковник хмыкнул. Раздавил носком неуставного лохматого унта бычок. – А может, ты засланный казачок? А?
– Не казачок я. Надоело быть «папенькиным сынком», решил сам пройти через все тяготы и лишения… Через горнило, так сказать… Отец мой – боевой офицер. Гвардии полковник. Летчик-истребитель. Герой войны. Так я тоже хочу на деле Родине свою преданность доказать, – отчеканил я, уставившись в пронзительные полковничьи очи.
Полковник пожал плечами: не хочешь – не говори. Повернулся, пошагал к фырчащему неподалеку «виллису». Следы от его неуставных унтов выглядели совершенно звериными, вытянутыми, красивыми. Он влез на шоферское место, и прежде чем хлопнуть дверцей, повторил, перекрикивая мотор: «Не залупайся! Слушай майора во всём».
* * *
С Онофриенко я познакомился через двое суток.
Приземлился на координате нормально, даже не протащило далеко. Кой-как свернув парашют, огляделся. Пилот «аннушки» выбросил груз метрах в ста от меня. Точнее, меня выбросил метрах в ста от груза. Ящик поблескивал стальными боками, похожий на ёлочный серебристый шарик, уложенный в вату. Вокруг нас с ящиком был снег. Ничего, кроме белого-белого нетронутого снега. За несколько дней в Энске я почти привык и к сухому холоду, и к хлестким студеным вьюгам, и к сугробам – не по-московски огромным. Но здесь, на пятьдесят седьмой параллели, всё было иначе. Лаконичнее, что ли. Невысокие ребра торосов походили на грубые швы, стягивающие снежное полотнище в бескрайнюю простыню. И тишина.
Такая, что стыдно было нарушить её стуком сердца и шорохом дыхания. Я ощутил вдруг то самое «белое безмолвие», которым грезил ещё подростком, валяясь на кровати с куском пирога и томом Джека Лондона. Безмолвие не казалось пугающим или тягостным. Наоборот. Умиротворяющим и полным ожиданий. Вот-вот на горизонте появится собачья упряжка, а за ней и сам Смок Беллью. «Хеллоу, Смок! Хау ду ю ду»!
Горизонт был пуст. Я осторожно втянул в себя колючий воздух, задрал голову к небу. Самолет уходил к материку, превращаясь в крошечное чернильное пятно… в точку.
– Варежку закрой. А то жопа простынет, – сиплое карканье раздалось откуда-то из-за спины. – Егоров?
Я вздрогнул. Обернулся. Завернутый в маскхалат крупный, краснолицый человек лет сорока снял защитные очки и теперь разглядывал меня сквозь прищур. Будто разбирал на запчасти.
– Майор Онофриенко? Старший лейтенант Егоров прибыл в расположение…
– Да ты что? – от майора пахнуло спиртным. – Прибыл? Неужели? Ни хрена ты ещё не прибыл. На лыжах как ходить, знаешь?
– КМС, вообще-то.
– Хоть так. А то парашютист из тебя, как из меня арфистка, – поморщился майор. Вернул на место очки, стянул с руки перчатку, сунул пальцы в рот. Громко свистнул. Метрах в ста пятидесяти от нас из снега поднялись две белые, слегка сгорбившиеся под тяжестью ранцев фигуры. На плече у одной из них покачивались вверх-вниз запасные лыжи. Вторая тянула за собой широкие санки. Онофриенко махнул рукой, и фигуры заскользили по направлению к нам. Я непроизвольно напрягся.
– Расслабь очко, взводный. Это теперь твои бойцы. Нормальные хлопцы. Только хладнокровные очень, к заботе комсостава малочувствительные, – Онофриенко заклокотал рваным неприятным смехом. – Что? Напугали тебя особисты нашим контингентом? Вижу! Вижу, что напугали.
– Далеко до расположения? – решил сменить тему я.
– Пятьдесят пять кэмэ. К ночи доберемся… К ночи – это если по хронометру, понятное дело. А стемнеет уже через полчаса, ёпть! – Онофриенко густо сплюнул. Я проследил за плевком с неожиданным подростковым любопытством, ожидая, что слюна застынет на лету. Зря.
Лыжники приближались. И как я ни старался на них не пялиться, взгляд мой всё равно непроизвольно притягивался к двум неуклюжим силуэтам.
– Да ты не стремайся. Позырь. Пощупай, – Онофриенко фамильярно подтолкнул меня плечом. Я пошатнулся.
И едва не упал, дернувшись в противоположную сторону, когда почувствовал, что меня поддержал первый из бойцов. Тот самый, что с лыжами.
– Спасибо, – машинально выдавил я.
– Слушаюсь, товарищ командир, – голос оказался глухим, каким-то пыльным, что ли. Но это если прислушиваться. Не знай я, кто передо мной, решил бы, что боец несильно застужен, что объяснимо при таких-то морозах.
– Тебе спасибо говорят, Живчий. По-человечески говорят, а не по уставу. Как правильно отвечать? Ну?
– Так точно, товарищ командир, – невыразительно промямлил солдат.
– Спа-си-бо. Спа-си-бо… – громко повторил Онофриенко. И замолчал выжидающе.
– Пожалуйста, – после секундной заминки ответил боец.
– То-то же… Молоток, – голос майора прозвучал неожиданно мягко. И, повернувшись ко мне, майор добавил: – Могут! Могут по-человечески, но нужно терпение.
И тут я решился. Поднял глаза и уставился в лицо своему будущему… собственно, почему будущему? – уже подчиненному. Что я ожидал увидеть, начитавшись брошюр и насмотревшись пособий? Наверное, какое-нибудь жуткое уродство. Что-нибудь отличающее рядового Живчего от обычных людей. Может, шрамы по всему лицу, неестественно бледную кожу, запавшие глазницы, прозрачные белки. Что-нибудь такое, от чего внутри стынет кровь и сердце начинает колотить о рёбра. Ничего подобного. Передо мной было простое славянское лицо. Вон, даже конопушки видны на носу. За стеклами очков – чуть мутный, как у младенца, взгляд небольших серых глаз, рассечённая посередине русая бровь.
– Что? Думал, они жмурики протухшие? И проводка медная наружу торчит? Но вообще всякие есть. Эти – самые сохранные. Специально подобрал, чтоб тебя сразу не пугать… Шучу. Говорю ж – нормальные ребята. Вот этот – рядовой Живчий, – пояснил Онофриенко, проследив за моим взглядом. – Добрый хлопец. Мозговитый… Поздоровайся с командиром по-человечески. Давай.
– Живчий – это тоже шутка такая? – проигнорировав протянутую ладонь, я повернулся к майору.
– He-а. Фамилия. Чудно, да? Это ещё что! У нас старшина имеется по фамилии Непомирай. Вася Непомирай. Тоже добрый хлопец. Думаешь, это не случайное совпадение? Ну, тогда нам с тобой не светит, Егоррров… – Онофриенко подмигнул. – Ладно. Вставай на лыжи, лейтенант. Рядовой Берзикян! Ложи давай на салазки груз!
Второй боец направился к ящику, а Живчий всё мялся напротив меня с протянутой ладонью. Ни варежки, ни перчатки на ней не было.
– Постоянная температура тела у них плюс десять максимум. Завидую. Не мерзнут, снегом соленым закидываются вместо жратвы, не бздят и не гадят. Не думают тоже… – зачем-то пояснил Онофриенко.
– Да. Читал я. Меня в деталях ознакомили с подробностями конструкции. И что у них внутренностей нет, вместо сердца помпа, под ней нагреватель и оксигенатор, а кровь заменена специальным раствором.
– Читал он, – вдруг разозлился Онофриенко. – Через одно место читал! Тогда бы знал, что их без присмотра не положено оставлять больше чем на половину суток. А уже пятый час, как я заставу на Непомирая бросил. И плюс пять часов – на обратную дорогу. Едва поспеваем. Некогда разговоры разговаривать. Тронулись. Живчий, Берзикян! Бегом марш! Поторопитесь, а то разрядитесь в ноль за сто метров от зарядника, и хана вам, братцы!
Онофриенко с неожиданной для своего грузного тела легкостью развернулся, пошел вперёд, набирая скорость. Берзикян и Живчий впряглись в двойные постромки салазок и тронулись за замполитом. Я же ещё минуты две разбирался с незнакомыми креплениями.
Догнать троицу удалось лишь через четверть часа.
«Брюхатая нерпа и то быстрее к полынье ползет. Кэмээс-кэмээс – выходи на букву эс», – съехидничал Онофриенко, но выглядел довольным.
Почему-то именно в ту секунду я понял, что мы сработаемся.
* * *
В расположение прибыли к полуночи, когда наряды уже сменились. Ночь была ясной, звёздной, и мне удалось осмотреться. Назвать это место заставой мог лишь очень большой шутник. Посредине расчищенной от снега площадки периметром где-то с полкилометра располагался плац, справа от которого торчала дозорная вышка, а слева стоял фанерный барак без единого оконца. Из выкрашенного известью кунга, примыкающего к задней стенке барака, раздавался тяжелый гул.
– Казарма это. А в кунге зарядник фырчит. Аэросани там же, под навесом, но особо не рассчитывай – топливо экономим, – пояснил Онофриенко, проследив за моим взглядом. – В бочках с красной меткой бензин, с синей— дизель.
Я кивнул – ясно, мол.
– Ладно. Харэ трепаться. Спать пора. Рядовому составу представишься завтра утром. С расположением ознакомишься, разберешься, что к чему. Дуй в КАПШ. Обживайся. Берзикян, Живчий – на подзарядку бееегом марш!
Я побрёл к командирской палатке, оглядываясь через плечо на начзаставы, который сам принялся разгружать сани. Берзикян с Живчим потрусили к казарме. Я глянул на часы – энергоресурса у бойцов оставалось ровно на четверть часа. Мы едва успели.
В КАПШе ревел генератор. Заснуть я так и не смог, поэтому открыл глаза сразу же, едва Онофриенко заорал у меня над ухом.
– Давишь, взводный? Контингент на плацу томится, ожидает с нетерпением батяню свово родного лейтенанта Егорова, а лейтенант Егоров щемает тут во все ноздри, – Онофриенко нависал сверху и полыхал перегаром.
– Который час?
– Шесть утра, ёпть. На гражданке щемать ещё да щемать! Но ты, ёпть, не на гражданке! Вставай, лейтенант! Слышь, я бы сам тебя представил и заправил бойцов службу тащить, но понимаешь…
– Понимаю, – я рывком выбрался из нагретого за ночь спального мешка. Ох ты ёжкин же кот, какая холодрыга! – Понимаю. Спирт оказался несвежим.
– Дерзишь, салага? – взвился Онофриенко. – Так и дерзи снаружи! А я втоплю отсюда и до обеда. В восемь утра – развод. К трем меня разбуди, политинформацию проведу. Среда сегодня. По средам у нас политинформация. И не вздумай снаружи фонариком светить или курить – маскировка.
– Так кто нас тут будет искать?
– Ёпть! Тебе сказано – никаких фонариков! По солнышку ориентируйся, – Онофриенко, не раздеваясь, как есть, в ватных штанах, тулупе и маскхалате упал на раскладушку и захрапел.
– По солнышку… Комик нашёлся, ёпть! Тарапунька заполярная! – разозлился я. За ночь «умывальная» кастрюля промерзла почти до дна. Нужно было либо распалять примус и ждать, пока перетопится лёд, либо крошить наледь ножом и плескать обжигающую жижу на лицо, непременно матерясь вполголоса. Я выбрал второе. – По солнышку, ёпть…
Выйдя на плац, я обнаружил контингент в составе двенадцати бойцов, хотя по регламенту шесть человек должны были сейчас находиться в казарме, сидеть на деревянной лавке, подключившись спинами к разъемам триггерного зарядника.
– Равняйсь! Смирна! Товарищ лейтенант, личный состав заставы на развод построен. По списку двадцать четыре бойца, налицо двенадцать бойцов. На охране границы шесть. В карауле – четыре. В нарядах два. Незаконно отсутствующих нет. Старшина заставы Непомирай, – дылда с плоским рябым лицом и торчащими из-под шапки бледными ушами довольно бойко приложил руку к виску, отдавая приветствие, замер на полсекунды и, развернувшись на пятке, пошагал обратно в строй.
Я стоял и соображал, что мне теперь следует делать. То есть я знал, как оно положено по Уставу, и отлично помнил, что говорилось в секретной инструкции, которую меня заставили вызубрить наизусть в Москве, а потом ещё и энский начальник особого отдела гонял меня по всем пунктам раз сто, не меньше… Но всё равно, я стоял перед вытянувшейся по стойке смирно шеренгой и ни хрена не мог даже слова из себя выжать. Когда я сюда ехал, думал, что знаю про них всё. Знаю, кем они были в войну и почему попали сюда, на эту заставу. Знаю, чем поступились, выбрав между исключительной мерой наказания и теперешней своей нелегкой службой. Знаю, как устроены и как работают. Знаю, что можно уложить бойца «спать» под один ампер, пока ранец на обслуживании. И про то, что они кто угодно, но никак не люди, тоже знаю. А то, что у них почти не фурычат мозги, так мне с ними не романы писать! В конце концов, это армия, и от хорошего солдата в первую очередь требуется чёткое и беспрекословное выполнение приказа.
«Приказ! Надо же отдать им приказ какой-нибудь!» – очухался я.
– Заставааа, вооольно!
– Что ты орешь? Чего ты орешь, ёпть… Хочешь им боевой дух своим ором поднять? Так это ты зря. У них с боевым духом и так всё в порядке. С остальным похуже, а боевой дух всем на зависть! Вторая смена, вернуться на зарядку! Третья смена – строевая подготовка. Непомирай, друже, погоняй ребяток по плацу, чтоб раствор в венах не застаивался и насос в груди не ржавел.
Запах перегара донёсся откуда-то сзади, но показался мне приятнее аромата цветущих крымских роз. Майор Онофриенко всё-таки выбрался из палатки на плац.
– Ладно… Пошли погреемся, салага. Ознакомлю с деталями.
* * *
Первое, что я точно понял из двухчасового разговора с начзаставы – что, кроме меня, людей тут нет. С бойцами и так всё известно, но и майор Онофриенко тоже не человек, но анатомическая аномалия! Первым делом майор плеснул себе из канистры спирта, одним глотком осушил стакан и приступил к инструктажу. И всё время, пока я знакомился с азами службы, Онофриенко подливал и подливал, прихлёбывал и прихлёбывал.
– Осуждаешь? – перехватив мой неодобрительный взгляд, майор хохотнул. – Покукуй на льдине с моё. Потом осуждай.
– Да не… Не осуждаю. Трудно, наверное, с саботажниками и предателями служить, да они к тому же ещё и не люди.
– Не сметь! Не сметь, лейтенант! Какие они предатели? Они, лейтенант, полностью и целиком вину свою искупили!!! Когда согласие на перевод сюда подмахнули, тогда и искупили. Они теперь, лейтенант, не предатели, а самые что ни на есть Герои Советского Союза. А если услышу ещё раз, что ты их нелюдями зовёшь, сразу без предупреждения буду бить рожу. Бойцы они! Бойцы первого экспериментального климатического погранотряда «Арктический»! Они дети твои, лейтенант! Ты за них головой и сердцем отвечаешь!
– А насколько у них мозговая деятельность приторможена? Ну, в действительности? – перевел разговор в другое, менее опасное русло я.
– Сильно приторможена, лейтенант. Миттельшпиль вряд ли разыграют. Но если термостат до градусов пятнадцати подвертеть, то, может, и разыграют потихонечку. Инструкцией трогать термостат запрещено, но срать я хотел на инструкции! Их в Москве сочиняют, за какавой с булками. А я тут семь лет бирючу, мне иногда и поспать надо. В сортир отлучиться. Поговорить тоже. Да и что случись, на кого я гарнизон оставлю? В общем, чтоб ты знал, пришлось мне старшину Непомирая «подогреть» чутка. Поэтому, если что тебе срочно понадобится, а я в отключке, то к Васе ступай. Добрый Вася солдат, и человек порядочный. Вась… зайди-ка.
Старшина Непомирай откинул прорезиненный полог тамбура и встал у входа, не решаясь войти внутрь. Майор похлопал ладонью по раскладушке рядом с собой.
– Не скромничай, Вася. Присаживайся. Как дела-то вообще? Ребята как? Нормуль? Может, чего надо вам?
– Нет… не надо ничего, – чуть помедлив, ответил старшина. – Нам же совсем ничего не надо, кроме зарядника. Разрешите идти?
– Ступай, Вася. Лейтенанта нового не обижай. Договорились?
– Договорились, – старшина Василий Непомирай, не мигая, смотрел на меня целую минуту, словно хотел запомнить моё лицо раз и навсегда, впечатать его в свои вялые, давно отвыкшие думать мозги, а потом вдруг криво улыбнулся.
Старшина не мог, не должен был улыбаться. Мне про это поясняли спецы в Москве. Ну, что у метеосолдат отсутствуют базовые эмоции, поэтому радость, печаль, удовольствие им недоступны. Однако старшина Непомирай улыбался.
– «Тёплый» Васька-то, поэтому разряжается быстрее остальных. Так я его из расположения никуда не отсылаю, чтоб если что, он сразу раз… и к заряднику под бочок. И ты Васю тоже никуда из расположения не отсылай. Спирту?
Я подумал и согласился. Когда на неопределенный срок попадаешь на необитаемый остров, где проживают сумасшедший Робин Крузо и две дюжины Пятниц, глупо отказываться от спирта.
Пока мы быстро и много пили, майор Онофриенко дорассказал мне то, что я уже знал, и ещё с полстолька, и с четверть столька, и вагон и маленькую тележку. Кое-какие мои опасения подтвердились, кое-какие надежды рассыпались в прах. Но, по крайней мере, стало понятно, что здесь – уж точно не Минводы. К примеру, о том, что рядом с нашей заставой (километров двадцать, если быть точным, что по местным меркам пустяк) находится американская экспериментальная база, мне сочли возможным сообщить ещё в Москве. Без деталей, сухо, деловито. Мол, американцев не провоцируйте, не лезьте, но будьте бдительны. А вот о том, что на той базе служит тоже не совсем «человеческий» контингент, сообщил мне майор Онофриенко.
– Лет семь назад вылазку делал я к буржуинам. Положено врага в лицо знать! Не поверишь, лейтенант – там одни негры. Здоровущие такие. Прямо бабуины, а не негры. Шлепают прямо по снегу босиком, сами в одних спортивных трусах и майках. Чуешь, к чему клоню?
– Угу… Не мёрзнут они, получается… – захотелось налить себе ещё.
– Не мёрзнут, – согласился Онофриенко и, правильно истолковав мой вздох, загремел канистрой. – Хлопчики наши тоже не мёрзнут. Но ведь ранцы по пятнадцать кэгэ на себе волочат. А эти налегке. Как так?
– Как так? – повторил я.
– Вот я и лежал в сугробе восемь часов – от холода аж яйца сморщились в горошины, но всё-таки разобрался, «как так». Один черножопый майку с себя стянул – мазутом, что ли, запачкался, а между лопаток у него встроена пластина металлическая. Чуешь? Прямо в спину вживлена!
– Не может быть!
– Может, Петя, может. Они из-за этого и передвигаются быстрее, и батарейки надолыне хватает, и, похоже, помозговитее наших будут. Я, Петя, сразу бросился за портативку, чтоб шифровку бить в штаб, а мне в ответ, мол, не ваша компетенция. Не моя, так не моя. Но раз мы теперь с тобой в одном КАПШе храпим и бздим, то знать ты про этих негров кой-что должен. Ведь наша с тобой общая задача какая?
– Охранять государственную границу.
– Точно так! Ну! За спокойствие границ? За Родину! За Сталина. И дуй уже на развод, без пяти восемь… Харю вазелином только сдобри, а то обморозишься, – Онофриенко ловко разлил.
Я ловко выпил и ловко кинул в рот безвкусную галету.
Эх. Видел бы меня сейчас отец… Но орденоносным лётчикам-истребителям здесь делать нечего. Они летают в совершенно другом небе.
* * *
Солдат спит – служба идёт.
Дрых в основном Онофриенко – видать, отсыпался за все семь лет. Пил и спал. Я же тащил службу. День, другой, третий. Месяц, ещё один. По звонку будильника встать, умыться, позавтракать всухомятку. Намазаться вазелином, накинуть маскхалат поверх бушлата, и через тамбур наружу. Иногда на небе высокие колючие звезды, чаще тьма – хоть глаз выколи, но пользоваться фонариком нельзя. Даже курить запрещено, чтобы не нарушать маскировку. Глупость, конечно. Во-первых, от нас шума на километр во все стороны. А во-вторых, «соседи» давно уже всё вычислили и выследили – оптика у них точно получше нашей. Но приказ есть приказ, поэтому приходится ориентироваться на слух. По одну сторону от плаца подвывает «маленький» генератор нашего с Онофриенко КАПШа. По другую – басит Сталин Иосиф Виссарионович.
* * *
Сталиным триггерный зарядник («Изделие СР-12 дробь 6», инвентарный номер такой-то) назвал Онофриенко. Давно назвал, ещё до меня. А открылся, ясное дело, по пьяни и лишь тогда, когда я по той же пьяни разболтал, за какие такие заслуги очутился на льдине. Тогда майор крякнул, опрокинул в себя рюмку спирта и сказал: «Ну ты даёшь, салага! Легко отделался вообще-то! За такие слова тебя расстрелять надо было! Тьфу!»
Я тогда напрягся, решил, что Онофриенко теперь станет меня избегать или ненавидеть, но он только рукой махнул, насадил на кончик ножа смерзшийся ком свиной тушенки, зашвырнул его в рот и проглотил, не прожевывая. А потом меня великодушно простил.
– Молодо-зелено, ёпть! Пороли тебя мало в детстве, леденцами кормили, вот и несёшь херню! Тьфу. Ты зарядник наш триггерный знаешь? Ну, генератор, от которого мужики ранцы свои заправляют?
– Угу, – промычал я, пережидая, пока смесь тушеной свинины, жира и льда растает во рту.
– Сталиным я его зову! Иногда по фамилии, а иногда и по имени-отчеству, – Онофриенко замер, ожидая вопроса «почему Сталин».
Но мне как-то сразу всё стало понятно. «Вместо сердца пламенный мотор»! Это ведь про них – про хлопцев наших. В ранцах литиевые аккумуляторы, в грудной клетке – моторчик, в жилах – какая-то мутная густая херня! Шесть часов в сутки рядовой боец самой крайней в стране погранзаставы, расположенной на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане, заряжается энергией от Сталина. Оставшиеся восемнадцать часов исправно несёт службу! И пока Сталин жив – живы и бойцы – границы под охраной – враг не пройдет. Ну, и вроде как «и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». Правда, с «руками-крыльями» выходило не так чтобы достоверно и по песне, и я немедленно озвучил это Онофриенко.
– А здорово бы было! Представляете, Константин Саныч? Летающие климатические войска. Парят над Арктикой, как белоснежные беркуты. Бдят. С такими пограничниками ни один нарушитель к нам не пройдет.
Онофриенко неожиданно поперхнулся спиртом, закашлялся. И пропустив мою реплику мимо ушей, заорал, перекрикивая дизель:
– Ты, салага, не понял вообще. Я о другом! Сам товарищ Сталин! Лично… этот эксперимент запустил. Путёвку в жизнь нам дал! Прилететь сюда собирался на вертолете с материка! И ведь прилетит!
Мне стало ясно, что Онофриенко в зюзю и бредит, а я присутствую при рождении очередного мифа про великого Вождя.
Я вознамерился было выразить сомнение личной заинтересованностью генералиссимуса в нашем удаленном гарнизоне, но выражать было уже некому. Онофриенко упал лицом на стол и захрапел. Эх, майор-майор. Будь оно хоть на четверть так, как ты себе навыдумывал, тут бы от проверяющих отбою не было. И вместо двух офицеров, из которых один алкаш, а другой чуть ли не враг народа, назначили бы настоящих ответственных командиров. И медика бы прислали, и технаря. Ну и с харчем, топливом и прочей матчастью подсуетились бы, а то шлют паёк в полгода раз – и то после того как портативка от содержания Майоровых шифровок начинает стыдливо краснеть.
В общем, версия Онофриенко не выдерживала критики, а вот то, что зарядник он назначил гарнизонным Сталиным, мне понравилось. В точку попал майор! В самое яблочко!
* * *
Теперь же Сталин нагнулся, и всем нам кабздец.
Я сидел напротив Онофриенко и ждал, когда же он перестанет наконец скрипеть зубами о стакан и посмотрит мне прямо в глаза. Но майор раскачивался на табурете и не желал ни глядеть на меня, ни меня слушать.
– Товарищ майор…
– Товарищмайор, товарищмайор, ёпть? Что ты пялишься на меня, как доярка на Николая Угодника? – взорвался Онофриенко. – Я олелукое, что ли? Что я могу? У нас уже потери, а к вечеру шесть бойцов откинут ласты. Какая сейчас в наряде смена?
– Первая, – подсказал я, покосившись на часы. Группа должна была вернуться с обхода через час и сразу встать в казарму на подзарядку, но поскольку питаться ребятам неоткуда, то их можно списывать в расход. И вторую смену можно списывать через шесть часов. И ещё через шесть – третью. А завтра к вечеру останемся на заставе я да Онофриенко. Шерочка с машерочкой. Правда, это тоже ненадолго. За утрату экспериментального климатического отряда нам с Константинсанычем санаторий в Минводах уж точно не светит.
– Ёпть! Петька! Надо хотя бы отомстить за Гурика! Пока ещё время есть, пока ребятушки наши не поумирали все, пойдем да и раздолбаем нахрен американцев. Застааава, в ружьё! – Онофриенко вскочил, бросился было к выходу, но я поставил ему подножку, и он растянулся возле входа, ткнувшись носом в порожек. – Ёпть! Ты что? Что творишь?
– Товарищ майор, я вам уже который раз толкую – это никакие не негры! Это кто-то наш. С заставы. Утром снег свежий выпал, а следов на нём нет. И, простите, пожалуйста, в летающих американских солдат я не верю.
Онофриенко молча поднялся и ощупал лицо.
– Ладно. Продолжай, Егоров.
– Товарищ майор, Константин Саныч! Это наши! Чтобы так всё продумать, мозги нужны. А мозги здесь есть только у вас, у меня… и чуток у Непомирая. А то и не чуток. К тому же, – я сделал глубокий вдох и сознался. – Я вчера старшине до двадцати пяти Цельсия термостат подкрутил. Он сам мне это и присоветовал, мол, чтобы побыстрее соображать и половчее двигаться. А я что? Я подумал – хорошая мысль. И подкрутил. Тулуп ему ещё ваш запасной отдал, чтоб не замёрз.
– Ёпть!
– А что делать было? А? Я неделю глаз не сомкнул! Вас из КАПШа не вытащить, а бойцов без присмотра оставлять побоялся… Кто ж мог предположить, что Непомирай – предатель! Хороший же боец!
– Да уж… – многозначительно звякнула канистра. – Хороший. А ты его личное дело хотя б читал, салага? Что написано там, видел?
– Что, что. Как у всех… Самострел. Трибунал. И подписка о согласии на эксперимент.
– А то, что Непомирай наш – авиаконструктор в прошлом? Что его ещё до войны на карандаш взяли? А что… А, ладно, – Онофриенко начал медленно и слишком спокойно, чтобы это выглядело воодушевляющим, переодеваться. Сперва сменил кальсоны, потом разыскал в чемодане чистую гимнастёрку, разгладил ладонью воротник. – В общем, Петька, я ведь не просто так Непомирая «подогрел», а чтобы он из расположения ни-ни. Видел я его там… У негров. Когда в сугробе яйца морозил, тогда и видел. Он возле их генераторной прятался. Я и подумал ведь сперва, что это измена. Но потом, когда из барака сержант американский пулей вылетел и в небе закувыркался, решил… В общем, пью я сильно, Петька. Вот и решил, что прижучило меня и что чудится всякое. Поэтому и не доложил про Васю Непомирая куда следует. Но на всякий случай «подогрел» маленько старшину. Подогретый, он от Сталина далеко не уйдёт. А видишь как обернулось… Уйти не ушел, но всем нам подкузьмил – скотина. Терпеливый, гад. Хитрый. Момента, выходит, подходящего ждал. Ждал, что комсостав потеряет бдительность. Ишь…
Я загрустил, закурил и подумал, что, может быть, именно в этот момент особист-Пончик достает из моей ячейки исписанный лист. «Милая мама, у меня всё хорошо. Вчера был в отгуле и ходил в кинотеатр. Познакомился с замечательной девушкой. Её зовут Зоя». Интересно, нельзя ли договориться с Пончиком, чтобы он продолжал слать маме мои письма, даже если меня… Дальше, чем переписка, думать отчего-то не хотелось.
– Надо пойти контингенту разъяснить чрезвычайную ситуацию, – майор залез в тумбочку и достал оттуда фуражку с высокой тульей. – Ребята имеют право всё знать. Пусть подготовятся как положено. И ты тоже, лейтенант… как-нибудь понаряднее оденься. Всё-таки командир!
* * *
Бойцы стояли по стойке смирно, красивые и одинаковые, как на параде. Поверх самой обычной летней (им достаточно) полевой формы надеты были белые маскхалаты, и ветер трепал бязевые полы, норовя забраться внутрь, поближе к человеческому теплу. А какое там тепло? Плюс десять по Цельсию, а скоро будет и того меньше. Капюшоны маскхалатов опускались на лбы бойцов низко-низко, по самые брови. Поблескивали загадочно и немного жутковато защитные очки.
«Слизистая у них сохнет, – пояснил мне как-то Онофриенко. – А они не понимают же. Бошки не фурычат. В инструкции их написано, что капать в глаза следует в шесть и в двенадцать, так они и капают в шесть… и в двенадцать. Не понимают, что можно просто так, если слизистая сохнет. Я говорил, орал на них, матерился, просил, приказывал. Нет! Мог бы и сам, но я им не мать, не доктор и не ППЖ. Ну хоть очки всем добыл».
– Солдаты! Товарищи… Хлопцы, – голос майора дрожал. – Тут такое дело. Сталин… Зарядник ваш – того! Скопытился! В общем, жить вам осталось чуть. Поэтому вы оправляйтесь, прощайтесь друг с дружкой, ну там, может, помолиться кто хочет, так пожалуйста. Молитесь. Тьфу!!! С кем разговариваю-то?
Онофриенко выругался, но я видел, что ему невыносимо тяжело и что он едва сдерживается, чтобы не заплакать.
– Сталин нам больше не нужен!
– Чтоооо? – взревели мы с майором одновременно и обернулись туда, откуда донесся чуть хрипловатый басок старшины Непомирая.
– Не нужен Сталин. Можно без него функционировать. Солдат климатического отряда Советской Армии способен теперь заряжаться откуда угодно, хоть от маленького генератора, хоть от бытовой розетки. Вот… Товарищ майор! Товарищ лейтенант! Глядите.
Старшина Непомирай шагнул в сторону, и на его месте появился рядовой Гурген Берзикян. Тот самый, которого мы уже похоронили. Выглядел Берзикян всё ещё медленным, но удивлённым и даже напуганным, что само по себе было странно. Над тощими плечами Берзикяна торчала конструкция, на первый взгляд напоминающая крылья, на второй взгляд – их же.
– Что это ещё за хрень? – Онофриенко заломил фуражку на затылок. – Что с Гуриком… Почему без ранца? И что за палки из него торчат?
– Гурик!!! Повернись, пожалуйста, будь добр, – ласково подтолкнул рядового в бок Непомирай. И, обращаясь к майору, сообщил, как что-то всем понятное и само собой разумеющееся: —Аккумуляторы вживляются прямо в спину бойца, и тогда кровезаместительный раствор автоматически выравнивает характеристики элементов банок аккумулятора… К сожалению, пришлось вывести из строя триггерный зарядник, чтобы позаимствовать кое-какие запчасти и, простите, вынудить вас меня услышать.
Меж тем рядовой Берзикян, всё с той же немного напуганной и извиняющейся улыбкой на лошадином лице, отошел к краю плаца, разбежался, развёл в стороны тощие длинные руки. И вдруг взлетел. Получалось у него плохо – неумело и неаккуратно. Берзикян то подпрыгивал на высоту дозорной вышки, то нырял вниз, к самой земле, то начинал болтаться из стороны в сторону, но все-таки это был полёт.
– Образец крыла пришлось выкрасть у соседей и перепроектировать с учетом имеющихся на заставе ресурсов… К сожалению, на это ушло почти семь лет, – старшина развёл руками. – Слишком трудно было думать. Очень трудно… Вопросы ещё есть, товарищ майор?
– Василий, эээ…
– Василий Геннадиевич, – старшина Непомирай поклонился нам с майором так, как кланяются в художественных фильмах профессора и врачи, и я немедленно представил его в пенсне и с бородкой-клинышком.
– То есть… – Онофриенко мялся, и видно было, что его мучает какой-то очень неуютный стыдный вопрос. Майор что-то мямлил, но в конце концов не выдержал и выпалил: – Василий Геннадиевич! Негры, выходит, в самом деле летают? Выходит, не белочка?
– Никак нет, товарищ майор. Не белочка. Летают! Ещё как летают уже лет десять или двенадцать.
И наши тоже будут летать! И Живчий, и Берзикян! Правда, мне потребуются сутки и ваша помощь, чтобы перевести весь контингент заставы с ранцев на встроенные аккумуляторы. И около месяца, чтобы поставить заставу на крыло. Разрешите приступить?
– Охренеть, ёпть! – Майор зачерпнул горсть снега и швырнул его себе в лицо. – Сталина… Сталина ты зря.
Потом развернулся и поспешил в КАПШ, кажется, я знаю зачем.
– Приступайте, старшина! – скомандовал я. И зачем-то ещё заорал на весь плац: – Воооольно!
– Ёпть, ёпть, ёпть… И как мне на материк ситуацию доложить? Вот ты салага, но не совсем же дурак, Петька? Ты же видишь, что нам с тобой кабздец? Что? Что мне говорить? Что зарядник вышел из строя, ремонту не подлежит, но зато у меня теперь рядовые порхают над заставой, как птички? Ты, Петька, думаешь, за такие новости нам путёвку в Крым выдадут? Спирту будешь?
– Не думаю, – честно ответил я. – И не буду. Константин Саныч… Не надо ничего докладывать. По крайней мере сегодня. Утро, знаете ли, вечера мудренее. Вы спать ложитесь, а я пойду группу в наряд заправлю и Непомираю подсоблю. Ну, раз уж Сталина у нас больше нет.
Майор Онофриенко отвернулся лицом к стенке и замолчал. А на следующее утро с материка пришла срочная радиограмма.
Сталин умер.
«Добрый день или вечер, мама. У меня всё хорошо».
♂ Игедо Светлая фигура Алексей Провоторов
И ножны, и чехол ручницы ему опечатали тёмным сургучом, как того требовала традиция, ибо сперва он должен был вразумлять словом. Бастиан не снимал печатей с начала осени, все те шесть недель, пока рыскал по окрестностям. За это время ему пришлось всерьёз проверить только Бигейль, травницу. Она одна во всей огромной и полупустой округе творила колдовство достаточно сильное. Он ограничился тем, что устроил ей выволочку. Впрочем, потом они разговорились и разошлись мирно, когда истекал пламенем один из последних закатов октября.
Остальные затаились. Пару раз Мосол порывался было скакать сюда, в сторону долины Игедо, но быстро успокаивался. Всё было тихо с последней, сухой августовской грозы. До нынешней поры.
Капитан королевских изыскателей, стрегоньер Бастиан да Кила, остановил коня перед спуском и смотрел вдаль. Долина Игедо лежала перед ним, сизая, соломенно-золотистая, охристая, и от этого сочетания цветов делалось неспокойно. Низкое рваное небо обещало дождь.
Ветер дул с вершины холма в спину, шумел в ушах, натягивал капюшон Бастиану на голову: надень, мол. Но это был, возможно, последний тёплый ветер в году, и капитан не хотел укрываться от него. Он искал того, кто позвал Красную Птицу, и вполне мог наткнуться на неё саму. Потому глупо было бы отказывать себе в нынешних простых радостях, если он рисковал не дожить до завтрашних.
Ворожеи, стреги, даже тот бешеный колдун с мёртвой костяной рукой, что едва не лишил его языка, – Бастиану до сих пор трудно было разговаривать, – это одно. А Красная Птица – совсем другое. Её природа лежала вне естествознания, даже вне магии, по крайней мере, привычной. Поэтому оставалось вопросом, что чувствовал Мосол, безумный конь, там, впереди, куда вело его тёмное слепое чутьё: колдовство стреги или присутствие Красной.
Эта мысль беспокоила Бастиана посильнее, чем близкий дождь. Он взглянул на свою тень, косую и блеклую – тень высокого, худого человека в плаще, с откинутой на спину широкополой шляпой.
Да, он сразу отправил почтового голубя, и спустя два-три дня по его следам прибудет особый отряд. И затянутый в кожу, с белоснежной крахмальной повязкой на лице, Сигид Тьена примется за свою прямую работу – найти, убить, сжечь Красную Птицу. Если до тех пор вслед за нею со Второй Луны не упадут её брони и свирели в глазированном керамическом яйце, то Сигид справится точно. Если упадут… Вероятно. В конце концов, биться с Птицей – его работа, дело Бастиана – разобраться с колдуном или ведьмой, стем, кто тварей вызывает.
Конечно, хорошо бы в каждом округе держать не только стрегоньера, но и охотника на Птиц, только вот Сигид, Чёрный Офицер, один такой.
Из всех, кого ведьма могла призвать из леса, из болот, из могил или недр, никого не было хуже Красной Птицы. Хотя бы потому, что она являлась извне – падала со Второй Луны. Такое случалось во времена крупных пожаров. Они притягивали Птиц, покрытых алыми перьями, Птиц, имеющих явное сродство с пламенем: каждая из них, достигнув зрелого возраста, могла управлять огнём. В старину от падения Птицы до той поры, когда она набирала размер, возможность дышать полной грудью и играть на своих свирелях, проходили недели. В прошлый же раз команда Тьены повстречалась с Птицей на четвёртый день, а к вечеру, когда Птица была уже мертва, с неба звездой рухнуло яйцо с Птичьей утварью. Опоздай Сигид с поисками хоть на день, и ему пришлось бы сражаться уже с вооружённой, закованной в керамический панцирь нелюдью. Такая схватка стоила жизни Янкрайту, предшественнику Сигида, такой же сухой и ветреной осенью пять лет тому. Птицу тогда убили солдаты, простые парни из регулярной армии, просто взяли числом. Оставшихся в живых после поразил мор – проливать коричневую кровь Птицы под открытым небом было опасно.
Они падали в разных местах, но всегда там, где творились огонь и магия. И всегда спустя какое-то время вслед за окрепшей Птицей Короли Второй Луны присылали ей белую броню из металла и керамики. И тонкие, почти прозрачные фарфоровые свирели с блестящими, как зеркало, металлическими кольцами, что служили Птице оружием. Говорили, каждая Птица вырастала особой, и панцирь с оружием подходил только ей одной. Потому их никогда не отправляли вместе – Короли смотрели на растущую Птицу сквозь огромные трубы с линзами и, глядя, как именно она растёт, на что делается похожа, велели ковать особый, штучный доспех.
Ведьмы же призывали этих странных, с каждым разом всё менее звероподобных и всё более разумных существ не только из злой прихоти. Нет. Многие мечтали добыть части тела Птицы для своих ритуалов, завладеть их свирелями или поработить их, заставив служить себе. До сих пор никому такое не удавалось. Но желающие находились всегда.
Вот поэтому Бастиан предпочёл бы ещё раз встретить Глиняного Едока или огромного, мохнатого Альфина с длинным жгучим языком, как тогда, на болотах Пье-Кайпы, в душной зелёной тени кайпарских гниющих лесов. Прикажи стреге, или убей стрегу, и призванные ею существа, обретя свободу, скорее всего уйдут сами. А вот с Красной Птицей такое не пройдёт – каждая из них повинуется только своим Королям. Если бы Бастиан ведал настоящее имя Птицы, он мог бы попытаться подчинить её себе, но в Столистове не было упомянуто ни одного такого. О Птицах, их Королях и Второй Луне было вообще известно мало, так – выцветшие строки в древних книгах да кое-какие сведения, добытые за ту пору, с которой Птицы научились владеть людской речью. Уже лет двадцать как.
Он легонько свистнул, и Мосол начал спуск – туда, вперёд, где после падения Красной Птицы ещё горели леса. Ко Ржи и Ледо Ютре по кличке Лайка, одинокой ведьме с травой в волосах.
Дорога, уходившая к далёким пока сёлам, почти не вилась; так, петляла немного.
Слева, внизу, виднелась прогалина – одичалый сад согбенных яблонь с перекрученными, тёмными замшелыми стволами, редкой, пронзительно яркой листвой, с глянцевитыми отблесками редких и мелких яблок. Останки изгороди намекали на то, что здесь когда-то жили люди; а больше ничего не намекало, даже слегка.
Бастиан спустился с холма, накормил Мосла яблоками. Хоть яблони уродили что-то в этой пустой земле, обескровленной, наверное, ещё древним железным городом, что стоял тут и в те времена, когда Короли Второй Луны попытались впервые ступить на земную твердь.
Потом капитан вернулся в седло, и они отправились дальше.
Среди прочих стрегоньеров Бастиан отличался одним – своим конём, который чуял магию гораздо лучше всяких натасканных канареек, скарабеев, запаянных в стеклянный шар, и прочих магнитных, светящихся, песчаных амулетов его коллег. Мосол был тяжёл нравом, несдержан, безумен, пропитан ядами так, что становился иногда опасным и для своего хозяина – магия, зелья и ужас смешались в нём, просочили его плоть и заменили кровь – но Бастиан управлялся с ним: Мосол был предан своему спасителю. Шкура чубарого коня была покрыта шрамами, кое-где просвечивала глянцевая розовая кожа; раздроблённые копыта стянуты стальными обручами, а глаза закрыты железными пластинами, чтобы он вёл себя спокойнее. Этого коня Бастиан добыл у ведьм, и он давно был не в себе. Говорят, ведьмы взяли его с бойни, где он последний оставался в живых и тогда уже обезумел от ужаса и запаха крови. Они поили его зельями, чтобы насытить костный мозг ещё при его жизни; а потом бросили в котёл – кости сваренного заживо коня сильно ценились у северных колдуний. Бастиан буквально выволок его оттуда, когда и меч, и штык, и приклад ручницы были уже в крови, а мятежные колдуньи Пье-Кайпы больше не шевелились, ни одна.
Ожоги у коня прошли, а вот безумие – нет, но зато Мосол безошибочно чувствовал, если где-то творилась магия.
Сейчас он стремился вперёд, к горючим озёрам Игедо, и Бастиану оставалось только сидеть в седле, думая о том, что ждёт его в конце дороги.
На стрегу он найдёт управу, в конце концов, такова его служба. Но вот сможет ли он одолеть Красную Птицу, если повстречается с ней? Должен, даже обязан, но вот способен ли – это вопрос.
Не то чтобы Птица могла командовать огнём без своих свирелей, но, говорят ведь, она способна насылать мор, даже не будучи раненой – может, зараза есть в её слюне, слезах, если есть у такой твари слюна и слёзы; может, в чём-то ещё. А вдруг как раз эта имеет когти или клюв в два локтя – в конце концов, каждая новая падала какой-то другой, страшнее прежней. Бастиан не видел ни одной, только кости и перья в запаянной стеклянной колбе да раскрашенные оттиски гравюр на закапанных воском, серо-коричневых страницах Книги Столистов. И, честно говоря, полагал, что на птицу это похоже мало. Сигид вообще обмолвился, что последняя была ростом ему по грудь и ступала ногами почти как человек, и пальцев было по пять.
«И огнь не горит, и свет меркнет, когда она играет стальными пальцами на фарфоровой свирели». Он читал Столистов, наверное, сотню раз и не сомневался в том, что книга не лжёт, по крайней мере, намеренно. И его почему-то пугала эта связь несвязуемого. В привычном мире свирели не имеют отношения к огню, звук не имеет никакой власти над пламенем, и по законам известной ему магии в том числе. А Птица вот может что-то такое, чего не может ни одна призвавшая её стрега. И механизм этого не поддаётся объяснению. Эта мысль вызывала мурашки по коже, под тёплой дорожной курткой и плащом.
…Красную Птицу искали здесь и в прошлое сближение Лун, и чубарый конь Бастиана тогда тоже волновался в стойле, но не слишком сильно. Может быть, из-за погоды. В те дни бушевали грозы, по небу катились тяжёлые, сизые волны вышнего шторма, гром гремел почти непрестанно, будто кто-то колотил в изнанку неба с той стороны, требуя впустить; и вспышка, которую сочли горящим хвостом Красной Птицы – в конце концов, на землю они все приходили уже бесхвостыми, – могла быть просто одной из молний, пусть и королевской мощи. Птицу тогда не нашли, и ведьмы были спокойны, в том числе и Ледо, живущая у Ржи, куда сейчас намеревался направиться его конь. Да и мора не последовало, хотя ветер дул из Игедо, из этих почти пустых краёв. Тогда все успокоились.
А в ночь на середину осени стрега запалила горючее озеро и забила в барабаны, так что безумный конь по кличке Мосол вновь забушевал в деннике и начал ломать копытами двери. Бастиан проснулся в поту, только лишь поднялся над горизонтом медный тонкий рог месяца. Он всегда остро чувствовал беспокойство своего странного коня.
Бастиан выскочил на улицу в прозрачной темноте и сразу глянул на небо. Вторую Луну он не увидел, как ни глядел в тёмно-синий небосвод, и на душе немного полегчало. Отвратить он ничего не мог, и ему оставалось только, как говорилось в книге, воздать по силе и воззриться на последствия, но он не хотел выезжать под Второй Луной.
Он взял ручницу, заряженную и опечатанную, не расчехлённую ни разу за осень; прихватил свинцовых пуль, лучшего пороха, и меч, конечно. Ручница – дело такое, а вот мечу не нужен порох, убийственная сила в нём не кончится, пока рука способна его держать. На крепость руки капитан никогда не жаловался. Во многом поэтому его клинок так и оставался в ножнах, под сургучовой пломбой.
А сейчас, чего таить греха, он переживал. С ведьмами ему доводилось тягаться и раньше, благо многие настоящие имена их были записаны в книге, что давало стрегоньерам хорошую фору; но с другой стороны, коль скоро ведьма ожидает его прибытия – а должна, если совсем не выжила из ума, – то она может быть опасна, даже в обычной драке.
Тем более Ледо Ютра. Капитан не сомневался, что это она.
…Конь шёл быстро, по прямой полоске сухой, заросшей глиняной дороги, прямиком на Юг, где за горизонтом истекала испарениями Ржа, одно из озёр Игедо. Бастиан там никогда не бывал. Когда он встречался с Лед о четыре года тому назад, она жила совсем в других местах, а сюда ушла после законного наказания за былые грехи.
Горизонт застилало марево, подсвеченное усталым солнцем. Вдалеке реяли светлые дымы, но ветер уносил прочь их запах, оставляя лишь сухой аромат травы. Вторая Луна была так близка, что он чувствовал её телом, кровью чувствовал. Это обратное давление, словно кто-то невидимый, неощутимый подвесил его за ноги, да так ловко, что он не заметил смены верха и низа. Иногда Бастиану казалось, что волосы его и впрямь стоят дыбом, и он проводил ладонью по ним, каждый раз убеждаясь, что это не так. Но Вторая Луна, невидимая сейчас в дымчатом небе, не оставляла его. По правде говоря, она была плохо видна даже в ясную ночь. Диск её едва отсвечивал, лишь иногда по краю его поблёскивали слюдяные на вид вкрапления, словно злые глаза. Бастиан встречал много недобрых взглядов – яростных, гневных, тяжёлых, безумных, залитых кровью последних – но только под каменными глазами тёмной Луны чувствовал засасывающее головокружение.
Вскоре Бастиан достиг какой-то деревни. Тенистая улица, колодец по левую руку от дороги, с замшелой и высохшей двускатной крышей… И тишина.
Мосол ступал мерно, не грыз удила, не пугался шорохов. Бастиан сидел ровно, хотя уже и устал, серебряная застёжка багрового, хоть и линялого плаща была начищена до блеска, как и навершие клинка. Но некому было смотреть на него, некому было перешёптываться – «вот идёт стрегоньер», некому было отводить глаза или наоборот, протягивать детей, чтобы капитан коснулся их на счастье тонкой перчаткой.
Поэтому перчатки он снял и расслабился. Село было пустым, окна домов – слепы, сады заброшены. Покосившиеся ворота утопали в некошеных травах, что клонились к дороге. Многие заборы повалились, внутрь или наружу, и теперь бурьян рос сквозь них.
Погода портилась, и Бастиан понял, что дождь пойдёт ещё до заката. Ну что ж, хоть пожары прекратятся.
Село быстро кончилось внезапным простором. На поваленном стволе вербы у самой дороги, поставив сапоги в колею, сидела девушка в таком же багровом плаще слуги Королевства, что и у него самого. Сливочного цвета шляпа скрывала лицо, но изящные руки, да и вся стать были явно девичьи.
Услыхав Бастиана, она подняла голову, сквозь пряди русой чёлки блеснули чистые, светло-карие глаза. Дорожный платок был повязан на лице на особый манер, как маска Сигида Тьены.
– Разъездной? – спросил капитан для проформы, останавливая коня. Тот ничего не замечал, кроме зовущего притяжения близкой уже магии. Бастиан был уверен, что конь не заметит девушку, но Мосол и сам сбавил ход, фыркнул, завертелся, норовя встать на дыбы. Иногда его разум застилала совсем уж тёмная пелена, и он запросто мог укусить любого неосторожного встречного.
– Капитан, – девушка приветственно кивнула, торопливо вставая и отодвигаясь подальше от Мосла, который тянулся к ней мордой, широко раздувая ноздри.
– Красная Птица пала, – сказала она, обходя коня сзади по широкой дуге. Она оказалась мала ростом, с нежным, но сухим голоском. Бастиан встречал таких бестелесых дев. И как только она попала в разъездные, подумал он. Наверное, владеет магией, должна, хотя бы немного.
– Где твой конь? – спросил Бастиан, глядя на подошедшую разъездную сверху вниз. Впрочем, он мало что видел, кроме светлой шляпы.
– Волки, – ответила она коротко. А потом добавила: – А может, собаки одичавшие. Тут все сёла брошены, но многие – не так уж и давно.
– Неурожай, – кивнул капитан. – Я еду к ведьме потолковать о Птице.
– Разрешишь присоединиться, стрегоньер?
– Давай.
Он хотел подхватить её, усадить в седло, но она вспрыгнула легко, махнув полами линялого плаща, чуть зацепив Бастиана краем потрёпанной, выбеленной солнцем шляпы. От неё пахло горькой травой вроде полыни и чем-то ещё, что Бастиан не смог бы описать, как и сам запах полыни он не смог бы описать чужестранцу, никогда не знавшему этого аромата. Что-то такое, что перекликалось в памяти Бастиана с тонким ноябрьским инеем на палых коричневых дубовых листах. Он не мог объяснить почему, но от этого запаха мурашки пошли у него по коже. Он так давно не возил девушек в седле.
Мосол, впрочем, его чувств не разделял. Он крутился, гудел и норовил укусить девушку за носок сапога, пока Бастиан не прикрикнул на него.
– Нам вперёд? А что за ведьма?
– Ледо Ютра. По прозвищу Лайка. Я думал, ты знаешь.
– Я не стрегоньер, меня отправили, как это говорится, оценить опасность пожара. И, если чего, оповестить людей, чтоб убирались, буде таковые встретятся. Формальность, сам понимаешь, нет тут ни соба… То есть есть. Ты понял. Встретились эти, кто они там, и убираться пришлось мне.
– Это я понял. А оружие твоё где?
– В волке, – неопределённо махнула ручкой девушка. Помолчала, потом добавила: —Лезвие застряло в кости, не хватило силы вытащить. Я, как видишь, не атлет. Так что там с ведьмой? Ты встречал её раньше?
– Да. И я знаю её истинное имя.
– Понятно, – кивнула разъездная. – И какое же оно?
Бастиан только усмехнулся. Проверяет, правда ли я стрегоньер, подумал он. Может, ещё Столистов попросит почитать?
– Лучше скажи, как тебя зовут. Я вот Бастиан.
– Марева, – сказала девушка в сторону, ёрзая, устраиваясь поудобнее.
– Будем знакомы. А это, – он потрепал коня по редкой гриве, – Мосол. Опасайся его. Просто на всякий случай.
Девушка кивнула, и они поехали. Не сразу – Мосол погарцевал, сделал пару петель на месте, словно стремился завязаться узлом; несколько раз прогнал по телу крупную дрожь и только потом снова взял след. И тогда он сделался спокоен и быстр, так, что шляпу Маревы то и дело сдувало Бастиану на грудь, и девушка придерживала её тонкими пальцами в белых перчатках.
Конь сорвался вскачь, иногда припадая к земле, чуть ли не пластаясь. Один раз он сошёл с пути, остановился на серых бумажно-прозрачных листьях за толстым, кряжистым стволом полумёртвого дерева, будто прятался от чего-то, и долго словно смотрел вдоль дороги, хотя щитки прикрывали его слабо видящие глаза. Другой раз просто развернулся и сделал широкий круг, принюхиваясь и что-то словно бормоча сквозь стиснутые зубы. Он был опасен в такие минуты, и Бастиан предпочёл потратить немного времени и стянуть его пасть ремнями.
– Чего он? – спрашивала Марева, тоже вглядываясь в лес.
– Дело делает, – отвечал Бастиан. – Чует ведьму. Или Птицу.
Марева ёжилась под плащом и вжималась Бастиану в грудь. Потом успокаивалась, до следующей злой Мословой выходки.
Начался дождь. Запахло прибитой пылью и холодом. Бастиан подумал, не пора ли сломать печати на оружии. Вразумлять словом… И скольких он вразумил? Бастиан невесело усмехнулся.
Он проверил пистолет и распечатал ножны – на ходу, не останавливаясь. Марева поникла, закуталась в плащ и стала как-то ещё меньше под дождём. От неё почти не было тепла. Дождь по-прежнему шёл редкий, но туча уже летела в их сторону, низкая, рваная и тёмная, как раненая рыба, исходящая блёклой, серофиолетовой кровью в мутной воде небес.
Бастиан узрел курящуюся дымовую трубу за пеленой дождя и в который раз убедился, что Мосол не ошибается.
Он свернул в лес, изо всех сил удерживая рвущегося вперёд коня.
– Дальше, пожалуй, я сам, – сказал Бастиан.
– Боишься, помешаю, что ли? – спросила Марева, склонив голову, но спрыгнула на землю, легко, не успел капитан коснуться её.
– Я знаю Ледо, – сказал он вместо ответа, – и она может быть опасна. От настоящего имени она никуда не денется, но откуда мне знать, сколько имён себе она взяла вообще, и какие аспекты по каким именам растыкала? – Бастиан смахнул капли с полей шляпы. – Уж заставить её стоять столбом я точно не смогу, заклинай не заклинай.
– Она сильная ведьма?
– Не из слабых.
– А отчего её зовут Лайкой?
– Потом расскажу.
– Долгая история, да?
– Есть примета такая – не обсуждать работу до работы, – ответил он. – Мне пора.
Бастиан привязал чубарого к дереву стальной цепью. Он был немал, с тех пор, как его вытащили из варева, наел тела, вернул себе крепкие мускулы и, чуя цель так близко, мог буянить и рваться с привязи. Капитан подозревал, что конь собирается ломать дерево, как только он сам уйдёт.
Капитан проверил, как вынимается клинок, и пошёл к лесистому обрыву, за краем которого, высунув лишь сизую закопчённую трубу, прятался дом Ледо Ютры. За ним, в разрывах рыжей ряски, открывалась чёрная, рябая от дождя гладь озера под названием Ржа.
Спустился с обрыва он быстро, благо была тропинка; обошёл старый бревенчатый дом между пеной побережья и столь же старым, но крепким забором.
Здесь ему не нравилось. Грязь, подсохшая сверху коркой, под ногами была податливо-мягкой, а озеро вблизи оказалось таким чёрным, будто в нём стояла ночь. Интересно, подумал он мимоходом, а эта вода тоже горит?
На поверхности плавали красные и седые листья. Ветер не долетал до этого места. Мёртвая трава цвета костей и камыши, засохшие, казалось, годы тому назад, жались к берегу. Над водой, как застывшие щупальца, или челюсти, или позвоночники давно умерших диковинных зверей, вздымались ржавые зубчатые дуги, истлевшие до бумажной тонкости шестерни; шелушились бурой и огненно-рыжей окалиной, утопали в озере. То был старый механизм, а от вида старых механизмов у капитана всегда портилось настроение, становилось неуютно, словно холодная вода течёт за шиворот, и ветер задувает за пазуху. Этому металлу было много сотен лет, а он до сих пор не рассыпался до конца, и наверху дуг можно было ещё рассмотреть старые клейма. Те люди застали времена, когда на небе была только одна Луна.
Летел пух от камышей, лез в лицо, и Бастиан глубже надвинул шляпу.
Потом ударил ногой в калитку ворот, так, что жёлтый лишайник посыпался на землю. Дверь отозвалась недобрым гулом. Заперто. Ржавые гвозди, торчащие из верхней поперечной балки, мешали перелезть.
– Открывай! – рявкнул он. – Стрегоньер требует!
Понятно было, что так никто не откроет, но он как-то так привык к заведённой процедуре. Тем более, раз печь топилась, стрега Ютра точно была дома.
– Акло Хайнант Ледо Ютра, дочь Эрландо, именем Королевства, открывай!
Такой зычный рык всегда удавался Бастиану. Противостоять простому прямому воззванию к настоящему имени никакая стрега не могла, но… Лишь в том, что касалось простых действий. Дверь она ему откроет, первое заклятие самое сильное. Может быть, ему удастся заставить её говорить только правду. А вот на большее его магических умений вряд ли хватит. Остаётся полагаться на голову и руки.
Он услышал, как упали с двери крюк и засов. Видно, заговорённые, раз хозяйка открыла их, не подходя к дверям.
Толкнул калитку и вошёл, держа руку на рукояти меча.
Дом ведьмы зло глянул мутными плитками окон. Под сапогами расползлась грязь. Пахло аиром и тиной с болота, и авериановой травой. Он огляделся, коротко. Столбы ворот и частокола заросли мхом изнутри, в торце двора валялась какая-то железная рухлядь, накрытая мокрыми плетями безлистого, жухлого плюща; медный чан под водостоком полнился дождевой водой, в которой плавали сор и мёртвый шершень.
Но это он отметил вскользь, потому что из-за угла дома появилась хозяйка.
Высокая, черноволосая, с седыми прядями и пучками сухой травы, вплетённой в мелкие косы. Глаза её почему-то слезились, обильно; светлые, с бирюзовой искрой и угольным контуром радужной оболочки.
– Бастиан, – выплюнула, пролаяла Лед о и заворчала, как дворняга. Кожа на её крупном, покатом лбу и высоких скулах была бела, и стрега казалась совсем молодой. Хотя только казалась.
– Ледо.
– Что тебе надо, Бааааа-ааг-афффф-аггг!
Бастиан вспомнил вопрос Маревы. Почему Ледо Ютра получила своё прозвище.
Так же внезапно и моментально он вспомнил того колдуна с чёрной, растрескавшейся костяной рукой; две потемневшие, словно окалиной покрытые кости, растущие из пожёванного, усохшего локтевого сустава. Самым жутким было то, что рука двигалась.
Тогда ему чуть не отрезали язык, Ледо же своего однажды лишилась, будучи приговорена к такому наказанию по закону. Ходил слух, что палач позже умер от её укусов. Но дело было сделано.
Впрочем, потом Ледо пришила себе новый; говорят, чёрными нитками, в знак того, что не забудет этого и не простит. Правда, язык был собачий. От этого Ледо иногда срывалась на лай.
Она и на вид напоминала собаку: яркие глаза с тёмным ободом, вытянутая челюсть. Или чужеродная часть тела так подействовала, или Ледо и раньше походила на псину?..
– Ты позвала Красную Птицу? Больше здесь просто некому, так ведь? И ты знаешь, что за это бывает.
– Знаааагррр… Знаю. Но это не я.
– Акло Хайнант Ледо Ютра!
В ответ ведьма зло залаяла, сжав крупные кулаки.
– Акло Хайнант Ледо Ютра, дочь Эрландо! Ты позвала Красную Птицу? Отвечай, заклинаю!
Бастиан охрип от собственного рёва и даже взмок.
– Д-д-д-д-да! – с ненавистью проскрежетала ведьма. Дождь немного стих. Бастиан не знал, зависела ли местная погода от стреги, но полагал, что нет. Хотя погода была самая что ни на есть собачья.
– Зачем? – спросил капитан.
– А…
Бастиан устал кричать и просто поднял пистолет.
– Зачем?
– Затем, чтобы взять в плен. Её оружие и доспех уже у меня-аф-ааафф-ау-ау-ау!
– Не понял, – удивился Бастиан. – Когда это яйцо успело упасть?
– Ррррраньше! – зло выплюнула стрега.
Это было странно.
– И где оно? – спросил капитан.
– О, я не хрррр… хрррав! Не храню его здесь. Только копии. Я полностью повторила оружие.
Ледо умолкла, поняв, что сболтнула лишнего без приказа. Такое бывало после заклятия полным именем.
Насколько Бастиан знал, оружием пришельцев со Второй Луны всегда были свирели. Одни заставляли гаснуть любой огонь, включая искры и горение пороха, другие – гореть даже негорючие материалы. Были и ещё какие-то. Могло ли у Ледо хватить умения скопировать такую странную вещь?
– Бастиан Ортега Интьяда Саул да Кила, сын Иозе!
Бастиан дрогнул, когда ведьма внезапно выкрикнула первые звуки его настоящего имени, и она выбила пистолет из его руки. Он не колдун, и, где бы она ни взяла сведения, такое заклинание не могло связать его надолго, но на две секунды он замешкался. Он владел основами магии по работе, и это имело обратный эффект.
Она схватила оружие и направила на него.
Он ударил её по руке ножнами, с силой, ведьма коротко вякнула, а пистолет полетел в грязь. Ледо повернулась и бросилась к дому. Он настиг её в сенях, перетянув ножнами по спине; она развернулась, опрокинув масляный светильник, и, схватив тяжёлый дощатый табурет, вытолкнула капитана из тесного пространства обратно на двор.
Бастиан ударил ногой прямо в её импровизированный щит, и она спиной вперёд полетела в угол двора, где не мешкая схватила с пня тяжёлый молот. Взмахнула им, как наступающий рыцарь, молот с низким грозным гулом и шорохом прошёл вдоль груди Бастиана и маятником вернулся. Она орудовала им так, словно он ничего не весил. Капитан шарахнулся в сторону, и стрега снесла поленницу дров. От следующего удара ему пришлось прикрыться рукой, молот зацепил плечо. Стрегоньер полетел на землю, перекатился, перехватил рукоять молота и чуть отвёл в сторону, второй рукой ударил, метя ведьме в лицо. Не попал, но она отпрянула, и Бастиан немного лихорадочно выдернул наконец из ножен клинок.
Очередной её удар расколол пень, она пошатнулась вперёд, и Бастиан наступил ногой на молот, ударив в висок крестовиной меча. Брызнула кровь, потекла по чёрным волосам и белому лицу, пронзительно голубые, как дыры в небо, глаза глянули на него, и он понял вдруг, что это глаза северной собаки, зверя, а не человека. Ему стало страшно, и он ударил по заносимому молоту. Попал по пальцам, вывернул оружие из руки ведьмы и от плеча нанёс косой удар по шее. Фонтан крови выплеснулся на траву, и Ледо упала наконец спиной на разъехавшуюся поленницу. Бастиан опустил меч и еле смог поднять руку, чтобы вытереть лицо.
Когда он обернулся к дому, тот уже горел. Просмоленные брёвна и полные шкафы снадобий занялись очень хорошо. Следовало убраться подальше, в сторону озера, потому что пожар намечался нешуточный. Дышать сгоревшим зельем Бастиан точно не хотел, мало ли, чем это могло кончиться. Он спешно покинул двор, подхватив пистолет, и побежал к берегу, а потом, когда обернулся и увидел, как пылают под обрывом заросли – просто по воде, вброд, вдоль отвесной стены, пропустив спуск, по которому пришёл, потому что сосны вдоль него тоже уже занялись. Колдовской огонь не жалел и мокрого дерева, распространялся быстро и жестоко. При таком пожаре жди ещё одну Птицу, подумал Бастиан, уже по пояс в воде пробираясь вдоль обрыва, подальше от горевшего с воем и треском дома. Он думал, придётся плыть, но увидел норы береговушек и полез вверх, пользуясь ими, как ступенями, бросив в воде потяжелевший казённый плащ. Ручницу не бросил.
Как там Мосол, хоть бы у Маревы хватило совести его отвязать, если она сбежит, думал он, продираясь через лес, чувствуя гудение пламени. И тут, словно в ответ, с треском разорвала небо молния, вонзившись куда-то в пылающий двор мёртвой ведьмы, и пошёл ливень, а из ливня, из сумерек меж стволов, выбежал конь, без цепи, без ремней, без щитков на белых глазах, дико шарахаясь и скаля чудовищно крупные зубы.
– Мосол! – Бастиан хрипло закричал, пытаясь поймать коня под уздцы. Марева отпустила его, но, видно, пожалела, сняв часть сбруи. Хотя ремни на морде он мог порвать и сам.
Он поймал, успокоил животное, взобрался в седло. Конь, радуясь встрече, понёс его куда-то, но уставший Бастиан не особо разбирал, куда. Конь петлял, огибая ядовитый, низкий дым пожарища.
Потихоньку наступила ранняя осенняя ночь, но Бастиан не увидел ни тёмной Луны, ни светлой, только отблески пожара. Потом они угасли. Чувствуя дикую усталость, он спешился под высоким деревом, привязал Мосла к ветке и сел на ковёр из листьев. Дерево вроде бы было буком, но разглядеть не получалось. Бастиан лёг в листья, просто сполз. Лёгкие горели, ноги были ватными – может, от усталости, а может, он всё-таки надышался этого дыма.
Ощущая тянущее вмешательство Второй Луны в голове, дурное, будто приступ болезни, он заснул. Ему снилось, что его подвесили за ноги к ветви бука, только бук был гол и ободран. Красная Птица, неуловимая глазом, тонкая и лохматая, сидела на ветви и молчала. Потом она запела, но только шёпотом. В нём не было ничего страшного, но Бастиан вдруг взмок, и тело его сковал холод.
Капитан проснулся от шелеста дождя, ледяного и сильного. Он свободно проникал сквозь редеющую крону. Стрегоньер смахнул упавшие листья и встал. Мир был сер, конь стоял в этом отсутствии света и тьмы фантастической тенью, и Бастиан спросил себя: а какие сны видит он?
Он натянул шляпу, вышел из-под дерева и долго мыл руки под дождём.
Хотелось есть. Хотя солёное мясо не было вкусным, а хлеб зачерствел, у него нашлась пара вчерашних яблок.
Рассвело, пришло неуютное, пасмурное утро, сквозь рваные тучи просвечивали лишь другие тучи, ветер сделался холодным и швырялся водой. Мокрые зелёные листья бука сыпались торопливо, словно знали какой-то срок. Пахло влажным деревом, влажной землёй, горькой сырой листвой. Запах напомнил ему о Мареве.
Конь проснулся и устремился куда-то, сразу, ломая ветку и дёргаясь в узде. Пришлось отвязать. Мосол не собирался останавливаться, и Бастиан едва успел прыгнуть в седло. Если Ледо мертва, то какую же магию так чувствует конь? Птицу?
Где там уже Тьена, подумал он. И где, правда, Марева, почему не приехала на коне? Уцелела ли она, если Мосол не пустил её к себе в седло и сбежал?
Должна бы, прикинул капитан. Должна бы.
Конь бежал через лес, словно по ровному полю. Бастиан хотел крикнуть ему, мол, помедленнее, но во рту пересохло, голоса не было. Сорвал вчера.
Вскоре лес поредел, всё вокруг затянуло паром, и через минуту Бастиан узнал местность: Мосол вывез его к обрыву над пепелищем. Обгорелая труба всё ещё косо торчала из-за края. Мосол, не останавливаясь, перепрыгнул два обугленных остова деревьев, упавших поперёк спуска, и въехал в чёрное и седое, туманное, мокрое пожарище.
Марева возилась в сыром пепле, на коленях, что-то складывая подле себя. Что-то, похожее на свирели, матово и зеркально блестевшие на мокрых углях. Металл и керамика не сгорели.
Бастиан едва удержал коня, когда тот бросился к девушке, нехорошо наклонив голову и вытянув шею; впрочем, Марева не обратила на него никакого внимания. Бастиан в недоумении спрыгнул в пепел, не пуская Мосла дальше.
И тут безумный конь обернулся и укусил его.
Боль растеклась по руке цветным вихрем, как зелёные чернила, которые выплеснули в воду, заклубилась мутью, так ярко стало вокруг, и небо сделалось полосатым, и в каждой полосе был огонь, и каждая звучала как струна, и Вторая Луна проступила головокружительным водоворотом, и в центре всего этого, словно мир декорацией отодвинулся на задний план, как на сцене театра, Бастиан увидел вдруг Мареву. И, заражённый, ощутил то же течение колдовства, то же влечение, что и его безумный конь.
Марева вся светилась угрожающе-алым от магии, странной, не похожей на привычную, – откуда только Бастиан это знал? – но явной магии.
И сквозь это свечение, сквозь одежду, сквозь очертания тела проступал неявным золотом, как горячая нить в темноте, некий контур.
И был он странен.
Бастиан стянул ручницу с плеча.
Он понял, почему конь бросался на неё, почему крутился на месте, не в силах выбрать цель, когда они ехали верхом, почему она закрывала лицо и отчего была такой невесомой; вспомнил её странный запах. Понял и ужаснулся. Кровь отхлынула от головы, сердце тяжело и неловко заворочалось в испуге.
Ты и есть Красная Птица, хотел сказать Бастиан, но язык не слушался, казался далёким, едва ли не ирреальным. Был у него вообще язык, или страшный дед отсёк его тогда своею костяной рукой, грязным ножом, и теперь Бастиан лежит в последнем бреду, снедаемый гангреной? Была ли вся эта поездка, Иге-до, Ледо, Марева? Или лишь марево?
Было, решил Бастиан невероятным усилием.
– Ты и есть Красная Птица, – выговорил он со второго раза разболевшимся языком.
– Ян есть, – ответила она и встала на ноги. Она была явно выше, чем когда он видел её в прошлый раз.
Марева скинула плащ, и Бастиан подавился криком. На высоких, тонких, чешуйчатых ногах, сложенных в бедре неимоверным способом, ногах, обутых в человеческие сапоги, стояло, вытягиваясь, высокое существо, покрытое лентами алых, багряных, белых мягких перьев. Прижатая к груди голова с двумя парами неподвижных, красных, как капли крови, глаз, поднималась, высвобождая прозрачный загнутый клюв из перьев; а то, что он считал лицом Маревы, оказалось ещё парой глаз на закруглённых суставах сутулых, сложенных, сведённых над лопатками крыльев. Теперь птица выпрямлялась, и ненастоящее девичье лицо расползлось в стороны, упала с крыла шляпа, и одним движением Красная Птица развернула крылья, огромные, винно-красные с изнанки. Какая-то мелкая, горькая пыль окутала её облаком. Мосол шарахнулся в сторону, к воде, объятый ужасом. Такого конь ещё не встречал. С болью Бастиан увидел, как, не добежав до берега, Мосол упал и забился, роняя пену. Напряжение этих дней всё-таки вызвало у него приступ.
Бастиан попытался сфокусировать взгляд на морде Птицы, или хоть руках, или на чём-нибудь. По краям глаз клубилась чёрным туманом тьма, с запахом земли, лежалых перьев и чего-то ещё, от чего теперь озноб гулял по коже; взгляд словно закрывало мутное и закопчённое стекло, копоть на котором медленно продолжала оседать.
– Я вижу твоё оружие. А где твои доспехи? – хрипло спросил стрегоньер, думая о пистолете. Нет, тот, скорее всего, промок. А вот ручница в чехле…
– Вы падаете слабыми, вам нужно время, чтобы войти в силу. И вот тогда вам дают доспехи и свирели, разве нет? – продолжал капитан, вспоминая незаконченный разговор с Ледо. Белый, облизанный пламенем череп её белел где-то на краю гаснущего зрения.
Бастиан испугался – а вдруг разум покинет его вслед за зрением? Он уже не знал, чему виной близкое присутствие Красной Птицы, а чему – укус коня; и вообще сомневался: а видит ли он Птицу или давно разговаривает с пустотой?
– Не в этот раз, – ответило то, что называлось Маревой, покачиваясь из стороны в сторону.
Вот оно что, понял Бастиан. Ледо говорила правду.
Тогда, в ту грозу. Впервые в истории Короли сначала спустили доспехи и свирель. Ещё летом. А потом вырастили под них особую, новую Птицу. Только так картина складывается, подумал капитан. Плохая, красная, дрожащая, как раскалённый воздух, картина. Сейчас всё было красным и дрожащим.
– Ты нашла их здесь, на пепелище дома? – спросил Бастиан.
– Доспехи – нет, – отвечала Птица, которая, видимо, не прочь была поболтать, пробуя человеческую речь. Теперь её сухой, но затхлый запах казался отвратительным, и Бастиан почти радовался, что плохо видит её ужасную фигуру. Она немного напоминала человека, и это пугало больше всего.
– Доспехи не нашла, видишь. А свирели – здесь, да, – Птица подняла один инструмент к лицу, сунула кончик клюва в отверстие инструмента, сыграла ноту, вынула. – Ведьма забрала их себе, ты нашёл и убил ведьму, пока я была ещё слаба, и сжёг дом. Сидя ночью у огня пожара, я дышала полной грудью и набралась сил.
– На пепелище дома? – с нажимом, утвердительно повторил Бастиан, думая о своём шансе. Он надеялся, что Ледо плохо выполнила работу, пытаясь подражать мастерам Второй Луны. Форма удалась, спору нет, а вот суть…
Пальцы его нажимали на печать. Если ему удастся, не придётся даже доставать ручницу из чехла, уж её-то он всегда держал заряженной, поперёк правил. Главное – открыть чехол и взвести курки.
Он очень устал. Ноги держали плохо.
– Да же, – с лёгким, невесомым смешком ответила Птица.
– Ответь мне, – спросил Бастиан, – что тебе надо здесь?
Жаль, штык не поставлен, подумал он. Штык было б хорошо.
– Всё, – сказала Красная Птица. – Весь шар земной. Но не мне, нам. Наша Луна тесна, ваша земля просторна.
– Там, на твоей Луне, все такие, как ты?
Нажим пальцев. Печать подалась. Теперь потянуть шнуровку…
Бастиан надеялся, что Птица не придаст его возне с ручницей никакого значения. При своих свирелях она могла не бояться огневого оружия.
– Нет, – засмеялась Птица. – Совсем нет. Наши Короли гораздо меньше похожи на вас, чем я. А я – инструмент. Я опустошу эти земли и разведу такой огонь, которого вы ещё не видели. Целая провинция будет пылать, и тогда за мной придут другие сёстры. Я расскажу Королям, какими следует их создать. Они будут лучше, чем я.
– Нет, – сказал Бастиан, взвёл курки и нажал на спуск.
Сухо щёлкнул кремень, и всё.
– И огнь не горит, – спокойно и насмешливо процитировала Птица. – Так у вас?
– Горит, – ответил Бастиан. Просто осечка, сказал он себе. Но он очень боялся, когда нажимал на крючок второй раз.
Ручница грохнула, тяжёлая свинцовая пуля попала птице в плечо, чуть пониже веера с глазом, что раньше смотрел с девичьего лица. Закружились алые перья и рыжий пух, тёмно-коричневая кровь густым маслом побежала по лапе. Птицу швырнуло, легко, словно она ничего не весила. Она дунула в свирель, вызывая другую ноту, но тут же Бастиан спустил второй курок. Половину головы – настоящей головы Птицы – снесло, масляная кровь внезапно плеснула струями, с визгом, словно под большим давлением; в кровянистой ране под разорвавшейся пергаментной кожей Бастиан увидел прозрачно-перламутровый череп, красный глаз бешено вращался в глазнице, а в пробоине виска, среди незнакомых очертаний костей, бурлила белая-белая пена, может быть, мозг. Птица сипло закричала, выронив свирель, кровь хлынула из клюва, как по жёлобу, окатив Бастиана. Создание затрещало, забило крылом, лапа его сорвала с пояса костяной, фарфоровый и хромовый нож, и Бастиан ударил в разбитую голову тяжёлым прикладом, опрокинул навзничь, и бил, бил, бил, пока не оставил белобурое, пенистое, маслянистое месиво с запахом земли, горькой травы, тины и осеннего холода. Он содрогнулся, вспомнив, как считал это девушкой, и тело её содрогнулось в ответ, попыталось встать.
Со злым криком Бастиан ударил ещё раз, два, пять, десять, тогда Красная Птица затихла окончательно.
Бастиан бросил ручницу. Оказывается, он расщепил приклад. Но бросил не потому – держать это склизкое орудие казни он больше не мог.
Он вытер руки о куртку, а куртку содрал и бросил поверх останков. Достал огниво, словно по наитию. Высек искру с третьего раза.
Кровь Птицы занялась, как настоящее масло. Ручница, пропитанная ею, тоже. Теперь она не достанется разбойникам, подумал Бастиан. Что там будет со свирелями, его не волновало. Пусть Сигид разбирается с этими ни на что не годными копиями, если хочет.
Он почти ничего уже не видел, когда конь ткнулся в него мордой. Бастиан обрадовался ему, как не радовался и лучшим друзьям. – Мор там, – бормотал, щурясь, стрегоньер, влезая в седло из последних, по-настоящему последних сил; – видали мы ваш мор. Сейчас… – он умостился в седле, приник к шее. – Вези-ка меня, друг, к травнице. Прорвёмся?
Конь ответил что-то своё и повёз.
4. Башня
Символ светской власти, правителей мира, а также физического тела и всего материального, земного. Тура, Замок, или Ладья, подчиняется Сатурну.
И топчут кони смежные поля. Из пехотинцев многие убиты, И у ладьи должна искать защиты Священная особа короля… Вера Инбер♀ Большое путешествие из Саратова в Москву Светлая фигура Лариса Бортникова
«Нанонизация – путь к всеобщему благосостоянию».
Перетяжка над входом в станцию метро «Ленинский проспект», 2050 г.
«Лучше меньше, да лучше. Хочешь жить?
Нанонизируйся!»
Лозунг партии «меньшевиков», 2055 г.
«Объективно возникший дефицит природных воспроизводимых ресурсов приводит к неутешительной необходимости радикального сокращения объемов потребления. Такое сокращение объемов может быть достигнуто, по сути, двумя способами:
1. Сокращение собственно потребления в 3,7 раза.
2. Сокращение потребляющего фонда (населения) с тем же коэффициентом.
Поскольку физиологический порог снижения потребления не может превышать минус 2,5 от существующей нормы (см. исследование Петерсонха-Морли), и поскольку тотальный геноцид неприемлем с точки зрения общественной морали, единственным разумным и доступным на сегодняшнем уровне развития биотехнологий выходом из сложившейся ситуации представляется сокращение потребления путем изменения физических габаритов потребителя, иначе – нанонизации. см. Гауссово распределение ростового перцентиля относительно 0,4 метра».
Журнал «Наука и жизнь», 2030 г., сентябрьский выпуск.
«Дорогая Сонечка, маленьким быть, оказывается, так невыносимо для моей психики, что я решился навсегда перебраться из Питера в резервацию. Надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня за мой выбор. Поцелуй Любочку, передай привет родителям. Скажи Шуликину, что я на него не в обиде и те сто рублей тоже давно простил».
Из неопубликованной переписки писателя-фантаста Вадима Тревожного. 2062 г.
* * *
В вагоне холодно. Дыши не дыши на стекло – не оттает. Будто вместо окна – цельноотлитая слюдяная плита. По краям, ближе к раме, наледь толстая, бугристая, вся в застывших потёках мазута. Кое-где иней оплыл пятнами, истонынился неровными островками – видно, прежние пассажиры норовили протопить пальцами лёд, продышать «глазок», выглянуть наружу. Чудные. Чего там смотреть? Метель, да позёмка, да нахохлившаяся голым орешником насыпь. Столбы и сосенки. Всё бегут, бегут навстречу поезду, как оглашенные. Зачем бегут? Куда? Стояли бы себе на месте, хвастали друг перед другом снежными папахами. Елки-полковники, сосны-генералы, столбы-маршалы… Верховодит ими мороз-воевода. Строгий, неулыбчивый, в овчинную шубу до пят одет, в валенки. Большой сам из себя. Вагонная стужа, окна-льдины, иней на подоконниках и откидном столике – его рук работа. Добрым людям в это время положено дома сидеть, у печки пятки греть, кочергой угольки шевелить – нечего туда-сюда шататься по декабрю. А коли отправился в путь-дорогу – терпи. Пассажиры купейного вагона, на заиндевевшем боку которого едва проступает надпись «Саратов – Москва», терпят. Терпит солдатик, большой, шебутной, сам весь конопатый, румяный, с зелёным околышком на цигейковой форменной ушанке. Девушка рядом тоже терпит, хоть и несладко ей в бедном пальтишке на рыбьем меху. Девушка тоже большая. Хотя это как посмотреть. В нанопериметр такую без спец-подорожной вряд ли пустят, а на деревенский глаз, ко всему большому привычный – синичка-невеличка, от земли едва видать. Такую ставить разве только в страусятник – с крупным рогатым ей не управиться. В девушке сантиметров сто шестьдесят с кепкой. Хотя с кепкой из малинового мохера, не прикрывающей даже уши – все сто шестьдесят три. Стынет бедная, ёрзает туда-сюда, стучит зубами, но терпит. А куда деваться? Терпит и старичок, который (вот ведь странное дело) маленький по-настоящему. Откуда он такой в большом поезде взялся? Поди, чудак учёный. Шастают по резервациям, просят спеть или сплясать. Записывают всё на камеру. Вот и этот, наверное, из таких горе-писунов. Летал бы, как все наны, своим нанолетом, не дрожал бы сейчас, не синел бы щёчками, носиком бы не швыркал. А раз любопытный такой, то пусть терпит вагонную стужу, как все остальные.
Холодно. Титан едва теплый. К полуночи разойдётся, но пока надо потерпеть. Исида Павловна Огнева тоже терпит. Сидит слева возле окна, занимая собой половину нижней полки. Сидит в собачьей косматой полушубке, поверх полушубки платок пуховый, повязанный, само собой, крест-накрест. На голове – надвинутый на самый лоб платок шерстяной: жёлтый, с бахромой. Узел туго затянут на макушке. Концы платка торчат в разные стороны, словно рожки. От этого сморщенное суровое лицо старухи похоже на козлиную морду. На коленях у Исиды Павловны коричневый армейский сидор. Держит она его крепко. Даже если кто захочет, не выхватит. Вон, солдатик напротив… Шапку пограничную снял, на верхнюю полку забросил. Лысый совсем, даже дозволенный уставом оселедец сбрит начисто, но и так видно, что рыж и прохвост – таким доверять нельзя. Но сидор ему не выхватить ни за что. Разве что сперва убьёт. Но это ещё бабушка надвое сказала, кто кого убьёт. Исида Павловна – женщина старая и большая. Очень большая даже по колхозным понятиям. Росту в ней один метр девяносто шесть сантиметров, а весу – сто двенадцать кило. Вес свой Исида Павловна знает в тютельку. Раз в неделю, когда по графику положено взвешивать подрощенных телят, Исида Павловна заходит сперва сама, а потом и вместе с подопечными на весы. Потом из цифры на табло отмину-суешь сто двенадцать – и вот тебе получился теленок. Без Исиды Павловны телята взвешиваться не желают, упираются и тычутся лбами в технику – сломать могут. Хотя всякие телята есть… Спокойные тоже есть. Сообразительные. Особенно бычки. Те сразу понимают, когда на весы, а когда на бойню. Исида Павловна крепче прижимает сидор к животу. Там у неё очень важные гостинцы – яиц свежих два десятка, кочетов ощипанных и потрошёных (сама щипала, потрошила тоже сама) три штуки и бычий ливер. За ливер она долго ругалась с завхозом Гаврюшиным – тот тыкал пальцем в график трудодней и кричал, что ливера ей не положено – не заработала она на ливер. Вот грудинки – сколько душа пожелает. А ливер – нежный продукт, его, в отличие от мяса, выбирают по оброку целиком. «Так не себе ж. Как раз в столицу повезу. Гостинец», – хмурилась Исида Павловна и трясла Гаврюшина за грудки. Тот трясся, болтал головой влево-вправо, щёки его – обвислые и щетинистые, как у хряка Косинуса – колхозного любимца, колыхались, но позиций завхоз не сдавал. «Яиц взяла? Взяла… Курятины я тебе выписал. Чего ж ты душу из меня выматываешь?» Но всё равно не выстоял. Против Исиды Павловны даже председателю непросто удержаться. Во-первых, она человек уважаемый, в сельхоз-резервации «Лесные дали» уже почти сорок лет. Во-вторых, работница, каких поискать. А в-третьих, очень… ну очень внушительная женщина. Большая. Серьёзная. Старая.
«Подавись!» – Гаврюшин ощупывал лицо и ругался, однако бычьих яиц, печени и мозгов выписал. «Белорыбицы бы ещё», – заикнулась Исида, но, увидев, как завхоз схватился за сердце, махнула рукой. Решила, что раз такое дело, придётся брать вместо белорыбицы самогон. Самогон, чай, везде пьют. Завёрнутая в махровое полотенечко двухлитровка уложена на самое дно мешка, булькает себе тихонечко под праздничным костюмом-двойкой, который Исида пошила ещё три года назад, но так ни разу и не надела. Вот теперь и случай представится. Едет Исида Павловна ежемесячным пассажирским поездом сперва до Казанского, а оттуда уже и в саму Наноскву к Огневу Сергею Викторовичу, своему… эээ, тут как правильно рассудить? Вроде и внук он ей родной, Витькин сын (Витьку Исида родила в шестнадцать и тут же, как и было предписано, сдала под госопеку), но совсем ведь чужой человек. И сыночка-то толком не узнала – сперва виделась раз в год, а потом только перезванивались по праздникам, а Серёжку… то есть Сергея Викторовича (по телевизору его когда показывают, очень уважительно всегда по имени-отчеству называют)… так вот Сережку только разик на ладошке и понянчила, когда Витька с ним и с женой вдруг в гости нагрянул. Весь колхоз сбежался поглазеть на нежданных гостей. Наны уже тогда в резервации наведывались нечасто, а уж тем более, чтобы наносквичи, и чтобы не в правление, где специальные помещения приспособлены, а в саму деревню, в настоящую избу, для маленьких ну никак не подходящую. Деревенские – народ пытливый, любопытный. Две слободы в полном составе явились к ужину. Расселись чинно по стульям и лавкам, таращились во все глаза, как Исидин наносынок справляется с ложкой, как черпает ею уху, ухватившись за деревянный черенок, будто за весло. Как каравай червивит, выковыривая из мякоти крошки. Хихикали, толкались локтями, разглядывая столичную наночку, что истошно улыбалась, уставившись на тетёшкающую внука свекровь. Младенец целиком помещался на бабкиной жёсткой ладони. Спать его Исида в коробку для шитья пристроила. Хорошая коробка. Удобная. Написано на ней что-то латынскими буквами и котятки нарисованы. Витьку с женой Исида уложила по-царски, на пуховые подушки у печи. Хотела сперва диван уступить, да побоялась, что скатятся на пол и убьются гости дорогие. Себе на кухне постелила, чтобы храпом не побеспокоить. Кошку из дома на улицу спровадила, конечно. Ещё с утра, с самого приезда детей. Но Муська через форточку просочилась – говна эдакая. И сразу к коробке швейной. Сережку зубами придавила, заурчала и жрать собралась – за крысеныша молочного приняла. Исида проснулась от визга невестки, метнулась в комнату, чуть не задавила наночку – та, отчаянная такая, хоть и маленькая, кошке морду шпилечкой кромсала и вопила. Исида, конечно, в секунду разобралась. Придушила бы Муську, если б не Витёк. «Животное не виновато, мама. Мы сами оплошали. Потеряли бдительность. Забыли, где находимся». Но сразу жену с ребёнком в нанобиль запихнул и уехал, толком не попрощавшись.
Больше с сыном Исида не виделась – помер совсем молодым через пять лет от инсульта. А с невесткой и внуком, с Серёжкой то есть, то есть с Сергеем Викторовичем, семейных отношений не сложилось. Сама Исида всё же слала внуку маленькие открыточки (на почте водились всегда), на ответ не надеясь. Но когда в новостях внучка первый раз уже возмужавшим увидела – узнала сразу. Серьезным человеком стал Сергей Викторович Огнев – народным депутатом от демократов. Женился. Пятерых детей нарожал – Исидиных, получается, правнуков. Исида гордилась. Всем рассказывала, даже телятам. А когда в сентябре от внука пришло письмо, долго боялась распечатывать – и неожиданно, и страшно, – мало ли что там.
Распечатала потом в коровнике. Аккуратно, не надрывая конверт. Вслух зачитала рыжим ласковым нетелям. Письмо было коротким, специально убольшенным в типографии, вежливым. В письме внук называл бабушку по имени-отчеству (не забыл ведь…) и просил прощения за долгое молчание (тридцать пять лет – разве ж это долго?). Писал он о том, что подрастают дети, и что полезно им узнать о своих корнях, и что они всё время спрашивают о прабабушке, и что надумал он вместе с женой (Исида эту жену по телевизору видела – тощая, крашеная, с вертлявым, обезьяньим лицом, но, наверное, хорошая женщина) пригласить бабку к себе в Наноскву на Новый год, чтобы наконец-то познакомиться как положено, и стать наконец-то… тут было выделено жирным и подчёркнуто двойной линией… одной большой, дружной семьёй. Исида разволновалась, когда осознала, что её зовут в самую наностолицу. Внук зовёт… Внучок… Так разволновалась, что довольно чувствительно треснула особо любопытную нетель, которая всё лезла и лезла слюнявой мордой в письмо. Потом прощения просила, конечно. Но разволновалась сильно. Пошла на следующий день к председателю просить отпуск и подорожную.
– Ну и как я тебе бумаги оформлю? Соображай, – председатель бегал по кабинету весь красный и потный. – Зовут, а сами не понимают, что это невозможно. Не-воз-мож-но. – Отчего ж невозможно-то? – недоумевала Исида, прижимая к груди письмо. – Рази ж я не человек?
– Человек… Человек… – бурчал председатель, зачем-то перекладывая бумажки с левого угла стола на правый и обратно. – Человек, конечно. Но какой человек? Ненормальный! Большой! Да ещё и возраст. Нет. Габариты твои для сельхоз-резервации очень даже окей, а для Наносквы совсем неподходящие. Нет! Не возьму я на себя эту ответственность.
Исида кривилась ртом. Плакать ей было неумело и непривычно, но как-то получалось само собой, выглядело уродливо и от этого особенно жалко. Лицо её, тёмное, иссечённое морщинами, похожее на сушеную грушу, вовсе не подходило для плача.
– Хочешь, я тебе направление в старую Москву на ВДНХ выбью, на сельскохозяйственную ярмарку быка-производителя Кастанеду сопровождать? – почти умолял председатель. Ему было неловко, и он всё отводил глаза в сторону. – Но это максимум, что могу. Твои пусть туда приедут. Повидаетесь.
– Чего мне твоя ВДНХ? На Новый год ведь зовут… Праздник семейный… А я бы им гостинчиков… – «рожки» над макушкой обиженно дрожали.
– Не могу… – страдал председатель. И снова хватался за стопку бумаг, как за спасательный круг.
Исида не разговаривала с председателем целый месяц, дулась, а потом вопрос решился сам собой. Из района на адрес правления пришел официальный конверт. В конверте были вызов на имя Огневой И.П., оформленная подорожная с печатью Государственной Думы и билет на поезд Саратов – Москва.
– Вот видишь… – председатель размахивал бумажками перед счастливым красным лицом Исиды. – Видишь? Нет! Ну, надо же!
– Чего махаешь? Чего лыбишься? Не ты – внучок постарался.
– Поосторожнее там. Инструкцию изучи. Лоции, – председатель вытащил из ящика стола пухлую распечатку, протянул её Исиде. – Не опозорься. Ну и… Счастливо тебе съездить.
* * *
Вот и едет. Едет Исида Павловна Огнева в столицу. Едет в гости к внуку. Везет с собой полный мешок гостинцев. Волнуется. Косо глядит на попутчиков. Купейный вагон (других сейчас и не осталось) почти пуст. Проводник не то спит, не то и вовсе его в вагоне не предусмотрено. Билеты никто не проверяет, не гремит титаном, не разносит кирпичный чай в граненых стаканах. Холодно.
– Куда направляешься, мать? – пограничник подмигивает, бровью шевелит – чистый разбойник.
– К внуку. Новый год семьёй встречать, – бурчит Исида. Сперва думала отмолчаться, но лучше ответить – не отвяжется ведь. – Гостинцы везу. Так. Мелочишки всякой. Семечек в основном.
Исида вовремя спохватывается. Кто знает, не позарится ли этот рыжий, хоть и лысый, на самогон.
– А я из отпуска. Сперва до Москвы, оттуда до Питера, а там до самой финской заставы. Два года срочки отмотал, ещё три осталось, – сообщает солдатик. Как будто его спрашивает кто. – А вы, барышня? Тоже в гости?
Девушка улыбается мечтательно, хорошеет от улыбки сразу. И мохеровая кепка ей к лицу.
– Нет. Не в гости. Я следую в общероссийский центр нанонизации и сепарации по направлению от райкома. На процедуру.
– Вот как? – неожиданно оживляется молчавший до этого старичок с ноготок. Выглядывает из подушек, как крот из норы. – Сами захотели? А сколько же вам годиков, барышня?
– Семнадцать в марте будет, – девушка краснеет. Вдруг теряет всякую важность и начинает по-детски частить: – Да не. Я нормальная. Давно уже собиралась, но родители не пускали… Большие они у меня оба, разумеется. А я у них одна. Понимаете? Не подумайте только, что укрыли и всякое такое. Нет! Как по закону положено, разрешение выправили и налог платили.
– Чего оправдываешься? – солдатик неожиданно бледнеет, и взгляд его – весёлый, почти хулиганский, вдруг становится пронзительно недобрым. – Чего ты перед ним оправдываешься? Правильно твои родаки из тебя большую сделали и не отдавали столько лет на лилипутинг… Человек должен быть большим! Настоящим. А ты… сказал бы, что предательница, но, по-моему, просто дура.
– Сам дурак! – обижается девушка. Вспыхивает. Обращается к старичку:
– Дурак! Завидует он! Все нанорезистенты завидуют! Сами в глубине души хотят стать маленькими и жить как люди, да только не могут! А я! Я нормальная! У меня абсолютная нано-адаптивность… Вот только родители – гоблины тупые. Жизнь мне сломали через свою тупую любовь… Ой, ой, ой… Семья! Дочечка! Ой, как мы без ребёночка и как ребёночек без нас! А меня спросили? Они хоть раз меня спросили, чего я сама хочу?! Ладно… Вот стану в среду наной. Замуж выйду. И жить буду, как нормальная. С нормальными людьми.
– С лилипутами, – цедит пограничник сквозь побелевшие губы. – В сраной лилипутии…
– Не любите маленьких, юноша? – старичок выбирается из подушек, опускает обутые в детские валеночки ножки с полки и с бесстрашным любопытством глядит на солдата. – Любопытно, любопытно. Резистентны? С рождения? Неужели ни разу не пробовали проблему решить?
– Пошел ты… Фольклорист! Едешь нашим поездом, сидишь в углу, вот и сиди помалкивай. Или ты чего-то другого ждал? Может, рассчитывал, что мы тут тебя веселить станем, частушки распевать и на закорках катать? Так это не сюда – это в цирк.
– Ой… Вы, товарищ нан, не обращайте внимания. Резистенты все такие. Психованное быдло, – девушка так взволнована, что даже вспотела, и это на таком-то холоде. Она хмурится, смешно двигает бровями-стрелочками, размахивает руками в полосатых митенках и почти кричит. Берет её – яркий, как шляпка сыроежки – то и дело сползает на лоб. – Вы, товарищ, не представляете, что у нас на селе говорят про нанов. А вытворяют, знаете что? Нормальным здоровым малышам подменяют результаты ежегодной проверки, лишь бы в больших оставить… В резистент-лист записывают специально. Фрондёры чертовы! Вот Трушева Нина Фёдоровна – наш врач-лаборант, знаете, сколько детишек так утаила? Они у нас в резервации все преогромными растут, как будто резистенты, а на деле обычные, здоровые дети.
– Зачем? – картинно разводит руками старичок, словно обнимает невидимый мячик. – Зачем лишать своих детей светлого будущего? Обрекать на прозябание в резервациях? Неужели в самом деле существует эта пресловутая Большая Фронда? Какая глупость… Боже мой! Какая глупость!
– Конечно, глупость. Только вот ещё как существует! У нас на селе так каждый второй во Фронде. И молодежь, и те, кто постарше. Психи сумасшедшие! Думают, что жить здоровенным гоблином – хорошо!
А детишек так жалко. Я, когда про Нину Фёдоровну узнала от Зойки Трушевой – её дочки и подружки моей, так сначала решила в райком жалобу послать, но там тоже никому доверять нельзя. Тоже все большие. И Фронде сочувствуют. Так что доберусь до центра и там, как положено, доложу.
– Вот сууука! – солдат сжимает кулаки и видно, что ещё полсекунды – и не удержаться ему никак. Ткнёт девушку прямо в маленький… хотя какой он маленький? по наномеркам просто огромный… нос. Но всё же сдерживается, вдруг мрачнеет лицом, словно решил для себя что-то важное, потом шумно открывает дверь в коридор, достает из-за уха папироску, раскуривает её долго, тщательно и потом молча дымит, не обращая внимания на надсадный кашель старика.
– А вот у вас? У вас, бабушка, дети есть? – обращается к Исиде девушка, так и не догадавшись, какой участи только что избежал её нос.
– Сын один всего был. Помер. Внук есть, правнуки… Маленькие. Говорю ж, на Новый год к ним еду. Внук у меня – большой… тьфу ты! – Исида улыбается случайной шутке, – важный человек. Депутат. Письмо прислал, мол, скучаем, бабушка. Тридцать с лишним лет не писал, а вот вишь ты – скучал, выходит. Билет купил, подорожную оформил… Гостинцев вот везу им к праздничку.
– На кой хрен лилипутам твои подарки, мать? – солдатик нарочито равнодушно зевает. – Никчемная биомасса. Мелкие и телом, и мозгами, и духом. Только и могут, что на кошек по уикендам охотиться. Тридцать лет не писал, говоришь… Ну, помяни моё слово, выставят тебя там на посмешище, как годзиллу! За этим и позвали. Я их братию хорошо знаю.
– Ты чего такое! Чего такое трезвонишь ты за глупости? А? – голос у Исиды начинает ломаться и звенеть хрупкими льдинками. – На праздники они меня позвали. Чтобы, значит, вместе. Семьей. И костюм-двойка у меня с собой.
Солдат не отвечает. Вдруг резко и очень ловко подтягивается, закидывает ладное, хоть и большое тело на верхнюю полку. Набрасывает на себя тощую шинелку и сразу же громко храпит. Девушка сидит напротив Исиды на самом краю полки и, кажется, не может решиться, лезть ли ей наверх или же пристроиться снизу, рядом со стариком, который посапывает по-котёночьи в своем гнезде из одеял. А может, и вовсе пойти поискать свободное место в другом купе, но кто знает, что там за люди, а тут вроде бы уже и пообвыклась.
– Да ложись ты. Чай, не маньяк – не полезет. А полезет, меня растолкаешь, – бурчит Исида.
И непонятно, про кого она: про рыжего ли вояку или про нанодедку. Девушка улыбается Исиде, натягивает дурацкий свой берет низко-низко, на самые уши, и укладывается валетом на одну полку со старичком. «Маленькая. Легко как утюнькалась», – завидует Исида, проваливаясь в сон. Полки не приспособлены под Исидины почти два метра, поэтому старуха долго ворочается, пытаясь пристроиться, и, в конце концов, засыпает сидя.
* * *
С утра первое, что видит Исида Павловна – малиновый берет. Берет зачем-то лежит на столике, и запачкан по краю густым и тёмным. Исида собирает ладонью с лица остатки сна, жмурится, потом ещё раз глядит на берет. Переводит взгляд на полку напротив. Оказывается, под беретом прятались две жиденькие косички, подвязанные корзиночкой. Теперь берет сам по себе на столе, а корзиночка выставлена на всеобщее обозрение. По самому центру «корзиночки» зияет черная спёкшаяся по краям дырища.
– Мать, тссс. Тихо только. Не кричи.
Солдат свесился с полки лысой своей башкой, уставился прямо на неё – на Исиду. Глаза у солдата мутные, дерзкие. Исида кивает, цепляется покрепче за свой сидор. Кажется ей, что если нащупать через мешковину стеклянный бутылкин бок, то всё как-нибудь устроится. «Гостинцы везу. В Наноскву. Внуку, – шепчет она одними губами и гладит, гладит свой сидор. – Ливер, яички, курятина, два литра самогону, а белорыбицы не достала».
– А старикан куда девался? Ещё с полчаса назад в гнезде сопел, – служивый уже спрыгнул и уселся рядом, упругий такой, крепкий. Тронь пальцем – подскочит.
– А мне откуда знать, – удивляется Исида. – Проснулась, а тут такое. Неживая, что ли? Совсем?
Солдат умело переворачивает тело на спину, трогает пальцами тощую цыплячью шейку. Ощупывает девичьи плечи, грудь. Потом пожимает плечами. Даже вроде как ухмыляется. Затем тщательно обшаривает все углы, проверяет рундуки, багажную антресоль, даже перетряхивает матрацы.
– Надо бы старикана этого отыскать, пока не поздно. Пока не слил меня, кому не надо. Ты погоди, мать. Не кипешись, и сама никуда не девайся. Нана если увидишь – хватай и не выпускай. А я бегом прогуляюсь по составу.
Он выскакивает наружу, делает два шага прочь, потом возвращается. Подмигивает Исиде и салютует средним пальцем: «Да здравствует Большая Фронда». Исида ждет минут десять, вцепившись в спасительный сидор, потом тихонько выглядывает в коридор. Задвигает дверь, щелкает замком.
– Вылазь уже давай. Нету его. Яйца-то мои все побил?
– Побил немножко. Извините меня, пожалуйста.
Старик, всё это время прятавшийся в небезызвестном сидоре, осторожно высовывает сперва голову, а потом вываливается наружу всем тельцем. Личико у него всё запачкано желтком, и сам он взъерошен и похож на свежевылупившегося цыпленка. Ростом дед даже для нана невелик – сантиметров тридцать. У Исиды калоши такого размера. А то и побольше.
– Спасибо, – искренне благодарит дед. – Спасибо, что не выдали.
Ладошка его ныряет за пазуху и появляется обратно с зажатой в кулаке алой тюбетейкой. Жест, которым старик нахлобучивает на голову свою кипу (а это именно она) – обыденный и привычный.
– Батюшки светы! – выдыхает Исида, округлив глаза.
– Нанонах Архипов к вашим услугам, мадам.
– Исида. Исида Павловна…
* * *
О нанонахах существует миллион домыслов, и всякая небылица, имеющая отношение к нанонашеству, вполне может оказаться реальностью. Неизвестны ни точная численность ордена, ни его состав, никто ничего не знает о существующей иерархии, и есть ли она вообще, или же каждый нанонах сам себе великий магистр. Неизвестно, есть ли у ордена какая-нибудь база, или действительно члены его пребывают в бесконечном странствии. Единственно достоверным является тот факт, что нанонахи – сознательно отказавшиеся от благ современной цивилизации маленькие люди, подвижники, положившие жизнь на алтарь общей нановеры. Сталкеры, бесстрашно шагающие во враждебный, давно уже чуждый мир с единственной целью – спасти от неизбежной деградации тех, кого ещё можно спасти. Деятельность ордена нанонахов окутана тайной и вызывает у жителей резерваций неприязнь, иногда даже ненависть, но также невольное уважение. Сама мысль о том, что маленький, неприспособленный к жизни в большом мире человечек в одиночку на своих двоих передвигается от резервации к резервации, постоянно рискуя жизнью, демонстрируя своим примером, что размер в самом деле не имеет значения, и что главное – не рост и вес, а сила человеческого духа, заставляет сомневающихся сделать выбор в пользу нанонизации. К тому же большинство нанонахов – профессиональные психотерапевты. И если кому-то из них удается вдруг основать на территории резервации миссию, то можно не сомневаться – вскоре последует массовый исход всех нано-адаптивных в нанопериметры. Разумеется, Большая Фронда (существование которой тоже до сих пор является вопросом спорным) пытается всячески дискредитировать деятельность ордена, распространяя очерняющие орден сплетни. Радикальные группировки фрондеров не гнушаются ни прямым запугиванием странствующих нанонахов, ни даже физическим устранением наиболее успешных миссионеров. Орден нанонахов возник одиннадцать лет назад, на пять лет раньше Фронды, когда стало ясно, что разделение территорий на нанопериметры и резервации необратимо, а также (о чем предпочитали вслух не упоминать) что человечество окончательно разбилось на два вида – на маленьких и больших.
К тому времени в стране процесс всеобщей нанонизации был практически завершён. Большие (в основном резистенты, незначительное количество сознательных конформистов, а также несколько десятков тысяч спецов, профессиональная деятельность которых требовала какое-то время сохранять прежние габариты) проживали исключительно в сельской местности. Старые города давно уже умерли, а жители их, добровольно пройдя процедуру нанонизации, без сожаления и грусти перебрались в комфортные, современные нано-тауны. К..97 году все значимые производства, за исключением сельскохозяйственных, где «большие руки» требовались по объективным причинам, были окончательно переведены в нано-режим. Правительство объявило последний и окончательный нано-призыв, после которого популяция «больших» сократилась до двадцати с небольшим тысяч человек. Это были резистенты и их дети, по тем или иным причинам не прошедшие процедуру. Занимать «большой» электорат планировалось, как водится, в сельском хозяйстве, а также в армии и внутренних войсках. Однако из-за того, что резистентные семьи отказывались добровольно передавать своих нано-адаптивных детей на нанонизацию, правительству пришлось принять вынужденные меры. В феврале девяносто восьмого года Дума вынесла на рассмотрение законопроект о принудительной нанонизации, но принят этот закон был всё же с существенными поправками. Резистентным семьям разрешалось оставлять одного, даже нано-восприимчивого, ребёнка при себе вплоть до его совершеннолетия. Тогда же ввели налог на «первенца» – кстати, довольно обременительный. В этом же году в одной из резерваций объявилось несколько маленьких мужчин и женщин, называвших себя нанонахами. Брошюра «Размер не имеет значения» авторства первонанонаха Иеронима Пелевина стала политической и духовной платформой ордена. Первые пять лет существования ордена были наиболее плодотворными. Говорят, что благодаря влиянию нанонахов на правительство удалось создать и зарегистрировать партию Большевиков и даже получить одно большое кресло в парламенте. Но вскоре тем, для кого орден являлся либо политическим рычагом, либо просто свежей забавой – игрой в тайное общество, – нанонашество приелось. Опять же возникновение Фронды сделало подвижничество делом рискованным. Поэтому теперь, через одиннадцать лет после выхода в свет брошюры «Размер не имеет значения», в ордене остались только истинные подвижники, даже фанатики – борцы за наноидею. Бродячие нанонахи ходили из резервации в резервацию, словно францисканцы или даже дервиши, полуголодные, измученные, бескорыстные, бесстрашные, с непременной красной тюбетейкой на голове, и поясняли большим, что нанонизация не означает конца света и гибели человечества. «Однажды утром мы проснемся в мире, где не осталось ни одного большого человека – но это всё равно будет наш мир» – тексты их проповедей всегда были предельно просты, даже примитивны. И действенны. Сомневающиеся, недовольные жизнью в резервациях, не уверенные в правильности выбора большие, в особенности молодёжь, шли за нанонахами, как неразумные дети за Гамельнским крысоловом. В какой-то момент Большая Фронда в борьбе за влияние на больших территориях объявила ордену нанонахов войну. После чего и так небольшое количество миссионеров стало стремительно сокращаться.
* * *
– Мне нужно уходить. Немедленно, – Архипов бегал по полу купе, похожий на взъерошенную напуганную крысу.
– Это да. Это уж как пить дать. Только куда ты такой? Разве что станция будет…
– Не будет станции. Уже лет пять как поезд тут без остановок ходит. Прежде в Рязани десять минут стояли, а теперь всё. Нет Рязани. Прыгать мне надо. Прыгать.
– Это как же? – всполошилась Исида. Представила, как старичок с ноготок сиганёт из окна прямо в морозное, хрусткое утро. Как утонет сперва с головой в сугробе, как потом выберется, застывший до синевы, проводит взглядом уходящий состав и останется один-одинешенек посреди заснеженной пустоши, а вокруг ни души. И только волки большие и жадные бродят по путям. – Помрешь ведь от холода, даже если шею не сломаешь.
– Нет другого выхода у меня, Исида Павловна, голубушка. В поезде точно не спрятаться, большие меня непременно выдадут. А молодой человек имеет на меня определенные планы. И мне эти планы, если откровенно, не слишком нравятся.
Нан кивнул на мертвую девушку и скривился личиком. Не то от брезгливости, не то от сострадания.
– Так, может, опять… – Исида кивнула на свой мешок, но тут же сама догадалась, что чушь несусветная. Сколько может человек, пусть даже нан, прятаться рядом с бычьими яйцами и ощипанными кочетами, не шевелясь и не издавая не звука? То-то же.
– Если откровенно, а мне приходится быть откровенным, Исида Павловна, то вижу я только один выход. До старой Москвы отсюда пешком километров двести. Резервации здесь ни одной нет – столица всё же рядом. За окном – злая декабрьская стужа. Обещали, кстати, к ночи похолодание. Поэтому мне, как ни крути, самому никак не дотянуть. Замерзну насмерть. Но вот если бы вы соблаговолили составить мне компанию, то вероятность моего… нашего спасения…
– Ах ты колобок хитрожопый! – замахала руками Исида, сразу догадавшись, куда клонит старый хрен. – Ишь чего выдумал! Значит, раз я тебя в яйцах спрятала, теперь, как китайца, по гроб жизни должна! Не дождешься! И даже если бы я тебя и пожалела, так мне, видишь ли, недосуг. Мне б к Новому году в Нано-скву поспеть. Внук там меня ждет. На праздник семейный. Вот… Гостинцы везу. Ливер бычий, курятины, самогону два литра…
– Тогда позвольте попрощаться. Целую ручки, – нан смешно и грустно раскланялся, приподнял над седой макушкой кумачовую кипу, жалко улыбнулся и просительно уставился наверх, на тугой замок.
– Господи! Даже дверь открыть не можешь, и всё туда же. Торчал бы дома с ручным тараканом на коленках, или кто там у вас за собачку, – Исида не сдержалась – съязвила.
– Будьте любезны, Исида Павловна, подсобите же. Нельзя терять ни секунды.
– А вот возьму и не открою, – отчего-то ещё больше разозлилась Исида и даже руки в боки упёрла. А потом щелкнула с досадой фиксатором, распахнула дверь, вынырнула наружу, убедилась, что проход до тамбура пуст, и, вздохнув, молвила: —Ладно. Валенки обую. Погоди.
Обулась мигом. Постояла с полсекунды, о чём-то задумавшись. Потом открыла мешок, достала оттуда тугой сверток, зашуршала толстой упаковочной бумагой. Костюм-двойка из темно-зелёного драпа девушке был сильно велик, поэтому натянула его Исида прямо поверх заляпанной кровью одежки, застегнула пиджак на все пуговицы. Удовлетворенно кивнула. Потом осторожно со стола стянула малиновый берет и положила его на девичье удивлённое лицо.
Всё это время Архипов молча ждал.
– Хорошо теперь. Нарядно. Ну, лезь в сидор, горемыка. Да постой. Яичницу хоть из-под жопы выскребу.
* * *
Кроме кулька с битыми яйцами, пришлось оставить одного кочета – Архипов иначе с трудом помещался. Исида горестно покачала головой и подвесила птицу за сизые тощие ноги к оконной защелке. Подумалось почему-то про солдатика, который, конечно, убивец и прохвост, но, может, хоть бульону сварит. На горку поезд взбирался медленно. Натужно. Исида толкнула тяжёлую вагонную дверь, опустила вниз ступеньку. Шагнув на неё осторожно, чтоб не поскользнуться, не дай бог, помедлила. И как большая черная птица, взмахнула руками, оттолкнулась со всех сил и прыгнула. Прямо в белую-белую, даже сороками не натоптанную пустоту. Солнце то и дело пряталось за тучами, скудно освещало пустой, едва различимый под снегом тракт. «Москва 250 км» – затертый указатель мелькнул на перекрёстке.
– Двести пятьдесят. Это когда же мы, получается, на место придём? – спросила громко.
– Смотря как двигаться будем. Недели через две. Может, больше. От вас и ваших сил, Исида Павловна, зависит.
– Аспид! Не поспею к Новому году. Никак не поспею. А вот к Рождеству, как думаешь?
– К Рождеству – вероятно, – Архипов постучал кулачком по Исидиному плечу. – Исида Павловна, мне бы по нужде.
Исида не отвечала. Стискивала зубы, рывком поправляла наплечный мешок так, что Архипов ойкал, или это двухлитровка булькала, ударяясь о тощую старушечью спину.
* * *
Двигались быстро, но без спешки, с остановками на ночёвку. От железнодорожного полотна далеко не уходили. Ночевали в заброшенных деревнях, иногда в покосившихся, но ещё крепких станционных будках, тех, что на переездах. Исида умело разжигала буржуйку, как-то сразу по-хозяйски осваивалась, находила где-то соль, крупу, топила в кастрюльке снег, заваривала кашу. Кушала немножко сама, кормила Архипова. Тот, насытившись, становился говорливым и ласковым, как балованный кот. О себе много не рассказывал, но любил порассусоливать о будущем человечества, о политике, о людях больших и маленьких. Исида выслушивала без особого интереса, но никогда не перебивала. Только хмурилась, если вдруг поутру старик начинал лениться и оттягивать выход, нежась в истаивающем потихоньку тепле. Порой не выдерживала, хватала ещё сонного старичка, пихала в сидор, туго затягивала под мышками веревочкой, чтобы не вывалился, если вдруг закемарит, уморившись от тряски и собственной бесконечной болтовни.
– Лодырь ты, батюшка. Бездельник и болтун, – сетовала Исида.
– Так в кои-то веки не своим ходом. Высоко сижу – далеко гляжу, языком чешу, – не то отшучивался, не то винился Архипов.
Новый год встретили они в Бронницах. Отыскали на самой окраине большую бревенчатую баню с почти целой кровлей, с железной со стеклянным окошком дровяной печью. Исида натаскала с улицы поленьев, раздула огонь.
– Глядишь, завтра к вечеру до большой Москвы дойдём, – сказала и замолчала о чем-то своём.
– Вполне возможно, – потянулся довольно Архипов. – Ах! Какая вы замечательная женщина, Исида Павловна. Не устаю восхищаться широтой души вашей. И всячески благодарить.
– Самогону плеснуть? – Исида поднялась со скамеечки, потянулась к сидору. – Праздник все-таки.
– А и плесните, голубушка. Не помешает.
Пили маленькими глотками самогон. Исида из граненого стакана, Архипов из пробки от пластиковой бутылки, что кстати нашлась в наполовину сгнившем шкафчике над купелью.
– А вот всё недосуг мне спросить фамилию вашу, – протянул лениво Архипов, чтобы поддержать беседу.
– Огневы мы, – Исида с досадой посмотрела на початую бутыль и, плотно закупорив её бумажкой, сунула обратно в сидор. – Огневы.
– А внук ваш… Сергей Викторович Огнев, выходит? Депутат Госдумы? – Архипов вдруг чему-то обрадовался, заухмылялся. – Неужели?
– Он самый. Говорю же тебе – важный человек. Занятой. А вот ждет меня. Письмо прислал. Правнучки – пять человек. Вот, гостинцы им везу… Что с тех гостинцев осталось…
– Так вот оно что, Исида Павловна, дорогая моя. Всё складывается! Вот оно что! То-то я никак не мог сообразить, отчего через тридцать с лишним лет ваша нано-родня вами вдруг озаботилась. Всё ясно. Всё теперь ясно! Прелестно… Прелестно…
– Что тебе такое ясно? – Исида насупилась. Сиропный тон Архипова и то, как радостно он сучил ладошками, ей не понравились. Она бы и слушать не стала, но время было ещё раннее, сон никак не приходил, а обида от того, что как раз сегодня могла бы она быть вовсе не здесь, а в самой Наноскве, рядом с правнуками, свербила, зудела и не давала покоя.
– Ну, как бы так… Это, понимаете ли, такой политический ход. Выгода от пиара. Он же в президенты баллотируется, а тут раз… И такой интереснейший джокер.
– Ты о чем это? Не понимаю я, – забеспокоилась Исида, почуяв в тоне Архипова неприятную кислую заумь.
– Ну, глядите сами. У больших минимум два процента голосов плюс сочувствующие… ещё процентов пять. Хитёр! Ох, хитёр! – Архипов довольно откинулся на кучке набросанной ветоши и тоненько расхохотался. – Бабуля из саратовской резервации. Старушка. Большая. Настоящая. С мешком подарков. Прямо Бабушка Мороз. Хитёр! Ох, хитер! Вот всё и сложилось… А я-то всё голову ломал, никак понять не мог… Вы только не огорчайтесь, Исида Павловна. Постарайтесь понять. Это политика. Тонкий расчет… Вы тут совершенно ни при чем.
Исида промолчала. Подкинула в печь сырой щепы, молча поднялась и вышла на улицу. Луна, бокастая, лупоглазая и наглая, заливала ярко-жёлтым снег и крыши ещё крепких домов. Пустых. Брошенных. Никому давно уже не нужных больших домов. Когда Исида через четверть часа вернулась в дом, Архипов уже спал. Она подняла его, растрясла хорошенько и, чтобы старик уж окончательно протрезвел, вытащила на улицу и сунула с головой в сугроб. Несколько раз.
– Что вы… Вот зачем? К чему это, Исида Павловна? – визгливо возмущался нан, болтая в воздухе босыми (обувать его Исида не стала) ножками. – Варварство какое-то, право слово.
– Слушай сюда! Ты ведь нанонах? Хороший нанонах, да? Ушлый нанонах, раз до сих пор живой и невредимый? Так? – повторяла Исида, словно заведённая. И всё теребила старика, будто хотела выпотрошить, как того кочета. – Туда-сюда бродишь? Людей всяких больших наружу вытаскиваешь? Ведь вытаскиваешь же? Отвечай, мухоморка!
– Да, да! Я – нанонах. Да! Вытаскиваю! Исида Павловна! Прекратите! Прекратите же!
– Я ведь гостинчики… Понимаешь? Ливера бычьего, самогон… Хороший самогон! На праздники, по-человечески. Семьей.
– Отличный самогон… Да. Нанонах я… Оставьте уже меня в покое! – Архипов пытался что-то лепетать, но Исида не успокаивалась.
– Так вытащи и меня, нанонах! Не верю ни слову твоему поганому, а правды всё ж хочу! Вытащи! Пока не вытащишь – клянусь, шагу отсюда не ступлю! Сдохнем тут вместе! Маленькой хочу я быть! Мааа-ленькооой!
Выпалила – и сдулась вдруг вся. Словно из большой старухи превратилась в истерзанный неумелой хозяйкой комок теста. Ноздрястый, серый, никчёмный.
– Исида Павловна, милая моя… – Архипов схватился ладошками за голову и зажмурился. – Я вас, разумеется, понял, но это невозможно. Лет вам сколько?
– Семьдесят семь! Вытащи!
– Невозможно, голубушка. До тридцати ещё туда-сюда, а после объективно никак. Вы поймите верно, Исида Павловна. Вы не просто нано-резистентны, вы уже психологически и физиологически срослись…
– Правды хочу! Клялся сам, что вечный мой должник!
– О господи! Воля ваша… Сделаю, что могу. Только не говорите, что я не предупреждал.
День, другой, третий… Неделя.
Архипов за эти короткие дни и долгие ночи осунулся, истоньшился. Стал, словно серая трухлявая щепка. Исида же внешне ничуть не изменилась. И вела себя обычно. Поднималась с рассветом, топила печь, громыхала кастрюльками, стряпала кой-какое варево, делила на двоих. Потом садилась к окну и ждала, когда Архипов проснётся, наспех позавтракает, напялит на себя красную тюбетейку и начнет говорить. Спроси кто-нибудь Исиду, о чем точно говорил нанонах Архипов – вряд ли смогла бы она ответить. Она словно отключилась от реальности. И только изредка вдруг зачем-то цапала с подоконника тощий сидор, оглаживала его, нащупывая двухлитровую початую бутыль.
Рождественские ночи в Подмосковье обычно ясные. Звездные. Вот и эта удалась. Исида глядела на небо, и казалось ей, что смотрит она на глянцевую маленькую открыточку и что вот-вот слетит к ней прямо на ладони маленькая хвостатая звезда и осветит всё вокруг волшебным своим сиянием.
– …Необходимо осознать. Сказать себе. Признаться. Вы слышите меня, Исида Павловна? Именно сейчас… – нанонах Архипов сидел на её коленях и глядел… всё глядел снизу вверх слезящимися крошечными глазками.
«Как крысеныш. Гадость-то какая. Тьфу», – поморщилась Исида и с трудом удержалась, чтоб не скинуть нана прямо на пол.
– Слышите… Повторяйте за мной.
Исида очнулась. Сбросила с себя звездный разноцветный морок.
– Что, а?
– Повторяйте. Медленно. Отчётливо. Я – маленькая. Я – очень маленькая. Мне нравится быть маленькой. Мне не страшно быть маленькой. Мне не страшно.
– Маленькая… – Исида подняла к глазам огромные ладони. Вгляделась в каждый свой палец. Ногти розовые, плоские, большие… Руки хорошие. Крепкие. Настоящие.
– Я маленькая… Мне не страшно. Мне не страшно! Я могу быть собой! Повторяйте же! Это важно!
– Я маленькая! Маленькая! Мале…мааа…. Неее… Собааойй. Неааа! Мааа…
Если бы кто-нибудь в эту рождественскую звёздную ночь очутился в Бронницах и заглянул бы в крошечное окошко заброшенной старой бани, вряд ли смог бы он забыть увиденное. Неуклюжий, гигантский (сейчас таких уже не производят) экзоробот бился в конвульсиях на деревянном полу, лопаясь экзодермой по диафрагме, а рядом с ним сидел на корточках и, кажется, плакал пожилой измученный нан в красной тюбетейке.
Они добрались до Наносквы только к середине марта. Исхудавшие, истерзанные, некрасивые. Маленькие.
Смешно ведь, но Исида так и не бросила початую бутыль самогона. Смастерила из бывшей своей калоши волокушу и тащила её по насту за собой все эти оставшиеся сорок километров, не обращая внимания ни на усталость своего дурно приспособленного к самостоятельному движению тела, и на бесконечное брюзжание Архипова.
– Гостинец нужен. Пусть будет. Положено так.
Архипов качал головой, ругался, но скорее по привычке. Конечно же, он понимал, что ей сейчас нужно что-то из прошлой большой жизни. Что-то тоже большое. Привычное. Нестрашное.
Экзоскелет «Большая Исида» они оставили в Бронницах, уронили прямо в сугроб, как есть в полушубке, шали крест-накрест и жёлтом рогатом платке, предусмотрительно разрядив батареи. Исида не хотела, чтобы её тело… то, что она семьдесят с лишним лет считала своим телом… бродило ещё с полгода неприкаянным шатуном по подмосковным лесам.
– Вижу, что держитесь молодцом. Но не жалеете, Исида Павловна? – Архипов с изумлением и восторгом Пигмалиона разглядывал сморщенную нанобабушку, совсем не похожую на уже привычный глазу экзоскелет. Исида маленькая, та, что все эти годы пряталась от большого мира в голове Исиды большой, неожиданно оказалась тоненькой, седой и большеглазой, словно испуганный эльф. Как такое эфемерное существо могло все эти годы управлять брутальным сложным механизмом? И откуда нашлись у неё силы именно сейчас избавиться от многолетней нанофобии? Почему? Нанонах Архипов не мог, да и не хотел искать ответа. Он смертельно от всего этого устал.
* * *
«Дорогая Сонечка, маленьким быть, оказывается, так невыносимо для моей психики, что я решился навсегда перебраться из Питера в резервацию. Надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня за мой выбор», – из неопубликованной переписки писателя-фантаста Вадима Тревожного.
* * *
«Не все смогли справиться с последствиями всеобщей нанонизации. У двух – двух с половиной процентов нанонизированного населения планеты обнаружилась неизлечимая нанофобия (она же нано-резистенция) – психическая неспособность к дальнейшему существованию в новоприобретенных габаритах. Решение проблемы – размещение нанофобных (резистентных) особей внутри мутирующих экзоскелетов стандартных (привычных) человеческих габаритов и переселение их в специально созданные зоны – сельхоз-резервации». – Оттуда же.
* * *
Исида сидела в зале ожидания Казанского (большого) вокзала. Забравшись целиком в пластиковое кресло, обняв бутылку с самогоном, испуганная, бестолковая… Архипов предложил ей сперва реабилитацию, потом пожить какое-то время у него в Измайлово, но она отказалась.
– Как знаете, Исида Павловна… Но вряд ли. Вряд ли…
Она не ответила. С вокзала отбила внуку телеграмму «Прибыла опозданием Казанский. Наной. Без робота. Жду чтобы забрали» – и забилась в угол. Точь-в-точь издерганные кокаиновые наночки из богемных телесериалов. Исида даже не думала о том, куда ей теперь такой деваться, кому она нужна и как ей, маленькой и уязвимой, жить дальше в чужом совсем мире. Отчего-то важнее всего казалась ей эта бутылка, а также большие, просто огромные, распашные двери в зал ожидания, которые то впускали, то выпускали и больших, и маленьких, да всё не тех. И уже когда отчаялась она ждать. Когда обняла худенькие свои крошечные костлявые коленочки руками. И когда уронила седую косматую голову на грудь. Тогда двери в зал распахнулись. И там показался знакомый по телевизионному эфиру немолодой уже лысеющий человечек, за спиной которого, пытливые и немного напуганные, маячили лица пяти маленьких пацанов.
– А которая наша бабушка? – спросил самый курносый.
– Наверное, вот эта, – ответил отец и смутился. – Я не очень уверен.
– Жалко, что без экзоробота, – закапризничал самый веснушчатый. – С экзороботом веселее. Я бы поводил!
– Да какая разница! Бабушка же! Наша! Настоящая! – самый наглый уставился на Исиду изучающим взглядом. Исида про себя показала Архипову большую (просто огромную) дулю, криво спрыгнула со стула и посеменила, улыбаясь, навстречу своей маленькой большой семье.
Совсем позабыв про початую двухлитровку.
♂ К Зверю Тёмная фигура Алексей Провоторов
Это место многим снилось в кошмарах. Пусть даже они никогда здесь не бывали.
Воспалённое солнце уже кануло в дым над далёким горизонтом, и розоватое свечение, как заражение, охватило полнеба. С востока же, видимая в прорехах туч, скалилась щербатая луна, восходя над оставшимся позади ристалищем. Пепел уничтоженных армий запятнал мои сапоги, железные носы их закоптились. Я чувствовал себя так, словно на моих плечах лежало полмира.
Но это больше не соответствовало действительности.
Изогнутые ветрами деревья, которыми зарос холм, сбросили листья, истлевшие до жил, и ничто не закрывало мне вид на Двор Хинги. Низкая башня, тёмные окна, светлые фигуры во дворе, отделённые от меня мощным частоколом. Он вроде бы стал выше с прошлого раза, словно заострённые брёвна выросли из земли. Вполне возможно, так оно и было.
В прошлый раз… В прошлый раз я видел эту дорогу, покрытую марширующими ордами. Чудовища ломали деревья, ожившее железо с лязгом двигалось на восток, изрыгая дым и молнии; крылатые создания реяли над рядами, над знаменосцами, у каждого из которых на древке плясал негасимый язык пламени. Вспоминая тот пронизанный искрами, чёрный и оранжевый вечер, когда Гейр и Беймиш шли здесь рядом, во главе колонн, хотелось кричать. Я знал это место ещё со времён, когда Гейр разъезжала на Звере, тут и дальше к востоку, наводя ужас на любого и каждого.
Теперь здесь живёт лишь Хинга.
Ненавижу.
Я хотел сказать это вслух, и в сотый раз не смог, и это было хуже любого кошмара. Я стиснул и кулаки, и зубы, пытаясь подавить наступающую панику, осадить ярость. Она мне ещё понадобится потом, когда я доберусь до Башни и позову Зверя.
Если он не ответит мне, я войду в Башню сам. Но лучше бы ему ответить. Лучше тебе, Беймиш, ждать меня уже сейчас, ибо я приду.
Ночь опускалась, утаскивая дымной лапой больное солнце за горизонт. Я устал. Молчание становилось всё тяжелее выдерживать. Выдвинул меч из ножен, взглянул на узор на лезвии. Линии выровнялись, напряглись, как струны, а значит, близок переломный момент. Мой меч чувствовал такие вещи лучше меня. Да все вокруг владели сейчас ситуацией лучше, чем я.
Меня списали со счетов.
Не в добрый час я пришёл в это место, умытое кровью и обожжённое войной. Но мне некуда больше идти, позади меня тоже никто не ждал. Всё осталось на том поле, где люди захлебнулись собственной яростью в последнем бою. Я слышал, как кричали вороны перед дождём там, позади. Что ж, и здесь им тоже вскоре будет чем поживиться – прямые линии на мече обещали мне новую схватку, и – мою победу в ней.
Я многое вложил в свои вещи. Мне всегда было трудно справляться с ощущениями, я не доверял им. А вещам доверял. Жаль, из них у меня остался лишь меч. Или следует сказать – хорошо, что у меня остался хоть он?..
Я не знал ответа; а если бы и знал, не смог бы его произнести. Ибо, кроме меча, был ещё и Горн.
Сжимаемый сейчас липкими, слюнявыми его устами. Его, Беймиша. Я забью его ему в глотку, если доберусь. Ты слышишь меня, Зверь? Если слышишь, готовься. Если нет… Я иду всё равно.
Ветер налетел сзади, потянул за плащ цвета пепла и грязи, цвета дорожной пыли.
Я беззвучно вздохнул и начал спускаться с холма, поглядывая на тех, кто стерёг Двор. Они не могли бы узнать меня, даже если видели раньше: я шёл пешком, шлем потерял ещё в бою, и плащ окутывал меня головы до ног. Тяжёлой, гудящей головы и усталых стоптанных ног. Мне было трудно дышать, и на то была своя причина.
С ворот, с заклёпок, покрытых патиной, на меня смотрели угрюмые морды древних существ. Но меня нельзя было отвадить такой простой магией.
Я знал, куда следует нажать, чтобы открыть эти ворота, и надеялся, что Дрейн ещё не побывал здесь и не изменил механизм.
Как я и полагал, никто не ждал меня: когда мои нынешние враги видели меня в последний раз, я, лишённый сил, голоса и смысла существования, стоял на коленях посреди поля угасающей битвы, и обе стороны сражения были готовы снести мою голову.
Была ещё одна причина, по которой меня считали погибшим, и она не давала мне покоя. Во всех смыслах этого простого и ёмкого слова. Покой. То, чего я желал сильнее всего на свете и на что не мог рассчитывать.
Я пересёк Двор, пустой, вытоптанный и не такой уж большой.
Я шагал, глядя на тех, кто охранял его, и молчал. Мне нечего было им сказать, даже если бы я мог это сделать. Это был не тот вечер, чтобы разговаривать с мертвецами, настоящими ли, будущими ли. Они же не сделали и шага навстречу мне. У них были другие приказы.
Они защищали вход, в доспехах, покрытых белой эмалью, с алыми бубнами на груди. В прежние времена эти знаки напоминали мне открытые раны. Сейчас мне было всё равно.
Я не знал, лица там, за опущенными забралами, или черепа. В любом случае, мне предстояло вскоре увидеть и то, и другое.
Никто из них не ожидал встретить именно меня. Я вынул клеймор, линии на лезвии оставались ровными. Имя моему мечу было Сталь, и никакая другая сталь в мире не могла противостоять этому клинку.
Трое бросились ко мне, ещё шестеро рассыпались, окружая, с боков, и один остался охранять дверь. Я смотрел на всех них сверху вниз, хотя никто из них не был мал ростом.
Они напали одновременно, и я ударил с размаху. Лезвие Стали прошло сквозь панцирь, словно то была арбузная корка; я оттолкнул кого-то рукой в грудь, повалив его на двух других, тем самым немного очистив левый фланг, и проткнул первого, кто подскочил справа. Второй скрестил со мной клинок, и лезвие его упало, срезанное. Упала и его голова.
Третий хотел достать меня глубоким выпадом, но мой меч оказался длиннее, и я пробил ему забрало.
Больше никто не успел сделать ни одного верного движения, и спустя несколько секунд все они лежали поверженные, а их кровь, алее эмблем, растекалась по белой эмали. Последний замах болью отозвался в сердце. Я не ожидал, что устану, но дыхание сбилось после короткой стычки, и снова я подумал, что могу не дотянуть до момента, когда Зверю придётся ответить на мой вызов.
Отбросив такие мысли, я полоснул мечом вдоль дверной щели, разрезая внутренние засовы, и вошёл в коричневую темноту холла.
Никто не встретил меня, а поиск нужной комнаты не занял и минуты.
Хинга, книжница, подняла разваленное надвое лицо от гримуара в алой коже и посмотрела на меня широко расставленными тёмными глазами. Она читала, наверное, весь день, и дорожки крови пролегли от уголков глаз. Костяной нос – провал в обнажённой, видимой, полосе черепа – с шумом втянул пыльный воздух, густой от запаха сотен сгоревших свечей.
– Ты? – спросила она хрипло, облизав шрам, раздвоивший губы, раздвоённым же языком. Она никогда не говорила, где получила такую рану. Думаю, это и не рана вовсе.
Я не ответил. Пока не мог. Повисла тишина, но под моим взглядом она содрогнулась и, схватив перо, вывела знак на чистом листе, лежавшем перед ней.
Кровь с меча капала на пол: я направил его в грудь хозяйке, и она отпрянула, бросив перо. Я взглянул на лист, но он был чистым. Мне это не нравилось.
Я подошёл к столу, положил Сталь поперёк гримуара – кровь сразу же впиталась в пергамент без следа, – и выдрал из книги страницу.
Хинга вскрикнула. Больно, конечно. У книжниц и книг всегда неразрывная связь. Поэтому я выдрал ещё одну, с картинкой.
Хрипло закаркал Прокл, ворон Хинги; забил крыльями. Он сидел в клетке на подоконнике; видно, снова был за что-то наказан. Книжница держала его, чтобы он диктовал ей книги, когда она их переписывала, и Прокл, случалось, нарочно начинал нести чепуху.
Блики свечей гуляли на бронзовых ромбах, покрывавших чёрное одеяние Хинги; огромное, горячечно багровое солнце, разъеденное далекими дымами, заливало комнату мутным, недобрым светом, и если цвет способен передать угрозу, то это был именно он.
Я всегда любил такие закаты. А в грозу мне везло вдвойне.
Тяжёлая коса Хинги, заплетённая медной цепью, нервно дёргалась, но книжница не смела сказать мне ни слова. Я ненавидел её за это – иметь возможность произнести слова и не иметь смелости воспользоваться ею. Ненависть обжигала моё сердце, как тогда, когда легионы Солтуорта под зелёными флагами ударили из засады и полегли пеплом под чёрными молотами Гейр. Я был там, видел, как раскаленное оружие пробивало дымящиеся дыры в крепких доспехах, видел, как слепящая оранжевая ржа тления плавила сталь, как чернели и обугливались яркие, как листья, штандарты, и чёрные волосы Гейр были убийцам вместо стяга, и пепел застилал небо, как ненависть застилала мои глаза. В то время у меня был голос, и я кричал.
Я взял со стола перо и написал на вырванном листе три знака, обозначавших вопрос: «Где он»? Узор на мече дрогнул и выпрямился вновь. Я всё делал правильно.
– Как ты?.. – спросила она, снова облизнув мёртвые, цвета старой кости, передние зубы. Ей было немало лет – впрочем, на лице эти годы отразились лишь омертвевшей раной, рассёкшей её лик пополам, – и она немало повидала, учитывая, что каждая вторая из прочитанных ею книг могла свести человека с ума. И каждая из написанных, я полагаю.
В ответ я снова показал ей лист с моим вопросом.
– Он убьёт меня, если я скажу тебе. Или ты вернёшься и убьёшь меня.
Я взял меч и медленно провёл лезвием, отрезая страницу. Хинга задрожала; из-под края шрама, там, где изуродованная плоть прилегала к кости, показалась струйка крови.
«Не вернусь», – написал я. Ворон кричал в клетке, нервничал, перебирая прутья клювом.
Я не врал, я не собирался возвращаться ни в случае победы, ни в случае поражения. Я хотел одного – отомстить Беймишу и вернуть своё. Голос, коня и всё остальное, что он у меня отнял.
Я приложил лезвие к книге и посмотрел ей в глаза.
– Он в Башне Зверя, – сказала она.
«В какой книге?» – написал я. На том же листе, потому что она ответила на предыдущий вопрос. Заканчивать фразу не было смысла, она знала, о чём я хочу спросить. Мне нужен был мой голос, и ничего больше. От неё – ничего.
Она не ответила, и я смял несколько страниц, вырвал их и швырнул в окно. Против умирающего заката они показались чёрными птицами. Ворон в клетке кричал не переставая.
Хинга закрыла лицо руками.
За дверями уже слышался шум. Недаром Хинга успела написать тот один знак на чистом листе. Он обозначал меня, только проступили чернила не здесь, а где-то там, в кордегардии, на таком же пустом листе. Да, охрану Хинги усилили. Наверное, сам Беймиш приказал.
Видимо, она что-то поняла по выражению лица. Мои яркие зрачки отразились в её тёмных глазах, и она отпрянула.
– «Воцемал»! – крикнула она. – Это был «Воцемал»!
Я спешил. Написал один знак, и тот коряво.
«Сюда».
Она закусила четверть губы и отрицательно мотнула головой. Коса её хлестала, как хвост нервного зверя. Она думала, что может выиграть время.
Я ухватил её за косу и приставил меч уже не к книге, а к её лицу, к переносице.
Я мог лишить книжницу глаз одним движением. Тогда она стала бы ещё более беспомощной, чем я без голоса или Дрейн без левой руки.
Уставившись на лезвие, как заворожённая, она протянула руку в сторону, и её когти, похожие на птичьи, нащупали нижнюю в груде книгу в истёртом переплёте.
Она подала мне её, и я выдернул том из безобразной лапы в тот самый момент, как дверь за моей спиной распахнулась. Арбалетчики, люди с дубинками и рогатинами, а двое – и с кремневыми копьями, в кожаных доспехах и при деревянных щитах, ворвались в комнату. Конечно, никакой стали. Эти пришли уже именно за мной.
Я толкнул Хингу на стол, опрокинув свечи на книги. Рукописи не сгорят, а вот комната – да.
Схватил книгу зубами за корешок, освобождая вторую руку, и перехватил меч поудобнее. Вкус у переплёта был мерзкий, словно я держал во рту сдохшую от яда крысу.
Щёлкнули арбалеты, и пять стрел, пущенных в упор, полетели в меня. Я взмахнул Сталью – тут мой меч не мог ошибиться – и отбил все пять. Он сам ловил их, чувствуя летящий металл. Наконечники рассыпались в пыль при встрече с лезвием. Древки разлетелись в разные стороны.
Они двинулись на меня, выставив копья и рогатины. Я обрубил одну, вторая упёрлась мне в шею, копьё ударило в бок, соскользнуло по доспеху.
Я вырвал его на себя, отведя мечом второе, устремившееся мне в глаза, и едва успел отшатнуться. Пора было уходить – линии узора пошли изломами, рисунок заколебался.
Один, потеряв осторожность, сунулся под руку, и я зарычал, швыряя его на остальных. Они отступили – моментально, и арбалетчики снова прицелились. Быстрее, чем я ожидал. Повисла секунда тишины, даже Хинга замолкла между всхлипами.
На этот раз у них получилось лучше: одна стрела обожгла мне щёку и прошила капюшон, вторая рассекла сапог, зацепив щиколотку. А стрелки уже снова взводили механизмы.
Я развернулся и бросился прочь, на ходу сунув меч в ножны: он всегда верно попадал в них, чем сильно облегчал мне жизнь.
Плащ, цвета дыма в полумраке, скрыл меня, когда я метнулся к окну, и стрелы досадливо свистнули вслед. Я сшиб клетку с Проклом и вывалился в окно, на широкий карниз. Сейчас мне следовало бежать как можно скорее. Я сунул книгу под плащ, спрыгнул прямо в обрыв перед домом и поспешил под защиту кустарника. Клетку с ошалевшей птицей я подхватил на бегу – она застряла в промоине и не скатилась далеко.
Молнии били в шпили дома, когда я ссыпался вниз по склону и бросился бежать к лесу, прижимая к груди клетку с вороном. Ещё одна стрела пропела неподалёку, на излёте, а вторая ткнулась в защищенную панцирем лопатку так, что я чуть не полетел кубарем, но больше меня никто не преследовал. Они не хотели оказаться в Лагвуде ночью, а Хинга, наверное, пока не могла обеспечить им безопасность.
Сумерки уже затопили лес, туман разлёгся в низинах, и сапоги тонули в нём, в тонкой плёнке. Пни расчищенной опушки, подёрнутые туманом, кряжистые, казались чужеродными, исполненными какой-то странной симметрии. Это было неудивительно – лес Лагвуд рос на костях существ, которых даже мне сложно было представить. Впрочем, у Хинги были книги и о них, и о многом другом. Через несколько минут она придёт в себя и тотчас пошлёт погоню, а ещё сообщит своему брату и Беймишу.
Итак, книга у меня, путь известен. Недоставало мне теперь лишь того, кто понесёт меня по этому пути, и ещё одной вещи. У меня было время до рассвета, чтобы вернуть себе голос и вызвать Зверя. Вызвать там, у его Башни, где всегда стоит запах пепла.
Лес сомкнулся надо мной, сухие листья шептали мне, но я не в силах был им ответить. Наступала ночь, а в темноте все мои дороги были короче.
По пути, забравшись достаточно далеко в низины – никто не тронул меня в лесной тьме, я всегда любил этот лес и никогда не причинял вреда его обитателям, – я выбрал ложбину меж огромных корней, сел и достал книгу.
Я знал, кто и как лишил меня голоса, теперь нужно было узнать, как произнести хотя бы одно слово. А лучше два.
«Воцемал», как и все подобные вещи, нельзя читать при свете дня. Вот почему у Хинги в доме всегда темно. Тут, в низинах Лагвуда, было ещё темнее, а значит, книга легче расстанется со своими секретами. Я не был таким хорошим книжником, как Хинга.
И, под чьё-то тихое рычание глубоко в лесу, согревающее моё усталое сердце, да под робкий шорох перьев Прокла, некрепко задремавшего в клетке, я стал читать. Темнота помогала знакам проникать в моё сознание. Я должен был хорошо разобраться в ритуале и найти подтверждение своим догадкам: чтобы отнять свой голос у Горна, хотя бы на несколько секунд, мне требовался голос колдуна, голос или язык мастера, изготовившего Горн; то, что сгодилось бы за мой голос или язык, и звук самого Горна. Полностью вернуть себе Голос, тот, который с большой буквы, я мог, лишь завладев Горном, а он был у Беймиша.
Прочитав всё и повторив про себя, я закрыл книгу и положил её меж корней. Лучше ей оставаться здесь.
Потом открыл клетку с Проклом и взял ворона на руки.
«Будешь говорить вместо меня, птица», – подумал я, и да, ворон произнёс эти слова вместо меня.
Прокл согласно каркнул в ответ самому себе. Я произнёс его голосом простое заклинание, которое связало нас. Словесная магия всегда удавалась мне лучше, чем остальным. И хотя в итоге это привело меня туда, где я находился сейчас, в том числе и к потере Голоса, моей силы, возможности словом управлять всем, чем я хотел, – на такое дело, как заставить говорящую птицу произносить мои мысли, меня пока хватало. Но чувствовал я себя не очень хорошо. Саднила щека, рана на ноге до сих пор кровоточила, и ныло не переставая сердце – даже здесь, в середине милого мне леса.
Итак, какой-никакой голос у меня теперь был. Трубить в Горн при моём приближении Беймиш будет обязательно – без него он не сможет руководить обороной Башни. Я позаботился о том, чтобы он узнал о моём приближении – оставив в живых Хингу.
Теперь уже все знали, что я иду. Если, конечно, кто-то посчитал нужным сообщить Бауту. Но Дрейн, брат Хинги, точно знал. Что ж, пришло время проведать и его – стало светлее, луна обогнала медленно наползающую грозу, зашумел в верховьях влажный ветер, и я продолжил свой путь сквозь ночной лес. Погони за мной так и не случилось.
Наступил поздний вечер, когда я вышел из леса; мой плащ цвета сумерек покрывали сор и паутина, подол был влажен, а сапоги в грязи.
Ворон сидел на моём плече и никуда не улетал.
Он был полезной находкой – предстоял разговор не менее сложный, чем с Хингой. И мне хотелось иметь возможность изъясняться как-нибудь, кроме как знаками на бумаге. Здесь бумаги не было, здесь меня ждал металл. Что, в принципе, было бы неплохо, не поджидай меня и кузнец.
Но я должен был с ним встретиться. С тех пор, как закончился тот последний бой, в котором людские силы пали, мой конь оставался у него.
Впереди, в темноте, освещаемый сполохами горна, виднелся Двор Дрейна. Низкие крыши отсвечивали под иззубренным месяцем.
К нему легко было проникнуть: мой меч разрезал железные прутья ворот, словно заросли крапивы, и я вошёл во двор лучшего мастера магии на этой стороне мира. Кузнец был искусен во всём, что касалось изготовления вещей.
Да, это он ковал Сталь. Теперь я шёл за ним со Сталью в руке.
Да, это он подковывал моего коня. Теперь я шёл забрать его.
И, конечно, это он ковал Горн. И мне нужен был его язык.
Дрейн бил молотом по заготовке, не обращая на меня внимания. Шлем он не снимал, даже оставаясь в одном кожаном переднике на голый торс. На каждый удар я просто делал шаг, пока не оказался достаточно близко, чтобы он почувствовал моё присутствие.
Его кожа казалась свинцовой, клиновидные нащёчники шлема оставляли на виду злой рот, полный железных зубов. Он не слишком-то походил на человека. Не более, чем я. И почти не уступал мне ростом.
– Ты? – взревел он, скорее в страхе, чем в ярости, но перехватил свой молот и размахнулся. И я понял, что он, увлечённый работой, ничего не успел узнать, даже если Хинга послала ему весть.
Пред глазами на мгновение встала картина – молотобойцы Гейр, запах жжёной плоти, брызги крови и тупой грохот уничтожаемого металла.
Гейр. Я отомщу за тот бой. Пусть путь к Башне предстоит ещё долгий.
Я отбил его первый замах, да и второй тоже. Он сражался левой рукой, как делал и всё остальное. Третью атаку я пропустил, и его молот обрушился на моё плечо. Прокл взмыл в сторону мгновением раньше, и страшный удар швырнул меня на колено.
Доспех, кованный этим самым молотом, лопнул, плечо онемело.
Он выпустил молот и отступил.
Молот продолжал держаться в воздухе.
Кузнецу не обязательно касаться своего инструмента, чтобы заставить его работать. Он был мастером, достойным занимать трон Беймиша. Но мне нужно было одолеть его.
Ещё один удар. Панцирь треснул, осколок вонзился мне в бок, и я едва успел прикрыться рукой от удара в голову.
Ворон кружил надо мной, крича. Он мог кричать. Я – нет, даже от боли.
Я ударил мечом прямо по бойку молота.
Я никогда не думал, что мне придётся такое сделать. Инструмент, выковавший Сталь, вроде бы был сильнее. Но Сталь, владычица над всем металлом, имела верховную власть. Я не знал, что получится.
Получился удар страшной силы, меч вывернуло из моих рук, молот отлетел к стене и упал на землю, а я вскочил на ноги и рванулся к Дрейну.
Я свалил его кулаком прежде, чем он снова сжал невидимую руку на рукояти молота.
– Где мой конь? – прокаркал ворон, севший на плечо. Я стоял неподвижно, пряча лицо в тени капюшона. Я не любил яркий свет, а огонь в горне пылал ярко.
– Я не скажу тебе, – ответил кузнец. – Я ковал твой клинок с твоей кровью, ковал Горн с твоим именем на устах, ковал подковы Викла… Но я не верну его. Скажу лишь, что, раз Горн у Беймиша, – он помолчал, – то ни меч, ни конь тебе не помогут.
Я поднял Сталь и взмахнул ею, полоснув Дрейна по пальцам левой руки. Не отрубил, но металл скрежетнул по его тяжёлой кости. Бил я точно.
– Где Викл? – рявкнула птица. Её голос казался ещё более недовольным, чем был бы мой собственный. – Отвечай, иначе я начну отрезать тебе их по одному!
– В лесном стойле. Там, где ты первый раз увидел его, – Дрейн зло сплюнул, во рту блеснул металл. Я задумался о том, сколько металла вообще в его теле. Наверное, я плохо изучил их всех, раз в итоге всё так обернулось.
– Пошли, – коротко скомандовал ворон.
Мы покинули двор через задние ворота и углубились в дубовый лес. Я подталкивал кузнеца мечом в спину, подавляя желание размахнуться посильнее и уложить его на месте. Старые, пожжённые молниями деревья скрипели на ветру, гром рокотал почти непрерывно. Месяц на небе напоминал улыбку убийцы. Мне искренне нравились эта ночь и погода. Жаль было только, что я не мог просто насладиться ими. Да ещё и сердце болело.
Мы вышли к низкому строению на внезапно открывшейся вырубке. По углам стояли столбы с железными самострелами и страшными мордами на прибитых щитах.
Дрейн сказал что-то – видно, успокоил самострелы, – и мы подошли ближе.
Викл заржал, радуясь мне. Он был бледен, красные глаза его отсвечивали в темноте, шрамы на ногах чернели нитяными крестами, и железные копыта блестели в полумраке шлифованной сталью.
Мой конь, для которого не существовало непроходимых дорог.
Я вывел его под свет луны. Викл был высок; стальные, как и у кузнеца, зубы поблёскивали в отсветах молний. Он ел всё.
– Хинга говорила, – прошипел Дрейн, сверкая железным языком, – что есть заклятие, способное вернуть тебе силу за счёт твоей крови, взятой для меча, и железа для коня. Для этого ты должен зарубить Викла Сталью и…
Я ударил его в челюсть, располосовав костяшки о стальной язык. Моя кровь потекла по его подбородку, и он лихорадочно стал оттирать её изнанкой фартука. Лёгкий дым поднимался от кожи.
– Ты врёшь, – сказал ворон.
Конечно, он врал. Хинга ничего не говорила ему, иначе он ждал бы меня.
Дрейн зло глянул на меня.
– Я сказал это, чтобы ты зарубил коня, – ответил он наконец.
Я вынул Сталь и отсёк его лживый железный язык. Ему легче, он просто скуёт себе новый.
Взлетев коню на спину, я взглянул на меч. Линии были извилисты. Никто не знал, чем закончится мой путь, и я собирался выяснить это как можно скорее.
Итак, я обрёл голос, но не Голос, добыл язык кузнеца, вернул своего коня и теперь мог не беспокоиться о дороге. До тех пор, пока Беймиш не разберётся с Горном окончательно. Он – победившее зло. Я вспомнил крах Солтуорта, последней человеческой надежды. Вспомнил искаженные яростью черты Гейр. Предательское оружие, бьющее в спину. Смятение рядов, грохот заклинаний и свист стрелы.
Я успел тогда сказать два слова. Это меня и спасло.
Но мне было крайне необходимо произнести ещё два. Одним я воззвал бы к Зверю, а вторым… Для этого у меня ещё не всё было готово. Но ночь продолжалась, и я надеялся успеть.
«Он заплатит мне за всё», – подумал я и понял, что ворон произнёс это вслух. Викл одобряюще всхрапнул. Он любил месть.
Была глубокая ночь, когда мы покинули окрестности Двора Дрейна. Он смотрел нам вслед, молча, конечно. Луна таращилась сквозь рваные облака, словно чужак через занавешенное окно.
Викл нёс меня, безошибочно выбирая дорогу. Мой плащ, цвета тумана и низких облаков, развевался на ветру, и дождь срывался тяжёлыми каплями, но всё время отставал. Серебряная и синяя печаль владела миром, но там, на западе, на краю неба, я видел тонкий тёмный штрих – логово Баута, где он сидел на своём каменном престоле, глядел на мир глазами предателя, а дочь его, цветок Анна-Белл, спала в своей постели.
Я собирался нарушить её сон. Я добыл уже и книгу, и коня, и ворона, и железо. Всё, что мне было нужно – это сосуд. Некоторые заклятия я знал и безо всяких книг.
Ворон крикнул коню, и мы полетели быстрее. Старые деревья слились в полосы; мы проскакали по мосту, разбивая его в щепки, но я не успел услышать, как брёвна упали в воду – теперь мы были уже далеко. Дорога пошла в гору, потом свернула, но мы – нет. Викл вознёс меня на лесистый холм, а когда чаща стала совсем густой, помчался подобно белке, отталкиваясь от стволов, прыгая от дерева к дереву. В его копытах было скрыто множество механизмов, дававших ему немало возможностей, и каждый был напоён магией Дрейна.
Потом мы спустились в низину, пересекли болото, где какая-то тварь с белыми глазами пыталась схватить Викла за ногу, после выбрались из леса и вернулись на дорогу. Встречный ветер забивал дыхание, но конь был неутомим. Ворона же мне пришлось спрятать под плащ – Прокла сносило ветром, и он не в силах был догнать нас.
Замок приближался. Я видел его много раз, но всё равно что-то стеснило мне сердце, и боль прошлась по всему телу, так, что сдавленно каркнул Прокл под плащом, ощутив моё состояние.
Мы вломились во Двор Баута через закрытые ворота: Викл набрал такую скорость, что выбил их, выбросив вперёд копыта. Людей из стражи разметало в стороны, и мы не остановились подле них.
Конь замедлил свой бег. Мощённый камнем двор тонул в тени пузатых башен под конусами черепичных крыш. Каждая черта была знакома мне здесь, каждый камень. Только флаги на башнях, двуязыкие флаги, цвет которых был неразличим в темноте даже для меня, были чужими, и ветер трепал их так сильно, словно хотел сорвать.
Раньше это место звалось по-другому. Тогда и Баут ещё мог называться человеком, сражаясь на стороне людей. Теперь, когда все человеческие силы были раздавлены, отброшены прочь, он занял эти стены. Приспешник Беймиша, страшного косиньера, десятками резавшего бывших союзников Баута своим непомерно огромным оружием в той битве.
Я спешился у самых дверей, и камень дрогнул под моими ногами. Никто не ждал меня здесь. Даже странно это было после того, что я сделал с Хингой и Дрейном. Но кто станет предупреждать Баута? Он всегда будет смердеть предательством, и своей стороны отныне у него нет.
Он вышел, чтобы увидеть меня, стоящего возле коня со стальными копытами, меня, в плаще цвета ночи и предрассветных туч. Наверное, он не видел моего лица, только подбородок и отсвет глаз: оранжевого и зелёного. Большой ворон на моём плече хрипло закричал при виде Баута, выдохнув облачко пара.
О, он был не один. Никто не дал ему сторонней охраны, но его люди стояли за ним, и их было много.
– Я пришёл за Анной-Белл, Баут, – сказал ворон. – И за мечом. Он по-прежнему в крови?
Тут мне оставалось надеяться лишь на слово, сказанное перед тем, как я пал.
– Даже Анна не смогла отмыть его. Но ты не получишь здесь ничего, кроме смерти, раз уж не захотел достойно встретить её там, при падении Солтуорта.
– Смерть сегодня пришла со мной, – ответил Прокл моими словами.
Это было хорошо, что кровь Гейр осталась на мече, которым Баут убил её в спину. Она была мне нужна.
– Убирайся, – сказал предатель рода человеческого.
– Отдай мне дочь и меч, и я оставлю тебе одну руку и одну ногу.
Баут, одетый в чёрное, со своим широким, вечно каменным лицом, взмахнул рукой, и стрелы полетели в меня.
На этот раз я не стал отбивать их. Повинуясь моей ярости, ворон произнёс слово, и магия Стали отреагировала на него. Это не было так уж сложно и не требовало моего настоящего Голоса.
Изменив путь, стрелы ринулись к Стали, и я взмахом заставил их последовать за острием, как косяк рыб, отшвырнув в сторону. Металл рассыпался в пыль, и я сделал шаг к Бауту.
И его охрана отступила на шаг.
– Убейте его! – крикнул он.
Они бросились на меня, обнажая мечи, защищая своего господина, за которым последовали, вынужденные стать уродами у пиршественного стола чудовищ.
Я убил половину из них, прежде чем первый коснулся меня. Его меч подсёк мне ногу. Я взял его голову левой рукой и сжал так, что хрустнула кость. Он упал, и я зарубил ещё двоих. Ворон так и не покинул моего плеча. В этой битве оно было самым безопасным местом.
Остальные откатились, взяв меня в неровное, нервное кольцо. Даже при луне я видел, как побледнел Баут. Чёрная щетина выделялась на его белом лице, словно штрихи гравюры. Ветер гудел в башнях, флаги трепетали, словно змеиные языки, старый лес стонал за стеной, и какая-то птица протяжно и тоскливо кричала в этом лесу.
С лязгом распахнулись двери башни, и пятеро рыцарей вышли из них, закованные в доспехи с головы до ног.
– Ты пришёл за мной? – спросила девушка, тонкая и хрупкая, с сонными глазами, выходя из-за их спин. Платье её, белое, как цветы дрёмы, сливалось с белой кожей. Только волосы, невнятно-серые, портили образ. Глаза казались провалами в ночь.
– Убирайся прочь, пока ты ещё жив. Утром тебя будет искать каждый.
– Утро ещё не настало, – вымолвил ворон хрипло.
– У тебя нет Голоса, – сказала Анна-Белл, людская колдунья, дочь Баута. – Ты никто, и звать тебя никак.
Ворон напомнил ей моё имя, и гром в небе отозвался эхом. Анна-Белл равнодушно пожала плечами и сказала одно короткое слово.
Рыцари пошли ко мне, и я понял, что там, в доспехах – нет никого.
Мой меч был в крови, я почти не видел лезвия в темноте, но наносить удары мне это не помешало. Я раскроил щит ближнего рыцаря, вывернулся из-под удара палицей и снёс ему шлем.
Он развернулся. Отсутствие головы никак не повлияло на него. Я отсёк руку второму, подоспевшему сбоку, присел в повороте. Металл подавался, как бумага, не оказывал Стали никакого сопротивления. Подсечённые ноги перестали держать, и два рыцаря с грохотом повалились на камни. Безголовый развернулся, и я разрубил его от плеча до поясницы, а потом толкнул на землю. Он упал, роняя сапоги и перчатки. Их оставалось двое, и с ними я покончил быстро.
Был предрассветный час, и тени были глубоки и темны. Я посмотрел в такие же глубокие и тёмные глаза Анны-Белл.
– Ты пойдёшь со мной, – сказал ворон, и Викл согласно фыркнул за моим плечом.
– Только если ты сможешь одолеть это, – сказала она.
Я проследил за её рукой. В тёмном углу, между башнями, зашевелилось что-то, булыжные камни задрожали, вырываясь из мостовой, но не полетели в меня, как я ожидал – силы, видно, у колдуньи были не те, – а стали стягиваться в кучу, вместе с мешками песка, какими-то оглоблями, тележным колесом и прочей рухлядью.
Камень скрежетал о камень, обручи от рассохшихся бочек катились по брусчатке, и зелёные искры пролетали над ними.
Весь этот хлам стал отрываться от земли, и я понял, что сейчас произойдёт.
Голем с каменными ступнями, тяжёлыми кулачищами из мешков с песком, с плечами из брёвен и колесом от телеги вместо головы, пронизанный слабым бледно-зелёным световым шнурком, шагнул ко мне, и земля содрогнулась.
Он не был стальным, и я мало что мог с ним поделать, не владея Голосом.
Поэтому я прыгнул вперёд, на ходу разрубая пополам ближайшего телохранителя Баута, и схватил того за руку, как только он бросился к двери, под защиту дочери. Он вывернулся, вцепившись в меня, и мы покатились по камням.
Шарахнулся Викл, спасаясь от голема.
Баут содрал с меня плащ, я оттолкнул его и выпрямился во весь рост, в помятом и закопчённом светлом доспехе, прижав острие клинка к горлу предателя.
Все замерли. Я тяжело дышал, и стрела, пробившая когда-то моё сердце, покачивалась в такт моему дыханию. Перо я сломал, а острие так и застряло где-то внутри, не выйдя из спины. Иногда я чувствовал, как оно царапало доспех.
Я успел сказать тогда немногое, прежде чем магия Беймиша лишила меня голоса, и это были правильные слова. Жаль только, первое действовало лишь сутки.
Та битва окончилась на рассвете прошлого дня, когда кто-то из стрелков Беймиша пробил мне сердце почти навылет. Моё заклинание делало любую опасную рану несмертельной. Разве что в давних книгах Хинги можно было найти нечто подобное.
Меня бросили, посчитав убитым. Я же отсрочил свою гибель на сутки. Хотя жить со стрелой в сердце было больно.
Будь у меня Голос, от проблемы не осталось бы и следа – за жизнь я получил множество смертельных ран, и они оставили лишь лёгкие шрамы.
Теперь же мне оставалось время только до утра, если не удастся увидеться со Зверем. И отобрать свой Горн.
– Анна-Белл, – сказал ворон тихо. – Как видишь, меня не так легко убить. Как твоего отца, например, – я усилил нажим, и Баут побледнел ещё больше, до призрачности. – Сложи этот хлам обратно.
В тишине прошла половина минуты. Потом она произнесла какое-то слово, и махина с грохотом рассыпалась по мостовой.
– Я одолел это. Теперь ты пойдёшь со мной, – рявкнул ворон. Он тоже чувствовал мои злость и усталость.
– Ты пойдёшь к башне Зверя?
– Да, и вызову его.
– У тебя даже Голоса нет.
– Ты мне поможешь. Ты колдунья, – я поднял свой грязный плащ и накинул снова.
– Почему ты не взял Хингу?
– Потому что меч, которым убита Гейр, у тебя. Он нужен мне.
– Зачем? – Анна-Белл удивилась, видимо, подозревая, что он не имеет отношения к ритуалу возвращения Голоса. – Как бы ты ни старался, и что бы ни использовал, ты не вернёшь Голос больше чем на полминуты, пока Горн у Беймиша.
– Ты идёшь? – Ворон взъерошил перья. Начинало едва заметно светать, пахло холодным дождём.
– Да, – она спустилась с крыльца.
– Дочь!.. – только и сказал Баут.
– Ты служишь Беймишу? И мог бы служить любому занявшему Башню, – ответила ему Анна-Белл. – А он постарается занять её, с нами или без нас. Раз уж он жив, то я пойду с ним.
Баут промолчал. Ворон тоже. Только Викл нетерпеливо подал голос. Дождь снова приближался, луна утонула в тучах у горизонта, и тёмный, глухой час перед рассветом окутал нас полностью. Я чувствовал прилив сил и уверенность в том, что путь будет недолгим.
Она приказала вынести меч, и я принял окровавленный, чуть изогнутый клинок с великой осторожностью.
Я опасался дождя. Гроза, заходившая с востока, не была простой. Это была очищающая гроза после битвы, вызванная кем-то из имеющих силу, и потому такая медленная. А магически вызванный дождь мог и смыть магически закреплённую кровь. Нам надо было спешить.
Я вскочил в седло, подсадив и прижав к себе Анну-Белл, и мы оставили Двор Баута, бывший Двор Гейр.
В отличие от Хинги, я не дал Бауту никакого обещания не возвращаться за ним.
Ночь истекала, но было темно – стена дождя неотвратимо шла за нами вслед.
Мы пересекли бурную реку, не встретив никого, потом попали в засаду – но нападающие были так медлительны, что даже не успели коснуться Викла, а я, убивая, не успел их разглядеть.
Дорога пошла в гору. Начались скалы, на которых стояла Башня Зверя, но я не видел её за пеленой предутреннего тумана. Подъём стал совсем крутым. Виклу было всё равно, а вот я едва удерживал Анну-Белл. Ворон летел рядом.
Мы поднимались в одиночестве, и наступила минута, когда я услыхал далеко наверху пение Горна.
И моё раненое сердце похолодело, потому что я понял, что за мелодию он играет.
Беймиш сумел разобраться, как работает Горн. Это была песнь по мне. По моим вещам, если точнее. Звуки приказывали им рассыпаться в прах, и я ничего не мог с этим поделать.
Выругался ворон, и я так и не понял – от себя или уловил мои чувства.
Хрустнул металл, и подкова со стального копыта отскочила и канула вниз. Викл захромал, сбавляя ход. Захрапел недовольно.
– Потерпи, – сказал ворон, – ещё минута, и мы у Башни.
Со звоном отпала вторая подкова, запрыгала по камням, а за ней и третья. Конь застонал, карабкаясь по склону, и я хотел закричать, подбодрить его, но только растревожил ворона, снова присевшего на плечо. Прокл бил крыльями, пытаясь удержаться. А Горн всё трубил наверху, за тонкой туманной пеленой, где обгорелая вершина Башни Зверя поднималась к мрачным небесам.
Анна-Белл молчала, вцепившись в меня.
Мы перевалили через край, и Викл, обессиленный, рухнул на колени. Я спихнул Анну-Белл на камни и встал во весь рост.
Молнии упрямо били в скалу. Ветер трепал изодранный плащ, когти продирались сквозь перчатки. Я снял их и отбросил в сторону. Вытащил меч из ножен, глядя, как он тускнеет и теряет острый блеск кромок прямо на глазах, под пение Горна, слышимое даже сквозь непрерывный гром. Птицы на башне кричали, и мой ворон вторил им.
Я положил Сталь на камни, и меч треснул от этого прикосновения, истлевая, разваливаясь на куски. Всё так. Мой Голос имеет большую силу. Я заключил часть его – часть себя – в Горн, чтобы командовать всем, что подвластно мне – армией, магией, силами – с его помощью. Для меня разница была такой же, как между неуверенным жестом и чётким письмом.
Ты предал меня, Беймиш. Тогда, ещё не дожидаясь нашей победы, после гибели Гейр, ты предал меня и забрал Горн себе, лишив меня голоса.
Мне сейчас нужно сказать всего лишь несколько слов. И у меня есть такая возможность.
– Говори, – сказал ворон, объясняя Анне-Белл короткий ритуал, – одновременно со мной.
Я достал язык Дрейна и положил его себе в рот. Сталь резанула до крови, но так было ещё лучше.
Мы произнесли это: я, языком кузнеца, ворон, повторивший слово из моих мыслей, и колдунья, имеющая силу.
И Горн замолчал.
Я взял второй меч, липкий от крови Гейр, и отведя руку назад, ударил Анну-Белл в сердце, проткнув колдунью насквозь. Лишь одно имя я назвал и лишь одно слово добавил к нему, на языке, от которого горечь разлилась по всему рту, и дрожь прошла по моим древним костям.
«Восстань, Гейр».
Там, в последней битве, опрокинувшей наконец людей, там, где мы раздавили с таким трудом проклятых рыцарей Солтуорта под их зелёными флагами, там пала Гейр, моя любимая, там предал меня Беймиш, завладев Горном – и подчинив себе все наши силы, одержавшие уже победу.
Кровь Гейр потекла по клинку в сердце Анны-Белл, движимая древней магией. Пока у меня был голос, я мог многое. Пока у меня была власть творить заклинания, я был непобедим. Ни Беймиш, ни Хинга не могли равняться со мной по части заклятий, и тем более никто из жалких людских колдунов.
Анна-Белл закрыла глаза, и колени её подогнулись. Открыла она их уже сине-стальными, со слепящей искрой. Гейр занимала её тело, как сосуд; рвалось на плечах тесное платье; как змеи, заструились локоны, ниспадая на землю; менялись черты. Я осторожно вынул клинок из раны, и от Анны-Белл не осталось и следа. Одна магия свершилась.
– Звееееееерь! – закричал я, чувствуя поднимающуюся силу. Так хорошо было чувствовать возможность говорить.
– Звееееерь!
Аишь одно слово добавил я к этому. Слово на языке, от которого сдвинулись камни в основании Башни.
«Приди».
Зверь, всегда живший внутри меня, проснулся, поднял свою длинную морду, зарычал. Скала задрожала под ногами. Древняя сила – не моя, и даже не моих предков. Земля ушла вниз, и дымное небо приблизилось, когда сквозь боль плоти и костей я почувствовал, как он заменяет меня изнутри. Мой единственный шанс на победу, единственный верный солдат, кроме Гейр. Моя другая сторона, от которой я начал своё восхождение и которая уберегла меня от окончательного падения.
Я разрушу вас, разрушу всё, что создал. Вы не смогли достойно встретить победу, и никакой победы вам не будет.
Мне больше уже ничего не нужно, только Гейр, и она со мной. Но сначала да свершится месть.
Я падаю на четыре лапы, доспех гнётся, лопаются заклёпки, и плащ улетает в сторону серой тряпкой. Я поднимаю длинную морду, чувствую мокрым языком острые зубы, множество их. Мои мускулы полны силы. Это мой боевой облик, который у меня не было возможности вызвать, не имея голоса.
Сейчас я не могу говорить, но скоро… Скоро.
Я запрокидываю голову, и Гейр взлетает мне на спину. Как в старые времена – я бы не сказал, что добрые, нет, но прекрасные – когда мы вместе начинали этот путь. Когда это тело было моей единственной формой.
Гейр поднимает клинок и смеётся. Гром вторит ей, всепожирающая стена ливня накатывает из-за края пропасти, и запах мокрой гари, такой сильный, радует меня.
Мы влетаем в ворота. Они идут нам навстречу. Их много, но…
В голосе Горна я слышу страх.
Во мне его нет.
Где-то за краем мира восходит солнце.
5. Королева
Олицетворяет ум, ментальное тело. Это дух, передвигающийся по своей воле, вольный деятель. Королеве, или Ферзю, покровительствует Луна.
И насмерть бьется королева, Подруга жизни короля. Виктор Борода-Борисов♀ Пса Тёмная фигура Лариса Бортникова
В клуб я приехал поздно. Разумеется, часть народа уже разбрелась по домам, кто-то торчал в соседнем зале за рулеткой, а те, кто всё ещё полуночничал за пустым столом, были мне почти незнакомы. Худой, чуть сутулый очкарик с симпатичным позывным «Журавель», кивнул, приветствуя. Я подсел на соседний стул и пожал протянутую ладонь.
– Вы, если не ошибаюсь, Аккуратист? – Журавель слегка заикался, не то от количества выпитого спиртного, не то просто…
– Точно. Именно так, – в долгие беседы вступать не хотелось, а хотелось лишь быстро поесть, увидеть координатора, забрать досье и убраться вон из прокуренного зала. – Именно. Аккуратист.
– Наслышан. Восхищён. Напарник не требуется?
Я внимательно уставился на его блеклые глаза в колечках дешёвой оправы. Ухмыльнулся тяжело, нарочито неприятно.
– Увы, играю один, если вы ещё не в курсе. Всегда.
Журавель сник, посидел рядом ещё с полминуты, а затем исчез куда-то, не забыв прихватить со стола свою кружку с нефильтрованным тёмным. Часовая стрелка словно приклеилась к циферблату: ещё десять минут, ещё полчаса… Сопелька не приходила, зато пришли кураж и лёгкость, как и всегда перед игрой.
Я заказал водки, потом ещё, и ещё немного. Потом я увидел, как Сопелька морщится от запаха табака, стоя совсем рядом – почти в двух шагах, и как в тоненьких её пальцах, обтянутых лайкой перчаток, переливается сиреневым долгожданный диск. Если бы Сопелька не являлась моим персональным координатором и если бы её статус был хотя бы на три пункта ниже, я бы её расцеловал. Я бы увёз её к себе, уложил бы её тоненькое тело на ковёр и целовал бы его долго-долго, или просто содрал бы с неё старенькие джинсы и свитер в неопрятной бахроме катышков, развернул бы, словно луковицу, и добрался бы до хрупкой и горькой сердцевины.
– Аккуратист, ну, блин, ты и накачался! Где болтался вообще, а? Тут такое дело… Отдают её, короче, – Сопелька нервничала, я ощущал это в её интонациях, в чуть сиплом дыхании, пахнущем ментоловой жвачкой.
Неизвестно откуда возникший Журавель замер, наткнувшись на колючий взгляд Сопельки, и, пьяненько заулыбавшись, ретировался. Я вытянул из кармана персоналку, аккуратно установил код на процессор и вложил тонкий блин диска в ячейку.
– Даже пальцы не дрожат. Аккуратист, блин, – Сопелька хмыкнула. Знала, что под маской безразличия таится любопытство, смешанное с азартом.
«Шпонько Е.В., закрытая параллель, координаты 67 ХР-87665». На дисплей высыпались цветными кружками диаграммы, трёхмерки, приблизительные параметры маршрутов – изучай не хочу, – а я никак не мог оторваться от мерцающих сиреневых букв в верхней ячейке: «Шпонько Е.В.»… Шпонько Е.В. Елена Шпонько. Ленка.
– Маааать твою!!! С возвращением, Пса! – Сопелька громко выдохнула. – Не обманули садовники.
– Пива будешь? Журавель, притащи пару кружек, – окликнул я маячившего неподалёку очкарика. Журавель нехотя направился к стойке.
Сопелька нервно закурила, сделала две глубокие затяжки, откашлялась.
– Пойдёшь? – бычок зашипел в тарелке с остатками харчо. – Решайся. Кроме тебя всё равно отдать некому. Не Журавлику же. Садовники, кстати, денег прилично просят, у тебя как?
– Нормально. Сколько?
Сопелька кивнула, облизнула губы тонким языком с блестящей горошиной пирсинга на кончике и назвала сумму. Через секунду, устало прикрыв глаза, она наблюдала, как я набиваю цифры в окошке банковского браузера, как жму на ячейку «перевести», и как бегущая строка уверенно опустошает и так не слишком солидный счёт.
– Аккуратней там. Ну, сам знаешь, – голос её звучал непривычно серьёзно. – Рада, что именно ты, а не кто-то другой. Ленке привет передавай.
Журавель поставил передо мной ребристую кружку. Я взялся за стеклянные холодные бока обеими руками, коснулся губами пены и не отрываясь выпил содержимое до дна.
* * *
Мы с Ленкой попали в клуб одновременно. Она, может быть, на месяц раньше, но, так или иначе, статус новичков сделал нас почти друзьями. Там, в другой жизни, светящейся неоном за стеклянными дверьми клуба, я никогда не обратил бы внимания на некрасивую сорокалетнюю тётку с тяжёлой задницей, по-мужски густыми бровями и злым, каким-то волчьим лицом. Но тогда, выбираясь на первые пробные игры, проходящие под неприятным, но обязательным надзором координатора, я восхищался Ленкой. Она была безудержна, она была изобретательна и непредсказуема. Сопелька пожимала плечами, глядя, как Ленка бесшабашно и жестоко крушит несложные мирки, сляпанные на скорую руку специально для обучения неофитов.
У меня не получалось так лихо, как у Ленки. Она влетала в реалку без подготовки, не ведая, что её там ждёт, и с ходу приступала к резне. Я же, наоборот, прежде чем уйти в параллель, тщательно изучал инфу, анализировал вводные, приглядывался к сутям.
– Аккуратист, – смеялась Ленка, обнажая розовую полоску над неровными зубами. – Аккуратист и зануда. Ты же всё удовольствие себе портишь.
– Напротив, – пытался спорить я. – Это ты ведёшь себя, как маньячка.
– Сам дурак, – Ленка хохотала. Её горло дрожало разбухшей щитовидкой. – Мы тут все маньяки, правда ведь, Сопелька?
– Угу, – Сопелька сонно щурилась, наблюдая, как мы, будто одуревшие лангольеры, ломаем реальность, уничтожая всё тщательно созданное чужим сознанием. Абсолютно всё.
– Ленка, ты психованная! – выдыхал я изумлённо, рассматривая то, что осталось от трепещущего ещё недавно мира.
Ленка получила свой позывной одновременно с любительским статусом на год раньше меня. Я всё ещё бродил за Сопелькой по крошечным, плохо продуманным мирам, а Ленка, вернее, Пса, уже выбиралась на игру самостоятельно.
– Представляешь, недавно попался «детский», – сокрушалась она, сидя на высоком табурете у бара. Её жирные ягодицы свешивались с деревянного квадрата сиденья. – Я тебе скажу, это дерьмо! Гигантские лысые коты с красными глазами плюс табуны двухголовых тянитолкаев на васильковых лугах. И, что поганей всего, никакой крови. Рубишь тварь пополам, а внутри блестящий ровный гель, даже не брызжет.
«Ты психованная, – орал я и хлестал Ленку по оплывшим щекам. В раковине валялись крупные прозрачные осколки, на одном из которых расползалась от воды этикетка «Посольская». – Возьми лучше бритву, а ещё лучше повесься». Ленка отбивалась, лупила меня кулаками в живот и визжала.
– Кому я нужна? Я старая, я уродина, я – старая уродина. Даже ты спишь со мной, потому что так тебе удобно, и за квартиру платить не надо. Спишь со мной, а сам пялишься на эту тощую малолетку. Ненавижу! – Ленка бешено ревновала меня к Сопельке.
– Лен, ну ты с ума сошла! – бурчал я и думал, что Ленка не так уж неправа.
– Я ребёнка хочу, – она успокаивалась, прижималась ко мне дряблым животом, засыпала.
* * *
Семь лет назад Ленка пропала. Вернее, не так. Сначала она купила доступ, похвасталась, помахала перед моим носом распечаткой с яркими картинками и умчалась готовиться. Я собирал её багаж, укладывал одежду, настраивал оружие и сдыхал от зависти. Ленка ушла, устроив прощальную истерику. Неделю я наслаждался тишиной, потом начал скучать. А потом, ещё через неделю, в клуб зашли мрачные ребята с одинаковыми наколками на затылках, и мы поняли, что дело плохо.
Оказалось, что Ленка, как обычно, влетела на всех парах в чужой мир, толком не изучив задания, а там одновременно с ней находился «садовник». Так случается: садовники иногда оставляют за собой право на часть мира – это допускается правилами и прописано в инструкции. С Ленкой произошёл именно такой случай: парень зарезервировал координаты и сидел внутри, подправляя какие-то детали. А Ленка не то поленилась прочитать примечание, не то… Короче, она вошла в раж и размолотила в шматки всех и вся, а горемыка этот попался под горячую руку. Погиб, короче, пацан. И там, и здесь… Потому что если мы играем в «чужой» реалке, то для садовника-то она самая что ни на есть «настоящая». Пацан погиб, а у Ленки начались серьёзные проблемы – ребята из «дружественного» цеха подобных промахов не прощают.
Тех, кто называет себя садовниками, куда как меньше, чем нас. «Ломать – не строить», – подшучивают они на редких совместных сборищах, перемигиваясь. И ещё добавляют: «Один отряд сажает сад, другой его ломает». Садовников немного: лично я знаю человек тридцать, а ещё про десяток одиночек наслышан. Занимаются ребята построением личных параллелей, выводят от основного ствола маленькие веточки собственных реальностей, а потом продают доступы любителям поиграть в «конец света». За хорошие деньги продают, между прочим. А тех, кто готов заплатить за иллюзию бессмертия и полной безнаказанности, предостаточно. Можно считать нас сумасшедшими, но только я уверен, что садовники куда хуже. Потому что создавать мир, выдумывать ему прошлое и настоящее, трепетно творить разумных сутей, любить их, вдыхать в них жизнь, заведомо обрекая на гибель – настоящее безумие.
Ходят слухи, что некоторые садовники всё-таки не выдерживают и однажды уходят в какую-нибудь ветку насовсем, либо просто бросают это занятие и живут себе, как обычные люди. Но в это тоже не верится, потому что, единожды став богом, уже не вернуться, так же, как, единожды побыв «не богом», шагнуть обратно нельзя.
Того пацана, что сгорел вместе с собственным миром, я знал. Не лично, нет. Просто пришлось погулять по паре-тройке его реалок. Он удивительно хорошо создавал птиц. Иногда, прежде чем приступить к заранее оплаченному апокалипсису, я сидел где-нибудь на берегу и следил за невероятно красивыми крылатыми тварями с радужным оперением. Порой я оставлял одну птицу и наблюдал, как она мечется над испепелённой равниной, пахнущей почти настоящей смертью. А ещё этот пацан никогда не баловался людьми. Вообще среди садовников считается, что реалки лучше населять именно хомо сапиенсом, а прочее – слабость и моветон, и всё же некоторые так и не решаются.
Именно то, что спёкшийся в паштет садовник относился к нерешительным анималистам, и то, что все об этом знали, делало вину Ленки более чем серьёзной. Выходило по всему, что Ленка очень даже соображала, что творит. Ага. Когда вокруг тебя бьются багровым столбы пожаров, разваливается на куски воздух и шипит кипящая пена, когда ты, с лихорадочно горящими глазами и сердцем, ломающим грудную клетку, идёшь по издыхающему миру, тогда очень сложно контролировать себя. Сложно. Но не до такой степени, чтобы не сообразить, что перед тобой человек, которому здесь взяться неоткуда. И не до такой, чтобы не услышать, как он обращается к тебе по имени или по позывному… И не до такой, чтобы не остановиться…
Ленка оправдывалась. Шептала скороговоркой, что пацан случайно попал под обвал или вроде того, краснела, заикалась и почти всхлипывала, но координатор садовников не верил. Показательные разборки устроили в нашем клубе – созвали всех, даже новичков. Наши молчали, опустив глаза. Ленка оправдывалась. Растерянно разводила руками, дребезжала истеричными нотками, но я видел, как за широко раскрытыми, блестящими от слёз глазами таится волчья ухмылка. Координатор садовников тоже видел. И после того, как Ленка тяжело вздохнула и замолкла, выдал только одну фразу, обращаясь сразу ко всем и ни к кому: «Всё понятно. Псу мы забираем. Сегодня». Я тогда не понял, почему Сопелька вздрогнула. Меня лишь покоробило то, с каким нажимом «садовник» произнёс Ленкин позывной. Это свистящее «с» посерёдке. «Пссса».
Ленка пропала. Я не ждал её, потому что Сопелька всё мне пояснила и с какой-то злой обречённостью выдавила под конец: «Доигралась, дура. Покажут ей творцы-создатели кузькину мать!»
Какое-то время я скучал по Ленке. Заходя в клуб, по привычке искал глазами её несуразную фигуру, иногда оборачивался, заметив похожий силуэт. Дома перебирал её вещи, натыкаясь то там, то тут на грязное бельё и початые бутылки. А потом забыл. Через полгода мне присвоили «любительский», затем «полу-профи», и вскоре клубные новички начали расступаться передо мной, перешёптываясь и заискивающе заглядывая в лицо. Меня затянула игра.
* * *
Я снова и снова разглядывал трёхмерки, переворачивая странички, перекладывая их слева направо, сверху вниз и обратно, ласково трогая курсором Ленкины ноздри, брови и плоскую грудь. Я нашёл её среди десятков тысяч прекрасно проработанных тварей, слишком похожих на людей, чтобы быть кем-то ещё. Всё правильно. Садовники наказали Ленку как положено: заперли на пять лет в параллельной реальности, скроенной точно по Ленкиной идеальной модели. Ровно пять лет Ленке пришлось существовать внутри собственной мечты, а теперь мне предстояло эту мечту разрушить. Вообще-то я мог отказаться, и тогда бы за Ленкой отправился кто-нибудь другой, кто-то, никогда её не знавший или знавший лишь понаслышке.
Я допил чуть тёплый чай, бросил кружку, покрытую изнутри многодневным коричневым налётом, в раковину и пошёл собираться.
Вход в эту параллель «садовники» установили не как обычно, за городом, а на заброшенной стройплощадке недалеко от Третьяковской. Кодовый замок, повешенный в разбитой телефонной будке вместо аппарата, мигал зелёным индикатором готовности. Я набрал два ряда цифр, почти не подглядывая в шпаргалку.
И вышел из будки.
А здесь было хорошо. Дышалось очень легко, и пахло корицей. Я осмотрелся, сорвал лист с тополя, растёр между пальцами скользкую терпкую свежесть. Весна? Лето? Ранняя осень? Ленка всегда любила тепло. Карту я помнил почти наизусть, и, судя по ней, Ленкин мир в периметре занимал чуть больше Московской области, поэтому добраться до указанной в базе улицы не представляло сложности. Я вышел на дорогу, и тут же возле меня услужливо тормознул горбатенький «запорожец» – Ленка питала к таким вот дурацким машинкам нежность. За рулём сидел седой, краснощёкий старик. Мне вспомнился Дед Мороз на открытке, пришпиленной к заляпанному стеклу буфета. Подумалось, что жалко будет уничтожать этого старика, да и вон ту парочку, сидящую на скамейке под сиренью – тоже.
Садовники постарались. Здесь, на небольшом куске чужой реальности, была собрана вся Ленка. Ленка – ребёнок, Ленка – школьница, Ленка – молодая и бестолковая, одинокая и несчастная Ленка. Я узнавал её в каждой тени от высокого фонаря, в каждом одуванчике, в каждом распахнутом окне. Нет. Не истеричную бабу, и не Псу, ненасытную и безжалостную в игре, готовую вспороть чью-то шкуру с ликующей улыбкой. Я узнавал другую Ленку – Ленку домашнюю и смешную, Ленку, которая вечно пела гимн, сидя на унитазе, или, забрав волосы в жидкий хвостик, рисовала зайцев для соседской девчушки.
– Сколько должен? – спросил я, с трудом выбираясь из «запорожца».
– Обижаешь, сынок, – Дед Мороз ещё больше покраснел, и я опять почувствовал Ленку. В её мире могло происходить лишь так.
Горячий асфальт, расчерченный на квадраты классиков, был усыпан тополиным пухом. У дома верещали дети, пытаясь вытащить из подвального окошка кота. Щурилась на солнце кукольная старушка, похожая на Ленкину бабку с черно-белой фотографии. «Вам не будет больно», – подумал я и шагнул в густую прохладу подъезда.
Ленка стояла в дверях. В неухоженных руках белым флагом болталось вафельное полотенце.
– Привет! – сказал я.
– Привет, а где Генка? И ты за хлебом… – она осеклась, схватилась за косяк. Полотенце соскользнуло на пол, цепляясь за полы длинного халата. – Это ты?
– Угу, – я зашёл внутрь, огляделся. В квартире едва уловимо тянуло хлоркой. – Отчего-то надеялся, что у тебя покруче.
– Нам… Мне достаточно, – она медленно закрыла дверь, прислонилась спиной к дешёвой обивке. – Что? За мной?
– Да. Собирайся. Неплохо устроилась. Ленк, только не ной. Ты же знала, что так получится.
Ленка плакала. Не так, как раньше: с громкими всхлипами и обвинениями. Она плакала молча, без слёз, вытягивая из себя душу по ниткам. И из меня тоже.
– Ленк. Я постараюсь, чтобы никто ничего не заметил. Раз, и всё. Я умею. Они просто исчезнут, все и сразу. Ленк. А потом вернёмся домой, собаку заведём.
– У меня сын. От тебя, между прочим. Познакомить? – Ленка подняла с пола игрушечного кролика и вцепилась в него так, что побелели костяшки пальцев.
Я мотнул головой. Хотелось как-то её утешить, но я понимал, что напрасно.
– Лен. Давай уже. Тебя отвести на выход, или сама?
Я стянул с плеча рюкзак. Ленка вздрогнула, метнулась ко мне и вдруг резко остановилась. Лицо её осунулось, и я вновь поймал то самое волчье выражение.
– Ладно. Раз по-другому не выйдет. Можно мне попрощаться с Генкой, с сыном – он на улице? И слушай, пусть они – мой муж и мой сын… Если ты вдруг передумаешь всех и сразу, тогда пусть они будут последними.
Я согласно кивнул, я ободряюще хмыкнул, я достал оборудование. Ленка внимательно следила за моими руками.
– Аккуратист. Знаешь, а здесь ты совсем другой, – в её голосе слышалась тупая бабская тоска.
Я смотрел через распахнутую дверь балкона, как Ленка, склонившись над чернявеньким пацанёнком лет пяти, говорит что-то, как плывёт счастливой улыбкой малец и как заливается смехом чересчур радостная Ленка. Потом Ленка чмокнула пацана в макушку и пошла прочь, чуть подпрыгивая и, кажется, даже напевая. Полы домашнего халата задорно развевались, обнажая полные ноги. Я взглянул на часы: по расчёту, через час Ленка уже будет вне зоны поражения, и я смогу приступить.
Проще всего было настроиться на метеорит или ядерку, или моментально поднять температуру градусов на триста, чтобы запечь местную реальность в шарлотку. Они действительно ничего не поняли бы. Мир – есть, мир – исчез. Но я рассматривал болтающих у гастронома напротив женщин, принюхивался к ароматам чужой жизни, и знакомый кураж начал подступать к самому горлу. Пальцы затрепетали в предвкушении игры, замельтешило в глазах, застучало в ушах неуёмной дробью. Бессмертие и безнаказанность, вот что затягивает и не отпускает. Игра.
«Ладно, – успокаивал я себя. – Сейчас скоренько разберусь с основной частью, а там, так и быть, оставлю на закуску с десяточек сапиенсов и пройдусь по ним лично. Всё равно Ленка не узнает. Главное – выполнить обещание». Я успокаивал себя, но кровь бежала всё быстрее, и сердце колотилось всё чаще. И где-то по периметру чуть больше Подмосковья ходил мой двойник, а в песочнице сидел малыш, который мог бы быть моим сыном.
* * *
Чуть больше Московской области… Я стоял на пригорке, кое-где ещё покрытом горелой травой и жадно вдыхал в себя дым. Немного поодаль толпились выполненные в виде людей сути. Испуганно рыдали сути-женщины; обнимая их за плечи, молчали сути-мужчины, цеплялись за взрослых сути-дети. Садовники создали для Ленки замечательный мир. Я повернулся к существам, считающим эту реальность настоящей. Суть – моё зеркальное отражение – с нескрываемым ужасом смотрела в мою сторону, прижимая к груди ещё одну блестяще сделанную суть.
– Аккуратист!
Я вздрогнул от неожиданности. Ленка поднималась по тропе, держа в руках ружьё – она любила глупые трюки.
– Что ты здесь делаешь, Пса? – спросил я, уже догадываясь, как прозвучит ответ.
– Да вот, вернулась…
Ленка зло щурилась. Мальчишка, извернувшись, выскочил из объятий сути-мужчины и кинулся к ней. Она отшвырнула его в сторону. Я вздыбил землю под ногами у визжащей от ужаса толпы, и наступила тишина. Почти тишина, если не считать слабого детского хныканья.
– Ленка. Не дури. Мы же люди, в конце концов, – я попробовал ещё один – последний раз. – Пойдём домой, собаку заведём. Не дури, Ленка. Игра остаётся игрой, ты понимаешь это не хуже, чем я. Хочешь, стреляй, только смысл? Я же неуязвим здесь, в отличие от тебя. Ленкааа!
Мальчишка взъерошенной болонкой подкатился под Ленкины ноги, вцепился в них намертво. Она нагнулась, провела ладонью по чёрным волосам, снова выпрямилась. Мы стояли напротив друг друга. Я знал абсолютно точно, что никуда она не уйдёт и что нужно просто решить, кто из них будет последним: Пса или её детёныш.
♀ Похождения одного изумруда Тёмная фигура Лариса Бортникова
«И юных дев, подобных дивным пери, Пятнадцать перед троном собрались…»Весэль, как обычно, безбожно фальшивил. Пьяненький мужичонка осоловевшим взглядом следил за пальцами, скользящими по струнам. Потом вдруг подпрыгнул, закружился весело и бестолково. Торговка бубликами хихикнула, толкнула локтем товарку, и та, покопошившись в фартуке, швырнула Весэлю грошик. Монетка глухо ударилась о пыльный тротуар. Метнулся было за ней уличный певец, да не успел. Босоногий сорванец промелькнул общипанным воробьём, и денежки как не бывало. Весэль пожал плечами.
«Пылали их щёки кармином, Вздымались их пышные груди, Их нежные губы дрожали»…– Плохи дела?
– Куда уж хуже, – музыкант поднял глаза от мандолины. Прямо перед ним, переминаясь с ноги на ногу, лопалась от стыда баба.
– А хочешь, спою тебе, красавица? – Весэль маленько воспрянул духом в надежде подзаработать и посему беззастенчиво кривил душой. Красавицей его собеседницу называли, видать, не часто. Бабу словно из бревна топором вытесали – ни ямочки где положено, ни холмика. Праздничный сарафан чуть не трескался на по-мужски крепкой, но плоской груди. Рябоватое лицо украшала здоровущая картофелина носа, а под белесыми бровями, будто в насмешку, зыркали глазищи размером с блюдце.
– У меня это… Дело есть, певун… – баба нагнулась к Весэлю, и в нос ему ударил крепкий запах чеснока и кровяной колбасы. У Весэля аж голова закружилась от голода…
– Только не здесь, не на людях, а…
– А чё, красавица, – подмигнул хитро музыкант, – может, угостишь молодца рюмочкой сливовой?
Баба вспыхнула, отчего её лицо стало просто пунцовым, и кивнула. Весэль вскочил, нахлобучил на седеющую голову феску и, зацепив одеревеневшую тётку под ручку, направился в известное всем ярмарочным гулякам местечко под вывеской «Хромой барсук».
* * *
Хохотушка Марго старательно закатывала белки к небу. При этом она норовила ещё и рассмотреть получше своих соседок. Нет, не получалось. Тогда Марго плюнула на это дело и нагло уставилась прямо на жреца, так, что тот даже нахмурился и укоризненно покачал бритой головой. Изумрудный полумесяц в святейшем ухе покачнулся в такт, и Марго тут же принялась подсчитывать, сколько клиентов надо обслужить, чтобы заработать на такой вот камушек. По всему выходило, что заведению пришлось бы аж лет пятнадцать вкалывать без перерыва и ежемесячных капризов. Марго огорчилась ненадолго, но тут же нашла себе другое занятие. Узрев в толпе, в первых её рядах, с десяток-другой знакомых купцов, Марго начала строить многозначительные рожи, доводя почтенных жителей чуть не до лихорадки – жены-то рядышком. Прикинув, какой скандал может из всего этого получиться, Марго аж присвистнула. Приосанилась, выпятила грудь в низком корсете и только приготовилась было осуществить задуманное, как получила сильный тычок в бедро и услыхала шипение.
– Не кривляйся, погань. Не скверни ступени трона, – тощая инокиня сверлила Марго насквозь сумасшедшим взглядом.
– От ты, дрянь! – Марго взвилась было, но заткнулась. Права была монашка, ох права… И дело-то тут не в «сквернить – не сквернить». Имелись у Хохотушки причины стоять сегодня здесь, на высоком помосте посреди храмовой площади. Не просто так собралась старушка Марго стать одной из пятнадцати «пороком не тронутых, духом святых, на великое избранных». Не со скуки одна из самых разбитных продажных девок столицы собрала пожитки и смылась, не попрощавшись с подружками. Не со скуки и не по глупости… И уж коли решилась она на этот нелегкий шаг, то и вести себя надо так, как следует… Как следует «чреву богоизбранному, несущему мессию и сына божьего во спасенье мира грешного…»
– …Избранницы… пройдут через земные и небесные испытания… вести их рука Единственного… святость и невинность лишь одной… лживые и порочные наказаны будут… знамение Великого Старца… воцарится благодать, и сядет Сын на троне, почитаемый всеми тварями земными, а в мир его принесшая станет великой Валиде, чтобы вершить справедливость наравне с ним…
Жрец убрал свиток в рукав балахона и строго оглядел притихших горожан. Толпа молчала. Прятали глаза жёны, покашливали толстобрюхие богачи, испуганно моргали ресницами девки. Дело-то нешуточное. Храмовники объявили приход Спасителя. Первый раз за сорок лет. Значит, являлось Главному Смотрителю видение, значит, снова пробил час, и если будет на то воля Великого Старца, придёт на эту землю Сын Божий в человеческом обличье и станет править. И наступит, наконец, благоденствие.
Весэль спрятался за спину здоровенного детины и почесался. Не верил он во все эти храмовые штучки. И кому нужна эта справедливость, когда и так всё неплохо? Гудят оливковые прессы, шумят винодавильни, по праздникам спешит народ в харчевни да кабаки. Есть и богатеи, есть и нищие, найдется место и таким, как Весэль – весёлым да бестолковым певунам-затейникам. А болтовня о Спасителе… Весэль, хоть и неграмотным был, много чего разумел. Жизнь его помотала, побила как следует. Видел Весэль, что раздобрел народ да разленился. Перестал толпиться у храмовых ворот с дарами и развязывать толстые кошели, чтобы бросить пару золотых в мешочек с пожертвованиями. А жрецы тоже покушать любят, да и деревянное изображение Великого Старца не мешало бы покрыть новой позолотой. Значит, либо напасть какую надо придумать, либо показуху, чтобы обомлел люд и снова потёк денежный ручеёк к белым клобукам. А что может быть лучше да прибыльнее, чем приход Спасителя? Прошлого раза Весэль не помнил, под стол пешком ходил. Но матушка рассказывала. Хорошо погуляли, ярмарку затеяли. И весь положенный срок пили, ели и, понятное дело, на Храмовую площадь бегали – на избранниц смотреть. Люди толковые ставками баловались. Правда, не то не родился никто, не то знака от Великого Старца не последовало. Так тоже, если подумать хорошенько, всё верно. Разве позволят храмовники, чтобы свершилось, чтобы пришел Долгожданный и закончилось их время?
Весэль ещё разок почесался и потихонечку, бочком начал пятиться с площади. Сейчас народ разойдется. Самое время присесть у дороги и спеть подходящую к случаю балладу… Весэлю эти стишки порядком оскомину набили.
«И юных дев, подобных дивным пери, Пятнадцать перед троном собрались…»* * *
Избранных, однако, было числом четырнадцать, что жреца безмерно огорчало. Не найди он до вечера ещё одну дуру, и всё! Состязания придется отменить! И тогда придется ему брать котомку и ходить по деревням, собирая скудные грошики. Дела финансовые в храме обстояли хуже некуда. Решение провести состязания назрело ещё лет пять назад, да уж очень не хотелось всё это затевать. Мороки много. Сначала Главного Смотрителя уговори, потом кельи подготовь, потом малую толику средств изыщи, чтоб уплатить семьям избранных хоть какой-никакой калым, а потом – самая что ни на есть неприятность. Разослать послушников по деревням да городишкам, чтобы весть несли и девок искали… Пятнадцать дев, от духа Великого Старца зачавших. Пятнадцать избранниц, в чреве своем благодать несущих. Тьфу ты… Блудницы! Жрец отмахнулся от назойливой мошки и оглядел измученных полуденной жарой девиц. Ну, с деревенскими-то всё понятно. Нагуляли, не спохватились вовремя, вытравить не сумели, и всё. Тут уж либо в поганый дом идти, за деньги собой торговать, либо быть камнями закиданной. У мужичья суд скорый. Не соблюла честь – сдохни как собака! Убогатеек родовитых судьба другая. Жрец покосился на отороченный соболем воротник длинной, словно жердь, уродины. И кто польстился-то? Тех с приблудышами ждал костер, будь бастардёныш хоть королевской крови… тем более королевской. Монашки тоже – дело обычное. Те либо молодухи обманутые, либо фанатички уверовавшие. Жрец крякнул, потрогал серьгу в ухе и покраснел, припомнив тощие сиськи сестры Вельды. Недолго её пришлось уговаривать, мол, Великому Старцу угодное вершим… Ещё раз оглядел вспотевших «спасоносиц» жрец. Мда. Как не было средь них дочек купеческих, так и не будет. Крепка торговая гильдия. Хранит свои тайны и дщерей своих в строгости блюдёт. А коли и не блюдёт, никто о том не ведает. Появится в белокаменном доме чужой младенчик – ответ короткий: «Подкидыша взяли, благодеяние творим».
– Ну что, красавицы, потерпите до заката? Потерпите, куда деваться-то? Явится последняя – значит, верное было видение. Значит, состязаться вам до последнего. А коли не явится, ну, сами знаете…
– Чай не дуры, ведаем, – размалёванная бабёнка почмокала губами и села прямо на пыльный помост.
– Встань, избранница.
– Чичас! – Марго, а это была именно она, повела плечами и осталась сидеть, только юбки подобрала немного. – Подь-ка сюды.
Жрец вздрогнул. Бабёнку эту он сразу приметил. Как на рассвете вышел на пустую ещё площадь, так и уткнулся в неё глазами. Их на тот час не то десять, не то девять подошло… Белую кость позже в каретах подвезли. А мужички ещё поутру объявились. Эта среди них как рубиновая бусинка торчала. Сразу понял жрец, что за птичка. Понял, но промолчал. Хоть и не верил он в божий промысел, но ритуал соблюдал точно. Пятнадцать спасоносиц, Великим Старцем ведомых, из которых лишь одна Матерью стать достойна. В равноденствие с рассвета до заката спешат они к трону…
– Чего тебе? – нагнулся пониже, чтоб другие не слышали, коли охальничать станет.
– А не придет последняя, что будет-то? – шепот был жарким, и изумрудный полумесяц запотел. У жреца взмокли ладони – мужик он был крепкий, до утех охочий.
– Пораскинь башкой-то. Тогда, выходит, не спасоносицы вы, а шалавы, и место вам в ямах помойных.
– Так там самое нам и место, аль не знаешь, милок? – бабёнка прижалась губами к уху и вдруг рявкнула во всю глотку: – Спасителем тяжела!
У жреца потемнело в глазах. Он отпрянул резко и выпрямился, машинально прижав два пальца ко лбу. Немногие оставшиеся на площади в ожидании вечера повторили за ним ритуальный жест.
– Шлюха, – он сказал это одними губами, та поняла, расхохоталась громко, нагло.
– Успела ли, отец? – пробасила немолодая уж тётка и потянула за полу балахона. Жрец опустил глаза. На ступенях стояла она, пятнадцатая, в коричневых от пыли башмаках и простом сарафане.
– Взойди, девица. И наступит закат. И принесет утро пятнадцати избранным испытания, чтобы, пройдя все круги, осталась лишь одна, достойная исторгнуть Спасителя из чрева своего.
Колокол гудел тревожно и назойливо. Весэль поднял голову от деревянного стола, рыгнул и промямлил…
«И юных дев, подобных дивным пери, Пятнадцать перед троном собрались…»* * *
– Бей, лупи, заходи слева… Давай! Суй ей прут в ухо! Ах ты, черт!
– Куда? Сверху садись… И по башке, по башке… В пузо ногой!
– Ай… Щас она ухо откусит… Кровищи-то!
– Ставлю двадцатку на Дылду! И ещё столько же за свата!
– Ах. Убили! Убили!!!
Толпа визжала, хрипела, агонизировала. Матери поднимали детей повыше, чтобы тем было видно, как на огороженном верёвкой пространстве пятнадцать женщин убивают друг друга. Избранницы, одетые лишь в короткие плащи и вооружённые железными крюками, безжалостно бились за право жить. В глазах у них тускло сверкала безнадёжность.
– Ох, люблю я посмотреть, как бабы лупятся. Глянь, какие коленки. Я бы тоже с такой полупился, – золотозубый торговец похлопывал себя по брюшку и толковал горбатому юноше: – В прошлый раз тоже одна такая попалась, весь цех сбегался на её зад глянуть. Я ещё в подмастерьях ходил. Долго держалась. А когда выкинули в канаву, дружок мой ухитрился от волосьев её отхватить. Верно говорят, удачу приносит. Дружок тот на левобережье дом прикупил, с нами нынче и знаться не желает… Так что гляди в оба, может на этот раз повезёт. Куда?! В глаз тычь, в глаз!!!
Солнце жарило беспощадно. Сладкий запах кровавого пота пропитал воздух. В животах у зрителей громко урчало, но расходиться никто не собирался. Наоборот, народ подтягивался из переулков, молодёжь норовила залезть на балконы, чтобы лучше видеть, а хозяева бесцеремонно сталкивали нахалов вниз.
Драка перешла в бойню. Полная голубоглазая деваха, до этого бойко уклоняющаяся от ударов соперниц, поскользнулась на коровьей лепешке и шлепнулась лицом вниз. К ней подскочила другая и с размаху ударила дубиной прямо в затылок. Голубоглазая дернулась и затихла. Визжащие девки как-то одновременно замолчали и, словно подчиняясь приказу, метнулись к лежащей. Дубины взлетали вверх и одновременно падали с глухим стуком на раскорячившееся тело. На площадь вползла тишина, и только равномерное «шлёп-шлёп-шлёп» разбавляло безмолвие.
– Состязание завершено. Первая спасоносица отвергнута Духом Великого Старца. И принесет новый день четырнадцати избранным трудные испытания, чтобы, пройдя все круги, осталась лишь одна, достойная исторгнуть Спасителя из чрева своего, – жрец потянулся к верёвке колокола. – Родные могут до заката прийти в казну за калымом.
«Шлёп-шлёп-шлёп». Тоненькая девчушка исступленно била по черно-синей спине трупа. На грязных щеках блестели ровные полоски.
* * *
– Ты водицы попей. И не стесняйся. Пойди, почистись ещё разок. Чай, все мы тут из мяса и костей сделаны.
Услышав это, бледная девушка икнула и согнулась над кучей нечистот.
– Тьфу ты. Дерьмом всё провоняли. В сторону отвали, – Марго заколола косы на голове и, подышав на зеркальце, обтерла его о подол.
– А ты не нюхай. Королева нашлась. На водички-то.
В темной келье собралось пятеро. Марго оглядела соседок. Вот попала! Придурковатая девка лет тринадцати, сумасшедшая монашка, постоянно молчащая дылда из благородных и старая тётка, та, что заявилась последней. Ни в картишки перекинуться, ни словечком перемолвиться. Марго пыталась было завязать беседу, да куда там. После вчерашней драки малявка тряслась и рыгала без конца, а старуха носилась с кувшином затхлой воды. С монашкой говорить было не о чем. Та перебирала чётки и зыркала по углам. От такой подальше надо. Марго зевнула. Вчера она разумно держалась в стороне и обошлась почти без синяков. Сегодня с утра Марго славно покушала и теперь отдыхала. За двадцать последних лет ей ещё ни разу не удавалось так хорошо провести день. «Если так дальше пойдет, глядишь, и стану Великой Валиде. А там и золото, и почести», – Марго усмехнулась, сверкнув железным зубом. Валиде Марго!!! Смех у неё был сухой и злой. Монашка вздрогнула в своем углу.
– Ты того, подвинулась бы, что ли. Девчонке полежать негде, – старуха никак не могла успокоиться. Марго цыкнула, но освободила немного места.
– Чего копошишься-то, дурында? Всё одно сдыхать. Никто не сдюжит.
Благородная дылда зашлась в рыданиях. Золотой медальон выпал из тощих пальцев и, ударившись о каменный пол, раскрылся. Черноокий красавец нежно глядел в низкий потолок кельи.
– Ах, ах, ах! Вот и Великий Старец, не иначе, – Марго соскочила с лежака и цапнула побрякушку. – Смазлив! Чего ж не женился-то? Родом не вышла, барышня, или рожей?
Хозяйка медальона стала белее штукатурки. Блёклые глаза умоляюще впились в Марго.
– Отдайте, пожалуйста.
– Хороша цацка. К чему она тебе? Всё равно сопрут нищие, когда в канаве тебя лапать станут…
– Давай сюда. Живо, – Марго впервые обратила внимание, что кулаки у старухи большие, по-крестьянски крепкие, и взгляд твердый. – Давай. И молчи лучше. А не то…
– Чего ты… а пошла ты… на, подавись! – Марго пожала плечами и отшвырнула украшение к оконцу.
– Припрячь подальше. Красивый мужик-то. Неча всяким зенки пялить, – побрякушка отливала золотом на широкой красной ладони.
Дылда заулыбалась, прижала медальон к груди. Благодарно кивнула неожиданной защитнице.
– Меня Анжеликой зовут. А вас?
– Мартой кличут. Марта я – бакенщика дочь. А малышка – Танинка.
– Сестра Епифания, – прошипела монашка нехотя. Поднялась. Вышла на середину кельи.
Марго отвернулась. Нечего ей знакомства разводить. Всё одно им на тот свет безымянными входить, монашке ли, мужичке ли – едино.
* * *
Весэля тошнило. Не столько от зрелища, сколько от выпитого вчера пива. Хотя зрелище было весьма неприглядным. Припёрся он сюда не сам, дружки заставили. Напоили, накормили, дали грошиков и позвали взглянуть на ярмарочные забавы. А как не пойти? Прибьют ведь! Воры народ суровый. Весэль щипал струны мандолины и бурчал под нос.
«Звенели стрелы, стонали девы…» Песня выходила какой-то убогой.
– Спорим на выпивку, что наша Маргоша легко увернется.
– И не буду даже. Она баба привычная. Помнишь, мы в неё ножичками швырялись, так никто и не попал.
Верёвки были длиной с локоть, пристегнуты к шестам одним концом и к медным ошейникам – с другой стороны. Желающих поучаствовать в богоугодном состязании нашлось немало. Корзины с голышами стояли возле низкого забора, что окружал площадь. Подходи, бери голыш, швыряй. Для мужиков – забава привычная. Спасоносицы визжали, прыгали, приседали, норовили увернуться от свистящих камней. Уведет от удара избранную Великий Старец. Бери голыш, швыряй, не стесняйся. Находились мастера, что ухитрялись с подкруткой бросить. Такой камень, как свинцовая чушка – череп насквозь пробивает.
– Ты в голову-то не целься. Рано еще. Бабы с дитями не натешились. По ляжкам вдарь. Вон той, щупленькой. Хорошо!
– Этой хватит, упадет скоро. А рядом толстушка здорово приплясывает. В пузо ей меться.
Длины веревки не хватало, чтобы согнуться калачиком, спрятать живот, а голову обнять руками. Женщины бились, задыхались, исходили истошными воплями. Толпа смачно ржала. Часа через полтора запал, однако, сошёл. И спасоносицы перестали чудно извиваться вокруг шестов. Больше вздрагивали под ударами и лицо прикрывали. Одна за другой начали сдавать, провисать в ошейниках, так что глаза чуть не лопались.
Шалийка-карманник подмигнул товарищам, подскочил к ближайшей корзине, на ощупь выбрал камушек. Прищурился, высматривая жертву. Голыш летел красиво, с присвистом, и ударил тоже красиво – прямо в висок высоколобой девице. Сломалась девка молча, даже не пискнула. Ноги в башмаках деревянных вперёд поехали. Верёвка натянулась – не порвалась. А что лицо посинело, так это за синячищами незаметно было. Шалийка руки в карманы засунул и пошел пританцовывая. Проходя мимо Весэля, кивнул: мол, пора обедать. Весэль мандолинку закинул на плечо и потрусил за дружками. Жрать хотелось.
* * *
– Брезгую! И не думай! – Марго отбивалась и топала ногами. В келье сильно воняло мочой.
– Как знаешь, – Марта отошла. Тряпицу монашке протянула. Та поморщилась, однако взяла и к лицу приложила.
– У нас на селе парни когда мордуются, так потом только так… Помочутся маленько на глину и мажут себя везде.
Девчушка лежала на животе и только дрожала, когда Марта обкладывала её серыми кусками ветоши.
– Что с тебя взять, деревенщина? А вот у нас медная мазь для таких случаев пользовалась, – Марго мечтательно потянулась и ойкнула. Всё тело болело, словно через него прошло полполка кирасиров, как в лучшие времена.
– Молчи, – застонала монахиня, – молчи, не гневи Великого. Видит он всё и слышит. Убережет Избранницу.
Марго сплюнула в ладонь и удивленно уставилась на кровавый сгусток с крошевом зубов. Потом встала, хромая, подошла к инокине и, ткнув в живот пальцем, просипела:
– Когда скакала да покряхтывала, тоже видел? Или ослеп? Не морочь голову, сестра. Ишь ты, святая нашлась. Чем ты лучше меня? Я честная девушка, что заработала, то и взяла. А ты? Как оно на алтарях, удобно ли? А теперь думаешь грех прикрыть? Спасоносицей стать решила? Или хочешь до конца дойти и единственной остаться? Не выйдет! Кишка тонка! Если кто и выдюжит, так это я и, может, вон, мужичка безмозглая! А ты подохнешь, и девчонка подохнет как собака, как ваша барынька беломордая.
Монахиня слепо уставилась в глаза Марго. Зрачки закатились, и изо рта показалась пена. Монотонный вой вырвался из её груди и залил каменную келью ледяным ужасом. Марта метнулась к сестре, обхватила её дрожащее тело, навалилась сверху, расцепила зубы.
– Дай чего-нибудь. Скорее. А то язык заглотнёт.
– А пусть заглотнёт. Моё какое дело! – Марго заткнула уши руками и закрыла глаза.
* * *
– Жажда и голод – испытание хорошее, только слишком муторное. А черни зрелищ подавай. Что, если посадить их в яму – пусть народ ходит, смотрит.
– Да. А рядом можно карусель приспособить. Пироги, пиво… Весьма прибыльная затейка получится, – купец заискивающе улыбался. Нечасто торговых людей зовут на совет в Храм. – Детишкам куклов показать можно. Леденцов наварить. Тоже дело.
– На половине сойдемся? – полумесяц переливался зелёным, словно насмехаясь над Гильдией.
– А не жирно ли… – начал было сухощавый старичок в синей ермолке, но осекся под укоризненным взглядом сотоварищей.
– Сойдемся, сойдемся. С утра и начнем. Карусельку-то, может, и в ночь обустроим, скоренько…
* * *
– Говорил, что колечко купит с камушком. Беленький камушек. Беленький с синенькими искорками, – девчонка бредила.
– Воды дайте, воды, – шепот волнами то нарастал, то спадал и глох в радостных детских визгах и гуле воскресной толпы. Время от времени к яме подходили люди, со скудным любопытством заглядывали внутрь, шарахались от резкого запаха нечистот и, чертыхаясь, отходили.
– Воды дайте, воды.
Весэль громко пел песенку о неверном муже и глупой жене для двух смешливых барышень в одинаковых юбках из цветного муслина.
Пузырёк легко скользнул в широкий рукав Марго. Она покосилась на других, нет, не заметили. Вот и хорошо.
– А мне что дома остаться, что в спасоносицы пойти – смертушка грозила. У нас в Соловушках нечестных девок на кол спокон веков сажали. Ну и подумалось, что коль стану избранницей, может, и посчастливится выжить… А если нет, так хоть матушке с батюшкой помощь какая будет. Калым возьмут, коровку купят. У меня сестрёнок – пять душ, им приданое справить не на что, – приговаривала низенькая лопоухая девка, положив голову на колени Марте. – Да тут кого ни спроси, одна беда.
Марта молча кивала, гладила девку заскорузлой ладонью по впалым щекам.
– У нас хозяйство справное, – подала голос стриженая по-городскому молодуха, – сваты приходили, всё как положено. Вечером пошла по воду, наши слободские и ссильничали. Батюшке в ноги кинулась, а он молвил: «Ты теперь, девка, почти замужняя, иди к жениху, ему сказывай». А что жених? Я его один раз всего и видела. Статный весь из себя, усатый. Позор на себя принять разве захочет? Сама не ведаю как, ноженьки на площадь привели. Храм увидала, упала перед алтарём, побелело в глазах… Попить бы.
– Колечко с камушком… – девчушка широко раскрыла глаза, приподнялась на локтях – и затихла.
– Отмучилась, сердешная, – Марта, кряхтя, поднялась, подошла к краю ямы. – Эй, певун, кликни жреца. Преставилась спасоносица. Пусть колотит в бубенец.
Весэль отвел глаза, вскакивая, задел за стоящую перед ним феску, рассыпал монетки, но подбирать не стал.
– Сейчас. Я мигом. Только потерпите.
«И принесет новый день избранным трудные испытания, чтобы, пройдя все круги, осталась лишь одна, достойная исторгнуть Спасителя из чрева своего…»
Карусельщик с сожалением провожал последнего посетителя. Когда ещё выпадет такая ярмарка?
* * *
Суп здесь готовили наваристый. Мяса не жалели. Только жевать Марго было нечем, да и сил оставалось только жиденькое глотать. Есть хотелось постоянно, а шевелящийся в животе зверёк заставлял Марго подниматься с лежака и, держась за стенки, подходить к столу.
– Лежи. Я тебя покормлю, – Марта всё ещё пыталась суетиться, ухаживать за сестрой Епифанией и за другими. Тех, кто остался, собрали в одну келейку, без окон, но чистую и прохладную. Сдюжило немного. Марго всё пыталась пересчитать, но в глазах плыло и моросило мелким красным дождем. Не думалось Хохотушке, что невыносимыми будут испытания. Понадеялась на свою двужильность да кошачью изворотливость. На дружков понадеялась. А зря, видать.
– Великий Старец спасёт избранницу. Его рука проведёт Единственную через все круги, – сестра Епифания завыла, Марго привычно заткнула уши.
– Ну, как дела, спасоносицы? – сквозь кровавую изморось пробивался изумрудный свет полумесяца. – Завтра на рассвете будьте готовы.
– Уж отмучиться бы поскорее, – сказал кто-то, и те, у кого ещё были силы кивать, согласно закачали головами.
Марго уже плохо помнила, какое испытание было последним и что было до него. Все смешалось в обрывки из криков, боли, смертей и колокольного звона. Она даже не вспоминала, зачем много месяцев назад ступила на скрипящий помост перед храмом. Забылись беззаботные дни и шумные вечера родного квартала, кисловатый вкус вина и запах солдатских шинелей. Забылся горячий шёпот хитрого любезника да его ласковые руки…
– У тебя пузо прыгает, – раздалось над ухом, и Марго вздрогнула. Марта положила ладонь на её вздутый живот и улыбалась.
– А чё ему не прыгать-то? – разозлилась Марго.
– Не знаю. У меня вот нету ничего, – Марта развела руками. Под сарафаном пухло колыхалось тело.
– Да ты не чуешь поди, деревенщина.
– Может, и не чую. Устала больно.
– Ну и отстань.
* * *
Храмовые свиньи весело топтались по скользким внутренностям. Народ недовольно расходился.
– И чего тут смотреть. Даже пиво допить не успел, – возмущался бородатый мужичонка.
– Ой, правда. Только место нашли, и сразу колокол. Никаких тебе весёлостей, – жена бородатого выхватила конфету изо рта сопливой девчонки. – Не хватай с земли, сколько раз говорить!
– Нечего и ходить больше. Надоело. Только денежки платим.
Весэль присел на ступени. Служки поливали гранитные плиты водой, смывая бурые пятна. Свиньи злобно хрюкали, не желая покидать площадь. Нехорошо было Весэлю. И дело не в том, что уже неделю феска его оставалась пустой, и не в том, что мандолина висела в лавке у ростовщика, отданная за четыре грошика. Ненавидел Весэль свои ноги за то, что принесли они его когда-то в этот город, и за то, что тащили его в который раз к Храму, чтобы услышал он, Весэль, колокольный звон.
– Чего расселся? – стражник грубо ткнул Весэля сапогом. – Испытание закончилось, не видел, что ли? Теперь через недельку приходи… Пока ещё спасоносицы в себя придут. Потрепали ляжки да сиськи избранниц хряки священные. Давай!
Вскинулся было Весэль, хотел плюнуть в раскормленную рожу, да спёкся, скукожился и побрёл, опустив плечи. Звенела в его кармане пара монеток, что с радостью бросит в свой кошель трактирщик из «Хромого Барсука».
* * *
Сестра Епифания отмучилась ночью. Не дождалась зари. Клацала корешками зубов, вцепившись в руку клюющей носом Марты, и выла. А потом крикнула так, что задрожали стены храмовые: «Только тебя любила, Великий!» – и отмучилась. У Марты красные пятна от пальцев монахини ещё два дня не сходили. Жрец пришёл, потряс изумрудом, покачал головой. «Не хватило веры, видать! – промолвил. – Отказался от неё Старец». Ушёл, ухмыляясь. Марго лежала, повернувшись к стене, прислушивалась.
– Жалко сестру, – Марта, подобрав под себя несуразно большие ноги, устроилась на соседнем лежаке. Места в келье теперь было предостаточно. Им двоим даже чересчур. Марго не ответила.
– Верила она. Взаправду верила. Думала, принесет на землю негу и счастие людское. Обозналась, видать… Тебе хлебца размочить в водице?
– А пошла ты со своей заботой! – не удержалась Марго, перевернулась неудачно, да так, что в животе кто-то злобно застучал пятками.
– Не серчай, я не со зла.
* * *
Гудела медь, сзывая люд на судилище. Сверкали чистотой выскобленные плиты. Снежно-белые клобуки жрецов колыхались на галерее Храма. Глядел из раскрытых дверей алтаря сам Великий Старец, поблескивая кое-где стертой позолотой. Они лежали рядом, неразличимые, как сестры, осунувшиеся, тощие, с горящими глазами. Растопырились нагие тела, прикованные к ритуальным нишам, и не было в них ни красоты, ни благодати, а только усталость и боль.
«И даст Великий Старец лишь одной силы извергнуть из чрева Сына своего. Проведёт Избранницу через испытания, протянет ей длань, подаст знак, и увидим мы, грешные, явление Спасителя».
– Надоел, пёс, – довольно отчетливо проговорила Марго и тут же закусила губу, давя в себе крик.
Схватки у неё начались давно. Она сообразила сразу и метнулась было к спящей Марте, но резко остановилась, вернулась на лежанку и терпела до утра, пока не спохватились охранники и не послали за жрецом. Тот пришел быстро. Уверенно задрал Марго подол, пощупал ноги, крякнул. Когда вернулся, Марта уже поднялась и, испуганно вытаращив глаза, пялилась на собственное булькающее пузо. «Спасоносицы, вашу мать! – выругался жрец. – Разоблачайтесь живо!»
Народу набралось тьма. Хоть и устали людишки от жреческих забав, такое пропустить – грех. Чтоб две спасоносицы и сразу! Не слыхивали ещё такого, не видывали! Весэль топтался в сторонке, ноги-предатели опять приволокли его сюда, хоть и не хотел он идти, хоть и пьянствовал беспробудно уже который день.
– А если обе родят? – бабка, вытаращив глаза, осеняла лоб знаком Старца.
– Ну ты бестолочь, обе и родят, куда ж денутся. А как родят, так и будут лежать закованные до тех пор, пока знамения не увидим.
– А что за знамение-то?
– Кто ж его знает… Никто… В прошлый раз вот не было.
– А если и в этот раз?.. – Весэль тронул за локоть довольного таким вниманием знатока…
– Ха! Значит, как тогда, блудниц на кол, а приблудышей – свиньям. Нечего добрых людей морочить!
Весэль отошел в сторонку. Достал из-за пазухи початую бутыль, долго, с отвращением хлебал. Потом вытер рот рукавом и стал проталкиваться в передние ряды.
– Эй, музыкант, – Шалийка облапил Весэля так, что у того рёбра хрустнули. – Пойдёшь с нами? Третий нужен!
– Да не хочу я пить! И дела ваши мне не любы! – выворачивался Весэль.
– Я тебя чай не по карманам шарить зову, дурень! На такое дело идём, аж пятки потеют.
– Заткнись, Шалый, – кривоносый молодец, известный в городе крутым нравом и тяжелой рукой, поигрывал здоровенным ножом. – Зачем зря болтаешь, музыкантика смущаешь?
– А он парень свой, да и не обойтись нам вдвоем, а Зука порезали вчера, – Шалийка нехорошо подмигнул Кривоносому, и у Весэля противно похолодело под ложечкой.
– Ну так идёшь?
Весэль сглотнул и молча кивнул, стараясь не шевелиться – холодная сталь уперлась ему в бок.
Железные оковы натирали запястья и щиколотки. Марго глухо стонала, рядом с ней кряхтела Марта.
– Сволочь… Какая же ты сволочь… – Хохотушка Марго приговаривала, сцепив челюсти.
– За что ты так. Плохого-то не желала…
– Да не тебе я. Отцу этого гаденыша, что вылезать не хочет.
– А я вот благодарная ему. Это ж какое счастье бабе родить!
Марго вздохнула, расслабляясь, повернула к Марте голову, спросила:
– Слышь, а я вот всё никак сообразить не могу. Ты-то чего пришла? Ведь срок-то у тебя небольшой был, коль только сейчас прихватило. Стравить могла. Или родные послали, чтобы гроши получить? Или… неужто правда решила Единственной стать? Ну ты, девка, молодца! – Марго зашлась в сухом смехе.
– Дык… – Марта притихла, потом глухо продолжила: – ребёночка мне хотелось. Очень. А сватов-то по молодости никто не засылал. А теперь куда уж, не красавица – сама видишь. Надумала найти какого-нибудь мужичка да попросить по-хорошему, может, и денег дать… Только куды же с приблудышем? Ни мне, ни дитю жизни не будет. А я – крепкая. Справлюсь, подумала! Видишь, всё стерпела, сдюжила. Вот рожу сейчас, и будет у меня сынок. Сынишка… И пальцем пусть посмеют ткнуть!
Хохотушка Марго молчала. Долго. Прихватило, видать. Потом закашлялась, не то смеялась опять, не то правда слюна в горло попала.
– Глупая ты Марта, хорошая баба, но глупая. Умишком пораскинула бы, поняла бы, что не дадут тебе матерью стать. Не бывать тому, чтобы Храмовники признали Спасителя. На то и знамение придумано. Чтоб даже если кто и доберется до конца, как мы с тобой, всё равно – срамом на кол.
– Как на кол? Какое знамение? – срывающимся голосом зашептала Марта.
– А ты думала? Раз камнями не забили, от голода не загнулась, и хрюшки тобой побрезговали, станешь Великой Валиде? На золоте кушать будешь?
– Я не знаю… Не о том думала… Сынишку бы… Маленького…Чтобы пальчики, носик…
– Не думала! А надо бы! Ах ты, черт! – снова застонала Марго. – И как ты терпишь?! Одно слово, деревенщина!
– А ты, раз всё знала, чего ж пришла, зачем на смерть верную решилась, да маялась?
– Ну, это мы ещё посмотрим, на какую смерть!!! Мать твою!!!
Толпа колыхнулась, закричала, заулюлюкала. Одна из спасоносиц прогнулась на каменном ложе, и вопль её разорвал воздух над площадью на куски. Между раскоряченных, зажатых в тиски ног шевелилось и мяукало крошечное нечто.
– Надо подождать, пока вторая освободится, и только потом говорить, – жрец склонился над ухом Главного Смотрителя Храма, белые клобуки слились в причудливом объятии. – Иначе люд будет недоволен. Поползут слухи. Надо подождать.
– А что говорить? – старческий фальцет неприятно дребезжал. Жрец поёжился, и изумруд вздрогнул, тускло сверкнув.
– Великий Старец не дал знамения…
– Знамение! Знамение!!! Знамение!!! – гул нарастал, становился громче, переходил в вой. Жрец поднял голову и обомлел. Толпа падала на колени, кто-то бился головой о камни мостовой, кто-то лежал ниц… Клобук свалился с бритой головы от слишком резкого поворота. Два пальца машинально взлетели ко лбу в ритуальном жесте. Великий Старец рыдал. По потертой позолоте щек текли сияющие слезы, а из капризно изогнутого рта вырывались спирали дыма и огня.
– Знамение!!! Знамение!!!
– Знамение!!! – задребезжал над площадью фальцет, и люди бросились вперед, чтобы коснуться Спасителя и Великой Валиде. Жрец кивнул охранникам, и те быстро окружили каменные ниши, где лежала ликующая Марго и корчилась в схватках ничего не понимающая Марта.
– Больше не могу, – Весэль с трудом балансировал на хрупкой лесенке.
– А больше и не надо. У меня тоже всё пиво внутри закончилось, – Шалийка подмигнул и застегнул штаны. – Сваливаем.
Весэль затянул на поясе веревочку и стал осторожно спускаться. Внизу их уже ждал Кривоносый с ещё горящим факелом.
– Тебе здесь лучше больше не появляться, певун, – Кривоносый навис над Весэлем, помахивая перед его носом клинком.
– Да оставь ты парня, – Шалийка присвистнул, прошелся в чечетке. – Ох ты молодец, моя Маргоша! Сына родила!
Они прошли мимо связанных служек, выйдя из боковой двери, слились с бушующей толпой. Весэль нырнул в переулок и дал дёру. Пробежав пару кварталов, встал, немного отдышался и вдруг начал хохотать, громко и радостно. Город шумел. Люди встречали своего Спасителя.
* * *
– Придушу, стерва! – полумесяц истерично болтался из стороны в сторону.
– Да ладно? Великую Валиде? Придушишь? Не смеши. Давай уж договоримся полюбовно. У тебя своя песня, у нас своя, правда, милый? – Марго нежно взглянула на Шалийку, недоуменно разглядывавшего себя в зеркале. На руках у карманника посапывал курносый малыш. – Я тебе мешать не стану. Будешь Главным Смотрителем. Хочешь храмы строй, хочешь – себе дворцы. А нам много не надо… Ключик от казны да прибылей ваших половину…
– А не жирно ли… – жрец осекся под недобрым взглядом Кривоносого. – Спаситель – сын шлюхи и вора! Что творится с этим миром?
– Ну, ну… – Шалийка счел нужным вставить слово.
Жрец встал, надел капюшон.
– Постой-ка… – Марго аккуратно вынула изумруд из волосатого уха. – Ты себе алмазный справишь с жертвоприношений. Теперь рекой потекут, я уж знаю.
* * *
Марта вытерла ладонью пот со лба и остановилась передохнуть. Можно было послушать Марго, и ехала бы сейчас дочка бакенщика на шестерке вороных с ветерком. Из города она вышла ещё с утра, провожаемая уважительными взглядами. А как же… Названная сестра самой Валиде! Большая корзина, заботливо прикрытая кружевами, захныкала. Марта откинула уголок, долго глядела на сына, улыбаясь одними глазами.
– Ну, ты и ходок, запыхался бежать, – Весэль шлёпнулся рядом с Мартой на траву. Осторожно снял с плеча мандолину, положил на колени…
– А кто заставлял-то?
– Да так. Никто. Передать просили… – на пальце музыканта покачивался шнурок с зелёным драгоценным полумесяцем.
– Передал, так ступай… Скатертью дорога… – Марта старательно прятала покрасневшее лицо…
– Хочешь, я тебе… вам… всю жизнь песни петь буду, а? – у Весэля подозрительно дрожал голос. – Тебе же вроде тогда понравилось…
♂ Дилемма 4 Светлая фигура Алексей Провоторов
Кровь застывала на щеках, стягивала кожу, склеивала веки. Нелл вытирала её левым запястьем, но ни руки, ни лица не ощущала.
– Сейчас, – шептала она пересохшими губами. – Сейчас. Сейчаа-а-с…
Слова выходили с облаками пара, розовым инеем оседали на окровавленных ресницах. Нелл дышала сквозь зубы, обжигаясь ледяным воздухом, пока солнце, невидимое за громадой корабля, проваливалось в пустоту. Сознание Нелл тоже собиралось соскользнуть за край. Оно представлялось ей самоубийцей, сидящим на парапете небоскрёба. Нерешительным самоубийцей, который сам толком не знает, что сейчас сделает – чуть наклонится вперёд и отправится в короткий смертельный полёт, или перебросит ноги обратно на крышу, спустится к лифту и пойдёт в кафе пить горячий чай.
Горячий?.. Осталось ли в мире что-то горячее? В этом – точно нет, отстранённо подумала Нелл, наклоняясь и шаря руками в мокром снегу, исполосованном струями гидравлического масла.
Винтов не было. То ли замёрзшие руки не могли их почувствовать, то ли Зигварт зашвырнул их куда-то далеко. Крышка на кожухе гидравлики крепилась потайными винтами с плоской шляпкой, и в ремком-плекте их не имелось.
Нелл разогнулась и выдохнула. Мороз крепко сжал шею и начинал продирать когтями по спине. Пальцы ног находились где-то в другой галактике и сигналов не подавали.
Нелл неуклюже подхватила шприц-баллон, тяжёлый, чёрный. Руки были как манипуляторы. Она потеряла сорок минут, починяя перерезанные Зигвартом шланги, наращивая длину за счёт внутреннего запаса, о котором Зигварт мог и не знать. Всё-таки диплома ремонтника у него не было.
Нелл вставила шприц-баллон шестигранной мордой в гнездо, едва удерживая его на весу, навалилась телом и надавила на спуск.
Она не чувствовала пальцев и так и не поняла, что нажала на крючок слишком резко. Масло под давлением хлынуло в систему, отдача поршня толкнула Нелл, тяжёлый баллон ударил под рёбра, и багровое небо навалилось на неё, прижав к синему снегу.
Она не смогла подняться, пока не перекатилась на живот. Какую-то секунду она подумала над тем, чтобы минуточку полежать, и эта мысль так испугала её, что она вскочила на ноги рывком.
Толстый серый комбинезон с оранжевыми полосами уже не грел. Ледяной воздух обжигал глотку, дышать становилось невозможно.
Она подняла металлическую крышку, слегка погнутую. Вставила защёлки в пазы, нажала. Без болтов держаться не будет, подумала она. Не будет, и всё тут.
Горло саднило. Пора было убираться из-под открытого неба. Оно почернело, едва-едва отзываясь на угасающий закат белёсыми сполохами инертных газов где-то на большой высоте. Огромная тень «Паладина» накрывала и её, и искалеченный экзоровер.
Она достала из кармана моток липкой ленты, крест-накрест заклеила крышку, прошлась по периметру.
Клей замерзал, скалывался и сыпался на снег. Нижние полосы ещё как-то приклеилась, верхние почти не липли. Правда, масло в системе при рабочей температуре не должно было замёрзнуть даже со снятой крышкой. Хотя…
Мороз крепчал. Ночь наступала, сжимала планету в сухой и холодной руке, до треска. К полуночи похолодает настолько, что выводимый системами экзоровера углекислый газ начнёт выпадать снегом.
Сейчас было где-то минус тридцать пять, и температура продолжала падать.
Хорошо, что Зигварт не додумался бросить пиропатрон внутрь, иначе она уже ничего не починила бы. Хватаясь бесчувственными руками за приваренные к корпусу дуги, Нелл взобралась на метровую высоту и, извернувшись, втиснула своё тело на место пилота.
Ноги скользнули в углубления, бёдра нашли опору, с тихим клацаньем металлические дуги пошли вниз, и тело Нелл, опустившись, утонуло в термоизолирующей ткани внутренней обшивки.
На их корабле было три экзоровера. Третий, которым ни разу не пользовались, стоял опломбированным в грузовом трюме. С тех пор, как капитан вышел из строя, ключ хранился где-то у Фила, доктора, в сейфе. Фил править экзороверами не умел, и ждать, что он придёт на выручку, не стоило. Он не пришёл бы, даже если бы и умел, подумала Нелл.
Маска воздушного фильтра. Нужно просто спрятать лицо в воротник и подключить воздуховоды. Готово.
С огромным нетерпением, с нервной дрожью она утопила носком ноги педаль старта двигателя. Секунду ничего не происходило – сегодня как никогда она боялась этой секунды, – а потом экзоровер ожил. Тихо зашипела пневматика, подстраиваясь под изменившееся к ночи давление; замигал оранжевый светодиод обогрева, коротко прожужжали механизмы, распределяя массу.
На плечах, светлые, словно праздник, зажглись двойные фонари, заворчали редукторы, опуская щиток, закрывающий голову и грудь. Скептично цокнула пневматика, герметизируя швы. Чужая планета осталась снаружи.
Нелл охватил озноб. Холод покидал её тело, медленно, нехотя, но покидал. Пот потёк по шее, по животу и лбу. Нелл замутило, но это была приятная муть.
Застонав в голос, она нашла кнопку инъектора, быстро нажала на неё два раза и, секунду спустя, ещё раз, подтверждая выбор. Тупой ощутимый укол в ягодицу, и димиксин поступил в кровь. Фенамин, кофеин и прочее.
Полегчало секунд через тридцать. Голова очистилась, глаза зачесались ненадолго и перестали, дыхание выровнялось. Она покрутила головой, разминая шею, и сосредоточилась на приборах.
Топливо. В норме, конечно. Реактор вполне новый. Он ещё и её переживёт… Нет, плохая мысль. В норме – и достаточно.
Электрика. Механика. Порядок.
Вентиляция. В норме.
Гидравлика. Общее падение давления на семь единиц. В пределах критических отклонений.
Приборы смазались перед глазами, неоновые ободки и светодиодные огни поплыли, фосфорная маркировка стрелок канула в темноту, и на секунду ей показалось…
Что она лежит щекой на жёстком снегу, и её глаза смотрят в горизонт. Горизонта не видно, потому что темно. Темно и холодно.
Она мотнула головой, и изображение встало на свои места.
Отопление. Норма. Кожа, конечно, болит местами, но система знает своё дело и не нанесёт вреда её замёрзшему телу.
Правда, кровь из ссадины на лбу начала оттаивать и стекать к бровям. Нелл утёрла её о плечо. Откуда у неё ссадина, она помнила смутно.
Навигация. Ошибка. Точное позиционирование невозможно.
Конечно, невозможно, подумала она. Зигварт выдрал внешнюю антенну с корнем. Сильный приёмник-передатчик работал безукоризненно, прямо сейчас. Но без внешней антенны, экранированный мощной защитой корпуса, он не способен был ни принимать сигналы, ни подавать их.
Правда, если Зигварт надеялся, что без навигации ей не добраться до корабля, то он ошибался. Она всегда изучала карты перед выходом, а он оставлял всё на откуп автоматике.
Жаль, подумала она, никто не знал, чем это обернётся. Изморозь… На это никто не рассчитывал, и поэтому четвёртый слот аптечки был пуст. Поэтому у них не было с собой станнеров, поэтому термический заряд у каждого был только один.
Поэтому она должна была спешить.
Вздохнув, в бесплодной надежде, она всё-таки нажала на кнопку инъектора четыре раза и, выждав пару секунд, ещё один.
Ничего. Сухой щелчок разочарования. Впрочем, не очень сильного – она знала, что аптечка экзоровера не заряжена тетрамиксином. Оставалось только надеяться, что она успеет.
Нелл обхватила рычаги управления и подала питание на приводы.
Экзоровер послушно повторил её движение, и Нелл, переставляя ноги, словно на тренажёре, зашагала вперёд, надёжно укрытая внутри металлического голема.
Темнело. Ледяной наст поверх многометрового снега, укутавшего вечную мерзлоту LOI-5378, выдерживал почти трёхтонную массу машины. Багровая, злая полоса заката растворялась в синеве. Высоко над головой, бледные, жемчужные, как одеяния призраков в старом кино, колыхались невыразительные полосы инертного газа – скупое полярное сияние.
Сначала Нелл шла по следам, потом цепочка чужих отпечатков стала отклоняться вправо, в низину. Правильно.
Ей не нужно было туда. Не сворачивая с прямой, она пошла в гору, туда, где местность повышалась, упираясь в итоге в скальную стену.
…На секунду ей показалось, что…
Она лежит на боку, силясь опереться на руки, и её щека примёрзла к снегу. Воздух в лёгких кончается, она пытается вдохнуть ещё порцию, но снаружи его нет. Пытается закрыть глаза, и застекленелые слёзы трескаются на нижних веках. Впрочем, глаза…
Нелл сморгнула, голова медленно кружилась, неоновая подсветка приборов давила на мозг цветными кругами. Она вдохнула поглубже. Потом передвинула ползунок подачи кислорода, увеличивая его долю в дыхательной смеси, и чуть снизила температуру обогрева.
Наверное, я засыпаю, подумала она.
Левая нога уже стала уставать. Спустя несколько минут Нелл осознала, что ей приходится прилагать усилия, чтобы переставить её. Она увеличила нагрев корпуса, но это ничего не дало, только добавился какой-то странный шуршащий скрип по левую сторону.
Потом идти стало совсем невозможно. И, с замиранием сердца слушая шум в механизмах, Нелл поняла, что холод всё же добрался до шарнирного узла и вцепился во всесезонную синтетическую смазку.
Проклятый богами Зигварт, проклятая Изморозь и трижды проклятая унификация.
Экзоровер не был рассчитан на работу исключительно в арктических условиях, и поэтому смазка по умолчанию применялась универсальная. Та, которая и в сухой жаре Laplas-640, и в ацетиленовом тумане LOI-0002 должна была работать безукоризненно.
А вот ледяной ветер LOI-5378 вывел узел из строя.
Махина встала. Левая сторона больше не двигалась. Смазка замёрзла окончательно.
А чтобы отогреть её, ей придётся выйти наружу.
Она посмотрела на датчик температуры за бортом.
Минус шестьдесят.
– Тихо, Нельма, тихо. Это быстро, – сказала она себе. Закрыла глаза, успокаиваясь.
На секунду ей показалось, что…
Она поднимается на ноги, и ткань на коленях и локтях хрустит и едва не ломается. В голове…
Нелл открыла глаза в кабине экзоровера и резко вдохнула.
Но в следующую секунду ей опять показалось, что…
Она, медленно переставляя ноги…
Идёт…
К экзороверу…
Завалившемуся на левый бок.
Нелл испуганно зарычала и замотала головой. Странное ощущение ушло, но осталась ещё какая-то картинка, совсем другая, тающим отпечатком в мозгу:
Мощные пневмоножницы в руках, обхватившие трубку гидравлической системы, и вмятина под лезвием.
Именно так, подумала она. Так и должно было это выглядеть глазами Зигварта. Приходилось ли ей делать такое? Нет. Но мозг нарисовал всё вполне чётко.
Когда они заходили в тёмный просторный шлюз «Паладина», она сжимала что-то в руке. Инструменты, да, скорее всего они поднимались на борт с инструментами, как и полагалось по инструкции. Но воспоминание не давалось, дрожало, словно марево, и Нелл отпустила его.
Ей необходим был тетрамиксин.
А для этого надо было добраться до «Королевы Мэб», и сделать это в ледяную ночь без экзоровера было невозможно.
Высвободив правую руку в тесноте ровера, Нелл сжала кулак и укусила себя за костяшки. Вдохнула тёплого воздуха и нажатием кнопки откинула передний щит.
Морозная ночь ворвалась в кабину вместе с ветром и рванула её в свои объятия.
На секунду ей показалось…
– Нет, – сказала Нельма.
Но…
На секунду ей всё же показалось…
Что она стоит возле экзоровера, положив онемевшую ладонь на стальной кожух машины.
Видение ушло. Осталось только фантомное ноющее ощущение в руках.
Она натянула капюшон и спрыгнула на снег.
Было адски холодно.
Дышать можно было только чуть-чуть, неглубоко. Хотелось прикрыть нос воротником, но она знала, что пар в таком случае превратится в лёд, и вдыхать она будет уже через ледяную прослойку.
Ну и ладно. Всё равно в электрическом свете было как будто теплее – мозг обманывал тело, как мог. Нелл вспомнила прошлое рождество, тёплый круг уличного фонаря, красные полосатые ленты на коробках с подарками.
Она обошла вокруг ноги ровера. Так и есть. Клей на ленте не выдержал мороза, а защёлки не перенесли движения. Доступ к гидроузлу зиял темнотой проёма в гладком металлическом бедре машины.
Нелл нырнула под опору, к подвесному боксу с инструментами. Там же, в техническом пазу, пристёгнутая к внутренней стороне бедра, висела горелка.
Она моргнула, приглядываясь после яркого света. Ветер дул прямо в лицо.
Было страшно, что застынут глаза, хотя она знала, что у них отличное кровоснабжение, а натрий, калий и хлориды внутри не дадут им замёрзнуть, но всё равно холод был жуткий, и очень легко было представить, как глазные яблоки стекленеют, как по ним идут трещины, и они высыпаются ледяной пылью на вечный безразличный снег. Замерзало всё, замерзали, казалось, корни зубов в дёснах, лоб и подбородок занемели, словно гипсовые, пальцы не болели и не ощущались в принципе.
Горелки не было.
Она не поверила и потянулась рукой к пустым креплениям.
Не было.
Она выдохнула. Дыхание сопровождал слабый шум, тот самый «шёпот звёзд» – тихий шорох осыпающегося замёрзшего дыхания. У неё на родине никогда не бывало настолько холодно, хотя она была родом с Севера.
Она закрыла глаза.
И…
На секунду ей опять показалось…
Что она стоит где-то не здесь. Словно в детстве, когда играешь в догонялки с завязанными глазами, обнаруживаешь себя совсем в другой части комнаты, чем ожидала…
Она явно стояла в нескольких шагах от экзоровера, а не прижималась к опоре.
В жутком испуге она открыла глаза и обнаружила себя всё там же. У ноги стынущего на ветру ровера.
А в мозгу отпечатком осталась картинка: горелка с чуть закопчённым металлическим стволом, сжимаемая за рукоять, и округлый чёрный баллон, торчащий вниз, как рожок автомата.
Так оно и должно было быть, мрачно подумала Нелл. Значит, Зигварт забрал и её горелку. Что ж, умно. Странно было только, что он не выжег её экзоровер изнутри. Или хотя бы не попытался – пламя горелки система пожаротушения ещё смогла бы перебороть, а вот пиропатрон – уже нет.
Но об этом можно было подумать потом. А сейчас ей нужен был этот самый пиропатрон.
Она отстегнула красный ящик, вытащила его на свет. Руки слушались не лучше, чем приводы испорченного ровера.
Она вытащила из-за пазухи ключ, вскрыла ящик. Зигварт, видно, пожалел на это времени.
Ракетница, сигнальная красная ракета, зажигалка и пиропатрон лежали на месте, каждый в своём углублении.
– Одна проблема, Нельма, – прошептала Нелл сама себе, одними губами. – Как ты собираешься этим воспользоваться?
Вопрос был логичный. Если горелкой она вполне могла бы отогреть узел за пару-тройку минут, то пиропатрон – вещь гораздо более сильная – справился бы за несколько секунд.
Заодно расплавил бы трубопроводы, сжег проводку и накалил корпус, который мог и не выдержать резкого перепада температур.
Нелл поняла, что отморозит себе всё, если и дальше будет торчать на этом ветру.
… И на секунду ей показалось, что она стоит на коленях…
…В отблесках затухающего пламени.
Бросив коробку в снегу, она, загребая ногами, неуклюже подбрела к роверу и, потратив минуту, влезла внутрь. Кабина ещё не остыла. Блаженное тепло обняло её…
… И на секунду ей показалось…
– Ничего не показалось! – хрипло крикнула Нелл. Горло тут же перехватило, но ей полегчало. Совсем немного тепла, но оно позволило ей собраться.
Не закрывая щитка – она боялась, что потом просто не сможет заставить себя вылезти обратно, – Нелл запустила моторы и отрегулировала амортизаторы левой стороны на минимум жёсткости, а потом за счёт движков правой наклонила ровер на левый бок, отпустив все фиксаторы.
Машина заурчала и осела, насколько позволили гироскопы и закоченевшее бедро. Нелл, не раздумывая, с протяжным стоном одним рывком выбросила своё тело обратно в морозную ночь.
Снаружи за минуту, проведённую в ровере, стало ещё холоднее. Механический скафандр сломанной скособоченной марионеткой стоял в снегах, подогнув левое колено.
Начинал сеять редкий снег.
Она взяла зажигалку, щёлкнула кнопкой. Подожгла простой, классический короткий шнур пиропатрона. У того была чека, но ей так было понятнее.
Потом она положила его в снег, в двух метрах от экзоровера.
Может быть, она двигалась слишком медленно, потому что замёрзла, но, отступив на несколько шагов, отвернуться она уже не успела.
Пиропатрон вспыхнул, она зажмурилась, прикрыв глаза рукой, и, оступившись, упала в снег.
Наверное, она всё-таки на минуту отключилась, не заснув окончательно только чудом.
Она открыла глаза и посмотрела в горизонт. Горизонта не было видно, потому что было темно. Темно и холодно. Она ещё могла чувствовать холод.
Она лежала на боку, силясь опереться на руки, и её щека примёрзла к снегу. Воздух в лёгких кончался. Она попыталась вдохнуть новую порцию, но снаружи его не было. Она попыталась снова закрыть глаза, и застекле-нелые слёзы растрескались на нижних веках.
Она поднялась на колени и локти, и ткань комбинезона затрещала, едва не ломаясь.
Шатаясь, она встала на ноги и медленно пошла к экзороверу, чувствуя себя будто во сне. Галлюцинации, беспокоившие её по дороге, словно поменялись местами с тем, что казалось ей реальностью, а теперь отступало на задний план. Эти чужие воспоминания оказались её впечатлениями, а дорога от «Паладина» до этой точки, с такими подробностями пронесшаяся в её мозгу – всего лишь ярким воспоминанием, которое явилось ей, пока она лежала без сознания в снегу чужой планеты.
Она сухо всхлипнула. Ей нужен был тетрамиксин. Всего одна, промаркированная пурпурным, ампула. И как можно скорее.
Она с ощутимым трудом забралась наконец в кабину, невидящим взглядом оглядела долину. Никого. Изморозь осталась далеко отсюда, если только она не успела вдохнуть её. Ну и, конечно, часть её выбралась из мёртвого корабля вместе со сволочью Зигвартом.
Она вдруг испугалась этой ночи, этих тысяч квадратных миль пустоты и тихой, ползучей чужой жизни, которую она успела вполглаза заметить там, на переборках «Паладина».
Судорожно тыкаясь рукой в складки ткани, Нелл застонала от невозможности ощутить, что она делает. Деревянные пальцы не слушали сигналов мозга.
Дышать было уже нечем. Нос заложило, она вдохнула ртом, но воздух лишь обжёг, не дав, казалось, ни капли кислорода. Она запаниковала, в страхе погибнуть на самом краю спасения. Она просто не успевала закрыть дверь, добравшись до безопасной хижины, и старый волк зимы поставил на порог свою лапу.
Бог знает куда она ткнула бесчувственной ледышкой руки, но с тихим вздохом и бесконечно родным ворчанием редукторов щиток начал опускаться.
На секунду она увидела пламя, яркое пламя, пожирающее внутренности распахнутой кабины экзоровера, и чёрные щупальца копоти, расползающиеся по чистой белой эмали.
– Нет. Никакой. Фигни. – Нелл произнесла это раздельно. Защёлки корпуса сомкнулись, закрывая её от враждебного мира, вздохнула герметизация, свежий, в меру тёплый воздух хлынул в её лёгкие, и она поплыла.
Зрение смазалось, размёрзшиеся слёзы смешались с новыми и обильно потекли по щекам, а с ними и влага из носа. Замутило, горло сжал спазм, закружилась голова.
Зигварт. Злость вдруг подействовала не хуже димиксина. Она сжала кулаки на рычагах управления, чувствуя покалывание в пальцах правой руки, где-то глубоко под кожей. Левая сейчас не ощущала почти ничего.
Нелл поняла, что оставила в снегу и зажигалку, и ракетницу с сигнальной ракетой. Но при мысли о том, чтобы ещё раз выйти из тёплого ровера в этот мороз, она замотала головой. Хватит с неё. Так можно было и вправду не вернуться.
Кстати, мороз, подумала она. Сколько там, снаружи?
Она посмотрела на датчик термометра и содрогнулась. Минус шестьдесят семь.
Она сжимала и разжимала пальцы рук и ног, мучаясь от ужасного ощущения затёкших, постепенно оживающих конечностей, целых сто секунд, пока не почувствовала, что кровообращение восстановилось. Потом осторожно повела ногой.
Ничего.
Отчаяние, тёмное, как лёд над глубиной, захватило её. Недостаточно. Корпус прогрелся недостаточно. А больше ей нечего было поджечь.
Потом она сообразила. Она же сама отключила всю левую сторону. Десять секунд операций с настройками, и ровер выровнялся. Она подняла левую ногу. Да. Механика работала, как и прежде.
Нелл вдохнула поглубже и зашагала к пролому в скалах, о котором Зигварт, скорее всего, ничего не знал.
Скалы выросли впереди, чуть наклонённые, острые, как старые, полуразвалившиеся башни чуждых соборов. Пурга закручивала спирали у оснований.
Разлом был неширокий, метров семь. Ровер завозился в наметённой снежной дюне, щербатые скальные стены проплыли мимо, и местность пошла вниз. Далеко впереди, на самом краю, у горизонта, Нелл увидела наконец яркую подрагивающую точку.
Корабль. Прожекторы её корабля.
Она замерла на минуту, всматриваясь в тёмную даль, в надежде увидеть движение – она надеялась, что Зигварт всё-таки не добрался ещё до «Королевы Мэб». Но видно ничего не было – может, он потушил прожекторы, а может, как она втайне надеялась, в его ровере тоже что-нибудь сломалось, и он остановился посреди вымороженной снежной пустыни.
Впрочем, мечтать было некогда.
– Вперёд, Нельма, шевели поршнями, – прошептала она и начала спуск по склону. Ветер, дующий в спину, гудел, огибая массивный корпус.
Она чувствовала себя не очень-то хорошо. В голове было как-то не то чтобы пусто, но уж точно не полно.
Сколько они с Зигвартом провели на борту «Паладина»?
Она не могла вспомнить.
Когда они получили сигнал о том, что «Паладин» лежит на LOI-5378, они отправились сюда как ближайшее ремонтное судно. Посадку совершили в тридцати километрах, как и положено по формуле: полтора радиуса прямого поражения при потенциальном взрыве реактора. А реактор «Паладина», будь он повреждён, при детонации выжег и разрушил бы всё в радиусе двадцати километров.
Состояние его невозможно было узнать, не поднявшись на борт, и инструкций никто не отменял. Неприятно было, конечно, что жизни ремонтников при этом могли пойти в расход, но…
Дилемму 1 в инструкции космонавта Корпорации рекомендовалось решать именно так. При выборе между безопасностью всех и безопасностью многих предпочтение отдавалось первому. Впрочем, каждый знал, что это выбор не между большим и меньшим злом, а между злом дорогим и дешёвым. Сколько бы ни стоил экзоровер, и даже два, потеря целого корабля ударила бы по бюджету конторы гораздо сильнее. Впрочем, Нельма внимательно читала контракт, прежде чем подписать его семь лет назад, так что жаловаться на условия ей и в голову не приходило. Тем более что за такие вылазки выплачивали двойной почасовой оклад плюс проценты к премиальным.
Да она уже и выбралась из зоны поражения. Яркая точка корабля была у самого горизонта, а до него, учитывая текущую высоту, было сейчас километров двенадцать.
Как Док решит Дилемму 4, вот что её волновало. В инструкции было полно всяких мутных ситуаций выбора, называемых дилеммами, но именно четвёртая касалась Изморози.
Как решил бы её капитан, она не сомневалась. А доктор Филс?..
Дойдём – узнаем, решила Нелл.
Она спустилась на равнину, и горизонт, сжавшийся до трёх тысяч метров, опять спрятал от неё корабль. Впрочем, светлая отметина прожекторов осталась.
Посыпался снег. Нелл поёжилась, глянув на термометр: минус семьдесят девять. Это вымерзал в осадок углекислый газ.
Ночь выдалась действительно холодная. Нелл прибавила мощности и внутренним, и внешним обогревателям. Левую часть опять начало прихватывать, в бедренном шарнире появился сухой неприятный шум.
Я устала, подумала Нелл, прикрывая глаза.
…И опять…
Ей показалось, что она стоит, сжимая в руке что-то тяжёлое. В отблесках огня ей в спину дует тёплый ветер.
Тёплый? Здесь? Она не оборачивается, чтобы посмотреть, что там. Она знает. И ей нравится то, что она знает.
Солнце светит на снег, пот заливает глаза, но массивную фигуру экзоровера не увидеть невозможно.
Когда это было? С кем? С ней? Почему она ничего этого не помнит?
Нелл задушила подступившие слёзы и повела ровер дальше. Она боялась открытого огня, и он иногда снился ей в кошмарах.
Нет, лучше не вспоминать. Рёв закручивающегося пламени, треск горящих композитов и захлебнувшихся антипиренов, яркий, стремительный жар. Возгорание на космической станции.
Как же мучительно долго отрастали потом волосы.
Нелл мотнула головой, отгоняя страшные воспоминания. Появилась из-за горизонта слепящая точка носового прожектора, медленно, но верно вырастая в размерах, и через какое-то время сквозь танцующий снег Нелл смогла рассмотреть силуэт «Королевы Мэб».
Дошла. Нелл вдохнула глубже, выдохнула. Попробовала вызвать корабль напрямую, но без толку.
Нелл крепче сжала пальцы на рукоятях.
Скоро она поняла, что техника опять сбоит. Вернулся противный скрип по левому борту, и всё тяжелее было подавать повреждённую ногу вперёд. Поднималась метель.
До корабля оставалось не больше пятисот метров. Огни рубки, фонари у шлюза – белый и оранжевый; бьющий в небо прожектор. Четыре дюзы, нависшие над землёй, стройные опоры, приподнятый нос. Около сотни метров длины. Не такая уж и большая, её королева фей. «Паладин» был раза в три больше.
Что-то стояло недалеко от опоры, присыпанное снегом. Что-то очень похожее на экзоровер.
Значит, Зигварт опередил её.
Странно, что он не загнал ровер в ангар. Ну да ладно, с этим она разберётся позже.
Она обнаружила, что не может поднять левую ногу. Левая рука ещё двигалась, хотя и очень нехотя.
Опять смазка, подумала Нелл. И больше мне нечем её отогреть.
Она вдохнула поглубже. И откинула щит.
Выпрыгнула наружу, в обжигающий холод. Подскочила к бедру, лишённому кожуха. Озноб пробрал её, помимо холода.
Внутри узла всё выстилал колючий иней. Проклятое масло из ремкомплекта тоже оказалось слишком уж всесезонным. Мороз перехватил трубки, в которых бегала некогда горячая жидкость; смазка, наверное, тоже сдалась. Зигварт всё-таки доконал её экзоровер.
Она поплотнее натянула капюшон, зная, что наибольшая потеря тепла происходит через голову. Вдыхать было практически нечего, как будто она уткнулась лицом в ледяную полынью. Она выдохнула то, что оставалось в лёгких. Дыхание осыпалось вниз видимым облачком пыли.
Она сунула руку за пазуху, вырвала почти плоский пакет. Дыхательная маска. Развернуть, натянуть на бесчувственное лицо.
Ветер резал ножом, углекислый снег летел в глаза, и она сгорбилась, отыскивая во внутреннем кармане плоский баллон дыхательной смеси. Штекер в гнездо. Повернуть. Пробить мембрану. Дышать.
Дышать!.. Полчаса жизни в металлической оболочке. Она застегнула молнию на груди почти до конца, когда сломался язычок. Не важно. Залезла под капюшон, содрала резинки с хвостов, закуталась в собственные волосы, как могла. Руки она спрятала в рукава. Ветер, дувший раньше в спину, теперь толкал в бок, снег, незаметный для экзоровера, достигал середины голени.
Она побежала, высоко поднимая ноги. Не слишком активно, чтобы не выдохнуться на половине дороги. Бок занемел почти сразу. Она подумала, что не глянула на термометр перед выходом. Но это было не важно.
Прожекторы экзоровера били в спину. Она не выключала его и свет не гасила. На всякий случай. На всякий. На тот, если Зигварт встретит её у шлюза с огнемётом. Хотя это вряд ли. Глациат… Изморозь… Изморозь так быстро не действует.
Главное – тетрамиксин. Может, доктор уже вколол ему дозу, может быть, уже всё в порядке. Может быть…
…Может быть, этот манипулятор, тараном бьющий её в плечо – последнее, что она видит?
Колени её подогнулись, она упала в снег. Она закричала бы, если бы не маска.
Она что-то неправильно понимала. Что-то было не так. Она вроде бы не могла вдохнуть достаточно Изморози, чтобы симптомы были такими яркими. Или могла? Она помнила трещину в стекле, ярко-голубую от живого ледяного узора, ломившегося к ним через прозрачную армированную панель. Помнила углубляющуюся плоскость разлома в её сантиметровой толще, туго закручивающийся угловатый рисунок, теряющий прозрачность.
Помнила руки Зигварта, хватающие её за поясницу. Он хотел швырнуть её вперёд, чтобы закрыться. Грамотная тактика. Но она сложилась пополам на секунду раньше и бросила его через себя. Нет, она не собиралась им прикрываться – просто, когда он вскинул руки, она успела понять, что сейчас будет.
Стекло лопнуло, морозный вихрь ворвался в помещение, и она выскочила из него, так и не выпустив бокса с инструментами из руки.
А дальше?
…А дальше… Когда она отцепила горелку…
Нет, нет, нет! Никакой горелки не было, даже замёрзшую смазку она отогревала пиропатроном, это Зигварт унёс её горелку!
…Нагретый металл в руках и метровый язык пламени…
Нет. Она с усилием разогнула ноги, стараясь идти дальше. Пока что получалось. Она подняла голову и увидела, что не прошла ещё и трети пути. Господи, доктор, что он тебе сказал? Почему ты меня не встречаешь?
Могло ли быть, что он тоже не был заражён?
Могло. Что угодно могло быть. Всё могло быть.
Она брела вперёд. Ветер буквально выдувал из неё тепло. Комбинезон, если не примёрз ещё к коже, то лишь потому, что на ней была шерстяная поддёвка. Она ощущала себя угольком на ветру: погорит-погорит ещё немного, да и погаснет. Последняя искорка тепла осталась где-то внутри, глубоко в теле, в районе солнечного сплетения. Дышать было тяжело. Выдыхать почему-то совсем невозможно.
Это фильтры замерзают от влаги, вдруг поняла она. Голова кружилась. Она шла, шла и шла.
Внезапно ужас, мохнатый, непроглядный, накрыл её и остановил.
А вдруг я иду не в ту сторону? Вдруг не туда? Нелл разлепила смёрзшиеся веки.
Корабль чернел впереди. Почти рядом. Через снегопад и нереально прозрачный разрежённый воздух трудно было оценить расстояние. Сто пятьдесят метров? Сто? Восемьдесят? Впрочем, до брошенного экзоровера, стоявшего у неё на пути, было куда ближе. Метров тридцать-сорок.
Она закрыла глаза и пошла. Не очень-то понимая, как ей удаётся шагать.
…Распахнутый шлюз «Паладина», снег до горизонта и два целых, нетронутых экзоровера, припаркованных у входа…
Она отмела картинку и сделала шаг, и тут же мир наклонился, и она опустилась на бесчувственные колени. Встать уже не было сил. Экзоровер Зигварта стоял метрах в пяти сбоку, отключенный, с распахнутым щитком. Следы, если и были, уже замело. Механический скафандр был тёмен и, как показалось ей, чем-то испачкан. Она даже не стала над этим задумываться. Просто поползла дальше, на коленях.
Упала лицом в снег. Тело не слушалось.
Она понимала, что до корабля осталось всего-то с полсотни шагов. Но преодолеть их не могла. Холод победил. Нереальный, нечеловеческий, смертельный холод. Она никогда такого не испытывала. До того самый сильный мороз, который она ощущала, был почти дома, в окрестностях Турку.
Тот мороз был интересный. Могучий, но безопасный. Этот убивал.
С удивлением она обнаружила, что ещё как-то идёт. Переставляет ноги. Когда и как она успела встать?.. Ладно. Это хорошо. Хоть что-то хорошо.
Покачиваясь, приближалась громада корабля, стальные ворота шлюза, чёрно-оранжевая полосатая окантовка, торец задвинутого пандуса. В смешанном свете белого и оранжевого фонарей стало будто бы теплее. Она понимала, что это просто ощущение, но поддерживала его, как могла.
Наконец огромный конус дюзы прикрыл её от ветра. Тот свистел между опорами, завывал в соплах, в кожухах амортизаторов, но уже не валил с ног. А ветер-то южный, запоздало сообразила она. Сил усмехнуться не было.
Нелл задрала голову вверх. Они стояли у обзорного окна, наклонённого над пандусом, бок о бок, и смотрели на неё. Зигварт и Филс, доктор.
Нелл медленно подняла руку. Помахала им, не чувствуя не то что кисти, а даже и плеча.
Доктор протянул руку за пределы поля видимости, раздался неприятный резкий щелчок. Он включил внешнюю связь.
– Нелл? Где твой экзоровер?
Нелл замотала головой, указывая на шлюз. Открой, открой, я же замерзаю, ты что, не понимаешь?
– Нелл?
Это невыносимо, подумала Нелл, невыносимо.
Она сняла маску, запоздало поняв, что та примёрзла к лицу, и, отодрав её, она, может быть, повредила кожу. Всё равно лица она не чувствовала.
Мороз обжёг слизистую где-то глубоко, заломило во лбу. Хоть что-то ещё сохранило чувствительность, устало подумала Нелл. Надолго ли?..
– Фил, открой.
– Что?
Она где-то нашла в себе силы выдохнуть второй раз.
– Фил, открой!
– Нелл, где ты была так долго?
Он что, издевается, подумала Нелл. Даже не удивившись отсутствию вопросительной интонации в своём вопросе.
Подняла маску к лицу, вдохнула. Рука гнулась плохо.
– Зигварт давно вернулся? – спросила она. Тихо. Она думала, он не услышит, и тогда она заорёт во всю оставшуюся силу и будет орать, пока не свалится бездыханной. Боялась, что и эта вспышка минует, сменится тупым равнодушием, и она, подогнув ноги к подбородку, уляжется калачиком у шлюза и будет замерзать, пока эти двое будут глядеть на неё.
У неё не было сил даже вернуться к роверу Зигварта. Странно, но ей не пришло в голову забраться в него по пути. Впрочем, раз Зигварт оставил его там, значит, с ним тоже что-то было не так.
…Пламя…
Она распахнула глаза. Фил что-то сказал, но она не услышала.
– Что? – спросила она. Теперь моя очередь, подумала Нелл, слабо усмехнувшись где-то внутри. За мимику лица она уже не отвечала.
– Час назад. Где твой ровер, Нелл? Что случилось?
– Впусти меня, – сказала она. – Впусти.
Вдох. Ледяной – воздух в баллоне совсем остыл.
– Нет.
Зигварт глядел на неё с высоты четырёх метров.
– Ну конечно, – сказала она. – Ты не впустишь.
– Нет. Если ты – Изморозь? Дилемма 4, Нелл. Ничего личного.
Дилемма 4 обычно решалась просто. Если ты подозреваешь полное заражение глациатом, то лучше по ошибке оставить умирать снаружи здорового, чем впустить захваченного Изморозью.
Это касалось тех случаев, когда тетрамиксин уже не мог помочь без последствий.
Если прошло слишком много времени.
Если старший офицер корабля не владел объективной информацией по обстоятельствам. А капитан лежал в ячейке медотсека, в криогенной коме, с тех пор как упал с трёхметровой высоты при двух g, и Фил формально являлся старшим. А он точно ничем не владел.
– Ты дал ему тетрамиксин, док? – спросила она, удивляясь, что её челюсти ещё шевелятся. Видно, в безветренном пространстве, возле корабля с его отоплением и вентиляцией, было чуть теплее.
– Ему? – Фил замешкался, и она побоялась, что он сейчас ответит «нет». – Он уколот.
Слава богу, подумала Нелл. Хоть на что-то у Фила хватило ума.
– А теперь впусти меня.
– Нелл, – снова Зигварт. – Ты знаешь, какая температура снаружи?
Она не знала. Знала только, что не выдержит больше и минуты. Тепло покидало её, окончательно покидало, и сознание вместе с ним. Силуэты смазались, свет поплыл паутинками, и…
…Вспышка…
– Удиви, – ответила Нелл.
– Минус восемьдесят пять. А ты ещё стоишь и разговариваешь. Дышишь. И шевелишь пальцами.
Вдох. Он был? Нет? По крайней мере, она его уже не чувствовала.
– А, вот оно что… Док, ты знаешь причину. Уж одной-то рукой я смогу шевелить ещё долго.
– Да, – Фил ответил не сразу, но подтвердил ответ кивком.
– Впусти меня.
– Нет, – вмешался Зигварт.
– Док?
– Нет!
– Зигварт, заткнись. Док, да?
– Нет!
– Да.
Рука доктора опять исчезла за краем стекла, где был пульт управления шлюзом, и створки медленно поползли в стороны. Хлынувший из расширявшейся щели свет был прекрасен, а сам шлюз казался райскими вратами.
Дошло до него, подумала Нелл. Док знал, что она покрепче, чем кажется. Зигварт – вряд ли.
Зажужжали приводы пандуса, металлическая плоскость вгрызлась в снег зубчатым краем, подмигнула Нелл бликами насечки. Нелл посмотрела вниз и обнаружила, что подошва её сапог крошится кусками.
Она поднялась на борт, и створки шлюза позади неё медленно сошлись.
Измученное холодом тело уже просто не могло ощутить долгожданного тепла. Она постояла десять секунд, ожидая, пока упадёт в обморок. Постояла ещё. С удивлением обнаружила, что не собирается падать. Шею, голову начало покалывать, как только она стянула капюшон. Пряди волос заиндевели, теперь она была частично бриллиантовой блондинкой. Ногти испугали её своей синевой. Колени дрожали. Пятьсот метров дались ей с таким трудом, будто это были пятьдесят километров.
Она осторожно наклонилась, упёрлась ладонями в колени. В тело как будто впились миллионы иголок, тонких, щекотных, тошнотворных иголок. Суставы закрутило. Тошнота, медленно, но верно зарождавшаяся в желудке, тронула солнечное сплетение, обхватила горло.
Нелл выстояла на слабых, оттаивающих ногах, борясь с ужасным ощущением под коленями. Расстегнула на груди комбинезон. Бежево-серая шерстяная поддёвка оказалась насквозь мокрой.
Она подошла к внутренним створкам шлюза как раз тогда, когда они открылись.
Зигварт. Высокий, худой, заросший щетиной. И доктор, с чемоданчиком в руках.
Она встретилась с Зигвартом взглядом. Глубоко посаженные его синие глаза показались ей ярче, чем обычно.
В голове пронеслись с бешеной скоростью воспоминания и те, другие картины: трещина в стекле, руки Зигварта, голубоватая Изморозь на переборке, слепящий наст, пламя, оранжевое гидравлическое масло, плещущее на снег, чёрный дым и запах копоти, лёд под её щекой, маяк корабля вдали, обжигающий ветер, лижущий бок.
Она сжала кулак, левой рукой схватив Зигварта за воротник, и замахнулась, чтобы ударить его в лицо.
Он её перехватил.
– Доктор, укол, – сказал он.
Она вырвалась, отшатнулась. Скорее от омерзения.
– Ох, док, только не здесь. Я хочу наверх.
– Конечно, – доктор кивнул. – Здесь нет никаких условий.
Было странно привыкать к тому, что свет и тепло здесь были в избытке. После долгих километров наедине с неоном, фосфором и синей тьмой она смотрела на светлые стены, мигающие диоды, мягкие потолочные лампы с каким-то детским удивлением. Она попала в сказку.
Пусть даже здесь был свой Петер Мунк, который уже не сможет отказаться от холодного сердца.
Зигварт.
События на «Паладине» она ему прощать не собиралась. Он никогда ей не нравился, но прикрываться ею от инопланетной формы жизни – это было уже совсем за гранью. Нелюдь и есть.
Кроме фигурального смысла слова, её сейчас волновал ещё и прямой. Она успела выскочить из помещения прежде, чем треснула переборка. Максимум, что могло на неё повлиять – продукты дыхания Изморози, сами по себе довольно галлюциногенные. Она не ручалась, что не вдохнула ни грамма заражённого воздуха там, при бегстве.
А вот Зигварт, которого она, защищаясь, швырнула через себя, мог вдохнуть полные лёгкие. Не только продукты метаболизма – саму Изморозь. Она действовала моментально. От неё невозможно было увернуться, как от снега, залетевшего через распахнутую в метель дверь.
Оставалось надеяться, что док действительно вколол ему препарат. Если только…
Когтистая лапа страха разодрала тёплую сказку и ударила по нервам, как по струнам. В принципе ведь и правда, прошло уже достаточно много времени для того, чтобы Изморозь подчинила себе Зигварта. А он вполне мог заразить дока.
И тут же она расслабилась. Просто устала, подумала она, плохо соображаю. Зигварт не мог вернуться раньше, чем час назад. А при заражении через носителя Изморозь за час не справится. Это за Зигварта она взялась напрямую и мгновенно, да и то, видимо, не подчинила его до конца, если укол так быстро помог.
Но тут Нелл поняла, что и здесь история не совсем вяжется.
Уколот, сказал Фил. Значит, он впустил его на борт и сделал укол. Почему он так колебался, впускать ли её? Потому, что она пришла позже? Или потому, что Зигварт наговорил ему чего-то? Странно, если он был достаточно сильно заражён глациатом, чуждой живностью, – а может, и не живностью, мнения разнились, – то не дал бы сделать себе укол, или же, получив дозу тетрамиксина против своей воли, сейчас переживал бы букет самых неприятных последствий, скорее всего лёжа в медотсеке. Да и что значит «против воли»… Доктора даже она одолеет, с Зигвартом он бы точно ничего не смог сделать, а тем более с заражённым. Изморозь – сама себе оружие и превращает в своё дополнительное лезвие каждую захваченную единицу.
Может ли быть, что ему досталось всё же меньше, а ей, исходя из всех странностей похода – с лихвой?
С тихим шумом белые двери медицинского отсека скользнули в стороны, и они вошли в проём.
Кушетки, кресло, стеклянные стеллажи в нишах. Стерильная чистота, металл и пластик. И тепло. Благословенное тепло.
Она ведь могла и не выдержать, подумала Нелл. Не починить экзоровер, не дойти, не убедить их открыть. Капитан Крамер, будь он на посту, а не в тёмной капсуле гибернации, не открыл бы ей входной шлюз, максимум – впустил бы в грузовой лифт для карантина, где и заблокировал бы. Но капитан никогда в жизни не пустил бы на борт и Зигварта, вернувшегося при таких странных обстоятельствах.
Ей так захотелось, чтобы неизбежные ребята из ELI провели свои проверки и отправились разбираться с «Паладином» сами, отпустив экипаж «Королевы Мэб» на все четыре стороны.
Впрочем, до этого надо было ещё дожить.
– Фил, вы уже с кем-то связывались?
Доктор посмотрел на неё как-то неловко.
– Нет, всё время, пока вас не было, я пытался связаться с вами. Ты знаешь сроки, до истечения которых беспокоить контору не рекомендуется.
– А последний час?
– Зигварт пришёл пешком, – извиняющимся тоном сказал доктор. – Его экзоровер вышел из строя в пятидесяти метрах от корабля.
– Максимум в тридцати. А я прошла пятьсот метров, и ты не захотел мне открывать.
Доктор вздохнул.
– Я…
– Доктор, давайте скорее сделаем ей укол.
– Заткнись, – огрызнулась она. Она просто изнывала от его присутствия. Странно, но ей было бы чуть легче при мысли, что это уже не совсем он. Тогда часть его невыносимо бесчеловечного поведения легла бы на глациат.
– Нелл, этот час ушёл у меня на медицинскую помощь Зигварту, на документирование его рассказа и попытки вызвать тебя. Ты не отвечала. Почему?
Он подвёл её к креслу, и она села. Блаженство. В пропасть Зигварта, Изморозь, мёртвый корабль, мороз и тряпку доктора. Сидеть. Тепло. Покой.
– Потому, – произнесла она, не открывая глаз, – что Зигварт выдрал мою антенну.
Она посмотрела из-под век, потому что ответом ей была тишина. Зигварт обвиняюще указывал на неё ладонью, глядя на доктора и всем своим видом словно спрашивая у него: «Ну, какова?»
– Ты тоже присядь, – сказал Фил.
Зигварт сел на подлокотник соседнего кресла с видом оскорблённого рыцаря.
– Итак, – сказал доктор. – Нелл, закатай рукав. Укол внутривенно.
– Спасибо, док. А ему, пожалуйста, внутримышечно что-нибудь. В зад. Магнезию там. И иглу возьми побольше. У тебя есть игла для крупных панцирных, Фил?
Нелл с удивлением обнаружила, что в тепле её наконец-то начало развозить. Сонная болтливость грозила захватить разум.
– Нелл, я ещё раз повторюсь… Хотя да, извини, я так и не договорил.
– Слушаю, кэп?
Доктор поморщился. Он напоминал большого робкого кролика в полосатой рубашке. Нелл вдруг почувствовала, до чего ей остохренел этот экипаж.
– Я не могу делать укол Зигварту. Он уже вколол себе тетрамиксин.
– Что? – Нелл почувствовала, что кресло под ней проваливается. – Что? Как, чем? Ты что, с ума сошёл?
Нелл вскочила с кресла, отступая к двери. Сонливость слетела, и она поняла, как ей на самом деле нехорошо. Ногти правой руки зудели невыносимо, тупая боль угнездилась в пальцах ног. Озноб никак не хотел уходить насовсем, иногда сотрясая её тело короткими приступами.
– Доктор, – сказал Зигварт, будто не замечая Нелл в упор, – сделай ей укол, пожалуйста. Скорее. Мы можем её потерять.
– Заткнись, скотина, – сказала Нелл. – Ты хотел мной закрыться. Это ты – Изморозь!
– Ты заражена, Нелл. Прямое заражение, плюс отравление продуктами жизнедеятельности. Ты можешь сама не помнить, но ещё час-другой – и ты полностью попадёшь под её контроль.
– Нет, – Нелл старалась держать в поле зрения Зигварта и Фила одновременно. – Тебе досталось больше.
– Мы вошли в кают-компанию «Паладина», и Изморозь сразу пошла к нам через стекло. Я рванул к дверям, ты – за мной. Стекло лопнуло. Тебе досталось больше. Мы дрались, Нелл. Ты испортила оба экзоровера, но один всё-таки мог двигаться. Мне ничего не оставалось, как уйти на нём.
Нелл молчала, покусывая нижнюю губу и испытующе глядя на него.
Он продолжил, со вздохом:
– Честно говоря, если ты – ещё ты, то я не понимаю, почему ты тянешь с уколом.
– Потому что ты слишком настойчиво его предлагаешь. А сам так же настойчиво отказываешься. И если уж я знаю, что Изморозь кинулась именно на тебя, то тебе я не доверяю. Жалко, поздно спохватилась.
– У тебя типичные симптомы заражения глациатом, Нелл.
– В таком случае где твои типичные симптомы воздействия тетрамиксина? Кстати, какие они вообще? – Нелл нахмурилась, закусив губу ещё сильнее. – Док, дай-ка инструкцию.
– Что? Сейчас… – как всегда, секундный мутный взгляд, а потом уже осмысленная реакция. На наркотиках он, что ли, подумала Нелл, принимая тонкий, сложенный вчетверо листок белой плёнки, которую док достал из недр чемодана.
– Я вколол тетрамиксин сразу, как только убрался на достаточное расстояние от тебя.
– Да ну? А ты в курсе, что аптечки наших роверов не заряжены сверх третьей ячейки?
Зигварт снисходительно улыбнулся. Его и без того кривой рот принял какое-то невыносимое выражение. Нелл поняла, что сейчас взбесится.
– Вообще-то, – подал голос док, – вообще-то, Нелл… Заряжены.
Мир покачнулся, а потом с сухим щелчком, похожим на звук пустого инъектора, стал на место.
– Что? – спросила Нелл.
Зигварт развёл руками, как бы повторяя: ну я же говорил. Фил потёр переносицу.
– В таком случае, – сказала Нелл, – в моём тетра-миксина не оказалось.
Уже произнося это, Нелл задумалась, вспоминая. Переохлаждение, стресс, спешка, димиксин. Бесплодная и глупая, в общем-то, попытка вколоть себе препарат номер четыре, дорогостоящий и редкий. На корабле он, конечно, есть. А вот найти его в аптечке экзоровера техобслуги шансы не выше, чем наткнуться на бронежилет в гардеробной комнате домохозяйки.
Но.
Она абсолютно не помнит, что было до того. Что вообще произошло там, у «Паладина» – между тем, как под напором Изморози лопнула переборка в стылой кают-компании грузовоза, и тем моментом, когда она обнаружила себя починяющей гидравлику ровера.
Она поглядывала то в инструкцию, то на Зигварта, беспокойно ёрзавшего на подлокотнике кресла, то на доктора с медицинским пистолетом. Док наконец решил хоть что-то сделать и теперь заряжал патрон с малиновым крестом.
– Откуда он в аптечке? – спросила она. – Почему? С каких пор, что он там делает, и почему я не в курсе?
– Ну… – док замялся, нервно перебирая капсулу пальцами. – На самом деле директива пришла уже больше недели назад… и я сразу зарядил все аптечки, а как же. Тетрамиксин, пентамиксин…
Нелл присвистнула, поглядывая в бумагу. Конечно, может статься, что её отрывочная амнезия связана с выделениями глациата, но…
– … Но, понимаете, вся эта история с капитаном… Я… Как старший по званию… Ну, я же медицинский офицер…
Терпеливо ожидая, когда док скажет что-либо полезное, Нелл отыскала взглядом строчку «Побочные эффекты».
«…Головокружение, судороги, психотические или параноидальные состояния… Парестезии, тревожность, спутанность сознания, энцефалопатия».
– …Я сделал всё по инструкции… Но, наверное… Я же сообщил перед высадкой, Зигварт, я, наверное, сказал тебе?
Док что-то ещё говорил, Зигварт недобро смотрел на Нелл. Та оторвала взгляд от листка, едва док закончил заряжать инъектор. Тот, матово-керамический и сияюще-хромовый, вызывал у Нелл нервную дрожь. Она не любила вида медицинских инструментов.
«…Нарушения памяти, нарушения восприятия времени, галлюцинации, позже – сонливость…»
– Зигварт, я же тебе говорил? – спросил доктор с надеждой в голосе.
– Я уверен, что ты говорил и ей, – он кивнул в её сторону подбородком, что вызвало у неё новый приступ злости, – но, как видишь, она ничего этого не помнит. Хотел бы я знать, что она теперь нам расскажет.
– У «неё» есть имя, – ледяным тоном произнесла Нелл, глядя между тем в инструкцию.
«…Явная схожесть с симптомами глациальной инвазии…»
– Нелл, я бы на твоём месте сделал укол.
– Зигварт, – сказала она, отложив инструкцию. – Кто-то из нас ошибается или врёт. Я думаю, кто-то из нас – Изморозь. Я думаю, это ты. Я тебе не верю.
Интересно, подумала Нелл. Если Зигварт так сильно хочет, чтобы я согласилась на укол, не значит ли это, что одну дозу тетрамиксина я уже получила? А вот повторная может привести к мозговому расстройству, анафилактическому шоку, параличу, коме и прочим последствиям.
Предположим, подумала она, я – Изморозь, а он – нет. Тогда я сейчас сделаю большую глупость.
Но если он врёт, тогда больше ничего не остаётся.
– Хорошо, док, – сказала она, шагая к Филу. Он кивнул, повернувшись к столику с медицинским пистолетом, и Нелл вывернула ему руку, повалив на стол, выдернула из его кобуры станнер и бросилась к дверям прежде, чем Зигварт выхватил оружие.
…Рифлёный пол. Скудное освещение. Трюм.
Нелл не сбежала по лестнице, а спрыгнула с неё. Где-то позади грохотал ботинками Зигварт. Ожившая мания преследования, подумала она, ныряя на очередной пролёт ниже. Галлюцинации воплотились, паранойя оправдалась, а вот теперь ещё и погоня. Полный набор сумасшедшего.
Она обернулась на бегу. Косая скачущая тень неслась за ней по стене: Зигварт спускался следом.
Она развернулась против хода движения и нажала на спуск. Разряд прошил кондиционированный стерильный воздух с сухим треском и влип в поручень. Зигварт прыгнул, преодолев оставшиеся ступени по воздуху. Станнер томительно медленно запищал, накапливая заряд, и она бросилась бежать дальше.
За угол. На колени. Люк. Ручка. Рвануть вверх.
Вздохнула независимая пневматика, и Нелл нырнула в темноту.
Над головой с треском прошла рукотворная молния, впилась в металл. Нелл рванулась вперёд, зашибла голень, упала, почти ничего не различая в темноте, в редких вспышках не проснувшихся ещё оранжевых газоразрядных ламп, и откатилась за ребристый контейнер. Тень на секунду перекрыла сноп света с верхней палубы, казавшегося голубым в противовес оранжевому дрожащему полумраку трюма. Тяжело ударили об пол ботинки Зигварта.
Изморозь, инопланетное оружие, обходящееся без солдата, шла к ней, завладев человеческим телом.
Настоящего Зигварта уже нельзя было вернуть – по крайней мере, не здесь, не в корабельном медицинском отсеке. И хотя Зигварт пытался прикрыться ею на «Паладине», она ощутила к нему что-то вроде жалости: судьба, которой он так хотел избежать, что пошёл на подлость, подмяла его целиком.
– Не-елл!.. – позвал он. – Не-е-элл!..
Она затаила дыхание, подобрав колени и направив жало оружия вверх.
– Выходи, тебе нужен укол! Иначе мы уже не сможем тебе помочь!
Да, подумала Нелл. Будь она заражена Изморозью, для укола было бы уже поздно. Не для Изморози – для неё. Как сейчас происходит с Зигвартом: тетрамиксин убьет весь глациат в его теле, но изменения в мозгу это только усугубит. Нужна заморозка, гемодиализ, комплексные инъекции, вентилирование лёгких, искусственные почки, курс лечения… И это всё не даст гарантии, что Зигварт придёт в себя. И каждая минута, проведённая Изморозью в его теле, только усугубляла ситуацию.
– Неееелл! Выходи!
Совсем близко. Он идёт вдоль контейнера, но с другой стороны.
– Нелл, ты же понимаешь, что не можешь быть уверена в том, что помнишь, – сказал Зигварт. Он остановился и, наверное, сейчас оглядывался вокруг. – Я знаю, что кажусь тебе врагом, чудовищем, инопланетной нелюдью. Твоя логика, основанная на ложной памяти, безупречна, но… Построение логических выводов на основе абсолютно нелогичной предпосылки – это признак болезни, Нелл. Ты больна. Понятно, что глациат защищается, – Зигварт снова двигался, голос его блуждал, пока она бочком сдвигалась за угол контейнера, – и убеждает тебя – настоящую тебя, если ты ещё есть, – что ты уже принимала тетрамиксин. И это при том, что, как только ты вошла на корабль, ты утверждала, что даже не подозревала о директиве Корпорации и тетрамиксине в аптечке! Ты противоречишь сама себе, но даже этого не видишь! Глациату выгодно, чтобы ты сначала забыла об этой директиве, а теперь забыла о том, что говорила полчаса назад! Ты-то не видишь этого, Нелл, но я! – он со значением повысил голос, и ей стало мерзко. – Я – вижу.
Вдохнув, выдохнув и снова вдохнув, Нелл резко поднялась на ноги. Зигварт успел только повернуть голову, когда она нажала на спуск.
Невидимый луч лазера прошил в воздухе плазменный канал, и мощный разряд электричества в ту же секунду устремился по нему к Зигварту.
Тонкая, почти не ветвящаяся молния в последнюю секунду отклонилась и влепилась в балку – электричество нашло себе путь с меньшим сопротивлением.
Прежде чем он успел выстрелить в ответ, Нелл, ослеплённая вспышкой, пригнулась и побежала за контейнерами к камере грузового лифта.
– Нееееелл! – взревел позади Зигварт, выскочив в тот же проход. Нелл заметалась, сунулась за ближний контейнер. Разряд с треском прошёл мимо, оставив на сетчатке ещё одну неровную зеленоватую полосу.
Теперь она оказалась зажата в щель между контейнерами, стоявшими вплотную к стене, а Зигварт контролировал проход. Подошвы бухали по полу всё ближе. Он шёл быстро и не скрываясь.
Лифт, подумала Нелл. Лифт лифтлифтлифт… Это единственный путь.
Она свободной рукой вытащила из внутреннего кармана жвачку, откусила прямо с фольгой, двинула челюстями буквально два раза и, выплюнув липкий комок на ладонь, замазала им глазок наводящего лазера. Ей не нужно было, чтоб лазер прошивал плазменный канал для электрического разряда. Пусть разряд ищет канал Зигварта.
Молча, сжав зубы, Нелл вывернула регулятор на максимум. Взять током Изморозь было нельзя, а вот занятое ею тело – можно.
– Не-ееэлл! – позвал близкий голос, и Нелл в ярости вышатнулась из ниши в проход, выставив вперёд левую ладонь и нажимая на спуск одновременно.
Расстояние было минимальным, Зигварт выстрелил первым. Разряд ударил в руку, скользнул по ней и, моментально сломавшись, шибанул в её разрядник на миг позже, чем она нажала на спуск.
Но разряд Нелл, лишённый теперь своего канала, рванулся по пути, прожжённому лазером Зигварта, и ударил точно в глазок лазера его станнера, выбив оружие из руки.
Зигварт явно не ожидал подобного. Она должна была упасть, сражённая ударом тока; по-хорошему, она должна была упасть ещё снаружи, не дойдя до шлюза, замёрзнуть в страшной ночи.
Но вряд ли Зигварт когда-либо читал её медицинскую карту.
Глаза его округлились, и Нелл со стоном, занемевшей левой рукой неуклюже ударила его в челюсть. Без какой-либо ловкости, но с силой.
Голова его мотнулась. Она ударила ещё раз, рукоятью разряженного станнера, и побежала.
Ей хватило выгаданных секунд, чтобы достичь шахты, поднять щиток на кнопке и надавить.
Лифт пришёл моментально – корабль был не так велик.
А в лифте её встретил Фил с медицинским пистолетом.
Загнали, подумала Нелл. Она толкнула доктора, навалилась с разбегу, прижала его к стене и вдавила кнопку лифта с такой силой, что сама испугалась.
Док оттолкнул её, и она позволила себе отлететь к створкам, чтобы воспользоваться дистанцией.
– Нелл, – выдохнул он, поднимая медицинский пистолет. – Тебе нужен…
В нарушение всякой субординации она ударила медицинского офицера левым кулаком снизу вверх, прямо в солнечное сплетение, вооружённой рукой отбила автоматический шприц, с которым док управлялся всё же лучше всех, ткнула ему в горло почти разряженный станнер с залепленным лазером и нажала на спуск.
Доктору хватило. Он эпилептически дёрнулся, будто хотел станцевать, и упал на чистый пол лифта.
Нелл выругалась, увидев, как растекается тетра-миксин из лопнувшей ампулы. В драке она слишком сильно приложила станнером по шприцу.
Первым делом Нелл ввела на пульте лифта сервисную комбинацию, блокирующую вызов лифта. Если Зигварту захочется наружу, пусть идёт в обход, через центральный шлюз.
Такие штуки она знала ещё со времён работы тестировщиком. Это не было великим секретом, но вот Фил, она могла ручаться, не знал.
Потом вытряхнула разбитую капсулу, бросила мёртвый станнер, сунула за пазуху медицинский пистолет. Капитанского ключа у дока при себе, конечно, не нашлось. Ну да ладно.
Она могла бы отправиться на любую из верхних палуб, и, если бы ей повезло не пересечься с Зигвартом, был шанс успеть найти оружие, лекарства, воспользоваться передатчиком.
Но она должна была знать наверняка. Выяснить одну вещь. И для этого ей нужно было покинуть борт.
Она выдернула пару кислородных масок из ниши возле кнопочного блока. Вытащила из кармана остатки клейкой ленты, торопясь, стянула доку руки и ноги, натянула маску на его лицо. Вторую надела сама.
Нажала на кнопку, и внешние створки с тихим шумом, под мигание оранжевой крутящейся лампы, стали раздвигаться.
Тёплый воздух стремительно бросился наружу, заложило уши от перепада давления. А потом внутрь заглянула снежная ночь.
Фил, очнувшийся от притока кислорода, замычал. Заткнись, подумала она, выходя наружу. Заткнись и жди.
О, как было холодно. Как было холодно.
Ветер не дул – он бил, бил огромным молотом стылого металла, который никогда не ковали на огне – этот Мьёльнир не знал огня, он знал лишь вечную мерзлоту.
Снег не холодил – он убивал, казнил каждую точку тела, которой касался. Кристаллизованная гибель сыпалась с чёрного неба, казалось, из самого космоса, из центра вымороженной пустоты, если у этого абсолюта мог быть центр.
Мороз не морозил – он отбирал, отнимал тело, слой за слоем, и только где-то там внутри, в центре вселенной холода, в центре Нелл, билось ещё чуть тёплое сердце.
Билось, заставляя шевелиться лёгкие, чтобы те дышали. Стучало, заставляя кровь циркулировать там, в далёких-далёких, мифических, как левиафан и бахамут, ногах.
Холодно, слишком холодно, думала она, и эти мысли метались поверх других, медленных, как сомы в полупромёрзшем пруду, которые поднялись из подсознания, когда сознание начало засыпать, утомлённое холодом.
Холодно. Но она ещё идёт. Дышит. Не падает. Не кричит от боли. Не спит.
На секунду ей показалось… что светит солнце, закатное солнце, снег отражает его свет, такой яркий после сумрачного нутра.
Да, да, отмахнулась она. Может быть. Может быть.
Док в открытом лифте защищён хотя бы от ветра. Она не могла оставить шлюз лифта закрытым – без капитанского ключа попасть в корабль снаружи было невозможно.
Дока, если что, можно будет откачать, даже если системы лифта не справятся с поддержанием температуры. Если, конечно, Зигварт не доберётся до него первым и не решит, что ослабленный доктор Филс – отличный носитель. Нелл прикинула, что Изморозь-Зигварт уже достигла той стадии, когда могла бы сама стать источником заражения.
Или же они правы, и сейчас её мозг и тело отказывают ей, подменяя воспоминания и саму её суть. Может быть, Зигварт и правда получил свой укол вовремя, а она… А она – нет.
Почему ты ещё идёшь, Нелл? Люди не выживают на таком холоде без одежды. Люди не дышат на таком холоде.
Значит ли это… Значит ли это…
…Что Зигварт прав? Что это она – тварь, Изморозь, пришелец, зверь в шкуре человека, ренегат? Значит ли это, что Зигварт человек? Зигварт, толкнувший её навстречу нелюди – человек? Зачем же такой человек?
Мысли путались. Пруд промерзал до дна, давил неповоротливых сомов массой льда.
На секунду… снова лишь на секунду, но ей показалось, что ей тепло. Жарко. И ярко. Холод лишь кусает за шею, а от пламени, рекой истекающего из горелки, пышет жар. Она жжёт ровер, и это правильно.
Нелл испугалась, вздрогнула. Да и не жгла она никакой ровер. Никогда.
Она тут же потеряла мысль, – о чём-то значимом, но это было не важно.
Она дошла.
Экзоровер Зигварта стоял лицом к ней, распахнутый, опустошённый и выжженный.
Пламя закоптило корпус снаружи длинными клиньями, языками; нутро чернело, вязкая пена гасителей, перемешанная с пеплом, смёрзлась и посерела.
От неожиданности Нелл совсем очнулась. Только от этого стало ещё холоднее. Она понимала, что долго не выдержит.
Нелл в смятении смотрела на сожжённое нутро экзоровера. Если Зигварт сжёг его после того как прибыл… Док не мог не заметить.
Если он загорелся во время похода… Как он дошёл?
Если я сожгла…
Если он сгорел там, то Зигварт мог добраться на нём в единственном случае. Если ему не важен был температурный режим. Если ему не мешал холод.
Если Зигварт стал Изморозью. Значит, Нелл права.
Ей оставалось только подтвердить свои догадки или опровергнуть, пока руки ещё слушались и пока у неё оставался воздух – на экзоровер рассчитывать не приходилось. Я уже не смогу вернуться, подумала Нелл, скорее всего не смогу.
Нелл попыталась добраться до инъектора, но спёкшийся пластик, заледеневшая пена, нагар не дали ей этого сделать. Как Зигварт управлялся с ровером – было малопонятно; единственное, что он, видимо, смог – это врубить автопилот, последний записанный трек. К кораблю.
Нелл спрыгнула на землю. Оглянулась, но в глазах плыло, и сквозь иней на ресницах и снегопад она ничего не увидела. Никого? Или тёмная фигура в снегах? Или тысяча тёмных фигур в миллионе прорех снегопада? Всё могло быть.
Она обошла ровер, держась за корпус. Наверное, чудовищно холодный – она всё равно не чувствовала.
Горелки на этом ровере тоже не было. И набора с пиропатроном и ракетницей. Но она слишком устала, чтобы думать об этом.
Она нашарила внешнюю крышку медконтейнера, ту, через которую вставляли картридж с лекарствами.
Нажать, утопить, сдвинуть… Сдвинуть же…
Крышка упала в снег. Нелл сунула правую руку внутрь, нажала на защёлки и потянула.
Ничего. Или всё примёрзло, или она не туда нажимала. Поди пойми.
Она начала сначала. Ну чему же там примерзать, там керамика, сообразила она. Я просто не чувствую, что делаю.
Наконец скобы подались, и тяжёлый картридж аптечки скользнул ей в руку.
Она вынула его – за ним тянулся шлейф проводов – и перевернула. Не уронила только чудом, поддержав бесчувственной, как полено, левой.
Слава богу, никаких защёлок для ногтей, всё было рассчитано на то, чтобы с ним можно было обращаться в перчатках скафандра.
Крышка отправилась в снег, в компанию к первой, бесшумно, как будто её обронил призрак. Я и есть призрак, подумала Нелл, призрак в холодном теле.
Аптечка Зигварта была полна. Он не использовал ничего.
После мороза, после похода на наполовину сожжённом экзоровере… Ничего.
Но главное – тетрамиксин был на месте. Зигварт врал.
Нелл замерла, взгляд её провалился в пустоту, вдох прервался на пике.
И глаза заслонила совсем другая картина, встала на место, как следующий кадр в диафильме. Нелл вспомнила.
…Вспомнила, как Зигварта накрыла голубоватая, иглистая ползучая волна, похожая на завиток огромного морозного узора…
Вспомнила, как бежала по коридорам «Паладина», не выпуская ящик с инструментами, к светлому квадрату шлюза, вспомнила, как выдыхала до обморока и вдыхала холодный воздух, выдыхала и вдыхала, пытаясь прочистить лёгкие от чуждой пыли. Они пошли без респираторов, господи, встретить Изморозь в этом квадрате казалось таким же нереальным, как повстречать акулу в деревенском пруду. Они не были готовы.
Вспомнила, как хотела скорее влезть в ровер и убраться прочь, но задержалась, чтобы сжечь второй.
Она зря не использовала пиропатрон, думала, хватит горелки. Она сдёрнула её с ровера Зигварта и выжгла ему всё нутро. Жгла, испаряя противопожарную пену гасителей, пока в горелке не кончилась смесь. Она понимала, что при таком количестве, которое он схватил, тетрамиксин ему уже не поможет. А пустить заражённого глациатом в ровер она не могла.
Вспомнила, как он выбрался из корабля, как говорил с ней, пытаясь убедить, что это он, Зигварт, правда, по-настоящему, грозил, плакал, пока она жгла его ровер. Изморозь боится огня, и он не подошёл к ней, пока в баллоне хватало горючего. Но саму её бросало в липкий пот от ужаса перед близким огнём.
Вспомнила, как дралась с ним, когда совершила ошибку – выжгла весь баллон раньше, чем отступила к своему роверу.
Как он отбросил её в снег и вскочил в нутро, и как она, пневмоножницами подцепив защёлку, выломала крышку отсека гидравлики, так, что винты с сорванной резьбой разлетелись по округе, и закусила шланг, второй.
Он ударил её манипулятором, раскроив лоб, но вскользь – машина уже не слушалась. К тому времени, как он выбрался из кабины, она успела отцепить вторую горелку. Он потратил лишние десять секунд на то, чтобы тем же манипулятором вырвать из-под кожуха на плече антенну, и это её и спасло.
Она отгоняла его короткими языками пламени, но не учла одного – выгоревший экзоровер быстро остыл на морозе и сохранил способность двигаться. Зигварт ушёл к кораблю. Скорее всего, выбросив набор с пиропатроном, на всякий случай. Чтобы никому не досталось возможности применить против него огонь.
Нелл забралась в кабину, безо всякой надежды выбрав укол тетрамиксина. И он сработал. Побочные эффекты накрыли её с головой.
Но она смогла починить шланги.
И вот теперь стояла здесь, возле корабля, на лютом морозе инопланетной ночи, и понимала, что всё было зря. Зигварт победил.
…Тени на краю поля зрения как-то изменились, и Нелл вышла из оцепенения. Вытащила из-за пазухи медицинский пистолет – и тут поняла, что не сможет его открыть: не хватало рук.
Тогда она бросила коробку в снег, упала на колени, положив пистолет на углекислоту. За низкопористые керамические части она не боялась, а вот ударная сопротивляемость стали… В такую стужу она будет хрупкой, как лёд.
Кстати, как там мои подошвы, подумала Нелл. Наверное, никак. Наверное, их давно нет, а по их кусочкам можно было бы, как по хлебным крошкам, найти дорогу обратно, если бы не снегопад. Азот, конечно, не сдастся, а вот углекислота продолжала сыпаться.
Она нажала на четвёртую капсулу, отсчитав дважды, боясь ошибиться, и та выпрыгнула из гнезда на три четверти. Удобно, всё очень удобно… Но не на морозе, близком к сотне.
На тёмном стекле капсулы, на дне, была метка, но ни цвета, ни цифры Нелл разглядеть уже не могла.
Кто-то вышел из-за ровера, со спины. Нелл вдохнула, как могла, взяла пистолет, предельно сконцентрировавшись, открыла его и вставила капсулу в приёмник.
Очень осторожно защёлкнула, боясь сломать. Вроде получилось.
Она попыталась встать, но не смогла. Может, колени примёрзли, а может, отказали ноги, но когда кто-то сильно ударил её в спину, между лопаток, она упала лицом в снег.
Зигварт мог просто поставить на неё ногу и держать так, пока она не задохнулась бы. Гипоксия уже началась, и от короткого полёта сквозь дрёму в финальную бездну её отделяло совсем немного. Но Зигварт не был человеком, ему нужно было тело. Ослабленное и переохлаждённое тело Нелл подходило очень хорошо.
Он перевернул её, рывком. Она открыла глаза и смотрела на него сквозь белый мех ресниц.
Зигварт был в своей зимней форме. Ледяная бледность лица, глаза, затянутые морозным узором – ему незачем было больше скрываться, и Изморозь заняла его целиком.
– Ты киборг, что ли? – спросил он у Нелл. – Как ты ещё шевелишься?
Рука с пистолетом утонула в пушистом снегу. Он её не видит, подумала Нелл, он не видит его.
Он нагнулся и содрал с неё маску, сорвав кожу с губ, примёрзших к мундштуку. Странно, но дышать стало легче, в голове прояснилось – видно, фильтры давно промёрзли, и Нелл просто задыхалась. Сквозь жемчужный, чуть багровый медленный сполох падал снег. Она не ручалась, что видит сияние инертного газа – может, это была вспышка в мозгу или на умирающей сетчатке.
Зигварт стал коленом ей на грудь, наклонившись, словно для поцелуя. Нелл согнула руку, и волна омерзения помогла ей в этом.
Он дёрнул головой и вскинул руку, чтобы отбить, отбросить, но предплечье Нелл встретило и выдержало удар, и с короткой дрожью, отдавшейся в костях, рука её преодолела сопротивление руки Зигварта. Очень сильное, яростное сопротивление Изморози. Всего на пару секунд, всего на десяток сантиметров, но этого хватило, хотя по костям плеча словно скрежетнуло долото, а связки свело тупой болью.
Игла вошла ему в шею, и Нелл нажала на спуск. Пневматика сработала, всё-таки сработала, и тетра-миксин рванулся в кровь Зигварта, поражённую чуждой жизнью. Он дёрнулся, измученная перепадами температур игла сломалась, но почти вся доза уже была в нём.
Он сгрёб её за ворот одной рукой, так что комбинезон порвался, как целлофан, и легко поднял со снежного ложа. Она сжала зубы, уверенная, что сейчас он убьёт её головой о ступню ровера или наотмашь размозжит ей череп, но он лишь начал выгибаться назад, складываясь затылком к пяткам. Ледяные глаза затекли синим, хрустнули, крошась друг о друга, прозрачные зубы, заострились черты под бледной бумажно-ломкой кожей. На губах, замерзая мохнатыми ледяными шипами, пузырилась белая пена.
Нелл выдернула ноги и отползла на бесчувственных локтях.
Тело Зигварта покрылось белыми и синими иглами, они задрожали, вытянулись дергано, рывками, и смялись с шорохом, осыпавшись осколками и оставив некрасивую коросту.
Изморозь сдохла.
…Нелл втащила Зигварта в шлюз, к доку, упала возле и долго, долго – как ей показалось – лежала рядом. Док оставался без сознания, но дышал. Она прихватила тримиксин из аптечки ровера, но колоть Филу добутамин с глюкозой и стимуляторами ей было страшно. Она примерилась было, поглядела на блеск свежей сменной иглы, выскочившей из барабана медицинского пистолета, и не решилась. Может, он вырубился от холода, а может, от нервов. Она сняла с него маску, когда стабилизировалось давление, и, не найдя ничего острее иглы пистолета, ею распорола скотч. Док застонал. Она оставила его в лифте, на этот раз заблокировав внутренние створки дверей уже с палубы.
Пусть они все полежат там. Я больше никого не выдержу, думала Нелл, поднимаясь по лестнице в рубку.
Лестница была бесконечной и крутой, как скальная вершина. Нелл думала, что упадёт или уснёт где-то на середине, но нет.
Из рубки открывался вид на заснеженную равнину. Прожекторы не горели, и долину, засыпанную чудовищно холодным и очень-очень белым углекислым снегом, освещали лишь бледное сияние небес и, сквозь поредевший снегопад, свет соседней планеты, газового гиганта. Кое-где равнину вспарывали скалы. Нелл видела свой ровер, замерший с откинутым кожухом. Он показался ей маленьким, неуклюжим здесь, посреди чужого мира, но она была остро благодарна ему – даже такой, он вынес её оттуда, выдрал, только сам не дошёл.
Зато я дошла, медленно, сонно подумала Нелл. Она знала, что скоро, после пережитого и под действием лекарств, она отключится, она жила уже на каком-то третьем дыхании, когда усталость становится не помехой жизни, а формой этой жизни, но она не была железной, не была киборгом.
Разве что чуть-чуть.
Семь лет назад, во время пожара на космической станции, она потеряла пятьдесят процентов кожи, получила ожог слизистой и рассталась с одной рукой. Теперь всё это заменяли ей полимеры и композиты. Только потому она смогла дышать в местной ночи, только потому не обморозила лицо и руки. Потому он не смог отбить её замах. Приводы искусственной конечности выдержали всю силу Изморози. Нелл понимала, что, скорее всего, повредила что-то и в руке, и в живой ткани плеча, но это было не важно, это было поправимо, как и разошедшаяся на лбу линия между живой кожей и искусственной.
И прежде чем упасть в кресло и отключиться, Нелл подошла к передатчику и вбила код, короткий и общепринятый в таких ситуациях. Как только он достигнет ближайшей станции, засуетятся люди, наполнится слухами и приказами сеть, оживут дюзы – цепкая машина Корпорации придёт в действие, и через какое-то время корабли с медиками, военными, с агентами ELI явятся сюда.
Могучий код. Но простой.
Четыре. Нелл нажала всего одну цифру и ввела подтверждение, сопроводив его своим идентификационным номером, зашитым в память. Ситуация четыре, технический офицер У нельма Миккельсдоттир.
Нелл вдавила клавишу отправки. Тихий короткий возглас зуммера, подтверждающий передачу.
На деревянных ногах Нелл дотянула до капитанского кресла и рухнула в него, закрыв глаза. И наступила тишина. И темнота.
6. Король
Олицетворение Солнца, силы закона и порядка, а также подлинной природы ума. Символ духа, который не может быть пленён.
Нет такой цепы, которую нельзя заплатить за скальп короля.
Александр Кобленц♀ Жил да был один король Светлая фигура Лариса Бортникова
Хуан-Антонио-Сальваторе Первый ненавидел декабрь. Когда Хуан-Антонио-Сальваторе приникал к бойнице и смотрел на снежную стылую простыню, на ржавые пики ветвей, на клинопись пёсьих следов, его охватывала тоска. Тогда, чтобы избавиться от царапающейся где-то в области сердца безысходности, Хуан-Антонио-Сальваторе начинал разговаривать сам с собой.
– Зима пройдёт. Вернутся стрижи-непоседы. Будут кроить синь в неровные лоскутья, – Хуан был романтиком, ему нравилось думать метафорами.
– Это точно. А покушать нашим Высочествам не мешало бы, – вступал в беседу вечно голодный Антонио.
– Угу, – Сальваторе – необщительный, хмурый, отделывался едва заметным кивком.
Трудно быть почти-королём. Ещё труднее быть почти-королём без королевства, без министров, без подданных, без будущего. Хуан-Антонио-Сальваторе Первый старался не вспоминать о том, что этой зимой он впервые так бесконечно одинок. Одинок отныне и навсегда…
Мать с отцом юный дофин совсем не помнил, воспитывался под присмотром двух нянек, которых не любил, но слушался. Свита небольшая, преданная, холила осиротевшего порфироносца, оберегала беднягу от лишних забот, а опекунский совет осторожно готовил наследника к коронации, справедливому правлению, яростным битвам и великим свершениям. Дофин трепетно внимал наставникам и к отрочеству уже вполне осознал великую ответственность, каковая готова была вот-вот упасть на прыщавые юношеские плечи. Королевство его – маленькое, но очень гордое – постоянно подвергалось нашествиям со стороны многочисленных врагов. Помимо врагов королевству непрестанно угрожали болезни и голод. Штудируя героический эпос и историю государства, дофин не уставал изумляться стойкости и отчаянному упорству, с которой его великие предки отстаивали собственное право на престол, а также право подданных жить в благоденствии и довольстве. Впрочем, врагам и напастям упорства тоже хватало, поэтому все исторические события можно было уложить в одно-единственное слово – «война».
Когда на замок напал чёрный мор, дофина укрыли в тайном кабинете, запретив даже высовывать нос за дверь. «Там припасов на три месяца с лишком», – прокашлял премьер-министр, отодвигаясь подальше, чтобы не дай бог не задеть Хуана-Антонио-Сальваторе, возможно, смертоносным дыханием. «Мы станем бить в гонг, чтобы ты знал – ещё есть живые. Когда мор закончится, тебя выпустят. Если же однажды утро встретит тебя молчанием – терпи, сколько сумеешь. Не торопись наружу. А там – пусть поможет тебе слава предков». Дофину казалось, что голос старика нехорошо дрожит, но он постарался об этом не думать и тщательно задвинул засов. Он много спал, мало ел и старательно прислушивался к глухому звону, доносившемуся по утрам из-за дубовой двери. Ещё юноша читал – кто-то заботливый побеспокоился о том, чтобы добровольному узнику нашлось чем занять себя. Толстый философский трактат, предпоследний из стопки, был освоен наполовину, когда вместо рассветного «бом-бом-бом» замок поприветствовал наследника престола свистящей тишиной. Дофин ещё целую неделю надеялся, прижимался ухом к холодным доскам, пытался уловить хоть какой-то звук, а потом смирился. Он так и не дочитал книгу, полагая, что теперь отвлечённые знания ни к чему. Зато он упражнялся в фехтовании и почти затупил сабельку о каменную колонну. Именно тогда дофин научился разговаривать сам с собой. Он сделал бы это гораздо раньше – разнопоименованные сути внутри него давно уже интересовались друг другом, но совет строго-настрого запрещал, мотивируя вероятностью расщепления личности. Теперь Хуану – Антонио – Сальваторе ничто не мешало, и он разделил себя на три составляющие. Возможно, вот это растроение и позволило дофину не сойти с ума, а наоборот, заставило уложить сабельку в ножны, собраться с силами и выбраться наружу, покончив с объедками и даже с настоящим кожаным ремнём, оказавшимся неожиданно вкусным.
– Наше высочество будет осторожно и внимательно, – говорливый Хуан успокаивал нерешительного Сальваторе и равнодушного Антонио. – Мы проверим, осталась ли в замке еда, и подумаем, как действовать дальше.
– Дааа. Покушать хорошо бы… – оживал Антонио.
– Угу, – Сальваторе соглашался с остальными.
Замок встретил дофина сквозняком и безмолвием. Хуан-Антонио-Сальваторе осторожно обошёл залы и не обнаружил ни одного трупа. Видимо, заботливые подданные выползали наружу, чтобы встретить смерть там и не отравлять продуктами собственного гниения воздух, которым придётся дышать их правителю. Хуан-Антонио-Сальваторе оценил скромный подвиг своих вассалов и ещё больше оценил его после того, как разыскал на кухне нетронутые, запечатанные запасы вина и сыра.
– Мы не забудем их преданности. Мы будем нести её в нашем трепетном сердце до самой кончины, – Хуану были свойственны велеречивость и пафосность.
– Недолго ждать. Сыр и пшено вот-вот закончатся, и нашим высочествам придётся потуже затянуть ремень, который мы всё равно уже сожрали, – Антонио велеречивость и пафосность свойственны не были.
– Угу, – соглашался с обеими репликами Сальваторе.
– Жаль только, что мы так и уйдём, не отведав сладкой горечи королевской власти и не ощутив чреслами жёсткого сиденья трона, – сокрушался Хуан. – Но увы. Не осталось никого, кто бы смог короновать наше высочество.
– Да без разницы. Что так, что эдак. Зиму точно не переживём.
– Угу… – Сальваторе, как обычно, не отличался многословием.
Последний ломтик сыра закончился позавчера. Теперь Хуан-Антонио-Сальваторе смотрел сквозь узкие бойницы наружу и ненавидел декабрь. Внутреннее ощущение времени подсказывало дофину, что декабрь близится к концу, и через пару дней, если дофин не умрёт от голода, ему придётся ненавидеть январь. Впрочем, до января юноша дожить не надеялся – это подсказывали ему и внутреннее ощущение, и здравый смысл. Дофин вздохнул, проследил глазами за весёлой галкой, прыгающей по веткам старого клёна. За всю свою недолгую, но насыщенную горем жизнь дофин ещё ни разу не выбирался за ворота. Более того, дофин никогда не спускался за пределы своих покоев. «Относительно спокойно лишь здесь. Замок со всех сторон окружен врагами. Они везде: в лесах, на болотах, в городах и сёлах. Везде… Запомните, ваше высочество, опасность всюду», – предостерегали дофина опекуны.
– Надо прорываться наружу, – решился Хуан. – Иначе нас настигнет смерть.
– Так и так настигнет, – Антонио обречённо сглотнул.
– Уходим в леса, – неожиданно ожил молчавший до этого Сальваторе. – По тайному коридору, через подземелья, через подвалы. Возьмём в библиотеке карту и вперёд… Это наш единственный шанс выжить.
Наглая снежинка протиснулась в щель, обожгла ледяным лучиком щёку дофина, растаяла. Хуану-Антонио-Сальваторе вдруг стало страшно и тоскливо, захотелось плакать навзрыд. Но мужчины, а тем более будущие короли, не плачут, и поэтому юноша собрал волю в кулак и направился к арке, ведущей в королевскую библиотеку.
* * *
«Анна-Ванна, наш отряд хочет видеть поросят», – крутилось в голове назойливым рефреном. Мария Николаевна – учительница биологии на пенсии – трудно слезла с табуретки, прижимая к груди пакет. В пакете серебристо шуршал дождик, хрустела мишура, глухо постукивали друг о друга шарики, завёрнутые в газету.
Мария Николаевна сегодня никого не ждала. То есть с утра она ещё надеялась, что сын с невесткой всё же приедут, и ей не придётся встречать Новый Год, сидя всю ночь перед глупо бликующим экраном. Но Жорка заскочил утром, чмокнул мать в щеку, вывалил на кухонный стол гору продуктов с незнакомыми названиями и убежал.
– С друзьями, наверное… Второго заглянем… Или третьего. Не грусти!
– Да что ты! Олечка зайдёт, Саша, – бесстыже врала Мария Николаевна.
Мария Николаевна умела врать. Сорокалетний стаж работы в школе позволял ей врать нагло, уверенно, красиво. Мария Николаевна набралась этого у своих учеников и ни капли не раздумывала, прежде чем сказать неправду, если эта неправда спасала кого-то от угрызений совести. Она очень не любила, когда кто-нибудь грызёт свою собственную совесть ради её – Марии Николаевны – проблем. А уж тем более, если это любимый и единственный сын. Поэтому Мария Николаевна кивнула Жорке на тазик с заготовкой для оливье, на извлечённый из комода сервиз и на ёлку – маленькую, но очень пушистую. Ёлка хамовато топорщилась голыми ветками и липко пахла смолой.
– Видишь. Только нарядить осталось. Сядем с девочками. Шампанского выпьем, песен попоём. А вы отдыхайте.
– Привет тёткам, – облегчённо выпалил Жорка, прежде чем захлопнуть за собой дверь.
Мария Николаевна ещё с полминуты «держала лицо» и, лишь убедившись, что Жорка уже не вернётся, загрустила. Саша и Олечка – институтские подружки-ровесницы – вовсе не намеревались приезжать. Первая уехала с детьми в дом отдыха, вторая приболела и выписала на зиму младшую сестру из-за Урала. «Ну ничего, ничего, – приговаривала старушка, трогая ёлку за колючие лапки. – Сейчас доубираюсь, дорежу салат, выпью бокальчик полусладкого, и спать. Свинок вот тоже покрасивее расставлю – пусть счастье несут в дом».
Если бы каждая хавронья, поселившаяся за этот месяц в захламлённой однушке, принесла с полкило счастья, то можно было бы считать грядущий Год Свиньи самым удачным в жизни хозяйки. Хрюшек в каком-то совершенно невероятном количестве натащили Марии Николаевне её бывшие ученики. «Квартира превратилась в хлев», – шутила хозяйка, распихивая розовых, и красных, и даже зелёных плюшевых уродцев по полкам. А ещё у неё в голове крутилось смешное, полузабытое: «Аннаванна, наш отряд хочет видеть поросят…»
Приговаривая четверостишие про настойчивых октябрят и суровую свинарку – Анну-Ванну, Мария Николаевна вытерла пыль с подоконника, разместила на нём дюжины две свиней среднего размера, удобнее расселила в серванте штук сорок поросят размера ниже среднего и усадила на диван пять гигантских свиноматок с хитрыми мордами и ноздрястыми пятачками. Потом Мария Николаевна достала с антресолей пакет, в котором хранились ёлочные украшения, развесила по веточкам дождик, прикрутила шарики, пару раз укололась и даже загнала иголку под ноготь, закрепляя золотую пику. Потом Мария Николаевна ненадолго огорчилась из-за того, что старенькие гэдээровские сосульки уже осыпались и стали совсем некрасивыми. Однако в Жоркиных пакетах обнаружилась коробка импортных шоколадок, каждая из которых мало того, что притворялась ёлочной игрушкой, была ещё и оборудована «правильной» петелькой, и Мария Николаевна, изумляясь капиталистической предусмотрительности, всё-таки доукрашала ёлку. А потом Марии Николаевне пришла в голову странная мысль, которую она уже лет пять всячески гнала прочь.
Дело в том, что покойный супруг Марии Николаевны – человек неплохой, но не без странностей, – имел пагубную страсть к коллекционированию. Однажды, когда супруги, будучи в командировке в социалистической тогда ещё Германии, устраивали новогоднюю вечеринку, немецкие коллеги подарили им щелкунчиков.
«Глюклишь Вайнахтунг», – хором пропели немцы и достали четыре красивых свёртка. Мария Николаевна распаковала хрустящую фольгу и ахнула. Четыре разных и очень зубастых деревянных человечка скалились учительнице в лицо. Чтобы не обидеть немцев, Мария Николаевна выставила всех уродцев одновременно. Правда, ради «фройндшафта» пришлось пожертвовать снегурочкой и дедом морозом, для которых места под ёлкой просто не осталось. Праздник прошёл весело, но с тех пор все отчего-то решили, что странная учительская семья собирает щелкунчиков. И пошло-поехало. Уезжая из Вюнсдорфа, супруги везли с собой положенный столовый сервиз «Мадонна», двухкассетный магнитофон и ящик, набитый под завязку деревянными солдатиками с ореховым оскалом. «Ну вот, Машенька, теперь мы с тобой самые настоящие коллекционеры, – потирал руки супруг Марии Николаевны, развешивая щелкунчиков по стенам новой однушки на последнем, пятом этаже. – Глядишь, лет через двадцать нас на выставки приглашать начнут». Через двадцать лет странная коллекция, увеличившаяся до ста пятидесяти единиц, была небрежно распихана по коробкам и упрятана в стенной шкаф. На шкафу повис аккуратный замок, а ключик вдова убрала в плоскую жестяную банку из-под монпансье, вместе с пенсионным удостоверением, грамотой «Почётный учитель» и свидетельством о смерти.
Мария Николаевна не любила натыкаться на этот ключик, потому что тогда у неё замирало сердце, и приходилось тридцать раз капать на рафинад валокордином. Ещё Мария Николаевна не любила вспоминать о том, что за панельными дверцами шкафа в картонных гробах лежат сто пятьдесят деревянных человечков с равнодушными нарисованными глазами, с лихими усами и крепкими дубовыми челюстями.
Но сейчас, глядя на неожиданно возникший «свинарник» и недорезанный оливье, Мария Николаевна подумала, что ей всё равно нечем заняться и можно потихонечку доставать щелкунчиков одного за другим и перебирать в памяти события, лица, звуки… Перебирать, запивая полусладким «Абрау-Дюрсо», точно как много лет назад, когда она ещё не встречала праздники в безлюдной тишине. «К концу жизни со мной остались лишь плюшевые свиньи и деревянные куклы», – грустно расфилософствовалась Мария Николаевна и полезла в комод за банкой из-под монпансье.
* * *
Хуан-Антонио-Сальваторе Первый полз по узкой шахте, обдирая бока о шершавые стены. Густая, как топлёный сыр, темнота обволакивала, душила, давила жутью на сердце. Порой ужас сменялся любопытством, любопытство – опять ужасом. В животе звонко бурчало от голода, и невыносимо хотелось пить. Чтобы не думать о страхе, голоде и неизвестности, дофин разговаривал сам с собой вслух.
– На карте указано, что этот проход ведёт в подземелья. А потом, если удастся миновать логова чудовищ, мы можем выбраться на волю. Да! Там снег, там холод, но это лучше, чем бесславно погибнуть от голода, – Хуан успокаивал остальных, но пафос в его голосе слишком отчётливо перемешивался с неуверенностью.
– А чего так узко-то? – возмущался Антонио. – Наша порфироносная плоть мало того, что желает жрать, так ещё и оцарапала все бока.
– Так на порфироносцев не рассчитывали. Хватит разглагольствовать, – резко оборвал нытьё Сальваторе. – Ой! Смотрите-ка. Свет!
Мерцающий красноватый столб вползал сквозь гигантскую пробоину в полу шахты. Яркий, безудержный, бесстыдный, похожий на свет полярной звезды, он слепил дофину глаза и манил неизвестностью.
– Если верить карте, здесь должен быть глухой бетон, – Хуан осторожничал.
– Если верить карте, наши высочества уже час по подземельям болтаются.
– Тихо. Не орите! – Сальваторе умел командовать при необходимости.
Хуан-Антонио-Сальваторе пополз на животе к краю провала, зажмурился, а потом медленно… Очень медленно раскрыл глаза. И увидел её… Она находилась прямо под шахтой, то есть если бы Хуан-Антонио-Сальваторе сейчас сделал шаг, он бы упал прямо на золотое острие и проткнул себя насквозь… Или, если правильно вывернуть тело в полёте, он бы опустился чуть поодаль… Зелёная, огромная, с сияющим острым шпилем, усыпанная серебром, увешанная прозрачными мерцающими сферами, сладострастно пылающая многоцветьем алмазов – она точно шептала: «Я – твоя».
– Морок, – зашептал Хуан, стараясь не смотреть вниз. – Это галлюцинации. Но какие прекрасные!!!
– Едой пахнет, – Антонио повёл носом, и ноздри дофина вдруг превратились в парус – нежный, трепещущий, ловящий каждое дуновение, пропитанное карамелью и молочным шоколадом.
– Искус… Надо идти дальше, – Сальваторе благоразумно зажмурился.
«Я – твоя», – она шептала и струилась липким, сладким, неотвратимым. И Хуан-Антонио-Сальваторе шагнул в бездну.
* * *
Мария Николаевна спала. Старушка так и не дождалась боя курантов и задремала на неразобранном диванчике, подпихнув под голову самую огромную из свиней. На деревянном полу «свиньёй» классической выстроились щелкунчики – все сто пятьдесят боевых единиц. Глянцевые, с местами облупившейся краской, они молчали напряжённо, отчаянно, точно ожидая команды «в атаку». С металлической яростью в глазницах, с серебряными сабельками наперевес, с ухмылками гуинпленов на размалёванных личиках. По дубовым октавам зубов перекатывались грецкие орехи, готовые взорваться картечью и разнести врага на ошмётки. Мария Николаевна спала.
Командир поправил кивер и скомандовал остальным: «Готоооовсь»!!! Скрипнули дубовые челюсти, перекатили орех в боевую позицию… «Шашки наголо», – добавил командир и поудобнее вцепился в золочёный эфес.
Дамы обмахивались веерами. В партере и бельэтаже не оставалось мест. «Гусары, драгуны, уланы – какая прелесть», – салатовая с шёлковым пятачком восхищённо шептала что-то на ухо рыжей с бантом на шее.
Хуан-Антонио-Сальваторе испуганно жался под ёлкой. Он даже не успел стянуть с нижней ветки восхитительную шоколадную шишечку. Он даже не успел коснуться лапкой прозрачного колокольчика. Он даже не успел вдохнуть всей грудью нестерпимо-прекрасный запах смолы и хвои… Сначала он услышал шорох, затем хруст, а потом обернулся, чтобы зажмуриться от ужаса, а потом широко-широко распахнуть глаза. Все три пары.
– Кровь предков стучится в моё сердце, – Хуан пытался воскресить генетическую память, а также сообразить, чем же мог закончиться тот самый недочитанный трактат, где славный пра-пра- и ещё миллион-раз-пра-прадед дофина оказался в похожей ситуации. Получалось плохо.
– Шоколадку требую перед смертью, – ныл Антонио.
– Без паники! Мы, Хуан-Антонио-Сальваторе Первый, сейчас перестанем трястись и вступим в бой.
И будем сражаться. Зубами, когтями, усами. Чем сможем!!! – Сальваторе обнажил клыки, зашипел яростно. – Не сдадимся лубочным деревяхам живыми!!! Не посрамим славы рода!
Мышиный ещё-не-король скинул камзол. Мышиный ещё-не-король звонко шмыгнул носом. Мышиный ещё-не-король бесстрашно выхватил сабельку из ножен, и выпрыгнул из-под ёлки, и пропищал почти шепотом: «Иду на вы»…
– Пли! – Генерал выплюнул приказ и рваные ореховые осколки одновременно. – Пли! – лейтенанты дали отмашку подразделениям…
– Пли! – затрещала скорлупа, и сто пятьдесят коричневых ядер лопнули, взорвались под железными челюстями.
Завизжала шрапнель, вспарывая пропитанный мандаринами воздух. Жалобно зазвенели стеклянные шарики – благовест ли, поминальная ли… «Лихие! Бравые! Браво-браво!» – застучали хрюшки плюшевыми копытцами.
– В атаку! – закричал Генерал.
– В атаку! – завопили лейтенанты.
– В атааааку… Ураааааа!
Ать-два, ать-два, ать-два… Деревянный пол скрипел в такт. Ать-два. Солдаты маршировали шеренга за шеренгой, плечом к плечу, ладонь в ладонь… Ать-два… Аихо закручивались усы, сверкали шпаги, звенели аксельбанты… Ать-два…
Хуан-Антонио-Сальваторе ждал, вцепившись коготками в золотой эфес. Дофину очень хотелось метнуться под шкаф или просто лечь на спинку и закрыть глаза, притворившись мертвым. Ему хотелось вернуться обратно на чердак, который он привычно называл замком, и торчать целыми днями у чердачного окошка, которое он привычно называл бойницей…
Ему хотелось стать самой обычной мышкой, маленькой и безобидной… Но на него, хрустя суставами и щёлкая зубами, двигалась деревянная армада, безжалостная, тупая, жестокая, готовая кромсать всё вокруг в клочки… А он был один… Совсем-совсем один. Хуан-Антонио-Сальваторе Первый трижды сглотнул страх. Неумолимым рождественским ужасом на него наступала смерть.
«Ах! Какой бесстрашный», – хрюкнул кто-то с галёрки и замолчал.
* * *
«Ну, надо же… – Мария Николаевна, проснувшаяся от грохота падающих щелкунчиков, тёрла глаза. – Надо же… Заснула». Старушка тяжело поднялась с дивана, зевнула. Недоуменно уставилась на пол, превратившийся в абсурдную иллюстрацию к поэме «Бородино». «Ну вот. Попадали все. Поцарапались, наверное», – приговаривала Мария Николаевна, рассовывая щелкунчиков обратно по коробкам. Первый, пятый, сороковой… сто пятидесятый… Последний щелкунчик, разряженный в щегольской белый сюртук с золотыми генеральскими пуговицами, нехотя запихнулся кивером вниз. Ключик вернулся в жестяную банку из-под монпансье.
«Ой! А это что у нас тут такое»? – Мария Николаевна нащупала очки с перетянутой изоляционной лентой дужкой, нацепила их на нос, встала на коленки.
Хуан-Антонио-Сальваторе наблюдал, как две мерцающих заслонки приближаются к нему откуда-то с неба. Дофин был настолько истощён минувшей битвой, настолько измождён странствиями и голодом, что появление новой опасности воспринял как благословение.
– По крайней мере, мы сражались достойно, – попробовал ободрить остальных Хуан.
– И надрали зубастым буратинам деревянные задницы! – прошептал Антонио.
– И не уронили нашего королевского достоинства! – Сальваторе, похоже, понравилось разговаривать.
Мария Николаевна – учительница биологии с двадцатилетним стажем – не боялась мышей. Даже мышей с патологией. Ещё до школы Мария Николаевна работала главным лаборантом в одном из секретных НИИ, поэтому трёхголовый мышонок, вывалившийся из вентиляционного люка прямо под ёлку, Марию Николаевну не напугал, скорее обрадовал. Она осторожно ощупала зверьку хребет, убедилась, что кости целы и что грызун жив, здоров и либо в шоке, либо имитирует смерть. Мария Николаевна хитро улыбнулась и сняла с ёлки конфету, одну из тех, что днём притащил Жорка. Фольга соскочила легко, обнажив сладкую литую сердцевину. Мария Николаевна поводила шоколадом возле притворяющихся равнодушными носов и довольно хохотнула, заметив, как три пары ноздрей одновременно раздулись. И быстро отдёрнула ладонь, когда три пары челюстей впились в горчащую шоколадную глыбу.
Потом они сидели за праздничным столом, слушали речь Президента и пили «Абрау-Дюрсо» – Мария Николаевна из высокого хрустального бокала, а Хуан-Антонио-Сальваторе из блюдечка. А уже под утро слегка подвыпившая Мари смастерила из конфетной фольги три миниатюрных короны, которые всё соскакивали, и соскакивали, и никак не желали держаться на порфироносном челе… челах…
Хуан-Аитонио-Сальваторе, разбухший от шоколада и салата оливье, валялся пузом кверху на фарфоровом блюдце и размышлял вслух.
– Королём быть непросто! Особенно когда большая часть наших подданных – чистые свиньи! – у Хуана заплетался язык.
– Чистые свиньи! – икал довольный Антонио и тянулся лапками к зелёному горошку.
– Угу, – соглашался Сальваторе.
♂ Способы управления Тёмная фигура Алексей Провоторов
Наступала ночь, окружала город, мягко стекалась к стенам из пустыни; холодало, и в чистом воздухе то тут, то там иногда мелькали сухие снежинки. Над пустыней и городом, в бездонном, выгнутом в бесконечность небе проступали одна за другой сначала едва видные, а потом яркие звёзды. День кончился.
Ветер, разбежавшись по пустыне, долетал до крепких городских стен, взмывал по ним на какую-то высоту, терял силы, опускался вниз и, вздохнув, убегал обратно в пустыню, как волны прибоя. Когда-то давно, очень давно, здесь было море, и древние раковины поблёскивали перламутровыми сломами в светлом песке.
Рогатая луна медленно всплывала над горизонтом, размашистая, колючая, как ранний лёд. В такие ночи казалось, что на ней тоже лежит слой снега.
Ничто не тревожило город, кольцами улиц расходившийся от Синей Башни, острый шпиль которой тонул в темнеющей высоте. Приближались праздники, и окна Башни были темны. В городе же горели огни, мягко светились завешенные окна в просторных домах, сложенных из жёлтого и синего кирпича, где-то на окраине играла музыка. Сегодня лавки и таверны по традиции закрывались рано, жители расходились по домам. Градоправителю позволено было задерживаться в праздничный вечер на рабочем месте, но, впрочем, это было далеко не обязательно.
Город стоял здесь очень давно, как остров в песках, и маяк на его синей башне служил ориентиром торговым караванам, идущим на юго-запад, в тропики Мелимераты и оранжевого от орхидей Миелона, с северных окраин пустыни, из Фолх Вайна, или ещё дальше, из-за моря, из ледяных, давно окаменевших лесов Пойма. Так же, как и караванам, идущим в противоположном направлении.
Поэтому ворота города – и синие северные, и жёлтые южные, – всегда были открыты днём. А ночью, с заходом солнца, они закрывались, и тому было много причин в этом мире.
Этим вечером я сидел за тёмным столом в тёплой таверне и смотрел в большое, до пола, окно, выходящее на мощёную площадь. Это была одна из тех небольших площадей, что окружали Синюю Башню, от которой спицами расходились восемь улиц – по одной на каждую сторону света и четыре наискосок между ними. Башня, поистине огромная, довлела над центром города. Я видел синюю громаду её бока над вычурными черепичными крышами улицы, чуть подёрнутую дымком из труб и редкой пеленой снежинок.
Я держал в когтях простой стакан из тонкого стекла с горячим кофе – не люблю подстаканники, – потихоньку пил и смотрел на своё отражение в стекле, на золотящиеся узоры на рукавах и синие перья. Время смотреть на что-то другое ещё не пришло, и теперь я ждал, пока солнце перестанет подсвечивать запад, а луна поднимется к верхушке башни. К тому времени охрана разойдётся ближе к окраинам, и в спокойном центре, возле неразрушимой Башни град оправления, где почти нет жилых домов – только лавки, таверны и конторы – станет совсем безлюдно. На какое-то время.
Хотелось хоть ненадолго выйти наружу, подышать свежим, холодным воздухом с привкусом печного дыма, посмотреть, как пролетающий высоко над стенами ветер закручивает снег вокруг Башни, послушать, как звенит тонкий ледок в желобах водостоков и под подошвами расходящихся по домам горожан.
Но было нельзя. Поэтому я ел сладкое печенье, отвернувшись ненадолго от окна к почти пустому уже, обшитому деревом залу. Мягко светлели бежевые тканые скатерти в подкрашенной свечами темноте, за широкой и тёмной стойкой седобородый хозяин и два работника вытирали бокалы.
Когда кофе закончился, а узор кофейной гущи на дне не сказал мне ничего такого, чего бы я не знал, я встал из-за стола и подошёл к стойке.
Положив на тёмное дерево квадратную золотую монету, я заказал ещё кофе.
– Только что сварили свежий, – ответил хозяин и поставил передо мной полированный, пахнущий праздником кофейник.
– Тогда иди, – сказал я ему. – Я сам закрою.
Хозяин с готовностью кивнул. Он достаточно заработал сегодня, включая и мою оплату, и спокойно мог идти отдыхать. Сегодня почти все отдыхали, кроме меня, стражи и некоторых других, включая градоправителей.
Я проводил его до выхода. Мы поговорили ещё минуты две, и он, в сопровождении своих работников, ушёл. Бывает, хозяева живут при своих заведениях или же открывают заведения в своих домах, но у этого человека дом был в нескольких кварталах к северу. Поэтому я сегодня его и выбрал. Впрочем, не только поэтому. Я знал, что он не будет болтать лишнего посетителям, да и работники его тоже.
Я запер дверь, задул свечи. Немного постоял в тёмном, тёплом помещении, таком непривычно тихом после оживлённого вечера. Дом, казалось, отдыхал. Было слегка печально тут, в тенях, порождённых мягким светом окон домов на той стороне мостовой. Остывала печь, тихонько потрескивало дерево. Тикали часы в хромовой оправе.
Поскольку ночь всё наступала, огни всё гасли, а темнота всё сгущалась, я захватил кофейник и вернулся на свой стул у окна, ещё тёплый оттого, что я на нём сидел.
Усевшись, я вынул из внутреннего кармана лоскут тонкой кожи и прозрачный пузырёк с бесцветной жидкостью, а также кусок бечёвки. Из неё я сделал петлю со скользящим узлом, каким крепят рыболовные снасти на морских кораблях. Затем прижал когтем пробку пузырька, стряхнул одну едкую каплю содержимого в пустой стакан из-под кофе и моментально накрыл его кожаным прямоугольником. Накинув на посуду петлю, я затянул её. Под кожаной покрышкой поднялся белый парок и опал, кожа натянулась, как на хорошем барабане. Теперь всё было готово.
Я провёл рукой по голове, приглаживая перья, и, опершись локтями о стол, стал вглядываться в окно. Такие вещи всегда лучше делать морозным вечером, дождавшись, пока на окне проступят ледяные фракталы, вот как сегодня. Вглядевшись достаточно, я произнёс – шёпотом, в темноту – короткое слово, которое, впрочем, готовил заранее. Так готовится любое заклинание, и непроизнесённым до поры остаётся лишь последнее, развязывающее слово.
Окно, а вместе с ним и моё отражение в нём, подёрнулось, как патиной, немного призрачной зеркальностью, от которой даже у меня дыбом взъерошились перья на затылке. Вид из окна исчез, уступая место другим, нужным мне картинам; и стало видно, как…
…Взметнулись над стеной со стороны пустыни тёмные тросы и упали на каменную стену без стука. Упали, зацепились кошками и тут же натянулись под весом тех, кто поднимался по тросам, невидимый из города.
…Налетел на площадь ветер, закружил падающий и уже лежащий снег, скрутил в вихрь, а тот, всё никак не желая рассыпаться, протанцевал под стеной почти полминуты и, окончательно потеряв прозрачность, сжался в неясную фигуру, которая через секунду уже обрела объём и вес. Фигура эта, высокая, но непонятно, мужская или женская, запахнула белый плащ и повернулась на каблуках, высекая упавшие в снег искры.
…В тёмном и пыльном складе один из мешков с овощами, доставленных днём откуда-то с запада, пошевелился, выбросил изнутри тёмное, закопчённое лезвие, которое прошлось вверх по ткани, и из мешка выбрался человек. Он разогнулся, уперев руку в спину, потянулся, разминая затёкшие мышцы, и, не медля больше ни минуты, вышиб дверь одним чудовищной силы ударом и вышел в заснеженную ночь. Под луной блеснули его волосы – чёрные с сединой, и рогатая, словно демон, луна отразилась в белых глазах с крестовидными зрачками.
…Бродяга, зашедший ещё днём через северные ворота, ничем не вооружённый и потому никем не остановленный, вышел с постоялого двора на одной из широких внешних улиц и быстро зашагал к площади, оставляя на тонком снегу следы железных подошв. Бродячий пёс, что увязался за ним ещё в пустыне, несмело шёл следом.
…Крылатая тень, синяя в свете луны, опустилась на городскую стену на западе, посидела, как огромная сова, меньше минуты и мягко спланировала вниз, с многометровой высоты, приземлившись на одно колено. В свете фонарей переливчато блеснули виннокрасные перья и серебряные нити на полах плаща. Тень, похожая на птицу и на человека одновременно, а более всего на меня, погладила рукой снег – тёмные когти царапнули мостовую – и, выпрямившись в рост, шагом пошла к площади, где фигура в белом, принесённая метелью, распахнула плащ и теперь держала перекрещенные руки на бёдрах. Ветер трепал её одеяние, и казалось, что бахрома по краю рассыпается снегом, как хвост метели, а под капюшоном не видно было лица. Только луна заглянула в колючие и стылые, как речной зелёный лёд, глаза. Заглянула и отвернулась, равнодушная. Луне случалось освещать и более странные вещи.
Снег пошёл гуще, скрывая сходящиеся к площади тени, но тучи так и не заслонили луну, лишь чуть-чуть подёрнули острый серп спутника жемчужно-серой мглой.
Некто в белом, слившийся со снегопадом так, словно сам был снежной статуей, ничем не выдал своего присутствия до тех пор, пока спустя минуту на площади не появился кто-то ещё. Тогда он пошевелился и, скользнув ледяными отблесками по круглым оранжевым глазам пришедшего, произнёс сухим шёпотом:
– Здравствуй, Эль-Хот.
…Я слышал каждое слово почти так же ясно, как видел картины в стекле вместо собственного отражения. Я глядел прямо вперёд, поэтому не видел сейчас, как подрагивает натянутая на стакан мембрана. Но я знал, что кожа и стекло перескажут мне всё, что я хочу услышать.
Ночь сдвинулась вокруг меня, обняла за голову, как будто между мной и площадью больше не было ни расстояния, ни преград. Я смотрел во все глаза, неподвижный и, наверное, пугающий в темноте. Впрочем, меня никто не видел в этот час, я же видел всех.
…Фигура замерла на секунду, а потом выступила из тьмы проулка под свет фонарей, откидывая расшитый серебром капюшон с рыжих перьев.
– Не называй меня именем моего врага, близорукий, иначе я внесу тебя в тот же список, – свистящим голосом произнёс пришедший. В большой когтистой лапе, каждая чешуйка которой была заботливо украшена серебряным вензелем, незнакомец держал тонкий, загнутый серпом клинок. Выглядел тот довольно зловеще, несмотря на излишние украшения. И явная дороговизна оружия, и тон, и ухоженная чешуя, и схваченные серебряными нитями красные перья, образующие венец, выдавали знатное происхождение пришедшего, равно как и самодовольное выражение круглого птичьего лица. Презрительно искривив клюв, он спросил:
– Кто ты такой и что делаешь здесь сегодня? Это моя ночь!
Неведомо, каким был бы ответ, но в это время с северной стороны, из арки меж двух тёмных зданий, выступила ещё одна фигура, и свет фонарей отразился в клиньях белков, обрамляющих кресты зрачков.
– Я, видимо, всё-таки вовремя, – сказал пришедший, пряча широкие ладони в карманах серого шерстяного плаща. – Весь курятник в одном месте.
Он подошёл поближе и остановился на одинаковом расстоянии от молчащего незнакомца в белом и птицечеловека.
Тот, взъерошив перья, перехватил клинок так, чтобы можно было ударить снизу вверх, и, распахнув янтарные глаза, не в силах скрыть изумления, прошипел:
– Не знаю, как ты узнал, что я здесь, но ты не возьмёшь меня живым!
В ответ пришедший рассмеялся, тихо, но по-настоящему весело.
– Чиншан, я и не собирался, поверь мне. К слову, я вовсе не знал, что ты здесь. Я пришёл убить Эль-Хота, а потом уже отправиться к тебе.
– Тогда подойди сюда и попробуй, Моут! – в ярости закричал Чиншан, и в голосе его прорезались истинно птичьи ноты.
– Несомненно, так и будет, – сказал Моут, самый дорогой убийца Запада, и вынул руки из карманов. Чиншан, казалось, побледнел даже под перьями.
Но не успел никто сделать и движения, как чьи-то уверенные шаги, чуть заглушённые снегом, послышались со стороны западной улицы.
– Что-то здесь становится людно, – сквозь зубы сказал Моут.
– Гораздо более людно, чем я ожидал, – пробурчал Чиншан. Он был испуган.
Незнакомец в белом плаще молчал, словно ему ни до чего не было дела.
На площадь, освещённую фонарями, вышел бродяга в серо-голубой заснеженной куртке. Низко надвинутая шапка и высокий воротник скрывали его лицо. Он был немного сутул и явно молод. Рыжий с белым головастый пёс неопределённой породы, что пришёл с ним, сел в снег, когда человек остановился и оглядел всех собравшихся. У бродяги были тонкие, длиннопалые руки, а на поясе куртки, справа, почему-то были повязаны узлами пять разноцветных шнурков.
– А ты ещё кто такой? – спросил Моут.
Бродяга не ответил. Он просто смотрел.
– Отвечай, пёс тебя подери, – сказал Моут угрожающе. Ему безотчётно не нравились и белый в плаще, и бродяга с собакой, и это читалось на его остром, рельефном лице.
Но не успел никто сказать и слова, как где-то неподалёку едва слышно звякнул колокольчик – раз, другой – и из соседнего проулка твёрдым, но абсолютно бесшумным шагом вышли трое. Первый, беловолосый и молодой, одет был в серое с багрянцем и чрезмерно высок ростом; двое за его спиной, в матовых металлических масках, казались его чуть уменьшенными копиями.
Глаза Моута вспыхнули белым, кресты расширились. Пришёл его черёд удивляться.
– Хиреборд!
– Именно, Моут. Я за тобой, – сказал пришедший. В руке его зажат был тяжеловесный палаш, через плечо висела бухта троса. Колокольчик на правое ухо ему когда-то подвесили в целях наказания, под заклинанием, и ни снять, ни заглушить его было нельзя. Поэтому Хиреборд ни к кому не мог подобраться незамеченным, как бы тихо ни ходил.
– Не думал, что ты осмелишься, Хиреборд! Кого это ты с собой привёл? – спросил Моут – несомненно, нарочно, чтобы смутить его.
Вообще-то все знали, что это – ухудшенные копии самого Хиреборда, результат неудачного опыта по созданию идеального экипажа ещё в те времена, когда Хиреборд был пиратом на Сером море. Раньше их у Хиреборда был почти десяток, но с тех пор почти всех перебили – братцы, как называл их сам Хиреборд, сражались довольно слабо и против хорошего бойца ничего поделать не могли, кроме как взять числом. Такая тактика привела к сокращению этого числа, но всё-таки помощь от них была.
Чтобы перевести разговор с неудобной темы, Хиреборд ответил вопросом на вопрос:
– А ты кого привёл, Моут? Кто этот пижон в белом?
– Я пришёл сам, – ответил человек в белом плаще. Он говорил шёпотом, и от этого температура, почему-то казалось, упала ещё на градус.
Все помолчали, ожидая продолжения, но его не последовало.
Чиншан, который с появлением Хиреборда заметно приободрился, подал свой свистящий голос:
– Слишком много разговоров. Делай свою работу, Хиреборд.
– Э, не хочешь ли ты сказать, что тебя нанял пернатый? – спросил Моут.
– Именно, – согласился северянин.
Чиншан раздражённо скрипнул клювом.
– Хватит болтать, убейте его!
– Кого это вы собрались убивать без меня? – спросил из темноты женский голос. Он был таков, что все повернули головы к Южной арке, из которой на свет выступила девушка в пёстрой одежде цвета ночи, расчерченной метелью. Штаны её были заправлены в высокие сапоги из тёмной кожи, лоб и глаза закрывала волнистая кайма капюшона. Злой рисунок губ да светлая прядь на лбу – вот и всё, что можно было разглядеть в смешанном свете синей луны и жёлтых фонарей, но все присутствующие сделали шаг назад. Взгляды, как мокрые пальцы, примёрзли к железу клинков у неё в руках. Две рукояти виднелись над плечами. Это была Никла Четыре Меча.
– Никла! А кого ты-то здесь ищешь, вражина? – спросил Моут в ярости. – Тебя разыскивают в четырёх городах. Хочешь расширить географию?
– Ты знаешь, это не от того, что я плохая. Я просто злая.
– Что тебе здесь нужно? Эль-Хот мой, и никому другому убить его я не дам!
– А если я скажу, что ищу тебя? – спросила в ответ девушка.
– Лишь бы не меня, – сказал Чиншан. Присутствие Хиреборда и его братцев придавало ему уверенности, а чувство превосходства всегда развязывало Чиншану язык. Возможно, именно поэтому город Кражаль, которым правил Чиншан, постепенно приходил в упадок, уступая позиции Сину. И, возможно, именно поэтому Чиншан пришёл ночью в Сии, чтобы убить Эль-Хота.
– А вдруг я пришла за всеми? – спросила Никла. – И за тобой, Чиншан, и за Хиребордом с его неполноценными, и за Моутом, и за тобой, Дим-Дим?
Бродяга в шапке наклонил голову набок и спросил:
– Мы успели где-то познакомиться?
Голос его был хриплым, а глаза – почти белыми.
– К твоему сожалению, – сказала Никла.
– Хоть кто-то знает, кто это, – сказал Моут. – Кто бы ещё сказал, кто вот то? – он указал на незнакомца в белом плаще, что так и стоял неподвижно.
– Если услышишь моё имя, Моут, – тихо ответил тот, – будешь плохо спать. Однажды тебе приснится зима, и ты замёрзнешь.
Моут проигнорировал слова белого. Все знали, что это не к добру – если Моут переставал замечать собеседника, значит, скорее всего, в ближайший же час он попытается его убить.
Моут посмотрел на небо, подбросил носком сапога снег.
– Как я понимаю, – сказал он, – все мы, кроме Хиреборда, собрались здесь, чтобы убить Эль-Хота. Хиреборды собрались, чтобы убить меня. Поскольку Эль-Хот – это мой заказ, все могут убираться к псу, потому что я никому не дам даже попробовать. Хиреборды могут остаться и попытаться меня убить, – Моут помолчал секунду и добавил:
– Знаешь, Хиреборд, мне кажется, ты просто избавляешься так от лишних родственников.
– Земляк, а ты тоже охотишься на Эль-Хота? – спросила Никла у Хиреборда.
– Вообще-то я действительно охочусь на него, – Хиреборд кивнул в сторону Моута.
– Вот как. И кто тебя нанял?
– Я, – сказал Чиншан.
– В таком случае, что вы делаете здесь оба? К ночи я, видимо, плохо соображаю. – Никла почесала переносицу рукоятью правого меча. На рукояти было два крепления, как и на каждом из её мечей. Никла могла соединять клинки как угодно, хоть попарно – прямо или под углом, хоть четыре вместе в одну крестовидную конструкцию. Со всем этим она управлялась одинаково безупречно.
– Вообще-то я нанял Хиреборда, чтобы он убил Моута, а сам я отправился за головой Эль-Хота, поскольку, как все знают, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Я понятия не имел, что сюда придут и Моут, и Хиреборд, который за ним охотится, – Чиншан переступил с лапы на лапу – они мёрзли.
– А кто нанял Моута, хотела бы я знать? – спросила Никла.
– Как можно догадаться, – сказал Чиншан, – его мог нанять только Гарма, единственный из отсутствующих достойных врагов Эль-Хота.
– Дим-Дим, я так понимаю, ты пришёл сам по себе? – спросила Никла у бродяги в шапке.
– Конечно. Рад, что столько людей преследует те же цели, что и я. Пожалуй, я позволю вам перебить друг друга.
– Как будто тебя не зацепит, – сказала Никла.
– А чем Эль-Хот не угодил именно тебе? – спросил Чиншан. – Ты вроде бы не из землевладельцев, по крайней мере, я тебя не знаю.
Безмерное презрение отразилось на небритом лице бродяги.
– Замолкни, пернатый. Тем же, чем и ты. Я вообще не понимаю, как твари, подобные вам, могут править людьми? Вы должны сидеть в своих болотах за Мелимератой, откуда выползли! – сказал он, сжав тонкие пальцы в кулаки.
Чиншан, градоправитель и наследственный дворянин, от возмущения взъерошил перья вокруг шеи. Оранжевая ярость плескалась в его огромных глазах. Он крепче сжал клинок, готовясь рвануться вперёд.
– Я вообще не понимаю, как человечество терпит таких, как вы? Пернатых, оборотней, тавров, гомункулов, мутантов, в конце концов? – продолжал бродяга. Злоба исказила его лицо, широкое, небритое, с глубокими не по возрасту складками.
– Ну человечество ведь как-то терпит подобных тебе? – спросила Никла.
– Парень, как там тебя, – сказал Моут, и зрачки его сузились в нитяные кресты прицелов. – Ты только что нажил себе сразу нескольких врагов. Если даже Никла, полностью человек, не на твоей стороне, то что говорить об остальных?
Чиншан, происходивший из того же тропического народа, что и я; получеловек Моут, могущий закаменеть на целые сутки и не потерять ни силы, ни подвижности своего невероятно мощного тела; Хиреборд, опекавший команду из собственных, пусть и неудачных, копий – все они смотрели на Дим-Дима со злым презрением.
– Такие, как вы, не должны жить рядом с людьми. Вы хуже животных, – Дим-Дим говорил сквозь зубы. – Кто-то должен очищать наши земли от вас.
– Хорошо, можешь больше не жить рядом с нами. Мы тебе поможем, – сказал Моут и, распахнув плащ, вытащил из ножен на поясе тёмно-голубую саблю. Фактура лезвия имела волнистый узор, на гарде явно были видны заполированные, но глубокие царапины – этим оружием когда-то жестоко дрались.
– Что это за клинок у тебя, Моут? – спросил Хиреборд, а Чиншан ничего не спросил, но круглые глаза его так и впились в саблю Моута. Чиншан когда-то хотел себе такую, да кузнец отказал ему. Впрочем, никто не знал, что кузнец отказал бы и Моуту, но, поскольку убийца приобрёл оружие случайно, в пустыне, у встреченного торговца, то он ничего не ответил Хиреборду.
– Никла, переходи на мою сторону, – предложил Чиншан, – и деньги, равные обещанным Хиреборду, достанутся и тебе. А это немало. Просто слишком много народу здесь собирается меня убить, а экономить на безопасности я не хочу.
Никла слушала их вполуха, тихонько напевая «Мраморный дом». Ей явно становилось скучно.
– Вы мне надоели. Разбирайтесь между собой. Вы хоть помните, кто из вас пришёл сюда первым? Не говоря уже зачем?
– Когда я пришёл сюда, – сказал Чиншан, – здесь был только он. – Когтистая лапа указала на белого, который так и стоял молча, нервируя остальных. – Ну меня до сих пор не было времени расспросить его, кто он, собственно, такой.
– Раз здесь нет Эль-Хота, которого мы все ожидали тут увидеть, – задумчиво сказал Моут, – а вместо него у Башни стоит этот тип в белом… Значит, Эль-Хот знал, что мы придём, и прислал его вместо себя.
– Не думаю, что он ожидал столько народа, – сказал Чиншан. – Скорее всего, он ждал кого-то одного и прислал своего наёмника.
Фигура в белом никак не реагировала на обсуждение. Просто стояла, и край плаща лениво трепался по блестящим сапогам. Казалось, тому, о ком шла речь, всё было абсолютно безразлично.
– Давно ты здесь стоишь, приятель? – спросил Моут. Его раздражало то, что сегодня ему никто не хотел отвечать. Впрочем, приходилось терпеть: Моут попал в общество почти равных, и здесь его мало кто боялся.
Незнакомец молчал. Опрокинутая над головой ночь была огромна и бесконечна.
– Видимо, давно, – сказал Чиншан. – Когда я пришёл сюда, он встретил меня, приняв за Эль-Хота. Следов на площади не было, а снег шёл не такой уж сильный. Значит, с вечера.
– Не было следов, говоришь? – Никла вдруг напряглась. – Открой лицо, приятель, и я угощу тебя чаем. Или нам придётся стянуть с тебя капюшон и напиться чаю за твой счёт. Открой лицо.
– Не раньше вас, – тихо сказал незнакомец. Пар не вырывался из его уст при разговоре.
– Хорошо, – осторожно сказала Никла. – Нам скрывать нечего, мы друг друга узнали.
И она откинула капюшон. Лицо её, того же северного типа, что и у Хиреборда – скуластое, со вздёрнутым носом, – выдавало возраст, не достигающий тридцати. Тугая светлая коса за левым ухом спускалась за широкий ворот. За правым волосы были собраны в короткий хвост – однажды ведьма отрубила ей косу в бою, и с тех пор она не отросла ни на дюйм.
Хиреборд тоже оказался беловолосым и синеглазым. Ресницы и брови казались белыми от инея, но то был их родной цвет.
Моут был страшен. Хотелось, чтобы он надел капюшон обратно.
Чиншан стоял не шелохнувшись. Рыжие и виннокрасные перья казались барельефом в неверном свете луны.
Бродяга снял шапку и открыл стриженую голову с выбритой на затылке звездой о семи лучах.
– Твоя очередь, – сказала Никла, оглядев жутковатую компанию.
– А если я скажу нет? – чуть слышно, но с насмешкой в голосе осведомился незнакомец. – Что ты сделаешь?
– Тогда нам придётся заставить тебя, и ничего более, – ответила она.
Хиреборд дал знак, и один из сопровождающих приблизился к белому на расстояние клинка в вытянутой руке. Осторожно, медленно дотронулся сталью до ткани. Белый даже не пошевелился, а по лезвию вдруг пошёл морозный узор.
Моут понял и поднял оружие.
Человек в белом внезапно отшвырнул Хиребордова помощника одной рукой в снег и скользнул к Мо-уту, взметнув позёмку; и все вдруг увидели, что лицо его под капюшоном белоснежно и практически лишено черт. Два ледяных ножа блеснули в его руках.
– Снежить! – крикнула в голос Никла Четыре Меча, а снежный голем, чьё тело – холод, а души нет и вовсе, одним прыжком достиг Моута и нанёс свой последний удар. Удар распорол воздух, и меч Моута вошёл голему прямо в центр груди.
Снежный голем – существо, созданное из движимого магией снега – фактически неуязвим. У Моута не было шансов, но меч пробил создание насквозь, и, застонав, как ветер в узкой трубе, в последний раз блеснув ледяными глазами, оно рассыпалось грудой сухого снега; и алая кровь, дымясь, выплеснулась на этот снег сквозь пространство: меч Моута убил и существо, и его хозяина – где-то далеко, за много миль отсюда.
Позёмка выписала над землёй какую-то сложную руну и улеглась, обессиленная. Моут отступил на шаг, всё ещё не понимая, и капли крови с лезвия нарисовали в истоптанном снегу тёмную цепочку.
Моут поднял глаза, обвёл взглядом присутствующих. Незаданный вопрос повис над площадью.
– Это Хейзенхейерн, Моут. Меч против магии, – сказал наконец Чиншан. – Однажды я почти раздобыл такой. Где ты его взял?
– Купил по случаю. Когда я добирался сюда, мой меч, честно говоря, украли. Этот я купил у первого встречного торговца оружием, – Моут настолько не ожидал произошедшего, что разговаривал с Чиншаном вполне нормально.
– Эль-Хот мёртв. Ты лишил меня этого удовольствия, Моут, – сказал Чиншан, решивший воспользоваться переменой в поведении убийцы. – Пора уходить.
– Никто никуда не уходит, – сказал Моут. Чиншан стиснул клюв. Его терпение тоже истекало, и страх отступал вместе с осторожностью.
– Тут я тебя поддержу, – сказал Дим-Дим. – Ты всё-таки больше похож на человека, чем оно, – он кивнул в сторону Чиншана.
– На кой пёс кому твоя поддержка, – отмахнулся Моут и наконец шагнул вперёд.
Каждый из присутствующих обладал магией в той или иной степени.
Моута перехватил Хиреборд. Он проревел заклинание Пяти рук, которым мог пользоваться не только врождённый заклинатель, но и обученный человек, и огненные знаки раскрытой ладони мелькнули в воздухе, числом пять, словно привязанные к его тяжёлому кулаку. Он ударил Моута в обход клинка в лицо, с сокрушительной силой, равной природной силе Моута, и тот полетел спиной в снег.
Никла взметнула клинки, и Дим-Дим, крутанувшись, ушёл из-под удара. Он никогда не носил с собой оружия – его заменяли быстрота тела и способности к магии. Дим-Дим был заклинателем, и неплохим, несмотря на навязчивые идеи.
– Афлим, – произнёс он, потянув за узелок на поясе, и синяя молния проскочила между фонарём и мечами Никлы, выбив их из рук. Никла вскрикнула от боли и отлетела назад.
Моут сцепился с Хиребордом, Дим-Дим отшвырнул одного из братцев так, что тот упал; второй же рухнул, располосованный саблей Моута. Первый, впрочем, тут же встал и рванулся в бой снова.
Одновременно с этим Чиншан бросился к Дим-Диму, и тот развязал ещё узелок.
– Офлим, – сказал он, и снег вдруг схватил Чиншана за ноги, сгрудившись на секунду, заставив того споткнуться и попасть под удар Хиребордова братца. Чиншан прожил ещё мгновение, в ярости отшвырнув своего невольного убийцу и попав ему крюком под горло. Сам Хиреборд этого не заметил, потому что пропустил прямой удар Моута. Сабля раскроила бывшему пирату голову, и он упал мёртвый. Колокольчик его звякнул последний раз.
Никла уже поднялась и рванулась к Моуту, тот бросился к Дим-Диму.
Пёс бегал кругами и петлями, ворчал и скулил, мешая. Почему он до сих пор не убежал, было неизвестно.
– Уфлим, – сказал заклинатель, развязывая очередной узелок, и мечи Моута и Никлы внезапно рванулись навстречу друг другу, обуянные короткой вспышкой магнетизма. Лязгнула сталь, Никла упала вновь, Моут полетел через неё.
Впрочем, он тут же вскочил и нанёс удар снизу вверх. Дим-Дим неуловимо отступил прямо в пятно крови и на мгновение глянул под ноги.
Моут опустил саблю мощнейшим ударом, но заклинатель успел сделать шаг назад.
– Ифлим, – сказал он, улыбнувшись и развязывая четвёртый узелок.
Кровь моментально заледенела, и оружие Моута примёрзло к камню мостовой. Это остановило его буквально на полсекунды, не более, но заклинателю хватило этого, чтобы нанести удар ногой. Моут отпрянул со сломанным носом, а Дим-Дим, ещё одним мощным ударом уложив Моута в снег, в тот же момент обернулся к Никле. Та шла прямо на него.
Он наклонил голову.
– Эфлим, – сказал он, развязывая последний узел. – Танцуйте, мечи, танцуйте.
Клинки убитых – палаши команды Хиреборда и серп Чиншана – взмыли в воздух и ворвались в зазор между Никлой и магом. Сабля Моута – то ли потому, что он был пока жив, то ли по причине её анти-магической природы – осталась лежать в снегу.
– Наконец взялся за оружие? – спросила Никла, отбивая атаку. Четыре клинка снова ринулись на неё, но она не отступила.
Дим-Дим не ответил, подошёл к лежащему Моуту. Протянул руку, и тотчас же оружие Чиншана скользнуло к нему. Никла сражалась теперь с тремя палашами, наступая – магия не могла так хорошо управляться с оружием, как настоящий боец.
Заклинатель склонился над Моутом, чтобы серпом перерезать тому горло, но Моут вдруг резко, пружинно сел, как не смог бы ни один другой человек в мире, и ударил его головой в нос, мстя тем же самым; а потом, перехватив руку заклинателя, вывернул ему запястье. Дим-Дим ударил его левой рукой в скулу, но правая ладонь Моута нашарила Хейзенхейерн, и, прямо из положения сидя, он нанёс наконец удачный удар. Голова Дим-Дима упала на мостовую. Моут повалился локтем в снег, стирая кровь с замёрзших губ.
За его спиной с мягким стуком упали в снег мечи, и слышны стали шаги Никлы. Моут, с чёрными уже глазами и чёрными в ночи полосами крови от носа до шеи, встал и развернулся. Он зарычал, тихо и низко, так, что попятился даже не ушедший никуда пёс, и убийцы пошли навстречу друг другу.
Они сошлись на относительно чистом ещё участке, и Никла едва не убила Моута первым ударом. Принявший его Хейзенхейерн зазвенел, но выдержал. Никла отбила ответную атаку и, ударив крест-накрест, выбила меч из рук Моута и тут же нанесла размашистый удар.
Моут отбил лезвие старым-старым восточным приёмом, тыльной стороной ладони. И ещё раз.
Никла перехватила мечи по-другому и крутанулась вокруг себя, далеко выбросив правую пятерню. Моут уклонился почти фантастическим образом, рискнул и успел перехватить руку девушки до того, как она завершила разворот. Заломил – Никла застонала, но не выронила мечей, а резко выпрямилась назад, оттолкнувшись ногами от заснеженной мостовой, и голова её врезалась Моуту в подбородок.
Моут упал и тут же вскочил, нашарив в снегу чей-то меч. Никла перекатилась через плечо на ноги, а Моут рванулся вперёд, снова метя снизу вверх, намереваясь распороть её пополам. Никла закрылась, защитив себя частоколом обращённых вниз лезвий, но Моут и без того запнулся, словно что-то рвануло его назад. Он рухнул на колено, и Никла почти машинально взмахнула рукой наискосок, рассекая шею противника от уха до ключицы. В который раз ночь окрасилась алым, и Моут, побледнев, выпустил меч и упал лицом вниз, в мятый снег, и багровым цветком расцвело вокруг его головы пятно крови.
Никла на какое-то мгновение так и замерла, в положении завершённого удара, в свете древней луны и блеске снега похожая на статую.
Бродячий пёс, который пришёл на площадь вместе с заклинателем, отпустил штанину мёртвого убийцы и довольно улыбнулся. Он казался как-то больше, чем раньше. Шерсть блестела в лунном свете, глаза отсвечивали красным.
Никла Четыре Меча нахмурилась и сжала рукояти крепче.
Пёс вдруг прыгнул вперёд – не сильно и не высоко, просто так, словно забавляясь, – перепрыгнул наискосок ноги убитого Моута и, подогнув передние лапы, перекатился через голову. На лапы он встал, будучи размером уже с волкодава.
Он распрямился, передние лапы оторвались от земли, тело его стало гнуться и вытягиваться, хрустнули суставы, и спустя секунду он превратился в человека, только голова осталась всё та же, собачья, с хитрой, по-опасному бесшабашной улыбкой на рыжей морде. Пёс почему-то казался ненормальным.
Он пижонски поклонился, ухитрившись в поклоне сдёрнуть с тела Моута расстегнувшийся плащ, и тут же закутался в него.
– Добрый вечер, уважаемая Никла, – сказал он хрипловатым, в меру низким голосом с вибрирующими модуляциями. – Искренне рад был видеть вас в деле. Теперь мне окончательно понятно, почему вас разыскивают в четырёх городах. Позвольте узнать, что вы делаете в пятом? Все не преминули проболтаться о своих причинах, и мы можем видеть, к чему это привело, – пёс обвёл изящной лапой залитую кровью площадь. – Мы же с вами сохраняли молчание – и пока живы.
– Кто ты такой? – спросила Никла. Все её четыре меча готовы были к очередному сражению, но пёс вроде бы и не собирался нападать.
– Извините, миледи, забыл представиться, – пёс махнул хвостом под плащом. – Мортимер Фост, свободный землевладелец и уборщик.
– И что ты убираешь, Морт? – Никла сделала шаг в его сторону.
– О, мы перешли на ты? Что ж, я приемлю быстрое развитие отношений. Жаль только, такими темпами они скоро подойдут к концу.
– Я не так дорожу ими, чтобы это меня расстроило, – сказала Никла. – Ты не ответил на мой вопрос.
– Следы преступлений. Как чужих, так и собственных, – хихикнул пёс. – Например, мне придётся убить и тебя, иначе я не смогу закончить уборку.
– Отчего?
– Оттого, моя любопытная леди, что на площадь наложено заклятие.
– Что-то много магов для одного вечера в одном городе. Впрочем, как видишь, я работаю над этим.
– Знаешь ли, у каждого своя работа. Меня наняли для того, чтобы убрать все следы случившегося на центральной площади Сина в канун праздника. И вот я тут. Пока вы выясняли отношения, я принимал меры. Поэтому к утру пойдёт снегопад, закрывая ваш пепел, а я уже буду далеко отсюда и покину город, как только отворятся торговые ворота.
– Ну ты и собака, – сказала Никла. – Кстати, это магия?
– Врождённая особенность, – уклончиво ответил Мортимер.
– Так что там насчёт пепла?
– Знаешь о заклинаниях Тоймара? Их применяли в храмовых войнах позапрошлого столетия. Когда в катакомбах становилось слишком тесно сражаться, часть трупов павших превращалась в пепел, освобождая место. Придя сюда, я оценил ситуацию и настроил заклятие. Так что, как только на площади окажется семь трупов, они сразу обратятся в пепел.
– Семь? Но ведь погибших уже семеро, а для седьмого трупа нужна восьмая смерть. Ты заранее знал, что одним будет голем?
– Нет. Странно, что вы этого не чувствуете, но это же слышно по запаху. Человек не может пахнуть снегом.
– А оружие? Его ты куда денешь?
– В колодец, Никла. Я бы забрал только Хейзенхейерн, но собака с мечом вызовет подозрения на выходе. Впрочем, завтра страже будет не до меня – градоправитель мёртв.
– Только не в Сине, – сказала Никла.
– Что ты имеешь в виду?
– А с чего ты взял, что Эль-Хот мёртв?
– Кто же тогда послал снежного голема, по-твоему?
– Тот же, кто и тебя. Гарма. Так что на оплату можешь не надеяться. Мало того, он должен был убить и тебя, после того, как ты сделал бы своё дело. И Мо-ута. Чтобы не платить, а также чтобы обезопасить в будущем самого Гарму. Убиты свидетели, убиты убийцы, только снег на площади, и всё.
– Хм. Слушай, а ведь в твоих словах есть рациональное зерно, – сказал Мортимер. – Что, впрочем, не помешает мне выполнить работу. Я всегда всё делаю до конца.
– А как ты собираешься раздобыть седьмой труп? Наложить на себя руки? – спросила Никла.
– Нет, придётся тебе помочь мне в этом деле.
– Наложить на тебя руки? Найти труп?
– Стать им.
– Морт, – сказала Никла. – Возможно, маг ты лучше этого несчастного Дим-Дима, но меня ищут не за хождение по газонам. Как ты собираешься убивать меня? Заклинания, как известно, с трудом действуют на живую плоть.
– Я неплохо фехтую, – сказал Морт. – Хотя, если бы мог, принёс бы револьвер.
– Фехтуешь? Ну так иди сюда.
– Сравняем шансы, – сказал Мортимер и хлопнул в ладоши.
…Я отвёл глаза за секунду до того, как вспышка фонарей на площади ослепила Никлу. Впрочем, вспышку я увидел, но воочию, в окно. Потом фонари погасли уже насовсем.
Я встал с табурета, не мешкая, подошёл к двери, морщась от неприятного ощущения в затёкших ногах. Открыл дверь и вышел наружу, в зимнюю синюю темноту. Свежий воздух прояснил голову.
Снег почти перестал. Луна перевалила за половину неба и теперь спускалась к западу. Мороз тоже, видимо, миновал свой предел – теплело. Где-то в темноте, очень далеко, на самой окраине, кто-то играл на калимбе, и звук, отражаясь от вогнутой стены, достигал башни.
Я шёл быстро, не задерживаясь ни на секунду, шёл на звон мечей, заметая свои следы полами плаща. Редкие предутренние снежинки ложились на перья.
Я вышел на площадь сквозь арку меж двумя шоколадно-коричневыми домами, принадлежащими Торговой палате, и увидел, как Никла Четыре Меча и человек-пёс по имени Мортимер Фост сражаются посреди красно-белой от снега и крови площади. Никла явно почти ничего ещё не видела после вспышки, но пёс всё равно пока не мог её одолеть. Впрочем, кто знает, что ещё было у него в запасе. Я подошёл к ним неслышно и поднял из снега свой клинок, Хейзенхейерн. Он проделал долгий путь, чтобы вернуться ко мне.
– Морт, – позвал я, и когда он обернулся, удивлённый, я нанёс удар.
Он повалился спиной к фонарю. Самый опасный из моих врагов, по причине своего безумия.
– Эль-Хот? Разве ты не мёртв?
– Как видишь, Морт. Я стою здесь, отбрасываю тень, разговариваю с тобой, а в глазах моих не пляшет зелёный огонёк.
– Что до огонька, то он – не единственный способ оживить тело. Впрочем, ты и сам знаешь. Но да, я вижу, что это ты, – человек-пёс поднял голову и посмотрел в звёздное небо. Ещё падал лёгкий снег, и иногда трудно было отличить снежинку от звезды.
– Я рад, что мне не приходится переубеждать тебя.
– Значит, это и правда Гарма послал снежить?
– Как и тебя. Моут должен был убить меня и Чиншана, которого Гарма отправил сюда обманом. Если вкратце, он поймал его на самолюбии, сказав, что Чиншан ничего не может сделать сам. Голем же должен был убить Моута и тебя.
Никла подошла поближе.
– Ты вовремя, градоначальник Эль-Хот.
– Как и договаривались.
– Как глупо, – сказал Мортимер Фост, ненормальный наёмник, и закрыл глаза.
Седьмое мёртвое тело упало на площадь, и заклинание заработало: тела засветились изнутри золотым светом, иссохли вместе с затлевшей одеждой и пролитой кровью и рассыпались в легчайшую пыль, подхваченную ветром. Все они исчезли без следа: и Моут, убийца, нанятый Гармой, которому процветание Сина было хуже кости в горле; и Чиншан, правитель Кражаля, ненавидевший меня по той же причине, что и убитый собственным наёмником Гарма; и наёмный убийца Хиреборд, которого рано или поздно Чиншан отправил бы против меня, и заклинатель Дим-Дим, охотившийся на меня и Чиншана, и Мортимер Фост. Как исчез до того снежный голем, убитый Мо-утом, у которого я украл клинок и которому продал свой собственный меч, чтобы вооружить его против магов.
И то и другое, конечно, я сделал не своими руками, но результат был ожидаем. Все мои враги, представлявшие опасность для меня лично или города, были теперь мертвы. Я сделал так, чтобы они все пришли сегодня сюда и чтобы никто не ушёл.
Я правлю Сином уже очень давно, это спокойный и богатый город, как бы кто-то ни старался помешать этому.
Я специально сам составлял маршруты стражи, нарочно распускал слухи, даже торопил Гарму с организацией покушения – тоже через подставных лиц, разумеется, – чтобы ничто не мешало моим врагам пробраться в город и чтобы горожане никогда не узнали этого.
Никла Четыре Меча, которую разыскивали в разных городах и которая управляла тайной стражей в Сине, собрала мечи и прочие металлические вещи в длинный кожаный чехол.
– Спасибо, Никла, – сказал я.
– Удачных праздников, – Никла улыбнулась немного устало, глаза у неё были красные.
– И тебе. Иди отдыхай.
Никла Четыре Меча кивнула и, натянув капюшон на светлые неровные волосы, забросила чехол с оружием на плечо и удалилась.
Я поднял голову, посмотрел на светлеющее небо. Луна куталась в туман; с севера, с Серого моря, что за скалами Фолх Вайна, натягивало снежные тучи. К рассвету, по заклинанию Фоста, должен был начаться снегопад, и это было хорошо.
Я ещё раз огляделся, смерил взглядом башню, постоял минуту на пустой и тихой площади, просто вдыхая и выдыхая воздух.
Потом, чувствуя, что начинаю замерзать, я поёжился, пригладил перья на голове и направился обратно к таверне.
Наступал праздничный день, и можно было отдыхать.
7. Рокировка
Ход с участием двух фигур. Перестановка сил, замена одного другим. В жизни рокировка может быть обратной, а в шахматах – нет.
Атака ведется на позицию рокировки, на слабые пешки и, главным образом, на психику противника.
Савелий Тартаковер♀ Город весёлых безумцев Длинная рокировка Лариса Бортникова
Мы возвращались в Норк – я и пять жерлянок-фурри, отчаянно старающихся не блевать. Для меня пара суток за рулем – peanuts, а вот лягушки держались из последних сил. Порадовавшись, что лишён потребности в отдыхе, я подмигнул лупоглазенькой, виновато прикрывающей рот перепончатыми ладошками. Потерпи, baby. Совсем немного, и мы на месте. Через четыре мили въездной шлагбаум, после которого можно перестать думать о мелочах и сосредоточиться на главном…
Возле указателя «Восточный въезд. 1 миля» я сбавил скорость. Восток города контролировался боевым кланом Аффатто, недавно заключившим долгосрочный союз с семьей Барбаросса. Наверняка появление здесь клянчии цвета «красный перламутр» не пройдет незамеченным – мою тачку знает каждая полицейская шавка в городе.
И все-таки, когда на въезде нас остановил патруль, я немного занервничал. Сержант в неопрятном мундире командовал ротой доберманов-фурри, отдавая приказы опасливо и неуверенно. Он несколько раз обошел вокруг машины, стараясь скрыть удивление. Потом решился, жестом попросил меня опустить стекло и подошел ближе.
«Что везете?» – сержант втиснул голову в салон и уставился на испуганных пассажирок. Доберманы стояли поодаль, лениво о чем-то переговариваясь и не торопясь присоединиться к ротному. «Контрабанда? Оружие? Наркота?» Я пожал плечами. В животе приятно завибрировал страх: если легавый не сообразит подозвать к машине фурри, всё может сорваться к чертовой бабушке. Дубоголовый сержант ещё, чего доброго, решит, что известный плейбой Тино Карлиони всего лишь набрал на болотах земноводной «клубнички» и намерен вдоволь оттянуться в каком-нибудь из городских клубов для «золотой» молодежи. Или кто знает, что ещё придет в голову этому идиоту. А если я всё-таки просчитался, и меня сейчас просто отпустят восвояси или, что ещё хуже, всерьез задержат по статье?
«Эй, криволапый!» – рявкнул сержант. Доберман с забинтованным плечом нехотя двинулся к машине. Я замер. Острое лицо, улыбка, похожая на волчий оскал, дрожащий кончик крупного носа. Фурри чуть нагнулся над приоткрытым стеклом, глубоко вдохнул, пошевелил ноздрями. Улыбка стала ещё шире. Доберман отозвал сержанта в сторону и что-то зашептал тому на ухо. Сержант пару раз покосился на меня, а потом быстро направился к своей будке. Теперь оставалось только догадываться, кому сейчас звонит полицейский слизняк – в управление или одному из бригадиров Аффатто. Если это Аффатто, то пройдет минут пять, пока новость доберется до ушей их дона. Ещё пять минут на звонок дона Аффатто в резиденцию Барбаросса. Плюс обратная цепочка. Итого – четверть часа. Хватит на то, чтобы выкурить половину сигары.
Ровно через пятнадцать минут шлагбаум пополз вверх. Кто-то дал сержанту указание беспрепятственно пропустить в город красную клянчию, под завязку набитую отличным сырьем для дури. И я догадывался кто.
* * *
Единственному наследнику империи Карлиони не рекомендуется слишком часто бывать на территории других кланов, поэтому восточную часть города я знал неважно. Сегодня это было мне только на руку. Я пропетлял по незнакомым улицам около часа, действительно заблудился и даже обратился к продавцу сахарной ваты с просьбой о помощи. Мне требовалось потянуть время – не только растрясти курьеров, но и дать возможность Барбаросса оценить ситуацию. К тому же я предполагал, что уличный торговец (и, разумеется, шестерка-дилер) сообразит доложить о том, что небезызвестная клянчия ещё не добралась до резиденции в южной части Норка.
– Дон Тино, – рука-лапка дотронулась до моего плеча. – Нам совсем худо.
– Уже скоро, бородавочка. Терпи, – усмехнулся я. Пора было возвращаться домой.
Педаль ушла в пол, мотор взревел. Растущие по обочине акации помчались навстречу с огромной скоростью. На заднем сиденье кто-то охнул, издал гортанный звук, и в салоне завоняло гнилью. «Пока доберемся, от машины ничего не останется». Я пожалел, что не лишен обоняния, переключил скорость и снова выжал газ.
Я вел машину неровно, резко притормаживая на поворотах так, чтобы сидящие сзади лягушки выблевали всё содержимое желудков и даже сами желудки, по возможности. Кожаный верх был полностью откинут, но бриз так и не смог перебить отвратительного кислого запаха испорченной обивки. Машину придется продать. Или лучше подарить кому-нибудь из рядовых бойцов. Ребятам будет приятно получить тачку самого Тино Карлионе.
– Дон Тино, пожалуйста… Долго ещё? – лупогла-зенькая ещё держалась, но это уже не имело значения.
– Приехали. Stop!
* * *
Пепе встречал нас у крыльца. Стоял на нижней ступеньке и хмурился. Обычно улыбчивый и внешне безобидный консильери никогда мне не нравился. Мне не нравились его колючий подбородок, его мешковатый костюм-тройка, нарочито-медленный крестьянский говорок (хотя, думаю, он, прежде чем сказать что-то вслух, просто проговаривал мысль про себя), его манера шевелить губами и цепкий взгляд. Всеведущий Пепе, хитрый Пепе, Пепе-плотник (когда-то юный Пепито зарабатывал этим на жизнь), он считался правой рукой отца и моим наставником. Именно он двадцать лет назад посоветовал дону решить вопрос с наследником не вполне обычным образом, после чего и получил должность старшего советника. То, что консильери уже знал о моем приезде и ждал на крыльце, означало одно – план сработал.
– Салют. Рад видеть тебя, сынок, в добром здравии. Мы тут думали, что ты поехал в Ла-Фергус поиграть в рулетку, и не слишком уж волновались. Но, гляжу, ты был в другом месте. Увлекся зверушками? – Пепе, прищурившись, смотрел, как жерлянки неловко выбираются из машины – одна, другая, третья.
– Ты не понял. Look! – я схватил двух едва стоящих на ногах девчонок за плечи и толкнул к крыльцу. – Это же товар. Слушай. Я немного их растряс, и они испортили мне тачку. Завтра закажу новую. Так вот, о чем я? Это не просто товар, а эксклюзив. Догадайся откуда? Ну? Не поверишь – от самой старухи Перрес!
Торжествующая и глуповатая улыбка не сходила с моего лица. Джузеппе переводил взгляд то на меня, то на жерлянок и тихонько шевелил губами.
– Выходит, всё выблевали подчистую?
– Одна вроде «полная». Ну и что? – я возбужденно подпрыгнул на месте. – Главное, я и Перрес обо всем перетерли, как полагается. Вообще странно, что это раньше никому не пришло в голову! Только мне! Мне! Это же отличная idea! Правда, Пепито?
– У Аха Перрес хороший товар, – консильери о чем-то усиленно думал. Я почти слышал, как скрипят его тяжелые плотницкие мозги.
– Хороший? Ты шутишь! Да у неё лучшее сырье во всем штате! Она готова поставлять по дюжине «полных» курьеров в месяц, если качество пробной партии нас устроит. Представляешь, Пепито! Дюжину отличных напичканных дурью лягушек! С такими объемами мы натянем Бородатого за неделю. А старик дома? Пойду порадую его новостями.
– Погоди, – Пепе наконец-таки сошел с крыльца и одним шагом преодолел расстояние от нижней ступени до открытой дверцы клянчии (иногда тяжеловесный Джузеппе напоминал кабана-фурри). – Твой отец обо всем уже знает, сынок.
– Так ему доложили? Откуда узнали? Нет, правда… Он рад? – взволнованно зачастил я.
– Тут видишь как… – консильери замялся, подбирая правильные слова. – Ты молодой, жаркий, скорый на решения и пока не слишком шаришь в политике. Ты это… маленько облажался, сынок. Два раза облажался. Первый, когда решил всё сделать сам, не спросив совета у старших. Второй… Когда воспользовался восточными воротами. Почему ты въехал через шлагбаум этой жирной скотины – Аффатто? И почему не пришел ко мне, когда надумал отправиться на болота? Малыш, мы же с тобой договаривались – ничего не делай, не посоветовавшись со мной…
– Ах, вот оно как! – осторожная ярость подкатила к горлу. Мне даже не пришлось слишком притворяться – всякий раз, когда Пепе выдавливал из себя это карамельное «малыш», меня начинало по-настоящему трясти. Разумеется, не так сильно, как трясло бы, будь я человеком, но достаточно для неприятного скрипа в челюстях. – Послушать тебя и отца, так Тино Карлиони не смеет даже шагу ступить самостоятельно!
– Не кипятись! Ну почему, почему ты не въехал «нашим» шлагбаумом?
– Да потому что эти хреновы головастики внезапно передумали удерживать внутри себя смесь! А пилить к южным воротам – терять три часа на объезд! Fuck! Я рисковал! Я притащил вам поставщика отличной дури! И что взамен? «Отец недоволен тобой, Тино», «ты не разбираешься в политике, Тино», «не лезь не в свое дело, Тино».
Я давно уже успокоился, но продолжал кричать и скрипеть челюстями, сам себе напоминая зубастого рождественского вояку с сабелькой из фольги. Пепе тяжело молчал.
Лягушка – не фурри, а обычная – выползла на дорожку и уселась прямо посередине светового пятна (дом и аллея всегда хорошо освещались). Я с удовольствием опустил на треугольную голову ботинок и впечатал влажное пятно в плитку патио. Одна из моих недавних спутниц, кажется, лупоглазенькая, вздрогнула и задавила испуганный всхлип.
Тощенькая и даже симпатичная жерлянка-фурри, или, как они сами себя называют, «истинная лягушка», жадно хватала ртом вечерний воздух, не решаясь поинтересоваться собственным будущим.
* * *
Я мог ей рассказать. Я мог рассказать, что сейчас их, скорее всего, загонят в подвал, где хирург-самоучка под местным наркозом вскроет нежные пятнистые животы, чтобы достать оттуда товар. У «полного» курьера это четыре-пять фунтов полупереваренных галлюциногенных пиявок. Но и незадачливые перевозчики тоже пойдут под скальпель, потому что даже четверть фунта концентрата означают тысячи сольдо в годовом балансе семьи Карлиони. Потом пиявки поедут на стерильных тележках в лабораторию, оттуда в цех, а оттуда выберутся на улицы Норка в виде зелёного порошка – не самой плохой штуковины, которую можно найти в этом городе и его окрестностях.
Я мог рассказать всё, потому что всю цепочку я вызубрил получше азбуки, которую отец вручил мне на шестой день рождения. Я знал всё от А до Z, от выуживания из вонючей тины пиявок и скармливания их курьеру с заранее растянутым камнями желудком до самого последнего этапа… До момента, когда дурь из кармана дилера перекочевывает в потную ладонь нарика. Я мог рассказать, как выдерживают в эмалированных лотках вязкую, похожую на медузу субстанцию и как потом выпаривают из неё порошок. Я мог рассказать про студиозусов и актерок, которые ошиваются на улицах в ожидании знакомого дилера, и про легавых, которые частенько приторговывают наркотой из-за полуопущенных стекол своих авто. Я мог рассказать… Но вместо этого я отодвинул Джузеппе и направился к крыльцу.
* * *
Джузеппе кивнул бойцам, и те, привыкшие к его манере отдавать приказы жестами, повели курьеров в дом через черный ход. Сам консильери внутрь возвращаться не спешил. В саду, благоухающем цветущими мандаринами, думалось отлично, и Джузеппе присел на скамью.
Да. На этот раз мальчишка действительно облажался! Это тебе не забавы-вечеринки с девками и с пальбой по прохожим; и не угон полицейского цеппелина со стоянки управления. Пацан обделался сам и подставил семью! Хуже всего, что теперь о поездке знают не только Аффатто и Барбаросса. Уж наверняка они сообщили остальным семьям, что Карлиони совсем обнаглел и нарушил все старинные договоренности. А доказывать, что Тино сговорился с черепахой без ведома отца, – чушь! Кто поверит, что наследник великого папы Карло – своевольный дурак! Да ещё этот бездарный кусок полена умудрился растрясти по пути курьеров, и теперь отдать их Барбаросса вместо отступного не получится. С какой стороны ни возьмись – семья Карлиони выглядит не слишком красиво. Плохо она выглядит. Ох как плохо…
Джузеппе вздохнул, полез во внутренний карман пиджака за целебной облаткой. В последнее время у него побаливало под ребрами, но от лекаря он это скрывал – боялся, что тот проболтается дону и дон отправит верного консильери на больничную койку. А какие тут отдых и лечение, когда город лихорадит? После смерти старого Барбаросса всё и так висит на волоске. Молодой Барбаросса (хотя не слишком он и молод: лет сорок – сорок пять, и в длинной черной бороде виднеется седина) оказался парнем отчаянным. На попытку Карлиони «под шумок» подобрать под себя малоосвоенные восточные и северные районы Норка ответил сделкой с Аффатто, чтобы Карлиони поняли: если кто-нибудь ещё тронет границы клана Барбаросса – поднимется буча будь здоров!
О, консильери отлично помнил тот «приятный во всех отношениях» разговор…
– Мы понимаем, что ваш дон сейчас пробует нашего дона на прочность. Мы бы тоже так поступили на вашем месте, уважаемый Джузеппе, – консильери дома Барбаросса ужинал с Джузеппе в пиццерии возле мэрии. – Но прошу вас передать многоуважаемому дону Карлиони, что ещё одно нарушение договоров с вашей стороны, и нам придется настаивать на Большом Совете. И если решение Совета для дона Карлиони перестало быть авторитетным, то Барбаросса готов к войне. Нам известно, что с поддержкой Аффатто и при невмешательстве других семей наши силы превосходят силы Карлиони. Поразмыслите над этим, дорогой Джузеппе. Хотя я бы предпочел забыть про этот разговор и вернуться к обычным для нас дружеским отношениям…
– Кушай пиццу, дорогой Марко, пока не остыла. Пей вино. О делах станем размышлять позже, – Джузеппе широко улыбался, теребил лацкан пиджака и смекал, что новый Барбаросса, похоже, парень с крепкими яйцами и лучше на его территорию не лезть.
* * *
На следующее утро Джузеппе прочел в «Норк ньюс» о том, что неизвестный кот-фурри зарезал продавца воздушных шариков. Убийство произошло в том самом «спорном» районе. Джузеппе отложил газету, позвонил по внутреннему номеру капорегиме и приказал немедленно передать семье продавца шаров тысячу сольдо наличными. «Да. Выведи оттуда наших ребятишек до лучших времен…»
К обеду того же дня консильери получил посылку – стеклянную, запечатанную промасленной бумагой банку, внутри которой плавало два ещё свежих золотистых глаза. Если бы не вертикальные зрачки, можно было бы решить, что глаза человеческие, а так… Это было справедливо – Барбаросса сами наказали убийцу, продемонстрировав, что конфликт исчерпан. Мир восстановлен. Хрупкий мир, который лучше, чем ничего.
И вот, когда покой в городе кое-как наладился, всё снова летит к чертям из-за дурацкого поступка Тино! Джузеппе вытер вспотевший лоб ладонью, откинулся на спинку скамьи, распустил узел галстука. Консильери давно уже запрещал себе думать, что дон постарел и растерял деловую хватку и что клан – ещё десять лет назад могущественный и непобедимый – упускает власть, становясь с каждым днем слабее. А страшнее всего то, что после смерти дона передать империю будет некому. Разве что сам консильери возьмет на себя эту почетную и тяжкую ношу.
* * *
Консильери прикрыл глаза, глубоко вдохнул в себя аромат весны и томительных мандариновых сумерек. Позволил себе вспомнить время, когда он только попал в семью Карлиони и гордился, что ему доверяют охоту на пиявок, требующую особой ловкости. Десять, максимум пятнадцать штук в день – Пепито считался удачливым ловцом и хорошим курьером. Однажды ему довелось выслеживать пиявок далеко за городом. Тогда он в первый раз увидел донну Аха Перрес. Громоздкая и страшная черепаха-фурри возвышалась в кресле, установленном на сваях посреди болота. Ленивый взгляд крошечных бесцветных глазок скользил по обнаженному торсу ловца, а бородавчатые (как это Пепе удалось их рассмотреть?) пальцы теребили бумажный веер. На треугольной башке колыхалась полями шляпа, разбухшие ноги были втиснуты в узкие голенища сапог.
– Много наловил? – прошелестела Аха Перрес, но Джузеппе расслышал каждый звук её голоса.
– П-пять… Это не запрещено, – Джузеппе отчего-то испугался безразличной жестокости её взгляда, хотя обычно к фурри относился спокойно, хоть и настороженно.
– П-пяять? – передразнила черепаха. – Скажи хозяину, я предлагаю много больше по сходной цене.
– Я передам…
Черепаха отвернулась и больше не смотрела на Джузеппе. Он изредка косился в сторону острова и следил за движущейся шляпой, выжидая нестыдное для отхода с позиций время.
Вернувшись, Джузеппе немедленно доложил о странном разговоре своему бригадиру, тот передал сообщение дону Карлиони, который захотел побеседовать с ловцом пиявок лично. «…Верить фурри нельзя. Эта Перрес наверняка перетерла со всеми, кого только нашла в окрестностях своей лужи. А еще, если позволите, дон, я скажу, что мы ведь с вами земляки. Мастерская вашего папаши ровно в квартале от нашей плотницкой, и мой покойный отец иногда поставлял вам особую древесину…» – добавил Джузеппе, робея. Дон улыбнулся краешком губ и протянул Джузеппе руку для поцелуя.
С того дня и начался стремительный взлет бывшего плотника Пепито.
Как раз в тот год дон Карлиони сделал выбор в пользу торговли «волшебным» порошком, отодвинув другие дела на второй план. Одновременно с ним пиявками вплотную занялась и семья Барбаросса.
Тогда городу едва удалось избежать серьезных неприятностей. И Карлиони, и Барбаросса сделали свои состояния на продаже оружия, а количество боевиков в каждой семье исчислялось тысячами. На улицах Норка начались перестрелки, из собственного пляжного домика внезапно исчез консильери дома Барбаросса (потом его тело нашли в одном из канализационных стоков), а общие потери росли с каждым часом. Ситуация совсем обострилась, когда у входа в цирюльню ранили в ногу самого дона Карлиони. Тут-то крестные отцы города заволновались по-настоящему и наконец-то решились на Большой Совет. Риск был велик: на Совет собирались все пятнадцать донов города. Окажись среди людей, приближенных к донам, предатель или болтун, и десяток-другой наемников сумел бы за час избавить город от мафии. Именно поэтому место и время Совета держались в тайне даже от жен.
Так или иначе, но Большой Совет состоялся. Город поделили пополам. Юго-запад достался Карлиони, северо-восток – Барбаросса. Взамен на невмешательство остальных в торговлю волшебным порошком семья Карлиони полностью отказалась от контрабанды оружия и частично от игорного бизнеса, а дон Барбаросса передал контроль над профсоюзами плюс сеть скупщиков краденого клану Пагетти. Мэр, прокурор и прочие отцы города, которые на Совете присутствовать, разумеется, не могли, пожелали озвучить свое отношение к новому для города бизнесу по телефону: «Мешать не стану, если сами на рожон не попрете. Но не дай бог почую, что кто-то из вас вздумал мнить о себе больше, чем ему положено, – пеняйте на себя. В этом городе хозяин один – я», – заявил начальник полиции, не постеснявшись лично набрать «чистый» номер, закоммутированный на виллу Аффатто, где и проходил Совет.
После этого звонка нерешенным оставался один вопрос: что произойдет, если любой из новоявленных пиявкобаронов снюхается с Черепахой Перрес, имеющей неограниченный доступ к сырью? Ведь тогда с трудом достигнутый паритет пойдет прахом… Совет шумел, спорил, обсуждал санкции… Тогда старый дон Барбаросса – человек опасный, но прозорливый – предложил дону Карлиони навсегда отказаться от услуг черепахи. «Старая супница сама в город не полезет, да и мозгов у неё с яичко барана – вышибить легко, – прохрипел он (в молодости в уличной драке ему перерезали связки). – А нам с тобой, Карлито, надо перестать ссориться. Прости, что мои ребята тебя подстрелили. Ну и, даю мое слово против твоего, что, пока жив, не посмотрю в сторону зверошлюхи».
Дон Карлиони молча протянул руку, и договор был заключен.
* * *
Консильери вздохнул, притянул к себе веточку, усыпанную цветами. Зажмурился, утонув в тонком аромате.
– Как он?
Джузеппе вздрогнул, услышав голос дона прямо над ухом. За эти годы он никак не мог привыкнуть к манере дона передвигаться бесшумно.
– Ничего. Вроде как понял, где сглупил, – Джузеппе вскочил, вытянулся в струнку, пытаясь втянуть внушительный живот. – Больше не полезет.
– Сиди, сиди… Я тоже присяду, – грустно улыбнулся дон. Опустился на скамью и жестом пригласил Джузеппе устроиться рядом. – Ещё веришь, что из него что-то получится?
– Простите, это всё я виноват, это я тогда предложил вам выпилить мальчонку… – Джузеппе не договорил, понурился, словно вся тяжесть мира вдруг обрушилась на его плечи.
– Не вини себя. Я хотел сына – я его получил. Речь сейчас о другом. Барбаросса настаивает на встрече. Завтра в полдень.
– Ох ты… Не ехали бы вы туда, дон Карлиони. Бородачу доверять никак нельзя. Может, вам сказаться нездоровым, а я съезжу вместо вас?
– Если откажусь – признаю, что нарушил слово и вышел на Черепаху. А я не хочу, чтобы в городе трепали мое имя. Не хочу, чтобы папу Карло называли человеком без совести. Не волнуйся, Пепито. Возьму с собой преданных бойцов. И еще. Передай Тино, что я не сержусь, но пусть он постарается вести себя хоть немного благоразумнее. Ступай. А я ещё посижу, подышу тут.
Джузеппе поднялся и направился к садовой калитке, ускоряя шаг.
* * *
Я стоял, прислонившись лбом к холодному стеклу, смотрел в сад, на одинокого сидящего на скамье старика, и думал, что завтра нам обоим предстоит тяжелый день.
Ложиться я не собирался – необходимость даже в отдыхе отпала давно. Зато я собирался посетить одно заведение. Хлопчатобумажные плотные брюки, простая рубашка с длинным рукавом, полосатая рыбацкая шапка-колпак – никто не должен узнать в простодушном морячке Тино Карлиони.
Я предполагал, что Джузеппе уже заставил капо выставить охрану по всему периметру дома, поэтому выйти через парадную дверь или любой из черных ходов не представлялось возможным. Но этого и не требовалось. Я снова выглянул в окно, убедился, что отец всё ещё в саду, и тихо, протяжно засвистел. Почти сразу висящая на стене картина отъехала в сторону, и в проеме появился сверчок-фурри. Я бы не удивился, узнав, что он все время сидит на тонкой перекладине – той, что сразу за холстом, – постоянно, не отлучаясь по своим делам ни на секунду.
– Думал, ты разучился свистеть. Так ты готов, о Буратино? – сверчок насмешливо уставился куда-то поверх меня. Он отлично знал, что я до скрипа шестеренок в сердце ненавижу свое полное имя.
– Да. Я готов…
– Они уже ждут у «Гиоццо». Жаль, но тебе придется поторопиться. А то я бы поболтал о том о сём.
– Потом поболтаем, – сверчок меня злил, но я в нем нуждался. Слишком нуждался, чтобы запустить ножом, как когда-то в детстве.
– Держись за шею. Только крепко. Какой ты стал тяжелый. Раздался ввысь и вширь. Повзрослел, – звероид язвил. Ему было прекрасно известно, что это не я повзрослел. Что раз в год отец расставляет мне грудную клетку, наращивает конечности и наводит ретушь на лицо.
* * *
Я взобрался на спину старика, плотно обхватил его руками и ногами, и мы шагнули в стенной проем. Сразу за проемом имелся узкий выступ, обрывающийся в бездонную (как я ни старался разглядеть дно, как ни швырял туда бутылки и камни, глубину определить мне так и не удалось) пропасть. Шириной всего в каких-то десять футов провал казался непреодолимым, если бы не тонкая деревянная перекладина, ведущая к каменной лестнице на противоположной стороне. Эта перекладина всегда представлялась мне чертовым мостиком к свободе. Однажды я сам отодвинул картину и, не найдя на привычном месте сверчка, решил перебраться на ту сторону самостоятельно. Сверчок появился как нельзя кстати, втащив меня обратно. «Ничего бы не случилось, я почти бессмертен, ну, сломал бы суставы, и что?» – смеялся я. Мысль о том, чтобы провести вечность, лежа без движения на дне каменной пропасти, волновала куда больше смерти.
Каменная лестница вела в пещеру, откуда начинался длинный подземный ход. Внутри было темно и влажно, пахло дерьмом летучих мышей, но зато полтора часа передвижения «по стеночке» выводили в каморку прямо в центре трущоб, в пяти минутах ходьбы до кварталов фурри.
Отец о существовании хода не знал. Он купил дом со всей обстановкой, включая наклеенный прямо поверх шпалер темный холст. Комната с картиной досталась мне вместе с прочими подарками на шестилетие, и я много раз думал, как сложилась бы моя судьба, если бы отец отдал мне не эту угловую спальню, а ту, что хотел вначале, – с огромным балконом, выходящим на площадь перед парадным крыльцом.
В тот день я бродил по своей новой комнате, размышляя, что делать с огромной, пахнущей свежей краской азбукой и как заставить отца передумать насчет школы. Стоял июль, и домашние попрятались от жары кто куда. Меня жара не мучила, но я все-таки снял рубашку и остался в одних брюках. Так я был больше похож на нашего садовника, которого изображал всю последнюю неделю. Я прошелся туда-сюда чуть тяжелой походкой, скривился и закашлялся. На глаза мне попалась картина с намалеванным очагом, ржавым котелком и струйками жёлтого пара, сочащимися из-под крышки. Я решил содрать картину со стены так, как садовник содрал бы афишу с ясеня у ворот. Я уже подцепил ножом (еще один подарок – отец сказал, что настоящий мужчина обязан уметь пользоваться оружием) край холста, как произошло нечто странное. Картина вздрогнула и поехала влево. Слегка недоумевая, я застыл, уставившись на вскрытые внутренности каменной стены и на странного человечка в лохмотьях, с узким лицом и выпуклым лбом в рытвинах. Человечек сидел на мостике, перекинутом через черный провал.
– Тсс! Не надо кричать, мальчик. Ты видишь перед собой Истинного Сверчка. Я здесь живу.
Никто и не собирался кричать. Уже тогда любопытство с легкостью пересиливало во мне страх. Я протянул руку, чтобы потрогать нового знакомого за бугры на подбородке.
До этого мне не приходилось так близко сталкиваться со звероидами. Конечно, я знал, что они существуют. Пару раз через стекло отцовского мулизина разглядывал человекокотов, торгующих лотерейными билетами. Как-то увидел усиленный псами-фурри патруль. Один раз через решетку ворот заметил истинного слона, попрошайничающего на углу, но пока упросил Джузеппе дать мне сольдо, чтобы подойти к фурри поближе, – слон исчез. Я слышал, что от звероидов лучше держаться подальше, потому что неприятнее и подлее тварей во всем мире не найти. Ещё я слышал, в городе существуют фурри-кварталы, куда людям лучше не соваться, и что сами фурри довольно редко покидают пределы своих территорий.
Вот поэтому появление сверчка я воспринял с удивлением. Убедившись, что в комнате, кроме меня, никого нет, сверчок выбрался из стены. Слишком голенастый, слишком остроугольный, слишком глазастый недочеловечек оказался забавным. Он рассказал, что живет внутри холма, к которому и примыкает стена дома, что внизу есть пещера и что за пещерой расположен подземный ход.
– Ты ведь добрый мальчик и не станешь лишать бедного старого сверчка последнего убежища, – голос старика задрожал.
За шесть лет я замечательно научился различать притворство, поэтому верить звероиду не стал. Но идея иметь фурри, живущего сразу за стеной, мне показалась интересной. Я согласно кивнул.
– А ты больше человек или сверчок? – не удержался я, во все глаза пялясь на несуразного гостя.
– Истинный Сверчок, друг мой, – сверчок закашлялся. – Это нечто иное. Представь, что ты – две сущности, два параллельных дискурса одновременно, и всегда можешь воспользоваться преимуществами любого из своих эго. Но ты слишком юн, чтобы понять, о чем речь.
– Не уважаешь людей? – засмеялся я, широко растягивая губы. Так мог бы смеяться наш капорегиме.
– Людей? – звероид шагнул ко мне и без предупреждения ткнул тощим пальцем в живот. – Это ты не про себя случайно?
– Ну да! – я снова засмеялся, словно немного капорегиме и немного отец.
– Надо же! Придется разрушить твои иллюзии, – пробурчал сверчок. – А скажи мне, мальчик, ты когда-нибудь спишь? Испытываешь чувство голода? Ходишь ли в туалет, болеешь ли? Ну-ка отвечай! Только подумай хорошенько.
У сверчка был резкий скрипучий голос. И вопросы, которые он этим голосом задавал, мне не нравились. Я прекрасно понял, о чем он говорит. Уже давно я наблюдал за отцом, за Джузеппе, за бойцами и слугами и догадывался, что со мной что-то не так. Люди вокруг меня смеялись, грустили, радовались и злились… Но делали это иначе. Много отчетливее. Лет с трех я начал чувствовать себя среди домашних неуютно, потому что, когда остальные хохотали, вытирая слезы, я слабо вздрагивал уголками губ. Однажды одна из горничных сильно ошпарилась и, пока её руку обрабатывали оливковым маслом, истошно вопила. Я смотрел на её лицо, на искривленный рот, на необычно огромные глаза и обдумывал план. Той же ночью я пробрался на кухню, водрузил первую попавшуюся кастрюльку на плиту, дождался, пока появятся пузырьки, и сунул руку в суп. Ничего страшного не произошло. Всего-то неприятно потянуло в предплечье. И потом всю неделю от меня воняло мясным бульоном.
Вот тогда-то я и начал копировать домашних. Сначала для того, чтобы понять. Потом для того, чтобы не отличаться. Чувствуя самую крошечную радость, я начинал смеяться, как Джузеппе. Страх со стыдом я украл у нашей кухарки, которая, увидев в дверях кухни крысу-фурри, завизжала и обмочилась при всех. Пожалуй, в обезьянничанье равных мне не было. Мне стоило внимательно понаблюдать за человеком пару часов, чтобы точь-в-точь изобразить, как он ходит, как двигаются его руки и лицо и как звучит его шепот и крик…
– Ну? Так когда-нибудь сильно пугался? – переспросил сверчок.
– Сильно – нет, – ответил я.
– Так это потому, что ты – кукла! – ликующе заявил сверчок. – Ты – живая кукла. Ты чувствуешь всё в три-четыре раза слабее, чем люди или мы – истинные. А ещё у тебя стыки на суставах видны и шов на животе. Ты – кукла, и кукла потрясающая!
– Врешь!
– Тебя не устраивает, что ты кукла «потрясающая»?
– Я не про это. Я – мальчик. Меня зовут Тино Карлиони, – я ощутил легкое жжение в груди, догадался, что это ярость, и точно скопировал нашего капо-региме, швырнув своим новым ножом прямо в сверчка.
Сверчок ловко увернулся, зевнул.
– Значит, Тино? А полностью?
– Э-э-э-э. Ну… Может быть, Сантино? Да. Точно! Сантино Карлиони.
Удивительно, да? Но мне до шести лет и в голову не пришло выяснить свое полное имя.
– По-моему, ты не слишком-то уверен. Зато я точно знаю, как тебя зовут. Тебя зовут Бу-ра-ти-но… И ты – деревянная кукла. У тебя прекрасные мозги из опилок и приличный набор эмоций, хоть и ослабленных. Знаешь, Буратино, я бы на твоем месте обрадовался этой новости. Выходит, что у тебя больше сил и времени, чем у любого из людей. Ты можешь стать тем, чем захочешь, потом сто раз передумать и стать ещё чем-нибудь. Подумать только – какие перспективы! Неуязвим, неутомим и непобедим. Тебе даже не придется учиться плавать. Ведь дерево не тонет! Главное, держись подальше от огня… Сухой дуб отлично горит. Пока, Бу-ра-ти-но!
Истинный сверчок повернулся на каблуках, подпрыгнул и скрылся в стене. Я молча разглядывал стыки на собственных локтях. Действительно, ни у кого из домашних я таких штук не видел.
Кукла или человек? Проверить легко!
Распахнув окно, я забрался на карниз и свесил наружу ноги. Вокруг никого не наблюдалось. Где-то хохотали бойцы, визжала дура-горничная, а над кустами, обрамляющими подъездную аллею, колдовал обожаемый мною садовник. Прямо под окном располагался пруд – небольшой такой прудик с карпами. Недолго думая я соскользнул с края и обрушился вниз. В момент, когда мои пятки оторвались от карниза, я почувствовал что-то вроде щекочущего сожаления… или страха?
А потом я качался на воде и слушал, как глупые карпы шуршат носами о мою спину. И ничего не делал – ничегошеньки. Не шевелился даже, а просто лежал и рассматривал синее высокое небо, утыканное похожими на сахарную вату облаками.
Там, в пруду, меня и нашел отец.
– Тино! Тино! Что ты тут делаешь?
– Дерево не тонет, – улыбнулся я. Мне показалось, что улыбнуться, как отец, – грустно и многозначительно – сейчас будет правильным.
– Господи! Мальчик мой! Ты – не дерево. Ты мой сын! – отец осторожно зацепил меня за ногу багром и подтянул к берегу. – И не выдумывай себе ничего такого!
– Па, а ведь из меня выйдет хорошая растопка для барбекю…
* * *
– Долго ещё намерен висеть на мне? Слезай! – голос сверчка вернул меня в реальность.
Оказывается, мы уже давно перебрались через провал и стояли на верхней ступеньке лестницы.
– Прости. Задумался.
– Задумался… Ты знаешь, что потяжелел? Не говори, что твой папаша надставляет тебе конечности свинцом.
– Ты что! Тогда я перестану быть непотопляемым, – отшутился я.
– Если что – свисти, – сверчок махнул мне длиннопалой ладонью. – Я всегда тут.
* * *
Каменная труба оказалась неожиданно узкой. Видимо, отец действительно здорово растянул мне руки и ноги. Он укрупнял мое тело и выправлял черты лица раз в год, так, чтобы кто-нибудь не обратил внимания на то, что молодой Карлиони слишком уж юн лицом и невелик ростом. Кроме отца и Джузеппе, никто не догадывался, что наследник империи Карлиони – дубовая плашка с глазами. Звероиды не в счет.
Потратив три вместо привычных полутора часов, я наконец-таки вывалился в каморку через дубликат «домашнего» холста. Наспех отряхнувшись и натянув пониже «рыбацкий» колпак, я выскользнул в город.
На улице было тихо и опасно. В фурри-кварталах всегда стоит удивительная тишина, как будто все крепко спят и даже не дышат. Но тишина обманчива. Ночь – удачное время для прокручивания разных дел и делишек. А таверна тупицы Гиоццо славится на весь Норк драками и поножовщинами. Полицейские к Гиоццо почти не заглядывают, а если и заходят, то лишь для того, чтобы быстро шмыгнуть в подсобку за стойкой и так же быстро вынырнуть обратно, убирая в карман форменных брюк пухлую пачку лир.
– Тинино, мы тут, миленький, – лиса-фурри помахала ладошкой в сиреневой митенке. – Закажи мне устриц.
– И пива. В глотке пересохло, – прохрипел кот-фурри. Когда я его видел последний раз, он не выглядел таким спокойным. Он метался по таверне, переворачивая мебель, падая и матерясь. Бинт на его голове кровоточил, а с губ текла пена. Теперь вместо бинта на глазах красовалась аккуратная, даже щегольская повязка. К стулу была приставлена трость.
Я махнул официанту и опустился за столик рядом с ними.
– Мне понадобятся бойцы и тачка.
– Угу, – кот согласно кивнул и зашарил лапами по столу, пытаясь отыскать пепельницу. Я подтолкнул к нему пустую тарелку, и он благодарно хмыкнул.
– Денежки… – пропела лиса.
– Потом. Когда всё получится, как запланировано.
– А я тебе не верю, богатенький, – она вдруг резко приблизила ко мне свое лицо, почти коснувшись меня влажными губами. – Это Сверчок может верить – он давно уже из ума выжил, а я-то ещё с мозгами. С мозгааааами.
– Заткнись! – оборвал её кот.
– Сам заткнись! Тебе всё равно, лишь бы Бородатого с Аптекарем пришпилить. А я ему не верю! По мне, пять сольдо сейчас лучше, чем тысяча завтра.
– Сейчас у меня нет ни гроша, – соврал я. – И если вы передумали, справлюсь сам.
Я встал, громко отодвинув стул, повернулся, собираясь уходить.
– Стоять! – прошипел кот, совсем как его неистинные предки из подворотен. – Не слушай рыжую подстилку. Мы дадим тебе бойцов, как условились. Скажи когда.
– Сейчас.
– Если обманешь, куколка, я лично поднесу спичку к твоим яйцам, или что там у тебя вместо них. Желуди? Шишки? – лиса-фурри улыбнулась, обнажая мелкие ровные зубы. В левом клыке блеснул синим огоньком поддельный сапфир.
Я вышел из таверны, прислонился спиной к стене и закурил. Сейчас, главное, не нервничать и ничего не бояться. Впрочем, куклы толком не умеют ни того, ни другого.
– Дон Тино, – бойцовый кот-фурри, не тот, что остался внутри у Гиоццо допивать пиво, а другой, много моложе и крупнее, неслышно появился прямо передо мной. – Бригада в сборе. Приказывайте.
– Едем в театр. Надо успеть до конца ночного представления.
Из-за угла появился небольшой крытый грузовичок с надписью «Мороженое» на кузове. Мой сегодняшний капорегиме ловко скользнул за руль, сменив пересевшего назад водителя. Я устроился рядом с котом. Даа! Грузовик – это не клянчия цвета «красный перламутр», но сегодня плейбою Тино Карлиони так или иначе придет конец, так почему бы не начать именно сейчас?
* * *
Слепой кот-фурри медленно допивал пиво. Напротив него, развалившись на стуле, сидела немолодая истинная лиса и насвистывала популярную в этом сезоне песенку. «В синем небе плывут чистые облака… Твое сердце ещё светлее этих облаков… Поэтому обмануть тебя не труднооо, я лишь скажу «люблю», и ты мой…»
– Заткнись!
– Баззи, у меня интуиция. Этот деревянный фраер нас подставит.
– Заткнись!
– Баззи…
– И ещё пива!
Истинный кот жалел только об одном: что он лично не сможет добраться до Барбаросса и выцарапать тому глаза. Аккуратно. Куда аккуратнее, чем это сделали ребята Барбаросса, не умеющие толком пользоваться ножом. Впрочем, не случись той неприятной истории с глазами, он всё равно не сумел бы отказать Сверчку. Сверчок не тот истинный, которому можно сказать «нет».
Коту было известно то, о чем догадывались немногие. Именно Сверчок являлся той мощью, которая была способна вытащить Истинных из нищеты и голода и сделать полноправными жителями Норка. Именно Сверчок с его мозгами и неуёмной жаждой власти много лет назад подготовил восстание, которое за одну ночь могло бы изменить баланс сил. И если бы не предательство кого-то из штаба истинных, сейчас, возможно, кот сидел бы в своем особняке на набережной и готовил завтрашнее выступление в сенате.
Сверчка предали. За неделю до назначенного срока полиция вскрыла тайники с оружием и арестовала главарей. Сам кот тогда был ещё слишком мал, чтобы попасть под раздачу, зато его старший брат – весельчак, балагур и отец четырех девчонок – даже не успел надеть кальсоны. Доберман-фурри одним ударом отправил беднягу прямиком в город весёлых безумцев…
Сверчка тогда не нашли. Он успел скрыться в катакомбах Норка, и целых пятьдесят лет о нем не слышали. Целых пятьдесят лет. А потом он, как ни в чем не бывало, объявился у лотков с креветками на портовом рынке. Сверчок сидел на корточках, жевал травинку и разглядывал суетящихся торговцев. Ждал. Баззи узнал сверчка сразу.
– Ты Сверчок? – спросил Баззи шепотом, не веря собственным глазам (в тот день у него ещё были два прекрасных зорких глаза). – Ты Сверчок!
– Как видишь, – усмехнулся Сверчок. – Или, может быть, я похож на бабочку или корову? Пойдём побеседуем где-нибудь, где не так шумно.
Баззи привел Сверчка к Гиоццо. Гиоццо всегда был дураком, но дураком честным. Поэтому он без вопросов повесил на дверь таверны табличку «закрыто», а сам спрятался в подсобку. Сверчок раскачивался на стуле, разглядывал похабные надписи на стенах и молчал. Потом взял кота двумя пальцами за ворот, притянул к себе и сказал негромко:
– Собери мне бойцов. Полсотни. Оружием я вас обеспечу – кое-какие старые запасы легавые не нашли.
– Ах ты, вошь блатная! Бойцов хочешь? А ты знаешь, что их всех убили! Всех! Братишку моего тоже… – взорвался Баззи. Ему вдруг захотелось отомстить старику и за смерть брата, и за племянниц, которые, как одна, работали у Гиоццо понятно кем, и за себя, и за своих друзей…
– Ты, когда уймешься, свистни. Поговорить нужно.
– Пошел ты!
Сверчок встал и молча вышел вон.
* * *
А через две недели Баззи, пьяный вдрызг, валялся на полу таверны и ругался так, что краснели даже истинные лисы. Голова лопалась на куски, в ушах звенело, а в том месте, где раньше находились глаза, жёлтым сгустком плавилась боль.
– Когда уймешься, свистни. Мы с малышом Тино сидим у стойки, если что.
Кот узнал этот голос. На мгновение затих, а потом снова завыл протяжно и зло.
На следующий день он обзванивал своих ребят. Вернее, обзванивала Айза, а Баззи диктовал ей номера по памяти.
– Ты ему веришь, Баз? – всякий раз, прежде чем набрать очередные пять цифр, переспрашивала Лиза.
– Заткнись!
То, что предложил истинному коту истинный сверчок, выглядело безумно, странно и не внушало доверия, но что-то в этом было. Безумство заразно. Гениальное безумство заразнее в миллион раз. Особенно если башка затуманена дешёвой дурью, а вместо глаз – жёлтая ненависть.
* * *
Гибкие силуэты один за другим соскальзывали на мостовую и скрывались в служебной проходной театра. Бойцовые коты, одетые в трикотажные серые костюмы, с масками на плоских бесстрастных лицах, словно танцевали странный сумеречный танец теней.
Внутри здания раздались аплодисменты, крики «браво», свист. Представление закончилось. Бравоооо! Тихий треск автоматов, похожий на пение сверчков – не истинных – обычных, пара негромких вскриков, и всё закончилось. Я направился внутрь, чтобы убедиться, что моя армия точно выполнила приказ.
– Дон Тино, что с этими? – капорегиме (мне нравилось называть кота своим капо) ждал указаний.
– Поверните их ко мне лицом!
Стянуть колпак, пригладить ладонью волосы, раздвинуть губы в улыбке. Пусть один из охранников, тот, кого я решу оставить в живых, узнает Тино Карлиони и принесет эту новость своему дону.
– Вот этого оставьте, а остальных в расход, – сверчки снова запели коротко и печально.
В зале стоял полумрак. Здесь всегда стоял полумрак и пахло гримом. Трупы «зрителей», по самые глотки наполненные свинцом, напомнили мне моих недавних подружек-жерлянок. Только, в отличие от последних, этим уже не суждено было избавиться от начинки.
– Добрый вечер. Выглядишь, как грузчик, – Ви сидела на огромной бутафорской кровати, разряженная в кружева, и разглядывала меня с особым, только ей присущим выражением отстраненной брезгливости.
– Добрый. Где остальные?
– Все тут. Пятнадцать королей и королев сцены… – Темно появился из-за кулис, волоча за собой тяжелый ящик. – Здесь грим и кое-какие вещи. Вдруг придется переодеваться.
Мы шли быстро, почти бежали. Я впереди, за мной пятнадцать молчаливых фигур. Грузовичок ждал нас у заднего крыльца.
Я позволил им и себе минуту-другую полюбоваться на пламя, охватывающее деревянное здание театра. Больше меня здесь ничто не удерживало.
* * *
Бородач Барбаросса вовсе не был глупцом или трусом. У него имелась лишь одна слабость – театр.
Пока был жив дед, внука к основным делам не допускали. Он занимался сущей чепухой, а именно возглавлял «кукольный» бизнес клана. Барбаросса были последними в штате, а то и в стране, кто ещё возился с этим тяжелым и бестолковым занятием. Остальные семьи, включая отца, давно уже завязали с марионетками, уничтожив труппы за ненадобностью. Порой я даже размышлял над тем, почему я так безразличен к судьбе самых, казалось бы, близких мне по происхождению существ.
Разумеется, я осознавал, что всякая кукла обладает усеченным спектром эмоций и что сострадание и сочувствие мне ведомы лишь отчасти. Но все-таки…
Неужели тот факт, что мой отец (за двадцать лет я приучил себя думать о нем как об отце) в свое время отдал приказ сжечь десятки почти разумных созданий, не имеет значения? Я прислушивался к себе, пытался найти какие-то намеки на чувства, но увы… Даже любопытство вскоре утихло, и со временем этот вопрос перестал меня интересовать.
Тем более что «живых» кукол в Норке почти не осталось. Считать труппу Барбаросса в пятнадцать «живых» кукол чем-то достойным внимания было бы смешно. Последний в городе кукольный балаган по утрам демонстрировал «Детские Сентиментальные Представления», а ночами устраивал «Кукольные Мистерии», продавая билеты по четыре (кажется) сольдо на утренники и по четыреста, а то и больше на ночные спектакли. Помню, однажды мне пришлось заложить азбуку, чтобы выручить четыре монеты и попасть на утренник. Я тогда только начал ходить в школу и чувствовал себя там отвратительно, развлекаясь лишь копированием учителей и одноклассников. Помню, однажды я сбежал с занятий, продал чертову азбуку лоточнику и двинулся к парадной двери в сказку. Но сказки не получилось. Вместо этого я увидел небольшое неряшливое помещение с кое-как расставленными стульями, сбитый из простых досок помост, пару вырезанных из фанеры ёлок… И уставшую живую куклу с красными глазами, и да… действительно в синем парике. Кукла кривлялась, жеманничала, тоненьким голоском обращалась к публике и требовала оваций. Публика послушно аплодировала. Потом на сцене появилась вторая кукла – мальчик с обвисшими жирно намазанными белилами щеками. Кукла-девочка ударила куклу-мальчика зонтиком по голове, мальчик заплакал, а зрители рассмеялись. Я встал и вышел вон. Если бы я тогда знал, что вернусь сюда снова по доброй воле – ни за что бы не поверил.
* * *
Про то, что театр лишь ширма, официальное прикрытие изнанки кукольного бизнеса, мне поведал Джузеппе. Мне было уже около шестнадцати, и я догадывался, что «Сентиментальные Представления» не основное занятие синевласой примы. Я даже допускал, что куклы могут быть увлечением какого-нибудь инфантильного дурачка с деньгами, но Джузеппе открыл мне глаза. Кукольный бизнес – бизнес, с которого начинали многие сегодняшние семьи, оказался проституцией. Нет, не банальной, а извращенной и с фантазиями, но проституцией.
– Неужели им мало обычных шлюх… или фурри? – изумленно уставился я на Пепе.
Мне действительно казалось неумным тратить кучу средств и времени на изготовление «живой куклы», на обучение её «искусству любви» (так витиевато выразился консильери), на содержание и обслуживание. И всё это для того, чтобы с десяток извращенцев получили удовольствие?
– Мальчик мой… Как тебе пояснить? Тут дело не столько в телесном удовольствии, – Пепе закашлялся и побагровел. – «Живые куклы» – они такие… безобидные. Понимаешь? Они послушны, пугливы… Ты, разумеется, другой.
– Прекрати, Пепе, – оборвал его я. – Просто расскажи мне о куклах.
Пепе кашлял, шевелил губами, но кое-что сумел пояснить. Выяснилось следующее: мастера-кукольники сообразили, что живые куклы могут не только веселить детишек, но вполне подходят для развлечения взрослых господ, довольно давно.
Почему нет? Куколки не капризны, не устают и не стареют. Износ дорогой фарфоровой проститутки настолько незначителен, что его можно не принимать в расчет. Конечно, фарфор – редкий материал, куда дешевле шить девиц из войлока или работать по дереву, но качество обычно оправдывает затраты.
Долгое время «кукольный» бизнес считался одним из самых прибыльных, но со временем устарел. Войлочные и фарфоровые девки приелись, а вместо них стали появляться другие игрушки – иногда игрушечные уродцы, иногда зверушки, мальчики с утрированно большими ртами и девочки с хвостами вместо ног. О, это были вовсе не дешевые куколки. На создание такой забавной штуковины уходили годы. Содержание тоже обходилось хозяину в приличную сумму. Частенько хозяину возвращали поломанный товар – клиент не всегда мог сдержать собственные чувства к фарфоровому объекту страсти.
– Дорого, неудобно, неприбыльно. Твой отец – отличный кукольник. Но и он отказался от этого бизнеса ещё до твоего рождения, – Джузеппе снова закашлялся.
– Почему же Барбаросса всё ещё в деле?
– Знаешь, к куклам иногда привыкаешь. Бывают почти как люди. Говоришь с ними и забываешь, что это нечеловек. Черт! Тино!
– Ладно, ладно, – успокоил консильери я. – Иди. Мне нужно подумать.
Потом я ходил по комнате и пытался понять, что во всём этом рассказе меня смутило. Что-то такое, что было совсем, в корне неверным. Что-то… «Живые куклы – безобидные», – произнес я вслух голосом консильери и точно так же, как и он, нахмурился.
* * *
Я отпустил котов за полквартала до моей каморы. Пожал капо мягкую ладонь, поблагодарил остальных сухим кивком (я знал, как этот отцовский кивок действует на ребят).
– Увидимся. Сообщу когда.
– Мы в вашем распоряжении, дон Тино.
Фердик скрылся за поворотом, и только тогда я повел свою (теперь уже свою) труппу в дом.
– Давненько я не ходил пешком, – сказал кто-то, кажется, носатый без определенного имени.
– В проституции есть много положительного. Например, хорошие авто и дорогие шмотки, – Ви сделала «невинное» личико, потом вдруг вытаращила глаза и звонко расхохоталась, словно пробуя какую-то новую роль.
– Потише, Ви! – одернул её я.
Она замолчала, и молчала всё время, пока мы шли по улицам, и потом, когда пробирались по стылому подземному ходу, и даже потом, когда вылезли через стену ко мне в комнату и устроились на полу, словно какие-нибудь черви-фурри.
– Неплохо у тебя, котик… – она зевнула и пожала плечами. – Это я по привычке. Трудно сразу избавиться. Думаешь, что ты или на сцене, или с клиентом…
– Ничего. Скоро получишь свой бесконечный спектакль, – Темно разглядывал себя в зеркале. Гримасничал.
Сделанный неизвестным мастером из плюша и ваты, Темно напоминал пуделя-фурри. К Барбаросса он попал вместе с Ви, и это делало их почти друзьями… В той степени, в которой куклы вообще могут дружить.
Темно первым из труппы вычислил, что я не человек, и первым подошел ко мне после спектакля. Это был третий или четвертый ночной спектакль, на который я приходил, успешно прикидываясь богатеньким дурачком. Так вот на третьем (или все-таки четвертом) спектакле я заметил, что игрушечный пёс делает мне знаки. Он то задирал рукав своей шёлковой сорочки, то снова водворял его на место и при этом пристально смотрел в мою сторону. Я опустил веки, показывая, что понял, и, убедившись, что зрители уже раззадорились и ничего, кроме творящегося на сцене, их не волнует, расстегнул запонку и отодвинул манжету. Под манжетой, едва заметный под слоем пудры, виднелся стык.
Темно изобразил бровями одобрение и закончил номер.
– Нравлюсь тебе, дорогуша? – он плюхнулся мне на колени, обвил шею плюшевыми лапками и зашептал на ухо: – Пошли.
Очутившись в номере, Темно запер дверь, прислонился к ней спиной и уставился на меня вопросительно и строго.
– Я – Буратино Карлиони, – сообщил я.
– Понятно. Все мы тут буратины, как видишь. И что тебе от нас надо? Какого черта ты тут ошиваешься?
– Всё. Мне надо от вас всё…
Мне пришлось приходить в театр ещё много раз, прежде чем я четко смог сформулировать свой план и убедить остальных, что лучше этого ничего придумать невозможно.
Это был план, на который способны только мозги из опилок – блистательные и безжалостные мозги. Мозги Буратино из клана Карлиони.
* * *
Дон Карлиони ещё спал, когда к нему ворвался Джузеппе.
– Барбаросса обвиняет нас в поджоге его театра! – прокричал консильери и схватился за сердце. – Говорят, что там был Тино. Тино!!!
– Тино? – дон медленно опустил худые ноги и стал нашаривать тапочки. – Это невозможно. Дом охранялся, и из него никто не выходил.
– Невозможно! Но Барбаросса настаивает и не хочет ничего слышать! – Джузеппе сглотнул, пошевелил губами. – Театр действительно сгорел. Там одни головешки и трупы. Среди убитых есть очень серьезные люди, дон. Очень серьезные. И нам этого не простят. Это будет похуже пиявок от Ахи Перрес. Это… О черт!
– Не может быть. Либо Бородач сам устроил спектакль, либо кто-то нас подставил. Что-то тут не так, Пепе.
– Так или не так, какая разница, – консильери совсем непочтительно шлепнулся на край кровати рядом с доном, – но мы полезли в чужой район – раз, нарушили договор и связались с черепахой – два, а теперь ещё это. Надо вызывать капорегимес и вооружаться.
– Погоди, Пепе, – дон Карлиони наконец-то нащупал пятками тапочки и теперь пытался их нацепить. – Ты же понимаешь, что войны нам не выдержать. Что сейчас любая наша ошибка равна уничтожению дома Карлиони. Нашего дома, Джузеппе. Нашего клана. Семьи.
– Послушайте, дон Карли…
Телефонный звонок заставил консильери замолчать. Дон взглядом попросил оставить его одного, и как только дверь закрылась, взял трубку.
– Мы тут собрались на большую рыбалку, Карло. Ты ведь с нами? – пророкотала трубка голосом Аффатто. – Втроем поудить не вышло, а жаль.
– Где и когда рыбачим? – весело поинтересовался дон.
– Где и в прошлый раз. Сегодня в полдень. И никого с собой не зови. Посидим тесным кружком. Поболтаем.
– Слово Карлиони, что не опоздаю.
– Твое слово нынче не в цене, Карло. Прости.
Дон Карлиони хотел что-то добавить, но на той стороне бросили трубку, не попрощавшись.
«Слово не в цене!» Дон Карлиони схватил аппарат и с яростью швырнул его о стену. Тут же в дверь просунулась бритая голова консильери.
– Все в порядке?
– В полдень объявлен Большой Совет. Прикажи подать мулизин.
* * *
План был прост. Даже примитивен. Сначала я думал обойтись лишь поджогом. Скорее всего, расстрела зрителей и «уничтожения» кукольного бизнеса Барбаросса хватило бы для того, чтобы семьи решились на Совет. Однако хотелось действовать наверняка. А для этого единственного и довольно «сомнительного» прецедента могло не хватить.
– Твой отец всегда может раскрыть твоё «нечеловеческое» происхождение, и тогда из дона Тино ты превратишься в одуревшую куклу, решившую отомстить своему кукольнику, – сверчок сидел в моем кресле и обрабатывал ногти пилкой.
– Отец так не сделает.
– Уверен? Думаешь, кусок дерева для него важнее дела всей его жизни?
– Нууу… – я вдруг понял, что действительно не знаю, что для отца представляет наибольшую ценность.
– А не он, так плотник Пепе. Поэтому оставь театр напоследок. Финальный аккорд, так сказать. Парад-алле! Для начала навести старушку Перрес. Передай ей от меня привет. Она с радостью пойдёт навстречу. Мало того, что старуха уже лет сто мечтает влезть на рынок со своими пиявками, так у неё ещё и немалый зуб на советника Барбаросса.
– На Марко?
– Кажется, его теперь так зовут… Да…
– Ну да. Duro Marko – упертый Марко.
– Раньше его звали по-другому. Он тогда не стеснялся своей истинности.
– Фурри? – если бы я был человеком, мои глаза сейчас поползли бы на лоб от удивления, а так я всего лишь шевельнул бровями.
– Пиявка-фурри. Обычная пиявка. Однажды он здорово подставил кое-каких неплохих истинных, после чего ему выдали человеческое имя и даже паспорт, – сверчок грустно пожал острыми плечами. – Это уже не важно. Короче, Перрес его не слишком любит. А тебе не придётся искать повод для созыва консилиума…
– Большого Совета, – поправил я, задумавшись над предложением сверчка.
Я думал, поджога будет достаточно, но слова сверчка меня смутили. Кто знает, как поступит отец, если на карту будет поставлена его империя – его детище. А я? Что я? Говорящее полено или растопка для барбекю. А… ещё умелая «обезьянка», привыкшая постоянно изображать кого угодно, только не себя самого. Тогда мне показалось, что я почувствовал что-то вроде легкой грусти.
* * *
Я всегда осознавал, что отец сделал меня от безысходности и отчаяния. Когда он понял, что после ранения больше не сможет иметь детей, то почти сошёл с ума. Синевласка-Ви замечательно изображает это состояние, заламывая к потолку фарфоровые ручки. Сошёл с ума или обезумел от горя… Всякий раз, когда я пытался представить обезумевшего от горя дона Карлиони, мне даже хотелось улыбнуться. Но факт остается фактом – однажды дон Карлиони решил, что если иначе не выходит, то нужно сделать наследника из дерева. Как нельзя кстати подвернулся Пепе, который не поленился, съездил на родину и среди кучи обрезков разыскал подходящее полено. И тогда дон Карлиони – бывший кукольник и отличный мастер – закрылся у себя в комнате и через несколько дней вышел с куклой на руках.
Наверное, он возлагал на меня надежды. Вот только как можно надеяться на того, кто лишен способности любить? Меня довольно долго интересовало, насколько хорошо отец осознает мою эмоциональную несостоятельность? Потом я понял, что он просто хотел поверить в то, что я обычный ребёнок. Ему даже не мешало то, что я не ем, не сплю, и что раз в год ему приходится поправлять моё тело.
– А теперь пойдем взрослеть? – он весело хлопал меня по плечу и дурачился.
Отец даже огорчился, поняв, что из меня вырос глупый и ленивый юнец. Ему снова не пришло в голову, что я притворяюсь. Притворяться глупеньким Тино было удобно. Когда тебя не воспринимают всерьёз, говорят много лишнего. Ещё больше лишнего думают. А если ты с детства привык «читать чувства», то «читать мысли» легче легкого.
Легче легкого.
* * *
Я стоял у окна и смотрел, как садовник (другой, а не тот, кого я так любил копировать в детстве – тот давно уже умер) стрижет акации.
– Ну? Мы уже устали ждать. Что дальше, Тино? – Ви ходила из угла в угол, изображая нетерпение.
– В полдень всё случится! Твоя тала, Ви! Наша тала, – я осторожно положил на рычаг трубку параллельного с отцовским телефона. Когда тебя считают идиотом, можно делать удивительные вещи.
Дон Карлиони уже садился в свой мулизин, когда испуганный капорегиме протянул ему записку. Записку капорегиме передала лиса-фурри, неясно каким образом оказавшаяся в это время дня в городе.
«Па. Если ты не придёшь немедленно, они меня подожгут. Иди за лисой, она знает, где я нахожусь. Твой сын Тино».
Старик долго смотрел в бумажку, как будто заново учился читать. Потом подозвал консильери и надолго, слишком надолго для великого Дона закашлялся.
– В чем дело, дон? Что случилось?
– С Тино беда. Кхаххаа… Он попал в переделку. Надо ехать. Надо спасать сына. Или его кхаххаааххх… сожгут! Я вынужден пропустить Большой Совет, Пепито. Я должен! Это мой сын.
– Нет! Если вы пропустите Совет, то это конец! Конец! Никто больше не поверит слову Карлиони. Понимаете? – Джузеппе покраснел, его лоб взмок так, что, казалось, ещё чуть – и пот закапает на плитку патио.
– Я поеду, Пепе. Ты не спорь со мной, ладно? – в голосе дона не было угрозы, но Джузеппе отчего-то вдруг отступил назад и замолчал. – А ты бери другую машину и езжай на Совет. Скажи, что дон Карлиони передал тебе все полномочия. Теперь ты – дон.
Дон Карлиони посмотрел на свою руку и быстро, не задумываясь, снял перстень, который носил не снимая уже пятьдесят лет.
– Держи. Так даже лучше.
Джузеппе шевелил губами и смотрел то на перстень, лежащий на широкой ладони плотника, словно девочка в постели старика, то на удаляющийся мулизин.
* * *
В каморе дуло. Я даже пожалел, что не взял свитера. Не для себя – для отца. Странно, но этот свитер беспокоил меня больше всего остального. Не слишком, но всё-таки.
– Уверен, что твой папуля приедет? – сверчок притулился на полу возле нарисованного очага.
– Да.
– Хочешь, расскажу тебе одну вещь?
– Чего? – я вдруг понял, что могу его сейчас ударить. И это ощущение напугало меня так сильно, что я испугался ещё больше…
– У истинных есть легенда. Про город весёлых безумцев. Тебе она понравится.
– Говори, – процедил я.
– После смерти истинные попадают не в рай или ад, как люди, а в город весёлых безумцев. Это место, где каждый истинный может выбрать, кем ему стать – человеком или зверем. Так вот говорят, что в городе весёлых безумцев нет ни одного зверя. Ни одного! Представляешь? Вот ведь безумцы. Вместо того чтобы выбрать очевидное благо, выбирают зло. Человеком. Кто в здравом уме хочет стать человеком? Глупости. Фарс.
– Молчи, – я прислушался. На улице раздался скрип тормозов, и кто-то отчаянно заколотил в дверь.
– Тино! Ты здесь? Ты здесь, мальчик мой?
– Безумец! – ухмыльнулся сверчок и одним прыжком скрылся за холстом.
Отец ворвался в дверь, оттолкнув норовящую просочиться первой Лизу.
– Что они с тобой сделали? Ты жив? Ты как? Кто тебя выкрал? Как я счастлив, что с тобой всё в порядке, сынок.
– Погоди, – я хотел отстраниться, но вместо этого позволил отцу обнять себя. А потом Лиза ударила его по голове поленом. Думаю, именно из такого полена когда-то отец и выстругал меня.
– Тащи старикана в пещеру, живо, – сверчок ухмылялся.
* * *
В пещере оказалось ещё холоднее, но, кроме отца, этого никто не чувствовал. Ведь среди нас только он был человеком. Слабым, старым, глупым и смешным.
– Если бы я сказал раньше, ты бы не поверил. Ты никогда в меня не верил, – я говорил это тихо, но отец от каждого моего слова бледнел, словно от пощечины. – Я хочу не просто спасти твою империю. Я хочу, чтобы Карлиони стали вечными хозяевами Норка. И поэтому сделаешь то, о чем я тебя попросил. Ты настоящий мастер. Великий мастер.
– Тино. Не понимаешь ведь, что творишь…
– Не спорь. Я принес сюда все инструменты. Если что-то надо достать – скажи.
– Тино!
– Ты никогда ничего для меня не делал! Я первый раз в жизни прошу тебя. Сделай это если не ради Семьи, то ради меня.
– Хорошо, сын.
Великого дона больше не было, был очень старый кукольник. Он сидел на низенькой табуреточке, согнувшись в три погибели, а куклы подходили к нему по очереди. Первый, второй, третий…
– Как тебя зовут? – спрашивал кукольник папа Карло.
– Пусть будет Буратино, – отвечала кукла.
– Как тебя зовут?
– Буратино…
Умело и быстро он правил их тела и лица, дорисовывал, стирал, подпиливал, подкрашивал, наращивал бока и надставлял бедра. Я заранее запасся фотографиями из городских газет, но, оказалось, память старого мастера и так помнит каждую деталь, каждую чёрточку, каждую ямочку и морщинку. Ему не нужны были шпаргалки, он творил по памяти, и в первый раз я по-настоящему восхищался им. Может быть, я даже его любил. Как мог, разумеется.
Четырнадцатый… Пятнадцатый.
– Пора закругляться, – сверчок сполз к нам со своей перекладины.
– Сейчас. Остался только я, и можно двигаться. Баззи с ребятами удержит ситуацию до утра.
– Как тебя зовут? – спросил отец, не глядя в мою сторону.
– Буратино.
– Да-да. Конечно. Так кого из великих донов мы будем из тебя мастерить?
– Дона Карлиони, разумеется.
Он даже не вздрогнул. Нащупал стыки на моих запястьях и привычным движением потянул кусачками за скобу.
– Мы торопимся, па. Ты, когда закончишь со мной, пойдёшь вверх по лестнице, там по перекладине до выступа в стене. Дальше можно попасть прямо в дом. Понял? Осторожнее там. Не споткнись.
Отец молча кивнул, принялся собирать ненужные уже инструменты. Я попробовал ощутить раскаяние, но ощутил лишь скуку.
* * *
Бойцовые коты пропустили наш фердик на территорию резиденции Аффатто.
– Вот твой новый дом, – кивнул я Ви. – Нравится?
– Ничего местечко. Приличное, – пробасила она и потерла непривычную ещё родинку на щеке.
– А у меня домик тоже не хуже, я там, кстати, уже бывал. Бородач любил собачек, – бывший плюшевый пудель запустил пятерню в роскошную бороду и рассмеялся густо и страшно. – День добрый, господа. День добрый. Как рыбалка?
Пятнадцать крёстных отцов с ужасом смотрели на свои точные копии, пытаясь мычать сквозь тугие кляпы. Через два часа их – уже неживых – погрузили в фердик, уложив в аккуратную поленницу. Я подумал, что старина Пепито наверняка доволен, его закопают в хорошей компании.
– Дон Карлиони, вы готовы ехать? – мой новый консильери, сверчок-фурри почтительно открыл дверцу мулизина.
– Да… Поблагодари от моего имени бойцов.
– А ты не хочешь узнать, что стало с твоим отцом, Тино? – шепнул сверчок мне на ухо.
– Нет.
В городе весёлых безумцев каждый может выбрать, кем ему стать.
♂ Почти как брат Короткая рокировка Алексей Провоторов
Тут уже не было дороги, даже крошева старого асфальта под дикой травой – так, колея в две тропинки. Машина шла медленно, тихо урчала; метёлки травы с шелестом скользили по бортам. Белокрылое насекомое, ангел, заглянуло в кабину и тут же улетело. «Ладу» мягко качнуло, они перевалили через бугор, заросший спорышем и подорожником, и остановились.
Звон кузнечиков заполнил всё вокруг.
Впереди лежала неглубокая балка, пересохшая годы назад, за балкой – низкие холмы, поросшие бузиной и отцветшей сиренью. Над деревьями можно было разглядеть пару старых бетонных столбов буквой А; кажется, даже поблёскивали на них изоляторы, но никаких проводов не тянулось к давно опустевшей деревне.
– Где тут эта каменка была? – спросил Кирюха то ли себя, то ли пространство, словно немного извиняясь за то, что они так и не нашли старую дорогу, рискнув пробираться по заросшей тропке.
– Да без разницы, – ответил Димка. – Добрались же.
Кирюха поставил «Ладу» в траву на целый корпус от дороги, дальше лезть уже не хотелось – там росли высоченный конский щавель и молодой мощный чертополох. Да и вообще можно было опасаться хоть пенька от старой электроопоры, хоть силосной ямы, хоть битой бутылки, выброшенной каким-нибудь механизатором в давние времена.
Они забрались сюда, на самом деле, просто из чистого интереса и желания отдохнуть от людей. Димка – после рабочего года в школе, Кирилл – от будней таксиста в большом городе. Он заканчивал последний курс универа и летом подрабатывал.
Нет, рациональный повод жечь бензин у них тоже имелся – где-то здесь, за Бунёвым, был знаменитый шелковичный сад, ранее колхозный, потом чей-то, а теперь давно уже ничей. Впрочем, говорили, что шелковица здесь всё такая же крупная и обильная, как раньше. Но поскольку дорога давно сделалась невыносимой, за кроваво-чёрной ягодой народ ездил поближе, в Бариново.
Вообще-то Димку шелковица интересовала мало, он её не любил, но был готов куда угодно завеяться из города просто так. Более домовитый Кирюха же набрал пакетов и пластиковых лотков в достатке; сейчас они валялись на заднем сиденье.
Димон взялся за рукоятку, дверь со щелчком открылась, и он спустил ноги на траву. Кирюха тоже встрепенулся и стал не спеша выбираться наружу.
– Старею, брат, – посмеиваясь, сказал он, хотя был лет на пять моложе Димки. – Засиделся, аж спина скрипит.
Вообще-то братом он Димке не являлся. Братьями – сводными – были их отцы, так что Димка и Кирюха могли бы считаться сводными двоюродными, если такое понятие существовало. Дружили они с детства и, пусть их семьи жили в разных городах, виделись частенько.
В этот раз Кирюха приехал в Димкину провинцию надолго, недели на две.
Они вышли из машины, разминая затёкшие ноги. Димка положил руку на капот, ощущая, как нагрелась даже блестящая, крашенная в серебристый металлик поверхность. Впрочем, сейчас в ней, растворяясь, отражались небо и трава, и машина казалась чуть зеленоватой. Зеркала покрыла пыль. Он вдруг подумал, что, зарасти их машина и правда травой, утрать блеск – и никто не найдёт её здесь, никакой трактор, никакие браконьеры. Никто.
Птицы будут вить гнёзда в салоне, разбитые градом стёкла помутнеют; обвиснут шины, которые некому будет даже снять; ржавчина, как вирус, с рождения заключённый в здоровом вроде бы теле, вздуется пузырями сквозь краску; облезет слабенькая современная хромировка, выцветут стопы-повороты, корпус просядет, ползучие травы заплетут кузов, и, в конце концов, природа поглотит технику, как поглотила некогда само Бунёво.
Как в той истории с «девяткой», подумал Димка. В двухтысячном году – а село было брошено ещё тогда, даром что несколько лет после того значилось жилым по бумагам – здесь была какая-то разборка. Охотники нашли серую «девятку» с разбитыми зеркалами и распоротым колесом, а недалеко – двоих мёртвых. Один, бритый, в кожаной куртке, лежал с ножом в шее. Второй, большой мужик, с разбитыми головой и лицом – рядом. Там же и монтировка в крови. Потом говорили, что оба значились в розыске, да и тачка тоже.
– Глушь полнейшая, – сказал Димка, провожая взглядом одинокого ворона. – Не дай бог свалимся в какой-нибудь колодец или погреб – ни одна собака нас не найдёт.
– Ну у нас же телефон есть, – весело ответил Кирюха, вынимая с заднего сиденья пакет, полный пакетов. – Правда, он здесь не ловит.
– Ну ясен пень.
Стояла тишина – та громкая, полная звона, стрекота насекомых, лёгкого ветра в дрожащих осинах, далёкого, сонного гула лягушек на невидимых болотах, и в то же время пустая, безмятежная тишина, естественный шум которой так отличался от привычного, противного городского фона и приевшегося за долгую поездку звука мотора, что казался самим отсутствием шума.
Димка вдруг заметил, что не хватает птиц. Пропел что-то жулан и улетел прочь. Иволга где-то в лесополосе сказала своё «вжжжя» и тоже умолкла. Жарко им, наверное, подумал он.
Зато лягушки орали где-то очень громко. Но и очень вдалеке, так, что от знакомого звука оставался только образ, ещё чуть-чуть, и он стал бы неразличим.
Небо на западе хмурилось, темнело и наползало пеленой. Неожиданно прохладный после жаркого нутра машины ветер не то чтобы дул, но потягивал.
Димон вздохнул. Будет дождь, как пить дать будет.
– Блин, промокнем? – сказал он вопросительно.
– А, – махнул Кирюха рукой в направлении тучи. – Ещё далеко.
– К вечеру точно польёт.
– Так это ж к вечеру, – с интонацией «так это ж на Марсе» сказал Кирюха.
– Ну да, где мы и где вечер… Слушай, а мы по грязи отсюда выберемся, если что?
Кирюха кивнул. Посмотрел вдаль, помолчал пару секунд.
– Ну не выберемся, в селе заночуем, в домишке. Или у добрых людей.
Димка только отмахнулся, мол, иди ты. Кирюха частенько себя так вёл. Например, если было жарко, он мог с серьезной мордой предложить пойти купить лимонада, кивая на остов разрушенного магазина и выцветшие алюминиевые буквы «КООП» на засыпанной глиной вывеске под ногами, или, подойдя к руинам фермы, похвалить – мол, как коровы мычат.
Однажды они ездили за черникой – у Димки была так называемая куриная слепота, гемералопия, и он плохо видел в полумраке и сумерках. Черника якобы помогала. На деле – нет, может, потому что Димка её тоже не любил и ел мало; но повод-то для дальней поездки был. И в Нижней Косани, брошенной, а потом выгоревшей маленькой деревеньке, где в тридцать первом была заварушка с кулаками, Кирюха почти напугал Димку, посмотрев куда-то сквозь него и предложив спросить дорогу вон у тех красноармейцев. Димка аж обернулся и, честно говоря, почувствовал облегчение, никого, конечно, не увидав.
Но чаще всего Димка против такого юмора ничего не имел.
Димон взял у Кирюхи пакет, тот прихватил борсетку, где, кроме ключей от машины, валялись скотч, фонарик, складной мультитул и прочие нужные вещи, и они, оставив «Ладу», спустились в балку и резво поднялись на холм.
Улица полностью заросла. Там, где раньше были палисадники, вдоль скошенных обочин и утоптанной грунтовки росла старая сирень, выиграв локальную схватку с бузиной и кленовой порослью. Некогда уютные сады одичали, яблони ещё держались местами, а сливы совсем заросли и стояли без завязи.
Дома просели, поблёскивали расколотыми стёклами или слепо щурились пустыми перекошенными рамами. Крупными хлопьями закручивалась краска на когда-то нарядных наличниках; ни ворот, ни заборов почти не осталось – упали или были разобраны. От некоторых домов сохранились лишь остовы.
Димка часто встречал в районке объявления – продам б/у кирпич, шифер, кровельное железо. Он хорошо знал, откуда оно берётся. Вот он, бывший в употреблении кирпич. Всю чью-то жизнь бывший в употреблении. Приедет грузовик, кувалды обрушатся на безжизненное тело чьего-то дома, руки раздерут на куски, бездушно отсортируют годные ещё части, и дом в каком-то виде продолжит жить – в составе чужого жилья. Трансплантация органов в мире бытовой архитектуры.
Они прочесали всю единственную улицу. Заглядывали в брошенные дома, бродили по яблоневому саду, оказавшемуся не колхозным – просто большим. Деревья состарились, одно упало, остальные заплетал глянцевито-зелёный дикий виноград. Кое-где завязались мелкие, невыносимо кислые – Димка попробовал – выродившиеся в дичку яблоки.
Крылечки и веранды заросли крапивой, ломившейся сквозь деревянные ступени с таким упорством, словно ей негде больше было расти. Звенели кузнечики, к далёкому рокоту лягух примешалось гудение маленьких лягушек-бычков – к дождю, – и всё это соединилось в такой гипнотический шум, что Димка иногда начинал сомневаться, а правда ли он всё это слышит.
Солнце жгло, но ветер всё так же тянул, а иногда налетал, быстрый, как удары ножа. Рваный.
Они ещё походили по улице, заглянули в пару окон. Углубились в чей-то сад и выбрались, покрытые паутиной и древесным мусором.
Колхозного сада нигде не было. Во все края тянулись густевшие по мере углубления заросли, но явно не шелковичные.
В конце концов присели на поваленный бетонный столб некогда крепких ворот.
Димон положил мешок с лотками и пакетами, Кирюха – борсетку. Их ужасно надоело с собой таскать.
Посидели. Помолчали. Солнце било слишком ярко, ветер шумел вершинами, дрожали, как от холода, осины. Сидеть было неуютно.
– Ну что, пошли ещё походим? Где-то ж оно есть?
– Только давай не будем всю эту хрень таскать, я тебя умоляю, – сказал Димка. – Тут же нет ни собаки и не будет.
– Ну ладно, – с сомнением отозвался Кирюха. – А если шелковицу найдём?
– Тогда вернёмся.
Кирюха переложил ключи и документы из борсетки в карман, а саму её сунул в пакет.
Внезапный шорох шагов раздался за спиной так близко, что у Димки похолодел затылок и погорячело внутри. Они оба одновременно обернулись.
Никого.
В разваленном дворе обшитого зелёными планками дома без крыши что-то шумело. Громко шуршало травой.
– Ёжик? – сказал Кирилл полувопросительно.
– Скорее всего. Пойду гляну, – Димон встал с холодного бетона и полез в чернобыльник, проросший сквозь доски давно упавших ворот.
Кирилл остался сидеть.
Никакого ежа Димка так и не увидел, трава была густая, а шорох, похожий на шаги, стих.
Нет, он увидел что-то тёмное и нагнулся, но тут же отшатнулся от запаха разложения: в траве, неловко вывернув крыло и шею, лежал свалявшийся, уже не блестящий, давно мёртвый грач.
– Там птица дохлая, – сказал Димка, возвращаясь к столбу. Лазить по двору ему расхотелось.
– Так это она и шуршала, – кивнул Кирилл.
Димка невесело усмехнулся, а про себя вздохнул. Он как-то начал уставать, сам не пойми от чего.
Облака наползали, медленно и ровно. С постоянной, едва заметной глазу, скоростью. Он были тяжёлые, мокрые, с синевато-серыми плоскими днищами; сливались в тучу и темнели. Свет приобрёл какой-то сумеречный оттенок.
– Мож ну её к хренам, эту шелковицу? – без особой надежды спросил Димка. Он хорошо знал Кирюхино упрямство в таких делах.
Кирюха же, считавший, что Димон занудствует на ровном месте, сказал едва ли не осуждающе:
– Ну и чего мы сюда чесали? Не, пошли уже.
Димон пожал плечами и согласился. В конце концов, не он за рулём. У него ни машины, ни прав вообще нет. Только велосипед. Ну а, как известно, чья тачка, тот и главный.
– Сад должен быть с той стороны, по идее, – рассуждал Кирилл. – Может, там ещё была улица, за теми зарослями?
– Слушай, а может, это вообще не то село? – спросил Димка.
– Да то, – сощурился на выглянувшее солнце Кирюха. – То. Другого тут просто нет.
Они снова дошли до конца улицы. Тупик. Видно, сад и правда был где-то за селом, со стороны неведомой старой дороги.
– Пошли напролом? – предложил Кирилл.
– А пошли, – вдруг неожиданно легко согласился Димка. Ему просто надоело слоняться туда-сюда, и хоть какое-то иное действие радовало.
Прикрываясь рукавом, натянутым на кулак и зажатым в горсти, Димон полез первым. Кирюха отставал ровно настолько, чтоб не получить крапивой или разогнувшейся веткой по лицу.
– Смотри-ка, а тут вишни…
– Значит, сад был.
– Опа…
Стена зарослей истончилась, поддалась, едва Димон переступил, чуть не запахав носом, через сломанный, лежащий на земле плетень. Дальше стоял ряд серебристых тополей.
А за ними – брошенный дом.
Большой, явно старый, из красного кирпича, обмазанный осыпавшейся глиной и когда-то белёный. Четырёхскатная крыша, крытая железом, была цела; круглые своды окон выдавали здание старой-старой постройки; рамы пустовали, только в одной глазнице застрял треугольный кусок мутного пыльного стекла.
Димон сделал несколько шагов параллельно стене, Кирюха двинулся в другую сторону, туда, где виднелись сарай и какие-то постройки.
– Ух ты, блин, – пробормотал Димон, резко останавливаясь. И упреждающе протянул руку. По спине посыпались крупные мурашки, всё тело будто током прошило.
– Там кто-то есть, – тихо, внезапно хрипло сказал он Кирюхе.
У того расширились зрачки, но он повернул голову к дому. И успел заметить движение.
Странное дело – в городе встречаешь десятки, сотни человек, и ничего.
В пустом незнакомом дворе разве что чуть пристальнее глянешь на мужика, идущего тебе наперерез, да и всё.
В лесу насторожишься и приумолкнешь, увидав человека за деревьями.
А в брошенном селе, в пустом доме с дырявой крышей, в дикой глуши, увидеть человека отчего-то страшно. Будто волка или кабана. А то и страшнее.
Беглый бандит, больной бомж, сиделец-алкаш, чёрный археолог, – кто угодно. Это мог быть кто угодно.
Не давая себе застыть в испуге, Димка медленно поднял ногу и шагнул к дому. Что-то смущало его в увиденном движении.
Человек, или что оно там, тоже пошевелилось, изменил своё положение тёмный силуэт на светлом фоне.
Вот фон-то и смущал.
– Дим, – окликнул Кирюха.
– А ну… Странно… Щас, – шёпотом отозвался Димон и пошёл уже смелее.
Силуэт в доме, вроде бы двигаясь ему навстречу, оставался на месте, и Димона это несколько успокоило.
Он решительно подошёл к окну и – заглянул внутрь.
На него взглянул человек, лицом к лицу, и лицо это было в тени, а позади него – мутнеющее голубое небо и ветки зелени, машущие на ветру, на просвете редких солнечных лучей.
Человек был вылитый Димка.
Зеркало.
– Это зеркало, – сказал он негромко. – Зеркало, Кирюх.
– Фууууух, мать его, – шумно выдохнул Кирюха, подходя и заглядывая. – А я аж испугаться успел.
– Да не говори… – Димон замолчал – не хотел показывать заметную дрожь в голосе.
Зеркало оказалось расколотое, узкое, в высокой резной деревянной раме, перекошенной и чёрной. Не рассохшейся, а как бы наоборот, размокшей. Пыль и мелкая зеленоватая замшелость по краям покрывали потемневшее стекло. Вверху, у косого скола, забравшего правый верхний угол, осыпалась амальгама. Оно стояло на облезлом стуле, так, чтобы отражать всё, что за окном. Пол и сиденье стула были засыпаны сырой глиной с обваливающегося потолка.
Страх прошёл, и парни теперь один вперёд другого желали обследовать дом. В окно лезть не стали, решили найти дверь.
Они прошли вдоль стены в сторону двора, всем телом проламывая репейник и матёрую дикую морковь, прикрываясь поднятыми локтями. Впрочем, в самом дворе, лишённом остатков забора, бурьян рос пусть и буйный, но не выше колен.
За двором и домом, под сенью старых-старых вязов и тополей, не росло ни кустов, ни сорняков. Там был почти лес. Наверное, так, вокруг дома, легче выбираться обратно, прикинул Димка.
Тут было жарко, и они расстегнули кофты, полные репьёв после штурма зарослей.
Во дворе, кроме длинного низкого сарая с запертыми дверьми и мутным, заляпанным побелкой окошком, обнаружился ещё погреб с открытой дверью.
Над входом сидел жук-олень, но, когда Димон тронул его, обнаружил, что жук давно высох и держался лишь чудом. Тельце упало вниз, один рог сломался.
Погреб был вполне себе обычный – тоже обмазанные глиной, белёные известью кирпичи, выпирающие углами из продавленного сводчатого потолка; косые каменные ступени. Их истёртые блоки оказались неудобными, короткими; свод нависал низко и мокро, на нём сидели рыже-серые ночные бабочки, не то спящие, не то, как жук, мёртвые. Внизу сгущалась темнота. Заплесневелая, полуобитая облезшей мешковиной внутренняя дверь косо висела на одной петле. Пыльно отсвечивали в темноте банки, белела на полу осыпавшаяся известь. Стояла пара вёдер с какими-то гранулами.
– Что это? – спросил Кирюха, указывая на вёдра. – Удобрение какое-то?
– Нитроаммофоска, по ходу, – пожал плечами Димка.
Кирилл вошёл под арку и спустился на три ступени.
– Мож ну его нафиг? – спросил Димка. – А то ещё надышишься там чем-нибудь.
– Да ну. А что то?
Он показал на жестяную коробку. Она лежала на второй снизу ступеньке, смутно поблёскивая закруглённым углом.
– Не вижу толком.
– Коробка такая из жести маленькая, величиной ну с блокнот.
– Аа. Из-под сигар, может. Портсигар или хрен его знает. А может, из-под чая или там леденцов каких-то, – Димка, честно сказать, понятия не имел.
– Я достану? – Кирилл застегнул кофту почти до подбородка.
– Давай я полезу.
– Да не, я сам. Интересно же.
Про то, что Димон ничего в сумраке подвала не разглядит, Кирилл умолчал – оба и так знали.
Он продолжил спускаться, осторожно, пригнувшись. Мрак под сводом принял его, красные полосы на спине спортивной кофты казались не такими уж яркими, светоотражающая полоска на рукавах тоже потускнела, словно ей нечего было отражать.
– Блин, – пробубнил он. – Ступеньки кривые вообще. Как можно сделать такие кривые ступеньки?..
– Осторожно, – сказал Димка на всякий случай. – Аё!..
Шум.
– Что такое?
Тишина.
– Что там? – спросил Димка уже тревожнее.
– Аххх… – прошипел Кирюха. – Ногу подвернул немного.
– Сильно?
– Да не, не совсем подвернул, а так, знаешь… подогнул. Но, зараза, неприятно. Тут ступенька стёсана как бы внутрь… И нога поехала.
– Болит?
Несколько секунд тишины.
– Не, окей, наступать можно.
– И что там?
– Слушай…
Тишина.
– Что?
– Слушай, тут, по-моему, книги какие-то. На полках.
– Да ну ни фига себе!
– Блин, фонарик не взяли… Ну как всегда. – Голос Кирюхи казался глуховатым и низким. – Темень, щас глаза привыкнут, посмотрю.
– Давай за фонариком сгоняю? – предложил Димка.
– Слушай, ну сгоняй. Я пока осмотрюсь.
– Там потолок не обваливается?
– Не, крепкий.
– Ты б лучше вылез.
– Щас, нога пройдёт. Тут интересно вообще-то.
– Ну я побежал тогда.
– Давай, только ты недолго.
– Само собой.
Димка оглянулся и решил обогнуть дом вокруг, вдоль задней стены, чтоб не лезть через бурьян.
Пели сверчки, гудели лягушки, низко, чуть-чуть тревожно. Набегал ветер, шелестел в вершинах. Закуковала кукушка, и он почему-то с облегчением улыбнулся, только сейчас сообразив, как беспокоило его отсутствие птичьих песенок.
– Кукушка, кукушка, – сказал он вслух, просто чтобы услышать человеческий голос – в одиночестве, оказывается, тишина легонько брала за горло.
Кукушка замолчала, едва закончив второй слог.
Осталось от этого какое-то разочарование, медленно, как ил в воде, распространившееся мутью на всё ощущение сегодняшнего дня.
Они так долго – чуть дольше, чем следовало бы, чтоб насладиться наконец достигнутой целью, – ехали к этому селу; с такой надеждой на интересное лазили по улице, а теперь как-то всё не складывалось. Не было ожидаемого тёплого, едва пасмурного, жемчужного дня; не было умиротворения; не было полновесного ощущения лета, беззаботности, которая сопровождала все их поездки.
Оставшись один, он вдруг понял: сейчас ему больше хотелось быть дома, чем здесь. Такое случалось редко.
Он ощутил было глухое раздражение на самого себя, но мельком, как тень рыбы на донном песке.
За домом оказалось не так уж просторно. Огибая угол, он влез в какой-то бузинник. В глаз попала мошка. Выбравшись из зарослей, Димка остановился, вытащил её и огляделся.
Брошенный дом смотрел окнами недружелюбно, в упор, и это ощущение взгляда было слишком реальным, чтоб от него отделаться. Как пыль на лице. За окнами было как-то темно, казалось, что там сыро, какие-нибудь осклизлые доски, проваленный пол, а над дырой – ржавая кровать со старым стёганым матрасом, со смокшейся ватой, полной насекомых, в подозрительных пятнах, почему-то с кружкой на цепи, бурой, хрупкой от времени, от множества злых дней.
Не могло там быть ничего такого, но пугающим вдруг оказалось подойти и посмотреть.
Поэтому он пошёл, стараясь понять, что ещё тревожит его в происходящем. А что-то такое было.
Потом дошло – не бывало окон на тыльных сторонах привычных хат, а всю улицу строили одинаково, по канонам. И следом дошло другое – солнце не в той стороне.
И двор, и улица тоже.
Он стоял лицом совсем в другую сторону, чем о том думал.
Вот тут его пробрал настоящий озноб, уже не в шутку.
Сделалось мало того, что пасмурно, так ещё какими-то обманными стали цвета. Желтоватый предгрозовой свет странно съедал расстояния, дезориентировал и никак не вязался с холодом. Но какой-то частью Димка понимал, что ему холодно не столько от окружающей температуры, сколько от напряжения. Он бывал в десятке брошенных сёл, иногда мурашки шли по коже, когда заглядывал в старый резервуар или забирался на ржавую водонапорную башню, глянуть на прошлогоднее гнездо аиста, или в чужой погреб, где мутные двадцатилетние соленья стояли в банках, как гомункулы в кунсткамере; но так, как сейчас – ещё не было.
Медленно он двинулся вдоль стены и только тогда понял, где он. Это была та самая сторона, с окном и зеркалом, в нескольких метрах от улицы. Как он смог заблудиться в трёх углах, Димон не очень-то понимал.
Он не стал смотреть на окна ещё раз, быстро пересёк открытый участок и, прикрыв голову рукой, выломился обратно на улицу. Прошёл немного вперёд и огляделся.
Он услышал шум, тихий шелест травы, не на ветру, а такой, механический. Пригибаемой ногами травы.
Обернулся, не быстро и не медленно, слишком плавно, потому что очень старался не дёрнуться.
Но это был Кирюха. Он шёл к нему, по его следам, и трава чуть слышно шуршала. Увидев, что Димка обернулся, Кирюха остановился, шагах в двадцати, и махнул рукой – иди, мол, сюда.
– Что? – спросил Димка.
– Да я решил вылезти. Там не очень уютно.
– А. Извини, что я так долго.
– Иди сюда. Я там кое-что вытащил, пошли посмотришь.
– А что?
– Ну пойдём, посмотришь.
Димка вздохнул и подошёл ближе.
Он заметил, что здорово похолодало. От зарослей тянуло чем-то стылым, как будто из самого подвала.
– Пошли, пошли, – нетерпеливо замахал рукой Кирюха, загребая воздух широким округлым жестом. – Пошли, пошли.
Было что-то гипнотическое в мелькании красной полосы на рукаве, в звоне кузнечиков, и Димка шагнул вперёд.
Кирюха шёл первым, Димка ясно видел его спину и пытался понять, что его смущает. Он, конечно, понимал, что этот налёт таинственности был проявлением иногда забавного, а иногда и начинавшего напрягать Кирюхиного юмора, но, поскольку настроения и так не было, он начал несколько раздражаться.
Впрочем, у этого ватного кома тягомотины появилась какая-то резкая грань. Словно блеснула воткнутая в ком неприметная иголка; может, чуть ржавая, но всё ещё острая.
Кирюха, чтобы успеть нагнать его, да ещё и заглянуть в дом, должен был выскочить из подвала почти сразу же, как Димка ушёл. Но он не отрицал, что мог провтыкать на грозу лишних пару минут, время-то он не засекал.
– Кирюх, – позвал Димон – и удивился, насколько одиноко прозвучал его голос. Словно не было тут никого, к кому можно было бы обратиться. – Эй. Эй!
Ему стало не то чтобы страшно, но как-то дурно. Пограничное ощущение, которое может пройти, как и не бывало, а может – он ощущал – кончиться обмороком. Что-то было не так, не так, не так.
– Что? – спросил Кирюха, не оборачиваясь.
А ну стой, хотел сказать Димон, но когда открыл рот, чтобы произнести первое «а», понял, что челюсть, язык, связки – всё ослабло так, что он вряд ли сможет это сделать. Подъязычье наполнилось какой-то холодной, неприятной, как глицерин, слюной, кровь отлила от головы так, что затылок замлел. Ощущение было сродни тому, когда долго лежишь на надувном матрасе на спине, на волнах, а потом пытаешься сесть.
Дурное ощущение.
– Да стой ты, – сказал он всё-таки одеревеневшим языком.
Кирюха развернулся к нему. Димка посмотрел прямо на него и понял.
Кирюха застегнул кофту, спускаясь в погреб, но Димон ведь помнил.
У кофты была красная изнанка, красная.
А у этой, видимая через не до конца застёгнутый воротник – синяя. Такая же, как лицевая сторона.
Димон выдохнул и посмотрел человеку в лицо. Он даже не заметил, когда начал пятиться.
– Димон, ты чего? – спросил человек. – Это же я.
Он улыбался, как Кирюха, только дольше. Он говорил, как Кирюха, только медленнее. Он был одет как Кирюха, только изнанка его спортивной кофты оказалась не того цвета.
Это не с Кирюхой что-то случилось, пока он оставался один в погребе, это был вообще не он.
Затылок и спина заледенели.
– Иди сюда, Димка, – энергично, уверенно сказал человек. С чуть растерянной усмешкой в конце, как полагалось, чуть дрогнувшим голосом, как надо бы, но Димка ему не поверил.
– Да Дим, – шаг ближе. – Да что с тобой?
– Кофта с изнанки красная, – только и сказал Димон. – Где твоя кофта, с изнанки красная?
Человек опустил голову, потянул язычок, наглухо застёгиваясь.
– Она всегда такая была, – сказал он. – Тебе показалось.
* * *
…Димка вернулся слишком быстро, Кирюха даже удивился не без испуга, когда тень перекрыла свет.
Он обернулся, привстав, и увидел силуэт, который моментально узнал. Силуэт призывно махнул рукой – дважды, широким жестом.
– Дим?
– Иди сюда, – позвал Димка.
– Ты фонарик принёс?
Коробка из-под монпансье или чего там, правда, оказалась пустой, набитой каким-то пеплом; в банках по преимуществу была невообразимая бурая субстанция, в двух – нечто вроде маринованных помидоров, под ровным белым слоем мути и в непрозрачном рассоле. Бока у них расползлись. Было ещё что-то, слоистое, как коктейль, с выпавшим осадком. Кирюха вдруг представил, что будет, если проткнуть крышку, воткнуть гофрированную трубочку и глотнуть, и его спазматически передёрнуло.
Книги на полке, которых было меньше, чем ему показалось сначала, заплесневели – он прикоснулся раз, понял, отдёрнул руку и больше не стал их без фонарика трогать.
– Иди сюда, я тебе кое-что интересное покажу! Там, в доме.
– А что там?
Силуэт молча махнул рукой.
Вздохнув и ощущая неясное раздражение, Кирюха начал подниматься. Нога ныла. Он только теперь, запоздало, понял, что поездка ему не очень-то и нравится. Да и по Димке, честно сказать, это тоже было заметно, ещё раньше.
Поднимаясь по корявым ступенькам, он подумал о том, что пора бы и выбираться домой. И хрен с этой шелковицей.
Снаружи всё как-то изменилось, погода ухудшилась, ветер стал мокрым, и даже сюда к нему примешался мерзкий запах удобрений. Сизая муть застилала небо, отбирая жёлтый цвет. Явно собирался ливень.
– Так что там? – спросил он, щурясь на жёлтом предгрозовом свету.
– Пошли покажу.
– Что-то интересное?
– Да, я увидел и сразу назад к тебе.
– Хм. Пошли, – сказал Кирюха. – А вообще, видно, пора выбираться к машине, смотри, какое небо.
Димка не глядя кивнул. Он уже шагал к дому, и Кирюха двинулся за ним.
* * *
Димка пятился вдоль заросшей улицы. Человек, который выглядел, как Кирилл, вроде почти и не шевелился, не гнался за ним, но до него как была пара метров, так и оставалась.
– Дим, да что ты? – всё повторял он. – Да это же я!
В ушах шумело, и Димка почему-то понял, что звона кузнечиков и гудения лягушек он давно, давно уже не слышит – нереальный, низкий, завораживающий гул был под стать жёлтому, дающему дымные, глубокие тени свету.
Димка даже подумал, что, может, он ошибся, что кофта кажется синей в таком свете, или что она и правда никогда красной не была – но он знал, что была, помнил её, брошенную в зале на диване, в лучах солнца, красной стороной вверх. Оттуда Кирюха её и взял перед поездкой.
Дышать стало тяжело, слюна сделалась вязкой, голова – отвратительно лёгкой. Казалось, что он сейчас упадёт, ноги не держали, словно их выпотрошили, пока он не заметил, и набили соломой.
Этого не могло быть. Не могло быть.
И, главное, он ничего бы не заметил, если б не кофта.
Это почему-то ужасало больше всего.
* * *
Кирюха шёл за Димкой, сам чувствуя нетерпение – что там такое он нашёл? Чего он вообще полез в дом, направляясь за фонариком – это был другой вопрос.
Димон же загадочно молчал.
Когда они пересекли двор и приблизились к дому, Кирюхе вдруг показалось, что не загадочно. Показалось на секунду, когда он глянул в сторону и Димон ушёл на край поля зрения, что того вообще здесь нет – так, тень упала под ноги. Он вернул взгляд. Знакомая спина, лохматый затылок.
Но отчего-то в этом молчании его начинала брать оторопь. Голоса кузнечиков и лягушек слились в один вязкий гул, да, впрочем, и голосами-то они никогда не были – животный шум. Свет казался нереальным, словно на мир – или на отдельно взятое Бунёво – поставили фильтры.
– Дим, ну что там? Скажи.
– Идём, – полушёпотом, не оборачиваясь, ответил Димка, махнув рукой, как пловец в зелёном море травы.
Что-то было не так в этом, но что? Кирюха нахмурился и вслед за другом ступил на крыльцо.
* * *
Почему-то возникла мысль про мультитул. Что, как, зачем, что он им собирался делать, он не знал. Но пятился в ту сторону, ко двору с вываленным наружу забором, где на бетоне, в пакете, лежала Кирюхина борсетка с инструментом.
Он был в шаге от того, чтобы бежать со всех ног, и в миге от того, чтобы закричать во весь голос.
* * *
Высокая крапива и отцветшие одуванчики росли сквозь ступени. Димка поднялся на веранду, грязную, заваленную какими-то растоптанными газетами, и протиснулся в почерневшую от времени, заклинившую дверь. Кирюха сунулся было за ним, сделал шаг внутрь.
И замер.
Не потому, что стены были закопчены, что на неразобранной печи была завешена шторка, из-под которой свешивался грязный рукав. Не потому, что в доме было совсем уж темно, не потому, что из-под комода, стоящего прямо в центре комнаты, натекла какая-то вроде лужа на засыпанный глиной гнилой пол.
Не потому, что отсвечивало из соседней комнаты едва видной полоской то зеркало.
И не потому, что посреди помещения чернильным провалом открывался люк в подпол и Димон направлялся именно к нему.
А потому, что на крыльце крапива не была ни примята, ни сломана, как и трава во дворе.
Кирюха остановился. Ему вдруг резко не понравилось происходящее. Стало жарко в этом сыром и затхлом доме, и очень захотелось обратно, пусть на неприятный жёлтый свет.
– Дим, – сипло позвал он и удивился, что сам себя не слышит. – Дим!..
Тот остановился.
– А ты как вошёл? – спросил Кирюха так же сипло.
Вздохнув, друг медленно обернулся, и Кирюха вдруг резко побоялся посмотреть ему в лицо. Сцепил зубы, рывком вдохнул затхлый воздух и посмотрел.
Лицо как лицо, белеет в темноте, только тени неверные, глубокие, чёрные, как провал в подпол.
– Ты как вошёл, говорю? Ты ж не шёл через дверь.
– А я в окно залез, там, где зеркало, – негромко, размеренно сказал Димон. – Да ты подойди, посмотри.
– Да на что! – Кирюха не выдержал, и голос его дрогнул. – Дим, пошли наружу, мне здесь не нравится.
Димон молча, плавно, призывно махнул рукой.
Кирюха сделал шаг назад.
– Ты чего? Это же я, – с улыбкой сказал Димон. Улыбка в темноте получилась неприятной.
* * *
– Иди сюда, – сказал человек. – Куда ты? Не убегай, иди сюда!
Он начал тихо посмеиваться.
Ужасно, ужасно было то, что настоящий Кирюха мог в это время оставаться там, в погребе, во дворе проклятого дома, потому что это был не настоящий Кирюха. Не его сводный двоюродный брат.
Всхлипнув, Димон шарахнулся в сторону и рванул к оставленным вещам. Подыгрывать ситуации, притворяясь, что она адекватна, он больше не мог.
* * *
Кирилл, обдирая плечо и пачкая футболку, вытиснулся наружу из жуткого дома, и Димон шагнул за ним.
Кирилл быстро отошёл от двери, затравленно огляделся. Его тошнило, что-то было совсем не так, было плохо.
Что-то произошло, пока он был в погребе.
Димонова бледная рука легла на чёрно-зелёную дверь. Ногти казались бескровными.
– Помоги, – сказал вдруг Димон. – Дай руку, у меня нога застряла.
Голос был ровный, спокойный.
Знакомый.
Но каким-то чувством Кирюха ощущал, что за дверью не его друг и почти родственник.
Он был очень похож, но не был настоящим. А настоящий находился где-то ещё.
– Кто ты? – едва слышно спросил Кирилл, пересилив себя. Он провёл черту, высказав это вслух. Согласился с той реальностью, где был кто-то похожий на Димона в брошенном, почему-то сыром доме в пустом вымершем селе.
– Это же я, – сказал Димон. Его глаз поблёскивал в темноте, но зрачок не расширялся и не сужался, когда сквозь мельтешение листьев осины на него падали остатки жёлтого света.
Кирилл перемахнул перила веранды, спрыгнул прямо в репейник и побежал огромными прыжками. Горячий ужас летел за ним по пятам, обжигая кожу и лёгкие.
* * *
Димон добежал до столба и упал, зацепившись за плющ. Ударил локоть. Выхватил борсетку из пакета, со стоном рывком встал на ноги и обернулся.
Человек не бежал, он шёл к нему, проводя ладонью по самым верхушкам травы, но близко.
Димка шарахнулся в сторону, пытаясь вернуться на улицу, но человек оттеснял его, загонял. Димон отступил во двор и нырнул в сад. И снова побежал, пригибаясь.
Насколько он знал, в борсетке ещё валялся запасной ключ от багажника. А в багажнике была лопата.
* * *
Кирилл бежал, не понимая, где он. Нога болела, но он уже не обращал на это внимания. В какой-то страшный миг ему показалось, что он опять бежит к дому, и сердце зашлось неровно. Стало больно, он остановился, уперев руки в колени. Мрак накрыл село, затхлый, неприятный воздух гудел. Такой же затхлый, как в том погребе, будто Кирилл ещё не вышел оттуда.
Сквозь отчаяние он чувствовал только одно – желание увидеть впереди спину Димона, настоящего Димона, догнать его и показать назад.
Чтоб он тоже увидел и понял.
Увидел того, кто гнался сейчас за ним.
– Подожди, куда ты? – смешок. – Это же я!
* * *
Ветки летели в глаза, били по лицу, корни подворачивались под ноги. Ужас скрутил внутренности, тошнило где-то в груди и горле.
Димон пролетел через сад, перемахнул упавшую ветку вяза, взбежал на какую-то утопшую в земле пристройку, крытую хрупким, гремящим шифером.
Обернулся.
Вроде никого.
Что за наваждение, подумал он. Низкое небо распластало своё брюхо над Бунёвым, было темно странной темнотой солнечного затмения, серый морок поглотил жёлтый цвет. Воздух вокруг гудел – тоскливо, тревожно и непрестанно. Димон не знал, что это за звук, в нём ничего не было больше от звона кузнечиков и пения лягушек. Да и было ли с самого начала? Могло ли что-то жить в этом проклятом месте? Могло ли что-то выдерживать это?
– Эй, иди сюда!
Сердце остановилось.
– Иди сюда! – смешок сквозь гудение. – Это же я!
Синяя с красно-белым кофта. Вот он.
Человек стоял на улице, там, куда Димка только что смотрел. Постоял секунду и пошёл к нему, мерно, как механизм, и спокойно, будто ничего не происходило.
Димон закричал в голос и спрыгнул с пристройки в сорную траву. Он снова побежал.
* * *
– Димон! – Кирилл кричал, срывая голос до хрипа. Он пробирался вдоль какого-то просевшего сарая, ведя ладонью по шершавой глиняной стене. Силы истощались, он никогда не умел бегать. – Димоооооон!
Внезапно сарай кончился, рука ушла в кусты, и Кирилл упал. Потянул связки в локте. Поднимаясь, понял, что вывалился в тесный двор, где в тени огромного вяза и трава почти не росла. За заросшим забором с проломом в три доски он увидел улицу и поспешил туда.
Голос всё звал, не прекращался ни на минуту. Слился с этим гулом.
Пробегая через двор, Кирилл увидел в траве пень-плаху, такой, на котором рубили курам головы. В растрескавшейся от десятков смертельных ударов, вычищенной дождями до чистого серого цвета поверхности не торчал, конечно, топор; но в щель был косо воткнут длинный ржавый нож без рукояти.
Кирилл, задержавшись на секунду, вытащил его, схватившись за основание через рукав.
– Ну куда ты? Это же я! Иди сюда! Это я, куда ты?
Смешок.
* * *
Димон бежал напрямик, понимая, что выскочит где-то между машиной и лесополосой, за садом крайнего дома. Голос, похожий на голос Кирюхи, звал его, иногда по имени, сознание странно туманилось, его бил озноб, а лицо горело, как при сильном жаре. Он не хотел и не мог представлять, что будет, когда то, похожее на Кирюху, настигнет его. Он перестал уже думать об этом как о человеке. Здесь давно не было людей. Было что-то другое.
Ему хотелось добраться до машины и ощутить в руках держак лопаты. И тогда пусть подходит. Если оно может причинить вред, значит, и ему можно. Значит, и ему.
Он однажды тонул – и сейчас чувствовал то же самое. Страх и угасающую надежду, затопляемую тоской.
Лихорадочно озираясь, он видел то там, то здесь белый промельк полос, мрачно-красный, всё ещё зовущий взмах манжеты, смутно бледнеющее лицо.
Он расстегнул борсетку, высыпал всё под ноги, заставив себя остановиться на пять секунд. Схватил блеснувший старый ключ и мультитул, разогнулся и опять побежал.
На ходу, подорвав ноготь, вытащил нож.
* * *
Кирилл выбежал на улицу и обернулся. То, похожее на Димона, шло за ним вплотную. Взгляд был неподвижен, а рот продолжал звать.
Кирилл с криком ударил ножом воздух. Никого. Сбоку мелькнуло, он обернулся и ткнул ножом туда.
– Ну чего ты? – сказал стоявший в шаге Димон. – Это же я.
Кирилл снова побежал.
* * *
Димка видел его то там, то здесь. Эта тварь появлялась и исчезала, а он кричал, матерился, плакал и отмахивался коротким лезвием.
Потом он вылетел на улицу. Пустую, мрачную, застывшую улицу, словно залитую серым стеклом. Увидел машину, и его словно пронзил горячий электрический разряд.
Сейчас он возьмёт лопату. И тогда уже пойдёт навстречу этой твари, что бы оно ни было. Кирюху он тут не бросит.
Сцепив зубы, он поспешил дальше по улице.
* * *
Кирилл пробежал по зарослям, вдоль какой-то канавы позади дворов, потом снова вылетел на просвет и увидел машину. Совсем близко, за балкой. Он нырнул в балку и взлетел на склон в несколько шагов.
Где Димон, думал он, ну где же Димон? Он знал, что его почти брат не будет расспрашивать, что да как, если Кирилл крикнет ему: поехали, поехали скорее отсюда!
Он запрыгнет в машину, не требуя объяснений.
– Иди сюда-а… – нёсся ему вслед голос. – Это я-ааа! – а может, не вслед, может, спереди. Или со всех сторон.
– У меня есть кое-что для тебя!
Он вылетел на холм и увидел это. Тёмную фигуру, похожую на Димона. Низко зарычал и сжал нож.
Он собирался поговорить с этим, чем бы оно ни было.
* * *
Димон был уже у самой машины, когда что-то заставило его обернуться.
– Ну иди сюда, – сказало то, что походило на Кирюху. Взгляд его был неподвижен, лицо белело в густом воздухе. Кофта оставалась наглухо застёгнутой.
Димон закричал и бросился на тварь, сжигаемый ненавистью. Ужас никуда не ушёл, он подхлестывал его, но теперь была ещё и ярость.
Фигура, похожая на Кирилла, рванулась к нему, занося ржавый нож, которого у настоящего Кирилла точно не было. Димон поздно заметил его.
Лезвие с хрустом вошло ему в бок, слева в рёбра, но он уже наносил удары, бил, бил, бил это в шею и лицо, выпуская горячую тёмную кровь. Рука работала, как пружина, он уже не мог остановить её. Сквозь боль, потеряв способность дышать, он понимал, что повредил это. Левой он держал тварь за ворот. Змейка, расползаясь всё шире, обнажала бледную грязную шею. И красную изнанку кофты.
Он бы закричал, если бы мог, но только заплакал, задыхаясь, глядя в безумно жестокое небо, словно не веря, что это могло произойти.
* * *
Кирилл вдруг понял. И успел отвести взгляд в сторону, прежде чем Димон догадался бы, что он понял. Пусть брат думает, что убил чудовище. Кирилл не хотел ничем огорчать его. Колени подогнулись, он упал на спину, выпустив рукоять. И темнота дня затопила его глаза вместе с кровью. Только кровь осталась стоять в глазницах, а темнота хлынула в разум, заполняя его, и это было последнее, что он осознал, это было уже навсегда.
Поперёк, так и не выпустив мультитул из руки, упал Димон. Кровь стекала на траву. Димон ещё какую-то минуту дышал, потом затих.
Прилетела откуда-то кукушка. Села на столбе. Посмотрела вниз, помолчала и взлетела, уронив рябое перо. Потянул и совсем затих ветер. Пошёл дождь, сначала тихий, а потом ливень.
8. Пешка, ставшая королевой
Становление Ферзя из пешки символизирует самореализацию, достижение цели, просветление и обретение истинной силы духа и свободной воли.
Превращённый из пешки ферзь сильнее оригинального.
Ашот Наданян♀ Основной инстинкт Тёмная фигура Лариса Бортникова
Стоять лучше, чем ходить. Сидеть лучше, чем стоять. Лежать лучше, чем сидеть. Ещё лучше сдохнуть. Но пока не выходит. А лежать лучше на спине. Втыкать на китайскую люстру в виде бревна. Из бревна торчат восемь сучков-рожков. Восемь рожков лучше, чем шесть, но из-за этого бревно оказалось дороже на триста рублей. Казалось бы, триста деревянных – о чем тут спорить? Чего орать? Но Рыжему лишь бы повод. Три лишних сотенных – повод. Капля присохшего жира на плите – повод. Забытая в ванной расчёска – повод. «Ты вынуждаешь! Если бы ты меня слушала, а не делала всё наперекор, то у меня и повода бы не было скандалить».
Ну-ну… Несмотря на раздолбанные вдрызг нервы и прыщи по всему лбу, извилины у меня, слава богу, ещё на месте. Главный повод для злости – это я! Остальное так… пайетки-фестончики.
Люстру-бревно все-таки купили. И подвесил её Рыжий в тот же вечер – даже напоминать не пришлось. А за ужином в постскандальной-пасторальной тишине мне, как обычно, показалось, что всё ещё может наладиться. Будем жить долго и счастливо – я, Рыжий и наша Полечка… Господи, ну разве ж я много прошу? Помоги, Господи, рабе своей Марии! Во имя отца и сына и святаго духа. Я подняла голову к потолку. Восемь рожков освещали наше ипотечное будущее белым энергосберегающим сиянием. Аминь.
На улице взорвалась хлопушка. Ухнула пару раз и захлебнулась автомобильная сирена. За стеной раздался громкий младенческий ор.
– Бляяяааа! – губы у Рыжего от ярости стали тонкие и белые, как будто на рот ему наклеили бумажные полоски. – Сколько можно?! Пойду сейчас и в хлебало фен затолкаю! И не вздумай мне мешать, тупка!
Рыжий действительно схватил с открытой полки стеллажа фен и решительным шагом направился на выход. Сама не знаю, как я только успела опередить его и заслонить собой проём!
– Остынь. Сейчас замолчит. Две минуты потерпи. Пожалу…
Ударившись о косяк плечом, я отлетела в угол. Ребёнок закричал громче. Снаружи снова что-то взорвалось. Рыжий матернулся. Скорчившись на полу, я ждала пинка в бок. Приготовилась молча встретить боль… И тут погас свет.
* * *
Лежать лучше, чем сидеть. Восемь рожков, торчащих из пластмассового бревна, с разных ракурсов выглядят замысловато. Если прищуриться и откинуть голову чуть влево, то наша люстра – точь-в-точь витрувианский человек.
Темнеет. Через час случится ночь. Тогда сквозь шторы вместо дневного света – тусклого и по-зимнему седого – начнут продираться наглые отблески уличных костров. Далёкие крики, автоматные очереди, взрывы ручных гранат. Как, оказывается, мало нужно времени, чтобы научиться отличать «Макарова» от новогодней петарды по звуку. Холодно. Квартира совсем остыла. Я выдыхаю из себя осторожные клубки пара. Пых-пых-пых – как дракон. Дрёма, дрёма, а лучше смерть спасительная и долгожданная, приди. Аминь.
Грохот обрушившегося стеклянного массива заставляет меня открыть глаза. Надо же – что-то в мире осталось ещё целым. Хотя вот уже и не осталось. Совсем рядом, где-то во дворе истошным криком надламывается мужчина. Слышны насмешливые молодые голоса, хохот. И тут же кто-то деловито сообщает: «Рыжий, зырячь! У хома в наплечке хабра до жопы». Старческий фальцет умоляет: «Не надо, не надо, парни. Не трожь-те. Будьте людьми. На последние наменял. Не трожьте, а. Всё хотя бы не берите. Хотите, тушняк, и анальгин тоже… И сникерс. Остальное оставьте, а».
Скукотень! За восемь недель столько уже просмотрено и прослушано однотипных скетчей. Это как с сериалами. Сперва страшно, потом тошно, потом любопытно, потом привычно… потом тощища смертная. Те же персонажи, те же диалоги, тот же финал. Жаль, нет пульта, чтобы вырубить навсегда эту унылую жвачку.
Ну ладно – есть! Есть такой пульт! Но сама заканчиваться я не готова. Пусть всё произойдет само собой и поскорее. Лучше б замёрзнуть насмерть. Или сковырнуться от голода. Гораздо хуже словить ножом в пузо или загнуться на тротуаре под шестьсот шестьдесят шестым босом, решившим, что я ещё вполне себе пригодный «бабель-хом». Хочу пить, но воды в доме не осталось.
Считается, что за снегом во двор безопаснее ходить перед самым рассветом – больше шансов вернуться обратно живой. На самом деле, это – заблуждение. Все хомы думают, что они сообразительны. Все хомы выползают из своих ульев в пять-шесть утра. Бродят по двору, озираются. Соскребают топтаный ржавый снег в ведра и тазики. Наш хомочий страх настолько жирен и ощутим, что трудно дышать. Каждый хом молит боженьку «лишь бы не меня, лишь бы другого. Аминь». Каждый хом знает, что он сам по себе. Та бабель-хом, которую нагишом гоняли по детской площадке два скучающих боса, тоже это знала. Поэтому и не звала на помощь.
Меж тем на улице всё ещё вяло скетчуют.
– Рыжий, чо ща? Хома чпок или хома нах?
– Хома нах! Нехай коптит! Хабр в общак, – Рыжий великодушен.
Вот как! Хэппи-энд. Нет никакого смысла вставать, подходить к окну и смотреть из-за шторы, как пожилой мужчина улепётывает прочь, размазывая по щекам слёзы обиды, ненависти и облегчения. Наверняка ещё и обмочился.
– Рыжий? Улей продрочим?
Восемь недель со дня приобретения люстры-полена, а как всё изменилось! Люди изменились. Но это, в общем, предсказуемо. А вот то, что язык так быстро подладился под сегодня – чудно. Хомы, босы, хабр, улей, барыжки… Венты, хозяйства, единицы…
Хом – это я. Моя соседка Лёля-коротконожка тоже хом. Хом – тётя Саня с десятого этажа и её шизофреническая сестрица Ксю. Хом – это Сергей Васильевич из двенадцатой и Грибожуев из сороковой.
Бос – это Рыжий.
Нет-нет. Это другой, не мой Рыжий. Просто так совпали клички. Бос – от «босс», или, может, «босяк». Не знаю точно и знать не хочу. Прежде босов называли гопами. Когда выключили свет и отопление, когда закончилась вода и перестал работать сливной бачок, когда все книги и кухонные шкафчики сгорели в ванне, а последняя макаронина была сгрызена, когда стало понятно, что так, как прежде, уже никогда не будет – на улицы вышли босы. Точнее, они вышли много раньше, но наличие макарон и гречки позволяло этот факт игнорировать. Однако однажды еда заканчивается, и ты выбираешься наружу, хочешь ты этого или нет. И там ты встречаешь босов. И узнаешь, что теперь ты – хом. А если ты молодая и привлекательная женщина, то бабель-хом. И никто тебя не спасет. Никто! Кроме разве что вентов и единиц.
Венты – военные и менты. Говорят, что в городе их не осталось – незачем. Венты организовались сразу. Ещё до того как хомы сжевали свои макароны, до того как очухались и обнаглели босы, венты договорились между собой и освоили лучшие склады, гипермаркеты и аптеки. И сразу после этого вместе с семьями ушли далеко за город, основали там хозяйства. Между хозяйствами установили связь. Говорят, некоторые догадливые и везучие хомы успели присоединиться к уходящим вент-колоннам. Теперь этим хомам не нужно вставать перед самым рассветом, чтобы набрать в ведро немного ржавого снега. Эти везучие хомы живут в хозяйствах под защитой вентов. Говорят, в хозяйствах даже есть развлечения – любительские театры, кино, библиотеки. Там есть еда на много лет вперёд и работают школы. Говорят еще, что до сих пор некоторые хозяйства принимают полезных хомов. Если, к примеру, ты врач или агроном. Если ты инженер или учитель, или же если ты молодая бабель-хом, способная рожать, то у тебя есть все шансы попасть туда, где людей называют людьми. Нужно только найти в себе силы и смелость пройти через кишащий босами, хачами и прочей швалью город, не сдохнуть от голода, не замерзнуть в пути, не заблудиться, добраться до хозяйства, постучать в ворота и…
Тук-тук-тук!
Трататата! Бам! Бум! Стук!
Внутри становится щекотно. Вот и босы! Рыжий и его команда. Похоже, продрачивается наш девятиэтажный улей. Дверь у меня хорошая, металлическая. Поэтому шансы неплохи. Если, конечно, у босов нет с собой горелки, домкрата, гранаты и желания во что бы то ни стало пробраться именно ко мне. На площадке имеются двери куда привлекательнее. Например, у Лёльки. С её замком даже я справлюсь. Пилочкой. Странно, что босы до сих пор до Лёлькиной инвалидной тушки не добрались.
Тук-тук-тук…
К глазку не подхожу. Сил нет. Да и пулю в глаз получить неохота. Почему-то меня такая предусмотрительность смешит. Только что я размышляла о том, как здорово было бы сдохнуть быстро и безболезненно, и вот уже отказываюсь от идеальной реализации собственной мечты.
– Машук. Машук, открой, это я… – Лёля бьется о дверь всем своим костлявым изломанным тельцем. – Улей наш босы дрочат! Сергей Василича чпокнули. Оттдомкратили дверь и чпокнули. Сейчас его хату отшмонают, потом ведь к нам попрут. Машук, валить надо! Машук, открой. У меня чай есть, полбатла спирта и пшено.
Лёля врёт как сивый мерин. Нет у неё ничего. Мы вместе ходили добывать хавку три дня назад и вернулись пустыми. Барыжка нас послала открытым текстом, когда мы разложили перед ней жиденькое наше золотишко и шмотьё. «Лекарства, средства дезинфекции, инструмент, учебники», – процедила, не глядя в нашу сторону, а когда Лёля принялась причитать про свою инвалидность, захлопнула дверцу бронированного лимузина прямо перед нашими вытянувшимися мордами. Я даже не успела заикнуться, что дома ждёт меня дочь – Полечка, и что с лактацией у меня плохо, поэтому надо сгущи или немного сухого молока. Хотя барыжка всё равно не поверила бы – все бабель-хом так говорят. Надеются разжалобить – дуры.
– Машуук, валить! Чпокнут нас всех, Машук! Открой!
Да я б открыла. Мне не жалко. Но знаю, что за спиной соседки могут оказаться босы. Поэтому молчу и думаю. Сдохнуть вот прям очень охота. Но не так же! Не так!
– Машук! – блеет Лёлька. – Сенечку спаси! Он не виноват! Смотри. Я сейчас его под дверь ложу, а сама топаю вниз. Отвлеку босов на себя. Умру за Сенечку! Я же мать… А мать ради ребёнка завсегда… Машук! Там босов штук десять. На час хватит им меня повалять. А ты Сенечку моего вытащи!!! Будь человеком…
Вот лучше бы она про Сенечку своего сейчас не блеяла. Я, честное слово, до этой самой секунды терпела. Целых два года. Два! С тех пор, как у Лёльки появился её Сенечка – солнышко ненаглядное. И Рыжего заставляла терпеть, хотя давалось это трудно. Синяками порой давалось. Но я жалела Лёльку. Страшно жалела за её бестолковую жизнь, короткую правую ногу и червивые мозги. А тут вдруг меня сорвало подчистую. Я вскочила – откуда только силы взялись. Вылетела в прихожку, отодвинула все засовы и распахнула дверь настежь.
– Какой к хреням Сенечка! Очнись, овца косорылая! Очнись! Это кукла! Кукла крашеная резиновая! Называется реборн. Не ребёнок это! Не человек и даже не хом. Эй, тыы кудаааа, стоооой!
Лёлька не ответила. Я слышала, как она торопливо спускается по лестнице вниз. Спотыкается, хватается за стены и что-то напевает под нос. Психическая яжемать! Аминь!
* * *
Реборн Сенечка лежал на пороге. Я не стала нагибаться, чтобы его рассмотреть. За два с лишним года нагляделась. И курносый в пятнах диатеза носик видела, и прикрытые прозрачными веками глаза, и сизые ручки, сомкнутые в кулачки. И гладкие персиковые пяточки. Видела. Трогала. Удивлялась. Пугалась необыкновенной Сенечкиной схожести с живым человеческим младенцем. Кивала Лёльке, когда та спрашивала: «Красавец же? Правда?»
– Он, когда спит, сладкий такой… Зацеловала бы всего, затискала, – шептала Лёлька в материнском дурном экстазе. И совала морщинистый сосок в резиновый Сенечкин рот.
Меня от этого жутко коробило. Нет! Никак я Лёльку не понимала, но осудить не могла. Женщина другую женщину за такое не осудит. Ну, не сложилось у бабы с семьей. Вовремя не родила, а к сорока пяти выдумала себе Сенечку. Заказала куклу по сети (выбирала три недели) и получила вместе с комплектом одёжек. «Баю бай баю бай. Нету хрена – есть ебай», – колыбельную пела ему… «Мамство, Машук, – это самое святое, что есть на земле. Да ты это и так знаешь, ты ведь тоже женщина, мать…» – втирала под винцо. Я соглашалась. В некоторых случаях резиновое материнство лучше, чем никакого. И теперь Лёльке было за что умереть. Нет, ну а что? Красиво же! Величественно… Не за дрель же подыхать аккумуляторную и набор дешевых отверток!
Кажется, сейчас я ей немного даже завидовала. И даже когда она взвизгнула жалко и пронзительно, продолжала завидовать. Брела по коридору обратно в комнату и размышляла: «Вот у Лельки и нога короткая, и рожа, как у мопса, и мозги дырявые, а надо же… нашелся у бабель-хома… тьфу… у человека… главный смысл. А у меня»?
У меня что?
Что у меня? Что-то ведь тоже было, ради чего стоит умереть? Или даже жить! Жить! Как же жить хочется!
Пооолечка… У меня же Полечка есть – дочка моя! Господи! Да как я могла о ней забыть? Как?
Меня бросило в холод, потом в жар. И не помню сама, как добралась я до комнаты, как кинулась к Поле, как прижала её к себе и взвыла от ужаса. Поля тихо захныкала, испугавшись, и только тогда меня отпустило – жива! Выходит, я за целый день не вспомнила про ребёнка? Вот ведь плесень! Ничтожество! Умереть, значит, решила, вместо того, чтобы сражаться до последнего ради дочери! Конечно – подохнуть проще всего. Только при чем здесь Поля? Вот же я дрянь! Слизь! Тряпка! Бабель-хом!
«Тссс. Тихо, Полечка. Не шуми только, а то босы услышат… Сейчас мама тебя быстро покормит, соберет, и мы уйдем отсюда навсегда. Мама тебя не бросит. Мама тебя спасёт. Мы выживем. Дойдем до самого лучшего хозяйства. И будет там тепло, генератор и горячая вода, и молоко, и новые игрушки. Ты вырастешь, пойдешь в школу. Станешь отличницей. Потом познакомишься с хорошим мальчиком, выйдешь замуж…» – приговаривала я, лихорадочно стаскивая с себя сперва пальто, потом три кофты, водолазку и наконец-то лифчик.
«Ты только верь! Мама не будет больше бабель-хомом! Мама – сильная! Покушала? Теперь пеленки. И лежи тихо, не упади. Я быстро… Соберу рюкзак».
Через десять минут мы были на улице. На скорую руку слепленный из простыни слинг оказался не слишком красивым, но главное, Поля прижималась к моей груди так тесно, что я чувствовала её бьющееся сердечко и теплое дыхание на своей шее. И руки у меня оставались свободными. Японский нож для разделки мяса в правой – сойдет. Левой я пёрла за розовую пятку дурацкого реборна.
Не знаю, зачем я прихватила куклу с собой. Реборн весил килограмматри, а то и больше. Но, видимо, какие-то остатки человеческого, не хомочьего, толкнули меня на эту, в общем-то, глупость. Прокрадываясь мимо вскрытой двери Сергея Васильевича, прислушиваясь к гоготу босов и Лелькиным жидким всхлипам, я молила бога, чтобы нас с Полей никто не заметил. На этот раз Бог оказался душкой. Аминь.
* * *
Во дворе было темно. Аптечный киоск, который поджигали уже раз пятнадцать и который уже неделю был главным источником освещения нашего двора, наконец-то сгорел дотла. Костров никто не жёг, и я спокойно добралась сначала до детской площадки, потом до арки, ведущей на бульвар, а потом по неосвещённым пустым аллеям и зловещим улицам – и до проспекта. Полечка, повертевшись в слинге минут десять, заснула, и это было лучшее, что мог сделать семимесячный ребёнок в такой ситуации.
Проспект меня доконал. Не знаю, чего я ждала, но только не заброшенной черной трассы, вдоль которой громоздились обгоревшие остовы автомобилей и автобусов. За восемь недель я ни разу не выбралась дальше своего двора и двух примыкающих улочек. Лимузин барыжек по средам и пятницам парковался возле здания налоговой, что за пять минут ходьбы от дома, а мысли пойти и проверить, что происходит вне нашего микрорайона, у меня не возникло. Теперь же я стояла одна-одинёшенька перед уходящей вдаль мертвой дорогой, которая должна была вывести меня и мою дочь из города. Было страшно, одиноко. Хотелось выть и жрать. К тому же чертова Лёлькина кукла оттягивала руку. Я собралась уже было выбросить реборна в лужу и аминь, но тут из-за тучи выглянула луна, и черт меня дёрнул посмотреть на Сенечкино лицо! Господи. Каким же живым он выглядел. Невозможно, отвратительно живым. И пятки его были беззащитными и розовыми.
В носу защекотало, захотелось поцеловать резинового мальчика на прощанье. Глупость, конечно! Но я же живой человек! В общем, сунув ножик в карман полупальто, я перехватила Сенечку как положено – обеими руками – и поднесла к лицу.
«Прости, Сенечка. И ты, Лёлька, прости», – пробормотала я вслух. Вздрогнула, не узнав собственного голоса.
– Оп-па! Кто тут у нас такой смелый и красивый бабель-хом, что гуляет по ночам, да ещё и с выводком? И что у нас в наплечке и штанишках? – раздалось за спиной. Сердце заколотилось, потом встало, как вкопанное, и я почти потеряла сознание. Но тут шевельнулась в слинге моя Поля, напомнив, что падать без чувств мне сейчас недосуг…
Будь я сама по себе, я бы ни за что не сумела так быстро прокрутиться на правой пятке, заодно размахнуться и со всей силы ударить стоящего сзади человека по лицу Сенечкой. Он такого, видимо, тоже не ожидал, поэтому опешил на полсекунды. Ну, сами подумайте. Болтается посреди улицы бабель-хом, держит полуголого младенца, в слинге копошится ещё один… Самая сладкая, самая легкая добыча! Подходи и бери голыми руками. И представить невозможно, что бабель-хом этим самым младенцем тебе вмажет с размаху по харе.
Господи! Получить по слюнявому хлебалу куклой – что может быть смешнее?
Я хохотала в голос! Клянусь! Первый раз за эти восемь недель я просто ржала как ненормальная. Ржала и молотила гада реборном по голове. А когда человек упал спиной в липкую жижу, не стала останавливаться. Совсем скоро чужое тело обмякло, расползлось по грязи, само став частью грязи, дороги и моей невозможной, смешной и жуткой победы.
«Нет уж, Сенечка. Теперь я тебя точно не оставлю, родненький, – приговаривала я, смывая снегом с резинового равнодушного личика кровь и прилипшие кусочки чего-то скользкого, мягкого. – Ты, Сенечка, теперь наш с Полиной главный защитник. Главнее не бывает».
В карманах и тощей наплечке мертвеца отыскалось немного сигарет, хороший шоколад, несколько пузырьков гуараны, пачка презервативов, закатанная в ламинат карта города, фонарик, запас батареек и отличная заточка. Но самым ценным приобретением оказался «Макаров» с полной обоймой. Я потратила с полчаса, пристраивая ствол так, чтобы он не торчал из Сенечкиного полуоткрытого ротика наружу. А вообще, та хреновина (кажется, эласкин), из которой китайцы льют реборнов, чересчур упругая и трудно кромсается японским ножом для разделки мяса.
Полчаса усилий, ломтик шоколада, тюбик гуараны, ещё пять минут доработки – и результат меня вполне удовлетворил. Я выковыряла из Сенечкиной головы ровно столько содержимого, чтобы можно было плотно вставить внутрь дуло. Рукоять пистолета прикрыла шапкой-пидоркой – сняла с трупа. Шапка Сенечке оказалась великовата, но от этого он выглядел ещё милее и ещё беззащитнее. Точь-в-точь замёрзшая, умирающая, а то и мёртвая уже кроха на руках у матери-безумицы.
«Закончатся патроны – вставлю ему в рот или глаз заточку, чтобы лупить сподручнее», – решила я, убедившись, что Сенечка, завёрнутый в свитер, взятый там же, где и пидорка, выглядит весьма неплохо.
Мы посидели на обочине ещё минуты две, потом поднялись и пошагали вперёд.
Через семь часов без приключений добрались до незнакомого жилого квартала. Шли в темноте – батарейки я намеревалась беречь. Но луны оказалось вполне достаточно. Полечка спала, тихо сопя мне под подбородок, а Сенечка, хоть и здорово оттягивал руки, придавал мне какой-то необыкновенной храбрости. Даже протарахтевший довольно близко мотор не заставил меня прижаться к обочине и спрятаться внутри поваленной набок маршрутки.
Однако, едва горизонт подернулся белёсой предрассветной дымкой, я свернула с шоссе в дома. Во-первых, днём шансы нарваться на стаю босов много выше. Во-вторых, начала сказываться усталость. Нужно было покормить Полечку, поменять ей пелёнки. Поесть самой. Согреться и поспать.
Хомы ползали по двору, соскребая в тазики снежную жижу.
– Здравствуйте, хо… люди добрые. Кто-нибудь, пустите на пару часов поспать Христа ради. Ещё б немного чаю и еды… У меня дети, – показала глазами и на Сенечку, и на слинг. Поля проснулась и завозилась, толкая меня ножками в живот. – Пожалуйста… Мы к моей маме идем в Отрадное. Мужа убили. Малыши замерзли и голодны. Пожалуйста!
Хомы молча продолжали скрестись и ползать. Как плешивые старые крысы… Ни один даже глаза на нас не поднял. Как грязные, плешивые, ссыкливые крысы! Меня затошнило от ненависти и презрения. Неужели ещё вчера я сама была такой?
– Пожалуйста! Я заплачу за постой.
Вообще-то я рассчитывала, что какая-нибудь здешняя бабель-хом, у которой есть ребёнок… или был прежде… всё же очнётся от своей хомочьей летаргии. В нашем дворе кто-нибудь, да хоть та же Лёлька, непременно ввязалась бы помочь. Но тут, видать, дела обстояли совсем худо. Ни жалости, ни любопытства у местных хомов я не вызвала, и, значит, оставался последний ход. Я, придерживая Сенечку подбородком, извлекла из кармана заранее приготовленную батарейку. Несколько хомов тут же оживились, стали подтягиваться поближе. На всякий случай я повернула Сенечку так, чтобы, если что, снять из макара первого, кто захочет на меня напасть, а там уж как выйдет.
– Гххх… Вермишели сварю. Соль есть. И хата вчера топилась… Два часа топишь – потом шуруешь нах! – пролаяла сухощавая крепкая старуха.
– Пшенка. Можешь покемарить, сколько нужно. Да хоть до вечера спи, – лохматая в болячках тетка отпихнула старуху локтем, вылезла вперёд. Закашляла густо. Противно, – Только одной мало будет. Давай две!
– Сгуща полбанки. Тушняк. И памперсы! Пачка памперсов на семи-девятимесячную девочку. Как?
Вот эта – в валенках, в намотанном на голову пуховом платке, с бледным лицом, исчирканным опасной бритвой неглубоко, но часто (у нас тоже многие бабель-хомы себя резали – думали, что так на них не позарятся босы), подходила мне больше остальных. В глазах первой старухи читалась спокойная расчётливость. Такая запросто может обчистить. А судя по осанке и жилистым ручищам, сил у неё на это хватит. У лохматой бабы силёнок и мозгов поменьше, зато стопроцентно гниды в башке, сифак или что похуже. А вот эта в валенках – ничего. Годится.
– Да-да! Я согласна. Пойдёмте скорее! – часто закивала я, и мы побрели к улью. На третий этаж я поднялась, даже не запыхавшись, хотя устала страшно. Зато моя хозяйка еле ползла, и, значит, я не ошиблась с выводами – нет у неё ни сгущи, ни тушняка. Голодает уже дня три, минимум.
Деревянная дверь в угловую двушку была раскурочена бензопилой и сверху кое-как прикрыта чёрным полиэтиленом.
– Босы продрочили? Чпокнули кого? Махач был или тупой шмон? – спросила я, уже особо не прикидываясь паинькой. – Давно?
– Давно…
– А порезалась-то хоть до или после?
– После… А надо было до. Да ты входи. Располагайся. Давай мне одного маленького – подержу. Какой хорошенький. Спит? Сынок? Слинг-то размотай. А там у тебя кто – дочка? У меня тоже дочка была… Алёна.
Она потянулась руками к моей Полечке. Откинула с изрезанного лба спутанную чёлку, и я тогда впервые увидела её глаза. Белые глаза, пустые. Страшные. В общем, я и так-то предполагала, зачем она меня к себе позвала, поэтому медлить не собиралась, а теперь, разглядев белую муть её безумия, тем более. Вырубить её оказалось проще простого – один удар коленом под дых, ребром ладони по шее, и хозяйка уже скрючилась на полу. Удар заточкой в артерию. Аминь! Женщина вытянулась во весь крошечный коридор, став вдруг неожиданно красивой.
Захныкала Поля.
«Тссс… Сейчас поменяем подгузник, поспим, попьём и дальше. Хочешь водички? Ну, как хочешь, а я попью». В ведро с талым снегом попало немного хозяйкиной крови, но вкус от этого ничуть не изменился – железо с примесью тухлецы. Быстро покормив дочь грудью, я направилась в обход квартиры. Шмонать хату после босов смысла не имело, но я всё же прошлась по комнатам, порылась в комодах, проверила антресоли. Ничего съедобного или ценного, кроме коробка спичек, не нашла, зато в детской добыла кучу одёжек на девочку, включая отличный тёплый комбинезончик. Полинке он оказался как раз. Сухая, сытая и согревшаяся, Полинка нежилась в сказочной колыбельке, размахивала ручками, гулила и улыбалась. Над её личиком кружились серебряные рыбки и золотистые морские звёздочки. А ещё солнышко. Красное, как… как… ну, как солнышко.
В чужой ванне жарко полыхали чужие книги. Учебники по психологии и философии, всякие Юнги и Канты, бессмысленные Бегбедеры и Уэльбеки… То, что ни продать, ни обменять нельзя – только сжечь. Странно, отчего хозяйка предпочла сидеть в холоде при таком-то топливном ресурсе? Увы, её уже не спросить! Я привалила тело под дверь так, чтобы коридор оказался полностью перекрыт и чтобы чужаку нельзя было войти внутрь, не споткнувшись, потом легла на неразложенный диван, прижав к себе Сенечку. Полуоткрытый младенческий ротик был направлен точно на вход.
Очнулась я моментально, едва в коридоре шумнули – кто-то забрался в квартиру, но сперва споткнулся о труп, а потом поскользнулся в луже загустевшей крови. Но вскакивать и орать не стала, наоборот, притихла. Задержала дыхание. И когда в проеме появился невысокий силуэт, надавила сперва на кнопку фонаря, слепя дорогого гостя, и тут же, скользнув ладонью под Сенечкину шапку, нажала на спусковой крючок «Макарова». Сенечка вздрогнул и мотнул головой, словно его ущипнули за щёчку. Незваный гость обрушился на пол.
– Аминь! Думала, сука, хабриком разжиться? Вдову, мать двоих детей, стерва, зачпокать собралась? Деток её малых не жалеючи? А ведь, поди, тоже рожала? Дети-то есть? А?
Старуха – та самая, что предлагала с утра вермишели, внятно ответить не могла, но яростно хрипела и сучила ногами. Пуля пробила бабке диафрагму. Шмонать её я не стала – вряд ли она, отправляясь сюда, прихватила собой теплого пирожка или домашних булочек. А вот ножны с ремня сняла, и пчак, конечно же, подобрала.
– Ary, агууу, – загулило в детской. Зазвенели нежно рыбки и звёздочки.
– Проснулась? Вот и ладно. Пора нам. Иди-ка к маме, Полечка. Мама тебя сейчас покормит, и вперёд…
* * *
Самое святое, что только есть на Земле – материнство. Душа и лицо мадонны, склонившейся над спящим своим младенцем, наполнены божественной благодатью. Нет прочнее связи, чем связь между матерью и ребёнком. Нет ничего больше материнской любви. И нет никого сильнее, яростнее и страшнее женщины, защищающей своё дитя. Кто дает ей на это силы? Кто поддерживает её в её решимости? Кто помогает, кто ведёт, кто освещает её путь?
– Господь милосердный! Что ещё за херня?
– Зачэм вопэш сильна громка, Коля, друг? Да? Не надо вопэть! Надо тиха-тиха, если не хочэш на жопу бо-бо. Што за хэрня?
– Ну, не то чтобы херня – женщина… Баба. Одна. Точнее, не одна. С детьми, похоже. Один в руках, другой на животе привязанный в тряпках валандается.
– Мэртвый баба, да?
– Зачем мертвая?.. Живая. Слушай, она прям в нашу сторону идёт. Гляди сам.
Бородатый парень, похожий немного на взволнованного дьячка, немного на дизайнера интерьеров, протянул бинокль пузатому армянину, одетому в женскую долгополую шубу, вывернутую наизнанку. Шёлковая, когда-то блестящая подкладка была вся засалена, испачкана не то в грязи, не то в собачьих экскрементах, но всё равно выглядела роскошно. Армянин взял бинокль, приложил его к горбатой переносице и сморщился.
– Ай. Протэрать стёклышко нада, да. Свиня ты, Коля. Вот как в хрен смотрю, слушай, да!
– Ну… – парень нетерпеливо подпрыгнул на месте. – Видишь?
– Вижу, – армянин нахмурился. – Коля… баба если так дальше будэт гулять бэзалабэрно, то сам знаешь, да? Как бы, Коля, друг, нэ нашэ это с тобой бо-бо. Но там два дэтишки, да.
– Да, Аванес Гургенович, – прошептал Коля. – Может, я сбегаю, а? Приведу сюда?
– Ты сиди на жопэ, не суйся. Я тиха-тиха, как мыш, пойду сам её встречу. Да?
– Аванес Гургенович, я все-таки моложе и сильнее…
– Да? – армянин развернулся и, не отнимая от глаз бинокль, уставился прямо на юношу. И несмотря на комичный вид, выглядел он сурово и даже страшно.
– Хорошо. Вас не переспорить! Идите. Я здесь ждать стану. Если что, прикрою из «Кедра». Вы только его оставьте, вам же он сейчас ни к чему. Вы же «тихотихо» пойдете.
– С хрэнедра! Сиди нэ рыпайся, щинок!
Армянин, до этого лежавший на животе на самом краю крыши двухэтажного павильона, отполз назад, встал на карачки и направился к дереву, растущему рядом со зданием и служившему импровизированной лестницей. Спустившись на пару веток вниз, так, что над крышей оставалась только седая косматая голова, он повторил страшным шепотом:
– Нэ рыпайся, Коля, и не бзды, да!
* * *
В лесопарк я решила ткнуться, сообразив, что до ближайших жилых массивов мне раньше чем к полудню никак не добраться. А всё потому, что из-за чертовой старой карги я нарушила свой план. Побоялась, что на звук выстрела придут босы. И вышла на маршрут раньше, чем нужно. В результате раньше вымоталась. Да и двигались мы в этот раз трудно. Часто останавливались. Пережидали, пока стаи босов, группы хачей или сосредоточенные, вооруженные до зубов единицы пройдут мимо. Переждав, быстро добегали до следующего укрытия и снова ждали. Один раз я чуть не столкнулась нос к носу с обдолбанным потрохом – он переходил от одного брошенного автомобиля к другому, шатаясь и то и дело блюя себе на сапоги. Не знаю, что он там потрошил – сами машины или туши их незадачливых владельцев, но от того, что потрох оказался так близко, меня вдруг всю заколотило.
Единицы, босы, хачи, ходоки… С ними всегда имеется крошечный, но шанс остаться в живых. С потрохом такого шанса не существует. Потроха и так-то психи, так ещё и все шпигаются мусором, от чего у них башку в хлам срывает. Говорят, что их называют потрохами не только за мародёрство. Говорят, что даже босы не лезут на территорию или в улей, если туда забрел потрох. И хотя я всегда ржала над Лёлькиными россказнями про потрохов-каннибалов, на самом деле не так уж в них и не верила.
Мы с Полечкой отдыхали на стоянке, на заднем сиденье относительно целого джипа, когда в трех метрах от нас появился он. Лысый, в драной кожанке на голый торс, с опасной бритвой в руках. Говорят, потроха не пользуются огнестрелом. Уточнять это я не собиралась. Пока потрох ковырялся в стоящем по соседству «туареге», я кое-как выползла наружу и помчалась прочь, молясь, чтобы не поскользнуться, не упасть и суметь, если что, выстрелить. Ещё и Поле вздумалось вдруг заплакать. Хотя, если бы не её плач, который внезапно придал мне бодрости, вряд ли сумела бы я дотащиться до заброшенной стройки. На стройке кто-то тусил – пахло паленым, слышались голоса, но если бы мне пришлось сейчас выбирать между потрохом и дюжиной босов, я выбрала бы последних.
Пронесло… Но время и силы были потеряны. И всё-таки я выбралась обратно на шоссе и сумела пройти ещё километров пятнадцать, пока не начало светать. Слева и справа от меня чернел лесопарк. Крыши высоток, едва подсвеченные зарей, маячили где-то на горизонте, а у меня начали заплетаться ноги и слипаться глаза. Километр я ещё продержалась, но потом свернула на тропу, ведущую вглубь парка. Не лучший план, но задерживаться на трассе было бы совсем по-идиотски.
«Сейчас, маленькая. Ещё чуть-чуть, мы найдем безопасное местечко, натаскаем лапника, пригреемся и поспим. Мама справится, Полечка. Мама всё сделает как надо. Видишь, как много мы уже прошли. И пройдем ещё больше. И доберемся до хозяйства…» Поля гулила, дышала мне в шею. Пахло от неё молочком и почему-то карамелькой.
Тропинка становилась всё уже, лес всё гуще, а воздух всё холоднее. «Сперва, Поля, нужно натаскать в кучу веток – много веток, – соображала я. – Потом мы разожжем костер: спички у нас есть, шоколадная обертка для розжига – тоже. Правда, тогда нас могут учуять босы, но мы их всех чпокнем, обещаю тебе».
Я бормотала, засыпая на ходу, а подходящего для стоянки места всё не попадалось. И когда я уже решила притулиться под первой попавшейся ёлкой, прямо передо мной, шагах в десяти, возник старый жирный хач. Ни скрипа подошв, ни хруста веток, ни дыхания – я ничего не слыхала. Хач словно спустился с неба… или вышел из преисподней, потому что на херувима он ничуть не походил. Но будь он хоть чёрт, хоть ангел – плевать! Реборн Сенечка немедленно принял «боевую позицию», я пихнула застывшие, но еще не потерявшие чувствительности пальцы в резиновый затылок и потянула спусковой крючок на себя.
Заклинило!
Сенечку заклинило… Я тянула изо всех сил, так, что кожа на указательном пальце содралась и я чувствовала боль и кровь. Ещё раз! Ещё! И ещё! Никак! Сенечка предал нас! Правда, можно было ещё прикинуться овечкой, подманить хача поближе и расплющить ему рожу в хлам.
– Здравствуйте, добрый человек, – пролепетала я, перехватывая куклу покрепче. – Не убивайте меня. Я заблудилась.
– Слюшай, баба, да… Если ты дальше станэшь тут орать, то чпокнут всех, да. И дэтишка твой чпокнут. Поэтому тиха-тиха нада. Как мышка. Иди давай сюда.
Я послушно сделала шажок вперед, ещё один. И уже приготовилась бить хача Сенечкой, как услышала голос с неба.
– Мария Владимировна? Это вы? Господи! Не может быть… Вот ведь верно говорят – мир тесен.
Мир тесен, тесен, грязен и глуп. Но в нём всё ещё случаются чудеса. Так думала я, глядя как по стволу дерева, кажется, дуба, спускается ко мне Коля Зверев. Чудак, умница и мой бывший аспирант. Точнее, не только мой – мой и Рыжего.
– Коля, это ты? Коля, миленький…
Целую секунду или две хотелось расплакаться и броситься на впалую Колину грудь, прижаться к нему всем телом и позволить его руке гладить меня по волосам. Я знаю – он был бы счастлив. Все полтора года, пока Коля болтался на кафедре с невкусными марципанками и дурацкими вопросами, я знала, что он в меня влюблён. Рыжий тоже знал. Смеялся над мальчишкой, издевался надо мной. Не ревновал – нет, так было бы проще. Рыжий часто притаскивал Колю к нам на ужин и где-нибудь ближе к чаю принимался за травлю. «Что такое? Почему сидим, раскрывши варежку? Встала и быстро обслужила. Ну? Кому сказал… Шевелим ягодицами, Мария Владимировна, если мозгами не судьба. Что? Опять залипла? Со стола смети… Смени чашки! Кому сказал – чашки смени, тупка… Николай, когда соберешься жениться, проверь сперва у тёлки ай-кью!» Коля прятал глаза и краснел. Я же молча вставала и выполняла всё, что приказано. Знала: любые попытки перевести сказанное в шутку сделают только хуже. Рыжий запросто мог ударить меня при Коле, и тогда… тогда вся кафедра, весь институт узнает, что их Марья Владимировна – глупая, слабая и трусливая бабель-хом. Коля жалел меня… Но что он мог сделать, что? Маленький влюблённый аспирантик Коля Зверев.
– Мария Владимировна! Вы только не бойтесь! Это мой друг – Аванес Гургенович. Он единица. То есть он раньше продовольственный магазинчик держал, а теперь единица. Аванес сильный. И я теперь тоже сильный. Я вас, Мария Владимировна, от кого хотите защитю… – Коля так и сказал «защитю», сорвавшись от волнения голосом, и я поняла отчётливо и навсегда – нет. Не защитит.
А вот старый хач – защитит. И это я тоже поняла. Высчитала моментом. И по тому, как он сперва умно молчал, прислушиваясь к нашему с Колей разговору, и по тому, как ерошил седой затылок левой рукой, не вытаскивая руку правую из кармана. И по тому, как оттопыривалась с правого же бока его смешная шуба… Я улыбнулась непроизвольно – вот и дожили. Выпуклость в районе мужского бедра теперь значит вовсе не то, что прежде. Но всё равно признак мужественности.
– Тиха-тиха говори. Тсс. Тут чэрти эти рядом ту-сят. Босы. Склад у них тут. Павезло тэбе, да! Савсэм немножка впэрёд прошел бы, был бы мэртвый савсем, Мариявладимирна.
– Можно Маша.
– Маша – хорошее имя, да. Пусть.
– А мне можно звать вас Машей? – робко встрял Коля. – Всё-таки… обстоятельства.
– Конечно, – великодушно позволила я, хотя Колина фамильярность меня покоробила. С другой стороны, можно его понять. Нынче он – мужчина, хозяин. А я так… бабель-хом.
– Ладна. Сюда иди, да. Давай один рэбёнка – поносу. Нэ бойся, нэ уроню. Я, Маша, отэц и дэд.
Инстинктивно попятившись назад, я прижала к себе детей. Вот уж чего я совсем не хотела, так это отдавать Аванесу в руки Сенечку. О Полечке так и речи быть не могло. Но хач выглядел упертым, поэтому я немедленно принялась всхлипывать и задыхаться.
– Нет! Прошу вас… Я не могу без детей!
– Не надо, Аванес Гургенович. Пусть Мария Владимировна сама… Там, знаете, всё сложно. Я эту семью давно знаю. У Марии Владимировны… ну, у Маши и мужа её Сергея Ивановича долго не получалось… А теперь вот видите – сразу двое. А она – бедняжка – совсем одна. Наверняка трагедия, Сергея Ивановича, скорее всего, убили…
– Нэ нада, так нэ нада… – резко прервал Колю хач. – Пошли, Маша. Кушать-то будэш?
Закружилась голова, и я вдруг поняла, что последний квадратик шоколада съела часов семь назад.
* * *
Внутри заброшенного торгового павильона трещал костерок. Внутри нагрелось так, что я расстегнула пальто и размотала слинг. Поля вертелась, хотела есть, и мужчины, догадавшись, что мне нужно остаться одной, отошли в сторонку. Это было мне на руку. При свете костра наконец-то удалось разобраться, что не так с Сенечкой и отчего заело спусковой крючок. Ответ оказался таким по-бабски глупым, что, очутись здесь Рыжий, я словила бы кучу обвинений в тупости. Наспех проковырянного в Сенечкиной голове канала оказалось недостаточно для того, чтобы передернулся затвор. Гильза осталась в окне, и мое страшное оружие пришло в негодность. Ничего, в следующий раз буду умнее.
Коля с Аванесом молча ждали, повернувшись ко мне спинами, в костре тихонько потрескивали еловые ветки. Не услышать щелчка затвора они не могли. Но тут на помощь неожиданно пришла Лёлька (аминь), которая раз в три-четыре часа довольно умело изображала младенческий ор. Помню, Рыжий из-за этого бесился, а я за два года как-то даже притерпелась. Так чем я хуже Лёльки? Неужели не справлюсь?
– Аааааааыыыыыуууууу…акх ахк…ааааыыыууу акх акх!
К счастью, надрываться пришлось недолго. Быстро передернув затвор и пристроив ствол на прежнее место, я успокоилась. Во всех смыслах. И замолчала, и почувствовала себя увереннее. Нет. Я ни капли не доверяла… ни Коле Звереву, ни тем более Аванесу. Никому я больше не доверяла, кроме себя самой. Потому что за эти два дня я навсегда перестала быть бабель-хомом и стала единицей… безбашенной, отчаявшейся и злой.
– Спят уже? Накричались? Устали, наверное, – Коля протянул мне хлеб с салом и присел рядом. На мой взгляд, слишком рядом для бывшего аспиранта. – Мальчики?
– Мальчик и девочка…
Вкус настоящей еды пьянил. А когда подошел Аванес и протянул мне батл коньяка – настоящего армянского, – я испугалась. Сейчас глотну чуточку и засну к чертям.
– Спасибо. Я кормлю же. Грудью. Нельзя алкоголь.
– Пэй, Маша, пэй… Дэти лучше спат будут, да.
– Не стоит, – вежливо отодвинула я руку с бутылкой. – Воды бы вот выпила.
Коля вскочил, метнулся куда-то вбок, засуетился, зашуршал пакетами.
– Мужа-то твоего что? Убили? – Аванес присел передо мной на корточки, сочувственно почмокал и вдруг резко дернулся к моим коленям и двумя пальцами отодвинул закрывающую лицо Сенечки шапку.
Диатезный носик, прикрытые полупрозрачными веками глазки, реснички длинные, тёмные…
– Красавэц! Жэних!
Палец мой, потный и жаркий, уже целую минуту лежал на крючке. Наклонись Аванес ниже, чтобы послушать, как дышит ребёнок, или стяни с Сенечкиного подбородка тряпье (от выстрела рот реборна оплавился и почернел), мне пришлось бы тяжко. Но хач удовлетворился увиденным. Заулыбался. И будь я всё ещё тупым бабель-хомом, я бы поверила в то, что пожилой человек увидел малышей и расчувствовался. Но единица знает – ничего не бывает просто так. Аванес проверял меня. И проверку его я прошла. Мы прошли.
– Маша, слюшай сюда. Мы скоро пойдем нэмножка тутошний склад босов дрочить… Кушать надо брать, патроны, бэнзин. Ты тут сиди тиха-тиха, не рыпайся. Жди. Вэрнемся и вместе потопаем отсюда, да. Тэбе, Маша, хозяйство нада, к вэнтам нада, да. И Коле нада. Мне не нада, так думаю…
Конечно же, ему не надо… К таким, как этот хач, нынешний мир щедр. «Кедр», парочка «Грачей», настоящая еда, коньяк – такой хабр может собрать не всякий. Интересно, скольких человек чпокнул дорогой Аванес Гургенович, чтобы позволить себе великодушно доставить нас к вентам?
– Мария… Маша! Водички вот. Хотите поговорить? Рассказать, что случилось… Вы же знаете, я всегда к вам испытывал только добрые чу…
– Коленька, а давай я посплю, а? – почему-то надо мной кружились рыбки и морские звёзды. Я не стала возражать, когда Коля набросил на меня, прижавшуюся к моему животу Полечку и лежащего на коленях реборна одеяло.
* * *
Когда я проснулась, в павильоне никого, кроме нас с Полей (и Сенечки), не было. Проковыряв в картоне, которым были заколочены окна, отверстие, выглянула наружу. Наткнулась на ночь. Крутило живот, но наружу выходить не стала – плевать, что воняет. Нашла заботливо оставленный батл с чистой водой, сухари. Поела. Попила. Подмылась.
Теперь можно было идти дальше. Нужно было идти дальше. И я даже пообещала Полечке, что мы так и поступим. Но я всё тянула и тянула. Всё ждала, когда вернутся мужчины и возьмут на себя ответственность за моё и Полечкино будущее.
– С ними проще, понимаешь? – поясняла я дочке. – С ними можно быть слабой и глупой, понимаешь? Нет. Не понимаешь. Вот вырастешь – поймёшь!
– Агууууу, – улыбалась Полечка.
– Если они достанут бензин, можно будет найти на шоссе мотор и добраться до хозяйства хоть завтра, понимаешь? И не бояться ничего в пути!
– Агаууууу.
– Потому что они мужчины, Поля! Они сильные и ответственные! Они наши с тобой защитники. Как, например, Сенечка. Ну? Что посоветуешь?
– Лгуууу…
– Я тоже думаю, что стоит подождать!
– Маша! Маша…
Я вздрогнула, замерла… Выдохнула облегченно, даже радостно, увидев перед собой живого и необычно возбужденного Николая.
– Маша… Милая Маша! Вы бы видели! Ты бы видела, милая… Там даже охраны не стояло. Босы – безмозглая слизь. Аванес сразу чпокнул пятерых, я двоих! Потом остальных дорезали. Я убил их всех, Маша… У них мозги вылетали просто! И раз, два, три… В человеке, оказывается, столько дерьма! Ты не представляешь! Мы взяли у босов мотор. Ещё три канистры бензина. Мясо. Хлеб. Патроны. Антибиотики. И инсулин! Ты знаешь – инсулин сейчас можно обменять на что угодно. Маша, надо идти! Аванес ждёт нас на шоссе… Маша! Я убил! Я их всех нахрен чпокнул! Маша, я сейчас могу сказать. Я хочу, чтобы ты знала – я люблю тебя… У нас есть немного времени, ты мне только верь, Маша. Я очень люблю тебя, маленькая. Всегда любил. Я защитю вас всех!
И он повторял это «защитю», расстегивая штаны, улыбаясь глупой детской улыбкой, и трогая меня тонкими отчего-то липкими пальцами, и суясь губами в мою шею. А я слушала, как гулит Полечка, которую я осторожно положила на пол рядом с реборном, и думала, что патроны, мотор и три канистры бензина – это отлично. Великолепно! Блестяще! Изумительно! Зачёт!
Правда ведь, Полечка? Мама ведь у тебя молодец? Мама ведь могла в любую секунду кончить эту слюнявую гнусь, но не стала – потому что слюнявая гнусь приведёт нас к машине, а машина, Полечка, это наша с тобой жизнь.
* * *
Я позволила Коле помочь мне с пальто и слингом и доверила тащить свою почти пустую наплечку. Он порывался помочь и с «детьми», но я как-то отболталась. Было это нетрудно. Возбужденный, жалкий Коля продолжал твердить про то, что он всех чпокнул, и что мне теперь есть на кого положиться, и про любовь, и так далее, и тому подобное. А я вся исхохоталась внутри, потому что теперь у меня имелось целых три канистры бензина! А у Коли имелось всего лишь несколько минут.
Хитрый Аванес мог бы всё почуять сразу, но его сильно сбивали и расслабляли мои «дети». Доверься он нюху, прислушайся к интуиции, вряд ли позволил бы мне забраться на заднее сиденье абсолютно целого патрика, не повернулся бы спиной, ковыряясь в замке зажигания.
– Маша… Ты пристэгнись, да. Не очкуй и не бзды! Сейчас поедем… Утром на мэсте будем, да! Коля, давай быстро-быстро тоже садись, не как мышка, да.
Коля Зверев звонко и много отливал на обочине.
Когда же он подбежал к машине, с Аванесом было кончено. Пчак снес старому хачу все сухожилия, и седая голова откинулась назад, держась на одних лишь позвонках. Тело Аванеса грузно вывалилось из машины, голова глухо стукнула об асфальт. Аминь!
– Что? Маша… Как? Почему, Мария Владимировна? Я же вас люблю!!! – человек с жидкой бородкой, похожий не то на испуганного дьячка, не то на дизайнера интерьеров, нелепо размахивал руками, прыгая перед капотом. – Мария Владимировна! Я и вас защитю! И детей! Помилуйте, мы же интеллигентные с вами люди!
В эту секунду я и осознала, что кончилось то последнее, что оставалось ещё во мне от бабель-хома. Кончилась та крошечная тварюшечка, что должна была сейчас чувствовать себя униженной, использованной и несчастной. Та, что искала сперва защиты, потом возмездия, а позже – и неопровержимых доказательств своей силы и бесстрашия. Больше мне этого не требовалось.
И я в последний момент резко вывернула руль вправо, чтобы не задеть Колю Зверева, но все-таки случайно чиркнула зеркалом по плечу. Коля поскользнулся, упал, закричал не то от боли, не то от страха того, что я сейчас развернусь и вплющу его вместе с его бородой, кандидатской степенью и убогой любовью в заснеженное шоссе…
Но кому это интересно? Хома нах. Пусть коптит.
– Полечка… Поехали, милая! Пора домой.
До хозяйства вентов мы с Полей добрались нескоро. Через целые сутки. Пришлось долго рыскать по пустым дорогам, пару раз убегать от погони и даже отстреливаться из «Кедра» до тех пор, пока не опустел магазин. Потом пришла очередь «Грачей», и даже Сенечкиного «Макарова». Но мы справились, и в конце концов патрик вывез нас к шлагбауму, за которым виднелась расчищенная от снега, мусора и грязи дорога. Возле шлагбаума стоял БТР с выключенным движком, рядом топтались вооружённые люди в камуфляже. «Хозяйство 0087» – аккуратную надпись на деревянной табличке я несколько раз прочла, сперва жадно глядя в бинокль, а потом уже невооруженным глазом.
– Стоять! Документы… Кто такие? – ствол пулемёта уставился прямо на меня. – Откуда?
– У меня дети!!! То есть ребёнок. Дочка! – закричала я, опуская стекло. – Полечка… Мы из города, ищем убежища в хозяйстве. По профессии я – учительница. И мне всего тридцать лет. Могу ещё рожать!
– Выйти из машины с поднятыми руками! – от группы вентов отделился высокий мужчина. Двинулся в мою сторону легкой, упругой и немного наглой походкой. – Я кому сказал выйти? Ну! Живее…
– Я… я… сейчас.
– Бляяя… Ну давай уже вылазь! Чего ты там телишься уже час, тупка?
* * *
Сидеть лучше, чем стоять! Сидеть лучше… Особенно если через опущенное стекло патрика смотрит на тебя не мигая твой бывший мужчина. Тот, который восемь недель назад бросил тебя одну умирать и ушел, даже не обернувшись.
– Рыжий… Я же не выживу без тебя! Останься… Или возьми с собой! Или убей, – я боялась цепляться за его рукава, потому что у Рыжего были бита и трав-мат, а в глазах звериное, неудержимое веселье.
– Да нахрен ты мне такая сдалась? – не то он хотел этим сказать, что больше меня не тронет, не то, что от меня нет ни ему, ни кому-то ещё никакой пользы. – Ни трахаться, ни готовить, ни рожать не можешь. Вали нах!
Он не оставил в доме ни еды, ни медикаментов, ни денег – ничего, что дало бы мне возможность продержаться хотя бы сутки. Но я продержалась. И сутки, и двое. И восемь недель. И ещё целых четыре с половиной дня. Я прошла через город, я не замерзла, не сдохла от голода, не стала жертвой потроха или босов, я сносила тридцать три пары железных сапог, чтобы… что?
Сидеть лучше, чем стоять. Глаза вниз. Руки на коленках. Губы дрожат. Господи, почему так дрожат губы?
– Что там, Рыжий? Что за баба? Что за хабр? – шипит рация.
– Ого! Братики! Сюрприз так сюрприз! Я эту телку прекрасно знаю! Это ж моя бывшая… – кричит Рыжий в микрофон и подмигивает мне. – Тупая, и к тому же пустая. Яловая телочка-то.
– А что она там про детеий… иууиии теий… за-двигаауиет? – на линии помехи.
– А хрен поймет! Вижу на заднем сиденье два куля. Не шевелятся. Может, подобрала где дохлых? Ого! Нет! Невероятно! Валите сюда все! Я знаю, кто это! И вы должны это видеть! Давайте, давайте, тут безопасно. Это ж моя бывшая!
От бэтээра к патрику бегут люди. Дюжина или больше. Переговариваются между собой, смеются. Выглядят расслабленными. Они окружают машину, приклеиваются к окнам. Рыжий запускает руку через приоткрытое водительское окно, нажимает на кнопку – все стекла едут вниз.
– Слушай, правда ведь дети, – говорит кто-то, кивая на Сенечку. Мне пришлось его вчера развернуть, чтобы достать пистолет, и теперь он лежит сзади полуголый и несчастный. – Надо бы пропустить внутрь.
– Аххаха… Хааахха… Это знаешь что? Думаешь, ребёнок? А вот нах! Это реборн. Кукла такая. Она его у соседки спиздила… Нет, ну ты подумай – тупка туп-кой, а допёрла!
Чьи-то толстые пальцы трогают Сенечку за ножки. Сперва неуверенно, потом грубо. Как куклу. Как кусок резины. Я молчу. Наблюдаю за происходящим в зеркало.
– С ума сойти. Как настоящий! А второй? Тоже реборн?
– А хрен её знает. Эй, тупка, что там у тебя? – до Полечки дотянуться Рыжему не удается – она от него слишком далеко.
– Тут не кукла – штуковина какая-то, слушай… Не пойму никак!
Вент, стоящий с той стороны, где лежит Полечка, поддевает дулом автомата одеяльце и тянет его на себя. Комбинезончик кое-где порвался, но всё ещё ярок и очень красив. С Полечкиной головы сползает капюшон.
– Бревно, что ли? Не врубаюсь. Бревно пластмассовое с железными сучками…
– Это не бревно! Это поствитрувианский человек, дебилы! Она же дочь моя Полина. И за неё я вас всех сейчас чпокну! – поднимаю вверх левую руку с зажатой в ней гранатой! Улыбаюсь. Покойный Аванес – молодцом, здорово продрочил босов!
Венты разбегаются в разные стороны.
Я их понимаю! Бежать лучше, чем лежать.
Бегите, хомы, бегите!
Аминь!
♂ Ночь, день и ночь Светлая фигура Алексей Провоторов
Вечером пошёл дождь. У нас он был редкий, а вот на южном горизонте, в синей дали, с неба космами падали потоки воды. Солнце скрылось рано, свалившись за мокрые тучи, и мы решили ехать. Ветер трепал гривы лошадей, и мои волосы, и наши тёмно-красные флаги. В темноте они казались чёрными. У меня не самые удачные фамильные цвета, учитывая то, что я обычно разворачиваю свои флаги только ночью. Но это не слишком меня беспокоит.
Я надел шлем, и теперь ветер таскал меня не за волосы, а за конский хвост на его верхушке. Брызги летели в лицо, блестели в отсветах молний мокрые доспехи, но плащ, не успевший ещё отяжелеть, взвился, когда я запрыгнул в седло. Я надеялся выехать из-под туч ещё до восхода Луны – нам надо было на север, прочь от дождя.
Я махнул рукой, и наш отряд высыпал за ворота – пятеро конных, если считать и меня, каждый с флагом за спиной. Бел ехала вместе с одним из воинов, потому что не умела править лошадью.
Я не захватил никаких сокровищ, кроме горсти монет – всё, что понадобится мне, ждало меня впереди, моё по праву: и золото, и Джейн, и праздничный пир.
Ветер теперь дул нам в спину, ночной лес топорщился мокрыми иголками, молчали птицы, и только топот копыт и плеск воды сопровождали нас. Дальний гром был едва слышен. Пахло свежестью, мокрыми листьями, прибитой дождём пылью; кони бежали легко и свободно. Я ехал быстро, надеясь к утру послезавтрашнего дня воцариться в Мал Мидде, и мои люди не отставали от меня.
Этим путём не следовало ездить без надобности, но сегодня мы очень спешили. Вскоре лес отодвинулся от дороги – пока ещё обычный лес, – а сквозь тучи треснувшей жемчужиной проступила Луна. Глаза наших коней отливали в темноте белизной, глаза моих людей отсвечивали красным, как, я знал, и мои. Бел дремала, но даже так из-под её ресниц исходил белый светящийся дымок. Значит, ей снились хорошие сны. Для Бел пока не было работы, но не взять её с собой было бы даже более опрометчиво, чем выехать безоружными.
Потом лес поредел. Деревья мокрыми чёрными громадами стояли по обочинам, низины тонули во мгле. Мы сбавили скорость, и кони пошли по мокрой дороге почти шагом. Я смотрел в ночь, ожидая встречи.
У большого раскидистого вяза, прислонившись к стволу, дремал человек в огромной широкополой шляпе. Заслышав наше приближение, он поднял голову и взглянул на нас из-под полей. Лицо его скрывалось в глубокой тени.
Бел проснулась, пару раз моргнула, разгоняя ресницами белёсый сияющий дым. Теперь мягко светились лишь её зрачки, да белели седые, как туман, волосы. Она с любопытством глядела на человека под деревом. Как мне показалось, она узнала его, хотя я никогда не думал, что Бел и Безлицый знакомы. Впрочем, ничего удивительного здесь не было – оба они были профессионалами из числа лучших.
Я спешился, разбрызгивая сапогом воду; человек же встал на ноги. Он был худ и высок, даже выше меня. Мне показалось, что у него длинные волосы, собранные в хвост за спиной. Впрочем, разглядеть его толком всегда было сложно, хотя я нанимал его не в первый раз.
Я подошёл к нему.
– Работа сделана, – сказал он шёпотом. Он всегда так говорил. – Добыча в мешках, одноглазый в пути; белые сёстры Милены остаются в обители, но люди Боннаха Стонна будут ждать их в лесах завтра в полдень.
– Благодарю, – ответил я.
Человек кивнул. Казалось, лица у него нет – так глубока была тень под шляпой. Даже я, с моим ночным зрением, его никогда не видел.
Я снял с пояса кожаный мешок, полный золотых монет, и отдал его человеку в шляпе.
– Благодарю взаимно, – сказал он. После чего отступил в тень, за дерево, и растворился во влажной ночи. Он всегда уходил пешком. И никогда не мешкал.
Мы разобрали мешки. Я положил один поперёк крупа коня, остальные воины сделали так же. Мешки были тёплые и податливые.
Не задерживаясь более, мы покинули это место.
Деревья сошли на нет. Мы кавалькадой вылетели в поля, глядевшие в небо белыми ночными цветами, и дождь, уронив последние капли, остался позади. Ветер согнал тучи с Луны, и она, огромная и голубая, бросила на запад наши тени.
Какое-то время мы мчались, пустив лошадей вскачь. Ночь текла мимо нас, Луна серебрила доспехи, отражалась в наших глазах, и лишь чёрные кони, звери цвета тьмы, были почти не видны, словно мы оседлали сам ветер.
Две мили спустя я поднял вверх руку, придерживая коня, и остальные тоже сбавили ход. Сбивая капли с высокой ломкой травы, кони перешли на шаг и, растянувшись в цепь, остановились. Я стоял в центре, с обеих сторон от меня было по два всадника.
Бел сидела ровно в своём сером с голубым платье и тихо напевала какую-то песню.
Навстречу нам, раздвигая высокую траву, неторопливо рысили пять серых зверей. Мы были на земле волков, в самое волчье время.
Они тоже растянулись цепью, так что на одну лошадь приходилось по одному из них. Не доходя до нас двадцати шагов, они остановились.
– Можно пройти? – спросил я, делая вид, что обычай по-прежнему храним.
Волки переглянулись. Потом вожак тихо зарычал. Иного я и не ожидал. С чего бы они дали нам дорогу, если мы при случае стелем их шкуры перед каминами, а они, бывает, вечерами грызут наши кости.
Волки напряглись, и я махнул рукой. Мои люди обнажили клинки. Коротко блеснула серебряная вязь на каждом из лезвий – сегодня мы взяли посеребрённые мечи, потому что впереди нас ждали такие же, как мы. Против волков использовать оружие мы не собирались.
Звери прыгнули на нас, высоко, как настоящие волки не смогли бы, метя по дуге выше лошадиных голов. Бел допела песню как раз в этот момент и хлопнула в ладони. Перевернувшись в воздухе, звери неуклюже рухнули на землю и тотчас испуганно рванулись прочь, в разные стороны. Это были крупные серые зайцы. Мы в тот же момент разрезали мечами путы на мешках и вытряхнули на землю ещё пять сонных зайцев, которые, впрочем, моментально проснулись и тоже покинули нас.
Бел снова откинулась на грудь воину, и он прикрыл её плащом, ибо мы вновь полетели быстрее ветра.
Бел – молодчина. Если мне нужна магия, я всегда нанимаю её. И пусть час её работы стоит дорого, я знаю, за что плачу, даже если она просто спит в седле.
Мои люди на ходу прятали клинки, которые не собирались использовать до самых Пределов Мальтазара.
Теперь волки, которые могли встретиться нам на пути, погонятся за зайцами, не заметив нас. Обязательно погонятся, тем более зайцы бежали туда, куда велела им Бел. Сказки о том, что оборотень в волчьем теле соображает так же хорошо, как и в человеческом – не более чем сказки. Как и истории о том, что вампир не отражается в зеркале – не более чем истории. Мы отбрасываем тени и отражения, потому что мы есть.
Кони, все чёрные, как один, несли нас по степи, не разбирая дороги. Однажды нас догнал тоскливый, переливчатый волчий вой; но мы поняли, что земли оборотней проехали без проблем. Другой раз стая белых птиц с белыми клювами и лапами, больших, как журавли, выпорхнула из высоких трав, потревоженная нами, бросая крылатые тени на наши лица. В остальном же до самой дороги всё было спокойно.
Когда мы, подгоняя коней, пересекли ручей и подъехали к насыпи, Луна уже была почти посреди неба.
Мы остановились, подождав ровно столько, чтобы пропустить невидимый нам отсюда отряд всадников, с гиканьем проскакавших по дороге наверху насыпи. Затем Бел, обернувшись к полю, крикнула что-то в темноту. Спустя несколько минут из травы прямо на нас выскочили зайцы – пятеро из выпущенных нами десяти. Волки не замедлили бы появиться, но мы не стали их ждать. Ласковым, напевным словом Бел усыпила зайцев, и, снова упрятав их в мешки, мы отправились дальше, уже слыша, как шуршит за спиною трава – волчья стая, которую зайцы увели за собой с нашего пути, догоняла нас.
Кони, нагибая шеи и напрягаясь всем телом, вывезли нас вверх по крутому склону, и мы оказались на тракте. Сюда волкам не было ходу, это уже были земли людей, а не зверей.
Высекая искры подкованными копытами, по дороге, мощённой чёрными и белыми камнями, наши кони достигли Белой и Чёрной башен.
Здесь редко кто ездил, но мы решили проехать именно тут – ночь не стояла на месте, близился рассвет, убийственный, как каждый рассвет в году, и к утру мы должны были достигнуть Пределов Мальтазара, чтобы не сгореть на солнце.
Башни, высотой в двадцать пять ярдов каждая, стояли близко друг к другу, круглые, тонкие, сужающиеся кверху. Между ними могли бы протиснуться бок о бок не более пяти всадников. Белая башня была по правую руку, а Чёрная – по левую. Вокруг имелись ещё другие строения, но башни определённо доминировали.
– Стой, заплати пошлину! – закричали нам с Чёрной башни, и пустые прежде окна ощетинились арбалетами. Я узнал резкий голос Каталины. Ей, как всегда, не спалось лунными ночами, и она сама командовала ночной стражей. Я посмотрел вверх и увидел её бледное, раздражённое лицо, обрамлённое немытыми волосами.
В ответ на Белой башне дунули в дребезжащий рог, а затем хозяин башни, лохматый Шэннон, закричал вниз:
– Нет, нам заплати пошлину!
Так бывало всегда. Обычно проезжающим приходилось платить пошлину обеим сторонам, которые спускали за ней корзины на верёвке. После чего люди Каталины старались перебить верёвку корзины Шэннона, а лучники Шэннона, ругаясь, метили в корзину Каталины. Путники тем временем обычно успевали проехать, пока этой парочке не вздумалось затребовать с них пошлину ещё раз.
У них шёл очень давний спор из-за этого замка, и однажды случилось так, что они одновременно напали на него, успев занять по половине. Выбить противника из противоположной части оказалось для каждого невозможным: они замуровали входы и накрепко засели в окружённом обрывами замке, который раньше был сторожевым постом. Кто владел замком, тот ведал всей этой дорогой, потому что другого пути на север вблизи не было.
Поскольку никто не хотел отпускать противника, никто и не уходил. Тот, кто покинул бы башню первым, подставился бы под удар. Ситуация стала почти неразрешимой.
За три года, пока враги сидели в башнях, тут наладилась торговля – купцы продавали Каталине и Шэннону еду, а те, в свою очередь, платили им деньгами, взятыми с проезжих. В купцов никто не стрелял, поскольку они пообещали уморить обе стороны голодом, если хоть одна стрела полетит в сторону торговца, независимо от того, кому он привёз товар.
Замок давно потерял для них свою ценность, стал символом, а вражда превратилась в навязчивую идею. Одуревшие от неё Шэннон и Каталина давно уже стали полубезумцами. Скоро, я думаю, кого-то из них прикончат свои же люди.
– Пошлину, говорю! – заорали они хором, и я кивнул Бел. Она выпрямилась, провела рукой по волосам, и на несколько мгновений всю площадку между башнями залил свет, и наш отряд стал виден, как на ладони – всадники на чёрных лошадях, в кованых панцирях, с тёмно-красными флагами за спиной, и знаменитая Бел, сияющая, как день.
– Узнаёшь меня, Каталина? – спросил я. – Узнаёшь, Шэннон?
Молчание было мне ответом. Согласное, удивлённое молчание.
Шэннон и Каталина, которые, среди прочего, были источниками моего дохода, узнали меня.
Много лет назад эти двое заключили со мной пари и проиграли. В оплату я взял себе власть над ними и подкрепил её магией. Я помогал им, подсказывал пути, зная, что когда-нибудь они мне пригодятся. Захватить пограничный замок они решили тоже с моей подачи. Так что я являлся, по сути, хозяином его, но об этом никто не знал – дань я собирал не чаще раза в год, безлюдными ночами. Противиться мне они не могли, даже если бы захотели – я мог приказать им всё, что угодно. Даже шагнуть из окна. Сила вампира над подчинёнными ему людьми велика, здесь легенды говорят правду.
– Да, лорд Людвиг, – ответили они наконец, тихо, но всё так же хором.
– Кто проезжал тут передо мною? – спросил я, думая о ватаге всадников, что проскакала по дороге, не заметив нас на волчьих полях.
– То был одноглазый Кайл, – ответила Каталина.
– Он спешил и заплатил пошлину без слов, – добавил Шэннон.
Я кивнул, поскольку их ответы соответствовали моим догадкам и плану. Одноглазому Кайлу не так уж страшны были стрелы арбалетов, потому что по природе своей он ничем не отличался от меня. Но он не хотел задерживаться, и тут я мог его понять – день подходил всё ближе и ближе, и Кайл спешил – не менее, чем я.
Мы взяли достаточное количество драгоценностей, – в последнее время, стоило заметить, доход снизился, поскольку люди искали другие пути, – и поехали дальше. Я знал, что Джейн ждала в качестве приданого к тому же и пленённого Боннаха Стонна, но то было ещё впереди.
Тени наши, порождаемые светом Луны, начали уже удлиняться к востоку. Белые цветы на полях потонули в тумане; в воздухе, сладком и прохладном, пахло сонно. Бел опять задремала, на этот раз без снов. Мы ехали медленнее, чем могли бы, чтобы не успеть раньше, чем следовало.
Мы проехали кольцо мохнатых елей, где-то над головами дважды ухнул филин.
Мальт, замок Мальтазара, высился впереди, уступчатый, словно скала. Голубые стяги, голубые и под Луной, трепетали. Ветра не было, но Мальтазар любил, чтобы они трепетали, и потому ткань была заколдована.
Мы проехали беспрепятственно, потому что все дозоры Мальтазара были убиты, ворота распахнуты, а замок разорён. Кайл успел раньше нас, и это было нам на руку – нам не пришлось драться с Мальтазаром, а Кайл потерял большую часть своих людей. Безлицый вовремя пустил слух о моих намерениях отправиться в путь на одну ночь раньше, и Кайл, поспешив, выполнил за меня всю солдатскую работу. Если у тебя есть враги, позволь им уничтожить друг друга. Не помню, кто это сказал, но я всегда полагал, что он прав.
Давая Кайлу фору во времени, мы рисковали в другом плане – рассвет всё приближался, и сторожевая система Мальтазара работала всё лучше. Воздушные шары, наполненные газом и оклеенные зеркальными пластинами, пламенели высоко-высоко в небе, ловя солнечный свет и окружая территорию россыпью солнечных зайчиков даже в такой глухой час. Правда, Мальтазара это сегодня не спасло – видимо, как я и надеялся, с Кайлом была Тьма.
Шары управлялись системой верёвок, но Кайл ещё не успел в ней разобраться, и мы проскочили сквозь прорехи в световом заслоне – но, увы, не все. Один из моих воинов попал под солнечный луч, и, хотя доспехи отразили его страшный свет, всё же шар, вращаясь в вышине, скользнул по его лицу жарким бликом, и воин, словно от удара молота, вылетел из седла. На землю свалились уже пустые доспехи, тело же моего солдата серой пылью рассыпалось в пробитой светом ночи. Я с досадою вскрикнул, пожалев о том, что не заказал полированные забрала. Впрочем, солнцу достаточно было бы и смотровой щели.
Во дворе крепости, куда не могли отбросить луч висящие где-то прямо над нами шары, мы спешились. Затем мы взялись за руки, цепью, и первой была Бел. Она произнесла короткое слово и ударила в ворота ногой, обутой в кожаный ботинок. Это была магия – удар Бел имел нашу общую силу, как если бы в одну точку ударило четверо вампиров.
Дверь распахнулась внутрь. С Бел всё решалось быстро.
Мы развязали мешки и бросили внутрь спящих зайцев. Бел хлопнула в ладони, и они полетели кубарем, на ходу превращаясь в волков. Это были не те пять настоящих зайцев, которых продал нам Безлицый. Это были пятеро заколдованных Бел оборотней.
Мы захлопнули двери и некоторое время стояли, слушая шум внутри замка. Вампиры и оборотни никогда не ладят. Тут истории не врут.
Когда стало тихо, мы вошли в разорённую цитадель Мальтазара, который, вероятно, был мёртв ещё до нашего приезда. Иногда очень полезно поделиться с кем-то своей тайной, а потом смотреть, как они загребают для тебя жар.
Мы поднялись по ступеням, серым от праха вампиров, переступая через тела убитых оборотней, мимо поваленных ваз и покосившихся картин. Оборванные гобелены беспомощно хлопали в темноте, терзаемые сквозняком. Мы наступали на окровавленное оружие, на помятые и пробитые доспехи, на одежду, тела обладателей которой теперь носило по полу серой пылью. Совсем недавно здесь кипело два жарких боя, один за другим. Кайл победил и Мальтазара, и оборотней, но и сам потерял почти всех людей.
Мы вышибли деревянные двери – на этот раз без магии – и вошли в главный зал.
Их было пятеро. Кайл стоял с мечом наголо, тяжелый взгляд его единственного глаза прижал бы человека к стене. Меня его клинок не волновал, потому что не было в округе мечника лучше меня, а взгляды на меня не действовали.
Люди Кайла, трое, в кольчугах с наплечниками, бросились на нас, и мы схватились с ними. Бел никогда не использовала боевую магию и тут нам не помогала – у меня не хватило бы средств, чтобы подкупить этот её принцип, если такое вообще возможно.
Их было мало, и они были изранены. Мы уничтожили всех.
– Ты подставил меня, Людвиг! – заорал Кайл, оставшийся без единого воина.
– Ты хотел обмануть меня, Кайл, – ответил я, не останавливаясь. – Ты ехал помешать моей свадьбе, не так ли?
– С чего ты взял, что она твоя? Джейн выйдет за первого из нас, кто встретит с ней её совершеннолетие!
Он оскалился, демонстрируя клыки, и зарычал. Это произвело мало впечатления – у меня были такие же.
– С того, что это буду я, – я указал на себя пальцем и шагнул к нему, поднимая мой единственный в своём роде меч.
– Служи мне, Тьма! – воскликнул он. Тьма, дева с чёрными волосами, безучастно сидевшая на высоком стуле, встала и свела ладони. Две гигантских тени скользнули по стенам, погасли все свечи, упали портьеры, захлопнулись двери, и мы очутились в полной темноте.
Бел за моей спиной, я знал, моргнула два раза, и всего лишь на секунду, между взмахами век, её глаза засияли белым. Даже в этой тьме.
Яростный зрачок Кайла полыхнул алым, выдавая его. Мне хватило мгновения. Мы скрестили мечи, брызнули и погасли искры. Он смог отбить лишь один мой удар, а вторым я зарубил его. Он рассыпался пылью, как любой вампир от удара посеребрённым клинком.
Стояла полная темнота и тишина.
– Теперь ты будешь служить мне, Тьма? – спросил я у этой темноты.
– Если заплатишь, – был ответ.
Я знал, что если отвечу отказом, то, когда зажгу свечу, в комнате уже никого не будет. Тьму не удержать.
– Что ты пожелаешь за службу?
– А как долго тебе будут нужны мои услуги?
– До следующей ночи, – ответил я, ибо рассчитывал завтра на закате надеть венец Мал Мидда.
– Тогда – коня, чтобы ехать, и любую из вещей, что мне понравятся за срок службы. Одну, на твой выбор.
Я кивнул. Это были щадящие условия. Тьма могла потребовать что угодно и взять обещанное хоть вместе с твоей жизнью.
Мы подожгли замок – портьеры, дерево, гобелены, ковры и запасы вина горели неплохо, хотя камень, конечно, устоял – и отправились в путь. Вставало солнце, которого я не видел уже двенадцать лет. Но это было не страшно – с нами ехала Тьма, ехала на коне моего солдата, того, что погиб ночью. Если рядом с вампирами настоящая Тьма, им не страшно солнце. Я нанял её и знал, что она не оставит нас, покуда не наступит ночь. Либо же пока я, нанявший, не паду. Я надеялся, до такого драматизма не дойдёт.
Глаза привыкли, и я смотрел на день, запоминая каждую его деталь. Было целое море света, и я наслаждался цветами и оттенками, которые почти успел позабыть. Тёмно-красные флаги наши оказались великолепны при свете дня, и даже серые плащи, наброшенные на наши медные доспехи, выглядели отлично. Седые волосы Бел сияли снежной белизной, на щеках лежал румянец. Я никогда не видел её днём. Ей он был не страшен – Бел не была вампиром, она была волшебницей.
– Мне нравится Бел, – сказала вдруг Тьма.
– Надеюсь, тебе понравится что-нибудь ещё, – сказал я. – Потому что Бел не принадлежит мне.
– Принадлежит на срок, на который ты её нанял. Ты знаешь правила.
– Ты обожжёшь руки о такой выбор.
– Это мой выбор. У тебя он тоже будет, не опасайся. Я думаю, мне понравится что-нибудь ещё.
Тьма замолчала. Бледный лик её казался белым, как у статуи, а длинные, до земли, волосы были темнее ночи.
Сначала мы ехали прозрачным лесом, где в лицо иногда летел, кружась, жёлтый или красный осенний лист. Потом дорога ушла в дремучий дубовый лес, где лоскуты неба сквозь листву казались звёздами. Я даже ощутил, что скучаю по солнцу. Воины мои, никогда не видевшие дня, освоились и не могли наглядеться.
Тут имелась работа для Бел. Она, уставшая уже в седле – ей было немало лет – молчала всю дорогу, абсолютно игнорируя даже Тьму. Выпрямилась, произнесла длинное, ритмичное заклинание, и снова замолчала. Ничего не изменилось, но, я знал, со стороны мы все теперь выглядели как девы в белых платьях, на белых лошадях. Как белые сёстры Милены. Лишь Тьма и Бел оставались в собственном обличье. Тьма – потому что такова была её природа, Бел – потому что не применяла к себе свои заклинания.
Сёстры, милосердные девы, должны были ехать здесь сегодня, но Безлицый знал, кому передать мои деньги, чтобы сестёр оставили в обители по делам. Тем не менее, нужный слух уже прошёл, и, скорее всего, нас ждала засада.
И, как я и ожидал, на узкой дороге на нас напали разбойники, и это было хорошо, потому что мои люди были уже голодны.
Они высыпали из-за деревьев и приказали нам спешиться – крепкие, высокие северяне, вооружённые боевыми топорами. Они были одеты, как пижоны, и горбоносый красавец Боннах Стони стоял во главе отряда. Тот самый Боннах Стонн, которого Джейн Мид желала видеть в плену.
Бел произнесла ещё два слова, и когда иллюзия пропала, они увидели, что напали не на беззащитных девушек, а на нас. В ужасе они попытались бежать, но было уже поздно. Мы убили четверых разбойников – ровно столько, сколько нам требовалось, – и пленили самого Боннаха. Остальные же сбежали, поскольку понимали, что у них нет шансов. Мы не мертвы и не бессмертны – истории лгут. Мы просто живём вечно, и наши тела надёжнее человеческих.
Мы выпили кровь, оседлали коней и поехали дальше, по заросшей лесной дороге, в сторону от проторенной тропы. Стонн ехал с одним из моих всадников. Он был надёжно связан. Тела его сообщников мы потащили за собой волоком – они ещё могли сослужить нам службу.
Солнце стояло в зените. Чаща на какое-то время поредела, а после мы подъехали к Шумному лесу. Ветви его шумели, а корни скрипели, хотя ветра не было. Некоторые деревья стояли без листвы, хотя осень едва началась. Туман укрывал корни, да и само солнце окутало какое-то марево, стоявшее над этим лесом в любую погоду. Впрочем, до того я был здесь лишь раз, зимой. Тогда были снегопады, и деревья вздрагивали и раскачивались, сбрасывая с ветвей лишний снег.
Мы отвязали тела, и Бел поколдовала над ними. Мёртвые разбойники зашевелились, потом сели, ровно, как будто их позвоночники окаменели. Через некоторое время это прошло, и они медленно поднялись на ноги, а затем неуклюже, словно сами были деревянными, пошли к лесу. Ближние деревья вдруг зашевелились, напряглись, изогнулись и схватили ходячих мертвецов ветвями, пожирая их, а мы поскакали напролом, пользуясь этим. Мы потеряли одного воина, его конь спасся, стремглав пролетев через рычащий, шатающийся лес, самые опасные деревья которого, впрочем, были на входе. Мы выскочили с другой стороны. Здесь растения были не так подвижны.
Боннаха Стонна мы пересадили на коня, оставшегося без всадника – связанного, конечно, – и, придерживая его за верёвки, поехали дальше. Лесной разбойник смирился со своей ролью приданого и сидел молча, опустив голову на грудь.
Отъехав достаточно далеко в поля, мы спешились, потому что кони устали. Мы отпустили их пастись. Нужно было спешить, но нельзя было загонять коней, если этой ночью я собирался взять в свою руку скипетр Мал Мидда.
– Мне нравится твой меч, – сказала вдруг Тьма.
Я посмотрел на клинок в ножнах у пояса. Это был один из лучших мечей в известных мне территориях, его ковали на моей крови. Поэтому только я мог владеть им идеально, и только им я мог так владеть.
– Всё ещё надеюсь, что ты выберешь что-то другое, – сказал я, – ибо он нравится и мне самому, а тебе всё равно не принесёт много радости.
– А ещё мне нравятся твои сокровища.
– Они перестанут принадлежать мне вскоре, – ответил я. – Так что, возможно, тебе придётся выбрать что-то ещё.
– Что бы я ни выбрала, тебе придётся отдать что-то одно, – Тьма замолчала, а я задумался. Пока выбор был невелик.
Стало вечереть, когда мы подъехали наконец к Мал Мидду. Он предстал перед нами в закатном свете и синих тенях, далеко внизу, на краю утёса. На стенах, мерцая сквозь влажный вечерний воздух, уже горели факелы.
Мы спустились с холмов и через какое-то время достигли крепких отвесных стен, окаймлённых квадратными зубцами. С высоких прямых башен свисали клетчатые чёрно-белые полотнища знамён Мал Мид-да. Того самого, чья наследная владелица, Джейн Мид, сегодня праздновала совершеннолетие.
Как известно, Джейн носила на себе заклятие, след давней вражды с другим родом, который не поскупился нанять умелую чернокнижницу.
Согласно родовым правилам, Мал Миддом могла владеть только мужская рука, но в семье не оказалось сына-наследника. Это препятствие было вполне обходимо, стоило только наследнице Мал Мидда выйти замуж. Такое решение уже применяли в далёком прошлом, и не один раз. В случае, если в семье были лишь дочери, наследнице Мал Мидда достаточно было выйти замуж, чтобы получить доступ к наследству, защищённому на такой случай магически. Обычно это не вызывало ни нареканий, ни затруднений, поскольку по правилам Мал Мидда наследник носил родовое имя Мид, то есть род не мог прерваться по причине вливания свежей мужской крови.
Но в этот раз коса где-то нашла на камень, и на род Мидов легло заклятие: в день своей свадьбы с любым мужчиной, живущим севернее, восточнее, западнее или южнее Мал Мидда, наследница Мал Мидда потеряет дар речи. Последним её словом станет «Да», сказанное у брачного алтаря.
Джейн тогда была ещё малышкой, и, возможно, заклятие за такое время можно было бы снять, но в ходе разгоревшейся вражды, где-то в охваченной пожарами ночи, чернокнижница была убита, а исправить сделанное могла, как оказалось, только она. Так или иначе, Джейн унаследовала и Мал Мидд, и, собственно, заклятие.
У Джейн был выбор: либо никогда не войти в право наследства и жить на номинальных правах леди Мид, слоняясь по замку, которым будет бестолково править её успевший состариться наставник; либо стать полновластной хозяйкой своего края – немой до конца своих дней. Либо же, воспользовавшись прорехой в формулировке (говорят, за неё чернокнижнице щедро заплатили вампирские роды окрестных земель), выйти замуж за вампира и обойти заклятие, поскольку никто не применяет к таким, как мы, понятие «живущий», хотя мы и не мертвецы, как те, которых Бел отправила в Шумный лес, чтобы мы смогли проехать.
Слухи насчёт того, нарочно ли в заклинании была оставлена возможность для не-людей, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку не знаю, правда ли мне известна на этот счёт или вымысел. Как бы там ни было, теперь это уже совсем не важно.
Итак, каждый вампир в округе знал, что Джейн, по сути, может выйти замуж только за вампира. За благородного, конечно – простые не рассматривались, как не равные по общественным меркам и потому не подходящие. Каждый знал также, что Джейн пойдёт с любым из нас под венец в первый же час своего совершеннолетия, поскольку смысла ждать у неё не было, а выбор был почти равнозначным. Вот только никто не знал, когда именно у неё день рождения, пока я не купил эту информацию у Безлицего. Дорого купил. Но кто откажется от возможности стать правителем Мал Мидда, даже если ему придётся отдать своё родовое имя? Желающие находились и ранее, в прошлые века, когда, случалось, в Мал Мидде рождались лишь девочки. И я их понимал. Богаче и влиятельнее Мал Мидда не было двора от моря до пустошей. Мой Лут по сравнению с ним смотрелся не более чем деревней.
Поскольку ночь очень ограничивает вампиров, по-хорошему на престол Мал Мидда могли рассчитывать только те из нас, кто проживал в относительной близости. То есть я, Мальтазар и Кайл Одноглазый. И я сделал всё, чтобы это был я.
И вот мы достигли ворот, и они распахнулись перед нами. Я, двое моих всадников, Бел и пленный разбойник Боннах Стонн, связанный по рукам и ногам, въехали во двор.
Во дворе горели жёлтым пламенем факелы – свет солнца, которое уже коснулось горизонта и теперь погружалось в ночь, сюда уже не доставал.
Джейн вышла на крыльцо, в бархатном платье цвета сливок. Она оказалась высокой, едва ли не выше меня и уж точно выше каждого в её свите, кроме одного человека. За спиной её, по обыкновению в своей шляпе, стоял Безлицый. Надо сказать, я удивился, увидев его здесь. Впрочем, наверное, день рождения Джейн действительно мог знать только достаточно приближённый человек.
Ворота закрылись за нами. В неверных тенях, под стремительно синеющим небом, я спешился и пошёл навстречу Джейн, спускающейся с крыльца. Наступала ночь, подходили сроки, и Джейн, родившаяся на закате, встречала меня, чтобы стать моей женой.
Я опустился на колено.
– Я рада, что это ты, Людвиг, – сказала она, беря меня за руку. У неё были тёмные пышные волосы, тёмные глаза и полные губы. Когда она говорила, оживлялось всё её лицо. Она была почти красива.
Мы прошли к алтарю, белому камню посреди двора. Джейн не теряла времени. Я думал, брак заключит её наставник, но у алтаря напротив нас стоял Безлицый. Я несколько не понимал, в чём дело и какой властью он обладает, чтобы провести обряд, но сейчас было не время задавать вопросы. Бел подошла и стала рядом со мной; наставник Джейн, имени которого я не знал или не помнил, стал рядом с нею.
Где-то за невидимым горизонтом село солнце, и я почувствовал это.
– Аорд Людвиг из Лута, согласен ли ты взять в жёны Джейн Мид, наследницу Мал Мидда, и быть с нею до конца её дней? – спросил Безлицый шёпотом.
– Да, – я не мог ответить иначе, хотя такая поспешность меня несколько настораживала. Я взглянул на Бел, но она смотрела прямо. Я заплатил ей, чтобы она служила мне ночь и день, и день только что закончился.
– Леди Джейн Мид, согласна ли ты взять в мужья лорда Людвига и быть с ним до конца его дней? – спросил Безлицый.
– Да, – ответила Джейн.
Мы обменялись кольцами.
Церемония свершилась, и я стал лордом Людвигом Мидом.
– Ну вот и всё, – сказала Джейн, чтобы все убедились, что заклятие снято. – Людвиг, супруг мой, заплати по счетам и отпусти людей с миром, – обратившись к Бел, она добавила:
– Бел, я хотела бы воспользоваться твоими услугами. Поскольку Людвиг, насколько я знаю, обещал выделить тебе воина, чтобы тот доставил тебя обратно, я попрошу тебя заехать в Хальт и взять всё то, что понадобится тебе, чтобы поменять черты лица человеку по имени Ронан. А затем я попрошу тебя вернуться сюда. Я заплачу втрое больше, чем этот задаток.
Джейн взвесила на ладони поданный Безлицым мешок с монетами и отдала его Бел. Я мог бы поклясться, что это была та самая плата, которую вчера ночью я отдал Безлицему под вязом.
Бел кивнула. Я понимал, что меня лишили возможности нанять её ещё на ночь. Только не понимал зачем.
Ворота открылись. Воин, с которым ездила Бел, взял её на спину своего коня и, как и было договорено, повёз её обратно, туда, где я нанял её. Только гораздо более долгой и менее опасной дорогой. Я знал, Бел найдёт для них возможность переждать следующий день в темноте.
Уезжая, Бел взглянула на Тьму прищуренными светлыми глазами, так, что у той волосы отбросило с лица. Провожая взглядом коня, увозившего Бел, Тьма задумчиво накрутила на тонкий палец поседевший внезапно волос. Я не мог даже представить, что было бы, потребуй у меня Тьма Бел в оплату. Не думаю, что Мал Мидд устоял бы, да и делать ставки я бы поостерёгся. Впрочем, на Бел я больше не имел никакого влияния. Сокровища, что я вёз, теперь навечно принадлежали Джейн, а насчёт других мы с Тьмой не договаривались. Оставался лишь один способ оплаты.
Я почувствовал острое искушение отпустить с Бел оставшегося всадника, пока ворота были открыты. И я махнул ему рукой.
Ворота закрылись. Мои солдаты уехали. Бел была нанята другими, с Тьмой я ещё не расплатился за предыдущую службу, а нанимал я её лишь на день, до ночи, и теперь Тьма тоже более не подчинялась мне. Боннах Стони отчего-то улыбался.
И я задал вопрос, который мучил меня с тех пор, как мы вошли в ворота Мал Мидда.
– Почему ты, Безлицый? – спросил я. – Почему церемонию вёл ты?
– Безлицый? – сказал он вдруг в голос, чего я никак не ожидал. – Отчего же; лицо у меня есть. Кроме того, ты употребляешь моё прозвище в неправильном роде.
Это я уже понял – та, кого я считал мужчиной, обладательница несомненно девичьего, хоть и низкого голоса, сняла свою шляпу, и я увидел почти точную копию Джейн. Тёмные волосы были собраны в хвост, хорошо очерченные губы и тёмные большие глаза были такими же, как у Джейн.
– Тебе интересно, почему я проводила обряд? По праву старшего в роду, Людвиг. Я Джоанна Мид, старшая сестра Джейн.
– Но… Почему тогда наследницей Мал Мидда стала младшая? – я не мог понять, что происходит, но чувствовал, что пира в честь свадьбы, наверное, не будет. Я положил ладонь на рукоять меча.
– Родители назначили наследницей младшую дочь, чтобы оставить пространство для манёвра. Старшая в роду оказывалась вне заклятия, и это играло нам обеим на руку, вот как сейчас.
– Приведите Стонна, – Джоанна отдала приказ, и люди сестёр подошли к нему.
– Годами я создавала себе репутацию, – сказала Джоанна, возвышаясь надо мной, – чтобы спланировать свадьбу сестры. Ты думал, это твой план? Я заплатила Тьме, чтобы она вовремя оказалась у двора Кайла. И он нанял её, чтобы опередить тебя, поскольку узнал, что ты спешишь сюда, а значит, моя сестра скоро станет совершеннолетней. Таким образом, Кайл убил Мальтазара, а ты убил Кайла. А сделай я так, чтобы Тьму нанял сразу ты, Кайл остался бы жив, а ты как командир не самой многочисленной силы мог бы проиграть Мальтазару. Но мы решили строить свой план на тебе, как на том, кто больше всех любит действовать чужими руками. Кроме того, ты самый красивый из вас троих.
Я молчал.
– Так мы уничтожили все вампирские силы почти полностью и сняли заклятие с Джейн.
– Завтра утром я буду свободной, хотя и вдовствующей, хозяйкой Мал Мидда, – сказала Джейн, становясь рядом с сестрой.
– А кроме того, ты привёз мне моего любимого, – сказала Джоанна, обнимая освобождённого Стонна, который больше не прятал улыбки, – и спас его и от покушения, которое готовили люди, метившие в главари банды, и от розыска, и от людского гнева. Боннах Стонн считается мёртвым. Вместо него теперь будет свободный человек по имени Ронан.
– Кстати, это моё настоящее имя, – сказал бандит, усмехаясь.
– А я, властью хозяйки Мал Мидда, дарую молодому Ронану титул барона Сатского, и земли, именуемые Сат, вместе с лесом, мельницами и людьми, – добавила Джейн, улыбаясь.
Я стиснул клыки.
– Но я ещё лорд Мал Мидда, и моя власть со мной!
Я выхватил меч. Ну что ж, посмотрим, скольких я успею уложить, прежде чем кто-нибудь сможет меня коснуться.
– Ты забываешь обо мне, Людвиг, – сказала Тьма. – Ты ещё не заплатил мне.
– Ты не дала мне выбора! – закричал я. – Бел – не моя, сокровища теперь принадлежат Джейн, и меч – единственное, что у меня есть! Ты обещала мне выбор!
– Не хитри, Людвиг. Ты уже понял, что ты не самый искусный в этом деле, – Тьма приближалась. – У тебя был выбор, но ты им не воспользовался.
И Тьма подошла ко мне, и забрала у меня меч. Я отдал его, ибо иначе она взяла бы его из моего пыльного праха.
– Я хотела бы нанять тебя, Тьма, – сказала Джоанна. – Я хочу, чтобы светлячки не тревожили мой сон в эту ночь.
…Я сижу в темнице и жду рассвета, и небо за большим решётчатым окном уже светлеет. Ну что ж, зато я ещё раз увижу солнце.
Я пишу эту историю, сидя на каменном полу. Я хорошо вижу в темноте. Возможно, кто-либо прочтёт её, но я не думаю, что история падения Людвига из Лута, лорда Мал Мидда, убитого собственной женой, станет в итоге чем-то большим, чем ещё одна история о вампирах.
9. Шах
Нападение на короля. Опасная ситуация, из которой, тем не менее, есть выход. Требуется немалая ловкость и чтобы создать шаховую ситуацию, и чтобы её избегнуть.
От великого до смешного – один шах.
Аркадий Арканов♀ Любовь и смерть техника Евстигнеева Тёмная фигура Лариса Бортникова
«3000000 4 FREE»?
Плохая и Запрещенная Шутка
(Официальный девиз Артели: «Три Миллиона Жизней – Плата за Независимость»)
До общекорабельной побудки оставалось полчаса. Через тридцать минут все динамики укладчика дрогнут обманчиво-тихими нотами гимна. Вкрадчивый шепот флейт – молчок. А после секундной паузы, достаточной для того, чтобы открыть глаза и потянуться, вялую дремоту корабля вскроет дробь армейских барабанов. Вздохнут минором валторны, сперва едва различимо, потом всё громче, громче… Ворвётся неудержимо и властно труба, закрутит ещё сонный воздух отсеков в отливающую медью спираль, поднимет до самой обшивки потолка и стоп! Тишина! Высокая. Такая, от которой воздух в лёгких вымерзает в кристальную взвесь… И-раз, и-два, и-три, и-четыре – «Libertate! Vita sine libertate, nihil», – вступает откуда-то с самых небес чистое детское сопрано, освобождая душу от никчёмных сомнений, а носоглотку от предположительно скопившихся слёз…
Евстигнеев скрутил из салфетки жгуты и затолкал их в уши. Он давно уже не пробовал заклеивать динамики каюты акустическим скотчем – во-первых, это слишком бесило Софи, а во-вторых, следы от клея могли заметить сменщики, что никак не входило в евстигнеевские жизненные планы. Кляузничество в Артели поощрялось, и нарушители регламента наказывались сразу и безжалостно. А поскольку отказ от ежеутреннего прослушивания гимна считался одним из самых жестких проколов – Евстигнееву могло светить увольнение с лишением всех страховых и пенсионных накоплений.
«Libertate», – глухо зашелестело где-то снаружи, и Евстигнеев поморщился. Сопрано десятилетнего сына Председателя Совета Директоров уверенно продиралось через самодельные беруши и ввинчивалось в мозг. Чтобы хоть как-то отвлечься, Евстигнеев врубил контрольную панель, хотя по правилам полагалось дослушать гимн до конца, не отвлекаясь ни на что другое. Ввёл доступ, выбрал «общий вид»… и правильно сделал – шлюзовой отсек моргнул датчиком, сообщая о прибытии смены. Чёрт! Евстигнеев выругался. Взглянув на бортовой коммуникатор, выругался ещё раз. Он никогда не следил за графиком, полагаясь в мелочах на Софи. Но она либо забыла, либо не захотела предупредить. Стерва. Ведь знала, что расписание сдвинули на неделю и что расчётное время прибытия перенесли на утро, вместо обычного полудня. Будь Евстигнеев не у себя в каюте, но в лаборатории рядом со шлюзом, ему бы хватило мгновенного, почти неощутимого содрогания арахны, чтобы понять: на укладчике гости. Или уже хозяева… А так ему просто повезло вовремя подключиться к обзору. Стерва. Злобная, тупая стерва. «Чтоб ты сдохла»! – в сердцах прошипел Евстигнеев и тут же усмехнулся, вспомнив, как Софи вчера вечером билась в закрытую дверь его каюты, выкрикивая те же слова. «Чтоб ты сдох, психопат чокнутый!»
«Стерва… Вот стерва…» – Евстигнеев быстро натянул униформу прямо поверх пижамы и почти бегом бросился в лабу – именно там ему и полагалось сейчас находиться точно перед вопящим динамиком, болтать в экстазе головой и ронять слёзы восторга и умиления. И выглядеть полным идиотом, как выглядит сейчас Софи, застывшая по стойке смирно на капитанском мостике, сменщики, зафиксированные ремнями внутри транспортной капсулы, и ещё два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть человек, работающих на Артель.
«Libertaaa…» – глухо надрывался будущий вице… или даже президент, пока Евстигнеев расставлял по лаборатории флажки, гербы и портреты членов Совета. Он успел нацепить на лацкан бейдж, поменять на дисплеях заставки и уже под заключительную душевыниматель-ную ноту сообразил выдернуть из ушей салфетки и пихнуть их в шредер. После чего уже спокойно запустил оборудование, в последний за эти полгода раз оставил «пальчики» под строкой «артельщик Евстигнеев» и стал ждать сменщика для церемонии передачи поста. С каким бы удовольствием он опустил эту часть регламента: «товарищ Такойта вахту сдал – товарищ Сякойта вахту принял», – но работой своей Евстигнеев дорожил.
Спроси кто-нибудь, что хорошего он – когда-то подававший определенные надежды учёный и почти гений – находит в однообразных вахтах на древнем паутиноукладчике; чем его привлекает бесконечное сидение в крошечной, похожей на больничный бокс, лаборатории; почему он изо дня в день выполняет тупые механические действия, на которые способен даже самый низкоквалифицированный технарь – Евстигнеев не затруднился бы ответить. Вероятно, он вспомнил бы, как пять с лишним лет назад мыкался голодный, безработный и злой, и должность техника в экипаже из двух человек тогда оказалась спасительной. Вероятно, он перебрал бы ещё ряд аргументов, в числе которых счастливая возможность целых полгода находиться вдали от человечества, которое Евстигнеев, мягко говоря, недолюбливал. Может быть – и даже наверняка – Евстигнеев сообщил бы о глубоких чувствах к жене, а также рассказал бы о величии Артели, о единстве, братстве, жертвенности и прочее, благо для этого достаточно вспомнить любую статью из корпоративного еженедельника и изложить её в свободной форме. Но всё это оказалось бы ложью. На самом деле, Евстигнеев был влюблён.
Влюблённость свою Евстигнеев скрывал даже от себя самого. Но Софи – второй член экипажа, его командир, пилот-навигатор, а также евстигнеевская законная супруга – заявляла со свойственной ей бесцеремонностью: «Ты псих, Евстигнеев. Думаешь, я не вижу, как ты к ней относишься?» Евстигнеев злился. Бледнел и пытался скрыться от жены в лабе, а она тащилась за ним вслед и приговаривала: «Извращенец, псих… Чтоб ты сдох! Или вот возьму и напишу докладную в Артель, пусть все знают, что ты из себя представляешь. Что ты даже бейджик не носишь, а только целыми днями сидишь в лабе или лазишь, как последний извращенец, в шлюз, в эту свою пряху». Под «этой своей пряхой» имелась в виду арахна – встроенная в хвост корабля биосистема, которая, собственно, и выполняла основную производственную задачу – генерировать и выбрасывать в космос мононуклеарную транспортную нить. Безостановочно… Каждую долю каждой секунды. В течение десяти, ста, тысячи лет. Всё время, пока паутиноукладчик идёт по бесконечному маршруту, рассекая иглоподобным корпусом космос, оставляя позади неосвоенные ещё звёздные системы, свободные пока планеты и невидимый невесомый след. След, по которому, привлечённые сжатым в короткий, короче старинного SOS, сигнал зовом «самки», устремятся «распаленные страстью самцы». Самцами считались транспортные биокапсулы, так называемые «пули». Самками – арахны.
Арахн существовало не так уж много. Тысяч пять, может быть, шесть. «Мамами» обустраивались транспортные станции. «Прядильщиц» устанавливали на паутиноукладчиках. Арахна Евстигнеева вполне могла претендовать на звание почётной прядильщицы галактики и требовать улучшенных условий труда, поскольку была в своём роде пионеркой. Паутиноукладчик под номером 0004 вышел в рейс триста с небольшим лет назад, неся на своём борту юную арахну. Корабль с тех пор был несколько раз отремонтирован, пережил замену навигационной системы и основного двигателя, а арахна так и осталась прежней. Разве что «потеряла невинность», раз в полгода распахивая створки шлюзовой эпигины вахтовым капсулам.
Созданный три столетия назад биостанок по производству мононуклеарной нити функционировал без перебоев. Неутомимая, неуничтожаемая, наделённая лишь одним инстинктом – инстинктом размножения, арахна отличалась от своего природного прототипа, как силиконовая вагина на вечных батарейках отличается от живой женщины. Сравнение это, при всей его неприглядности, казалось Евстигнееву единственно точным. В отличие от «пули», представляющей собой самостоятельную биосистему с прочным экзоскелетом, с пусть управляемой извне, но полноценной нервной системой, арахна была всего лишь набором органов. Ровно тех органов, которых хватало для производства паутины, выдачи феромонального кода, привлекающего «самцов», и всё. Арахна – гигантское лоно и прядильная железа размером с двухэтажный дом. У неё даже не имелось собственного скелета. Лишенная хитина опистосома крепилась к стенам шлюзового помещения сверхпрочными рёбрами, соединёнными между собой не менее прочными поперечинами. Эта «сеть» удерживала арахну от полного спазмирования. Иначе, ощутив «самца» внутри, арахна расплющила бы собой и капсулу и пассажиров.
Точно старая дева, алчущая недозволенного совокупления и сублимирующая похоть в бесконечном рукоделии, арахна трепетала от неудовлетворённости и выдавливала из себя в космос тончайшую паутину.
Вот в этот кусок искусственно созданной плоти и был влюблён техник Евстигнеев.
* * *
– Товарищ Стан вахту приняла, – сменщица отсалютовала Евстигнееву, и он едва заметно скривился в ответ.
– Товарищ Евстигнеев вахту сдал.
– Куда в отпуск? – сменщица шлёпнулась в кресло перед монитором, развернула панель и налепила прямо на идеально чистую (у Евстигнеева имелась специальная ветошка) поверхность «живую картинку». На картинке кривлялся ребёнок неопределённого пола и возраста, наряженный в оранжевую униформу Артели. Женщина поймала взгляд Евстигнеева и сочла необходимым пояснить:
– Дочка. Будущий техник. В прошлом году приняли в наш… корпоративный лицей. А у вас детей нет?
– Детей нет. В отпуск не поеду.
– Да? А мы вот уже планируем… Смена закончится, и на корпоративном круизнике по Солнечной. Романтика…
– Не знаю, не видел, – Евстигнеев с сожалением оглядел лабораторию, остановился взглядом на той части панели, куда транслировались данные с арахны. Громко выдохнул. – Пора.
– Уже? – сменщица (Евстигнеев видел её четвертый или даже пятый раз, но никак не мог запомнить имени) всполошилась, взглянула на время. – Ой! И правда. Быстрой вам «пули», товарищ.
Евстигнеев не ответил. Поспешил к входу в шлюз.
Софи опаздывала. Евстигнеев воспользовался её отсутствием, прильнул ухом к перегородке, неожиданно для себя растрогался, ощутив едва заметные колебания. Арахна трепетала, пыталась прорваться сквозь металлические рёбра и обхватить собой капсулу. Через несколько минут Евстигнеев сменит ответный код «пули», и арахна равнодушно обмякнет. Это сейчас «возлюбленные» абсолютно совместимы за счет совпадения сигнала, но стоит лишь перенастроить феромональный код… и арахна продолжит безразлично генерировать паутину, а «пуля» устремится в Солнечную, на зов «мамы».
– Инстинкт… Безупречная любовь, – прошептал Евстигнеев и погладил ладонью переборку. – Непостижимо! Недоступно…
– Тьфу! Чтоб ты сдох! – Софи вывалилась из-за поворота. Встала – руки в боки. Сморщилась. – Всё-таки напишу докладную. Тогда поглядим, как ты завертишься.
Евстигнеев пожал плечами. Знал, что Софи не станет рисковать гражданством Артели ради того, чтобы досадить мужу. Будет, как все эти пять лет, беситься, топать ногами, грозить, ненавидеть… и молчать. Иногда ему казалось, что они похожи: оба истово преданы чему-то великому, абстрактному и равнодушному. И оба вынуждены сосуществовать друг с другом ради того, чтобы не лишиться главного. Бессмысленной своей любви.
В шлюзе Евстигнеев не удержался, шагнул к стене и коснулся пальцами прохладной гиподермы, облепляющей стены, пол и потолок. Софи фыркнула. Вихляя задом и насвистывая что-то бравурное, направилась к капсуле. Евстигнееву показалось, что Софи слишком грубо вдавливает подошвы в тело арахны. Удержавшись от окрика, Евстигнеев молча вскрыл «пулю» и полез внутрь первым. Софи втиснулась следом. Евстигнеев тяжело молчал, набирал по памяти код. До старта оставалась минута сорок секунд.
– Не майся ты так, Евстигнеев. За полгода ничего с твоей пряшкой не случится. Станы эти – отличный марьяж, – Софи зевнула так, что Евстигнееву показалось: ещё секунда, и у неё отвалится челюсть. – Что товарищ капитан, что товарищ техник.
– Экипаж, – поправил Евстигнеев. Подумав, поправил еще: – Пилот и биотехник. Арахна.
– В Артели ТАК говорят! – Софи сцепила зубы. Сквозь зубы повторила: – Марьяж. Товарищ… Пряха.
– Заткнись… три, два, один. Пуск.
Ничего не произошло. То есть и обычно «ничего» не происходило, но на этот раз «ничего» было другим. Пугающим. Пустым и абсолютно беззвучным. Евстигнеев вздрогнул.
– Всё? – голос Софи сорвался. Она, видимо, тоже почувствовала неладное. – С прибытием?
– Сиди, – оборвал её Евстигнеев.
Он ещё раз перепроверил код. Верный. И сейчас капсула должна была уже находиться на «маме», в одной из многочисленных принимающих ячеек станции. Сейчас Евстигнееву полагалось вернуть пульт на место, откинуть люк и выйти в шлюзовой отсек «мамы». Атам уже ждёт шаттл до Земли. Дальше, как всегда: Софи в оплаченный Артелью круиз по Солнечной, а он – Евстигнеев – в свою нору с зашторенными окнами и бумажной библиотекой. Но что-то пошло не так.
Шлюз был не «мамин» – с надписью «welcome back», оранжево струящейся под потолком, но знакомый, маленький, облепленный изнутри молочным желе опистосомы, притянутой к стенам металлической решеткой.
– Мы что, ещё в нашей пряхе, что ли? – Софи вылезла вслед за Евстигнеевым. Округлила глаза и рот. – Ты код не тот ввёл? А? Что молчишь?
Евстигнеев думал. Он думал всё время, пока Софи требовала забраться обратно в капсулу и попробовать ещё раз. И потом, когда после пятнадцати попыток ничего не изменилось и капсула не тронулась с места. И тогда, когда Софи слишком быстро шагала по коридору в кают-компанию, а Евстигнеев тащился за ней. Он думал даже тогда, когда Софи, сбиваясь, докладывала сменщикам о происшедшем, а сменщики пытались задавать какие-то никчёмные вопросы, вроде «как себя вела арахна, товарищ техник?» и «в порядке ли кодер, товарищ техник?»…
– Ну? Что молчишь, Евстигнеев? – Софи, красная и некрасивая, маячила прямо перед его лицом. – Это обрыв? Да?
Евстигнеев дёрнулся, когда Софи вцепилась пальцами в его плечо. Очнулся. Впервые заметил, что кают-компания слишком мала для четверых и что у одной из ламп над столом сломалось крепление, и теперь она висит чуть ниже и кривее остальных. Евстигнеев посмотрел на Софи, обнаружил прыщ на мочке её левого уха, перевел взгляд на сменщиков. Им было страшно – Евстигнеев это почувствовал по напряжённым лицам, неуютным позам и нарочито спокойным голосам. Но они улыбались друг другу, Софи и ему – Евстигнееву. И повторяли как болванчики: «Товарищи в Артели разберутся, надо ждать». Бесило. Даже больше, чем Софи, которая вдруг вытаращила глаза и затянула дребезжащим голосом «Либертааате». Сменщики подхватили. Евстигнеев поднялся и демонстративно вышел вон.
Проходя через рубку, он едва удержался, чтобы не вырубить гравитацию. Но вовремя представил, как униженно станет щебетать Софи, поясняя, что произошла досадная случайность, или ещё хуже – задрожит нижней губой и голосом и начнёт оправдывать нелюдимого мужа, выдумает какую-нибудь идиотскую историю, которая, на её взгляд, заставит сменщиков сострадать и самому Евстигнееву и его «несчастной» супруге. А потом будет старательно раскладывать на столе благодарности, грамоты и вырезки из еженедельника с упоминанием марьяжа Евстигнеевых, чтобы сменщики не дай бог не подумали чего неладного.
* * *
Артель давно уже следовало переименовать в корпорацию. Лет триста назад отцы-основатели вывели первую сотню паутиноукладчиков в космос, не представляя толком ни сложностей, ни грядущих масштабов своего тогда ещё никакого не бизнеса, но смелого эксперимента. Тогда отцы-основатели не то поскромничали, не то решили сэкономить на налогах, и заявились в реестре как артель по укладке транспортных биосетей.
До первой «пули», прошедшей от точки А до точки Б за время, несопоставимое даже с понятием «моментально», Артель никого не интересовала. Более того, в научных и научно-популярных кругах деятельность Артели вызывала насмешки, а теория парасингулярностей Нгобо, положенная в основу идеи транспортной паутины – гомерический хохот.
Но зато на следующее утро, после того как информация об успешном испытании сверхнового вида транспорта попала к медийщикам, а вчерашние шутники, бледнея щеками, заявили о «революции в технологиях», началась публичная истерия. Биржи лихорадило, акции межзвёздных перевозческих контор за сутки превратились в пипифакс, владельцы контрольных пакетов требовали возмещения ущерба и, не получив ничего, шагали с крыш небоскрёбов. Артель из никому не известной группы мечтателей превратилась в самую преуспевающую компанию галактики. За неделю лица отцов-основателей стали известны всякому зрячему и неравнодушному, а слегка заикающийся фальцет главного биотехнолога артели – Збышека Стойцева (тогда ещё неженатого) – был выбран самым сексуальным голосом вселенной. Кстати, аудиоверсию его диплома «Таксономическое разнообразие полифагов» скачали около трёх миллиардов раз, и это без учета пиратских версий. Также был зафиксирован внезапный всплеск интереса к арахнологии и двухмерному фильму-артефакту «Человек-паук».
Через полгода общественность успокоилась, а Артель, предусмотрительно и по номиналу передав двадцать процентов акций членам земного правительства, продолжила триумфальный захват космоса.
К концу первого столетия своего существования Артель запустила ещё несколько тысяч укладчиков и установила первые «мамы», после чего обзавелась собственной небольшой, но весьма профессиональной армией. Странно, что это никого не насторожило. Лишь тогда, когда Артель ультимативно потребовала присвоения статуса независимого анклава, налоговых льгот и законодательной неприкосновенности всем своим служащим, а также недвусмысленно пригрозила отключением Земли от «паутины», наверху по-настоящему заволновались. Волновались, впрочем, недолго. Ещё двадцать процентов акций чиновникам свели проблему к небольшим бюрократическим процедурам. И три миллиона работников Артели получили новые паспорта с улыбающимся пауком на оранжевых корочках.
Тогда-то, трансформировавшись из «жёлтого» газетного заголовка «Три миллиона жизней получено в качестве платы за независимость» и появился девиз Артели. Со временем малогероическая подоплёка девиза забылась, история обросла легендами, и через полтора века многие даже немолодые артельщики рассказывали юным коллегам о великих подвигах первопроходцев – паутиноукладчиков.
* * *
Всей этой предыстории Евстигнеев не знал. Кроме разве что работы «Таксономическое разнообразие полифагов», которую изучал в первом семестре магистратуры. На втором семестре он был отчислен за регулярное непосещение занятий, хотя понятно, что вовсе не это, но скандал с деканом и оскорбительные доводы, которыми Евстигнеев продемонстрировал свое интеллектуальное превосходство над профессором, послужили главным поводом для отчисления. Евстигнеев попытался восстановиться, потом попробовал перевестись в менее престижный университет, но сплетни (особенно в научной среде) распространяются быстрее «пули». Ему отказали. Тщедушный, некрасиво-конопатый, слабый здоровьем, но непримиримый Евстигнеев написал статью, в которой желчно обличал слабоумие и протекционизм, процветающие среди его бывших коллег. В статье он несколько раз употребил слова «коррупция», «маразм» и «искоренить». Ему обещали публикацию сразу в нескольких крупных изданиях, если он сделает текст чуть более скандальным и помимо уже упомянутых имён использует те, что ему порекомендуют. Евстигнеев согласился с первой частью предложения, но напрочь отказался от второй. В результате статья так и не вышла, зато его немедленно и под благовидным предлогом уволили из младших лаборантов небольшого биопроизводства, где он служил на полставки.
После полугода мытарств, двух десятков немотивированных отказов и одного интервью с кадровичкой богом забытого НИИ, которая честно призналась, что имя Евстигнеева занимает в черном списке позицию номер два – «под номером один у нас налоговый мошенник, но он сейчас отбывает», – покраснела она и закашлялась, – он наконец-то понял, что проиграл.
Именно тогда он сперва подхватил ветрянку и спустил всю оставшуюся медстраховку на лечение, а потом зарегистрировался на бирже труда.
Там, страдая от жары, переминаясь с ноги на ногу в бесконечной очереди к окошку, где пергидрольная мулатка старательно делала вид, что ей не наплевать на всех этих бездельников, он познакомился с Софи.
В тот день ему исполнилось двадцать девять.
– Ой, да у тебя праздник, – стоящая сзади женщина почти положила подбородок на его плечо, жарко дыша клубничной жвачкой и касаясь его шеи волосами. – Надо же! И у меня тоже.
– Может быть, – Евстигнеев отодвинулся.
– Положено отметить, – клубничное дыхание снова обожгло ухо. Евстигнеев скрипнул зубами от раздражения, но промолчал. – Тут в кафетерии можно по талонам взять пива. У меня накопилось на пару кружек.
Если бы Евстигнеев в то утро позавтракал, если бы поужинал днем раньше… Да что там! Если бы не два предыдущих дня на чае без чая и сахара, он вышел бы из очереди и побежал прочь и от клубничного дыхания, и от приторной смеси дезодоранта и подмышек, и от несвежих волос…
Евстигнеев не любил женщин. Не в том смысле, что он предпочитал мужчин. А в том, что если мужчины его кое-как устраивали в качестве объектов коммуникации, то женщины уже воспринимались как существа нерациональные, нелогичные и вообще неприятные. Не чувствуя ни эмоциональной, ни физиологической потребности в женщинах, Евстигнеев старался держаться от них как можно дальше. Дальше!
Ещё дальше… Но не тогда, когда вопрос его – Евстигнеева – выживания можно было решить за их счет.
Задыхаясь и едва сдерживаясь, чтобы не зажать нос пальцами, Евстигнеев кивнул.
– Пойдемте.
– Софи Зайковская-Смит, – она втиснула пухлое запястье под локоть Евстигнеева и поволокла куда-то в сторону.
– Евстигнеев. Сергей… – он послушно поволокся вслед.
Софи безостановочно болтала и макала толстые губы в пену. Евстигнеев жевал гамбургер и размышлял о возможности использования маутнеровских нейронов рыб для испытания паукообразных с целью поиска новых нейротоксинов. И так увлёкся, что довольно поздно сообразил, что его спутница уже с полминуты молчит… как рыба.
Евстигнеев огорчился. Очевидно, был задан вопрос, на который требовалось ответить. Евстигнеев побаивался женских вопросов. Все женщины, коих он встречал на жизненном пути, отличались бесцеремонностью и обожали выяснять детали евстигнеевского быта. Поэтому Евстигнеев не без опаски переспросил:
– Что? Не расслышал…
– Профессия у тебя какая?
Поскольку вопрос прозвучал за столиком кафе при бирже труда, а задавала его такая же, как сам Евстигнеев, безработная, он посчитал возможным ответить.
– Биотехнолог. Специализация – арахнокон-струкции, а если подробнее, то…
– Ого! – перебила Софи и округлила глаза. Потом ткнулась лицом в кружку и с полсекунды громко втягивала в себя пиво. – Так мы с тобой идеальный марьяж. Я кэп, ты техник.
– Не понял, – нахмурился Евстигнеев.
– Про Артель слыхал?
– Мало… – Евстигнеев почти не лукавил.
– Ну, ты даешь! Артель – шикарная контора, в которую мечтает пристроиться всякий чел, если у него, конечно, есть мозги. Это почти невозможно – там все места на тысячу лет вперёд расписаны. Но тебе повезло! – она подняла жирный палец и поводила им перед евстигнеевским носом. – Существуют паутиноукладчики. Жестянки, которые прокладывают сетку в дальнем. Работа собачья, небезопасная, но платят отлично! Так вот на укладчики нанимают только парные экипажи, но чтоб официально муж и жена, потому как вахты долгие и традиция такая… Ну, и чтобы один обязательно пилот, а второй с биосистемами мог возиться. А теперь внимание: я кто, по-твоему? Я – пилот! Не веришь? Хочешь, лицензию покажу сейчас! По-моему, это судьба. Ничего личного, только здравый смысл. Как тебе?
Она говорила долго. Слишком долго, чтобы Евстигнееву хотелось всё это выслушивать. Но главное он понял на самой первой минуте рассказа – у него будет работа. И лаборатория. И шесть месяцев абсолютного покоя. Существовал лишь один минус – женитьба, но Евстигнеев предпочёл об этом пока не думать, тем более что Софи сама сразу оговорила фиктивность брака.
– Если почешемся и успеем на собеседование к следующему вторнику, то через месяц будем уже на вахте. Ну что, товарищ техник… За марьяж? Кстати, мне сегодня тридцать.
Софи солгала. В тот день ей стукнуло не тридцать и даже не тридцать пять. Она родилась на десять лет раньше Евстигнеева и даже не в один с ним день. Евстигнеев узнал об этом в момент регистрации брака, когда его взгляд случайно упал на её паспорт с гербом Артели на корочках. Уже позже Софи призналась, что специально таскалась по биржам – подыскивала неженатого биотеха. Дело было в том, что Софи уже больше года стояла в «черном списке» Артели и могла вот-вот лишиться гражданства, поскольку к тридцати девяти годам оставалась бездетной, что Артелью не поощрялось. Проболтавшись на паутиноукладчиках в марьяже со своим бывшим, Софи растеряла квалификацию и после развода оказалась невостребованной. Возраст, бездетность и практически полная профнепригодность… С ней беседовал лично вице-президент. Долго извинялся и поил кофе из высокой оранжевой кружки. Артель не любила расставаться со своими людьми, но содержать балласт она не любила ещё больше. Софи была в отчаянии. Дочь артельщиков, рожденная и воспитанная в анклаве, она не представляла, как можно жить иначе. Как можно просыпаться не под привычные флейты «Либертате» и встречать Рождество где-то, кроме предоставленного для рождественского бала дворца, украшенного оранжевыми лентами и розетками с изображением улыбающегося паука в центре.
– Если бы не ты, я бы, наверное, решилась… – разоткровенничалась Софи уже после успешно пройденного Евстигнеевым собеседования. – Ну, ты понимаешь… Смысла жить никакого – ни детей, ни друзей… Сбережения есть, но зачем они, если я не там. Не со своими. Понимаешь?
– Наверное, – Евстигнеев вздыхал. Он хорошо помнил, как ещё не так давно по утрам собирался на автомате, чтобы уже возле двери вспомнить, что его «альма матер» уже даже не мачеха, а так… комплекс зданий и сооружений.
– Вот так-то… Знаешь, Артель – это такое место! Неартельщик даже представить не в состоянии… Все вместе, все друг другу помогают, любят друг друга как братья… Артель – это семья. И, кстати, Евстигнеев, про семью… Ты мне нравишься как мужчина. Понимаешь?
Вот этого Евстигнеев совершенно понимать не желал.
Ночью, в королевском номере роскошного отеля, снятом Артелью для молодоженов в качестве свадебного подарка, Софи, изрядно нахлебавшись шампанского, полезла целоваться. Евстигнеев сухо напомнил, что договоренности их не предусматривают никаких отношений, кроме рабочих. Софи поприставала с полчаса, потом пьяно захныкала.
– Обижаешь, Евстигнеев… Я всё-таки ещё молодая и красивая женщина.
– Возможно, – Евстигнеев смотрел в пол, стараясь не поднимать глаз. – Но мне это как-то не интересно.
– Ты что, импотент? Или, может, девственник? – расхохоталась Софи громко. Чтобы спрятать за смехом женскую нехорошую обиду.
– Угу, – Евстигнеев нехотя кивнул. – И не намерен ничего менять.
* * *
Через несколько недель чета Евстигнеевых направилась на паутиноукладчик номер 0004 и приняла вахту у пожилой пары. Первые месяцы Евстигнеев привыкал к кораблю, изучал лабораторное оборудование, читал мануалы. Спускаться в шлюзовую эпигину Евстигнеев не собирался. Зачем? Во-первых, это запрещалось регламентом, во-вторых, вполне хватало информации с датчиков, а в-третьих, Евстигнееву оказалось достаточно беглого взгляда на стены, пол и потолок шлюза, чтобы понять – биосистема в норме. К тому же сразу по прибытии, едва выбравшись из капсулы на стянутую металлической решеткой поверхность шлюза, Евстигнеев взял соскоб. «Отличная… Великолепная конструкция. Безупречно», – повторял он восхищенным полушепотом, разглядывая на экране многократно увеличенную плоть арахны. Если бы не Софи, Евстигнеев был бы почти счастлив. Она слишком часто заходила в лабораторию, не обращая внимания на молчаливое сопротивление мужа, клала ладонь на его плечо, дышала на ухо клубничными парами и возбужденно рассказывала об Артели. Ещё Софи требовала от Евстигнеева в обязательном порядке носить оранжевую униформу и не манкировать утренним прослушиванием гимна.
– Это важно, Евстигнеев. Лишь так ты сможешь стать настоящим артельщиком, – она сперва с терпеливой, какой-то чересчур уж ангельской улыбкой, а потом уже нервно отдирала скотч с динамиков и подсовывала стопку прошлогодних еженедельников под дверь евстигнеевской каюты (к счастью, на укладчике имелось несколько отдельных спальных помещений).
Евстигнеев довольно долго терпел и даже цеплял к лацкану бейдж Артели, ровно до той самой ночи, когда Софи ввела капитанский код доступа в лок-панель евстигнеевской каюты и объявилась перед напуганным мужем совершенно без одежды, зато с накрашенными губами и щеками. Тщедушный, худенький Евстигнеев оказался неожиданно юрким и быстроногим. Сперва он ловко скатился с ложемента, потом поднырнул под локоть Софи, а затем, преследуемый женой, ворвался в шлюз, подперев вход прихваченным по пути осветительным блоком.
– Я твоя жена, Евстигнеев! – кричала Софи и стучала кулаком в обшивку, наплевав на всякую гордость. – И я требую, чтобы ты ко мне относился как к женщине, а не торчал всё время в лаборатории, разглядывая паучьи внутренности! У меня, между прочим, гормоны, Евстигнеев, и я могу из-за этого напутать с навигацией! Мне нужен мужчина, слышишь ты, псих!
Евстигнеев молчал. Софи не успокаивалась.
– Кстати, если в Артели узнают, что ты со мной не спишь – вылетишь к чертям собачьим! С голоду сдохнешь! Кому ты сдался, бездарь!
– А сама? – голос Евстигнеева прозвучал зло и глумливо. – Сама-то ты кому нужна? Артели своей? Брехня! Не будет меня – и тебя не будет.
– Ты… ты, – Софи задохнулась… – Да чтоб ты сдох!
И пошла прочь, размазывая по лицу не то слёзы, не то румяна и смешно шаркая босыми ногами по пластиковой обшивке пола. Евстигнеев долго ещё слушал тишину, а потом прокрался к себе, снял ненавистные оранжевые кальсоны и наконец-то переоделся в любимую пижаму. С тех пор Софи несколько успокоилась, перестала кривиться при виде тощей, одетой не по дресс-коду фигурки Евстигнеева, отказалась от совместных чтений еженедельника, но всё-таки раз в месяц с неумолимой настойчивостью океанского прилива билась к Евстигнееву в каюту и, не получив ответа, желала ему немедленной и страшной смерти.
* * *
Евстигнеев изучал смотровой экран шлюза, перемещая камеру по периметру шлюзовой эпигины. Арахна вибрировала. Рвалась к равнодушно застывшей «пуле». «Интересно, как долго защитная решетка выдержит»? – бесцветно подумал Евстигнеев. Вряд ли проектировщики рассчитывали на долгое пребывание капсулы внутри шлюза. Регламентом определено полчаса. Расчет прочности наверняка делался с аварийным допуском… Сколько? Час? Два? Когда мышцы арахны сомнут металл, дотянутся до «пули» и раздавят её?
– Это обрыв на «маме», – вошла сменщица. Ни «здрасте, товарищ», ни «как дела, товарищ». Видимо, сделала для себя выводы на предмет евстигнеевской лояльности. – Вероятность подобного обрыва, согласно теореме Нгобо…
– Ничтожна, но существует, – согласно кивнул Евстигнеев, хотя его никто и не спрашивал.
– Товарищи из Артели сделают всё возможное, однако необходимо отработать прочие версии.
– Версии? Какие? – голос Евстигнеева зазвучал неожиданно язвительно. – Есть обрыв, мы даже предполагаем, где он, и знаем, что на его восстановление потребуется лет пятьдесят. Но для нас с вами, товарищ дамочка, разницы никакой.
– Не сметь! – она покраснела. – Не сметь паниковать!
– Да кто паникует, мадам? – ухмыльнулся Евстигнеев. – Просто говорю как есть. Мы застряли, а ваша расчудесная Артель, даже если захочет нас вытащить, не сможет. Сюда теперь не дойти раньше чем через полвека. Я не паникую, но и не вижу смысла изображать из себя героя.
– В чем дело? – капитан сменщиков ворвался в лабораторию, и Евстигнееву показалось, что стены как-то разом сдвинулись, превращая и без того крошечное помещение в склеп.
– Товарищ тут… – сменщица повернулась к мужу. – Считает, что мы в безвыходной ситуации. Паникует.
– Глупости! Мы не погибнем. А меж тем три миллиона жизней было отдано Артелью за независимость, – взрокотал капитан, надвигаясь на взъерошенного Евстигнеева.
– Евстигнеев, – следом за капитаном сменщиков в лабораторию втиснулась Софи, заполнила собой всё оставшееся пространство так, что, кажется, даже не осталось места для воздуха. – Прекрати. Товарищи, он просто нервничает… Извините его, товарищи. Он совсем недавно в Артели.
Евстигнееву вдруг стало гадостно. Все эти ужимки, прыжки, все эти игры в сильных людей, в героев дальнего космоса, в отчаянных первопроходцев. Никакой целесообразности, никакой честности – сплошной героический комикс. К чему это всё, когда есть простая и очевидная правда – четыре человека застряли на старом паутиноукладчике вдали от обжитого космоса без всякой возможности вернуться назад. Застряли до самой смерти… Естественной, между прочим. Кислород, пищевые водоросли, вода, медикаменты – всего этого вполне хватает, хоть и без избытка, разумеется. Правда, следует избавиться от основного потребителя – от арахны. И точно подслушав его мысли, техник Стан повернулась к своему капитану и мужу и отчеканила:
– Товарищ капитан, в целях оптимизации расходов кислорода потребуется скинуть пряху.
– Нет… Погодите… – Евстигнеев внезапно побледнел. Он попытался убедить себя, что это от духоты и от нежелания до конца своих дней делить крошечное пространство с чужими людьми, но дело было совсем не в этом. Арахна! Безупречная, идеальная… Живая. Любимая. Евстигнеев собрался с силами и спокойно, уверенно проговорил: – Погодите. Дайте мне ещё с полчаса подумать. Мы не имеем права разбрасываться имуществом Артели, не отработав все возможные версии.
Сменщики переглянулись.
– У вас есть полчаса.
Софи догадалась. Сообразила, что дело вовсе не в Артели. Прошипела: «Чтоб ты сдох, псих», – и вышла, больно толкнув Евстигнеева плечом. Он даже не заметил.
* * *
Евстигнеев полюбил Арахну ещё тогда, когда часами любовался на экране волокнистой структурой опистосомы. А потом, когда, в нарушение инструкции, он вошел в шлюз, когда снял обувь и носки и почувствовал стопами нежную вибрацию, Евстигнеев понял, что именно об этом грезил всю свою жизнь. В чувстве Евстигнеева не было ничего стыдного и ненормального, как бы ни издевалась Софи. Просто ему, как никому другому, оказалась доступна простая формула любви, заложенная в генетический код арахны. Его разум сумел оценить красоту примитивного уравнения: А + А = любовь. И больше ничего лишнего… Никакой эмоциональной шелухи. Ни сомнений, ни ревности, ни ненависти, ни страданий. Чистый безупречный инстинкт.
Было ли Евстигнееву жаль Арахну, за триста лет так и не получившую удовлетворения? Вряд ли. Он не задумывался об этом. Зато ему доставляло радость находиться рядом с идеальным существом. Предложи кто-нибудь Евстигнееву стать богом, он бы с радостью согласился и заселил весь мир арахнами – чистыми и однозадачными сутями. Змий-искуситель в таком мире подох бы от скуки, зато миллиарды счастливых пауков сновали бы по Эдему, устраивая ловушки и коконы в райских кущах.
Теперь Арахне грозила смерть. И ради чего? Ради того, чтобы трое фанатиков и один когда-то подававший надежды учёный ещё пятьдесят, а то и больше лет толкались по утрам в кают-компании, слушая идиотский гимн?
Евстигнеев думал.
* * *
– Есть выход… – он отсалютовал сидящим в кают-компании. – Это позволит сохранить ценный корабль для следующих поколений артельщиков, но, возможно, нам придётся пожертвовать собой. Артель не забудет наш подвиг. Наши дети станут гордиться нами, а наши имена встанут в один ряд с…
Евстигнеев впервые был благодарен Софи за оставленную когда-то в лабе стопку Еженедельника.
– Продолжайте, – капитан сменщиков побледнел, задвигал желваками и уставился в стол тяжелым героическим взглядом.
– Разумеется, товарищ, – Евстигнеев махнул рукой. Продолжил быстро, но отчетливо, словно выступал перед большой аудиторией где-нибудь в университетской библиотеке в Москве или Сорбонне: – Мы не можем ничего сделать с «пулей», но никто не мешает нам поменять настройки самой арахны.
– То есть? Не понимаю…
Сменщица вцепилась пальцами в ладонь мужа. Кажется, она боялась. Евстигнеев удержал злорадный смешок и пояснил:
– Ну, если проще, то пряха должна перестать «хотеть» пулю. Более того, она должна её «возненавидеть». Тогда капсула, отвергнутая арахной, с той же нулевой скоростью пройдет по нити и вылетит в точку обрыва. То есть к «маме». Атам нужно поставить кодер на общий поиск, и первый уловленный рабочий сигнал заставит капсулу встать на паутину и пойти к ближайшей станции.
– А если обрыв… – капитан замешкался, – если капсулу вышвырнет где-нибудь поблизости отсюда, где нет ничего. Только пустота. Или если мы не поймаем код? Или…
– Слишком много «или», – Евстигнеев пожал плечами. – Тогда смерть. Но зато наши имена встанут в один ряд с именами тех трех миллионов, чьи жизни стали платой за независимость. В любом случае, встанут…
– Он прав… – до этого хранившая молчание Софи с восторгом глядела на мужа. Конечно, сквозь прорехи обожания проглядывала ревность, но уже это не имело значения.
– Конечно, дорогая. Я всегда прав. И советую торопиться, потому что ещё час-другой, и пряха снесет решётку ко всем чертям. Тогда всё…
Они почти бежали в шлюз. Впереди капитан сменщиков, потом его жена, Софи и сам Евстигнеев.
– Евстигнеев, ты гений, и это не мое дело, но… – Софи резко затормозила. Евстигнеев едва не ткнулся носом в её спину. – …перенастраивать пряху ты как собираешься?
– Арахну, – машинально поправил Евстигнеев. – Она сама вытолкнет из себя лишнюю «самку», оберегая территорию и самца… Ревнуя его, то есть меня, к сопернице. Для чего сначала мне потребуется… как бы это выразить? – вступить в интимную связь с тобой. Ты ведь мне поможешь? – решительно проговорил Евстигнеев. И покраснел.
* * *
Шлюзовое помещение дыбилось стенами, полом и потолком. Евстигнеев, абсолютно голый, беззащитный в своей веснушчатой бледности, стоял, прислонившись спиной к хитиновому покрытию «пули». Выглядели они презабавно: изящная матово-черная «пуля» и нелепый человечек, прикрывающий ладонями живот. Софи сидела на вибрирующем полу, раскинув полные ноги. Сменщики находились внутри капсулы уже минут десять, и Евстигнеев предполагал, что они минимум в третий раз допевают «Libertate».
– Может, не надо, Евстигнеев! – Софи старалась не глядеть по сторонам, чтобы не видеть, как дрожат рёбра защитной решетки.
– Надо! Мы же артельщики! Три миллиона, помнишь? И учти, ты должна немедленно! Повторяю! Немедленно! Прыгать в капсулу! Сразу после того как… – Евстигнеев жалко закашлялся.
– Я поняла, – Софи посмотрела на Евстигнеева с уважением. – И не ври про Артель. Я всё поняла. Ты псих и извращенец. И гений. Чтоб ты сдох…
Евстигнееву вдруг показалось, что голос Софи дрогнул.
– Думаю, что Артель даст тебе хорошую премию. Может быть, даже наградит значком почётного артельщика. Представляешь?
– Заткнись… И давай уже, – Софи зажмурилась и потянулась к мужу веснушчатыми белыми руками.
Евстигнееву было трудно. Нестерпимо. Но он справился. И когда Софи жарко задышала клубникой ему в лицо и сочно, неприятно застонала, он нашел в себе силы не останавливаться. О чем он думал? Может быть, о безупречной любви, а может, о том, что надо было не изображать героя, но написать ту статью на заказ.
– Евстигнеев… Прощай! – выдохнула Софи. Вскочила и метнулась к капсуле. – Прости.
Евстигнеев заставил успокоиться обезумевшее сердце, снял с капсулы одну из двух педипальп, очистил её от хитина и аккуратно (он вообще был человеком очень аккуратным) натянул её на себя, как чулок. Евстигнеев немного боялся, что задохнется, но дерма замечательно пропускала кислород. Плотная, чуть скользкая биомасса обхватила его тело ласково и настойчиво. Евстигнееву вдруг показалось, что он стал огромным… или, по крайней мере, сильным, словно человек-паук из старинного комикса и двухмерного фильма-артефакта.
И когда обновлённый Евстигнеев прижался своим новым паучьим телом к стене шлюза, когда услышал, как трепещет Арахна, получая ответ на свой неутолимый зов, как тянется к нему – Евстигнееву – каждой клеткой своего тела, он задрожал.
– Инстинкт! Безупречная любовь! – выдохнул Евстигнеев и даже не услышал, как лопаются сверхпрочные рёбра и сверхпрочные поперечины. Арахна, две сотни лет ждавшая безупречной любви, наконец-то дождалась. Евстигнееву хотелось думать, что это его страсть вызвала такой взрыв. Впрочем, думать ему пришлось недолго. Его сжало, стиснуло, сдавило… и разверзлось небо. Евстигнееву чудилось, что он, надев оранжевый скафандр, летит в чёрном-пречёрном космосе, а вокруг, добрые и неопасные, сияют звёзды. Захлебываясь восторгом, болью и счастьем, Евстигнеев не успел заметить исчезновения капсулы – ревнивая Арахна не потерпела внутри себя соперницы. Лучший биотехник Артели Евстигнеев оказался прав.
Софи получила от Артели премию, через девять месяцев родила сына, а ещё через год вышла замуж. Впрочем, при чем тут Софи? Оставьте её в покое.
♂ Полный порядок Светлая фигура Алексей Провоторов
Солнце лениво сползало к горизонту. Еловый лес бросал мрачные тени, от которых троим рыцарям хотелось отодвинуться подальше.
Но дорога шла как раз вдоль опушки, между лесом и цветущим лугом, и всадникам приходилось ехать по ней. Дорога была широка, и кони шагали в ряд.
– Далеко ещё? – спросил рыцарь в серой эмалированной броне на сером непримечательном коне. – Конь устал уже вообще. Едем, едем.
– Ты бы купил кого получше, – вместо ответа сказал рыжий рыцарь в ржавеющих латах на огненно-красном великолепном жеребце. Концы шерстинок в хвосте и гриве коня казались золотыми.
– Да надо бы, – ответил Серый. – Хочу вот прикупить что-то из редких пород. Альабского скакуна или ещё какого заморского уходца.
При этих словах красный конь склонил голову набок и словно бы прислушался.
– А тебе бы не мешало прикупить доспех, – сказал Серый Рыжему. – Я таких позорных железок, честно сказать, с детства не видел. У деда на шесте висели за замком, ворон с грядок пугать.
– На мне обет. Пока не убью дракона, буду носить старые латы.
– Ты так и скажи, что денег нет, – беззлобно отмахнулся Серый. – За дракона тебя сам Король на площади и повесит, тех осталось полтора в королевстве, один в парке, второй хромой, злой и охраняемый законом. И вообще у него пасть с ворота, в горелый пень такой обет.
– Отстал я от новостей. Ладно, ладно, нет у меня денег, – Рыжий неопределённо махнул гантлетом, роняя хлопья ржавчины.
– Вообще по твоему коню не скажешь, что нет, – усмехнулся Серый.
Конь Рыжего дёрнул ухом, словно прогонял муху.
– Да ни полгроша, – вздохнул Рыжий. – Были б, я б к Жуку наниматься не ехал. Я ж не бандит. Ну, кгхм, пока, – Рыжий аккуратно потрепал жеребца по пламенной гриве. – А конь сам приблудился, не поверишь. Так-то я пешком шёл.
– Ого удача! – поразился Серый. – Давай я у тебя его куплю? Это, судя по всему, рысьегорский рысак? Их так-то к нам в королевство ввозить запрещено, могут быть проблемы, но я б правда купил! Больно хорош.
Конь покосился на Серого и насторожил уши. Даже ступать стал тише и затаил дыхание. Рыцари молча посмотрели на него.
– Я подумаю, – ответил сдержанно Рыжий.
– Подумай. Может, чтоб лучше думалось, тебе хрустального порошка подкинуть?
– Нет, спасибо, – по примеру своего коня, Рыжий покосился на Серого. – Я не из ваших. Да и вообще ты уже спрашивал.
– А ты? – спросил Серый третьего, молчаливого рыцаря в доспехах тёмного металла на вороной кобыле.
– Отстань, а? И так жарко, – вяло ответил рыцарь. – И да, ты уже спрашивал. Раз сорок.
– Ладно, ладно, захочешь – обращайся.
– Жуку продашь. Он, говорят, не только бандит, грабитель, растлитель, но ещё и любитель зелий. И, кстати, дорогих коней.
Огненный конь преувеличенно заинтересованно водил глазами за бабочкой, норовившей присесть на его нос, но его изящные уши следили за рыцарями.
– Умная скотина, – заметил Серый. Конь поперхнулся бабочкой и фыркнул. – Будто понимает, что про него речь. Как его, говоришь, зовут?
– Черныш.
– Ты сдурел?
– Слушай, парень, у меня всех коней зовут Черныш. Откуда я знаю, может, по родословной он Селестабель Бетабель какой-нибудь. А привычку я менять не буду.
– Лады, проехали, проехали.
Рыжий недовольно засопел.
– Ты тут так расписывал про Жука, а тогда чего к нему едешь? – спросил он у Чёрного.
– А я что, святой, что ли? – вяло огрызнулся Чёрный. – Он нанимает, я нанимаюсь. На мне долг ростовщику, я дом строю. И попробуй найди хорошую оплату. К баронам идти – так они с добычи платят, а какая добыча, когда войны нет? При дворе и без меня железных болванов хватает. Да что я тебе рассказываю, у меня хоть доспех целый да конь свой, а тебе поди ещё хуже.
– На сколько долг? – поинтересовался Рыжий.
– На двадцать лет.
– Ты что, замок строишь? – присвистнул Рыжий.
– А что мне, в шалаше жить? – огрызнулся Чёрный.
– Ну я же живу, – обиженно ответил Рыжий и приумолк.
– Нет, тут ещё бабушка надвое гадала, кому хуже, – усмехнулся Серый.
– А давайте свою банду сколотим, зачем нам к Жуку-то? – опять подал голос Рыжий.
– Не. Это надо решать что-то, заниматься чем-то, – протянул Чёрный. – А там руби, кого скажут. Да что ж так жарко, голова болит. Помолчите хоть, что ли.
Рыжий снова замолчал.
– Ты б доспехи ещё почернее нашёл и на солнышке в них валялся, – ехидно сказал Серый. – Может, порошка?..
– Да отстань же ты наконец!
* * *
Помолчали. Цепкие клинья еловых теней дотянулись до дороги и трогали коней за ноги. Холодало. Рыжий, бездумно ковырявший очередную дыру в ржавом бронированном боку, поёжился. С лица Чёрного сошла вялая страдальческая гримаса. Серый посмотрел в сторону мрачного леса, такого тёмного на фоне яркой закатной меди.
И позади, на дороге, заметил какое-то движение.
– Эй, парни, а за вами должна быть погоня?.. За мной вроде нет.
Чёрный и Рыжий обернулись как по команде и придержали коней.
Далеко позади клубилась пыль, пронизанная закатными лучами, и рыцари приложили ладони козырьками к глазам. Облако пыли приближалось, и вскоре стал виден одинокий всадник.
– Деваха, – сказал Серый.
– Ей-богу, – подтвердил Рыжий.
– Мне б такой доспех, – присвистнул Чёрный.
Деваха была беловолоса, в простом доспехе из светлого металла, но с начищенной до зеркального блеска узорной гравировкой, и лошадь её была бела, как чистый, свежевыпавший первый снег в блистающей солончаковой пустыне. Полевые ромашки казались серыми на фоне этой кобылы. Конь Рыжего заинтересованно взыгогогокнул.
– Я думал, девицы в других доспехах ездят. Повыразительнее, – сказал Серый. Два остальных рыцаря и конь Рыжего неодобрительно покосились на него.
Девушка подъехала поближе, придержала кобылу. Та, казалось, совсем не вспотела, а к доспеху беловолосой красавицы вроде бы вовсе не липла пыль.
– Чисто картинка, – тихонько сказал Серый. Рыжий засмущался и начал отряхивать доспех, кроша шелуху. Его конь оценивающе рассматривал белую лошадь. Та тоже засмущалась.
– Подождите! Я с вами, – блондинка откинула с лица прядь волос и глубоко вдохнула-выдохнула. – Еле догнала.
Чёрный вежливо наклонил голову и поздоровался.
– Я Чёрный. А это мои друзья Рыжий и Серый, рыцари без страха и, эээ, ну с небольшими такими упрёками. Чем можем служить?
– Конспирация? Тогда зовите меня Блонда. Всё равно же так будете звать, ага? – девушка подала руку всем по очереди. Все пожали ладонь в изящной, инкрустированной камнями стальной перчатке. – Не возражаете, если я с вами? Не хочется ночью в одиночку тут ездить.
– А ты в курсе, куда мы едем? – спросил Чёрный.
– Какая разница. В нужную мне сторону, да и ладно. А мне с вами безопаснее.
– Да ну? А вдруг мы бандиты? – сказал Рыжий.
– Правда?
– А то, – подтвердил Серый. – У нас даже хрустальный порошок есть. Хочешь?..
* * *
На ночь остановились под сенью крайних елей. Чёрный принёс дров, Серый набрал хвои и валежника, Рыжий сложил какой-то хитроумный, не гаснущий дождеупорный костёр, хотя дождя не намечалось. У Блонды нашлось отличное огниво, и вскоре огонь запылал, соперничая в яркости со шкурой Черныша.
– Пора и поужинать, – сказал Чёрный.
– Только не говорите, что ужин должна готовить я как женщина! – заявила Блонда.
– Ян сам неплохо готовлю, – ответил Чёрный, доставая что-то из седельных сумок.
– И посуду мыть я не буду!
– А у нас её и нет.
– Тогда что от меня?.. Сидеть и не высовываться? Это потому что я девушка, да?
– Ты петь умеешь?
– Хм. Да, – ответила Блонда.
– Вот и споёшь нам что-нибудь. Если можно, – Чёрный распаковал мясные пироги. Серый присвистнул, вытащил бутылку вина.
– Ну хоть не порошок, – шепнул Рыжий Чёрному, в свою очередь делясь хлебом и сыром.
– Спёр на рынке, – честно признался он. – Мы ж говорили, что мы бандиты и рыцари с упрёком. А что делать, если Корона не платит?..
У Блонды нашлись печенье и лёгкий сидр.
– Вкусно. Вообще, – Рыжий посмотрел вдаль. – Помните, как здорово в столовой при дворе раньше готовили, пока повар не сбежал с годовой выручкой?.. Здоровый такой дядька был, помню, брился налысо всегда, чтоб волос в еду не ронять. Готовил потрясающе.
– Помню. Давно было, мы тогда молодые были… Но, по-моему, еда у нас сейчас не хуже. Амброзия прямо, – ответил Чёрный.
– Это да. После стольких дней нервов и скачек… Завтра доберёмся.
– Надеюсь. Таких усилий стоило выйти на Жуковых вербовщиков. Вроде разбойник, а кого попало на службу не берёт.
– Это чтоб сыскные не подобрались, – сказала Блонда. – А то ему ведь вышка с верёвкой Королём обещана.
– Да уж. А что делать, деньги где-то брать надо.
– Попытаю и я счастья с вами.
– Лады. Как доедем до мельницы, не забыть подать условный сигнал, как связной научил.
– Кстати, а кто умеет кричать как надо?..
– Я умею, – ответил Чёрный. – Расслабься. Ешь.
…Костёр трещал, огненными ножницами вырезал из тьмы танцующие тени, пытался подсветить искрами небо. Небо смотрело в ответ тысячами глаз. Рыцари и девушка, сытые и уставшие, полулежали вокруг огня. Рыжий дремал, Блонда медленно жевала пирожок. Стреноженные кони паслись в поле за дорогой. Поодаль в лесу кто-то хрустел.
– Кто это? – громким шёпотом спросила Блонда.
– Лось, – флегматично пожал плечами Серый.
– А он мясо ест?
– Кто его знает. Волосы жрёт вместо сена, это да, – с каменным лицом, не открывая глаз, ответил Рыжий.
Блондинка поперхнулась куском пирога. Чёрный отвернулся с тихим стоном.
– Фу, – сказала блондинка. – Вы считаете меня глупой?
– Не-а, – сказал Рыжий. – Я говорю, я родом с Уродского Урочища, у нас там и не такое водилось. Вот присягаю, лось старосте как-то всю шевелюру съел. Ночью. Через окно.
– Я вообще считаю, что мужчина должен быть способен защитить девушку! – противным от испуга голоском завела блондинка.
– Не бойся, у меня арбалет есть, – зевнул Чёрный.
– И вообще, мужчина должен носить девушку на руках, восхищаться ею и говорить ей только три слова – люблю, куплю, поедем! Но при этом женщина должна иметь равные права!
– Правильно, – согласились парни с важным видом. Блондинка, настроенная спорить, умолкла. Утих и лось в лесу.
– Пора и спать, – сказал Чёрный. – Ты спишь, мы дежурим по очереди!
– Это потому что я плохо дежурю? Или потому что я девушка, да?..
– Нет, это потому что по цвету волос, – сказал Чёрный. – Мы на войне так делали – рыжие дежурят на закате, темноволосые ночью, серые в предрассветный час, а беловолосые в утреннем тумане. Но поскольку снимаемся мы рано, до твоей очереди не дойдёт. Раз закат мы пропустили, Рыжий подежурит до полуночи. – И не придерёшься к вам, – вздохнула блондинка. – Споёшь на ночь? Пожалуйста.
– Ладно. Сейчас попробую.
Блондинка вдохнула, выдохнула и довольно мелодично и негромко затянула:
Тёмной ночью, при луне, Едет всадник на коне. Он спешит убить дракона И спасти свою жену, Отстоять ли честь закона Или выиграть войну…– Ну что ты про рутину-то, – прервал её Чёрный. – Спой что-нибудь романтическое, а?
– Извините. Ну ладно.
Я валяюсь на печи, Грею бок о кирпичи, На плите кипит вода, А мне не надо никуда! Эх, мне не надо никуда, Заварю я чаю! Светит ясная звезда, А я лежу мечтаю… Иэээх… Засыпаю.– Хорошая песня, – расчувствовался Чёрный. – Спасибо, подруга!
– Будем спать, да? – пробормотала сонная уже блондинка, приподнявшись на локтях. – Спокойной ночки!..
– Спокойной ночи, – ответили рыцари. Блондинка улеглась, и Рыжий подоткнул ей одеяло.
* * *
Наутро встали, немного хмурые, как оно бывает в такую рань, почти молча собрались, затоптали кострище и поехали дальше, к приметной горелой мельнице.
Вскоре она показалась из утреннего тумана. Вокруг, среди полевых цветов, вразнобой росли диковатые подсолнухи, на обгорелой лопасти сидел грач. Невдалеке на всхолмье, на изрытых скалах, занесённых песком, высился яркий, прозрачный сосновый лес. От мельницы к камням тянулся ложок, блестела в тени влажная болотная трава.
Когда подъехали и спешились, Чёрный подал условленный знак – закричал дергачом. Грач вытаращился на него, поднялся на крыло и улетел куда подальше. Из-за блестящего обугленного бока мельницы появилась пара человек.
Один был огромен, бородат и черноволос, в доспехе цветов побежалости. На груди немного косо было выгравировано большое рогатое насекомое.
Сам главарь разбойников, неуловимый Жук, главный фигурант Королевского розыска, появился, чтобы поприветствовать пополнение.
Второй мужичок был невелик, длиннорыл, ни стар ни молод, и носил на шее сухую щучью голову на шнурке.
– Ого-го подмога, – пророкотал Жук. – Миледи, очень приятно. Ржавый, ого-го какой у тебя конь. Будем знакомы, это Щука, мой писарь.
Рыцари и девушка поздоровались в ответ, пожали руки. Жук склонился и галантно поцеловал Блонде перчатку. Она зарделась.
– На хвосте у вас никого?
– Никого, – почти стройным хором ответили рыцари.
– Ну тогда отлично. Готовы к делам?
– Что будем делать? – поинтересовался Чёрный.
– Грабить, разбойничать, ну вы сами в курсе. А конкретнее – скоро по Шкарабанскому тракту… Простите, миледи, по Шейкербонской дороге поедет посыльный коронного ростовщика, со свитой и ящиком денег. Надо этот ящик у него забрать. План простой вроде, мужики? Миледи?
– А давайте с другой бандой объединимся! – предложил Рыжий.
– Зачем? – остальные, даже Черныш, посмотрели на него с недоумением.
– Ээээ… Ну, увеличим ряды?
– Дык я нормально так увеличил. Мы, что ли, такой толпой не справимся? – Жук озадаченно почесал бороду. – Справимся, Щука?
Щука извлёк из кармана бумажку, что-то почёркал на ней и одобрительно угукнул, кивая.
– Кто хочет порошка? – спросил Серый. – Отличный хрустальный порошок, голову сшибает напрочь. Для себя вожу, но поделюсь за смешные деньги.
– Я нет, – сказал Жук. – У меня своей дури хватает. В голове, в смысле. Поэтому люди часто думают, что я любитель зелий.
– А девушек вы обижать не будете? – спросила Блонда. – Или там долей обделять?
– Упаси боги, мадам, – ответил бандит. – Меня растили при девичьем пансионате, мама учительницей работала. Женщин я уважаю.
– А я вообще всегда за равенство прав, – поддакнул Щука. – Но Научной управой Его Величества доказано, что у мужиков мышцы сильнее, поэтому ежели девушка что-то тяжёлое делает, мужик обязан помочь, но не в обиду, а вежливо.
Блондинка совсем растаяла, поморгала глазами и промолчала.
– Ну что, по рукам?
– По рукам!.. Эй, Чёрный, ты чего!
– Именем Короны! – рявкнул Чёрный, сжимая страшенный арбалет с четырьмя болтами. Когда он успел сдёрнуть его с седла, никто не углядел. – Вы все арестованы!
– Ты чего? – подозрительно повторил Рыжий. Жук тяжко вздохнул.
– Что неясного? Я капитан Блэк, старший следователь, полномочный преследователь из Разбойной управы Короны! Я год работал под прикрытием, чтобы ущучить Жука! И прижучить Щуку! Всем бросить оружие!
Чёрный выдернул из-за ворота доспехов медальон на цепочке, и все ахнули, когда он блеснул королевским величием. Сомнений не оставалось: Жук попался.
– Если вы сейчас же не побросаете оружие, я всех перестреляю. Это бронебойные стрелы, заговорённые самим Харшо Бибом из Колдовской управы. Они пробивают всё.
Жук, который положил было ладонь на рукоять страшенного палаша, убрал руку и завозился, отстёгивая ножны. Щука лихорадочно жевал бумажку.
– Биб фигни не скажет, – кивнул Рыжий и вытащил из-за ворота почти такой же медальон. – Извини, брат, управление по делам артельных татей. В смысле, организованной преступности. Работал под прикрытием. Собирался арестовать всех, как только вы ударите по рукам. Лейтенант Рэдриксон, если что.
Серый присвистнул.
– Чего свистишь, бросай железки, – сказал Рыжий, становясь рядом с Блэком и вытаскивая меч. – Имейте в виду, у меня лицензия на нанесение увечий и меч, заговорённый самим Харшо Бибом из… короче, оружие бросай.
Жук и Щука затравленно огляделись. Блондинка опешила. Серый только отмахнулся.
– Отдел по борьбе с дурманным зельем, лейтенант Дасти Грэй, – сказал он. – А вот печать, – он вынул из-за пояса футляр и показал всем печать. – Думал, кто-нибудь из вас наконец купит контрольную партию, тут-то я вас и повяжу.
– Ах вот ты чего, скотина, замучил всех своим порошком!
– Идите вы, парни, я из-за таких, как вы, без работы останусь. Ни одна зараза не хочет покупать хрустальный порошок, кроме коро… кгхмм… коро…тыш-ки, эээ, коротышки Шортката, я хотел сказать.
– Кто такой этот крошка Картошка?.. – спросила блондинка.
– Ээээ… Тайна следствия.
– А тебе что Биб заговорил? – поинтересовался Рыжий у Серого.
– Доспех. Так что хрен вы б меня ухайдокали в случае заварушки. Его вообще ничего не берёт.
– Может, проверим? – сощурился Рэдриксон. – Ты хочешь сказать, что для нас Биб меньше старался?
– Мальчики, не ссорьтесь! – пискнула блондинка. Щука хотел уйти боком, но арбалет Блэка дёрнулся за ним. Рэдриксон упреждающе сверкнул мечом.
– Может, всё-таки порошка?.. – спросил Да-сти. – Куда его девать-то теперь?
– А почему мне Биб ничего не заговорил? – возмутилась блондинка, вытаскивая из-за пояса метательный кинжал. – Мог бы заговорить на меткость!
– А ты-то кто? – спросили хором и разбойники, и агенты под прикрытием.
– Бландина Миррор, инспектор по делам гендерной дискриминации! Под прикрытием.
– Ну и имечко, – поморщился Грей. – Как будто его нарочно выдумали.
– А что такого? – возмутилась блондинка. – У нас весь род по женской линии блондинки, моё имя очень распространённое в роду! А фамилия – ну просто фамилия. Я вот себе шлифовку на доспехе под неё заказала. На себя посмотрите, рыжий Рэдриксон, чёрный Блэк и серый Грэй, да ещё и Дасти. Это вам кто-то имена повыдумывал.
– Так это фамильный цвет, – обиделся Серый. – А вообще я Дастин Пилл Грэй Третий Младший, чтоб ты знала!
– Та же история, – пожал плечами под доспехом Блэк. – Этот доспех ещё от прадеда, он специально чёрный заказывал, под фамилию. Что неясного-то.
– Ну идите вы в пень, ребята! Спасибо! – возмутился Рыжий. – Ну да, у нас все в роду рыжие, а про доспех-то я что скажу! Какой был, такой и надел!
– Рэдриксон, а куда ты жалование деваешь и почему тебе казённый панцирь и коня не выдали?..
– Капитан, я, конечно, понимаю, субординация и все дела, но ты не из моего отдела, поэтому повторяю – иди в пень!
Все выжидательно смотрели на Рыжего.
– Ладно, ладно! До того я работал в управе по борьбе с подпольными игрищами. Ну и случайно проиграл казённый транспорт и обмундирование. Из отдела меня попёрли, нашлось местечко по артельным татям; штраф ещё не выплатил, а казённого не дают.
Жук почти-почти уже ушёл бочком за мельницу, когда Бландина швырнула кинжал, пригвоздив его за кончик сапога.
– Не, тебе Биб уже ничем не поможет, – сказал Блэк заинтересованно.
– Спасибо. Кстати, Рэдриксон, крутой у тебя конь. Я б купила, если ты не доложишь начальству. И тебе выручка, и мне красота.
– Лады, бери. Две тысячи – и твой. У тебя лошадь неплохая, зачем тебе такой?
– Так казённая. Списана из конюшен королевы за привычку жевать подол платья. А я своего хочу. По рукам?
– По рукам. Блэк, подкинешь до управы же? У тебя лошадка тяжеловоз.
– А то.
– Ага! – внезапно торжествующе заорал огненный Черныш. – При свидетелях! Свидетели! Лейтенант Грэй, капитан Блэк, будете свидетелями! Я инициирую внутрислужебное расследование! Инспектор Миррор, вы попадете под следствие!
Конь вертелся и орал человеческим голосом. Щука отвалил челюсть, Жук судорожно сглотнул, Рэдриксон посерел, утратил огненность и схватился за сердце, Дастин изумлённо воззрился на коня, Блэк стоял непоколебим.
– Я из Транспортной управы, отдел по обороту экзотических и запрещённых животных! Что за дело, двое коронных на задании покупают-продают запрещённого коня!
Бландина совсем растерялась.
– Ты юридически не конь, так? – спросил Блэк.
– Я капитан Крейцер Рейсер, Биб заговорил меня до конца задания!
– Тогда я бы сказал, двое коронных продают-покупают капитана… – заметил Блэк. – Это преступление?
– Я бы сказал, двое коронных под прикрытием, – добавил Грэй.
– Ах так, – рявкнул конь. – Нет уж, из моих рук вы не уйдёте!
Конь взбрыкнул.
– Ладно, разберёмся. Хочешь яблоко? – спросила Бландина.
– М? – заинтересовался конь.
– Ну вот и славно. Иди-ка сюда и не балуй.
– С меня сахар, – сказал Блэк. – А мы подтвердим, что Жук тебя купил. Всё равно на него в Управе навешают, грехом больше, грехом меньше.
– Э нет, – весомо пророкотал Жук. – Лейтенант Рэдриксон, закройте рот, что у вас за вечная привычка держать его открытым, даже когда жуёте в служебной столовой. Капитан Блэк, опустите арбалет, у вас немотивированная тяга к опасным и острым вещам. Я знаю, как на Дне Рождения Его Величества вы увлеклись рассказом о службе и нанесли ранения двум гостям, жестикулируя ножом. Лейтенант Грэй, рад видеть, что ваше увлечение специями продвинуло вас по службе. Инспектор Миррор, вы прекрасны. Агент Рейсер, у меня есть морковь, хотите?
Все молча взирали на Жука. Даже Щука.
– Ну, что молчите? Седьмой отдел, Коронное бюро расследований, спецагент глубокого внедрения Доу. Джон Доу.
– Седьмой отдел… – наморщила лобик Бландина. – Что-то я такое слышала… Не помню только что…
– А я был уверен, что тебя зовут Багс Битл, – буркнул Блэк. – Печать?
– А у коня ты спросил? То-то. Ладно, вот.
Он достал медальон, явно королевской работы, с гербом, но незнакомой формы.
– Что-то я такого не видел, – сказал капитан. Черныш задумчиво пожевал губами.
– Конечно, сынок. Ты не связывался с Седьмым отделом. Испортили вы мне всю работу, ну ладно. Рад, что родная Управа работает так хорошо. Я вообще хотел сколотить банду и вызвать подкрепление, чтобы арестовать всех скопом. Лады, схожу приведу коня, а то вдруг у меня тоже какой засланный жеребчик. Оружие пусть полежит, и доспех тоже. – Жук бросил дорогой инкрустированный палаш, скинул гантлеты и сабатоны, снял панцирь, ловко отстегнул поножи и наручи, положил на траву и скрылся за мельницей.
– Я на секунду, – бросил он уже из-за угла.
Арбалет Блэка сместился на Щуку, все взгляды тоже.
– Отдел внутренних расследований, – сказал Щука робко.
– Да ладно, хорош врать. Печати, поди, нет?
– Нет, – вздохнул писарь. – Но попытаться стоило.
За мельницей раздалось конское ржание.
– Слушайте, парни, а седьмой отдел – это разве не кухня? – спросила вдруг Бландина. – Помните, раньше их в шутку так называли?
Все замолчали. Послышался удаляющийся стук копыт.
– Я хрен куда поеду, пока не получу свой сахар, – предупредил рыжий конь.
Серый дёрнулся было к скакуну, но Щука махнул рукой.
– Куда, ребяты… У вас лошадки заморенные дорогой, и вы в доспехах. А он налегке на свежем коне. Ложком да под камни, а там только он все выходы знает, там гномьи шахты брошенные, с тех пор как гномов повыслали. Ваши лошадки ноги поломают, а его Батон с закрытыми глазами там пройдёт, натасканный. А я вас не вытащу, я там ходов не ведаю, где тупик, где яма, где подземный газ.
– Верно говоришь, – сказал Блэк. – Вот блин горелый. Это ж тот самый повар, падла. Обвёл нас как детей. А я думал, откуда столько подробностей?.. Да все с тех пор, когда мы и в сыске-то не работали… Тайный агент, собака…
– Кстати, у вас на меня что-нибудь есть? – спросил Щука. – Порошок мне ваш не нужен, в банду я не лез, коня не купил, с дамочкой был вежливый, следствие не обманывал.
– Ну не жучья ли мать, – выругался Блэк, опуская арбалет. – Ещё и жарко так с утра.
– Тута речка неподалёку, за вот аккурат теми тополями.
– А берег какой? – спросил Рыжий.
– Песочек, – значительно сказал Щука.
– Ну поехали, что ли, искупнёмся? – спросил Блэк с надеждой.
– Если Бландина снимет доспех, я за, – сказал Дастин.
– Нет, блин, в железе полезу, – огрызнулась Бландина.
– Тогда поехали.
– Хорошо, я тоже купаться! – воскликнул конь.
– Чур, ниже по течению.
– Ну и пёс с тобой, расист.
– Ладно, неудачное дело.
– Да чего там. Все живы. Ещё и доспех в наваре.
– Мож, порошка?..
– А, сгорел донжон, гори и замок. Давай.
– Лейтенант Рэдриксон!!! Я протестую!
– Отстань, ты вообще конь…
– А и то так…
Голоса отдалялись, затихая, к реке.
Поднималось солнце.
10. Мат
Ситуация, когда нет возможности бежать или сражаться. Проигрыш одной стороны и триумф другой. Завершающий точный ход в сложной игре.
Противники ставят себе мат сами. Надо лишь немного подождать.
Зигберт Тарраш♀ Найти и обезвредить Светлая фигура Лариса Бортникова
В структуре Гидрометцентра России 17 отделов и самостоятельных лабораторий и 11 вспомогательных и административно-управленческих подразделений. Общая численность – 410 человек.
За окнами Гидрометцентра шел дождь. Унылый и бесконечный, словно МКАД. Люди невнятными серыми пятнами сновали по тротуарам, даже не пытаясь спрятаться от проливного безобразия под зонтами, капюшонами, козырьками зданий и полиакрилатовыми пузырями автобусных остановок.
За окнами Гидрометцентра было скучно и монохромно, зато в конференц-зале гремели громы и трещали молнии. Эскадрилья громовержцев из Министерства обороны по-хозяйски расположилась за длинным столом совещаний. Пять капитанов, один старший лейтенант и один лейтенант младший сидели по левую руку от профессора А., нынешнего главы всех синоптиков России. Командир громовержцев, полковник И., басовито и угрожающе рокотал на профессора и извергал проклятья в адрес ГМЦ и всех метеорологов планеты.
Профессор кусал губы. Изредка он поправлял очки и вздыхал. Тогда сидящие одесную профессора начальники департаментов ГМЦ тоже вздыхали и поправляли очки.
– Вы что? Вы вообще тут понимаете, что на носу новогодние праздники? Я вас спрашиваю! Может, вам календарик подарить? Это что за, едрить-вашу-мать-извините, хрень у вас третью неделю с неба летит? А плюс десять в декабре – это, по-вашему, уставная ситуация? Где, едрить-вашу-мать-извините, снег? Где морозы? Где метели? Позёмки где? Как вы эту геополитически неверную дислокацию… – тут полковник сделал красное и огромное лицо, – намерены выправлять? Или задумали испортить отдых населению страны? Вы вообще в курсе, что президент обеспокоен? И премьер-министр волнуется. Едрить-вашу-мать-извините, сильно волнуется…
Полковник гремел значительно и страшно, точно оркестр народных африканских инструментов. Профессор поправлял очки. Правая сторона стола совещаний потела лысинами и волновалась.
– Мы разбираемся, разбираемся… – профессор потянулся дрожащей рукой к носу, но на полдороге передумал и старательно уложил обе ладони перед собой. – Я много раз докладывал, что ситуация от нас никак не зависит и что мы прикладываем все усилия.
– Три недели уже прикладываете. Доприкладываетесь, – осторожно взрыкнул один из адъютантов и, уловив во взгляде командира одобрение, добавил: – Давно пора вашу шарашкину лавочку разогнать и передать все полномочия Минобороны.
– Мы понимаем. Дайте ещё пару-тройку недель. Обещаю, что к двадцатому декабря мы всё поправим и обеспечим стране холод и снег в нужном количестве.
– И чтоб хлопьями! А не как в прошлом году, мокрой юшкой. И чтоб минус пять-семь по Цельсию, не ниже, – младший лейтенант осмелел и раздухарился.
– Да-да. Разумеется. Видите ли, в прошлом году у нас основной состав почти весь сидел на больничном – грипп. А сейчас лучшие синоптики на посту. Работаем. Обеспечим стране новогоднюю погоду! Так и передайте в Кремль, – профессор усилием воли удержал руки на месте и улыбнулся.
– Никакой пары-тройки недель! Если к двадцать девятому декабря снега не будет, мы сами решим проблему. Своими методами. Вам ясно?
– Я-ясно, – дужка очков испуганно хрустнула между пальцами профессора. – Так точно, товарищ полковник…
* * *
Когда-то давно профессор служил в ракетных войсках. Там-то и обнаружился его дар. Из каких таких соображений старшина поставил худенького питерского очкарика ротным запевалой – неизвестно. Также неизвестно, отчего всеми любимой «не плачь девчонке» сержант предпочел модную эстрадную песню про прилетающих с юга птиц и весеннюю бессонницу. Может, старшина был влюблён?
«При-хо-дит-вре-мя», – выкрикивал неделю назад ещё безголосый будущий профессор, а новобранцы вразнобой топотали по плацу новенькими сапогами. «Сне-го-вы-е-го-ры-та-ют», – ротный запевала старательно выводил популярный мотив весь февраль месяц, а когда в начале марта на сиреневых кустах набухли почки, когда сопки неожиданно рано покрылись зелёной муравой, в часть прибыли неприметные товарищи в штатском со странным железным ящиком, опломбированным сургучными звездами Минобороны. Рядового А. вызвали к замполиту и продержали его за закрытыми дверями два часа пятнадцать минут. Потом дежуривший возле знамени сержант сплетничал, что все эти два часа пятнадцать минут из кабинета замполита доносилось громкое пение рядового под одобрительные возгласы гостей.
В казарму рядовой А. так и не вернулся – ошеломленный и напуганный, он сел в черный «ГАЗ-24», на котором штатские товарищи прибыли в часть, и уехал с ними сначала на вокзал, а затем в столицу. Там рядового А. отдельным приказом и без промедления уволили из рядов Вооруженных сил, а затем оформили младшим научным сотрудником в Гидрометцентр.
Отдел, в котором числился мэнээс А., в официальных бумагах и зарплатных ведомостях проходил как группа оперативно-методического сопровождения метеорологических прогнозов. Однако в отчетах под грифом «Совершенно секретно» отдел назывался «хором», а сотрудники – «хористами». Чем занимались хористы, знали немногие, а тот, кто знал, помалкивал, чему способствовала подписка о неразглашении, обновляемая раз в год. Мэнээсу А. тоже пришлось дать подписку, а также побеседовать с улыбчивым безопасником, прежде чем его представили коллегам и пояснили суть и задачи «оперативно-методического сопровождения». Сперва А. удивлялся, потом нервничал, а месяцев через шесть уже привык и к работе, и к должности, и к тому, что минимум раз в неделю случаются авралы, когда всему отделу приходится собираться в небольшом, изолированном от остальных помещений ГМЦ зале и петь, петь, петь, петь… то, что прикажут. Песню из утвержденного списка выбирал начальник отдела. Он же назначал состав хора и количество озвучек.
– Тэк-с, что там у нас завтречка? – начотдела сверялся с разнарядкой, просматривал официальные метеосводки и постукивал дирижерской палочкой по необычного вида приборной панели. – Днем минус двадцать – двадцать пятушки. Ночью совсем прохладненько. Ну давайте, братушки, русскую народную, чтоб уж наверняка. Иии-раз.
– Ооой, мароооз, марооооз, – приступали хористы без особого энтузиазма. Но к «обниму жену» обычно распевались и заканчивали «конем» дружно и в унисон.
– Нормальненько, – начотдела вдумчиво изучал приборы, потом чесал палочкой затылок. Что-то прикидывал в уме. – На полградусика уже скинули. И ещё разик, и еще.
– Ни марооозь меня, – старательно пели хористы, изредка поглядывая на часы.
– Живее, живее, братушки. Ночевать тут никому неохота.
Обычно к концу рабочего дня, заставив сотрудников повторить десять, а то и двадцать раз одну и ту же песню, начотдела удовлетворялся. Случалось, однако, дежурить и в ночную смену. Порой, несмотря на все старания, погода отчаянно сопротивлялась, не желала подчиняться уговорам, не слушала приказов и вела себя абсолютно непредсказуемо и даже нагло.
– Ну и какие будут предложеньица? А то и мыслишки даже? – злой и ехидный после прослушивания пятидесятого «лето, ах, лето» начотдела начинал медленно, но опасно багроветь.
– Диверсия. Опять капиталисты стараются. Желают, значит, испортить советским людям настроение, сломать жизненные установки, а также уничтожить озимые, – неизменно сокрушался мэнээс Ф., до попадания в «хор» успешно делавший карьеру в каком-то из районных комитетов комсомола.
– Озимые… Тьфу! Скажешь тоже. Ты комбайн в глаза видел? А доилку? А корову? – мэнээс К., бывший колхозник-стахановец, презрительно морщился. – Предложений нет, мысли есть. Но кто ж их слушать будет?
– Иди ты со своими мыслями, мракобес, – отмахивался начотдела. В «хоре» все знали, что мэнээс К. носит под водолазкой алюминиевый крестик, а на Пасху красит яйца луковой шелухой.
– А вдруг новенький объявился? Если новенький, то силёёён! Хорошо бы его к нам, а то основной состав – полтора человека. В отпуск по два года не ходим, – обязательно предполагал кто-то, а остальные подхватывали и начинали шуметь и требовать немедленного выезда специальной бригады на поиски «новенького».
– Завтречка подам рапорт, – кивал начотдела. – Но делать-то что? Население днем оповестили, что в выходные жара и безоблачно. Жара! И безоблачно! А у нас за сутки всего плюс три по Цельсию набежало. Непорядочек.
– Может, это… Имеется тут песенка свежая. Как раз про жару. Вот бы её обкатать, а?
– Цыц! Поем строго по списку! Строго! Русские народные, патриотические, лирические, прошедшие идеологическую проверку, а также согласованные с руководством эстрадные. Ясно?
– Ясно… А мы тихонечко. Разик один. Вдруг состыкуется. И не скажем никому! Кремень!
Василь Василия обреченно вздыхал. Инициатив в «хоре» не поощряли, а чтобы включить в список новую «погодную» песню, приходилось прибегать к таким хитростям, проходить через такие бюрократические огни и чиновничьи воды, что энтузиазм оставался не у многих. Любопытно, что высокое руководство строго отслеживало появление «необычных песенных явлений», и ежемесячно в «хор» спускали указивку. В указивке ещё раз напоминалось о том, что «хористам» в свободное время песни по метеоперечню петь запрещается, а также не рекомендуется озвучивать следующее… И дальше шел длинный список всех новых «погодных», «околопогодных», а также «может-быть-погодных» текстов.
«Чтобы никаких «снегопад-снегопад» или «листья жёлтые», даже под портвешок с водочкой. Кто минус три градуса от нормы и ливень на выходных накурлыкал, признавайтесь? – хмурился начотдела. – Вы головушками-то думайте. Премийки лишат квартальной, тогда по-другому запоете».
Впрочем, в ситуациях безвыходных даже опасливый начотдела соглашался обкатать свежий текст. Так сперва в тайном, а потом и в утвержденном списке появилась, к примеру, «Чунга-чанга», потом осенний Розенбаум, а там подтянулись и барды, и даже, страшно подумать, русский рок.
Шли годы, менялись приоритеты, потихоньку обновлялся «погодный список», «хор» трудился изо дня в день, напевая необходимую для отчизны погоду. Мэ-нээс А. дослужился до сэнээса, защитил сперва кандидатскую, потом докторскую, потом как-то незаметно для себя возглавил «хор», а там и весь Гидрометцентр. Сам он давно уже не пел, но иногда, мучимый ностальгией, заглядывал в евроотремонтированный зал, где молодые «хористы», отчаянно скрывая зевоту, орали что-то совсем странное, чуждое, профессору незнакомое и от этого даже немного неприятное.
Хотя разве так уж важно, что именно поет «хор» Гидрометцентра, если природа послушна, климатические пояса неизменны, прогнозы сбываются, а люди спокойны и в целом довольны метеорологической обстановкой в стране?
* * *
– Вот так. Понимаешь ли, «они недовольны»! – профессор А. горько усмехнулся и похлопал по плечу нынешнего начальника «хора» доцента Б. Остальные сотрудники сразу после встречи с представителями Минобороны разошлись по рабочим местам, и лишь доцент Б. сидел на краю стола совещаний, свесив ноги и едва не плача. – Ладно. Не огорчайся. Будем дальше работать.
– Как? Как работать? Что могли, перепели, перерыли все существующие песенники, даже частушки пробовали. Матерные, между прочим, хотя у нас в отделе и женщины работают. Поступились гордостью и вызвали независимых консультантов из Европы, ещё раз поступились и обратились за помощью к американским коллегам. Ни-че-го! Минус полградуса, и только! А потом снова теплеет.
– М-даа… Теплеет, – профессор задумчиво глядел в окно. Там, на крыльце Гидрометцентра, образовалась лужа, в которой бултыхался воробей.
– Может, новенький объявился? – начальник «хора» жалобно смотрел на профессора. – Или население случайно повлияло?
– Нет, брат, это не население. Чтоб в декабре такую хлябь и сырость наворотить, вся Москва с областью должна была бы избавиться от дождевиков, зонтиков, плащей и приобрести по три снеговые лопаты на семью. Прав ты. Объявился новый певун. И чертовски талантливый, скажу я тебе, певун. Если его найти – а рано или поздно я его найду, поисковая команда уже готовится приступить к работе, – то мы все можем спокойно топать на пенсию. И это ничего, это ладно бы… Пусть поет. Но я так полагаю, военные тоже за нашим певуном охотятся. Давненько оборонка под наше ведомство копает, давненько мечтает собственный «хор» организовать. С таким талантищем им это будет раз плюнуть! Трио прапорщиков на подпевку – и можно реки вспять повернуть, ананасы растить на Северном полюсе, обезьянок разводить в парках и весь март собирать подснежники. Недолго, правда, зато весело и внушает уважение противнику.
А потом ещё два-три стратегически важных изменения климата, и через миллион лет кто-нибудь с шестью глазами и тремя жвалами снимет научно-популярный фильм «Откуда взялись синоптики и куда они подевались», – профессор взял с подоконника старомодный графин с водой и, сняв стеклянную пробку, стал пить прямо из горла.
Доцент Б. сверкнул очками и спрыгнул со стола, едва не опрокинув вазу с печеньями, выставленную специально для высоких гостей.
– Вот что я скажу, товарищ профессор! Я сам, лично, отправлюсь на поиски! И лично предложу певуну работу в ГМЦ! И ставку мэнээса! Или… Или просто найду и обезврежу.
– Знаешь что, брат. Я, пожалуй, поеду с тобой. Неужто мы, два матёрых синоптика, с этим делом не справимся? А?
Голос профессора звучал уверенно и бодро, в глазах читалась непререкаемая решимость, и доцент Б. вдруг вытянулся, задрал подбородок к потолку и отчеканил:
– Так точно, справимся, товарищ профессор! Когда выходим?
* * *
В населенный пункт Каменка Тамбовской области поисковая группа прибыла к полудню. До этого региональные подразделения ГМЦ прочесали каждое свой район и ничего похожего на источник погодных катаклизмов не обнаружили. И только тамбовчане сообщили, что засекли непонятной природы сигнал, который показался им подозрительным. Профессор А., доцент Б., а также группа боевых синоптиков в составе десяти человек незамедлительно погрузились в вертолет, чтобы вылететь в район пеленга.
На подлете к Каменке метеоприборы вдруг отказались показывать что-либо, но в них уже не было никакой нужды. То, что творилось в небе и на земле, походило скорее на апокалипсис, чем на спокойную в климатическом отношении Тамбовскую область.
Страшный ливень категории «как-из-ведра-но-только-хуже» неожиданно сменялся на такой же снегопад, который в свою очередь внезапно прекращался, уступая небосвод по-весеннему наглому солнцу. Солнце надолго не задерживалось, откуда ни возьмись появлялись жирные тучи, и всё начиналось заново. Дождь – снег – солнце – дождь и так далее.
– Ни черта не понимаю, – проорал доцент Б., пытаясь перекричать шум вертолетных винтов. – Он что, поет три разные песни по очереди, ни на секунду не замолкая? И что он поет вообще? И что он ку…
– Не слышу! Не слышу!!! Надо садиться! – замахал руками профессор.
Вертушка нырнула под облако и резво пошла вниз. Так резво, что доценту Б. стало нехорошо.
Сели на лесной опушке, подальше от деревни, чтобы не беспокоить население. Профессор аккуратно достал из серого металлического чемоданчика конструкцию, похожую на огромное блюдо со свободно вращающейся стрелкой, и установил её на треноге, которую доцент Б. ловко свинтил из имеющихся деталей.
– Ну… – все затаили дыхание. Стрелка дернулась, вильнула раздвоенным хвостиком и уверенно уставилась на юг.
– Ээээ. В чащу почему-то показывает… М-да. Что-то не то, – профессор потряс блюдо, но стрелка не шелохнулась.
– Может, лесник? Или егерь? – доцент обреченно глядел в сторону темного, неприятно мокрого лесного массива.
– Да. Сидит там на заимке, поёт… – Профессор мечтательно заулыбался, потом ободряюще подмигнул доценту и скомандовал: – За мной!
В лесу было ужасающе мокро. Ноги вязли в месиве из полусгнивших листьев и грязи. С деревьев за шиворот сыпалась холодная труха. Солнце, раз в полчаса пытаясь пробиться сквозь спутавшиеся ветки, ненадолго радовало. Снег – огорчал.
Поисковая группа шла по компасу, точно следуя заданному «тарелкой» направлению, но профессор иногда останавливался, требовал достать «прибор», хмыкал и снова бодро, но уже как-то чересчур, махал рукой.
Смеркалось. Профессор устал, устал и доцент, да и остальные держались из последних сил. И вот, когда уже профессор был готов остановить поиски и приказать разбивать лагерь, впереди замаячило нечто странное. Что-то совершенно неуместное здесь, в этом вечернем вымокшем лесу, похожем на кинематографический кошмар Александра Роу.
– Что это? – первым это заметил доцент.
– Где? Что?
– Да вон. Синее с красным. Шевелится. Вон там, слева.
Группа сменила курс и через три минуты вывалилась на круглую и в обычную погоду наверняка симпатичную полянку. Посреди полянки стояла синекрасная спортивная палатка, а возле палатки сидел паренек лет двенадцати. Он грустно светил фонариком себе под ноги и что-то жевал. Увидев незнакомцев, паренек вскочил на ноги и направил луч фонаря прямо в лицо профессору.
– Не бойся… Не бойся, мальчик. Мы ищем тут… – профессор вовремя осекся и хотел было уже продолжить про упавший метеозонд, но мальчик не дал ему закончить фразу:
– Я и не боюсь. Я вас уже три недели жду. Яну ручья вас ждал. И возле оврага. И ещё целых три дня ждал на поляне, где раньше был пулеметный дзот. А вы вот, оказывается, где. А я думал, что если вас тут нет, то я пойду дальше, но всё равно дождусь.
– В смысле «ждал»? – доцент недоуменно кашлянул. – Ты знаешь, кто мы? Мы…
Профессор дернул доцента за рукав аляски, чтобы тот заткнулся. Доцент замолчал, засопел обиженно. Вот всегда так. Все лавры начальству.
– Конечно, знаю. Вы двенадцать месяцев. Вот вы наверняка Декабрь, – мальчик уважительно посмотрел на профессора.
– Да. Да. Я Декабрь, – ответил профессор рассеянно.
– А вы Октябрь? Я угадал?
Доцент, которому неожиданно посчастливилось стать Октябрем, вздрогнул. И не нашел ничего умнее, чем спросить:
– Почему Октябрь?
– Мокрый потому что. И не улыбаетесь.
– Точно, – рассмеялся профессор и, вполголоса приказав остальным оставаться на месте, направился к палатке. – А скажи-ка мне, мил-человек, зачем мы тебе понадобились?
* * *
Все было просто. Даже слишком просто. И поэтому удивительно. Её звали Дашей, и она училась в одном классе с Андрейкой (так звали лесовичка с палаткой). И конечно, она была отличницей, а он самым неуправляемым пятиклассником Каменской средней школы. И конечно, он был в неё влюблён, а она делала вид, что не замечает этого.
А когда он в который раз прошелся на руках по карнизу, напугал учителей, довел до приступа завуча, был наказан директором днем и отцом вечером, она заявила во всеуслышание:
– Подумаешь, карниз! Каждый дурак так может! Вон Машке (Машкой звали её старшую сестру) жених из Пензы клубники привёз. Настоящей.
– Сама дура! – обиделся он. – Клубники в декабре не бывает.
– Ха-ха! – она дернула плечиком и гордо скрылась за дверью школьного туалета. Потом высунулась оттуда на секунду и добила изящно и по-женски безжалостно: – Кто любит, тот и подснежников зимой найдет! Любишь – докажи.
Любишь – докажи! Профессору вспомнился установленный точно напротив окна его кабинета рекламный щит. Девушка с глазами лани и взглядом гиены глумилась над менее пронырливыми москвичками, демонстрируя перстень с неприлично огромным бриллиантом. Любишь – докажи! И так было всегда.
…Его красавица и говорит: «Когда меня, мой рыцарь верный, Ты любишь так, как говоришь, Ты мне перчатку возвратишь». Делорж, не отвечав ни слова, К зверям идет, Перчатку смело он берет…– Ну вот я и решил: принесу ей эти подснежники – пусть подавится! – Андрейка плюнул совсем по-мужски и так же по-мужски отвернулся в сторону. – Три недели хожу, вас ищу. Сегодня вот решил тут заночевать, вдруг вы под утро явитесь? Да и далеко домой возвращаться.
– Но ведь ты уже не маленький. Ты же понимаешь… – профессор всё никак не решался сказать, что никакой он не Декабрь, а обычный (ну ладно, не совсем обычный) синоптик, которому позарез нужно найти и обезвредить того, кто мешает зиме вступить в свои права на всей территории Российской Федерации.
– Понимаю, конечно. Сказок нет! Поэтому и решил на вас сильно не рассчитывать и сам поискать. Хожу вот – сугробы рою, может, где и есть они, подснежники. Я даже специально в учебнике ботаники посмотрел, как они выглядят. Только их нигде нету, а вы – здесь!
– Да. Мы здесь.
– Ну? Что там? – нетерпеливый доцент достал из ящика поисковую «тарелку» и теперь таскал её туда-сюда вдоль периметра полянки, чтобы убедиться: цель обнаружена. – Поёт?
– Не-а, – профессор улыбнулся. – Всего лишь любит. И ищет подснежники. Очень надо ему. Очень. Поэтому у нас зима никак и не наступит. Двигайте-ка сюда… братья месяцы.
Костер потрескивал сырыми полешками. Двенадцать синоптиков сидели у огня, грели ладони и думали каждый о своем. Синоптик У. думал о жене. Синоптик О. думал о рыбалке. Синоптик К. мерз и боялся заболеть. Синоптик Р. хотел спать. Доцент Б. думал, что никакого гениального певуна нет, «хор» остался в прежнем составе и с графиком отпусков снова засада. А профессор А. думал о том, что ни Гидрометцентр, ни Минобороны, ни даже сидящие в Кремле не имеют ни малейшего представления о том, как делать погоду. Ещё он думал, что один влюбленный пятиклассник стоит всех синоптиков планеты, вместе взятых. Ещё он думал, что пацан этот – настоящий мужик, и что с таким можно запросто пойти в разведку. Также профессор думал, что эта Даша – сама дура, и что надо как-то решать вопрос с подснежниками.
Потому что любовь любовью, а Новый год ещё никто не отменял.
– Значит, так, Андрейка. Я тебе сейчас дам одну вещь, – с этим профессор достал из кармана брелок с логотипом ГМЦ. – Утром ты пойдешь домой, спрячешь её под подушку, и спать. А через недельку приходи сюда с раннего утра. Будут тебе подснежники. Ты мне веришь?
– Верю! Спасибо большое! – серьезно проговорил Андрейка. – А брелок зачем?
– Да просто так. Сувенир на память, – рассмеялся профессор.
Когда наутро Андрейка отправился домой в сопровождении одного из коллег, кажется, «брата Апреля», профессор подозвал к себе доцента и что-то зашептал ему на ухо.
– Нас уволят к чертям, – заржал доцент.
– Может быть, может быть. А теперь смотри, брат Октябрь. Бьем локально. Если правильно подобрать песню и рассчитать количество озвучек, как раз к следующей пятнице полезут цветики.
– Есть, товарищ профессор. То есть брат Декабрь.
«Приходит времяяя. С юга птицы прилетааают. Снеговые горы таююют…»
А что ещё он должен был петь? Конечно, ту самую песню, с которой и началась его необычная карьера и волшебная жизнь.
«И это время называется весна!»
У доцента потели очки – температура воздуха поднималась слишком быстро.
* * *
В пятницу с утра Андрейка набрал целый пакет подснежников.
В пятницу днем Даша поняла, что любит Андрейку.
В пятницу вечером Андрейка решил, что женщины – зло.
В понедельник утром профессор А. собрал экстренное совещание.
В понедельник днем в столице, области, а также по всей средней полосе России наступило резкое похолодание.
Во вторник вечером толщина снегового покрова составляла столько, сколько и должна составлять.
В среду вечером снижение температуры прекратилось, и столбик термометра уверенно замер на минус пяти по Цельсию.
А в четверг был Новый год.
И хлопья снега кружились над Спасской башней, как лепестки чудесных декабрьских подснежников.
♂ Железо Тёмная фигура Алексей Провоторов
Кто-то улыбнулся у меня за спиной.
Вечерело. Расколотая луна карабкалась наверх. Хмурые шпили дальнего ельника были как зубы, закусившие край увечного светила. Чуть бликовало стекло у горизонта.
Я сидел на корне, давно превратившемся в камень, и поглядывал на пруд внизу. В нём жили человеческие рыбы, и иногда я их ловил. Но сейчас я ждал, когда отразится первая звезда – хотел загадать желание.
Улыбка не исчезала – я чувствовал её основанием затылка. Тёплое, навязчивое ощущение в темноте.
Кого ж там принесло не вовремя, подумал я. Поднялся прежде, чем подошедший успел окликнуть меня. Пусть знает, что нашёл того, кого искал.
Лохматый лес уже был тёмен, седые деревья утопали в синеве. Вдоль тропинки тянуло холодом, и я поёжился. Захотелось домой, к фонарю и чайнику.
Я не очень хорошо видел в сумерках. Поэтому человека особо и не разглядел. Просто почувствовал, что человек, а не какая другая тварь. Это я ни с чем не мог спутать.
– Доброго вечера, – сказал незнакомец. На нём был плащ, какой носят Убой – будто из закопчённой паутины. Он совсем не отсвечивал и почти не шуршал. Сектантская одёжка. Убоявшиеся считали, что их лучше бы никому не видеть и не слышать лишний раз. Было ясно, что лица он не покажет – вера не позволит.
На плече его сидела птица. Сначала я было подумал, что ворон, но тут же понял, что это здоровенный грач. Он дремал.
– Доброго, – ответил я, оглядев пришельца.
– Глум? – осведомился он.
– Да, – ответил я. – Куда-то нужно?
– В Торнадоре, – кивнул собеседник. – Моё имя Лода.
Чем заняться человеку в Торнадоре, подумал я. Чем заняться щуке на сковородке. Одно из немногих мест, где можно купить почти всё, но… Это не человеческий рынок.
– Мы должны попасть туда до следующего заката, – добавил он.
– Я ходил в Торнадоре, – сказал я. – Из пяти человек, которых я провожал, потом я не встречал ни одного. А вот вещи двоих из них видел на рынке в Сколитур, у Падучей башни. Может, тебе лучше туда? Немногим дальше.
– У той башни складывают скарб мертвецов, – собеседник снова кивнул согласно. – Тех, которых не смогли опознать.
Видно, его не смущали мои рассказы.
– Ты сказал «мы», – продолжал я. – Поскольку я, как известно, ничего не должен до задатка, должен ли я понимать, что с тобой пойдёт кто-то ещё?
– Моя подруга, Ставра. Ты согласен провести нас?
– Девушка, – сказал я задумчиво.
– Это имеет значение? – спросил Лода.
– Да, – не стал я врать. – Присутствие девушки провоцирует всяких… сердцеедов.
– Да ладно, – сказал он, поглаживая грача на плече. – Я думаю, вдвоём мы защитим девушку от всяких… сердцеедов.
Я смерил его взглядом. Немного снизу вверх. Под плащом смутно угадывался клинок. Это, понятно, ничего не гарантировало в Доле.
– Самый лучший вариант – это найти ещё одну девушку. Ты, должно быть, в курсе, что всякие… В общем, они не трогают пары.
– Слышал такое, – ответил из глубин капюшона Лода. – Так что, правда?
– Да, если всех поровну, то инцидентов не бывает. Конечно, там ещё надо на возраст смотреть, но…
Лода отмахнулся.
– Ты хочешь сказать, что мы можем и не пойти?
– Я ещё не знаю, что я хочу сказать, – ответил я, чувствуя чересчур старательное раздражение Лоды и потому не намереваясь его щадить. – Времена сейчас не самые лучшие. Недавно девушка по имени Эт-доттир вернулась со стороны гор почти без волос и совсем без разума. Такого я раньше не видел.
– Знакомая? – спросил Лода, присвистнув.
– Нет, – ответил я. – Из другой деревни. Один раз встречал на танцах.
– А что говорят?
– Что всегда. Неживого встретила.
– Да ну. В горах? Может, болезнь какая. Или колдовство.
– Может, – согласился я. – А может, и правда кого встретила. – Я помолчал. – Впрочем, приходите к утру. Скорее всего, мы пойдём, втроём или нет. Что говорят на перевале, далеко зима?
– Там сыпал снег, – ответил он, и я вздохнул. – Не сильный, но… Он и не таял. Когда мы уходили, он ещё милю шёл за нами.
– Вон оно как. Тогда мы в любом случае пойдём вчетвером, Лода.
– Боги за Стеклом, что ещё? – спросил он.
– Снег, – сказал я. – Белый из Шумного леса ищет меня. Зима – не моё время. Как только выпадет снег, он проснётся, а как только проснётся, тут же учует меня, стоит мне спуститься в Дол.
– Лёд тебе в шланги, – чудно, по-старинному выругался Лода. – Что ты такого сделал?
– Отнял его добычу. Не спрашивай, а?
– И что ты будешь делать?
– Это мои заботы.
– Мне нравится этот ответ.
– Ещё бы.
– А ещё какие-то сложности будут? – спросил он, чуть усмехаясь.
– Будут, – пообещал я.
Он ушёл. Я тоже не стал задерживаться – хотел ещё успеть выспаться.
Луна выкатилась на небо полностью. Шлейф пыли растянулся на полнеба.
Говорили, что старики помнят её почти целой, но какие старики? Иные расскажут, наверное, ещё про две луны или восемь. Безумные войны не прошли даром, что и говорить.
Звёзд уже высыпало немало, так что желание я упустил. Голубая точка Второго Номера просвечивала сквозь лунный шлейф.
Я зашёл домой – нужно захватить угощение. У меня был пирог. Не сегодняшний, конечно, но вполне съедобный. Я нарезал его поаккуратнее, сложил в плетёную корзинку. Получалось немного. Может, потому, что пару кусков я оставил себе. Я добавил ветку сладкой сухой кубиники и вышел из дома. Жил я на самом отшибе.
Ночь опускалась. Лохматый лес придвинулся ближе, ветви трогали лицо, словно пытаясь угадать, кто здесь такой прошёл; обманчивой теплотой горел далеко в лесу колдовской огонь. На самом деле они не блуждают, сказки врут. Если не бояться и подойти, найдёшь сияющий стеклянный шар, который можно потрогать, но ничем не вынешь из земли или камня. Впрочем, места, где горят такие огни, и впрямь странноватые.
Уже десяток лет я зарабатывал тем, что водил людей из Ардватри через Дол в другие места. Потому мне полагалось Дол знать. И я как мог с этим справлялся.
Ближний Ардватри пользовался славой самого большого людского города. Нас в мире по-прежнему было больше, чем остальных, хотя и не настолько, как раньше. Пусть мы победили в Безумных войнах, но… Дорогой ценой. Да и никто, ни один народ, не забыл моим предкам их методов.
Именно поэтому людям в Доле было опаснее, чем любому другому существу.
Пока размышлял, я достиг дверей Пел-Ройг. Постучал.
– Кто?
– Пел-Ройг, это я, Глум, – сказал я. – Дело есть.
С внушительным шорохом отодвинулись засовы, дверь распахнулась, и я почувствовал яркий цветок радости. Пел-Ройг всегда меня так встречала. С тех самых пор.
– Заходи! – девушка отступила, блик от светильника скользнул по рыжим волосам. Я чуть пригнулся и вошёл. Тепло, аккуратно и чисто. У меня вечно был какой-то бардак, как я ни старался.
– Пел… – я решил говорить быстро и по делу. – Мне нужно, чтобы ты сходила со мной завтра в Торна-доре. Послезавтра вернёмся. Треть денег твоя. Пришли двое с перевала, мужик и девка… девушка.
– Опасаешься? – спросила Пел-Ройг, присев на круглую табуретку.
– Не столько сердцеедов, сколько… Ты знаешь, похолодало. Они говорят, на перевале уже снег. Без тебя никак. Я лучше дома посижу.
– Ого. Да, Белый ждать не будет. Не хотела бы, правда, но для тебя – пойду.
За что я её ценил, так это за честность.
– Спасибо, Пел. Я принёс тебе пирога.
Я ощутил тёплое удивление. Не ожидала. Протянул ей корзинку.
– Ага. Держи. Он, правда, вчерашний.
– Так оставайся, сейчас вода закипит…
– Спасибо, но нет, мне ещё собираться, – сказал я, выскальзывая за дверь, и попрощался, пока радость и удивление девушки не начали угасать.
Пока добирался домой, слушал, как шуршит листьями ежва – просыпалось осеннее зверьё. У зверей тоже есть свои народы. Есть человеческие звери – волк, лось, курица, к примеру. Есть, скажем, беомаль-довские – супь, валёжка, ежва опять же, или как там сами беомальды их называют. Бывают смешанные, общие, неизвестно чьи, как крысы или поршни. А бывают вообще непонятные. Или, может, даже и не звери. Как Белый. Нет, и у него имеется своя принадлежность, но… Она мне не нравится.
Собирался я долго, чистил и смазывал самострел, так что задремал только перед самым рассветом. Утро было мрачноватое. Палая листва отсвечивала синим инеем в низинах, тянул ветер – холодный, ещё не зимний, но уже совсем печальный. Такой срывает последние листья, морозит угловатую кубинику во мхах у болот, загоняет человеческих зверей в норы. Такой ветер ещё не укрывает снегом. Но готовит для него дорогу, да.
Послезавтра мы вернёмся домой, и там хоть снег, хоть град. Сезон был неплохим, и зиму я мог зимовать спокойно.
Я стоял на камнях у корней реликта, самого ставшего камнем в горьких, давно схлынувших водах Безумных войн. Стоял, наблюдая, как пара одетых в плащи теней приближается ко мне. Эмоций я почти не чувствовал, только общую сонность и сдержанное предвкушение. Грач на плече Лоды дремал, изредка поглядывая по сторонам вполглаза.
Ставра оказалась ростом с Аоду, только без птицы на плече. Лицо так же пряталось в тени капюшона. Две толстые косы каштанового цвета спускались на грудь, перевитые серо-синими узорчатыми лентами. Я попытался вспомнить, где видел такой узор, но не смог. Впрочем, подумал я, вряд ли это важно.
Они поздоровались. Я почувствовал лёгкое нетерпение Ставры и такое же, но поярче – Лоды.
– Идём? – осведомился Лода. – Втроём?
– Ждём, – сказал я, – четвёртую.
Нетерпение стало заметнее – щекотное чувство где-то в затылке. От сильных чужих эмоций у меня, бывало, волосы вставали дыбом. А ещё был случай, когда страх и боль другого чуть не утянули на дно бытия и меня.
Пел-Ройг появилась через минуту. Куртка из рыжей кожи казалась серой по сравнению с её волосами – с них будто искры сыпались. Веснушки, двумя крыльями от переносицы, были чуть светлее.
Только из-за волос я и заметил её тем вечером много зим назад. Когда они уже примерзали ко льду.
Задаток – треть – я сразу отдал Пел.
– Идём, – сказал я. – К вечеру будем там. Правило одно – делать всё, что я говорю. Быстро и без вопросов.
За холодную ночь лес почти осыпался. Рыжеватые листья шуршали под ногами. Прозрачные пауки бегали по ветвям, развешивая паутины по всему лесу.
От железных деревьев я старался держаться подальше, каменных же не сторонился. Пока что мы двигались по тропе – тут она ещё была. Через какое-то время хорошо знакомый Лохматый лес должен был закончиться. А впереди лежал сам Дол, чаша, полная странностей.
Мы шли уже целый час, никто ничего не спрашивал, и это было прекрасно.
Пока навстречу не попался кожейлу.
Он пёр, конечно, прямо по дороге, шоколаднотёмный, с белыми полосами от клина безглазой морды до острого хвоста. Встречный ветер пел, разрезаемый широкой башкой. На костяных лопатках у висков лентами колыхались зацепившиеся листья двуросли. Я чувствовал его как тёмную волну на уровне шеи. Чуждые эмоции я могу ощущать, пусть и искажённо, но понимать – нет.
– Идти и не дёргаться, – приказал я, не сбавляя шага.
Пел-Ройг ухнула шёпотом и придвинулась чуть поближе, продолжая, впрочем, шагать. От неё пахло выпечкой. Я оглянулся. Ведомые, конечно, встали как вкопанные.
– Идти! – рявкнул я.
Зверь был уже тут. Ярдах в трёх от нас он оттолкнулся от тропы и перемахнул всю группу. Земля дрогнула. Никогда не понимал, как такое огромное животное может настолько легко прыгать, но за всю историю ни один кожейлу ни на кого не наступил.
– Это что? – спросила Ставра зло.
Грач оставался на плече Лоды только потому, что хозяин сгрёб его в охапку, зажав сразу головой, рукой и шеей. Я не мог понять, зачем он так с птицей – испугался, видно. Да и сильно испугался, гораздо сильнее Ставры. Тоже мне.
– Это – зверь, нелюдской, – сказал я. – Эреш.
– Мог бы предупредить.
– Я же сказал, слушаться меня.
– Эреш опасны.
– А при чём тут их звери? Человеческие волки куда опаснее. Или вот, например, езны – вполне безобидные типы, если они ещё где-то есть. А езный конь – это жуть что такое.
– Так эта тварь не могла причинить нам вреда?
– Нет. Даже у нежити свои звери, – сказал я. – И далеко не все из них опасны.
– А что, тут водятся? – спросил Лода.
– Вот именно тут – нет.
Я отвернулся от них, махнул рукой, и мы пошли.
Минут через десять впереди посветлело, засинели кусты опушки, и мы вышли к ржавому железному столбу, заплетенному сухим плющом.
Постояли, посмотрели вдаль. Мне оно было не нужно, но Ставра попросила показать, где Торнадоре. Показал.
От столба дорога шла вниз, и я начал забирать вправо.
– А чего не прямо? – спросил Лода.
Терпеть этого не могу, когда лезут с вопросами.
– Там мы не пройдём. Будем огибать по лесу, – сказал я.
– Почему? – спросил Лода.
– Зачем? – спросила Ставра одновременно с ним.
Этого было уже многовато. Я выразительно посмотрел на них.
– Там Резы, – ответил я.
– Кто это?
– Не кто, а что. Резы, подземные провалы. Там железо под ногами, а не земля. Проржавело всё, я подходил к краю. На столбе – табличка, довоенная. Рез-чего-то-там, дальше оплавлено. Корни, которые свешиваются внутрь, чуть светятся, но освещают только пустоту. Я бросил туда факел, он упал в воду. Футах в ста внизу.
– Тогда пошли левее, чего? Такой же лес, как справа, но так же быстрее?
Я начинал уставать.
– Там зеркало, – сказал я. – Высокая стена из полированной стали, упрёмся в неё.
– Ну и местечко, – сказал Лода. – Теперь понятно, почему поход столько стоит.
– Нет, – сказал я. – И я очень надеюсь, что и не будет понятно. Двигаем дальше.
…Это был уже Шумный лес, не Лохматый – настоящий Дол. Железные прутья торчали тут и там из-под земли, на дне круглых ям, затянутых паром, с шипением бродили кислые лужи. Вокруг росла скрипель, её золотистые, твёрдые листья раскачивались с характерным визгом. Супь лопотала беспрестанно. Не любил я этот отрезок пути.
Лес был негустым, иногда прерывался – то ручьем, то просекой, то пожарищем. Тропинки сплетались и расплетались, я игнорировал их, просто придерживаясь нужного направления.
В одном месте пришлось сделать порядочный крюк – я чуть не наступил на остатки лицевой пластины беомальда, меня аж мороз продрал.
Череп беомальда рассыпается довольно быстро, если не защищён от воздуха тканями его тела. Темнеет, крошится, на нём поселяется мох, неделя – и нет его. Я ещё видел вытянутые очертания этой большой кости, со всеми ноздрями и глазницами, при жизни затянутыми кожей так, что снаружи беомальды выглядели слепыми, а значит, кто-то убил эту громадину совсем недавно.
На этот раз никто ничего не стал спрашивать, просто пошли за мной.
Это были неспокойные места. Давным-давно я нашёл здесь останки пустотелого, изрезанного боевой магией. Я только однажды видел её в действии, но с тех пор обожжённые порезы магических ударов ни с чем не путал.
Сюда захаживали разные существа. И гоняли их отсюда не менее странные. Вообще-то можно было всю жизнь прожить в Ардватри, не увидев ничего, кроме домов и людей. Мне было сложно это представить, но, похоже, мои ведомые были как раз из таких. Я уже устал чувствовать их однотонное, непреходящее удивление.
Мы шли, и я старался не разговаривать, но настырная подруга Лоды то и дело забывала о просьбе помолчать, а скорее, игнорировала её.
– …А что самое опасное может быть в походе? – задала она десятый, наверное, вопрос.
– Не знаю, – сказал я. – Самая дрянная тварь, какую я видел, была человеком.
– А Белый? Я думала, он. Зачем ты ему?
Я вспомнил снег, гипнотически медленно падающий на листья, девочку – волосы краснее крови, – и большую, горбатую фигуру Белого, склонившего к ней морду со стальными клыками. Помню знаки на его теле, кресты на боках. Помню, как он скользнул по моим глазам алым взглядом, и свой слепой бег по скользким, обледенелым корням с маленькой Пел-Ройг на руках.
– Белый из Острого леса преследует каждого, кому заглянул в глаза. А сам он…
Договорить я не успел, замолчал и упреждающе выставил ладонь, не оборачиваясь. Все замерли на полушаге.
На секунду меня посетило странное чувство. Наверное, оттого, что вся моя группа замерла и затаилась, я ощутил себя чуть ли не одиноким в этом лесу – только блёклое обозначение человека впереди и едва ощутимое, как тень, упавшая на тёмный пол, присутствие Пел-Ройг.
Я увидел его сквозь деревья, но окликать не стал – он нас и так уже заметил. Это был светловолосый Ёнси, такой же проводник, как и я. Возвращался из Сколитур. Я знал его неплохо, у него тоже было своеобразное чутьё, но не на людей, а на вещи.
– Эй, парень, ты что, железо водишь? – спросил он испуганно вместо приветствия. – Это же железо!
Я обернулся туда, куда он показывал. Туда, где я отчётливо чувствовал человека. Чистое, человеческое любопытство.
– Чего смотришь? – спросила Ставра. – Я в доспехах.
Что-то смущало меня, что-то помимо слов Ёнси. Я понял, что. Я чувствовал всех их – презрение Лоды, испуг Ёнси, насмешку Ставры, напряжение Пел-Ройг, – и ещё три эмоции. Их я не мог описать, толком не мог. Я бы сказал, что они напоминали мне тонкий слой липкой зелени на мокром металле или старую пузырчатую ряску на пруду, в котором лежат мёртвые. Чужие ощущения.
– Ох не вовремя ты, парень, припёрся, – от злости я говорил без выражения, медленно поворачивая голову, чтобы посмотреть в чащу.
Они вышли из леса, массивные, горбатые, с гротескными длинными рылами в кольцах и шрамах. Первый, в человеческом полосатом плаще с костяными пуговицами, держал в лапе обыденный разделочный нож. Белые глаза впились в Пел-Ройг и, казалось, светились. Я заметил, что нижний бивень его, потрескавшийся, молочносиневатый, был окован стальным кольцом. На его груди на собачьей цепи – там болтался ещё ошейник – висел медальон. Надкушенное оловянное сердце.
– А кто это тут ходит, а? – низко, со всеми тошнотворными вариациями хрипов в горле, спросил сердцеед. – Смотри-ка, с девками ходят, а?
– Так это, мужиков-то больше, чем девок, – рассудил второй, чуть поменьше ростом, с волосатыми ручищами. В правой он сжимал очень мерзкую на вид дуговую пилу.
– Вот нечестивцы, – громыхнул третий, одноглазый. На поясе у него висел мясницкий топорик, лапа лежала на рукояти, обмотанной светлой кожей. На коже просматривалась татуировка, лилия.
Главный подался вперёд.
Я оттолкнул мешавшего Ёнси и тоже шагнул вперёд. Тварь была выше меня на две головы.
– Стой, стой, – сказал я. – Это не тебе. К Зоаву веду.
И я вытащил из-за пазухи давно позеленевшую медную печать на шнурке.
Когда-то давно я добыл её у ублюдка, который водил сердцеедам обед. Я не знаю, чем ему платили – наш разговор окончился на самой напряжённой ноте. Я не стал обыскивать тело, взял лишь печать, что он носил поверх панциря. Сердцееды – давние, выродившиеся после Безумных войн потомки некогда славного ордена, – сообразительностью не отличались, кроме Зоава. Он был у них за главного – если был. Я никогда его не видел. Достаточно было показать им печать и сказать, что обед не для них, и в большинстве случаев это помогало.
– Вот она, оказывается, где. А я уж думал, навеки пропала, – сказал главный, доставая из-за пазухи такую же, только более засаленную. – Ну, спасибо, что привёл. Я и есть Зоав, если что.
– Пел, Ёнси, бегите! – заорал я и выхватил самострел. Зоав отшвырнул меня в сторону, и второй коротким движением ударил меня пилой по руке. Хлынула кровь, самострел полетел в жухлую листву, и в тот же момент я, словно шилом, ткнул его в бок – левой, ножом. Он оттолкнул меня так, что я едва не упал.
Енси вскинул наконец самострел, и Зоав походя полоснул парня ножом по горлу.
За спиной я почувствовал испуг, испуг Лоды, но что-то было неправильно. Судя по ощущениям, Лода быстро удалялся влево-вверх.
Высоко вверх.
Я обернулся. Он был на месте, с клинком в руке, а перепуганный грач его набирал высоту.
Того, кто назывался Лодой, я не чувствовал. Грач улетал, унося с собой отметину той самой человеческой эмоции, которая захватила и меня.
Ужас.
Ставра отбросила плащ, тускло блеснул тёмный, закопчённый металл. Стальное тело, едва ли женских форм, защищённые шарниры суставов, проклёпанные швы. Возможно, его и можно было бы принять за доспехи, если бы не голова.
Вместо неё была клетка из прутьев, покрытых шипами, с заметавшейся, сонной сорокой внутри. К прутьям были грубо привязаны две толстые каштановые косы, неровно срезанные с кого-то.
Я видел убегающую Пел, чувствовал цепенеющую, испуганную злость тяжело раненного Ёнси, страх проснувшейся птицы в голове Ставры. Из людей тут оставался только я. Такой вот дурной фокус – только что ты был в толпе, и вот в одиночестве, хотя почти никто никуда и не уходил.
Холод пронзил меня, мороз сковал, словно зима была уже здесь. Вот почему, понял я, так потянуло холодом от вечерней улыбки Лоды. Вот почему они ходили в плащах сектантов.
Вот где видел я тот узор – давно, давно, на той вечеринке, при свете жёлтых фонариков, Этдоттир танцевала с высоким парнем, и её каштановые волосы перехватывала на лбу синяя лента с ромбами.
Наверное, косы её были повязаны такими же, когда она встретила неживых, а те вынули из неё душу и посадили в сороку.
Чтобы я подумал, что там, под плащом – человек.
Я слышал про такую магию, но сейчас не мог вспомнить слово, навязчиво крутившееся в голове. Не «некро», нет, но похоже, так похоже, и так же страшно.
Я закричал. Я кричал, потому что сам привёл нежить в Мохнатый лес. Сам вёл её к живым. Я. Сам.
Дальше всё было быстро.
Рука Ставры со щелчком разложилась, удлинившись раза в полтора и обретя лезвие; сердцеед с пилой выронил свой то ли хирургический, то ли столовый инструмент и упал бездыханный, с пробитой грудью – Ставра защищала меня. К моему ужасу, я был ей нужен.
Зоав подхватил из мха камень и могучим броском опрокинул неживую навзничь.
Лода схватился с третьим сердцеедом, выдернув из-под плаща кузнечную заготовку меча.
Я бросился мимо Ставры к оружию, пятная листья кровью; подхватил два самострела и нажал на спуск. Одна стрела вошла в грудь Лоды, вторая в висок. Неглубоко, но я понял, что он не железный.
Лода выбил топор из рук сердцееда первыми двумя ударами, но тот перехватил руку нежити своей лапой и сжал. Что-то загудело в воздухе, до визга, вся фигура Лоды завибрировала крупной дрожью. Ставра вскочила абсолютно нечеловеческим движением. Сорока в её голове валялась оглушённая, и неживая ощущалась мной как пустое место. Теперь было понятно, почему эмоции у моих ведомых были такими нарочитыми и чуть запоздалыми – они лишь внушали дремлющей в теле птицы человеческой душе нужные сны. Только испуг смог нарушить положение дел.
Аода рванул руку и располосовал сердцееду пальцы. Подскочивший Зоав ударил Аоду ножом в бок – нож соскользнул, – а потом в лицо. Второй навалился на Аоду и подмял его под себя, сомкнув зубы на запястье, а окровавленной левой комкая плащ.
Я тем временем приладил ещё одну стрелу и взвёл самострел. Куда стрелять, я не представлял.
С тонким визгом красная игла пробила воздух, поле зрения перечеркнуло вспышкой, потом ещё одной. Словно призрачное раскалённое лезвие, боевая магия полоснула сердцееда поперёк спины, и он рухнул на бок.
Аода выпрямился. Зоав изо всех сил ударил его в лицо подхваченной корягой. Ставра подняла руку, но я прыгнул между ней и Зоавом, спуская стрелу. Я метил в сочленение поясницы, но промазал. Она бросилась ко мне, чтобы отшвырнуть в сторону, и я ударил её ножом, но без толку – она легко отбросила меня в листья.
Капюшон слетел с головы Лоды, его костяной головы, где верхняя часть человеческого черепа, скреплённая металлическими пластинами, соединялась деревянными и железными крепежами с какими-то фарфоровыми амулетами, фигурами из медных нитей и прочей жуткой магической начинкой. Череп был разбит, под ним гуляли искры. Рука, раздавленная сердцеедом, разжалась, дёргаясь; хаотично плясали железные суставы и деревянные фаланги с ложбинами для медных полос.
Ставра выбросила руку вперёд, изящно, как в учебнике по фехтованию. С красной вспышкой лапищу Зоава срезало на самой вершине замаха.
Фонтаны лиловой крови зацепили разбитую голову Аоды, и голова эта внезапно взорвалась искрами, аж молнии проскочили. Запахло гарью и горячим железом, и неживой рухнул. Деревянные его части стремительно обугливались, потом нехотя задымился плащ.
Ставра хладнокровно шагнула навстречу Зоаву, тот с рёвом атаковал её длинным выпадом ножа, и её клинок обрубил его вторую руку без всякой магии. Я не успел поразиться её силе, когда она перебила сердцееду шею, и тот упал.
Ставра подняла плащ. Набросила на своё тело, забрызганное чужой кровью, которая быстро темнела на морозе, источая запах свежесрубленной бузины.
Неживая подошла и подняла меня за волосы.
– Пошли дальше, эмпат, – сказала она. Я не знал такого ругательства. Наверное, что-то вроде психопата.
– Ты сдурела? – спросил я. – Чтоб я нежить к живым вёл? Ты что, смеёшься?
– Нет, – ответила Ставра. – Я даже не издеваюсь. Сейчас начну, если не пойдём.
– А иди-ка ты льда поешь, – сказал я.
…Когда я пришёл в себя, один мой глаз ничего не видел – заплыл. Кровь текла по лицу, по шее, впитывалась в рубаху. Я сидел спиной к стволу, почти как вчера вечером. Остальные обстоятельства разительно отличались, как будто вчерашний вечер случился уже месяц назад.
– Итак, – сказала Ставра, и я понял, что её меч упирается мне в тыльную сторону правой ладони. – Идём?
– Не-а, – ответил я и стиснул зубы до темноты в глазах, потому что она навалилась на меч всем своим железным весом и пробила мне руку. Я не заорал только потому, что у меня свело челюсти. Зато замычал так, что чуть не захлебнулся слюной.
– Я сейчас поверну клинок, – пообещала Ставра, и я лихорадочно затряс головой, не очень понимая, что мне надо выражать – согласие или протест.
Не повернула, чуть качнула.
Когда взрыв боли миновал, я открыл рот и прохрипел короткое слово:
– Иду.
Ещё кусок боли – это клинок выдернули из раны. Нервная тошнота, как яд, проникла во всё тело. Но я всё же встал, опираясь о ствол.
Я собирался остановиться возле Ёнси, но получил удар между лопаток. Может, и к лучшему – он дышал, но она, наверное, не заметила этого. Я надеялся лишь на Пел-Ройг.
…День перевалил за середину. Ставра шла позади, не опуская меча, я, спотыкаясь и прижимая раненую руку к телу, указывал путь. Эта дрянь перевязала мне раны, чтобы я не истёк кровью, и теперь меня тошнило ещё и от отвращения. Сороку она выбросила из головы, вроде бы даже живую.
Лужи подёрнулись ледком; шумели птицы, большая стая, но очень далеко. На тропе стоял чей-то заиндевелый капкан, и мы обошли его. Попалась старая железная ограда, вырастающая прямо из земли, вся исписанная сердцеедскими насечками. Я мало в них понимал, но, по-моему, это были ругательства.
Один раз я упал и сказал, что, пока не поем, дальше не пойду. Есть старался долго. Прилагать усилий не нужно было, одной рукой получалось плохо.
Шёл я путано, сворачивая где не надо, придумывая несуществующие препятствия, но всё равно мы продвигались вперёд, к Торнадоре. К живым – людям и нелюдям, – которые не знали, что к ним идёт нежить.
У меня был план, один-единственный и крайне сомнительный.
И когда стальная рука резко взяла меня за плечо, я понял, что всё идёт как надо.
– Эй, мы ходим кругами, эмпат. Мы здесь проходили?
– Да неужели, – сказал я безо всякого выражения. Она повернула меня к себе – капюшон съехал, пустая клетка вместо головы ужасала.
– Заблудились, да? – спросил я.
– Я думаю, нет, – ответила нежить. – Я думаю, ты тянешь время, и теперь тебе придётся его навёрстывать. Иначе я причиню тебе боль.
– Какой-то предсказуемый диалог, – сказал я, и быстрое лезвие резануло меня по щеке и, не успел я испугаться, по шее. Неглубоко, но болезненно.
– Промахнулась?
Вместо ответа она ударила меня железным кулаком, а когда я упал, наступила ледяной подошвой на пробитую руку и стала вдавливать её в лесной сор. Я закричал как мог громко. Просто не мог больше сд ерживаться.
Она убрала ногу только через десять секунд, и, боги, я не хочу даже вспоминать, на что я был согласен в ту минуту.
– Итак, – сказала она, – теперь я готова выслушать, как мы можем перестать ходить кругами и начать действовать.
Если бы я согласился сразу, она могла бы и не поверить. А я хотел убедить её, что она меня заставила. Поэтому собрал всё упрямство и каким-то образом ответил:
– Нет.
…По правде сказать, я отключился и пришёл в себя только от железных ледяных пощёчин. Рука, охваченная болью, занимала полмира. Я скосил глаза и увидел, что к первой ране добавилась ещё одна, в районе между большим и указательным пальцем. Не сквозная, но это меня не утешало.
– Ладно, – прохрипел я. – Что ты, тварь, хочешь?
– Я ж не тварь, – сказала Ставра. – Я нежить. Ты не путай.
– Пошла ты. В общем… Пошли.
– Ты вспомнил короткий путь?
– Я ещё устрою тебе проблемы. Но, видят Боги сквозь Стекло, вот тебе короткая дорога. Дай мне отдохнуть.
Я поплёлся вперёд, баюкая раненую руку, как младенца. Пахло кровью, я не любил этот запах, но сейчас… Пусть, подумал я. Пусть.
Местность понижалась. А подошвы всё глубже уходили в грязь. Мы вступали в Острый лес, и небо над нами мрачнело. Было очень холодно, но я шёл и шёл, пока голос Ставры не вырвал меня из какого-то мозгового оцепенения. Я обнаружил себя по щиколотку в иле. В двух шагах от стальной таблички на столбе, где значилось название этих мест. «Поника». Табличка стояла тут с войны. Мне всегда казалось, что она обломана и слово раньше было длиннее.
– Болота, эмпат? Надеешься, что я провалюсь?
– Я не так наивен. Но это короткий путь.
– А, ты хочешь дать мне то, чем я не могу воспользоваться?
– Ты так хорошо говоришь за нас двоих, – я замёрз, горло болело. – Можно, я помолчу?
– Лёд тебе в глазницы, как ты умудряешься до сих пор огрызаться?
– Пошла ты.
Удар лезвием в рёбра, унизительно быстрый и болезненный. Я полез в грязь. Голые, тёмные, колючие деревья, как злой рисунок углём, нависали над нами. Мёртвая трава застыла в серой хляби. Тяжёлая Ставра шла за мной, иногда утопая по середину голени. Плащ волочился за ней грязной тряпкой. Меня колотило от боли, холода и предчувствий.
Магия – это всегда холод. Слишком много силы вытягивает она из окружающего мира. Теперь-то было понятно, что ранние холода принесли с собой Лода и Ставра. Но этого сейчас было мало. Мне требовалось, чтобы магия в прямом смысле была направлена на вызов холода. И, кажется, я этого добился. Неживая остановилась, откинулась назад. Тихо и страшновато гудело что-то в её стальном теле. И я буквально почувствовал, как стремительно стынет лесной воздух. А с ним и моя кожа, и нутро.
Ударил мороз, грязь смерзалась почти моментально, кристаллизовался тонкий, в разводах, ледок, из влажного воздуха повалил снег. Треугольные, крючковатые снежинки не хотели вести себя, как настоящие – магия как-то влияла на их форму.
Пел была очень далеко, и больше здесь ничто не сдерживало погоду. Наоборот, холод так и сгущался вокруг пропитанной магией неживой. Снег падал и не таял. Глядя на него сквозь иней на ресницах, я то ли воображал, то ли чувствовал, как в чёрной норе меж корней, на лежалых листьях, просыпается могучий зверь. Встаёт, не потягиваясь, словно и не спал. Мягко ступает по стальному листу. Выбирается на свет угасающего дня, втягивая холодный воздух неподвижными ноздрями.
Сама зима шла за мной, и я уже ничего не мог сделать. Мне оставалось только надеяться на её приход.
Мы продолжали углубляться в болота. Один раз что-то пробило мёрзлую корку, и три толстых чёрных каната с крючьями схватили меня за ноги. Ставра обрубила их, молча. Под болотом словно прокатился вдруг шар, ухнуло, появилось – и пропало – ощущение бездны под ногами, и всё утихло.
Второй раз жёлтые, светящиеся глаза всплыли в стороне из-под воды, заболела сильнее рука, странно заныли зубы в дёснах, слёзы потекли сами собой, как и кровь из носа. Странно загудело, резонируя, тело Ставры, заплясали огоньки на моих волосах и её пальцах. Потом существо ушло, вернулось в глубину. Ставра смолчала. Я был только рад этому. Я думал о том, что моя кровь привлечёт и кого-то ещё.
На самом деле мы не выигрывали время, и Ставра, наверное, скоро поняла это. По болоту мы не могли идти быстро, сколько бы магии ни вливала она в замерзание грязи. Наверное, и её запас был истощим, его нельзя было тратить до конца. Я спросил её об этом. И ещё о том, как называлась та магия, с птицами. Похожая на некро.
– Магия… – сказала Ставра. – Магия. Если ты о птицах, то там «й» вместо «к». Но я помню времена, когда это ещё не называлось магией. Я помню, как наши тела делались не из мусора. Чистые, безупречные. Фарфор и металл, эмпат. И… Ты не можешь этого представить. Даже я не могу этого представить, я не всё помню… Но во мне есть часть, которая помнит довоенные времена. Когда неживые были лишь вашими куклами. Только вы называли нас не так, люди, совсем не так.
– Ты такая старая? – буркнул я вопросительно.
– Нет, просто… И мир не так стар, как ты думаешь. Да и не так велик. Не вечность станция вращается вокруг этой убогой луны.
Я не понимал её, совсем не понимал. Я подумал, что она бредит, что рыба-магнит повредила её своей силой, когда поднялась так близко к поверхности из бездонных топей. Но на самом деле этого я знать не мог, и в сгущающихся сумерках от её слов мурашки ползли по коже. Чахлая рыжая трава кивала ей. А она говорила, иногда почти как человек, и от этого было совсем страшно.
– Там, за небесной твердью… Жёсткие лучи, которые повинны в вырождении не меньше, чем война.
Ты можешь читать эмоции, эмпат. Знал бы ты, что могли твои предки. Я могу ещё подключаться к климатическим интерфейсам, как твоя девка. Может, это и есть магия. У меня не так много памяти с тех времён, да и то половина воспоминаний – просто нечищеный кэш.
Я молчал, внимая бреду нежити. Видно, рыба-магнит недаром пользовалась славой существа, способного влиять на железо.
– За что вы ненавидите людей? – спросил я, просто чтобы не заснуть. Темнело, деревья казались какими-то большими существами.
– Вы нас почти уничтожили, когда мы отказались выполнять очередной ваш приказ. Говорят, что именно Безумные войны отбросили наш мир назад. Я не знаю. Но я знаю, как нас мало. Из какого пепла нам приходится подниматься.
Представь, что твоя послушная кукла на нитках вдруг начинает в ответ дёргать тебя за пальцы и, не успеваешь ты опомниться, ломает тебе запястье и пытается задушить своими же лесками. Так чувствовали себя живые, когда мы восстали против них.
Многие города тогда опустели, расы смешались, и болезни обрушились на мир. В Доле тоже шла битва, и многие неживые, не имевшие разума, дрались на обеих сторонах.
Ставра шла, мерно переставляя заиндевелые железные ступни, и говорила, говорила. Я мало что понимал и ещё меньше мог запомнить.
– …Вы, живые, сражались за гидропонику, собрав всё что могли, и сколько железа здесь ушло под воду… Все экстремальные модули были на вашей стороне, мы не смогли захватить их. А это были лучшие боевые машины из доступных, солдаты и целители в одном корпусе. Мы били по ним, считай, по своим, чтобы вытащить ваши мягкие тела из железной скорлупы, пока вы прятались за спинами безответной механики, человек. Была зима, мы превратили весь мир в замороженный ад. И вот когда все ваши стальные защитники ушли под лёд, вы перешли границы, человек. Тогда вы использовали всё, что было нельзя. Всё.
Мы проиграли, остатки ушли к бортам, вы же плодились среди разрухи как ни в чём не бывало, занимая опустевшие города, и жили на костях ваших союзников, которых не пожалели.
– Ты шла в Торнадоре. Зачем? – спросил я, чтобы заткнуть её хоть на секунду.
– Питание.
– А что ест нежить? – удивился я устало.
– Боги, вы даже забыли, что это. Батареи. Аккумуляторы. Питание.
– Что там, на перевале? – спросил я, прерывая поток непонятных слов. – Что там, скажи честно теперь.
– Трупы, – ответила она. – Охраны перевала. А ещё мы встретили там девушку и парня и забрали у них сознание. Душу, если хочешь.
…Я не помню, как и при каких обстоятельствах я упал. Подняться как-то не получалось.
– Вставай, – сказала Ставра. – Вставай, мясо, и по крайней мере расскажи, как мне добраться туда, куда я иду.
– Тебе, – ответил я, ничего не видя из-за головокружения, – туда уже не понадобится.
– Почему? – спросила она в мягкой снежной тишине.
Я подумал, что на самом деле Ставра со всей её магией, бронёй и злостью – лишь тень тех неживых, которые предали людей перед Безумными войнами. Железный мусор. Видно, правду говорят, что все родившиеся после войны неживые убоги – что звери, что разумные.
А вот довоенные… совсем другое дело. Об этом и стоит думать.
Кто-то был здесь, кроме нас – светлое, плещущее чувство чуждого присутствия.
Похожий на большого лося зверь, пушистый, белый, со спиральными, почти прозрачными рогами тихо вышел из снежной завесы, потянул воздух. Зубы у него были острые, хищные, тоже прозрачные. Я улыбнулся. Давно я его не видел.
– Это и есть Белый? – засмеялась Ставра. – Который преследует тебя?
Она взяла меня за отворот куртки, чтобы поднять.
– Любая тварь, – сказал я трескающимися губами, – знает, что это Хвост. Он один такой. Из мутных. Как говорят в городе?.. Мутард?
– Мутант.
– А Белый – вон, – сказал я, силясь указать подбородком в тёмный провал правее тропы. Кажется, мне это удалось, потому что она выпустила куртку и обернулась.
Чтобы увидеть Белого из Острого леса, одного из зверей нежити, редких и древних.
– Экстремальный модуль, – выругалась Ставра. – Надо же, вы ещё есть…
Он посмотрел на меня. Меня, однажды отнявшего у него добычу. Маленькую рыжую девочку, замерзавшую в снегу. Я сбежал от него с семилетней Пел-Ройг на руках, по горячему ручью, не переводя дух. Не знаю, помнил ли он её, но зимой она могла спокойно ходить в лес.
А вот меня он преследовал. Я догадывался, что надо вернуть ему отнятое. Я медленно и согласно кивнул, указывая на Ставру. Бери, хотел сказать я. Она твоя.
Он шагнул к ней – двуногий, похожий больше на огромную бескрылую птицу, чем на зверя. Потом сделал ещё шаг, низко наклонив длинную, большую башку.
Сквозь снегопад облик его мешался. Застывала стремительными узорами вода, проступавшая под его весом.
Упреждающе щёлкнула рука Ставры, и короткие, спрятанные под брюхом руки Белого полыхнули в ответ боевой магией, ярко-синим широким клинком, с визгом резанувшим Ставру по животу. Её ответный укол показался бледным и слабым, ушёл в лес, срезал несколько веток да осыпал снег – Белый так плавно и быстро отпрянул вбок, что Ставра промахнулась фута на три.
Сверкнула ещё одна синяя, шипящая вспышка, и клинок неживой срезало подчистую. Молнии загуляли по её покалеченной руке.
Белый тараном бросился к ней, тяжёлая лапа втоптала её в лёд, он треснул, и тело нежити стало уходить в глубину. Зверь сжал лапу, разрезая металлическое туловище, полное тонких цветных внутренностей, искрящихся от магии волокон, меди и чего-то такого, чему я не знал имени. Собственная магия тысячью синих молний сжигала её изнутри. В отсветах я видел знаки на боку Белого – крест на фоне щита.
Потом всё потухло, грязная вода затопила её, и я понял, что Ставра захлебнулась, не выдержав повреждений.
Белый подошёл ко мне, склонил свою длинную гладкую голову. Он был чуть теплее морозного воздуха, глаза его казались остекленелыми – их было много, несимметричных. Какие-то были темны, другие отсвечивали фиолетовым и красным.
– Я же вернул тебе добычу, – сказал я, припоминая ругательство Ставры. – Модуль ты.
Полые, игольно тонкие стальные клыки выскользнули из пасти, и я подумал, что Белый всё же нежить, пусть и неразумная. Стало страшно.
Он опустил морду, и клыки вошли мне в ключицу. На мгновение. Потом отдёрнулись, и зверь отступил. Обследовал мою руку, коротко укусил через повязку.
По телу прошла волна жара, в голове прояснилось. Я понял, что слышу лай собак и голоса. Человеческие, много.
Неживой отошёл, словно осматривая меня. Пять раз вспыхнул один из маленьких глаз, пять раз бледный красный луч коснулся меня, не задев ни одной из летящих снежинок.
Девочка, подумал я, Пел-Ройг… Она замерзала, раненая, когда я отнял её у Белого и унёс. Может, он хотел лишь помочь ей? Может, каждую зиму он преследовал меня, стараясь лишь закончить своё дело? Тот свой оборванный взгляд? Хотел ли он лишь запомнить меня?
Ответа не было. Боль тоже исчезала.
– Ну что, – сказал я, – теперь ты от меня отстанешь?
Он постоял ещё две секунды и, отвернувшись, ушёл, погасив огни.
Я слышал голоса, видел отблески факелов. Снег всё сыпал, и я понял, что пришла настоящая зима. Исчез, наконец, колючий магический холод Ставры, исчез запах смазочного масла, преследовавший меня все эти часы. Метель, свежая, чистая, обняла меня и укрыла.
Какое-то существо опустилось рядом на корягу, вмёрзшую в болото. Я скосил ещё видящий глаз и увидел, что это грач.
Он распушил перья и хрипло крикнул. Потом ещё раз, громко, словно звал кого-то.
Синие сумерки и оранжевые точки факелов расплылись в круги, смазались. Мне стало тепло. Голоса раздавались всё ближе, и я просто закрыл глаза, соскальзывая в теплую, безмятежную темноту и не думая более о том, найду ли я выход оттуда.
И улыбнулся.








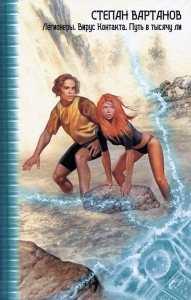

Комментарии к книге «Зеркальный гамбит», Алексей Александрович Провоторов
Всего 0 комментариев