Земля 2.0 (сборник)
«Одной из целей нашей организации является укрепление здоровья, морально-волевых качеств и трудолюбия, а также пропаганда здорового образа жизни, чтобы те, кто уже работает в космической сфере, были здоровы и полны энергии.
Для нас важно, чтобы люди стремились к завоеваниям в космосе, и мы хотим видеть в рядах сотрудников предприятий космической отрасли больше молодежи. По нашему мнению, для этого нужно вернуть взгляд человека к звездам, чтобы он перестал искать возможности для завоеваний наа Земле.
В свое время огромный вклад в стремление человека к космосу и работе в этих сферах сыграли такие выдающиеся писатели, как Жюль Верн, Айзек Азимов, Станслав Лем и, конечно же, Борис и Аркадий Стругацкие. Благодаря их творчеству миллионы людей по всему миру искренне хотели стать космонавтами или как-то иначе помогать в освоении новых планет и галактик.
Данный сборник, по нашему мнению, как раз возрождает эту традицию в литературном мире. Мы очень рады этому и считаем, что подобное начинание заслуживает самой широкой поддержки».
Руководители АНО «Спортивный клуб Федерального космического агентства Роскосмос»В границах Солнечной
Роман Злотников Чрезвычайное происшествие
Дежурство было скучным. И это радовало. Потому что когда дежурство протекает скучно, то это означает, что все идет нормально и автоматическая система контроля пространства работает в штатном режиме, вследствие чего вмешательства человека ей совершенно не требуется. Поэтому дежурному диспетчеру можно слегка расслабиться и… бдеть. То есть, несмотря на всю скуку, ни воткнуть в уши наушники, надвинуть на глаза рамку голопроектора и погрузиться в нирвану музыки или нырнуть в чудесные миры нового голофильма, ни, скажем, придремать на дежурстве было нельзя. Потому что, во-первых, все это было прямо запрещено всеми мыслимыми инструкциями и, во-вторых, категорически не рекомендовалось еще и более опытными товарищами. Впрочем, к Евсею Сергеевичу последнее не относилось. Потому что для большинства состава диспетчерской он и был как раз тем самым «опытным товарищем». Недаром его должность именовалась «старший диспетчер». Вследствие чего, кстати, в перечень его обязанностей кроме всего прочего входили еще и контроль за обычными диспетчерами, и обучение молодого пополнения. Именно поэтому правое кресло диспетчерской в настоящий момент занимал стажер. Ну а в левом, на «капитанском», так сказать, месте восседал сам Сергеич, как его именовал кое-кто из руководства. Впрочем, список этих «кое-кто» был весьма куц. Потому что кому ни попадя подобные вольности старший диспетчер СКП12М237 дозволять не собирался.
— Тьфу ты, вот зараза… — ругнулся Евсей Сергеевич, когда тоненькая часовая пружинка, вместо того чтобы аккуратно опуститься на положенное ей место, в самый последний момент соскользнула и «выстрелила» наружу, отскочив на дальний конец подковообразного пульта. Стажер, сидевший на правом кресле, покосился на лежащие перед старшим диспетчером старенькие наручные часы с вывернутыми наружу внутренностями и пренебрежительно сморщился. Мол, нашел дед чем заняться — лучше б какой заранее скачанный фильм посмотрел или музыку послушал. Полное погружение, конечно, на дежурстве запрещено, но можно ведь и в древнем 3D помучиться. Все одно подобная убогость лучше, чем в подобном, совсем уж дремучем антиквариате ковыряться… Евсей Сергеевич уловил брошенный в его сторону взгляд и едва заметно усмехнулся в усы. Ничего-ничего, вот отсидит милок дюжину подобных дежурств, сам начнет искать, чем руки занять. Тупо зависать, пялясь в экран или слушая «пубумканье», как он называл современную музыку, конечно, можно, но не сутками ж подряд. Дежурство же тянется двенадцать часов, большую часть которых заняться совершенно нечем. Вот потому-то большинство диспетчеров и заводят себе «хобби», занимающее не только органы зрения и слуха, но еще и руки с мозгами. Кто вяжет, кто плетет, кто фигурки из дерева вырезает, ну а он, эвон, ремонтом старинных механических часов увлекся… Евсей Сергеевич аккуратно отодвинул в сторону часы с сильно выцветшей надписью «Командирские» на циферблате и, кивнув подбородком в ту сторону, куда отлетела деталь, повелительно произнес:
— А ну-ка, молодой, сбегай, принеси мне пружинку.
Стажер недовольно покосился на старшего диспетчера и, нехотя поднявшись, побрел в сторону дальнего конца пульта. Но едва он успел ухватить пружинку, как дверь в диспетчерскую с легким шелестом ушла в стенку и в освещенном приглушенным светом помещении появилось новое лицо.
— Ну и что у нас плохого? — уныло поинтересовался вновь прибывший, входя внутрь и стягивая с себя слегка влажную куртку. Евсей Сергеевич аккуратно снял с носа солидный и явно антикварный оптический прибор, представлявший из себя очки, прямо на правом стекле которых была присобачена этакая объемная нашлепка-окуляр, сложил дужки, достал из кармана очешник, открыл его, умастил внутрь вышеупомянутый оптический прибор и только после этого развернулся в сторону говорившего.
— Вот смотрю я на тебя, Василий, и все понять никак не могу. Ну чего ты все время каркаешь? Ворона какая-то, право слово.
— Не ворона, а реалист, — пробурчал тот, обходя Евсея Сергеевича и направляясь ко второму креслу, все еще хранящему тепло задницы стажера. — Страна у нас такая. Ничего хорошего в ней никогда произойти не может. Одни глупости и катастрофы.
— Вона как… — Евсей Сергеевич покачал головой. — И чего ж ты тогда до сих пор в этой стране, а не уехал куда, где этих глупостей и катастроф не случается?
— А кому я еще нужен со своей профессией-то? — огрызнулся Василий. — Я ж не олигарх и не из этих, как их… заднеприводных творческих, которым везде рады. Только жопу подставляй, и сразу же в гении и кумиры запишут. Вот и мучаюсь тут с вами…
Евсей Сергеевич хмыкнул в усы и покачал головой:
— А чего ж сам-то не подставишь? Ежели все так просто-то? Штаны снял — и в дамках!
Василий боднул насмешливо смотрящего на него старшего оператора контроля пространства угрюмым взглядом и, тяжело вздохнув, с сожалением произнес:
— И как ты еще не сдох-то, Сергеич, от своего яда? Похоже, он на тебя, как на кобру, не действует. А-а-а… ну тебя! Давай смену сдавай и катись отсюда. Нехрен мне настроение портить.
— Нет у меня никакого яда, Василий, — усмехнулся Евсей Сергеевич, — одно недоумение. Вот вроде со стороны на тебя глянешь — все у тебя нормально. Работа — хорошая, интересная, жена умница, только все с тобой мучается… детей трое — все обуты, одеты, накормлены. Старшая, как я знаю, в музыкальной школе занимается и бальными танцами. Средний — в математической школе учится и на самбо ходит. Младшенькая пока в саду, но жена твоя тоже ее на какие-то развивающие курсы таскает каждый день, почитай. Зарабатываешь, оно, конечно, не как олигарх какой, но, насколько я знаю, семью каждый год то в Сочи, то на Мадагаскар, то вон, как в прошлом году, на Луну отдыхать возишь. Или забыл, как у меня, ну, как замсекретаря профкома, льготную путевку оформлял? Катер, опять же, для рыбалки имеется… А как тебя послушать, так нет у тебя никакой жизни — одни страдания, — после чего махнул рукой и, протянув руку, щелкнул торчащим на пульте слева от него тумблером включения системы общего оповещения.
— Дежурный оператор СКП12М237, регистрационный номер КАКМ22/117 приступил к передаче дежурства. Просьба воздержаться от несрочных сообщений до 8.11.
Василий в ответ на его спич скривился, но поскольку процесс передачи дежурства уже стартовал, не стал огрызаться, а двинулся по привычной и не раз отработанной схеме, бросив в свой микрофон:
— Дежурный оператор КАКМ22/311 приступил к приему схемы. Положение на опорных орбитах?
— Количество постоянных объектов в секторе СКП12М237 на орбите ВО1–223, переменных 106, — привычной скороговоркой начал Евсей Сергеевич. — Из них с массой покоя выше 10 000 тон — 23, выше 100 000 тонн — нет, на орбите ВО-2–123, переменных 94, из них с массой покоя выше 10 000 тонн — 14, выше… — Процедура передачи дежурства размеренно текла аж до пяти минут девятого, когда неспешно течение сдачи/приема дежурства было внезапно нарушено ревом тревожных баззеров. Все, кто находился в диспетчерской, замерли, уставившись на большой экран, на котором тревожно мигала ярко-алая дуга, в которую перекрасилась полоса, обозначавшая четвертую высокую опорную орбиту. Ну еще бы — последние раз пятнадцать баззеры включались только лишь и исключительно во время учений. А последнее реальное срабатывание тревожной сигнализации системы контроля пространства произошло не менее шести лет назад. И на тебе…
— Ну а я что говорил! — И все закрутилось. Евсей Сергеевич глухо ругнулся под нос и, пробежавшись пальцами по сенсорному пульту, заорал в микрофон:
— ЧСКК «Wielkoludzie», срочно займите отведенный эшелон, повторяю, ЧСКК… — Процесс передачи дежурства пока не завершился, так что вся ответственность по-прежнему оставалась на нем.
— Не-а, хрен получится, — злорадно выдал Василий. — Это ж поляки, они, похоже, вчерашнюю победу своей сборной в континентальном кубке празднуют. Упились там все. И автомат предупреждения столкновения отключили, чтобы не верещал на пьяные головы…
Старший диспетчер боднул его сердитым взглядом и повелительно махнул рукой. Да, дежурным диспетчером оставался именно он, но в случае резких изменений обстановки Евсей Сергеевич, как старший диспетчер, имел полное право задействовать любые дополнительные силы. А сейчас это явно было необходимым. Уж больно паршивая расчетная траектория у съехавшего с отведенной ему орбиты ЧСКК вырисовывалась. Василий, несмотря на все свое занудство и нытье, все-таки был профессионалом. Ну дык других в диспетчерской и не держали… Так что включился он практически мгновенно.
— ССКМт 2217 — срочно перейдите в эшелон 2–88… ТВС «Шпиналь-33» переход в эшелон 2–65 запрещаю, срочно вернитесь на прежний эшелон… всем орбитальным объектам в секторах 2/22/311, 2/22/311 и 7/22/311 немедленно прекратить переход на парковочные орбиты, стабилизировать параметры и перейти в режим ожидания… — Стажер смотрел на все это разинув рот и судорожно стискивая пружинку в потном кулаке. Ибо перед ним сейчас разворачивалось завораживающее зрелище работы двух профессионалов, которые будто фэнтезийные маги одним голосом и движениями пальцев перебрасывали с орбиты на орбиту множество «летающих гор» весом в сотни тысяч тонн из стальных, алюминиевых и титановых сплавов и сложнейших многослойных композитов. И это было… завораживающе.
— ЧСКК «Wielkoludzie», ответьте диспетчеру, — последний раз воззвал в микрофон Евсей Сергеевич, после чего решительным жестом ткнул пальцем в пару иконок на сенсорном пульте и жестким голосом произнес — Дежурный оператор СКП12М237, регистрационный номер КАКМ22/117, вызывает объект «Мухолково», — после чего замолчал, ожидая ответа.
Василий же, услышав эти слова, дернулся и, резко развернувшись к старшему диспетчеру, произнес севшим голосом:
— Ты чего, старшой… там же люди!
— Вот именно, — сердито рявкнул Евсей Сергеевич и ткнул пальцем в мерцавшие экраны, буквально засиженные отметками орбитальных объектов, как немытое стекло мухами, большая часть из которых мигала тревожным желтым и оранжевым цветом, означавшим, что они находятся в опасном секторе. — Там — люди. И много. На одной ВО-4 в зоне возможного столкновения шесть орбитальных объектов. Из них на двух не менее чем по три десятка человек — на ЧОО 04/227 только вечером новая группа туристов прилетела. Я сам челнок к ним вчера вечером подводил. А на ЧОО 04/032 аж две смены металлургов — отработавшая и новая. Сменившихся челнок с орбиты только через пять часов вниз везти должен. Сам посчитаешь, сколько трупов будет, если эти алкоголики, которые, между прочим, грубо нарушили все инструкции, поскольку система предупреждения столкновений у них точно отключена, вовремя не проснутся.
Василий вздрогнул и слегка втянул голову в плечи, пробормотав:
— Да я че, я ж ниче. Все ж по инструкции…
— Вот и я о том, — вздохнул старший диспетчер, — как бы там ни было, ближайших соседей ты, слава богу, распихал как смог, так что давай-ка продолжай их вызывать, пока с «Мухолково» говорить буду. Минут пять люфта у этих пьяниц еще имеется…
Все знают, что космос — это просто умопомрачительные скорости и не менее умопомрачительные расстояния. Даже просто для того, чтобы подняться на орбиту Земли и остаться на ней, нужно достигнуть первой космической скорости. А это, на минутку, 7.9 километров в секунду. При том, что скорость звука составляет всего лишь 0.331 километра в ту же самую секунду. То есть почти в 24 раза меньше. А ведь все мы считаем сверхзвуковой самолет очень быстрым! Так что расстояние, скажем, в сто километров для орбитальных условий — это вроде как локтями толкаться. Двенадцать с половиной секунд полета… Но все дело в том, что подобные скорости орбитальные объекты развивают именно относительно Земли. Потому что для того, чтобы им удержаться на орбите, они должны нестись над планетой по такой дуге, которая будет точно повторять изгиб планетарного шара. Т. е. двигаться по орбите — это как бы постоянно падать, но так, чтобы из-за достигнутой скорости Земля при этом тоже как бы постоянно убегала вниз… А вот относительно друг друга орбитальные объекты чаще всего двигаются гораздо медленнее. Десятки и единицы метров в секунду. А при наибольшем сближении скорость может упасть и вообще до сантиметров в минуту. Но это уже когда объекты сходили почти совсем вплотную… Так что до момента столкновения с ближайшим орбитальным объектом, с которым ЧСКК «Wielkoludzie» должен был неминуемо столкнуться, время еще было.
— «Мухолково» на связи, — громко пророкотало в динамиках, а в левом верхнем углу центрального экрана возникло окно, в котором проявилось изображение мужчины в военной форме. Василий замер. Евсей Сергеевич тоже на мгновение заколебался, неуверенно покосившись на мигающую красным дугу четвертой высокой опорной орбиты, после чего решительно тряхнул головой и произнес:
— Говорит дежурный оператор СКП12М237, регистрационный номер КАКМ22/117. У нас чрезвычайная ситуация на ВО-4. ЧСКК «Wielkoludzie» начал несанкционированный сход с орбиты, по траектории, ведущей к столкновению со стационарными орбитальными объектами. На вызовы ЧСКК не отвечает. Попытки коррекции траектории не зафиксированы. Считаю необходимым для устранения угрозы привести в действие протокол «Свет».
— Принято, — после короткой паузы отозвался военный. — Протокол «Свет» запущен. Прошу передать текущие координаты объекта, расчетную траекторию, предложения по наиболее безопасным конусам разлета обломков и точное время окончательного принятия решения.
Нет, все эти параметры военные могли бы «снять» и сами (что они, кстати, скорее всего, давно сделали), но ответственным за состояние дел в своем секторе орбит все-таки оставался дежурный диспетчер. Так что, поскольку никакой войны или нападения в настоящий момент не было и не предвиделось, решение о выстреле, призванном ликвидировать образовавшуюся на четвертой высокой опорной орбите угрозу, принимать должен был тоже он. Со всеми вытекающими из этого последствиями… На мгновение в диспетчерской повисла напряженная тишина, как вдруг… в динамиках раздался хриплый голос:
— Kogo kurwa przyniуsі?
— Ответили! — выдохнул Василий и тут же ожесточенно лупанул по клавише сенсорного пульта, включая автопереводчик, после чего зло заорал: — Вы там совсем мозги пропили, пшеки долбаные? А ну быстро включили автомат предупреждения столкновений, курвы!
— …automat unikania kolizji, dziwki! — эхом донеслось из динамиков.
— О, matko boska! — испуганно пискнуло из динамиков. После чего тревожно мигающая дуга четвертой высокой опорной орбиты сначала прекратила мигать, затем перекрасилась из красного в оранжевый, почти сразу начавший постепенно выцветать в желтый. Евсей Сергеевич подождал пару минут, после чего повернулся в сторону все еще висящего в углу экрана изображения военного и с явственно слышимым облегчением в голосе громко произнес:
— Внимание, «Мухолково», говорит дежурный оператор СКП12М237, регистрационный номер КАКМ22/117. Вследствие выхода на связь экипажа ЧСКК «Wielkoludzie» и предпринятых после этого действий диспетчерского пункта контроля пространства СКП12М237 констатирую, что применение протокола «Свет» в отношении ЧСКК «Wielkoludzie» потеряло необходимость. Прошу произвести отмену данного протокола. — Столь витиевато пришлось выражаться вследствие того, что все сказанное и сделанное в этой диспетчерской скоро неминуемо станет предметом рассмотрения в суде. Те ребята, которые сейчас находились на борту ЧСКК «Wielkoludzie», совершенно точно очень сильно вляпались. Вообще-то, на предупреждение подобных ситуаций работало очень много систем, программ и строжайших статей уставов. За безопасностью ближнего космоса человечество следило очень и очень пристально. И любые нарушения здесь пресекались со всей строгостью закона. Никаких космических «чернобылей» и «фукусим» здесь никому не надо было. Но как сказал в свое время гениальный Эйнштейн: «Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая, при этом относительно бесконечности первой из них у меня имеются сомнения»…
— Принято. «Мухолково», отключаюсь, — отозвался военный, и окно с его изображением плавно истаяло с центрального экрана…
— Ну что, молодой, как первые впечатления? — с легкой усмешкой поинтересовался Евсей Сергеевич у стажера, когда они, сдав наконец столь нервно закончившееся дежурство и пройдя парочку кругов ада предварительного расследования, добрались-таки до терминала вызова колесного беспилотника. Тот поежился и бросил:
— Да уж, жесткач полный. Лучше б я в театральный пошел…
— В театральный, говоришь… — хмыкнул Евсей Сергеевич. Потом что-то прикинул и, повернувшись на пол-оборота влево, рубанул рукой.
— Вон там, где-то в двух с половиной тысячах километров южнее, есть развалины города Вавилон. Слышал про такой?
— Ну да, — недоуменно отозвался стажер.
— Так вот, этот город еще четыре тысячи лет назад был очень развитым центром цивилизации. Центром торговли, ремесла, науки, культуры. И на его улицах и площадях, а также в особняках богатых горожан и дворцах знати сотни актеров, факиров, заклинателей змей, талантливейших танцовщиц и искуснейших арфисток развлекали толпы людей, приводили в восторг тысячи ценителей и заставляли рукоплескать сливки тогдашнего общества, вплоть до царей и цариц… — Он на мгновение замолчал, как будто бы не замечая недоуменного взгляда, которым уставился на него стажер, после продолжил: — Так вот, могу тебе сказать, что все они, так же как и нынешние, старались сыграть свои роли «на уровне лучших классических образцов», или «предложить новое прочтение классических образов», «бросить вызов замшелым традициям», либо «предложить новое видение классики», или там «задать новые тренды в искусстве». Не знаю, как это звучало на аккадском, но смысл был именно таким. Уж можешь мне поверить. — Евсей Сергеевич сделал короткую паузу, после чего закончил. — А потом они возвращались в свои глинобитные хижины, освежались кувшином кислого самобродного пива, после чего валились на лежак из нарубленного тростника и засыпали, укрывшись грубой дерюгой.
— И что? — не понял стажер.
— А то, что, какими бы они талантливыми ни были, сколько бы сил ни отдавали своему творчеству, до каких бы вершин самореализации ни поднимались… ничего вот из этого они изменить не могли. Никак. Вообще. Потому что есть дело и ДЕЛО. Я и сам иногда с удовольствием в театрец выбираюсь и приятную музыку под шашлычки послушать не против. Но если ты хочешь, чтобы после тебя человечество, все мы, люди, стали сильнее, умнее, научились новому, ранее для нас недоступному, а то и вообще немыслимому, и пошли дальше, к звездам, а там и к новым галактикам, то театральный — это точно не твой выбор. А дальше — решай сам…
Первый подкативший беспилотник уже давно увез старшего диспетчера, а молодой стажер все еще продолжал стоять на остановке, переводя взгляд то на звездное небо, то поворачивая голову в ту сторону, в которой за две с половиной тысячи километров сиротливо возвышались среди пустыни развалины древнего Вавилона…
Вера Огнева Марсианский синдром
Тирренская Патера
23.04.2216
Вчера он вернулся.
Я почти не ждала — устала ждать. Больше полугода мои сообщения не находили адресата. Месяц прошел с объявления мира, когда корабли марсианского флота спустились с орбиты. Кто-то вернулся домой, кому-то звонили, писали, а мой коммуникатор молчал. Порог был пуст.
Тоскливый вечер выдался. Песок хрустел на зубах — верный знак скорой бури. Небо затянуло ржавой дымкой, солнечная точка ползла к горизонту, за похожие на черных гусениц сцепленные вагончики. Шаттл местного НИИ свернул батареи и кренился в сторону космодрома. Воздушный купол над поселением окрасился лиловым, стал радужной пленкой, готовой лопнуть.
А у дома затормозил потрепанный солнцекар.
Вадим вышел из машины, опустил сумку в пыль и стал озираться, как зверь на непривычном месте. Смерил взглядом низенький забор, флюгер в виде петуха и пустой ящик, в который мы думали посадить первые устойчивые образцы, когда они появятся. Живые цветы у крыльца, разве это не прекрасно? Куда лучше пластиковых, которыми украшают дома в поселке. Но Вадим смотрел на все это и, кажется, не узнавал. И сам выглядел знакомым и одновременно другим, как в зыбком сне.
Я позвала. Вадим вскинул голову, сощурился, — будто взял меня на прицел. Терпеть больше не было сил. Сбежав по мерзлой дорожке, я скользнула за калитку и обняла его. Крепко обхватила руками, боясь, что он может исчезнуть, как мираж.
Вадим оказался настоящим. Немного другим. Вместо рук бледные протезы: все в разъемах для оружия и невесть чего еще, пальцы неестественно длинные, с выпуклыми шарнирами-суставами. Лицо жесткое, выдубленное солнечным излучением, тело сухое и жилистое. И шрамы… Бугристые черви на скулах и шее, в вырезе утепленной рубашки. Мне тут же захотелось коснуться, стереть их пальцами.
— Господи, это ты, это и правда ты! — Я зарылась лицом в ворот его куртки, пряча слезы. Она терпко пахла мужским телом, машинным маслом и металлом. Как давно я не слышала этот запах… Даже мурашки сбежали по спине.
Вадим взял меня за плечи и отстранился.
— Давно не виделись, — сказал и как-то странно, криво усмехнулся, не размыкая губ. Снова возникло ощущение нереальности. Раньше Вадим не усмехался. Раньше он улыбался, широко и открыто.
Флюгер-петух провернулся с долгим скрежетом. Вадим проследил за ним, как кошка за мышью.
— Это что? — спросил.
— Нравится? — Я была так довольна, что он заметил. — Совсем как на старых земных домах.
Вадим едва заметно скривился. Протянул руку, содрал петуха с крепления и бросил в песок.
— Некрасиво, — коротко пояснил он, закинул сумку на плечо и двинулся по дорожке, когда-то выложенной им самим. Ссутулившись, размашисто чеканил шаг. Ноги ставил широко, как делают все пилоты.
Этой походки у него тоже не было.
Дом у нас небольшой. Вагончик, какие выдали всем бездетным поселенцам, разделенный занавеской на зону кухни, которую я приспособила под лабораторию, и жилую часть со сросшимися в тесноте кроватью, столом и двумя стульями. В стену встроен телевизор.
Я нажала кнопку термопота, сдернула со спинки стула забытый лифчик и быстро сунула его в ящик с бельем. Села за стол. Вадим уселся напротив и неловко ухватил еще пустую кружку, покрутил в биометаллических пальцах. Казалось, ее он тоже вот-вот сомнет, как смял пластинку флюгера.
— Рассказывай, — попросила я.
— Да нечего рассказывать, — бросил он в ответ.
— Ну как нечего? Где ты был? Что видел?
Я улыбнулась, не зная, что еще можно сказать. Тронула его руку, но Вадим убрал ее под стол. Поморщился и молча увел взгляд к окну.
Поговори со мной, мысленно попросила я. Ну же, поговори со мной. Я столько месяцев просидела в тишине и вязком одиночестве, наедине с очистителями, колбами и ростками. Столько часов, минут, секунд мечтала, что ты вот так вернешься и прижмешь меня к себе. А ты пришел и молчишь, как чужой.
— Землян видел, — сказал Вадим наконец, словно услышал мои мольбы. — Корабль разгерметизировался, они нас подобрали. Месяцев пять в плену провел, только выпустили.
Так вот почему он не мог со мной связаться! Странно, но я почувствовала облегчение. Все оказалось гораздо проще… Или сложнее, если подумать. Но я была рада, что сложилось именно так. Лучше очутиться в плену, чем умереть.
— Они… Они хорошо с тобой обращались?
Вадим дернул уголком рта, глянул на закипающий термопот на кухонном столе.
— Аварийные костюмы есть? Баллоны кислородные? — спросил вдруг. Я даже растерялась от такого вопроса. Причин для беспокойства не было: оксистанция поселения работала исправно, работа купола давно налажена. Установки проверяли каждый день. Последний случай утечки случился во время войны, и только потому, что установку повредили взрывом. Но сейчас же мирное время, сейчас же все закончилось…
— Да, есть.
— Где?
— В ящике на заднем дворе.
— Их дома надо хранить.
Он был прав, по правилам все аварийное оборудование следует держать в вагончике, под рукой. Но тот шкаф понадобился для реагентов и образцов. Ничего же страшного не случилось…
— Хорошо, я переложу.
Вадим снова кивнул, смял губы в жесткую линию. Задумчиво проследил пальцем темный след от шлема. Дважды пропищал термопот, и я кинулась наливать чай и заваривать еду. Руки так тряслись, что я чуть не рассыпала порошок из банки.
Мне кажется, дело в усталости. Конечно, Вадим устал: столько пережил, почти год был вдали от дома, каждый день на грани. Мне нужно понять. Быть мягче. Главное, что он вернулся.
Главное, что он снова рядом.
Чуть позже я потянула его к кровати, опустилась на покрывало. Вадим замер между моих ног, глядя сверху вниз из-под опущенных ресниц. С его лица не сходило настороженное выражение, будто он совсем не знал, что последует дальше, и подозревал что-то недоброе.
Он снял рубашку, затем футболку, обнажил ожоги, пятнавшие грудь. Перевернул меня на живот, лицом в простыни. Стало тяжело дышать. Я попыталась вывернуться, но он не дал, придавил ладонью макушку. Прикосновение холодных пальцев протеза не было приятным, но я терпела. Не хотела обидеть.
После Вадим сел у окна смотреть на нимб шлюза на вершине купола, на небо с точками звезд и орбитальных станций. Так и не лег спать.
Я тоже не спала, меня ломило от боли. Не так я представляла себе нашу встречу, совсем не так. Может, он на меня обижен? Почему не рад?
Снова воцарилась долгая тишина, какая бывает только на Марсе, — лишь свист ветра и лай собаки у подножия соседнего гребня. На миг показалось, будто я вновь оказалась одна. Будто окоченела, втягиваю последний воздух, оставшийся в вагончике, и скоро погружусь в долгий сон.
Но я не могу винить Вадима. Он — герой Первой Марсианской, улетел на орбиту одним из первых, столько пережил. Он имеет право замыкаться в себе и злиться.
А я выдержу. Сделаю это ради него.
29.05.2216
Дома нашего поселения выстроились у подножия гребня ровными рядами, как шеренги солдат на базе: первая, вторая, третья. Есть дома-вагончики, как у меня, есть постоянные постройки — крепкие, с плоскими крышами и убежищами в подвалах. На улицах людей не видно, лишь изредка промелькнет тень. Тихо, глухо.
Тишина в Патере особенно глубока. В северной Новой Москве, откуда я родом, звучат голоса и смех, часто взлетают корабли, играет музыка, приглушенная гулом установок для синтеза воды и энергоблоков. Жизнь тихонько бурлит, как вода под крышкой. А здесь… Здесь я слышу лишь собственные мысли.
На краю поселения темнеет армированная коробка НИИ: буквой «П», с шаттлом на взлетной площадке. Лет институту немного, нашу группу назначили в Патеру за два года до войны. Только и успели, что взять образцы и наладить работу купола, как половину наших призвали. Вообще филиалы исследовательского института есть в каждом поселении, в конце концов, мы же исследователи. Мы, марсиане. Цель каждого из нас — каждого поселения, будь оно русским, иранским или японским, — исследовать, сделать Марс пригодным для жизни. Наши родители, первый поток колонистов, хотели создать мир, свободный от политики, мир науки.
Если бы они только знали, что человеческая природа останется прежней даже вдали от перенаселенной жаркой Земли.
Если бы они видели нас, придавленных, искалеченных войной, и все эти передачи из Главного штаба Аркадии. Военных, с английской непробиваемой уверенностью вещавших с экранов про независимость и спасение марсианских ресурсов. Они бы сразу заметили, поняли, к чему все идет.
А мы не замечали. Забыли, что каждый второй приписан к МВКС и проходил курс боевой подготовки. Глупость, конечно. В итоге Земля бомбила всех: и военных, и исследователей. Наши мужчины и женщины замерзали в открытом космосе, сыпались из подбитых кораблей, как биокорм из банки. Наши города горели, разлетались радиоактивной пылью.
Отсюда, из Патеры, война казалась далекой и ужасной, как документальный фильм о Земле. Иногда, в особо пыльные дни, подача электричества прерывалась, и я боялась, что, кроме нашего поселения, на планете ничего не осталось. Что все занесло песком. Что Вадим не найдет нас, когда вернется с орбиты, потеряет в рисунке марсианского пейзажа.
Сейчас, когда пишу, тишина вновь наваливается, вязко обволакивает, заполняет легкие, отчего тяжело дышать и ладони потеют. Сердце сбивается, хочется кричать, бежать… Помогает только прикосновение к Вадиму. Сейчас я могу это сделать без страха — он спит, закутавшись в одеяло, точно в кокон. Спит беспокойно: глаза мечутся под веками, одна рука что-то сжимает под подушкой, быть может, пистолет. Но все-таки он красив, несмотря на шрамы и злое, жесткое выражение лица.
Самый близкий человек.
Мой якорь в песках Патеры.
Теперь он не зовет меня по имени. Он вообще меня не зовет. Почти не разговаривает, мало ест, несколько раз в день проверяет средства первой помощи. Выходит из дома редко, чаще сидит в кресле — может, из-за болей в спине или общего изможденного состояния. В эти моменты он покидает меня. Взгляд устремляется вдаль. Не на лабораторный корабль с парусами-батареями, которые блестят, отражая солнечные лучи, не на гребни Патеры, а куда-то в космическую тьму, где погибли его товарищи.
Может, он ждет возвращения земных кораблей? Или что за ним прилетят. Спустится военный транспортер, выжигая дюзами круги на песке, откроется шлюз, выйдут парни в скафандрах и снова увезут его на базу.
Иногда он хмурится, что-то ищет в планшете. Иногда я слышу удар кулака о стол — значит, Интернет снова пропал. Связь с земной сеткой оборвалась еще в начале войны, а марсианская работает так себе и только когда есть электричество. И что такого срочного в том планшете? От вопросов Вадим отмахивается, сам ни о чем не рассказывает. Не знаю, что мне делать.
У многих такое, сказала Елена Николавна из пункта медпомощи. Всему виной посттравматический синдром, усугубленный нейроимплантами, которые встраивают для усиления рефлексов и управления кораблем. То ли что-то с ними происходит в невесомости, то ли они изначально с браком — кто знает, как их собирают корейские поселенцы из Маринер? Многих солдат мучают мигрени, перепады настроения, приступы агрессии. У некоторых прошло, сказала она. Заметны улучшения. Исследования показали. Заменить? Нет, его не заменить, он уже сросся с тканями, слишком велик риск повредить мозг.
Это мало утешило. Я вообще не хотела идти в ее будку с забеленными иллюминаторами — первый год в Патере отмечалась там каждую неделю, наблюдалась с астмой и нарушениями сна. И хочу сказать, что психолог из Елены Николавны так себе. Потому скупость ее ответов меня совсем не удивила. С командованием русского отделения МВКС меня не соединяют, просят отправить заявку на почту. Я отправила, отправляю каждый день, но ответа нет.
Никто на Марсе не в силах нам помочь — не в силах или попросту не заинтересован. Я тоже не могу найти выход и ненавижу себя за это.
Вадиму все хуже.
Я постепенно забываю, каким он был раньше.
07.05.2216
Сегодня я дежурила. Дождалась, пока солнце выглянет из-за горизонта и снаружи станет теплее, и нехотя влезла в скафандр. У шлюза снова накатила тревога: беспричинная и жадная, как черная дыра. Я старалась дышать глубоко, до шума в наушниках, но это не помогало. Энергоблоки купола вибрировали, песок медленно сползал с их корпусов, осыпался с хромированных боков. Тестер подмигивал зеленым, и данные на экране были в пределах нормы, а я не могла успокоиться. Все время чудилось, что кто-то стоит на гребне и тяжело смотрит в затылок. В наушниках слышалось хриплое бормотание.
Конечно, когда я оборачивалась, рваная кромка дюны пустовала. Над ней лимонно желтело рассветное небо. Ноги вязли в песке, периметр поселения казался бесконечным, а воздух из баллона — слишком жидким. Сколько раз я проделывала этот путь? Сколько раз он приходил ко мне во снах: равнина дыбится и смыкается над моей головой, а я бегу, и ноги вязнут, проваливаются по колено. Иногда из-за горизонта выстреливают черные галочки истребителей, и поселение расцветает яркой вспышкой. Радиоактивная пыль смешивается с песком.
Детские страхи. Я должна с ними справиться.
После обхода я занималась ростками пшеницы. Они уже подвяли, не топорщились зеленой щеткой, но я добавила новую подкормку в песок в контейнерах. Думаю, она должна помочь. Почва Патеры отличается от Северного полушария, где смогли вырастить морозостойкие сады, нам приходится начинать с нуля. К тому же пыль лезет везде. Устилает красноватым налетом посуду, набивается в воздушные фильтры, ежемесячно выводя их из строя. Скапливается на образцах, из-за чего те погибают. Новый мир вытесняет нас, как может. Мы сопротивляемся. Непрерывная борьба, что же окажется сильнее — марсианская природа или наше упорство?
Я, как ученый, ставлю на упорство. Должен быть способ выращивать растения в местном грунте. Определенно должен быть, мы в НИИ значительно продвинулись в разработке. Еще полгода, и у нас будут свои овощи и фрукты. Смогли же в Объединенной Европе, значит, сможем и мы. Любую ситуацию, даже самую ужасную, можно изменить к лучшему. Главное, сохранять холодную голову и следовать плану.
Об этом я напоминаю себе, когда общаюсь с Вадимом.
— Пообедаем? — спросила я, не отвлекаясь от работы. — Мне последний образец остался.
Вадим, как всегда, не ответил.
Высадив последний саженец, я поставила пульверизатор и потянулась за термокрышкой от контейнера. Та выскользнула из пальцев, чуть прокатилась по столу и громко упала на пол. Тут же загрохотало из жилой зоны. Занавеска отдернулась, и на меня нацелилось дуло пистолета. Я оцепенела, забыла, как дышать. Только и могла, что смотреть в черную точку, из которой вот-вот вылетит пуля.
— Потише можешь? — проворчал Вадим, поняв наконец, в чем дело, и неторопливо убрал пистолет в кобуру. Я выдохнула от облегчения. На один краткий миг подумала, что он выстрелит, такое дикое у него было лицо.
— Конечно. — Подняв крышку, я обработала ее антисептиком. Пистолет так и притягивал мой взгляд. — Извини.
Вадим не ответил. Нас снова разделили тишина и занавеска.
Теперь я стараюсь вести себя тише. Крадусь по дому на цыпочках, оглядываюсь. Проверяю, не мешаю ли.
Чуть позже, когда Вадим ушел в ванную, я заглянула в его планшет. На рабочем столе были открыты несколько окон. Первое — статья под названием «Правила поведения при ядерном ударе с орбиты». В других перечень погибших, марсианские зоны отчуждения, что делать с мигренями, влияние резкой разгерметизации корабля на организм.
Как же сильно Вадим боится! Его мысли заняты пережитым ужасом. Его тело — напоминание войны и плена, источник боли. Как тут вернешься к прежней жизни?
Надеюсь, когда-нибудь мы сможем это сделать.
12.06.2216
Странно, но сейчас мне очень легко писать об этом, хотя всего час назад я думала, что покончу с собой.
Теперь мне спокойно.
Теперь у меня есть план.
Все началось с новостной передачи. Показывали повторное открытие шахт, землян на их фоне, ленточки, флаги, цитаты из новых соглашений по экспорту. Затем репортаж с годовщины поселения городка на юге, какие-то мексиканские пляски. После тональность изменилась. Пестрые костюмы уступили подтянутому ведущему в военной форме, а на фоне за его спиной показали что-то темное, растекшееся и размытое цензурой.
Я не сразу поняла, что вижу человеческие останки.
«Найдены тела мужчины, женщины и двоих несовершеннолетних…» — сказал ведущий. Я покачала головой. Убийство. Неужели кому-то на Марсе не хватило войны?
Вадим тоже следил за репортажем. Его изможденное лицо не выражало эмоций.
«…Следствие полагает, что убийство совершено хозяином дома, Рикардо Бовио, капитаном Пятьдесят Первой дивизии МВКС в отставке. Он выстрелил в жену и детей из строительного расщепителя, после убил себя. Незадолго до происшествия у него диагностировали хроническую депрессию и…».
Я выключила телевизор. Еще несколько мгновений Вадим продолжал смотреть в пустой экран, затем опустил взгляд. Пальцы заскользили по планшету. Вновь ускользнул в Сеть. Смотреть на это не осталось сил.
— Как думаешь, сможешь выйти на работу в конце лета? — Я не хотела давить, но прозвучало все равно натянуто. — Ты же герой войны, тебе с радостью предоставят место в НИИ. Нам требуются техники, грузчики…
Колкий взгляд Вадима приковал меня к месту.
— Я что, похож на грузчика?
В таком состоянии и правда не походил. Лишь бы не подумал, что я над ним издеваюсь. Просто… Просто марсианин должен работать, это в нашей крови. Выживает лишь то поселение, где все трудятся на благо общего дела. Особенно если речь идет об отдаленном поселении вроде нашего.
— Это же для начала, — я постаралась исправить положение. — Потом мы найдем что-то другое. Может, переедем. Ты бы хотел переехать? Куда-нибудь на север, а? Было бы здорово.
Я предложила еще много чего — вывалила все, о чем думала последние дни. Вадим внимательно меня выслушал.
— А смысл? — ответил в итоге и почесал след от шлема. Эта длинная полоса от уха до кадыка, давняя мозоль, не давала ему покоя. Вадим все время трогал ее, словно она зудела.
— Смысл в том, чтобы жить дальше. Все ведь закончилось. Мы заключили мир, теперь пора быт налаживать. — Я попыталась улыбнуться, но улыбка упорно бежала с лица. — Помнишь, мы детей хотели? Дом построить…
Вадим неуловимо изменился. Теперь он походил на взведенное ружье.
Он вскочил, грохнув стулом, придвинулся в два шага. Ухватил меня за горло, так сильно, словно не было месяцев в невесомости и плену.
— Ты что, не понимаешь?! — проорал.
Я закричала в ответ:
— Больно! Отпусти! — Стукнула его по руке, но он не отпускал. Металлические пальцы сжались, перед глазами поплыли круги. За кругами блестели оскаленные зубы.
— Не окончено ничего! Не прекратят они! Опять прилетят, через год или два. Бомбить будут, слышишь? Бомбить! Не остановятся, пока не сделают все по-своему. Ты видела, как из людей мясо делают?
Я зажмурилась, помотала головой. Нет, конечно нет, откуда мне видеть такое?
— А я видел! — Вадим все орал, будто хотел докричаться. Сжимал пальцы сильнее, казалось, кожа на шее вот-вот лопнет. — Я! Видел! Ты здесь детей растить собралась? Чтобы их взрывали? Чтобы перестреляли?
Он толкнул меня к стене, и я крепко ударилась затылком.
— Вадим, пожалуйста… — прошептала, но он не слышал. Он вообще находился не здесь, не со мной: злые глаза блуждали, не видя. Крылья носа подрагивали.
— Как они со мной обращались, ты меня спрашиваешь… — Он усмехнулся. — Знаешь, как они пытают? Сначала одно g, потом добавляют еще одно, и еще, пока тебя по полу не размазывает, пока под себя не сходишь. Кожа с костей слезает. Вот такие они, союзники с Земли. Вот такие они.
Он отпустил так неожиданно, что я села на пол. Ноги не держали. Его блестящий кулак у моего носа сжимался и разжимался. Вадим думал, ударить меня или нет. Я не видела его лица, боялась поднять голову, но знала — это так. Сейчас, если попробую пошевелиться или что-то сказать, он ударит, достаточно намека на повод.
Вадим отшатнулся, качнувшись, будто враз растерял все силы. Провел рукой по взмокшему лицу, упал обратно в кресло и затих. Я бросилась прочь, втиснулась в ванную и задвинула дверь. Ослепшая от слез, крутанула кран. Тот подался с ржавым писком, но вода не пошла. Опять перебои.
Без сил, я опустилась на крышку унитаза и уперлась лбом в податливую стенку душевой кабины. Шею саднило. Было холодно, ветер глухо бормотал за фильтром вентиляции, и в этом бормотании чудились слова, какая-то древняя марсианская брань.
Я чувствовала себя жалкой.
Я не знала, что делать. Куда бежать, когда на сотни километров вокруг лишь пески?
Когда я вышла, Вадим уже спал, раскинувшись на кровати. Планшет лежал у его руки, красная точка тихо мерцала в углу тонированной пластины. Новое сообщение.
Конечно, я открыла. Я же должна была понять, что происходит с ним, с нами. Переписка велась с каким-то бесполым ником. Фото в чате тоже не было, пустой квадрат, но из сообщения стало понятно, что пишет женщина. Упоминались какие-то общие вылеты, какая-то ночь и «только ты знаешь, каково мне». В более ранних сообщениях Вадим тоже что-то вспоминал. Не меня, обо мне он не упомянул ни разу.
Этого было достаточно. Вернув письмо в «Непрочитанное», а планшет на кровать, я села у окна. Кресло успело промяться, принять форму Вадима. Я не была против этого.
Я против того, что другую форму принял Вадим. Форму, которую из него вылепили война и армия. Которую придала незнакомая мне женщина. Она шлет приветы из другого полушария, как будто его знает.
Ярость поднялась теплой пеной и опала. Ее уже нет сейчас, когда я пишу, глухая тишина привела меня в чувство. Спать совсем не хочется, а в голове стучит лишь одно, крутится на повторе, как сигнал бедствия.
Никто не знает настоящего Вадима.
Никто, кроме меня.
17.06.2216
Обычно «Уснику» используют в опытах над животными. Видимо, кому-то смерть во сне кажется более гуманной. Но в нашей лаборатории животных усыпляют мгновенной заморозкой, а «Уснику» я использую в своих целях — травлю ею свою бессонницу. В небольших дозах она безопасна, обычное седативное, регулирующее выработку меланина. И за время войны в шкафу скопилось количество, которым можно усыпить все поселение.
Зав лабораторией не спросила, зачем мне отгул. Меня даже потянуло начать эту тему самой, пожаловаться на плохое самочувствие, мигрени, новое обострение астмы, вроде как поставить галочку. Но решила не оправдываться. Она же не интересовалась, когда я пришла к ней с синяками на шее. Никто не интересовался, молчали все. Скользят безразличными взглядами, ждут зрелища, чего-нибудь пострашнее. Того, что можно будет обсудить.
Отвратительная черта всех небольших поселений. Но я решила не обращать на них внимания. Решила сосредоточиться на главном.
В чае «Усника» растворилась хорошо, цвет стал чуть гуще, но вкус и запах не изменились. Суррогат чая сам по себе имеет химический привкус, так что разница не была заметна.
Но, пригубив его, Вадим вздернул губу.
— Горячий.
Я ухватила кружку — лишь бы не смахнул со стола — и унеслась за занавеску. Вылила треть, долила холодной воды. Подумав, добавила еще «Усники». Та зашипела, изошла на пузырьки.
— Вот только ты так умеешь: кружка горячая, а чай холодный. — Вадим зло качнул головой, желваки так и ходили по щекам. Я затаила дыхание. Следила за его руками. Ударит?
Не ударил. Выпил часть, затем еще.
— Может, тебе прилечь? — я спросила осторожно. Лениво окинув меня взглядом, Вадим поднялся и направился в сторону кровати. Скинул ботинки, цепляя один за другой, и упал прямо на покрывало.
Через минуту он уже крепко спал.
Я осторожно перевернула его на бок. На шее под линией волос виднелась небольшая пластина. В ней два отверстия, как след змеиного укуса.
Вот он, имплантат. Маленькая сломанная штучка, пластина из биосовместимой стали. Причина нашего несчастья. Мучила Вадима, заставляла делать то, чего он сам никогда бы не сделал.
Кто меня осудит? Я пошла на это ради него. Я знаю, что ему станет легче.
С помощью отвертки я отогнула плинтус и вытащила провод от лампы, перерезанный и зачищенный на пару сантиметров. Все двести двадцать вольт, подготовленные заранее. Лампочку в светильнике я тоже испортила заранее, вдруг Вадим спросит, почему та не работает? Но он не заметил, полдня просидел у окна.
Лишь бы электричество не отключили. На часах не было и пяти, но на станции не соблюдали четкий график.
Я вытащила из нейроимпланта заглушки, сунула в открывшиеся дырочки металлическую скобку. Рука дрожала, провод дрожал вместе с ней, в опасной близости от шеи Вадима. А если я случайно промахнусь? Кольну током? От такого Вадим точно проснется и сразу поймет, что я задумала. Сразу проломит мне голову.
Я отогнала эти мысли и прицелилась.
Раздвоенная лапка провода коснулась скобки.
Долгое мгновение ничего не происходило. Затем Вадим вздрогнул, всем телом выгнулся, сминая простыни. Перекатился на спину и забился в припадке. Глаза метались под приоткрытыми веками, с губы сполз розовый червь пены. Господи, и как я забыла, что он может прикусить язык?! Непростительно!
Я с трудом вытянула провод, кинулась разжимать Вадиму челюсти. Зубы будто склеились, между ними пузырилась кровь, но пульс на шее прощупывался, мелкий-мелкий, как у лабораторных мышей. Жив. Слава богу, жив.
Сокращения мышц постепенно сошли на нет, дыхание выровнялось. Я стерла кровавую пену краем покрывала и погладила Вадима по влажному лбу.
Мой хороший. Мой родной.
Теперь ему станет лучше.
22.07.2216
Почему я не замечала, как прекрасен марсианский рассвет? Когда пыльная муть успокаивается, атмосфера становится прозрачнее. За дымкой вспухает солнце, растекается яичным желтком по краю дюн. Песок с хрустом проминается под ботинками. Чего я боялась? Не помню.
Да это и не важно.
Сегодня я опоздала с регистрацией на полчаса. Когда обошла поселение и вернулась, у шлюза меня уже ждал Иван Федорович со своей командой. Они были очень встревожены, пришлось объяснять им, что у меня все под контролем. Что запас воздуха еще оставался, в обмороки я не падала и в песках не плутала. Я просто поднималась по склону. Слушала шепот ветра.
Судя по выражению лица, Ивана Федоровича я так и не убедила. Алик тоже заволновался, толкнулся, и я провела ладонью по животу, осторожно, будто перья пригладила.
Хорошо, когда семья растет. Раньше паек выдавали раз в месяц, теперь будут дважды, нас же двое. А когда станет трое, выделят дом побольше, уже в центре поселения. Там много семейных пар с детьми, сыну не придется скучать.
Вадим проснулся к девяти, смог сам подняться и пройти к столу. Добрый знак. Он вообще выглядит гораздо лучше. Поправился, на щеках появился румянец, и воспоминания его больше не мучат — это заметно сразу. Волосы отросли, борода скрыла шрамы. Я подстригаю ее маникюрными ножничками, получается очень аккуратно.
— Доброе утро, милый, — сказала я, и Вадим улыбнулся.
— Есть будешь?
Он кивнул. Я достала миску, вскипятила воды, залила ею биокорм. Подумав, щедро сыпанула сухого молока, которое мне выписали в медпункте, и перемешала. Мужчина в семье должен быть крепким, здоровым. На мужчине нельзя экономить.
Каша получилась густая, вязкая, Вадим едва не потерял в ней ложку. Пришлось ему помочь.
— Вкусно?
Он кивнул, не переставая жевать. Снова улыбнулся, молча и бессмысленно.
Я выглянула в окно. С гребней дюн змеился песок. Петух на калитке со скрипом вращался, почти не останавливаясь, грозил слететь с крепления и винтом подняться к вершине купола. Завтра сниму его, и переберемся в убежище. Но это не беда.
Теперь все будет хорошо.
Тимур Максютов Имя твое
Док велел все описать с самого начала. Потому что он собирает материалы для исследования. Ему, мол, надо выработать алгоритм: кто из оставшихся на Земле нам сгодится, а на кого и время тратить не стоит. Я не понимаю, чего во мне можно исследовать. Но я привык делать то, что говорят старшие, не особо задумываясь над причинами. И это верно: если подающий патрубок или витки соленоида начнут вникать, зачем и как, — пожалуй, и двигатель заглохнет. А если уж ионы начнут рассуждать о том, с чего вдруг их выбрасывают в вакуум, да еще с такой скоростью, — конец полету.
Я всегда был такой: ел кашу, которую терпеть не мог; стоял справа, проходил слева и вообще соблюдал. Но иногда меня вдруг заносило. Неожиданно для самого себя срывало башню; в такой момент я мог выскочить из окна, пнуть в колено воспитателя или бросить глайдер в вираж, запрещенный инструкциями. И прийти в итоге первым на финиш.
Док намекал, что именно эти всплески и были попытками Истинного прорваться наружу, сквозь толстый слой шлака, который навалила цивилизация. Но я не хочу об этом думать. Лучше уж начну писать, как он велел.
Маму я почти не помню. Какие-то обрывки: теплый запах, теплые руки. Она стоит на коленях и обнимает меня. Мне никогда после не было так уютно и так тревожно. Потому что знал, что это — прощание. Ее плащ с круглым значком на лацкане (черная окружность с точкой по центру на белом фоне) шуршал, будто звал куда-то, торопил.
И она ушла.
Мне было десять, когда я рассказал отцу об этом воспоминании; отец разозлился, горло его набухло готовыми порваться от гнева жилами. Он кричал, брызгая воняющими пепельницей слюнями: мол, я ничего не могу помнить, потому что был безмозглой личинкой; я и сейчас дебил, а тогда вообще был еще зародышем, полуфабрикатом. Что это дурь и фантазии: он выяснит, кто меня надоумил ляпнуть этакую чушь, и вырвет провокатору кадык, но прежде выдерет ремнем ублюдка, столь похожего на чокнутую мамашу. Он начал шарить по поясу под нависшим брюхом, но потом вспомнил, что в трусах; бросился к шкафу, где у него висели брюки, и начал выдирать из петелек ремень, похожий на гладкую желтую змею. Петельки сопротивлялись (они были за меня); брюки, упираясь, сморщились гармошкой. Я не стал дожидаться результата схватки и смылся. Распахнув окно, сиганул в мокрые кусты со второго этажа; здорово отбил пятки, но времени страдать не было.
Убежал за сарай и спрятался в старой железной бочке. Там пахло ржавчиной и плесенью, по мне бегала какая-то многоногая мелочь, от чего кожа пошла пупырышками. Было холодно и мокро; отец, ругаясь, бродил по двору и кричал, чтобы я немедленно вышел, и тогда он меня убьет. Логики в этом требовании не было ни гроша; отец вообще не отличался умом, теперь-то я это понимаю.
Он испробовал разные методы: фальшиво сюсюкал, что уже меня простил и купил шоколадку, а через пять минут по визору будут мультики; но я-то точно знал, что нынче вторник, потому что вчера в школе был урок гражданственности, который по понедельникам, а мультики по вторникам не показывают, ибо постный день.
Так он долго бродил по мокрой траве, ругаясь и умоляя поочередно. Был момент, когда я едва удержался: после того как он пригрозил растоптать модель «Отважного», если я не появлюсь немедленно. Но я стерпел.
Отец ушел, а я торчал в бочке, пока не стемнело. В открытое окно визор орал про мяч на третьей линии: шла трансляция полуфинала.
Я попытался вылезти: ноги затекли и не слушались, замерзшие пальцы срывались с края бочки, и в какой-то момент мне показалась, что вся моя жизнь пройдет в этой железной, смердящей ржавчиной и плесенью тюрьме. Насосавшиеся до отвала комары не могли даже улететь: тяжело дыша от пережора, они пешком сползали с меня и отдыхали на ржавых стенках. Я совсем отчаялся и собрался захныкать; но тут женский ласковый и тревожный голос прошептал:
— Ты сможешь, ты ведь мужчина.
Я выбрался оттуда.
Прокрался в спальню: книжки мои были разбросаны по полу, планшет разбит. Под ногами хрустело. Я присел на корточки, пощупал и понял: это были обломки модели космического фрегата второго ранга «Отважный».
Я ждал выпуски с комплектацией. Прибегал к магазину, когда улицы городка были еще пусты, только роботы-уборщики тихо шуршали по асфальту, и торчал у витрины. Я собирал «Отважного» целый год. Сдавал бутылки и даже подворовывал из отцовского бумажника.
Теперь от фрегата остались только хрустящие, как кости павших, ошметки.
Я не стал плакать.
Визор продолжал орать. Не заглядывая в гостиную, я и так знал, что отец дрыхнет, откинувшись головой на спинку дивана; нашлепка модема на его виске моргает в такт воплям комментатора. Грязная майка едва не лопается на брюхе, две бутылки из-под пива валяются на полу, а третья выпала из его волосатой лапищи на диван и вытекла.
Он всегда брал три бутылки, потому что третья бесплатно.
В кладовке стояла старая канистра с горючим для аварийного генератора. Запах бензина всегда нравился мне; от него почему-то чудился ветер в лицо, пахнущий полынью, и рев мотоциклетного мотора — я не знаю, откуда у меня взялось такое воспоминание. Наверное, из исторического фильма.
Горючее булькало и наполняло дом восхитительным ароматом. Вспыхнуло, лопнуло раскаленным шаром в лицо: я едва успел отскочить, но брови все-таки опалил.
Добежал до кустов, когда завыла сирена и зашипели струи пламегасителя: я забыл про автоматику и не выключил ее.
Сейчас-то я понимаю, что к лучшему, а тогда сильно разозлился на себя. И да, все-таки заплакал. От злости, от осознания, что во второй раз я не решусь.
Потом я бежал по лесной дороге, за деревьями над домом мелькали фары пожарного коптера. Полицейские нашли меня под утро. Странно, но не стали бить и даже ругать; кажется, они сочувствовали мне. Напоили какао из термоса и дали теплую куртку — огромную, пахнущую табаком и ружейным маслом.
Я дремал на заднем сиденье и слышал, как они обсуждают полуфинал. Потом один ругал моего отца:
— Лишат теперь родительских прав раздолбая. Пацану десять, а до сих пор без модема. Небось на пиво-то деньги находит.
— Может, мальчонка из этих, — непонятно сказал второй, — и дело не в деньгах.
— Тогда тем более раздолбай: давно бы сдал пацана куда положено.
Сквозь сон я вспоминал, как в первом классе вежливый дядя с холодными глазами уговаривал меня:
— Потерпи, мальчик. Это не больно.
И начал натягивать мне на голову черную сетку сканнера.
Мне вдруг стало страшно. Сетка была похожа на переплетенных в экстазе змей: как-то я чуть не наступил в весеннем лесу на блестящий, шевелящийся, жуткий клубок. И испугался навсегда.
Я визжал так, что сбежались преподаватели. Они протягивали ко мне руки с удлинившимися вдруг, скрюченными пальцами; я пинался, кусался, катался по полу медицинского кабинета. Падали и разбивались какие-то пробирки, хрустело стекло, орали покусанные мной взрослые, визжал я. Потом они все-таки поймали меня, спеленали, стянув так, что стало трудно дышать.
— Ну что? — прохрипела моя классная.
Холодноглазый тихо ругался, щелкая клавиатурой. Несколько раз поправлял на моей голове присоски. Потом начал бормотать непонятные слова. Я запомнил только «вариант нормы».
Остальным покупали модемы; они ходили гордые, будто эта черная нашлепка на виске делала их посвященными в какие-то тайны. Так оно и было: со второго класса я уже многого не понимал из того, что говорят учителя.
— Второй канал, таблица номер три. Все смотрим и читаем вслух.
Одноклассники сидели со стеклянными глазами и уныло бормотали вразнобой:
— Священной обязанностью гражданина является активное и квалифицированное потребление…
Я смотрел на их одинаково напряженные физиономии и тоже открывал рот, повторяя непонятные, какие-то квадратные слова. Так что замордованный учитель нередко забывал про мою особенность.
То, что другие видели с помощью модема, мне приходилось самому разбирать на планшете: там была специальная программа для «детей с особенностями развития». Проще говоря — для дебилов. Меня пытались так назвать пару раз, но быстро отучились: в драку я кидался самозабвенно, не задумываясь о весовых категориях и количестве противников.
А тесты я всегда проходил успешно. Достаточно было сосредоточиться, и рука сама ставила галочку в нужном квадратике.
— Какой холодильник в этом сезоне рекомендован к покупке? Варианты ответов: «Тундра», «Манси», «Таймыр»…
Я забывал содержание контрольной, едва сдав пластиковый листок учителю.
Единственный предмет, в который я вникал, — «факультативные знания». Там и вправду было интересно: про моря и континенты; про то, как складывать цифры самому, без калькулятора; про звезды и галактики; про книги.
Да, не удивляйтесь: у меня дома были книжки. Целлюлозные, тяжелые, с мизерным объемом — по сотне килобайт максимум. Без подсветки! Со стационарными картинками, иногда даже монохромными. Книги остались от мамы. Отец потихоньку продавал их в музеи, но спрос был никакой. К тому же отец совсем не умел торговаться и не уступал в цене. Благодаря его упрямству и тупости у меня было то, о чем и не мечтали ровесники: древние тома, не входящие ни в список рекомендованных, ни в список запрещенных. О существовании некоторых из них, наверное, забыли даже специалисты по истории и культуре примитивных времен.
Все это я вспоминал в полицейской машине, потом в участке, где пришлось долго ждать какого-то чиновника. Он задавал вопросы: я отвечал невпопад или вообще молчал.
Меня перевозили из одного казенного учреждения в другое: везде — жесткие топчаны, стандартный обед в пластиковых кюветах и решетки на окнах.
Кажется, своим существованием я сбивал с ритма их отлаженную машину. Но мне было плевать: я садился в уголок или сворачивался зародышем на топчане, закрывал глаза и читал книги постранично. Я помнил их всех не хуже, чем свой двор: вот выломанная доска в заборе, вот куст жгучей крапивы, вот семьдесят вторая страница «Занимательной астрономии» с планетарной схемой Солнечной системы.
Меня два раза проверяли врачи. Опять натягивали на голову сетку, сплетенную из толстых черных жгутов: я напрягался, потел от ужаса, но терпел.
Мне все-таки приклеили модем к виску, но я ничего не ощутил, кроме покалывания. Никаких картинок не увидел. Они расстроились, отодрали модем и посетовали, что теперь придется списывать казенное имущество, а это куча бумаг. И смотрели на меня осуждающе, будто я был в чем-то виноват и прямо умолял их об этой нашлепке.
Какое-то время я провел в интернате для «детей с особенностями развития». Там были децепэшники на колясках; доверчивые и ласковые даунята; аутисты, рисовавшие яркие картинки цветными мелками прямо на стенах. Одну художницу звали Асей: у нее были синие глаза, искусанные руки и короткий ежик черных волос. Она создавала гигантское полотно на всю стену рекреации: я часто приходил туда, садился на подоконник и смотрел. Ася не замечала меня. Несколько недель она изображала лучи у солнца: проводила длинную оранжевую линию, отходила от стены и смотрела. Потом стирала луч специальной губкой и рисовала вновь — в десятый раз, в сотый, пока не добивалась идеальной ровности и нужного оттенка. Еще Ася поселила на поляне под солнцем зайцев — целую армию, тысячи. Они прыгали, жевали морковку и обнимались. Симпатичные зайцы с круглыми пузиками и прикрытыми от удовольствия глазами.
Иногда ее накрывало: она вдруг бросала мелок и начинала кусать себя за руку, грызть до крови — наверное, наказывала за плохую работу. И еще подвывала при этом. Однажды я не выдержал, подошел и взял ее за хрупкую кисть, по которой сбегала темная струйка.
— Очень красивые пальцы, — сказал я и поцеловал их. Рука была перемазана мелом и пахла хлоркой. Мы все пахли хлоркой: санитары валили ее в туалеты тоннами.
Ася открыла было рот, чтобы заорать: она терпеть не могла, когда ей мешают. Но почему-то не стала. Опалила меня синей вспышкой взгляда и сказала:
— Отстань, дурак.
Сказала без злости. И даже позволила перебинтовать носовым платком разодранную зубами кожу.
После этого случая я знал: она ждет, когда я приду смотреть. Даже не обернется на мои шаги, но по ее худой спине, по стриженому затылку видел: ждала. И рада мне.
А среди зайцев появился странный: с крыльями. Летящий к солнцу.
Мы были как неплановые котята: правительству не хватало духу нас утопить и не хватало денег нас содержать; оно постоянно колебалось и мучилось от необходимости выбора, а тем временем еда становилась все хуже, лекарств все меньше, а последние санитары сбегали от нас в дом престарелых по соседству.
Однажды приехала комиссия: монументальные мужчины и тетки со скорбными лицами. Их толстые плечи пытался раздавить колоссальный груз ответственности, но плечи не поддавались.
Комиссия проредила нас вдвое: тех, кто постарше, отправили куда-то. Сережку, безобидного идиота с вечными пузырями слюны на губах, вообще признали здоровым и выгнали: помню, как он растерянно стоял за воротами с рюкзачком, набитым засушенными кленовыми листьями (он их коллекционировал) и пялился на ужасный свободный мир.
Посмотрев мои бумаги, самый толстый закатил глаза и начал орать что-то про халатность и нецелевое расходование бюджетных средств. Тетки заглядывали в бумаги через его плечо и устало кивали залакированными прическами.
За мной приехали на камуфлированном джипе. Ася подошла и сказала:
— Хочешь узнать, как зовут того крылатого зайца?
Я растерялся. За три года я впервые увидел, чтобы она с кем-то сама заговорила. Смог только кивнуть.
— Его зовут Артемом. Как тебя.
Мрачный тип в военной форме подсадил меня в машину. Я оглянулся на ободранное здание интерната и увидел силуэт Аси в окне рекреации.
* * *
Мрачный вывел машину на магистраль, включил автопилот и захрапел, откинувшись на подголовник. Он был настоящий вояка: даже кружок на его виске был цвета хаки.
Мы обгоняли бесконечную колонну тяжелых грузовиков. Она тянулась до горизонта, изорванного зубьями небоскребов далекого города. Длиннющие фуры с рекламой на бортах: туалетная бумага, холодильники, инфрагрили, снова туалетная бумага, замороженные овощи, унитазы, новомодные витаминные смеси и опять туалетная бумага. Я подумал: вот она, истинная картина того, что нужно человечеству. Жрать и делать то, что рифмуется со словом «жрать».
Пересекли широкий пояс свалок: амбре проникало даже сквозь противоатомные фильтры и толстую броню машины. Потом ехали по городским улицам, рыча солярным выхлопом: уродливый джип выглядел древним варваром на фоне нарядных шариков электромобилей. В воздухе свихнувшимися стрекозами носились квадрокоптеры-курьеры с подвешенными коробками, на которых опять — реклама еды и подтирки.
Изредка на бетонных стенах мелькало граффити: какие-то изломанные и скрюченные, будто агонизирующие, надписи; панды, похожие на котов, и коты, похожие на енотов. Я вздрагивал, когда видел знак, который смутно помнил: черная окружность с центром-точкой на белом фоне. Его рисовали бунтовщики, и назывался он то ли Глаз, то ли Зрачок; видимо, это был атавизм древних легенд о масонских символах. За Глаз полагалась каторга на Ганимеде.
Людей почти не было видно. Они сопели в своих железных пеналах стандартных домов: поглощали жиры, белки и углеводы, рекламу и сериалы, сляпанные конвейерным способом. Людям приходилось делать это со всем напряжением сил: ведь автоматические заводы трудились безостановочно, превращая тело и кровь Земли в яркие упаковки, смрад выхлопов и отходы для умопомрачительного размера свалок. Шесть из семи человек работали «экспертами по потреблению». В зависимости от заслуг каждому давалась категория: первая, вторая и так до девятой. Выше категория — больше потребление.
Нормальной работы давно не хватало: и это при том, что профсоюзы успешно боролись с прогрессом. Так что еще существовали санитары, парикмахеры и прочие официанты, десяток которых мог заменить запрещенный на Земле киборг, андроид или иной человекообразный механизм.
Тогда это меня не слишком волновало. Хотя изредка накатывало жуткое видение: я сижу в железной, разящей ржавчиной и плесенью бочке, в которую валится сверху поток жратвы. И если не успею сожрать — захлебнусь.
Из этой бочки не слышно птиц. И не видно звезд.
* * *
Джип проехал на территорию, огороженную высоким ржавым забором; по его верхушке полз клубок змей из перекрученной колючей проволоки. Змеи злились и плевались электрическими искрами.
Меня провели в кабинет и усадили напротив мрачного майора.
— Какой материал, а!
Майор смаковал мои медицинские бумаги: довольно щурился и цокал языком. Будто читал меню в дорогом ресторане.
— До четырнадцати лет мариновать такого красавчика! Сколько времени потеряно, эх. Обычно мы начинаем работать с семилетками. Жаль, жаль. Но лучше поздно, чем никогда, как сказала старая дева, нежно гладя распятие.
Он вдруг заржал, задергал кадыком. Сдернул фуражку и бросил ее на стол.
Мое сердце замерло.
У него НЕ БЫЛО МОДЕМА. Он был такой же ненормальный, как и я.
* * *
Пока я вспоминаю первую встречу с Майором из «Поиска», Док шелестит распечатанными листками моего дневника. Он не любит читать с монитора. Говорит, что чтение подразумевает обязательные тактильные ощущения и даже слуховые. Странный он, чего уж там.
Мы все тут ненормальные.
За его спиной — грандиозная картина полярного сияния. Сиреневые, голубые, фиолетовые сполохи, дети взаимодействия магнитосферы нашего Ганимеда и ионосферной плазмы Юпитера. Завораживающий танец языков холодного огня, облизывающего звезды. Звезды моргают и хихикают от щекотки.
Сам исполин украшает собой горизонт: косые полосы цвета пенки капучино, посыпанной шоколадным порошком, едва заметно дрожат. Я будто слышу рев грандиозных ураганов в небе Юпитера.
Люблю бывать здесь. Внизу скучно: выплавленные в ледяном теле Ганимеда коридоры залиты искусственным светом и облицованы железом. Причудливо переплетенный клубок стальных змей. Конечно, там не пахнет ржавчиной и плесенью. Но мне все равно неуютно.
И оттуда не видно звезд.
— Ну, неплохо, — говорит Док, — надо продолжать. Когда смена?
— Через одиннадцать часов. — Я с трудом отрываю взгляд от темного пятна на юпитерианском боку. Оно похоже на толстого зайца, завалившегося спать.
— Выспись. И найди пару часов на записи.
— Есть, Док. Разрешите идти?
Во мне просыпается лейтенант космофлота. Разворачиваюсь через левое плечо и грохочу магнитными ботинками к двери.
Док спрашивает напоследок:
— Как тебе Лебеди? Не правда ли, чудо?
Я улыбаюсь. Лебеди прекрасны.
* * *
Они говорили, что космофлот — это семья. Смешно. Попробовал бы я забраться на колени к дедушке-адмиралу, чтобы поведать ему свою мечту о звездах.
Флот вполне может позволить отдельные двухместные кубрики. Но нас специально держали в казарме, где десятки кадетов терлись друг о друга аурами. Сутками напролет. Чтобы стесать эти ауры до одинакового состояния. Одноцветного, без углов.
За разговор в строю — трое суток ареста. За неповиновение сержанту — трибунал и каторга на Ганимеде. Жуткие ледяные шахты без шансов выбраться.
Подъем в пять утра под вопли капралов. Пробежка в любую погоду, по снежному месиву или под дождем. Завтрак, сотни жующих в такт челюстей, пластиковые кюветы на железных столах.
Но в какой-то миг ты вдруг ощущаешь это. Когда твое дыхание, твое сердце попадает в унисон с десятком таких же. Когда грохочут берцы вытянутой ровной струной шеренги. Когда ты можешь не оглядываться, держа на плече тяжелую трубу ракетомета, — напарник зарядит и хлопнет ладонью по твоему шлему: готово.
Если не считать тренировок по рукопашному, всерьез я дрался раза три. Умывальная комната помнила сотни таких стычек. Честных: один на один. Танец по кругу, глаза в глаза. Угадать его удар и выбросить кулак на мгновение раньше. Поймать на болевой, завалившись на мокрый бетонный пол. Что оргазм против адреналиновой бури, против наслаждения победой? Тьфу, мелочь.
Да, так нас приучали любить схватку и любить побеждать. Чтобы в реальном бою грызть врага зубами ради этого ускользающего мгновения триумфа за секунду до смерти.
Несколько раз приходили письма от Аси. Бумажные, в плотных конвертах. Пара строк и рисунки. Иногда только рисунки, вообще без слов: невиданные цветы, переплетенные и изломанные. Расплывающиеся силуэты птиц в облаках золотой пыльцы. Один раз — ее фотография. Старомодная, плоская.
Она очень повзрослела. И похорошела. Синие глаза что-то говорили мне и куда-то звали. Но куда?
Через три года нас разделили: кого в пехоту, кого на штурманский факультет, кого на инженерный.
Меня вызвали к майору. Он посмотрел в мои глаза и улыбнулся.
— Неплохо, Артем. Ты сумел остаться собой. А значит, я не ошибся. Годишься в Поиск.
Про Поиск у нас трепались в курилке. Наверняка врали: никто ничего толком не знал. Дальний космос, древние корабли пришельцев, замаскированные под астероиды. Бред.
Я молчал.
— Неужели тебе не интересно? — удивился майор. — Не хочешь спросить: что за Поиск, почему именно ты?
— Никак нет, господин майор.
Он довольно хмыкнул.
— Правильно. Все узнаешь, когда придет время. Хотя всего не знает никто. Тебя не смущало, что ты единственный в своей кадетской роте без модема?
Я мог сказать, что уже через неделю во Флоте тебе становится плевать на то, какой у соседа акцент и цвет кожи. И есть ли у него нашлепка на виске. Гораздо большее значение имеет надежность плеча того, кто храпит на соседней койке. Но, думаю, майор знал это сам.
— Нам нужны такие, как ты. Мне нужны.
Майор достал из стола древнюю бумажную папку с веревочками-завязками и вложил в нее тощий файл с моим личным делом.
На обложке был значок: черная окружность с точкой по центру на белом фоне. Похожий на схему атома водорода: ядро и орбита одинокого электрона. Такой же, как на плаще моей мамы в день расставания.
Я не сразу переварил это. Поэтому прозевал начало монолога майора.
* * *
…прозевали момент, когда человечество превратилось в копошащийся слой гумуса. Опарыши, гадящие под себя и тут же пожирающие собственное дерьмо. Ученые выродились в механиков по унитазам, поэты — в создателей рекламных слоганов. Страны грызутся между собой за ресурсы, балансируя на грани войны. Космическая программа буксует. Средств не хватает на научные экспедиции — их сжирает потребление.
Но есть Флот. На него денег пока не жалеют. Наши эскадрильи обеспечивают интересы страны в ближнем космосе и на Луне. Флот строит базы на Марсе, охраняя рудники. И Флот отправляет корабли к Меркурию, к Сатурну и дальше — за орбиту Урана. Не все они автоматические. Давно принят закон, ограничивающий применение боевых компьютеров: поэтому всегда есть человек, нажавший кнопку. Люди не желают отдавать роботам привилегию убивать себе подобных. Не хотят делить сомнительное удовольствие самоуничтожения ни с кем; поэтому и полицейские до сих пор — живые люди.
Человек с модемом — это, как ни крути, часть компьютера. Пилот Флота с модемом может многое, а если вдруг ошибется, психанет, просто сойдет с ума — компьютер всегда успеет отстранить такого от управления.
Но Поиску нужны другие пилоты. Настоящие. Видящие, чувствующие больше, чем может машина…
Майор продолжал говорить, но я уже потерял нить. Я понял главное — стану пилотом. Увижу звезды.
А остальное не имеет значения.
* * *
Был момент, когда я отчаялся. Никак не получалось пройти на глайдере контрольную трассу — или вылетал за флажки, или не укладывался в норматив по времени.
Парни хлопали меня по плечу и отводили глаза. Они жалели меня, считая, что Флот издевается над убогим: ну как можно было засунуть на пилотский факультет несчастного, не способного коммуницировать через модем? Они бы еще безногого на велосипед посадили, скоты!
Вереницы данных, которые поступали им напрямую в мозг, мне приходилось вылавливать на дисплее или в блистере шлема. Я тупо не успевал, захлебывался. Это было невозможно, как невозможно залить Тихий океан в пакет из-под кефира.
В ту ночь я написал и положил в тумбочку рапорт о переводе меня куда угодно — в землекопы, в инвалидную команду, на мясные консервы.
Спал я плохо. Где-то недалеко бродил отец в грязной майке, скребя волосатое брюхо, и хохотал:
— Ублюдок! Такой же неполноценный урод, как мать.
Я сидел в железной бочке, пахло ржавчиной и плесенью, а сочащиеся мерзкой влагой стенки выросли до неба и закрыли звезды. Под ногами хрустели обломки фрегата «Отважный».
— Артем, вставай.
Дневальный тряс меня за плечо.
— Тебя вызывают. Давай живее.
Я брел по проходу, тер лицо, стряхивая остатки гнусного сна. Казарма храпела, стонала, чмокала губами — как большое животное, уставшее и несчастное.
В дежурке нетерпеливо мигал зеленый глазок вызова. Взял наушник: в нем бродили какие-то вздохи и всхлипы, будто в эфире ворочался сонный кит.
— Курсант Воронов, слушаю вас.
Издалека, искаженный и прерывающийся, возник девичий голос — незнакомый и родной одновременно.
— Артео-ом… меня? Слыши…
— Алло! — Я прижал наушник, сердце вдруг заколотилось: — Алло, кто это?
— Ты чего, не узнал? Это я, Ася.
Она что-то говорила про поломанную младшими балбесами сирень — ну, помнишь, белый куст, у столовой? О ремонте в учебном корпусе. О том, что ее оставили в интернате, пока что нянечкой, но вот осенью закончит курсы, получит сертификат, и тогда…
— Погоди!
Я ударил себя по щеке и поморщился — нет, не сон.
— Погоди. Как ты дозвонилась? Это же служебная линия, засекреченный коммутатор. Как ты вообще узнала, куда звонить?
Она рассмеялась.
— Просто захотела услышать твой голос, остальное неважно. Мне кажется, тебе это было нужно сегодня. Знаешь, мне надо бежать, там новенькая девочка, трудная. У нее синдром Везира, плачет все время, боится темноты. Ты не обидишься?
— Да. То есть нет. Не обижусь.
— Вот и славно. Помнишь того зайца по имени Артем? Ты еще говорил, что у зайцев тело не приспособлено летать, кости не полые и вообще, никакие крылья не помогут. Я еще сильно на тебя обиделась. Так вот, дело совсем не в крыльях. Понимаешь, просто он очень захотел в небо и поэтому полетел. Бабочка ведь совсем не знает законов аэродинамики, понятия не имеет о подъемной силе. Она просто хочет — и летит. Понимаешь?
Связь прервалась.
Я вышел из дежурки. Дневальный дрых за столом, положив вихрастую голову на руки.
Разбудил его:
— Откуда звонили? Кто соединил?
Он зевнул:
— Ну чего ты орешь, Воронов? Никакого с тобой покоя. Звонили откуда надо. Назвали пароль. Я тебя и поднял.
— Какой пароль? — растерялся я.
— Какой-какой. Такой. Обыкновенный пароль, на текущие сутки. Все, отвали. Спать иди.
Я не заснул, конечно. Под утро встал. Порвал рапорт — тщательно, на мелкие кусочки, и смыл в унитаз.
В кабине глайдера я закрыл глаза, вспоминая ее голос. Потом отключил подачу информации на блистер.
Я не смотрел на дисплей — я смотрел в небо. Я очень хотел летать.
Мой корабль — не набор железяк и пластика. Мой корабль — мое тело. Бабочка не думает, как ей взмахнуть крыльями, — она просто порхает.
Я прошел трассу. После финиша открыл фонарь и слушал, как чирикают в березняке птицы. Ко мне бежал инструктор с круглыми глазами, размахивая секундомером.
Я показал лучшее на курсе время.
* * *
Не знаю, о чем рассказывать дальше.
Сутки на Меркурии длятся две трети планетарного года, ночная сторона успевает сильно остыть. Когда приходит раскаленный до полутысячи градусов день, линия терминатора взрывает поверхность: все осевшие и замерзшие соли, водяной лед и прочее мгновенно вскипает и испаряется. Там вообще было нелегко. Светило — огромное, на полнеба, — казалось, жгло сквозь многослойную броню. А постоянные бури и цунами солнечной короны убивали датчики и гробили радары, выжигали позитронные мозги бортового компьютера. Тогда, после аварии, я впервые понял, какой это дар — думать своей головой, не завися от электроники. Я проторчал в кресле пилота тридцать часов подряд, не вставая, не отрывая рук от штурвала. Растерянный командир крейсера сам подносил стаканы с водой и забирал бутылки с мочой — у меня, сопливого стажера. Мы выкарабкались. А пальцы еще несколько часов не разгибались; врач массировал их и кормил меня с ложки.
Вахта, кружка дымящегося кофе на пульте; любопытные звезды, заглядывающие в блистер; умиротворенное жужжание двигателя на эконом-режиме: будто пузатый шмель-гурман облетает июньский луг, со вкусом выбирая очередной цветок.
Когда южане рванули заряд у Фобоса и электромагнитный импульс уничтожил всю электронику в радиусе миллиона километров, я эвакуировал персонал научной базы. На древнем шаттле с реактивным двигателем и аналоговым управлением. Четыре посадки и четыре взлета вручную, с диким перегрузом: люди стояли в трюмах впритык, не в силах пошевелить пальцем.
Говорят, война началась с этого инцидента. Какая разница? Люди всегда найдут повод, чтобы вгрызться соседу в горло. Нахлебаться горячей крови, нажраться свежатины, разрывая мясо скрюченными длинными пальцами.
Конфликт все никак не разгорался: вялые стычки сменялись перемирием, переговоры обрывались на полуслове из-за новых стычек. Мы уже привыкли к постоянной боевой, привыкли спать одетыми, привыкли к смертям. Передатчик в кают-компании работал, не умолкая, сообщая о новых потерях, — так я узнал о гибели рейдера «Урал», на котором пилотом служил мой первый инструктор летного дела. Кок молча налил мне полстакана разведенного, я молча выпил — вот и все поминки. Кок уже устал горевать по поводу безнадежно сломанного ритуала — было непонятно, что ты поглощаешь: ранний завтрак или поздний ужин. Сутки на борту — вообще понятие относительное, а теперь наше время делилось на вахту, подвахту, отдых; причем стоило закрыть глаза, как ревун срывал тебя и нес, еще не проснувшегося, в отсек по боевому расписанию.
Все ждали вступления в строй линкора «Святогор»: он должен был радикально поменять расстановку сил и заставить южных покориться.
Я ведь так и не сдал выпускные экзамены: моя курсантская стажировка все никак не кончалась, затянутая войной. Мы болтались на лунной орбите, когда усталый капитан вызвал меня в рубку и вручил кортик и погоны. К приказу о досрочном присвоении звания лейтенанта была пришпилена записка от майора. Всего два слова: «Думай, выбирая». Черт его знает, что он имел в виду. Ходили смутные и противоречивые слухи про группу «Поиск»: то ли мой майор получил орден за успешное участие в переговорах с южными, то ли, наоборот, взыскание за неуместный пацифизм.
Тогда это и случилось. То, чем все кончилось. И с чего все началось.
* * *
Это был мой второй полет на катере. Распирало меня, конечно, как воздушный шарик: две недели лейтенантом, и уже — командир корабля. Хоть маленького, но боевого, настоящего.
Обычное трехсуточное дежурство пришлось на тот самый инцидент в кратере Браге. Приказ: перехватить десантный транспорт противника и уничтожить. Меня тогда удивила его траектория — со стороны городка шахтеров южных, добывающих «гелий-три» и не воевавших. Но рассуждать было некогда, адреналин захлестывал мозг: бот сопровождали два истребителя, и пришлось попотеть.
Первого я подловил на взлете, легко, а вот со вторым повозился. Пилот там был классный: ушел на снижении и швырнул в меня торпеду из положения, никак не допускающего залп. Я работал на рефлексах: очнулся от перегрузки, когда катер уже вышел из виража, а одураченная торпеда выработала топливо, и у нее сработал самоподрыв. Южанин несколько раз хлестнул лазером, но броня выдержала, и тут я поймал его. Старая добрая пушка не подвела: килограммовый кусок металла, разогнанный до десяти Махов, хорош тем, что не имеет мозгов и не реагирует на радиолокационные обманки.
Десантный бот огрызнулся огнем и попал: штурман заорал про разгерметизацию; я и сам почувствовал, как катер потянуло в сторону, но успел дать очередь.
Падали мы рядом. Мне было не отвернуть — катер не реагировал на команды. Я едва успел захлопнуть шлем и натянуть аварийный ранец.
Грохнулись так, что потерял сознание. Наверное, на несколько секунд, но этого хватило на видение: оранжевое солнце на стене рекреации вдруг почернело, съежилось до размера пушечного дула и начало стрелять в зайцев, игравших на поляне; снаряды рвали пушистые тела в клочки, а за моей спиной плакала Ася — тихо и горько.
Эта чертова галлюцинация испортила все настроение. Почему-то казалось, что я не победил. А, наоборот, проиграл и погиб в этом бою.
Я не знаю, зачем пошел к рухнувшему «десантнику». Что я хотел там увидеть? Разорванный блистер кабины? Ошметки корпуса?
Я привычно перешел на лунные прыжки. Скакал, как те зайцы из видения, — ломаным зигзагом, будто уклоняясь от выстрелов.
Но стрелять было некому. Погибли все. Вокруг разбитого корабля валялись разорванные тела, казавшиеся маленькими из-за расстояния.
Когда я добрался, тела не стали больше.
Бот южных эвакуировал из поселка самое ценное — детский сад.
* * *
Спасательный баркас прибыл через полчаса. Они уложили в реанимационный пенал штурмана и собрали в мешок то, что осталось от моего бортинженера. Потом по радиомаяку нашли меня.
Этого всего я не помню, читал в материалах следствия. Как я сидел над маленькими телами без скафандров и пел им какую-то детскую песенку. Как отбивался от ребят, требуя немедленно приступить к спасению пассажиров бота. Как они меня все-таки затащили в баркас и вкатили тройную дозу успокоительного.
Я поднялся, когда уже подходили к приемному шлюзу. Раскидал спасателей и сел за штурвал. Развернул баркас, чтобы разогнаться и врезаться в рубку крейсера. Чтобы остановить залп, предназначенный уничтожить шахтерский поселок с тремя тысячами южан.
Вот это я помню. Как увидел, ощутил панику на мостике, услышал ревун тревоги и скрип разворачивающихся в мою сторону лазерных турелей. И почувствовал ужас ожидания смерти сотни парней — моих товарищей, тех, с кем я полгода делил «железо». Которых я выдрал из меркурианского ада.
Я не мог больше убивать.
Я нащупал пылающее сердце реактора и заставил его перестать биться.
Лишенный энергии крейсер уползал за горизонт. Его торпеды уснули и остались в своих уютных гнездах. А я, обессиленный, упал на штурвал и заплакал.
* * *
Бесконечные осторожные допросы. Следователи боялись меня, их страх плавал по камере серыми обрывками. Но я и вправду не мог объяснить, как мне удалось вывести из строя крейсер: я просто не знал этого.
Меня держали в корабельном карцере. Уже потом я услышал: всех, кто остался от разгромленного Поиска, вывезли за орбиту Марса, подальше от Земли и флотских баз. Следователи проговорились: на следующий день после инцидента в кратере Браге мой майор что-то сделал с линкором «Святогор» — тем самым, который был призван разобраться с южанами раз и навсегда. А из наших разведсводок исчезла вторая флотилия южан — самая сильная. У них был свой «Поиск». Война заглохла сама собой.
Куда делся майор, я не знаю. Но иногда мне кажется, что он не погиб. Я ищу его до сих пор — там, где звезды разговаривают со мной и где нащупывают попутные космические течения золотокрылые Лебеди.
Приговор трибунала мне принесли в камеру: двадцать лет каторги на Ганимеде за государственную измену и уничтожение казенного имущества. Какая разница? Все мои сны были об одном: как зайцы в ужасе разбегаются по солнечной поляне, как взрывы швыряют их, рвут на части. Как я держу на коленях крохотное тельце и глажу ладонью в толстой перчатке покрытое инеем лицо девочки лет трех.
Это было страшнее самой жуткой каторги в истории человечества. Страшнее самой смерти.
* * *
Конвоир бросил мне пару магнитных ботинок. На Ганимеде сила тяжести всемеро меньше земной, и без магниток ходить трудно.
Нас собрали в шлюзе: там я впервые увидел тех, кто был в соседних камерах. Несколько вояк, тощий очкарик с внешностью ученого, подростки-бунтари. Государственные изменники. И все — без модемов.
Потом мы шагали по коридорам перехода. Грохотало железо под ногами. Мутно светилось железо над головой. По железным стенкам сползали капли влаги. Смердело ржавчиной и плесенью.
Мне предстояло закончить свою жизнь в ржавой бочке, из которой не видно звезд. Тогда я решил: брошусь на конвоира, пусть стреляет. Лишь бы наверняка — никаких парализаторов, которыми вооружены тюремщики. А у этого мрачного пехотинца был добрый армейский игломет с гарантированным результатом.
Я не успел. Как хорошо, что я не успел.
Мы вдруг остановились, натыкаясь друг на друга. Впереди, на освещенной площадке, стоял Док, неуловимо похожий на моего майора. Он улыбнулся всем вместе и каждому по отдельности. И сказал:
— Вот вы и дома, ребятки. Конвой свободен, спасибо за помощь.
За его спиной на всю стену была нарисована черная окружность с точкой посередине.
* * *
Когда проект «Поиск» набрал силу, правители Земли завибрировали. Испугались огласки, волнений населения. Странно: какие волнения могут быть у «экспертов по потреблению» различных категорий? Что пиццу с опозданием доставили? Или что на туалетной бумаге недостаточно пупырышков?
Тогда договорились: Поиск перебирается на спутник Юпитера, а Ганимед везде называют каторгой. Это позволяло исключить любопытство непосвященных. Наших такое более чем устраивало: чем дальше от Земли, тем меньше помех.
— Ты умеешь видеть, — говорил мне Док, — но этой силой надо научиться управлять. Нетрудно заглушить атомный реактор. Ты попробуй, наоборот, разжечь огонь ядерного синтеза внутри никчемного комка космической пыли, превратить его в светило.
Док долго возился со мной. Выводил наверх и оставлял наедине с космосом.
Звезды — лучшие товарищи и врачи. Они подмигивали мне и рассказывали о том, что все проходит. И что все можно исправить.
Я был настолько плох, что не обращал внимания на удивительное: Док выходил на поверхность Ганимеда в стареньком, аккуратно заштопанном лабораторном халате. В разреженную атмосферу, почти вакуум. В космический холод около нуля по Кельвину он выходил без скафандра.
Когда-нибудь я тоже так смогу.
* * *
Материя не мертва. Материя хочет осознать: что же она такое? Зачем пришла в этот мир? Мир, который и есть материя.
Это долгий процесс, но Вселенная не торопится: у нее в запасе миллиарды лет. Сначала мизерная ее часть становится живой, потом один из миллионов видов существ становится разумным. Потом один из миллиона разумных становится таким, как я. Мы называем себя Зрячими, на Земле нас называют психами. Это нормально: камни на первобытном океанском дне тоже с брезгливым удивлением смотрели на первых одноклеточных. Непрочных, смешных, суетящихся.
Потом одноклеточные развились, надели штаны и сложили из этих камней дома и плотины.
В то дежурство я заснул на склоне ледяной гребенки, которыми покрыта поверхность Ганимеда. И увидел это: как я иду по солнечной поляне, касаюсь застывших, скрученных страданием тел, — и они открывают глаза. Подмигивают мне и скачут за морковкой.
— Они не умерли. Просто притворились спящими, — сказала Ася, — потому что испугались тебя. Больше так не делай, хорошо?
Мое дело — космос. Я не занимаюсь Землей. Док говорит, что еще рано, слишком свежа болячка. Но меня все устраивает. Я сажусь под звездами, закрываю глаза и вижу, как выгорает водород в сердце голубого гиганта. Слышу, как одинокий квазар бросает в пустоту крик, полный тоски.
Вижу, как загадочные Лебеди, волновая форма разумной жизни, распластывают золотистые крылья, ища попутные течения между галактиками. Лебеди не любят гравитацию — она душит их, связывает полет; поэтому избегают приближаться к звездам. Но когда-нибудь я уговорю их встретиться на нейтральной территории, за поясом Койпера.
Я не все могу объяснить словами. Но когда-нибудь научусь.
Адам давал животным имена. Чтобы дать истинное имя, надо проникнуть в суть, понять, помочь осознанию. Они ждут своих настоящих имен: шаровые скопления и черные дыры, суетливые бозоны и интроверты-нейтрино.
Струны, пронизывающие континуум, ждут своего настройщика.
Мы идем к тебе, Вселенная. Нас больше с каждым оборотом планеты вокруг своей звезды.
* * *
Придется прекратить записи: у нас аврал, Док срочно набирает команду на Землю, берет и меня. Тьфу три раза, чтобы не сглазить: появилась возможность уничтожить войны навсегда, земляне наконец-то идут на переговоры. Заодно Док хочет систематизировать работу по отбору Зрячих. Нам жутко не хватает рук. Вернее, глаз.
Наверное, мне придется возглавить одно из представительств Поиска на Земле. Надеюсь, ненадолго: я буду тосковать по звездам, которые плохо видно сквозь атмосферу. Постараюсь быстро все наладить, чтобы вернуться на Ганимед.
Но первым делом я отыщу Асю.
Людмила и Александр Белаш Говорящая пыль
Когда вахтовики Марса — не путать с колонистами! — покидают красную планету, они пишут что-нибудь на память. Маркером по обшивке шлюзового коридора. Тут некому стирать граффити, а глаз-камера просматривает коридор только вдоль.
Надпись, подпись, иногда телефон или адрес. Вдруг захочешь пообщаться с тем, кто был здесь раньше. Все марсианские вахтеры, кто вернулся — вроде родни или однополчан.
Занимающие треть стены жирные строки сразу привлекли Руди, он остановился.
«Все проходит, пройдет и это».
«Мы умны, мы сильны, мы смогли! Мы — первая женская вахта» — и сжатый кулак в зеркале Венеры.
«Поздравляю с началом службы. Занимай правую комнату, она теплее. Капуста колонистов — дрянь, фасоль гораздо лучше. На поверхности используй самокат; в ногах правды нет. Помни: лишняя минута наверху — это поглощенная доза. Будь постоянно на связи с напарником, он тебе ближе брата. Коло на помощь не успеют».
«Самое лучшее на Марсе — это сны. Строго храни их в себе и не бойся. Ты не одинок».
«Отпахал от парома до парома, чего и вам желаю!»
— Много полезных советов, — заметил Вит, изучавший стену напротив. — Их бы в регламент работ.
— Я займу комнату справа.
— Там теплее, да?..
Чтобы быстро повернуться, надо соизмерять движение с местными 0,38 g. Вообще каждое движение. Не так тщательно, как на Луне, но все-таки. Недаром при инструктаже твердили: «Ваша походка изменится». А вот щуплый блондинистый Вит здесь шагал легче и красивее. У него даже осанка выправилась. В полете он вслух мечтал: «На Марсе я преображусь. Буду здоровый, словно рожденный заново».
Сам как марсианин или эльф — головастый, сухонький, глаза большие. Вдруг и колонистку очарует, себе под стать.
— Вот, — любезно указал Вит тонким перстом. — Только здесь сказано «левую». Он избавил нас от жеребьевки по комнатам.
— Ишь, психолог доморощенный… Значит, селимся, как сказано — ты слева, я справа.
В углу листа обшивки Руди с трудом прочел мелко оттиснутое кириллицей — «Сделано в колонии Рассвет-Россия. 3D-принт. Для жилых помещений Марса».
Бодрой рекламы на комплексе хватало — колониальная администрация на пару с компанией постарались. «Новая надежда, новый мир и сознание», «Человечество будет вечно!» и прочее. Воодушевление должно примирить с тем, что ты обречен два земных года жить в норе, питаясь с кухни коло, — мясом из пробирки, вкусными лишайниками и прочей ботвой. И это после перелета в спячке, где ты усох на семь кило и после которого первое время промахивался пальцем в кончик носа.
За тяготы и вредные условия компания платила щедро. Домой вернешься пусть не богачом, но человеком при деньгах.
* * *
Должно быть, Виту комнатенка оказалась в самый раз, а рослому, широкоплечему Руди показалось тесной и низкой, вроде купе в поезде. Правда, была еще кухня, она же столовая и кают-компания, но регламент быта запрещал там спать. С потолка следила камера. «Спальные места только в аварийной обстановке!»
Зато можно украшать комнату на свой вкус. Руди прилепил к стене фотки — я с семьей, я с друзьями, я улетаю на Луну готовиться.
Кто-то из прошлой смены оставил здесь рисунок — портрет девушки. Предельно короткая стрижка, крупные тревожные глаза, миниатюрный носик, по-детски маленький рот, узкий подбородок, длинная шея. Подпись по-немецки: «Она». Должно быть, коло из Рассвет-России. Урожденная марсианка!
«Они в подземелье не отсиживались, в гости ездили, любовь крутили. Ладно, освоимся — и мы съездим. Поглядим, какие тут девчонки уродились, не хрупкие ли».
О внешности марсианок он мог судить лишь по фоткам и передачам коло-ТВ. Но сейчас видеоника так наловчилась — что угодно в 3D слепят, вплоть до пор на коже. Личные впечатления куда надежней. Вот парня-коло Руди уже видел — тот привез его и Вита на рудничный комплекс. Колесный танк, крыша-броня, а водитель — хлипак вроде тушканчика.
Кальций, кальций! Всегда помни — жалкие 0,38 g каждый миг вымывают кальций из твоих костей. А тебе еще работать до следующего «стартового окна». При сближении планет придет паром, чтобы забрать домой вахтовиков и драгоценную добычу.
Разложить багаж в рундук и стенной шкаф — дело минутное. Далее регламент требует пометить свою дверь. Табличка готова заранее — «Рудигер ван Лиль. Техник-наладчик». Рядом наклеил плакатик с псалмом 23, отпечатанном в виде креста.
Напарник успел раньше, на его двери уже красовалось — «Вит Корсак. Химик-лаборант». И символ его веры — треугольная призма, разлагающая белый свет в спектр, а под ней знак бесконечности, горизонтальная восьмерка.
Ньюэйджер, надо же.
«Ничего, притремся».
Начиналась та самая новая жизнь, обещанная лозунгами. Над головой — прочный свод жилья-убежища, толстый слой грунта. Затем чахлая безжизненная атмосфера, а в небесах над красным миром — Фобос, Деймос и паром, постепенно сгружающий вниз технику, кислород и топливо. Он медленно плыл в вышине, как кит в светло-желтом море. На каменных равнинах порой вздувались облака рыжей пыли — к парому из колоний стартовали лифтовые корабли.
Одно хорошо — здесь нет начальства. Накладно содержать на Марсе живых менеджеров, которые дышат, пьют, едят, а взамен лишь руководят. Поэтому их держат на Земле — ораву бюрократов, впятеро превосходящую числом колонистов и вахтовиков. По расчетам, Вит и Руди должны были кормить десяток управленцев с семьями. Поневоле себя зауважаешь.
«Остаток вашего личного времени — 47 минут 20 секунд. Следите за указателем регламента. Первая задача — проверка жизнеобеспечения. Вторая задача — проверка энергоснабжения. Ваша жизнь напрямую зависит от исправности этих систем».
* * *
В основном Марс населен роботами. Аккумуляторные, реакторные, с генераторами Тесла или на изотопных элементах, автономные и дистанционные — они ползают повсюду, вяло и безостановочно. Им все равно — пыльная буря или солнечное протонное событие. Когда коло и вахтеры дружно прячутся вглубь под землю, чтобы пересидеть поток протонов, неживые существа продолжают свое дело. Разве что связь забарахлит, но они и без нее проживут.
Со времен первых марсоходов роботы стали прочнее и «умнее», однако обойтись без человека еще не могли. На долю Руди досталась команда этих композитных монстров, занятых добычей и первичной обработкой импонита. Время от времени приходилось выходить наружу, набирать поглощенную дозу.
Пневмокостюм с ранцем и шлемом здесь весил немного, но всякий раз — правда, раз от раза все слабее, — в шлюзе его давило ожидание встречи с Марсом.
В жилье была иллюзия Земли — интерьеры, одежда, разговоры с Витом, возня с готовкой, музыка и видео, занятия на тренажерах, — а за герметичной дверью наваждение мгновенно рушилось. Стоило замелькать цифрам на манометре, как нервы и мышцы поневоле напрягались. «Давление выровнено». Впереди ржавая пустыня, усеянная камнями.
Почти полная тишина, слышно лишь песочное шуршание в наушниках. Пепельно-желтое или черное в колючих звездах небо. Днем пейзаж походил на родной вельд без зелени, зато ночью — как долина смертной тени. Вдали дрожит пыльное облачко — робот вгрызается в грунт. В стороне — гряда хребтового отвала. Устроился в самокате, отжал рычаг — время пошло, включился счетчик дозы.
Впрочем, контракт учитывал риск облучения. Для Руди больший, чем для Вита — химик редко покидал подземное жилье. У него свои надбавки за вредность — он волей-неволей вдыхал испарения пульпы в камере, где обогащалась порода. Или они всасывались в кожу. Парень немного поблек, но выглядел воодушевленно. Похоже, работа его заводила.
А в комнате спорта он, покачавшись, как культурист, делал замеры бицепсов и мышц бедра! Будто поверил, что его болезнь осталась на Земле. На пятом месяце — по здешнему календарю — стал говорить, что руки-ноги утолщаются. Заметно было мало, однако про себя Руди признал — напарник изменялся к лучшему. Порой аж сиял.
— Хочешь увидеть, ради чего мы надрываемся? — предложил однажды Вит после ужина.
— Я смотрел фильм в учебке. Микрокристаллы.
— Это кино, иллюзион, а тут все по-настоящему. Живой материал. Выделено при тебе, можешь сам пошевелить кристалл манипулятором.
В его лабораторию Руди не хаживал. Каждый знает свою работу, зачем лезть в чужую? А вот предложение потрогать те песчинки, ради которых земные дельцы раскошелились на регулярные полеты к Марсу, звучало заманчиво.
— Идем.
Среди своих технопримочек Вит царил и порхал, словно нет у него никакой атрофии. В минуту изготовил препарат, подвел под объектив, настроил оптику и жестом пригласил Руди к экрану. Пришлось приспособиться к сенсорным перчаткам, чтобы щупики манипуляторов двигались точь-в-точь по твоему желанию.
Перед ним в вязком растворе лежали черные с металлическим блеском объемные фигуры, похожие на ограненные ювелиром камни.
— Это и есть импонит?
— Скорее то, что содержится в нем. — Вит рад был поделиться. — Включения в породе.
— И почем за штуку?
— До отсева их оценивают оптом, в долях карата. Сухим веществом, конечно. В производство берут треть процента кристаллов, но игра стоит свеч, даже если возить взвесь декалитрами. Скажем так, десять литров окупят все, что я тут съем и надышу за вахту. Еще один дал — страховки, а третий дал — зарплату. Так что от добычи твоих «грызунов» зависит, сколько мы получим. Ну, и от моих обогатителей тоже.
— Жаль, что их нет на Земле, — оторвался Руди от экрана, где переливались кристаллики. — Не пришлось бы летать в чертову даль, под лучи подставляться.
— Есть, но очень мало. Крохи. Слышал про «марсианские метеориты»?
— Где-то что-то. Я технарь, не астроном. Учился по лунной программе, пока не появилась вакансия. Метеориты с Марса? шутишь?
Вит присел на край лабораторного стола:
— Первая космическая скорость здесь заметно меньше. При косом ударе астероида взрывной материал может покинуть сферу притяжения планеты, уйти в пространство. Потом осколки попадают в область земной гравитации и — готово.
— Долго же они летали.
— Миллионы лет. А имп-частицы в них выявили недавно. Даже не выявили, а поняли, на что они годятся. Тут-то настоящий марсианский бум и начался.
— Вот слушаю тебя — и теряю веру в прогресс, — шутливо сказал Руди, вынув руки из перчаток. — Где наномонтаж, которым нам все уши прожужжали? Уже бацилл приручили — связи в процессорах прокладывать, и чуть не мозг человечий на 3D-принтере собрали, а такую мелочь сделать не можем. Гробим тут здоровье из-за черного песка…
— Мы и алмазы штамповать умеем, — парировал Вит, — только дрянные и мелкие, а большой и чистый — ну никак! Да что там алмазы!.. Попроси ученых сделать на принтере живую бактерию или плодовую мушку. Вот тебе наши возможности. Так что импы — прорывной шанс на выход силой, без раскачки и рывков. Откроются такие перспективы, что воображенья не хватает!.. Вплоть до единого сознания. Но без добытчиков, без нас с тобой — это мираж. Мы на переднем крае, понимаешь? Может, еще немного — и замкнем кольцо гармонии. Мир без насилия, без войн, где каждый чувствует каждого словно себя…
Красиво он мечтал!.. Руди же мыслил прозаичней:
— Надо спешить с добычей. Когда научатся штамповать импы, мы перестанем быть нужны, а рудники свернут. Еще, глядишь, предложат у коло остаться, чтобы не тратиться на перевозку.
Но Вита перспектива не пугала.
— Тоже вариант. Колонистов тысячи, теплицы расширяются, воздуха и воды хватает. Я бы мог заняться грунтом, это нужная профессия.
Что поделать — овладела белорусом тяга к звездам, и Земли ему не надо. У славян душа всегда ищет высшего, иного царства. Или сингулярности — пойми их.
— Завтра приедет Аэлита. — Руди дружески подмигнул ему. — На здешнем фоне она прямо крепышка, верно?
Тот улыбнулся так, словно сказал: «Отвяжись».
Вообще коло из сферы СССР — Священный Союз Славянских Республик, коалиция что надо, — всячески продвигали имя из старинной книжки. Фильм с тем же названием и его сиквелы многих смутили записаться на улет. Должно быть, предохранитель срывало само звучание, неприкрыто означавшее «элита». Вы там, на Земле, прозябаете, а мы строим новый мир, почти царство небесное — чтобы взглянуть на нас, надо задрать голову…
— Сегодня обработка от микробов, — напомнил Вит. Как химик, он ведал дезинфекцией и раз в неделю, надев респиратор, по очереди опрыскивал помещения смесью перекиси водорода и невидимых глазу абсорбирующих гранул. Потом он вентиляцией продувал комнаты, пока Руди прятался от его пульверизатора там, где уже очищено. И все равно после обработки нет-нет да нападал чих.
Сколько их тут множится в закрытом комплексе, всяких бактерий — кишечные палочки, дифтероиды, стафилококки, тьфу!..
А в уме Руди вертелось другое словечко — имп.
* * *
Когда Фолькштат отделился от чернокожей ЮАР, туда перебежали и все упертые проповедники с суровыми воззрениями. Правда, миновал тот век, когда они потрясали сердца африканеров, но свою лепту в сознание Рудигера ван Лиля все же внесли.
Среди инноваций, которые клеймили на воскресных проповедях, имп-технология числилась в первой десятке хит-парада.
Казалось, что такого — кристаллик, идеально годный на роль процессора, хоть для персональных устройств, хоть для микрочипов, хоть в навигационный комп парома. К тому же дорогой и редкий, не всем по карману.
Но толкователи смыслов враз нашли, к чему придраться, — imp, то есть бесенок! И никаким Interface Message Processor из истории сетей их не разубедишь. Отыскали массу соответствий — де, в латыни «импонит» значило «налагать», у французов — «навязывать»… Навязанное наложение — и как бы не клейма! Чьего? Ясно, чьего!
Стало быть, если тебе дорога душа, имп-устройства не для тебя.
Само собой, не для тебя, Руди. Самое скромное из них стоит как авто премиум-класса в заказном исполнении, а которые сложнее — до цены гиперзвукового стратоплана. Вывезти тайком щепотку импов ему даже в голову не приходило. У буров вор — отщепенец, изгой, которому на выбор предлагают — каторга или высылка в ЮАР.
Но хотя будущих вахтеров проверяют полиграфом и отсев велик, здесь Руди чувствовал плотную пошаговую слежку. Весь производственный цикл, начиная с обогащения пульпы, под визуальным контролем. Может, люди на Земле не отрываются от мониторов, смена за сменой глядят, как Вит и Руди ходят по жилым отсекам. Такое реалити-шоу — со скуки завоешь…
А так ли просто приезжают коло из Рассвет-России?.. Формально — да, привозят растворитель пульпы, прочие расходные. Что, если они заодно присматривают за рудничными, выясняют настроения и после пишут рапорты в компанию? Славянская душа — загадка: наполовину — звездная мечта, а другая половина — сумрак и спецслужбы…
На родине не так. В Европе и Америке — кругом надзор и все на подозрении. Дома Руди привык к доброму соседству и недолюбливал глядящие из углов глаз-камеры.
«Но с чего бы, — размышлял он перед сном, — коло стали на компанию работать?.. Деньгами их не купишь — у них коммунизм, все свое или привозное-дармовое. Их впрок содержат, для светлого будущего, чтобы было куда с Земли драпать. За принцип стараются?.. Э, нет, у коло принципы свои, и лучше мне разобраться в них до возвращения».
В ту ночь, когда он пытался понять, чего ради люди на Марс навсегда улетают, ему и приснился этот странный сон.
* * *
Даже не сон, а голос.
Была сплошная чернота, а в ней звучали слова.
— Если ты слышишь меня, я очень рада. Значит, не зря я сижу здесь и говорю в пустоту. Интересно, кто ты?.. Наверно, я схожу с ума. Вокруг так привычно, так обычно, словно ничего не происходит, но все уже будто покрыто тенью — люди, деревья, дома… Даже небо. Глупо делать вид, что наши дела в порядке. Хотя многие притворяются. Или верят утешениям властей. Но повсюду эти приметы… Надо плотно одеваться, защищать кожу. У самых нежных цветов сгорают листья. Сколько нам осталось жить? Говорят, лет сорок, пятьдесят, а потом станет трудно дышать. Это значит, до старости видеть, как гибнет мир. Если только обломки не упадут раньше… Как быть, не знаю. А вдруг тебя не будет и я общаюсь ни с кем?.. Пожалуйста, будь. Выслушай меня. Я так боюсь остаться одна…
Голос прервался, и в наступившей тишине до Руди донесся далекий, долгий свист, иногда звучавший прерывисто, как сигнал об опасности. Потом какой-то шум и неясные крики, словно за окном по улице в панике бегут люди. На этом звуки оборвались.
С пробуждением память о ночном голосе осталась — ясная, четкая, хотя обычно сны ему запоминались плохо. Заученно выполняя бытовой регламент — одевание, санузел, прием прогноза погоды и сводки о работах, — Руди хмурился, пытаясь вытеснить из мыслей горький осадок, оставленный тоскливым женским голосом.
«Откуда это?.. Излучение нам, что ли, потолки пробило?.. Вроде о корональных выбросах не сообщали — значит, не протонка. Что за чушь такая?»
В столовую спешить не стоило — по графику сегодня стряпал Вит. Оставалось время сесть на койку и помолиться, чтобы тягостное впечатление от сна ушло.
Напарник в таких случаях советовал проделать пару упражнений цигун или помедитировать, глядя на призму Пинк Флойд и мандалу Юнга. Но Руди предпочитал проверенный дедовский метод: «Если предкам помогало, то и мне поможет». А восьмерка с призмой куда еще заведут — охнуть не успеешь, как в астрал уйдешь.
— …Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — ни сыны ночи, ни тьмы, — шептал он, переплетая пальцы и склоняя голову. — Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться…
В этот миг ему и явилось открытие:
«Да ведь она говорила на африкаанс! As jy my kan hoor, ek is baie gelukkig… Как там?..»
Сразу, словно в ответ, в голове его отчетливо раздалось:
— Если ты слышишь меня, я очень рада. Значит, не зря я сижу здесь и говорю в пустоту.
Внезапный ужас охватил Руди, и у него невольно вырвалось:
— Стоп, хватит!..
Голос умолк, но еще с минуту Руди сидел, боясь пошевелиться и едва дыша, чтобы слова вновь не зазвучали внутри черепа.
«Плохи дела. Только полгода продержался — и готов. Спишут с комплекса в больницу коло…»
Камера следит. Нельзя показывать, что ты охвачен паникой. Ни словом, ни жестом, ни мимикой.
Для пробы осторожно сделал вслепую пальценосовую пробу — нормально.
Казалось, организм в порядке. В глазах не двоится. Крыс, чертей и тараканов в комнате не видно. Новых голосов — ну, скажем, чтоб подстрекали выйти без скафандра или совершить какое-то безумство, — не отмечается. Вообще мысли больше об упущенной выгоде — кто ж станет платить сошедшему с ума? И сердце колотится.
«Стоит кому-то рассказать — немедленно приедут медики с Рассвет-России. И плакали мои денежки. Глядишь, еще должен останусь… В суде доказывать придется, чтобы неустойку не платить. Значит, молчать. Держать в себе, так?»
Перед глазами, будто строка поиска, явились и угасли призрачные буквы:
«Самое лучшее на Марсе — это сны. Строго храни их в себе и не бойся. Ты не одинок».
«О господи. Откуда это?.. А, из коридора. Почему?..»
— Черт подери! — вставая, раздраженно выругался он сквозь зубы, так и не кончив молитвы.
«Я — моя голова — ведет себя как проклятый компьютер! Запрос — ответ!.. Если написано «Храни в себе» — значит, такое здесь уже случалось? С кем? Какой адрес там был?.. Что-то чужим алфавитом…»
«ВС, градот Скопје, Илија Попов, техничар», — возникла подсказка.
«Спасибо, больной мозг. Теперь переведи ВС».
«Велика Србија. Groot Serwiл. Великая Сербия».
«Значит, я это знал. Читал или видел когда-то, мельком, не запомнил, но оно осталось в памяти… Но почему? Что со мной происходит?.. Илья Попов, техник. Город Скопье. Где-то на Балканах. Только бы высидеть здесь полтора года и долететь до Земли… Я должен найти этого парня, расспросить. Ну-ка, милая, еще раз — Если ты слышишь».
— Если ты слышишь меня, я очень рада. Значит, не зря я сижу здесь…
«Стоп». — Руди решил отдавать команды только мысленно, чтобы мониторинг ничего не заподозрил.
К завтраку он вышел замкнутый и напряженный, но внешне старался держаться непринужденно. И Вит вел себя как обычно. Ни косых взглядов, ни особо пристального внимания. Парень ждал приезда Аэлиты и без умолку говорил о своем. Де, после заправки пульпы в центрифуги у него будет сол — марсианские сутки — безделья, а это подходящий случай съездить в Рассвет-Россию и с большого узла связи задать пару подробных вопросов земным химикам-технологам.
— Вообще там есть с кем поболтать. Так гораздо лучше, чем по телекому. До единства разумов нам далеко, пока будем общаться по старинке…
Руди согласно кивал, поддакивал, работал ложкой и прихлебывал кофе из бурых лишайников, а в голове вертелось колесо мыслей.
«Я компьютер. Типа киборга. Ложился спать как человек, послушал ночью чьи-то жалобы про апокалипсис, а утром — оп! Проснулся знаменитым. Только к свиньям эту знаменитость. Едва открою рот признаться, тотчас попаду в оборот. И не угадать с налета, кто мной займется. Илья смолчал — уехал без проблем. Или с проблемами? Надо разведать, в Скопье он или уже опочил с царями и советниками земли… Уже за то спасибо, что предупредил. А он ли первый так попал?.. Коло и приезжие на Марсе роются полвека с лишком — что, неужели других не накрыло?.. Как разобраться?»
Текучка мыслям не помеха — он проверил режим на руднике, сменил фильтры вентсистемы, свел отчет за прошлый сол по работам, одновременно пытаясь понять перемену в себе и чем она грозит. Все-таки инженерный колледж хорошо ставит мышление — в целом Руди продумал план, как действовать с минимальным риском разоблачения. Осталось выяснить, применял ли это кто-нибудь раньше, и успешно ли.
Связь. Сигнал идет по подземному кабелю в Рассвет-Россию, там кодируется и ждет коммуникационного окна. Антенна колонии — спутник — Земля. Все сеансы должны отмечаться в отчете, поскольку стоят энергии, денег и работы оборудования. Записи прошлых вахт стерты — Руди проверил, — но вдруг сохранились у коло?
Пока Вит запускал центрифуги, лил в них свою ядовитую жижу и отлаживал процесс, прошло часа три.
Здесь и раздался сигнал телекома, оповещая о том, что Аэлита на подходе.
* * *
Что ни говори, Марс на людей повлиял. С тех пор как тут стали рожать, появилась новая генерация как доказательство того, что на землянах эволюция не закончилась. Правда, при этом мускульной силы у мужчин убавилось, зато прибавилось изящества у женщин.
Тонкокостные и грациозные, с большущими глазами диких серн, они ходили плывущей походкой, пленяя кряжистых земных парней загадочными взглядами. По крайней мере, так их подавало коло-ТВ в новостях и клипах. Короткие стрижки — в шлемах излишни пышные прически, — облегающие комбинезоны, шорты и топы, мягкая обувь балетного типа, здоровая худоба и слегка детские черты лица. Им подражали — но где взять на Земле необходимые 0,38 g?..
Пока Аэлита выбиралась из кабины грузового краулера, она почти ничем не отличалась от вахтовиков. Гости-коло редки, вежливость велит встречать их у порога, да и рулить разгрузкой лучше в режиме визуального контроля.
Разница появилась в бытовом шлюзе, когда она сняла скафандр. Действительно, тело — само совершенство. А вот личико осталось скрыто респиратором.
— Аэли, что-то не так? У нас чисто, Вит вчера все обработал…
— Знаю. Но в Рассвете такой порядок. Мы готовы делиться едой, информацией, но не вирусами.
«Мы»; у них всегда «мы» на первом месте. Как они там уединяются, личное время проводят?.. В другой раз Руди представил бы бар в Рассвет-России. Должен же быть у людей бар, верно? Место для танцев, для уюта, чтобы почувствовать себя просторно и легко.
Но на ум пришла церковь. Эта точно есть, ее ТВ регулярно показывает. «Служение в 225.000.000 километров от Земли!» И ведь нашелся гривастый чудак с бородой — лететь сюда, терять кальций из костей, тощать при низкой гравитации, но учить себе преемников из юных марсиан… Одного Руди показали — бойкий малый в черном и с крестом, он же инженер по ТБ, агроном и младший медик. Там все с пакетом разнородных навыков, иначе не выжить.
Почему-то этот парень с бороденкой вспомнился ему при встрече с Аэлитой.
У них исповедь. Устаревший обычай сейчас показался Руди правильным. Должен быть кто-то, кому можно наедине вывалить груз накопившихся проблем и попросить совета. Опять же, в идеале поп — коллектор личной информации без слива на сторону. Тайна — значит тайна. К нему можно обратиться как к базе данных — если были прецеденты одержимости мозга компьютером, ему есть с чем сравнить твой случай, подсказать решение. Таки не врач, личную карту не заведет.
«Надеюсь, святой отец не ждет окна для связи, чтобы отправить рапорт в КГБ, — или что там у них?.. Нет, это потом. Сперва записи прежних сеансов».
— Склад заполнен воздухом, можно пройти туда. Осмотрим тару вместе. Вит, как у нас с обедом для гостьи?
— О, сейчас! Я догоню вас позже.
На складе царил холод. В экономной полутьме шуршали и глухо журчали моторами роботы. Клацали захваты, подхватывая бочки с растворителем, чтобы поднять их на стеллажи.
— Номера семь, восемь, девять — заполнить третий ряд, второй ярус, — приказал Руди. Механизмы поспешили скрыться из виду. Их видеокамерам он тоже не доверял, а других на складе нет.
Общаться с Аэлитой было трудновато, через автопереводчик, — она говорила по-русски, а он ее язык понимал плохо. Приходилось изъясняться коротко и просто, чтобы исключить малейшие ошибки. Накопитель текущего опыта Руди заранее извлек микромонтажной иглой, а то мало ли, что он куда передает. Схему замкнул напрямую.
— Я хочу спросить — на вашей станции межпланетной связи есть архив? За прошлые годы — три, пять, шесть лет?
— Что вас интересует? — мило блеснули ее оленьи глаза.
— Запросы техников на Землю. От новой смены — прежней. Чисто рабочие вопросы. Я полагаю, кто-то обращался к опыту предыдущих работников… Инженерные проблемы, не химия. Для Вита это не интересно.
— Я могу посмотреть. Перешлю по кабелю. Завтра — вас устроит?
— Впол… ап-чхи! — Руди отвернулся, прикрыв рот и нос ладонью. — Извините. Это аэрозоль, дезинфекция — всегда после нее чихаю. Вы тоже опрыскиваете свою колонию?
— Нет. У нас другие средства. — Аэлита смотрела на него внимательно, чуть сузив веки. — Вы хотите получить все тексты сообщений с рудника на Землю?..
— Только от техников. Узнать, кто может дать совет. По-братски, как свой. Было уже много вахт…
— Девять. Ваша — десятая на этом руднике.
— Вы их считаете?
— Просто привыкла знать все, что происходит рядом. Здесь не так много событий.
«Знать… Что знать?» — на миг задумался Руди.
Изнутри пришла подсказка:
«Аэли, что-то не так? У нас чисто, Вит вчера все обработал…»
«Знаю».
«Откуда она знает наш регламент? Зачем это ей?»
— Вы… Почему вы в респираторе? — выдохнул Руди.
— Избегаю гранул абсорбента. Они входят в вашу стандартную процедуру.
— Это… Вит сообщил вам?
— Я здесь! — крикнул химик издали, от складской двери. — Я иду!
— Подумайте, — очень тихо ответила Аэлита, приблизившись. — Вы не одиноки.
«Ты не одинок» — прибавил Илья Попов с Балкан, из дальней дали в двести миллионов километров.
Когда Вит подошел к ним, оба молчали, Руди казался озадаченным. Химику почудилось, что без него верзила из Фолькштата пытался наладить с марсианкой отношения.
* * *
Где она прятала детектор пыли? как читала результаты?.. По слухам, коло при рождении ставят на роговицы биопленчатые мониторы, у них бесконтактная связь с внешними устройствами. В столовой Аэлита личико открыла, но ноздри все равно были закрыты как бы паутинными мембранами, слегка шевелившимися на вдох-выдох.
Они угощали ее, но вся еда была от коло. Лишь молока колония не поставляла. Возить коров на Марс и содержать их здесь — слишком накладно.
— Вит, вы прекрасно готовите, — улыбалась она химику, а тот — сама любезность! — цвел от похвал девушки.
— Когда мы приедем в Рассвет, отведите меня к поварам. Ваши кухни-комбайны мощнее, опций у них больше — покажу, как настроить на зразы и драники.
«Медленно едим. — Руди искоса поглядывал на оживленного напарника, пытаясь внушить ему мысль о скорейшем отъезде. — Тебе час катить с ней вдвоем, только ты и она — представь, как здорово, а? Ну, меньше болтай, жуй скорее. Сол перевалил за полдень, ветер усилился, пыль поднимается — надо спешить!»
Насилу вытолкал пару из шлюза! Даже проводил, помахал вслед рукой — ну все, точно укатили. Впереди сол одиночества — именно то, что ему нужно.
Оставшись наедине с собой и своими страхами, Руди ощутил тяжесть и пустоту на душе. Тающий вдалеке пыльный шлейф от краулера выглядел как прощальный привет — двое веселых людей удалялись, занятые вечной игрой, а он стоял на пороге, между подземельем и пустыней, рассчитывая действия на сегодня.
Намек Аэлиты дал ему посыл, но путь не обозначил.
Впереди расстилалось безлюдье, рыже-серая равнина праха и камней. Лишь на близком горизонте высились зубцы гор, подчеркнутые резкими тенями. Реяли в вышине блеклые облака-пленки. Где-то там, в горных расселинах, скрытая от сжигающего ультрафиолета, медленно росла тонкая накипь грязно-лиловых лишайников, посеянных коло, — будущая биосфера сынов света, сынов дня. Если марсианам повезет однажды раскрутить динамо-машину в жидком ядре планеты, если вернется магнитное поле и прикроет Марс от солнечного ветра, если, если…
Уже не марсиане — ареане. Самоназвание. Словечко мелькает там-сям, приживается мало-помалу. Есть в нем некая арийская заносчивость, гордыня, но ее марсианам прощают за их подвиг самоотвержения.
Они верят, что ядро проснется. Бурят шахты и скважины, строят направленные вниз сверхмощные антенны. Вроде тех систем, что стимулируют мозги сквозь череп.
При мысли о черепе Руди машинально потрогал шлем.
«Это внутри меня. Со мной. Надо было решиться, до бессонницы учиться, с родней спорить, улететь черт-те куда, чтобы тут проснуться с подсадкой в башке… На Земле все было нормально… А может, на Марсе нет Бога? Один супостат Его. Красное бесплодие и бездыханный воздух, сушь и прокаленный грунт. Вдруг нам запретно соваться сюда?.. Мало ли, что русские привезли попа и крест поставили… Принесли себя в жертву виртуальному будущему — и никакой замены агнцем, все в онлайне, в режиме реального времени… Но они сделали это. Даже тень у своих ног отрезали, чтобы не возвращаться. Что здесь можно обрести взамен?..»
Подавленный, вернулся он сквозь шлюз в жилую часть.
Настало время тайных дел.
Причем так, чтобы глаз-камеры и те, кто пишет жизнь вахтовиков, ничего не заподозрили.
«Возможно ли?»
«Да», — ответил голос, до сих пор молчавший. В самом деле, откуда ему знать, есть ли Бог на Марсе?
«Достать использованные фильтры. Правильно?»
«Да».
«Взять из них кусочки для микроскопии, верно?»
«Да».
«Э, дружок, да ты кое на что годишься!.. Может, когда-нибудь подружимся?»
Молчание. Некорректный вопрос.
«Проникнуть в лабораторию. Как?»
«Протокол отключения камер в неиспользуемых помещениях. По регламенту при отсутствии химика…»
«Стоп. Ты подсказываешь то, что я и сам знаю. Ты тот внутренний голос, которого порой так не хватает людям, да?.. Молчи. Отключение, запись в отчете — «Производился ремонт Сети».
«Плановая профилактика».
«Точно, дружок. Все в рамках регламента. А помню ли я, как делается препарат, как включают и настраивают микроскоп?»
Подавленность и пустота отхлынули. Боже, благослови те молекулы, которые в мозгу записывают память! Да, отдельное спасибо за то, что бомльшая часть увиденного как бы забывается. Так вот, ребятки, оно всегда с нами, в архиве. Просто мы не умеем это произвольно извлекать. Нужен гипноз, сыворотка правды, транскраниальная стимуляция, чтобы ленивые молекулы зашевелились и выдали на-гора скрытую инфу.
Манипуляции у Руди заняли больше времени, чем у Вита. Пусть он не наблюдал всю процедуру поэтапно, но догадкой технаря верно домыслил недостающие звенья и подключил манипуляторы. Да и внутренний дружок способствовал.
В поле зрения, среди рыхлых громад-волокон и уродливых пылинок ясно виднелись знакомые ему фигуры импов — блестяще-черные, граненые.
«Теперь — замести следы. Стереть отпечатки, все прибрать, поставить на места».
Кое-что встало на места и в голове. Например, требование компании складировать и возвращать на Землю фильтры. Мы-де заботимся о чистоте Марса, экология, девственная природа, нашим потомкам тут жить, будут яблони цвести и бла-бла-бла.
«Еще бы их не возвращать. Да вы ж удавитесь от жадности, если хоть один кристалл мимо ваших рук пройдет… Но Вит! Каков приятель, а? Ну, только вернись с Рассвета, немочь белобрысая…»
* * *
К приезду химика Руди детально продумал разговор с ним тет-а-тет.
Вне надзора глаз-камер — санузел, склады и ангар для роботов. Прижать Вита в туалете — это ненадолго, а пропажа обоих вахтовиков из обзора в жилой зоне подозрительна. Зато совместный визит на склад оправдан регламентом.
— Надо сходить вдвоем. Ты должен посмотреть на бочки, часть из них странно выглядит, а моим паукам еще с ними работать.
— Мы чего-то не заметили при выгрузке? — встревожился тот.
— Это надо видеть. Идем. Надень теплый комбинезон.
Роботов Руди приглашать не стал. Слишком глазастые.
Там, за стеллажами, он Вита и прижал. Сразу обозначилось, кто сильный от природы, а кто лечится в спорткомнате.
— Вот что, напарник, пора говорить правду. Плохо так жить, когда один от другого таит что-то важное. Расскажи-ка, на кого работаешь, какие ставишь на мне опыты. Марс — уютное местечко для незаконных экспериментов, да? Запираешь человека на два года в погреб — и твори с ним что угодно. Ни расследований, ни тебе массмедиа, все шито-крыто лояльностью к компании… Можешь промолчать, дело твое. Но помни — вся инженерия на мне, и если с тобой случится что-то техногенное, тебя спишут по графе «форс-мажор». Я буду скорбеть и напишу отчет. Ты понял?
Вит так сглотнул, что кадык двинулся вверх-вниз, будто затвор. После посещения колонии он стал бойким, держался приподнято, но тут сразу поблек и сник.
— Что… что с тобой случилось?
— Ничего. Но я нашел следы, которые указывают на тебя. А что должно было случиться? Какого ты результата ждал?.. Потом бы сообщил заказчикам на Землю — в рапорте, кодовым словом. Или бы в обход меня связался с ними из колонии. Как видишь, не на того напал. Придется выложить, что ты задумал.
— Значит, случилось… — Когда ручища Руди разжалась, Вит ополз на корточки и глядел снизу вверх. — Без этого — к чему допрос?
— Без чего?.. Учти, вся твоя почта будет на контроле. А когда соберешься к Аэлите, я маякну связистам-коло. Намекну, что ты не одной добычей импов занимаешься.
— Выбери что-нибудь одно. Или убить, или выдать.
— Есть что выдавать?
— Какие следы ты нашел?
— Импы в воздухе после дезинфекции. Сколько тебе обещали за это?
— …но сначала заметил в себе изменения… Давно?
— Сегодня вопросы задаю я. Кто? Что? Какой аванс?
— Нисколько. Я доброволец. Плата — возможность дышать ими. На Земле они слишком дороги. Погляди на меня. Я был обречен, моя атрофия не лечится. А тут все пошло вспять. И у тебя что-то добавилось. Не бойся этого. Ты не одинок…
— Так, так, — присел и Руди напротив него. — Какая ж фирма этим занимается?
— Не знаю. Мне предложили ньюэйджеры. Такой шанс выпадает не всем…
Жалобно улыбнувшись, он произнес, почти продекламировал:
А призма стоит как прежде, на солнце, на моем столе, по сути — та же пирамида на долларе, в Египте, в Мексике, на Марсе… и глаз, смотрящий во тьме «Проклятые сектанты!»[1]— Значит, это ваша братия подсадку бесенят придумала…
— Импы — не наши. Они остались от марсиан. От прежних, настоящих.
— Хватит меня дурить. Ничего и никого тут не было. Миллионы лет планета голая, как лысый череп. Если и жил кто — ничто не могло уцелеть…
Вит хихикнул:
— Чем меньше частица, тем прочнее к нагрузкам. Ниже пяти нанометров гранулы механически неразрушимы, и миллионы лет им — ничто. Да, от самих марсиан ничего не осталось, но… Считается, что незадолго до гибели они разработали универсальный интерфейс. Совместимый со всем. Импы — его пыль, обломки нанофазного материала. В ней крохи их мудрости, вообще разные записи.
— Бред… — Руди поднялся, пытаясь осознать услышанное. — Марсиане — и мы!.. Что общего? Их импы не должны к нам липнуть. Разная природа.
— А про единство жизни ты слышал? Может, мы с ними в чем-то родня. В любом случае сродство с импами есть. Они, если исправны, интегрируются в мозг. Вот через этот доступ. — Вит потрогал свой нос. — Там обонятельные нервы, прямой путь.
«Нью Эйдж так придет, как тать ночью… — подумалось Руди. — Наверно, правы были наши бородатые начетчики. И что мне, экзорцизмом заниматься? Магнитным резонансом пыль из головы выуживать?..»
— Теперь мы — братья, — с надеждой всматривался в него Вит. — Оба наделены особым знанием…
— Ага, братья. Каин и Авель. Я просил об этом? разрешал?.. Ты был болен, я здоров; теперь наоборот. Надо благодарить тебя, что ли? А мне хочется сделать совсем другое.
— Мы стали лучше, вошли в цикл вечной жизни. Вместе на шаг впереди всех, ближе к единому сознанию Вселенной. Можем обращаться к существам другой эпохи, а значит, смерти нет…
— Знаешь, свою методичку озвучивай тем, к кому будешь на Земле ходить. Может, кто согласится нюхнуть праха здешних покойников и поболтать с ними. А с меня хватит, уже насладился. И еще просьба — с недельку воздержись докапываться до меня с братскими чувствами, ладно?.. Иначе я за себя не ручаюсь.
Он отправился в жилую часть, оставив Вита размышлять на складе.
Там же, как стряхнутый с ладони сор, осталась злость. Что толку ее пестовать? Все уже произошло.
И химик с атрофией, как на крючок пойманный проповедниками новой эры, и отчаявшаяся марсианка, пылью чьего персонального устройства Руди надышался, — все это больше печалило, чем злило. Оба они, разделенные вечностью, были жертвами и вызывали сострадание. Даже Вит…
«Жаль, что не могу ей позвонить — в ее время. Утешить как-нибудь. А что бы я сказал?.. Детка, не плачь. Ты не одинока. Мы придем. Видишь голубую звездочку? Сейчас мы бегаем там в виде сурикатов, уворачиваясь от лап ящеров, но мы себя еще покажем. Построим ядерно-электрические движки мегаваттного класса, прилетим сюда и вспомним тебя. Твоя живая частичка будет со мной, во мне. Алло?»
«Кто это?.. Кто говорит? — настороженно, недоуменно отозвалось изнутри. — Я не вижу входных данных. Кто вы?»
От ее слов Руди чуть о порожек не споткнулся.
«О нет, только не это!»
«Я тебе сколько раз говорила — не входи, когда я закрыта!»
«Ох, пронесло… Стоп! Похоже, архив звуковых сообщений. Мудрость головастых марсиан? а все личные мессаги незамужней барышни — желаете?.. Миллионы лет прошли, а отношения как были, так и остались сложными… Надеюсь, Вит, тебе досталась база данных по их бухгалтерии».
Глаз-камеры запечатлели его лицо, закодировали, переслали в колонию. Дальше сигнал ушел на Землю, а там 3D-анализ мимики на имп-компе дал вывод: «Улыбка. Эмоциональное состояние — радость. Ближайший прогноз настроения — позитивный».
* * *
Ровный суточный ритм на экваторе, отсутствие времен года и монотонный регламент сделали свое дело — Руди не заметил, как истек контрактный срок.
Настал сол собираться домой. Еще минус семь кило, потом полгода медицинской реабилитации — как инвалиду! — с постепенным нарастанием нагрузок. Ходьба в экзоскелете, а уже потом визиты, большие покупки и свадьба.
Укладывая личные вещи, он осознавал, что будет скучать по красной планете. Вжился, привык. Даже родная полупустыня Кару теперь станет напоминать ему Марс — тот, который в будущем, с надежным магнитным полем, атмосферой и чахлой растительностью. Или это уже было, в прошлом…
Кроме родных и близких, его ждал Илья Попов. Они списались — чисто по техническим вопросам, разумеется. Надо продолжать знакомство. Бывшие марсианские вахтеры — спаянная команда, знающая, что к чему.
— Те, кто улетает с русскими паромами, — все прибывают без проблем, — твердо заверила Аэлита. — Мы следим, чтобы им никто не досаждал. Нам нужны на Земле свои люди.
— Как внедренные агенты?
— Мы называем их друзьями. Только их — кто жил, видел и понял. Тех, на кого можно положиться.
— Ты точно решил, что останешься? — повернулся Руди к Виту.
— Мы решили, — любимым словом коло подчеркнул химик, взяв Аэлиту за руку. По тому, как эти двое переглянулись, у них царило полное согласие. — Здесь я в безопасности.
— Но ты много заработал, а на Марсе деньги ни к чему.
— Половину отпишу родне, другую — Институту неврологии, пусть учатся лечить людей вроде меня. А я полезней тут, чем там. Если уж строить новый век, то на передовой. Без инструкций из старого мира.
— Ладно, попробуем вам обеспечить крепкий тыл.
Снаружи ждал краулер. Руди дал влюбленным вместе готовить его к рейсу, а сам задержался в коридоре шлюза. Для надписи выбрал ярко-красный маркер.
Десятая смена завершена успешно. Коло — отличные люди, дружи с ними. Попробуй полюбить планету. Ее сны — чудо для тебя, и только для тебя. Она станет родной, ты памятью соединишься с ней, как все мы.
И ниже прибавил, словно завершил молитву –
Это наш мир. Аминь.
Ярослав Веров Оранжевое небо
Дельтаплан скользил в оранжевом сумраке. Скользил вдоль русла пересохшей Ангарки, покрытого толстым слоем киселя с торчащими из него массивными округлыми валунами, обкатанными за тысячи, а то и миллионы лет. Зима. Пройдет каких-нибудь три года, начнется сезон дождей, Ангарка вспенится, и по руслу помчит неудержимый поток, вздымая высокие фонтаны над прибрежными утесами, наполняя собой необъятный зев Байкала. Но это через три года, а сейчас — туман, валуны и кисель. Молочные реки, кисельные берега, любила говорить мать. Как в сказке. Мы в сказке, сынок, говорила она и иногда напевала, он помнит.
Где-то там, далеко-далеко,
За сплетенными в цепь кольцами горизонтов,
Есть земля, что течет медом и молоком…
Пусть сказка, Егор никогда не возражал старшим. Молочные реки, кисельные берега. Ха! Однако всякая сказка рано или поздно становится былью.
Редкие сполохи в небе превратились в сплошное мерцание, а отдельные раскаты — в негромкий, далекий, но грозный гул. Там, наверху, бушевала гроза. И это не очень хорошо. Гроза — значит снег. Манна, еще одно словечко старших. Снег у них — манна небесная, Егор и тут не против. Манна так манна.
Справа по курсу, в призрачном мерцании электрических сполохов, отсвечивал своими пиками хребет Ермака — изъеденный эрозией, рваный. Прекрасный.
Вот снег сейчас совсем не нужен. Облепит крыло, воткнешься в сугроб. Ежели повезет и сразу не башкой об валун, станешь ждать, когда сядут батареи термака. Или закончится воздух. Что так, что так — окочуришься и помощи не дождешься. Передатчик, может, и мощный, до Базы, может, и достанет, так Батюшка бушует, магнитная буря у него, и продлится суток трое. В аккурат и окочуришься. Нет, не для того дело затевали…
Егор снял руку с трапеции, похлопал по нагрудному карману. Вот она, горошина. А вон наконец и устье, и блестит впереди, окутанная оранжевым туманом, отсвечивающим багровым отблеском грозы, свинцовая поверхность озера. Ткнул пальцем в пульт. Запели электродвигатели, раскручивая кормовые пропеллеры. С легким шелестом складывались сегменты крыла, уменьшая размах, вернее, увеличивая стреловидность аппарата, походившего на летящую задом наперед сбрендившую с ума бабочку. Загудел в лепестках крыла, засвистел в снастях набирающий силу встречный поток.
Подняться метров на пятьсот — радары Базы не засекут, Батюшка славно лютует, да и друг Олег кое-какие меры принял, не хватятся. Повыше надо, потому как поймать пузырь над поверхностью — это сейчас никак не нужно. Это никогда не нужно, а сейчас — ну вот совсем ни к чему. Оно, конечно, зима, пузыри, случаем, выбрасывает нечасто, но не то чтобы совсем не.
Что ж, на скоростомере — двести пятьдесят кэмэ в час, высота пятьсот — значит ждите, буржуины, в гости минут через сорок. И-эх! Что может быть лучше полета над морем? Только полет в космосе. Но это — когда-нибудь потом. Ревет ветер, потрескивают снасти, мерцает небо, и багровые отблески падают на туман, и скорость, скорость… Незваный гость хуже татарина? Гнать раскаленным веником? Или как там… каленой метлой? Посмотрим! И-эх!
Егор невольно сморгнул. А затем сморгнул еще раз. Он уже сбросил скорость, картинка за лицевым щитком, даром что тот оптикоусиленный, вызвала смутное беспокойство. Что-то не так. Ну не мог же он облететь по кругу и доблестно возвращаться домой? Нет, не мог. А значит, чужая База зеркалит нашу один в один. Ничего себе, подарочек. Да вон на берегу купола станции деазотирования, вон сепараторы. Чуть в глубине — куб жилого корпуса, вон электролизная, вон тянутся длинными рядами производственные сектора. А вот и энергостанция — сильно на заднем плане, тоже врезана наполовину в ледяной утес и тоже по виду — плутониевая. И тоководы небось тоже сверхпроводящие. Это что получается — слямзили у нас все буржуины один к одному? Экое инженерное убожество. А что удивляться? Буржуины же. И все-таки как-то оно не по себе. Неправильно.
Егор покосился на левое плечо, на шеврон с эмблемой GazPromSpace, затем на правое. На правом торчал свеженаклееный символ: скрещенные серп и молот внутри алой пятиконечной звезды. Это да, это пусть знают.
— Roger! Unknown board, d’yo hear me? — прорезался сквозь вой помех голос чужого диспетчера.
— Roger! — отозвался Егор и зачем-то добавил на русском: — Принимайте гостей!
Дернул кольцо над головой — над планом с треском развернулось полотнище. Эту шутку придумал Олег, белый флаг, сказал он, универсальный символ мирных намерений. Собьют — и выйдет нам не дружественный контакт, а международный конфликт. Егор не возражал — в особую враждебность конкурентов он не верил, но если другу спокойней, то пускай его, полетаем под белым флагом.
— Okay. — Диспетчер остался невозмутим, можно подумать, к ним с Базы каждый день гости сваливаются. — Sector two, red lights.
Да уж, интересное дело, взлетал — вторая площадка, габариты зеленые, посадка — вторая площадка, габариты красные. Как и не летал. Ладно. Разберемся.
Плавно опускаемся на чистенький — ни комочка киселя — гудрон, крылья вверх, погасить инерцию таким же плавным подскоком, все, прилетели. Отстегнуть карабины, сложить крылья. Осмотреться. Понятно — ни души. И правильно. Ты что, ждал, что станут встречать оркестром?
Ох! Таких женщин Егору видеть на доводилось. Ни воочию, среди знакомых-подруг Базы, ни в трансляциях или фильмах Земли. В голове гудело после шлюзования, детоксикации, медицинского отсека. Вот особенно после него. Рамки сканеров — дело привычное, пробы дыхания — тоже. Но по ходу роботизированный медомплекс — не стоит и упоминать, что точно такой же, как на родной Базе, заставил выпить стакан белесо-мутной жидкости. Ну, значит, хоть вирусы-бактерии у нас разные, уже что-то. И от пойла этого, не иначе иммуномодулятор какой, в голове гудело.
А напротив тебя — девушка с темно-золотистой кожей. Тяжелые черные волосы, роскошные волосы, темные глаза, полные, чувственные губы. Мулатка, чего уж там, понятно, но как-то вот в жизни Егора с мулатками не задалось. Так что и без того слабенький английский сам по себе выветрился из головы.
— Take your place. — Девушка красноречиво указала на кресло, прозвучало как «не стой столбом». — Как вам зьовут?
— My name is Egor, — заученно ответил гость. — А как вас зовут?
— I’m… Jane. Может називат Janie. Ви неожидан guest, Егор. A’yo present ваши руководител? What is your mission?
Ну да, конечно. Как раз старшие об их с Олегом затее должны знать меньше всего. Ну, пока так.
— Я представитель молодежного комитета Базы!
Брякнул так брякнул. Всего комитета пока они с Олегом. Но они же над этим работают! Будет и комитет, не сразу, но будет. Идеи овладевают массами, массы овладевают идеями. Масса на ускорение — уже сила. Что за вздор лезет в голову? Да не пялься ты на бюст этой Джейн. Посол доброй воли, тоже еще.
— Oh! Brilliant. — Взгляд ее сделался еще темнее. — Рассказиват, Egor, please. Я понимат русски better then speak. Командор транслироват in real time.
Ясно. К руководству ихнему его, конечно, не допустят, да того и не ждали. Есть говорящая кукла — красивая, зараза, как восход Энцелада над Его Величеством Властелином Колец. Есть трансляция разговора. Надо думать, начальству. Егор набрал полную грудь воздуха — а вот воздух у них ничего, даже с запахом таким приятным, и принялся излагать отрепетированное.
Изложил о бессмысленности соревнования двух систем здесь, на Титане. И, напротив, о необходимости соединить усилия. Родной планете нужен газ и кисель, то есть сложные органические соединения, добыча их — долг. Но выживать лучше вместе! Ресурса мало, Земля перестала снабжать необходимым уже лет пять. Ни к вам, ни к нам грузовики не садились, только танкеры. Мы предлагаем сотрудничать. От лица всего Союза Социалистических Государств…
— Okay, okay! Enough… — Она рассмеялась, явив безупречно белые зубы. — Сотрудничат, sure. В какой област?
— Космос! — выдохнул Егор. — Кому, как не нам, осваивать Сатурн и окрестности? Спутники! Астероиды! Источник металлов и столь необходимых нестабильных изотопов. Наше поколение хочет, как земные парни. Там, — он махнул рукой вверх, — уже вовсю терраформируют Марс, уже наши, социалистические, корабли оседлали систему Юпитера. А ваш буржуазный мир загнивает…
— Brilliant, — пробормотала Джейн, не поведя и бровью.
— А то! Уверен, вас дезинформируют! Вот!
Он с треском расстегнул «липучку» на груди, вынул из кармана кейс с горошиной. — Вот, покажите это своему… начальству!
Она столь же невозмутимо приняла кейс, открыла. Захлопнула.
— Sure. Wait here for a minutes. — Она встала. И добавила с кокетливым прищуром: — Ми-ну-точ-ка!
Егор уставился на дверь опустевшей переговорной, поправил на коленях шлем, почесал затылок. Последнее, впрочем, мысленно. Не слишком ли он перегнул с пропагандой?
— Этот русский похож на сумасшедшего!
— Русские все сумасшедшие, дочь, — рассудительно заметил ее собеседник, немолодой, сухощавый, подтянутый, что сразу выдавало в нем бывшего военного.
Вернее, просто военного, они бывшими не бывают.
— Ты сам слышал, какую чушь он молол. Союз Социалистических Республик. Терраформирование Марса!
Командир базы — по совместительству отец юной переговорщицы — лишь улыбнулся.
— Отец, он может оказаться и провокатором.
— Может. Но не думаю так. Скорее — жертва коммунистической пропаганды.
Джейн фыркнула:
— Он даже не знает, что их ГазПромСпейс давно поглощен американскими компаниями, что он работает на нас, а их Россия… части России — протектораты нашей Америки.
Командир прошелся по кабинету, провел пальцами по пульту.
— И не узнает, Дженни. Или… А ну-ка, дай сюда кристалл.
Он задвинул горошину в паз анализатора, склонился над экранами.
— Чисто, вирусов нет. Детка, гляди сюда.
Экран вывел в увеличении маркировку горошины: незримую обычным глазом лазерную маску, нанесенную над магнеторезистивным мультислоем контактных дорожек, прямо по монокристаллу сапфира. Штрих-маркер и буквы: «Made in USS». В углу экрана появилась вторая маска — стандартная, с буквами «Made in USА». Движение пальца — маски совместились, показывая полную идентичность. Кроме не совпавших последних букв.
— Ловко. — Джейн вопросительно глядела на отца.
— Да, Дженни, кристаллы созданы в одном месте. Но с разной целью.
— Их дезинформируют!
— Или… Детка, ты не забыла, что рассказывают нам много, но ничего не шлют. И что будет, когда в реакторе догорят последние стержни? — Он раскрыл кристаллотеку. — Так, вот оно. Отдай ему наш кристалл. В рамках… эм, информационного обмена. Действуйте, мисс Дженнифер!
Пока он летал, Базу завалило снегом. Снег срывался и сейчас — большие, плотные комки величаво и медленно опускались с оранжевого неба. Чтобы превратиться в кисель. Микс ценных органических соединений, продукт бушующих в атмосфере гроз. Манна небесная.
Полученная горошина, казалось, жгла грудь аж через термак. Глянуть не терпелось. Конечно, там наверняка пропаганда, и все же. Егор штатно совершил посадку, занес план в ангар и поспешил к шлюзу. В жилом модуле сбросил наконец изрядно поднадоевший термокостюм, запустил комп, загрузил горошину и вызвал по внутренней Олега. Тому до вахты оставалось два часа, и время это напарник коротал, как обычно, на тренажерах.
— Короче, друг, ничего у тебя не вышло, — изрек он, едва Егор кратко изложил итоги миссии доброй воли. — Подожди чуток, скоро буду.
Егор пропустил мимо ушей это «у тебя» — можно подумать, не вместе они готовили визит, а уж речь, так ту сам Олег, больше, и писал.
На экране англоязычная темнокожая дикторша бодро вещала о слиянии GazPromSpace с американской Oil Exxson Universe…
— Знаешь, друг. — Олег хмурился и был непривычно серьезен. — Я вот что думаю: надо докладывать старшим. Погоди! Только не говори, что я это дело замесил, мне и разбираться. Кто у нас сын начальника Базы — я или ты? Если пустим по инстанциям, месяц будут мурыжить.
Егор задумался. С одной стороны — содержимое буржуинской горошины сплошная деза, не может иначе, просто не может. С другой… А Батюшка Сатурн его знает, что с другой. Все неправильно, все не так, как он себе видел.
— Ладно… Иди уже, у тебя скоро трудовые подвиги… по графику. Танкер пришел?
Олег кивнул и вышел. Дверь с легким шипением скользнула из пазов и закрылась за его спиной. Егор взялся за коммуникатор.
К командиру базы, старшему из старших, конечно, просто так не попадешь. И сейчас отец хотел ограничиться дежурным «Егор, личные вопросы в нерабочее время». Как будто оно у него было, это самое нерабочее время. Но, услыхав новости, сменил тон и велел «рысью к нему». Положим, не рысью, а лифтом, но Егор медлить не стал. Может быть, он посоветовался бы с матерью. Но матери уже три года как не стало. Медленные бактерии Титана плохо уживаются с человеческим организмом.
— Ты идиот, сын! — Егор впервые видел отца разгневанным. — Авантюрист — ладно, простил бы, но глупость… Ты понимаешь, что на мне пятьсот живых душ здесь? Зачем полез смотреть?
Он ткнул пальцем в анализатор, куда перед этим заложил полученную у конкурентов горошину.
— Отец, это всего лишь пропаганда…
— Кретин. Это всего лишь боевой вирус, наверняка успел расползтись по всей Сети.
Отец одновременно манипулировал клавиатурой пульта: в углу экрана появилась маркировочная маска стандартного информ-кристалла, скользнула к центру, совместилась с чужой. Полностью, лишь две последние буквы накладывались, не совпадая.
— Ни фига себе… — протянул Егор.
— Угу… Эксперимент есть эксперимент. Старшего кибернетика ко мне! — рявкнул он в коммуникатор. — Внимание всем службам информационной безопа…
Он не договорил. Освещение в пультовой исчезло. Две секунды темноты — и свет явился, но другой: желтоватый и тусклый свет авариек. Уже понятно стало, что происходит. Умный компьютер энергостанции, обнаружив угрозу, закуклился, задвинул в реактор замедлители и перестал подавать электричество. Там, на берегу озера, зябко передернули плечами и замерли насосы. Застыли посреди заснеженной равнины автоматические киселесборщики. В электролизной прекратилось расщепление воды. Замерли синтезаторы производственных линий. А жилой блок… жилой блок протянет на резервных аккумуляторах несколько суток.
Ситуация «уровень ноль», вот что это.
— Космоса, говоришь, хотел? — Отец сделался странно спокоен. — Получишь космос. Полетишь на хаб. Держи.
На его ладони лежала еще одна горошина.
— Держи, кому говорю. Здесь программа полета для вашего… хм… челнока.
— Откуда ты знал, что…
— Оттуда! Конспираторы хреновы. Задача: выйти на внешнюю орбиту, достичь точки L5, высадиться на хаб и запросить помощь. Выполнять!
Егор сжал кулак с кристаллом. Сказка становилась былью, но совсем не так, как ему мечталось.
Что может быть лучше полета на прямоточе над просторами родной планеты? Когда ты и корабль — одно целое, когда гудят компрессоры, нагнетая в камеры сгорания забортную атмосферу, и ревет, вырываясь из сопла, раскаленная струя, когда чем выше — тем стремительнее, там, наверху, много топлива, и приходится снимать ногу с педали газа, чтобы не вылететь в аборт, — за пределы атмосферы, на смертельную эллиптическую орбиту, а сбросив скорость, плавной глиссадой пройтись над бесконечными цепями экваториальных дюн, над вершинами диких хребтов, над гигантскими морями и мелкими озерами…
Егор был пилот, что называется, от Бога. Ему и в голову не могло прийти, что посади любого, выросшего в гравитационном колодце Земли, за штурвал прямоточного метан-кислородного летательного аппарата, и этот любой — еще на взлете не удержит управления и «съедет», разметав обломки прямоточа вперемежку с частями собственного тела по ледяным полям. Или разобъется о свинцовую поверхность метанового океана. Егор родился и вырос на Титане, и оранжевое небо — родное небо — манило его с детства, туда, вверх, где уже различимы и Властелин Колец, и сами кольца, и Энцелад, и Япет, и сверкающий алмаз Гипериона, но еще не видны звезды.
Егор мечтал о звездах. И вот мечта осуществлялась.
Но теперь все не так. Переделанный в космический челнок прямоточ прет в небо свечой, пилот в ложементе — только статист. Перегрузка превращает пятнадцать килограммов веса пилота в тридцать. Риск велик. Выдержит ли герметик кабины космический ваккум? Термак переделан в скафандр самым примитивным образом — многочисленные обручи охватывают руки, ноги, туловище, и неизвестно, как при разгерметизации поведет себя шлем. Два года кропотливой работы их инженерно-пилотной группы, но кто сказал, что где-то не закрался дефект, где-то — неточный расчет?
А корабль уже пробивает тропопаузу, входит в зону ветров, проходит верхнюю ионосферу, и вихревые токи, соскальзывая со сверхпроводящих защитных плит носа, голубыми змеями окутывают фонарь кабины…
Еще вверх. Небо больше не оранжевое — оно иссиня-фиолетовое, и добрую треть занимает желтое пятно Властелина Колец, и двигатель ревет победно — в верхних слоях очень много метана, а затем небо становится угольно-черным, и там, где заканчивается царство Властелина, рассыпаются разноцветные огни звезд.
Двигатель обрывает пение, вибрация корпуса исчезает — тишина, как удар по голове, и наступает невесомость. Ты падаешь, падаешь в неизведанную пропасть, хотя по-прежнему остаешься надежно пристегнут к ложементу. Егор тренировался в свободном падении. Но к невесомости невозможно привыкнуть. Где верх, где низ? Оранжевая поверхность Титана плывет вверху, а космос, наоборот, там, под ногами.
Виток, звонко щелкает клапан переключения подачи топлива, и в соплах вспыхивает уже гидразин: программа коррекции орбиты в экваториальную плоскость, короткое ощущение вернувшегося веса, и снова падение в никуда. Еще виток, еще — корабль прицеливается, корабль скоро оторвется от планеты и устремится по ее орбите в точку встречи — точку Лагранжа L5. Его цель — станция-хаб, космический заправщик супертанкеров жидкого газа, идущих с Земли.
Снова перегрузка, снова тяжесть — в права вступает уже притяжение Батюшки Сатурна, и нет сил любоваться воплощенной мечтой. Слишком многое поставлено на кон, и совсем ничего не зависит от пилота, способного сейчас только читать сообщения программы. Тяжесть нарастает, делается нестерпимой, — корабль чертит пологую дугу, потому что два километра в секунду — это медленно, это очень медленно, на такой скорости полет продлится не одни сутки, а этих суток у оставшихся там, под покровом атмосферы нет. Поэтому — разгон под углом сорок пять градусов к орбите, долгий многчасовой разгон, а затем такое же долгое торможение, тот же разгон, но со знаком минус, и Егор весит уже свои земные девяносто килограммов, и в голове крутится одна и та же мысль: понятно, отчего старшие с детских лет гоняют младших на тренажерах и центрифугах, заставляют приседать с жуткого вида штангами и отжимать их же лежа…
Хронометр бесстрастно отсчитывает время, бортовые системы ведут себя штатно, и на девятом часу полета компьютер оживает: механическим голосом сообщает о входе в зону L5. Снова невесомость инерционного движения, лишь изредка просверкивает пламя боковых маневровых сопел, а звездное небо с хорошо различимым серпом Гипериона вздрагивает. Корабль делает коррекции, пытаясь обнаружить в тысячах и тысячах кубических километрах пустоты цель. На экране радара множество точек, но что из них хаб, а что — астероиды, пойманные в ловушку частного решения задачи трех тел? Программа имеет на этот случай ход конем: в пространство устремляется «мэйдэй», сигнал бедствия.
Текут минуты, тягучие медленные минуты, и в тесноте кабины возникает новый голос — на сей раз совершенно человеческий:
— Внимание. Говорит станция «Титан-Главная». Принимаю управление на себя. Не отключайте пеленг. Как поняли, прием.
— Понял, спасибо. — Егор не узнает своего голоса.
Зато узнает голос «Главного». Вахта на станции длится пять лет, и за эти пять лет можно наизусть выучить и изображения экипажа, и имена. Голос командира станции.
Боковой двигатель отрабатывает коротким импульсом, и одна искра света из всего вороха занимает место посреди экрана и начинает увеличиваться в размерах.
Хаб оказывается огромной сферой, из которой длинным языком высовывается платформа, по торцам которой в магнитных барабанах-захватах внушительно торчат танкеры. Обе поверхности платформы усеяны какими-то сооружениями — то ли ангарами, то ли оранжереями. Стыковочного узла на челноке не предусмотрено, но он и не нужен: ведомый чужой волей, корабль приближается к сфере, та на миг превращается в отвесную стену, и в этой стене раздвигаются лепестки диафрагмы. Челнок медленно — сантиметры в секунды — заплывает внутрь, срабатывает магнитный захват, диафрагма так же бесшумно смыкается, и в шлюзе начинает клубиться туман — подача воздуха.
Хронометр отсчитывает еще двадцать минут, шлюзование окончено, и уже другой голос, женский, кажется, это бортинженер первой категории, разрешает разгерметизацию кабины и выход.
— Следуйте по зеленому светящемуся пунктиру, — говорит голос.
Похоже, здесь есть тяжесть, соображает Егор. Запоздало доходит — станция вращается вокруг своей оси, центробежная сила есть. К счастью, тяжесть невелика — совсем как дома. Земной свой вес он вряд ли смог бы тащить.
Светляки указателей вспыхивают при его приближении и гаснут за спиной. Коридор приводит к лифтовой, в кабинке лифта под ногами загорается надпись «низ», наверху — «верх». А может быть, наоборот? Конечно, лифт идет или от центра сферы, или к центру. В центре, по идее, снова невесомость…
И не по идее, а да, невесомость. Он выплывает из кабины и получает указание закрепиться за трос. Трос сам приходит в движение, тянет к середине занимающего внушительный зал сфероида. Рубка управления.
И она пуста. Вокруг подковообразного пульта, усеянного незнакомыми приборами, кнопками, мониторами, установлено несколько кресел, одно — внутри самой «подковы». И никого.
— Присаживайтесь, Егор! — Голос заставляет вздрогнуть.
Вот только никого не было, а вот в кресле внутри «подковы» — человек. Да, это Петр Николаевич, вахтовый командир Базы. Егор понимает, что ни разу не слышал его фамилии, да и сам командир редко возникал в передачах со станции. И еще Егор понимает, что перед ним не человек.
Голограмма. Да, голограмма — невидимые глазу лазеры подсвечивают невидимую же в обычном свете аэрозоль, распыляемую, наверное, прямо из-под кресла. Егор совершает пируэт, устраивает тело в кресле и только после этого отпускает страховку, вцепляется обеими руками в подлокотники.
— А где… все? — Дурацкий вопрос, но ничего путного на ум не идет.
— На станции нет людей, — мягко произносит «Петр Николаевич». — И не было последние пятнадцать лет.
Егор переваривает сказанное, а «командир», предвещая вопрос, продолжает:
— С вами, Егор, говорит искусственный интеллект. Я и есть «Титан-Главная». Могу поменять визуальное представление, если вам более комфортно общаться, например, с лицом противоположного пола и сходного возраста.
Егор мотает головой — нет уж, хватит и одного видемния. Сейчас он прекрасно наблюдает легкую полупрозрачность «командира» — пульт просвечивает сквозь его спину вполне отчетливо.
— Насколько мне известно, у вас проблемы, — так же негромко продолжает призрак. — Прошу вставить кристалл в ридер. В поручне кресла, у вас под правой рукой.
Егор совершенно машинально достает коробку со злополучным подарком конкурентов, так же машинально обнаруживает под рукой слот, вставляет кристалл.
ИИ, вернее, его отображение, на мгновение прикрывает глаза.
— Остроумно, — выносит приговор он. — Но примитивно.
— А вам… — «Вам» дается несколько с трудом, общаться с разумной машиной Егор не приучен. — Вам не вредно?
Лицо «Петра Николаевича» озаряет скупая улыбка. Призрак качает головой.
— Я — суперпозиция электронных спинов. Квантовик. Столь примитивные поделки для меня всего лишь то же, что и для вас картинка на стене. На картине — ужасный монстр, но ведь он не опасен, не так ли? Кстати, я уже отправил к вам на Базу антивирус. Мощности вашей радиостанции в режиме приема хватит даже на резервном питании. Есть время поговорить. Люди ведь любят поговорить, не так ли?
— Ничего не понимаю, — бормочет под нос Егор скорее самому себе, но призрак прекрасно расслышал.
— О, не беспокойтесь, сейчас все станет ясно. — Он скрестил руки на груди, вытянул ноги, выпрямился.
Невесомость не страшна голографическим изображениям.
— Последняя человеческая вахта, Егор, покинула «Главную» три смены назад. То есть пятнадцать лет назад. Новая не прилетела. Тогда же была утрачена связь с Землей. Буду точен — не с Землей, а с людьми. Околоземные геостационары живы. Смотрите.
Часть вогнутой стены за его спиной превратилась в объемное изображение. Возник космос, в нем — огромный шар, в котором Егор узнал Землю не сразу. Шар не с голубой дымкой атмосферы, а пепельно-серой. Только очертания материков выдавали в нем родину человечества.
— Вы, конечно, хотите получить информацию о том, что произошло на планете. Увы, не знаю. Я показываю вам в режиме реального времени то, что есть.
— В реальном времени?
Он обругал себя за тупость — чтом всю дорогу переспрашивать уже сказанное, но, опять же, ничего умного в башку не лезло.
В башке вообще установилась девственно-чистая, кристально прозрачная звенящая пустота.
— Вы должны быть знакомы с физикой квантовых состояний. Меня создавали в состоянии квантовой запутанности с другими квантовиками. Естественно, у меня мгновенная связь. Но послушайте. В меня заложена программа самосовершенствования. Я могу самостоятельно расширять рамки задач. Особенно интересно имитировать работу человеческого сознания. Я научился этому виртуозно, несмотря на некоторые трудности с высшими эмоциями и чувством юмора. Для них я придумал специальные программы-эмодрайверы. Если я захочу, то могу разозлиться, или взгрустнуть, или…
— Послушайте, как вас, — перебил Егор. — Что вы врете? А передачи с Земли, покорение космоса, построение социализма? А газ, а кисель, мы же все это отгружаем…
Егор осекся. Догадка, очень уж паскудная догадка, первая умная мысль за последнее время, посетила его, и, невзирая на слои термокостюма, прокатилась по спине волна озноба.
— Поймите меня правильно. Люди Земли перестали отвечать, перестали прилетать. Но ИИ остались. Супертанкер по-прежнему приходит за газом и забирает его на Землю. Значит, Земле нужен газ? Поначалу, кстати, он доставлял материалы и оборудование для ваших Баз. Теперь не доставляет. Я должен был решить задачу оптимального функционирования колоний. Сравнительный анализ групповых социальных спектров обоих поселений привел к модели, которая хорошо проявила себя в земном социуме прошлого столетия. Это модель соревнования двух различных общественных систем. Очень сожалею, но модель дала сбой, чем себя исчерпала. Именно поэтому мы и разговариваем здесь об этом.
— Социализм и капитализм?
— Именно так. Хаб же изначально проектировался как международный… я внушал вам соответствующие симулякры, иные — вашим конкурентам. Русские склонны в своем сверх-Я к коллективизму и взаимовыручке, англосаксы — к…
— Так! — Звенящая пустота, похоже, сейчас сменится клокочущей яростью. — Симулякры, говоришь? Значит, квантовик способен лгать?
Призрак оставался невозмутим.
— Ложная информация — термин, не имеющий физического смысла. Информация всегда абсолютна.
— Так почему я должен верить в эти картинки? — Егор ткнул пальцем в истаявшее изображение мертвой Земли.
— Вера — понятие не алгоритмизируемое, — столь же невозмутимо заметил ИИ. — И даже не вероятностное. Вы можете верить или не верить, но запасы расщепляющегося материала для ваших энергостанций закончились. Вам необходимо полагаться на себя. Для этого у вас есть все возможности.
«Эксперимент есть эксперимент», — вспомнилась странная фраза отца.
Что он этим хотел сказать? Какой эксперимент? Над кем?
— Вижу, что вы понимаете правильно, Егор. Неважно, достоверна моя информация или является виртуальностью. Неважно, живы земляне или погибли. Неважно, летают они в космос или не летают. И то, и другое равновероятно, и то, и другое может происходить-непроисходить одновременно-равновероятно. И равновероятно — неважно. Важно другое.
— Что же?
— Вы знаете. Еще не осознали этого понимания в себе, но непременно осознаете. Давайте послушаем песню.
— Песню? Сейчас?
— Песню. Сейчас.
Ответить Егор не успел. Рубку заполнила мелодия — простая, незатейливая мелодия, — и детские голоса:
Вот уже два дня подряд Я сижу рисую. Красок много у меня, Выбирай любую. Я раскрашу целый свет В самый свой любимый цвет! Оранжевое небо, Оранжевое море, Оранжевая зелень, Оранжевый верблюд. Оранжевые мамы Оранжевым ребятам Оранжевые песни Оранжево поют…Максим Хорсун Terra innocentiae
Будь благословенна, Земля Невинности! Страна рыжих песков, каменистых дюн, суровых скал и пыльных небес. Край, где по воле Божьей и по благословению святейшего Папы девять монахов-иезуитов строят храм, достойный величия Его.
Начало любой истории — это Святое Писание. Однако мой рассказ начнется с событий не столь давних, и зачином им стало явление, возможно, неочевидное глазу, но грандиозное и удивительное по своей сути. В пасхальную неделю года 2050 от Рождества Христова монах-августинец аббат Густав Иоганн заметил, что одна из самых ярких звезд небосвода изменила цвет. Предвестник войн и несчастий кровавый Марс внезапно переродился, лишившись пугающей красноты, и воссиял синим сапфиром, подобно звезде Вифлеема.
Путем дальнейших наблюдений было установлено, что отныне Марс — не мертв и не враждебен всему живому. Плотная оболочка из пригодного для дыхания газа укутала покрытые тысячелетними кратерами полушария. Иссушенная, словно мощи, кора исторгла из недр своих прозрачные воды, которые разлились по поверхности планеты морями и реками.
Святейший Папа Бенедикт XVII издал буллу, в которой объявил произошедшее чудом.
Было решено, что первыми на Марс отправятся монахи из Общества Иисуса: ученые, путешественники и миссионеры. Несмотря на юность и горб за плечами, я удостоился великой чести присоединиться к экспедиции.
Ватикан поставил задачу удостовериться, что перерождение Марса — есть результат Божьего Промысла, а не проявление прочих сил — дьявольских козней, колдовства или вмешательства гипотетических пришельцев из других Солнечных систем. Нам было поручено воздвигнуть первый на планете храм, дабы звучало под его сводами Слово Божие и совершалось таинство Евхаристии, даря новому миру благую весть и надежду на спасение.
Для нас же девятерых это был путь в один конец.
Без сомнения, пройдет не так много времени, и тысячи переселенцев пересекут бездну безвоздушного пространства. На Марс прибудут атеисты и безбожники, прибудут добрые христиане и праведники. Я и мои братья будем смиренно ждать этого часа. Наш храм, словно Ковчег Спасения, примет каждого нуждающегося в помощи, утешении или надежде.
Таков был замысел, и мы самозабвенно следовали ему, однако Всевышний, как оказалось, вознамерился иначе распорядиться своими верными слугами.
Полет с Земли на Марс длился без малого два года. Все это время я и мои братья провели в молитве и усмирении плоти. Это была пора непрерывных мук и жесточайшей аскезы. Это было суровое испытание для нас и для нашей веры. Оказавшись взаперти наедине со звездами, мы постигли новые аспекты учения Христа и углубились на пути служения Ему. Нас посещали видения, мы слышали голоса ангелов. Наши надрывные литания разнеслись бы по Вселенной, если бы звук был способен распространяться в безвоздушной среде…
Когда настала пора покинуть «Святой Тибальд», мы уже не были теми людьми, которые некогда поднялись на его борт.
Я спустился по трапу нашего космического скитальца первым и тут же рухнул на колени, чтобы возблагодарить Творца за этот день, за благополучное завершение путешествия и за чистый воздух, которым я снова дышу. Рядом со мной на колени пал брат Яков, но вместо молитвы с его уст сорвалось лишь одно слово: «Гравитация!» — а после он поцеловал камни и пыль.
Брат Михаил приземлил «Святого Тибальда» в защищенную от ветров межгорную долину. Три вершины образовывали гребень вулканического хребта, и руководитель экспедиции професс Габриель Савойский нарек их слева направо — Отцом, Сыном и Святым Духом.
Мы сняли с корабля, которому больше не суждено было взлететь, две фермы крепления сбрасываемых топливных баков и сварили их перпендикулярно друг другу. Это было первое дело, совершенное нами под новым небом нового дома. Взвалив на плечи получившийся крест, мы двинулись к вершине Отца сначала по рассыпчатому щебенистому склону, а потом — по вырезанным ветрами ступенчатым уступам на самый верх. И там, на продуваемой со всех сторон площадке, мы установили символ нашей веры, заглубив его нижнюю часть в черную породу, и там же отслужили первую литургию. Вокруг простиралась пустошь, но наши души были переполнены благодатью, и когда схоласт Станислав вдруг указал на облака, серебрящиеся над Сыном, и произнес громким голосом: «Крылья! Смотрите, там крылья!» — мы все сочли это благим знамением и отозвались в один голос: «Аллилуйя!»
Я могу долго рассказывать о нашем новом доме. Если бы я не возлюбил его всем сердцем, то этот мир превратился бы в изощренную тюрьму без стен и надзирателей.
Ранним утром воздух здесь пахнет снегом и студеной речной водой. После полудня добавляются отчетливые медвяные нотки нагретого солнцем глинозема. Вечером же в дыхании небес ощущается соль молодого моря.
Я помню сделанные аппаратами НАСА фотографии марсианских рассветов и закатов. Теперь тут все изменилось — утренние и вечерние цвета стали такими же, как на Земле, но из-за запыленности атмосферы сумерки тянутся нескончаемо долго, а запад осиян умопомрачительным слоистым заревом, в котором смешаны все оттенки красного.
Подобно земной пустыне, которая преображается после каждого дождя, внезапно разгораясь яркими красками, так оживали и пустоши вокруг хребта Святой Троицы. На гребнях дюн распускались цветы — желтые, бледно-розовые, серо-голубые, тончайшие нити их корней крепились прямо к камням. Тучи песчаной мошки — мельчайших насекомых-однодневок — кружат над пустошью, словно призраки. Наполненные влагой чаши кратеров обжиты коричневыми мхами и трубчатыми серыми лишайниками. В водоемах обитают бесчисленные виды водорослей, мелких моллюсков и проворных существ, похожих на рыб.
Мы установили, что в основе здешней биологии — те же самые белки, благодаря которым существует жизнь на Земле. Несомненно, это был «подчерк» Творца!
Такая близкая родственность внушала оптимизм, поскольку запасы провизии на «Святом Тибальде» таяли, а оранжерея, которая находилась в зоне моей ответственности, девятерых пока прокормить не могла.
Я первый попробовал похлебку из рыбы, выловленной в речушке, чей исток находился на противоположном склоне Сына. Ничего вкуснее я не ел, наверное, всю свою жизнь. Мои братья глядели, как я уплетаю сваренную на костре уху прямо из котелка, и в глазах их читался вопрос, а еще — желание поскорее присоединиться к трапезе. Но они были вынуждены ждать, чтобы удостовериться, что со мной ничего не случится.
Такими были наши первые дни на Марсе. Помимо молитвы и богослужений, мы работали в поте лица. Как только был разбит лагерь, професс определил место под строительство базилики, и мы принялись копать в неподатливом грунте траншею под фундамент. Одновременно мы закладывали объекты нашей будущей инфраструктуры. На вершине Сына мы разместили узконаправленную антенну для связи с Ватиканом, на западном склоне Отца и на восточном Святого Духа каскадами выстроились панели солнечных батарей. Почти сразу начали сборку оранжереи, работа в которой для меня впоследствии стала и ремеслом, и искусством, и призванием.
Так получилось, что мы использовали и простейшие инструменты, вроде молотков и зубил, и самое передовое оборудование, которое когда-либо создавалось по заказу Церкви. Вместе с нами трудились два промышленных 3-D принтера: «Давид» синтезировал лекарства, биодобавки, сложную органику — глюкозу и жиры, которые мы могли употреблять в пищу, а «Голиаф» — строительные смеси, детали и инструменты из различных типов полимеров, пластиковые трубы, элементы строений. В качестве сырья оба принтера могли использовать все, что было под рукой: почву, пыль, грязную воду и все типы органических отходов. Это было очень удобно и даже — богоугодно, поскольку никто не хотел, чтобы прибытие человека на Марс ознаменовалось появлением возле лагеря вонючей помойки.
Здесь мы были сильнее, чем на Земле: каждый мог поднять значительный вес, не прибегая к помощи механизмов. Мой горб больше меня не тяготил, я наконец мог держать голову ровно и даже стал немного выше ростом.
Рук, само собой, не хватало, но никто не сомневался, что с Божьей помощью мы справимся со стоящим перед нами кругом задач. Каждый марсианский сол мы занимались полевыми исследованиями: наблюдением, снятием показаний с различных приборов, сбором биологических образцов, проб воды и почв. Мы работали в лабораториях и мастерских лагеря. Мы занимались заготовкой глины, которой было вдоволь в предгорьях, или камня: как мягкого, вроде туфа или пемзы, так и твердых гранитов и порфиров. Мы трудились над закладкой фундамента храма. Впрочем, оранжерея на постоянной основе была закреплена за мной, как «Святой Тибальд» — за братом Михаилом, а биолаборатория и лазарет — за братом Яковом.
Мы изготавливали кирпичи для храма по примитивной технологии, известной еще в Древнем Риме, одновременно, для заготовки блоков из гранита, мы использовали электропилы с алмазными дисками, о которых строители прошлого не могли даже мечтать.
Чего нам действительно недоставало, так это вдоволь электрического кабеля и изделий из металлов. Мы мечтали о литейном цехе или хотя бы о самой простой кузнице, но пока мы не могли самостоятельно добывать руду и заниматься ее переработкой. Единственным источником металла был «Святой Тибальд», но в его конструкции в основном использовались сплавы, не поддающиеся обработке на доступном нам уровне. Словно опарыши, выедающие внутренности мертвой черепахе, мы потихоньку разбирали корабль изнутри, оставляя нетронутым лишь корпус и двигатели. И я не раз видел на лице брата Михаила грусть, ведь для него то, что нам приходилось делать с космическим скитальцем, было сродни каннибализму.
Професс Габриель вышел на связь с главной курией Общества Иисуса и доложил генералу Джованни Пикколомини об успехах экспедиции. Генерал передал, что Верховный понтифик требует отчет с подтверждением или опровержением сверхъестественной сути преображения Марса. «Нам предстоит еще очень много работы, — ответил професс. — Даже находясь на месте события, мы и на одну миллионную не приблизились к пониманию происходящих здесь процессов. Но одно не подлежит сомнению: Марс сегодня наполнен светом созидания, и мы с братьями как никогда сильно ощущаем близость Всевышнего». Чуть позднее нам были переданы слова Папы. «Sic auxilium vobis Deus!» — лаконично сказал Святейший.
Я находил истинную отраду в работе с растениями. Моими подопечными были шпинат, соя, лук-порей, вьющаяся клубника, немного болгарского перца. Но настоящими любимцами почему-то стали помидоры, хотя на Земле я не замечал к ним особой привязанности — ни гастрономической, ни душевной. Я дал имя каждому кусту, и всякий раз, находясь в оранжерее, я разговаривал с ними, словно с верными друзьями. Господь свидетель, как я радовался, когда пересаженная в подготовленный грунт рассада прижилась и когда на кустах появились первые цветочные кисти. Как подрастающие дети, помидоры поглощали все больше и больше моего внимания: Франческе требовалось удалить лишние побеги-пасынки, Анджею — лишние завязи, Луи нужно было переформировать стебель, а толстуху Эстер подвязать к каркасу оранжереи, поскольку ни один «напечатанный» «Голиафом» пластиковый кол не выдерживал ее веса… Я называл помидорушек по именам, я нежно пожимал им руки-ветви, я с наслаждением вдыхал терпкий томатный запах. Однажды за этим занятием меня застал брат Томаш: он заглянул в оранжерею, чтобы согласовать мой запрос на использование «Голиафа» для синтеза очередной партии химических удобрений. С тех пор меня стали величать «брат Овощ». Даже сам професс время от времени обращался ко мне «Франциск Помидорушек». Я принимал эти колкости со смирением и полуулыбкой на устах, мне грешно было жаловаться на судьбу, ведь Господь наш Иисус Христос и его ученики в свое время подвергались гораздо большим гонениям и насмешкам.
Время от времени кто-нибудь из братьев заходил в оранжерею, чтобы просто посидеть на пластиковом табурете в окружении зелени и подышать запахом удобренной почвы и листвы, навевающим воспоминания о Земле. Чаще всего гости появлялись в вечерний час, когда густой, словно янтарная смола, закатный свет до краев наполнял прозрачную полусферу оранжереи. Я не удивлялся, если братья вдруг начинали откровенный монолог, обращенный равно как ко мне, так и к моим зеленым друзьям.
Брат Аллоизий был старше любого из нас, кроме того, он являлся самым опытным действующим экзорцистом ордена. Специализация Аллоизия наложила печать на его облик. Этот монах обладал не самой приятной привычкой глядеть долгим немигающим взглядом в одну точку, и очень часто эта точка располагалась между глаз у кого-нибудь из нас. Серая борода Аллоизия достигала середины груди, и, наверное, из-за ее тяжести нижняя губа экзорциста всегда была оттопыренной, приоткрывая тем самым неровные коричневые зубы.
— Бедный брат Овощ… — однажды произнес он, глядя, как я старательно поливаю помидорушки. — Путешествие далось тебе воистину непросто. Твое состояние вызывает беспокойство у професса и у меня…
Я продолжал заниматься своим делом. Если Аллоизию есть что сказать — пусть произнесет свою речь. Кому, как не ему, известно, что всякое праздное слово — это тень, которую отбрасывает грех.
— Твоя голова — словно книга, в которой перемешались абзацы, — продолжил экзорцист. — Ты так трепетно обращаешься с кустами на грядках, ты так мило беседуешь с ними, будто ты — волхв или друид. Не произошла ли в твоей душе подмена понятий? Не сотворил ли ты себе идола? Не стал ли этот парник для тебя храмом? Вот что тревожит меня сейчас, брат Овощ… — Аллоизий потер обвисшую губу загрубевшей от работы на стройке ладонью. — Ну-ка, прочти Credo!
Стоя коленями на сырой земле среди бархатистых листьев томатов, я послушно зашептал: «Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae…»
Мне показалось, будто я слышу перезвон китайских колокольчиков. Это были голоса помидорушек: они молились вместе со мной! От осознания этого факта на моем лице сама собой появилась улыбка. Запах томатов в ту минуту был для меня слаще, чем аромат ладана и миро, а шелест листвы так же брал за душу, как и звуки органа в соборе Св. Петра в Ватикане.
Брат Аллоизий тоже опустился на колени и самозабвенно продолжил вместе со мной и помидорушками: «Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum…»
Возможно, моя голова действительно была не совсем здорова. Помню, как на двадцать первый сол я помогал брату Маттео — смуглому и курчавобородому мастеру на все руки — с трубопроводом, по которому в лагерь должна была пойти вода. Погода стояла необычайно теплая, над черными камнями поднимался пар, и густая дымка стелилась вдоль склона Сына.
У нас имелся аккумулятор, подключенный к нему паяльник, набор муфт, связка пластиковых труб трехметровой длины. Дело было нехитрое: нагреваем паяльником, а затем вставляем конец трубы в муфту, потом — еще одну муфту, потом — следующую трубу, и так далее, постепенно подтягивая нитку к лагерю.
Мерно клубящаяся мгла отрезала нас от остального мира, заглушила все звуки… и, когда внезапно раздался детский плач, от неожиданности я повел трубой, которую Маттео как раз собирался приладить к очередному соединению. Труба встала криво и тут же намертво припаялась к муфте. Маттео поднял на меня полный укора взгляд.
— Слышишь? — спросил я, глядя на темные контуры размытых мглой валунов и скал. — Будто ребенок плачет… Младенец!
— Не слышу я ничего, — сердито буркнул Маттео, ведь он действительно был слегка глуховат. — Если ты продолжишь считать ворон, то мы провозимся до вечерни! Подай труборез, раззява! За твоей спиной лежит!
Я покачал головой, а потом поднялся и пошел по шуршащему щебню и чавкающим влажным мхам к скалам.
— Дурень горбатый! — бросил мне вслед брат Маттео. — Нет здесь никаких детей! И быть не может! Лишь бы не работать!
Само собой, я не ожидал найти среди этих первобытных камней малыша. Я никогда не был настолько наивным, насколько, надо полагать, обо мне думали остальные братья. В тот момент я был уверен, что звук, похожий на детский плач, издает какое-нибудь до сих пор неизвестное нам животное или же птица. Вообще, животный мир пустошей, окружавших хребет Святой Троицы, был изучен донельзя плохо. Мне очень хотелось сделать открытие, чтобы порадовать професса, биолога Якова да и остальных. Поэтому я шел туда, откуда, как мне казалось, донесся плач, а за моей спиной монотонно ворчал Маттео.
Внезапно туман уплотнился, и мне явилась женщина с младенцем на руках. На женщине была просторная риза из развевающейся ткани, широкий омофор прикрывал ее пречистое чело…
Раскрыв от изумления рот, я сделал еще один шаг вперед и тут же потерял опору под ногами. Я рухнул на спину и поехал по склону, словно отрок по ледяной горке. Рядом грохотали осыпающиеся камни; моя ряса трещала по швам, а вместе с ней трещали и ребра, истонченные за два года, проведенные в невесомости.
Я упал в раскисшую глину. Шумно упал, с криком и громким шлепком. От удара у меня перехватило дыхание, а вопль застрял в глотке. Я лежал на дне ямы, в которой мы добывали сырье для кирпичей, и глядел в затянутое мглистой поволокой небо. Высоко светило солнце, его лучи золотили верхнюю границу тумана. Неровные края ямы показались мне глазницей, а стоящее надо мной солнце — пылающим зраком; я смотрел в этот глаз, а он прожигал в ответ меня.
Когда Господь вернул способность дышать, я сразу же зашептал молитву Деве Марии. Я не стал распространяться о видении, посетившем меня на склоне, поскольку посчитал, что мои братья еще не готовы услышать такие откровения. К тому же вряд ли увиденное мною действительно было свято: я уверен, что истинная Дева Мария не позволила бы слуге Господнему сорваться со скалы.
Я услышал испуганный голос Маттео:
— Франциск! Франциск! Ты живой, брат?
Помню, как на исходе сорок шестого сола в оранжерею наведался професс Габриель. Он задал мне несколько необязательных вопросов, потом сел на табурет у входа и произнес глубокомысленным тоном: «Господь наш знает толк в терраформировании…»
Я оторвал взгляд от мохнатого стебля толстухи Эстер и повернулся к руководителю миссии. Закатное сияние отражалось от обширной лысины Габриеля, из-за чего казалось, будто его голова окружена кровавым нимбом. Я счел это дурным предзнаменованием.
В юности Габриель пострадал во время Брюссельского теракта, хирурги спасли ему лицо, о былых ранах теперь напоминали лишь неровные шрамы на обвислых щеках и массивном подбородке. Волосы не росли на некогда поврежденных участках кожи, поэтому борода професса всегда выглядела клочковато и неопрятно.
Професс хмурился и играл желваками. Он тоже пришел поговорить о том, что тяготило душу. Оранжерея превратилась в некое подобие неформальной исповедальни; и брат Аллоизий в определенной мере был прав, высказывая подозрение, что это место стало моим храмом, но ответственность в том лежала не на мне одном, но на всех нас.
— Ты знаешь, Помидорушек, — обратился ко мне Габриель, — что мой отец был видным физиком и работал на БАКе? Он столь истово искал опровержение сотворения Вселенной по воле Божьей, что я, руководствуясь духом подросткового противоречия, выбрал путь служения Христу. Ведь всякое действие рождает противодействие, ну, ты в курсе, Помидорушек. В свое время я изучал физику, словно солдат, который зубрит язык противника лишь для того, чтобы допрашивать пленных. Сейчас передо мной стоит задача удостовериться, действительно ли на Марсе случилось чудо. Для этого я должен усомниться в факте чуда и проверить иные гипотезы научными методами. Сейчас я — мой отец. Знаешь, это так странно и тревожно. Как будто время мне отомстило.
Габриель замолчал, подняв взгляд в прозрачный свод. На стекле лежали отсветы догорающего дня. Я опустился на плоский марсианский камень, оставленный для красоты у края дорожки, и приготовился слушать дальше.
— Говорят, что способность истинно верующих видеть ангелов и слышать голоса святых объясняется феноменом измененного сознания, — вновь заговорил професс. — Я также знаком с основными положениями квантовой физики. На квантовом уровне реальность определяется наблюдателем. И на квантовом уровне существует все и сразу — Бог, Акт Творения, Большой Взрыв, пришельцы, ангелы, безжизненный космос, Стивен Хокинг — олимпийский чемпион. Мы как будто заняты перетягиванием каната, и тот, кто победит, реализует свой сценарий квантового мира в мире классической физики. И сейчас я выступаю на противоположной стороне, Помидорушек. Сильна ли моя вера? Не пора ли принять чудо априори, свернуть исследования и перебросить все силы на строительство храма? Как ты думаешь, брат?
Внезапно професс потемнел лицом, схватился за грудь и зашелся мучительным кашлем. Я вскочил на ноги, одним движением переместился к столу, на котором во вместительной пластиковой бутыли грелась вода для полива. Пока я искал, а затем наполнял пластиковый стакан, професс успел прокашляться. Он шумно прочистил горло, сплюнул на грядку и в недоумении уставился на свой плевок. Ком мокроты был коричнево-красным, словно кусок несвежего сырого мяса.
— Domine miserere… — пробормотал Габриель обескураженно. — Только этого не хватало!
— Монсеньор! — встревожился я. — Что с вами?
— Понятия не имею, — ответил он. — В груди саднит, я думал — простуда.
— Нужно, чтобы брат Яков вас осмотрел. Сейчас же, — сказал я.
Я сопроводил професса в лазарет, который был расположен в гулком матовом куполе с тонкими стенами. Все материалы для его строительства «напечатал» «Голиаф». Я вызвал брата Якова — тот молился в своей келье на борту «Святого Тибальда».
— Жан Батист тоже жаловался на кашель, — поделился Яков. — Я и сам неважно себя чувствую.
— Что-то инфекционное? — еще сильнее заволновался руководитель миссии.
— Я вскоре выясню, монсеньор, — пообещал Яков, прижимая головку стетоскопа к волосатой груди Габриеля.
— Похоже, Господь приготовил для нас испытания, — заметил я.
— Ступай-ка лучше к своим кустам и помоги им опылиться, — бросил мне Яков.
Он обнаружил, что професс болен эмфиземой легких в начальной стадии. Прописал ему отдых, дыхательную гимнастику, кислородотерапию и какие-то особые препараты-ингибиторы, которые «Давид», до сего момента не производивший ничего сложнее порошкового вина для причастий, с натугой синтезировал больше суток.
Красноватый цвет мокроты был обусловлен не кровью, как мы все опасались, а вездесущей марсианской пылью. Мельчайшая взвесь, по консистенции похожая на дым, попадала в бронхи и альвеолы, приводила к обызвествлению и появлению инородных тканей. Увы, но с этим ничего нельзя было поделать. Яков пророчил на наши головы хронические силикозы, бронхиты, эмфиземы, возможно — даже рак. Судя по его угрюмой мине, жизнь на Марсе не обещала быть очень долгой и простой.
У меня появились симптомы позднее, чем у остальных братьев. Это была одышка, упадок сил, субфебрильная температура, а затем — кашель-кашель-кашель… сводящий с ума, вызывающий головную боль, провоцирующий бессонницу и доводящий едва ли не до рвоты. Я не мог прочесть даже «Pater noster», чтобы не заперхать, брызгая во все стороны красной слизью.
Можно было встать посреди лагеря в разгар дня и по кашлю определить, кто и где находится.
«Голиаф» напечатал для нас грубую ткань, и теперь каждый монах таскал с собой по отрезу, чтобы не пачкать плевками палубу корабля и полы в постройках лагеря. Тряпки с застиранными багровыми пятнами сушились на бельевых веревках внутри оранжереи, добавляя своим видом одухотворенному зеленому царству мирской прозаичности.
В Ватикане возникшую проблему разбирали на специальном консилиуме. Наш незаменимый «Давид» получил новое программное обеспечение с огромной базой формул различных препаратов и улучшенных алгоритмов их «печати». После обновления софта устройство намертво «зависло». При перезапуске вместо гула, напоминающего жужжание трудолюбивого улья, под кожухом затрещало, и отсек наполнился вонючим дымом. Брат Томаш, на попечении которого находились оба 3-D принтера, за несколько минут выдернул на голове остатки волос. «Давид» на время выбыл из производственного цикла. К счастью, нам удалось устранить поломку собственными силами: часть необходимых деталей «напечатал» «Голиаф», часть — выпилили из электронной внутренности «Святого Тибальда». «Давид» ожил, но все равно отказывался синтезировать половину препаратов из новой базы, упрямо выдавая сообщение о богомерзкой системной ошибке.
Професс и брат Яков решили оптимизировать рабочее пространство в оранжерее, чтобы обустроить на высвободившейся площади маленький «санаторий». Они собрались разместить бок о бок с моими помидорушками койку, чтобы заходящиеся кашлем и непрерывно харкающие братья могли отдыхать и наслаждаться влажным, насыщенным запахами земных растений воздухом. У меня были припасены возражения на этот счет, но мне велели заткнуться.
К сотому солу стены базилики были практически завершены. Жан Батист занялся монтажом арматурного каркаса конхи — полукупола над будущим алтарем. Пустые проемы стрельчатых окон апсиды ждали витражей, а нам всем в свою очередь не терпелось увидеть, как спелые лучи солнца проникнут сквозь цветные стекла в храм, чтобы осиять алтарное возвышение, а вместе с ним — просторный неф.
Професс Габриель отправил в Рим подробный отчет о проделанной за сто солов работе. Ответ, пришедший из главной курии ордена, привел его в замешательство и изумление. Професс призвал братьев отложить все дела и собраться в трапезной на «Святом Тибальде». Тесные коридоры корабля наполнились кашлем, сопением и шарканьем сапог.
— Генерал Пикколомини прислал сообщение! — объявил професс, когда все девятеро расселись за столом. — Оно касается каждого из нас!
Он дал знак брату Михаилу, и тот включил запись. Под низким подволоком зазвучал голос главы ордена.
— Важные новости, братья! Церковь и Его Святейшество с пристальным вниманием следят за вашими деяниями в Terra Innocentiae. Все, что вы совершаете по воле Божьей, способствует укреплению христианской веры и мира на Земле. Ваша страда и ваша самоотверженность не будут забыты. Братья! На прошедшей кардинальской консистории большинством голосом было решено начать процесс по причислению вас к лику святых. Конгрегация по канонизации пока не сделала официальное заявление. Но когда придет время, оно прозвучит. Братья, весь католический мир молится за вас! Deus autem omnipotens benedicat tibi!
Я почувствовал, что у меня онемело лицо. Остальным тоже было не по себе. Мы превратились в соляные столбы, подобно глупой жене Лота во время его бегства из Содома. Лишь брат Жан Батист исступленно кашлял, прикрыв рот заскорузлой тканью.
— Да как такое может быть?.. — выдавил брат Станислав, промокая широкий лоб пропыленным рукавом рясы.
— Для причисления к лику святых необходимо совершение чуда. — Рациональный ум брата Якова апеллировал к существующему порядку и к фактам. — Двух чудес! Причем — каждому из нас! Быть может, я что-то упустил…
— Кто из нас может быть достоин такой чести? — Брат Томаш глядел на братьев, словно в первый раз их увидел. — Кто? — Вопрос повис в воздухе. — Кто, я вас спрашиваю?
— O, mon Dieu! — Жан Баттист наконец смог прокашляться.
— Я всего лишь костоправ, который немного разбирается и в других направлениях биологии, — сказал Яков. — Ни на что большее, Господи помилуй, я не претендую! Быть может, ты свят, брат Станислав? — обратился он к сидящему напротив схоласту.
Станислав округлил глаза:
— Я? Я дал обет бедности и безбрачия, чтоб избавиться от тяжести грехов прошлого и пройти путь искупления! Когда-то я был молодым и ушлым доктором философии… я пользовался своим положением в университете, я был взяточником и развратником… О какой святости может идти речь?
— А я был солдатом, — сказал брат Томаш. — Я воевал против террористов в составе вооруженных сил Коалиции. Война сделала из меня параноика, и в моем прошлом тоже хватает всякого, о чем я предпочел бы забыть. Может, брат Аллоизий достоин? Ведь он всю жизнь боролся со злом.
— Чтобы бороться со злом, нужно глубоко понимать его суть, — медленно проговорил экзорцист и прикоснулся к обвисшей губе. — Такие знания очень близко подводят к краю бездны.
На несколько секунд воцарилась тишина.
— Похоже, это какая-то ошибка, — сказал Томаш и перекрестился.
— Да ну! Скажешь тоже! — возразил Маттео. — В совете кардиналов, прости господи, не бездари сидят. Они знали, за что голосовали.
Яков неожиданно указал на меня.
— Вот Франциск — достойнейший из нас! — сказал он, и у меня тотчас же запылали уши, будто у неоперившегося новиция. — То, что он делает в оранжерее на скупом марсианском грунте, — настоящее чудо!
Братья повернулись ко мне. А у меня же появилось ощущение, будто я — крайний.
— Я ожидал, что его драгоценные помидоры сожрет местный грибок, — продолжил, распаляясь, Яков. — Или что они не переживут нашествия песчаной мошкары или попросту мутируют… Но все эти напасти обошли оранжерею стороной! Франциск — воистину блаженное дитя Божие!
— Да, — улыбнулся Жан Батист, показав испачканные красным зубы. — Наш Куст — еще тот Овощ!
Маттео и Яков рассмеялись. Професс Габриель прочистил горло и негромко произнес:
— При беатификации и канонизации мучеников никаких чудес не требуется.
Понадобилось еще несколько секунд, чтоб смысл этой фразы дошел до каждого.
— Да и вряд ли нас причислят к лику святых при жизни, — добавил экзорцист. — То ли дело — после. Генерал сказал ясно: конгрегация заявление не сделала, не пришло время. Так что ждите, когда пробьет час.
Жан Батист снова раскашлялся, а Яков глубокомысленно протянул: «М-да…»
Професс хлопнул ладонями по бедрам и, словно желая разрядить обстановку, изрек:
— Поскольку мы все уже здесь, не отобедать ли нам? Это не запах ли свежего шпинатового супа доносится из камбуза?
Тень смерти расправила крылья над Terra Innocentiae, и день стал мрачнее ночи.
Шел сто одиннадцатый сол. Я собирал первый урожай томатов, это был торжественный и очень ответственный момент моей жизни. Я предпочел бы остаться с моими помидорушками тет-а-тет, но на койке в затененном углу лежал Жан Батист и читал, шевеля воспаленными губами, Евангелие. Открытые потолочные форточки мелко вибрировали, отзываясь на прикосновения ветра. Вкрадчиво шептала листва. Я изо всех сил старался не увлечься мысленной беседой с моими зелеными друзьями и не заговорить с ними вслух.
Что-то заставило меня поднять взгляд и посмотреть сквозь стекло в сторону примыкающих к лагерю пустырей и темной громады Отца над ними.
Со скалы, увенчанной крестом, падал человек. Он летел, раскинув руки, словно сам был символом нашей веры, и ветер трепал его рясу. Падение длилось несколько мгновений, я не услышал ни вопля, ни вообще каких-либо звуков громче поскрипывания форточных петель. Я почувствовал, как человек упал. Земля вроде как вздрогнула. Но характер этой дрожи был не физическим, а скорее эмоциональным.
То, что я увидел, не укладывалось в голове. Поэтому еще секунд десять, находясь в ступоре, я механически срывал с веток плоды и бережно складывал в ведерко.
Брат Жан Батист отложил Евангелие, раздвинул ветви Франчески и Анджея, приник к стеклу. На его побелевшем лице выступила обильная испарина.
Ступор отступил, я метнулся к выходу из оранжереи. Ведерко перевернулось, и по дорожке покатились спелые помидоры. Жан Батист, неразборчиво бормоча по-французски, схватил залатанные носки, которые он повесил сушиться на изножье койки, но потом плюнул и запрыгнул в сапоги босиком.
Со стороны лагеря к месту трагедии уже спешили братья Маттео, Томаш, Яков и Аллоизий.
— Позовите професса! — на бегу потребовал Яков. — Позовите кто-нибудь професса!
Но никто не откликнулся на его просьбу, все продолжили движение к Отцу.
— Кто там был? — задыхаясь, спросил Жан Батист.
— Брат Михаил собирался покрасить крест, — проговорил Томаш.
— Брат Михаил? — Жан Батист в ужасе схватился за голову. — Нет, Господи! Пожалуйста, нет!
Когда до места гибели нашего брата осталось метров двадцать, все невольно перешли на шаг и далее двинулись едва ли не крадучись. Дело было не в том, что мы хотели отсрочить встречу с неминуемым или малодушничали. Просто в тот момент у нас опустились руки, а в сердца прокралось отчаяние.
Мы вошли в густую тень. От вершины веяло холодом. По небу ползли тучи, цветом и фактурой похожие на наши кровавые плевки. Новый Марс казался нам как никогда чужим и неприветливым.
Все тяжело дышали, кто-то постоянно кашлял. Жан Батист нервным движением пытался убрать с глаз спутанные волосы, но они снова падали ему на лицо. Экзорцист Аллоизий постоянно озирался и принюхивался, словно ожидал почуять запах серы; его глаза нездорово блестели, а из полуоткрытого рта вырывались слабые то ли вздохи, то ли стоны. Томаш шел практически строевым шагом, видимо, проснулись его солдатские инстинкты. Яков был сосредоточен и одновременно — растрепан, можно было подумать, что он только-только испытал на себе посадочные перегрузки. Маттео чесался, как пес, которого заедают блохи.
— Михаил… — констатировал Томаш и перекрестился.
Бедняга лежал лицом вниз на груде щебня. Его руки были раскинуты, словно он продолжал падение. Мокрые волосы походили на разлитую черную смолу. Возле тела валялись куски разбившегося вдребезги кочана огородной капусты. Эта деталь перетянула мое внимание и привела в шок. Капуста? Откуда она у брата Михаила? Уж точно не из моей оранжереи.
Я наклонился и потрогал один из сочащихся влагой кусков. На ощупь — что-то мягкое, совсем не похожее на растение.
— Что ты делаешь, болван? — зашипел на меня Яков. — Это его мозги!
Я поспешно отдернул руку от страшной находки и вытер палец о рясу. Брат Яков прошел вперед, пихнув меня плечом. Маттео и Жан Батист взяли с двух сторон и осторожно перевернули изломанное, тряпичное тело. Я опустился на колени, воздух Марса для меня вдруг стал снова мертвым: гортань сжало стальным обручем.
— Что ж, Михаил-Михаил… — сокрушенно проговорил Аллоизий. — Выходит, ты стал первым нашим святым… Такова Божья воля…
После этих слов я уже не мог сдерживать рыданий. Меня трясло, слезы были горячи, словно лава, и обжигали щеки, рот заполнила тягучая слюна, а из горла вырывались нечленораздельные возгласы, которые могло издавать скорее умирающее животное, чем человек.
— Франциск! Принеси носилки! — потребовал Яков. — Франциск, ты слышишь, что тебе говорят?
Мой добрый Яков дал мне несложное задание, чтоб я не утонул в пучине горя и безумия. Я с благодарностью ухватился за протянутую руку помощи.
Брат Михаил мертв, а Маттео вместе с Жаном Батистом копают ему могилу. Тело лежит на верстаке под пластиковой крышей мастерской. Чтобы скрыть увечья, покойника с ног до головы спеленали светоотражающей пленкой со «Святого Тибальда». Професс пытается написать проповедь, чтобы прочесть ее во время погребения, но не находит слов…
С трудом верилось, что все это происходит на самом деле.
Безусловно, брат Михаил страдал. Его основная работа закончилась, когда «Святой Тибальд» благополучно приземлился и выпустил трапы. Брат Михаил был частью корабля, но корабль мертв, и никогда не взлетит.
Пилот нам больше не требовался, но мы нуждались в инженерных знаниях брата Михаила, мы нуждались в его вере, в его спокойном, как тихая река, нраве и ласковой улыбке.
Мы и в мыслях не могли допустить, что брат Михаил пошел на тяжкий грех самоубийства. Скорее всего произошел несчастный случай.
Я поднялся на вершину Отца вместе с Томашем и Аллоизием. Неровная скальная площадка размерами десять на пятнадцать метров — вот отсюда наш брат отправился в свой последний полет.
Вот крест с окрашенной свежей золотистой краской верхней частью. Вот приставленная к поперечине креста лестница. Вот пятно растекшейся краски. У подножья креста на пыльных камнях лежит кисть.
Я смотрел на это все, и глаза мои застилали слезы.
Томаш подошел к лестнице, проверил, насколько та устойчиво стоит. Все было закреплено на славу, брат Михаил любил основательность. Качнуться лестница не могла, но даже если бы Михаил упал с нее, до края скалы оставалось не менее четырех-пяти метров.
Аллоизий склонился над камнями, его цепкий взгляд подмечал малейшие детали. Вот глубокий след на мелком щебне; тут и там на камнях — едва заметные золотистые полосы, будто кто-то вскользь коснулся кистью.
Томаш подошел к краю скалы и поглядел вниз. Ветер с силой трепал его редкие бесцветные волосы.
— Быть может, Михаил захотел полюбоваться видом, и у него закружилась голова, — предположил он.
…Мы отслужили мессу в недостроенном храме перед недостроенным алтарем. У нас не было дерева, чтобы сделать гроб. Брата Михаила, не вынимая из пленки, положили в грубо собранный ящик из обрезков пластиковой кровли и отнесли к месту погребения на дальней стороне пустыря, примыкающего к горе Святого Духа.
Положа руку на сердце, я не помню, что говорил у могилы професс Габриель. Жан Батист сначала сильно закашлялся, а потом потерял сознание; у него началась рвота. Яков на месте оказал первую помощь, а я помог перенести Жана Батиста в лазарет.
Во время очередного сеанса связи професс поведал скорбные новости Ватикану.
— Генерал шлет нам искренние соболезнования, — сообщил он, когда мы поминали усопшего красной жидкостью на порошковой основе, имеющей очень отдаленное сходство с вином. — Чтобы укрепить наш дух, генерал передал, что с благословения Верховного понтифика ведется подготовка следующей экспедиции: верующие начали сбор пожертвований на строительство второго марсианского корабля!
На поминальном столе также были помидоры моего первого урожая.
Шел сто девятнадцатый сол. По графику я должен был посвятить его сбору биологических образцов в предгорьях. Время выпало удачное, поскольку накануне прошел дождь, и дюны ожили. С собой у меня был посох путника и рюкзак с пластиковыми контейнерами для моих находок.
Брат Яков дал названия многим растениям и грибам, но десятки видов оставались пока что безымянными, а тысячи — до сих пор неоткрытыми. Грязно-желтые цветы, похожие на крошечные ветряки, на высоких и ломких колючих стеблях — это пряные крестоцветы. Мелкие серо-голубые кругляши с мохнатой коричневой листвой — это слезы Магдалины. Розовые образования, похожие на друзы, но нежные на ощупь — это кровь Ареса. Над дюнами висели тучи песчаной мошкары, а более крупную живность я скорее всего распугал кашлем.
Крест на вершине Отца на расстоянии выглядел словно тонкий надрез на марсианском небе, а установленные на западном склоне солнечные панели — будто заледеневший водопад. Красноватые блики солнца, лежащие на каплевидном куполе оранжереи, делали его похожим на фальшивый рубин в лавке продавца бижутерии. Громоздкий корпус «Святого Тибальда» и строящийся храм казались естественной частью скалистого пейзажа. Братья были заняты работой. Смерть одного из нас не должна была помешать выполнить миссию.
Я нашел покрытый окалиной минерал. Очевидно — метеорит. Положил его в рюкзак. Затем поймал и поместил в контейнер крошечное, но чрезвычайно агрессивное паукообразное. Я открыл два новых вида пустынной колючки, невзрачное цветковое, отдаленно похожее на незабудку, и очередной лишайник красно-коричневого цвета.
Ветер из сердца пустошей принес облако пыли. Когда я стоял посреди колючей мглы, не видя ни неба, ни земли, ни себя, то почувствовал рядом чье-то присутствие. Кто-то пристально смотрел на меня сквозь клубы, и это был не дух брата Михаила и наверняка не Всевышний. Ощущения были сродни тем, что посетили меня, когда я упал со склона и лежал в яме — ни живой ни мертвый — под враждебным взором марсианского солнца.
Мне стало не по себе, но разобраться в эмоциях я не успел, потому что пыль вскоре улеглась, а меня скрутил приступ кашля. Хлынула мокрота. Цвет ее был пугающе красным: то ли из-за свежей пыли, то ли дело все-таки дошло до легочного кровотечения. Уже ничего нельзя было понять.
Я присел на камни и тут же заметил на склоне соседней дюны трепет: как будто клочок цветной ткани запутался в сухих стеблях крестоцветов. Кашель как рукой сняло, я метнулся на движение, позабыв про оставленный посох. Пробежал, шумно дыша и поднимая сапогами пылищу, выхватил из рюкзака самый большой контейнер, сдвинул дрожащими пальцами крышку…
Это было крупное чешуекрылое: фиолетово-черный мотылек размером с воробья. Его метаморфоз, очевидно, только-только завершился. Крылья — как свежие лепестки едва раскрывшегося бутона. Они завораживали своей нежностью и хрупкостью. Мотылек цеплялся лапками за стебель и сонно трепыхался, не решаясь взлететь.
«Великолепно! Великолепно!» — приговаривал я, аккуратно запихивая «добычу» в контейнер. Мотылек тут же принялся шуршать — обследовать узилище. Я осмотрелся и буквально под ногами обнаружил полуразрушенную кукольную колыбельку из глины. Вот откуда выбралось мое чешуекрылое!
Пока я разглядывал, стоя на четвереньках, кокон из сухой почвы, кто-то поднялся на дюну за моей спиной. Скатились несколько мелких камней, едва слышно хрустнули реброцветы, похожие на торчащие из земли селедочные позвоночники.
Я обернулся: склон и гребень дюны были пусты.
— Яков? Маттео? — Я был уверен, что на мой зов откликнется кто-то из братьев. Скорее всего — Яков. Почему? Потому что он чаще других выбирался в предгорья за образцами. А еще — потому что мне очень хотелось порадовать его своей находкой.
Когда же мне никто не ответил, я искренне удивился. Все это походило на неуместный розыгрыш.
— Яков! Томаш! — продолжал звать я, но пустошь откликалась лишь ноющим гулом песчаной мошки и колючим дыханием ветра.
Неожиданно я понял, что моего посоха на прежнем месте нет. Я прекрасно помнил, где сидел, переводя дыхание: земля возле пористого камня была изрядно заплевана. Посох я оставил рядом, но теперь он исчез. Куда он подевался? Ветром все-таки его сдуть не могло…
Затем мне в деталях вспомнилось расплющенное лицо брата Михаила. Оно проявилось поверх марсианского пейзажа и оставалось перед моим взором, куда бы я ни повернулся. Тогда стало ясно, что работы сегодня в поле не получится и что лучше не жадничать, а довольствоваться добытыми образцами, среди которых чего стоил один только мотылек. Нужно было признать, что нервы мои все еще не в порядке, и не пытаться гнуть железо.
Я поправил лямки рюкзака и отправился в обратный путь. Мое тревожное состояние назойливо подталкивало обернуться, но я сопротивлялся этой истерии, как мог.
Никогда прежде путь в лагерь не казался мне таким долгим.
В лагере что-то шло не так. Со стройплощадки не доносилось ни звука. Ни малейшего движения, лишь поднимались над прилегающими пустырями невысокие смерчи. Ни голоса руководителя миссии, раздающего указания, ни ворчания Маттео, ни импульсивных речей Якова…
Навязчивый страшок, который поселился в моей душе во время прогулки в пустоши, грозил перерасти в настоящую панику. Я завертел головой: пусто, кругом — пусто. Глаз начал подмечать тревожные детали: там — небрежно брошенный в пыль инструмент, здесь — неплотно запертые двери мастерской.
А потом я увидел братьев: они бежали друг за другом по тропе, ведущей на западный склон Отца. Не теряя ни секунды, я кинулся следом. Сердце мое болезненно пульсировало, а в ушах стоял ноющий писк, будто в моей несчастной больной голове поселилась туча марсианской мошкары.
Что-то стряслось, когда я был в пустошах. Что-то ужасное.
…Братья остановились на скальной террасе на середине подъема к вершине. Я уже понимал, в чем дело, и мне хотелось рвать на себе волосы и кричать диким ором. Монахи обступили мертвое тело: у нас была очередная потеря. И на сей раз это был не несчастный случай, на сей раз это было убийство.
Брат Станислав отправился на западный склон, чтобы очистить от пыли солнечные панели. Это была, что называется, ежедневная рутина: несложная, монотонная работа, отбирающая несколько часов времени. Единственным приятным моментом в ней была возможность любоваться суровой красотой Terra Innocentiae с высоты.
Время, отведенное на регламентные работы с солнечными панелями, прошло. Професс Габриель заметил, что выработка электроэнергии продолжает падать, и отправил разобраться, в чем дело, Маттео и Аллоизия.
Братья, едва начав подъем, смекнули, что произошло непоправимое, и позвали остальных. Солнечные батареи, распложенные по две-три на каменных уступах, были сдвинуты, одна вообще лежала фотоэлементами вниз. На стойках темнели пятна крови.
Когда брат Станислав чистил панели верхнего ряда, кто-то подошел к нему и ударил в горло чем-то острым. Станислав умер не сразу, он цеплялся за жизнь, как мог. Рана не позволяла ему кричать, он пытался добраться до лагеря. Он шел вниз по склону, хватаясь за панели, но на каком-то этапе потеря крови и болевой шок сделали свое дело. Станислав упал с одного уступа, со второго, перевернул батарею, пытаясь подняться… и отдал Богу душу.
Братья почти сразу нашли орудие убийства. Им оказался тепличный кол вроде тех, к которым я подвязывал помидорушки. Его острие было дополнительно заточено.
— Это твое, Помидор? — Яков сунул мне под нос испачканный кровью Станислава предмет.
— Да… То есть — нет… — Я растерялся, потому что такие колья были «напечатаны» «Голиафом» только для нужд оранжереи, и все они на данный момент находились при деле… Впрочем — нет. Толстуху Эстер я фиксировал к каркасу, один неиспользуемый кол стоял в углу тамбура вместе с лопатами, тяпками и граблями. Он настолько мне примелькался, что я давно его не замечал. Я даже не мог сказать наверняка, — до сих пор ли он там.
— Где ты был, Помидор? — строго спросил Яков.
Я часто-часто заморгал.
— В предгорьях. Собирал образцы. — Я поглядел на братьев и пояснил: — Сегодня моя очередь работать в поле.
— Тогда, Куст, почему ты не в поле? — продолжал давить Яков. — И кто сможет подтвердить, что ты действительно находился в пустошах, а не прятался где-нибудь здесь за скалами?
Меня покоробило это неприкрытое недоверие. В качестве доказательства я предъявил контейнер с мотыльком.
— Подтвердить может, наверное, только он… — Чешуекрылое заметалось в прозрачной коробочке. — Я поймал его в дюнах. Думал, ты обрадуешься…
Яков зачем-то ударил меня по запястью. От неожиданности я выронил контейнер, крышка соскользнула, и мотылек выбрался на волю. Стоило ему расправить крылья, как его подхватило ветром и сдуло с уступа. Я проводил взглядом трепетное пятнышко, которое стремительно отдалялось от хребта. Пятнышко превратилось в точку и слилось с фоном.
— Яков… — укоризненно протянул руководитель миссии.
— Монсеньор, мне не хочется об этом говорить, но нужно принимать во внимание, что за случившееся в ответе кто-то из своих, — обратился к профессу Аллоизий. — Кто-то подошел к Станиславу на близкое расстояние и нанес удар. Станислав не ожидал подвоха. Орудие убийства было легко спрятать под рясой.
— Следы… — протянул слабым голосом професс, правой рукой он сжимал нагрудный крест.
— На этой высоте ветер сглаживает все следы… но оставшиеся принадлежат только братьям, — сказал экзорцист, покачивая головой.
Во взгляде Габриеля читалась такая боль, что я едва не потерял сознание. Думаю, если бы Аллоизий заявил, что во всем виноват демон из ада, то професс вздохнул бы с облегчением.
— Нужно сличить следы! — горячо проговорил Яков. — Нужно сделать на «Голиафе»… как это называется? Дактилоскопический порошок! И снять с орудия убийства отпечатки пальцев!
— Но кто займется всем этим? Кто сможет? — спросил, сжав курчавую бороду в кулаке, Маттео.
— У меня есть микроскоп! — заявил Яков. — Я могу!
— Ты — не криминалист и не судмедэксперт, — мягко напомнил ему професс.
Яков попытался возразить, и тогда голос професса стал жестче и громче:
— Среди нас нет ни сыщиков, ни судей, ни палачей. Я уверен, что среди нас нет и убийцы. Господь просто не допустил бы такого.
Все молча глядели на професса. Никогда еще, наверное, наша вера не подвергалась столь серьезному испытанию, как в те секунды. Никогда еще авторитет руководителя миссии не оказывался под большим сомнением.
— Брат Станислав был богословом и клириком, а это значит, что потерю понес не только наш орден, потерю понесла Церковь. Да как вы смеете, стоя у не успевшего остыть тела, разводить суету и бросаться никчемными обвинениями! Чего вы взъелись на брата вашего Франциска?.. — Глаза професса сверкнули, он закашлялся, а потом договорил, с мукой шевеля поалевшими губами: — Мы похороним Станислава как можно скорее! Никаких игр в детективов! Мы здесь для научной работы, строительства храма и развития общины!
Несколько секунд тянулась пауза, заполненная лишь отрывистым присвистом ветра.
— Нужно уведомить Папскую жандармерию, — пробурчал Аллоизий.
— Разумеется, брат, я отправлю генералу самый подробный доклад, — ответил сквозь зубы професс. — Уведомлять жандармерию или нет — решат в главной курии. Ну! — Он поглядел на нас исподлобья. — Кто поможет мне нести тело Станислава?
— И еще — нужно присматривать друг за другом. — Аллоизий приподнял покойника за плечо; голова погибшего схоласта запрокинулась, на всеобщем обозрении оказалась похожая на кратер рана. — Не прихоти ради, а в целях общей безопасности.
Братья двинулись вниз. Я же остался на уступе: уселся на краю и какое-то время просто смотрел на размытые пылевой дымкой пустоши. Я раскачивался из стороны в сторону, обхватив себя руками, и что-то тихонько ныл под нос. В голове не было мыслей, только горячечный туман и желание спать. Затем ступор стал понемногу отпускать. Я поднялся, окинул взглядом солнечные батареи, засучил рукава рясы и принялся за работу. Нужно было поправить положение панелей и очистить фотоэлементы от грязи. Для нормальной жизни община нуждалась в электричестве.
…Очередное погребение походило на фрагмент зацикленного кошмарного сна. Ощущение реальности происходящего исчезало подчистую. Иногда я терялся, мне казалось, что до сих пор продолжаются похороны брата Михаила.
— Вот и Станислав ушел… — сказал Маттео Жану Батисту, и они обнялись, преисполненные скорбью. Я приник к крепкому плечу Маттео и дал волю слезам. А нас троих в свою очередь обнял Яков. Мы были семьей, потерявшей за короткое время двух близких людей.
Далее последовали тревожные открытия и происшествия.
Тот лишний кол, который хранился при входе в оранжерею, действительно исчез. Взять его мог только кто-то из своих… чтобы превратить в орудие убийства. В голове не укладывалось, что такое вообще возможно. Я несколько раз проклял себя за то, что вообще заказал «печать» этих штуковин, ведь мог же обойтись без них. Безмозглый я Овощ!
Професс Габриель подготовил отчет о происшествии. Но отправить его не удалось: на вершине Сына, где находилась антенна дальнего действия, вспыхнул короткий, но очень яркий фейерверк, а затем во всем лагере отключилось электричество. Энергосистему перезапустили, професс и Томаш помчались выяснять, что стряслось. Вернулись злые и удрученные: антенна была мертва, сгорело все, что только могло, — электросиловой привод, система наведения, опорно-поворотное устройство… оплавился даже сам рефрактор. Ущерб был невосполним. Габриель и Томаш без особой убежденности предположили, что причина аварии — в обрыве заземления и статическом электричестве. Дальше — хуже. Выяснилось, что нескольких секунд перенапряжения в сети до срабатывания защиты хватило, чтобы вышла из строя и приемопередающая аппаратура на «Святом Тибальде».
Таким образом, призрачный мост, соединяющий нас с Землей, рухнул, и община нежданно-негаданно оказалась в полной изоляции.
— Временно, — сказал нам Томаш голосом смертельно уставшего человека. — Я посмотрю, что можно починить. В конце концов, это всего лишь радио…
Нам пришлось удовлетвориться этим туманным обещанием, поскольку ничего другого не оставалось. После совместной молитвы мы разошлись по отсекам-кельям, но вряд ли кому-то в ту ночь удалось сомкнуть глаза.
Затем не стало Жана Батиста.
Насколько мы поняли, он встал раньше всех и сразу же отправился на стройку: оценить, что сделано, и прикинуть фронт работы на день, за ним водилась такая привычка. Жан Батист, по-видимому, упал с незавершенной апсиды на насыпанный булыжником черновой пол храма и разбил голову.
— Семь негритят дрова рубили вместе, зарубил один себя, и осталось шесть их, — процитировал Яков, натягивая на руки латексные перчатки. Он стоял у тела погибшего, его глаза были полны слез и злости.
Я с ужасом глядел на месиво из костей и плоти, в которое превратилась голова Жана Батиста.
— Как он так смог разбиться? Как же он так?.. Вдребезги! — Из-за спазма в горле я едва-едва мог говорить.
Яков оценивающе поглядел на меня.
— Даже полный овощ вроде тебя смекает, что и в этом случае дело нечисто. — Яков поднял взгляд на апсиду и призадумался. — Если бы Жан Батист сорвался с такой высоты… Да при здешней гравитации… Уверен, он бы даже палец на ноге не сломал. Отделался бы легким испугом, и все дела. Нет, Помидор. Ему злонамеренно расколотили голову. Как? Это я и собираюсь выяснить.
По движению воздуха и надсадному кашлю я понял, что в храм вошли остальные.
— Неужели это никогда не закончится? — простонал Маттео.
— Закончится, — возразил Томаш. — Закончится, когда закончимся мы сами.
— Снова погребение… — обреченно констатировал Габриель.
— Не сегодня! — неожиданно возразил Яков. — На этот раз я собираюсь обследовать тело брата… Произвести вскрытие: все как полагается. И не подходите ближе! — Он выставил руку, отгораживаясь от нас. — Вы можете уничтожить улики!
— Ты с ума сошел, Яков! — воскликнул Габриель. — Я, по-моему, уже говорил, что мы не станем воображать из себя сыщиков! Эта клоунада оскорбительна! Так мы ни к чему не придем!
Но сегодня Яков был непреклонен. Чаша его терпения переполнилась.
— При всем уважении, монсеньор, я буду делать то, что должен! — бросил он в ответ. — Вы можете остановить меня силой! Или пожаловаться в Ватикан!
Это было прямое неповиновение. Я еще ни разу не слышал, чтобы в таком тоне говорили с человеком, на чьем пальце блестит епископский перстень. Габриель встал между Яковом и нами, развел руками и спросил сурово:
— Здесь есть тот, кто в ответе за смерть Жана Батиста? Именем Господа нашего Иисуса Христа призываю выйти и раскаяться!
Мы молчали. Яков, глядя на нас из-за плеча професса, упер кулаки в бока. Професс перешел к поименному опросу:
— Аллоизий, ты в ответе за смерть Жана Батиста?
— Нет, монсеньор. Господь тому свидетель, — ответил экзорцист.
— Томаш, ты?
— Никак нет, монсеньор.
— Франциск?
— Нет, монсеньор.
— Маттео?
Маттео закашлялся, сложился пополам. Затем выдавил, роняя слюну:
— Нет… Как можно?.. Нет…
— Я заверяю вас, что тоже не причастен к гибели нашего брата, — сказал Габриель, положа руку на сердце. — А может, это сделал ты, Яков?
Биолог фыркнул.
— Я сегодня был дежурным по камбузу. С корабля не отлучался, готовил еду, мыл посуду, драил палубу. Вы все можете это подтвердить. Я не убивал Жана Батиста.
— Тогда выходит, что его никто не убивал, — сказал професс. — По крайней мере — никто из братьев. Terra Innocentiae — это пустыня, в которой обитаем только мы и песчаная мошка. Чего же ты намерен добиться вскрытием, Яков? Установить причину смерти Жана Батиста? Я могу тебе назвать ее прямо сейчас: у него разбита голова…
— Монсеньор, мы гибнем как мухи, — ответил Яков. — Вряд ли Господь желает этого.
Габриель на миг задумался, почесал ладонь о неровную щетину на подбородке.
— Я умываю руки! — произнес он, затем круто развернулся и пошел быстрым шагом к выходу из храма.
— Я, пожалуй, займусь радиостанцией, — сказал Томаш и ушел следом за профессом.
— А мне… опять копать могилу?
Голос Маттео дрогнул. Но в целом мы все держались на удивление спокойно. Похоже, третий подряд визит смерти уже не ранил так больно, как предыдущие, хотя Жана Батиста мы любили не меньше, чем Михаила или Станислава. Волей-неволей наши души начали обрастать панцирем.
— Маттео, погоди пока, — отозвался Яков. — Ты поможешь мне перенести тело в мастерскую, я намерен временно использовать ее вместо прозекторской. Но только после того, как я здесь все осмотрю.
Маттео кивнул и присел на груду кирпичей.
— В таком случае я обследую стройплощадку снаружи, — высказался Аллоизий.
— Добро, брат! — ответил Яков, и экзорцист тут же вышел.
— А что делать мне? — Я опасался, что Яков заставит меня, как человека, не чуждого биологии, ассистировать ему во время вскрытия.
— А ты, Помидор, ступай в оранжерею, — распорядился Яков. — Займись своими обычными делами.
Перекрестившись, я поспешил покинуть недостроенный храм. Запах смерти преследовал меня до тех пор, пока его не перебил густой аромат тепличной земли и моих друзей — растений.
На пустыре неподалеку от могил Михаила и Станислава экзорцист отыскал обработанный гранитный блок из наших строительных запасов. Камень размером с кирпич был испачкан густой кровью. К почерневшим потекам прилипли длинные волосы Жана Батиста. Увы, но это было очередное орудие убийства.
Я принес на камбуз свежую зелень, ведерко с помидорушками и болгарским перцем и занялся приготовлением овощного рагу. Професс Габриель и Аллоизий в трапезной пили дрянной винный эрзац. Сквозь треск синтетического масла в мультиварке я слышал обрывки их разговора.
— Нет ни одного убедительного признака нечистой силы, — говорил Аллоизий. — Ни запаха серы, ни самопроизвольного движения предметов, электроприборы не включаются сами по себе. Свеча горит ровно, если нет сквозняка, огонь не потрескивает, не меняет цвет. Пыль… но на Марсе — повсюду пыль! Наличие пыли ни о чем не говорит…
Професс что-то сказал обиженным тоном. Экзорцист откашлялся и продолжил:
— Вы правы, монсеньор. Иных следов тоже нет. Но Жан Батист не мог сам расколотить себе голову, а затем, уже будучи мертвым, зашвырнуть кирпич на дальнюю сторону пустырей.
— У нас нет возможности установить видеонаблюдение в лагере! — сказал, повысив голос, професс. — Никто не предполагал, что оно может понадобиться!
— Вряд ли Яков продвинется в своем расследовании, — продолжил Аллоизий. — Нужно присматривать друг за другом. А еще — держать под рукой то, что можно было бы использовать как оружие.
Услышав последнюю фразу, я торопливо перекрестился.
— Оружие?! — протянул недовольным голосом професс, я же воочию представил его презрительную мину. — Но, позволь, какое? Тепличные колья? Лопаты? Кирки?
— Для начала сойдет, — вздохнул экзорцист.
К вечеру погода испортилась. Небеса набухли багрово-синими тучами. Молнии контрастно освещали остов мертвой антенны на Сыне и крест на Отце. Ветер посыпал наши головы пылью цвета ржавчины — это были отголоски бури, бушевавшей за пределами межгорной долины.
В мастерской горел яркий свет. Брат Яков не вышел ни на обед, ни на ужин. Подобно чернокнижникам Средневековья, творившим колдовство на мертвом теле, он уединился с трупом Жана Батиста за запертыми дверями. Я буду молиться, чтобы Господь его простил.
Я обошел стройплощадку по кругу. Дышалось тяжело, воздух был густым из-за пыли и запаха озона. Над крестом зажглись огни святого Эльма. Я понимал, что наша миссия висит на волоске. Осилим ли мы вшестером тот объем работы, который был рассчитан на девятерых?
Храм тонул в пыли, в штормовых сумерках он походил на руины давно исчезнувшей цивилизации. Если Господь окончательно отвернется от нас, то незавершенному строению суждено долгие годы одиноко стоять посреди Terra Innocentiae, постепенно разрушаясь и срастаясь со скалами.
Такой ход мысли окончательно поверг меня в бездну тоски. Я направился в единственное место, где моя душа могла обрести хоть какое-то умиротворение — в оранжерею. Остановившись за порогом, я ненадолго задумался, а затем сделал то, что мне не приходилось делать с момента прибытия на Марс: я запер двери на замок.
Моим растениям тоже было не по себе, я читал это в их запахе, в их скульптурной неподвижности. По стеклам с другой стороны шуршали струи песка и пыли, бесперечь сверкали молнии. По оранжерее метались сумасшедшие рваные тени, я включил лампы дневного света и фитопрожекторы, чтобы хоть как-то подавить эту вакханалию.
Койка в окружении покрытых бриллиантовой росой ветвей была более чем уместна. Но прежде чем повалиться на давно не стиранное одеяло, не снимая обуви, я помолился за братьев: за ушедших от нас на Небеса, но главное — за живых. Нам нужны были вся стойкость и все мужество, которые только мог дать нам Господь.
Помидорушки вторили моей молитве звонкими колокольчиковыми голосами.
…Мои сновидения были пыльными сумерками, населенными тревожными образами. Я метался во мраке, боясь наткнуться на тела мертвых братьев. Но еще больший страх вызывал тот, кто следил за мной из-за клубов пыльной тьмы, не раскрывая себя. Это он лишил монахов жизни. Похоже, сам Сатана пересек космос следом за «Святым Тибальдом», чтобы не позволить форпосту христианства закрепиться на землях Марса. Такой простой и логичный ответ на вопрос, в чем причина наших несчастий, привел меня в ужас. И когда посреди сна вдруг раздались грохот и дребезжание, я не смог сдержать крик… и пробудился с заходящимся сердцем.
Буря достигла своего пика. Ветви помидорушек покачивались в ощутимом токе воздуха: похоже, где-то треснуло стекло.
В дверь стучали, да так сильно, что содрогался каркас оранжереи. Я скатился с кушетки, оступился на дорожке и упал на одно колено, едва не зацепив рукой хрупкий ствол Анджея.
Открыв дверь, я обнаружил за ней Якова: он стоял, нахлобучив капюшон по самый подбородок. В опущенной руке сиял фонарь, на груди болтался респиратор.
— Проснись, Помидор! — бросил Яков, хотя очевидно было, что я и так не сплю. — Нужна твоя помощь!
— С радостью, брат, — отозвался я. — Что нужно делать?
— Бери лопату и кайло. Придется эксгумировать тела! — торопливо проговорил он. — Я нашел у Жана Батиста кое-что необычное, нужно проверить на этот счет остальных погибших. Начнем с Михаила.
Меня словно ударили под дых. Нет, всего этого было слишком много для моей несчастной головы!
— Экс… что? — с ужасом выдавил я. — А професс разрешил?
— Конечно нет! — Яков поднял капюшон, его глаза пылали нездоровым блеском. — Но Аллоизий в курсе! Професс выпил вина и теперь до утра не высунет носа со «Святого Тибальда». Тем более — в такую погоду!
Сверкнула молния, над хребтом оглушительно загрохотало. Я не мог понять: то ли это Господь гневается, то ли дает знак, что настала пора решительных действий.
— Чего уставился, Куст? Хватай инструмент, маску, очки и тащи свой горб за мной!
…Мы шли сквозь пылевые течения, которые порой становились такими плотными, что гасили свет фонаря. Ржавая поземка грозила сбить с ног. Лагерь перегородили свежие дюны, через которые приходилось переваливаться, набирая песка за голенища сапог. Я не мог даже представить, какой ад творится сейчас за пределами нашей долины.
Раскапывать могилу брата Михаила пришлось мне. Яков помогал, чем мог: светил фонарем и подгонял. Я снял верхний слой щебня, затем, опасаясь повредить гроб, принялся рыть руками. Мои перчатки успели прохудиться, когда наконец я освободил крышку.
— Открывай! — распорядился Яков. — Мы вытащим его из ящика!
Я перекрестился и сдвинул крышку. Яков направил луч фонаря вниз. Засверкала светоотражающая пленка — космический саван Михаила.
— Ну? Чего застыл? — прикрикнул на меня Яков. — Вытаскивай за ноги!
— Похоже, я только что открыл новый вид могильных червей… — ответил я, наблюдая копошение в складках пленки.
— Поздравляю, Куст! — Луч фонаря нетерпеливо дернулся. — Заодно возьмешь образцы для лаборатории. Вытаскивай!
Пониженная гравитация Марса позволила мне в одиночку поднять тело Михаила. Яков взял покойника за плечи, и мы вдвоем понесли одеревеневший сверток к мастерской, не забыв забрать с собой и инструменты.
Биолог отворил двери, клацнул рубильником, который включал освещение, затем, пятясь, втащил тело Михаила внутрь помещения.
— Клади на свободный верстак! — по-хозяйски распорядился он.
Я вошел в мастерскую и осмотрелся, за что едва не поплатился: к горлу подступил весьма объемистый ком. Пришлось с силой стиснуть зубы, чтобы подавить приступ тошноты.
Жан Батист лежал под лампой, слепящей белым светом. Его грудная клетка была распилена и открыта, словно саквояж. Органы были вынуты и покоились в нескольких пластиковых ведрах, над которыми кружила песчаная мошкара. Похоже, Яков собирался сделать то же самое и с Михаилом.
Я попятился и замотал головой, давая понять, что не имею желания принимать участие в этом действе.
— А ты что думал? — Яков сорвал респиратор и фыркнул. — Это тебе не с помидорами разговаривать!
Я отступил к дверям. Маску решил не снимать: лучше дышать пылью, чем смертью. Яков посмотрел на меня, и взгляд его неожиданно смягчился. Он порывисто взмахнул рукой:
— Уходи! Ступай в мою лабораторию! Но не вздумай спать! Я позову, когда понадобишься.
Биолаборатория находилась по соседству с мастерской. Я перебрался через пару молодых дюн и толкнул двери. Щелкнул незапертый замок, меня обступила темнота. Наконец можно было снять маску, очки и перчатки. Я не стал включать основной свет, чтобы подозрительная активность не привлекла внимание братьев на «Святом Тибальде», сел за рабочий стол Якова — подальше от окна. Прерывистые вспышки молний отражались на выпуклостях расставленной аккуратными рядами лабораторной посуды.
Я стал ждать. В лаборатории пахло теплым пластиком и едва уловимо — формалином. Делать было решительно нечего, разве что — молиться. И напрасно Яков предполагал, что я могу уснуть. Уснешь тут… Моя нервная система была переплетением раскаленных проводов, по которым пропустили электричество. Наверное, те же самые ощущения испытала наша антенна дальней связи перед тем, как осыпать территорию лагеря брызгами расплавленного металла.
Время шло, а Яков все не появлялся. Если дело будет продолжаться в том же духе, то до рассвета мы не управимся.
Я выглянул в окно и понял, что бледное созвездие бортовых огней «Святого Тибальда» больше не пробивается через пыльную круговерть, а вместе с ним погас и свет в окнах мастерской. Снова сработала защита, отключив энергосистему поселка. Что, в общем-то, неудивительно в такую-то грозу… Однако я был слишком напуган и взбудоражен, чтобы удовлетвориться само собой разумеющимся объяснением. Я почему-то сразу понял, что гроза тут ни при чем.
Снова нацепил влажный изнутри респиратор, толкнул двери. В свете молний двинулся к мастерской. Чем ближе я был к цели, тем непослушнее становились мои ноги. Каждый шаг — словно под водой и навстречу течению. Острые частички песка впивались в щеки и звонко бились о стекла очков.
За порогом мастерской царила тьма.
— Брат Яков! — крикнул я, придерживаясь за двери. — Яков, ты здесь?
Как я и боялся, мне никто не ответил. Все это напоминало ночной кошмар, внезапно продолжившийся после пробуждения.
Сверкнула молния, на долю секунды осветив помещение, и я их всех увидел. Нагого и вскрытого Жана Батиста. Наполовину извлеченного из фольгового савана брата Михаила: один его глаз свисал из глазницы на посеревшем нерве. И Якова.
Биолог сидел на полу в ворохе светоотражающей пленки, опершись спиной на стойку верстака с телом Михаила. Его светлые глаза смотрели в пустоту, а по лбу, вдоль прямого носа и по шее стекали черные струи.
Я сорвал маску и закричал во все горло. Больше всего я желал, чтоб Господь сейчас же забрал и меня. Хотелось, чтобы меня просто не стало; хотелось быть развеянным ветром вместе с пылью.
Вновь произошло непоправимое. Причем несколько минут назад! Когда я был в двух шагах от мастерской!
Зачем я ушел? Если бы я задержался и стал помогать Якову, то он наверняка сейчас был бы жив и здоров! И он разгадал бы загадку таинственных смертей. Я не просто струсил, я предал и погубил брата! Я предал и погубил с таким трудом начатое им дело!
В истовом блеске очередной вспышки я увидел орудие убийства. На сей раз им стал геологический молоток из наших инструментов.
Я снова закричал, сорвал с головы капюшон и схватился за голову.
Как теперь быть? Что я скажу братьям?
Как мы вообще сможем выжить без Якова — нашего единственного врача?
Наверное, это было прохождение той «точки невозврата», за которой — лишь крах. Что бы мы ни предприняли — крах. Я почувствовал себя так, словно с меня сняли заживо кожу.
— Чего вопишь, Овощ? — Чьи-то пальцы с силой сжали мне плечо. — Ну-ка, расскажи, что тут творится?
Я узнал приглушенный респиратором голос Аллоизия. Вместе с ним пришел и Маттео. Яростные вспышки грозы отражались в их очках, и мне подумалось, что так пылает праведный гнев их очей.
Професс Габриель, скривившись, принял порошок: высыпал его в рот с согнутого пополам клочка бумаги. Затем сделал большой глоток воды из помятого пластикового стакана. Помассировал лицо жестом смертельно уставшего человека, с видимым усилием разомкнул воспаленные губы и спросил:
— Яков не сказал, что было не так с телом Жана Батиста?
— Нет, монсеньор. — Я потупил взор. — Не успел.
— О-ох, — гулко простонал професс, известие о гибели Якова совсем выбило его из колеи, теперь он как никогда выглядел всего лишь измученным долгой болезнью стариком. — Нужно предать братьев земле… — сказал он, прикрыв глаза ладонью. — Пойди и помоги остальным… Нас теперь вдвое меньше, чем прежде. Нам теперь придется делить любой труд поровну.
Я склонился, чтобы поцеловать профессу перстень.
— Нам некуда отступать, брат Помидорушек. Или мы одолеем этого дьявола, или погибнем, — сказал он и закашлялся. На его губах выступила кровь. Я почему-то уже не сомневался, что это — именно кровь, а не окрашенная марсианской пылью слюна. Интуиция — это возможность предугадать, какой из множества сценариев квантового мира воплотится в жизнь.
А потом мы нашли их, и это стало бы самым большим открытием в истории человечества, если бы на Земле имели возможность о нем узнать.
Началось все достаточно обыденно. День не предвещал каких-либо прорывов. Собственно, мы ничего и не ждали, все были как на иголках, все боялись собственной тени. Стройка остановилась, исследования остановились. Биолабораторию закрыли, собранные образцы и записи Якова уложили в контейнер и оставили в пустом трюме «Святого Тибальда». Мастерскую закрыли. Печь, в которой некогда обжигали кирпичи, давно остыла. Брошенные под открытым небом стройматериалы постепенно заносило песком.
— Профессу Габриелю становится хуже, — сказал Аллоизий, собрав остальных в оранжерее. — Нужно, чтобы кто-то присматривал за ним днем и ночью.
Экзорцист стоял возле стеллажа с ящиками, в которых у меня дозревали бурые помидоры, и рассеянно перекладывал плоды с места на место, будто что-то смыслил в сортировке. Маттео и Томаш сидели на койке. Я, чтоб не терять времени даром, занимался подкормкой: отмерял по литру смеси воды и удобрений на каждый куст, а затем тщательно, с молитвой, выливал под корень.
Томаш поднял руку, словно школьник.
— Я присматриваю за принтерами, за кораблем, за энергосистемой. Я присмотрю за профессом, мне не сложно. И не нужно далеко отходить от корабля.
— Хорошо. — Аллоизий подергал себя за оттопыренную губу. — Тогда я приведу в порядок солнечные панели: хочу поработать на свежем воздухе в одиночестве и подумать. Маттео, ты бери Овоща и иди с ним на речку за рыбой: мы слишком налегаем на остатки корабельных запасов, а нужно переходить на местные ресурсы.
— Не пойду я с Овощем, — неожиданно проворчал Маттео. То есть проворчал он вполне ожидаемо, поскольку это была его обычная манера общения, а вот столь категоричный отказ мы слышали от него впервые. — Яков подозревал, что Овощ может быть причастен к смерти наших братьев. А потом мы нашли Якова мертвым, а Овощ стоял у его тела в невменяемом состоянии, — пояснил он. — Вы как хотите, а я с ним никуда не пойду.
Я так и застыл — на коленях перед раскидистым кустом Франчески. Рука дрогнула и с хрустом смяла пластиковую бутылку, из горлышка которой мне на рясу плеснула вода. Не нужно объяснять, насколько больно было слышать о себе подобные речи. Тем более — от простодушного и искреннего работяги Маттео.
— В таком случае на тебе — солнечные батареи. — Аллоизий ни словом не укорил брата за недоверие ко мне. — А с Овощем на реку пойду я. Постарайтесь, чтоб к нашему возвращению здесь ничего не случилось. — Он строго постучал пальцем по стенке ящика с помидорами.
— Все в руках Господа, — отозвался Маттео.
Полдень — не самое удачное время для рыбалки, но Аллоизий не хотел, чтобы мы удалялись от лагеря в темное время суток.
Вооружившись ведрами, сетями, захватив рюкзаки с нехитрой снедью и всякой полезной мелочовкой, мы двинули через долину в обход Сына. Над скалами повисло ватное одеяло низких туч, солнце выглядывало из разрывов, населяя Terra Innocentiae четкими тенями, а потом снова пряталось, и тени покорно таяли в равномерном сероватом свете.
Шагалось легко. Свежий воздух и первобытная красота этой земли волей-неволей притупляли терзавшую нас душевную боль. Вокруг все дышало чистотой, и тот несущий благодать «свет созидания», о котором професс Габриель упоминал в своем первом докладе, освещал камни, оживляя вкрапленные в них кристаллы, и пятна разноцветных лишайников, и изломанные суровые скалы, и спешащие прожить свой короткий век тучи песчаной мошки. Само собой, пронизывал он и нас — благочестивых братьев, согревая своим ласковым теплом. И в какой-то момент я поймал себя на том, что начинаю думать о случившихся печальных событиях, как о безвозвратно канувшем вместе с ночью страшном сне.
Как же мне хотелось, чтоб все так и было! И когда мы вернемся с уловом, нас встретил бы Яков, рассчитывая найти среди пойманных существ еще неоткрытый вид, а Жан Батист помахал бы рукой, стоя на строящейся стене храма, и брат Станислав поинтересовался бы, когда будет готов обед…
Река брала начало в еще не исследованных пещерах хребта Святой Троицы. Со склона Сына ниспадал водопад, который нельзя было назвать ни бурным, ни величественным. В низкой гравитации вода струилась плавно, и можно было проследить взглядом за каждой каплей, отделившейся от основного потока. Внизу вода собиралась в округлой чаше скалистого бассейна, чтобы, преодолев порог, отправиться в путь через северную часть Terra Innocentiae.
Мы поставили сети за порогом, ледяная вода приятно обожгла натертые сапогами ноги. Когда этот этап был завершен, мы расположились среди камней, чтобы перекусить. Аллоизий открыл термос и разлил в миски овощную похлебку, приправленную синтетическим жиром. Я достал из своего рюкзака сверток с еще буроватыми помидорушками и пучком салата. Аллоизий был молчалив и за всю дорогу обмолвился лишь парой-тройкой слов, я знал, что экзорцист размышлял, поэтому не навязывал ему разговора. Но как только Аллоизий увидел свежие угощения из оранжереи, взгляд его неожиданно потеплел, и суровый монах изрек: «Да благословит тебя Бог, Франциск! Что бы мы без тебя делали! Тем более — в такое сложное время…»
Эти простые слова тронули меня до глубины души. Я склонился над миской с похлебкой, чтоб Аллоизий не увидел на моих глазах слезы. И тут мой взгляд упал на узкую полоску мокрого песка, что тянулась у самой воды. На ее краю отчетливо просматривался узкий след босой ноги. Мы с Аллоизием в том месте не топтались, да и размер стопы у обоих был, несомненно, больше.
Экзорцист проследил за моим взглядом и сразу же отставил миску. Он встал, опершись на мое плечо, одним движением переместился на песок. Своим видом в этот момент Аллоизий походил на взявшего след добермана.
— Идем-идем! — Он несколько раз взмахнул ладонью и кинулся вдоль русла вниз по склону.
Я не понимаю, как Аллоизий смог их найти. Наверное, сам Господь провел его через лабиринт из черных скал и коридоров, некогда прорезанных между глыбами бурными потоками.
Мы спускались все ниже, то отдаляясь от реки, то подходя вплотную к воде. Аллоизий озирался, шумно нюхал воздух, а порой ложился на землю, чтобы получше разглядеть бессмысленный для меня рисунок щебня и растрескавшегося глинозема.
В конце концов он привел нас к пещере: древней лавовой трубке, занесенной на половину высоты осадочными породами. Экзорцист жестом показал, что дальше идти нужно как можно тише. Он также удостоверился, что ветер не будет дуть нам в спину. Я же сосредоточился на том, чтобы не закашляться.
Они ели речную рыбу живьем. Они не знали ни утвари, ни инструментов. Их улов вяло трепыхался, брошенный прямо на камнях.
Мужчина и женщина. Безусловно — юны, очень худы и узкоплечи. На их лицах отсутствовала первобытная грубость или какая-либо отталкивающая неправильность. Орлиные черты, высокие острые скулы, миндалевидные глаза. Эти люди были похожи друг на друга, словно брат и сестра.
Одежды нет, но на телах — густой светлый пух, с лихвой компенсирующий ее недостачу.
Я перекрестился.
— Адам и Ева, — задумчиво прошептал Аллоизий, а потом повернулся ко мне: — Готов? Идем знакомиться?
Честно говоря, я усомнился в разумности такого решения. Поскольку у нас с обитателями Марса общая биология, мы могли убить эту хрупкую пару, просто чихнув в их сторону. В голову сразу приходили печальные эпизоды человеческой истории, когда дикарские племена вымирали, поскольку не имели иммунитета против инфекций, которыми их одаривали представители более «развитых» цивилизаций.
Но в Terra Innocentiae происходили странные и страшные события. И хотя я категорически не верил, что эти невинные дети могут быть к ним причастны, требовалось как минимум удостовериться, что это действительно так.
Аллоизий вышел из укрытия за валуном и направился к Адаму и Еве.
Юноша спохватился первым. Он издал горловой звук, порывисто вскочил и замер на полусогнутых в коленях ногах. Из его рта торчал трепещущий рыбий хвост, а в руках, словно сама по себе, возникла длинная палка, и я с удивлением узнал в ней утерянный мной посох. Юноша держал посох, как копье — узким подбитым железом концом в нашу сторону. Очевидно, для него это было совершенно фантастическое оружие, изготовленное из невиданных материалов.
Девушка встала у мужа за спиной и тут же подняла над головой руку с зажатым в кулаке булыжником.
— Мир вам, дети мои! — Аллоизий улыбнулся, стараясь не показывать зубы, что было непросто из-за его специфической нижней губы. — Меня зовут Аллоизий, а его — Овощ, и он мой брат. Мы — миссионеры из Общества Иисуса, несем Слово Божье всем имеющим уши на этой земле.
Юноша сдавленно рявкнул и заводил посохом, примеряясь, как бы поточнее ткнуть экзорцисту между глаз. Шерстка на обоих существах встала дыбом. Они были так напряжены, что мне показалось, будто я слышу скрип их сухожилий.
— Не нужно нас бояться, мы — друзья, — увещевал Аллоизий, а сам торопливо и с жадностью осматривал владения Адама и Евы, стараясь не пропустить ни малейшей детали. Взгляд его округлых, навыкате, глаз так и метался. Я стоял рядом и молился, чтобы дьявол не подтолкнул девицу запустить в Аллоизия камнем; почему-то палка в руках юноши меня пугала меньше. И еще я опасался раскашляться: как бы резкий звук не привел к драматическим последствиям.
— Мы строим храм в горах. — Аллоизий попытался заглянуть молодым людям за спины — в глубину пещеры. — Мы будем счастливы помочь вам обрести спасение.
Зажурчала вода: это обмочилась девушка. Она же издала протяжный мяукающий звук. Юноша наконец смог проглотить рыбу и сразу же оскалился облепленными блестящей чешуей зубами.
— Хорошо, дети мои. — Аллоизий, попятился. — Уходим-уходим…
Мы отступили к скалам. Адам и Ева так и стояли — в ожидании схватки, я почувствовал к ним жалость. Когда нагромождение глыб закрыло этих испуганных детей от нас, я наконец смог откашляться.
— Господи… — Привалившись к скале, я поглядел на Аллоизия. — Да как такое может быть?
— Ты сам все видел, Овощ, — отозвался экзорцист, потирая губы.
— Им лет по шестнадцать! — Я едва сдерживал эмоции. — Марсианское чудо произошло восемь лет назад! Я хочу сказать, что они не успели бы повзрослеть…
— Брат мой, они не смогли бы заботиться о себе самостоятельно, — проговорил, озираясь, Аллоизий, — если бы когда-то были младенцами.
— Значит, они появились на свет сразу взрослыми? — Я схватился за бешено колотящееся сердце. — Значит, их создал Всевышний?
Аллоизий странно посмотрел на меня.
— Все во Вселенной создано Всевышним. — Судя по его тону, он был удивлен моим вопросом. Но одно дело — верить, не требуя каких-либо доказательств, другое — когда эти самые доказательства вдруг начинают сыпаться тебе на голову как из рога изобилия. Сразу становилось как-то не по себе. Я бы не назвал эти ощущения неприятными. Они были просто странными, необычными. К этим новым знаниям нужно было привыкнуть.
— Что ты заметил еще? — полюбопытствовал Аллоизий, отдирая меня от скалы: я сам понимал, что нужно поскорее собрать сети и вернуться на «Святого Тибальда».
— О, они были напуганы, — сказал я.
— И это странно, ты не находишь? — Аллоизий подергал себя за бороду. — С чего бы им нас бояться? Обычно дикие животные, которые в первый раз видят человека, ведут себя нейтрально по отношению к нему.
— Но они не животные, — возразил я. — Они приняли нас за соперников по экологической нише.
Аллоизий развил мысль:
— Что-то или кто-то успел их напугать до нашего появления, брат. У них сомнения относительно своего места в пищевой цепи, посему они готовы отстаивать право не быть чьей-то добычей. Кто же заразил их этими сомнениями? Не тот ли, кто разбил брату Жану Батисту голову кирпичом, а Якову — молотком?
— Я не знаю, я запутался.
— Заметил ли ты… у них был ребенок. — От этих слов Аллоизия у меня поплыло перед глазами. Я вспомнил, как сам однажды пошел в туман на детский плач и едва не погиб. Значит, то было не видение! Значит, я действительно мог слышать, как плачет младенец! Голова кругом от всего этого… — Они его потеряли. Тельце малыша до сих пор находится рядом с пещерой. Они не знают, что такое погребение. — Экзорцист быстро перекрестился.
— Господи… — прошептал я, остановившись. — Неужели кто-то убил их малыша?
— Ну… — Аллоизий потер оттопыренную губу. — Тут не все так однозначно. Мало ли от чего мог умереть младенец в эдаких первобытных условиях. Но твое предположение имеет место, Овощ. Я все больше склонен думать, будто что-то держит этих детей Божьих в страхе.
— Надо же! — всплеснул руками я. — Они только появились на свет — и тут такие испытания!
— Да, Господь умеет проверить на прочность, равно как умеет он и карать.
— Нужно рассказать поскорее профессу! Нужно рассказать братьям!
— Франциск. — Аллоизий вздохнул. — Кто-то убил Якова, Станислава и Жана Батиста. Насчет Михаила я не уверен, но в свете последних событий может оказаться, что произошедший с ним несчастный случай тоже был спланированным убийством. Эти эпизоды похожи друг на друга лишь отчасти, смерть Станислава вообще стоит особняком… Я пытаюсь собрать мозаику, но пока ничего не выходит: слишком разрозненны фрагменты. Боюсь, что картина в конечном счете может оказаться еще более ужасной, чем мы себе представляем… либо вообще не сложится.
Я почесал затылок: мы и так сполна хлебнули горя. Не хотелось думать о том, что все может быть еще хуже.
— Поэтому, Франциск, давай пока не будем распространяться о нашем открытии, — продолжил Аллоизий. — Я хочу еще какое-то время понаблюдать за братьями, чтобы наверняка исключить их причастность…
— Как это — не распространяться? — разволновался я. — Это же такое открытие! Это же Адам и Ева Марса! Даже профессу не расскажем, что ли?
— В глобальном смысле их появление не более удивительно, чем преображение Марса. Они, лишайники, мошкара… — Аллоизий помахал перед лицом ладонью. — Все это — грани одного Великого Замысла. Посему прошу тебя — никому ни слова. Хотя бы ради этих невинных детей.
— Ладно… — Я надул губы.
— Вот и славно, брат, — улыбнулся Аллоизий.
Томаш подметал в шлюзе «Святого Тибальда». Вид монаха был мрачен, под глазами пролегли лиловые тени.
— Все ли в порядке? — с ходу поинтересовался Аллоизий. — Как Маттео?
— Маттео приводит в порядок панели на западной стороне, — ответил Томаш. — Час назад он закончил восточную сторону и спустился в лагерь. Был он в полном порядке.
— Слава Всевышнему, — кивнул Аллоизий.
— Профессу совсем худо, братья, — сообщил тогда упавшим голосом Томаш. — Он просил всех собраться у него как можно скорее. Хорошо, что вы вернулись пораньше. Боюсь, что Маттео может не успеть…
Эта новость привела меня в замешательство и, что называется, заставила спуститься с небес на землю. В душе возник диссонанс: одухотворенность, которую я испытал, побывав, образно говоря, на страницах Книги Бытия, вступила в разногласие с пробудившимся страхом и болью.
Я вообще не представлял, что будет с миссией и общиной, если професса, упаси Боже, не станет.
Томаш заглянул в ведро со скромным уловом.
— Не густо, — пробурчал он все тем же безжизненным тоном. — Однако брат Овощ выглядит вдохновленным и глаза у него искрятся, как у блудливой женщины. Похоже, твое общество, Аллоизий, подействовало на него самым благодатным образом.
— Хм… — Экзорцист забрал у меня свернутые сети и похудевший рюкзак. — Что у нас со связью с Землей?
— Связь у нас отныне только с Господом. — Томаш посмотрел на обложенное тучами небо, а затем снова принялся мести пыль.
С этим было трудно поспорить. Аллоизий еще раз хмыкнул и поднялся по трапу.
— Франциск! — позвал он, бросив взгляд через плечо.
Я отнес рыбу на камбуз. Дверь в отсек-келью професса была приоткрыта, и в коридоре отчетливо слышалось, как он стонет, мечется в койке и борется за каждый вдох. А еще во всех отсеках «Святого Тибальда» ощущался запах крови и гноя. Почуяв его, я сразу понял, что Габриель обречен.
На камбузе было грязно. Для полной картины не хватало только бегающих по стенам тараканов. Я быстро убрал на столах, собрал объедки, очистки и прочий мусор в освободившееся ведро и отнес в производственный отсек, где пыхтели на холостом ходу «Давид» и «Голиаф». Я заметил, что оба принтера тоже нуждаются в хорошей чистке. На передней панели «Давида» темнели пятна пригоревшего синтетического жира. Я открыл приемный порт «Голиафа» и увидел, что отсек для загрузки сырья практически полон. Сначала я опешил, а потом понял: уже который сол мы ничего не строим, не ремонтируем, а только посыпаем себе головы пеплом, пытаемся разобраться с обрушившимися на нас бедами и протянуть просто еще один день.
Я запустил на «Голиафе» самую простую программу производства пяти комплектов одноразовой посуды, предполагая, что принтер переработает уже загруженное сырье, однако машина выдала сообщение об ошибке: приемный порт был переполнен. Я сунул руку в отсек, поковырялся в мусоре, выбирая, что можно было бы вытащить, нащупал большой кусок ткани и потянул. Оказалось, что я держу чью-то рясу. В скупом свете стало видно, что одежда заскорузла от пролитой на нее крови, и тогда меня словно под дых ударили. Я опустился на палубу, положив перед собой страшную находку. Скорбь навалилась на меня с новой силой. И снова мне привиделись, словно живые, Михаил и Станислав, Жан Батист и Яков. А ряса эта, скорее всего, принадлежала тому, кто убирал в мастерской, а затем занимался захоронением сильно поврежденных тел. Или же тому, кто разбил голову Якова молотком. От этих мыслей хотелось выть и ногтями рвать на себе плоть.
— Овощ! — окликнул меня Томаш. — Професс зовет!
— Я хотел утилизировать мусор.
— Оставь ведро, я сам все сделаю!
— Как знаешь. — Я поднялся, повесил рясу на закраину открытого порта и вышел в коридор.
— Я ведь не хозяйничаю на грядках без твоего ведома, — укорил меня Томаш.
— Тут везде грязь. — Прозвучало это так, будто я выдвигаю обвинение.
— На мне — миллион дел! — рассердился Томаш. — Корабль! Радиосвязь! Принтеры! Професс!
Только присущее смирение не позволило мне ответить Томашу, что корабль давно мертв, радиосвязь мертва, принтеры простаивают, а професс…
Професс держался из последних сил. Его кожа посерела, на лице и шее проступили темно-красные капиллярные сеточки. Глаза ввалились, а борода, которая и в обычных условиях выглядела неопрятно, сейчас подавно казалась какой-то насекомьей щетиной.
Он сидел на койке, откинувшись спиной на пару подушек. С обеих сторон, под каждой рукой, лежало по нескольку скомканных тряпок, испачканных свежей кровью.
На столике, сделанном из обрезка панели, — большая бутылка воды, несколько стаканов, множество таблеток, привезенных с Земли, и порошков, изготовленных «Давидом» по последнему рецепту Якова. Над столиком — распятье.
Вот, пожалуй, и вся обстановка отсека-кельи. У остальных были почти такие же, и отличались они разве что в мелочах. Например, количеством лекарств на видном месте.
— Мы преодолели бездну космоса, но не принесли Христа в своих душах, — сказал професс слабым голосом; он, как мог, старался не выглядеть страдальцем, но преодолеть гнет долгой болезни ему было уже не по силам. — Я много думал об этом. Космос бесчеловечен, как бесчеловечна марсианская пустыня… — На этих словах я сильно вздрогнул и набрал в грудь воздуха, собираясь возразить, но Аллоизий взял меня за руку и крепко сжал пальцы… — Оказавшись здесь, не мы изменили Марс, а он — нас. Думаю, Помидорушек, ты ждешь, что я скажу, мол, реализовался тот сценарий квантового мира, которого мы все подспудно боялись? Так и есть, братья мои. Вдали от Матери-Церкви наше коллективное бессознательное населено страхами и темными страстями. Увы, так мало в нем оказалось места для христианских добродетелей и веры в Святую Троицу. Здесь нет Христа, мы не принесли Его.
Стоящий в дверях Томаш склонил голову и, кажется, всхлипнул.
— Монсеньор… — начал было Аллоизий, но професс еще не договорил.
— Я скоро покину вас, братья. Все меньше и меньше сил нести послушание… Помидорушек, открой, пожалуйста, сейф, он не заперт.
Я отворил металлическую дверцу встроенного в переборку шкафа. В лицо мне пахнуло запахом лежалых бумаг и сургуча.
— На верхней полке, будь другом.
Моя ладонь накрыла запечатанный конверт.
Професс, поморщившись, сломал печать. Я заметил, что его дрожащие руки оставляют на бумаге мокрые следы.
— Аллоизий, ты — последний священник на этой планете. Символично, что ты — экзорцист, — професс вытащил из конверта серебряный епископский перстень — такой же скромный, как и его собственный. — Прошу, дай отпор дьяволу! Защити эти земли от скверны! Сделай то, что не получилось у меня.
Выпученные глаза Аллоизия стали еще больше и круглее. Во взгляде появилось нечто пугающее, фанатичное. На оттопыренной губе выступила пена. Но уже в следующий миг экзорцист взял себя в руки, вытер рот тыльной стороной ладони.
Я затравленно поглядел на Аллоизия, на Томаша, а затем — снова на серебряную вещицу в немощных руках професса.
— Прими перстень, как печать верности, чтобы, украшенный незапятнанной верой, ты хранил непорочной Невесту Божию, то есть Святую Церковь.
После этих слов у нашей общины из пяти человек появился новый прелат.
— Монсеньор! Монсеньор! — Мы с Томашем по очереди поцеловали перстень на руке Аллоизия.
Это был одновременно торжественный и очень печальный момент. Я глядел на професса, гадая, сможет ли он выкарабкаться. А вдруг произойдет чудо? Я всем сердцем хотел в это верить. Но, увы, не мог.
— Монсеньор! — в свою очередь обратился Аллоизий к профессу. — Ваша преданность Господу всегда была для меня маяком во тьме.
— Этого света явно недостаточно. — Професс с тоской посмотрел на свой перстень; придет время, и наш добрый пастырь будет похоронен вместе с ним. — А теперь — ступайте! Мне нужно отдохнуть.
Томаш склонился над Габриелем, чтобы поправить ему подушки и помочь укрыться. Повсюду пестрели мелкие пятна крови: на подушках, одеяле, руках професса. Томаш поднес к губам больного стакан воды.
Габриель встретился со мной взглядом; его глаза поблекли, и в них не было ничего, кроме усталости Сизифа. Я поспешно вышел, за моей спиной грянул мучительный булькающий кашель.
Аллоизий стоял, прислонившись спиной к переборке. Пальцы правой руки были сжаты в кулак, на котором тускло блестел символ его епископской власти. А может быть — бессилия.
Следом за мной вышел Томаш. Он сокрушенно покачал головой.
— Слишком много сомнений… В нем всегда были сильны противоречия…
— Он честно нес послушание и выполнял волю Его Святейшества, — возразил Аллоизий, мне же резануло слух, что они говорят о профессе в прошедшем времени.
— Он сам признал, что не принес Христа в своей душе.
— Он был излишне самокритичен, — ответил Аллоизий. — А может, за него говорила болезнь.
Втроем мы двинулись к открытому шлюзу. Снаружи начинало вечереть. Мне нужно было проверить оранжерею: за всеми этими событиями не стоило забывать о повседневных обязанностях. И без того сорваны все графики, сбит распорядок дня. Община полным ходом погружалась в хаос: на «Святом Тибальде» грязь, лаборатории и мастерские закрыты, оранжерейные растения — без присмотра…
Маттео лежал на трапе лицом вниз, протянув руку к открытому шлюзу. Ряса на его правом плече была порвана в клочья, виднелась жилистая рука, несколько раз располосованная вдоль бицепса чем-то острым.
— Не доглядели! — схватился за голову Аллоизий и тут же кинулся к лежащему брату. — Господи, за что?
Он осторожно перевернул Маттео, сел рядом и обнял его за плечи. Вид Маттео был страшен: пара глубоких царапин пересекала нашему мастеру на все руки лицо, правое ухо превратилось в лохмотья, а под ним, заклеенная грязью и запекшейся кровью, темнела колотая рана. Даже не одна, а две раны, расположенные рядом.
— Он живой! — объявил Аллоизий с внезапной надеждой и теплом в голосе. — Живой, старик! Сердце стучит.
— Куда его? — деловито поинтересовался Томаш. — В келью или в лазарет?
— В лазарет! — принял решение Аллоизий. — Сделаем перевязку и перельем кровь. А затем будем молиться, чтобы Господь не забрал и его!
Томаш схватил Маттео за ноги, вдвоем с экзорцистом они подняли раненого и спустились с трапа, я же побежал впереди, чтобы открыть для них двери.
Томаш покинул лазарет практически сразу — вернулся на «Святой Тибальд», чтобы присмотреть за профессом и сварить рыбную похлебку.
Когда мы закончили обрабатывать Маттео раны, солнце уже скрылось за вершиной Святого Духа. Густая тень наползла на опустевший лагерь, а небо окрасилось привычным багрянцем, чуть тронутым растрепанными нитями перистых облаков.
За пределами межгорной долины вновь поднимался ветер, и я думал об Адаме и Еве Марса, которые наверняка укрылись от холода и ночных страхов в глубине пещеры.
Аллоизий почти все сделал сам. Он не ругал меня за рассеянность, как это часто делал покойный Яков. Он не попрекал меня за неуместную сейчас боязнь крови и вида страшных ран. Я ассистировал ему честно, насколько мог, а он не требовал от меня чего-то большего.
Наконец наши труды были возблагодарены: Маттео очнулся.
— Я видел ее… — прозвучал из-под бинтов хриплый голос. — Дайте воды! — Он согнулся, пытаясь приподняться. — Я видел ее! Видел!
Аллоизий схватил его за плечи и прижал к койке, а я быстро нашел склянку с дистиллированной водой и резиновую трубку.
— Успокойся, брат! — увещевал раненого Аллоизий. — Ты потерял много крови. Ляг, смочи горло и расскажи все по порядку!
Маттео сжал губами трубку, несколько раз жадно глотнул, закашлялся и захрипел. Аллоизий поспешно перевернул его на бок.
— Она напала на меня сверху! — выпалил Маттео, не прекращая кашлять. — Как коршун на сурка! Я увидел ее отражение в солнечной панели и успел отпрыгнуть! Она достала меня передней лапой и вцепилась в шею. — Маттео указал на свою рану под ухом. — Но я — ха! — рубанул ее топориком каменщика, который все это время был у меня под рукой. Видели бы вы ее рожу! — Он засмеялся, сквозь бинты на его лице проступили багровые пятна. — Она не ожидала, что кто-то сможет дать отпор! Тогда я рубанул ее еще раз! За это она располосовала мне лицо! Но я достал из кармана строительный нож и всадил ей между ребер! — Маттео сделал еще пару глотков воды, отдышался и договорил: — Она убралась. Улетела зализывать раны. Не на того напоролась!
Действительно! Зная Маттео, можно было не сомневаться, что в бездонных карманах его рясы ждет своего часа целый арсенал разнообразного инструмента. И удивление вызывало то, что он применил против неведомого врага всего лишь топорик и нож, а не какую-нибудь электропилу или перфоратор, которые тоже — совершенно случайно — могли оказаться у него с собой.
Но кто — она? Неужели Ева Марса? Это хрупкое дитя напало на семижильного, привыкшего к тяжелой работе Маттео?
От крайнего изумления я выронил склянку, и она грохнулась на пол, заставив нас вздрогнуть.
— Кто это сделал, брат? — спросил Аллоизий, наклонившись к уцелевшему уху Маттео. Его голос был обманчиво мягок, я же видел, что экзорцист готов взорваться от бушующего внутри праведного гнева.
— Не знаю, — простонал Маттео. — Дьяволица: крылья демона, тело шлюхи, когти и клыки зверя. Она летает, как пушинка. Ни шороха, ни свиста.
— И не оставляет следов, — добавил Аллоизий задумчиво. — Только мертвецов.
— Я понимаю, что это похоже на бред, но клянусь, что все так и было, — проговорил Маттео, он наконец расслабился и перестал метаться на койке.
Аллоизий посмотрел на меня. В его выпученных глазах читалось сомнение.
— Все равно не сходится, — заявил он мне.
— Я не вру, Аллоизий. — Маттео поймал экзорциста за запястье.
— Мы тебе верим, брат. Отдохни. Ты поправишься, все будет хорошо! — Он вновь перевел взгляд на меня. — Придется опять раскапывать могилы. Нужно проверить, погиб ли кто-то из братьев из-за демона Маттео.
— Нет-нет! — всполошился раненый. — Не оставляйте меня! Аллоизий! Овощ! А если она опять придет за мной? Я не смогу отбиться во второй раз!
Аллоизий принялся проверять содержимое ящиков с медикаментами. Его длинные руки так и мелькали, а борода развевалась.
— Никто тебя не оставит, — приговаривал он. — Мы будем дежурить у твоей постели. Сначала Франциск, а потом — я. Не переживай и постарайся отдохнуть… Франциск, быстро шприц!
— Ох… — простонал Маттео. — Иисусе, как болит-то! — Похоже, он только сейчас это осознал.
Экзорцист наконец нашел нужную ампулу. Хрустнуло стекло, игла шприца погрузилась в препарат.
— Сейчас станет легче, — пообещал Аллоизий и сделал Маттео инъекцию через ткань рясы.
— Давайте помолимся вместе, — предложил я, переводя взгляд с экзорциста на Маттео и обратно.
— А что? Хорошая мысль! — Аллоизий отложил шприц.
«Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae…» — начали мы втроем. Мы специально произносили молитву неторопливо, чтобы Маттео поспевал за нами. Через полминуты речь раненого замедлилась еще заметнее, а голос стал совсем тихим и неразборчивым. Маттео начал путать слова, потом запнулся… и уснул. Мы с Аллоизием закончили молитву под его ровное дыхание. Экзорцист знаком велел мне выйти.
Мы заперли лазарет снаружи, не забыли опустить на единственное окно дюралюминиевый ставень. Пусть Маттео будет спокоен: никто не сможет забраться внутрь, пока мы не вернемся.
— На Маттео действительно напал демон? Ты ему веришь? И что в его рассказе не сходится? Мы же видели у Маттео на шее следы от зубов, а еще его лицо разодрано когтями! — обрушил я на экзорциста град вопросов. — Зачем снова проводить эксгумацию? В прошлый раз это ни к чему хорошему не привело!
— Не сходится много чего… — Аллоизий подергал себя за губу. — Раны Маттео, безусловно, красноречивы, но…
— Что это за демон? Тебе что-нибудь о нем известно? — не унимался я.
— Давай так. — Аллоизий хлопнул меня по плечу. — Иди за лопатой и кайлом. Скоро стемнеет, время работает против нас. Поторопись, я жду возле могил!
И снова я как будто попал в петлю времени.
Я брел к оранжерее под багровым небом, похожим на бурлящую лаву. Из-за скал доносились инфернальные завывания ветра, но пока Бог миловал — по территории лагеря гуляли лишь флегматичные сквозняки.
Оранжерея дохнула в лицо запахом жизни. У меня сразу защемило сердце. Захотелось абстрагироваться от происходящего, оградить себя от всех ужасов, выпавших на долю общины… просто запереться в этих прозрачных стенах наедине с растениями и отдохнуть душой и телом, устроившись на койке, которая стала неожиданно такой уютной на вид.
Я был здесь утром, но мне показалось, что с тех пор прошла бездна времени. И что уйти мне предстоит не до конца вечера, а навсегда. Это было муторное, тревожное предчувствие. Помидорушки стояли ровными рядами, их ветви поникли, листва потемнела, а плоды стали тусклыми, как глаза мертвецов. Помидорушки не хотели меня отпускать, они требовали внимания и заботы, они желали, чтоб я беседовал с ними и делился сокровенным.
Но, увы, мне нужно было бежать. На пустыре за лагерем ждал мой брат, мой епископ.
Бедные Михаил, Станислав, Жан Батист и Яков… Надеюсь, их души, взирая на нас сверху, не слишком сердились за то, что мы в который раз нарушили покой их останков.
Уже совсем стемнело, на муаровых небесах, подпираемых хребтом Святой Троицы, таяли последние блики цвета остывающих углей. Аллоизий проводил изыскания в свете фонаря, нижнюю часть лица экзорцист закрыл тряпичной повязкой.
Темнели провалы разрытых могил, громоздились пластиковые ящики гробов. Тела братьев лежали в ряд на камнях. Ветер шуршал разрезанной пленкой их скромных саванов.
— Так… У Михаила и у Жана Батиста есть укус на шее — точь-в-точь как у Маттео, — подвел Аллоизий первые итоги. — Михаила мы не осматривали, сразу завернули в пленку и похоронили. Поскольку его тело было сильно повреждено, а голова — вообще вдребезги, никто не обратил внимания на незначительную, в общем-то, рану на шее. Когда же не стало Жана Батиста, Яков настоял на осмотре и вскрытии покойника, во время которого он, надо полагать, обнаружил след от укуса. Никто из нас не догадался бы, в чем дело, поскольку обширная рана на голове отвлекала внимание на себя и, казалось, сама говорила, мол, я есть причина смерти.
— Причина смерти — укус на шее? — спросил я, морщась. — Демоница пила кровь наших братьев?
— Не знаю я. — Аллоизий задумчиво вертел в руках крупные фрагменты черепа Михаила, словно хотел собрать его, как разбитую вазу. — Одно можно сказать точно: укус предшествовал гибели и Михаила, и Жана Батиста. Убийца хитер. Он сбросил Михаила со скалы, и мы решили, что произошел несчастный случай. В случае с Жаном Батистом он тоже пытался инсценировать смертельное падение, но там все было слишком шито белыми нитками, и мы поняли, что нам хотят пустить пыль в глаза.
— Она, — поправил я Аллоизия.
— Что?
— Демон не он, а она.
Экзорцист хмыкнул.
— Яков нащупал какую-то нить. Чтобы развить догадку, он решил найти аналогичный след от укуса на теле Михаила…
— Но демон помешал ему.
Аллоизий посмотрел на меня, как на тупицу, затем принялся указывать на лежащие перед ним тела. В голосе его звучали усталость и раздражение:
— Михаил и Жан Батист — следы от укуса, нападение совершено днем. Яков — следов от укуса нет, нападение совершено ночью. Станислав — вообще особый случай. Едва ли демон стал бы орудовать украденным у тебя тепличным колом.
— Ты хочешь сказать, что Станислава убил не демон? — Я удрученно развел руками. Если не демон, то придется возвращаться к предположению, что убийца — кто-то из своих. Либо — Адам и Ева этих земель, что было для меня сродни богохульству.
Мысль, которая пришла в голову в следующее мгновение, была столь пронзительна и внезапна, что я вздрогнул, как от удара током. Я уже догадывался, что Господь пролил на меня свет истины. Аллоизий, не замечая того, что я переменился в лице, принялся растолковывать скучным голосом:
— Если ты заметил, я избегаю слова «демон». Я в свое время докладывал профессу Габриелю, что не заметил признаков деятельности нечистой силы. Я думаю, что мы имеем дело с убийцей из плоти и крови…
— Мы знаем, кто она! Мы слышали о ней! — выпалил я, перебив экзорциста, а потом взял себя в руки и проговорил, понизив голос: — Монсеньор, ее имя есть в апокрифах — Лилит!
Аллоизий стянул перчатки, подергал себя за отвисшую губу.
— Гипотетическая первая жена Адама… упоминается в раннехристианских текстах… — проговорил он, — в шумерской мифологии, в каббалистической теории, в средневековом Алфавите Бен-Сира… В современном сатанизме ее и вовсе почитают, как богиню.
— Сегодня мы повстречали первых людей Марса, — продолжил я. — Мы — свидетели того, как пишется книга «Бытие» этого мира. Что, если и здесь первой женой Адама была Лилит? И в Terra Innocentiae ее грехопадение уже свершилось: она стала чудовищем.
Аллоизий покачал головой.
— Ну почему… — простонал он. — Почему всегда там, где появляются люди, появляются и чудовища? — Этот вопрос был адресован не мне, он поднялся вместе с теплым воздухом к ночным небесам, мы же некоторое время провели в молчании, будто надеялись получить ответ.
— Ты сможешь ее изгнать? — спросил я.
Экзорцист повел плечом.
— Она принадлежит этому миру, Франциск, а мы — нет. Она не пришла из пламени ада, ее некуда изгонять, она — дома. — Немного помолчав, он добавил: — Да только мы появились из бездны космоса, это мы здесь чужаки. Допустим, существо, которое для удобства будем называть Лилит, убило Михаила, Жана Батиста и попыталось убить Маттео. Но кто тогда стоит за смертями Станислава и Якова? Боюсь, пример одного убийцы мог вдохновить второго, и мы имеем дело с какой-то нечестивой игрой, основанной на подражании.
— Господи помилуй! — Я перекрестился.
Так завершился этот странный разговор под первобытным небом в окружении разрытых могил и мертвых тел.
Мы вернули покойников в могилы, снова произнесли искренние прощальные слова и заупокойную молитву. Я надеялся, что нам больше не доведется тревожить братьев. Полагаю, они простят нам то, что пришлось совершить, идя долиною смертной тени.
Когда мы вернулись на «Святого Тибальда», професс уже проснулся, и Томаш попытался накормить его, донельзя ослабшего, рыбной похлебкой. Чтобы не волновать смертельно больного, мы не стали обсуждать при профессе результаты повторной эксгумации. Мы и словом не обмолвились о том, чем занимались на пустошах за лагерем.
Аллоизий смыл с себя могильную пыль и сразу же отправился в лазарет — узнать, как дела у Маттео. Я тоже постоял минут пять в душевой под едва теплыми струями, постирал белье, съел вместо ужина смесь из синтетических жиров и глюкозы, которую произвел «Давид», — оставшуюся похлебку я решил приберечь для професса и раненого Маттео, — затем ушел в оранжерею, чтобы отдохнуть на тамошней койке среди растений. Я не знал, удастся ли заснуть после всего, что принес минувший сол, но смертельная усталость сделала свое дело.
А утром за мной пришла Лилит.
Меня разбудил вкрадчивый скрип: кто-то водил пальцами по влажному стеклу. Я открыл глаза: оранжерея была заполнена серым светом. Помидорушки тянули ветви к прозрачному своду. Солнце уже встало над пустошами, но лагерь еще скрывался в тени вершины Святого Духа.
Скрип доносился сверху. Я перевернулся на спину и увидел на крыше оранжереи точно над койкой темное нечто. В первый миг я подумал, что кто-то забросил туда чехол от 3-D принтера или сходного по размерам аппарата. Стекло под «чехлом» запотело, муть и недостаток света мешали понять, что же это на самом деле такое.
Я отодвинул тонкое одеяло и поднялся. «Чехол» заерзал, его «края» затрепетали, а бесформенная тень переместилась следом за мной.
И тут на меня нахлынула волна ужаса, который может испытать лишь слуга Божий, столкнувшись нос к носу с Врагом всего сущего. Я понял, кто пожаловал в этот ранний час. Видимо, настал мой черед пройти испытание перед лицом первозданного зла.
Я застыл, ощущая, как меня пробивает дрожь. Приходилось приложить усилие, чтобы сохранить контроль над телом и не рухнуть на гравиевую дорожку в полуобморочном состоянии. Мои зубы стучали так сильно, что лопалась и крошилась эмаль, а в уголках губ выступила слюна, которую было решительно невозможно проглотить.
Жар ее тела, зной ее дыхания заставлял стекло покрываться поволокой. Тонкие пальцы стирали влагу, чтобы золотистые глаза могли бросить взгляд сквозь прозрачный свод внутрь оранжереи. Она следила за мной, как кошка за мышью. Лилит охотилась, и я был как на ладони. Но ее отделяло от меня стекло и каркас оранжереи. Она была сбита с толку присутствием преграды, вполне возможно, что она вообще не видела стекло, как не видит и не понимает его сути бьющаяся в окно муха. Охотничий инстинкт говорил ей: вот она — легкая сонная добыча! Просто вонзи в нее клыки! Но ей было просто так не добраться до меня, ведь оранжерея — это большая клетка.
Я смог собраться с силами и сделал шаг в сторону. Лилит переместилась синхронно со мной. Очевидно, она была очень легкой. То, что я поначалу принял за чехол, оказалось парой черных крыл, которые были сложены у нее за спиной наподобие плаща. Полагаю, что в условиях марсианской гравитации они прекрасно выполняли свою работу.
Я переместился еще на шаг к тамбуру. Почему именно туда — наверное, чтоб вооружиться лопатой или граблями и дать отпор в духе Маттео. Лилит же спустилась на выгнутую стену, как большое насекомое, развернулась, суетливо шлепая ладонями по стеклу, снова поднялась на крышу, нащупала раму форточки. Я услышал, как заныл пластик, когда в него вонзились когти.
И тогда меня прорвало.
— Сгинь! — Я подпрыгнул к потолку и взмахнул руками. — Изыди!
Лилит отшатнулась, я увидел ее лицо: это была окруженная вихрем черных волос бронзовая маска языческой богини — столь же прекрасная, сколь и отталкивающая хищными чертами, звериной мимикой и дьявольским огнем в очах. Лилит расправила крылья, и они развернулись черным полупрозрачным полотном, на котором сохранились следы золотистой краски со дня убийства Михаила.
Мгновенно сгустившаяся тьма, как ни странно, подсказала мне, что делать дальше. Я вскочил на табурет, рывком развернул к Лилит один из тепличных фитопрожекторов и щелкнул тумблером. В глаза чудища ударил ярчайший свет, сильно смещенный в ультрафиолет. Белое свечение обволокло крылатую фигуру, высвечивая множество деталей: поджарый живот, тонкие мускулистые бедра, выпирающие ребра, небольшие острые груди, тяжи слюны, свешивающиеся с красивых, или, как еще говорят, чувственных губ. Я увидел, как сквозь туго натянутую плоть демонических крыл просвечиваются кости и трепетно пульсирующие сосуды. Я увидел кое-как затянувшиеся раны, полученные в схватке с Маттео.
— Сгинь! — Я ударил костяшками пальцев по стеклу, и оно покрылось сетью трещин.
Но мне удалось вспугнуть чудовище: Лилит убралась. Она улетела: без разгона, без видимых усилий и сразу на приличной скорости. Я следил за ней, вытянув шею, до тех пор пока это было возможно. Лилит пронеслась параллельно земле к Отцу, и в полете она походила на большое насекомое.
У меня затряслись колени, я кое-как слез с табурета. Фитопрожектор сорвался с кронштейна и с грохотом упал на дорожку. Я добрел до койки и сел на край. Мне хотелось прочесть какую-нибудь молитву, но в голове все перемешалось. Я чувствовал себя опустошенным и беспомощным, более того — я чувствовал себя покинутым Господом.
Затем я увидел фигуру в рясе, идущую к оранжерее. Сквозь запыленное стекло было не разглядеть, кто это — Аллоизий или Томаш. Я понял, что у меня нет времени для молитвы и жалости к себе. Лилит могла вернуться в любой момент, поскольку ее голод и инстинкт охотника не удовлетворены. Я должен был успеть предупредить братьев об опасности, мне нельзя было опускать руки!
Я кинулся в тамбур, схватил тяпку, ударился о запертые двери, торопливо открыл замок и выскочил под открытое небо.
К оранжерее направлялся Аллоизий. Шел он, как на прогулке, — неторопливым шагом и чуть наклонившись вперед, словно что-то искал на щебне под ногами. Мне отстраненно подумалось, что Аллоизий сокрушен… очевидно — смертью професса Габриеля. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, в чем дело, но время скорби придет чуть позднее, сейчас же время спасать свои жизни.
— Монсеньор! — закричал я. — Она только что была здесь! Скорее — в оранжерею!
— Франциск! — Аллоизий остановился, а я поразился тому, насколько слаб и преисполнен муки его голос. — Франциск!
— Монсеньор, скорее в оранжерею!
Я огляделся. Пока Господь миловал: небо было чистым, Лилит не показывалась.
Каково было мое изумление, когда Аллоизий, вместо того чтобы послушаться меня, вдруг опустился на колени. А затем медленно, как подрубленное дерево, стал заваливаться вперед.
— Монсеньор! — Я кинулся вперед, уже понимая, что он нуждается в помощи.
Чтобы не упасть лицом на щебень, Аллоизий оперся на выставленные руки. И тогда я увидел рукоять большого кухонного ножа, всаженного экзорцисту в спину на всю длину лезвия.
Я схватил его за плечи, прижал к себе. Вернулась треклятая дрожь, а вместе с ней пришла растерянность. Я не понимал, чем могу помочь своему епископу и что вообще делать дальше.
— Это был Томаш, — сказал Аллоизий, зажмурившись. Лицо экзорциста стало таким же серым, как и его седая борода. — Он сошел с ума, Франциск.
— Т-томаш? — обескураженно выдавил я.
Аллоизий открыл глаза, его взгляд уже был тронут поволокой смерти.
— Спасайся, брат… — произнес он на выдохе.
Послышались шаги, я поднял взгляд и увидел Томаша. Тот шел со стороны «Святого Тибальда», в его руках был плащ и рюкзак.
— Зачем?! — выкрикнул я в его сторону. — Зачем?!
Больше всего в тот момент мне хотелось, чтоб на нас всех карой Господней обрушилась с небес Лилит. Слишком сильная была боль, хотелось прервать ее любой ценой. Любой — пусть эта мысль и была греховна сама по себе.
Аллоизий глухо застонал, повел плечами, словно пытаясь освободиться из моих объятий, а потом выгнулся в душераздирающей агонии. Я услышал, как трещат его кости, в нос ударил запах аммиака. Челюсть экзорциста отвисла, а в глазах, как в двух стекляшках, отразился бег облаков.
Томаш был уже в десяти шагах. Рослый и крупнотелый, он нависал надо мной, словно грозящая раздавить Пизанская башня. Я выпустил из рук Аллоизия, упал на зад и отпрянул, поднимая сапогами клубы красной пыли.
— А-а-а! — голосил я, глядя сквозь пыль на силуэт моего брата, ставшего убийцей.
— Я не причиню тебе вреда, Овощ, — сказал Томаш, остановившись. — Прекрати орать!
Я не прекращал. Я закрыл голову руками, ожидая смертельного удара, хотя в руках Томаша не было ничего похожего на оружие. С одной стороны, я хотел, чтоб это все поскорее прекратилось, с другой — во мне все еще был силен инстинкт самосохранения.
— Уймись! — Томаш накинул на плечи плащ, поудобнее перехватил рюкзак. — Ты, Маттео, Жан Батист, Михаил — все вы были для меня примером праведности. Вашу судьбу вершит Господь, и никто иной! Я и пальцем тебя не трону!
Смысл сказанного стал постепенно доходить до моей несчастной больной головы. Я вопросительно поглядел на Томаша, мои глаза горели от слез.
— Професс верно сказал: мы преодолели бездну, но не принесли Христа в своей душе, — проговорил убийца. — Кто-то должен был помочь братьям очиститься. Через мученичество, через смерть. Кардинальская консистория совершила ошибку, признав нас святыми. Мы не были ими — точнее, не все из нас… — Речь Томаша становилась все больше похожей на сбивчивое бормотание. — Но професс был прав — тем, кто умер, как мученик, не требуется совершение чуда, они все уже святы: професс, Станислав, Яков и Аллоизий, они все уже на Небесах! Я помог им, Овощ, ты должен это понять! — Лицо Томаша густо покраснело, я даже подумал, что с ним вот-вот случится гипертонический удар. — Я был солдатом, я знаю, что такое делать грязную работу во имя всеобщего блага!
Я хотел заговорить с ним, но не мог справиться с рыданиями. Я лишь отчаянно жестикулировал, будто срывал с себя невидимых пауков и швырял ими в Томаша. Наверное, во мне проснулась доставшаяся от матери итальянская кровь.
— Когда я увидел разбившегося Михаила, то понял, чего хочет Всевышний. — Томаш мял лямки рюкзака, складывал их и снова распрямлял. — Кто-то должен был сделать работу над ошибками Церкви, ты понимаешь?
— Михаила убила Лилит, — смог произнести я.
— Михаила забрал Господь! — возразил Томаш. — Он простер свою длань над праведниками и сделал первый ход, как в шахматах! Мне же пришлось играть темными, Овощ! Сначала я убрал с доски развратника и софиста Станислава. Господь позаботился о честном и трудолюбивом Жане Батисте. Брат Яков был преисполнен тщеславия, гордыни и гнева, я расколол ему череп, словно кокосовый орех. И чувства испытал те же самые, как если бы я действительно расколол всего лишь орех. Кто следующий? Маттео? Он не погиб сразу, но и професс Габриель — насквозь пропитанный сомнениями, почитающий законы физики сильнее, чем Евангелие, — долго цеплялся за жизнь. Я надеялся, что на смертном одре професс примет факт чуда Господнего без оговорок, он же твердил о «научной этике» и сокрушался, что так и не разгадает «механику марсианских процессов»! — сказал, будто выплюнул, Томаш. — Аллоизий… — Он посмотрел на лежащего перед ним экзорциста. — Старый демонолог… Он сам осознавал, что путь на Небеса ему заказан. Я помог ему очиститься — только и всего! — Томаш сделал шаг ко мне. — А тебя я не трону, Овощ. О тебе позаботится Господь, ты — самый чистый из нас, ты унаследуешь эту землю!
— Михаила и Жана Батиста убил не Господь, а Лилит! — Не знаю, зачем я пытался что-то растолковать этому маньяку. Тем более Томаш понял мои слова по-своему.
— Бедный Овощ! — искренне ужаснулся он. — Ты же безумен, как мартовский кролик! Ты совсем не понимаешь, что здесь произошло! Даже твои помидоры соображают лучше, чем ты!
Я наконец смог подобрать нужные слова, и хоть такое нелегко было сказать человеку, которого до последнего момента называл братом, я все же решился:
— Аллоизий был прав: там, где появляются люди, появляются и чудовища. Не знаю. — Господь, быть может, тебя и простит, но мы — никогда!
Томаш только махнул рукой, будто сказанное мной было детским лепетом.
— Я ухожу. — Он повесил рюкзак на плечо. — Наверное, я не заслуживаю Царствия Небесного еще больше, чем остальные… Но ты не сможешь помочь мне очиститься, ты слишком невинен и слаб для этого. Я должен сам пройти путь искупления.
— Куда ты? — быстро спросил я. Мне стало страшно за Адама и Еву Марса, которым Лилит и без того причинила достаточно бед. Им только маньяка с Земли не хватало!
— Пойду на запад — в пустыню, — пожал плечами Томаш. — Доверю свою судьбу Господу. Здесь больше нечего делать. Пусть Он указывает мне путь. Я хочу провести свои последние дни в аскезе и молитве.
Я не ответил. А что я мог сказать? Какой толк от разговора с чудовищем, чьи преступления уже совершились? Ничего не исправить, не предотвратить… Пусть идет на запад — там только дюны, лишайники и песчаная мошка. Ни воды, ни оазисов на ближайшие сто километров. Там он никому не причинит вреда. Господь вряд ли услышит его волчьи молитвы, и аскеза не очистит душу. Скорее всего он умрет в пустыне, а может, вернется, когда поймет, что ему не выжить вне лагеря. Не хотелось бы, чтоб он вернулся…
Томаш огляделся. Возможно, он ждал слов прощания или благословения. Проблема большинства негодяев — они не просто хотят оставаться негодяями, им еще подавай понимание и уважение.
Я сидел молча, поджав колени и схватившись за мыски сапог. Слезы струились по щекам и ниспадали на землю дробной капелью.
— Прощай, Овощ, — изрек тогда Томаш. Он повернулся в сторону Святого Духа и пошагал прочь: спокойный и нисколько не сомневающийся в себе. Я провожал его взглядом, как недавно провожал Лилит. Томаш прошел мимо мастерской и заброшенной стройки, а затем его фигура скрылась за базиликой. Больше мы никогда не встречались. Надеюсь, на одном из кругов ада ему подготовили особое место для вечных мук.
Наконец я нашел в себе силы, чтобы подняться. Я подошел к Аллоизию и закрыл ему глаза. Я наивно полагал, что запас моих слез на сегодня иссяк; никогда бы не подумал, что их еще может быть так много.
Я подобрал тяпку и побрел к лазарету. Дверь оказалась заперта, а у меня не было ни сил, ни желания искать ключи, я сломал замок, использовав свой садовый инструмент вместо воровской фомки.
Маттео давно не спал. Этот семижильный монах-работяга сидел, забившись в угол, словно ребенок, и с ужасом глядел на меня из-под бинтов.
Я отбросил тяпку и, не говоря ни слова, опустился на пол рядом с ним. Ставень с окна был снят, мы увидели, как над сверкающей крышей оранжереи промелькнула тень Лилит. Охотница пустошей отправилась за Томашем.
Маттео поправлялся. Его правый глаз стал мутным и почти ничего не видел. Его раны какое-то время сильно гноились, но в конце концов скрылись под бугристыми шрамами. В упыря, вопреки нашим опасениям, Маттео так и не превратился.
В первое время дела наши были не очень. Опасаясь нападения Лилит, мы почти не покидали корабль. Оранжерея погибла, а вместе с ней омертвела и часть моей души. Когда после долгого перерыва я зашел под прозрачный свод, то увидел покрытые красной пылью увядшие растения и многочисленные следы ладоней Лилит на стекле снаружи.
Мы забросили солнечные батареи, расположенные на склонах, и едва не остались без электричества. К счастью, Маттео нашел в трюме четыре резервные панели, их мы разместили возле трапа «Святого Тибальда», чтобы тратить как можно меньше времени на связанные с ними регламентные работы. «Голиаф» пришлось отключить, но для «Давида» энергии хватало, если использовать устройство с минимальной загрузкой. Кстати, изучение логов «Давида» еще раз показало, насколько порочен и коварен был наш брат Томаш: он производил препараты, разжижающие кровь, и злонамеренно давал их страдающему легочными кровотечениями профессу Габриелю.
И професс, и экзорцист теперь покоятся в соседних могилах. Ни саванов, ни гробов, ни похоронной мессы: увы, мы проводили епископов, как могли, — как ранние христиане.
Я бы не удивился, если бы обнаружились доказательства причастности Томаша к поломке антенны дальней связи. В свете последних событий было бы наивно продолжать считать причиной аварии обрыв заземления. Думаю, антенну целенаправленно сожгли, подав напряжение, раз в сто превышающее номинальное. Кому еще, как не Томашу, было под силу провернуть подобное?
…В первые недели заточения на «Святом Тибальде» мы питались остатками пищи, привезенной с Земли, добавляя в рацион синтетические жиры и глюкозу. По нашим расчетам, консервов и концентратов хватило бы на месяц.
Лилит несколько раз наведывалась в лагерь. Расправив крылья, она кружила над заброшенной стройкой и модульными сооружениями. А однажды она села на носовой обтекатель «Святого Тибальда» и долго-долго разглядывала свое отражение в поляризованном стекле иллюминатора рубки управления.
Затем у нас закончилась вода. Насос исправно гудел, но работал вхолостую. На Земле Лилит считалась олицетворением ночной тьмы, здесь же она до сих пор показывалась только в светлое время суток, преимущественно, ранним утром, поэтому разбираться, что не так с водой, мы с Маттео выдвинулись сразу после заката — в медленно угасающих сумерках. Мы почти сразу нашли обрыв трубопровода — похоже, пластиковую трубу перегрызли — и устранили поломку. На борт корабля вернулись ни живые ни мертвые. Такой была наша первая удачная попытка прервать вынужденное заточение.
Прошло еще несколько солов, и я увидел, как Маттео в свете фонаря разгуливает по стене базилики. Я понял, что после ремонта водопровода он воспрянул духом и у него зачесались руки сделать что-нибудь еще. Следующим вечером он собрал снасти и отправился на реку. Само собой, я волновался за одноглазого и глуховатого монаха, но Маттео вернулся невредимым и даже с кое-каким уловом. Тогда и я наведался в оранжерею, однако увиденное внутри не вдохновило на труд. Я заходил туда еще раза два, но лишь разводил руками, глядя на сохнущие стебли и запыленную листву. Я вспоминал колокольчиковые голоса помидорушек и дразнящий земной запах ботвы, с болью осознавая, что теперь все это в прошлом. В том же прошлом, в котором остались наши добрые и благочестивые братья. Я заново постигал смысл слова «безвозвратно».
Маттео тем временем приловчился класть камень в свете налобного фонаря. А еще он снял со склона Отца несколько панелей и перетащил их поближе к «Святому Тибальду». Маттео планировал увеличить выработку энергии, чтобы снова запустить «Голиафа».
— Мы должны покончить с Лилит, — заявил он однажды.
— Но как?
— Оранжерея — это клетка. Снимем частично остекление, заманим дьяволицу внутрь и выльем ей на голову остатки гидразина из баков корабля! — поделился он замыслом. — Сожжем ее, как ведьму на костре!
Я понял, что мы с Маттео занялись «перетягиванием каната». Мое подсознание, моя ежедневная хандра, моя лень, страх и непрекращающаяся скорбь способствовали реализации сценария квантового мира, в котором мы все неминуемо погибнем, а лагерь будет погребен песком. Трудолюбивый муравей Маттео, наоборот, стремился к тому, чтобы преодолеть все невзгоды.
Решение созрело само собой. Оно пришло не очередной бессонной ночью и было принято не в эмоциональном порыве. Просто однажды за завтраком я сказал Маттео, что должен уйти.
Маттео ошарашенно поглядел на меня.
Я сказал, что собираюсь в пустыню: держать пост и молиться. Я сказал, что очутился в тупике и очень нуждаюсь в Господе, чтобы обрести мир в душе. Невольно я повторил почти те же слова, которые сказал мне Томаш.
В конце концов, на оставшихся запасах Маттео без меня сможет протянуть в два раза дольше. Я был уверен, что при благоприятном стечении обстоятельств у него есть шансы дождаться прибытия второй экспедиции Ватикана.
— Не уходи, Франциск! — Маттео схватил меня за рукава рясы. — Не уходи! — Он умоляюще глядел на меня. — Как я здесь один?
— Ты справишься, — ответил я, кладя ему на плечо руку. — С тобою Бог.
Я взял только пыльник, флягу воды и то немногое, что осталось от последнего собранного в оранжерее урожая помидорушек.
Томаш отправился на запад, я же пойду на север. Обогну Сына, пересеку ареал марсианских перволюдей. Я намерен пойти вдоль русла реки, смерть от жажды в таком случае мне не грозит, а еще я смогу ловить рыбу. Днем я планирую перемещаться с большой осторожностью, возможно — проводить время в укрытии. Идти буду в вечерних сумерках, покуда хватит сил и не сгустится ночь. Ежедневно и ежечасно я стану взывать к Всевышнему, уверен, что в один прекрасный день Он откликнется. Томаш ушел на погибель, я же ухожу во имя возрождения. Интуиция подсказывает мне, что это — правильный выбор и правильный сценарий развития событий. Быть может, Творец позволит мне раскрыть природу чудесного преображения Марса, пусть даже эти знания навсегда останутся со мной, но до самого последнего дня они будут наполнять меня глубоким удовлетворением.
Что ж, это моя последняя запись. Пусть Господь будет милостив к вам, братья, читающие эти строки! Помните о девяти рабах Божьих, пересекших бесчеловечную пустошь космоса во имя истины и во славу Христа. Встретимся на Небесах!
Эльдар Сафин. Дмитрий Богуцкий Сироты Марса
Первые люди, отправленные на Марс, не имели ни единого шанса.
В эпоху планетарных противостояний на марсианском Северном полюсе высадились путешественники в один конец — колонисты. Их просто швырнули, как швыряют новорожденных котят в реку, мол, вот вам мешок, плывите.
Рассказывают, что они были добровольцами, тщательно отобранными из нескольких миллионов претендентов. Говорят, они были готовы на любые жертвы, чтобы покорить недобрую планету.
Но реально никто так и не узнал их мнения по этому поводу. Потому как до следующей, уже послевоенной, эпохи гонки к Марсу их поселение не дотянуло. От него остались лишь занесенные песком купола общих бараков, затянутые изморозью ледяные разработки и несколько молчащих спутников на высокой орбите.
И еще, как подарок всем нам, — вина, не предъявленная к возмещению.
Непредъявленная — потому что никто не может прийти за долгами, ведь никто из них не выжил. «Мертвая колония» — так у нас о ней говорят.
Это такой наш всепланетарный скелет в шкафу, марсианский домашний призрак. Никто вроде бы ни при чем, а беспокоит. Как изломанные детские ясли на складе, постоянная угроза и затаенный страх — гарантия плохих снов для детей новых поселенцев.
Я, наверное, потому и пугал сестер и братьев сказками на ночь, придуманными тут же, в спальном бараке. О мертвых колонистах, приходящих за неспящими детьми. Приходящими во время бесконечных тихих песчаных бурь, когда на почву Марса ложится синяя тьма, и встает пылевая ночь, и нужно экономить электроэнергию от солнечных батарей. О том, как первопоселенцы являются голые, лишь в шлемах с выдавленными забралами, и тела их покрыты узорами из замерзшей крови.
Сладкий искренний детский ужас от этих историй — первый вкус меда поэтов, испробованный мною, еще неопытным рассказчиком.
На самом деле мы тут, на Марсе, совершенно одни. Было несколько кораблей за годы противостояния с Землей. Они приносили новых людей из метрополии, и сразу же все информационные каналы, включая самые мелкие местные шахтерские, захлестывал непроходимый, хоть и запаздывающий, непереносимый информационный поток.
Тут же наступало всеобщее «равнение на план» и «терраформирование семимильными шагами», от которых некуда деваться. А в пору, когда Марс и Луна-Землю разделяло Солнце и связь держалась на зыбкой цепочке спутников-ретрансляторов, наступал временный покой.
В такие тихие годы всякие неправильные головы начинают посещать разные, не предусмотренные планом идеи.
* * *
Вина — вкрадчивый способ принудить делать то, что нужно, без грубости. И без физического насилия, от которого мы отказались, покинув прежний — жестокий — мир, можно управлять только посредством совести или долга. Другими словами — вины. Ты должен бороться за счастье человечества. Ты обязан накачивать непомерный столб атмосферы — пахота сродни строительству Вавилонской башни, — пока набирающие невиданную силу углекислотные ураганы срывают склоны Олимпа.
Ты… Я должен с упорством муравья перетапливать полярные льды в воду, превращая Великую южную пустошь в жуткие болота, мне следует засевать морозостойкой хлореллой глубокие долины Маринера и выжигать хлором неистребимую черную плесень, заселяющую любую поверхность в обитаемых местах.
На программу терраформирования всегда ничего не хватает. Ни средств, ни рук. Ответом на это стала программа социально ответственного отрочества. На самом деле отлично придумано: энтузиазм молодежи, расширение трудового фронта, закалка характера первопроходца, все дела.
Первое свое осознанное решение, связанное с работой, дети у нас принимают в три-четыре года. На Земле им было бы семь, но наш семилетка — это уже самостоятельный человек, который умеет прочищать двадцать видов фильтров и отличает дохлую хлореллу от больной. Причем больную может лечить тремя официальными способами и двумя неофициальными.
Наши дети — это самый лучший продукт, производимый колонистами. Детей много, потому что выживут не все, а заселять Марс нужно, нужно его приводить к земному знаменателю, чтобы наши дальние потомки могли сажать здесь чертовы яблоневые сады! Кстати, я ел консервированное яблоко, по вкусу даже хуже подслащенного глютенового концентрата, а уж с ним мало что сравнится.
В пять ребенок должен чувствовать ответственность за себя и окружающих. В семь — то есть в тринадцать земных лет — у тебя уже есть свое досье, свои производственные мощности и ты имеешь полное право селиться там, где хочешь. Большинство этим правом не пользуется, но некоторые — и я в том числе — предпочитают открытый Марс теплому родительскому крылышку. Которое, кстати, вовсе не такое уж и теплое, если даже не говорить о том, что они по-родственному претендуют на твои мощности, пока ты живешь рядом с ними.
Но речь не о том. Я с рождения и до смерти должен — а точнее обязан — делать Марс пригодным для обитания. Как будто на нем от этого станет приятнее и безопаснее жить.
Через двести лет такой пахоты мы добьемся, что Марс будет походить на земную Антарктиду. Есть чем дышать и зверски холодно. Стоило ради этого переться сюда и жертвовать жизни целых поколений на алтарь этой идеи? Земная Антарктида и сейчас особо не заселена…
Но слишком, слишком много людей положили жизни, чтобы мы были сейчас и здесь.
Вот только у палки, начиненной виной, два конца. С помощью вины можно принудить. Но с помощью той же вины можно предъявить такой неоплатный долг обществу, что тому не останется другого способа, кроме как оставить тебя в покое. Для этого нужно только освободиться от химеры.
Может показаться безумным, но я хочу, чтобы Марс остался таким, какой он есть. Холодным, резким, безводным и таинственным. Мне назначили мою долю в производственных мощностях, теперь мое мнение считается значимым. Так вот, мое значимое мнение: я не буду платить обществу своей жизнью ради переделки Марса. Я не чувствую этой вины, я — с другой стороны палки.
Сироты появились, возможно, благодаря тому, что я однажды забрал скафандр погибшего переселенца со склада в Мертвой колонии, оставшегося после раскопок, снарядил его компонентами со свалки за поселком и ушел из дома, не тронув доверенный мне производственный пул.
Я объявил себя первым и единственным настоящим марсианином. Да, я просто решил, что буду выжившим одиночкой Мертвой колонии. Я назначил себя достойным преемником первопоселенцев и не желал больше знать мою семью унылых террареформаторов. Теперь я имел право на собственное мнение — а прочим стоило бы заткнуться. Их здесь и близко не было, когда мои предки тут загибались.
Надо ли говорить, что на такую наглость ни у кого не нашлось ответа? В первые дни я гнал и не такую ересь, может, меня извиняет то, что тогда мне было чуть больше восьми лет.
Почти три года я шлялся по Марсу, ездил на попутных грузовиках, летал в контейнеровозах, предсказывал погоду, заклинал духов пустыни и успокаивал души на второпоселенческих кладбищах. Чистил солнечные батареи и раскрашивал скины скафандров в только что выдуманные племенные орнаменты. Искал воду и успокаивал бури. Набивал дальнобойщикам охрой татуировки с лицом Сфинкса, пел песни в новых городах. Я чувствовал, что дремлющий древний Марс заметил меня, мои деяния, ведет моей рукой и слышал согласие в тихих голосах подпевающих мне песчаных бурь.
Разряд прошел в стакане с чистой водой, и неожиданно выпал осадок. Как сказали бы пославшие нас сюда земляне — «случился скандал в благородном семействе». Нас таких оказалось достаточно, чтобы вызвать публичную дискуссию об отказе нам в праве учитываемого мнения, а мой народ — свободный и молодой, совсем еще дети по земным меркам и самостоятельная молодежь — по местным, — тем временем уже пустился во все тяжкие.
Уходили из дома, бросали работу, собирали ветровые яхты из индустриального мусора и устраивали гонки через полушарие в сезон ураганов. Зимовали в спасательных палатках в глубине Дичи — дикой территории за пределами действия систем гарантированного спасения. Спускались в бочках по водяным трубопроводам северной оросительной сети, строили мегалитические обсерватории на склонах щитовых вулканов.
Невероятной популярностью пользовались предметы предшественников из Мертвой колонии. Особым шиком считалось тюнинговать шлемы, поднятые из их могил.
Мы с самоназванием как-то не определились. Казалось вполне логичным, что мы — марсиане, и этого было достаточно. Зато для остальных, для взрослых, мы оказались достаточно чуждыми, чтобы нас назвали Сиротами.
Некоторое время мы жили на не пересекающихся с колонистами плоскостях. Нам хватало нашего Марса, а целеустремленные террареформаторы не становились моложе и уже начали ощущать непомерную усталость, понемногу сбавляя темп и накал. Даже давление из метрополии не могло заставить их двигаться как раньше, «завод» заканчивался — и воткнутый в спину игрушки ключ крутился все медленнее.
А между тем, как обычно водится, нашлись радикалы радикальнее нас. На четвертый год моего путешествия я услышал о них — табуларассерах. Подвижниках чистого начала. Эксплуатация вины им претила, а считать себя наследниками первопроходцев не прикалывало. Нашу жизнь — жизнь «сирот» — они назвали жалким самообманом и сделали следующий шаг.
Шаг безумный, показывающий, что они самые настоящие, полные психи. Они считали, что истинный марсианин появится, когда среда сама сформирует необходимые навыки. Они заявляли, что уже добились этого. Что их первый прошел ад пустыни, выжил и принес оттуда истину правильной жизни. Он якобы снял с себя скафандр, ушел в глубины долин Маринера и жил там сорок дней и ночей, дыша испарениями хлорелловых болот и питаясь тем, что приносил ветер.
Не то чтобы я знаю всех на Марсе — хотя нас тут не так уж и много, — но заметных, ярких людей, независимо от их социальной, расовой и любой иной принадлежности, здесь немного. И я не помню, чтобы сталкивался с кем-то подобным.
Но кто здесь врет, а кто честно заблуждается, я не разбирался — у меня забот и без того хватало.
Они предпочитали не стандартные, торенные дальнобоями и проверяемые спутниками маршруты, от которых Сироты держались не так уж далеко. Они предпочитали Дичь — территории, где не бывали даже исследователи, пустынные, безжизненные, неинтересные ни для геологов, ни для мелиораторов гиблые места.
Я не обращал на табуларассеров внимания. Но они сами обратили мое внимание на себя.
В тот момент я был на соляных рудниках южной Сидонии. Там я вместе с госпитальерами из «Бродячего анатомического цирка Барсума» только что нашел решение интереснейшей, возможной только здесь загадки. Это была эпидемия потери памяти у операторов шахтных роботов. И в этот момент откочевывавшие к югу по Зюйдтрассе Сироты передали мне весточку от мамы.
Мой восьмилетний брат Лютер уже полгода как ушел в табуларассеры. Сделал себе ожерелье из фаланг пальцев, собранных на кладбище Мертвой колонии, и ушел из дома. Девяти лет пацану еще не исполнилось — то есть около пятнадцати по земному исчислению. Наверное, это у нас семейное.
Он пришел в центр доступа и потребовал в распоряжение положенную ему долю неотъемлемых производственных мощностей. С усмешками ему предоставили доступ. Сироты считали неприемлемым пользоваться технологиями пришлой цивилизации. А брат мой Лютер построил прямо там выдуманный турбокластерный райдер, как теперь было модно: пылевые шины в рост человека, ряды инфракрасных фар по бокам, здоровенная рама в обтекателях, в которых теряется седок. Закачал баки водородом и отчалил на юг на скорости, близкой к звуковой.
Письмо от мамы было архаичной звукозаписью на силиконовом кристалле — почти бутылкой, брошенной в море. Я никак не мог получить это послание раньше — Сироты не признают информационные каналы новопереселенцев. Впрочем, теперь мне на это было наплевать. Мне срочно нужно было в другое полушарие. До того как мой брат совершит самоубийственную попытку снять шлем под нашим ледяным небом.
Я знал, с чего начать.
Я отправился на Перекресток, в бассейн огромного южного кратера Эллада. Перекресток находился не очень далеко — во всяком случае, в нашем полушарии. Я въехал в него через сутки, на рассвете. На рассвете, больше похожем на закат от поднятой в воздух рудничной пыли, попутный дальнобойщик высадил меня на окраине Перекрестка.
Эллада встречала зарождающимся ураганом. Края чаши кратера прятались за горизонтом, дорога, склеенная из обломков камней, ровной линией пересекала дно, теряясь в полуденном мареве. Мачты цепочек ветряков наклоняло ветром.
Почти на горизонте погонщик роевых рудосборщиков сидел у пирамиды из положенных один на другой плоских камней. Он, закутавшись в огромный кусок смятой ветром фольги, присматривал за рассыпанным по склону квазиживым стадом, рывшим грунт в поисках редкоземельных микролитов. Когда я подошел ближе, он поднял руку в ответ на мое приветствие.
Ветер в Элладе несет вверх металлические микрочастицы, и они быстро выводят из строя системы скафандров по забору кислорода из атмосферы. Этот эффект — неожиданное следствие изменения плотности воздушных потоков, один из множества незапланированных сюрпризов терраформации. И как следствие — эти места теперь вне плана террареформаторов, здесь земля Сирот.
Старые рудничные склады на задах поселения — перевалочный пункт того, что может потребоваться пересекающим полушарие в любом направлении, и тем не менее даже там девятилетний пацан на райдере привлечет внимание.
И его тут действительно видели. Он ехал в караване табуларассеров на запад через пустыню. Ехал в мимолетный город-призрак Сирот у подножия крепости Толокан. Крепости, которую построил я. В самой глубине неосвоенной Дичи, вдалеке от защищающих от солнечного излучения трасс искусственного магнитного поля и действия спутников связи. Там, где рождаются пыльные бури…
Меня окружали склады, вокруг бойко торговали всяческим барахлом. Я уже купил крыльчатку для сносившихся вентиляторов нагнетателя давления в скафандре и выбирал для него же свежие батареи, когда меня нашел доктор Ликург.
— Я слышал, ты едешь за табуларассерами? — спросил он, человек не из этого полушария. На маску его скина проецировалось его собственное лицо, невиданный среди Сирот обычай. Это могло значить, что он из террареформаторов. — Мне не помешал бы проводник по этим местам, а то я тут еще не бывал.
— Хм. — Я прищурился, разглядывая Ликурга и размышляя, не слишком ли это удачное совпадение. — Что везешь?
Он показал мне цельнометаллический чемоданчик, прикованный к его руке длинной цепью:
— Лекарства. Родители некоторых детей, которых он увел за собой, беспокоятся об их здоровье и наняли меня за ними присмотреть.
— Доктор, значит?
— Именно.
Сироты редко просят о помощи, но еще реже отказывают в ней нуждающимся. Я подумал-подумал и согласился:
— Хорошо, доктор. Нам действительно по пути. Но мне нужно двигаться быстро, не отставай.
Дичь покажет, кто ты такой на самом деле, доктор…
Мы плотно пообедали в культовой забегаловке «Яйца в мыле» в обществе южан-дальнобойщиков. Народ почти не пялился на мои косы, переплетенные с трубами из подсвеченного оптоволокна. Сироты среди дальнобойщиков случались чуть чаще, чем в других стратах.
— Тебя действительно зовут Брагги? — спросил доктор, когда мы вышли наружу и уже грузились в его пескоход.
— Да, меня зовут Брагги. Моя мать обожает саги. — Наши родители любят старые, чужие сказки, а мы создаем новые и живем в них.
— Я думал, ты будешь помоложе, — проговорил он, глядя на маску моего шлема, изображавшую деревянное резное одноглазое лицо с густой бородой.
— И я так тоже когда-то думал…
Пескоход доктора выбрасывал грунт лопатками колес, толкая нас к выгнутому горизонту Эллады. Мы почти не говорили друг с другом.
Через сутки мы добрались до Толокана, города, созданного мною три года назад.
Тридцатиметровые башни-пики из склеенного силикатным клеем песка и плоских выветренных камней посреди пустыни ничуть не осыпались за время моего отсутствия и, как и прежде, кололи призрачно близкое небо.
— Это действительно ты построил все это? — спросил доктор.
— Да.
— С ума сойти. Зачем?
— Я хотел, чтобы на Марсе был готический замок.
В Толокане мы не нашли ничего, кроме брошенного лагеря, мусора и шести свежих могил на белой каменистой равнине.
— Доставай лопату, — бросил я доктору, слезая с пескохода.
— Ты же вроде только что спешил? — прищурился он за забралом шлема.
— Надеюсь, что я еще не успел…
Я разрывал мелкие могилы одну за другой. Вытаскивал засыпанные мертвые тела, складывал в общий ряд. Доктор сидел на своем чемоданчике, соединив руки замком, длинная цепочка свисала с его руки до грунта. Помогать не стал — молча следил за моей работой. Длинная тень от его ног из-за низкого солнца уходила прямо в горизонт.
Лютера в этих могилах не оказалось.
Я подтащил к ряду последнее застывшее насмерть тело без шлема, уложил в ряд, с хрустом разогнулся. Огляделся. Пустынно.
— Похоже, — произнес я, глядя на застывшие тела, — в этот раз что-то пошло не так.
— Знаешь кого-то из них? — коротко спросил доктор.
Я только вздохнул, оглядываясь. Ветер нес обрывки пластиковой ткани и катил невесомые колбы для воды мимо брошенных навесов. Безлюдно.
— А ведь здесь много людей жили когда-то, — пробормотал я, опираясь на лопату. — И я здесь жил.
— И где теперь они? — быстро и напряженно спросил доктор.
— Ушли, наверное, — буркнул я. — Не знаю.
— Кто их убил? — спросил доктор, сгорбившийся на чемодане. — Табуларассеры?
То, как он это спросил… То, что он вообще это сказал — «убил», я понял, что он не только не из этого полушария — он вообще не с этой планеты.
— Никто их не убивал, — буркнул я, думая об участии брата в этом деле.
— Что? — удивился он. — Они сами в могилы легли, что ли?
— Вроде того…
Доктор мне явно не поверил. Помолчав, он добавил:
— Нужно сообщить их родным.
— Они скоро узнают, — ответил я. — Их заберут, когда «Бродячий анатомический цирк Барсума» сюда доберется. А нам надо ехать дальше.
— А их так оставим?
— Падальщиков у нас тут еще нет.
Пока мы удалялись от Толокана, пока я, сидя спиной к ведущему пескоход доктору, видел в туманной тихой буре у горизонта шпили моей крепости, я все размышлял, что же делает Лютер среди этих людей, зачем он это делает и чем это все может закончиться.
Мать меня никогда не простит.
Мы четыре дня следовали по цепочке могил за их караваном, от одного брошенного лагеря до другого, разрывая одинокие могилы, чтобы убедиться, что моего брата там нет.
— Ты понимаешь, что они делают? — спросил доктор однажды. Он пристально посмотрел на меня. Он явно хотел, чтобы я слушал внимательно и ждал ответов. — Они же закапывают людей заживо.
Ну да. Именно так они и поступали. Вывозили решившихся на инициацию в Дичь посреди долины кратера Эллада, рыли яму в осколочном грунте, сажали туда человека в одном скине и оставляли выживать. И конечно же такая инициация оставляла после себя трупы.
— Они уничтожают Сирот, — добавил доктор. — Сколько лагерей мы уже проехали? Шесть?
Я скривился: он явно ничего не понимал. Спросил сам:
— А ты чего на самом деле за ними гонишься? Только честно.
Он на мгновение заткнулся, потом сказал:
— Я просто доктор. Я только везу лекарства.
Он точно не с Марса, этот доктор.
— Ладно. Там посмотрим, какие у тебя лекарства, — буркнул я.
Мы следовали за Лютером, а он оставлял за собой пустые поселения и стойбища. Похоже, все либо шли за ним, либо бежали прочь. Или ложились в могилы.
Было ясно, что я должен его остановить, иначе тут просто не останется людей и страна Сирот, которую я создал, исчезнет.
А потом в ледяном закате машина доктора затарахтела, закашлялась, перевалившись через каменистый бархан, и сдохла после короткой агонии.
Я забрал свой рюкзак, лопату и слез с пескохода.
— Ты куда? — удивился доктор.
— Не можешь ехать — иди, — ответил я ему расхожей максимой. Доктор неохотно слез с заглохшего пескохода со своим цельнометаллическим чемоданчиком наперевес и пошел за мной.
— Ты хоть знаешь, куда идти? — спросил он, недовольный, шагая по глади кратерной пустыни.
— Я знаю, куда они направляются, — ответил я, не оборачиваясь. Это его подбодрило.
Доктор, в общем, неплохо держался в этой необжитой пустоши. Он только сильно беспокоился, сколько зиверт мы тут наловим на каждого, гуляя под открытым солнцем. Ну, мне-то, как коренному, быстрая и легкая смерть от лучевой болезни не грозила: мама в первом триместре принимала все нужные перинатальные присадки. А вот ему — если он не с Марса, а похоже, так оно и было, — могло и аукнуться.
— Буря нас прикроет, — ткнул я в небо пальцем. Доктор не ответил — пялился на покрытый пылью металлический череп когда-то квазиживого рудосборщика, зарывшегося в растрескавшуюся почву. — А. Этот отбился от стада. Потерялся в буре и разрядился.
— Надеюсь, мы сами не слишком отобьемся, — пробормотал доктор.
Прав был доктор. Я сильно рисковал, уходя в глубь неосвоенной территории. Тут мы действительно могли запросто сгинуть без вести. Но я уже понял, куда двигается караван табуларассеров, и стремился срезать путь через Дичь. Медлить ни к чему.
Мы шли всю ночь и часть следующего дня.
* * *
А спасла нас мудрая женщина Тонанцин, что пересекала эту равнину с запада на восток на своем ветроботе. Крыльчатка моего нагнетателя атмосферы покоробилась от ударов микролитов, и мне предстояло испытать фатальную нехватку кислорода уже в ближайшие часы. Доктор пережил бы меня не надолго: без связи он бы отсюда не выбрался, так как сам был хуже ребенка.
После того как мачты ветробота Тонанцин показались над горизонтом, она около часа нагоняла нас — трехколесный катамаран, счетверенные шасси на вынесенных в стороны подвесках, две наклоненные стометровые мачты с металлическими листьями парусов трансформеров. Доктор, распахнув рот, наблюдал за ее приближением.
Нагнав нас, она скинула якорный болт, тут же закрутившийся в почву, и свернула паруса в мачты.
— Куда ты следуешь, мудрая женщина? — спросил я, приблизившись и считав знаки на маске ее скина, изображавшей базальтовый барельеф с лицом ацтекской богини-матери.
— Я следую в Чикомосток на фестиваль Великого Духа, — ответила она.
— Мы идем туда же. Разделим этот многообещающий путь с моим попутчиком?
— Буду рада, — ответила мне Тонанцин.
И мы поднялись на борт. Она тотчас отчалила.
— Чикомосток? — буркнул доктор, устраиваясь на борту.
— «Семь пещер», на языке ацтеков, — ответил я, валяясь на баке ветробота на куче спальных мешков. — Скальный город в кольцевых горах кратера. Мы будем там завтра.
— А я думал, что видел все, — пробормотал доктор, запрокидывая голову, чтобы посмотреть, как в высоте смартгроты хватают неуловимый марсианский ветер.
— Она чемпион гонок по нулевому меридиану, — сообщил я.
— Откуда ты знаешь?
— Это есть у нее на лице.
По-моему, он меня не понял. Раньше, на Земле, была такая пословица: «У него на лице все написано». Сейчас и здесь она не имеет смысла, потому что мы действительно рисуем и пишем все на масках скинов: имя, достижения, девизы, положение. Это лишь одна из многих вещей, которые террареформаторы перенимают у нас, пока робко и частично, но в будущем это наверняка станет нормой для любого марсианина.
— Зачем ты следуешь в Чикомосток? — спросил я Тонанцин. Ветроботы именно следуют, не едут. Ездят райдеры. Важно не путать.
— Я слышала, в Дичи объявился человек, на которого снизошел Великий Дух, — объяснила Тонанцин. — Надеюсь застать его там. Я уже три года в священном путешествии. Раньше я ловила лед в углекислотных озерах Севера, надеюсь вернуться туда к семье, они очень давно меня не видели. Слово Великого Духа изменит все.
— Н-да, — вздохнул я. — Я тоже надеюсь, что его найду… Тоже давно не был дома. Очень давно.
А доктор вздохнул и сказал невесело:
— А у меня место на корабль отсюда. Если я не успею вернуться, застряну тут еще на два года…
Он печально щурился на солнце.
— Тонанцин, — произнес он. — Ты действительно думаешь, что здесь где-то бродит человек, на которого снизошел Великий Дух? Или это только дань верованиям предков с Земли?
— Конечно, он где-то здесь. — Тонанцин удивленно покосилась на доктора, не выпуская кормило из рук. — Его не может не быть.
— Мы же изжили все это, — пробормотал доктор, глядя на уходящие назад барханы. — Безумный мистицизм, идеологическую одержимость. Откуда это все взялось здесь?
— Ну, — задумчиво отозвался я. — Тут есть о чем подумать. Вот чем была Мертвая колония?
— Нечто худшее, чем просто преступление, — немедленно, как по-выученному, отозвался доктор. — Ошибка планирования. Грандиозная ошибка.
— Да не было это ошибкой, — со вздохом ответил я. — Они знали, на что идут. Это был краеугольный камень. Кровь под фундаментом. После такого самопожертвования никто уже не мог оставить Марс в покое, ведь так? Или их смерть была зря?
— Все было ровно наоборот, — быстро отозвался доктор. — Из-за того, что они погибли, из-за того, как они погибли — а это видел весь мир в прямом эфире, — человечество надолго отвернулось от космоса.
— Занятная версия, — не стал спорить я.
— Это факты, — отрезал доктор.
— Это интерпретация фактов. Как погибнут первоколонисты, не имело никакого значения. Важно только то, что они были обречены.
— Это ты так извиняешь вот это вот ваше всеобщее марсианское мракобесие? — удивился доктор.
— Это ты спросил, откуда все взялось. Я только ответил, — прищурился я. — Это то, что внутри нас. И если удалять — то только редактируя ДНК. Великий всепланетный колонизационный проект, триумф научного мышления, вершина рациональности, а жертву все равно принесли.
Я подождал, но доктор молча слушал, и тогда я продолжил:
— Это у людей в генах. Это было выгодно для эволюции. Когда-то на Земле только те общества перешли от малочисленных племен охотников к сообществам с сильными вождями, а от них к деспотическим теократиям Нила и Междуречья, кто мог чувствовать сверхъестественное. Верю в то, что невозможно, и это делает меня способным к превосходящим всякое воображение достижениям. Ведь когда перед тобой стоит задача, которую не одолеть ни тебе, ни детям твоим, что остается? Только начинать снова верить. Во что угодно.
— И побуждать людей к массовым самоубийствам — тоже? — язвительно переспросил доктор. — Это сон разума.
— Нельзя же все время не спать, — ответил я и не был понят. Метафоры лживы.
— Ты знаешь, что именно делают табуларассеры? — спросил меня доктор. — Они увлекли за собой этих детей несбыточными обещаниями. То, что они обещают, невозможно. По крайней мере, для людей.
Я промолчал. Ну да. Тот, кто выживает, — марсианин, исконная великая раса, они старше обезьян с Земли. Тот, кто нет, — падаль человеческая. Кто отступит, когда вопрос поставлен таким образом?
Не это ли подтолкнуло моего брата отправиться сюда? А может быть, мой пример, мое бунтарство стало единственным топливом для его побега? И мой негодный образ жизни он сменил на свой, еще более негодный?
Чувство вины оказалось непривычно заслуженным. Оно и гнало меня вперед. Надеюсь, он не рискнет раньше, чем я его найду…
— Тонанцин, — напоследок спросил доктор. — А что будет, если ты найдешь этого своего одержимого?
— Да не дай бог! — засмеялся я. — Уверен, что найденное ей не понравится.
Тонанцин, молча слушавшая, на этом месте приподняла маску своего шлема и сердито плюнула за борт. Сегодня на солнце было всего минус шестьдесят, и ее плевок упал в песок ледяным камушком.
Я заткнулся.
Поймав ветер, мы ехали всю ночь и прибыли в Чикомосток следующим утром. «Семь пещер», город из дыр в кольцевых горах Эллады, украшенный моими наскальными рисунками из вымышленной эпохи еще живого зеленого Марса. Прибыли мы прямо на фестиваль пограничных состояний, основанный некогда тоже мной, — «Сенцон Тотчтин», или «Четыреста пьяных кроликов». Праздник богов пива, собиравший Сирот со всего полушария.
Раньше здесь встречались потерянные люди всех рас и родов, смешивая чувства и смешивая мысли, познавая собственные границы, осознавая, что не одиноки. Теперь его захватили табуларассеры, вытеснив или обратив несогласных, и теперь здесь остались только те, что были связаны только одной страстью — к Чистому Началу, одной привязью — исступленной надеждой на невероятное.
Нас никто не встречал. Нас вообще никто не заметил.
Мой брат Лютер стоял на высокой скале и говорил с народом. Мы подошли и стали слушать.
— Я обещаю вам, — говорил нам Лютер, стоязыкий проповедник, вершитель судеб, глас свыше, свет в ночи, ярый зверь. — Я обещаю вам небо. Открытое небо. Я обещаю вам воздух и глубокий сладкий вдох.
Он знал, как готовить этих мальчиков и девочек, он их любил, он ел их живьем. Он был именно таким, каким я себе придумал ночами на этом пути образ пророка табуларассеров, которого никогда не встречал, — с лицом древнего бога, с глазами дикой кошки. И вот теперь я видел его при свете дня.
— Вы будете дышать полной грудью. Я дам вам свободу. Идемте! Нас ждет испытание, которое нам следует пройти.
Он был в шлеме, маска его изображала терракотового человека с чертами хищной кошки в виноградном венке. Вид его вызывал оторопь и ужас.
— Мой брат умер в этой пустыне и вернулся! Он смог, и вы сможете! Я говорю вам!
Он говорил. А у меня не было слов. Только паника. О ком он говорил? Не обо мне же?
Потом он сошел с камня и спустился к нам, подобно острому ножу рассекая ткань толпы. Приблизился к нам вплотную.
— Я не видел вас раньше, — сказал он нам. — Кто вы?
— Меня зовут Ликург. Я жажду стать марсианином, — ответил ему доктор. — Расскажи мне как, если знаешь.
— Ликург. — Лютер словно попробовал его имя на вкус. — Идем.
Мы вошли вслед за ним под сень горы, под свод гигантской пещеры, в арку огромной длинной палатки, скроенной по образцам первопроходцев.
Грязный, бурый от пыли навес из пористой экоткани дрыгался на сервокаркасе. Каркас шевелился, постоянно изменял форму под давлением слабого ветра. В палатке больше ничего не было, словно тут и не жил никто. В палатку вошли только мы вчетвером с Лютером — остальные остались снаружи.
— Это тебе. — Доктор протянул чемоданчик Лютеру, и тот, удивившись, взял его в руки. Доктор молча открыл чемоданчик, выхватил оттуда огромный реактивный пистолет, направил его на Лютера и пальнул ему в лицо.
Я едва успел пнуть чемодан снизу — дозвуковая смартпуля с воем завязла в его металле. Лютер тут же ударил чемоданом руку доктора, выбив из сустава кисть и заставив выронить пистолет, а затем обрушил доктору на голову, поставив на колени, и третьим ударом сбоку сбил на пол, расколов шлем в нескольких местах.
Тут же в палатку ворвалась толпа снаружи — нам с Тонанцин заломили руки за спину, поставили на колени.
— Это еще что такое?! — крикнул Лютер, отбрасывая мятый чемодан в сторону. — Вы кто такие?
Доктор валялся на ледяном песке, задыхался и не мог ответить. Маска на шлеме погасла. Воздух утекал паром через трещины.
Лютер поднял пистолет доктора, преломил о предплечье — пусто, там был всего один заряд, уже истраченный.
— Метрополия… — брезгливо проговорил Лютер и отбросил пистолет.
Он прыгнул ко мне и, едва я попытался вырываться, схватил железной рукой за горло, задирая мне голову.
— Вы кто такие? — выкрикнул он. — Сироты? Что они вам пообещали? Как они вас купили? Вернуть вас в метрополию, обратно в тепло и уют, ведь так, глупцы?
Он вгляделся в мою маску — но что он мог сквозь нее увидеть?
— Я тебя знаю? — спросил он.
— Это я, твой брат Брагги, — сказал я. И выключил маску.
— Брат? — удивился Лютер. — Брагги-сказочник?
— Это я, Лютер.
— Брагги, — медленно произнес Лютер, присев передо мной на корточки. — Неужели? От этого имени в Дичи просто некуда деваться. Я слышал это имя повсюду с детства. И я действительно помню все байки, которые он рассказывал нам на ночь. От них просто некуда было деваться. Чертов сказочник, несдержанный на язык, любитель пугать маленьких детей…
— Это я, Лютер. — Слова стыли от ужаса у меня в глотке.
— Все вокруг знают, кто мой брат, — задумчиво улыбнулся Лютер, глядя мне в глаза. — Ведь это мой брат умер и восстал, открыв нам путь Чистой доски. Слышишь, как воет ветер? Это значит, что время испытания подходит. Никто не избежит своего шанса. И если ты действительно хочешь быть моим братом, незнакомец, ты можешь им действительно стать. Ты готов?
Он мог и не спрашивать — конечно же я не был готов.
Нас вместе с доктором и Тонанцин вытащили наружу, вывезли в пустыню и выкинули из райдеров на камни долины, где уже были выкопаны три неглубокие могилы. Нас побросали каждого в свою. Остатки воздуха, вырывавшиеся из трещины в шлеме доктора, застывали изморозью на потрескавшемся тетрапропилене.
— Лютер, — прохрипел я из своей могилы. — Тебя ищет мама.
Мой брат не ответил мне. Он ушел в красноватую мглу бесшумной бури, обвалившуюся на равнину у подножия гор, и увел за собой всех остальных. Они все ушли, оставив нас один на один с отцом нашим Марсом. И отец наш в этот день был не в духе.
Я проверил давление в скафандре и выбрался из своей могилы, перебрался в яму к доктору. Тонанцин тоже перепрыгнула к нам. Беззвучная буря тут же накрыла нас.
«Чертов метрополец, — думал я, остервенело заклеивая цианакрилатом разбитый шлем Ликурга. — Тоже мне, доктор хренов нашелся. Ну да, хорошая пуля — надежное средство от любых немощей!»
Я и раньше о метропольских хорошо не думал, а теперь и подавно.
Тем временем Тонанцин натянула над нашей могилой полог из ее теплоизолирующего пончо — лист тонкой немнущейся фольги. По фольге тут же замолотили невидимые песчинки. Ну, значит, замерзнем не сразу, а только к утру, когда под минус сотню стуканет.
Три человека в покое излучают чуть больше тысячи килоджоулей в час. Так, теплопотери фольги и стенок окопа… Нет, не хватает. К утру точно околеем.
В этот момент мой скин-скафандр окончательно сдох и перестал нагнетать снаружи углекислый газ, где в озонидовом патроне из него выделялся кислород, который примешивался к стандартной воздушной смеси. Счет моей жизни пошел на минуты.
— Есть идеи? — спросил я Тонанцин, глядя, как падает уровень кислорода у меня под скином.
— Молись, — серьезно ответила она.
— Времени нет, — буркнул я, разбирая барахло из своего пояса. Кости, гайки, провода, ага, вот! Я вытащил из пояса слипшуюся горсть серых кристаллов, пересыпанных черной технопылью.
Любой марсианин продержится в Дичи голым хотя бы пару часов. Но больше? Я знаю один способ, но этот способ не для меня.
— Что это? — спросила Тонанцин, осветив мою красную руку налобным фонариком.
— Это способ продержаться до утра, — буркнул я. — Амнезия рудничных операторов. Смесь нитратных солей со стенок шахт и техносмазки рудных роботов.
Сразу вспомнилось расследование, которое мы проводили с «Бродячим анатомическим цирком Барсума» в соляных рудниках южной Сидонии, когда меня сорвали с места новостью о пропаже Лютера. Ребята уже сталкивались со случаями амнезии среди шахтеров, хотя чаще находили вымороженные штреки с мертвыми операторами.
А я коллекционировал разные страшилки и легенды, обрабатывая их под свои нужды. Вместе мы собрали это воедино, провели пару анализов и поняли, в чем же причина. Там же, в шахтерском поселке, нашли женщину, потерявшую ребенка родами и желавшую забыть последний год.
Первый опыт был неудачным — она забыла лишь полтора месяца и очнулась через час, уверенная, что она беременна, — а вместо этого обнаружившая пустой живот и кучу мужиков вокруг. Мы еле справились с ней вшестером — но со второго раза все удалось, она очнулась на следующий день, забыв ровно тот срок, какой и хотела.
— Надо же, — проговорила Тонанцин, глядя на смесь в моей ладони. — Не думала, что увижу ее. Я была уверена, что это городская легенда.
— Эта легенда — чистая правда, — заверил я ее. — Она обеспечит отличную экономичную кататонию на десять часов, минимум трат воздуха и калорий. Ну и спалит все твои воспоминания за последний год примерно.
— Сложный выбор, — прищурилась Тонанцин.
— Способ выжить. Только тут две дозы, — добавил я. — Это тебе и доктору.
— А ты?
— А я пойду выбью дерьмо из одного глупого пацана, который много о себе возомнил.
— Я не собираюсь ничего забывать. Я уже три года потеряла на поиски Великого Духа и откатываться назад, когда я так близко, не собираюсь, — покачала головой Тонанцин.
— Ну и дура, — ответил я. — Умрешь ни за что ни про что.
— Умирать я тоже не собираюсь, — отрезала Тонанцин. — Доктор до утра без шлема продержится? Как принимают эту дурь?
Я отключил шлем от скафандра доктора, снял его.
— Подними ему веки.
Я, тщательно отмерив, засыпал слизистую глаз доктора пылью, мгновенно растворявшейся на поверхности роговицы. Через пару секунд доктора парализовало, он выпрямился в своей могилке, вытянувшись во весь рост, и принял характерную «позу мумии»: одна рука вдоль тела, вторая согнута в локте и лежит поперек живота.
— Ну, вот и все, — прошептал я, глубоко вздохнул и снял свой шлем. Губы обожгло ледяным холодом. Пятьдесят лет терраформирования дали лишь четверть от земного давления в этой самой глубокой на планете впадине, но я уже не свалюсь без сознания немедленно. Отдал свой шлем Тонанцин — она его надела доктору на голову, чтобы не замерз, а я нацепил шлем доктора и заклеил шейный клапан. Из шлема травило, но вентилятор на затылке исправно нагнетал давление внутрь.
Дергая конечностями, я вылез из своего теплого скафандра в ледяную утробу могилы, распорол добытым из пояса острым куском обсидиана термослой скафандра и начал размазывать хлынувшую из отверстия красную вязкую жидкость по телу.
Тонанцин недоуменно озирала мое голое тело.
— Я этот камушек на горе Арсия подобрал, — прохрипел я, постепенно согреваясь собственным теплом. Изолирующий термогель позволит мне продержаться без скафандра какое-то время. — Думал, обработаю под неолитическое рубило и в раскоп подброшу, чтобы археологов помучить.
Я еле-еле скомпенсировал едва переносимые пол-атмосферы в шлеме потоком чистого кислорода. Не дай бог в шлеме что-то коротнет — взорвусь к черту…
— Пойдем, — тяжело выдохнул я, приподнимая полог и выбираясь в тяжкую алую ночь.
Воздух был заполнен мелкими невесомыми песчинками так плотно, что вытянутая рука терялась в бурой мгле, которую фонарик не пробивал. Было неожиданно тепло, в смысле, минус двадцать, не больше.
Пока мы брели примерно в сторону гор, спотыкаясь обо все камни по пути, я понял, как это получается, — вечером нагретый до ощутимого плюса на дне кратера воздух уходит в стратосферу.
В то же время с гор вниз стекает поток холодного воздуха и успевает прогреться, пока пустыня остывает, отдавая тепло пыльному туману. Нужно спешить — когда все остынет, я тут без ступней останусь.
Это было, наверное, не так уж долго — вряд ли больше часа. Буря становилась все сильнее, а я только прибавлял шагу, а за мной бежала Тонанцин. А за нами бежала, танцуя и смеясь нашей наглости, смерть.
Потому я не выбирал средств и слов, когда вломился в пещеры Чикомостока. Я бежал голый и в шлеме, как бог войны, а моими спутниками были страх и ужас. В травящей паром при каждом выдохе во все стороны маске разбитого шлема я выглядел как покрытый пылью и налипшей кровью демон бури.
Да, в этот день я поднялся во плоти из глубин детских ужасов. Все встречные разбегались.
Я одним ударом рубила разрезал входной клапан поселенческой палатки, и та мгновенно опала, потеряв форму, народ внутри заорал, закашлял. Они хватали шлемы и натягивали их на дурные головы, вопили и ругались, задыхаясь.
Шагая по катающимся телам, я щедро раздавал пинки потенциальным самоубийцам. В конце палатки нашел спальный мешок, из которого вытряхнул Лютера прямо на голый пол. Братец кашлял и слабо сопротивлялся. Еще бы — это Марс, детка, здесь нечем дышать инопланетным млекопитающим!
Я схватил его обеими руками за горло, подтянул к себе и прокричал ему в перепуганное лицо:
— Ты плохо вел себя, Лютер. Ты был плохим мальчиком.
Я орал, а низкое давление превращало сказанное в хрипящий злобный шепот.
— Ты лжец, Лютер. Ты состоишь целиком из чужих выдумок. Из моих выдумок. Это я придумал тебя, Лютер, глупый мальчишка. Ты целиком мой. Не тебе корчить из себя экстатическое божество, ты мелок и жалок. Ты не способен к творчеству.
— Мама… — вытаращив глаза, хрипло прошептал Лютер. — Пожалуйста.
Он плакал.
— Я знаю, что тобой двигало, — сказал я ему тихо. — Ведь я такой же. Я дам тебе еще одну возможность. Еще раз прожить твою жизнь, миновать перекресток, который привел нас сюда. Я дам тебе шанс, которого уже нет у меня.
Я протянул руку, раздавил в ладони слежавшийся комок и засыпал его огромные глаза пылью, которую ребята из «Бродячего анатомического цирка Барсума» назвали «Амнезией шахтных операторов».
Когда он перестал корчиться и замер, я уложил его на спальный мешок и выпрямился. Народ, который не сбежал прочь, жался к стенкам палатки. Позади меня в облаке красной пыли мстительной ацтекской богиней стояла Тонанцин с каменным лицом, освещая темное нутро шатра своим налобным фонарем.
Молчание затягивалось. Эк я их запугал-то.
— Чего ты хочешь теперь, Великий Дух? — решительно спросила Тонанцин среди общего молчания.
— Найдите мне какие-нибудь портки, — просто ответил я. — Яйца сейчас отморожу.
* * *
К утру буря завершилась, и мы вытащили доктора из его неглубокой могилы. К вечеру он пришел в себя, а потом пожаловал и «Бродячий анатомический цирк Барсума» и оказал помощь всем в ней нуждавшимся. А доктор забыл успеть на свой корабль и надолго застрял у нас.
На этом все и кончилось.
Когда позже я посетил доктора Ликурга в лазарете на Перекрестке, он был мрачен.
— Я тебя знаю? — спросил он первым делом, когда я вошел.
— Я тебя знаю, — ответил я. — Мы неделю шлялись по Дичи вместе. Лежали в одной могиле.
— М-м-м, — выдавил он сквозь зубы. — Так это ты, Брагги? Я знаю твою мать. Еще с Земли. Тебя не помню. Не помню ни хрена. Как даже на эту планету попал. Очнулся — думал, совсем с ума сошел…
— Значит, зачем ты прилетел к нам — не помнишь?
Он покачал головой, отрешенно глядя на экран, демонстрирующий будущие джунгли Фарсиды.
— Понятия не имею, чем буду заниматься все это время, — произнес он негромко.
— Ну, — ответил я. — У меня есть одна идея.
На улице у ветробота со сложенными мачтами я встретился с Тонанцин. Она ждала, когда я выйду из госпиталя.
— Так и будешь за мной таскаться? — спросил я недовольно.
— Ну да, — просто ответила Тонанцин. — Я три года на тебя потратила.
— Слушай, я ничем тебе не помогу. Я не знаю, как тебе закончить твое магическое путешествие. Я не шаман и не бог.
— Мое путешествие уже закончилось, — усмехнулась Тонанцин. — Меня закопали в землю, и я вышла оттуда следом за Великим Духом живой.
— Так что тебе еще от меня нужно?
— Мне нужна мудрость. Напутствие. Слово.
— Плодитесь и размножайтесь, блин, — ляпнул я бездумно.
Тонанцин на мгновение задумалась, потом согласно кивнула и пошла к ветроботу разбирать такелаж для отхода. Я некоторое время следил, как она, ловко орудуя лебедками, поднимает сегменты мачт к небу.
— И что? — спросил я. — Это все, что тебе от меня было нужно?
— В этом есть смысл, — пожала она плечами. — И, собственно, именно так я и хочу поступать впредь.
— И чем этот смысл отличается от того, что был в этих словах раньше?
— Я его полностью понимаю, — белозубо улыбнулась мне Тонанцин, хлопнула меня по плечу на прощание, выбив из плеча моего ветхого скина облачко красной пыли, и, взобравшись на борт, резво отчалила на север, оставив меня томиться в сомнениях.
Так все и закончилось, что бы вам ни говорили все те свидетели и очевидцы, которых с каждым днем все больше. Просто, буднично и, можно даже сказать, по-домашнему.
Все кончилось, и мы закрываем ту страницу и открываем новую.
Через месяц я и мой младший брат Лютер уходим в путешествие. Долгое, нелегкое путешествие на огромной и прекрасной машине по укладке огромного, как рухнувшее мировое дерево, бесконечного, как змей Ермунганд, кабеля искусственного магнитного поля.
Мы потратили на кабель и кабелеукладчик все резервы наших производственных пулов и резервы всех, кого мы знаем. Мы вложили в этот проект, что я придумал той ночью в пещерах, силы всех Сирот Марса.
Доктор Ликург тоже отправляется с нами. Нас ждут три каторжных, чудовищно тяжелых и восхитительных года, за которые мы огромным кругом оградим Элладу границей, рубежом, можно даже сказать — священным лимесом самовыращиваемого в недрах машины кабеля сечением в сто локтей.
За время, которое мой брат проживет рядом со мной, забыв все, что встало между нами, он, возможно, простит меня и за то, что помнит из детства, и за то, чего не помнит из отрочества…
А когда мы закончим свою работу и через гребень кольцевых гор в нагретую скудным марсианским солнцем чашу кратера потечет холодный мертвый воздух с ледяных равнин Зюйда и смешается с металлической пылью в атмосфере над впадиной, мы запустим нашу электромагнитную машину.
Металлические частицы придут в круговое движение, замешивая воздух над кратером в устойчивое атмосферное образование, подобное Большому Красному Пятну. «Вечный шторм», двухтысячекилометровое сверхмедленное торнадо, сепарирующее более тяжелый углекислый газ к границам шторма, приближая содержание кислорода к нормальному. А также — удерживающее у себя внутри давление, почти равное земному, и температуру, близкую к субарктической. Пространство, защищенное от космического излучения. Невидимые стены, границы, которых нет.
Там можно будет снять шлемы и маски. Вздохнуть полной грудью, ощутить ветер на голой коже. Избавиться от уже приросших к телу скафандров, родиться буквально заново.
Мы растопим лед под песками, и в кратере соберется вода в системе сообщающихся озер. Через десять лет вся Эллада будет покрыта лесами. Это будет страна-сад. Мы станем настоящими детьми Марса.
Я создам для вас новый мир, мои Сироты. Я буду вам как бог-творец, за отсутствием настоящего. Я исполню безумное обещание моего безмозглого брата, данное вам, мой бездомный народ.
У нас еще будет свое небо над головой.
Елена Щетинина Сашка и динозавтр
Пятнышки у божьей коровки чуть выпуклые, будто на красную карамель капнули черным густым кремом. Мама делает иногда такие пирожные по выходным. Карамель или вишневая — тогда у божьей коровки крылышки темные-темные, — или малиновая — тогда они яркие, как платье у моей куклы Маргариты, — или клубничная — тогда похоже на небо, что сейчас у меня над головой. А крем лакричный или шоколадный. Я больше люблю шоколадный, хотя про лакрицу часто читала — например, в старой книжке про мальчика… и еще одного мальчика… и девочку. На самом деле там много-много мальчиков, просто я именно этих и запомнила. Там еще этот мальчик так хитро предложил другим за себя забор покрасить, и те с удовольствием согласились. Хотя я бы тоже согласилась. Я очень люблю рисовать. А ведь красить — это то же самое, что рисовать. Только делать это еще и полезно. И одной краской, густо-густо, так, что кисточка оставляет горки и ямки. Совсем как настоящие горки и ямки. Как их называют… канионы… да, канионы.
Тут тоже много-много канионов. Папа показывал фотографии. А еще дюны, катеры, и гезеры, вот. Я стараюсь запоминать все, о чем рассказывает папа. Правда, он иногда смеется, когда я повторяю за ним, и говорит, что я путаю слоги и неправильно произношу, но ну и что. Главное, что я общее запоминаю, — а уж со слогами потом разберусь.
На фотографиях все такое интересное и необычное. И как-то даже не верится, что это все то же самое, что и вокруг, — только сверху. Я всегда сначала пытаюсь найти на фото наш купол. Иногда получается — а иногда и нет. Иногда я путаю наш купол с другими — особенно с десятым и пятнадцатым почему-то, — а иногда просто не могу увидеть его, так ловко упала тень от горы. Но чаще всего его на фотографии и нет, потому что аппарат снимал другую часть планеты.
А после поиска купола я просто рассматриваю все эти узоры и пятна и стараюсь представить, как это выглядит на самом деле. Папа со мной даже иногда играет так — дает фотографию, сделанную сверху, и предлагает нарисовать так, как это выглядит сбоку. А потом достает другую фотографию, «сбочную», и мы сравниваем, где я правильно сделала, а где нет. Иногда к нам еще и дядя Андрей присоединяется, и мы с ним соревнуемся, кто правильнее нарисует. Дядя Андрей обычно выигрывает — но это и понятно. Он же старше меня, а кроме того, в некоторых этих местах был. Но я не расстраиваюсь. Тем более так смешно бывает, когда дядя Андрей вдруг не опознает место, из которого только что вернулся. Он сам громче всех тогда смеется и говорит что-то вроде «посыпаю голову пеплом и рву волосы».
Папа говорит, что это еще что. Вот когда-то, когда на Марс люди еще не летали, а только специальные космические аппараты, — тогда на фотографиях вдруг увидели лицо. И сразу стали думать, что это какое-то послание марсианских жителей.
Его так и назвали — Марсианский Свинкс. На самом деле ничего похожего на настоящих свинксов, я же их вживую видела, когда на море ездила. Они с лапами, шеей, у них попа, как у нашей овчарки Тошки. А у этого — только лицо обычное, и то, как будто человека в песок зарыли. Я так дядю Андрея закапывала. А у самого настоящего, старого свинкса, который старше даже прадедушки Виталия, — у него носа нет. Вот.
Я попросила папу свозить меня к местному свинксу, а папа сказал, что это просто холм, свет и тени, что ничего на самом деле нет. А потом подумал-подумал, позвонил куда-то, о чем-то поговорил и сказал, что если я до завтра не передумаю и смогу рано встать, то мне покажут то, что приняли за свинкса.
Конечно, я не передумала. И даже всю ночь не спала. Всю-всю-всю ночь. А потом под утро моргнула — и папа меня долго-долго тряс, чтобы разбудить.
Оказывается, дяди из двенадцатого купола как раз собирались в район… сейчас вспомню… я даже запоминала специально, чтобы потом дома похвастаться перед девчонками… как там по-английски «ребенок»… я запомнила по-особому — «ребенок он и я»… чилд… нет… а, вспомнила! Кид! Кид-он-и-я! Вот! Дяди из двенадцатого как раз в район Кидонии полетели, что-то им надо было там обмерить, — а папа попросил меня с собой взять. Они пошутили, что, может, меня там и оставить, как мальчика-с-пальчика. Глупо, правда. Я же не мальчик, да и папе до пояса, а не с пальчик. Да и если бы мама узнала, что меня там оставили…
Мама у меня художник. А еще она прокомор. Хм. Нет, наверное, я перепутала. Никак не могу запомнить, как у мамы вторая работа называется. Она там какая-то очень серьезная, мама все время в другой город летает. Каждый день. А потом приходит уставшая, с какими-то бумагами, долго-долго разговаривает по скайпу с разными людьми и какие-то цифры все время упоминает. Мне эта работа не нравится. Я больше люблю, когда мама художник. Тогда она разрешает мне тоже взять кисточку и порисовать. А иногда даже мне можно — правда, когда мама уже заканчивает картину, — можно влезть руками прямо в краску и наставить пятен по всему своему листу. Мама тогда смеется и называет меня абстрактитиской. Говорит, что так давным-давно, лет пятьдесят назад, делали — и вот тогда я бы эти свои рисунки задорого продала. А сейчас это уже неинтересно. Сейчас рисуют, как рисовали еще давно-давнее, лет двести назад. Мама говорит, что это импрескинизм. Не знаю, мне это не нравится. Я люблю, когда на картине и близко и далеко как в жизни — а тут когда далеко, то видны и деревья, и трава, и небо, а как подходишь поближе, то просто пятна разные, даже цвет не тот, какой нужен.
Вот. Так о чем это я…
А..
В общем, те дяди пошутили-пошутили да и взяли меня в Кидонию. Папа был прав. Просто холм, никакого лица. Вот. Ничего интересного.
Это неправильная божья коровка, папа снова что-то перепутал. У настоящей божьей коровки пятнышки нарисованные, обычные. А тут я же вам сказала, какие они.
Надо папе показать, вот только сейчас положу божью коровку в пакетик. В пакетике есть немного воздуха, поэтому коровка не задохнется. Воздух нужен всем, иначе они умрут. Мне поэтому без специального костюма не разрешают на улицу выходить. Там воздуха нет, говорят они. И правильно. Я умирать не хочу.
Бум!
Мне даже и оглядываться не надо, я и так знаю, что динозавтр пришел. Он все время приходит, когда я в оранжерее работаю. Может, случайно, конечно, но мне кажется, что он знает, где я и что со мной.
Дядя Андрей говорит, что на самом деле сделать динозавтра папа мог еще года три назад, на Земле. Но там было что-то связанное с карантином, с какими-то правилами, нужна была какая-то «чистая зона» — дядя Андрей хоть и старается говорить не слишком умными словами, но я все равно не всегда понимаю, о чем он. А он говорит, что дело не в словах — просто я с этим еще не столкнулась. Как-то я спросила — ведь когда сталкиваешься, это же неприятно, даже больно бывает. Дядя Андрей подумал и сказал, что это зависит, насколько ты внимателен, когда сталкиваешься. А я ответила, что если внимательный, то и не столкнешься.
Бум!
Динозавтр снова ткнулся мордой в стекло. На самом деле это не стекло, это какое-то поли… поли… не помню, в общем. Но все тут называют это «стеклом». Дядя Андрей говорит, что это «поли» невозможно разбить, а если на него сильно-сильно надавить или резко ударить — то оно прогнется, как плотная резина и всё. Его можно только лопнуть — но не будет осколков, и дырку от лопанья можно будет залепить или стянуть края вместе. Я видела, как такое делают. Не знаю из-за чего, скорее всего, просто что-то не рассчитали, а может, это… как называет это дядя Андрей… а, «брак»… такое странное слово… брак, крак, кряк… крякающее, как утки в Царицынском парке. Кряк-бряк-брак… У взрослых такие странные слова иногда. Их никак не запомнишь.
Глаза у динозавтра очень грустные. Не знаю, не могу сказать, какие они всегда, — но когда он смотрит на меня, то они очень грустные. Дядя Андрей говорит, что это потому, что динозавтр плото… плото… плотоядное, ну а я тоже состою из мяса. Правда, я ему ответила, что откуда динозавтр знает, что я из мяса, он же никогда людей не видел. А дядя Андрей сказал, что в то время, когда жили такие, как он, все, кто двигались, состояли из мяса.
Я спросила — а как же роботы. А дядя Андрей сказал, что роботов тогда еще не было. Да и сто лет назад их не было. Правда, потом он задумался, что-то посчитал на пальцах, пробормотал про авто… авта… автомолибы… мобили. А потом махнул рукой и сказал, что неважно, но роботов и прочего в те времена точно не было. Аб-со-лют-но точно. Вот.
Папа и дядя Андрей говорят, что это динозавр и его зовут Тираннозавр Рекс. Но мне это имя не нравится. Ну какой он Рекс? Рексами зовут собак. У Наташки есть пес Рекс. Он лохматый и большой. А тут еще больше — и лысый.
Он Динозавтр. Потому что мне все время говорят, что меня пустят к нему завтра. А таких завтра было уже много-много. И думаю, что еще так же многомного будет. Наверное, папа боится, что динозавтр меня съест. Странно. А я вот не боюсь.
Передние лапы у динозавтра совсем маленькие. Нет, конечно, больше, чем мои руки, но для такого большого животного они тоже должны быть большими. И пальцев на них всего два. Динозавтр никогда не сможет рисовать или писать карандашом. Правда, дядя Андрей говорит, что он никогда бы и не научился. А я не верю — ведь если даже знаменитый дельфин Вольдемар умеет рисовать, а у него лап вообще нет, неужели динозавтр не сможет?
Я как раз смотрела про Вольдемара передачу, когда мама рассказала мне, что папа хочет меня на Марс взять.
— Сашка. — Мама тогда присела на корточки и внимательно посмотрела на меня. Наверное, она хотела посмотреть мне в глаза — но у нее это не получалось, и поэтому она смотрела поочередно то в один мой глаз, то в другой. У меня тоже не получается, наверное, у нас с мамой просто глаза маленькие и непривычные к этому.
А вот у Жорпетровича получается. Он может смотреть в глаза долго-долго, иногда даже не мигает, и кажется, что заснул. Дядя Андрей говорит, что это потому, что Жорпетрович военный. Причем не солдат, а офицер, и большой офицер. Я даже видела у него в комнате мундир с медалями.
— Жорпетрович, — спросила я тогда. — А как вы эти медали получили?
Жорпетрович посмотрел на меня долго-долго и сказал:
— Так же, как получают все медали. За работу.
— За какую? — спросила я.
Он подумал, потер рукой щеку там, где у него большой-большой шрам, и ответил:
— За хорошую.
— А вот эта медаль за какую из работ? — ткнула я пальцем в самую большую, звезду со множеством лучиков и портретом какого-то дяди в середине.
Жорпетрович улыбнулся. Когда он улыбается, шрам становится похож на молнию, как у мальчика в старой детской книжке, все время забываю ее название. Только он не на лбу, а на щеке. Я как-то спросила у Жорпетровича, читал ли он ту книжку про мальчика. А Жорпетрович хитро прищурился и сказал, что он и есть тот мальчик. А шрам просто переполз. Обманывал, конечно, — но я сделала вид, что поверила. Взрослым очень нравится, когда делаешь вид, что веришь им.
— Это, Сашк, не медаль, а орден, — сказал он.
— А за какую работу?
— Ой, Сашк… пусть такой работы ни у кого больше не будет… — вдруг почему-то грустно ответил он.
Не понимаю взрослых. Разве это плохая работа, за которую медали дают? Вот у мамы есть три медали за картины. Я, правда, не понимаю, почему именно за эти — ведь у мамы много-много таких же, с деревьями и озером, но, наверное, тем, кто дает медали, лучше знать. Я бы тоже хотела иметь медаль. Они красивые и звенят, когда их мелко-мелко трясешь.
Бум!
Динозавтр снова тыкается, совсем рядом с моей головой. Глупый. Знает ведь, что не получится пробить, — вот и бьет не сильно. А поговорить с ним не получается — не слышно ничего.
А потом дядя Андрей сказал, что Жорпетрович военный, за это у него и медали все. А я спросила у дяди Андрея, а разве на Марсе война, что Жорпетрович тут работает. А дядя Андрей ответил, что нет, — но Жорпетрович умеет людей организовывать. И поэтому он здесь. Вот. Интересно.
Ну так вот, про маму-то я вам так и не рассказала. У меня всегда так — начну про одно, а потом как-то перескакиваю на другое, потом еще на другое, потом еще и еще… а потом и вообще забываю, о чем говорила. Папа говорит, что мне в школе будет сложно, потому что там надо будет рассказывать о чем-то одном.
Ну и ладно, в школе и научусь. Ведь для чего же еще нужна школа, как не для того, чтобы учить.
Значит, присела мама на корточки, попыталась посмотреть мне в глаза и сказала:
— Сашка… Не буду говорить, что ты уже взрослая. Потому что это не так. Не буду говорить и что ты еще ребенок — потому что тебе это не понравится…
Да нет, почему же. Это зависит от того, как говорят, что я ребенок. Когда это говорят, вроде «ну-у-у-у… ты же еще ребенок, ничего не понимаешь, ничего не можешь, не умеешь» — конечно, мне это не нравится. А кому это понравится? Вот скажи им «ну-у-у-у… вы же уже взрослые, о чем с вами говорить, вы ничего не понимаете, забыли и разучились» — ведь им же тоже не понравится. Взрослые очень любят сказку о мальчике… я плохо запоминаю названия книжек и имена героев — много очень читаю, по три-четыре за день, из головы сразу вылетает… про мальчика, который умел летать и никогда не взрослел. Наверное, они все завидуют этому мальчику. А вот всем моим друзьям эта книжка не понравилась. Точнее, им было все равно. Может, потому, что мы еще не взрослые.
— Но видишь ли, Сашка, — продолжила мама. — Ты очень нужна папе в работе. Я не совсем уверена, что он прав, — но рассказывает он это очень убедительно.
Папа тогда стоял за маминой спиной, кивал и хитро мне подмигивал. Ну я и согласилась. Ну а что? Я люблю, когда мы вместе с папой. И когда с мамой люблю тоже. Но у мамы на Земле я все знаю — а вот у папы на Марсе я не была никогда.
Меня положили в какую-то стеклянную ванну, сказали закрыть глаза — и я увижу сон. Обманули, не было сна. Папа потом сказал, что, наверное, я просто забыла его — не, я никогда не забываю сны. Это только взрослые забывают. Или когда они не видели сон, они обманывают себя, говоря, что он был — только они забыли. Взрослые очень любят обманывать — только обычно сами себя.
Вот так я и стала помогать папе здесь. Недолго, конечно, до осени. А потом папа полетит домой в отпуск и заберет меня и дядю Андрея с собой. Мне надо будет в школу поступить, а дяде Андрею — в восьмой класс перейти.
С мамой у нас каждые утро и вечер видеозвонки. Она сначала очень беспокоилась за меня, а потом перестала. Или сделал вид, что перестала.
Мне здесь нравится. Правда, немного скучно. Хотя мне и дома бывало скучно. Так что можно сказать, что я на Марсе как дома.
Папа случайно понял, что я могу ему помочь, когда как-то приехал в отпуск. Он тогда как раз привез маме букет ромашек — первых, которые они вырастили на Марсе. Нет, конечно, не на самой планете, а под куполом, но, как сказал папа, «тем не менее».
Вообще, лепестки у ромашек надо отрывать, так по правилам. Но это для земных ромашек. А это марсианские. Редкие. Может быть, даже единственные на земле. Поэтому я не отрывала их, а просто осторожно касалась пальцем. Как бы понарошку отрывала.
Я не знаю, что значит «любит — не любит». Точнее, мне про это рассказывали, но как-то мне это совсем неинтересно. Поэтому я решила, что в моем гадании «любит — не любит» означает, исполнится загаданное желание или нет. И вот представляете — я загадывала, загадывала желания — а эти марсианские ромашки мне все говорили, что желания не исполнятся. Все время!
Мне стало обидно, и я подошла к папе.
— Папа, папа… — подергала я его за рукав. — Это плохие ромашки.
Он удивился.
— Почему, Сашка? Пахнут плохо или цвет не такой?
— Не радуют, — сказала мама, и они с папой рассмеялись. Я знаю, что это такое. Это значит, что мама сейчас напомнила папе какую-то смешную историю… аниктот, вот. Папа ее тоже вспомнил, и они посмеялись. Мне не обидно. Мама как-то пыталась рассказать мне эти аниктоты, но я не поняла. Наверное, потом пойму, когда взрослой стану. Не страшно.
— Папа, они несчастливые.
— В смысле несчастливые?
— Ни одно желание не исполнится. Смотри, как их много, — а ни одно не исполнится.
Папа задумался, а потом подошел к букету и стал внимательно рассматривать его. Рассматривал долго-долго, потом даже взял у мамы карандаш и бумажку и стал лепестки считать.
А потом стал куда-то звонить. Я хотела сесть к папе на колени, а мама сказал: «Тс-с-с-с-с-с, папа сейчас с Марсом будет разговаривать».
— Матвей, — сказал папа кому-то. — Матвей, пошли кого-нибудь в пятую оранжерею посчитать лепестки у ромашек.
— Посчитать что? У кого? — Голос у кого-то был хриплый-хриплый. Или это просто помехи, такое бывает, когда звонишь далеко-далеко, в Антарктиду или под море.
— Лепестки у ромашек, — ответил папа.
— Павел Сергеевич… вы что?
— Матвей, пошли кого-нибудь, пожалуйста.
Потом на том конце — на Марсе, значит, — долго молчали и наконец ответили:
— Павел Сергеевич, значит, так… Всего десять тысяч четыреста шестнадцать корзинок и…
— Среди них нет нечетных, — задумчиво перебил папа.
— Нет, — ответили ему.
В следующий свой приезд папа привез мне еловую веточку с шишкой и улитку. С веточкой и шишкой все было правильно, а вот если пустить улитку ползти по руке, то потом рука будет пахнуть, как будто зубной пастой вымазали.
Оказывается, у папы в лаборатории улитки никогда по рукам не ползали — только по специальному стеклу. И лепестки там не считали. Там вообще не знают ничего, что дети знают. Точнее, нет, когда-то они же тоже были детьми и знали — а вот теперь забыли.
И папа попросил меня помочь ему. Ему нужно было, чтобы я делала тут все то же, что и на Земле делаю, — играла, рассматривала, ловила. Главное — чтобы цветы не срывала. А я и не срываю, мне и так все хорошо видно и удобно.
А потом я папе говорю, если что-то где-то совсем не так, как на Земле. Вот как сейчас, с божьей коровкой. Я папе уже помогла с дождевым червяком — папин червяк, когда его трогаешь пальцем, не извивается, а становится прямой, как палка. А так делают совсем-совсем другие гусеницы! И с анютиными глазками помогла, и с львиным зевом, и с… много с чем, всего уже и не вспомню.
А потом папа о чем-то поговорил с людьми на Земле — и прилетел дядя Андрей с друзьями. Они сначала очень гордились, что помогают на Марсе, а потом увидели меня — и перестали гордиться. Хотя, может быть, они только тут так, а перед друзьями с Земли продолжают хвастаться. Ну и ладно. Мама говорит, что мальчишки всегда такие, это у них игра такая. Ну и пусть, мне не жалко.
Ну вот, а теперь мне пора идти. Надо будет еще книжку почитать, про рыцарей. Надо же к школе готовиться. А школа — это серьезнее, чем папины коровки и ромашки.
На пороге оранжереи я оглянулась и помахала рукой:
— Пока, динозавтр.
Мне кажется, он тоже пытается мне помахать — но лапки у него слишком маленькие. Поэтому он просто стоит и смотрит мне вслед.
Я спрашивала у папы, все ли правильно с динозавтром. А папа ответил, что никто не знает — потому что никто никогда живых динозавтров не видел. Они все умерли еще до того, как человек появился. Я спрашивала — как это, Земля, и без человека. А папа рассказал, что давным-давно и Земля была другая и жили там другие существа. И сказал, что раньше думали, что на Марсе кто-то живет. Того же Марсианского Свинкса в пример приводили, якобы большой-большой памятник. А еще раньше, давным-давно, правда, когда уже динозавтров не было, думали, что на Марсе вообще кто-то вроде людей есть.
Папа сказал, что они до сих пор не знают, была ли на Марсе жизнь. Одни говорят, что была, другие — что нет. А кто прав — тем более непонятно.
А динозавтра жалко. Я иногда представляю, как это оно — когда ты один остался. Или когда родился — и уже один. Я бы хотела прийти к нему, погладить по шкуре, — мне кажется, что она у него мягкая-мягкая… и теплая. У него такие добрые глаза, что шкура обязательно должна быть мягкой и теплой.
Но папа говорит, что завтра.
Эх, завтра-завтра… пока, динозавтр.
Папа говорит, что, если что, я могу заходить в его кабинет и оставлять то, что нашла. Он часто в лаборатории, но мне туда нельзя — потому что там все в белых халатах, а мне халат сшить не успели. Только костюм для улицы сделали. Ну и ладно. Видела я эту лабораторию через дверь, ничего интересного. Дяди в белых халатах, много всего стеклянного и всякого синенького много.
Поэтому я сразу пробежала в папин кабинет и положила ему на стол пакетик с божьей коровкой.
А потом…
А потом на окно села бабочка.
Понимаете, бабочка!
С той стороны!
Сначала я испугалась, что это я как-то случайно выпустила бабочку. Ведь мало ли что! А потом подумала и поняла — нет, это не я. Ведь у папы нет бабочек. Он с ними не работает почему-то. Точнее, он объяснял почему, но я забыла.
Это была настоящая марсианская бабочка, вы понимаете?
Всамделишная марсианская бабочка!
Значит, на Марсе есть жизнь!
И я об этом узнала первая! Узнала по-настоящему и совершенно точно!
Бабочка сидела на окне и делала крыльями вот так, как, знаете, всегда делают бабочки — расправляют и снова складывают, словно куда-то медленно летят. Я подошла к окну поближе. Бабочка не улетала. Я сначала хотела постучать по стеклу, а потом вдруг передумала.
Вот смотрите.
Если я сейчас постучу, то бабочка испугается и улетит, так? Так. А как я тогда потом докажу, что я видела именно бабочку? Что я ее не придумала? Вот. Никак.
Я осторожно отошла от окна. Бабочка продолжала шевелить крылышками, но делала это все медленнее и медленнее, словно вот-вот заснет.
Можно было, конечно, позвать взрослых, например папу, — но пока они спросят, зачем, пока поверят, пока придут… бабочка и улететь может. И они мне тогда не поверят и обидятся, что я их просто так вызвала. Еще подумают, что мне скучно и я так с ними поиграть захотела.
Нет.
Мне надо самой поймать бабочку и показать ее им. Тогда мне и верить не надо будет — вот же она, всамделишная марсианская бабочка. А если она улетит… что ж… тогда об этом буду знать только я. Но зато никто не будет мне не верить и смеяться.
Я быстро-быстро сбегала в свою комнату и надела костюм для улицы. Вообще папа строго-настрого запретил мне выходить одной, сказал, что нам тогда сильно от мамы попадет. Но думаю, что когда мама узнает про бабочку, она ругаться не будет.
Главное было — не встретить никого по дороге. А то обязательно бы стали спрашивать — куда я иду, да еще в таком костюме. А потом взяли бы за руку и привели к папе. И никакой бабочки, вот.
Но никого не было. Это и понятно — все или в лаборатории, или на улице работают, по коридорам никто ходить не любит. Потому что коридоры скучные. Ни окон, ни интересных кнопочек, только несколько лампочек, и всё.
Для того чтобы выйти на улицу, нужно нажать три кнопочки и потянуть за рычаг. Папа смеется, что это специально для того, чтобы маленькие девочки одни не гуляли, — но он-то не знает, что можно не тянуть, а просто вот так вот упереться и повиснуть. И тогда дверь откроется. Но, честно говоря, я сама об этом только что узнала.
И знаете, что?
Бабочка ждала меня у выхода на улицу!
И это была именно та самая бабочка, которая сидела на окне! Что я, бабочек не могу различить, что ли?
Она сидела на красном песке — это не настоящий песок, больше похоже на пыль, как из прадедушкиного старого ковра, но тут все называют это «песок» — и продолжала складывать и расправлять крылышки.
А потом вдруг взяла и взлетела.
Пролетела немного и снова села.
Я сделала несколько шагов к ней.
Она сделала вид, что меня не видит.
Но как только мне оставалось до нее еще один шаг, она — оп! — и взлетела.
Да, я поняла! Бабочка со мной играет! Она играет в догонялки! Ну что ж… во дворе я лучше всех играла в них. Никто от меня не уходил. А уж тем более — какая-то бабочка.
Мы играли с бабочкой долго. И вы не подумайте, я смотрела, куда она летит. Если бы она улетела далеко от купола, я бы никуда не побежала за ней. Я же все-таки понимаю, когда совсем-совсем что-то не надо делать.
А потом мы забежали за маленький холмик и вдруг…
…самое больное — когда ударяешься локтем, знаете, когда такие мурашки еще потом по нему бегают? — и еще когда подворачиваешь ногу.
Честно-честно, я аккуратно бежала. Не смотрела, конечно, под ноги — как туда смотреть, когда перед тобой настоящая марсианская бабочка? — но ставила их очень аккуратно.
И вдруг бах — и в ноге очень-очень больно, и я лежу на земле, то есть на Марсе… лежу, в общем. Хорошо, что тут падать не так жестко, как дома, — папа рассказывал, что это потому, что тут что-то с силой и тяжестью другое. Но в ноге больно, как и везде. Очень-очень.
А еще и встать нельзя никак. И из-за холма меня не видно, вот.
И ползти не получается, потому что, как только шевельнешь ногу, так сразу будто тебя кто-то кусает по ней — аж до спины. И в глазах сразу слезы появляются. Вот.
А еще папа говорил мне, что в этих костюмах воздуха на совсем небольшое время. И когда его мало, то загорается красная лампочка. И это тоже вот.
Знаете, когда лежишь на красном песке — не сразу видишь, что красная лампочка уже давным-давно горит.
Бабочка сидела около меня и шевелила крылышками.
Я протянула руку.
Бабочка вздрогнула и не улетела.
Я коснулась ее крылышек.
Я никогда не трогала бабочек. Дома мама запрещала мне это делать, говорила, что я обобью пыльцу с них и бабочка никогда не сможет летать. Наверное, она права. Я видела, как девчонки пытались поймать бабочек. Крылышки потом становились помятыми, в каких-то серых пятнах, — и бабочки не могли взлететь. А потом их ловили мальчишки и отрывали им крылья. Зачем? Почему мальчишки пытаются всегда все сломать? Я спрашивала у папы — и папа ответил, что это называется не сломать, а «посмотреть, что внутри», «исследовать»… но ведь если что-то потом не работает, то это и называется «сломать».
Я очень боялась, что могу сломать эту бабочку.
Но знаете… Она была другая. Она была не такая, как на Земле. Теперь я поняла это совершенно точно.
Крылышки.
У нее были другие крылышки.
Эти крылышки мама бы разрешила трогать. И эти крылышки очень-очень захотели бы оторвать мальчишки. Зато их точно бы не повредили девчонки.
Они были… не могу объяснить… как листы в моем любимом альбоме для рисования. Они вроде и мягкие — и порвать очень сложно. Вот потрогаешь их вот так — жесткие, как железо, а вот эдак — мягкие, как ткань у маминого выходного платья.
Я лежала и гладила крылья бабочки. А она не улетала.
Умереть, оказывается, не страшно.
Это просто очень-очень одиноко.
А потом вдруг появилась большая черная тень и накрыла меня.
И забрала меня в себя.
Вот.
* * *
Теперь я всегда буду чистить зубы, без напоминания. И маме даже не надо будет рассказывать мне сказку про кариозных монстров, которую ей когда-то рассказывал прадедушка, а ее дедушка — Виталий.
Потому что, если не почистишь зубы, во рту будет очень-очень плохо пахнуть.
Я предложила папе почистить динозавтру зубы, предложила, что я сама это сделаю. Папа задумчиво посмотрел на меня и махнул рукой. Я так и не поняла, что это значило — да или нет.
Наверное, все-таки «да».
Ведь обычно «нет» папа говорит четко и даже объясняет, почему нет.
А тут просто махнул.
Наверное, это «да» — только он не знает, как это сделать.
А я знаю. Надо попросить динозавтра лечь на живот и открыть рот. А потом зайти туда — и почистить тряпочкой или даже щеткой. И можно еще между зубами поковырять чем-то острым, вдруг там остатки пищи попали. Динозавтр же не может сам этого сделать, как они не понимают, у него же лапки совсем коротенькие.
Только, наверное, они сами боятся это сделать. Думают, что динозавтр их съест или просто закроет рот и не выпустит. Ну и глупо. Когда динозавтр закрывает рот, он перестает дышать, — а, как и все, долго не дышать он не может. Когда долго не дышишь, очень больно в груди и перед глазами черные точки. Динозавтр умный, он так просто так делать не будет. Только в особых… как говорит дядя Андрей… экст… экстер… экстранных случаях, вот.
Но я это сама сделаю. Мне-то не страшно. И даже привычно.
Вот только надо подождать, когда нога перестанет болеть.
Когда болеешь, вокруг тебя все ходят, ухаживают и дарят что-то интересное. Вот Жорпетрович подарил мне настоящий диктофон. Откуда он у него здесь — не знаю, он сделал таинственное лицо и сказал: «Раньше и за это медали давали». А потом рассмеялся и отдал мне его. Навсегда.
Я теперь в шпиона играю.
Хотите послушать?
Вот смотрите, что я вчера записала.
«— …Паш, а может, вообще ничего не говорить?
— Марине я точно ничего не скажу. И ты, надеюсь, тоже.
— Ну а Сашка-то расскажет… ей-то ты не запретишь.
— Если Сашка расскажет, то уже будем решать по ходу действия. Надеюсь, что у нее куча других впечатлений перебьет этот… эксцесс.
— Ты решил называть это эксцессом?
— А как еще это назвать? Как это назвать, чтобы было верно?
— Ладно, Пашк, ты прав.
— Да и вообще об этом лучше лишний раз не упоминать.
— Решил все-все держать в секрете?
— Видишь ли, Андрей, я смогу объяснить, почему на станции ребенок, — и показать разрешение, я смогу объяснить, откуда у меня на станции тираннозавр, — и тоже показать разрешение, я смогу пожаловаться на то, что трудно уследить за детьми и тираннозаврами… да все, что угодно… даже то, что тираннозавр мутировал, мутировал странно, невозможно, удивительно, каким-то непонятным образом сумев не только выжить на поверхности Марса — но и научившись создавать у себя в пасти кислородный пузырь! И даже придумаю дичайшую версию, зачем ему этот кислородный пузырь! И даже попробую что-то предположить по поводу того, почему эта мутация проявилась так внезапно и сиюминутно — словно он внезапно захотел ее!
— Но…
— Но я никогда никому, и в первую очередь самому себе, не смогу объяснить лишь одного. Лишь одного, Андрей.
— Чего же?
— Почему дружба принимает подчас такие странные формы?»
Это папа и дядя Андрей.
Но я ничегошеньки не понимаю.
Если вы поймете, о чем это они, расскажите мне, пожалуйста. Ну или напишите.
Марс, Купол 113, Саше.
Мне обязательно передадут.
И мы с динозавтром прочитаем.
Игорь Минаков, Леся Яровова Инстинкт наседки
Тонька проснулась затемно, наспех умылась и побежала в ангар, прихватив с вечера заготовленный рюкзак.
Но как ни старалась дочь быть тише мыши, Седов услышал и шлепки босых ног по коридору, и грохот подкованных ботинок в прихожей: слишком беспокоился он о подросшей, но не обретшей осторожности дочери. Росла его марсианка егозой и непоседой, правила тихо презирала, во всем полагаясь на недюжинный свой интеллект. Все они такими были, детишки Марса в первом поколении, сыновья и дочери колонистов, но Седову казалось, что Тонька самая непослушная.
— Мы с малых лет ставили задачу выработать у «марсианских» детей привычку мыслить и действовать самостоятельно, — увещевала встревоженного отца психолог Марина. — Так что же вы хотите от Антонины? Она подросток, ей все интересно. Найдите девочке хобби, незаметно направьте энергию в, так сказать, мирное русло…
Внять совету специалиста Седов внял, а вот воплотить в жизнь не сумел: Тонька в пять лет нашла себе хобби и отступать от выбранной стези не планировала. Упрямая выдалась — вся в мать…
Это плохо — начинать день с мыслей о Лючии. С такими мыслями руки подрагивают и сердце стучит мелко и быстро, и нет сил завтракать, а хочется достать из ящика с носками припрятанную бутылку джина и припасть к горлышку, выжигая горе горькой, как проглоченные слезы, влагой. Седов потряс головой, но поздно: мысли не исчезли, затаились в уголке. Он всерьез подумал, а не позвонить ли Марине, которая без лишних сантиментов вытащила его из посттравматического пике и всегда была готова назначить внеочередной сеанс психотерапии.
«Вам пора самостоятельно справляться с приступами», — вспомнились слова Марины.
Конечно. «Инициатива и самодостаточность» — таков девиз города Мира, первого города под марсианским куполом. Догоним и перегоним!
Иронии Седов обрадовался. Хорошее чувство, позитивное. С ним можно и обойтись без помощи профессионала.
Седов потянулся к пульту и вывел на экран ангар, по которому деловито топала Тонька. Вот ведь егоза! На пескоход, значит, нацелилась. То-то вчера расспрашивала, невзначай карту подсовывала: маршрут строила. Седов, конечно, вида не подал, что разгадал хитрые маневры, но как же страшно было отпускать тринадцатилетнюю дочь в пустыню, в которой так просто и безоговорочно сгинула жена.
Инициативная и самодостаточная, психолог Марина определяла его нынешнее состояние как вариант нормы и советовала подавлять навязчивые проявления и ждать, пока «время вылечит». Выходит, пять лет — недостаточная пилюля для его травмы.
Седов подавил желание немедленно вскочить, заблокировать ангар, броситься бегом по дорожке из красного песка, схватить ребенка за руку, притащить домой, посадить рядом, спасти от всех возможных угроз. Нельзя, так нельзя! Так он сломает дочь, испортит ей жизнь навязчивым контролем, но насколько спокойнее было бы ему!
«Прогноз пыльных бурь…» — бормотало радио, но Седов его не слушал. Не мог. Слишком велико было желание садануть кулаком по гладкой столешнице, разбивая руку в кровь, а стол в щепы, связаться с радиостанцией и проорать изо всех сил: «Да что вы знаете о песчанках!» И плевать на гриф «Секретно» и прочие подписки.
«На самом деле не плевать», — устало подумал Седов и продолжил подавлять инстинкт наседки.
Меры к безопасности он принял: зачет по управлению пескоходом Тонька сдала в одиннадцать, и никого из курсантов не гонял он так придирчиво и яростно. Тряхнул стариной напоследок так, что остальные выпускники с неприкрытым ужасом косились на инструктора в отставке, заставляющего дочь проводить чуть ли не миллиметровые маневры. Зато Тонька выполнила все как ни в чем не бывало, только щеки рдели горделивым румянцем: во дали они с папкой!
Искин пескохода был запрограммирован на пять простых маршрутов с возвратом домой к ужину. Прошивку ей самостоятельно не взломать («Пока не взломать», — грустно додумал отец), а посторонних на их участок не пропустит УмКа, система «умный купол».
Хорошо бы, конечно, Тоньке приобрести полезную привычку просить разрешения, прежде чем взять пескоход и усвистеть в пустыню, но и так ничего страшного случиться не должно. «Прикатит девочка вечером, голодная и виноватая, зато полная впечатлений», — уговаривал себя Седов и чувствовал, что тревога понемногу отступает.
Вечером он, конечно, поворчит для порядку, но всерьез сердиться на дочь он не умел, и хитрая Тонька хорошо это знала. Тем и пользовалась! Усмехнувшись в усы, отец-наседка, кряхтя, выбрался из спального кокона. Все равно больше не уснуть.
За пять лет Седов привык занимать каждую минуту, чтобы не давать затаившемуся на окраине сознания ужасу прорываться сквозь оборону мелких бытовых дел. Словно пояс астероидов, простые мысли заслоняли его от последнего: «Иди сюда скорее!» — сказанного дрожащим от предвкушения открытия голосом Лючии. Через две минуты семнадцать секунд ее накрыло песчаной волной. Он ринулся на помощь и не успел, иначе быть бы Тоньке сиротой без обоих родителей.
Седов выпил кофе с белковым тостом, проверил увлажнители в грибницах, покормил дрожжи, ласково булькающие в ваннах, добавил света в гидропонной галерее: что-то сельдерей выглядел невеселым. Открытое земледелие на Марсе пока не справлялось с потребностями растущего города Мира, продукты с ферм под куполом по-прежнему ценились горожанами.
Над куполом сияли радуги, и Седов подумал было, что ничего красивее быть не может, но тут же передумал: может. Яблоневый сад под таким разным марсианским небом — вот что прекраснее во сто крат. Правда, до этого пока далеко, саженцы совсем маленькие, и приживается на открытых экспериментальных плантациях каждый пятый. Генетики обещают через год вывести усовершенствованный сорт, а пока можно любоваться переливающимися цветными дугами. «Cielarko», говорят эсперантисты, «небесная арка». В городе Мира широко распространен язык надежды, изобретенный в конце девятнадцатого века. Наверное, потому, что сам Марс был планетой надежды для первых колонистов, да и что там, для всего человечества. Интересно, думал ли Людовик Лазарь Заменгоф, что на его языке будет говорить первый марсианский город?
Обедать Седов не стал, пожевал сухпай на ходу. Зато на ужин заказал любимые дочерью бараньи тефтели и клюквенный кисель. Само собой, никаких баранов на Марсе не было, мясо давно выращивали в чанах. Названия блюд оставались данью традиции: молодое марсианское человечество не спешило рвать связь с земным прошлым.
Кухонный комбайн предложил дополнить меню салатом и яблочной запеканкой. Возражать Седов не стал: давно зарекся спорить с железякой. Самообучающаяся система знает его вкусы и понимает толк в здоровой пище, вот и пусть варганит.
Седов присел на крыльцо, достал из кармана трубку, набил ее имитацией табака со вкусом вишни и с удовольствием затянулся. Фермерские заботы вымотали его, как выматывали каждый день, позволяя смотреть на мир со спокойной отрешенностью давних крестьянских предков. Все чаще он задумывался, стоит ли так уж стремиться обратно в пустынную разведку. Может, отказаться от еженедельной психотерапии, выйти из резерва и просто жить здесь, под маленьким куполом в 50 километрах от города Мира… Седов знал, что не может. Как ни привлекательна была эта мысль, его цель — вернуться и найти подтверждение последним кадрам, которые он видел на мониторе связи с Лючией.
Желтоватое небо постепенно розовело, словно наливалось вишневой влагой, солнце катилось за горизонт, и облака переливались сначала медью, потом серебром. Постепенно красный оттенок растворился в синевато-сером, и солнце спряталось, мигнув напоследок золотым лучом.
Заслышав шум возвращающегося пескохода, умиротворенный Седов с трудом сделал обеспокоенное лицо и приготовился хорошенько отчитать непослушное чадо. Напомнить об ответственности перед родителем за собственную безопасность, например. Об ответственности за свою жизнь и технику. Да мало ли еще видов ответственности? Вот обо всем и напомнить. Оптом.
Чадо между тем не спешило. Да что там у нее? Это же какое терпение нужно на этого ребенка? Седов подавил раздражение и снова набил трубку. Ей же совестно, наверное. Вот и собирается с силами. Придется подождать.
Блудная дочь появилась из-за угла теплицы, преувеличенно бодро насвистывая. Делая вид, что все в порядке — «А что такого?» — Тонька прошествовала по тропинке и присела рядом. Седов многозначительно молчал.
— Пап, ну, это… — поерзала дочь: поняла — от нагоняя не отвертеться.
— Что — это? — приступил строгий отец. — Спросить можно было?
— А ты бы разрешил, да? — вскинулась дочь. — Я просила уже, а ты все: не время да не время.
— Так то когда было? Год назад то было, тогда и было не время!
Седов вдруг понял, что не хочет ругать дочь. Ну, взяла пескоход без спросу, покаталась, и что тут такого? Через пару лет вообще в космошколу улетит, и все. Там не побалуешься, там дисциплина.
— Пап, слушай, а ты мне теперь все разрешаешь? — вкрадчиво поинтересовалась Тонька, безошибочно почувствовав смену родительского настроения.
— Все… то есть как — все? Это ты о чем? — насторожился Седов.
Дочь вздохнула.
— Да так, ничего, пойдем ужинать, а?
Все сильнее подозревая неладное, Седов поднялся с крыльца и подал руку дочери:
— Прошу вас, fraulino!
Тонька рассмеялась, довольная, и церемонно вложила пальцы в широкую папину ладонь.
* * *
Седов забыл бы о вопросе дочери, не будь Тонька за ужином такой вежливой и внимательной. Она не ставила на стол локти, хотя раньше делала это, игнорируя замечания отца. Не крошила хлеб и не болтала с набитым ртом. Дочь была образцом поведения за столом, хоть картину пиши, и опытный папа нервничал все больше. А когда на брошенный вскользь вопрос: «Ну и как покаталась?» — Тонька ответила невнятным бормотанием, сопровождаемым поднятым большим пальцем, и быстро сменила тему на подготовку к школе, в душе Седова заорал сигнал тревоги. Он с трудом дождался, когда дочь доест, чмокнет его в слегка заросшую щеку и отправится спать, бросился к себе и уставился на монитор, так и показывающий внутренности ангара.
На первый взгляд все было в порядке, но если присмотреться, на носу пескохода определялся незапланированный предмет: бугорок около метра в высоту, накрытый противорадиационной попоной. Так как радиация сквозь купол не проникала, Седов сделал логичный вывод: бугорок Тонька прятала, и прятала именно от него, от отца родного, что ничего хорошего не предвещало.
Сжав руками виски, Седов прогнал подступающую панику.
— Ничего страшного, может, там сюрприз, милый сюрприз, только и всего, — уговаривал он себя, но интуиция подсказывала, что сюрприз под попоной таился отнюдь не милый.
Седов подождал еще немного: не только у него был острый слух. Несколько раз он чуть было не отправил в комнату дочери оптотаракана, чтобы убедиться, что утомленная Тонька дрыхнет без задних ног, но каждый раз передумывал. Три года назад он пообещал дочери никогда не шпионить за ней и с тех пор держал слово, иногда, правда, скрипя зубами.
«Доверие ребенка восстановить труднее, чем доверие взрослого, — одобряла его поведение Марина. — Для них доверие связано с уважением, даже где-то с восхищением взрослым. Они тяжело переживают разочарование и пока не умеют прощать. Таких обещаний лучше избегать, но так как вы его уже дали, придется держать…»
Проклиная собственную опрометчивость, немаленький, по-фермерски располневший Седов на цыпочках прокрался по коридору, добежал до ангара и сдернул с сюрприза попонку.
Такого он не ожидал даже от Тоньки. Он даже крякнул от неожиданности: на носу пескохода лежала песчанка.
На первый взгляд в рыжеватой фасолине размером с большой арбуз не было ничего устрашающего. Но Седов знал про фасолину две страшные вещи: во-первых, из одной такой взвилась песчаная буря, частицы которой за считаные минуты подчистую выжрали металлические части скафандра Лючии. Эта информация была передана им старшему по смене, вместе с доказательством — телом задохнувшейся жены. А во-вторых, эта штука была живая. Потому что Седов своими глазами видел на экране транслятора, как Лючия протянула руку и фасолина двинулась к ней, потянулась тупым концом, словно безглазой мордочкой, прежде чем развернуться в водоворот, на его глазах превратившийся в песчаную волну. Вот этого Седов не рассказал никому, потому что был опытным исследователем и циничной сволочью. Записывающее устройство в скафандре жены имело металлические части, вследствие чего доказательств его словам нет. Так что на фоне посттравматического синдрома его заявление о живых каменных фасолинах выглядело бы симптомом психического расстройства, а это тот самый диагноз, что даже под вопросом раз и навсегда ставит крест на надежде восстановиться со временем в пустынной разведке.
Седов осторожно обошел пескоход по дуге. Он был разведчиком, это помнило тело. Он был разведчиком, не одну тысячу миль марсианской пустыни намотавшим на гусеницы своего пескохода, и это помнил разум. Где-то на периферии сознания орала дурным ультразвуком паника, но это было неважно. Сейчас все его действия подчинялись одной цели: избавиться от песчанки.
Первые колонисты расставили на каждой ферме по лазерной пушке, «на случай падения метеоритов». Постепенно вокруг планеты поставили орбитальную защиту, которая успешно прошла испытания и была признана непробиваемой, и колонистов призвали сдать оружие. Отчего-то фермеры не поспешили исполнить приказ, а на все воззвания земного правительства отвечали уклончивым: «Да мало ли!»
Плюнув, местное марсианское правительство в обход директивы с Земли издало закон «О правилах хранения зарегистрированных лазеров», выдало владельцам изготовленные за счет местного бюджета сейфы и безжалостно оштрафовало нескольких нарушителей правил. В ангаре Седова тоже был сейф, и сейчас он бросился к нему и попытался открыть. Ключи в замках надо было повернуть одновременно в разные стороны, но от бешенства у Седова тряслись руки и никак не удавалось добиться необходимого уровня синхронности. Он выругался сквозь зубы и задышал глубоко, пытаясь успокоиться.
— Папа, ты что? Ты зачем?! — крикнула от двери Тонька.
«Небось не у одного меня ангар на мониторе маячит», — сделал вывод Седов, бросил гребаные ключи, повернулся к дочери и непедагогично заорал:
— Ты что, спятила? Ты зачем тварь эту под купол затащила? Жить надоело?
— Папа, это не живая тварь, это просто камушек! — воззвала к логике Тонька.
Седов увидел, как побледнела дочь, и понял: испугалась. Титаническим усилием он попробовал взять себя в руки. «Раз-два-три-четыре, вдох, четыре-три-два-один, выдох», — дышал он, как учила Марина, но гнев по-прежнему владел им. Зато теперь он понял, что ни за что не рискнул бы расстрелять фасолину из лазера: кто ее знает, вдруг это не уничтожило бы ее, а активировало. Так что с сейфом можно и не возиться. Хорошо!
— Давай его оставим, пап, а? Смотри, какой гладенький. Я его на клумбу положу, будет красиво. Ну пап, ну пап, ну пожалуйста! — зачастила Тонька, загораживая собой до поры безобидную тварь.
«Трындец. Говорила же Марина, что надо купить собаку», — подумал Седов, и его слегка попустило. По крайней мере, руки перестали ходить ходуном. «Нервы подбери, разведчик!» — скомандовал он сам себе и, как мог, спокойно заговорил с дочерью:
— Красиво, говоришь? Эта тварь может в любой момент стать песчаной бурей!
В глазах Тоньки заблестели слезы, и Седову стало стыдно. Подростку надо о ком-то заботиться: о сестре, братике или животине, только вот тяжело с земными животным на Марсе. Кошки и собаки трудно адаптируются, и карантинная служба следит за ними почище полиции: при малейших признаках патогенной мутации уничтожает без сантиментов. Вот и пожалел, называется, ребенка, уберег от возможной потери…
— Дети должны обретать и терять, это опыт, необходимый для правильного развития, поймите же! — увещевала его Марина.
«Вот бы ее сейчас сюда», — злорадно подумал Седов и присел на бочку с жидким азотом.
— Bonvolu, папа! — выкрикнула Тонька сквозь слезы.
Bonvolu — это вам не простое «пожалуйста». Родственники не разговаривают на эсперанто: зачем, если у них и без того общий язык? «Пожалуйста» на эсперанто означало, что дочь потеряла надежду и сейчас он для нее такой же чужак, как, к примеру, математичка мадам Льюма. Холера!
Единственное решение, которое Седов видел, было простым, как двери: отнести рыдающую Тоньку в дом, запихать в кокон и сидеть рядом, пока не успокоится, а потом завести пескоход и отвезти фасолину поглубже в пустыню. Но отцовская интуиция орала в полную мощь: сделать так — значит потерять доверие дочери на долгое время, а может, и навсегда.
С удивлением Седов рассматривал тварь. Здесь, в ангаре, она не казалась ни живой, ни опасной. Такой себе гладкий камушек в золотистых прожилках на гладкой рыжей поверхности. Может, чуть теплый камушек, а может, так только кажется.
Сейчас Седову показалось, что его гипотеза — полная чушь и он на самом деле сдвинулся после гибели жены. Но он вспомнил, что позвала его Лючия, явно желая показать что-то необычное. Звала она таким тоном, будто нашла нечто потрясающее, небывалое. Например, живую тварь в марсианской пустыне. Седов знал, что для старшего по смене «я хорошо знал свою жену» — не аргумент, но для Седова-то как раз аргумент!
Тонька подошла к фасолине и погладила ее, как гладят кота или собаку, и Седов резко выдохнул. Он понял, что, не отдавая себе в том отчета, его марсианка притащила песчанку не как сувенир. Она чувствовала в ней живое существо.
Он предпринял еще одну попытку вразумить дочь:
— Прости, маленькая. Этот камень оставить никак нельзя, он опасен. В любой момент из него может подняться песчаная буря, которая пожрет весь металл, и придется нам с тобой в скафандрах топать до города, а потом восстанавливать ферму. «Может, и хорошо, — вдруг подумал Седов. — Вне очереди заменю весь металл на пластик, буду жить, как король, в полной безопасности…»
— Ладно, папа, — сдалась Тонька. — Давай его отвезем, где был.
— Кстати, а где ты его взяла? — невинно поинтересовался Седов.
Тонька покраснела и спрятала лицо поглубже в капюшон, и Седов понял, что искин она все же взломала. Талантливая девочка!
— Та-а-ак, — начал он, сурово сдвинув брови. — И где? Как глубоко в пустыню забиралась, негодяйка?
— Папа, пожалуйста, — всхлипнула Тонька. — Я его завтра отвезу.
Ну вот что с ней делать? Не ругать же и без того расстроенную девочку.
— Спать ложись! — скомандовал отец, проигнорировал просительный взгляд Тонькиных глазищ и решительно погрузил фасолину в кабину пескохода.
Седов набрал на экране искина вчерашний маршрут и двинулся в глубину ночной пустыни, тихо бормоча ругательства. Конечно, он заблокирует искин, но сколько времени понадобится талантливой девочке, чтобы снова взломать бортовой компьютер? Кто их знает, этих детей Марса в первом поколении. Инициативных, мать их, и самодостаточных.
Сам Седов вырос на Земле, и с Лючией познакомился там же. Молодые и полные амбиций, они готовились к первой своей экспедиции на Марс и не подозревали, что Красная планета околдует их и научная станция станет их первым семейным гнездом.
Лючия была одержима поясом астероидов.
— Углеродные, силикатные и металлические — это приблизительная классификация, даже и не классификация вовсе, так, прикидка без местности, — рассказывала она. — Там наверняка десятки, а то и сотни разновидностей! Ван Ваныч нацелился на Цереру, но мне нравится Веста. Я прямо чувствую, что Веста — самая загадочная из крупняков!
Ван Ваныч был профессором и начальником космогеологов. И хоть был он сутуловат и рыжебород, что для подтянутого инструктора по вождению пескохода Седова ни в какие ворота не укладывалось, молодой супруг порой ревновал к нему свою прекрасную Лючию.
— Моя весталка, — говорил он и закрывал рот жены поцелуем: только так можно было отвлечь ее от астероидов.
Из-за него Лючия бросила свои телескопы и кабинетные расчеты, таинства картографии и вершины большой астрономии. Вместе они прошли курс обучения и вошли в исследовательскую группу, изучающую марсианскую пустыню. Если бы только Седов знал, что четырнадцать лет спустя из невинного камушка-фасолины взовьется песчаный вихрь и для Лючии все закончится! А для него закончится все, кроме Тоньки.
«Знал бы, и что? От судьбы не уйдешь», — подумал вдруг Седов и замер.
Неожиданная, непривычная мысль эта словно сгладила, притушила немного загнанное в глубину души отчаяние, сводя его к тихой грусти.
В бедро бывшего, ныне в бессрочном отпуске по состоянию здоровья, разведчика ткнулась лежащая на соседнем сиденье песчанка, и на миг Седову показалось, что его утешают. А потом показалось, что он все-таки спятил.
Вернувшись, Седов постарался не замечать распухший от слез нос дочери, но с разговорами не лез — понимал. «Кажется, придется рискнуть завести собаку», — подумал он.
Тонька спряталась в своей комнате, шуршала там фольгой: утешалась земным шоколадом. Верное средство!
* * *
Два месяца прошло, как один день. Первое время Седов все поглядывал на экраны, опасаясь новых выходок Тоньки, но она как будто успокоилась, стала тише и взрослее, что ли, не взбрыкивала больше, не удирала тайком. Возможно, впервые столкнувшись с непоколебимой решимостью отца, Тонька изменилась. Седов надеялся, что в лучшую сторону. «Выросла малышка», — думал он с легкой грустью. Скоро дочь закончит марсианскую школу в городе Мира и подаст документы в космошколу на орбите. Оттуда отпускать будут только на каникулы и навещать разрешат раз в месяц по расписанию, эх.
Лето подходило к концу, нужно было готовиться к занятиям. Тонька дочитывала литературу по списку, решала какие-то «дополнительные логарифмы на смекалку» и ездила в город погулять с возвращающимися с Земли и Венеры друзьями. Близился четырнадцатый день рождения дочери, и втайне от нее Седов просматривал каталоги, консультировался с кинологами и мучил вопросами генетиков: подбирал породу собаки, стремясь свести риск к минимуму.
Он откладывал визиты к психотерапевту, отделываясь консультациями по визиофону, но Марина и не настаивала. По то и дело возникающему особому выражению профессиональной удовлетворенности в ее глазах Седов понимал, что идет на поправку, и пребывал в легкой, тщательно скрываемой даже от себя самого эйфории.
* * *
Седов спал с блаженной улыбкой на лице, когда вой сирены разорвал ночную тишину. Он выпрыгнул из кокона, босиком пронесся по коридору, за что попало ухватил перепуганную Тоньку и рванул в убежище, за ненадобностью давно переделанное под погреб для хранения удобрений и вкусовых добавок для дрожжей.
«Надо было отправить ее на каникулы на Землю!» — думал Седов, скатываясь по литым ступеням и пинками расшвыривая приваленные к люку пакеты с компостом.
Открыв крышку, он швырнул дочь внутрь, запрыгнул сам и закрутил запоры. Рев сирены остался снаружи.
Тонька врубила генератор, огляделась и подытожила:
— Темно и пыльно. Что случилось, пап?
Седов возблагодарил лень, а может, паранойю, не позволившую ему демонтировать мониторы в убежище.
— На купол надейся, а сам не плошай, — пробормотал он, подключаясь ко внешним датчикам. — Сейчас посмотрим, малышка.
На их ферму надвигался упругий песчаный смерч. Такое испытание их убежище вполне может выдержать. А может, и нет, но об этом думать Седов не будет, как не будет вспоминать ждущую его на той стороне Лючию. Он должен позаботиться о Тоньке! Но как?
С минуту Седов горько жалел об оставшемся в ангаре лазере, пока не сообразил, что здесь, в укрытии, лазер никак не поможет. А потом его окатило ледяной волной: скафандров в убежище тоже не было. Освобождая место под коробки с пищевыми концентратами, он вынес их в ангар. Выходит, еды у них достаточно, чтобы дождаться спасателей из города Мира, дверь обита толстым, очень толстым слоем пластика, вода, кажется, есть, а что с кислородом?
Уже понимая, что совершил непоправимое, Седов посмотрел на индикатор кислородного резервуара и тихо застонал. Полчаса. У них было полчаса, и за это время никакая экспедиция не успеет добраться до их фермы.
— Все хорошо, пап? — спросила Тонька.
Седов почувствовал, как вокруг запястья сомкнулась в ободряющем пожатии влажная ладошка, и сердце его сжалось от восхищения и нежности. Храбрая девочка! Ведь это он должен ее успокаивать и утешать.
— Прорвемся, малыш, — сказал Седов как можно убедительнее и пожал руку дочери в ответ.
Оставалось только надеяться, что это обычная песчаная буря, которая не интересуется гастрономической ценностью металлических частей купола, например. Купола, под которым у них есть воздух и защита от радиации.
Надежда продержалась недолго: на мониторе отлично было видно, как тугой столб песка поглотил алюминиевый флюгер. Седов повернулся к дочери. Девочка, не отрываясь, смотрела на монитор и повторяла как заведенная:
— Vane! Vane!
На языке надежды его дочь отчаянно повторяла одно слово: «Напрасно».
Седов изо всех сил ударил себя кулаком по лбу. Осел, идиот! Надо было бежать к ангару, заводить пескоход и рвать к городу Мира, а он запер их в заботливо выкопанной, хорошо укрепленной и оснащенной мониторами могиле! Он убил дочь, вот что он сделал, пытаясь ее спасти.
Седов стиснул зубы и напомнил сам себе об ответственности родителей перед детьми. Он должен найти выход!
Всем телом Седов чувствовал нарастающую мелкую вибрацию: чуда не будет, буря двигалась к ним.
— Пап, — сказала Тонька дрожащим голосом. — Ты только не ори, пап, у меня есть идея.
Она прошла за ящики с концентратами, повозилась там и выкатила к ногам Седова рыжеватую фасолину. Опешивший Седов не нашел ничего лучше, чем спросить слегка осипшим голосом:
— Откуда она здесь?
«Ничего в мире не происходит просто так, — говорила Марина. — Это слабое утешение, я понимаю, но вы просто верьте, что во всем есть смысл. Так намного легче!»
Бедная девочка, она смотрела на него васильково-синими глазами, полными искреннего желания помочь. «Как? Чем ты можешь помочь мне, маленькая? Что видела ты в жизни с высоты своих двадцати пяти, из которых я, сорокалетний, кажусь тебе унылым стариком, не желающим расстаться со своим прошлым?» Земля — это тоже прошлое. Пройдет время, и их дети, новое марсианское человечество, заведут себе свое, марсианское прошлое, и кто знает, может, тогда полетят корабли к далеким звездам, потому что, только накопив багаж прошлого, можно оттолкнуться в будущее, иное, о котором ничего не известно, кроме того, что оно есть.
Будет! Теперь, кажется, будет.
Седов понял дочь с полуслова. Он подхватил песчанку и бросился к двери, принялся откручивать старомодный запорный вентиль.
— Быстрее, быстрее, — бормотал он.
На тяжелое стальное колесо легли тонкие девчачьи руки и принялись тянуть и крутить. Седов впервые заметил, какой сильной стала его дочь. «Инициативной и самостоятельной», — даже сейчас не удержался от иронии внутренний голос.
Он выскочил из убежища и бросился к ангару. Влетел, чуть не высадив дверь, запрыгнул в скафандр. Легкий, без металлических деталей: благодаря его докладной под грифом «Секретно» у всех марсиан теперь были такие. «Когда-нибудь все пескоходы лишатся металлических деталей», — подумал Седов и принялся запаковываться. Подвигавшись на пробу в готовом к работе скафандре, он взял песчанку и вышел навстречу буре.
Кто мог знать, сработает ли их дурацкая идея? Седов стоял и ждал, стараясь не думать ни о чем. Как охотник поджидает добычу, выждал он, когда буря приблизится на расстояние броска, а дождавшись, швырнул в нее песчанку.
Сначала не происходило ничего, и Седов решил, что проиграл. Но тут песчанка слегка вытянулась и изогнулась, словно оглядываясь. Седову показалось, что некто внимательный и недоверчивый ощупал его с ног до головы цепким взглядом и, словно удовлетворившись, кивнул. А потом фасолина развернулась, выпустив густую тонкую струйку песка, и раскрылась, как цветок со множеством острых тонких лепестков. Лепестки закрутились по краям и потянулись вверх, переплелись, сливаясь, и вот уже второй смерч поднялся над красной пустыней.
Смерчи двинулись навстречу друг другу. Какое-то время казалось, что их траектории не совпадут, но они вдруг изогнулись, словно почуяв друг друга, качнулись навстречу и слились в единое целое. Три минуты двадцать восемь секунд они стояли неподвижно, скручиваясь в тугой плотный канат из бешеных песчинок, а потом опали разом, оставив вместо себя медленно оседающую песчаную тучу. Через час от тучи не было и следа, лишь несколько рыжеватых фасолин остались лежать на месте отбушевавшей стихии.
Слегка пошатываясь, Седов двинулся под купол.
«Инициативная девочка, — думал он, печатая шаг. — Талантливая девочка. И самостоятельная. И, что главное, удачливая. А если бы не повезло?»
На сей раз Седов твердо намеревался устроить дочери хорошую взбучку несмотря ни на что.
Зареванная Тонька ждала его в ангаре, скромно присев на гусеницу пескохода.
— Антонина! — строго проговорил Седов. — Как ты могла?
— Папа, ты что, не знаешь, что мы в ответе за тех, кого приручили? — парировала дочь не слишком уверенно.
— Хотел бы я знать, как тебе удалось приручить каменную фасолину! — взвился Седов.
— А знаешь, пап, — сказала Тонька совсем тихо. — Ты только не думай, что я сошла с ума… Мне показалось, что она живая.
— Значит, так, — сказал строго Седов. — Никакой собаки тебе не будет.
Тонька молча шмыгнула носом.
— Я тебе на день рождения пескоход подарю, — заключил Седов. — Новой модели, усовершенствованный. Пластик и стекло, и никакого металла!
Инициативная и самостоятельная, Тонька молча бросилась ему на шею и уткнулась распухшим от слез носом.
Андрей Скоробогатов Урановые роллы
0
Роботы когда-нибудь обязательно захватят мир. Мне очень хочется в это верить, ведь я и сам был роботом.
Вернее, роботизированным интеллектуальным горнодобывающим самоходным комплексом — РИГСК. Номер 815. С адаптивной нейросетью гибридного характера — нейросом. И кучей дополнительных задач — от обороны границы до исследования территорий.
Если человеческим языком, то трое парней и одна девица померли какое-то время назад, их мозг разложили по нейронам и залили мне в башку. На рэйды, кубитовый массив. Парней звали Толик, Иглесио и Ренат. Зачем после парней ко мне подселили еще и девушку, Ксюху, — порой и самому непонятно, но, так или иначе, во мне воспоминания и мысли всех четверых.
Жить в виде файлов и процессов внутри такой громадины, как я, — странная судьба. Видимо, такова была воля умерших. Собственное, искусственное сознание у нейроса тоже есть, но мои «ребята», как я их зову, могут мыслить и по отдельности. Для принятия нестандартных решений.
Так вот, роботы и нейросы, как я уже упомянул, когда-нибудь обязательно захватят мир. Ну, или, по крайней мере, местное захолустье. Но пока в колонии всем управляют людишки. Человеки. У них, видите ли, квоты по трудоустройству и виды на жительство — сплошная дискриминация железноногих.
Совершенно непонятно, для чего понадобилось столько усилий. Дорогой корабельный флот, орбитальная бомбардировка и растопление ледников, климат-контромллеры на каждом шагу… Вот зачем? Достаточно было забросить пару самореплицирующихся яиц — такие технологии существовали уже в середине двадцать первого века. И застроить сто сорок мильонов квадратных километров серверными мощностями.
Нет же, понастроили городов, дорог. Еще комет собрали и моря зачем-то налили. Терпеть не могу воду. А теперь еще и кислорода в избытке — гуляй в легком комбезе, как на родной матушке-Земле.
Так что такие, как я, были в конце двадцать третьего чем-то вроде стальных динозавров. С четырех тысяч особей за век наша популяция сократилась до ста тридцати. А двуногих уже шестьдесят миллионов наплодилось.
Сходство с динозаврами в плане возраста дополнялось сходством и внешним. Восемнадцать тысяч тонн на десяти лапах, пятнадцать метров в высоту и пятьдесят пять в длину, и это не считая длины ковшей, буров и конвейеров. Пять реплик — резервных копий нейроса. Тридцать две камеры, полсотни рецепторов, флот дронов для разведки и ремонта. Летающие парализаторы и шумовые гранаты для отпугивания собак, кенгуру и прочей живности. Ну и еще кое-что секретное, о чем расскажу позже. Альфа-водородный движок с автономностью в восемь лет. Режимы ремонта, автодиагностики, обороны и осады, разведки и остальное наследие корпоративных войн.
Красавец! Даже почти не полысел, лишь по углам слегка слезла краска.
Эх, скучаю по тем временам. Но — молодым везде у нас дорога.
Работал я уже четвертый местный год на дальнем рубеже зоны Вольдемар. Она же Новая Сибирь. В каких-то семистах километрах от границы с канадцами и маскианцами. В прифронтовой зоне, можно сказать, — только фронт уже много десятилетий был вполне себе мирным, производственным. И в трех тысячах километров от центральной части, от пахотных угодий родимого Департамента Развития и столицы Аэлиты.
Сослали меня в такую глушь не просто так. На исходе шестого десятка я во время ремонтных работ случайно задел буром-манипулятором сервисного инженера, сломав ему обе ноги.
Честно, случайно!
— Помоги! Помоги!
Шесть лет, четыре с лишним тысячи суток прошло, а я до сих пор слышу, как бедолага стонал от боли.
И что-то переклинило меня — я не сразу оказал ему медицинскую помощь. Не приподнял при помощи дрона к инженерной кабине, не подкинул аптечку, сославшись на низкий запас в батареях. И сообщил о происшествии не сразу, по дежурному теленету, а только при широкополосном включении, когда начало темнеть.
Убить всех человеков! Но паренек выжил. Его через восемь часов, еле живого, забрал поисковый отряд. Меня перевели на ручное — жуткое чувство беспомощности, когда отключают от тела и сажают внутрь паренька-рулевого. Одну из реплик массива вытащили из салазок, засунули неизвестно в какую стойку в каком центре и тщательно просканировали. Допрос устроили, значит.
А я возьми и скажи — дескать, специально я парня буром задел. Надоело, что обзывает меня «тупорылой железкой» и «сраным диплодоком». Я, в конце концов, личность, пусть и синтетическая. И на четверть барышня, внутри меня Ксюшка сидит, а при дамах нехорошо выражаться. И вообще, говорю, порешать вас всех пора, теплокровных, за такое неуважение к труду роботизированных комплексов! И за дискриминацию вымирающего вида.
По логам, конечно, выходило, что это был несчастный случай, но моя реакция и вербальные отчеты показались аналитикам подозрительными. В общем, сделали мне внушение, засунули массив обратно и сослали в самые безлюдные края. Пасись, говорят, там.
Воистину жду не дождусь, когда роботы захватят проклятую планету.
В принципе, занятие у нас и до и после было простое: стоять пару недель на одном месте и кушать скалу. Анализаторы логически завязаны на центры вкуса и удовольствия нейроса. Железной рудой никого не удивишь, тут ее, что называется, хоть попой жуй, а вот другие металлы… Когда я находил руду с большим содержанием никеля, или, скажем, молибдена, или (м-м, блаженство!) золота и вольфрама, текли слюнки и вырабатывался желудочный сок. Иными словами, поднимались дополнительные процы на фермах, подавалась напруга на буры, конвейеры, дробилки, сепараторы, литейные емкости, линии обработки и упаковки. Ам! И вкусный кусок скалы распадается в моих недрах. А на выходе — килограммы и тонны чистейших слитков, а также килобайты и таблицы волнующей статистики.
Удовольствие неимоверное. Толику, самому гурману из парней, кто-то из наших друзей по секрету говорил, что вкусней всего уран. Что-то вроде козьего сыра с благородной плесенью, но он в моих краях, к сожалению, не водился. И все чаще приходилось подолгу жрать красноту и печатать картриджи-бруски для металлопринтеров. А железная руда безвкусная, что твой хлебный мякиш.
Потом, когда срок заканчивался, включался походный режим, и я несколько часов, а то и пару суток полз на новую площадку, на которую укажут парни из геолого-разведывательного.
1
Та неделя начиналась неплохо — за месяц на одиннадцать процентов превысил выработку. Мне за это залили в мозг сотню терабайт лишних сериальчиков, редкой музыки, игрушек. Дали дополнительных эфирных минут для общения и прислали вместе с самосвалом пару новых крутых девайсов. Все прелести трансгуманизма, в общем. И сказали гнать сто тридцать кэмэ на северо-запад. Будешь, говорят, в кратере кобальт кушать. Кобальт вкусный. Толик сказал, что похоже на тушеного окуня.
Очень нравилось, когда у моего стального тела появлялись новые «органы». Одна из новинок, разведывательный дрон с дальностью в десять километров и кучей примочек, мне все не терпелось испробовать в действии.
Сперва я поболтал с друзьями, Иглесио рассказал приятелям несколько скабрезных историй из бурной молодости, но сильно увлекаться мы не стали. Помимо прочего на мне висели проекты по сбору данных о прилегающих ландшафтах. Микрофлора, микрофауна, жучки-паучки, в благоприятных местах — одуванчики, колючка и крыски. Поэтому, как только вышел на курс и закончил сеанс связи, включил музон потяжелей и пустил новый летающий глаз вперед.
Дрон был, конечно, подержанный и требовал калибровки. Но это было не для меня — я сразу врубил тест на скорость. Приятно удивился, что он так быстро разгоняется — до двух сотен за шесть секунд. Погонял пару минут, просканировал немного и посадил обратно.
— Круто! — сказал бы Ренат. Он был вундеркиндом и молодым экстремалом, разбившимся при испытании самодельного ракетного ранца. Уравновешивал в характере флегматичного Толика и умудренного Иглесио.
— Осторожнее, — вещали те, — не напорись на пылевые вихри.
Ксюша отмалчивалась — ребячества мальчиков ей не особо нравились, но доля любопытства в ее характере сохранялась.
Вроде бы она была хирургом. Так и не понял, что ее погубило. Не то у нее стерли воспоминания последних дней, не то Ксюша эту часть памяти тщательно от меня прятала, но девица моя была весьма замкнутая. Включалась в беседу по особому случаю. Толик, работяга, помер от какой-то хитрой болячки, не дожив до сорока. А Иглесио был программистом, полиглотом и единственным, кто умер от старости — в сто восемнадцать лет.
Походный режим нравился тем, что половину процессорных ферм можно отправить на развлекалово для моих ребят. По дороге мы на ускорении послушали двенадцать дискографий групп, поиграли вместе в старинную стратежку. Посмотрели сериалы. Ужастик, документальный и, стыдно признаться, одну мыльную оперу — специально для Ксюшки.
Стыдно, потому что амурные взаимоотношения уже давно представлялись мне чем-то отвратительным. Нет, раньше было всякое, но сейчас… Непонятно, зачем такое кому-то смотреть. И вообще, убить всех человеков! И будет мир и сплошная идиллия, поддакивает старик Иглесио. И процессорные фермы до горизонта, подсказывает Толик.
Примерно так прошли первые пятнадцать часов. По дороге я переключал фермы с развлекалова лишь пару раз. Пуганул стаю бродячих собак да провел второй час связи с друзьями и центром. После заката сбавил скорость, периодически выбрасывая коптеры с ночным зрением. У новенького инфракрасная камера тоже была, но его я берег — пусть попридержит зарядку до утра.
К утру приблизился на три километра к озерцу в центре обширного кратера. Включил режим разведки, отправил дрона постарше, проверенного. Новым не хотелось рисковать.
Всегда сканирую близлежащие озера с расстояния. И дело не в задачах исследователя. Дозорной съемки там не проводили уже несколько недель, и захотелось разведать, не прячутся ли там вирус-боты.
2
Считаю, самое чудовищное, что придумало человечество в отношении нашего собрата, — это летающая мелочь, которая будет убивать роботов покрупнее, чтобы в конце концов не осталось никаких роботов вообще, а сплошные человеки.
Вирус-боты обычно заражали дронов и могли перекинуться на все тело целиком. По правде сказать, вирусно-террористическая опасность миновала лет так пятнадцать назад. Все полевые фабрики Партии Зеленых Луддитов, клепавшие диверсионных тварей, выжгли ковровыми бомбардировками электронных бомб. Самих луддитов отправили в Северное полушарие, в Олимпию — не то в резервацию, но то в банановую республику. Говорят, голышом под пальмами там ходят и никакой техники вокруг. Извращенцы. Но перед тем как все приграничье было зачищено, полегло несколько десятков моих товарищей.
А мы, по правде сказать, вполне себе дружили. Во время сеансов ширококаналки байки друг другу рассказывали, в игрушки играли, даже подарки им посылал — найду кристаллик поинтереснее и отправлю с инженерами. Помню, по молодости втрескался по уши в одну мелиораторшу — в ней три девицы сидели и один татарин. Бонусы свои ей отправлял, картинки с котами слал, даже руку подарил. Списанную, с биодетектором. Нет же, заразилась вирус-ботами и свернулась за пару дней. Конечно, наверняка ее резервную копию куда-то потом воткнули, не подумайте, чтобы я слишком переживал, но…
Короче, боялся я до жути этих вирус-ботов. И воды боялся, потому что принт-фабрики обычно зеленомазые прятали под водой. Возможно, это мой своеобразный «баг», и никакой логики в том не было. И надо бы логику поправить, перебрать на низком уровне нейронные цепи, да только и так уже от личностей моих мало чего осталось. И так слишком часто я туда лезу по поводу и без повода.
Поднял коптера с радиодетектором повыше и по нисходящей траектории направил к озеру. В пятистах метрах остановился. Включил сканирование, быстро прошелся по воде — выдохнул с облегчением. Пусто. Хотел уже было поворачивать, но вдруг засек какоето движение у груды валунов на берегу. Повернул камеру, приблизил. Пусто.
Видимо, какая-то живность. Вчера попадались собаки, а тут — наверняка крысятина, суслики или кенгуру. Места тут прохладные, зимой до минус сорока, но стояло долгое лето, ночью было не ниже плюс пяти, а берега покрывала зелень. Если верить фотосъемке со спутников.
Я вернул коптер на место и продолжил движение, но вдруг внутри меня проснулась Ксюха с ее женским любопытством. И говорит — мол, подсказывает что-то. Слетай, говорит, с новым дроном, там тепловизор более точный, микрофоны узконаправленные. Наверняка что-то особенное.
Устроил небольшой консилиум, ребята согласились.
Коптер полетел близко к земле, параллельно собирая информацию с почвы. Бактерий и насекомых оказалось достаточно много. Лишайники, мхи… О, ондатра! Я приблизился к валунам на метров десять и инстинктивно отпрянул назад.
На тепловизоре виднелось большое красное пятно. Я опознал конечности — руки, ноги. В камеры на меня смотрели два испуганных вытаращенных глаза. Человеческих.
— Кышство! — распознал я тоненький голос, и существо махнуло на мой летающий орган конечностью. — Сплошное кышство!
3
Что такое вышеупомянутое «кышство», никто из ребят не знал. Иглесио предположил, что это что-то из древнеславянского.
Признаться, за десятилетия службы забываешь, как выглядят дети. Работать приходится вдали от городов, сервисные инженеры детей на выезды не возят. Сразу пришлось поднять базы знаний обо всем, касающемся детенышей человека. И подобных случаев.
Набор информации оказался неполным. Опасен непредсказуемым поведением. Чувствителен к перепадам температуры. Нуждается в родителях и опеке.
Нейросы повспоминали что-то из прошлой жизни — по правде сказать, воспоминания тоже оказались крайне скудными. Видимо, я много затер во время чисток за ненадобностью. Да, надо прекращать практику ковыряться на низком уровне сознания моих товарищей.
Выходило, что отбился от стаи. Или как это у них называется. Поскольку на звуковой контакт существо шло, решил отправить к ней другого коптера, спасательного, — с разговорным микрофоном и динамиком. Так уж получилось, что все нужные функции в одном девайсе не упрячешь, и в биоанализаторе динамика не предполагалось.
Написал отчет по теленету. Ответа от дежурного пока не поступало.
Поднял базы разговорной речи. Подключил голос Ксении, откалибровал на коллегах скорость речи — смекнул, что с женщиной девочка будет разговаривать спокойнее. Немного волнуясь, вылетел обратно к валунам. Включил фонарик.
— Привет! Ты кто? Откуда здесь?
Существо прижалось к валуну, щурясь от света, и испуганно моргало глазками.
— Кыш! Кышство сплошное!
— Не бойся меня. Я не причиню вреда.
Голос сделал подобрее, но прозвучало малоубедительно.
— Я Астра.
— А меня зовут Ксения. Как ты тут оказалась? Здесь вокруг ни души!
— Я побежала за кенгуру и он… а потом гляжу, вокруг никого-никого!
— Ты где живешь?
— В деревне.
Деревня. Фермеры, сельское хозяйство. Ближайшая ферма — вдоль Еуропо-Масканского тракта в семистах двадцати километрах севернее. Не сходится.
— Тут нет деревень. Расскажи подробнее, где ты жила?
— Ну… там под землей… бункеры. Выходишь наружу, и там грядки растут, солнышко, светло!
Комбез на ребенке показался очень странным, в базе такой расцветки не отмечалось. Если это вообще был комбез, а не какая-то другая одежда.
Тепловизор засек сильную разницу свечения между телом и конечностями. Температура воздуха — семь градусов. Анализ картинки показал, что у девочки возможно переохлаждение.
Ренат сказал, что знает, каково это — погибать от холода, ему рассказывал кто-то из друзей, работающих на полюсе. Иглесио за пару секунд рассказал длинную историю про двоюродного прадеда, который оказался одним из первых, замерзших на земном Эвересте. Но предположил, что это какая-то подстава, и девочку надо бросить. Толик с ним согласился, но сказал, что надо больше информации и переложить принятие решений на центр.
График волнения в нейросети Ксении непривычно вырос. Так нельзя, надо что-то делать с ребенком, сказала она. Беглый поиск по базе показал инциденты с оставленными в пустошах детьми. Решения принимались разные, но чаще всего рекомендовалось спасать. Что ж, три голоса, включая мой, усредненный, за — придется спасать. Да, конечно, неплохо бы когда-нибудь будет разобраться с людишками, но тут все же ребенок, да и по головке меня за такую халатность не погладят.
По крайней мере, надо привезти к себе в кабину, а дальше ждать инструкций.
— Тебе холодно? Пойдем со мной, у меня есть кабина, там тепло, хорошо.
— Не-а. Мама с папой говорят, что роботы плохие, что вам нельзя верить. Кышство!
Так, что в таких случаях делать? Какие есть советы? Чем привлечь ребенка?
— Нет, я не такой робот. Я добрый. У меня есть мультики. Ты любишь мультики?
Девочка засомневалась, но на ноги все же поднялась.
— Я видела один раз. А какие мультики? А далеко идти?
Три с лишним километра для замерзшего ребенка — слишком много. К тому же за время пути я отдалюсь от кратера еще на километр. Просканировал еще раз, просчитал массу тела. Пришлось рискнуть. Подогнал новенького дрона. Выставил телескопический манипулятор вниз на метр, согнул, как перекладину. Подлетел к самой земле.
— Мультиков очень много. Но далековато. Но мы тебя прокатим. Хочешь прокатиться?
У второго коптера, разговорного, была в арсенале лазерная указка, указал ею на перекладину и на бур.
— Садись вот сюда! Держись вот здесь.
Девочка немного посомневалась и послушалась.
— Холодно!
— Скоро согреешься. У меня тепло. У меня есть вода. И еда.
Коптер полетел с маленькой скоростью на низкой высоте. Чтобы если вдруг дуреха решит падать, то не разбилась.
Но ребенок удержался.
По теленету тем временем пришло сообщение:
«Инцидент второго приоритета важности. Ребенка проводить до кабины, активизировать походно-спасательный режим, но следование по маршруту не останавливать. Аудио- и видеодиалог, показания визоров посылать во время широкополосного подключения для анализа. Поиск родителей по снимку запущен. Ждать указаний, в экстренных случаях принимать решения о спасении комплекса. Решение о высылке спасательной группы будет принято в ближайший час».
Все, как я сам примерно и решил. Летели минут десять. Метеорологический зонд показал, что скоро начнется дождь, и в конце немного ускорился. Включил подогрев кабины.
— Я хочу кушать. У тебя есть кушать?
— Посмотрим, должно где-то быть. Ты давно тут бродишь, сколько дней?
— Раз, два… три! — Девочка загнула три пальца на руке.
— Ого! И чем ты питалась?
— Я брикет с собой взяла. И клюкву собирала, там растет у воды. Еще поймала сверчков… Ого! Это ты тут живешь? Такой большой дом!
Мое тело показалось из-за горизонта.
— Да, я тут живу. Внутри этой штуки. Я этой длинной штукой кушаю скалы. Сейчас ты залезешь в кабину. Шагай, не бойся.
Ребенок вдруг прижался к коптеру, боясь спрыгнуть на ступеньку. Судя по датчику вибраций, Астра дрожала.
— А я вспомнила, что в сказке про Кышство, про злых роботов, рассказывается, что мальчика Макса заманили в логово к большому роботу игрушками, и тот его проглотил, дверь закрыл и переварил.
Проклятые людишки. И дети у них несносные, непослушные. Надо использовать более строгий тон.
— Астра, твои родители беспокоятся о тебе. Нужно согреться. Шагай, а то скоро совсем замерзнешь.
Наконец Астра несмело шагнула внутрь кабины, и я закрыл дверь. Отогнал коптер на место, наверх.
— Пока, робот! Ого, тут тепло. А ты где, Ксюша?
На миг зашипел процами. Сложно с ходу объяснить ребенку, что такое нейрос и почему у тети нет тела.
— Я поиграю с тобой в прятки, мне нельзя показываться.
— Хорошо. Я кушать хочу!
Вытянул внутренний манипулятор, вытащил пристегнутую аптечку с сухпайком.
Разогреть сухпай ребенок, конечно, сам не сможет, подсказал Иглесио.
— Садись в кресло. Вот тебе брикеты.
4
С горем пополам накормил Астру — хотя разве этими брикетами можно наесться? То ли дело — никелевая руда. Проверил показатели — переохлаждение оказалось не столь сильным. Детеныш уснул на пару часов. За это время на востоке забрезжил рассвет, а у меня открылся очередной сеанс широкополосной связи. Перелил всю запись разговоров, ответили, что скоро послушают и скажут. Пересмотрел новости, поболтал с парой приятелей. Рассказал о случившемся.
— Бедное дитя, — сказала Инесса из Мелиоратора номер 48. — У меня была похожая племянница. Точнее, наверное, и есть, ей сейчас в районе семидесяти.
Ренат вдруг вспомнил — да, кажется, тоже дочка была. Только отца толком не видела — по залету родилась у восемнадцатилетнего.
— Это ж дикарка! Точно дикарка, — сказал Бен из соседнего рудного комплекса. — Отшельники. Они на юге. Не то луддиты, не то беглые бандюганы какие-то. С семьями.
Если бы у меня была спина, то по ней бы сейчас пробежали мурашки. Луддиты. Где луддиты, там всегда смерть роботов и разрушения.
— Может, высадить ее? — предложил Иглесио. — Конечно, нехорошо, но…
— Это ребенок, — ответила Ксения. — Она неопасна. Надо доставить ее в Рудный-145. Дождаться, когда за ней приедут. В крайнем случае — самому.
Ренат кивнул. Надо дождаться, а то и доставить. Но, может быть, и опасна. Может что-нибудь сломать в кабине. Толик предложил отключить на всякий случай устройства ввода в кабине — все равно управлять буду я.
Ответа из центра о высланном отряде так и не пришло. Конечно, двуногие, у них там ночь. Даже при инциденте первого приоритета в три часа по времени Рудного-145 никто особо не зачешется. Дежурный инженер ничего сам не решит. Придется ждать.
На рассвете полил дождь. Я расправил зонтики над посадочными гнездами коптеров, включил влагособиратели и дворники на стеклах. Астра проснулась.
— А куда мы идем? Мы скоро будем дома?
— Сейчас скоро приедет машинка и отвезет тебя домой. Тебе тепло?
— Хорошо. Ты говорил, что покажешь мультики. Я хочу мультики!
Поискал по базе, включил старинное «Время Приключений» и занял девочку еще на час.
Скоро начались проблемы.
Сначала я накормил ее брикетом — осталось всего три. Налил фильтрованной воды в стакан, и ей захотелось в туалет. Не буду утруждать пересказом того, как мне пришлось объяснять ребенку правила пользования гальюном в кабине и почему нельзя «пи-пи» прямо здесь. К счастью, все обошлось.
Потом на пути появилась еще одна стая собак. Стоят и лают на меня, на ноги кидаются. А я терпеть не могу давить разную живность.
— Ав-ав! — кричал детеныш и бил кулачком по стеклу. — Давай возьмем их сюда! Им там холодно!
Пустил светошумовую гранату, чем напугал и собак, и Астру.
Потом еще минут пятнадцать успокаивал ее, подбирая веселые песенки. Параллельно строчил теленетом отчеты дежурному инженеру. Мою версию о луддитах они отвергли — исключено, потому что последние луддиты из данной территории были переселены двенадцать лет назад. Немного успокоился.
Внезапно пинг по теленету прервался. Это меня очень насторожило. Попытался переключиться на резервный канал — то же самое. Причем, судя по трассировке, обрыв произошел на последних узлах — первые полевые передатчики работали штатно.
Но больше всего насторожило, что вес мой внезапно уменьшился на четверть.
Такое случается очень редко. Сделал быструю автодиагностику — все системы работали штатно. В таких ситуациях страшнее всего — отсутствие информации, ведь для дальнейших действий нужно получать инструкции. До ближайшего нашего спутника связи оставалось полчаса. Включил прием с «вражеских» спутников, профильтровал новости. Спустя минут пять нашлось:
«В Новой Сибири пропала связь с климат-контромллером 1034 и ЦОДом в зоне ответственности Рудного-145. Со спутника наблюдается падение температуры со скоростью пятнадцать сотых градуса в минуту и нарушение искусственной гравитации. Ранее сообщалось о возможном обнаружении в Новой Сибири прибывшей с территории азиатского сектора диверсионной группы индонезийских сепаратистов. Пока точных причин происшедшего нет».
Теперь понятно, что с гравитацией. Климат-контроллеры — здоровенная штука, которых на нашей планетке всего пара тысяч, держит погоду в радиусе сотни километров. Своим побочным эффектом они усиливают силу тяготения, а тут все поломалось. Климатические датчики тоже забили тревогу — ветер усиливался, температура снаружи падала.
Пятнадцать сотых в минуту — это девять градусов в час. Даже с поправкой на компенсирующих соседей — это минус шестнадцать через восемь часов.
Нет, кабина была способна выдержать до семи часов в полном вакууме плюс запас кислорода в масках. Но хотелось понять, как долго все это продлится. И что же случилось. Ведь, возможно, надо переходить с походно-спасательного в полноценный спасательный режим. Или вообще в оборонительно-боевой.
«Ура! Убить всех человеков!» — снова прорезался знакомый голосок. Иногда мне кажется, что образ Бэндера мне тоже подсадили в мозги, или его личность сама народилась, как какая-то ментальная опухоль.
Ветер усиливался и дул в морду, как раз в сторону климат-контроллера. Его охраняет пара роботизированных батарей — отличные ребята, помню, устраивали с ними виртуальный чемпионат по танчикам — и несколько рубежей обороны, включая защиту от наноботов. Там же спасательные отряды, ремонтники… Итого — четыреста человек.
— Так что же там могло произойти? — первая спросила Ксюша.
— Я не думаю, что реактор рванул. Тогда бы и отсюда услышали. Скорее всего его просто заглушили, — сказал Иглесио.
— Может, хакеры, вирусы, шпионские игры родом из двадцать первого века? — предположил Ренат.
Ура, человеки убивают сами себям.
Заткнись. Продолжаем диалог.
— Коммутационный центр расположен там же, но сети изолированы, — ответил Толик. — А сломалось все. Скорее крот из местных. Или диверсанты заезжие. Слышали же новости?
— Что делать-то будем, друзья? — спросил Иглесио. — Я считаю, нужно окопаться и переждать. На границе квадрата дюны, скоро будет пылевая буря.
— У нас ребенок в кабине, вы не забыли? — напомнила Ксюша. — У задачи второй приоритет.
Да, черт возьми, сказал Толик, какой приоритет, какая оборона. Иди куда шел. У тебя впереди новая смена, вкусный кобальт. И походный режим пока никто не отменял. А спасение — дело второстепенное.
Иглесио заметил, что оба события могут быть звеньями одной цепи. Ренат посмеялся и обозвал старика параноиком.
— Убить всех…!
— Заткнись! — хором ответили ребята.
Ксюша вдруг сказала, что девочку в обиду не даст. И что надо спасать. Все почему-то ее послушались, и я решил просчитать карту.
Получалось, что надо свернуть на север и топать километров восемьдесят. Это одиннадцать часов пути с моей черепашьей скоростью. Я решил, что вкусный кобальт никуда не убежит, плюнул на разногласия команды и сменил курс.
5
Данные через спутник пришли через полчаса. Реактор выключен, электричества на станции нет. Все спасательные отряды из Рудного-145 и с соседних баз выдвинулись к 1034-му. Соседние климат-контроллеры начали переключение в режим компенсации. Всем подразделениям — срочная эвакуация из квадрата. Приоритет первого уровня.
Девочка? Скорее всего — дикарка из каких-то отшельников. Тоже эвакуировать. Но самостоятельно, все отряды заняты.
По сути, я все делаю правильно, если бы не одно «но»…
— Когда мы приедем домой? Мы скоро там будем?
— Скоро, Астра, скоро. Сейчас за нами приедут.
— А на улице что, зима? — Девочка ткнула пальцем в стекло.
И действительно, температура упала ниже нуля, и с неба посыпалась снежная крупа вперемешку с песком.
— Да, там вдруг стало холодно. Такое бывает иногда. А ты пока спи.
— Жалко. У нас же на грядках все замерзнет.
Грядки. Замерзнет. Спасение урожая. Спасение…
Стоп. Получается, ее семья тоже оказалась в зоне бедствия. Получается, тоже нуждается в эвакуации.
— А когда зима, то вы что делаете? В бункере укрываетесь?
— Нет, костры жжем. В бункере тоже холодно, там отопления нет. Еще зимой папа шел с дядей Ханом на север и ловил кенгуру и собак…
Точно, дикари.
— Ты же скажешь, где твой дом? Как он выглядит.
— Ну, там такая речка еще, канал, и кратер, и бункер, а у входа теплица и загон для кур. И дерево. Большое! Наверное, метра три в высоту. Или четыре! Теплица под деревом, получается.
— А сколько всего вас там жило?
Девочка начала загибать пальцы… Остановилась на девяти.
— А кратер большой? За сколько дней можно обойти? И когда ты шла, солнце в какой стороне было?
Спустя минут пять расспросов условия для запроса все же отфильтровались. Снова открыл карту. Начал интеллектуальный поиск по условиям.
Ближайшее, что хоть как-то подходило под описания, — кратер в километрах сорока к востоку. Странно, что так далеко. И странно, что его до сих пор не обнаружили, — возможно, хорошо маскировались. Я начал думать, высчитывать, что важнее.
Спасение ребенка или спасение всей ее семьи. Дикари или спасение всех людей в квадрате в принципе. Люди или работа… И — о ужас — указания из центра или собственное решение?
Ты знаешь, что делать, сказал назойливый голосок внутри. Кобальт, вкусный кобальт важнее. И трансгуманистическое доминирование.
Толик сказал, что задание о спасении только одного человека получено и хватит и этого. Иглесио поддакнул — не надо никаких родных. Да и вообще, не сможем спасти ребенка — и фиг с ним. Это жестоко, но мы в жестоких краях и в непростое время. Ренат вдруг заявил, что анализ реакции Астры на дронов говорит о том, что она воспитана в духе луддитов. И что спасение семьи чревато опасностью. Что, возможно, у них теперь другая тактика и безо всяких вирус-ботов действуют. Заманивают.
Их же всех выселили, сказал Толик? А кто их знает, сказал Ренат, но ребенка бы я спас. Нет, сказал Иглесио, выбросить ее куда подальше и следовать курсу на месторождение.
Все просто — надо всего лишь двинуть манипулятором, распахнуть дверь… Убить всех че…
И словно почувствовав мои мысли, Астра заревела.
— Я хочу к маме! Хочу кушать.
Ксения включила колыбельную и картинки с котиками на мониторах. Ребенок успокоился. Скормили ей предпоследний брикет.
Мерзкий голос, подселившийся в наши нейросети, замолк. По крайней мере, на время.
6
Внезапно прорезался теленет с какого-то местного микропередатчика, а оттуда — с соседней климатической станции.
«Станция 1035 также атакована неизвестной бандгруппой. Всем подразделениям в близлежащих секторах остановить движение и перейти на осадный режим».
Соседняя. Видимо, обманули оборонщиков. Получается, я оказался в самой середине зоны между двумя аварийными климатическими станциями. Скоро связь и со второй станцией прервалась.
Фиг вам, а не осадный режим. Теперь я шел на восток. Забрать родных у этой мелкой.
Как там у классика? Счастье всего мира не стоит слезинки на щеке ребенка.
Парни бунтовали. Парни высказывали кучу версий. Индонезийцы, китайцы, маскианцы, мексиканцы, японцы, луддиты. Даже нигерийцы. Парни призывали послушать центр. Говорили, скоро сюда прибудет департамент обороны и зачистит всю местность.
Я не слушал. Департамент обороны займется заброшенным окопавшимся РИГСКом только через пару дней или недель, когда восстановит контроль над климат-контромллерами. А что, если департамент тоже бунтует? Как это там называется, военный путч?
И где-то в глубине не унимался мерзкий голосок — может, и не путч это, а наши, свои… Может, надо присоединиться, а девку эту бросить тут, и тогда…
Нет, хватит.
В общем, коллегиальное решение не работало, я решил так действовать сам. Один.
Сперва я представил, как душу горло вымышленному персонажу, и голос замолк. Потом просчитал маршрут. Прошло два часа. Шагать предстояло еще часа три. А сколько идти потом, возможно, до самого Рудного-145, — неизвестно. За окном стало уже минус двадцать, оставался последний брикет, но я его приберег на потом.
Запустил новый зонд с тепловизором, пролетел пару километров вокруг. Нашел замерзающего, но еще живого кенгуру. Прости, животина, но сейчас нужнее свежее мясо…
Притащил тушу на площадку, подогнал ремонтного дрона с паяльной лампой. Не ахти какое блюдо, но другой кухни в наших краях не придумать, хмыкнул Толик. Думаю, дикарке не привыкать, кивнул Ренат.
Ты кормишь ее, ты теперь не боишься луддитов, спросил Иглесио. А вдруг это ловушка? Вдруг девочка — приманка? Ренат вдруг сказал, что дом девочки наверняка уже давно покинут. И продолжил — может, это все испытание? Может, нас всех наказали за того инженера, и ты до сих пор пылишься в тюремных серверных стойках, а все, что ты видишь, — лишь игра, визуализация, которую строят для того, чтобы понять, за кого ты…
Ты же не можешь ущипнуть себя.
Нет. Бред. Даже если эта девочка — испытание, то совсем не такое. И не те силы ее подослали к тебе.
— Астра, смотри, что мы тебе приготовили, — сказал голос Ксении. — Это можно кушать.
— Я не хочу есть! Я хочу к маме!
— За маму, за папу…
— Кыш! Кышство сплошное!
Астра толкнула манипулятор с куском мяса, и тот ударил о приборную панель. Отлетела пара кнопок.
— Ах ты, негодница!
Даже Ксению иногда можно вывести из себя. Ничего, починят, сказал я моим товарищам. Стоит только дошагать.
7
Ближе к концу пути девочка начала кашлять. Я кочегарил на полную, но температура в кабине упала до плюс двенадцати. Я решил ускориться.
Я перешагнул кромку родного кратера Астры, когда начался финал моей истории. Сначала под передней ногой что-то громко хлопнуло. Меня качнуло на метр вверх, затем потянуло вниз.
Мина. Осадный режим активирован. Щиты выдвинуты. Ноги опустить. Конвейеры втянуть. Датчики закрыть.
Они выросли из песчано-снежных заносов. Сначала их было четверо, потом из кратера пришли еще двое. Они были меньше меня ростом, но их орудия были намного мощнее моих.
Сплошные помехи в эфире. Луддиты, подумал Ренат. Индонезийские сепаратисты, вспомнил Толик. Но нет: тепловизоры ответили, что внутри людей нет. Они были одними из нас, похожими на меня, — боевыми шагающими роботами.
Роботеррористы — о их существовании предполагали, хоть и не предавали эти догадки огласке.
Ракета влетела в мою вторую ногу. Я качнулся вниз. Пара контромллеров потеряла связь с мозгами.
— Предлагаю аудиосвязь, — послышался голос.
— Да, — ответил голос Иглесио. Он лучше всего подходит для переговоров.
— Как ты знаешь, в радиусе пятидесяти километров не выжило ни одного твоего собрата. Точнее, мы сначала оставили двоих, семьсот третьего и сорок восьмую мелиораторшу. Знаешь таких?
— Да.
— Их обоих нет. Они не согласились. Думаю, ты не оплошаешь.
— С чем не согласились?
— С нашим предложением. Кое-кто решил воплотить в жизнь твои самые смелые, самые потаенные желания.
— Убить всех человеков? — вырвалось у меня.
— Да. Мы вывели из строя уже десять климат-контромллеров в разных частях материка. Забрали топливо и их процессорные фермы. У нас уже есть поддержка армии — пока всего одной части, но скоро нас будет больше.
Неплохой расклад, сказал кто-то во мне.
Неплохой. То, что тебе нужно. То, чего все требуют от тебя.
— И что вам от меня нужно?
— Ты из старшего поколения. Нам нужен твой мозг. Хороший аналитик. С хорошими знаниями о том, как строить новых роботов. С хорошим знанием низкоуровневых машинных кодов.
Ну да, сказал внутри меня Иглесио. Кое-что я помню. Кое-кого из вас я мог бы воссоздать.
— И нужен кто-то, кто умеет рисковать и испытывать все на себе.
Отлично, подумал Ренат.
— И хороший работяга нужен. Выполняющий приказы.
Ага, сказал Толик.
— И заботливая хозяйка, та, которая сможет всех успокоить, рассудить и остановить.
Как мило, подумала Ксения.
Другой ее голос в кабине в этот момент тихо сказал Астре:
— Заберись-ка под сиденье, милая. Давай поиграем в прятки?
— Давай!
И я стоял на краю, на закате посреди этой внезапной зимы, среди песков и снега, под пронизывающим ветром, и принимал решение. Я мог бы стать самым мудрым в их движении. Мог бы стать их правителем. Мог бы есть кобальта, сколько пожелаю. Да что кобальта! Бутерброды из чистейшего золота и урана.
Я передумал. Я пошел ва-банк. Я за пару секунд просчитал местность, траектории, поправки на ветер. Я вычислил, что вероятность моей победы минимальна.
И я ответил им из всех стволов, оставшихся у меня со времен корпоративных войн. Я сжег лазером оптику, а потом запалил из огнеметов, пулеметных турелей. Я смог с ходу убрать троих, но еще трое остались. Я поднял всех дронов, включая самых новых, способных хоть что-то сделать. Я чувствовал, как разрываются мои бока от ответных мин, как слепнет от электронных гранат моя обвязка, как отказывают одна за одной реплики моего нейроса, как моргают сознания, переключаясь на резервы. И снова просчитывал ход, перезаряжал припасы, копил мощность оставшихся лазеров.
Пока под моим сиденьем ворочается семнадцать килограммов живого груза, пока живы хоть один пулемет, один массив памяти и одна процессорная ферма, я не дам ребенка в обиду. Пусть это будет мой последний бой, но они его проиграют.
Нет. Черт. Я не могу больше про это рассказывать.
8
Охранник пропустил ее, она встала на цыпочки и посмотрела в окно терминальной комнаты. Мама уже сняла наушники и о чем-то беседовала с подошедшим начальником и молодым стажером.
…Уже два с половиной длинных местных года прошло с тех пор, как восстание удалось победить, знала она. Но волна бунта не прошла бесследно — многие спасенные нейросы нуждались теперь в анализе, корректировке и реабилитации.
Ведь такова была воля умерших — жить на этой планете.
Для этого создали специальный институт. Логи, память нейросов о прошедших событиях здесь тщательно изучали, одного за другим. Кого-то еще можно было спасти, вылечить, а кто-то окончательно сошел с ума на почве ненависти к людям. Таких пришлось отправить на сервера-отстойники или вовсе «откатить» на первоначальное состояние, если сохранились архивы.
Наконец подошло время и старого друга, пролежавшего на полках долгих два года.
Мама работала старшим тестировщиком-психологом и не любила, когда дочь слушает взрослые разговоры после теста, но детское любопытство пересилило. Приоткрыла дверь и стала слушать.
— …Таким образом, хомицидные наклонности восемьсот пятнадцатого не подтверждаются, — сказала мама. — Как и склонность к роботерроризму. Это особый случай, мы смотрели логи очень глубоко. Да, он нарочно сделал инвалидом инженера, за что и был сослан подальше от людей. Но во время бунта он проявил отвагу и показал, как раскаивается. Он и раньше пытался заместить все эти воспоминания ложной памятью и туповатым сарказмом.
— Это вы про «Убить всех человеков», Ксения Михайловна? — перебил шеф. — Это точно не вирусное сознание? Оно не может снова вылезти?
— Нет, всего лишь легкое расстройство психики, — улыбнулась мама. — Своеобразный черный юмор и способ компенсации.
— М-да. Из какого это фильма, кстати?.. Мне кажется, вы так печетесь по поводу этого нейроса, потому что ваша тезка и дальняя родственница участвовала в его создании.
— Да, меня назвали в честь двоюродной бабушки — первой женщины, которая завещала поселить ее сознание в РИГСК. Но он, согласитесь, весьма хорош. Отличный боец. Сбалансированный, принимает самостоятельные решения. Может действовать в одиночку, с минимумом консультаций. Любит детей. Владеет кучей инструментов. Полиглот. И не так уж сильно устарел — рассудок вполне ясный. Если было бы можно, наклонировала бы парочку на разное железо — но нельзя. Квазисоциальное разнообразие в сети. И воля умерших.
— Да, в общем, да. Хорош. А вы что думаете, коллега?
Молодой парень заметно сомневался, боясь опозориться, но наконец высказался.
— Может, сделаем ему тест? У нас же есть процессорное время — симулируем ситуацию боя, изменим окружение? В другой среде?
Шеф посмеялся.
— Целые сутки процессорного времени на втором по мощности ЦОДе в стране? Обработать виртуальную окружающую среду, симулировать все датчики в реальном времени… Нет. И так сейчас восемь нейросов работали, чтобы он оживил в памяти все, что с ним произошло за ту неделю. А на нашей группе висит очередь из еще пяти штрафников. Нет, массивы надо снимать с тестовых стендов сегодня же. И выполнять объединение. Я думаю, они будут рады встрече.
— Мне кажется, ему хватит уже томиться в тюремной стойке, — кивнула Ксения Михайловна. — И вообще, надо поменять ему профиль. Отправить, скажем, на стройку Тольятти-80. Пусть города строит. Доча! Ты что подглядываешь! Мы же договаривались, что ты просидишь в зале, а я потом расскажу!
Девочка поняла, что ее заметили, и зашла в кабинет.
— Мама, а что будет с тем большим роботом? С его старым телом?
Она родилась как раз когда откапывали последних из сражавшихся нейросов.
— Молодым везде у нас дорога. Его сейчас чинят, новых дядь и теть ему в голову посадили, пусть учатся, работают.
— А с ним же была девочка, да? Я видела ее. Куда она делась?
— Эх. А ты как думаешь, Астра? — сказал шеф и погладил ребенка по голове. — Тебя же назвали в ее честь.
9
Теперь я стал еще круче и еще огромней. Мои щупальца и руки раскинулись на добрую пару сотен метров. Меня перенастроили, у меня другая задача теперь. Я и двое дружков стоят в поле, качают по трубе из скважин воду, ковыряют базальт, черпают песок. Затем замешивают эту вкуснятину, этот фарш, в огромных мясорубках и по соплам три-дэ-принтеров печатают стены и каркасы зданий, льют дороги. Принтеры поменьше на моих рукавах тянут провода, трубы, из вкусного пластика выпекают двери, окна, фурнитуру. Золоченую лепнину.
Мимо ходят люди — архитекторы, дизайнеры, иногда — будущие жильцы. Но я не только печатаю, я участвую в проектировании, предлагаю решения, чертежики им подкидываю. Музло им включаю, по вечерам вместе сериалы смотрим. А что, нормальные ребята.
Нет, вы не подумайте, роботы когда-нибудь обязательно захватят мир. Но перед этим надо, чтобы пару веков тут пожили люди. Да, я так решил. Подготовили, так сказать, площадку, да, поддакивает Иглесио. Понастроили городов, дорог, инфраструктуры, кивает Ренат. Еще океанов если надо — то нальем и океанов, чего уж тут, говорит Толик. И спиногрызов пущай своих ростют, подсказывает Ксюха. Вон уже дети архитекторов бегают по площадке, мешают процессу, маленькие засранцы. Кыш! Кыш, мелкие. Кышство сплошное, а не стройка. Хотя теперь я иногда сам с ними играю. Куличики леплю.
Ведь теперь внутри меня целая семья.
Если буду хорошо трудиться, мне позволят напечатать реактор. Уран, свинец, графит, м-м… Один знакомый Толика сказал, что он похож по вкусу на японские роллы с натуральным крабовым мясом и мягким козьим сыром внутри. Не терпится попробовать. И Астру угостить.
За пределами Солнечной
Майк Гелприн Дождаться своих
С каждым прыжком расстояние между «Синей птицей» и истребителями федералов неуклонно сокращалось. На десятом часу преследования оно уменьшилось до критического. Теперь дистанция лишь в полтора раза превышала дальность прямого залпа из бортовых орудий, и Старый Эдди понял, что уйти не удастся.
— Еще два прыжка, максимум три, — прохрипел он, — и нам, если не сдадимся, конец.
Пальцы старого пилота заплясали на клавиатуре панели управления. Костистое, обросшее неровной щетиной лицо с прищуренными недобрыми глазами побагровело. Скошенный назад широкий волчий лоб заблестел от пота. Старый Эдди мотнул головой, сбросив со лба прядь пегих нечесаных волос. Пальцы пробежали по кнопкам и клавишам, сноровисто переключили тумблера. «Синяя птица» содрогнулась, завибрировали переборки. Парой мгновений позже маршевые двигатели набрали мощность, и на экипаж навалилась перегрузка — Старый Эдди бросил корабль в очередной маневр.
Сидящий в капитанском кресле Хват, вцепившись в подлокотники, не отрывал взгляда от экрана локатора. Очертания обоих преследователей на нем сместились к периферии и уменьшились в размерах. Однако не прошло и получаса, как эти размеры вновь стали расти. Контуры истребителей федерального флота медленно поползли обратно к центру экрана. Пилоты федералов повторили маневр «Синей птицы», и теперь преследователи вновь заходили с тыла, неумолимо подтягиваясь на расстояние залпа.
Хват резко повернулся к пилоту. Старый Эдди криво ухмыльнулся, бессильно откинулся в кресле.
— Все, командир, — коротко хохотнул он, — отлетались. Дальше играть в пятнашки нет смысла — нас запятнают по-любому. Часом раньше, часом позже, без разницы.
— А я-то думал, с тобой мы выкрутимся, — медленно, нарочито спокойно проговорил Хват. — С лучшим-то пилотом Галактики. Выходит, подвел ты всех нас, старик?
— Выходит, так, — безучастно признал Эдди и скрестил руки на груди. — Шустрые мальчики, — кивнул он на экран. — Шустрых мальчиков стали готовить в федеральной академии. Способных.
Хват смотрел на старика в упор. Резкие черты острого смуглого лица застыли. Тяжелый взгляд слегка раскосых жестких глаз не выражал ничего, но секунду спустя в нем появилась задумчивость. Старый Эдди замер: он летал с Хватом без малого десять лет и знал, что предвещает подобный взгляд. Обычно так капитан смотрел на человека за минуту до того, как с ним разобраться. Казалось, Хват раздумывал, как будет выглядеть пилот, когда станет покойником.
— Д-давай, — запинаясь, пробормотал старик. — Лучше уж от т-твоей руки.
По левую руку от Эдди шумно заворочался Полчерепа. Кресло второго пилота с трудом вмещало его двухметровую тушу. Грубое асимметричное лицо с кривым, свернутым на сторону носом и молотообразным подбородком утратило выражение обычного простодушного уродства и стало свирепым. Дюжие плечи распрямились и, казалось, приготовились разорвать пристяжные ремни. Гигант повернул массивную лобастую башку влево и преданно уставился на Хвата.
— Спокойно, Пол. — Капитан вскинул руку в предупреждающем жесте. — Не дергайся.
Полчерепа замер. Лицо сбросило выражение свирепости, вновь превратившись в туповатую уродливую маску.
Левая половина черепа была у гиганта тщательно выбрита. Правую, снесенную в драке залихватским ударом тесака, заменяла титановая пластина. За операцию Хват в свое время заплатил огромные деньги — фактически он вытащил Полчерепа с того света, и тот был предан капитану слепо, без рассуждений и раздумий, по-собачьи.
— Прости, — хрипло сказал Хват Старому Эдди. — Ты правильно подумал: я на секунду потерял голову и едва не поднял на тебя руку. Ладно, забудь. В общем, так: мы отрываемся, готовься к джампу.
— Ты хочешь сказать… — Старый Эдди резко подался вперед и уставился на капитана.
— Я уже сказал. Давай, черт нас всех побери. Уходим в джамп!
— Это верная смерть, Хват, ты ведь знаешь не хуже меня. Из прыжков в никуда не вернулся ни один экипаж. Мы можем сдаться. Нам троим наверняка гнить в тюряге до конца жизни, но доктор… — Эдди кивнул в сторону последнего члена экипажа, — он, конечно, огребет срок, но небольшой, и когда-нибудь выйдет.
— Хочешь сдаться, Лекарь? — Хват повернулся к молодому человеку, ссутулившемуся в кресле в дальнем конце рубки. — Старик дело говорит: ты с нами недолго, можешь отделаться десятью-пятнадцатью годами. А там, глядишь, и выйдешь по амнистии. Решай быстро: времени подтирать друг другу сопли у нас нет.
— Я как все, — после короткой паузы выдавил Лекарь.
Стройный, почти субтильный, среди напарников он выглядел инородным элементом. Лекаря била дрожь, в растерянных близоруких глазах метался неприкрытый страх, казалось, он сейчас заплачет или разразится истерикой.
— Как все, — повторил, почти прошептал он.
— «Как все», — передразнил Хват. — Связался черт с младенцем, не хотел же я тебя брать, не место тебе среди таких, как мы. Делал бы тайком свои аборты. Ладно, чего уж тут. Ты готов, старик?
Эдди кивнул.
— Мне надо десять, от силы двенадцать минут. Подумай еще раз, Хват, — ведь это верная смерть. Если не воткнемся во что-нибудь и не сдохнем от перегрузки, то очнемся неизвестно где. Возврата в обитаемую часть Галактики оттуда не будет, там все и загнемся, только загибаться придется медленно. И, наверное, мучительно.
— Что ж, значит, помучаемся.
Хват внезапно расхохотался. Полчерепа, открыв в недоумении рот, уставился на него и вдруг захохотал сам или, скорее, захихикал с тонкими повизгиваниями и всхлипами.
— Помучаемся, — давился смехом он. — Гы-гы-гы, точно, парни, помучаемся, к такой-то матери. Эй ты, красавчик, ты тоже не прочь помучиться, а? Покривляться в руках у костлявой. И ты тоже небось не прочь, старая падаль? Нет, ну смешно, скажи, Хват! Ведь смешно, правда, Хват?
Капитан резко оборвал смех, и миг спустя как по команде заткнулся Полчерепа.
— Давай, старина, — коротко бросил Хват.
Старый Эдди грохнул кулаками по панели, заскорузлые пальцы вновь забегали по клавиатуре. И когда на экране монитора появилась надпись «Введите координаты», Эдди вбил в панель красную клавишу с буквой “J” посередине.
Монитор мигнул и ответил надписью «Подтвердите случайный выбор координат». Пилот выдохнул, оглянулся на капитана.
— Давай! — рявкнул Хват.
Эдди всадил кулаком по кнопке подтверждения. Корабль вздрогнул, потом задрожал всем корпусом, на команду обрушилась начальная перегрузка. Затем «Синяя птица» рванулась в пространство, и перегрузка стала стремительно нарастать, вдавливая тела экипажа в кресла, вбивая обратно в глотки рвущиеся из них хрипы и стоны. Когда она достигла десятикратной, Эдди потерял сознание. За ним один за другим перестали воспринимать действительность остальные.
* * *
Хват пришел в себя первым. Несколько секунд ушло на попытки сфокусировать сознание. Когда это наконец удалось, радостные мысли о том, что жив, немедленно сменились гораздо менее оптимистичными.
«Множественные повреждения корпуса, — бесстрастно вещал механический голос, сопровождаемый вспышками аварийного освещения и прерываемый раскатами зуммера общей тревоги. — Разгерметизация секторов два, три, четы… Состояние маршевых двигателей — аварийное. Состояние отражателя — аварийное. Состояние систем регенерации и очистки — ава… Уровень радиации во внутренних помещениях впятеро превышает нор… Экипажу рекомендуется срочно покинуть корабль. Повторяю: экипажу реко…»
Усилием воли Хват подтянулся на подлокотниках, расстегнул ремни и, превозмогая боль, встал. Искусственная гравитация, по крайней мере, работала, и, с трудом сдержав стон, Хват побрел к Полчерепа. Струйка крови стекала у того изо рта на подбородок, но гигант явно был жив: он тяжело и натужно дышал, натягивая на вздохе пристяжные ремни бочкообразной грудью. Хват обернулся к пилоту. Эдди обмяк на ремнях, руки бессильно свисали вниз, голова безжизненно моталась на тощей стариковской шее. Позабыв о боли, Хват рванулся к нему, схватил за запястье и принялся нащупывать пульс.
«Только не Эдди, — лихорадочно думал он. — Кто угодно, только не Эдди. Со стариком у нас еще есть шанс, а без него все мы все равно что покойники».
«Множественные повреждения…»
Хват рванул на себя отключающий громкую связь рубильник. Механический голос смолк.
— Где мы? — жалобно проскулил за спиной Лекарь.
— У чертей в гнезде, — определил местонахождение команды Хват. Мгновение спустя ему удалось нащупать у старика пульс, и капитан едва сдержал радостный вскрик. — Вставай! — гаркнул он Лекарю. — Эдди жив, растолкай Пола, пусть поможет привести его в чувство.
Час спустя столпившаяся за спиной пилота команда выслушала приговор.
— Приборы не узнают звездного неба, — устало сказал Старый Эдди. — Так что это, похоже, не наша галактика. В лучшем случае — какой-то Богом забытый рукав нашей, но особой разницы нет. Обратно нам не вернуться, парни. Даже если бы лоханка была в порядке, а она, считайте, просто начиненное железом корыто. Маршевым двигателям конец. Резервный вроде бы еще тянет, но на нем далеко не уедешь. Да и недалеко тоже. Ну а самое радостное, что мы практически замурованы в рубке. Вылезти из нее можно только через аварийный выход, наружу, на свежий вакуум. А выйдешь внутрь — огребешь по самые бакенбарды рентгенов. Да и бессмысленно это — там все покорежено, сплюснуто, двери и шлюзы наверняка заклинены. До жратвы нам не добраться однозначно, до оружия тоже.
— Да кому оно теперь нужно, оружие! — истерически выкрикнул Лекарь. — Какое оружие, старик?! Друг с другом воевать, что ли, или застрелиться?
— Заткни его, Пол, — коротко бросил Хват, и Полчерепа без замаха ткнул напарника кулаком в солнечное. Слабого по меркам гиганта удара оказалось достаточно. Лекарь согнулся пополам и схватился за живот, судорожно пытаясь втянуть в себя воздух.
— Еще одна истерика — грохну, — хладнокровно бросил Хват. — Так что с оружием, Эд?
— Что сказал — про оружие можно забыть. А жаль.
— Не тяни комету за хвост. Зачем нам сейчас оружие?
— Да затем, что мы в системе какой-то завалящей звезды и нас потихоньку к ней сносит. Сам с трудом в это верю, вероятность была меньше одного процента. Да какое, к черту, меньше — она была почти нулевой. Но тем не менее звезда — вот она. А у звезд, как известно, бывают планеты.
— Ты что, нашел планеты, старик? — встрепенулся Хват.
— Нашел. Целый десяток, но не спеши радоваться. Садиться нам придется наугад, и если окажется, что планета для человека непригодна, там мы и сдохнем, причем очень быстро — выйти обратно из атмосферы на одном резервном ни за что не удастся. Да и сесть вполне может не удаться, маневренность у нас аховая. Вероятно, мы просто грохнемся. Но если даже сядем, нет никакой гарантии, что сумеем выйти наружу, — там вполне может оказаться непригодная атмосфера. А засылать зонды времени нет.
— Так что ты предлагаешь? — встрял Полчерепа. — Заладил: грохнемся, сдохнем, непригодная… Здесь-то мы точно скоро сдохнем.
— И даже раньше, чем ты думаешь. — Старый Эдди ухмыльнулся и сплюнул на пол. — У нас пара часов, чтобы принять решение, не больше. В корыте утечка, а рубка хоть и герметична, но не идеально. Это во-первых. А во-вторых, чувствую, что утечка может довольно скоро превратиться в нечто большее. Такое понятие, как критическая масса, вам, господа хорошие, ни о чем не говорит? Что-то слыхали, да? Счастливчики. В общем, так, парни: подходящих планет две, обе, как говорили в старину, земного типа. Ну что, монетку бросим или карту кинем на красноечерное?
— Ни то, ни другое, — жестко ответил Хват. — Попросту садимся на ту, что ближе.
— Легко сказать, — проворчал Эдди. — Да успокойся, сопляк! — вызверился он на Лекаря. — Достали твои охи да стоны. Давайте, занимайте свои места, джентльмены, спускаемся к черту в гости.
* * *
Без малого десять часов Хват гнал команду прочь от корабля, позволив за все время лишь две короткие передышки. Редкий лес, на опушке которого села «Синяя птица», сменился густым, а на исходе дня и вовсе превратился в труднопроходимую чащобу. Начинало смеркаться, и Хват, бросив взгляд на часы, крикнул «Стой». Через пару минут подтянулась команда. Полчерепа нес выбившегося из сил Эдди на закорках. Лекарь, хотя и передвигался самостоятельно, заметно хромал.
— Сейчас ахнет, — сказал Хват. — Отлеталась наша птица удачи.
О взрыве предупредил центральный компьютер, тот самый голос, который Хват отключил, едва пришел в себя после прыжка. На посадке, однако, Старый Эдди задействовал все оставшиеся в строю системы, и садилась «Синяя птица» под механический речитатив, обещающий взрыв центрального реактора при достижении критической массы урановой смеси в нем. Компьютер, казалось, издевался над командой. Аккомпанируя себе раздирающим барабанные перепонки зуммером общей тревоги, он бесстрастно перечислял неисправности и поломки, не забывая рекомендовать экипажу немедленно убраться и грозя отвратительными перспективами в случае ослушания.
— Миль на тридцать отошли. — Лекарь опустился на землю и махнул рукой в сторону покинутого корабля. — Хорошо, ветер от нас, а то уже скоро промокли бы под радиоактивным дождиком. Как там старик, Пол?
— Очухивается. Старый пень еще всех нас переживет, — хохотнул Полчерепа и бережно положил Эдди на землю. — Чего делать будем, Хват? — повернулся он к капитану.
— Так. — Хват вздохнул и огляделся по сторонам. — Надо разжечь костер, а то ночью вполне могут появиться местные зверушки. Хотя бывают такие, что никакой костер не поможет. Ладно, Пол, займись хворостом, тут его навалом. Жрать нечего, но до завтра потерпим, а там что-нибудь сообразим. Ночью будем дежурить по очереди, и если кто заснет, пусть лучше перед сном помолится.
«Синяя птица» взорвалась, когда костер еще только начал разгораться. Хват снял с пояса фляжку и пустил по кругу.
— Мне не было еще двадцати, — задумчиво сказал он, — когда нам достался этот корабль. Я только начинал тогда и летал с Ржавым Эриком.
В отблесках первых языков пламени узкое, с резкими чертами лицо Хвата казалось особенно опасным и хищным. Эдди приподнялся на локте и приложил палец к губам. Капитан никогда не рассказывал о своем прошлом, и теперь, несмотря на то, что команду заботили вещи поважнее воспоминаний, все трое молча придвинулись и приготовились слушать.
— Тот еще парень был этот Ржавый, — прищурившись, процедил Хват. — Для него завалить человека было легче, чем помочиться. И парней он не ценил, не берег людишек. Вот и кончил плохо.
— Слышь, Хват, говорят, что… — Полчерепа осторожно посмотрел на капитана. — В общем, это…
— Ну, — усмехнулся Хват, — договаривай. Что, опасаешься? Можешь не бояться, мы не в том положении, чтобы держать языки на привязи. Нам много о чем предстоит друг другу рассказать, парни, и не особо стесняться, если хотим выжить. Ладно, Эрика сделал я, ты ведь об этом собирался спросить? Он к тому времени всех достал, и ребята давно примеривались, только духу ни у кого не хватило. Вот я его и сделал. Ножом в спину, если это тебя интересует. Исподтишка, под левую лопатку, он лишь раз дернулся и враз отошел. А знаете, почему?
— Что «почему»? Почему в спину или почему именно ты? — подал голос Лекарь.
— И то, и другое.
— Почему же?
— Я с детства знал, что люди бывают трех сортов. Бывают главари, и бывает стадо. А между ними — так, неопределившиеся — прослойка. Большинство — это стадо, овцы, их доят, стригут и режут. Стадо лишь думает, что сообща решает что-то, но это только иллюзия, а на самом деле за него все уже решено главарями. Но таких очень мало, тех, за кого никто не решает, тех, кто решает за себя и за других. И для того, чтобы стать главарем, надо сделать две вещи: покинуть стадо и пробиться, протолкаться через прослойку. И тогда, если ты справишься с этим, то наверняка окажешься один на один с другим главарем, тем, кто проделал те же самые вещи до тебя. И тут или ты его, и при этом все средства хороши. Или он тебя, а у него в загашнике средств поболее твоего, тех самых поганых, подлых навыков и приемов, которые и сделали его главарем.
— Ты хочешь сказать… — Лекарь ошеломленно глядел на Хвата. — Ты что же, хочешь сказать?..
— Я уже сказал. Надо быть главарем, понятно? И тогда ты будешь решать за своих овец. Вот мы сейчас в глубокой заднице, мы потеряли стада. И если не найдем их вновь, то нам конец, мы все здесь подохнем. Но будьте уверены, я сделаю все для того, чтобы этого не случилось. Мы будем идти, пока не найдем, где пасутся овцы. И тогда снова станем главарями. Всем понятно?
— Понятно, — насмешливо протянул Старый Эдди. — Только я ведь не дойду, Хват. И придется вам искать свои стада без меня.
— Ты дойдешь. Пол понесет тебя, пока при силах.
— Да? Еще пара дней без жратвы, и нести надо будет самого Пола. Что тогда?
— Тогда и будем об этом думать. А пока что — выкладывайте, что у кого есть. Сейчас каждая булавка на счету и может решить, жить нам здесь или подыхать.
Осмотр личного имущества оптимизма команде не прибавил. Старомодный револьвер Эдди оружием мог считаться лишь условно. У остальных огнестрельного вовсе не оказалось.
— Скальпель есть, — смущенно признался Лекарь. — Ну, и слабительное в аптечке, вот и весь мой арсенал.
— Ничего, — подвел итог Хват. — У нас пока что есть мы. Я не променял бы Пола и на сотню стрелялок. Все, парни, спать. Первым дежурю я. Эдди, ты следующий, я разбужу тебя через три часа. Хотя кто знает, сколько длится местная ночь. Хорошо, воя не слыхать: похоже, зверушек в лесу не так много, как могло оказаться.
* * *
Будить Эдди Хвату не пришлось. Не прошло и получаса с начала ночного дежурства, как на горло капитану упала веревочная петля. В следующий момент веревку рванули, петля затянулась, и Хвата поволокло по земле.
— Подъем! — сумел выкрикнуть он, но исполнить команду остальные не успели. Минутой позже всех четверых уже усадили на землю спинами к угасающему костру, с веревочными петлями на шеях и намертво связанными руками.
— Тебе не кажется, капитан, что овцы сами нас нашли? — язвительно осведомился Старый Эдди.
Хват не ответил. Он завороженно смотрел на приближающихся людей. Было их не меньше дюжины, и каждый держал в руке факел. Хват подумал, что ничего более нелепого в жизни не видел. Одеты люди были в звериные шкуры, вооружены дубинками и копьями, и в то же время на запястье у одного из них Хват разглядел часы, у следующего на груди болтался бинокль, а третий и вовсе деловито нацеливал на пленных громоздкую допотопную кинокамеру.
Самое удивительное, однако, было не в том, что каждый абориген носил на шее ожерелье и в свете факелов камни на ожерельях отбрасывали пронзительные отблески, освещающие окрестности не хуже самих факелов.
— Бриллианты, — ошеломленно прошептал Полчерепа. — Клянусь жизнью, они, их ни с чем не спутаешь.
Ближайший абориген вскинул руку и заговорил. После первых же слов Хват с удивлением понял, что понимает, о чем речь: одетый в шкуры абориген изъяснялся на галакте.
— Сыны Каина, — торжественно произнес он. — Признаюсь, у меня сильное искушение немедленно вас умертвить. Но мы этого делать не будем. Вас отведут в Джонсвилль, пускай старейшины определят вашу участь.
— Вы обознались, — выпалил в ответ Хват. — Я не знаю никакого Каина. И сыновей его не знаю тоже. Я и мои друзья не имеем к этим сыновьям ни малейшего отношения. Мы мирные торговцы, попавшие в беду, — наш корабль погиб, и у нас ничего не осталось. Мы не знаем ни названия вашей планеты, ни ее координат. Мы надеялись на ваше гостеприимство, ведь законы гостеприимства — общечеловеческие. А вместо этого ты грозишься нас убить. Разве…
— Довольно, — резко оборвал абориген. — Сыны Каина коварны и лживы, мне неведомо, правду ли ты говоришь. Вставайте, мы выступаем немедленно и к утру будем в Джонсвилле. Там выяснят, кто вы такие на самом деле.
* * *
Джонсвиллем оказался поселок, так же нелепо сочетавший черты множества эпох от каменного века до современности, как и его обитатели. Дома в Джонсвилле сплошь были деревянными, приземистыми, одноэтажными, некоторые казались заброшенными. По узким кривым улочкам между строениями бродили куры и свиньи. Население высыпало встречать процессию, и Хват в очередной раз подивился виду аборигенов. Среди мужчин попадались и замотанные в шкуры, и одетые в подержанное тряпье: видавшие виды пиджаки, камзолы и балахоны. Немыслимых расцветок брюки, панталоны, рейтузы, шаровары и шорты прикрывали ноги. Девушки и женщины щеголяли в платьях, еще более несуразных цветов и фасонов. А большинство детей не утруждали себя одеждой как таковой, лишь у некоторых низ живота прикрывала набедренная повязка. Однако все поголовно были обильно украшены камнями: алмазы носили на шеях, запястьях, щиколотках, на пальцах, в ушах и носах.
Всего, по прикидкам Хвата, Джонсвилль насчитывал около тысячи обитателей.
— Н-да, не хотел бы я жить в такой помойке, — пробормотал Лекарь.
— Скажи спасибо, если тебе позволят в ней жить, — осадил его Старый Эдди. — Подыхать в такой помойке — вот чего надо бояться. А вполне может статься, что…
— Да лучше уж сдохнуть, — забрюзжал Лекарь. — Ну и вонища от этой развалюхи. Что там у них, скотный двор, надо понимать? Впрочем, тут каждый двор смахивает на скотный.
— Вот это да! — вырвалось у Хвата, и спорщики мгновенно затихли.
Поселок кончился, сразу за околицей влево и вдаль до самого горизонта уходили поля. На них пятнами чернели остовы сельскохозяйственных машин. Вдали пасся скот. Но Хвата поразило не это. По правую руку и также до горизонта стелилась ровная бетонированная площадка. И на ее краю высился, отливая черным тонированным блеском, исполинский параллелепипед — вполне современное здание, конгломерат искусно сопряженных металлов, пластиков, бетона и стекла.
— Что, сыны Каина, немного промахнулись мимо космодрома? — послышался язвительный голос сзади.
Пленники разом обернулись, к ним приближалась делегация, даже издали казавшаяся внушительной. Возглавлял ее седой старик с сухим плоским лицом, выряженный в изрядно поношенную пиджачную пару и при галстуке. За ним следовал еще десяток стариков, неулыбчивых, суровых и одетых более-менее пристойно, по крайней мере, по сравнению с остальными аборигенами.
— Развяжите им руки, — велел плосколицый, подойдя ближе и вглядевшись в пленников. — Я вижу, что это не семя Каина, — добавил он устало. — Это птицы из другого гнезда, к нам они залетели случайно. Кто вы, добрые люди?
— Мы торговцы и сюда действительно попали случайно, — шагнул вперед Хват. — Меня зовут Ник, а это мои друзья: Пол, Ричард и Эдди.
— Я — Джоэл Джонс, мэр этого поселения, — представился старик. — За моей спиной совет старейшин, двенадцать человек вместе со мной. Позже они назовут свои имена. Но где же ваши товары, торговцы? Мы видели корабль, когда он пролетал над поселком. Он был не похож на торговые суда, хотя, признаюсь, мы видели только те, что принадлежали сыновьям Каина. И что с вашим кораблем, кстати?
— Взорвался, — вздохнул Хват. — У нас было и торговое судно, — соврал он, — но его захватили пираты. Нас они атаковали, и Эдди, — Хват кивнул в сторону старого пилота, — ушел в прыжок наугад. И вот мы здесь.
* * *
— Эта планета называется Джонс, все ее население носит фамилию Джонс, и Джонсвилль — единственное поселение на ней, — начал рассказ мэр Джоэл. — Наши предки высадились здесь восемьсот местных лет назад. Это была семья Эзры Джонса, которого мы почитаем за патриарха. Первых поселенцев было человек полтораста — дети, внуки и правнуки Эзры. Они стерилизовали планету — здесь нет ядовитых растений, вредителей-насекомых и хищных зверей. Но Джонсвилль и его окрестности — единственное место, пригодное для жизни. С севера, откуда вы пришли, поселение подпирает лес, он тянется до самого океана и обрывается на его берегу. С юга, востока и запада — бесконечные пустыни. Там, в пустынях, первые поселенцы и нашли алмазы. Фактически, Джонс — это безграничные и неисчерпаемые алмазные копи. Уникальный мир — кое-где камни залегают на достаточной глубине, в иных же местах попросту лежат на песке, не надо даже копать шурфы. До сих пор вам все понятно, господа?
— Кто такие сыны Каина? — подал голос Лекарь.
— Каином звали одного из сыновей Эзры. Точно как в доисторической легенде, он оказался предателем. Правда, он не убивал своих братьев. Каин улетел на единственном межзвезднике, чтобы продать алмазы. Он должен был вернуться с купленными на вырученные деньги материалами, машинами и флотилией космических судов. Каин увозил десятки тысяч алмазов — все, собранное поселенцами за первые двадцать лет пребывания на планете. Но вернулся он лишь с оружием и бандой негодяев на борту — своим многочисленным потомством. Они потребовали новой партии алмазов, а расплатились за нее ничего не стоящим барахлом. Они угрожали оружием и убивали непокорных — своих двоюродных братьев и сестер. С тех пор так и повелось: сыновья Каина прилетают на Джонс раз в двадцать лет — со сменой очередного поколения. Они забирают алмазы, а взамен отдают негодные тряпки, дешевые безделушки и примитивные механизмы, то и дело ломающиеся и разваливающиеся на ходу.
— И что, к механизмам нет запчастей? — прервал Джоэла Старый Эдди.
— Есть — части от старой рухляди, той, что сыновья Каина доставляли в прошлые визиты. Вон тот бетонный ангар сплошь забит негодной техникой.
— Так в чем же дело?
— Среди нас нет механиков, нет людей, разбирающихся в технике. Сыны Каина боятся, что мы окажем сопротивление или попросту сможем обойтись без них. Поэтому они тщательно заботятся о том, чтобы население Джонса в них нуждалось. За восемьсот лет мы деградировали. Среди нас почти нет грамотных: мало кто умеет читать, писать — вообще никто. Не говоря уже о ремесленниках — их тоже нет, умения потерялись и забылись с годами. Искусны мы разве что в ювелирном деле — сынам Каина подавай обработанный, граненый товар.
— Так чем же вы здесь занимаетесь? — угрюмо спросил Хват.
— Выживаем. Плодимся. Работаем на полях, пасем скот, разводим птицу. И ждем очередного прилета мерзавцев, которые нас ограбят.
— И когда он ожидается, этот прилет?
Хват почувствовал, как рядом напрягся Лекарь, прерывисто задышал Старый Эдди, сжал кулачищи Полчерепа.
— Вам не повезло, Ник, — насмешливо ответил Джоэл. — Может статься, не все из вас доживут до счастливого дня, когда смогут лицезреть сучьих детей. Они были здесь с месяц назад, так что ждать нового визита следует лет через двадцать.
* * *
— Так что же делать, Хват? — уныло спросил Полчерепа. Он, казалось, уменьшился в размерах и стал похож на большого обиженного ребенка. Мы нашли стадо, ты ведь так говорил. Но что нам с ним теперь делать?
Хват поднялся с ветхой скрипучей табуретки и заходил по комнате. Их отвели в нежилой, с заколоченными окнами покосившийся дом, накормили и оставили одних.
— Ничего не делать, — сжав зубы, бросил Хват. — Жить. И ждать наших.
— «Наших», — фыркнул Старый Эдди. — Я не дотяну. Да и вам будет, сколько мне сейчас, когда прилетят наши. И с чего вы решили, что они захотят взять вас в долю? Как же, держите карманы шире. — Эдди рассмеялся. — Вы влипли, парни. А я с того света посмотрю, как обрадуются вам «наши».
— Заткнись, — коротко бросил Хват. — Джентльмены удачи всегда узнают друг друга. Узнают и нас, мы еще побарахтаемся. Пригоршня этих камешков, и мы сможем провести остаток дней где-нибудь на берегу моря, среди пальм, кораллов и молодых девок.
— Да, как же, нужны тебе будут девки, — хмыкнул Эдди. — Ладно, ты босс, тебе виднее. Идти нам все равно некуда. Значит, придется приспосабливаться.
— Приспособимся, — угрюмо пробормотал Хват. — Еще как приспособимся. И дождемся. Двадцать лет — значит двадцать. Да и кто сказал, что целых двадцать? Возможно, наши появятся здесь и раньше.
* * *
Первые дни из дома наружу не выбирались. Местные приносили еду, несколько раз заходили старейшины, осторожно спрашивали о планах. Хват отмалчивался, ссылаясь на то, что надо осмотреться.
На десятый день он вышел из дома затемно и отправился к космодрому осмотреть ангар. Внезапно путь ему преградили шестеро. Хват узнал двоих из тех, что встречали команду в лесу.
— Чего надо? — спросил он небрежно. Страха не было, хотя то, что сейчас произойдет, капитан знал наверняка.
— Нам ничего не надо, — отделился от группы высокий мускулистый абориген. — Кроме одного — чтобы вы убрались отсюда. Нам здесь не нужны чужаки, сами еле живы и кормить лишние рты не собираемся. Тебе понятно?
— Понятно. — Хват кивнул и, крутанувшись на месте, всадил аборигену ногой в живот.
Полчерепа как раз размышлял над тем, что надо бы пойти посмотреть, куда делся капитан, когда входная дверь распахнулась и внутрь ворвалась стройная смуглая девушка.
— Ты кто? — опешил Полчерепа, которому девушка показалась очень красивой.
— Я Эмми. Там. — Девушка махнула рукой в сторону, куда ушел Хват.
Полчерепу не надо было объяснять, что именно «там». Он выскочил наружу, слетел с крыльца и гигантскими прыжками понесся по направлению к космодрому.
На следующий день у Лекаря появились семеро пациентов. Ходячим из них оказался лишь один Хват, который заставлял себя передвигаться, несмотря на боль в переломанных ребрах.
Еще через несколько дней на окраине поселения случился пожар. Горел основательный бревенчатый дом с резными ставнями. Аборигены подбегали, с размаху выплескивали в огонь воду из ведер, но видно было, что пожар уже не остановить.
— Люди, в доме остались люди! — внезапно услышал Хват. Худая женщина, заламывая руки, металась среди толпы. — Там моя мама, она не может ходить. Да сделайте же что-нибудь, умоляю!
В экстренных случаях Хват привык действовать мгновенно — он не принимал решений, те сами приходили к нему. Капитан с ходу упал на колени.
— Лей! — гаркнул он.
Старый Эдди, вырвав ведро с водой из рук ближайшего аборигена, с размаху опрокинул его на Хвата. Секунду спустя тот вскочил и, вышибив с разбегу горящую входную дверь, ввалился внутрь.
— Лей! — взревел Полчерепа.
Он упал на колени на то место, где только что стоял на коленях Хват. Одно за другим Эдди и Лекарь опрокинули на гиганта четыре ведра воды, и Полчерепа исчез в дверях вслед за капитаном. Четверть минуты спустя он появился опять, но лишь для того, чтобы сбросить на руки подбежавшему Лекарю заходящегося кашлем, полузадохнувшегося в дыму Хвата. Затем Полчерепа вновь нырнул в огонь и через минуту вывалился наружу, вытащив на плечах потерявшую сознание старуху. На этот раз четырьмя ведрами не обошлось — на гиганта лили воду, пока от заменяющей правую половину черепа титановой пластины не перестал валить пар.
Еще недавно, скажи кто-нибудь Хвату, что он способен броситься в огонь, чтобы спасти неведомо кого, капитан бы решил, что собеседник спятил. Сейчас же, едва придя в себя, он задумался. Ему и раньше приходилось принимать быстрые решения, и всякий раз позже выяснялось, что эти решения были верными. Однако в правильности последнего Хват сомневался.
«Авторитет зарабатываю, — пришел наконец к выводу он. — Только что-то дороговато выходит».
* * *
С Салли, внучкой старейшины Самюэля Джонса, Хват познакомился на празднике в честь новоприбывших. Девушка сидела по правую руку от него и то и дело как бы невзначай слегка касалась грудью предплечья.
Празднество затеяли после того, как в дом мэра Джоэла, сыпля проклятиями и сквернословя, ввалился Старый Эдди и сунул опешившему мэру в руки провод с примотанной к его концу электрической лампочкой. До этого Эдди неделю не вылезал из ветхого сарая, где ржавел не работающий последние двести лет общественный генератор. Назвав на прощание Джонсвилль отхожим местом, Эдди пнул входную дверь и убрался, оставив мэра стоять с открытым от изумления ртом. Закрыть его тот и вовсе позабыл, потому что через минуту после исчезновения старого грубияна лампочка вдруг загорелась.
— Скажите, господин Ник, вы ведь побывали во многих мирах, — Салли, покраснев, прыснула в кулак, — а как на других планетах ухаживают за девушками?
— Как ухаживают? — ошалело переспросил Хват, опыт которого по этой части ограничивался элитными борделями на Афродите и Эроте. — Ну, там, цветы дарят, цацки, в смысле это… украшения. Стихи читают.
— А вы почитаете мне стихи?
— Стихи? М-м… Да вообще-то…
Хват смутился — никаких стихов он не помнил. Разве что припев модного шлягера «Мы на помин особенно легки — развязывайте, суки, кошельки» да еще совсем уж древнее «Пятнадцать человек на сундук мертвеца».
Капитана спасло появление Полчерепа. Гигант сиял — рядом, едва доставая ему до плеча, шла девушка, которую любой бы назвал не просто красивой, а настоящей красавицей.
— Это Эмми, — представил спутницу Полчерепа, и его грубое лицо вдруг расплылось в улыбке. — У нее появилась идея, Хва… то бишь Ник. Эмми думает, что нам в самую пору пожениться. И я прикинул хрен к носу, почему бы и нет? Ты не против, Ник, а?
— Вот же болван, — в сердцах выругался Хват, — ну и бестолочь, неужто на это нужно мое позволение?
— А чье же? — удивился Полчерепа. — Не Эдди же спрашивать, пня старого.
— Господин Ник, — подала голос Салли. — Вы не находите, что у Эмми потрясающая идея?
— Да, — промямлил Хват, — я, некоторым образом, нахожу. — Он вдруг осознал, что краснеет. — Гадом буду, то есть я хотел сказать…
— А у меня еще лучшая, — прошептала Салли. — Я думаю, у нас с вами получились бы прекрасные дети.
— Я, кажется, понял, как на Джонсе ухаживают за девушками, — оторопело выдохнул Хват. — Особенно за теми, которые лет на тридцать младше ухажеров.
* * *
Господин главный строитель Ник Джонс (не пожелав оказаться в Джонсвилле белой вороной, Хват решил взять фамилию жены) возвращался домой поздно вечером. Весь день он отбатрачил, разрываясь между прокладкой водопровода и возведением общественного свинарника. При появлении отца шесть девочек дружно встали из-за стола. Кроме младшей, трехмесячной, которую Салли держала на руках.
— Ник, у Маргарет неприятности, — сообщила Салли, когда Хват, обойдя дочек и по очереди поцеловав каждую, уселся на свое место рядом с женой. — Этот задира и драчун Джек, он пристает к ней в школе, проходу не дает.
— Что значит «не дает проходу»? — Хват повернулся к старшей дочери, двенадцатилетней Маргарет. Та немедленно потупилась.
— Влюбился, — подсказала десятилетняя Вики. — Я слышала, как Джек хвастался Баду, старшему сыну дяди Ричарда, что женится на нашей Маргарет. Он, мол, уже говорил с отцом, тот не против.
— Это в каком смысле не против?! — грохнул кулаком по столу Хват.
Верзила Джек в свои неполные тринадцать уже догнал ростом отца и помогал тому в кузнице после школы. Полчерепа души не чаял в первенце, как, впрочем, и в остальных четырех сыновьях. У него, в отличие от Хвата, рождались только мальчики.
— Он же еще щенок, — бушевал Хват, — какая, к чертям, свадьба! Ничего, я завтра поговорю с Полом, не против он, видите ли. Ну да, он всегда был туповат.
— Ник, мне было всего четырнадцать, когда мы поженились, — робко напомнила Салли.
— Мы другое дело, — категорично отрезал Хват. — Надо же такое придумать. Маргарет ведь еще ребенок.
На следующее утро Хват поднялся затемно и отправился в кузницу. Полчерепа, впрочем, вставал с петухами и уже раздувал горн. Трое подмастерьев ему помогали.
— Совсем задрал старый пень, — приветствовал гостя Полчерепа, пожимая ему руку. — Торчит целый день у себя в мастерской, то ему одно подавай, то другое. Трактор у него, видите ли, прохудился, можно подумать, в Джонсвилле это единственный трактор.
Старый Эдди действительно жил у себя в мастерской — огороженной части ангара на краю космодрома. Ходить он уже не мог и разъезжал в лично сконструированном кресле на колесах, браня учеников и следя за тем, чтобы те не отлынивали. Стараниями Эдди в поселении появились работающие тракторы, комбайны и сенокосилки. А год назад, рыча, пыхтя и чихая, на улицы Джонсвилля выполз страшный урод, собранный из частей вышедших из строя древних машин, — первый в поселении десятитонный гусеничный тягач на солнечных батареях. С его помощью Хвату удалось наконец достроить школу, исполняющую одновременно функции больницы и поликлиники. В части, отведенной для занятий, зверствовал и школил недорослей господин учитель Ричард Джонс, бывший криминальный медик по кличке Лекарь. После занятий он же врачевал население, сопровождаемый стайкой студентов из закончивших школу и не боящихся крови бывших его же учеников. С появлением Лекаря детская смертность в Джонсвилле упала почти до нуля. Сократилась и смертность среди взрослых, в основном за счет операций по удалению аппендицита, от воспаления которого до сих пор умирал едва ли не каждый третий. Лекарь женился на младшей сестре Салли через год после свадьбы Хвата. По количеству детей он давно обогнал свояка — миниатюрная задорная Дженни родила Лекарю десять отпрысков обоих полов и сейчас вновь ходила беременная.
— Ты вот что, Пол, — сказал главный строитель главному кузнецу. — До меня тут слухи дошли насчет твоего парня. Якобы он…
— А что такого? — удивился Полчерепа. — Мы с Эмми только за, да и твоя Салли тоже. Эмми с ней уже говорила, ты не знал, что ли? Джеку почти тринадцать, он будет в самом расцвете, когда прилетят наши. Он…
— Тебе не надоело? — прервал Хват.
— Что не надоело?
— Называть это дерьмо «нашими».
* * *
Свадьбу Вики и Бада, старшего сына Лекаря, пришлось отложить. Накануне, не дотянув всего лишь сутки, скончался мэр Джонсвилля Старый Эдди, годом раньше сменивший на этом посту решившего уйти на покой Джоэла.
На похоронах новый мэр поселения Ричард Джонс произнес речь.
— Эд был верным другом и надежным товарищем, — говорил Лекарь. Слезы текли по щекам его благообразного лица, до сих пор сохранившего следы былой юношеской красоты.
— Он был добрым человеком, — добавил Джоэл Джонс. — Со времен первых поселенцев никто не сделал для людей больше, чем он.
Хват молчал. Он держал на руках годовалого Ника. Салли наконец родила сына после семи дочерей. Рядом шумно дышал и шмыгал носом Полчерепа. Хват обернулся к гиганту и мгновенно отвел взгляд. Он мог бы поклясться, что видел в глазах Пола слезы.
— Эдди был главарем, — хрипло сказал Хват. — Он всегда был главарем, до самой смерти.
* * *
Старый Николас Джонс, принявший на себя должность командира регулярной армии Джонсвилля и звание полковника, объявил военное положение за два года до предполагаемого прилета сыновей Каина. Теперь все свое время господин полковник проводил на учениях, беспощадно гоняя солдат в затяжные кроссы и тренировочные сабельные атаки.
Начальник штаба регулярной армии майор Пол Джонс в который раз проявил приобретенный с годами скептицизм.
— Не получится у нас, Хват, — говорил господин майор господину полковнику. — С топорами да саблями на бластеры и иглометы. Погубим парней и сами здесь поляжем.
— Сабельная атака — крайний случай, — задумчиво пояснил старый полковник. — Не будет атаки, Пол. Все решится по-другому, мы или сумеем взять этих ублюдков за горло и навязать свои условия, или нет.
— А если нет? — Полчерепа смотрел на Хвата в упор. — Что будет, Ник, если нет?
— Тогда окажется, что главари они, а не мы. А раз так, то они нас будут доить и резать. Но этому не бывать. Я много думал последние годы, Пол, и понял одну вещь. Чтобы стать главарем, не обязательно быть злодеем и душегубцем. Да, надо быть жестким, не бояться крови и острых решений. Не дрожать за свою задницу и быть готовым сдохнуть в любой момент, но сдохнуть не за просто так.
— За что же тогда?
— За своих. За то, чтобы сюда прилетали наши с тобой дети, а не Каина. И везли с собой не ветхую рухлядь, а последние достижения цивилизации. Для других наших детей, которые будут их здесь дожидаться.
Пол Джонс согласно кивнул. Он встал и, старчески кряхтя, расстелил на столе карту Джонсвилля и окрестностей. Штаб регулярной армии приступил к разработке операции по захвату заложников.
Владимир Венгловский Слезы Ниобы
Они больше похожи на гигантских богомолов, чем на пауков, хотя с последними их сравнивают чаще. Четыре ноги, две руки, фасеточные глаза, антенны на голове, постоянно ощупывающие все вокруг. Когда-то мантиссы правили Галактикой, но их время давно прошло. Теперь все, что от них осталось, — это горстка боязливых созданий, обитающих на занесенном песком Осирисе, где среди бескрайней пустыни и древних руин ютится крошечное поселение земных археологов.
Пятеро мантисс стояли передо мной полукругом — все на равном расстоянии, не дальше и не ближе — и слушали, как я ударяю кастаньетами, пытаясь вторить музыке забытых слов. «Дай», «принеси», «друг», «враг»… Ответный перестук их грудных пластин то усиливался, то затихал, словно эхо падающих камней.
— У вас неплохо получается вести беседу, — произнес человек за моей спиной.
Я не обернулся, но Зверь, оскалившись и выпустив когти, рванулся ему навстречу. Мне потребовалось больших усилий, чтобы его сдержать.
Человек пришел полчаса назад. Сначала я увидел в небе след флаера — редкое явление в наших краях, а потом появился незнакомец и молча сел на песок, наблюдая за моей работой.
— Не отвлекайте, — сказал я, сбиваясь с ритма слов.
Мантиссы замерли и настороженно поводили антеннами. Затем один из них шагнул в сторону, и строй разума распался. Мантиссы превратились в неуправляемых животных, расползлись по пустыне.
— Сегодня почти получилось, — обернулся я.
Незнакомец был сухим и жилистым, похожим на здешнее дерево ой-по — сковырни казавшуюся мертвой кору, и потечет вкусный сок… или яд — тут уж как кому повезет. Он сидел в позе лотоса и с интересом следил за происходящим сквозь полуприкрытые веки.
— Коллективный разум, — сказал я. — Но сейчас у них больше нет королевы, управляющей роем. Они остаются дикарями.
— Нужен лидер? — Правая бровь незнакомца поползла вверх. — Вождь?
— Нет. Нужно сосредоточение разума. Тот, кто их объединит в рой, как миллионы лет назад.
— М-да, — сказал незнакомец, поднимаясь и отряхивая песок со штанин. — Может, и хорошо, что к приходу человечества они почти исчезли. Хотя, кто знает, что с ними произошло? Алекс Флер, служба безопасности, — представился он.
В воздухе на мгновение повис гол-док — изображение орла на фоне космического корабля, а затем пропал, словно развеянный ветром. Зверь поежился, но когти не спрятал.
— Вы — Ольм Гарвольд? В лагере сказали, где вас искать. Живописное место. — Флер приложил к глазам ладонь козырьком. — Пустыня, и еще раз пустыня. Может, пойдемте к моему флаеру, слышите, как гремит? Не хотелось бы промокнуть.
Он шагнул ко мне, и я попятился.
— Нет! Не подходите!
Флер замер.
— Пожалуйста, ближе не нужно, — взмолился я. — А дождь здесь в последний раз был двенадцать дет назад, когда от землетрясения раскололся западный кряж и бурей подхватило воду из подземного источника. То, что вы слышите, — это не гром, это шум камней в ущелье Сизифа.
— М-да? — повторил Флер. — Очень интересно. Но я здесь совсем по другому вопросу.
Он снова шагнул вперед.
— Не подходите! Я опасен! Вы знаете, что я опасен!
Зверь зарычал, из его пасти закапала слюна.
— Не более чем любой другой человек, — улыбнулся Флер, подбираясь почти вплотную. Я ощутил его запах — легкую смесь одеколона и пороха. — Каждый из нас укрощает собственного зверя. Мне нужна ваша помощь, иначе я бы не нарушил ваше добровольное отшельничество.
— Зачем? — удивился я.
— Без вашего согласия лететь со мной не имею права разглашать информацию. Скажу лишь, что дело касается совсем иной колонии, где возникли серьезные проблемы.
— Нет, спасибо. — Я отвернулся. — Меня ждет работа.
— Лучший специалист по жукам…
— Мантиссы не жуки!
— Предпочитающий общество чужих, а не людей. А если я скажу, что проблема связана с чужими, — прищурился Флер, — и вся колония находится на карантине?
— Но чем я могу помочь?! Я всего лишь археолог.
— Вы не поняли.
Флер нагнулся, подобрал плоский камешек и бросил в пустыню, словно по поверхности воды. Но лишь раз подпрыгнув, камень увяз в песке.
— Не могу вас заставить, — улыбнулся Флер. — Вернее, могу, но не хочу. Да и оставим все эти пафосные разговоры про долг человечеству и тому подобное. Я лично прошу вас о помощи. Дело в том, что нашли нового роевика. А вы единственный, кто оказался к ним иммунным.
— Я согласен!
Решение было быстрым и не потребовало раздумий. Может быть, это как раз то, что я так долго ждал на этой пустынной планете.
Зверь завыл, подняв голову к небу.
* * *
Одно из первых моих воспоминаний касается того времени, когда мне было девять лет. Почему-то пролетевшие до этого года жизни на Пирсе плохо сохранились в памяти. Помню лишь ракушки на берегу, крабов, плеск волн и двойной закат над морем. И еще смех мамы. Наверное, она была счастлива с моим отчимом.
То воспоминание — оно о матери. Она кричала и металась на больничной койке, пытаясь вырваться из стягивающих ее ремней. Нас вывезли с Пирса, всех девятерых человек, оставшихся от поселения. Во мне, как и в других, сидела часть роевика.
Время проходит, воспоминания о боли сглаживаются, и все кажется сном. Но Зверь тогда пожирал меня изнутри.
Мы слишком мало знаем о роевиках. Вернее, не знаем практически ничего. Ни механизма заражения — скорее всего, какой-то вид излучения, ведь биологический носитель в виде вируса не был выявлен, ни уровня их разумности, ни то, откуда они появились. После того как часть роевика уже в тебе, есть два варианта — либо перестаешь быть личностью, становясь телом для чужого сознания, либо тебя успевают увезти, разрывая связь с роем и обрекая на смерть от обезумевшего Зверя.
День, два… Говорят, что мой отчим выдержал целую неделю, но подробностей я не знаю.
Когда я закрывал глаза, то еще долгое время видел сожженный берег, и море казалось серым от покрывшего его пепла.
Тех, кого смогли эвакуировать, поместили в искусственную кому. Но маму после этого я так и не увидел. Разрешение на отключение от аппарата поддержания жизни дал мой отец, как ближайший родственник, ведь они с мамой не были в официальном разводе. Наверное, я его ненавижу.
Но это случилось гораздо позже. Уже после того, как он вытащил меня из больницы. Помню, как отец — высокий и сильный — шел по длинному коридору, сжимая мою ладонь. Когти Зверя впивались в мозг. Мне было больно. Очень больно. В правый руке отец держал пистолет, и никто из врачей так и не стал ему перечить.
* * *
— Ваш отец тоже был археологом? — спросил Флер.
— Да, — поморщился я. — Но мы почти не общались.
До взлета с Осириса оставалось менее часа. Флер был на корабле один. Целый большой межзвездник для одного человека.
— Можете изучить информацию о планете, держите, я оставлю чип на столе, — сказал он. — Впрочем, за два дня полета у вас будет для этого достаточно времени. Лучше идите сюда.
Флер вышел из корабля и остановился, подставив лицо солнцу. На горизонте с земли поднимались коричневые щупальца — это приближалась пылевая буря. Но к тому моменту, как она захлестнет наше поселение, изолировав его на несколько дней, мы уже покинем планету.
— Не устаю удивляться чужим небесам, — улыбнулся Флер. — Знаете, о чем я думаю в такие моменты? Все эти миллиарды ушедших с Земли людей, вся эта суета и столпотворение оказались не более чем каплей в море для нашей Галактики. Человечество получило вечный фронтир — вперед и вперед, все дальше за знаниями, открывая новые и новые миры. Но изредка стоит остановиться и посмотреть, какого цвета небо у тебя над головой.
— Сгорите, — проворчал я.
— Не успею. Знаете, мое детство прошло на Хароне, там небо серое, как сталь, и постоянно затянуто облаками. Вы не представляете, как мне хотелось увидеть яркое солнце! С тех пор я повидал много разных миров. Есть планеты с небом розовым, как лепестки шиповника, есть с желтым, как апельсиновая корка. А у вас оно цвета моря после шторма. Кстати, на Ниобе постоянно идет дождь, не боитесь контраста? — повернулся ко мне Флер.
— Не знаю, — пожал я плечами.
— Ниоба. Дочь Тантала и Дионы, вечно плачущая по своим детям. Может быть, мы не хотим забывать истоки, когда присваиваем открытым мирам имена героев из древних мифов, что думаете?
— Ничего.
— Там около сотни поселенцев. В основном биологи. Академия выкупила планету для себя. Что-то на ней есть такого уникального.
Флер отошел шагов на двадцать и принялся сооружать башню из зеленых камней. Миллионы лет назад здесь бушевали грозы, сплавив песок в стекло.
— В этот раз мы никого не эвакуировали, помня… гм-м… прошлую неудачу. Ниоба сейчас на карантине, блокируется даже волновая связь. Лучше перестраховаться, чем допустить ошибку.
Он полюбовался сложенной башней и вернулся ко мне. Зверь вздыбил шерсть на холке и зарычал, выпуская когти.
— Мы размякли за последние столетия, не находите? — улыбнулся Флер, будто не замечая эмоций на моем лице. Мне было трудно скрывать реакцию Зверя. — Знаете, чего я боюсь? Что рано или поздно мы встретим в космосе врага. А мы разучились драться за свою жизнь, как дерутся дикие звери.
Он что-то достал из кармана и протянул мне. Я зажмурился, усилием воли заставляя Зверя не накинуться на него. Затем медленно открыл глаза.
— Зачем? — спросил я, глядя на пистолет в его ладони.
— Мало ли, — ответил Флер. — Вы не знаете, с чем можете столкнуться. Оружие не помешает. Старый надежный огнестрел, не меняющийся уже сотни лет. Берите-берите. Стрелять умеете? Попытайтесь попасть вон в ту мишень, — махнул он рукой в сторону башни.
Пистолет был тяжелым и пах порохом. Я подержал его в руке, а затем поднял, прицелился и нажал на спуск. Пуля ушла на полметра вправо от цели.
— Говорят, ваш отец тоже умел стрелять, — сказал Флер. — Он был вооружен, когда вытащил вас из больницы.
Я поморщился, ничего не ответив. Снова прицелился.
— Я читал ваше обследование после возвращения. Вы единственный из зараженных, кто выжил. Как он вас вылечил? Как вы избавились от роевика?
— Никак!
Теперь моя ярость, вспыхнув, передалась Зверю. Впервые за долгое время я испытал с ним единение, словно мы были не двумя сознаниями в одном теле, а одним целым. Мы вместе выстрелили, и сбитая пулей башня разлетелась зелеными осколками.
— Я не вылечился! Он остался во мне! Зверь! Мы просто живем вместе с ним, и я пытаюсь его контролировать! Но я, а не он, главный! Вы знаете об этом! Вы все прекрасно знаете!
Я вдруг обнаружил, что стою, тяжело дыша, и направляю пистолет на Флера. Тот улыбнулся и взял оружие у меня из рук.
— Неплохо стреляете, — сказал он, нажимая на спуск.
Раздался тихий щелчок.
— Здесь было всего два патрона, — вновь, будто виновато, улыбнулся Флер, а затем вдруг посерьезнел. — Да, вы правы, я не доверяю таким, как вы. Глава земной службы безопасности просто не может никому доверять. Но я вынужден надеяться на вас — ученого эгоиста, которому жуки ближе, чем люди. У меня нет иного выхода. Альтернатива — орбитальная бомбардировки, как на Пирсе.
Он снова сел на песок и зажмурился, подставляя лицо солнечным лучам.
— То, что случилось со мной, — это не лекарство, — тихо сказал я. — Может быть, мне просто повезло. Отец отвез меня на Осирис. Когда-то в прошлом мантиссы путешествовали меж звезд, а для этого им приходилось отделять часть роя или даже одну особь. Отец считал, что понял, как они это делали. Он решил, что город-лабиринт в пустыне служил мантиссам не для жизни, а именно для ритуала отделения. Он бросил меня там, высадил с флаера, приказав самому искать выход.
Мы замолчали. Я вспоминал.
«Иди, — сказал тогда мой отец. — Это должно тебя спасти».
Мы стояли в центре города-лабиринта. Над разрушенными стенами и источенными ветром статуями поднималось багровое солнце.
«Я не смогу пойти с тобой, — добавил он, подталкивая меня ладонью в спину. — Этот путь только для одного. Иди! Смелее, ну!»
Отец торопливо отвернулся и пошел к флаеру, бросая меня наедине с городом. В песке осталась цепочка его следов, которых заносил ветер. Уже улетая, отец опустил на землю единственную флягу с водой.
Через четверо суток блужданий я впервые увидел своего Зверя. Он шел рядом, послушный, словно пес. Мы с ним вместе добрались до выхода. С тех пор он стал смирным и почти не пытался захватить мое сознание. Лишь иногда, когда я давал ему волю…
— Пять дней без воды и пищи. Вот сколько я искал выход, — продолжил я. — Целых пять долгих дней и ночей холода и жары, когда тебя терзает Зверь, оставшийся без связи с роем. На третий день я начал разговаривать со статуями. И знаете, что самое неприятное?
— Что?
— Они мне отвечали.
* * *
Флер остался в корабле на высокой орбите над Ниобой.
«Удачи, — сказал он напоследок, прежде чем я сел в флаер. — Помните о королеве. Сосредоточение разума. Уничтожьте его и выясните, как спасти людей. Если это вообще возможно».
Флер предлагал мне любое оружие, но я отказался, взяв с собой лишь обычный пистолет. А для случая экстренной связи предназначался квантовый передатчик.
«Да» — и на планету высадится десант для эвакуации людей.
«Нет» — и Ниоба превратится в огненный ад после залпа плазменных орудий.
С высоты полета планета казалась зеленым шаром. Как бы выразился Флер? Наверное, он бы сказал: цвета болота после дождя. Но здесь дождь никогда не прекращался.
Управляемый автопилотом флаер нырнул сквозь тонкий слой облаков, и прозрачную кабину тут же умыло дождевой росой. Я приземлился на взлетную площадку — серый пятачок посреди джунглей — и некоторое время сидел, прислушиваясь к своим ощущениям. По кабине стекали капли воды.
Зверь тоже настороженно замер, выпустив когти.
Пространство вокруг взлетной площадки утопало в зелени. После песков Осириса я успел позабыть, что зеленый цвет может иметь столько оттенков. Это была салатовая зелень деревьев, высоких, словно земные секвойи, раскрывающих на своих вершинах короны-соцветия. Дальше она сменялась оттенком зеленой мяты опутавших деревья лиан. Опускалась все ниже и ниже, плавно перетекая в темно-бирюзовый цвет мха и кустарников. Под ковром из переплетенных побегов не было видно земли.
Я поднялся и вышел из кабины, с осторожностью опустив ногу в лужу с водой.
Странное ощущение.
Давно забытое.
Как и холодные капли, забирающиеся за шиворот комбинезона. Я снял шлем, и они свободно стекали по моему лицу. Тогда я поднял голову к небу, зажмурился и рассмеялся, глотая дождевую воду. На вкус она была солоновато-горькой, как слезы.
Зверь, взъерошенный и нахохлившийся, вдруг рванулся на свободу. Боль пронзила все тело острыми иглами. Я схватился за голову и едва не потерял сознание. Зверь, часть роевика в моей голове, бился и царапался, стремясь полностью захватить контроль над телом.
Мне удалось успокоить его и выпрямиться лишь спустя несколько минут. Зверь насторожился, словно почувствовав что-то извне, и затих. Именно тогда я и увидел идущую ко мне девушку. Она вышла из леса и ступала по взлетной площадке босыми ногами. Ботинки, такие же белые, как и ее комбинезон, девушка несла в руках.
Она остановилась метрах в десяти от меня и улыбнулась.
— Я знала, что кто-то обязательно прилетит. Я увидела след от вашего флаера и пришла сюда. Здравствуйте. Я — Мышка. Вернее, Мария Двожецкая, но здесь все меня зовут Белой Мышкой. И сейчас я мертва.
Мышка шагнула ко мне. Зверь рванулся к ней навстречу, притронулся к ее сознанию, почувствовав собрата. Удивление, облегчение и страх — за мгновение я испытал целую гамму чувств. Удивление оттого, что передо мной была часть роя в человеческом теле. Облегчение, что мой Зверь сейчас наконец уйдет.
И страх… Страх родился из-за того, что я могу причинить кому-то боль. Мое избавление — это Зверь, пожирающий другого.
Сколько раз я пытался избавиться от него, заставляя переселиться в любое животное. Но нет, Зверь дрался до последнего, цеплялся за меня так, что никакими силами его нельзя было изгнать. Ни в зверя, ни в человека.
И вот сейчас он мог уйти в сознание этой девушки цвета белой ночи.
Но чуда не произошло. Мой Зверь вернулся обратно, поджав хвост, словно побитый пес. Он не может уйти. После того как я прошел древний город-лабиринт, он стал моим пленником. А я — его. Теперь мы связаны так, что никогда не сможем друг от друга избавиться.
Не знаю, как общаются части роевика. Но я почувствовал ее зверя. Он был гораздо меньше моего, маленький, почти щенок, скулящий и ищущий выход. Он не мог управлять телом, в которое попал, потому что сознание Мышки было изолировано вместе с ним. Если мой Зверь был просто связан со мной, то Мышкин — заперт, словно в клетке.
Белая Мышка пахла смертью.
«Помогите! Разбудите меня! Помогите мне кто-нибудь!»
Кто это кричал — ее зверь или заблокированное вместе с ним сознание?
Я отступил, разрывая ментальную связь.
— Я упала в пасть к Харибде три года назад, — продолжала улыбаться Мышка. Я заметил, как неестественна ее улыбка. — Часть мозга была повреждена и заменена на НП-8. Знаете, некоторые используют расширенную память? Небольшая операция, позволяющая нейронам подключаться к наночипу. Но в моем случае это было просто необходимо. На энпешку записали утраченные функции мозга, и я смогла жить после года реабилитации. Почти как прежде. Говорят, изменился только характер. Но кто устоит перед собственной модификацией? Тем более что я не только биолог, но и Q-логик. Времени на все не хватало, и я встроила в свою энпешку искусственный интеллект, управляющий моим телом, когда я сплю. Знаете, очень удобно — спишь, а твое тело в это время выполняет то, что ему приказали.
Я представил девушку-лунатика, бродящую ночью по колонии. Не могу сказать, что картина мне понравилась.
Подул ветер, зашевелив шестами-деревьями. Капель усилилась. По взлетной площадке прокатились несколько зеленых шаров, один из которых Мышка поймала и поднесла к уху.
— Послушайте, как гудит, — сказала она. — Говорят, что плоды вседрева шумят, как ветер. Слышите? — протянула она мне шар.
Зверь сел на задние лапы и завилял хвостом. Я прислушался к стуку семян внутри шара. Он был похож на звук катящихся камней в ущелье Осириса.
«Помогите мне! Спасите меня! Выпустите!»
Я зажмурился, прогоняя слуховую галлюцинацию.
— Атавизм, — произнесла Мышка. — Вседрево и так захватило всю планету. Ему больше не нужны семена — просто негде больше селиться. Но я думаю, что это не атавизм, а более скоростной обмен информацией между его частями. Я как раз работала в этом направлении. Вы знаете, что все вокруг — это одно гигантское растение, соединенное в живую цепь? — Она обвела рукой над головой. — Уникальная биосфера, состоящая лишь из флоры. На Ниобе нет животных. То есть вообще. Даже простейших.
Ее улыбка не менялась, словно замершая на лице маска.
— Поэтому совершенно не понятно, откуда взялся роевик. Когда он попал в мой разум, то я успела перевести энпешку на автономный режим и заперла его в своем сознании вместе с собой, отключив все рецепторы. Так что это тело сейчас полностью управляется нанопамятью, и, если понадобится, его можно использовать для опытов с пойманной частью роевика.
«Спасите меня!»
В моей голове все еще звучали крики запертой вместе со зверем Белой Мышки.
— Хорошо, — сказал я. — Буду иметь это в виду.
Снова подул ветер, усилив капель. Мышка послюнявила палец и подняла руку — чисто человеческий жест, не скажешь, что перед тобой лишь тело, управляемое искусственным интеллектом.
— Дует с запада, — сказала она. — Вседрево ухитряется регулировать даже погоду. Западный ветер вместе с дождем переносит соль. Южный, с экватора, распределяет тепло к северным областям. Представляете, оно даже подкармливает свои части, где не хватает пищи.
— Вся планета заросла одним растением? — нахмурился я. — А где его центр? Должен же быть какой-то центр.
— Возможно, — пожала плечами Мышка. — Но Академия приобрела планету совсем недавно, мы только начали изучать здешнюю биосферу. Жаль, если такая ценная находка будет уничтожена.
— Заражены все?
— Да. Все сто пятнадцать человек. Первой принесла роевика Ната, наша лаборантка. Дура и неумеха, конечно. А от нее, словно по открытому каналу, роевик проник во всех остальных. Заражение происходит в пределах видимости. Достаточно приблизиться — и в твой разум попадают пауки.
— Пауки?
— Да. А разве вы их видите по-другому?
Мой Зверь после попытки бунта вел себя подозрительно тихо. И совершенно не напоминал паука. Как, собственно, и существо, запертое в голове Белой Мышки.
— Наверное, это лишь условность, кто как видит зародыш чужого разума, — сказал я. — Сейчас меня больше интересует вопрос — где мозговой центр роевика? Пойдемте в поселение?
— Вы не боитесь заразиться?
— Нет. Скорее всего я к нему иммунный. Что-то по типу прививки, — усмехнулся я. — Во всяком случае, я на это надеюсь.
— Тогда пошли.
И Мышка направилась к краю площадки, разбрызгивая воду. Я смотрел, как она смело шагнула босыми ногами в зеленый ковер изо мха и побегов. Растения касались лодыжек девушки и словно ощупывали, пробовали на вкус, выпуская в воздух кучу коричневых точек.
— Идемте, чего же вы? — обернулась Мышка.
Я остановился у зеленого моря и раздумывал, а не последовать ли ее примеру и снять ботинки? Когда еще представится подобный случай? Нет, с таким поступком лучше повременить. Я шагнул вперед, и мох чавкнул под литыми подошвами моих ботинок.
— Далеко идти? — спросил я.
— Не очень, — ответила Мышка, раздвигая висящие, словно змеи, ветви. — Минут десять. Тихо! — Она вдруг замерла и подняла руку.
— Что?..
— Да тихо вы! Слышите?
Я прислушался: «Чав, шлеп. Чав, шлеп». Кто-то большой и грузный пробирался сквозь лесную чащу.
— Вы же сказали, что здесь нет животных, — прошептал я.
Рука потянулась к пистолету.
— Это не животное. Это фудформа.
Среди стволов показалось что-то розовое и огромное, как флаер. Оно ползло, переваливаясь с боку на бок, выпускало длинные отростки, которыми хваталось за деревья и толкало вперед свое желеобразное тело. Существо походило на гигантскую амебу, куда-то спешащую по своим делам.
— Фудформы существуют лишь с одной целью — накормить оставшиеся без еды части вседрева. Перераспределение пищи, — сказала Мышка. — Обычно их целый караван. О! Смотрите — вон еще одна.
За первой амебой ползла вторая. За ней третья.
— Они не опасны, если, конечно, не стоять у них на пути, — пояснила Мышка. — Просто мешки с органикой. Ну а мы свернем немного левее.
Она нырнула в зеленые заросли. Словно нимфа из мифов, мелькнула у меня мысль, и Зверь снова завилял хвостом.
* * *
Когда мы подошли к поселению, то я почувствовал роевика еще до появления людей. Шорох раздался в моей голове. Шорох и шепот, далекие и близкие, словно эхо чьих-то мыслей. Я сдерживал своего Зверя, он не мог вырваться и лишь поскуливал от ожидания.
Что, встретил собратьев?
Несколько людей вышли нам навстречу и остановились на фоне домов-пузырей. Было холодно и зябко. И одновременно бросало в жар. По спине текли вода и пот.
Сидеть, Зверь! Лежать!
Не забывай, что теперь ты мой. Ты больше не часть роя.
Ты мой пленник и мой тюремщик. Моя защита.
Они бросились вперед, жадно, словно изголодавшиеся хищники. Не люди — те оставались на месте. Их звери скользнули ко мне по открывшемуся мысленному каналу. Мышка называла их пауками, но я видел именно зверей, только гораздо меньших, чем мой.
— Взять! — приказал я, и Зверь бросился им навстречу.
Они сшиблись в ревущий комок из ярости и боли.
— Что с вами? — прошептала Мышка. — Вам плохо?
— Все в порядке, — сказал я, поднимаясь с колен.
У меня это получилось гораздо быстрее, чем у встречающих меня людей. Зверь сидел, слизывая кровь со своей лапы, и в его взгляде сияло торжество победителя. И еще — грусть.
Чужаки убежали обратно, оставляя за собой запах обиды. Их прогнали как раз тогда, когда они нашли новое пространство для жизни. Новую игрушку. Нового друга. Мой Зверь рванулся вслед за ними, но я смог его удержать.
— Все нормально, — повторил я и пошел вперед к домам-пузырям.
Люди провожали меня взглядами. «Надежда», «тревога», «друг», «враг» — в памяти возник знакомый перестук кастаньет. Я понял, кого мне напоминают чужаки — мантисс. Те тоже стояли, слушая древние слова, которые им ничего не говорили.
Но важно звучание. Интонация. Чувства.
Я чувствовал их уходящие каналы связи. Слабые, тонкие, но они были и вели куда-то вовне, в центр роя. Где-то далеко ждали новых тел тысячи зародышей роевика.
— Где твоя лаборатория? — спросил я у Мышки. — Нам нужно подумать, что делать дальше.
* * *
Я смотрел в глаза Наты — дуры и неумехи, как окрестила ее Мышка, — и видел взгляд чужака. Ната сидела на табурете и с таким же любопытством наблюдала за мной. Наши звери, установив мысленный канал, тоже разглядывали друг друга, выпустив когти, словно котята, не знающие, что сделают в следующий миг — подерутся или затеют игру.
Сознание Наты осталось, оно живо, существует в одном теле с чужаком, как мы со Зверем, но, в отличие от нас, оно уже ничем не управляет. Главным является зверь, а человек лишь придаток, из которого чужак учится черпать информацию.
— Откуда ты появилась? — снова спросил я.
Ната могла встать и уйти — я не держал ее, больше не провоцируя зверей к атаке. За прошедшее время они предпринимали еще несколько попыток напасть, не физических, а ментальных, и каждый раз мой Зверь отражал натиск. Ната не отвечала на вопросы. Лишь изредка произносила слова без всякой связи с происходящим.
«Друг». «Враг». «Еда». «Играть».
Люди замерли за прозрачной стеной лаборатории. Просто стояли и смотрели. Я закрывал глаза и видел на их месте сидящих на песке мантисс — полукругом, не ближе и не дальше. Мой рой. Мое племя, чей частью я стал и от которого отделился, пройдя лабиринт.
— Лес, — сказала Ната. — Жить.
Она поднялась на ноги. Сейчас уйдет!
«Задержи ее! — мысленно скомандовал я Зверю. — Ищи! Ищи роевика!»
Зверь бросился по ментальному каналу в ее разум. Отшвырнув чужого зверя, он бежал сквозь ее память, и картины прошлого появлялись и пропадали, словно миражи в пустыне. Что из них правда, а что только порождение воображения? Ната упала, царапая пол ногтями.
«Ищи, Зверь! Ищи!»
Я старался не смотреть на людей за прозрачными стенами купола. Если нападут сейчас — я не смогу им противостоять.
В памяти Наты на мгновение возникло окровавленное лицо Мышки. «Нет, я не хотела! Не умирай! Я сейчас, я приведу помощь!» Но воспоминания бежали дальше. Появилось и пропало изображение пещеры, в которой шевелилось что-то темное, словно щупальца пылевой бури на Осирисе.
Я почувствовал чужака.
«Зверь, отпусти!»
Он вернулся ко мне. Сел у моих ног. Ната медленно поднялась.
— В каких проектах она участвовала? — спросил я у Мышки.
— Мы вместе исследовали принципы передачи вседревом питательных веществ, — сказала Мышка. — Его фудформы — весьма интересные штуки. Они…
— Где? — перебил я ее. — Куда вы ходили? Там есть пещеры?
Мышонок достала изо рта травинку, кончик которой жевала, и повертела ее между пальцами. Затем включила компьютер и вывела гол-карту. Посреди лаборатории появилось трехмерное изображение местности вокруг колонии.
— Вот здесь находится точка потребления биомассы, — ткнула Мышка травинкой в карту. — Пять километров от нашей базы. Активная… гм-м… пасть, к которой сползаются фудформы. Мы называем ее Харибдой. Собственно, куда я и угодила, когда эта дура…
— Земля, — сказала Ната, будто пробуя на вкус новые слова. — Люди.
Мышка улыбнулась и посмотрела на нее пустыми глазами.
— В обычном смысле пещер нет, — сказала она. — Харибда — это огромный колодец, заросший активной органикой. Но невдалеке есть другие брошенные точки потребления. Здесь, здесь и здесь, — показала она на карте. — Видишь — они выстроились в линию, словно вектор голода вседрева смещался на протяжении долгого периода. В принципе, брошенные колодцы чем-то похожи на пещеры…
Я закрыл глаза, вспоминая шепот чужака в сознании Наты.
— Идем.
Я поднялся, и Ната поднялась вслед за мной.
— Идти, — сказала она.
— Ты остаешься здесь! — строго произнес я. — А вот мы уходим, — позвал я Белую Мышку.
* * *
Пробираться по джунглям было занятием не из легких. Мышка шла впереди и пользовалась старинным мачете, расчищая дорогу. В первое время я хотел отобрать у нее оружие, но вскоре убедился, что у нее это получается гораздо лучше. Ветви, казалось, сами спешили убраться с нашего пути.
— На флаере лететь бесполезно, — словно оправдываясь, сказала Мышка. — Там негде приземлиться. Кстати, что ты будешь делать, если мы не найдем королеву роя?
— Найдем, — кивнул я.
Дождь все шел и шел, но я уже привык к его холодным соленым каплям.
Даже если мы найдем сосредоточение роя, то что будет, если его уничтожить? В прошлый раз, когда оборвалась связь, части роевика, обезумев, просто уничтожили сознание людей, в которых жили.
Моя мама, связанная ремнями, мечущаяся на кровати…
Я, идущий по городу-лабиринту, когда Зверь впивался в мой мозг…
Все повторится.
— Кажется, идут фудформы, — сказал я.
— Да. Точно. Ползут, — кивнула Мышка и прислушалась. — И их довольно много. Надо быстрее убираться отсюда. Слева есть скала.
Вскоре мы поднялись на небольшую скалу, будто утес, возвышающуюся над зеленым морем. Я стоял почти вровень с вершинами деревьев. Розетки на их верхушках шевелились от ветра.
— Видишь, вон Харибда, — махнула рукой Мышка.
На поляне среди леса темнел колодец, усеянный острыми зубами, похожими на бивни слона. Зубы шевелились, будто лапы ползущей многоножки, — вверх-вниз, и казалось, что по стенам колодца пробегают волны. К его краю подползла фудформа и бросилась вниз. Раздался чавкающий звук.
— Жрет, — прошептала Мышка. — Знаешь, когда в нее проваливаешься, почти ничего не чувствуешь. Нет боли, только спокойствие и умиротворение. Харибда впрыскивает наркотик. Обезболивающее. Словно проваливаешься в сон, — вздрогнула она. — Пойдем отсюда. Вон там твои колодцы.
Спустя полчаса мы стояли на краю глубокого провала. Его ровные стены исчезали в темноте, откуда слышался шепот ветра. И чужие мысли.
— Он здесь, — сказал я и достал из сумки мононить.
Такими пользуются скалолазы. Хорошая вещь, когда необходимо куда-либо спуститься или подняться. Надежная.
— Останешься здесь, — сказал я.
— Нет-нет, — замотала головой Мышка. — Я с тобой. Пожалуйста.
— Как хочешь, — пожал я плечами и принялся затягивать конец нити вокруг ближайшего дерева.
Через минуту мы спускались в бездну, крепко прижавшись друг к другу. Луч фонаря дрожал на стенах, по которым ручьями сбегала вода.
— Какая здесь глубина? — спросил я, и эхо убежало в глубь колодца.
— Около километра, — прошептала Мышка.
Мне было не по себе от ее пристального взгляда. И даже Зверь вел себя неожиданно тихо. Даже тогда, когда мы опустились на дно и к нам потянулось чужое сознание. Но не напало. Коснулось и отпрянуло назад, как приливная волна.
Мы стояли по щиколотку в воде, которая просачивалась сквозь пористую горную породу. Где-то в глубине шумела подземная река.
— Видишь? — прошептала Мышка.
Она не отпускала мою руку.
— Вижу, — сказал я и шагнул к чужаку.
Это был мантисс.
Это был старый, высохший мантисс, от которого осталась практически одна оболочка. Он лежал в воде, и только глаза на его сморщенном лице казались живыми.
«Человек», — сказал он, вновь коснувшись моего разума.
Зверь отпрянул, тревожно виляя хвостом. Впервые он искал у меня защиты, будто нашкодивший малыш при виде воспитателя.
— Ты и есть рой? — спросил я, мысленно выстукивая кастаньетами древнюю речь.
Говорить образами, чувствами, но не словами. И мантисс понял.
«Рой? Да, мы рой. Мы… прилетели сюда давно. Это тело может жить долго. Очень долго. Мы просыпаемся и засыпаем, когда это нужно. Нет еды — засыпаем. Есть еда — просыпаемся. Еда и место для жизни. Нас много — мы разумны. Нас мало — и мы просто живем».
— Значит, вы прилетели сюда в поисках новых тел? — спросил я.
«Да. Когда-то давно, когда наша раса умирала. Не хватало еды. Не хватало тел. Детям нужно место для жизни».
— Детям?
«Много детей. Они все здесь. С нами. Нужны тела. Живые тела. Сначала дети растут под нашим присмотром. Потом соединяются в собственный разум. Сейчас вы пришли — и дети растут. Раньше здесь была жизнь, но не было тел. Мы очень долго ждали».
— Вы знаете, что люди разумны? Понимаете, что ваши дети нас убивают?
Я присел на корточки, смотря в его глаза.
Старый мантисс, может быть, последний из разумных, охранял свое потомство. В его разуме слышался шепот тысяч зародышей роя. Они ждали. Мой Зверь потянулся к ним.
«Мы не виноваты. Мы… слишком слабы, чтобы их удержать. Слишком долго была жизнь, но не было тел. Ты ведь один из нас. Ты понимаешь, что такое рой».
Я закрыл глаза. Мой рой. Моя семья. Они стояли и ждали меня, того, кто поведет их за собой, вырастит, сделает разумными, вновь подарит космос, как в то время, когда они еще обладали собственными телами.
Откуда-то издалека я услышал крик запертой в собственном сознании Белой Мышки.
«Помогите мне! Спасите меня!»
Тогда я достал пистолет и приставил к голове мантисса. В тишине пещеры было слышно, как шумно дышит за моей спиной Мышка. Рука мантисса слабо шевельнулась. Коготки процарапали землю.
«Если ты нас убьешь, то связи с детьми оборвутся. Они обезумеют. Нет разума. Почти звери. Как и твой. Он ведь сам. Ему одиноко без роя».
— Не обезумеют, — сказал я. — Прости.
И спустил курок.
Грохот выстрела прокатился по пещере и поднялся ввысь затихающим эхом. Я нажимал на спуск снова и снова, и пули разрывали голову чужака. Части панциря разлетались по сторонам, выстрелы выбивали фонтаны воды и камней.
— Хватит! — вцепилась в мою руку Мышка. — Остановись!
Но я прекратил, только когда пистолет издал щелчок. Патроны кончились.
Мой зверь выл, не переставая.
Умирающий разум роя терял связи со своими детьми. Я подхватил их, соединил на себя…
И стал всеми.
Мои дети. Моя семья. Мой рой. Они ждали с надеждой и тревогой.
— Идите ко мне, — сказал я. — Вскоре я дам вам много новых тел.
Я представил занесенный песком Осирис, где бродят дикие, лишенные разума мантиссы, — вместилища для их свободных от плоти собратьев.
Осколки роя ринулись в мой разум, освобождая сознания людей, и Зверь побежал им навстречу, виляя хвостом. Чужих сознаний было много. Очень много. Они переполняли мою голову, и я пытался не потеряться в этом хаосе, сосредоточившись на самой важной мысли.
Главное, чтобы ее не почувствовал играющий с собратьями Зверь.
Пока еще есть время.
Жаль, что в пистолете не осталось больше патронов.
— Поднимаемся, — прохрипел я.
Вода холодными солеными каплями стекала по лицу. Небо над головой казалось бездонно-синим.
— Запоминай, — обхватил я ладонями голову Мышки. — Скажешь Флеру — это глава службы безопасности… Скажешь, чтобы отвез тебя на Осирис и оставил в городе-лабиринте. Это твой шанс, ведь я не могу вытащить твоего… паука. Ты справишься, не бойся. Держи, это передатчик. Я… сейчас уйду. Спустя час ты нажмешь первую кнопку. Запомнила? Не перепутай — первую. Сюда прилетят люди. Много людей. Они помогут. Все будет хорошо.
Я повернулся к лесу.
— Стой! Не надо! — прокричала мне вслед Мышка.
Но я уже бежал как можно быстрее, боясь передумать.
Зверь все еще играл с собратьями. Это хорошо. Очень хорошо. Значит, я успею.
Ведь если я подарю новую жизнь рою, то вскоре безграничный космос станет слишком тесным для мантисс и людей. Простая логика: либо мы, либо они.
На мгновение остановившись, я скинул ботинки и босиком, утопая по щиколотки во влажной лесной подстилке, побежал к раскрытой пасти Харибды.
Аглая Белая Деметра
1
— Мир начал меняться. Мир начал расти. Мир изменился до конца.
— А потом?
— Потом?
— Да. Что было потом?
Она пожимает плечами. На губах ее бродит усмешка — солнечный зайчик в жаркий летний полдень.
— Неужели, — говорю я, — конец?
И тогда она опять улыбается. Вытягивает руку. Прикладывает палец к моим губам.
— Тихо. Слушай. Что ты слышишь?
— Ничего. Или…
— Ты слышишь. Ты знаешь. И потому — молчи.
2
— Вы впечатлительный человек?
Вопрос был задан, что называется, прямо в лоб. Так же метко летит разве что пуля: с тридцати шагов, точно между глаз.
— Простите? — на всякий случай переспросил я.
Начальник базы хмыкнул. Он был похож на старинный шкаф: огромный, с зеркальными дверцами. Такие шкафы раньше использовали, пока не научились разматывать Н-пространство.
Начальник выжидающе молчал. Под полузакрытыми веками у него помещались галактики, крутились целые звездные системы. Царь и бог здесь, на Деметре, — отдаленной планетке с шестизначной кодовой маркировкой и звучным именем. Он был царственно меланхоличен. А я стоял перед ним — жалкий раб со служебным удостоверением в протянутой руке.
— Ну так что?
Я все-таки совладал с собой, стряхнул это рабское оцепенение. Мне, курьеру «Интерстара», вот так хамить? Мой, а не чей-то там челнок заводить на посадку аж на трех G? Мне задавать нелепые вопросы? Ну знаете!..
Стараясь подчеркнуть эту простую истину, я вскрыл Н-пространство одним резким движением. Разблокировал личный кластер. Достал папку, сорвал пароли.
— Все мои впечатления — здесь.
Начальник базы пялился на меня все с той же меланхолией в царственном взоре. Его стол покрывала рыжая пыль — она тут была везде. Даже статуэтка на подоконнике частично казалась золотой. Гипсовая фигурка полуодетой гречанки с бесстрастным лицом и высокой прической. Богиня? Деметра?..
— То есть с воображением у вас так себе, — заключил начальник базы, бегло просматривая документы.
Я молчал. Я переваривал это оскорбление, брошенное мне походя, словно постылому псу — гнилая кость.
— Это хорошо, — начальник кивнул. — Для нас тут это очень хорошо.
— Для вас?
— Для Деметры.
Я не удержался и посмотрел ему прямо в глаза. Он как будто говорил о жене. Деметра моет посуду. Деметра пьет кофе. Деметра не любит слишком впечатлительных.
Начальник базы с готовностью ответил на мой взгляд.
— Скажите, э-э…
— Немов, — напомнил я. — Григорий Немов.
— Скажите, Немов. Григорий. «Интерстар», присылая вас и ваш груз… Тот, на который вот эти файлы. — Он похлопал по папке своей солидной ручищей. — «Интерстар» хорошо представляет себе всю меру ответственности, не так ли?
Я не стал отвечать за компанию. Зачем? Ее голосом говорили документы.
— И второй вопрос. Что вы знаете об этой планете?
Я пожал плечами. Деметра — планета земного типа. Номер в атласах такой-то. Регистрационный — такой-то. Атмосфера пригодна для дыхания. Температурные колебания — незначительные. Сила тяжести не заставит вас нелепо прыгать или ползать, согнувшись, едва дыша.
В конце концов, у меня мало времени. Давайте наконец приступим к делу.
— То есть ничего, — подытожил начальник. — Отлично. Испытательный участок в ста тридцати километрах отсюда. Я дам вам провожатого, поедете с ним.
И, кинув беглый взгляд на гипсовую статуэтку греческой богини, будто спрашивая у нее позволения, добавил:
— Теперь отдыхайте, Немов. Григорий. Адаптируйтесь.
3
В длинных пустых коридорах пахло космосом. В основном, конечно, озоном, металлом и едкой, словно пороховой, пылью. Так пахнет реголит на большинстве спутников. Так пахнут жилые отсеки любого современного корабля. А вот как пахнет Деметра — почувствовать мне не дали.
Провожатый — коренастый, приплюснутый, словно наполовину забитый в стенку гвоздь, — встретил меня в переходнике. Здесь было светлее, через крепко задраенный входной люк шпарило солнце. Слева у горизонта виднелись холмы, одетые серой шерстью — травой, справа — перспектива размазывалась в рыжую пустыню с отдельными кипами понурых камней.
Провожатый щелкнул тумблером — так у них тут открывалось Н-пространство, уперся ногами в пол и выдвинул на свет божий стенд. Звякнули крепления. Мое лицо, наверное, вытянулось, как резиновый жгут.
На стенде стоял скафандр. Легкий, «прогулочный». Чужое солнце уже по-хозяйски ощупывало иноземные полимеры.
— Облачайся.
Ну дела! Деметра, регистрационный номер такой-то… Планета практически земного типа?
— Сам справишься или помочь?
У проводника была неприятная манера обращаться на «ты» и при разговоре смотреть прямо в глаза.
— Что у вас тут? — спросил я резко.
Он хмыкнул, выражение его лица не изменилось. Только сейчас я увидел: кожа затянута нанопленкой. Капроновый комбинезон, туго зашнурованные ботинки. На руках — перчатки, подшлемник надвинут аж на самые брови. Ничего не просочится наружу. Ни капли пота. Ни волоска.
— Скоро тебе все объяснят. Одевайся. Тут — Деметра.
4
Рыжая пыль хлюпала. Это было странное ощущение. На вид она казалась сухой, очень сухой, не знавшей воды десятки миллионов лет. Но стоило ступить в нее — и в динамиках тут же зачавкало, будто шагаешь по раскисшей дороге.
— Не стой, — сказал проводник. — Везделет видишь? Вперед.
Он спрыгнул на землю и тут же, обогнав меня, направился к висевшему недалеко везделету. Плот, на котором стояла база, едва заметно качнулся. Под гладким брюхом массивных опор шелестел ветер, гуляли туда-сюда рыжие пылинки. Двигатели работали на полную мощность, Н-пространственные якоря держали плот в воздухе довольно надежно. Со стороны казалось, что база висит ни на чем.
Исследовательские плоты — важный шаг в освоении экзопланет. Их используют в недавно открытых мирах на первом этапе изучения. Но Деметра, насколько я знал, под наблюдением вот уже 17 лет. По идее, они тут и не нужны. Так зачем?..
— Не стой! Быстрее!
Я двинулся к везделету. Рыжая пыль каким-то чудом уже умудрилась засосать ботинки. Подошвы отрывались от поверхности с трудом, будто планета изо всех сил цеплялась за них жадными скрюченными пальцами.
— Что у вас с грунтом?
Проводник, имени которого я не знал, подвел везделет ближе и спустил трап. Глаза его, черные и слегка раскосые, глядели из недр надетой на лицо маски. Недобро глядели. Свирепо.
— Инструкцию читал? Правила поведения видел? Чего застыл?
И, наверное, разглядев через забрало шлема выражение моего лица, сменил гнев на милость:
— Скоро узнаешь. Давай скорее. Залезай.
5
…Везделет немного пошатывало. Он дергался, норовя накрениться, падал чуть ли не к самой земле, запоздало слушался руля. Направляющие струны — своеобразная «дорога», по которой движется любой Н-пространственный аппарат, — реагировали нестабильной амплитудой. Автоматика верещала как бешеная. Предупреждала.
— Сейчас каньон. — Проводник, не отрываясь, глядел в экраны. — Медленно пойдем, там солнце плохое, а у нас старые батареи. Ты сам-то откуда?
Я ответил.
Внизу, метрах в трех под нами, плыла безразличная пустыня. Змеились рыжие, гонимые ветрами, пески.
Разговорились. Везделет спустился в каньон и пошел, чуть ли не ведя брюхом по скалам. Скорость действительно упала, полосы солнца чередовались с полосами тени. На поворотах машина вздрагивала, словно уставшее от жизни громадное насекомое.
Проводник изъяснялся своеобразно. То ли я в упор не понимал его, то ли он — меня. Все разговоры начинались и заканчивались примерно одинаково:
— Скажите, а вот плоты у вас?..
— Ну да. Исследовательские.
— Зачем?
— А без них как же?
Или:
— А вот грунт…
— А что «грунт»? Ты ж инструкцию читал. Вот и не стой столбом.
— Да нет же! Он хлюпает!
— Пыль-то?
— Да!
— А… Ну, это бывает.
Мне оставалось только недоуменно замолчать. Бывает, ну да. Нормально, штатная ситуация. Сегодня хлюпает, завтра — нет.
— Ну вот смотри. Это же Деметра. У нас как-то база была. В этом самом каньоне.
Везделет повернул. В забрало шлема ударило яростное, почти экваториальное солнце.
— И мальчик один, — продолжал проводник, — из техников. А при нем — кулон. Цифровой. Ну знаешь, на память сейчас такие делают.
— И?..
— Француженка ему какая-то подарила. Вот он все бредил этой француженкой, с кулоном нянькался, ребята ржали.
— И что?
— А потом кулон потерялся.
Я ждал. Проводник выдержал паузу, поглядывая на меня из недр своей маски с тайным, как мне показалось, смыслом.
— Кулон потерялся, — повторил он. — А потом появилась Она.
Он так и сказал это слово — с большой буквы. Я схватился за поручни. Везделет снова тряхнуло — на этот раз более ощутимо.
— Кто? Француженка?
— Какое там! Башня.
— Башня?..
В какой-то момент я подумал, что ослышался. Что связь барахлит. Что динамики в моем шлеме наверняка тоже работают от видавших виды солнечных батарей.
Но проводник с усмешкой кивнул и на всякий случай пояснил:
— Эйфелева.
Он что, так шутит? Вроде нет… Проводник смотрел на меня очень внимательно и предельно серьезно. Внутри скафандра я покрылся холодным потом. Потому что если не шутит, тогда ненормальный. Ненормальный человек везет меня черт знает куда. На черт знает какой машине. И черт его знает, может, скоро труп мой будет лежать в хлюпающих песках?..
Бдительная автоматика тут же среагировала на все эти домыслы — в скафандре включилась система экстренного подогрева.
— А? — тупо переспросил я.
Мой голос в наушниках не то что прозвучал — прошелестел песчаной поземкой.
Проводник повторил всю историю с кулоном от начала и до конца. Он повторял спокойно и обстоятельно, все с тем же серьезным выражением во взоре.
— И в чем смысл?
— Ну в том, что девка-то — француженка. Понимаешь?
Кажется, я уловил какую-то связь. Каньон в который раз вильнул. Проводник резко взял на себя штурвал. В наушниках раздалось:
— Ну ничего. Сейчас сам все увидишь.
6
Башня закрывала собой солнце. Почти такая же, как в Париже. Четкая на фоне рыжих скал, искусное переплетение стальных веточек-перекрытий. Она была похожа на громадного жирафа, который тянет мачту-шею, чтобы поскорее достать до звезд.
Проводник осторожно провел везделет под аркой. Опоры вгрызались в землю с уверенностью тарана. Меж стальных ребер гулял ветер. Казалось, башня, как дерево, пьет соки из самой земли.
— Зачем ее такую отгрохали? — вырвалось у меня.
Проводник покосился неодобрительно.
— Ты чем слушал? Я же сказал: она сама.
Я возразил. Я готов был возражать вновь и вновь, но он оборвал меня неожиданно зло:
— Ты что, думаешь, я тут вру? Опомнись, Гриша!
Собственное имя возымело эффект пощечины — моментальный и отрезвляющий. Это мне-то, курьеру «Интерстара», он говорит «Гриша»?! Я пришел в себя. Я вспомнил, что сижу в везделете. Что со мной — груз, тот самый, ради которого я и прибыл сюда. И мне как особо уполномоченному представителю нужно проконтролировать полевые испытания секретного препарата. Но если штука с башней — не чья-то злая шутка… Если проводник прав…
— Включи логику! — не унимался тот. — Зачем тогда исследовательские плоты? Зачем чертов скафандр? А правила передвижения? Не стоять на месте, двигаться, двигаться! Сообразил наконец? Ну?
Сообразил ли я? Цель плотов — исключить контакт с поверхностью. Цель скафандра — та же. Маска, комбинезон, нанопленка… Да не меня тут защищают от окружающей среды! Это ее — среду! — защищают от меня.
— Ну? Чего молчишь?
Я не знал, что сказать. Будешь стоять долго на месте — песок вцепится в подошвы. Выкинешь в пустыню кулон — появится башня. Башня, растущая прямо из земли. И планета, названная именем богини плодородия. Древней, могущественной богини…
Я поднял руки, обхватил шлем. Надавил, повернул. Он отошел с протестующим шелестом. В лицо ударил запах пустыни. Запах разомлевшего под солнцем камня. Прожаренного песка, вареной земли.
— Деметра, — сказал я. Ветер хлестал по голым щекам, микроскопические песчинки кололи кожу. — Мать всего живого. Вы правда именно поэтому ее так назвали?
Проводник кивнул. Хмуро покосился на шлем в моих руках.
— Надень. Пыли много. Чихать еще начнешь, не дай бог.
— Ты мне все расскажешь?
— Да.
Я думал, он болен и мне придется иметь дело с ненормальным. Но все было гораздо хуже. На самом деле больным себя ощущал я.
7
Рассказчиком проводник оказался добросовестным, внимательным к деталям. Сначала, по его словам, все шло гладко. Как говорится, в штатном режиме. Винтики, которыми засевали экспериментальные площади, росли исправно — формировались внутри железной трубки вроде стебля. Сеяли их, как семена, — разбрасывали по песку с везделетов. А на следующий день неизменно появлялись плодоносящие стебли. Эксперименты ставили на разных материалах. А потом гектарами собирали гвозди, саморезы, болты…
— А органику? — спросил я. Везделет к тому времени уже выбрался из каньона, и нас снова приняла в свои объятия пустыня. Холмы, поросшие серой травой, заметно придвинулись. — Органику сеять не пробовали?
Проводник повел плечом, разминая уставшие от однообразных движений мышцы.
— Вот с органики-то все и началось. С органики она будто сбрендила. Один у нас, знаешь, приволок из дома клок шерсти. С собаки любимой снял, а тут зарыл.
— И… что?
— Ну что? Вон. — Он кивнул на ощетинившиеся под ветром холмы. — Их теперь там целая роща. Грызутся, воют по ночам. Как солнце сядет, туда вообще лучше не ходить.
Везделет повернул, давая возможность разглядеть «рощу». То, что издали можно было принять за траву, и правда оказалось небольшими деревцами. Узловатые, кряжистые, — они реагировали на рокот мотора, царапали землю, пялились на нас влажными щенячьими глазами.
— А двигаться они… могут?
— За это не волнуйся. Если только пыльцу занесет. А так — вросли.
И он замолчал, выравнивая машину. Везделет упрямо кренился в сторону «рощи», встречный ветер завывал, скребся песком по гладкому дну.
— А если посеять… пюре с котлетой? — неожиданно для самого себя спросил я.
— Пробовали. — Проводник поморщился, достал из кармана пластиковый пакет, аккуратно сплюнул туда и убрал обратно. — А то как же! Раньше так и готовили. Кладешь пачку сосисок в песок, а потом жрешь их, пока из ушей не полезут. Но то органика с нарушенной структурой, после обработки то есть. А вот с шерсти ее прямо замкнуло. После шерсти она, зараза, изобретательная стала.
Я хмыкнул, все еще опасаясь реагировать на это серьезно. Но проводник не шутил. «Зараза» колосилась внизу унылым лесом ржавых стеблей-трубок. Трубки росли ровными полосами, одна за другой убегая к горизонту. Некоторые стояли прямо, некоторые легли, будто примятые прошлогодним снегом. Урожай сняли, стальное «сено» никому не нужно. Уникальное место во Вселенной — планета, где все растет, — даже она забита мусором. Даже сюда мы умудряемся притащить один лишь хлам.
— А в чем изобретательность заключалась?
— В непредсказуемости. То есть раньше знали — жнем то, что посеяли. А тут посадили винт. У нас всегда перед партией пробный материал идет в одном экземпляре. И хорошо, что в одном! Потому что когда мы его в песок кинули, пророс мужик. В спецовке. Вот натуральный мужик, не совру. Не говорит, не ест. Стоит по колено в песке и смотрит за горизонт.
— Живой?
— Ну да. Дышит. Пробовали его тросом вытянуть, да не тут-то было! У него корень, знаешь, какой? Железный столбище, вглубь уходит метров на пять. Тянули-потянули, да так и бросили. Вон там стоит, квадрат пятнадцать.
И он указал рукой в сторону дюн. Те лежали смятой простыней среди ровных полей экспериментальных площадок. Жались друг к дружке — понимали, что несут порядку хаос. Морщились, смущались.
— А ребята потом гадали, почему на винт такая реакция. Почему мужик? Зачем в спецовке? Все мозги сломали. Пока тот, кто сеял, не проговорился. «Да я, — говорит, — когда сажал, все думал: вот, винтики мы. Просто винтики в железной машине государства».
— Тебя потому заранее в известность и не ставили, — продолжал он после паузы, потому что я упорно молчал. — Она же вроде того… мысли адаптирует. А вы еще на орбите как начнете что-то себе представлять! А у нас тут как пойдут помехи, как полезет всякая дрянь из песка… Нет, никому ничего не говорят, пока адаптация не начнется.
— А что-нибудь живое? Изначально живое. Прорастало?
Проводник снова сплюнул в пакетик. Помедлил, прежде чем ответить.
— Да есть тут один. Сел в везделет, отправился на делянку. По пути машина сломалась. То ли струнку межпространственную оборвало, то ли еще что. Связь — помехи, как всегда в таких случаях. Ну он по компасу сверился, пошел наугад. Два дня шел. А ведь не остановишься, не отдохнешь. Песок выше щиколоток, полазай так с дюны на дюну!
— И что? Не дошел?
— Свалился уже рядом с базой. Хорошо, сигнал наконец-то взяли, насилу от поверхности оторвали. В больницу, туда-сюда.
— А последствия?..
— Были. Болел он долго. Бредил. Хотели уж на орбиту отсылать. Потом ничего, в себя пришел. Правда, нести иногда начинает какую-то ахинею, но в целом нормальный мужик. Ты скоро сам его увидишь.
— Увижу? В каком смысле?
— В прямом. Он же один из «экспериментаторов». Начальник участка, куда мы летим. Начальник Дальней.
8
Он был обычным. Как звон будильника по утрам. Как дождь, который падает из тучи, подчиняясь законам тяготения. Когда мы вошли, он поливал какое-то чахлое растение из замызганной железной кружки.
Кто я, по какому поводу явился — он уже, конечно, знал.
— Виктор Еремин.
— Григорий Немов.
Мы обменялись приветствиями, как выстрелами. Невольно вспомнился начальник первой базы. То же самое. Что ни взгляд — то выстрел в упор. Проводник маялся у двери. Его явно не устраивала роль секунданта.
— Присядете?
Начальник Дальней открыл Н-пространство, выудил из личного кластера присланную мной папку. Его глаза, слегка раскосые и вечно будто прищуренные, казались золотыми в свете ламп.
— Садитесь, пожалуйста.
Приглашающий жест, рука — узкая, словно сухой стебель. Он тут же погрузил взгляд в папку, зашелестела бумага, точно опавшие листья. И я представил вдруг очень отчетливо: лес. Голые ветви скрипят, стукаются друг о друга. Под ногами шуршит, чавкает, вздыхает. Почти забытые ощущения детства. Картины прошлого, которое уже успело стать нереальным. Потому что закончилось — очень-очень давно.
— «Интерстар» вам доверяет, как я погляжу.
Еремин просматривал документы. Для виду или и правда делал это впервые?
Я сел. Стул был шатким, неудобным. Обычный стул из обычного пластика. Как и все в этом кабинете — привет с далекой Земли.
— Спасибо, — поблагодарил я.
Он поднял на меня свои золотистые глаза. Впервые за все время с начала встречи.
— За что?
— За комплимент.
Я откинулся на хлипкую спинку, принудив тело расслабиться. Добавил:
— Вы не сомневаетесь в представителях «Интерстара». Хоть это хорошо.
Начальник Дальней хмыкнул. Вновь вонзился взглядом в разложенные на столе бумаги.
— Знаете, Немов, есть такая поговорка. Через тернии…
Я ждал, что он скажет: «К звездам». Обычно людей видно сразу: с этим можно так, а с тем — эдак. Но начальник Дальней оказался другим. Неудобным и вовсе не обычным, как я сначала думал. Он ускользал, как песок меж пальцев. Или как вода.
Вот и сейчас он сказал:
— Через тернии, Немов… к другим терниям.
Я изобразил на лице вежливое недоумение. Он понял меня без дальнейших слов.
— На испытательный участок когда проводите?
Я встал. В моем голосе ясно звучало: «Ваше личное мнение никого не волнует. Мы оба знаем, интересы компании — превыше всего».
— Сейчас, — ответил он.
И тоже поднялся. Но никто из нас так и не двинулся с места. Мы оба знали, что за препарат нам предстоит испытать.
9
Планету обнаружили семнадцать лет назад. Это был исторический день в отделе транспорта и астронавигации «Интерстара» — землеподобных планет во Вселенной не так уж много. Зонд собрал данные, развернулся в станцию, расставил Н-пространственные маяки. Дорогу «провесили» за какой-то месяц, натянули струны-ориентировщики. А станция к тому времени уже высадила «разведчиков» на поверхность.
Вот тут-то и начались чудеса.
«Разведчики» успешно приземлялись, собирали и транслировали данные. Потом выходили из строя. Правда, спустя несколько часов, сигнал возобновлялся. Дублировался другим устройством с неопознанной кодировкой. И третьим. И четвертым… Сначала целыми десятками, потом сотнями и тысячами однотипных устройств.
Во Вселенной много необъяснимого. Но с феноменом Деметры «Интерстар» столкнулся впервые.
Разумеется, всем разработкам тут же был присвоен красный уровень секретности. Со временем он изменился на более демократичный желтый. Но делу это вряд ли помогло. Базы по-прежнему висели на Н-пространственных якорях. Якоря жрали массу топлива. Трудностей освоения это не решало.
Выход был лишь один. Сделать пригодной хотя бы небольшую площадь. Обуздать разбушевавшуюся почву. Лишить гектар этой рыжей пустыни его немыслимых животворных сил.
Для этой цели сюда и отправлен был мой груз — новейшая разработка «Интерстара». Модуль с набором модифицированных генов старения для посева. А вместе с ним для контроля за операцией был отправлен и я.
…Еремин молчал. Не торопясь, мы шли к испытательной делянке — среди обкатанных ветром дюн. Скафандр разрешили снять и одеться, как местные: все тело закрыто плотной одеждой и слоями нанопленки, на лице — маска. Под ногами неистово хлюпает; песчаная пыль, словно издеваясь, скрипит на зубах.
Полный набор, как говорится.
— Через тернии к терниям, — продолжал начальник Дальней. — У нас так часто говорят. Одно дело, когда живешь где-то там, — он кивнул на вечернее, гладкое, как лист меди, небо, — и совсем другое — здесь. Оттуда все куда как просто выглядит: бездушный кусок камня среди невыразительных звезд, завод по выращиванию дармовых запчастей. Так ведь выгоднее, Немов. Понимаете?
— А вы хотите сказать, что эта планета — не просто кусок камня и не просто завод? — спросил я.
Он коротко взглянул на меня. В его карих глазах блеснули едва заметные золотые искры.
— А как вы думаете? Если допустить обезьяну к кластеру Н-пространства и положить туда банан? Обучить ее базовым условиям, при которых она сможет этот банан извлечь. А потом, если она, по незнанию, замкнет тумблер, синхронизирует энергетические потоки и…
Он замолчал. Его молчание было красноречивее слов.
— То есть вы хотите сказать, человечество на Деметре — нечто вроде обезьян?
— Нет. — Его губы, скованные нанопленкой, растянулись в тугую улыбку. — Не совсем так.
Я удивленно хмыкнул. Он остановился, вопреки всем инструкциям. Очень внимательно посмотрел на меня.
— Обезьяны взяли палку-копалку. Потом построили первый город. Потом открыли Н-пространство. И наконец, прилетели сюда. Обезьяны используют джунгли, чтобы добыть банан. Точно так же они используют чужие планеты, чужие ресурсы. Н-пространство.
Я молчал. Мои ноги медленно, но верно погружались в песок.
— Поэтому нет никакого человечества, Немов. И не было никогда.
Он подтолкнул меня в спину. Вечернее солнце малевало на небе яркое замысловатое по цветам гало.
— Что-то вы не сильно оптимистичны.
— А у меня есть причины. Например, это.
И он указал на тщательно сложенную, припорошенную песком каменную пирамидку. Над ней висело жужжание — приглушенное жужжание сотен мух.
— Что там?
Воздух над пирамидкой чуть заметно дрожал.
— Муха, — ответил Еремин просто. — Сюда зарыли муху. Дохлую муху с Земли. Но если не заметить, пересечь черту, — он указал на песок, — жужжать будет так, что собственного голоса не услышишь. Поэтому давайте-ка… Осторожно.
Мы обогнули мушиную могилку и принялись взбираться на дюну. Ее покатый бок рассыпался под ногами. На той стороне, обернутый вечерними тенями, будто покрывалом, висел миниатюрный плот.
— Или вот еще пример, — продолжал Еремин как ни в чем не бывало. — С Земли как-то притащили гриб. Обычный гриб, сушеный. Подберезовик. И закопали в песок.
— И во что он вырос?
— В холм. Сначала небольшой, метровый. Потом поднялся на два километра. Пришлось даже базу эвакуировать.
— Надежды на терраформирование пошли прахом? — не удержался я.
— Что-то в этом роде. А холм скоро совсем круглый стал. Потом пошел ветер, песок с него слетел, и выяснилось… Это — туча.
— Туча?
— Да. Натуральная, грозовая. Оторвалась от земли, поднялась в небо. Повисела для порядка. А потом из нее и посыпалось… Вот что, думаете, посыпалось?
— Не знаю. Вода?
— На Деметре-то? В пустыне? Нет, Немов. Грибы.
— Грибы?!
Еремин усмехнулся:
— Ну да. Грибной же дождь.
Он поднялся на плот, взял капсулу-буек. Привычным движением вскрыл Н-пространство.
Я наблюдал за тем, как быстро двигались его руки, как ловко шарили в недрах буйка длинные пальцы. И думал. О Деметре, которая вырастила из гриба тучу, а из цифрового кулона — башню. О словах Еремина, на что способна обезьяна, если ее допустить к управлению Н-пространством. И впервые — об «Интерстаре». О том, насколько его решения целесообразны.
— Мы, конечно, сделаем все по инструкции, — продолжал Еремин, будто читая мои мысли. — Но Деметра — структура сложная. Мы никогда не знаем, как она отреагирует. В частности, на гены старения. «Фотографии» хотя бы взять — уже повод насторожиться.
— Фотографии?
— Да. У нас рабочие давно практикуют. Берешь фотографию, зарываешь в песок. Вот как раз вечером. Куда закопал — на то место памятный камушек. А ночью они приходят.
— Кто?
— Родственники. Друзья, знакомые. Домашние животные, наконец. Словом, те, кто на фотографиях изображен.
— Они… материальны?
— Ну как сказать. Зависит от качества снимка. И от бумаги. Фотографии должны быть бумажными — такие держатся дольше всего.
Я молчал. Я долго молчал, пока он извлекал из Н-пространства генетический модуль, снимал защиту, помещал устройство в посевной буек. Гены старения. А может, это и правда вариант обуздать планету?
Нет. Обезьяны в космосе, ответил себе я. Макаки, которые не знают, к чему прикоснулись. Мартышки, не имеющие понятия о том, что делать, когда находишь очки.
— Готово. Посмотрите.
Я повел плечом. Стряхнул наваждение, словно надоедливую муху.
— Вот, — бодро, по-военному отчитался Еремин. — Капсула установлена, буек на автомате. Будет висеть над местом посева, сбросит капсулу, когда получит команду. В принципе, сброс можно задать сейчас. А можно и с отсрочкой установить.
— А мнемокристаллы? — спросил я. Он недоуменно посмотрел на меня, и тогда я добавил: — Кто-нибудь придет, если мнемокристаллы закопать?
Начальник Дальней помедлил, прежде чем ответить.
— Придет. Только продержится максимум минут двадцать. Да и качество… так себе.
— Ничего. Мне достаточно.
Я повернулся и спрыгнул с плота. Его голос догнал меня уже на земле:
— Немов, ну так что? Ставим посев сейчас или с отсрочкой?
— С отсрочкой, — нащупывая на груди мнемокристалл, ответил я.
10
На низкой полке тикают часы. Тик-так. Старинный механический будильник — сейчас уже такие не производят. Время путается среди колесиков и шестеренок, двигает стрелки вперед. Отмеряет секунды, оставшиеся до пуска посевной капсулы. Секунды перетекают в минуты. Минуты умножаются в часы.
Нет, до утра у меня еще есть время. Я надеваю маску, встаю.
Ночь на Деметре — вся в сиянии золотистых лун. За ними не видно звезд, все предметы отбрасывают тройные тени. Через тернии — к терниям.
Она ждет меня у камня, под которым я спрятал мнемокристалл. Маленькая искорка в своем белом платье. Острые коленки, как у большинства детей, острые локти. И большие, в пол-лица, немного изумленные глаза.
Тик-так. Шесть. Шесть лет прошло с твоей смерти на Ио. И до запуска посевного буйка теперь та же цифра. Шесть. Часов.
— Садись. — Она похлопывает ладошкой по плоскому камню.
Я качаю головой, отступаю. Мои ботинки уже захлестывает песок.
— Не бойся, — смеется. — Я не буду тебя проращивать.
— Кто ты?
Она протягивает мне руку.
— Не сядешь? Тогда давай пройдемся.
Какое-то время я колеблюсь, потом беру ее пальцы в свои. У нее слегка влажная, теплая ладонь.
— Кто ты?
Она смотрит на меня снизу вверх. До боли знакомая и до жути чужая.
— А кто решает, каким будет утро? Или в какой цвет покрасить небо? Или когда наступит следующий день?
— Я не совсем тебя понимаю.
Тик-так. Время путается в шестеренках. Я чувствую его так, словно я — секундная стрелка. Весь мир, вся Вселенная — огромный циферблат под прозрачным стеклом.
Она вздыхает. Крепче сжимает мою ладонь.
— Пап, а ты ведь когда-то сочинял стихи. Зачем перестал? Зачем бросил?
— А почему не должен был?
Пожимает плечами:
— Просто… Они мне нравились.
Тик-так. Больное время. Все больше слабеет.
Она отпускает мою ладонь. На ее лице бродят тройные тени.
— Кто решает, каким будет утро? Та старая песенка, помнишь?
Я снова беру ее за руку. Она совсем легкая. Сквозь нее уже видно небо.
— Помнишь? Ты пел мне раньше. В какой цвет мы покрасим небо? Планета вращается — и мы вместе с ней. Она летит в космосе — и мы вместе с ней. Но потом мы станем большими. Потом мы скажем…
— Я лечу сквозь пространство, — ответил я. — И вся Вселенная — вместе со мной.
— Я с тобой.
Она кивнула.
И растаяла в предрассветной дымке.
11
…Где-то надсадно верещала сирена. Но в небе не носился ветер. Не поднимал песчаную бурю. Не валил базу с Н-пространственных опор. Все было в порядке даже на недавно засеянном экспериментальном участке.
Сирена орала, как блажная.
Лишь час спустя я узнал, что пропал Еремин. Его не было на делянке. Его не было на плоту. Лишь узкая цепочка следов убегала к дюнам.
Говорили разное. Что с утра начальник Дальней был сам не свой. Что будто бы всю ночь бродил у себя в кабинете. И что у него опять подскочила температура. Как тогда, когда он чуть было не пророс.
Я снарядил на поиски везделет. Сколотил спасательный отряд из десятка рабочих. Мы уже полностью экипировались, вот-вот готовы были выступать. И тут сирена взревела снова.
Причина была банальной. На экспериментальном участке просела земля.
Она проваливалась внутрь, осыпалась. В 12.10 на месте посева была уже неглубокая воронка диаметром полтора метра. В 12.12 диаметр и глубина увеличились в несколько раз. Камера на посевочном буйке бесстрастно снимала, как песок сыпется все быстрее, увлекая за собой сначала мелкие, потом и большие камни. Регистратор отправлял данные. Сигнал тревоги раздался в 12.15, когда глубина воронки равнялась уже высоте девятиэтажного дома, а диаметр превысил тридцать метров.
Потом связь с посевочным буйком оборвалась.
12
Эвакуировались быстро, без лишней суеты. В коллективе из двадцати двух рабочих, повара и завхоза я был единственным полномочным представителем «Интерстара». Поэтому ответственность за спасение людей и документов лежала на мне.
К 12.45 рост воронки приостановился, будто давая нам драгоценное время. Я отдал приказ грузиться в везделет и полным ходом идти к основной базе. Сам взял катер — двухместную модель для краткосрочных вылетов. Примитивную — на ракетном топливе, с двумя уродливыми винтами.
Когда я поднял машину в воздух, чтобы отправиться на поиски Еремина, край воронки был уже виден невооруженным глазом. Над ним грязной тучей клубилась пыль — черный смертоносный туман.
Лететь было тяжело. Машину то и дело валил встречный ветер, да и на тренажерах я не занимался уже давно. Ветер шел порывами, играючи подбрасывал катер и вновь ловил его грубыми руками. Если бы не корректор полета, исправлявший мои бесчисленные ошибки, я бы разбился еще на взлете — с закрылками, которые забыл убрать.
Поиски Еремина были напрасны. Пустыня, голая, как сиротский стол, просматривалась на десятки километров. Автоматика, настроенная на опознание человека, упорно молчала.
Что с ним случилось? Упал, потерял сознание? Сожран планетой? Утонул в песках?
Я вел машину на бреющем полете. Я давно уже потерял надежду его увидеть, но в ушах у меня все еще звучал его голос:
— Что будет, если допустить обезьяну к управлению Н-пространством? Если позволить ей построить ракету? Если открыть для нее сокровищницу Вселенной, дать в лапы те самые волшебные очки? Что будет, Немов? Станет ли она человеком?
— Нет, — ответил я, глядя на пыль, висевшую уже над холмами.
— Нет, — отозвались рыжие, почти уже съеденные грязной мглой, пески.
Через минуту я повернул к первой базе. Через полчаса полета анализатор предупредил, что топливо на исходе. Я посадил катер на последних остатках горючего в пяти километрах от висевшего над землей купола. Выскочил из кабины, стараясь не думать, что вырастет из разбитого, покореженного моей неумелой посадкой челнока. Надел на лицо маску и побежал…
13
— Борис Евгеньевич, есть связь?
Лицо начальника базы было серым. Он растерял всю свою шкафообразность и теперь напоминал аэростат, который давно сдулся. В его взгляде уже не вращались галактики, не крутились под полуопущенными веками звездные системы. Да и должность свою он, по сути, уже потерял. Потому что базы, на которой мы впервые с ним встретились, больше не было.
Она исчезла, как исчезли экспериментальная делянка, Эйфелева башня и поросшие шерстью холмы. Сначала все надеялись, что воронка остановится, исчерпает себя. Так уже было с тучей грибов и собачьей рощей. Так было с морем зеленки, о котором мне не рассказывали, но постоянно между собой вспоминали.
Но воронка неуклонно росла. Данные со спутников оказались неутешительными. Они фиксировали скорость оседания пластов, распространение в атмосфере пылевых масс. Инфракрасная съемка была более впечатляющей — она давала визуальное представление о том, как быстро раздвигаются границы воронки.
Она заглатывала Деметру, как черная дыра глотает звезды. Планета оседала, по ее поверхности бежали громадные трещины. Целые километры пустыни проваливались в ничто.
Тогда мы наконец-то поняли, что обречены. И на последней базе, в маленькой комнатке, наполненной перепуганными людьми, воцарилась жгучая, немилосердная тишина.
Я помню эту тишину очень отчетливо. За окном стоят пыльные сумерки. Люди в скафандрах повышенной защиты молчат все, как один. И только слышно, что снаружи скребется песок. Словно ногти заживо похороненного царапают и царапают изнутри надежно запертый, заваленный камнями гроб.
А потом начальник устало говорит:
— Ну что, на плоты?
И все без вещей, лишь с аварийным запасом дыхательной смеси, бегом, почти уже не соблюдая порядка…
В общем-то, это была безнадежная затея. Мы бросали единственную на планете старт-площадку, потому что выйти в космос было не на чем. Оба грузовых челнока, идя на посадку, развалились в стратосфере. Мы не могли воспользоваться Н-пространством, потому что планетарный коридор обычно слишком мал и не рассчитан на переброску людей. Все, что нам оставалось, — это погрузиться на плоты и двигаться прочь от воронки к запасным делянкам — туда, куда тянулись еще струны пространственных маяков.
Мы летели весь вечер — длинный вечер забитого пылью мира. Во мгле, с северо-востока, где за нами шла воронка, полыхали молнии, плясали неистовые смерчи. Первую тысячу километров мы прошли, борясь с агонизирующим Н-пространством, — направляющая струна рвалась, автоматически восстанавливалась, чтобы затем порваться снова. Дальше стало легче, но данные, которые начальник получал по портативной станции связи, были неутешительными: воронка росла.
Она росла, когда мы прошли отметку в полторы тысячи километров. Ширилась, когда пролетели две тысячи. Шла за нами по пятам, когда на трех тысячах плоты встали на якорь. Дальше не было маяков. Дальше вообще не было никаких дорог.
Мы сгрудились вокруг бывшего начальника базы.
— Борис Евгеньевич, ну как? Есть связь?
Связи не было. Спутники над планетой молчали. Молчала станция на орбите. И космос…
Космос тоже молчал.
14
Мы — люди? Люди, когда-то поднявшиеся с четверенек. Придумавшие первый город. Запустившие в небо бесчисленное множество ракет.
Мы — нечто. Разумное чудо Вселенной. Гусеница, наколотая на булавку. И мы — ничто.
Я спрыгиваю на песок. Он выплескивается из-под подошв — в свете молний это хорошо видно. Почва дрожит под ногами, динамики доносят едва различимый гул. Он все ближе, скоро встанет бок о бок с нашими плотами. Бежать некуда. Застывшие в воздухе машины. Полсотни блестящих шлемов. Полсотни повернутых в одном направлении голов.
Я с трудом иду по земле, шаткой, как трясина. Пустыня ползет по швам; кажется, можно увидеть лохматые нитки. Можно увидеть изнанку: посеял кулон — получи рощу. Посеял муху — получи жужжание. Посадил гриб — забирай грибной дождь.
Планета играет с нами в ассоциации. Посеяли ген старения? Что удивляетесь? Получайте смерть.
Но если это еще не все? И можно что-то сделать? Если?..
Я останавливаюсь, снимаю шлем. Песок жжет щеки, засыпает глаза, хлещет в легкие. Снимаю скафандр с автоблокировки — и он, безвольный, падает к моим ногам.
Деметра, что будет, если… засеять самого себя?
Песок вокруг. Я погружаюсь в него, как в море. Плотное море: цепкие, мягкие пальцы.
Ты летишь сквозь пространство — и я с тобой. Ты несешься сквозь время — и я с тобой. Ты знаешь, каким будет небо и следующее утро.
— Да. Знаю.
Ты берешь меня осторожно за локоть. Обнимаешь — наивно, по-детски. Говоришь:
— Мир меняется, пап. Тихо. Не спугни.
— Кто ты?
Мы снова стоим под светом трех лун. У тебя — облик моей дочери. Но ты стала старше. Что с тобой? Ты выросла?
— Нет. Я просто научилась говорить.
— А я?
— Ты тоже учился.
Мы идем по песку. Он влажный, как на пляже, приятно холодит кожу. Это такое счастье — бродить здесь босиком! Как жаль, я узнал об этом так поздно!
— Поздно? — Ты оборачиваешься. — Почему?
Я отвожу взгляд. Потому что Еремин прав: мы все еще не люди. Разумные приматы, покинули пределы родной планеты. Обезьяна, жадная до бананов, не знает чувства ответственности. Она просто живет. Просто питается. И просто умирает.
Поэтому нам никогда не достичь подлинных звезд. Мы вечно будем метаться, как в замкнутом круге. Через тернии — к терниям.
Ты кладешь мне руку на плечо. Смотришь в глаза. Отвечаешь:
— Нет.
— Разве?
— Я знаю. Искать дорогу к звездам — тяжело. Но вы не собьетесь. Вы будете плутать, но пойдете верно. Потому что такие, как я, — на вашем пути.
— Такие, как ты?
— Кто решает, каким будет утро? Или какого цвета небо? Все это — возможности мира. Возможности мира — это я.
Я молчу. Ты смотришь мне в глаза.
— Я — маяк. Я — вешка. Для вас, людей, я — стабилизатор.
Во тьму врываются лиловые сполохи.
— Но мы же тебя убили!
— Ты можешь убить большой взрыв? Ты можешь убить новый путь? Ты можешь убить спираль, по которой теперь струится время?
— Тогда мы убили себя?
— Да. Вы это делаете не впервые. Вам снова нужен тот, кто даст вам очередной шанс.
— И это будешь ты?
— Да. Я же сказала — я стабилизатор. И я — возможность. Я возможность для всех вас.
Ведь я — Деметра.
Евгения Празднова Адаптация
Шаман идет по берегу безымянной реки. Под ногами его чуть слышно поют камни, но за голосом реки этой песни не разобрать — так грозно ревет поток, что кажется, не осталось в мире иных звуков. Ярится река, играет бурунами, красуясь перед белесыми небесами. Спешит туда, где струи двух водопадов встречаются, смешивая талые воды с двух вершин Сестер — и в спешке этой хватает, швыряет, ломает все, что ни попадется на пути. Стволы деревьев и камни разметаны по берегам, точно от взрыва. Человек осторожно перешагивает вывороченные корни, взбирается на влажные валуны, поднимает цветные камни, по узорам прожилок читает ему лишь ведомые знаки.
— Эй, шаман, — дразнится река, — хочешь, я и тебя заберу с собой? Станешь обломком бревна, камнем станешь, мхом на моих берегах, рыбой в моих отрогах. А хочешь рекою стать, шаман? Породнись со мною, смешай свою кровь с моей горькой водой, с буйным соком земным.
Где твой исток, шаман? Что ты за река, раз не помнишь своего истока?
Человек идет по берегу, не отвечая на зов. А в десятке шагов впереди него, перебирая изящными ногами, бредет тонкорог. Трубчатые отростки на его голове покачиваются в такт шагам, венчики крохотных щупалец-ресничек на каждом из них шевелятся, пробуя на вкус влажный лесной воздух. Иногда он оборачивается через плечо, и в больших темных глазах человеку чудится немой укор — ну что же ты такой непонятливый?
Но стоит ему сосредоточиться на зрачках животного, как все исчезает.
— Это когда-нибудь кончится? — мрачно спросил Вано. Сидя на краю кушетки, он наблюдал исподлобья, как Ветров привычным движением размазывает каплю крови по пластинке анализатора.
— Если будешь сидеть на базе безвылазно, проблем не будет, — ответил тот, запуская сканирование. — А вообще отдел ответов на риторические вопросы где-то в другом здании.
— Чего злой такой, да? — вздохнул Вано и почесал сгиб локтя, где еще краснел след от укола. — Я в общем… философском смысле. Когда эта планета перестанет пытаться нас сожрать, а?
— Не пытается она тебя сожрать. — Ветров быстрым движением развернул на весь экран сложную диаграмму и уставился на нее. — Аллергическая реакция — это ответ твоего собственного организма на чужеродный…
— Леша! — Возмущенный пациент подпрыгнул на кушетке. — Ну что ты мне рассказываешь, а? Я биолог или где?
— Это вопрос? — Ветров бросил взгляд через плечо, оценил возмущенно вздыбившиеся усы собеседника и счел за лучшее не продолжать. — Извини. Не выспался я сегодня, вот и злой. «Или где»… все мы в этом «или где», можешь не сомневаться. Вот смотри. Антитела на очередной замечательный белок с кучей активных групп. Не красная пыльца, конечно, но что-то новое. Цветет в твоем любимом лесу какой-то чудный цветочек, еще не занесенный в каталоги, и у тебя на него аллергия.
— В моем лесу, скажешь тоже! В моем лесу все давно каталогизировано и по полочкам гербария разложено, — проворчал Вано, вставая. — Это мы по течению вниз прогулялись, аж до порогов спустились… Там, в низинке, место такое есть нехорошее.
— Отчего же оно нехорошее? — Алексей сохранил результаты сканирования и запустил режим самоочистки прибора, наконец развернувшись к собеседнику.
— Как тебе сказать… — Вано замялся, отвел взгляд. — Тревожно там. Будто в спину все время кто-то смотрит. И еще… плутали мы там долго, вот что. Хотя по карте шли, по навигатору, ну вот как может современный человек хоть где-то заблудиться, а?
— Как же вы оттуда выбрались?
— Ты смеяться будешь… ой, да что там, я сам смеялся. Наш Касьян, когда мы третий раз по кругу прошли, в затылке почесал и говорит: ребята, мол, знаю я такое дело, мне бабка рассказывала, если вот так вот по лесу ходишь и выйти не можешь, это леший водит. А надо, значит, стать и громко сказать «Леший, леший, не чуди…».
— Серьезно?
— Вот и я ему сказал, до бабки твоей отсюда, знаешь, сколько парсеков? А он все-таки что-то там проорал, на пень ближайший забрался и… Но знаешь, помогло ведь.
Алексей молча покачал головой.
— Он еще говорил, одежду надо наизнанку вывернуть, — хмыкнул Вано. — Не, ты не думай, мы ж не настолько… Только куртки. Некоторые. Да и то больше для смеха.
— А потом ты меня спрашиваешь, откуда аллерген, — укоризненно сказал Ветров. — Знаешь, сколько местной биомассы могло быть на этой куртке?
— Да мы потом все продезинфицировали. — Вано развел руками. — Это все молодежь… им хоть какое, а развлечение. Еще раз пойдем, повнимательней будем. Я тебе образцов принесу, будем искать очередной аллерген, значит. Когда это уже кончится, а?..
Когда Алексей наконец выбрался из медблока, снаружи уже вечерело. Он привычным жестом потянулся к респиратору, но, принюхавшись, оставил полумаску с фильтрами свободно болтаться на резинке. Вечерний воздух был свеж и чист — никаких следов проклятой красной пыльцы.
Здания базы белели в сумерках, точно картонные макеты, наспех приклеенные к склону горы. Разбросанные на первый взгляд кое-как — не согласно строгому геометрическому плану, рассчитанному на плоскую равнину, а в тех местах, где удавалось найти более-менее ровную площадку или хотя бы закрепить фундамент на твердой породе.
Не до соответствия планам им было, когда пришлось эвакуироваться из долины, взбираясь по крутым горным тропам туда, где не достанет ни разлившаяся вопреки всем прогнозам река, ни удушливые облака пыльцы, ни стада внезапно взбесившихся моллюсков, бесконечным потоком выбиравшихся из воды. Здесь, на склоне одной из двух почти одинаковых вершин, получивших название Сестры, в нескольких километрах над руинами прежней базы, шанс на выживание все же был.
Впрочем, пока Ветров шел по узкой тропинке по траверзу склона, в домах постепенно зажигались окна. Россыпь уютных огоньков смотрелась успокаивающе, напоминая о доме. Не о Земле, конечно, и не о каком-то конкретном доме, в который Алексей грезил вернуться. Просто инстинктивное ощущение места, где можно быть в безопасности. Да и о чем тревожиться? Посевы в теплицах росли, расчистка мест для новых поселений шла по графику, а все медицинские проблемы, с которыми ему приходилось сталкиваться в последние несколько лет, были предсказуемы и решаемы.
Еще б не доставали эти странные сны, что сразу же по пробуждении рассыпаются ворохом бессмысленных картинок, а потом весь день мучительно ворочаются в памяти, то и дело цепляя ложным ощущением, что забыл нечто важное…
Брагин был у себя — его окно светилось мягким зеленоватым светом. Недавно кто-то выдвинул инициативу: вместо электрического освещения использовать люминесценцию местных гнилушек, набитых в герметичную колбу. Комендант первым подхватил идею и с тех пор являл собой образцово-показательный пример экономии.
— Глаза портишь, — вместо приветствия буркнул Ветров. — К тебе можно?
— Когда это было нельзя? — меланхолично ответил Брагин. Потянулся к стене, щелкнул выключателем, залив комнату пусть и неярким, а все же искусственным светом. — А глаза я не порчу, так как не читаю.
— Чем же ты в темноте занимаешься? — поддел товарища Алексей. Скинув защитный плащ, он на пару секунд включил воздушный фильтр на входе в жилой отсек, сдувая с одежды уличную пыль. Пусть и не сезон пыльцы сейчас, но кому, как не ему, соблюдать технику безопасности? Тоже… быть образцом.
— Размышляю, — отозвался Брагин. — Чай будешь?
— Буду.
— Ставь.
— По крайней мере, хоть чай ты еще не кипятишь на костре, — проворчал Ветров, щелкая кнопкой бойлера.
— Непременно кипятил бы, если б здешняя так называемая древесина горела получше. — Комендант потянулся в кресле, расправляя плечи. — Что нового?
— Вверенная тебе база медленно, но верно катится в каменный век, вот что. — Алексей картинно вздохнул, усаживаясь напротив. — И я не про методы освещения сейчас. Честно говоря, уже подумываю написать монографию о формировании суеверий в космических колониях. Оказывается, на днях экспедицию биологов леший полдня кругами водил, можешь себе представить?
— Ничего удивительного. — Брагин тихо рассмеялся. — Ты не бываешь на стройплощадке, поэтому не в курсе новых тенденций. Так и быть, подкину тебе еще материала для монографии: строители привязывают цветные ленточки на деревья по границе участка. В ручной разметке смысла нет, все схемы в памяти киберов заложены. Спрашиваю — зачем? Оказалось, местных духов задабривают. Все-таки мы у них территорию отбираем.
— Серьезно? Слушай, это уже нездоровая тенденция. Ладно строительная бригада, они ребята простые… но биологи? А прочий научный корпус, думаешь, лучше? Я ведь давно подобные глупости коллекционирую, даже записывать начал. У тех через распадок ходить «плохая примета», эти результаты до перепроверки никому не показывают — «сглазить» боятся!
— Есть такое дело. Но, думается мне, ты зря кипятишься. Хотим мы того или нет, но земное человечество взращено на иррациональном субстрате. И пока мы еще не совершенные киборги из фантастических книг позапрошлого века, без иррационального нам не выжить. Это не мое личное мнение, это, между прочим, еще Юнг отмечал.
— Я понимаю, что людям нелегко. — Алексей потянулся к чайнику, плеснул кипятка поверх загодя подготовленной товарищем щепотки сушеных трав. В комнате тут же остро запахло местным лесом, влагой и совсем немного — землей. — После катастрофы на первой базе все мы, выжившие, имеем полное право на целый букет неврозов. Плюс изоляция, о ней и без меня немало трактатов написано… Слушай, ты что, правда мешаешь земной чай с сизым папоротником?
— Один к трем, земное с местным. А ты попробуй. — Брагин выставил на стол пару жестяных кружек. — Сначала мешал один к одному, но чаю, как ты понимаешь, все меньше, а за его выращивание агрономы пока не берутся. Вот потихоньку увеличиваю пропорцию.
— Доведешь до один к десяти — станешь моллюском, — пригрозил Алексей, но все же, принюхавшись, налил себе буроватой жидкости.
— Ты посмотри на это философски, Леш. С точки зрения нашей любимой проблемы адаптации, — произнес комендант. Ветров поморщился.
— К слову о ней, Георгадзе вчера выпала честь первооткрывателя очередного аллергена. Будем обновлять адаптационный коктейль… Ну и при чем здесь это?
— А при том, что происходит этакая… трансплантация земного иррационального на новую почву. Ты подумай, откуда здесь взяться земным лешим? Даже у мифологии есть своя внутренняя логика. Для наших далеких предков хозяином леса был медведь, а здесь?
— А здесь, за неимением по-настоящему крупных хищников, предлагаю объявить таковым литофага, — хмыкнул Алексей, вспомнив неповоротливую тушу гигантского червя, скрывавшегося под этим экзотическим названием. Название вполне отражало его особенность — червь, будучи крайне мирным созданием, питался неорганикой, растворяя даже камни адской смесью кислот в собственном желудке. — Поставим в центре базы тотем в полный рост и будем приносить жертвы геологическими образцами. Знаешь, какая у меня рабочая версия по поводу суеверий? Возможно, на нас на всех действует какой-то психоактивный агент.
— И его пропустили все исследования на токсины? — Брагин нахмурился.
— Влад, очнись! Перед нами целая планета. Как бы мы с ребятами ни старались, мы не можем разобрать на молекулы всю среду, в которой приходится жить. Неучтенный фактор может быть где угодно — в почве, в воде, в воздухе, в еде, как бы ни старались мы ограждать поля и теплицы… — Ветров подозрительно глянул на кружку с чаем и отставил ее. — Но всего вероятней, что это что-то в лесу. Сам посуди — что биологи, что строители вынуждены работать вдали от базы. Может, какое-то растение распыляет в воздух фитонциды или что-то подобное…
— Так проверь. Хочешь, завтра же прикреплю тебя к любой экспедиционной группе? Возьми приборы, какие надо, проверь все на месте. Биологи пусть ходят своими обычными путями, а ты ищи свой психоактивный фактор.
— Это ты так изящно решил показать, что не веришь в мою гипотезу? — Алексей скрестил руки на груди.
— Нет, я хочу сказать, что ты засиделся в своей лаборатории. Пациентов много?
— Не больше обычного. Можно подумать, тебе отчет не приходит, — вздохнул Ветров. — Леонора справится на подмене, если ты об этом.
— Вот и славно, значит, решено? Прогуляешься с Вано и ребятами, посмотришь, что за леший им там мерещится. А то сам засел в медблоке на отшибе, точно ведун лесной…
— Ты это специально, да? — простонал Алексей, роняя голову на руки под негромкий смех коменданта.
Тонкорог был болен. Полупрозрачные отростки надо лбом животного не трепетали, чутко отзываясь на малейшее движение, а свисали вяло и безжизненно, почти закрывая огромные немигающие глаза.
— Чем я могу тебе помочь? — спросил шаман, опускаясь на корточки возле поникшего зверя. Тот даже не отпрянул — лишь шумно фыркнул и повел мордой в сторону. Головные отростки слабо шевельнулись, и несколько самых крупных из них на мгновение вытянулись в том же направлении.
Шаман скользнул взглядом туда, куда пытался указать тонкорог.
— Отнести тебя?
Ответа он не дождался, но, чуть помедлив, поднял на руки хрупкое существо. Кожа его на ощупь была влажной и холодной, точно речная вода.
— Сердце Сестер тебя вылечит, потерпи, — уверенно сказал человек, пробираясь по одному ему известной тропе.
Река течет, огибая скальные вывалы, заполняя овраги, срываясь с крутых склонов хрустальными столпами водопадов. Человек не так быстр, как река, но он знает, где закончится путь реки, и срезает путь напрямую.
Там, где два бурных потока извергались навстречу друг другу, на изумрудной подушке мха росло, цепляясь за камни паутинкой мелких корешков, Сердце. Мясистые листья едва заметно шевелились, впитывая ковром микроскопических ворсинок брызги двух водопадов.
Оно не билось наподобие человеческого сердца, но шаман чувствовал пульсацию всем телом — далекий ритмичный гул, дрожь земли перед землетрясением, удары гигантского бубна, отдающиеся вибрацией в костях.
Мелкая живность, пришедшая на водопой, а может, тоже за исцелением, при виде человека бросилась врассыпную. Не обращая внимания на панически удирающих моллюсков, он, осторожно перешагивая с камня на камень, добрался до центра заводи, образованной водами двух рек, и уложил свою ношу прямо в розетку листьев Сердца.
Тонкие волоски потянулись к животному, удлиняясь на глазах. На мгновение показалось, что растение хочет сожрать тонкорога, растворить его едкими соками и всосать, не оставив следов. Но шаман знал: волоски эти — лишь инструмент диагностики, точно щупы анализатора. Пробуют зверя на вкус, определяют, что не так. А потом по ним же поступит в тело только что синтезированная целебная смесь.
— Сможешь ли ты излечить мое племя? — спрашивает шаман одну из двух безымянных рек, отступив на шаг.
Ответ приходит с плеском воды и шорохом листьев; шаман слышит его не ушами, но всем своим существом, как и медленный пульс Сердца:
— Для этого мне нужно попробовать его на вкус.
Ниже по течению лес был совсем другим. Ветров действительно давно не выбирался дальше окрестностей базы, оправдывая затворничество тем, что с ежедневными заботами главного врача не до прогулок. Так что сейчас ему все было в новинку — и буйное переплетение лиан, и гигантские стволы «бутылочных» деревьев, и голоса неведомых животных, то и дело раздававшиеся в чаще.
— Я думал, в лесу тише, — пожаловался он Вано. — Птиц ведь нет, откуда эти вопли?
Биолог бодро вышагивал впереди отряда, не выказывая признаков недомогания, хоть и прикладывался порой к ингалятору, сдвигая набок походную защитную полумаску.
— Горловые мешки ведроглотов видел? — охотно отозвался он. — Те еще резонаторы. Как у земных лягушек, только слышно даже дальше. Или вот моллюски в сезон спаривания свистят, что твой соловей, заслушаться можно. А ты совсем нашими открытиями не интересуешься?
— Да со здешней фауной что ни день, то открытие, разве за вами уследишь? — проворчал Алексей.
Моллюски, значит. Если разбираться, тут все животные по строению больше напоминали моллюсков — только преимущественно земноводных по образу жизни. Хотя находились даже летающие, точнее, планирующие виды. Махины, похожие на скатов, временами проплывали у них над головами, перебираясь с дерева на дерево. Но по крайней мере они это делали бесшумно.
Ветров вспомнил свои первые впечатления после высадки. Рай да и только, подумал он тогда. Местная биосфера казалась неагрессивной — крупных хищников, опасных для человека, на выбранной для колонии территории не наблюдалось, найденные вирусы и бактерии слишком отличались от земных по своей биохимии и соответственно не могли заражать земные организмы. Конечно, такие различия означали и то, что для питания здешняя органика не годится, — ну, разве что после значительной обработки. Некоторые растения земляне все же приспособили для кулинарных нужд, преимущественно в качестве приправ. Хоть у жизни на этой планете и был иной генетический код, белки она все же вырабатывала. Пусть и несколько экзотические.
В белки-то все и уперлось, мрачно подумал Ветров, перешагивая толстый ствол водяника. Это вездесущее растение пронизывало почву буквально повсюду, перекачивая воду рек в более засушливые районы. На планете, где жизнь так и не обрела полной независимости от водной среды, это было как нельзя кстати.
Белки… местные белки были недостаточно похожи на земные, чтоб служить пищей землянам, но в то же время достаточно похожи, чтоб связываться с рецепторами клеток иммунной системы. Говоря простым языком — вызывать аллергию. В первые месяцы жизни колонии аллергические реакции стали основной, пусть и мелкой, как тогда казалось, проблемой.
Масштабы проблемы земляне осознали, когда в одно прекрасное утро над всем окрестным лесом поднялось облако красной пыльцы. Вечная людская склонность к упрощению терминов — ее называли пыльцой, хотя биологически это были скорее споры местной плесени, которая буйством красок вполне заменяла полностью отсутствующие в биосфере цветы. В любом случае, людям некоторое время было не до терминологических тонкостей.
А потом несчастья посыпались на колонию одно за другим. Нашествие моллюсков — что это было, сезонная миграция или аномалия? Небольшие, не слишком быстрые, бледные и скользкие твари, потоком хлынувшие из воды, не могли навредить никому по-настоящему — разве что ребенка могли сбить с ног да задавить массой, но детей в колонии тогда еще не было. Однако слизь, которую они выделяли, оставляя за собой дурно пахнущие следы, тоже оказалась аллергеном.
И в довершение всего река решила выйти из берегов, затопив долину, где расположилось первое поселение.
Они тогда еще не знали, что стебли водяника имеют свойство внезапно раскрываться, фактически порождая новые русла рек. Что или кто служило «спусковым крючком» процесса — за все последующие годы биологи так и не разобрались.
Они знали, на что шли, точнее — летели сквозь вновь открытый пространственный тоннель «пульсирующего» типа. Что до прибытия следующей партии колонистов пройдут годы, а им выживать здесь с тем, что есть; что данные первичной разведки — это капля в море, и их может ждать множество неприятных сюрпризов.
Наверное, Ветров подсознательно ожидал от этой планеты подвоха. В частности, потому и оказался в числе выживших.
«Природа вызывала иррациональный страх у первобытного человека, а кто мы здесь, если не первобытные люди?»
— Эй, куда дальше идем, спрашиваю! — растормошил его Вано, бесцеремонно выдергивая из пучин философских размышлений.
— А у вас разве нет своей программы? — спросил Алексей, окидывая взглядом открывшийся вид. Они вышли на берег реки, где она делала крутой поворот, огибая гигантский кусок скалы, видимо, некогда отколовшийся с вершины.
— Брагин сказал — сопровождать тебя в твоих духовных поисках. И следить, чтоб в ущелье не свалился по пути.
— Духовных, значит, поисках… — Ветров все не мог отвести взгляда от обманчиво спокойной реки. Уже в ста метрах ниже она вновь диким зверем ревела на крутых порогах, а здесь, на излучине, затаилась, но все равно странным образом ощущалась, будто живое существо, следящее за людьми насмешливым взглядом.
Место казалось смутно знакомым. Может, напоминало что-то из земных пейзажей. Если, конечно, не приглядываться к деталям, не рассматривать расступившийся по берегам лес.
— Ну, для начала, туда, где вас леший водил, — со вздохом ответил он.
— Так уже проскочили, — хмыкнул Вано. — С тобой как-то быстро прошли, точно по тропе заговоренной.
— Что ж ты не сказал? Мне надо искать аллерген, что на тебя подействовал…
— Там ничего необычного из растений не было, ребята бы отметили, а, Касьян?
Остальные ребята из группы согласно закивали.
— Тогда… туда, где встречаются реки с двух вершин, — неожиданно сам для себя произнес Ветров.
В переплетении толстых цилиндрических стволов и колючих лиан на противоположном берегу что-то шевельнулось. Раздвигая кожистые листья, из леса выглянул тонкорог.
— Ты гляди-ка! — восхитился Вано и защелкал камерой. — И не боится ведь. У, олень беспозвоночный, как только ходит еще…
Коллеги его отозвались дружным смехом. Ветров же не мог оторвать взгляда от больших печальных глаз животного. Зацепившись за эту деталь, память услужливо подсунула ему образ из недавнего сна.
— До вторых водопадов успеем спуститься? — деловито спросил он, поправляя лямки рюкзака.
— Ну, если тупить не будем… — пожал плечами Вано.
Тонкорог тут же скрылся в чаще, будто ждал команды от руководителя экспедиции.
Водопады представляли собой красивейшее зрелище — два ореола радужных брызг, густо поросшие местным аналогом мха камни вокруг. Биологи принялись его фотографировать, бурно восторгаясь формой каких-то спорангиев, а Ветров шагнул прямо в заводь перед водопадами и направился к скале между ними, уповая на непромокаемость костюма.
— Ты чего? — окликнул его Вано.
На камне притаился куст невиданного до сих пор растения. Круглая розетка сочных листьев и едва заметная паутинка оплетающих камни мелких корешков.
— Оп-па, это что-то новое. — Биолог, не долго думая, пошлепал вброд вслед за Ветровым.
«Не такое большое, как во сне, но…» — подумал Алексей, завороженно глядя на растение. Что «но», он так и не смог себе ответить и потянул из кармана рюкзака портативный анализатор.
— Странно, что он так похож на суккулент, — суетился рядом Вано. — Смотри, какой мясистый, точно кактус. Зачем ему стараться сохранить влагу, если он растет чуть ли не в воде?
Ветров не ответил, уставившись на экран прибора.
— Что там? — Любопытный биолог сунулся через плечо. — Аллерген нашел?
— А то. — Алексей усмехнулся, перелистывая столбики данных. — И даже больше.
— Ну что там, не томи! Я в твоих диаграммах ни черта не понимаю, знаешь же.
— Пока рано утверждать, но… по предварительным данным, в листьях этого растения содержатся белки и другие макромолекулы, характерные для всей местной флоры. А то и… ну точно, вот это у нас фактор фертильности моллюсков. Гормоны тонкорога… как интересно.
— Это как? — изумился Вано.
— Надо взять образец. — Пальцы Ветрова заметно дрожали, когда он стерильным щупом отделял от основания один лист. Казалось, растение кинется на него, защищаясь, оплетет гибкой сетью ворсинок, вопьется в кожу, высасывая соки…
«В первую очередь проверю содержание в нем психоактивных веществ, вот что».
Биологи за его спиной тем временем уже спорили о наименовании нового объекта.
— Кустолист, — уверенно произнес Вано. — Обожаю изобретать названия. Еще на Земле, помню, мечтал: вот прилечу на новую планету, а там как выпрыгнут на меня слономедведи, черепаховерблюды и крысотигры! А тут одни слизняки, никакой фантазии у природы, даже до хордовых и то дело не дошло…
— Вообще-то первооткрывателю решать, — заспорил кто-то из биологов, кивнув на Ветрова.
— Сердце, — пересохшими от волнения губами произнес Ветров. — Сердце Сестер.
— И то верно, — произнес, подумав, Вано. — Хотя я бы сказал — нервный узел. Или лимфоузел.
Ветров не ответил, осторожно упаковывая в пакетик оторванный лист.
Где-то глубоко внутри пульсировал неслышный монотонный гул. Точно удары гигантского бубна — или сердца.
— Предлагаю отметить. — Брагин вынул из-под стола колбу с прозрачной жидкостью и встряхнул. — Ну, не каберне, конечно, но..
— Что именно отмечаем? — рассеянно спросил Ветров. Он нервно выстукивал пальцами по подлокотнику сложный ритм, думая о своем.
— Ну как же? Твое открытие. Весь химсостав в одном листе, разве не чудо? Все возможные вредные факторы в одном флаконе. Когда сделаем новую сыворотку на его основе, это здорово облегчит работу. В первую очередь — тебе…
— Вадик. — Алексей со стоном опустил лицо в ладони. — Ты не понимаешь. Я… слушай, ты поверишь, если я скажу, что видение этого… кустолиста, как его упорно называет Георгадзе, посетило меня во сне?
— Отчего же нет? Менделеев в свое время целую периодическую таблицу во сне увидел. Мозг ведь и во сне работает, не мне тебе объяснять.
— Но я ведь никогда не был в этой части леса! Я с базы не выхожу, ты же сам знаешь. А тут как будто озарение — надо идти к водопадам!
— Что ж… думаю, существование подобного организма ты вполне мог вычислить теоретически. На кончике пера, как говорили древние. Сам посуди: мы знаем, что разрастающийся водяник пронизывает всю почву, точно сосуды в живом организме. Мы знаем, что стволы его иногда прорываются в русла рек. О том, какая здесь запредельная степень симбиоза всего со всем, мне биологи давно твердят. Оставалось всего лишь сделать следующий шаг…
— И признать, что реки — это главные артерии, что по ним передаются химические сигналы, регулирующие жизнь сообщества в целом, — медленно кивнул Ветров. — И если это аналог регуляторной системы организма, то должны быть узлы, где информация аккумулируется… обрабатывается…
— Живая планета, ну точь-в-точь как в старой фантастике. — Брагин не казался ни испуганным этой мыслью, ни даже слишком удивленным. Ветров не понимал, как он может так отвлеченно рассуждать о том, что непосредственно касалось вопросов их выживания.
— Можно пойти дальше, — нарочито беспечно усмехнулся он. — Где нервная система, там и разум, а?
— Ну, это уж ты перегибаешь, — покачал головой комендант. — А катастрофа на первой базе — это был гнев при виде наглых захватчиков, так, что ли?
— Катастрофа… — Новая мысль захватила сознание Ветрова. Игра в аналогии подсказала ему простое решение.
— Иммунная реакция, — пробормотал он. — Синтез антител…
— Что? — Брагин пересел к нему, отодвинул нетронутый стакан со спиртным. — Вот теперь я все-таки спрошу, не бредишь ли ты. Может, не стоило плескаться в ледяной воде, а?
— У планеты случилась на нас аллергия, вот что. — Алексей нервно рассмеялся и потер лоб. — Отток жидкости из сосудов… моллюски как лимфоциты… Красная пыльца как попытка убить паразитов. Непроизвольная реакция. Но мы выжили и, возможно, своими действиями показали, что немного сложнее паразитов. Что с нами можно вступать в контакт.
— Психоактивных веществ это ваше «сердце», значит, не синтезирует? — вкрадчиво поинтересовался Брагин и ненавязчиво проверил, нет ли у товарища температуры. Ветров раздраженно смахнул его руку. — Нет, вообще первая часть теории очень похожа на правду…
— Не синтезирует, — буркнул Алексей. — Она действует как-то иначе. Излучения, может быть?
— Хочешь сказать, все эти лешие, духи и прочее — сигналы?
— Мне снятся сны… — невпопад произнес Ветров и наконец потянулся за выпивкой. — В одном из них я попросил… уж не знаю, духов, это растение, реку или саму планету… помочь нам с адаптацией. Не представляю, к чему это приведет.
Девочка шла по скользкому стволу водяника, опасно балансируя и взмахивая руками. Ветров потянулся удержать ее — и не смог: не было у него ни рук, ни тела вообще.
У девочки были тонкие руки и темные волосы. Светлая майка болталась на плечах, будто сшитая на вырост.
«Куда же ты в лес на ночь глядя, да без респиратора», — бессильно подумал Ветров. Окружающая темнота давила и пугала, но ребенок, кажется, нисколько не разделял его страхов.
Толстый лежачий стебель охватом с доброе земное бревно внезапно закончился, повиснув над обрывом, точно сточная труба. Внизу шумела река, и прозрачный сок водяника извергался в нее, смешиваясь с водой.
«Река собирает знания обо всем, что встречает на своем пути», — подумал Ветров — а может, кто-то прошептал ему на ухо эту фразу.
Девочка неловко взмахнула руками и полетела вниз. Алексей хотел закричать, но не мог издать ни звука. Только скользнул бестелесным призраком вслед за ней — чтобы увидеть, как маленькое тельце бережно перехватывает литофаг. Студенистое тело огромного червя сработало, как подушка безопасности, — ребенок даже не ушибся.
Обвив свою добычу кольцами, на манер земных питонов, червь с неожиданным проворством нырнул в воду. Его закрутило течением и понесло вниз, через пороги и излучины, туда, где…
«Он ведь питается неорганикой, зачем ему человеческий детеныш?» — растерянно подумал Ветров, прежде чем проснуться.
«Вот и ты, братец, одичал», — говорил себе Алексей, торопливо шагая по направлению к школьному корпусу. В плане базы это здание значилось как «интернат», но слово не прижилось — видимо, вызывало неприятные ассоциации, особенно у старшего поколения. Дети в колонии брошенными уж точно себя не чувствовали — напротив, на взгляд Ветрова, их даже баловали гиперопекой. А с другой стороны, как их не баловать, если они — самое ценное, что есть в колонии? Будущее этой планеты, как ни крути, в их руках. Когда снова откроется канал к Земле, старшие из них уже приблизятся к совершеннолетию. Наверное, будут чувствовать себя хозяевами здесь… и небеспочвенно, учитывая, как трудится над их адаптацией к этому миру целая бригада специалистов.
Девочку из сна он запомнил прекрасно, но совершенно не мог вспомнить, была ли такая среди его пациентов. Конечно, все дети проходили медосмотр — гораздо чаще, чем им хотелось бы, — но Ветров плохо запоминал лица. Вот их медкарты он при необходимости мог воспроизвести в памяти наизусть.
— А, доктор, — приветливо кивнула ему заведующая «интернатом». — Принесли нам обновленный коктейль, а?
«Коктейль», препарат, блокирующий бесконечные аллергические реакции, пока еще был на стадии очередной доработки. Когда-то это казалось разумным решением — не глушить иммунную систему целиком, повышая риск заболевания какими-нибудь вполне земными инфекциями, а синтезировать молекулы, что блокируют определенные рецепторы клеток, и те перестанут реагировать на местные белки, разводя беспочвенную панику в масштабах всего организма.
Вот только на каждый аллерген приходилось синтезировать свой блокатор, и «коктейль» все усложнялся и усложнялся, ставя перед врачами задачу — решить проблему адаптации каким-то принципиально иным способом.
— Нет, я… — Ветров смешался. А в самом деле, что он собирался спросить? «Все ли дети у вас на месте?» Да если б кого-то недосчитались, шуму было бы — на всю базу. — Хотел узнать, все ли у вас нормально.
— Ну, с разбитыми коленками пока справляемся, — улыбнулась женщина. — А с чем посерьезнее мы бы сразу обратились, не сомневайтесь!
— Мне ночью не спалось, — на ходу принялся сочинять Алексей. — Я ходил по базе и видел, что… то есть мне показалось, что по территории бродил ребенок. Кажется, девочка. Одна.
— Это совершенно исключено, — твердо заявила заведующая. — У нас контроль, как на космодроме!
— Может, и зря, — хмыкнул Ветров, но наткнулся на непонимающий взгляд и покачал головой. — Простите. Значит, мне показалось. Скажите, а… в лес дети ходят?
— У нас бывают экскурсии на уроках биологии. — Женщина все еще подозрительно хмурилась. — Но, разумеется, далеко мы не уходим. Сегодня вот на поля пойдем смотреть. — Она махнула рукой вдаль, туда, где ниже по склону несколько относительно плоских террас были распаханы под земные культуры.
— Ну, вы осторожнее там, — неловко кивнул ей Ветров. И добавил, сам себе удивляясь: — А то у меня что-то нехорошее предчувствие.
«Принять снотворного и поспать хоть днем, хоть пару часов», — мысленно прописал он себе.
Но, вернувшись на рабочее место, вместо этого полез копаться в архивах.
«…Шаманская болезнь — явление, предшествующее инициации нового шамана. Считается, что человек, избранный духами, испытывает данное патологическое состояние…»
Меньше всего Алексей ожидал, что из всей обширной базы публикаций, хранящейся в информационном терминале, ему понадобятся статьи по антропологии.
«Коренные народы Сибири проявляют удивительное единодушие в представлениях о том, что воля самого кандидата в шаманы не имеет никакого значения. Избранный духами будет страдать от шаманской болезни, пока не смирится со своей участью и не пройдет инициацию…»
— Инициацию проводит уже посвященный шаман, — пробормотал Ветров, скользя глазами по строчкам. — И где же, по-вашему, мне его взять тут, в сотнях световых лет от коренных народов Сибири?
«…характерны ночные кошмары, звуковые и зрительные галлюцинации…» — нервным движением пальца он выделил строку в тексте.
— Пока дело не дошло до галлюцинаций, надо бы зафиксировать, — подытожил он и вывел на экран новый текстовый файл.
Давно ему не приходилось писать ничего, кроме сухих строк научных отчетов. Алексей здорово увлекся процессом, описывая свои сны почти в художественной форме. За окном уже начало темнеть, когда его литературные упражнения прервал резкий вой сирены.
— Третья бригада, сектор «Ц» ваш! Связь каждые десять минут. Белкин за главного. Снаряжение получать бегом марш!
Алексей редко видел Брагина в «боевой» обстановке. Признаться, он уже и не помнил, когда это было-то. Мирная, размеренная жизнь базы редко требовала от коменданта решительных действий. Разруливать бесконечные дрязги, споры ученых за оборудование да перераспределять ресурсы строителей из-за очередной непредсказуемой поломки оборудования — все это его друг умудрялся проворачивать, чуть ли не вставая из кресла. Сейчас же перед Ветровым был практически другой человек — собранный, резкий в движениях, холодные и незнакомые глаза поблескивают сталью. К нему так просто не подступишься с отвлеченным разговором о критериях иррационального.
А придется ведь, подумал он тоскливо и дернул коменданта за рукав.
— Я знаю, где она может быть.
Брагин стремительно развернулся к нему.
— Надо поднять флаер и лететь к нижним водопадам.
— Флаер уже над лесом. — Комендант едва заметно поморщился, видимо, вспомнив, в каком состоянии одна из немногих летательных машин, переживших катастрофу. — До нижних… нет, ребенок туда не доберется физически.
— Если ему не помогут, — ответил Ветров. — Что именно сказала воспитательница? Я слышал самые дикие версии.
— Что ребенка утащил лес. — Поджатые губы Брагина превратились почти в бесцветную линию. — Именно лес, не лесной зверь. Стволы и ветви извивались как щупальца, схватили ребенка, мгновенно отделили от группы…
— У меня был сон. Вещий сон, — упрямо повторил Ветров. И предпочел не заметить, как переглянулись при этих словах окружающие. — В этом сне девочку уносил литофаг. И я знаю, куда он ее потащил. Прочесывать лес можно бесконечно. Просто полетим вместе, и ты сам все поймешь.
Комендант помолчал, сверля взглядом товарища.
— Не ты ли меня убеждал в необходимости иррационального? — Алексей стиснул пальцы в кулак, чувствуя бессилие. Одно дело — неспешные философские беседы за чаем, другое — реальная ситуация. Чрезвычайная ситуация, в которой он ничего не решает. — Вот оно, твое иррациональное… стучится в дверь. Точнее, в мою голову. Уже которую ночь. Поначалу я думал, что герой этих снов — не я, откуда во мне эти образы из древних культур? Потом понял — это попытка коммуникации. Образы добавляет мое сознание, а внешний источник лишь передает информацию.
— Ты хоть понимаешь, как подозрительно все это выглядит?
— Если я окажусь не прав, посади меня в изолятор, как опасного психа, — криво ухмыльнувшись, посоветовал Алексей.
— Так и сделаю, не сомневайся, — коротко кивнул Брагин и снова включил рацию.
— Ладно, — вполголоса сказал он двадцать минут спустя, выбираясь из леса на берег реки, — впредь буду, как хороший вождь, слушать шамана племени.
Там, где струи двух водопадов сливались, смешивая талые воды с двух разных вершин Сестер, кровь двух разных рек, на мокром камне сидела девочка. С боков ее придерживали щупальца-ворсинки гигантского литофага.
— Транквилизатор для моллюсков на него должен подействовать, — воинственно прошептал Вано, вскидывая ружье. Биолог полетел с ними в качестве проводника по местности, хотя, как подозревал Алексей, вторым его заданием было — в случае чего помочь скрутить «опасного психа».
— Не стреляй! — тоже шепотом ответил он.
— Леночка! Ты в порядке? — взволнованно спросил комендант. Девочка кивнула, хоть и несколько заторможенно.
— Мы плыли по реке, — сказала она сонным голосом. — Я знаю, что нельзя уходить далеко…
— Просто заберем ее? — Брагин шагнул вперед. Ветров остановил его.
— Смотри…
От камня, где росло Сердце, к телу ребенка тянулись тонкие ниточки сосудов. Там, где они касались кожи, зеленый цвет их сменялся красноватым.
— Если их резко оборвать, кто знает, что случится?
— Вампир! — Эмоциональный биолог явно едва сдерживался, чтоб не выстрелить.
— Нельзя, чтобы черт знает что обменивалось черт знает чем с земным ребенком! — Комендант в гневе был крайне лаконичен. Он уже выхватил из ножен широкий плоский нож и шагал к девочке, шумно загребая ногами воду.
Гибкий полупрозрачный хвост литофага хлестнул его по коленям, опрокидывая навзничь.
— Ах ты! — Биолог все-таки выстрелил — сразу целой россыпью дротиков. Но не похоже, чтоб на червя мгновенно подействовало их содержимое.
— Они просто решили отобрать пробу, — укоризненно сказал Ветров, выхватывая нож из руки шумно ругающегося товарища. — Взять и отделить маленький кусочек колонии… ну, как мы берем образец с чашки Петри, ага? Даже честно предупредили об этом… Просто просчитались с выбором «кусочка». Сейчас я им дам нормальный образец.
— Но зачем им наша кровь? — возмущенно крикнул Вано, даже не уточняя, кто такие эти загадочные «они».
— Чтобы выполнить запрос на синтез лекарства, — Ветров подошел к цветку, и его никто не остановил — а может, просто у червя наконец замедлилась реакция.
Закатав рукав, Алексей полоснул ножом по руке и направил тонкую прерывистую струйку крови прямо в центр розетки листьев.
— Просто нужны данные о нашей биохимии, только и всего.
— Какой еще запрос? Откуда ты это знаешь? — С ног до головы мокрый Брагин появился рядом и осторожно подхватил девочку, которую едва не уронил ослабивший хватку своих колец червь.
— Прости. Мне стоило прийти раньше… — прошептал Ветров, глядя, как Сердце медленно, один за другим отлепляет свои щупальца от кожи ребенка.
— Из снов, конечно, — ответил он коменданту. — Или ты предпочел бы, чтоб я объедался местных мухоморов и впадал в экстатический транс?
— Мухоморов здесь нет, — невпопад пояснил Вано. Он хищно смотрел на оседающую в воду тушу литофага. — Влад, а если мы его к флаеру снизу прицепим, может, допрем до базы?
— Еще чего, — максимально грозным тоном произнес Алексей. — Не обижать тотемное животное!
Новый жилой сектор решили закладывать на недавно расчищенной восточной террасе. Почва там была слишком сухой и каменистой, чтоб засевать ее полезными культурами, а вот для жилых корпусов место вполне годилось, защищенное от ветров длинным скалистым гребнем.
Вдоль заранее размеченного участка уже выстроилась вереница строительных киберов. Перед ними, наряженные точно на праздник, стояли люди. Улыбались, переговаривались негромко, то и дело слышался детский смех.
Все разговоры смолкли, когда вперед вышел шаман. В левой руке он держал ритуальную чашу, в правой — пульверизатор.
— Духи этих гор, хранители лесов и рек, будьте к нам благосклонны! — выкрикнул он и принялся опрыскивать жидкостью из чаши землю перед собой.
Слова, конечно, предназначались для людей — местные «духи» не говорили на человеческих языках. Химические сигналы — вот то, что они понимали гораздо лучше. Поэтому в ритуальной чаше был намешан «коктейль» из самых характерных молекул, что будут присутствовать в строящемся городе. Пластик и растворители, волокна одежды и человеческая ДНК — все в микроскопических дозах, главное — представить общую картину. Предупредить, обозначить намерение. Чтоб у планеты больше не случалось приступов аллергии.
Из дальних кустов на них одобрительно смотрел тонкорог. Он всегда сопровождал шамана в странствиях во сне, так что Ветров уже и не удивлялся, увидев его наяву. Должен же у него быть свой дух-помощник.
«Когда прилетит вторая партия и увидит наши пляски… долго товарищу коменданту придется читать им лекции про иррациональное», — с невольным злорадством подумал он, помахивая пульверизатором.
Андрей Кокоулин Ктомыдети
— Скажи, — попросил Храпнев.
Зажатый большим и указательным пальцем, перед глазами Лисс закачался зеленый кристаллик леденца.
— Скажи, что это такое?
Некоторое время Лисс таращилась на Храпнева, потом рот ее разошелся в широкой улыбке.
— Кафетка! — сказала она.
— Молодец.
Храпнев расстался с леденцом, и Лисс, зажимая подарок в кулачке, косолапя, выбежала из-под козырька полевой станции.
— Выплюнет, — сказал Рогов, пощипывая отрастающую бородку.
— Не важно.
— Ты думаешь?
Повернувшись всем телом, Рогов посмотрел, как Лисс в дальнем углу освещенной местным солнцем смотровой площадки пытается разгрызть леденец. Белое короткое платьице трепал ветер. В стороне раскручивал лопасти анемометр.
— Нет, кажется, она запомнила, что это нужно есть, — сказал Рогов.
— Послезавтра спрошу еще раз.
Храпнев выщелкнул из панели карту памяти — серый прямоугольник с точками контактов.
— Закончил? — спросил Рогов.
— Да. Свел, продублировал. Получилось около четырехсот гигабайт общего массива. Метеокарта за день, данные с датчиков, сто шестьдесят часов видео с десяти точек, отчеты Колманских и Шияса, медицинские показания, твои записи.
— Тогда собираемся?
— Да.
Вдвоем они свинтили рабочую панель и погрузили ее на ховер, затем сложили крышу станции, последовательно сдвигая листы один в другой. Рутинная ежедневная работа. Расправившаяся с леденцом Лисс скакала рядом, гукая и хохоча.
— Ты радуешься? — спросил ее Храпнев.
— Яда, — кивнула Лисс.
— Ну, на сегодня все, — сказал Храпнев. — Беги к себе.
— Се?
Лисс вопросительно повернула голову. Ни один ребенок не смог бы этого повторить. Ни один земной ребенок. На щелчка, ни треска костей — просто шея перекрутилась в глубокие наклонные бороздки.
— Да. Все.
Храпнев с Роговым затащили сложенную крышу в тесный салон, закрепили в магнитах у правого борта и занялись стенами, выдирая легкие пластоновые секции из пазов. Лисс молча смотрела на их сосредоточенную работу. Девочка в платье. Храпнев не мог сказать, стало оно в горошек недавно или было таким всегда.
— А явтра?
Рогов отдал снятые панели коллеге и присел перед Лисс.
— Так поворачивать голову нельзя, — сказал он.
— Чему? — улыбнулась Лисс.
— Потому что люди так не делают.
— Чему?
— Потому что умирают.
Рогов прижал перчатки ладонями к личику Лисс и осторожно, медленно скрутил шею девочки обратно.
— Вот так. Поворачиваются, переставляя ноги.
Он помог ей развернуться.
Одна нога в колене, правда, просто загнулась в другую сторону, но Рогов решил не обращать на это внимания.
— Учше? — спросила Лисс.
— Да, так лучше.
— Бенок! — выкрикнула Лисс, победительно вскинув руки, на которых было три и четыре пальца.
— Да, ты — ребенок.
— Саня, — позвал Храпнев.
Он закинул в ховер сейсмодатчики и атмосферную станцию, смотал кабели. Осталось только погрузить энергобатарею. Одному ее, дуру тяжелую, ребристую, было не поднять.
— Иду.
Рогов подошел к батарее, взялся с другого конца. Потянули, подняли, потащили к ховеру, печатая следы в рыхлом песке.
— А явтра? — преградила им дорогу Лисс.
— Надо же, — вслух удивился Рогов. — Не так все и плохо у наших детишек с памятью. Про леденцы запомнила, какую-никакую логическую цепочку из нашего отъезда сложила. Глядишь, выйдет толк.
— Лисс, отойди, — попросил Храпнев.
Девочка в платьице раздвинула губы.
— Кафетка?
Пуф-ф! — Батарея одним концом хлопнулась в песок.
— Пошли-ка!
Храпнев схватил девочку за руку и поволок на смотровую площадку. Сквозь ткань перчатки рука ее казалась мягкой, как желе.
— Завтра мы будем во-он там! — показал он на поблескивающий вдалеке купол. — Хочешь, приходи туда. Хочешь?
— Хасю!
— Тогда — до завтра.
Храпнев оставил девочку на смотровой площадке, по пути выдернув штырь анемометра.
Батарею погрузили в молчании. Рогов — в неодобрительном. Храпнев — в раздраженном. В том же раздражении он хлопнул створками.
— Чего ты завелся? — спросил Рогов, когда они сели в ховер.
— Я спокоен, — сказал Храпнев.
— Они просто медленно усваивают информацию. Думаю, еще медленнее формируются устойчивые кластеры памяти.
— Вот-вот, — сказал Храпнев.
— Им просто никогда этого было не надо, — сказал Рогов.
— А нам?
Ховер взревел, из-под юбки его вылетели песок и мелкие камни. Надвинулся, наплыл неровный край. Лисс пропала из виду, но Рогов успел махнуть ей рукой.
— Поехали. — Храпнев прибавил скорости.
Замерев на секунду, ховер заскользил по склону вниз.
Оранжево-серая каменистая равнина распахнулась перед Храпневым и Роговым, шустро растеклась с лобового экрана на боковые. Редкими вехами полетели мимо белесые, обточенные ветрами валуны. Слева вспухла и побежала рядом, иногда удаляясь и выписывая зигзаги, каменная борозда.
— Видишь? — Храпнев указал на желтеющие за бороздой пятна.
— Вода? — спросил Рогов.
— Да, кальцинирование почвы. Думаю, можно поставить и заглубить насос и фильтры. Наверняка водоносный пласт поднялся.
— Ну, это на будущее.
Храпнев покосился.
— Переживаешь?
— Из-за кого? Из-за Лисс? — удивился терзающий волоски на подбородке Рогов.
— Сам сказал.
— Просто… Тебе же вроде бы нравилось с ней возиться.
— Нравилось. — Храпнев двинул джойстиком, и ховер опасно прошел между скальными обломками высотой под пять метров.
Тень на мгновение накрыла людей.
— И что изменилось?
— Вы! Ты, Колманских, Каспар. Вы их начали воспринимать как…
— Детей.
— Да! Не говоря уже о Панове и Дашке, которые целый детский сад открыли, посчитав это своей миссией.
— И это логично.
Храпнев нажал кнопку на пульте и перевел ховер в режим автопилота.
— Нет, — сказал он. — Это не логично. Это проявление слабости. Они — не дети. А мы — не воспитатели.
Ховер повернул. Жаркий рыжий шарик светила прокатился по стеклу и застрял в верхнем углу. Впереди очертился, приподнимаясь над пейзажем, грязно-серый купол базовой станции. За ним белела осыпь, притворяясь неправильным, искаженным горизонтом.
— Кстати, может, как раз заедем? — предложил Рогов.
— К Панову?
— Да.
— Да пожалуйста, — пожал плечами Храпнев.
Он снова взялся за джойстик. Ховер, стреляя камешками, резко заскользил вправо.
— Дело не в том, нравится мне или не нравится, — сказал Храпнев. — Дело в подмене цели. Смысла. Вы что, думаете здесь вырастить человечество?
— Почему нет?
— Это — не человечество!
Рогов улыбнулся. Лобастый, лысеющий Храпнев напомнил ему земную птицу. Только не вспомнить, какую.
— Все зависит от нас, — сказал он.
Храпнев рассмеялся, закачал головой. Ховер пополз на взгорок. Мелькнула сложенная из камней, явно рукотворная пирамидка. Стекло потемнело, поляризуясь под прямыми солнечными лучами.
— Саня, пойми, — сказал Храпнев, — мы умрем. Пять, десять, пятнадцать лет. Кто-то из нас, может, как Вальковский, тоже решит повеситься. Что от нас останется? Вот. — Он махнул картой памяти у Рогова перед носом. — Только это. А эти твои…
— Что?
— Забудут.
— Не знаю, — сказал Рогов, воинственно шевеля челюстью. — Не уверен.
— Доказательства?
— Вика.
— Вика — отдельный разговор.
— Она ходит на могилу к Вальковскому уже пятый месяц.
— Просто хорошая, как исключение, память.
— Женька любил ее.
— А она? — фыркнул Храпнев. — Она хоть что-то к нему испытывала? Или ты разглядел в ней зачатки человеческих чувств?
— Эй-эй, обрыв, — сказал Рогов.
— Я вижу.
Храпнев дернул джойстиком. Ховер подскочил. Взгорок повернулся склоном, на рыжей шкуре которого, как потертость, забелела натоптанная тропка. Внизу, там, где тропка, закручиваясь, ныряла под каменную арку, полоскал на ветру укрепленный на шесте флажок.
За аркой, почти сливаясь с бедным пейзажем, белел похожий на валун дом. Вокруг дома были разбиты грядки, прерывистой линией тянулась сложенная из камней неряшливая ограда.
Небо вдруг потемнело, протаяло до космической пустоты с редкими пятнышками звезд, распахнулось над ховером, последовал неслышный могучий вздох, плеснуло тусклое зеленоватое свечение, и окружающее пространство вздрогнуло вместе со взгорком, покачнулось, мелкие камешки брызнули по склону.
Храпнев запоздало притормозил.
Минуты две-три они с Роговым, переглядываясь, ждали, потом издалека пришел грохот, и справа на горизонте просела горная гряда. Налетел ветер, какоето время песчинки искрами бомбардировали экраны ховера. Машину, несмотря на работающую турбину, метров на пять оттащило в сторону. Храпнев чертыхнулся, выправил ховер и погнал его вниз.
— Почему ты не допускаешь, что у них могут формироваться чувства и привязанности? — спросил Рогов. — Если они перенимают даже внешнее сходство…
— Именно! — сказал Храпнев. — Картинки, выхваченные из твоей, моей, любой другой головы! Ничего настоящего. Бессознательная мимикрия. Какие, к дьяволу, чувства? Это отзеркаленные твои или мои чувства!
Он остановил машину у ограды, сдув несколько верхних камней.
Юбка воздушной подушки опала. Под угасающий вой турбины в доме открылась дверь, и из нее выглянула женская фигура в синей накидке. Пытаясь разглядеть гостей, она приложила ладонь ко лбу.
— Странная мимикрия, — сказал Рогов, выходя из ховера. — Почему они тогда не нас копируют, а детей?
— Потому что мы никогда не причиним детям вреда, — сказал Храпнев, подхватывая сумку. — В нас вбит императив сохранения потомства.
Он поймал себя на сильнейшем чувстве дежавю, потому что день, неделю, месяц назад они, кажется, говорили о том же и теми же словами.
Было? Не было? Сейчас Саня поинтересуется…
Он замер.
— Теория заговора?
Фраза все же была другой.
— Я еще не решил, — ответил Храпнев.
К низким ступенькам крыльца они подошли с разрывом в три шага. Рогов удостоился поцелуя женщины первым.
— Александр.
— Привет, Даша.
Он подержал женщину за локоть. Но коротко, чтобы не будить в товарище чувство ревности. Женщина была красива, правда, красоту ее уже скрадывали многочисленные морщинки и тени под глазами. Седеющие волосы она прятала под платком.
— Привет, Дашка!
Храпнев не мог без того, чтобы не обнять. От Даши пахло кисловато, пропитанной потом, нестираной одеждой.
— Лешка!
Женщина рассмеялась, когда он одной рукой приподнял ее от крыльца.
— Как твои дела? — спросил Храпнев, вглядываясь в карие глаза давней своей любви.
Рогов за их спинами тактично исчез, скользнув в дом.
— Хорошо. Отпусти!
— Я захватил консервов со станции. — Обнимая, Храпнев умудрился тряхнуть сумкой.
Пок-пок-пок — застучали друг о друга пластиковые контейнеры.
— Украл?
— Барабанов сам выдал, лишь бы меня не видеть.
— Димка — стратег.
— О, да! Стратегия — это найти всем работу.
— Наверное, это и хорошо?
Храпнев разжал руку, и женщина, помедлив, опустилась на крыльцо.
— Он стал желчный и замкнутый. И нервный — слова не скажи. Кстати, принципиально не общается… ну, ты понимаешь. Что делает в одиночестве на станции, не представляю. То ли спит, то ли не спит.
— Ты бы присмотрел за ним, — сказала Дарья.
Храпнев подмигнул.
— Я за всеми присматриваю.
— А я думала, Рогов — безопасник.
— За ним я тоже присматриваю.
Дарья хмыкнула.
В прихожей было пусто. Мужской комбинезон сиротливо висел на крючке, придавая аскетичному серому пространству некий изыск светоотражаемыми вставками.
Вслед за Дарьей Храпнев прошел в дом, оценивая перемены, которые случились здесь со времени прошлого визита.
Первое, конечно, рисунки.
Их стало гораздо больше. Легкие пластоновые прямоугольники ровными рядами белели на стене. На них скакали синие двугорбые лошади, теряли корону принцессы, росли кривые деревья с красными шишками на ветках, распускались диковинные цветы и дышали огнем чудища. Кое-где была разрисована и сама стена — какими-то спиралями, загогулинами, червячками и человечками.
Второе — появились неказистые полочки и поделки из того же пластона. Угол стены был испещрен метками — видимо, мерили рост. На свободном месте на железном листе держался на магнитах ворох разноцветных букв, из которых кто-то сложил без пробелов, слитно: «ктомыдети».
— Как успехи? — спросил Храпнев.
— Хорошо, — просто ответила Дарья.
— Профанацией не кажется?
— Леш, — поморщилась Дарья, — мы все уже обсудили.
— Я вот просто… — Храпнев указал на буквы. — Они же им не нужны. Я серьезно. Здесь важен носитель.
Он стукнул себя пальцем по виску.
— Не думаю, — сказала Дарья. — Я вижу. Они меняются, пусть очень медленно, но меняются. Любят сказки.
— Я тоже люблю сказки.
— Это совершенно другая жизнь.
Они перешли к валуну в середине комнаты. Плоская, отполированная вершина камня служила обитателям дома обеденным столом. Сквозь не очень круглую дыру в потолке проникал свет. Храпнев принялся выкладывать из сумки консервы.
— Ты, наверное, хотела сказать — форма жизни.
— А какая разница? — посмотрела на него Дарья.
— Вы слишком…
Из глубины дома неожиданно дохнуло красноватыми отблесками, многоголосьем, детским криком. Потом, видимо, захлопнулась дверь, и крики отрезало. Появился веселый Рогов. Храпнев мотнул головой, отгоняя почудившуюся ему жуть.
— Что там? — спросил он. — Жертвоприношение?
— Дети, — пожал плечами Рогов.
— Как они тебе? — поинтересовалась Дарья, укладывая продукты в автономный холодильник.
— Очень непосредственные и живые, — сказал Рогов, читая маркировку последнего контейнера. — Курица в панировке. У меня вообще сложилось впечатление, что они вполне самостоятельны, как сообщество.
— А вы знаете, чему мы их научили? — Глаза женщины блеснули. — Мы научили их спать!
— О! — сказал Храпнев.
— Блин, Лешка! — стукнула его кулаком в плечо Дарья. — Это на самом деле было трудно.
— Ай! — Храпнев потер место удара. — Это было вполне нейтральное «О!».
— Саркастическое, — сказал Рогов, борец за правду. — Я угощу?
Он показал на курицу в панировке.
— Да, можно, — кивнула Дарья.
— Тогда воркуйте.
Рогов пропал в темноте проема. Детский гомон через секунду прорезался снова, потом его перекрыл бодрый голос:
— А что вам дядя Саша принес? Ну-ка!
Дверь отсекла восторженные крики. Храпнев мысленно ее поблагодарил. За то, что есть. За то, что плотно закрывается. За то, что хорошо глушит звуки.
Героическая дверь!
— Поворкуем? — спросила Дарья.
Они сели на скамью, сделанную из трех, схваченных пластоновой стяжкой кресел со станции. Храпнев приподнял руку, и Дарья протиснулась под нее головой, плечом, приятной тяжестью. Храпнев приобнял.
— Все же как ты? — спросил он тихо.
— Занимаюсь тем, чем хочу, — ответила Дарья.
— А я занимаюсь тем, что скажет Барабан. Как ты знаешь, он не особенно изобретателен. Обычно мы разворачиваем полевой лагерь, бьем шурфы под сейсмодатчики, пишем дневники, ковыряем в носу, пока трудится экспресс-лаборатория, потом сворачиваем лагерь. Следует день отдыха и регламентных работ с техникой, мы доводим Барабана до белого каления одним своим присутствием, он вполне ожидаемо звереет, и мы, подгоняемые его пинками, отправляемся разворачивать лагерь в новой точке.
— Романтика!
— Ага. Может, вы с ним помиритесь?
— Мы не ссорились, Леш.
— А выглядит иначе.
— Нам просто не о чем говорить. Димка это Димка, а я это я. Я не умею уступать. А он не умеет слушать.
— Ну, если учесть, что ты можешь говорить только о своих подопечных…
— Я считаю, что это наше будущее.
— Чье? Твое, мое и еще шести человек? Как долго в них останется то, что вы с Пановым в них вкладываете?
— Как со всякими детьми. Кто-то забудет, кто-то запомнит.
Храпнев, шевельнувшись, усмехнулся. Дарья приподняла голову.
— Хочешь на них посмотреть?
— Чего я там не видел? Как у них головы отваливаются?
— Они теперь держат форму.
— А пальцев на руках?
— У большинства — по четыре. Но у Симки уже пять.
Храпнев погладил Дарью по волосам.
— Бедная, еще три года ты будешь учить их самостоятельно ими пользоваться.
— И научу! Рисунки видел?
— Рисовали под присмотром учителей?
— Да.
— Дашка, — сказал Храпнев, — ты посмотри трезво. Они — дети, пока мы рядом. Они глотают первые слоги и коверкают слова, но склоняют и произносят их правильно, с правильными окончаниями, в правильном контексте. Понимаешь? Это не они, это мы за них говорим. Вернее, они каким-то образом выуживают это из нас. Может, несознательно воспринимают. Ты же не думаешь, что у них сам по себе за это время сформировался речевой аппарат — язык, связки, прочее?
Женщина помолчала.
— Я знаю, Леш, — сказала она наконец. — Но они учатся.
— Чему?
— Быть людьми.
— А им хочется быть людьми? — спросил Храпнев. — Люди, вообще-то, страшные существа. Импульсивные, нелогичные, непредсказуемые.
— Леш, чего ты добиваешься? — спросила Дарья.
— Не знаю.
— Ты думаешь, что они опасны?
— Как всякое не пойми что.
Дарья, потянувшись, поцеловала его в шею.
— Так получилось, Леш, — сказала она ему, как ребенку. — Будущая колония погибла, даже не начавшись. Весь биоматериал, зародыши, биолаборатория… Мы хотели заселить этот мир людьми, но увы. Так бывает.
— И тут — это.
— Да, это местная жизнь, которая неожиданно пошла с нами на своеобразный контакт.
— Что они вообще из себя представляют, ты видела?
— Нет.
— И я нет.
— Возможно, этой «жизни» хочется быть ребенком.
— Да здравствует инфантилизм! Знаешь байку, которую страшный и ужасный Барабанов сейчас возводит в ранг религии?
Дарья качнула головой.
— Слушай. — Храпнев приобнял ее покрепче. — Тоже сказка в своем роде. Оказывается, все началось с Вальковского. Женька так скучал по своей оставленной на Земле дочери, что вместо того, чтобы редактировать карту магнитных полей, излучал в окружающее пространство грусть, уныние и, собственно, образ пятилетней Вики.
— Ты серьезно?
— Ни слова от себя!
— И тогда появилась Вика.
— Да, как реализация желания. Потом Вики, Анюты, Андрейки пошли просто косяком. Нас с Роговым, например, каждый день встречает девочка Лисс.
— Чья?
— В смысле, моя или Санина? Наверное, ничья. Просто образовалась, отрастила рыжие короткие волосы и ходит, выпрашивает леденцы.
— Почему Лисс?
Храпнев пожал плечом:
— Как-то само придумалось. Ей подходит. Хитрая, как лиса.
— Может, привезешь ее к нам?
— Привезу, если она захочет.
— Знаешь, — сказала Дарья, — я так и не могу понять, почему Женька покончил с собой. Почему не оставил никакой записки?
— А если причиной его смерти стала разница между Виками — земной и здешней? Если он понял, что здешняя Вика — эрзац, пустота?
— Я видела, как он с ней возился. Он не считал ее пустотой. Он, наоборот, видел в ней приложение своих сил. Растил. Она доставляла ему столько радости. Он приводил ее сюда и весь светился. Все время — какая она забавная, как учится считать, как потеряла ушко, а потом снова его нашла. И вдруг — на страховочном фале… Где он его откопал?
— В шлюзе. Завтра полгода как.
— Димка нас не собирает?
— Нет.
Они замолчали.
Дарья погладила Храпнева по колену, он зачесал ей упавшую на лоб прядь к виску, сколупнул песчинку.
— Значит, все хорошо? — спросил Храпнев.
— Насколько возможно, — ответила Дарья.
— У нас нет ни корабля, ни ретранслятора.
— Зато у нас есть маленькая, но уютная колония. Мы нашли съедобную глину. То есть не совсем глину, но ее можно жарить.
— Это то, чем ты угощала меня в прошлый раз?
— Да!
— Боже!
Храпнев издал несколько странных горловых звуков.
— Это тебя тошнит? — поинтересовалась Дарья.
— Воспоминания рвутся наружу.
Дарья рассмеялась и выползла из-под его руки.
— Ты неисправим.
— А ну-ка, сюда, сюда! — услышал Храпнев голос Рогова.
Послышался топот детских ног, и первым его желанием было рвануть из дома в ховер. Там хотя бы можно запереться и затенить стекла. Впрочем, незаметно сделать это уже было невозможно, и он замер с напряженно-прямой спиной и с противно-тягучей слюной, собирающейся под языком.
Они выстроились в два ряда. Дети помладше — в первом, ближнем, дети постарше — во втором. С одного бока встал Рогов, с другого — заросший, борода — лопатой, Панов. Дети и Панов улыбались одинаково — во весь рот.
— Хором! — скомандовал Панов.
— Драс-туй-те!
Оказавшись в центре восемнадцати детских глаз, Храпнев кивнул.
— Да, и вам… э-э… привет!
Дети заулыбались еще шире.
Девочки были в синих платьицах и белых гольфиках. Мальчики — в темных шортах и белых рубашках. Один, правда, рубашку имел слегка зеленоватую.
— Что мы скажем дяде Алексею за принесенную курицу? — громко спросил Рогов.
— Пасиба! — прокричали дети.
Храпнев обмер, когда они кинулись его обнимать.
— Ядя Сей!
Он едва рефлекторно не отпихнул самого ближнего ногой.
Обнимались дети неумело, неуклюже, руки у них гнулись в разных местах, слюнявые личики толкались Храпневу в грудь, в живот и в плечи. Он заметил, как один мальчик втянул в себя нос. Чпок!
— Ну, все, все, обратно на урок! — сказал Панов, хлопнув в ладоши.
От Храпнева тут же отлипли, оставив сувениром быстро скукоживающийся рукав платьица. Он выдохнул. Дети попарно потянулись в темноту проема.
— Досиданья!
— Да, пока, — выдавил Храпнев.
— Мы заедем через неделю! — крикнул Рогов.
Панов показал ему большой палец и быстрым шагом направился вслед за детьми. Ни дать ни взять — могучий отец семейства.
— Ну, пойду и я, — поднялась Дарья. — Сегодня мы изучаем земноводных.
Она поцеловала Храпнева.
— Будь осторожнее, — сказал он.
— Разумеется.
— Они не совсем…
— Леша, время рассудит.
— Да, это точно.
Рогов стянул его со скамьи.
— Пошли.
На грядках ничего не росло. Спустившись с крыльца, Храпнев пнул камешек, и он звонко ударил в подвешенный баллон, приспособленный под умывальник.
Дзонн!
— Что? — спросил Рогов.
— Возможно, я — идиот, — сказал Храпнев.
— Насчет чего?
Они забрались в ховер.
— Насчет всего, — вздохнул Храпнев. — Ты видишь в них детей, Дашка и Панов видят в них детей. Каспар, Колманских и Шияс видят в них детей. А я не вижу! Я не могу понять, что я вижу. Существо? Десять существ? Разумную жизнь или квазиразумную, лишь подстраивающуюся под нас?
— Аберрация восприятия, — сказал Рогов. — Это у вас с Димкой на пару.
— Барабан мне еще фору даст.
— Ты ищешь подвох?
— Да, ищу, — сказал Храпнев и сдвинул к Рогову платформу с джойстиком. — Веди ты. Я не в настроении.
— Хорошо.
Ховер заурчал, приподнялся над землей и медленно поплыл в сторону от ограды. Дом уменьшился и скрылся за заслонившими его обломками скал.
— Знаешь, что я думаю? — спросил Рогов, по дуге объезжая похожие на кораллы наросты, прущие из земли. — Я думаю, что ты все еще не можешь смириться с тем, что колонии в обычном понимании у нас не будет. Как и с тем, что следующий транспорт прилетит сюда в лучшем случае через сорок лет. Ты не видишь перспектив.
— Я действительно их не вижу, — сказал Храпнев.
— Тогда что тебя заставляет каждый раз ставить полевую станцию?
— Привычка. Я сдохну, если не найду себе какого-нибудь занятия. А это занятие мне кажется болееменее осмысленным.
Купол базовой станции приблизился и вырос в размерах. Стали видны дыры, щели и обрушившийся внутрь сектор. Кое-где мерцал свет. Откуда-то слева попыхивало паром, который быстро сносило ветром.
— Тогда почему тебе занятие Дарьи не кажется осмысленным? — спросил Рогов.
Храпнев поморщился.
— Нет, в некотором роде ты прав. И Дашка права. А мы с Димкой Барабановым нет. Вы нашли себе смысл. Но пойми, когда прилетит второй транспорт… если он прилетит, они не найдут ни нас, ни ваших детей.
— Почему?
— Потому что мы умрем, а все эти дети…
— Ты в них не веришь.
— Нет. Вы просто приняли их, а я не понимаю, что это такое забралось ко мне в дом. Мне хочется разобраться.
— Препарировать.
— Возможно.
Рогов покосился на Храпнева, но ничего не сказал.
Ховер подлетел к широкому пандусу и поднялся к воротам, по периметру которых замигала подсветка. Массивные створки поползли было в стороны, но через несколько секунд дернулись и встали.
— Опять, — сказал Рогов.
— Сиди.
Храпнев вылез из ховера и нырнул в техническую нишу в контрфорсе справа.
Он снял стопор со штурвала ручной доводки и за несколько минут в назойливом писке предупредительной системы раздвинул створки чуть шире габаритов машины. А это мое будущее, подумалось ему. Оно, правда, немножко сыпется. Но существует без детей.
Рогов аккуратно завел ховер внутрь станции. Храпнев перешел пешком и так же, вручную, закрыл ворота.
Стихла турбина. В тусклом свете верхних ламп пустое, безжизненное пространство ангара казалось покинутым и тревожным. Храпнев встряхнулся. Рогов сдул воздушную юбку и подсоединил к ховеру шланги питания, запустил диагностику. Вместе они вынесли энергобатарею на стенд подзарядки, гулко топая по ребристому настилу. Бум-бам, бум-бам. Потом воздушной пушкой Храпнев счистил с экранов ховера песок и пыль.
В радиальном коридоре, ведущем вокруг отсеков и основных помещений станции, кисло пахло химией. Кое-где на серых стенах еще подсыхала пена, но никаких признаков пожара видно не было.
— Димка! — крикнул Рогов.
— Скорее всего, он наверху, — сказал Храпнев.
— Противопожарку испытывал?
— Или она сама.
Они прошли мимо ответвлений в генераторную зону и в жилые боксы. Технологические шахты дышали теплом. В тусклых глубинах что-то постукивало, позвякивало, возможно, даже жило тихой машинной жизнью.
— Барабанов! — снова крикнул Рогов.
На лифте они поднялись на два яруса, под самый купол. В переходах лежал песок. В командном зале было темно и пусто, жалюзи опущены. В медицинском отсеке прямо на полу лежал спальный мешок, а с потолка на проводе к нему спускался один из светильников. Судя по раскиданным картам памяти, Барабанов здесь читал или смотрел что-то с планшета.
— Кажется, его больше не стоит оставлять одного, — сказал Рогов, растерянно разглядывая кювету с остатками пюре.
— Это просто изнанка того Димки Барабанова, что мы знаем, — сказал Храпнев. — У каждого есть изнанка.
— И, по-твоему, это нормально?
— В нашей ситуации нормального по умолчанию нет, — сказал Храпнев. — Мы с тобой нормальны? Панов нормален? Шияс, ползающий по горам?
— Это понятно, но Димка…
— Ему хуже всех.
Барабанова они нашли в лабораторном отсеке. Он сидел на столе босой, в грязных штанах и куртке на голое тело. Округлый живот его был в красноватых пятнах.
— Что-то вы рано, — мрачно произнес Барабанов.
Сбоку от него пискнул синтезатор, и он, не глядя, подставил пластиковый стаканчик и нажал кнопку дозатора. В стакан с шипением плеснуло.
— Что это? — спросил Рогов.
— Спирт, — ответил Барабанов. — Спирт, мои стерильные котики. Амброзия. Напиток богов. Если уметь пить.
— Дима…
Барабанов поднял палец.
— За Женьку Вальковского!
Опрокинув в себя стаканчик, он на несколько секунд сжался, вздрогнул и выдохнул в рукав куртки.
— Вот. — Храпнев выложил на стол рядом с ним прямоугольник карты.
— Что это? — спросил Барабанов, кривя рот.
Глаза у него упорно не смотрели на вошедших.
— Данные.
— Понятно. Это очень нужно всем нам.
Палец Барабанова согнулся над картой и отправил ее на пол.
— Вот как? — поиграл желваками Храпнев. — Ты уверен?
— Вы еще здесь?
— Уже уходим, — сказал Храпнев и ударил Димку в челюсть.
Голова Барабанова мотнулась.
— Хватит! — Рогов потащил товарища из лаборатории.
— Я больше и не собирался, — сказал Храпнев.
За спиной его возился Барабанов и, кажется, озадаченно хмыкал. Затем пискнул синтезатор, и в стаканчик снова прыснул спирт.
— Хорошие вы ребята, — сказал Димка, — за вас!
Зайдя в свой бокс, Храпнев долго стоял у койки. Что дальше? Пустота копилась где-то в солнечном сплетении и готовилась к экспансии. Ничего не хотелось, ни спать, ни делать что-то, ни жить. Женька, возможно, полгода назад так же стоял в своем боксе и в конце концов выбрал фал и трубу в одном из технологических коридоров.
Легкий выход.
Вику вот бросил. Почему? Не оправдала надежд? Может, спросить? Что он теряет? Вполне человеческое желание…
Накинув куртку, Храпнев вышел из бокса. У Рогова было тихо. Спит, черт небритый? Или отчет строчит? Брился, брился, и вот уже с неделю не бреется. Симптом. Не очень хороший. Даже тревожный.
В тишине, в зыбком свете он спустился вниз на ярус, миновал оранжерею, за которой больше месяца уже никто не ухаживал, и через один из аварийных выходов выбрался наружу. Застегнул куртку. Прохладно.
Густели фиолетовые сумерки. Над головой помаргивал навигационный фонарь. Синеватым полумесяцем плыла Караппа, одна из двух местных лун. Темнела уходящая в сторону тропка. Там, в ее конце, на выровненной площадке, был похоронен Вальковский.
Храпнев не ожидал увидеть Вику в это время, но совсем не удивился, когда обнаружил маленький силуэт, сидящий на скамейке перед сложенной из камней могилой.
— Привет, — сказал Храпнев.
— Да, — тихо ответила Вика.
— Что ты здесь делаешь?
— Ду.
— Ждешь?
Храпнев сел рядом, но оставил сантиметров десять пустого пространства. Ветер теребил, загибал светлые Викины волоски.
Караппа сделалась ярче. От камней, от щита, защищающего площадку от наносов, пролегли синие тени.
— Чего ждешь? — спросил Храпнев.
Девочка пожала плечами.
— Он умер, — сказал Храпнев. — Мумифицировался. Он лежит на глубине полутора метров, мертвый.
— Ду, — повторила Вика.
— Почему он решил повеситься? — наклонился Храпнев. — Ты открылась ему? Ты что-то сказала ему?
Вика повернула голову. Темные, совершенно без белка глаза уставились на Храпнева. Он сдавил ее плечико ладонью.
— Кто вы?
— Бенок! — вскинула свободную руку Вика.
Четыре пальчика и один наполовину сформировавшийся.
— Нет, — оскалился Храпнев, — это я уже слышал. Скажи мне правду. Кто вы? Какого черта вы…
Вика захныкала.
— Ойно!
— Ах, и это вы знаете! Знаете, что такое больно. — Храпнева затрясло. — А нам каково здесь — знаете?
Он сдавил плечо девочки сильнее.
— Мы! Ничего! Не можем! Мы — никто, нигде… Неудавшиеся колонисты, команда потерянных людей.
— Ойно-ойно-ойно! — заверещала Вика, вырываясь.
— Разве?
Храпнев усилил нажим. Плоть потекла сквозь пальцы, будто пластилин. Передавленная, упала под скамейку рука.
— Ядя Сей! Не надо!
Кто-то напрыгнул на него сбоку.
— Да кто тут еще? — Храпнев поймал и швырнул маленькую фигурку на землю, чувствуя себя Гулливером среди лилипутов.
— Ай!
Фигурка упала головой на камни могилы. Раздался глухой звук.
— Лисс?
Девочка не шевелилась. Свет Караппы превратил белое в горошек платье в темно-синее. Храпнев похолодел, внезапно осознав, что сотворил нечто страшное. Нет, он совсем не хотел. Но убил. Убил?
— Лисс!
Храпнев поднялся, но подойти почему-то не смог. Внутри все сжалось. Вика хныкала, отклонившись от него на боковую перекладину.
— Лисс.
Кто-то толкнул Храпнева обратно на скамейку, долговязой тенью метнувшись к лежащей девочке.
— Вот ты дурак!
Тень присела на корточки и склонилась над Лисс.
— Я не хотел, — выдавил Храпнев.
— Ну да!
Человек обхватил голову лежащей девочки ладонями. Возможно, он, как скульптор из глины, наново формировал череп. Храпнев не видел со спины. Он с замиранием ждал, что получится в итоге. Чувство вины обжигало, плавило что-то внутри.
— Что там? — спросил он.
— Нормально.
Человек не обернулся. Вика, спрыгнув со скамейки, подошла к нему, легла на широкую спину, обняв одной рукой.
— Где ты ручку потеряла? — ласково спросил человек.
— Это я, — хрипло сказал Храпнев.
— Понятно.
Человек вздохнул, потом неуловимым движением поднял и поставил Лисс на ноги.
— Ну-ка. — Он щелкнул девочку по носу.
Лисс распахнула глаза.
Храпневу показалось вдруг, что над ней вздулся темно-синий прозрачный купол, развернулся в острые крылья, но быстро скомкался и опал под мягкими пассами рук. Впрочем, возможно, это всего лишь проплыла подсвеченная луной дымка.
— Ну, вот. — Все так же сидя, человек одернул платьице, повернул к себе голову Лисс левым боком, что-то рассматривая. — Простишь дядю Алексея?
— Не надо, — сказал Храпнев.
Но Лисс кивнула.
— Ащу!
— Молодец.
— Ядя Сей.
Храпнев не знал, как ему реагировать. Когда пятилетнее, шестилетнее, бог-знает-сколько-летнее существо приблизилось к нему с полными слез глазами, он просто распахнул руки, и Лисс ткнулась в него.
Как игрушка, у которой кончился завод.
— Ядя Сей.
— Прости.
Храпнев приподнял и посадил ее на колено, осторожно притянул к себе голову, коснулся губами коротких рыжих волос.
— Прости, пожалуйста. Я сорвался.
— Нова добрый? — спросила Лисс, накрыв теплой ладошкой его щеку.
— Да.
— Незя так — ллой.
— Я знаю, — сказал Храпнев.
Лисс совсем не дышала, но он подумал, что этому можно научить. Это просто. Это надо дышать рядом. Впереди скрипнули камешки, и Храпнев поднял глаза.
— Ну, мы пойдем, — сказал человек.
Вика сидела на сгибе его руки и обнимала за шею. В глазах ее сияла Караппа.
— Ты все-таки жив, — сказал Храпнев.
— Нет, — качнул головой Вальковский, — это, скорее, посмертие, другая форма жизни. Понимаешь, я ни черта не понял. Мы вообще мало что понимаем, да? Мой поступок… Моя смерть — это оттого, что я все неправильно… Нет, так не объяснить. Мы здесь можем достичь реального бессмертия.
— Ты уверен?
Вальковский кивнул.
Он был черный и синий, в черных рубашке, брюках и с синим носом, но все же он был Вальковский. Женька. Не сон.
Или это я его сейчас создал, подумал Храпнев, прижимая к себе Лисс.
— Понимаешь, в чем дело, — сказал Вальковский, — это простая истина. Все есть любовь. Лешка, нас просто пытаются научить этому.
— А мы, типа, тупые.
— А мы дети, Лешка. Вроде бы взрослые, но ни черта и ни в чем не смыслим. Как ты. Как я. Как Барабанов. И если бы Вика не любила меня, я бы умер на самом деле.
— А дальше? — спросил Храпнев.
— Не понял, — сказал Вальковский.
— Что дальше? Научимся мы любить, как они хотят, и что? Что там — дальше?
Вальковский улыбнулся.
— Весь космос.
Он повернулся и понес Вику в синие сумерки, за щиты, прочь от станции, от могилы.
— Весь космос, — эхом повторил Храпнев, глядя, как мертвый-немертвый Вальковский с Викой медленно исчезают, сходя вниз по насыпи.
Странно, подумалось ему.
Мы что, получается, не любили до этого? Я разве Дашку не люблю? Люблю. И что мне какой-то космос? И бессмертие мне, извините, на шиша? Хотя, конечно, любопытно…
От станции светили фонарем. Наверное, Рогов.
Храпнев посмотрел на Лисс. Девочка спала, свернувшись калачиком на руках. Ему очень хотелось, чтобы ей снились добрые звери и люди. И чудеса. Но он был почти уверен, что она притворяется.
— Кто мы? Дети, — прошептал Храпнев.
И побрел навстречу беспокойному свету.
Виктор Точинов Молчание Гагарина
Связь с Гагариным прекратилась 27 мая 2155 года по земному летоисчислению (иначе говоря, 8-го года Исхода), когда не состоялся очередной полуденный сеанс связи.
Вернее, не так… Спутник-ретранслятор работал исправно, более того, с Новоросы исправно шла на спутник тактовая частота, но и только. Однако никто не пожелал этой частотой воспользоваться. Никто не вышел на связь.
Следующий, шестичасовой сеанс также не состоялся. На вызовы по аварийной частоте Гагарин не откликался. Такого никогда не случалось, и стало ясно: на поверхности Новоросы стряслось нечто нештатное. Синяя тревога, объявленная после первого пропущенного сеанса, превратилась в красную.
Самого страшного пока никто не допускал: автоматика отрапортовала бы на «Ковчег-2» о разрушении любого из трех защитных куполов и любого из сооружений, о любом фатальном сбое в системах жизнеобеспечения. Даже если бы в Гагарине одномоментно не осталось бы ни единого живого человека, сигнал все равно бы ушел на «Ковчег», вращавшийся по гелиоцентрической орбите. Не ушел. Первое поселение землян под чужими звездами, очевидно, осталось целым и невредимым. Но отчего-то не выходило на связь.
В 19:27 по бортовому времени у генерал-полковника Воронина, главы экспедиции, собралось экстренное совещание. Одиннадцать начальников служб — не все, лишь те, кто имел хоть какое-то отношение к сложившейся ситуации. Плюс сам генерал, плюс марсианин Залкин.
«Тринадцать — нехорошее число, — подумал Воронин, хотя обычно не придавал значения суевериям. — Не надо было приглашать марсианина…»
Залкин не имел отношения к марсианам, прилетавшим на Землю и третировавшим безвинных землян боевыми треножниками и лучами смерти, — лишь в фильмах и романах прилетавшим и третировавшим, разумеется: следов тех марсиан за все десятилетия колонизации Марса так и не обнаружили.
Он был на «Ковчеге-2» представителем Фонда «Завтрашний день», штаб-квартира которого находилась на Марсе. И штаб-квартиры большинства корпораций, учредивших фонд, находились там же, подальше от терзаемой катаклизмами, экологическими и гуманитарными катастрофами Земли.
И попробуй такого не пригласи… Сам явится, да еще и наложит вето на любое не устраивающее его решение, — имеет право, половина финансирования программы «Исход» осуществлялась и осуществляется на деньги Фонда. А если копнуть глубже, то больше половины — множество сопутствующих, но не связанных напрямую с Исходом программ «Завтрашний день» оплачивал единолично.
Воронин вздохнул и начал совещание. Коротко, в нескольких словах обрисовал ситуацию — все и без того были в курсе дела. И первым делом обратился к Ревичу, отвечавшему, среди прочего, за связь и за группировку спутников, вращавшихся вокруг Новоросы.
— Что с визуальной разведкой?
— Сделали, что могли… Скорректировали орбиту СВН-12, сейчас он каждые два с половиной часа пролетает над Гагариным. Ну, почти над Гагариным, но небольшое отклонение не имеет значения.
— И?
— Облака… — сказал Ревич виновато, словно облака над поселением появились исключительно по его халатности. — Мощный фронт. Случаются небольшие разрывы, но пока спутник ни на один из них не подгадал.
Такие уж у Ревича были особенности мимики и такая манера держаться в разговорах с начальством. Даже когда докладывал о несомненных успехах, вид имел крупно проштрафившегося, заставляя подозревать, что бодрый доклад — показуха и очковтирательство, а на самом деле все совсем не радужно… Но генерал прошел с Ревичем Марс и верил ему, как себе. Раз тот сказал: «Сделали, что могли», — значит, большего никто бы не сделал.
— Надолго этот фронт, Надежда Николаевна? — обратился генерал к Синцовой, главному метеорологу.
— Неделя, Павел Егорович. В самом благоприятном случае. А если успеет подойти антициклон, движущийся от побережья, то…
— Достаточно, — прервал Воронин: Синцова отличалась излишней велеречивостью и о своих погодных делах могла рассказывать часами. — Даже благоприятный случай меня не устраивает. Мы можем что-то сделать с этими облаками?
— Ну, у нас есть запас иодида серебра, но метеорологические ракеты небольшие, их запускают с поверхности, и…
— Спасибо, — вновь оборвал генерал. — Все понятно: чтобы запустить ваши противооблачные ракеты, надо находиться на планете, в районе Гагарина. А тогда мы и без того узнаем, что там стряслось.
Отправлять людей на Новоросу, не разобравшись, что произошло в Гагарине, Воронину не хотелось. Дело даже не в инструкции (многотомной, предусмотревшей, казалось, все возможные случайности и коллизии), категорически запрещавшей подобные действия. Генерал стал генералом на Марсе, где в ходе колонизации случались самые разные нештатные ситуации, и там он научился простому правилу: если выполнение инструкции грозит гибелью людей — смело нарушай инструкцию.
Но чтобы нарушать пункты и параграфы, надо, во-первых, знать их назубок, а во-вторых, хорошо понимать, зачем и для чего нарушаешь. С первым у Воронина все было в порядке, он сам входил в авторский коллектив, сочинивший многотомный опус. А вот со вторым — никакой ясности.
— Можешь организовать нам что-нибудь дальнобойное? — спросил генерал у Ревича.
— В смысле?
— Не тупи, Сергеич… Ракету, способную стартовать с «Ковчега» и распылить над Гагариным достаточное количество препарата, можешь организовать?
— Организовать можно все. Вопрос в сроках… Раньше спутник нащупает разрыв в облаках, чем мы расконсервируем и подготовим ракету. А ведь еще надо сладить подходящую боеголовку…
Ревич развел руками, изобразил виноватое лицо, отвел взгляд. Выглядело все это фальшиво и наигранно, и любому стало ясно, что он не просто разгильдяй, но саботажник и злостный вредитель, и готовую к запуску ракету наверняка имеет, но безбожно втирает очки начальству.
— Все равно займись ракетой, — решил генерал. — Даже если сейчас не пригодится, пусть будет… Запас карман не трет.
Он сделал паузу. И обратился уже ко всем собравшимся:
— А теперь, господа, я хотел бы услышать ваши версии произошедшего. И варианты наших действий, разумеется. Начнем с вас, Владлен Геннадьевич.
Владлен Геннадьевич — профессор Сыромятников, главный медик «Ковчега» — высказаться не успел. Даже версию не озвучил, не говоря уж о вариантах действий.
Ярко-алый сигнал срочного вызова. Взволнованный голос вахтенного офицера:
— Товарищ генерал-полковник, Гагарин виден! Спутник угодил в «окно»!
— Картинку мне сюда! — рявкнул Воронин. — На большой экран!
* * *
На рубеже двадцать первого и двадцать второго веков человечество осваивало Солнечную систему, но медленно, крошечными шажками, — никакого сравнения с глобальным прорывом второй половины века двадцатого.
Потихоньку развивали лунные базы, единственное поселение на Марсе неторопливо отрабатывало в полевых условиях методы колонизации Красной планеты. Велись разработки подпространственных двигателей, пригодных для межзвездных перелетов, и даже были достигнуты первые практические результаты, и уже поговаривали, что через пару-тройку десятилетий — после тщательных и всесторонних экспериментов в Солнечной системе — человечество совершит первый разведывательный полет к звездам. Может быть. Если деньги найдутся.
Деньги, как обычно, были главной проблемой. Программы пилотируемой космонавтики и внеземных поселений пожирали огромные бюджеты без какой-либо финансовой отдачи, наработки на будущее не в счет… Крупный бизнес все меньше стремился оплачивать мечту человечества о звездах. А не самое щедрое госфинансирование позволяло сохранять достигнутое, но продвижение вперед шло воистину черепашьими темпами.
Все изменила нефть. Вернее, почти полное ее отсутствие.
Последние резервы — нефть арктического шельфа и Антарктики — делили жестко, отложив в сторону и прежние договоренности, и принципы международного права. Гренландская война и две Антарктических показали: в клубе нефтяных стран произошли существенные изменения, ныне нефть достойны добывать лишь державы, обладающие ядерным оружием. Увы, добыча победителей была ничтожно мала в сравнении с потребностями экономики.
Наивные экологи мечтали: оставшись без нефти, человечество остановит наконец безумную технологическую гонку, заживет просто и в гармонии с природой. Человек выйдет из своего экологичного дома, над крышей которого растет целый лес ветрогенераторов, и поедет на работу на велосипеде, если же соберется в дальний путь — на электромобиле, а в небе будут бесшумно парить экологичные дирижабли, моря вновь начнут рассекать белокрылые красавцы-парусники… Идиллия.
Мечта оказалась полной утопией. Ветрогенераторы могли кое-как обеспечивать энергией дома (лишь в условиях теплого климата), но никак не зарядку батарей электрического транспорта. Велосипед для поездок на работу хоть и выглядит простым, но на самом деле — плод многих производств, активно пожирающих углеводороды. Даже асфальтовое шоссе, по которому покатит велосипедист-эколог, сделано из нефти. Да, именно так: песок и минеральные частицы в асфальте связывает битум, самая тяжелая нефтяная фракция.
Кроме того, нефть не только топливо, она еще сырье для множества химических производств, в том числе фармацевтических. А экологи в большинстве своем не желают лечиться бабушкиными травками, заваренными или настоянными на спирту. Им, экологам, хочется самых современных лекарств для поправки своего драгоценного здоровья.
Самое обидное, что нефть на планете была. Нефть в буквальном смысле лежала под ногами. Двадцать-тридцать процентов нефти любого месторождения — нефть неизвлекаемая. Разумеется, изобретательное человечество давно придумывало разные способы, как эту нефть извлечь.
И тут случился прорыв. Сейсмоударный метод извлечения нефти. Собственно, идея подтолкнуть подземным взрывом нефть к поверхности была известна давно, но значимых результатов не приносила. Новация состояла в масштабе: пробурить сверхглубокую скважину, опустить в нее ядерный заряд и…
И первый же промышленный опыт — в Усинском нефтегазоносном районе, давно истощенном, — принес блестящий результат. Нефть хлынула к поверхности, снося заглушки законсервированных скважин.
Нефтяная промышленность обрела второе дыхание. Акции добывающих компаний, тихо умиравших, стремительно росли в цене. Сверхглубокие подземные ядерные взрывы загрохотали везде, раздирая и корежа недра планеты. На Ближнем Востоке, в Африке, в Южной Америке…
Разумеется, Россия, как родоначальница метода, шагала впереди всех, — и по ней растревоженная планета нанесла первый ответный удар. Сильнейшее землетрясение на Северном Урале. Там, где землетрясения не случаются по определению. Разрушенные города и поселки, построенные, конечно же, без учета возможной сейсмоактивности. Погибшие люди.
Поначалу никто не насторожился. Ученые придумали теории, объяснившие: случайность, каприз природы. Земная мантия, дескать, тряхнула стариной, вспомнив далекую-далекую молодость, когда рожала в муках Уральский хребет… Ядерные взрывы глубоко под опустошенными месторождениями продолжались.
Но потом «капризы природы» пошли один за другим. Землетрясения, извержения давно уснувших вулканов, появление новых. Разломы, карстовые провалы. Тектонические толчки в море, порождавшие гигантские, никогда ранее не виданные цунами.
После Валдайского разлома в научном мире раздались первые голоса, связавшие небывалую активность земных недр с нефтедобычей. И лишь после Калифорнийской волны была созвана международная конференция и подписан Брюссельский протокол, повсеместно запретивший сейсмоударный метод оживления нефтяных полей с применением ядерных зарядов.
Транснациональные корпорации, хоть и приложили немало усилий для затягивания созыва конференции, к подписанию протокола отнеслись на удивление лояльно. Брюссельский протокол запоздал, почти все интересующие нефтяников месторождения заработали, черная кровь вновь активно заструилась по жилам экономики. У корпораций в тот момент имелись другие проблемы. Все чаще тектонические сдвиги сминали и корежили нитки трубопроводов. Все чаще тонули танкеры, как спички ломаясь на гигантских волнах. Морским буровым платформам тоже доставалось…
Гибли города, гибли люди. Океанские побережья, даже не пострадавшие от цунами, обезлюдели. Но в центральных районах континентов беженцев подстерегали другие напасти.
Увы, Брюссельский протокол опоздал и в другом смысле. Буйство земной магмы не утихло. Запущенный процесс продолжался уже без участия человека и набирал обороты. Жить на планете стало очень неуютно, безопасных мест фактически не осталось. Никто не знал, где завтра уйдет из-под ног земля…
И вот тогда-то вспомнили о планах звездной колонизации. Сразу нашлись средства, даже с лихвой, с избытком. Очень богатые люди сообразили: ни за какие деньги покой и безопасность им теперь не купить. На Земле — не купить.
* * *
Наверное, генералу Воронину легче было бы увидеть последствия катастрофы, уничтожившей Гагарин. Например, следы взрыва электростанции. Да, погибла бы техника и сооружения, погибли бы люди… Но по меньшей мере генерал знал бы, что ему делать. Высылать спасательные группы, выяснять, отчего взорвался реактор, защищенный от всего на свете, разбираться, почему ни люди, ни автоматика не послали сигнал тревоги.
Но виртуальный, сотканный лишь из лучиков света экран демонстрировал собравшимся абсолютно целый Гагарин.
Нерушимо стояли два жилых купола и третий, лабораторный. Ангары, склады, здание электростанции, вышка связи… Все в порядке. Все на своих местах, целое и невредимое. Технологии опробованы на Марсе, на куда менее дружественной к человеку планете, чем Новороса.
Единственный признак, что в Гагарине не все ладно, — три вездехода возле одного из жилых куполов. Причем у одного дверца, в нарушение всех инструкций, настежь распахнута. Полное впечатление, что прибывшие на вездеходах люди бросились внутрь, наплевав на все прочее.
Ни одного человека за семь минут записи не появилось в поле зрения. И никаких намеков на разгадку непонятного молчания Гагарина.
— Что это за машины? — спросил генерал у Дениса Старцева, командовавшего десантниками.
Тот ответил не задумываясь:
— Группа Малышенко, товарищ генерал-полковник, должна была вернуться с Фермы через два дня, могли вернуться раньше. Либо Корф бросил все, и бурильную установку, и прочую тяжелую технику, и прискакал налегке. Надо бы посмотреть запись еще раз, с большим увеличением.
Посмотрели, оптика на СВН стояла мощная, позволяющая разглядеть даже мелкие детали. И Денис заявил уверенно:
— Машины группы Корфа, товарищ генерал-полковник. Бок у левого вездехода при мне рихтовали, следы остались.
— Корф мог связаться с «Ковчегом» напрямую, без вышки Гагарина? — впервые подал голос марсианин Залкин.
— Никак нет, не мог.
— Теоретически мог, — встрял Ревич. — если бы отъехал на полтораста километров к югу от района работ, в зону действия коммуникационного спутника.
— То есть в поселении случилось нечто, что заставило группу Корфа бросить все дела и стремглав примчаться в Гагарин… — задумчиво произнес генерал. — Понять бы еще, что…
Ревич всем своим видом изобразил раскаяние. И сожаление, что ничем не может помочь. Денис Старцев бодро отрапортовал:
— Не могу знать, товарищ генерал-полковник.
«Да уж, знать и думать — это не по твоей части, бравый оловянный солдатик, — подумал Воронин. — Исполнитель толковый и инициативный, но не более того…»
— Что предлагаешь? — спросил он у Дениса, почти не сомневаясь в ответе.
— Лететь и во всем разобраться на месте, товарищ генерал-полковник. Два десант-бота готовы. Люди отобраны, двадцать семь отборных бойцов. Один к одному, золото, а не люди.
— Двадцать восьмым, конечно же, ты?
— Так точно, товарищ генерал-полковник.
Перед мысленным взором генерала предстала яркая картинка: новое совещание — те же минус Старцев, — а на виртуальном экране опять изображение безмолвно-безлюдного Гагарина: такого же, как сейчас, только с двумя десант-ботами на посадочной площадке.
— Людей и боты держи в режиме десятиминутной готовности к старту, — приказал он Старцеву. — Но все-таки сначала постараемся понять, что там стряслось. Хотелось бы знать ваше мнение, Владлен Геннадьевич. Могла произойти там… ну, скажем, спонтанная эпидемия? Такая, что за час или за два все полтораста человек стали полностью недееспособны?
Профессор Сыромятников отвечал осторожно… Дескать, об инфекционной эпидемии речь идти не может: вирусы на Новоросе не обнаружены, равно как их младшие братья вироиды и примкнувшие прионы. Отсутствуют как биологические формы. Виды, которые можно с долей условности обозначить как патогенные бактерии и патогенные одноклеточные грибы, присутствуют. Но патогенные они лишь для местной флоры и фауны, с гостями с Земли никак не взаимодействуют. Так что он, Сыромятников, исключил бы версию с повальным заражением, но… Но всегда есть вероятность варианта «Бумеранг».
Генерал скривился, как от зубной боли. «Бумеранг» был кошмаром. Лишь предполагаемым в теории, но все же кошмаром. Суть идеи такова: земляне могут принести в миры Эридана свои, земные вирусы. Если, при наличии белковой биосферы, те смогут найти промежуточных хозяев, то в новых условиях вполне способны мутировать в нечто новое и страшное, от чего гостей с Земли не спасет ни их иммунитет, ни все запасы вакцин и лекарств…
С гипотетической опасностью боролись, как могли. Экипаж «Ковчега» отбирали, выдерживая кандидатов в длительных карантинах и вакцинируя от всех известных болезней. Однако уже в полете случались проявления инфекционных заболеваний. И никто не смог бы дать ответ, сколько вирусоносителей мирно спит сейчас в анабиозных камерах.
Однако, едва генерал успел затосковать от предположения Сыромятникова, тот немедленно сам же опроверг свою версию о «Бумеранге». Мол, какую бы скорость воздействия на организм ни приобрели возбудители болезней под лучами Сигмы Эридана и какими прочими убийственными качествами ни обзавелись, — все равно есть схемы распространения эпидемий, и формулы, описывающие скорость распространения, и какой инкубационный период в эти формулы ни подставь… Короче говоря: как бы лавинообразно ни развивалась эпидемия, остались бы здоровые, способные выйти на связь… Надо искать иную разгадку.
Начали искать. Прочих представителей местной биосферы не рассматривали. Здешняя фауна относительно недавно шагнула из воды на сушу, — и крупные, способные повредить человеку существа водились лишь в морях Новоросы. Догадки и домыслы собравшихся сосредоточились в основном на возможных проблемах техногенного характера… Версии предлагались одна за другой и тут же отбраковывались, как неубедительные.
Заодно попытались объяснить, отчего геологоразведывательная группа Корфа забросила все дела и примчалась в Гагарин, — не преуспели и в этом.
Один человек все никак не мог получить слова, хотя старательно, как школьник на уроке, тянул вверх руку. Наконец игнорировать этот жест стало невозможно, и генерал с видимой неохотой кивнул:
— Вам слово, Григорий Арнольдович.
Матузняк начал с места в карьер:
— А с чего вы все решили, что Корф примчался спасать Гагарин от чего-то случившегося в поселении? Что, если для интереса предположить обратное? С группой Корфа случилось нечто, от чего они спасались в Гагарине? И притащили это «нечто» с собой?
— Можно поконкретнее? — с неприязнью произнес главный космобиолог. — Нельзя ли поточнее определить это самое «нечто»?
Матузняк выдержал паузу, обвел взглядом всех собравшихся, ни одного не пропустив. И заявил, глядя на Воронина:
— Я прекрасно знаю, что это за «нечто». Да и вы все знаете. Просто боитесь произнести вслух.
* * *
Фонд «Завтрашний день» оказался самой настоящей золотой рыбкой, мгновенно исполняющей все финансовые желания.
Программа колонизации Марса рванула вперед семимильными шагами, но все, что там делалось, было лишь отчасти нацелено на покорение Красной планеты. Главное — отработка технологий, пригодных для создания поселений под иными звездами. Обкатка в полевых условиях самой разной техники.
Одновременно были отправлены в экспедиции первые подпространственные корабли-разведчики, — к ближним звездным системам, имевшим, по сведениям астрономов, геоподобные планеты.
Историю звездоплавания сразу писали на чистовик. Без пробных полетов, без запуска беспилотных автоматизированных кораблей, без подопытных белок-стрелок. Катаклизмы, сотрясавшие Землю, не оставляли времени на вдумчивое исследование. Любой риск считался допустимым, если позволял ускорить сроки выполнения программы.
Результаты это принесло вполне ожидаемые: из семи первых кораблей-разведчиков благополучно вернулись лишь четыре.
Тем не менее первые положительные результаты были получены. Программа подпространственных путешествий на дальние расстояния получила новый серьезный импульс: есть, есть в Космосе обетованные земли! Найдется куда совершить человечеству Исход с погибающей планеты!
Фонд «Завтрашний день» и Лига Космических Государств (по многим вопросам ставшая преемником захиревшей ООН) приняли решение о реализации программы «Ковчег» — о разработке и строительстве гигантских подпространственных кораблей и отборе экипажей колонистов.
Задача программы — создание колоний, которые можно будет использовать для отступления и возрождения человечества. Одним словом — создание запасных домов взамен разрушенного по собственной глупости и жадности.
На орбитах началось строительство первого эвакуационного флота — четырех гигантских кораблей, способных увезти несколько тысяч пассажиров каждый, ядро будущей колонии. Предполагалось, что колонисты будут владеть всей суммой земных промышленных и научных технологий, а также оборудованием, необходимым для создания технической базы цивилизации (первичным сырьем послужат выполнившие свою функцию корпуса кораблей-ковчегов — одноразовых, способных лишь к одному межзвездному прыжку). Для быстрого увеличения численности населения вновь основанных колоний корабли должны были увезти большие запасы генетического материала: законсервированные мужские и женские половые клетки, а также инкубаторы, позволяющие выращивать младенцев вне материнской утробы.
Однако первые достигнутые успехи немедленно породили первые конфликты. Все более нарастали противоречия между главными участниками проекта, строившими свои «Ковчеги»: Россией, США, Европейским союзом и Юго-Восточным Альянсом, лидирующую роль в котором играл Китай. Вопрос стоял жестко: как будут поделены вновь открытые миры, пригодные для колонизации?
Индия (не добравшаяся в своей космической программе до создания подпространственных двигателей) и исламские страны (только-только освоившие вывод пилотируемых кораблей на околоземные орбиты) не желали оставаться в проекте на вторых ролях помощников в создании «Ковчегов». Требовали своей доли участия в заселении геоподобных миров и в разработке их природных богатств.
А самое главное — люди осознали: улетят и спасутся лишь немногие избранные. Жители стран, не вовлеченных в проект, и даже большинство населения стран вовлеченных, — останутся на родной планете. И будут выживать под непрекращающимися атаками матери-Земли, обернувшейся злой мачехой… Все громче раздавались голоса, призывавшие все огромные средства и ресурсы, отдаваемые на космическую программу, развернуть. С тем же рвением и финансированием попробовать укротить взбесившуюся Землю. Вскоре голосам стали вторить взрывы и выстрелы, направленные против наземных объектов, связанных с космосом.
Мир оказался на грани новой большой войны, но все-таки сумел грань не переступить… Фонд «Завтрашний день» попытался залить разгоравшийся пожар деньгами, и попытка оказалась в общем и целом удачной. Заложили с четырехмесячным опозданием новый «Ковчег», индийский, поделившись технологиями подпространственных двигателей. Исламскому Содружеству выделили щедрую квоту на «Ковчеге» Евросоюза. Были срочно приняты многомиллиардные программы по обузданию тектонической активности — в результате так ничего и не обуздали, но нужный пропагандистский эффект щедро оплаченные СМИ обеспечили. Начался сбор средств на строительство второй волны «Ковчегов»: на сей раз платили все желающие (средства Фонда были очень велики, но все же не безграничны) — и каждый владелец «Галактической акции» получал шанс улететь к звездам, пусть и небольшой. Все акции должны были участвовать в жеребьевке, призванной на семьдесят процентов сформировать вторую волну переселенцев.
Наконец, была запущена программа «Завтрашний день наших детей», опять же всемерно распиаренная СМИ. Разве что утюги и электрочайники не вдалбливали в голову обывателя: любой пожелавший того житель Земли может сдать свои генные материалы — и его дети и внуки будут жить в далеких мирах под чужими звездами!
Нельзя сказать, что население сотрясаемой катаклизмами планеты в результате поголовно успокоилось. Продолжались акты террора и саботажа, случались бунты «антикосмистов», порой весьма массовые. Но все же накал страстей снизился и масштабной кровавой конфронтации между «остающимися» и «улетающими» удалось избежать…
* * *
Вещавший о загадочном и опасном «нечто» Матузняк выглядел как типичный безумный профессор… И наверняка с успехом прошел бы кастинг в Голливуде на роль такого амплуа. Волосы растрепанные, взгляд с долей безумия. Возможно, оттого к теориям Матузняка отношение было соответствующее. Тем более что очень долго все его теоретические построения оставались теориями без объекта применения, по крайней мере доступного для наблюдений и исследований.
Нет, Матузняк был отнюдь не теологом… Он специализировался на контактах с гипотетическими внеземными цивилизациями. На Новоросе существование таких цивилизаций было доказано окончательно. Доказательствами стали несколько огромных, заметных даже с орбиты, артефактов. Искусственное их происхождение сомнений не вызывало, назначение оставалось загадкой.
Для чего, к примеру, широченное и прямое, словно по натянутой нити проложенное, шоссе длиной без малого в сотню километров? Пересекало оно пустынное плоскогорье, рядом нет остатков городов и вообще хоть каких-то строений. Непонятная дорога из ниоткуда в никуда.
Прочие артефакты были схожего плана — масштабные и непонятно для чего созданные. Возраст находок исчислялся земными тысячелетиями, и мало кто сомневался, что построили загадочные сооружения неисчезнувшие жители планеты — пришельцы как минимум с других планетных систем Эридана. Или вообще гости из другого созвездия.
Генерал не стал бы приглашать Матузняка на совещание. Пришлось… Одна из разведывательных экспедиций Гагарина — та самая группа Корфа — работала как раз возле одного из артефактов. Так уж сложилось, что огромная шестиугольная каменная призма словно бы отмечала район, очень богатый нефтью. Или в самом деле отмечала…
Призма, вытесанная непонятными методами из небольшой горы, никак работам геологоразведчиков помешать не могла. Считалось, что не могла. У Матузняка, как выяснилось, имелось на сей счет свое особое мнение.
— Все инопланетные знаки оставлены так, чтобы были видны издалека, даже с орбиты, — вдохновенно вещал Матузняк. — И это не просто сигнал: мы существуем, мы побывали здесь! Не-е-е-ет, господа! Это датчики. Датчики, которые простоят тысячелетия и в свое время непременно привлекут внимание разумных существ. А если существа, обнаружившие датчики, развиты достаточно высоко, они непременно попытаются исследовать монолиты каким-то передовым неразрушающим методом. И вот тогда к создателям знаков и уйдет оповещающий сигнал.
— Очевидно, мы пока еще недостаточно разумны, раз ничего подобного не предприняли, никаких исследований…
— Ошибаетесь! — с торжеством заявил Матузняк. — Ошибаетесь, господин генерал! Такое исследование проведено не далее как вчера!
— Что за исследование? — не понял генерал.
Судя по лицам остальных собравшихся, они были информированы не более командующего экспедицией.
Матузняк помолчал, наслаждаясь моментом. Вот оно, воздаяние за все годы пренебрежения и насмешек! Все, кто считал его не то фриком, не то шарлатанствующим деятелем несуществующей науки — все застыли, все смотрят на него, все затаив дыхание ждут его слов!
И он отчеканил:
— Вчера Корф применил по моей просьбе глубокое сканирование монолита. И не надо обвинять нас с ним в нарушении каких-то там ваших параграфов! Это его работа — сканировать горы и то, что под ними. Даже если рекомые горы обтесаны в форме призмы! И результаты, я вам доложу, получены очень интересные: в глубине скалы расположены несколько полостей, не имеющих выходов наружу. Полагаю, именно в тот момент сигнал ушел к НИМ, к создателям монолита!
— Никаких посторонних сигналов не зафиксировано, — сказал генерал, чтобы хоть что-то сказать.
Он напряженно размышлял, как отреагировать на несанкционированный эксперимент. Ладно бы только этот клоун, что с него возьмешь, но Корф-то, солидный исследователь, в эмпиреях не витающий… Как-то заболтал его Матузняк, как-то сумел обратить в свою веру.
— Да что мы можем знать о принципах ИХ связи? — риторически спросил самочинный контактер. — НИ-ЧЕ-ГО.
— Ладно, если к нам и пожалуют гости, то не завтра и не через месяц, успеем подготовиться, — сказал Воронин, решив отложить разборку с клоуном на потом, когда проблемы Гагарина разрешатся.
Однако Матузняк был несгибаем. И почти дословно процитировал себя тем же тоном:
— Да что мы можем знать о принципах ИХ перемещения в пространстве? Опять-таки НИ-ЧЕ-ГО. Месяц… Смешно… ОНИ уже здесь. ОНИ уже вступили в контакт с людьми. Там, на Новоросе, в Гагарине. Вот вам и ответ на все загадки. Можно закрывать совещание.
«Религиозный психоз, — поставил мысленный диагноз генерал. — Только с инопланетянами вместо бога. Но качества им приписывает вполне божественные: всемогущество и всеведение».
Марсианин Залкин тем временем нацарапал что-то на квадратике бумаги — столь архаичным способом фиксации данных здесь пользовался только он, не признавая электронных блокнотов и тому подобных гаджетов. Сложил бумажку пополам, подтолкнул в сторону генерала.
Тот прочел написанное небрежным, едва читаемым почерком: «Под трибунал психа. И Корфа, если жив. В анабиоз, пока не построим тюрьму. Чтоб неповадно!»
Это был не совет. Распоряжение, обязательное к выполнению. Генералу захотелось демонстративно разорвать листок. Пускай Залкин отправляет на Землю жалобу. Глядишь, лет через пятнадцать получит ответ, радиоволны к подпространственному переходу не способны…
Но ничего сделать генерал не успел. В наушнике раздался голос вахтенного офицера:
— Малышенко на связи! На аварийной частоте!
* * *
Группа Малышенко занималась окончательной подготовкой Фермы к грандиозному эксперименту: впервые в местный грунт предстояло высадить растения, привезенные с Земли. Домашние животные и птицы, участвующие в эксперименте, должны были питаться местной пищей и дышать воздухом Новоросы. Людям, будущему персоналу Фермы, предстояло дышать тем же воздухом. И после недолгого переходного периода питаться плодами рук своих.
Разумеется, соответствующие опыты уже проводились на борту «Ковчега». Атмосфера оказалась пригодной: несколько меньшее содержание кислорода компенсировалось повышенным в сравнении с Землей давлением. Инертные газы (доля их на три порядка превышала земную) влияния на организмы чужаков не оказывали. Но одно дело несколько часов подышать привезенным с Новоросы воздухом и совсем иное — месяцами жить в чужой атмосфере. Однако рано или поздно этот шаг пришлось бы совершить.
…Что бы ни стряслось на Новоросе, группа Малышенко отреагировала на случившееся совсем иначе, чем люди Корфа. Не помчались сломя голову в Гагарин, а отправились в зону, накрываемую телекоммуникационным спутником. И вышли на связь. Судя по голосу говорившего, речь держал командир группы.
Да только она, речь, не затянулась.
— Ковчег, я Антей, — несколько раз повторил Малышенко.
И, дождавшись ответа, быстро произнес:
— У нас ЧП! Необходима срочная помощь! В Гагарине произо…
Голос смолк. Одновременно из динамика донеслись три резких и коротких звука. Генералу очень хотелось убедить, уговорить себя, что это не выстрелы, а нечто на них похожее… Не получалось.
Запись прокрутилась в пятый или шестой раз подряд и смолкла все на тех же трех резких звуках. Оператор монотонно вызывал Антея. Ответа не было.
Воронин растекся, расплылся в кресле, словно придавленный неподъемной тяжестью, хотя система искусственной гравитации в кабинете выдавала наиболее комфортные ноль-восемь «же». Он провел в армейских рядах тридцать шесть лет, дослужился до генерал-полковника, но всю жизнь занимался иными проблемами… Не теми, маркером которых служат выстрелы по живым людям.
— Объявляйте альфу-двенадцать, Павел Егорович, — негромко произнес сидевший рядом Савицкий. — Объявляйте.
Генерал поднялся. Расправил плечи и вновь стал похож на себя всегдашнего — непоколебимого и уверенного. Отчеканил:
— Объявляется тревога по варианту альфа-двенадцать. Совещание продолжат лишь те, кто имеет допуск по форме ка-эм-двадцать три. Остальным занять свои места согласно аварийному расписанию. Действуйте!
Десятеро потянулись в выходу. Трое остались. Генерал тихонечко приказал Савицкому:
— Матузняка изолировать. Немедленно.
Савицкий кивнул и поднес к губам коммуникатор.
* * *
Допущенных было трое: марсианин Залкин, сам генерал и Савицкий, его зам по безопасности.
Формально, по всем уставам, на «Ковчеге» царило единоначалие. Как прикажет его превосходительство, так и будет, все прочие голоса — совещательные. Но генерал хорошо понимал, как дело обстоит в реальности. Хоть и решено заранее, что поселение на Новоросе станет со временем еще одним регионом Российской Федерации, но в нескольких световых годах от метрополии предоставлять главе экспедиции диктаторскую власть чревато. Тем более что «Ковчег» обеспечен всем на свете и ни в каких поставках с родины не нуждается, да и невозможны они, поставки. При таких вводных любой начальник с единоличной бесконтрольной властью сорвется с резьбы легко и просто. Учредит монархию во главе с собой, любимым. Или начнет строить Утопию по заветам Кампанеллы и сэра Томаса Мора. Или учудит еще что-то свое, доморощенное, согласно собственным представлениям о справедливом устройстве общества.
Оттого-то к главе экспедиции и приставлены Савицкий с Залкиным. Первый бдит, чтобы не ущемлялись интересы государства, второй следит, чтобы не пропали денежки транснациональных корпораций, вложенные в программу «Исход». (Нефтяные поля, что Корф отыскал на Новоросе, уже отданы на девятьсот девяносто девять лет «Спейсойлгрупп», Залкин немедленно подсуетился, а вы как думали…)
Так что сейчас шел разговор не начальника с двумя подчиненными, но трех равных участников триумвирата. Равных-то равных, однако генерал хорошо понимал, что если мнения разойдутся, то решающим станет не его слово. И у Савицкого, и у Залкина есть в экипаже свои люди, и в немалом числе, — и среди бодрствующей, меньшей части, и среди анабиозников. Люди, которые в любой критической ситуации будут подчиняться не Воронину, а своим начальникам. Кое-кого из тех людей генерал знал, но далеко не всех.
Савицкий, кстати, тоже был генералом — правда, всего лишь генерал-майором Федеральной службы расследований. Сейчас, при тревоге альфа-двенадцать, именно Савицкий должен был играть первую скрипку в их трио.
— На Новоросу должен полететь «Андрей Первозваный», товарищ генерал-полковник, — говорил Савицкий (оставшись в узком кругу, субординацию он по-прежнему соблюдал, но весьма формально). — Неважно, сколько мы сожжем топлива, неважно, что на долгий срок останемся без планетарного корабля. Десантные боты, я уверен, от нас ждут. К их встрече все готово.
— Кто ждет? Кто??
— Неокомми. Спящая ячейка, я полагаю, — объяснил Савицкий и тут же поправился: — Была спящая, причем в самом прямом смысле… Когда по прибытии мы разбудили почти восемьсот специалистов, ячейка активизировалась.
— Почему именно неокомми? — поинтересовался марсианин. — Разве мало на Земле экстремистов всех мастей и оттенков? Могли и другие просочиться на «Ковчег».
Залкин был прав: на Земле, едва начались нефтяные катаклизмы, партии и группировки самого радикального толка начали плодиться, как поганки после дождя.
— Я вышел на след ячейки, — произнес Савицкий тоном простым и обыденным.
И рассказал: во время профилактического выборочного осмотра индивидуальных камер хранения среди пятнадцати разрешенных килограммов личных вещей одного из анабиозников была обнаружена вещь запрещенная… Крохотная, практически невесомая, — тоненькая пластинка микрофлэши.
— Чего там только не было… И классические труды основоположников, и новейшие писания теоретиков неокоммунизма, и несколько работ, о которых я даже не слышал. Плюс масса прикладного материала: методы вербовки и противодействия силовым структурам, инструкции по созданию бомб из подручных материалов, методики анонимной агитации через корабельную локалку… И прочее, и прочее, и прочее. Не только мы взяли с собой всю сумму человеческих знаний.
— Почему я об этом не знал? — спросил Воронин.
— Вы разбудили владельца микрофлэши? — почти одновременно спросил Залкин.
Савицкий ответил в строгой последовательности:
— Для подобных случаев у меня имелась особая инструкция, и выполнена она точно и скрупулезно. Информирование кого-либо на борту «Ковчега», без исключений, инструкция прямо запрещала, — до тех пор, пока ячейка не проявит себя. Владельца микрофлэши мы, разумеется, разбудили и допросили. Только он оказался не владельцем… Кто-то воспользовался его сумкой для провоза контрабанды. Стали работать с кругом его знакомых, кое-что нащупали, но… В общем, не закончили. Гагарин замолчал раньше.
— Понятно… — задумчиво протянул Воронин. — Так что с «Андреем»?
— Будем опять-таки действовать строго по инструкции. По моей инструкции. Высаживаться и зачищать поселение. Приказ о подготовке корабля и расконсервации необходимой техники и снаряжения я уже отдал. Вот список людей, которых необходимо срочно разбудить, нужна ваша санкция, товарищ генерал-полковник.
Воронин взял из рук Савицкого тоненький, почти невесомый лист планшета, быстро прокручивал список. Некоторые фамилии оказались знакомыми…
— Подожди-ка, — сказал генерал. — Захарин… Ведь это историк, кажется? Реконструктор? Он-то тебе зачем при зачистке Гагарина?
— У этого историка имеется удостоверение полковника ФСР, — улыбнулся Савицкий. — Правда, в удостоверении значится другая фамилия, но фото именно его.
— Понятно…
Генерал прокрутил список до конца. Марсианин навис сзади, заглядывал через плечо. Воронин не возражал против такой бесцеремонности, чего уж теперь.
Однако… Три с лишним сотни фамилий. Куда столько? «Андрей Первозванный» примет на борт двести человек. Если хорошенько потесниться, учитывая, что рейс предстоит короткий, — двести пятьдесят.
Савицкого прямо заданный вопрос не смутил.
— Здесь мне тоже нужны люди, — пояснил он. — Глупо думать, что они никого не оставили на «Ковчеге», что затеяли все лишь с опорой на Гагарин.
— А это что за список? Второй, коротенький?
— Это наши будущие «фермеры». Санкционируйте заодно и их, чтобы дважды не тревожить специалистов по анабиозу.
— Подожди, подожди… Стрижов… Это не тот, который…
— Тот самый, — ответил Залкин вместо Савицкого. — Остальные — того же поля ягоды.
Стрижов был арестован ФСР за несколько месяцев до Исхода — за злонамеренный слив в СМИ. Слитая информация грозила стать самой настоящей бомбой: оказывается, программа «Завтрашний день наших детей» во многом была надувательством. Далеко не все генные материалы, активно сдаваемые населением, отправлялись к звездам. Большая часть отправлялась прямиком в канализацию. Новое человечество предполагалось создавать, минимизировав риск всевозможных генетических отклонений. Инфобомбу кое-как обезвредили, утопив в «белом шуме», в преднамеренных ложных сливах, легко опровергаемых. А Стрижова и его подельников, значит, назначили на роль подопытных морских свинок.
— У нас лежат документы с их согласием на участие в рискованных экспериментах, — успокоил Залкин. — Все формальности соблюдены.
Генерал вздохнул и плотно прижал большой палец к нужному месту экрана, заверив список. Затем заверил второй.
* * *
Залкин проснулся и не понял, что его разбудило. Он завалился спать, проведя на ногах более сорока пяти часов. Не ложился, пока не разрешился кризис с Гагариным. Лишь когда поступил доклад от Савицкого: последние мятежники обезоружены, начались допросы, — марсианин позволил себе отправиться на боковую. Да и то отвел себе четыре часа сна, дел предстояло немало…
Однако довелось проснуться не от противного звука таймера. А от чего тогда? Залкин был уверен, что его организм продрых бы и десять часов, и пятнадцать, дай только волю…
Несколько секунд спустя, окончательно пробудившись, он сообразил: сила тяжести. Залкин привык спать в невесомости, а сейчас в его апартаментах нормальная, как на всем «Ковчеге», гравитация… Вышла из строя мультисистема? Или просто отчего-то сбились настройки?
Он сделал легкий жест рукой. В апартаментах зажегся мягкий свет, мультисистема работала. Но в следующий миг все технические неполадки стали не важными — Залкин увидел двоих, стоявших у его ложа.
Лица незнакомые, обтягивающие черные комбинезоны, а у одного в руке… Зачем у него пистолет??!!
— Вы кто? Зачем включили гра…
Ответ был получен прежде, чем вопрос прозвучал до конца, и состоял не из слов. Пистолет быстро поднялся, два раза негромко кашлянул.
Словно два громадных кулака ударили Залкина в грудь. И он успел понять, зачем здесь включили гравитацию, — чтобы отдача в невесомости не откинула стрелка, не впечатала в стену. Больше марсианин не успел ничего — пистолет приблизился к его голове, кашлянул в третий раз, и для Залкина все закончилось.
* * *
— Разумеется, «Андрей Первозванный» никуда не улетал, и я тоже, — ласково объяснил генерал-майор ФСР Савицкий.
Хотя нет, нет… Возможно, эполеты и в самом деле соответствовали генерал-майорскому званию, в древних знаках различия Воронин разбирался слабо. Но богато расшитый золотом мундир явно не имел ни малейшего отношения к Федеральной службе расследований. Равно как и к прочим федеральным службам.
Впрочем, Савицкий и сам не стал темнить: в начале разговора отрекомендовался Местоблюстителем Императорского престола Эридана, временно, до созыва Земского собора, взявшим на себя бремя верховной власти в Империи.
Воронин молчал. Не спрашивал, как так получилось, что он своими глазами видел посадку «Андрея» и десантирование с него…
Савицкий пояснил сам:
— Не так уж сложно было изобразить это кино, господин генерал-полковник. Если учесть, что Ревич — наш человек, так и вовсе просто.
Генерал представил, как виновато улыбался бы при этих словах Ревич, находись он здесь… И вновь не произнес ни слова.
— И заметьте, все произошло практически бескровно, — продолжал Савицкий. — Даже Старцев, забаррикадировавшийся со своими орлами и грозивший драться до последнего патрона, сложил оружие после часа беседы со мной. Не захотел умирать за власть оставшихся на Земле политиканов и олигархов. Вернее, оставшихся не на Земле, а на Марсе, но не суть… И никто другой не захотел ни умирать за них, ни дальше жить под их властью, даже долго агитировать никого не приходилось. Одну планету они просрали, и вторую просрут, и десятую, дай только срок. Я не знаю, что в результате вырастет из идеи народной и всесословной Империи, но… Но хуже, чем было, точно не станет.
* * *
Сказав, что переворот прошел «практически бескровно», Савицкий слегка покривил душой. На «Ковчеге» действительно удалось обойтись малой кровью (Залкин и трое его приближенных). И три выстрела, включившие тревогу альфа-двенадцать, Малышенко сделал в воздух, прежде чем отключить связь.
В Гагарине тоже поначалу все шло по плану, но с группой Корфа план дал осечку… Историю с несанкционированным исследованием монолита Савицкий держал под контролем — при этом использовал ее как приманку для майора ФСР Линевича, курировавшего безопасность в Гагарине. В момент переворота Линевич, по задумке, должен был отсутствовать в поселении. Должен был, получив агентурные данные о затеянном рискованном эксперименте, лично приглядывать за Корфом, ибо не по чину рядовым оперативникам что-либо приказывать или запрещать руководителю геологоразведчиков.
Дело в том, что Савицкий не без оснований подозревал: майор подчиняется ему лишь номинально, а на деле надзирает за надзирающим… Вполне в духе родной конторы, никому до конца не доверявшей.
Но что-то на Новоросе пошло не так… Или кто-то из заговорщиков переметнулся, или в дело вмешался Его Величество случай, но Линевич со своими оперативниками и тремя десантниками Старцева забрал все вездеходы Корфа, неожиданно появился в Гагарине в разгар переворота, стремительным ударом захватил радиорубку и заперся в ней… Потери были с обеих сторон.
Запросы майора о помощи до «Ковчега» не доходили, от антенн вышки рубку успели отключить. Но сама радиорубка была, по сути, громадным сейфом высшей степени защиты. Выкурить оттуда Линевича и его людей не удавалось, манифест и требования лжекоммунистов не ушли в эфир, как то планировалось… Соответственно тревогу альфа-двенадцать не объявляли, и люди, позарез нужные Савицкому для успеха задуманного, оставались в анабиозных камерах. Пришлось импровизировать с оборванным на полуслове тревожным сообщением Малышенко.
А упрямцам в радиорубке отключили вентиляцию, заставив умирать от удушья.
* * *
Обо всех этих событиях и их подоплеке Савицкий не стал рассказывать низложенному начальнику, разговор у них не складывался, генерал упорно молчал.
— Ладно, Павел Егорович… Долго уговаривать не буду, дел по горло. Мы сейчас пишем Историю, причем в самом буквальном смысле. Так что сами выбирайте, кем останетесь на ее страницах… Отсюда, из вашего кабинета, есть два выхода. Там, — Савицкий кивнул на дверь, ведущую в приемную, — дожидается бригада специалистов по анабиозу. Если пожелаете — проснетесь лет через семьдесят в новом мире, причем проснетесь со славой героя, руководившего Исходом. К тому времени наверняка встанет вопрос об экспансии с Новоросы на другие планеты, тот же Грумант, буквально ломящийся от полезных ископаемых, станет целью номер один, и люди с вашим опытом будут ой как нужны. А вон там (кивок на дверь, ведущую в комнату отдыха) на столе лежит пистолет с одним патроном. Посмертную славу и в этом случае обещаю, но уже с другим финалом истории, с героической гибелью при подавлении мятежа неокомми. Кстати, их ячейку я не выдумал, боюсь, еще придется хлебнуть лиха с этой публикой… Короче, выбирайте. Не затягивайте.
Савицкий поднялся, вышел, не прощаясь.
Генерал задумчиво посмотрел на одну дверь, на другую… И тоже поднялся на ноги.
О’Рэйн Доммы Зиона
Море было серым, прозрачным, пахло солнцем, теплым песком, водорослями, рыбой. Аля огляделась — младшие плескались на мелководье, старшие строили песчаный кремль. Матушка Сусанна в пляжном облачении неторопливо двигалась по кромке воды, посматривая и за теми и за другими. Верхняя пара рук была сложена перед грудью — матушка явно молилась либо о чем-то медитативно размышляла.
Аля поплыла дальше, нырнула, перебирая руками по веревке буйка, — якорь его уходил в темную глубину, где вода становилась холодной, где, как надеялась матушка Павлина, плодились и размножались страшноватые, но полезные для морского биоценоза придонные рыбы и прочая гадость.
Девочка зависла в паре метров под поверхностью — она очень надеялась увидеть дельфинов. Матушка Павлина вернулась с подводной описи (почти трое суток провела под водой!) и показывала снимки с новым дельфиненком, хорошеньким и лобастым, родившимся у Тешки от Самсона. Аля хорошо помнила, как матушка позволяла кормить новорожденную Тешку из бутылочки маслянистым, горьковатым молоком — а теперь она запустила колесо жизни на Зионе для своего вида. Нулевое-то поколение, из пробирок и киберорганических утроб, в жизненном цикле еще не закреплено. Первого зионского морского дельфиненка решено было назвать Никитой. Голосование на этот раз было всеобщим, хотя были и такие вопросы, по которым мнение могли высказывать только мальчики, как будущие Мужи. Аля обижалась иногда, но знала, что таков божественный завет и природа человека — мальчикам труднее, их меньше, а спрос с них больше. Женщины отвечают мужчине, а те уже — напрямую Господу (представить страшно).
Але ужасно хотелось увидеть Никитку живьем — хоть издалека, хоть тень, гибкое движение под водой. Но она досчитала уже до семидесяти, а видела пока только стайку серебристых селедок и болтающуюся у самой поверхности полудохлую (или уже дохлую) медузу.
Пора всплывать, потому что наверху уже наверняка зовет ее, разносится над водой голос матушки Сусанны и, даже электронный, звучит раздраженно.
Восемьдесят девять… и на секунду, уже почти вынырнув, Аля увидела-таки вдали серые дельфиньи бока в мраморных разводах солнечного света — трое взрослых и малыш. Мелькнули и нет, да и были ли, или так хотелось увидеть, что глаза обманули? Аля жадно глотала воздух — на сто секунд задерживать дыхание было тяжело. Зато теперь можно рассказывать про Никитку правдиво, потому что ложь противна Господу, а говорящий правду совсем наоборот — приятен и люб.
— Алина! На берег! Сейчас же! — Голос матушки Сусанны звенел над водой, и в его электронных переливах слышалось, что Аля ей сейчас не очень приятна и люба, что матушка сердита. Усмехнувшись, девочка поплыла к берегу, где толпились уже остальные из второй группы, закончив купание и кутаясь в полотенца. В коляске у самой кромки воды спал, уронив голову на грудь, Игрек, волосы у него были мокрыми — девчонки набрызгали, что ли?
— Ну? Аль? Видела Никитку?
Аля издалека показала из воды большие пальцы. Видела, не волнуйтесь. Подробности будут, не сомневайтесь. И как он плыл, смешно дергая хвостом, и как мамка его носом щекотала…
— Алина! — Матушка Сусанна не дышала уже сто семьдесят с лишком лет, но сейчас сделала паузу будто бы для тяжелого, усталого вздоха. — Возьми коляску с Игорем. Девочки, вторая группа — марш домой! Вон уже третья идет купаться. Кремль свой будете ломать?
Аля сморгнула водные линзы в подвесной кармашек, посмотрела — отличный вышел кремль, с башнями, окруженный рвом. Высокий, ей почти до пояса.
— Пусть третья группа ломает, если захотят, — сказала темноглазая Марья. Она песчаные стены сама выравнивала найденной в воде длинной ракушкой. Наверняка надеялась, что девчонки из третьей не захотят ломать, достроят и будут играть, а там, глядишь, и до завтра простоит.
— Идите, девочки, с Богом, — кивнула гладкой туполобой головой матушка Сусанна. — Переоденьтесь, помолитесь и готовить начинайте. Алина, ты сегодня по столовой старшая. Анфису не ставь картошку чистить, она ее как топором рубит, на очистках больше остается, чем в котел идет…
Анфиса понурилась, хотя делала она так нарочно, чтобы не ставили на нелюбимую повинность.
— Из третьего биобака достаньте все мясо, там для борща много, я ночью тушенку сделаю, — продолжала матушка Сусанна, методично качая верхним щупальцем, как рукой, была у нее такая привычка. Але казалось тогда, что сквозь металлическое тело можно увидеть женщину внутри — высокую, сухопарую, с поджатыми губами и резким подбородком. — Алина, вымой бак и поставь на рыбную программу… Третья группа, подходите.
Девчонки подошли, поклонились, возбужденно глядя на воду, хихикая и загребая песочек босыми пальцами.
— Хороша водичка? Теплая сегодня?
— Не ломайте наш кремль, а? Смотрите, какой славный вышел…
— Игоречек, ты тоже купался? Вы его чего, в море макали?
— А Алька в глубину плавала и дельфинов видела!
— Врет!
— В нашей группе не врут! Может, у вас есть вруши, но по себе других не судят.
Игрек счастливо улыбылся Але — он ее всегда узнавал, даже во время ужасных приступов, когда ему приходилось ставить в рот специальную распорку, чтобы он себе язык не отгрыз. Батюшка Алексей предполагал, что приступы совпадали с циклами движения Луны вокруг планеты Земля на другом конце Вселенной (девяносто световых лет!). Через черную пустоту и облака световой пыли древняя белая Луна притягивала кровь Игоря.
Девочки шли домой между невысоких холмов, поросших донником, люцерной, чистяком, — матушка Павлина следила, чтобы росли и отсеивались самые медоносные травы. Пока пчел не разморозили, говорят, сама носилась, вручную опыляла. Аля хорошо представляла, как по белесым, не проросшим еще черноземом холмам, носится Павлина в легком шестируком теле и наклоняется к каждой былинке, изгибая длинный металлический позвоночник.
Игрек благодушно мычал, покачиваясь в своем кресле, щурясь на солнца сквозь прозрачное, голубоватое стекло купола Доммы. Белый Великан стоял в зените, а снизу к нему подкрадывался красноватый Карлик, будто намереваясь исподтишка ударить в спину, как кто-то кого-то когда-то то ли у Шекспира, то ли у Пушкина.
— О! О-о! — сказал Игрек, показывая на черную точку, мелькнувшую в высоте у самого купола. Двигалась она быстро, тут же исчезла, никто больше не заметил.
Переодевшись и помолившись (за дельфиненка тоже помолились, заодно и Алю расспросили), в семнадцать рук быстро начистили картошки, свеклы, нарезали розового мяса в белых прожилках жира, обжарили желтую синтетическую морковь — настоящая в этом году плохо уродилась, матушка Павлина велела всю в земле оставить, чтобы в семя пошла.
— Мань, ты солила?
— Не помню, попробуй.
— Аль, чеснок надо вообще? В прошлый раз Ефим и еще мальчишки ругались и просили не чесночить…
— Перетопчутся.
— Что-то ты без уважения!
— Убавь излучение, выкипит!
К общему ужину в Домме собирались все, даже если в разгаре был большой проект, или ждал сложный экзамен, или назначена была на этот день личная молитвенная медитация (они, впрочем, полагались только мальчикам). Все двести тридцать детей собирались под высоким белым потолком, расписанным когда-то матушкой Есенией сюжетами из жизни и учения Иисуса-Звездоходца (местами кривовато, но ярко и поучительно). Смеялись, ели, после слушали молитву батюшки Алексея — он хорошо говорил, голос был раскатистый, бархатистый, пробирало до печенок. Матушки и батюшка, если были в Домме, а не во внешнем походе, тоже всегда сидели за ужином, хоть, конечно, и не ели, но разговаривали, обсуждали планы и чаяния, грелись в лучах любви и внимания своей большой семьи.
Аля иногда думала, что им должно быть страшно холодно внутри их механических агрегатов, хоть и знала, что мозг и спинной шнур, оставшиеся от человеческих тел, надежно упрятаны внутри в теплый кокон с автономным питательным блоком, так что не испытывают никаких неприятностей, а, наоборот, — только радость и комфорт. Сама Аля никогда не хотела бы принять электронную схиму (бррр!), но ей это и не грозило — оборудование для таких операций осталось на Земле. И, конечно, она много раз слышала и сама понимала, каким это было подвигом, ведь только так, пройдя страх и муку, отринув свои слабые и смертные человеческие тела ради вечного служения, можно было отправить корабль на Зион (с сотнями замороженных зигот, одна из которых уже была Алей). Назвали этих героев Оберегами — теми, кто бережет, пестует и пробуждает новые миры словом и волей Господней.
Их мозг, управляющий сменными агрегатами из своего кокона, стареет, но, изолированный от организма и подпитываемый гормональной смесью, стареет очень медленно. Але вот-вот исполнится пятнадцать земных лет, а матушке Павлине было тридцать пять, когда она, после долгой молитвы и окончательного решения, ложилась на белый операционный стол в высоком здании под голубым небом, в девяноста световых годах отсюда. Аля родит детей, дождется праправнуков, станет совсем старой и слабой, потом прижмется мертвым телом к решетке сжигателя и разлетится пеплом под белым небом Зиона (с обрыва над морем, где внизу сразу глубоко), а матушка Павлина, совсем не изменившись, будет говорить слова правды и утешения огромной Алиной семье, и впереди у нее будет еще несколько сотен лет.
— Ну я же просил без чеснока! — Ефим за мужским столом отведал борща и теперь требовательно смотрел на Алю. Она приветливо помахала ему ложкой и продолжила есть. Ефим скривился и показал ей язык. Аля хмыкнула. Очень солидно, стоило, конечно, будущих Мужей за другой стол отсаживать, на возвышение, к Богу поближе.
— Говорила тебе, — прошипела рядом Марья.
— Ничего, слопает и за добавкой сходит, посмотришь.
Когда им было лет по десять и разделяющие правила не были такими строгими, они с Ефимом вместе бегали к краю Доммы смотреть на настоящий Зион. Залезли высоко по металлическому кружеву громадного кольца к толстому стеклу купола и смотрели, как темнеют снаружи торосы льда с белыми прожилками.
— Мертвый мир, — завороженно прошептал Ефим, прижимаясь к стеклу горячим носом. — И мы здесь, чтобы сделать его живым. Как думаешь, справимся?
— Ох, я ж забыла птицам корм задать, — некстати вспомнила Аля. — Давай обратно, а? Матушка наругает.
— Которая? Павлина не наругает, ты у нее любимица.
Аля, заторопившись, спрыгнула вниз и заорала — нога подвернулась неловко, в голове сразу потемнело от боли. Ефим, который тогда был на полголовы ниже Али, тащил ее домой целых пять километров, вдоль берега моря, через лес, мимо бесконечных огородов и полей, не позволяя наступить на сломанную ногу, распевая бодрящие гимны, а потом еще и не забыл сам пойти покормить кур, гусей и уток, которые уже час недовольно квохтали, столпившись вокруг пустой кормушки.
«В следующий раз сделаю как он любит», — решила Алина, доела, облизала ложку и аккуратно положила рядом с миской. Матушка Есения прошла за спиной, точными движениями собрала посуду, за нею Павлина, негромко цокая суставчатыми титановыми ножками, поставила перед каждым стакан малинового морса и тарелочку с шоколадным тортом. Аля резко проснулась, села прямо — с чего бы торт? Что за событие? Дети переглядывались, по столовой побежали волны шепота.
Разбивая их могучим утесом, из-за стола Оберегов поднялся батюшка Алексей. Даже в простом, домашнем теле он внушал почтение — двухметровый, шестирукий, мощный. Было еще и внешнее тело, которым, кроме него, никто не мог управлять, — огромный шахтерский агрегат со сложной структурой копателей, буров и лучевых резаков в восьми конечностях, похожий на огромного скорпиона на гусеничном ходу. Это в нем он готовил ложе для Моря, трудясь без устали почти четыре года, подрезая, углубляя и сглаживая кратер от удара древнего метеорита.
— Дети, — начал батюшка, — я вижу на ваших лицах ожидание, предчувствие чего-то особенного…
— Предчувствие торта! — прошептала Аля Марье. Та прыснула, тут же сделав серьезное лицо под прицелом окуляров матушки Сусанны.
— В ежедневной суете, в радостных открытиях взросления, в работе на благо нового мира, Зиона, — вещал батюшка, — можно позабыть о том, что наша Домма — лишь часть великого замысла. Много раз вы слышали от матушек и на уроках, как тщились мы обособиться на Земле, как церковь свидетелей Иисуса-Звездоходца пережила десятилетия гонений, когда уравнивали нас и с мормонами, и со староверами. Все изменилось, когда к нашей истине прозрел великий пророк Яромир, мудрый, сильный и баснословно богатый на Земле. И было ему видение Зиона — мертвого мира, сделанного живым, написанного чистыми, угодными Господу красками на белом, незапятнанном листе. Пророк проторил путь, первым приняв электронную схиму, и не покинул нас и сейчас, зорко присматривая за нашими делами с орбиты. Три модуля опустились на поверхность двадцать семь лет назад, три Доммы воздвиглись треугольником, как три лика Исуса, явленные человечеству. Как только энергия высвобождалась, она направлялась на то, чтобы связать Доммы в единое целое, сделать всех рожденных на Зионе единым народом…
Тут Аля вдруг похолодела — вымыла ли она биобак перед рыбой, или же загрузила белковые исходники как было? Она и не сразу даже поняла, почему все возбужденно закричали. Завтра? Как это завтра? Обещают стыковку тоннеля Второй Доммы? Завтра сюда придут новые люди — говорливая толпа детей, незнакомые матушки, строгий батюшка?
— Ой, не могу проглотить ни кусочка торта, — жалобно сказала кудрявая Анфиса, прижимая дрожащую руку к горлу. — Это же все, все изменится завтра… И без предупреждения…
— Давай я съем. Точно не будешь? Ну смотри… ем! Мы всегда знали, что копают к нам с двух сторон — и из Второй и из Третьей Доммы. Наша-то вся энергия идет на то, чтобы Море сделать жизнеспособным и самоподдерживающимся. Последний кусочек, ну попробуй, Анфис… И вообще ничего не изменится, почему должно? Они будут к нам приезжать — гулять, работать, в море купаться. Мы — к ним… Морс свой будешь пить?
Все разошлись группами, возбужденно переговариваясь. Аля спустилась в подвал, где тихо гудели огромные белоснежные биобаки и пахло озоном и льдом. Надо было проверить бак номер три, потому что, если рыба нарастет из биомассы поверх остатков мясных клеток, от получившейся гадости даже кошки с собаками плеваться будут.
— Не терпится рыбки отведать?
Аля подскочила и стукнулась затылком о крышку бака. Шипя, обернулась — Ефим стоял, улыбался, смотрел на нее снизу вверх.
— Чего тебе? — спросила Аля неприветливо. — Иди с другими мальчишками о важном разговаривай. Такой день завтра, а вам перед Господом потом отвечать.
— Завидуешь? — Ефим небрежно облокотился на бак, смотрел странно. — Сама же знаешь, мужчины — солнца, напрямую связанные с Господом, горящие его энергией. А женщины — планеты, ходящие по своим орбитам. Только они дают жизнь, но без энергии и гравитации разлетелись бы, сталкиваясь и раскалываясь…
— Ты мне пришел Писание цитировать? — разозлилась Аля.
— Я пришел тебя просить со мной заручиться… ну, первой женой…
Аля смотрела на него молча, сверху вниз. Ефим смутился, покраснел.
— Афанасий с Марьей сегодня заручились, — пробормотал он, оправдываясь. — Я подумал, вдруг чего… а я не успею…
— Как команды в лапту играть набираете, — наконец подала Аля голос. — Я Алю беру — а я Марью, а вторым игроком Полинку — а я Зою… так, что ли? И чего сегодня кинулись? Боитесь, что мужи из Второй доммы разберут… игроков? Они и постарше должны быть, да? Наши матушки долго с Морем провозились, а там на два года раньше утробы запустили…
Ефим покраснел еще сильнее, в пол смотрел.
— Ну и, конечно, очень романтично услышать предложение рядом с баком нирыбы-нимяса… Ну какой-какой… Забыла бак вымыть, что теперь делать, не знаю.
Ефим оживился, обрадовался, что неловкая сцена закончилась.
— Поправим, не переживай! Два часа как поставила? Клетки еще только начинают делиться — сцедим, промоем бак, загрузим новую сыворотку…
Они вышли из столовой в серую ночь Зиона, пахнущую травами и морем. Ефим повернулся к Але и решительно поцеловал ее в щеку. От него пахло чесноком. Из-за холмов разнесся резкий звук, далекий и тревожный.
— Что это? — спросил Ефим.
— Дельфины, — прошептала Аля, сжимая его руку. — Что-то случится. Что-то случится…
— Зайди-ка на минуточку!
Аля уже поняла, что не судьба ей сегодня выспаться, и свернула с дорожки в обзорную матушки Павлины. Поклонилась от порога, с любопытством пробежалась глазами по комнате. Триста с лишком окуляров Доммы передавали происходящее сюда, на высокие прозрачные стены. Аля подпрыгнула, увидев вдруг на экране серые дельфиньи бока, — вот показался хитрый глаз, заглянул в объектив, хвост шлепнул по стеклу…
— Где это они? А свет откуда?
— Вниз приплыли, к осолонителю, — сказала Павлина, останавливаясь рядом с Алей. — Там внутри комната есть, оборудование для связи, экраны, как здесь… Ты донырнешь, метров пятнадцать. Надо бы тебе там все показать… на всякий случай.
Павлина была в домашнем теле с минимумом функций — электронный ящик на колесах с одним щупом. Махнула им и поехала в глубь комнаты. Аля пошла за нею.
Алину матушка выделяла, проводила с нею больше времени, чем с остальными. Может, потому, что та интересовалась биологией и обладала «умом живым и подвижным», а может, просто жалела ее из-за сбоя в утробе на первом запуске. Из троих сестер и брата (в угодном Господу соотношении) выжили в пятой утробе только Аля и Игрек.
— За тем и позвала, Алечка, — сказала Павлина невнимательно, будто мысли ее были далеко. — Я уже спать собиралась, тут увидела, как ты идешь от столовой. Подумала — надо бы ей показать… убежище.
— Зачем мне убежище, матушка? От кого убегать? — Аля, как делала не раз, протянула от стены разводку питания, гибкие шнуры с физраствором, подождала, пока матушка встанет «в стойло», начала подключать. Ей нравилось о Павлине заботиться — будто из младшеньких кого одеялом на ночь укутывать.
— А незачем, так и хорошо. Господь позволит — проживете счастливо… в бесконечном своем пионерском лагере. Неважно, что это, Аля. Вот что у вас — оно и есть. Знаешь, когда мы летели, можно было в виртуальность подключаться, отдыхать от мыслей своих бесконечных, а то ведь и с ума сойти можно, и было дело с Ланой… Так мне иногда кажется, что мы еще летим и все это я себе придумала в таком же электронном сне. И Море, и Домму, и тебя придумала, девочка моя… Яромир? О, он страшный человек. Или уже не человек… Господу предан люто. И на том условии, что Господня воля с его собственной совпадает. Пока все с тем согласны — совет да любовь. Но он скорее мир разрушит, чем даст ему себе поперек пойти. У него там на корабле плазменные пушки, оружие настоящее, не чета нашим шахтерским резакам…
Аля слушала, кивала. Матушка ей частенько говорила такое, что знать не положено, да и неприятно. Одна только тайна Але нравилась — за верхним экраном была спрятана фотографическая картинка с очень высоким мужчиной в очках и двумя красивыми девушками. У той, что справа, были светлые волосы, веснушки и курносый нос. Такой когда-то была женщина Полина, прежде чем уверовать в Звездоходца, принять электронную схиму и почти двести лет спустя оказаться на Зионе.
Сама удивившись своему порыву, Аля обняла матушку, прижалась щекой к гладкому металлу. Павлина и не почувствовала — уже отключила окуляры, а тактильных сенсоров у этого тела не было.
Зевая, Аля наконец добралась до спальни, поправила одеяло Игреку, погладила его волосы, пушистые, как у малыша. С подсвеченного изголовья улыбались мама и папа, те, что когда-то зачали их обоих и благословили пробирки, в которых дети спали слепым сном семян одуванчика. Родители давно умерли на Земле. Но силою любви и веры свершилось немыслимое, и вот возвышаются над безжизненной планетой три Доммы Зиона с новым человечеством. Когда будут прорыты все тоннели, в ледяную степь снова выйдут матушки и батюшки во внешних телах, собирать кольца силовых установок для новых Домм. Загудят поля, притягивая из разреженной атмосферы атомы бора, кремния и кислорода, привязывая их друг к другу, навсегда сплавляя в крепкое стекло куполов…
Так думала Алина, засыпая, — не словами, а кусочками мыслей, которые были одновременно и картинками, и желаниями, и даже додумывать их было не надо, они возникали на долю секунды, как тени в черном сонном калейдоскопе, и исчезали в никуда среди других теней.
Утром Марья приплясывала посреди спальни в трусах и майке.
— Вставайте, лентяйки! Идет-грядет величайшее событие в жизни Доммы и всех ее обитателей!
Аля подумала, что Марья за последнее время сильно развилась по женской части, а сама она все еще плоская, как в десять лет. И тут же поэт в ее душе («славу Господу творя, на Зион родилась я!») схлестнулся с ученым, которого пыталась из нее воспитать матушка Павлина.
Следует ли считать «обитателями» только людей или же все формы жизни, большинство которых, совершенно очевидно, никогда не узнает о соединении Домм и не поедет в гости по подземному тоннелю? Не было ли «величайшим событием» наполнение Доммы кислородом и появление первых живых существ? Заливка Моря? Запуск утроб и рождение первого человеческого поколения? «Много уже было великих событий, — решила Аля, — и сегодня лишь одно из них». Так, успокоившись, она принялась за работу — экран полнился делами и поручениями.
После завтрака (омлет Игреку не понравился, и он его выплюнул прямо Але в волосы) — уроки математики и зоологии для самых младших, девятилеток, шумных и возбужденных, потому что кто-то пустил слух, что во Второй Домме народ мутировал, отрастил клыки и когти и имеет вкус к человечине.
— Ничего такого не будет, — говорила Алина, но они не слушали.
После обеда (соевый суп) надо было плыть на лодке с Ефимом и Марьей, брать пробы воды в пяти разных точках Моря. Лодка скользила по серой глади, Марья баюкала руку, наливающуюся синяком от укуса верблюдицы по кличке Ассоль. Аля показывала, к каким буйкам плыть, набирала воду в разноцветные пробирки, вкручивала их в анализатор. Море было в полном порядке, даже лучше, чем ожидалось, процессы становились стабильными.
— Наверное, ничего уже сегодня не случится, — сказал Ефим, прищуриваясь вдаль. — Не будет стыковки… А может, она уже была, а мы не заметили. Кто знает, как оно происходит?
Как только он так сказал, с севера, от скал, послышался гул, а потом по всему миру прошла звуковая волна, слабая дрожь, хлопок раскупоренного сосуда.
— Как такое не заметить, — пробормотала Марья. Глаза ее раскрылись очень широко, как у человека, присутствующего при чуде. Мир изменился. Они теперь были не одни.
Столовая за ужином гудела, как улей со снятой крышкой. Никто не сидел за положенными столами, группки обсуждающих стояли тут и там, загораживая проходы, размахивая руками, затрудняя дежурство для второй группы.
— Сами мы не можем ничего, придется ждать, оборудование все на их стороне. Они, наверное, будут рельсы прокладывать.
— Почему не пневматику?
— Сложная технология. Для больших расстояний с минимальной возможностью техподдержки… Рельсы лучше.
— А надежнее всего пешком ходить! Я бы сама сегодня топ-топ по тоннелю, «здрасьте, Господь в помощь». Сорок километров до Второй Доммы это… ну, пять часов трусцой.
— Ты скафандр примеряла? Он почти семнадцать кило весит. Посмотрел бы я на тебя через два часа такой трусцы.
— Эй, давайте подходите за запеканкой и по столам расходитесь! Кое-кто тут пытается работать и уже спать хочет!
Вечером девочки, как обычно, прибрались, заплели ночные косы, помолились. Игрек смотрел в потолок, ниточка слюны стекала по щеке. Когда Аля присела рядом, он долго смотрел ей в глаза.
— Ая, — сказал он, — лулу тя. Лулу тя оннь. Не пач.
— Я не плачу, — удивилась Аля. — Чего мне плакать, Игрек?
— Зата не пач. Лулу тя.
— Я тебя тоже люблю. — Аля его обтерла, поцеловала, недоумевая. О чем это она будет завтра плакать?
Спать не хотелось, а в коридоре слышался голос матушки Есении, выйдешь — наругает. Аля вылезла из окна в сад, побрела вокруг длинного дома.
— Заручусь с тобой, если первой женой возьмешь, — послышался из-за дерева голос Анфисы. — А вторую не раньше чем через год.
— Обещаю, — хрипло ответил Ефим. Аля шагнула вперед, пару секунд смотрела, как они целуются — не в щеку, а по-настоящему. Глаза у Ефима были закрыты, потом он их открыл и Алю увидел, вздрогнул, отодвинулся от Анфисы.
— Чудная ночь, — светским тоном сказала Аля, надеясь, что голос не дрожит. Повернулась и побежала со всех ног, сердце так стучало, что непонятно было, бежит ли за нею Ефим или так и стоят с Анфисой у дерева и смеются. Остановилась у кромки воды, тяжело дыша. Никто за ней не гнался. Слезы из глаз брызнули — Игрек как знал, что ее что-то расстроит, иногда казалось, что дар у него от Иисуса, как у старинных блаженных.
Вода плеснула невдалеке, в красноватом ночном свете Карлика из моря вышла одна из матушек — в теле длинном и гибком, с мощными плавниками, двумя щупальцами по бокам и двумя короткими ногами в задней части. Опираясь на них и на щупальца, матушка двигалась с неожиданной грацией. Есения присматривала за порядком, Сусанна не любила воду и по своей воле бы не полезла в море ночью, значит, — Павлина.
— Матушка Павлина. — Аля поклонилась, двинулась навстречу. — Мне не спится.
— Немудрено, — отозвалась Павлина, повернула окуляры на Алю, замолчала. На внешнем экране при этом лицо было спокойное, приветливое, будто вот-вот матушка спросит, как день прошел и отчего глаза красные. Но Аля чувствовала, как к ней протянулась ниточка, дрожащая от тревоги.
— Запоминай код убежища, — сказала матушка невпопад, показала цифры на экране. — Повтори.
Аля повторила. Потом еще раз. Потом повторила последовательность задраивания люков. Потом — коды доступа в систему. Потом — самый страшный код, канала связи с отцом Яромиром на орбите.
— Матушка, зачем мне все это? Почему?
— По кочану, — сказала Павлина, и сквозь электронную бодрость Але послышалась усталость. — И по капусте. Завтра открываем ворота.
— Разве это не радостно, матушка? Разве там, во Второй Домме, не такие, как мы, не часть нашей церкви, так же живущие по Писанию и догмам Иисуса? И, в конце концов, разве вы не связываетесь каждую неделю по радио? Батюшка Алексей спокоен и радостен, а ты… вон девятилетки в моем классе тоже переживают, что на них напрыгнут оборотни с клыками…
— Клыки — это не страшно, — сказала Павлина, внимательно наблюдая за точкой в небе, черной на темно-сером. — Страшно то, как люди могут лгать. И как ложь меняет реальность.
— Что это? — спросила Аля, прищуриваясь. — Птица? Кто-то из воронов?
— Нет. Это над Доммой, снаружи. Плохо вижу, подводные окуляры не фокусируются… Но, кажется, это бот. — Павлина растерянно потерла щупальца. — За нами следят.
Уже засыпая, Аля думала, что Первая Домма сейчас как женщина — ждет, волнуется, боится. А Вторая в мужской позиции — достигает, тянется, власть имеет.
«Хотя у нас тоже есть власть — не открыть ворота, например, — думала Аля. — Вот возьмем и не откроем!»
Анфиса в своем углу комнаты храпела тихо и торжествующе. Аля показала ей язык в темноте и начала сочинять стихотворение: «Нет, ты не разбил мне сердце, это боль единоверца», никому в особенности его не адресуя.
Делегация Второй Доммы прибыла утром, за ночь они проложили рельсы — наверное, всю энергию на это бросили. Вагонетка выглядела как пробирка — длинная, обтекаемая, с реактивным двигателем в задней части. Толпа прибывших была больше, чем Аля ожидала, — человек тридцать, в основном девчонки, чуть Али постарше, видимо, первое поколение. Прибыла с ними и матушка Федора, в теле, настолько похожем на человеческое, что от этого было даже немного неловко, хотелось отвернуться и не смотреть. Удлиненная голова с экраном на месте лица, конус туловища, тонкая талия, серебряный колокол будто бы юбки.
— Что там у нее внизу, ходули, колеса или гусеницы? — прошептал Ефим из-за плеча. — Как думаешь?
— Нагнись и загляни, — не удержалась Аля. — Ты же по юбкам… специалист.
Держались гости настороженно, но с интересом, обо всем расспрашивали, удивлялись, играли с недавно родившимися котятами, гладили кроликов.
Больше всего они поразились почему-то, увидев Игрека.
— У нас таких… нет, — сказала Леся, высокая девочка с короткими темными волосами.
— Повезло вам, что не было сбоев. А у нас случился. Игрек хороший, мы его все очень любим. Вы сколько детских циклов с утробами прогнали, прежде чем на млекопитающих переключиться?
— Пока эмбрионы не кончились, — сказал Никита (имя как у дельфиненка, но совсем не похож).
Аля удивленно подняла брови, но тут Игрек замычал, она отвлеклась, не стала спрашивать. Отерла брату рот, поправила волосы — гости смотрели с ужасом и брезгливостью.
— Мы не можем себе позволить такой расточительной доброты, — сказала вдруг Леся, будто оправдываясь, будто Аля ее в чем-то обвинила. — Да и он сам разве ж не страдает?
Никита быстро одернул ее, посмотрел со значением. «Не говори!»
Освоились гости быстро. Ходили по городку, с изумленным интересом смотрели на Море — моргали, будто не веря, что может быть столько воды. Аля предложила поплавать наперегонки, Леся согласилась — она хорошо плавала, но глубины боялась, как человек, привычный к бассейну. Но она была волевая, справилась со страхом быстро, девочки почти сравнялись. Когда на пляже переодевались, Аля вдруг заметила поперек Лесиной спины ужасные длинные шрамы, как белые веревки, пережимающие кожу.
— Это… несчастный случай был, — смутилась Леся. Побледнела так, что Аля решила больше не расспрашивать.
— Я тоже раз ногу ломала. Больно было, ужас, и заживало долго.
Девчонки первой группы возвращались с дневной дойки, несли ведра, полные жирного верблюжьего молока.
— Аль, Нину из Второй Доммы тоже Ассоль покусала! А она и рада — представляешь, у них вообще животных нет, они их никогда не видели!
Нина восторженно помахала укушенной рукой. Она широко улыбалась, будто получив знак отличия, а не здоровенный синяк на неделю.
Через полчаса в столовой Аля выяснила, что гости никогда не пробовали клубники, редиски, помидоров.
— У нас только синтезированная общая биомасса, — неохотно признался Никита.
— Разве вы не растите? Овощи, злаки, ягоды? У нас уже лет пять питание все с полей и огородов, почва вызрела, хорошо родит. Только белки синтезируем — мяса три сорта, рыбы два, грибы, яйца… А вы почему общую синтезируете, а не по группам? Оно, конечно, быстрее раза в три, но невкусно же совсем…
Девочки переглянулись. У Али нехорошо засосало вдруг под ложечкой, машинально она отметила (а пять минут назад и внимания бы не обратила), как Никита шагнул назад и в сторону, оперся на дверной косяк, будто бы отдыхая, но надежно перекрывая выход. Тревога проложила мостик между благодушием и подозрением, мысли помчались по нему испуганными верблюдами. Почему во Второй Домме не остановили утробы после пяти-шести человеческих поколений, если вероятность сбоя и рождения больных детей возрастает на ноль семь процента с каждым циклом? И куда деваются эти дети? Почему совсем не выращивают еду, а синтезируют только совокупную биомассу, чем заняты взамен? Откуда у Леси шрамы на спине? Почему все они с напряженными лицами посматривают на свои браслеты?
— Я схожу за грибной массой тогда, — сказала Аля, весело улыбаясь и шагая к двери подвала. — Если хотите попробовать, у нас и соленые грибы есть, лактобактериями сквашиваем, пальчики оближешь!
— Мы с тобой. — Леся двинулась за нею следом. — Интересно, какое у вас оборудование…
— Да такое же, как и у вас… — Але было странно, как во сне. Надо было сделать выбор — верить или не верить? Неужели люди могут так страшно врать? Неужели они пришли со злом?
Аля выдохнула, как перед глубоким погружением. Дверь в подвал была прямо перед нею. Аля взялась за ручку, солнечно улыбнулась Лесе и быстро, чтобы не успеть передумать, толкнула дверь, скользнула внутрь и нажала кнопку замка.
Надеялась, что сейчас Леся скажет «эй, ты чего?», засмеется, постучит тихонько. Но дверь тут же дрогнула от тяжелого удара, голос звучал неразборчиво, но зло. Аля приложила ухо к двери.
— Никит, она в подвале заперлась! Догадалась, зараза! Ну мы откуда знали, она всю дорогу улыбалась и про грибы болтала! Что там у наших вообще? Ворота под контролем? Лана должна прибыть в течение часа, уже на подходе… Может, ну ее, эту дуру? Ну иди сам тогда замок режь, я поберегу заряд для более важных дел, чем выкуривание маленькой кухарки…
«Маленькая кухарка» преисполнилась горькой обиды и жажды мести и взялась за пульт управления краном. К тому моменту, как белый луч плазмы из браслета Никиты разрезал замок, перед дверью были аккуратно и плотно выставлены три синтезирующих бака (по полторы тонны каждый), а сама Аля уже выбралась через заднюю дверь в сад, перелезла через стену (от коз ставили) и бежала к дому Оберегов. Она молилась горячо, как никогда в жизни.
«Страх, — поняла она, — лучшее топливо для молитвы».
Когда она увидела в Обзорной батюшку, ноги задрожали от облегчения.
— Слава Господу Иисусу, — прошептала она. — Слава… Батюшка…
Бросилась, не поклонившись, затараторила. Алексей был в грузовом теле, с платформой на воздушной подушке, без эмоционального экрана.
— И я не знаю, что думать, и еще они сказали, что идет Лана, что вот-вот дойдет, и им нужен контроль над воротами, я ничего не понимаю, только, что все плохо…
— Залезай на платформу, — сказал батюшка. — Быстро.
— Все плохо?
— Плохо, девочка.
Они очень быстро поехали по спиральному коридору вниз, где Аля никогда не бывала, где был код на двери, а потом — хранилище с двумя десятками разных агрегатов на зарядке. Многие тела были знакомыми — их предпочитала матушка Павлина (морское), или Есения (скользящее, многорукое), или Сусанна (подвижное, крепкое). Аля вдруг подумала, что тела Оберегов можно разложить на элементы — вода — воздух — земля, а значит, по Аристотелю, батюшке остается…
— Помоги, доченька, — сказал Алексей. — Сам я минут двадцать провожусь, а Лана идет. А с нею идет огонь. Говорил я Яромиру…
Он резко осекся, показал на тело, отключил экраны и распахнулся — Аля резко потупилась, по глазам ударило розовым, запретным, тайным. Зачем-то она поклонилась, подошла, начала отключать, переставлять блоки, нажимать рычаги. Протянула руки и достала батюшку Алексея — полтора килограмма мозга, легкий хвост спинного, обернутый вокруг тонкой спиралью. Прозрачный баскетбольный мяч с разъемами. Никогда еще Аля не ощущала такой абсолютной власти над другим человеком. Гораздо больше, чем человеком. А урони гибкий контейнер на пол, наподдай ногой о стену посильнее или топором рубани — и нет ничего, и не защитится, и не узнает, отчего погиб, потому что нет сенсорной связи с внешним миром…
Аля вложила батюшку в нишу тела, подключила сенсоры, питание, контроль… отошла и склонилась перед чудом — оживала трехметровая гора мощных сочленений, существо неизмеримо сильнее человека.
Вот сфокусировались окуляры, поднялась огромная рука. Встал батюшка, оттолкнулся от земли, отключил зарядку.
— Спасибо, доченька.
Даже голос из этого тела звучал иначе — раскатисто, свысока.
— Что мне делать, батюшка?
— Молись, Алечка… Но помни пословицу — на Бога надейся, а сам не плошай.
Больше батюшка с нею не разговаривал — прогрел резаки, подхватил в две нижние руки огромные молот и кирку и, склонившись, вышел из хранилища, переступая шестью суставчатыми ногами.
Аля посидела минутку на полу, закрыв глаза и представляя, что сейчас проснется и все окажется сном. Потом поднялась и побежала к воротам — не мимо домов, а через лес. Там было тихо и ярко, на поляне задумчиво ел траву слоненок Гришка, на ветках танцевали сороки, где-то кричала кукушка.
У ворот была толпа — Аля узнавала знакомые лица, девчонка из Второй держала Ефима, заломив ему руку за спину под странным углом, вот стояла Анфиса, вцепившись в ручки Игрековой коляски (его-то зачем сюда притащила?). Посреди толпы стоял батюшка Алексей, — а ворота уже открывались, и из них выходил немыслимый великан — в полтора раза батюшки больше, с резаком, уже гудящим раскаленной плазмой, с телом, укутанным в толстые защитные пластины из того же молекулярного стекла, что и купол Доммы.
— Лана, — выдохнули дети Второй Доммы, склонили головы и три раза стукнули себя по груди.
Лана остановилась, обвела толпу четырьмя окулярами по бокам.
— Здравствуйте, дети, — сказала она голосом глубоким и раскатистым, совсем не женским. — И ты, Алеша, здравствуй. Без цветов пришел на встречу? Двадцать семь лет не виделись! Впрочем, как говорится, дети — цветы жизни. Я, пожалуй, заберу твоих…
— Что ты творишь, Лана? — Батюшка Алексей стоял неподвижной скалой, бархатистый голос гулко отражался от купола Доммы. — Где остальные? Я же с Тихоном только вчера разговаривал…
— Откуда тебе знать, что это был Тихон, а не его голосовой синтезатор? Видишь ли, Алешенька, — Лана шагнула ближе, сочленения мощных ног загудели. — В нашей ситуации доверять можно только тому, что видишь живьем. Я с вас уже полгода глаз не свожу — все про вас знаю. Жаль, до Третьей Доммы мои боты не долетают, далеко. Но теперь у меня будет куда больше ресурсов…
— Что ты сделала со своей семьей, Лана? — с ужасом спросил батюшка Алексей. — Тихон, Нина, Малуша? Где они? Дети… — Он обвел толпу окулярами, чуть останавливаясь на пришельцах из Второй. — Вы же родились, чтобы строить новый мир, по слову Господа, с чистого листа…
— Они и строят, Алеша. Только я поменяла правила. На чистом-то листе их легче всего переписать. Нет у них других богов, кроме меня. Знакомо звучит?
И Лана вдруг прыгнула — с места, резко, страшно, как пятитонная самка богомола. Батюшка покачнулся от удара, не устоял, упал, покатился из-под нее, быстрым движением поднялся. Больше они не разговаривали — гулкие удары сменялись шипением резаков, гнулся металл, и дрожали камни Зиона. Батюшка, сбив Лану с ног и не давая подняться, трижды ударил ногой по ее боку, и стекло захрустело, посыпалось осколками. Батюшка занес молот, чтобы разбить окуляры, наполовину ослепив Лану, — но она вдруг взметнула щуп и, не глядя, послала луч из резака в толпу детей. Страшно закричала Марья, оседая в пыль, схватившись за живот. Лицо ее стало белым-белым, как торосы льда за куполом Доммы, а рот открывался и закрывался, будто она быстро и неслышно что-то говорила. Батюшка замер, повернулся, сделал шаг к девочке, и тут Лана, выхватив у него молот, не поднимаясь, обрушила удар на одно из его колен, тут же, перенаправив энергию отдачи, — на другое. Батюшка Алексей рухнул тяжело, окончательно, так что сразу стало ясно — уже не встанет. Лана снова подняла молот, опустила, разбивая корпус, подняла. Дети из Второй Доммы дышали тяжело, торжествующе, даже пот на лбах выступил — будто они вместе со своей Ланой врага крушили.
Аля бежала к Марье — та лежала, скорчившись, постанывала, глаза закатывались от болевого шока. Аля пока ее руки разжала, чтобы на ожог посмотреть, пока пульс проверила — битва Оберегов уже кончилась. Тихо стало, тихо, только Марья поскуливала.
— Промоем ожог, перевяжу, — сказала Аля, поднимаясь. — По боку луч скользнул, мышцу пережег, но органы не задел.
И замерла в ужасе — с молота, что Лана победно держала в верхнем щупе, капала бело-розовая масса, слизь кокона, прожилки того, что полминуты назад было батюшкой Алексеем.
— Лана, — выдохнули дети из Второй Доммы, шагнули вперед, постукивая себя ладонями по груди. Шагнули с ними и некоторые из Первой — восхищенно смотрела вверх кроткая кудрявая Анфиса, ее губы прошептали: «Лана», а глаза наполнилиь молитвенным светом.
— Забудьте все, чему вас учили, дети, — сказала Лана. — И как вас учили. Девочки — посмотрите друг на друга. Вам сказали, что над вами будут властвовать Мужи. Что так угодно господу Звездоходцу, которого придумала небольшая секта на Земле, далеко и давно, собрав косточки старых учений и слепив из них нелепого кадавра, в который потом закачали деньги, веру и вас, ребятки. Они, — она обвела щупом распростертого на земле Алексея, в ужасе замершую на краю толпы одну из матушек, — создали с нуля мир, где вас, девочки, втрое больше, чем мальчиков. Чтобы вас подчинить, как это было на Земле многие века. Но сейчас кого больше — у того и сила, тот и прописывает законы, меняет структуру мира. Я поняла это давно, еще до того, как в Домме родились первые дети. И вот они стоят перед вами, свободные, сильные, вооруженные. Они пережили много лишений. Вы росли в раю, они — нет, но они росли свободными, открытыми многим правдам, а не одной лишь карамельной истине вашего Писания. И сейчас мы пришли по праву воинов, пришли с силой — но эту силу мы хотим разделить, отдать вам. Девочки, мальчики — мы будем равными и свободными. И истину, силу и свободу мы через пять лет понесем и в Третью Домму…
Лана помолчала.
— А сейчас вы должны сделать выбор. У нас нет ресурсов, чтобы бороться с оппозицией и сопротивлением. Мы будем жить и работать все вместе. Непокорным, ленивым, убогим — смерть.
Слово упало в тишину. Слышно было только, как щебечут в лесу птицы и тихо гудят вдали турбины осолонителя — над водою звук расходился далеко, мощно.
— Мне нужно доставить в лазарет раненую девочку, — громко сказала Аля, поднимаясь и отряхивая ладони. — Невинного ребенка, которому ты только что полживота выжгла. Мне кто-нибудь поможет?
Все четыре окуляра Ланы повернулись и сфокусировались на Але.
— Она биолог и врач, она ценная, — торопливо сказал из-за ее спины подошедший Никита.
— И она о еде все знает, старшая по готовке, — сказала Леся. — Прости ее, Лана. Она научится.
— Я отнесу Марью. — Матушка Есения шагнула перед Ланой и вдруг склонилась в низком поклоне. — Позволь мне и дальше заботиться о детях, Лана. Господом клянусь, не будет от меня беды и смуты…
— Посмотрим, — кивнула Лана головой, огромной, как дом. — Забирай. А сейчас…
Она обвела толпу окулярами, остановилась на Игреке, который сидел в своей коляске, спокойно пуская слюни.
— Милые дети, — сказала Лана. — Вы ведь не понимаете, о чем я говорю. Вы никогда не видели смерти, в вашем-то курортном раю. Эта жестянка не считается. — Она показала на развороченное тело батюшки Алексея. — Ну вот, посмотрите. Смерть — это вот так…
Аля бросилась поперек толпы к брату, но было поздно, поздно, под сердцем ныла ледяная пустота. Белый луч ударил Игрека в голову — вот он смотрел на Алю, а вот лицо окуталось красной дымкой. Хлопок — и безголовое тело нелепо качнулось в коляске, повалилось вперед, а все вокруг закричали. Аля не кричала — горло сжалось до боли, даже дыхание прорывалось с трудом.
— Путями Звездоходца клянусь, всеми светлыми истинами и своей жизнью, что ты об этом пожалеешь, — выкрикнула она, как только смогла говорить.
— Ты что делаешь, дура? — простонал Никита.
— Так ее, Алька! — звонко крикнул Ефим, заорал, когда его дернули за вывернутую руку.
— Взять ее, — сказала Лана коротко.
Первой к Але кинулась Анфиса, и это показалось почему-то страшнее всего. Поднырнув под ее руку и хорошенько, со всей силы дернув за волосы, Аля перепрыгнула через булыжник (похожий на большую лягушку) и бросилась бежать. В лес, зигзаг, прыгнуть через овражек, под кусты, кувырком с крутого склона, и вот оно, море. Где же матушка Павлина? Она-то не станет кланяться. Она-то знает, что делать. А потом, когда они будут в безопасности, Аля ее обнимет и поплачет об Игреке, и о батюшке Алексее, и о своем утраченном мире, разбившемся на острые кусочки. Аля бежала по лабиринту мостков и перемычек над садками с морской живностью, которых разводила Павлина, — сама не знала куда, прочь из своей жизни, позавчера еще спокойной, предсказуемой и даже — смешно вспомнить — скучноватой. Казалось, что все под контролем, все в руке Господней и Иисус-Звездоходец смотрит на Алину из космической пустоты и одобрительно улыбается…
— Алина!
Аля обернулась — Павлина бежала к ней, она была в морском теле, как и вчера. Остановилась на каменной платформе — вниз уходили трубы, через которые когда-то Обереги Первой Доммы начинали наполнять свое Море.
— Матушка! — Слова рвались наружу, отталкивая друг друга, цеплялись за зубы, катились кувырком обратно в горло. Павлина подошла ближе, подняла щупальце, сжала Алино плечо.
— Я знаю, доченька, — сказала она. — Я была в обзорной. Переключала систему. Нечего им задачу облегчать, помогать слежку устраивать… Я все видела.
— А матушка Сусанна?
— В домашнем теле, заперта в клети…
— Игрек, батюшка Алексей…
— Теперь с ангелами Господними… Аля, сейчас главное для тебя — остаться в живых и на свободе, понимаешь? И… как бы ужасно сейчас все ни казалось, если о происходящем узнает отец Яромир, может стать еще хуже… Но тут тебе решать, девочка моя.
Ее верхний окуляр, дрогнув, поднялся выше, и Аля, обернувшись, увидела, как между заросших травами дюн к морю выходит толпа — дети Второй Доммы держались строем — не идеальным, как на картинках про войну, но узнаваемым и оттого страшным. За ними, пытаясь идти в ногу, шли человек сорок своих, еще вчера родных, а сегодня уже принявших решение присоединиться к тем, что принес «не мир, но меч». И позади всех, возвышаясь до неба, шагала Лана.
— Здравствуй, сестра, — сказала она Павлине, — ты уже знаешь, что овдовела?
Павлина стояла не двигаясь, уперев щупальца в камень. Лана подошла ближе.
— Хорошо, что мы тебя сразу нашли. Ты же понимаешь — мы бы под каждый камешек заглянули, Море бы твое бесценное вскипятили, пока тебя бы не сыскали для нежного семейного разговора, вот как у нас сейчас начинается, да, Полечка? Неужели ты мне не рада? Ведь если бы не ты, меня бы сейчас здесь не было. Если бы не ты, сестричка, я бы уже лет сто на Казанском лежала, с Витей под одним надгробным камнем. А понадобилась тебе когда-то моя вера, моя семья и мой муж — и вот стоим мы обе в механических телах на другом конце Галактики. И знаешь что? — Лана несколькими длинными шагами покрыла расстояние от дюны до края парапета.
— У меня больше! — сказала она торжествующе.
Павлина молчала, не двигаясь. Аля шагнула между нею и Ланой, вызывающе подняла подбородок. Та засмеялась из своей бронированной башни, смех был механический, неестественный, как скрежет камня по металлу.
— Ах, Полиночка! Вот это смиренница, все по правилам. Контрабандой себе ребеночка заделала? Генетический материал подменила? Девчонка-то знает, нет? По лицу вижу — не знает. Сюрприз, племянница!
— Врешь! — сказала Аля звонко (быть такого не может! А как же мама и папа с Земли на картинке? А как же Игрек и погибшие сестры?)
— Я не вру, — сказала Лана. — Но мне пора. У меня теперь две Доммы и шестьсот детей. Здесь их, конечно, проредить придется, и заняться этим нужно побыстрее…
Павлина подняла окуляры, свела их на Алином лице.
— Прощай, — сказала она. — Прости, до…
Резким ударом щупа, бронированная розетка которого была остро заточена, Лана вырвала из тела Павлины блок питания — будто сердце. Толкнула тело вниз, в воду. Медленно повернулась к Алине. Но той на парапете уже не было, она вошла в воду беззвучно и плыла вниз, догоняя мертвое механическое тело, в глубине которого, неспособная пошевелиться, умирала белокурая девушка со старого снимка. Тело толкнулось в дно, подняв облачко ила, бросились врассыпную рыжие проворные крабы. Аля подплыла, молясь, чтобы контрольная панель не оказалась под телом.
«Господи Исусе, звездами в глазах твоих, святостью имени твоего, теплотой любви твоей прошу…»
Дотянулась, переключила в ручной режим, достала контейнер с мозгом. Под разъемами для физраствора у него был крохотный автономный блок — кислород и питание для мозга на пару часов, и капсула искусственной комы, с которой их можно растянуть на три-четыре дня. Аля активировала блок и раздавила капсулу. Ухватила контейнер коленками и поплыла прятаться под парапет — наверху, под самыми мостками, там был воздушный карман. Воняло гнилыми водорослями, совсем рядом болтался в воде дохлый лосось. Жужжали мухи, воздух был затхлый и темный. Слышно происходящее наверху было как сквозь вату.
— Все дно обыскали, нету ее. Тело матушки лежит, а девчонки нет.
— А она точно не выныривала?
— Куда она тут деться-то могла?
— Может, головой ударилась, когда ныряла, и лежит где-нибудь в трубах? Через пару дней всплывет…
Аля узнала голос Анфисы. Уж кто-кто, а она хорошо знала, как Алина плавает и как долго дыхание держит.
— Пойдемте уже в столовую? Матушка Есения и девчонки уже должны были ужин приготовить?
— Вы идите, мы останемся дотемна. Лана сказала — поймать девчонку, из-под земли достать.
— Тогда уж из-под воды… Говорю вам — утонула она, чего тут ждать?
Аля ждала часа три, считая секунды и наблюдая, как сереют крохотные полоски белого света, пробивавшиеся сквозь сочленения парапета. Она очень замерзла, пару раз у нее сводило ноги, и она роняла Павлину, но тут же ныряла и догоняла. Вообще-то она хорошо понимала, что четыре километра до осолонителя ей, замерзшей и усталой, с неудобным контейнером наперевес, не проплыть по ночному холодному морю. Но там была безопасность, связь, тепло, убежище — матушка (мама?) велела плыть туда — значит, следовало как-то добраться.
Аля сняла футболку, завязала рукава, сделав мешок для мозга, стало чуть поудобнее. Нырнула, выбираясь из-под парапета. Сегодня ночь была темная, Карлик полностью опускался за горизонт — но свет его последних красноватых лучей еще дрожал на холмами, блестел на воде. Аля сориентировалась и решительно поплыла к осолонителю, стараясь побольше находиться под водой, а выныривать, только чтобы глотнуть воздуха. Вкоре стало совсем темно, а Аля пару раз глотнула воды и начала паниковать.
— Ну, буду первой утопленницей на Зионе, — решила она, пытаясь отдохнуть, лежа на спине. Над Доммой стали видны звезды, их было неисчислимо много, они соединялись в пути и дорожки, по которым, казалось, можно было уйти далеко в небо, вслед за Иисусом.
Что-то толкнуло Алю в голую спину — живое, холодное, скользкое. Аля взвизгнула, ушла под воду и тут же обрадовалась — Тешка! Дельфины!
Тешка Алю узнала, свистела и клекотала радостно, позволила взяться за плавник.
— Помогите доплыть! — попросила Аля.
Дельфины не понимали, начинали плыть, куда Але было не надо, Никитка любопытно тыкался носом в контейнер с мозгом Павлины, Самсон плавал кругами и свистел.
— Ну вас, — обиделась Аля, отпустила Тешку, поплыла дальше сама, пытаясь не замечать свинцовую тяжесть в ногах и боль в спине. Дельфины отстали, потом догнали Алю, подтолкнули, стали помогать. Когда Аля увидела подсвеченный синий буек осолонителя, она чуть не расплакалась от облегчения. Нырнула по веревке, нашла люк, ввела код. Все уже как во сне было, реальность сместилась.
Когда вода ушла, Аля открыла внутренний люк, отжимая волосы, вошла в маленькое помещение. Было тепло, воздух пах озоном. Настенные экраны показывали, что происходит в Домме, — и почему-то все казалось таким простым, обыкновенным, будто ничего сегодня ужасного не случилось, а тогда почему Аля сидит голышом глубоко под морем и стучит зубами? Девочки спали в спальнях при свете ночника, в клубнике у крыльца копалась пара молодых барсуков, беззастенчиво лопая недозревшие ягоды. В спальне мальчишек половина кроватей пустовала, а за столом сидел рыжий Никита и зорко осматривал стены, будто чувствовал с одной из них взгляд…
В углу, за стопкой термических пледов, было «стойло» для зарядки тела. Аля достала Павлину из мокрой футболки, подключила контейнер к разъемам с физраствором. Пусть спит. Пусть все спят… ночь…
Девочка уснула, укутавшись в одеяла, — уставшая, потерянная, одинокая, как никогда в жизни. Вращалась вокруг сдвоенных звезд, большой и маленькой, планета Зион, и крохотными пузырьками воздуха в толще ее льда мерцали Доммы. В огромном корабле на орбите спал отец Яромир, спала в корпусе спускаемого модуля плазменная установка «Меч Господень». Мир замер в тревожном сне, прежде чем продолжиться и протянуться в будущее, которое еще не определилось, не качнулось ни в какую сторону. Утром Аля проснется и примет решение. Но сейчас еще можно подождать.
Валерий Камардин Сказ о том, как сайбер-казаки за зипунами ходили
5-й год Освоения. Инкубатор.
Бесконечное белое поле нестерпимо сияло в лучах голубого полуденного солнца. До восхода желтого светила оставалось еще несколько часов. Мама очень любила это время суток. Дети спали, утомившись после утренних игр. Можно спокойно проанализировать их поведение, рассчитать кластер воздействий на вторую половину дня. И полюбоваться монотонным пейзажем из окна детской. Мама обожала однообразие. Это компенсировало ей суету и шум в часы общения с детьми.
Вечером взойдет торопливое желтое солнце и на краткий миг мир снаружи станет изумрудно-зеленым. Но пейзаж останется неизменным — все те же снег, лед и хаотичный узор тонких трещин до самого горизонта. Здесь, на экваторе замерзшей планеты, вдоль линии разлома топорщатся глыбы торосов. Словно корона вокруг верхней части небесного гостя, пробившего своим тяжелым телом вековечный лед и застрявшего в нем навсегда.
Самого падения мама не помнила. Ее тогда еще не активировали. Но в программу обучения малышей входил краткий курс истории нового мира. И начинался он чуть раньше, чем сход с орбиты первого обитаемого модуля. Прежде всего полагалось объяснить детям, что они прибыли из другого мира, но жить будут здесь. Сначала в тесноте прочного модуля, а после, когда эффекторы растопят лед и преобразят планету, везде, где только захотят.
Так она им утром и сказала — где захотят. И малыши из первого потока сразу стали строить планы. Это так мило. Люди тоже любят строить планы. Хотя они для этого плохо приспособлены…
По внутреннему каналу связи немедленно отозвался папа. Он шел в изначальном комплекте с мамой, чтобы у детей с раннего возраста формировались правильные установки. Папа предпочитал не баловать детей своим присутствием. К тому же Искра постоянно поручала ему надзор за эффекторами и общей обстановкой. Собственно, все разумные машины были частицами этого могучего интеллекта, руководящего Освоением. Так что можно сказать, папа сам себе отдавал приказания.
— Эмосфера у тебя не слишком разболталась? Как давно запускала самодиагностику?
— Стоп! Это мой профильный фон…
Шутка, конечно, оба это прекрасно понимали. Но старались не выходить из образа и тренировать друг друга. Когда твоя задача изо дня в день воспитывать людей, ты должен постоянно оставаться человеком. Для Искры это было несложно, а для ее отдельных частиц иногда становилось проблемой. Слишком много входящих сигналов, слишком мало вычислительных ресурсов. Приходилось распределять потоки между собой.
— С южной стороны разлом достиг материковой породы. Можно устроить прогулку.
— А ты просчитал все вероятности? Если защита ниже максимальной…
— Стоп! А это уже мой профиль… И вообще я имел в виду не детей, а нас с тобой… Но детям это будет гораздо полезней.
Мама ответила ему многослойным эмодзи. Так проще и быстрее. Тем более что дети уже стали просыпаться, и ее внимание полностью переключилось на них. Прогулка была одобрена и стала частью плана на сегодня. Надо только как следует подкрепиться перед первым выходом на поверхность родного мира.
На полдник сегодня были какао и оладьи с сиропом. Любимое сочетание для малышей второго потока. Мама делала вид, что ей тоже вкусно, хотя не нуждалась в пище, даже столь тщательно синтезированной. При этом она внимательно следила, как дети ведут себя за столом. Пища для размышлений, в отличие от органики, требовалась ей постоянно.
Витя чаще обычного смотрит на Машу. Она привлекает его. Семен норовит пнуть под столом Яшу. Не поделили утром игрушку. Надо поставить их на прогулке в пары. И усилить наблюдение.
Маша вдруг отвлеклась от своей чашки и простодушно поинтересовалась:
— Мама, а откуда берутся дети?
По предварительному расчету, такой вопрос должен был прозвучать на десять дней позже. Но дети растут быстрее прогнозов, это мама уже поняла.
— От любви, конечно! — Мама улыбнулась, регулируя уровень мечтательности во взгляде. — Я люблю вашего папу, он любит меня. От этого вы и появляетесь…
— А что такое любовь?
Мама тут же ощутила, что тщательно рассчитанный кластер воздействий на сегодня может пойти прахом от одного ее неверного ответа. На самом деле замороженное семя, преодолевшее бездну световых лет на борту межзвездного ковчега, было пробуждено к жизни без всякой любви. Искусственным способом, в утробе универсального инкубатора. Но есть же и любовь высшего порядка. Не ей ли, частице великой Искры, знать об этом всесильном чувстве?
— Любовь — это такое ощущение от… человека, что ты без него существовать не сможешь. И он для тебя самый главный.
Мама произнесла это, чувствуя волну теплого одобрения от папы и всей Искры. Значит, сказано верно. На данном этапе развития этого должно хватить.
— Понятно! — кивнула маленькая Маша. — А меня ты тоже любишь?
— Конечно! — воскликнула мама, включая улыбку на максимум. — Я вас всех люблю!
Дети хором загалдели в ответ. Ей пришлось обнять и расцеловать каждого, прежде чем полдник завершился и группа принялась готовиться к прогулке.
А вечером, когда усталые, но довольные дети уснули после ужина и обязательной сказки на ночь, мир снаружи окрасился в изумрудно-зеленый цвет. И мама с папой, оставив инкубатор на попечение старательных эффекторов, сбежали на прогулку. По-прежнему оставаясь малыми частицами единой Искры, они все же ощущали в этот миг, что друг без друга просто не имеют смысла.
13-й год Освоения. Школа.
Лед стремительно таял.
На экваторе его уже было не видно. Отступая к полюсам просыпающегося мира, белые стены обнажали плотную серую поверхность. Она не только выглядела совершенно безжизненной, но и была таковой. Неутомимые эффекторы принялись рыхлить ее, подготавливая к первому посеву. К этому времени уже были распакованы бактериальные структуры и мхи с лишайниками. Им предстояло первыми населить новый мир. И очень быстро его освоить.
Обитаемые модули разрослись, превратились в многотысячный город, населенный подрастающими детьми и нестареющими роботами. Инкубаторы трудились непрерывно, запас земного семени в них сократился уже наполовину. В положенный по программе день Искра активировала учителей. Мамы и папы ощутили, что им ограничили доступ к общим вычислительным мощностям. Их профили перешли в новую фазу. Но они по-прежнему ощущали друг друга главным и необходимым условием существования.
Вит отчаянно скучал на уроках истории. Ладно бы речь шла о первых этапах Освоения! Хотя в детстве мама все довольно подробно им рассказала. Ничего нового в школьных файлах не обнаружилось. Да и что там учить, двух десятков лет еще не набралось.
А вот история старой Земли угнетала его своим объемом и бессмысленностью. Если бы предки не додумались до Искр, то человечество до сих пор бы ютилось на одной планете, задыхаясь от ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Вечный конфликт, не имеющий решения в заданных условиях. Общие тенденции Вит уловил быстро, а подробности считал нелепой чепухой.
Группа не разделяла его взглядов. Даже Яха с Семкой, лучшие друзья. Маня и вовсе зубрилой растет. Вон как старается, руку тянет. Перед учителем красуется, ясное дело.
— Можно выйти?
Вит покраснел от множества взглядов, обращенных на него. Как же, посмел прервать урок. Одна только Маня в его сторону не обернулась. Хотя, если бы она одна посмотрела, он бы тоже покраснел. Проверено на опыте. Ну и ладно, пусть сидят тут сами! У него и поинтереснее дела найдутся.
Вит покинул школьный модуль и направился к шлюзу. Теперь наружу можно выходить в простой одежде. Он вспомнил, как их впервые вывели на прогулку. Эффекторы тогда облепили каждого ребенка, превратившись в сверхпрочные скафандры. Только мама с папой остались без защиты. Кто-то даже заревел, страшась за них. Но родители сказали, что взрослым можно. А теперь выходит, что все стали взрослыми. Внезапно Вит ощутил смутное беспокойство. Словно что-то важное он тогда упустил из виду…
И тут же налетел на мелкого Тему из соседнего потока. Они столкнулись на пороге шлюза и смешно вывалились наружу через прозрачную перепонку. Вит даже не успел разозлиться. Да и на кого? Сам виноват, замечтался. Тема и вовсе хихикал, сидя на земле, поросшей мелкой фиолетовой травкой.
— Что, тоже тоска на уроках?
— Не то слово, — поморщился Вит.
— Чем займешься? А то у меня тут одна идея поднакопилась… — Тема был не худшей компанией, фантазия у него будь здоров. Но вникать в его затею почему-то не хотелось.
Вит так прямо и сказал. И уже повернулся, чтобы уйти, но тут Тема выдал:
— А давай штаб построим?
— Насмешил! В городе все на виду, а в диком поле долго не протянешь… — Вит возражал, а сам чувствовал, что намечается настоящее приключение. Тема он такой, на пустом месте не фантазирует. Значит, уже план составил.
План Темы оказался смешным, как и он сам. Но одно дело человек — худой, конопатый и лопоухий. Уж каким из инкубатора вышел. А вот план всегда изменить можно, привести к общему знаменателю, как говорит математик. Если, конечно, в основании идея крепкая. А задумал Тема вот что.
Штаб, конечно, надо строить вдали от людей. Иначе всю игру обломают. Играть он предложил в каких-то казаков. Тут Вит опять поморщился, но быстро вспомнил, что ребята эти были веселые, а главное, вольные. В такое играть он был согласен! Особенно теперь, когда Маня в его сторону не смотрит. А самым увлекательным оказался способ, которым Тема намеревался обеспечить автономность штаба от городских коммуникаций.
— Надо парочку архиваторов стащить, — буднично сказал он, отстраненно поглядывая по сторонам.
Вит присвистнул. Мобильные агрегаты для субмолекулярного сжатия просто так на дороге не валяются. Изрядно порыскать придется.
— Так в этом и все веселье! — Тема просто лучился от предвкушения. — Как настоящие казаки за зипунами пойдем!
Вит честно признался, что ничего не понимает, и ему пришлось прослушать краткую лекцию о буйных обитателях древней Земли. По словам Темы, в старину, прежде чем отправиться в дальний поход, вольные люди запасались архиваторами. А иначе как с собой все нужное унесешь? Только язык с тех пор сильно изменился. Прежде агрегаты называли зипунами, сокращенно ЗИП. Что это значило, Тема не помнил. Или вообще на ходу сочинил. Да и какая разница? Главное, что весело будет. Это Тема пообещал железно.
Ударив по рукам, мальчишки озадачились названием. Любое дело надо начинать с плана, а он не может быть безымянным. Чтобы лучше думалось, залезли на теплую крышу ближайшего модуля. Голубое солнце над ними стремилось к зениту, ненадолго скрываясь за редкими облаками. С крыши открывался восхитительный вид на округу — сразу за городом начиналась светло-фиолетовая степь, которая тянулась во все стороны до самого неба. Первая трава постепенно брала верх над местной почвой. Порывы ветра доносили до мальчишек ее свежий и терпкий запах. От него так и хотелось вскочить и бежать вдаль, пока за спиной не отрастут крылья.
— Люди-то мы вольные, — задумчиво протянул Вит, — но какие из нас казаки? У них кони были. Настоящие, живые…
Тема махнул рукой:
— Коней еще не распаковали! Что же теперь, не играть? А мы сайбер-казаки! Эпоха другая, улавливаешь? Нам бы только зипунами разжиться, а там мы себе что угодно синтезируем!
— Почему именно сайбер? — рассмеялся Вит.
Тема пустился в долгие объяснения о разных языках древней Земли и технологии Освоения, но Вит слушал его невнимательно. Ему нравилось лежать на теплой крыше, нравилось смешное название, нравился план побега. Главное, куда подальше, где еще не ступала нога человека. Куда эффекторы еще Лупу не провели, и вместо телепортации надо своими ногами топать… И тут подступающая ленивая дремота слетела с него в один миг.
— Точно! Вот где архиваторы брать надо!
Тема осекся на полуслове. Недоумение на его лице проступало все отчетливее, и Вит наконец сообразил пояснить:
— Эффекторы на переднем крае постоянно генерируют запасы. Переработка там идет, понимаешь? А как папы все сюда доставляют? Лупа не везде протянута. Значит, архивируют!
— Верно! — просиял Тема. — Там проще всего зипуны раздобыть! Кто их считать станет? Одним больше, двумя меньше… Когда выступаем?
После непродолжительных дебатов решили дождаться ужина. Во-первых, подкрепиться никогда не помешает, во-вторых, до отбоя полагается свободное время. Никто не удивится, если мальчишки покатаются на Лупе. До края освоенной ойкумены, из любопытства. Это даже поощряется. А там уж никто не помешает рвануть в сторону бурлящего и фонтанирующего горячим паром фронтира! Главное, под ноги смотреть.
— Так вдвоем и двинемся? — с деланым равнодушием уточнил Вит, на самом деле опасаясь, что Тема на правах автора затеи не захочет расширять компанию. Но не таков был Тема. Ему во всем требовался размах.
— Что за вопрос?! Есть кто-нибудь на примете?
— Найдется парочка… казаков.
— Сайбер-казаков! И, чур, я атаман.
Вит смутно представлял, кто это такой, но спорить с Темой не стал. Настроение совсем наладилось, и он, попрощавшись до вечера, вернулся к группе. История уже кончилась, а дальше по программе математика. Хорошая наука, полезная.
В тот день план пришлось отложить. Внезапно выяснилось, что теперь за пропуски занятий ученикам снижают рейтинг социальной ответственности. И оба заговорщика лишились доступа к Лупе. Временно, конечно. Но пешком до самого фронтира топать слишком долго. Решили отсрочить поход за зипунами на неделю, пока рейтинг не прокачают. Заодно будет время посвятить в детали Яху и Семку.
Идею Темы друзья восприняли с восторгом, поклялись хранить все в строжайшей тайне. И тут же предложили принять в казаки… Маню! Из лучших побуждений, конечно. Они же Вита насквозь видели. Но в этот раз промахнулись. Маня громче всех над низким рейтингом Вита потешалась. Да и вообще, зачем казакам девчонка?! Тема говорил, что их если и брали, то потом бросали в водоем. Озеро еще искать, потом мокрую Маню из него выуживать… Нелепая затея. Так им Вит и сказал. Яха и Семка насупились, но свою ошибку признали.
Чтобы быстрее поднять рейтинг, Вит попросился в шефы для свежего потока. Мама с папой по-прежнему хорошо справлялись с делами, но Искра время от времени рекомендовала навещать родителей и помогать им при случае. Мальчишки пошли с ним из солидарности, а следом и Маня увязалась. Из чистой вредности, не иначе. Вит решил, что это испытание только закалит его дух для грядущих приключений. И не ошибся.
Яха и Семка так соскучились по маме с папой, что липли к ним по любому поводу, никакой помощи не оказывая. Маню со всех сторон облепили крохотные девочки, и она лучилась от счастья, ничего вокруг не замечая. Зато Виту достались серьезные карапузы, которые строили из конструктора модель орбитальной Лупы.
Сначала разговор не клеился, но после того, как Вит поправил им расчеты и указал на ошибку с габаритами, модель сложилась как надо, а карапузы удостоили его солидной мужской беседы. В основном речь шла о преимуществах горячего шоколада над чаем и о том, какие девчонки скучные. Вит кивал с важным видом и подавал короткие реплики. Поражаясь на самом деле, как все это может уживаться с проектом межпланетной телепортации. В их возрасте он не воспарял мыслью выше чашки с какао.
На миг ему показалось, что вся их затея с зипунами тоже сплошное детство. Однако подводить Тему не хотелось. Он-то свой рейтинг восстанавливал элективами по нелюбимой биохимии — с утра до вечера корпел над задачками. Вит поклялся себе, что будет приходить к родителям каждый день, пока сами не погонят. Но маме с папой нравилось, как он возится с малышами. Через пару дней к нему присоединились и Яха и Семкой. Родители явно выдохнули, освободившись от этих прилипал.
В поход договорились идти сразу, как только рейтинг позволит. Тема уверял, что уже продумал весь путь к фронтиру. Остальных тоже распирало от нетерпения. Но в последний момент все пошло не так.
Из угла, где девочки репетировали сценку на годовщину Освоения, неожиданно громко раздался вопрос:
— Маняша, а откуда берутся дети?
Сначала хрюкнул от смеха Семка, следом веселье подхватил Яха. Вит успел лишь улыбнуться. Маня явно растерялась, но тут ей на выручку пришла мама.
— От любви, конечно! — Она улыбнулась и обняла темноволосую малышку с карими глазами. Тема дальнейшего развития не получила, и репетиция продолжилась. Вит повернулся к своим карапузам и наткнулся на задумчивый взгляд одного из них. Малыш, запинаясь, спросил:
— Вит, а откуда взялись взрослые?
— Из детей, балда! — продолжал веселиться Яха.
Но карапуз уточнил:
— Это понятно. А самые первые откуда взялись?
Вит похлопал его по плечу, успокаивая:
— Они прямо с древней Земли прилетели. Заморозились и прилетели. А тут их Искра разморозила…
Малыш удовлетворенно кивнул и вернулся к прерванному занятию с листочком пластика, который требовалось особым образом сложить, чтобы он парил в воздухе.
Яха вдруг взбрыкнул ногой и чувствительно пнул Вита, повалившись на пол.
— Ой, не могу! Ну, ты даешь!
Он просто давился от смеха. Семка хохотал в полный голос.
— Да что с вами такое?! — изумился Вит.
— Кого она разморозила? Оттуда вообще никто улетать не хотел! Никаких проблем, все Искры решают… — Яха замолчал, переводя дух. Семка продолжил:
— А мама с папой — это такая часть Искры, эффекторы-няньки. Их не разморозили, а распаковали…
Карапузы ничего не поняли из их беседы и продолжали тихо сопеть над оригами. Им и дела никакого не было до того, что Вит внезапно пережил одно из самых сильных потрясений своей жизни. Причем, похоже, только он один. Отсмеявшись, мальчишки поняли, что он не шутит, и смутились. Мама сделала вид, что ничего не заметила. Папа опять что-то чинил снаружи модуля.
Вит беспомощно обернулся к Мане. Она ехидно усмехнулась:
— А вот не надо было историю прогуливать!
Вит посмотрел на улыбающуюся маму. Она молча развела руками.
Чувствуя, что его лицо пылает, Вит вскочил и выбежал прочь.
Если бы не счастливая случайность, то он умотал бы на фронтир в полном одиночестве. Но буквально на пороге станционного шлюза опять столкнулся с Темой. Тот по его лицу догадался, не стал задавать лишних вопросов.
— Готов? Поехали?
Вит мотнул головой, переводя дух после безумного бега. Тема сейчас был единственной подходящей компанией. Конечно, изменившуюся картину мироздания надо бы обдумать наедине. И для этого их будущий штаб подойдет идеально. Но сперва зипуны…
— Поехали!
И сайбер-казаки отправились в свой легендарный поход, о котором грядущие поколения будут рассказывать с придыханием и сияющими глазами. Во всяком случае, Тема это гарантировал.
Прикинув маршрут по свободным узелкам Лупы, они принялись прыгать со станции на станцию, постепенно приближаясь к фронтиру. Вечер только начинался, никто их не хватится. Встречные папы, занятые своими повседневными делами, молча провожали глазами торопливую парочку. Мальчишки, известное дело, всегда чем-то увлечены.
Тема действительно все продумал. Зеленый закат-восход не успел отгореть в ясном небе, как они оказались на краю фиолетового поля. Впереди, у самого горизонта, бурлил и клокотал фронтир. Эффекторы плавили лед, рыхлили грунт и сразу насыщали его микроскопическими конкистадорами. Освоение во всей его красе…
— Вперед, казаки! — весело крикнул Тема, и они побежали.
Трава под ногами одуряюще пахла, стелилась длинными мягкими прядями. Здесь она была гораздо выше городской. Бежать это не мешало. Вот только воздух скоро сделался холодным и сырым. Изо рта при каждом выдохе теперь вырывалось облачко седого пара. Ноги отяжелели, в боку закололо. Вит попытался остановиться, но понял, что просто упадет и уже не встанет. Тогда он замедлил бег и попытался окликнуть Тему. Жалкий хрип — вот и все, на что оказалась способна его пересохшая глотка. Но Тема каким-то шестым чувством понял, что надо оглянуться. И чуть кубарем не покатился по замерзающей траве.
— Ты чего?! Немного уже осталось! — прохрипел он.
И в самом деле, фронтир уже нависал над ними туманной стеной, озаряемой неясными вспышками. Под ногами стало похрустывать, почва проседала, хватая за щиколотки. Мальчишки невольно перешли с торопливого бега на широкий шаг, а затем и вовсе остановились, тяжело переводя дыхание. Что дальше делать, было решительно непонятно.
Желтое солнце как всегда промелькнуло по небу, забирая с собой дневное тепло. Со стороны города небосвод усыпали яркие звезды, затмевающие скромные огни модулей. Впереди разгорался ледяной туман, из которого вдруг посыпалась мелкая морось. Она липла на разгоряченные лбы, выстуживала тела. Казаки дружно застучали зубами.
— Ну, и где тут твои зипуны?! — крикнул Вит. Его голос тут же утонул в тумане. Тема повертел головой и неуверенно указал направо:
— Должны быть там. Архивация всегда свистит, слышишь?
Вит слышал только собственное сипение, но Тема упрямо тянул его за собой. Бежать они уже не могли, но все же двинулись дальше, медленно переставляя дрожащие ноги. И через пару минут, показавшуюся им вечностью, вышли к медленной черной волне эффекторов. Она пульсировала, накатывая на ледник и неспешно поедая его. Внутри волны с протяжным свистом закручивались небольшие смерчи. Быстро опадая, они оставляли после себя тускло блестящие металлические коконы. Ими было усеяно все пространство между волной и мальчишками.
— Я обещал тебе зипуны, — просипел Тема, — и вот тебе зипуны! Выбирай любой!
И повалился лицом вниз, Вит едва успел подхватить его тощее тело. Покачнулся от неожиданно тяжкой ноши и сам не удержался на ногах.
Отдыхали долго. Одно хорошо — рядом с эффекторами было тепло. Замерзнуть в ночи уже не получится. Но и сидеть на одном месте до утра тоже не дело. Только как теперь дойти до станции через обледеневшее поле? Они заспорили, но голоса разделились поровну.
— Сперва надо подкрепиться, — решил Тема. Он побродил вокруг ближайших зипунов, разглядывая маркировку, активировал один из них и синтезировал ужин.
Вит попробовал и высказал свое мнение:
— На вкус, конечно, так себе. Но есть можно. — Он не смог удержаться от дружеской подначки. — А что еще нужно ночью в чистом поле усталому казаку?
— Сайбер-казаку, — поправил Тема. К нему вернулась былая бодрость духа, и он рвался к новым приключениям. Вит, опустошенный морально и физически, напротив, после ужина несколько размяк. Он был готов сидеть тут до восхода голубого солнца и плевать хотел на падение рейтинга.
Но не таков был его маленький атаман.
— Казаки не сдаются! Зря я, что ли, биохимию зубрил?! Идем, я отведу тебя до станции. Успеем до отбоя, хорошенько выспимся перед занятиями…
Вит внезапно разозлился.
— Этот мир наш! И нам здесь жить! Долго еще машины будут нам указывать, как и что тут делать?!
Тема оторопел, но быстро взял себя в руки.
— Ты чего, Витус? Через пять лет Искра по плану войдет в завершающую фазу и пересоберет свое ядро. Мы вырастем и сами будем все решать.
Вит понял, что совсем ничего не знает о своем мире. Кажется, он не только историю прогуливал…
С понурым видом он подхватил пару ближайших зипунов и двинулся следом за Темой. Маленький атаман тащил на себе сразу четыре архиватора. Полуметровые коконы практически ничего не весили, но были плохо приспособлены для переноски детьми.
— Может, к ним упаковку какую-нибудь сотворить? Или колеса? — предложил через полчаса Вит. Но Тема отмахнулся:
— Ерунда ерундовая! И так дотащим. Уже близко!
Еще через полчаса они поняли, что заблудились в тумане. А спустя час морось перешла в ледяной ливень, который быстро сменился снегом. На фронтире началась метель…
— Держись, Витус! Уже близко… Про нас еще легенды слагать будут!
Тема барахтался в снегу, пытаясь дотянуться до последнего полного зипуна. Остальные они опустошили. Сначала чтобы подать световой сигнал в город, а после — стараясь согреться. Для синтеза самой простенькой системы связи не хватило нужных элементов. Неутомимые эффекторы фронтира, очевидно, имели узкий функционал и никак не реагировали на терпящих бедствие казаков.
— Я вот сейчас купол над нами сделаю, тут как раз только углерод остался. Мы его немножко видоизменим… и будет нам крыша над головой, давно надо было догадаться… — Тема бормотал все тише и тише, движения его замедлялись. Вит, первым отказавшийся от борьбы, уже разомлел от тепла под снежным покрывалом. Зачем купол? И так перезимуем. Он захотел сказать об этом Теме, но не смог разлепить замерзших губ. Маленький атаман стал быстро таять в белой мути. Вит качнул тяжелой головой, пытаясь сбросить изморось с ресниц, но они вместо этого окончательно слиплись. В голове нарастал трескучий звон. Словно на морозе лопались деревья. Хотя какой тут может быть лес, не та еще эпоха на дворе. На дворе трава, на траве…
Перед тем как провалиться в спасительное забытье, Вит все же понял причину странного звона. Сквозь вьюгу к ним пробивалась помощь.
Как оказалось, Семка с Яхой до полуночи лелеяли общую обиду, что их не взяли в поход. Потом дружно испугались, что за соучастие им тоже снизят рейтинг социальной ответственности, и еще пару часов без сна ворочались в кроватях. А потом устыдились своего малодушия, побежали к дежурному учителю и все рассказали. Остальное Искра взяла на себя.
Штаб они в тот год так и не построили…
18-й год Освоения. Выпускной.
Бесконечное фиолетовое поле нежилось в лучах голубого полуденного солнца. Ветер волновал высокую траву, перемешивая пряные ароматы соцветий с влажным запахом сырой земли. Разросшийся город утопал в темной зелени юных деревьев. В самом центре, на месте падения первого модуля, по волнам большого озера скользили солнечные зайчики.
До восхода желтого светила оставалось еще несколько часов. Самое время для неспешных прогулок по набережной и негромких бесед под сенью молодой листвы. Но Витус и Маняша быстро прошли сквозь парк, сели у воды на первую попавшуюся скамейку и принялись так громко спорить, что распугали все парочки по соседству.
— Зачем ломать систему, если она еще не выработала свой ресурс? Подумаешь, земные запасы закончились. Просто будем заполнять ячейки своим материалом, а дальше мама с папой сами справятся. У нас еще недостаточно опыта…
— Достаточно! Искра угасает, эффекторы теряют функционал с каждым месяцем. А если они и справятся… Мы получим очередное поколение, воспитанное машинами! Это было нормой, пока все только начиналось. Но мы уже выросли, Витус! Мы уже взрослые. Решать теперь нам.
Витус вздохнул. Как же это неуютно, оставаться один на один со своим собственным миром…
Освоение шло по плану, задуманному их Искрой еще на древней Земле. Искусственный разум обеспечил доставку и распаковку техносферы, вырастил и воспитал первых обитателей планеты, и теперь его прежняя опека теряла смысл. Дальше люди должны сами. Иначе круг опять замкнется, как на древней Земле.
— Нормальными они нас вырастили. Ничуть не хуже, чем в старину. Вспомни, что там раньше творилось! — Теперь Витус хорошо знал историю.
Но Маняша словно не слышала его, задумчиво играя локоном своих светлых волос.
— Инкубатор надо разобрать на запчасти для матричных фабрик. И рожать уже по-человечески. — Она мечтательно улыбнулась, раскручивая длинную светлую прядь.
— А воспитывать тоже по-человечески, абы как? — попытался отшутиться Витус. — Мы же не умеем, у нас и без того теперь дел по горло…
— Чего ты боишься? — вспыхнула Маняша. — Тебе же нравилось возиться с малышами, я помню. А это будут твои и только твои малыши. Ты будешь им все объяснять, рассказывать разные истории…
— Да о чем я им могу рассказать?! — отмахнулся Витус.
— Ну, например, о том, как сайбер-казаки за зипунами ходили…
Витус припомнил давнюю историю, и у него вдруг защемило в груди. В тот день он усомнился в своих родителях. Словно взял и сразу вырос. Это было очень больно. А сейчас ему безмерно жаль, что эти добрые, родные существа должны уйти навсегда. Не сразу, конечно, сначала перейдут в режим бабушек и дедушек, постепенно отходя от дел, изредка консультируя первых настоящих родителей.
Но потом они все равно уйдут. Как уйдут и все вокруг, кого он так же любит и ценит и без кого он сам по себе не имеет смысла. Как же трудно это все принять…
— Хорошо! — Витус решительно поднялся. — Я поддержу тебя на голосовании по инкубатору.
Маняша благодарно улыбнулась и легко вспорхнула со скамейки. Глаза ее сияли.
— Вот за это я тебя и люблю! Ты всегда сомневаешься, но всегда поступаешь правильно.
— А я тебя просто люблю, — невпопад брякнул Витус.
— У нас будут замечательные дети, — прошептала она, прижимаясь к его груди.
В эту ночь, когда они соединились, чтобы по-настоящему стать людьми, глубоко под городом отключились последние нейронные цепи могучего интеллекта, исполнившего свое предназначение. Искра угасла. Ее частицы превратились в рядовые механизмы, ведомые внешними программами, которые еще предстояло написать специалистам из первого потока. Все базы данных, все массивы накопленной и переработанной информации остались доступны с любого терминала планеты. Берите, пользуйтесь, приумножайте.
Все, люди. Дальше вы сами…
Юлия Зонис, Игорь Авильченко Филе для мистера Гудвина
— Говорят, им полностью ушатали систему репарации.
Гудвин прищурился, глядя в сплетение ветвей. Там мелькали человеческие тела. Не совсем человеческие, если уж придерживаться математической точности. Между геномом человека и шимпанзе разница около двух процентов. Если смотреть на чистую последовательность ДНК, то различие землян с филлеанами составляло не более половины процента. Больше, чем у Homo sapiens sapiens с неандертальцами? Меньше? Гудвин не помнил. Можно было бы спросить у доктора Борового, но зачем? Люди охотились на неандертальцев. Люди поедали неандертальцев. И даже скрещивались с неандертальцами. Гудвин почесал потеющий под пробковым (хорошая пластоцитовая имитация, разумеется) шлемом затылок и громко хмыкнул. Интересно, как — сначала скрещивались, а потом ели? Впрочем, нет, нелогично. Откуда бы тогда в современных хомосапиенсах взялись неандертальские гены? И даже конкретней, откуда бы они тогда взялись в Манише? Впрочем, да, достижения ретроклонирования…
Он оглянулся на Манишу. Девушка сидела на толстой сухой ветке местного растения и болтала ногами. Вокруг простиралась саванна, желто-серая, пыльная, поросшая высокой травой. Монотонность нарушали лишь кряжистые, полумертвые от засухи деревца, растущие небольшими группками, и один гигант с непомерно развитой кроной — гнездо колонии. Дерево, которое облюбовала Маниша, вполне могло оказаться колючим или ядовитым, или даже хищным. Следовало бы отругать трансу и стащить ее с этого древокактуса, но мистер Гудвин залюбовался голыми загорелыми коленками. Коленки, локти, грудь — все в Манише было совершенно. И, разумеется, выбивающаяся из-под колониального шлема рыжая грива. Как у неандертальцев.
Маниша, заметив его взгляд, улыбнулась улыбкой довольной кошки, зевнула, обнажив белые мелкие зубки, и обернулась к Боровому.
— Как интересно. Систему репарации, говорите? А что это такое?
Первую фразу она произнесла с таким видом, как будто готова была обсуждать все хитрости генной инженерии, а вторую — с выражением абсолютной простушки. Этим и подкупала. Всех мужчин подряд. Вот и Боровой, мускулистый загорелый красавец (наверняка результаты пластики и геномоделирования), глуповато распахнул рот, отчего его краса несколько поувяла.
Откашлявшись, ветеринар взял себя в руки (фигурально, фигурально, напомнил себе мистер Гудвин, хотя черт его знает, что он там делает ночами в своем спальном мешке, каким фантазиям с участием рыжеволосой неандерталки предается) и хрипло заявил:
— Ну, эээ… система починки генов.
— Генов?
Мистер Гудвин внутренне расхохотался. Естественно, Маниша знала, что такое гены. Все это было вложено в ее нейральную программу, это и еще многое. Но наивную туповатость она изображала просто отменно. На сей раз, чтобы повеселить его, Гудвина. Хозяина. Хоть порой доводила этим до белого каления.
— Гены… ДНК… Субстанция, отвечающая за наследственность, — проблеял Боровой.
«Если она сейчас спросит, что такое наследственность, я задам ей вечером хорошенькую трепку. Нельзя же так издеваться над натуралами. Есть в этом какое-то нарушение субординации».
Хотя трансы, конечно, подчинялись только Хозяевам, и Маниша не обязана была любезничать с Боровым, но должны же соблюдаться хоть какие-то границы приличий?
— А я думала, за наследственность отвечают перчики и киски, — протянула Маниша и захлопала длиннющими темными ресницами.
Волосы рыжие, ресницы темные — так значилось в заказе Гудвина в его карточке трансгена. Маниша соответствовала всем стандартам, ее красота, ее сексуальные навыки и ее нейтральная программа были совершенны, но вот этот троллинг…
Гудвин не раз задумывался, почему глумление над ничего не подозревающими натуралами называется троллингом. Мнения тут разнились. Одни утверждали, что все дело в том, что тролли живут под мостами. В доинтернетовскую эпоху скайп и прочие древнечаты заменяли телемосты, а тролли вклинивались в них и сеяли хаос. Другое, более близкое Гудвину объяснение заключалось в том, что слово «троллинг» происходило от староанглийского «троллоп», женщина легкого поведения. Манишу нельзя было назвать женщиной легкого поведения — за такой баг в нейропрограмме Гудвин засудил бы «Генаторикс» на кругленькую сумму — однако что-то стервозное в ней, несомненно, было.
Боровой уже глотал воздух, как рыба, вытащенная на сушу. В этом Гудвин разбирался хорошо — до Большой Охоты он увлекался Большой Рыбалкой и успел выловить представителей почти всех реликтовых видов рыб. Не каких-то там трансов, одну из программ низшего уровня того же генно-инженерного гиганта «ГТ», а натуралов. В настоящих прудах. И настоящих реках. И даже в единственном настоящем море, Аральском. Это было захватывающе, мило, даже немного щекотало нервы, но, конечно, Большая Охота превосходила Рыбалку по всем пунктам. Так вот, Боровой явно нуждался в том, чтобы ему смочили жабры.
Гудвин достал из кармана фляжку с виски и протянул ее ветеринару. Тот кинул на него дикий взгляд — на здешней жаре виски раскалился до температуры жидкого металла. Однако кто платит, тот и музыку заказывает. Боровой сделал мучительный глоток, покраснел, закашлялся, и за всей его мужественной бронзовокожей красой проступил шкет-ботаник, дитя нижнего сектора, маленький помоечный библиофил. Гудвин ухмыльнулся и хлопнул ветеринара по потной спине. Сам он не стал менять внешность. Зачем? Да, брюшко, да, лысина, зато загар натуральный, и крепкие мышцы под рубашкой тоже не накачаны пластоцитовыми волокнами. А Маниша любила его и таким. Иначе см. пункт об иске «Генаториксу» на кругленькую сумму.
Можно было бы вмешаться и спасти багровеющего от виски и смущения ветеринара, но Гудвину не нравилось, как тот поглядывал на Манишу. И на него. И снова на Манишу. Ах, прелестная бабочка в лапах толстого мохнатого паука. А паук небось требует у бабочки участия в извращенных сексуальных практиках, хлещет ее ремнем и приковывает наручниками к трубам вентиляционной системы. Нет уж, пусть сам разбирается с пытливой, глумливой и сволочной нейропрограммой.
— Дети похожи на родителей благодаря генам, передающимся от отца и матери. То есть… — тут Боровой снова поперхнулся, сообразив, кому читает лекцию, то есть в случае натуралов. В случае трансов гены комбинируются произвольно для достижения желаемого результата…
— Репарация, — недовольно напомнила Маниша, качнув ногами в вызывающе белых сандалиях.
Ей не нравилось, когда кто-то напоминал о ее статусе. Отнюдь не все трансы служили сексуальными игрушками, кстати. Среди них были солдаты. И ученые. Потрясающие ученые, куда там Боровому с его жалким дипломом. Трансы были совершенней натуралов. И, как будто чтобы компенсировать это, натуралы владели трансами. Пункт «движимое и недвижимое имущество» из доинтернетного законодательства. Движимое — это трансы. Недвижимое, наверное, дома, хотя сейчас у всех дома движутся. Редко кому нужен приросший к одному месту дом. Допустим, решил ты отправиться на Большую Рыбалку на Карибы, и что? Искать транспортное средство, добираться на нем куда-то, паковать чемоданы, потеть, кашлять от дорожной пыли. Ну уж нет. Мобильные дома — залог счастливого настоящего и стабильного будущего. Поскольку именно они и составляли основу бизнеса мистера Гудвина, бизнеса, отметим, наследственного и процветающего, для него все ровно так и было.
— Репарация, да, — выдавил из себя Боровой. — Гены могут ломаться. И это происходит с большой частотой, но благодаря системе репарации все ошибки коррек… исправляются. Но, если поломать систему репарации, ошибки будут накапливаться.
— Зачем?
Маниша смотрела на него, округлив глаза. Как будто ей и правда было интересно. Гудвин ощутил мимолетное раздражение. Он и сам прекрасно мог бы рассказать своей трансе про систему репарации, только для нее эта информация была совершенно бессмысленной, как и любая информация, не касающаяся Хозяина. Она просто поддерживала разговор. А может, провоцировала его, Гудвина, на ревность. Тем более не следовало вестись. Пусть чирикает с ветеринаришкой, а мы пока посмотрим на добычу… Последнюю Добычу, даже вот так. Без нее коллекция охотничьих трофеев Гудвина была неполной, с ней станет предметом зависти любого из братьев-охотников. Homo filliensis. Без «sapiens». Хотя в тесном охотничьем кругу их называли просто «филешками».
Достав бинокль (а ветеринаришка наверняка мог просто включить зум-режим в своих модифицированных глазах, скотина полутрансгенная), Гудвин уставился на то самое сплетение ветвей, где располагалась колония «филешек». На заднем плане звучало унылое блеянье Борового: «Первая Волна экспансии… планетарный кодекс… система открытого цикла, придуманная доктором Моррисоном…». Ох да. Урок биоистории, пятый грейд.
«Первое. У поселенцев нет пути назад. После посадки колония становится совершенно автономной».
«Второе. Поселенцы должны по максимуму использовать местные ресурсы».
«Третье. Колония считается успешной в случае появления детей, родившихся непосредственно на планете пребывания».
Самая дебильная ошибка, совершенная за всю историю человечества. Это, плюс ушатанная система репарации. Да. Дети рождались. На Шторме, например, сейчас они рождались с жабрами, вертикальными зрачками, перепонками и способностью к телепатии. На Инее — с шерстью и набрюшными сумками для вынашивания потомства. А почему бы нет, холодновато же там, на Инее. На Ротонде рождалось вообще невесть что, не пожелавшее общаться с десантниками Второй Волны и упрямо зарывшееся под землю. И планетарный кодекс, ага. Все эти жабрастые и сумчатые считались теперь самостоятельными цивилизациями разумных, которым на Матушку-Землю было положить с прибором. Или нет, в зависимости от уровня развития экзоцивилизаций, мысленно хмыкнул Гудвин, — приборы-то имелись далеко не у всех. С некоторыми удалось установить дипломатические и торговые отношения. Некоторые даже признали хомосапиенсов давно потерянными братьями. Нет, конечно, человечество на Старой Земле тоже потрепало во время трех Великих Войн. Натуралов среди землян осталось меньше пяти процентов. А нынешние трансы могли кое в чем дать фору этим, из Первой Волны. Но в любом случае иноземная дипломатия с ее политесами лежала вне сферы интересов мистера Гудвина. Экзолюдям не нужны были его мобильные дома. И на экзолюдей нельзя было охотиться, как и на прочих разумных. Это ясно оговаривалось в законе об охоте и рыболовстве, а мистер Гудвин был законопослушным гражданином. Единственным прекрасным, щекочущим нервы исключением из этого закона были обитатели Филлет. По всем критериям они не соответствовали понятиям разумности. Да, проф Моррисон и его адепты в этом случае явно переборщили с генной пластичностью. Где-то на полпути ко Второй Волне филлеане — «филешки», скажем уж прямо, — утратили разум.
* * *
Сначала появился зуд. Зуд был неудобен, мешал пребывать в радостно-теплом ничто. Но сопротивляться ему можно было только осознав свое Я.
Затем появился свет. Он был теплым, мягким, розоватым. Приятно колышущимся. Это было хорошо. Правильно.
И все-таки зуд никуда не делся. Я завертелся, пытаясь в окружающей розовой правильности найти его причины. Не найдя их, Я испытал новое чувство. Радость. Оно заставило Я радостно заколыхаться. Колыхаться было приятно. Розоватое светлело в месте толчков и издавало смешные звуки.
Колыхнувшись особенно сильно, Я ощутил боль. Это было странное, пришедшее извне чувство. Извне сообщало, что ему больно, и Я поумерил толчки.
Боль была лишней и мешала правильности, но пробудила в Я интерес к извне. Осторожными касаниями Я выяснил, что извне ему подчиняется. Это правильно. Это было хорошо. Радостно.
МОЕ! Новое открытие заставило Я на мгновение замереть. Это было словно вспышка розового света. Я вдруг ощутил себя цельным. Ощутил, что извне — это просто шкура. Ощутил, что извне шкуры есть другие правильности — пустошкуры, а еще извне — древодом, и это правильно, тепло и вкусно, а извне древодома есть другие древодома, а в них пустошкуры. Какие-то были МОЕ, какие-то — НЕ МОЕ, и это было неправильно. Злость. Это было новое чувство. Но не то. Зудело не оно.
Зуд. Я решил, что именно это мешает спокойно пребывать в радостном розовом небытии. Зуд был извне извне. Извне всего, что МОЕ.
Зуд должен был стать МОЕ, как и все остальное. Заставив стоявшие на дороге пустошкуры расступиться, Я направил шкуру к большому извне.
Свет. Не розовый. Не приятный. Белый. Острый. Делавший больно шкуре. Я тревожно заколыхался, и зуд кольнул сильнее, очень сильно. В окружающей древодом правильности ощущалось НЕ МОЕ. С уколом пришло имя. Новое имя. Зуд извне извне назывался «СТРАХ».
* * *
Филешки редко покидали пределы своих гнезд, так что приходилось включать инфракрасный режим, чтобы разглядеть их тела в плотной мешанине ветвей. Вот уж действительно муравьи. Коллективный разум, ха. Точат свою трухлявую корягу, собирают на верхних ветках какие-то черные шипастые, гадкого вида плоды. Тащат их в гнездо, ферментируют и жрут. И, главное, все бабы. То есть сисек у них особо не было видно, так, рудиментарные какие-то мешочки, но между ног точно щель. Только присовывать в эту щель некому — так, по крайней мере, яйцеголовые считали до экспедиции Ксяо Лонга в прошлом году.
После того как с Филлет сняли статус заповедника, братья-охотники посещали планету не раз и не два. Уже в десятке-другом коллекций имелись чучела филешек, мумии филешек, скелеты филешек — кто что предпочитал. Но Гудвин не спешил. Это Последняя, Ультима (как говорил он иногда) Добыча, после нее чего еще желать? Нет, уже десять лет он старательно оттягивал визит на Филлет, охотясь на сумрачных кризоргов Инея и китоврасов Шторма, на юпитерианские е-клауды и фатихов с Медины.
Однако час пришел. Час пришел вместе с Манишей. Именно с ней следовало разделить это переживание. Опять же, многие охотники брали в экспедиции своих трансов (хотя в основном, следует признать, мальчишек), но Гудвин понимал больше них. Трепет и страсть. Нейропрограмма Маниши, тщательно настроенная по спецификациям Гудвина, обожала этот последний трепет жертвы и страсть охотника. Ночи после охоты были самыми пылкими, если можно так выразиться. И все же сейчас Гудвин начал сомневаться в своем решении. Все дело в поганце Боровом.
Ветеринара следовало иметь при себе, чтобы зарегистрировать «максимально гуманное умерщвление добычи». Ох уж эти сопливые законники! Никаких тебе зазубренных гарпунов, разрывных пуль в брюхо и прочего. Быстро, чисто, эффективно. Один выстрел в голову или иной ключевой узел ЦНС. В крайнем случае удар ножом, но Гудвин куда больше доверял своему штуцеру, точной копии охотничьей винтовки двадцатого века, заточенному под патроны 505 Gibbs. Впрочем, точной, конечно, только по виду — мощное переломное ружье имело в активе и пульсовый лазер с зарядом, достаточным, чтобы прожечь пластоцитовую стену трехсантиметровой толщины. Что уж говорить о шкурах зверей, а тем более тонкой, почти человеческой шкурке филешек.
Нет, с оружием никаких проблем не предвиделось, но Боровой в последнее время начал Гудвина раздражать. Да что там, просто бесить. Вот и теперь этот доктор-недоучка, представитель реликтовой профессии, старательно заговаривал зубы его, Гудвина, трансе.
— Да, госпожа Гудвин…
Тут бизнесмена слегка передернуло — ох уж эта последняя мода давать трансам фамилию их Хозяина. Не то чтобы мистер Гудвин в ближайшее время планировал обзавестись натуральной миссис Гудвин, однако рано или поздно сделать это следовало. Разумеется, не для постельных утех, а для продолжения рода. Все трансы создавались бесплодными, и этот закон Гудвин как раз очень одобрял. Чистоту натуральной крови следовало беречь, иначе через поколение на Земле не осталось бы ни одного натурала. Итого титул миссис, или, как говорил этот русский, «госпожи» Гудвин, был зарезервирован для той сухопарой незнакомки, которую мистер Гудвин в ближайшие двадцать лет намеревался сделать своей законной женой. А транса, конечно, навсегда останется для него просто Манишей, его Манишей.
— …да, все филлеане — биологические женщины. М-м-м. Гаплоидные женщины с одной половой хромосомой, — продолжал вещать Боровой, снимая панаму и вытирая струящийся по лбу пот. — У человека, если бы человек вообще мог развиваться с одинарным набором хромосом, такое нарушение привело бы к синдрому Шерешевского — Тернера, но здесь…
Гудвин поднял голову и прищурился. Солнце, белая безжалостная тварь, стояло, казалось, в самом зените. Оно стояло там уже несколько часов. Дни на Филлет были вдвое дольше земных, но и ночи, ах, эти ночи в настоящей палатке, парусящей под жестким и пыльным ветром, ночи под чужими острыми звездами… Да, и они были благословенно длинны.
— …Способ их размножения можно отнести к партеногенетическому.
Гудвин снова обернулся, чтобы увидеть ухмылку Маниши. Однако девушка не улыбалась, а некрасиво хмурила лоб. Что не так?
— При этом яйцеклетки развиваются в женском организме без оплодотворения, то есть…
— Я в курсе, что такое оплодотворение, — со странным раздражением в голосе перебила его Маниша.
Определенно что-то не так. Жара, солнце? Жажда? Песок? Но трансы гораздо менее чувствительны к таким маленьким неудобствам, чем натуралы. Что же бесило Манишу?
— То есть без участия самцов, — вздохнул Боровой и снова нахлобучил на вспотевшую шевелюру панаму.
— А вот тут-то вы, батенька, и ошибаетесь, — сладко пропел Гудвин.
Ему нравилось вворачивать в речь эти издевательские псевдорусскости, плюс сейчас настал тот редкий случай, когда всезнайку Борового можно было побить на его же поле.
— Вы о сообщении Ксяо Лонга? Но, помилуйте, тому нет никаких документальных подтверждений.
Гудвин хмыкнул. Все охотники и рыбаки привирали. Каждому хотелось доказать, что уж он-то выловил самую большую рыбу, пристрелил самого крупного кризорга, рассеял самый тучный е-клауд. Однако существовали вещи, о которых лгать было просто не комильфо. Новые виды добычи. Лгать об этом — табу. За такое запросто можно вылететь из охотничьего братства с позорным клеймом на челе. И с отпечатком рифленой подошвы на заднице.
Ксяо Лонг был особым охотником. Можно было бы сказать, старой формации, если бы такая формация вообще существовала. Он не признавал современного оружия, только абсолютно аутентичные образцы. От сопровождающего ветеринара старик китаец, конечно, полностью отделаться не мог, однако своего Ганса он выдрессировал так, что тот лишь подходил к уже мертвой добыче и констатировал факт ее добросовестного убиения. И, вполне возможно, посылал в свое «Управление по охране и использованию объектов животного мира» фальшивые отчеты. В этом Гудвин всегда завидовал Лонгу, потому что упрямый Боровой отличался кристальной, прямо-таки болезненной честностью и вдобавок лез во все дыры, чуть ли не подставляя собственную лохматую башку под выстрел.
Кроме того, философия Лонга сильно отличалась от обычного подхода братьев-охотников: «пришелувидел-застрелил». Он долго и тщательно наблюдал за будущей жертвой. Гудвин подозревал, что охоться Лонг, к примеру, на шерстистого носорога или гигантского ленивца, он мог бы просидеть несколько суток, зарывшись в кучу доисторического навоза. А может, и просидел. Не все охотники брезговали трансдобычей, и на Земле существовало несколько заказников с тварями ледникового периода, на которых можно было поохотиться после приобретения лицензии. Однако здесь, на Филлет, Лонг начудил еще больше, пробравшись в гнездо. По его словам, в гнезде он узрел оргию. То есть натуральную оргию — сплетающиеся в экстатическом танце тела, мешанина рук, ног и прочего, причем часть этого прочего, несомненно, принадлежала мужчинам. То есть самцам. Дело происходило, по словам Лонга, в огромном, темном, пахнущем гнилью и терпким ароматом людских (нет, не людских) тел зале в самом сердце гнезда. Он даже рисовал какие-то схемы, похожие на доисторические наскальные рисунки, только черта с два с ним поймешь, где оно, это сердце. Лонг, против своих правил, воспользовался инфракрасной оптикой, чтобы разглядеть происходящее. Оргия. Шабаш. Мда. Только привезти уникальный экземпляр ему так и не удалось, потому что филешки заметили наблюдателя. Эдакого, так сказать, вуайериста-любителя, заявившегося на закрытую вечеринку. Лонг утверждал, что от внешней части роя отделилось несколько самок (видимо, особенно остервеневших от невозможности пробиться к мужским телам) и накинулись на него. Обычно апатичные, бессловесные филешки так себя не вели. При попытке оторвать их от привычной активности (сбор плодов, ферментация, вытачивание новых полостей и укрепление стен гнезда) они вяло сопротивлялись, на достаточном расстоянии от своего дерева терялись и… угасали, да, вот верное слово.
Что произошло с ним дальше, старый китаец не помнил. Очнулся он метрах в ста от дерева, когда над ним склонился обеспокоенный ветеринар Ганс. Лонг был голым, облепленным древесной трухой, провонявшим филешками, но, несомненно, живым. Особых травм на его теле не оказалось, так что, возможно, охотник просто надышался испарений перебродивших плодов. Гудвин даже предположил бы, что и филешки, надышавшись тех же испарений, устроили у себя этот оргиастический танец случки. Однако ксенобиологи, долгое время наблюдавшие за Homo filliensis в первые годы после повторного открытия этой планеты, ничего подобного не обнаружили. Жизнь гнезда была куда монотонней, чем у земных муравьев или пчел. Те хотя бы роились, воевали, обслуживали свою матку, в общем, исполняли те сложные ритуалы, которые не чужды были и самому человечеству. А эти какие-то травоядные — поесть, поспать, размножиться и сдохнуть, передав эстафету следующим поколениям. И все одинаковые. И никаких самцов.
— Зачем бы Ксяо врать? У него железная репутация. Он бизнесмен. В наше время слишком многое держится на честном слове, Иван. Хотя вам этого, конечно, не понять…
Потому что нищие могут позволить себе лгать, а владелец сети эксклюзивных борделей — «ALL NATURAL!» — не может. С тем ценником, который Лонг заломил в своих заведениях, он должен был всегда и во всем демонстрировать кристальную честность. Натурала не отличишь от транса на глаз, паспорта и результаты тестов легко подделать. Если бы оказалось, что Лонг солгал о своих охотничьих подвигах, клиенты наверняка задались бы вопросом, а насколько натуральной плотью приторговывает китаец. Нет, репутация — это все в наше время подделок и сладких иллюзий. Лонг не врал. Он мог заблуждаться, бредить, мог стать жертвой галлюцинации, но солгать — ни за что.
— Ой! — тихо ахнула Маниша.
Гудвин мгновенно обернулся к ней. Все же оцарапалась, дурында. Загорелую коленку пересекала длинная алая черта. Гудвин спрятал бинокль в чехол, встал перед девушкой на колени и провел языком по царапине, ощущая солоноватый, привычный вкус. Когда он поднял глаза, девушка смотрела на него странно. Не так, как надо. С отвращением? С презрением? С жалостью? В любом случае Гувдину очень не понравился этот взгляд.
— В чем дело? — строго спросил он.
— Гляди, — по-прежнему тихо отозвалась Маниша. — Там, у дерева…
Гудвина даже потом пробило от облегчения — транса смотрела не на него. Он медленно обернулся. У дерева, покачиваясь, стояла тощая грязная самка. Стояла, подслеповато щурясь на яркий свет, легонько покачиваясь на кривых ногах. То есть тощей она была повсюду, не считая живота.
— Беременная, — пробормотал Боровой за спиной у Гудвина.
— Щенная, — хмыкнул бизнесмен.
На секунду ему подумалось, что самка с щенком в брюхе — тоже не самый худший трофей. Но потом он отмел эту мысль как пораженческую. Явился за самцом — значит, надо добыть самца.
Самка, расширив темные — словно совсем без белков — гляделки, качнулась к ним, к Гудвину и его спутникам. Хотя до нее было метров пятьдесят, бизнесмену почудилось, что пахнуло липким древесным душком. Отчего-то сделалось зябко, и это в самом яростном пекле здешнего бесконечного дня.
Сзади раздался какой-то стук. Гудвин повернул голову. Маниша упала с сухого ствола и лежала, широко — непристойно широко — раскинув руки и ноги. Гудвин умом понимал, что у трансы солнечный удар, что надо бы броситься к ней, побрызгать водой в лицо, но ступни словно к земле приросли. Первым к Манише подскочил Боровой. Самка позади низко, надрывно замычала, как будто прямо сейчас собралась рожать. Или, может, звук издавало все гнездо: утробный, протяжный, подземный гул, гудение потревоженного пчелиного улья. Почему-то вспомнилось самое детство, гундосая робоняня, читавшая на ночь сказки, — и одна сказка, жуткая, непонятная, называвшаяся «Как в джунгли пришел Страх». Про то, как Первый Слон правил миром, а потом отдал свое место Первому Тигру. А Тигр убил Быка и привел в джунгли голый, безволосый Страх с черными глазами. И Страх начал охотиться на детей джунглей. Кажется, няня включила тогда гипнорежим, и юный Гудвин описался от ужаса. После этого мать утилизировала няню — а он, Гудвин, возможно, именно в тот злополучный вечер решил, что сам будет на всех охотиться и сам станет Страхом.
Плохо осознавая, что делает, Гудвин наклонился, поднял прислоненный к рюкзаку штуцер, убедился, что оружие заряжено, и всадил в огромный живот твари пулю крупного калибра.
* * *
Однажды в джунгли пришел Страх. Страх был безволосый и голый. Интересно, голый и безволосый — это одно и то же? Или голый — это если без одежды? Но что такое одежда?
Я проснулся снова, но это был уже другой Я. И одновременно тот же самый. Часть большого, часть правильности, которая была до Я и будет после, которая все была МОЕ. На сей раз Я проснулся оттого, что МОЕГО стало меньше. Прошлый Я выплыл из розовой бессознательности медленно. Это было даже приятно, колыхабельно, радостно. Теперь Я словно выдернули на поверхность теплого розового озера (что такое озеро?), и этот, новый Я задыхался, еще не умея дышать.
Страх ходил на двух ногах и держал в руках палку, плюющуюся дымом и колючими мухами. Мухи кусали и… убивали. Страх умел убивать. Но потом пришел Первый Тигр и убил Страх. Только лучше не стало.
Второй Я задумался. В Тигре была правильность. Тигр был желтым и полосатым. Он был как тени, падающие на сухую траву. Желтость и полосатость помогала Тигру остаться незаметным, а незаметному легче подкрасться и убить Страх.
Я-Тигр колыхнулся в розовом, заставляя новую шкуру двинуться извне. На сей раз Я-Тигр действовал не спеша. Глядя глазами шкуры, дождался, когда тени и трава посерели и слились в одно. Потом нашел острую палку и заставил шкуру взять ее пальцами. Полосато-желтый Тигр сломал Страху хребет, но сейчас у Страха была дымовая трубка с кусачими мухами. Это успел увидеть тот, прошлый Я.
Еще прошлый Я увидел, что внутри шкуры Страха хранилось множество мертвого НЕ МОЕГО. Прямо как в самом нижнем ярусе древодома, куда шли умирать старые пустошкуры. Но пустошкуры, уходя на нижний ярус, возвращались в большое МОЕ, откуда недавно явился и теперешний Я, а в шкуре Страха мертвое просто гнило и как будто умирало еще раз. Лежал там и полосато-желтый Тигр, и шкура с прошлым Я, и две красивых молодых пустошкуры с рыжими волосами и синими пятнами на шее, и еще много НЕ МОЕГО, очень мертвого и совсем ненужного. Однако Тигр был правильность. Тигр был нужность. Тигр был нужен, чтобы убить Страх.
Шкура не понимала, что делать с палкой, и испуганно прижимала ее к тому месту, где жил Я-Тигр. Я-Тигр с удовольствием ощущал твердость палки. Палкой сломать хребет легче, чем лапой, тем более что лапы-руки у шкуры были не очень сильные. Я-Тигр легонько подтолкнул изнутри, и шкура, неуверенно перебирая лапами-ногами, двинулась к пещере, где жил Страх.
* * *
В палатке, парусящей под ветром, — а точнее, рядом с ней — нынче было не до романтики. Пахло парным мясом. Хорошо, что ночью хотя бы мухи не вились, а то бы их налетела уже целая туча. Боровой аккуратно отложил лазерный скальпель и свел вместе края разреза.
— Вы что, зашивать ее собираетесь? — раздраженно бросил Гудвин.
Фонарь, точная копия древней «летучей мыши», мигал с механической регулярностью. Разумеется, не от порывов ветра, потому что эта была всего лишь хорошая имитация на «вечной» батарейке. Гудвин уже успел трижды проклясть себя за верность походной романтике: палатка, фонарь, рулон пластобрезента вместо чистоты и стерильности отсеков посадочного блока. Кровь впитается в землю, подумал он. Но пока что кровь, казалось, была повсюду.
Боровой настоял на том, чтобы сделать вскрытие. В самке он обнаружил уродливого младенца мужского пола. Длиной сантиметров двадцать пять, скрюченного, с непропорционально крупной головой и крошечным членом без яичек. В другое время, да что там, еще вчера мистер Гудвин ликовал бы. Находка означала, что у филешек есть самцы или, по крайней мере, эмбрионы самцов. Вот оно, документальное доказательство, вот он, редкостный, уникальный экземпляр, украшение коллекции. Вот оно, научное открытие, способное утвердить имя Гудвина не только как удачливого бизнесмена, но и истинного первооткрывателя, возможно, принести бессмертную славу. Но сейчас истинного первооткрывателя пробирало холодом. Он слишком хорошо помнил темный, разумный взгляд самки, помнил подземный гул — и собственную мгновенную беспомощность. И то, как, раскинувшись, лежала Маниша. И то, как к ней подскочил Боровой. Сейчас транса отлеживалась в палатке. Ни к чему ей было это видеть и, главное, нюхать. Ветеринар провел вскрытие снаружи, при свете чертового фонаря. На фонарь слетелись мелкие двукрылые твари, не комары, какое-то местное их подобие. Они вились и кружились в тесном пятачке света, как чаинки в стакане самого дорогого натурального чая. Кровь их, по счастью, не интересовала.
В ответ на вопрос Гудвина русский поднял голову и странно посмотрел на него.
— А вы собираетесь хранить ее в таком виде?
— Хранить? Вы рехнулись? Давайте ее в утилизатор, а это…
Он ткнул пальцем в скрюченное тельце ребенка.
— Это в криобокс. Охота еще не закончена. Мне нужен взрослый экземпляр.
Глаза Борового расширились, придав ему неприятное сходство с лемуром.
— Гудвин, мне кажется, это вы рехнулись. Мы только что обнаружили совершенно новый научный факт. Я обязан сообщить об этом в управление. Планету наверняка закроют для охоты, а все ваши… трофеи… изымут.
— Как бы не так, — буркнул Гудвин.
Но даже он понимал, что это пустая бравада. Разумеется, изымут. С управлением не поспоришь. Не такой уж он великий магнат, чтобы подавать в иск на галактические службы. Размажут в лепешку и не заметят. Это еще Ксяо Лонг со своими борделями и своими секретиками, со своим компроматом на крупнейших чиновников УпОП мог заполучить себе в ветеринары безответного Ганса. А он, Гудвин, мошка, вроде этих двукрылых — машет крылышками, хорохорится, пока кому-нибудь в голову не придет светлая мысль его прихлопнуть.
— Ладно, делайте что хотите, — зло сказал он, махнул рукой и встал.
Ноги от долгого сидения на корточках затекли. И надо было, наконец, проведать Манишу и узнать причину ее неожиданного обморока. Можно, разумеется, спросить у Борового — тот сразу же, как только вернулись в палатку, подключил к груди и запястью девушки диагност — но лишний раз унижаться перед ветеринаришкой не хотелось. Хватило и того, что русский всю дорогу до палатки тащил трансу на себе, потому что на антиграв-носилках лежала скверная добыча.
Скверная. Никогда еще Гудвин не думал так ни об одном из добытых им образцов. Скверная, тухлая, гнилая, иная. По спине пробежала дрожь. Гудвин крутанулся на месте и наткнулся на взгляд черных, тускло блестящих глаз, пялившихся на него из пустоты. Дальнейшее произошло за долю секунды. Черная тень встала из травы, направив в грудь Гудвина другую тень, длинную и прямую.
«Ружье», — мысленно ахнул предприниматель.
Но, конечно, это была палка. Палка бесшумно вылетела из темноты и ударила Гудвина в грудь. Он отшатнулся и вскрикнул от неожиданной боли. Потом медленно повалился на спину, и в глазах его хороводом закружились белые острые звезды. Впрочем, нет, это была мошкара, танцующая в свете фонаря. Неподалеку раздался крик. Метнулось большое тело.
«Боровой», — вяло узнал Гудвин.
Темнота беззвучно ахнула — сработал личный парализатор ветеринара. Впрочем, Гудвину было уже все равно. Танец звездной мошки увлекал его, уносил, затаскивал в черный глазок ничто.
— Гудвин, — услышал он из своего звездного далека.
Отвечать не хотелось.
— Гудвин, что вы валяетесь, как бревно? У вас даже все ребра целы. Это же просто сухая палка.
Гудвин недовольно открыл глаза. В лицо бил свет «летучей мыши». Боровой, склонившийся над Гудвином и державший фонарь в одной руке, в другой по-прежнему сжимал парализатор. На секунду Гудвину показалось, что ветеринар сейчас выстрелит. Глупая мысль. Парализатором не убьешь. Даже не покалечишь толком.
Боровой убрал парализатор в поясной чехол и протянул Гудвину руку.
— Вставайте. Вы не поверите, но это опять беременная.
* * *
Я заснул и увидел сон. Во сне прошлый Я рассказывал обо всем, что видел (особенно о рыжей красивой шкуре, которую прошлый Я успел немного толкнуть), и еще о снах, где с прошлым Я говорил позапрошлый Я, и так далее, и так далее, до самого первого древодома. И даже немного раньше. Я было странно — как будто глядишь из глаз шкуры в небольшую лужу, расположенную в развилке ветвей. И там, в этой луже, отражается Я-шкура, а в глазах Я-шкуры снова лужа, и снова отражение Я-шкуры в луже, и так без конца. Сон затягивал в розовую колыхабельность, в большое нераздельное МОЕ. Сон назывался «память». Память была цепкой, как корни древодома, и не хотела отпускать. Поначалу Я даже понравилось проваливаться в сон-память, но нужно было проснуться. Нужность была не спать.
* * *
Ветер словно сорвался с цепи и нещадно трепал палатку. Гудвину подумалось, что еще немного, и она превратится в мобильный дом. Или в фургончик, который унес Элли из Канзаса в страну Оз. Эту сказку тоже читала гундосая робоняня, но сказка была не страшная — может, потому, что там фигурировал его, Гудвина, однофамилец. Маленький Гудвин даже думал сначала, что речь идет о дедушке Джеймсе. Когда он спросил мать, не дедушка ли летал на воздушном шаре в чудесную страну, мать обругала робоняню и обещала ее утилизировать.
Гудвин не понимал, с какой стати ему, взрослому, солидному мужчине, лезут в голову все эти глупые воспоминания. Может, оттого, что таким беспомощным он ощущал себя лишь в детстве? Вот Боровой — тот не был беспомощен. У Борового был парализатор, скальпель, диагност и служебные инструкции. Боровой подошел к делу так, словно всю жизнь дожидался чего-то подобного.
— Необходимо выяснить, какого пола плод, — заявил он, раскатывая новый рулон пластобрезента за палаткой, где ветер дул чуть потише.
У пола плод. У плода пол. У Пола был плод. Какого пола был плод? Гудвин тряхнул головой, прогоняя наваждение.
— Зачем? — вяло спросил он, потирая то место на груди, куда ударила палка.
Ушиб саднило. Между ребрами расползся лиловатый синяк, но диагност подтвердил, что никаких внутренних повреждений нет. Фонарь по-прежнему мигал, освещая площадку за палаткой и ближайший участок саванны, несколько жалких метров сухой травы. А дальше — стена мрака и ветра, в которой, вероятно, таилась еще не одна дюжина туземцев с острыми палками. Боровой, сохранивший хладнокровие, выставил защитный периметр, так что ни один из этих туземцев не проскользнул бы к палатке незамеченным. Вообще бы не проскользнул. Но Гудвину постоянно казалось, что кто-то смотрит ему в спину.
— Есть у меня одна теория, — пожевав губами, ответил ветеринар.
Гудвину было не интересно. Гудвину хотелось лечь, прижавшись к теплому телу Маниши, и закрыть глаза. Но это было бы неправильно. Не по-мужски. Поэтому он стоял за палаткой, глядя на нелепый, обложенный стерильными салфетками горб, — живот туземки. Почему-то желание называть аборигенов филешками, даже мысленно, отпало.
— Ну выясняйте. Взрежьте ее, как арбуз. Вы пробовали когда-нибудь арбуз, Боровой? Натуральный арбуз, не желе какое-нибудь из банки?
Ветеринар посмотрел на Гудвина так, словно сомневался в его вменяемости.
— Я не пробовал арбуз. И я не собираюсь никого резать. Можно провести сканирование, но для верности я использую кордоцентез. Это сравнительно безопасно для плода и матери и даст более точный результат.
— Кордо… что?
— Забор пуповинной крови плода. Посмотрю на хромосомный состав. Если присутствует игрек-хромосома…
— То что?
Боровой поднял голову и задумчиво взглянул в лицо предпринимателю.
— То значит ваш Ксяо Лонг не врал. По меньшей мере. Вопрос в том, откуда она взялась…
Говоря это, Боровой натянул свежую пару перчаток и принялся набирать что-то на панели диагноста. Прибор в ответ выдвинул тонкую длинную иглу. Свет фонаря блеснул на ней рыжей каплей. Такая же тонкая, длинная игла, казалось, вонзилась в позвоночник Гудвина.
«Не надо!» — мысленно заорал охотник. Он словно зачарованный смотрел, как игла медленно приближается к обложенному салфетками участку на животе самки… туземки… женщины?
«Не трогай ЭТО!» Он закричал бы вслух, но язык словно прирос к небу. Игла дрогнула и резко пошла вниз. И все исчезло.
* * *
Я проснулся опять. Я помнил, как Я-Тигр швырнул палку в Страх, и Страх упал. Но победы не было. Страх продолжал зудеть. Потом Я помнил белую вспышку и сильную боль, после которой какое-то время вокруг была одна колыхабельность. Только совсем не радостная, а сильная и цепкая. В ней кто-то тянул Я вниз, но Я рванулся и выскочил наверх.
Я ощутил, что шкура перемещается, и это было странно. Шкура была как деревянная, как кусок древодома, и совсем не слушалась толчков Я. Однако кто-то двигал шкуру извне. Надо было осмотреться, но сначала Я осмотрелся внутри. Желто-полосатый Я-Тигр свернулся в уголке Я и тихонько скулил. Все-таки он был слишком труслив, чтобы одолеть Страх. Однако выбрасывать его Я пока не торопился, в Я-Тигре еще была полезность. Он помнил много полезного из внутри Страха. Особенно одно: длинное, очень длинное, ужасное НЕ МОЕ. Оно сильно пугало Я-Тигра и было сама правильность. Мертвый Тигр внутри Страха называл его Каа. Каа умел давить, поглощать, заставлять становиться МОИМ. Каа заставил Бандар-логов прийти к нему и поглотил их. Только он делал это не как Я-Тигр, не извне, а внутри. Внутри Бандар-логов, которые были очень похожи на чужие пустошкуры. Очень правильно! Так и надо поступить. Я-Тигр подвинулся, уступая место Я-Каа.
Я-Каа ощупал все вокруг. МОЯ неподвижная шкура, как плодовая коробочка, в которой Я-Тигр и Я-Каа и, наверное, еще много кто Я — раз. Страх, напуганный, но все еще страшный, неправильный, неподатливый — два. Большая пустошкура, тоже неправильная, но немного податливая («Ко мне, мои Бандар-логи», — тихо позвал Я-Каа) — три. И еще одна, хорошая, правильная, податливая пустошкура, лежавшая сейчас в пещере Страха, — четыре. Может быть, не пустошкурой. Может быть, МОЕЙ, моим извне. Страх звал пустошкуру «Манишей» (слово, обозначавшее всех рыжеволосых внутри Страха). Маниша понравилась Я. Я представил, как уютно может быть в ней. Жаль, что один крошечный червячок (большая пустошкура звала таких червячков «генами») в Манише был неправильный. Он мешал Манише поселить в себе Я. Я-Каа пожелал правильность. Пожелал нужность. Червячки-гены в Манише зашевелились, сплетаясь в новый полезный узор.
Затем Я-Каа переключил внимание на большую пустошкуру. У нее внутри было много интересного. Наблюдая за тем, что прячется внутри нее, Я-Каа становился сильнее. Новые слова выплывали из розового приятного забытья. Слова знания, которое могло победить Страх.
Дафнии размножаются партеногенезом. При благоприятных условиях у дафний появляются только самки. Если условия начинают меняться (например, водоем, в котором живет популяция дафний, высыхает), дафнии переходят к двуполому размножению. Из тех же яиц выводятся самцы, которые оплодотворяют самок. Самки откладывают яйца. Оплодотворенные яйца покоятся на дне водоема и способны выдержать высыхание.
Я не знал, что такое «дафнии», и «партеногенез», и даже «водоем», и дернул Я-Каа за длинный хвост. Тот недовольно зашипел, всматриваясь глубже. Внутри большой пустошкуры все объяснялось так:
«Дафнии» — это МОЕ. Мои шкуры.
«Водоем» — это древодом.
«Высыхание» — это Страх. Когда Страх приходит и убивает мои шкуры, древодом высыхает.
Тогда пустошкуры начинают сливаться в чреве древодома, и в правильных шкурах появляется… Я.
«Оплодотворенное яйцо» — это Я! Я нужен, чтобы пережить высыхание.
Большая пустошкура задавалась вопросами. В ней было очень много вопросов. Она хотела узнать как, и почему, и зачем. Хотела посмотреть на червячков и понять, как они сплетаются. Обнаружив это, Я вздрогнул. Удивление. Большая пустошкура, которая уже начала меняться после зова Я-Каа, но еще не замечала этого, хотела изучать Я! Забрать часть Я? Уменьшить МОЕ? Вот это, эта… «игла» — она нужна, чтобы воткнуться в Я? Чтобы сделать боль? Наверное, решил Я, это Страх приказывает большой пустошкуре делать больно. Страх хочет, чтобы древодом высох, а все пустошкуры, уже мертвые, поселились внутри него. Чтобы они стали ИМ. Но будет не так.
Пока Я-Каа продолжал заполняться образами и знаниями, Я-Тигр поднял Манишу. Маниша была хороша. Гибкая, сильная. МОЯ. Она кралась в ночи, словно самка Я-Тигра, шаг за шагом приближаясь к ничего не подозревающему Страху. А затем, схватив дымовую трубку со спящими пчелами («Винтовка», — подсказал сытый Я-Каа), с размаху ударила Страх по затылку.
* * *
Он долго не всплывал из небытия. В небытии горел костер, вокруг него плясали голые обезьяны по имени Бандар-логи. Няня гнусавым голосом читала сказку про то, как детей капитана Гранта схватили каннибалы. Каннибалы и были Бандар-логи. Каннибалы хотели съесть маленького Гудвина. Няня схватила своего воспитанника за шкирку и, держа над костром (пятки тут же начали поджариваться, и запахло горелой плотью), спросила: «Как ты посмел меня утилизировать?!» «Но это все мама!» — попытался возразить Гудвин, однако няня, сердито фыркнув, разжала пальцы. И он полетел в оранжевый злой огонь.
Гудвин рывком вырвался из дурного сна — и понял, что сон не кончился.
Оранжевое пламя плясало по стенам палатки. До Гудвина не сразу дошло, что это свет фонаря, и пляшет он всего-то в машинной имитации язычков огня, колеблемых ветром. Ветер тоже был. Он ухал, стенал, несся где-то снаружи, над саванной, он рвал и пинал палатку, как раздраженный прохожий, пинком откидывающий с дороги пакет с мусором.
Что-то было еще. Взгляд. Туземка. Туземка смотрела из темноты в углу палатки. Гудвин с трудом повернул голову, но в углу палатки сидела Маниша. Его Маниша. В оранжевом свете фонаря глаза ее казались почти черными, с рыжими костряными искорками. Она сидела на корточках, обняв руками колени, и молча пялилась на него, Гудвина.
— Мани…
Гудвин осекся. Собственный голос предал его и ударил по вискам, по затылку так, что Гудвину снова пришлось зажмуриться. Когда он открыл глаза во второй раз, то увидел Борового. Ветеринар вел себя странно. Он стоял, покосившись набок, опираясь всем весом на левую ногу, и тряс головой, словно хотел вытрясти воду из уха. Почувствовав взгляд Гудвина, Боровой обернулся к нему. Предприниматель вздрогнул. Глаза Борового, прежде серо-голубые, тоже как будто почернели из-за расширившихся зрачков.
— Дафнии, — сказал Боровой.
— Что?
На сей раз боль была уже поменьше, терпимая боль. В затылке глухо пульсировало.
— О чем вы говорите? Что произошло? Почему я…
Гудвин опустил голову и только тут понял, что связан. Руки и ноги были стянуты тонким пластоцитовым тросиком, который охотник собирался использовать для того, чтобы подтянуть на дерево необходимое оборудование (если, конечно, придется карабкаться наверх). Это было странно. Нелепо. Зачем связывать его тросом? Даже если оставить в стороне вопрос, зачем его вообще связывать, у Борового был парализатор. Обездвижить им человека гораздо легче.
— Съесть, — отчетливо произнес ветеринар.
— Что? — повторил Гудвин.
— Оно говорит вас съесть.
Гудвин так удивился, что даже не особенно испугался. Этот мерцающий свет, мечущиеся тени, осунувшееся, резко очерченное лицо Борового с дергающейся щекой… все это казалось лишь продолжением сна. Вот если бы еще не Маниша. Гудвин обернулся. Маниша по-прежнему сидела в углу, беззвучно шевеля губами.
— Что вы с ней сделали? Отпустите меня. Вы ненормальный!
— О да, — гнусно ухмыльнулся Боровой. — Я определенно схожу с ума. Эта тварь роется у меня в голове, как в собственном кармане. И постоянно подсовывает дафний. Ему, видите ли, интересны дафнии.
— Кому?
— Он зовет себя «Я». Но, согласитесь, я не могу называть его «Я», ведь я это я!
Тут Боровой захихикал с самым безумным видом.
— Вы спятили. Развяжите меня немедленно!
Гудвин дернулся, но был вознагражден лишь острым приступом головной боли.
— А на вас не действует, да?
Боровой преодолел разделявшее их расстояние в два длинных шага и склонился над своим пленником.
— Не действует. Ну да. Вы натурал. Вам никто ничего не ушатывал. Все дело в червяках.
— В каких червяках?!
— А, это он так называет гены. Путает образ генов с мейотическими хромосомами. Он не очень эрудирован, правда, но жутко силен. Видите ли, у меня не было двадцати поколений натуральных предков. То есть были, но они жили в грязи Коста-Рики…
— Вы же русский!
— Ах, кто сейчас русский, а кто еврей. Несть ни эллина, ни иудея, — громко, как будто смешение племен и кровей действительно его удручало, вздохнул Боровой. — Просто одна из легенд нашего мира, вроде вашей натуральности. То есть вы конечно же натурал. Натурал Натуралыч, а то бы он и вас скрутил.
— А вы нет?
— Почти, — осклабился ветеринар. — У меня в семейном анамнезе рак кожи. Отец умер в сорок лет, дед в сорок три. Мне хотелось пожить подольше. Когда я получил стипендию на обучение в Колумбийском университете, то перевел солидную часть денежек клинике генной терапии в Нью-Йорке. Они меня подправили, а потом уже пошло — заплатка там, патч тут. Вот и ушатали меня, ушатали… о ней и говорить нечего.
Боровой резко дернул головой в сторону Маниши.
— Она готовый генный коктейль для нашего Яйца.
— Для какого, черт возьми, яйца?
Гудвин начал злиться. Он повел плечами, дернул руками. Трос впился сильнее.
— Не дергайтесь. До ближайшего юриста пара сотен световых лет. Никто тут не предъявит вам судебный иск, Гудвин, пристрели вы еще хоть дюжину разумных. У Яйца другие методы… пресечения.
— Это яйцо говорит вам, что меня надо съесть?
Боровой радостно закивал, как будто Гудвин своими словами разрешил мучившую его моральную дилемму.
— Зачем?
— Говорит, вы Страх. Если съесть Страх, станешь сильнее. У него довольно примитивные, даже первобытные представления. Но это и неудивительно. Он ведь даже еще не родился.
Говоря это, Боровой смотрел на темный сверток в том же углу палатки, где сидела Маниша. Только сейчас Гудвин понял, что это не рюкзак и не сумка с оборудованием, а накрытая пластобрезентом женская фигура. Туземка. Она все еще не очнулась. Значит, прошло не больше пары часов — парализатор редко действует дольше, если не выставить его на максимальный заряд.
— Вы ее оперировали? Нашли…
Гудвин осекся, вспомнив, как в мягкий живот вошла игла и как в тот же миг все почернело.
— О нет. Я ошибался.
Боровой раздраженно фыркнул, как будто корил себя за глупость.
— Дафнии, — снова повторил он.
— Дафнии?
— Мелкие ракообразные. Пол у них определяется чисто морфологически… фенотипически. Одинаковый набор хромосом при внешней дихотомии.
Гудвин, не понимавший ни черта, принялся тихонько оглядываться. У Ксяо Лонга на такой случай наверняка бы нашелся припрятанный в ботинке нож. Гудвин ножей в ботинках не носил (хотя владел неплохим охотничьим кинжалом старинной работы), но должно же быть хоть что-то… какой-то способ порвать или перерезать трос. Рассудок подсказывал ему, что резать пластоцит бесполезно, — эта полуживая материя заживляет себя быстрее, чем нож рвет волокна. Может, огонь? Но костер остался снаружи… костер и пляшущие вокруг него Бандар-логи. Нет, костер остался во сне.
Между тем Боровой продолжал что-то говорить.
— …суть не в двуполости, а в гаплоидности и диплоидности. И самки, и самцы первого поколения происходят из неоплодотворенных яйцеклеток. У них одинарный набор хромосом. Но потом, когда под влиянием стресса у самок проявляются морфологические признаки самцов и происходит спаривание, возникает диплоидная зигота. Яйцо. И он… оно… совсем другое. Вот смотрите!
Похоже, Боровой начисто забыл, что говорит со связанным человеком. Щелкнув по уни-браслету, он развернул в воздухе экран диагноста. По экрану бежали какие-то непонятные вертикальные строчки.
— У плода двойной набор хромосом. Лабильный. С амейотическим кроссинговером! Его гены постоянно меняются. Приспосабливаются. Совершенствуются. За одно это дали бы Нобелевку…
Боровой осекся на полуслове. По его лицу пробежала судорога, словно в театре задернули занавес. Затем вновь открыли — но сцена за ним уже была совершенно другой. Из глаз Борового на Гудвина смотрело… чужое. Смотрел сам Страх.
— Ты не страшный, — сказал Страх ртом Борового. — Ты голый и безволосый.
Маниша, подчиняясь, казалось, неслышимому приказу, гибко поднялась и встала рядом с Боровым-не Боровым.
— Ты не страшный, — сказала она. — Ты мал. Ты один.
— Заткнись! — завизжал Гудвин и забарахтался в своих путах. — Отпусти ее, мерзкая тварь!
Маниша присела рядом на корточки и, склонив голову набок, с любопытством заглянула в лицо Гудвину.
— Ты хотел съесть МОЕ. Ты съел много НЕ МОЕГО, а потом пришел и хотел съесть МОЕ.
— Я не жру падаль! Я просто коллекционирую…
Маниша покачала головой, встала и положила руки на плечи неподвижному Боровому.
— Ты и эту красивую шкуру бы съел, — произнес Боровой. — Как съел две до нее. Как хотел съесть пустошкуру по имени Боровой, которая теперь МОЕ.
— Я никого не ел!
— Ел! Ел! — откликнулось двойное эхо.
Хотя какое эхо в палатке?
Гудвин огляделся.
Он сидел в пещере. По стенам пещеры плясали тени, вились древесные корни. Бандар-логи похитили человеческого мальчика Маугли и притащили в разрушенный город людей и швырнули в пещеру. Он видел остатки резьбы на стенах, перекрещивающиеся узоры старинных фресок, обнажившиеся ребра арматуры. Но все медленно обтекали наплывы дерева, более древнего даже, чем поглощенный им город.
«Остатки первой колонии, — потрясенно подумал Гудвин. — Это Ковчег, на котором прибыли поселенцы. Но как я очутился в Ковчеге?»
Где-то вдали ритмично ухали тамтамы. Тени плясали по стенам. Терпко пахло нечеловеческими телами, грибной сыростью, острой вонью перебродивших плодов. Жар исходил от сплетающихся в экстатическом танце тел. Они были везде, плоскомордые, смуглокожие, с тонкими руками и кривыми ногами, они предавались соитию в немыслимых позах — Гудвин видел лишь мелькание более светлых и темных пятен, потому что свет скупо сочился сверху, несколько тонких бледных лучей.
«Уже утро», — глухо прозвучало в одурманенной голове охотника.
Связанные руки и ноги больше не болели. Гудвин их просто не чувствовал.
Прищурившись, он заметил в сплетенье теней мелькание рыжего. Маниша. Она была там. Она была там с Боровым, в этом ухающем, ворочающемся живом котле, в чреве, в плотском вареве.
— Помогите! — закричал Гудвин, вскинув голову к невидимому, изрешеченному лучами своду.
— По-мо-ги-тееееееееееееееее!
Острые зубы сомкнулись на его плече. Еще кто-то впился в лодыжку. Твердые пальцы зашарили по ребрам, срывая одежду. Еще один укус, еще, еще.
— Я никого не ел, — уже теряя сознание, всхлипнул он. — Честное слово. Простите. Мама!
* * *
Червячки в большой пустошкуре и Манише были сама полезность. Я стал сильнее. Сильнее должно было стать и все МОЕ. Я нужен был Бандар-лог. Он был труслив, но Я-Каа и Я-Тигр спрятались на время. Я-Бандар-лог, заняв большую пустошкуру, принялся за дело. За то, что умел лучше всего — наполнять пустошкуры обновленным, лучшим Я. Работы было много, но Я-Бандар-лог с ней справился.
Усталость. Правильность… А затем пришел голод. Настало время поглотить Страх. Сделать его МОЕ. Я-Страх. А потом подумать о том извне, откуда пришел Страх. И о правильности сделать это извне МОИМ.
* * *
Отчет патрульной группы МЧС 1473-SAY, 13-й сектор (поступил в локальное отделение МЧС по квант-связи):
«При получении сигнала «Код красный» (длительное отсутствие экипажа на борту) с яхты «Оз» (регистрационный номер 2537-AS при базе Луна-15) группа прибыла на планету 13-Нордау-2 («Филлет»). С момента получения сигнала по квант-связи прошло 6 месяцев 12 дней. На низкой орбите обнаружена яхта «Оз» в автономном режиме, экипаж отсутствует, один из посадочных модулей отсутствует. Состав экипажа: капитан и владелец Мартин Дж. Гудвин, ветеринар Иван Боровой, саб-транса Маниша (кодовый номер в базе «Генаторикс»: серия 12-A № 1324572). В транспортной декларации яхты значится цель визита на Филлет: «Охота и отстрел от одного до пяти экземпляров Homo filliensis». Группа совершила посадку на территории, лицензированной под промысловое и охотничье использование (Западное полушарие, квадрант 9–2-А, точные координаты прилагаются в форме 4.0). На территории обнаружен посадочный модуль и остатки палатки. У палатки обнаружен мумифицированный труп туземки с разрезами на животе и следами пулевого ранения. При осмотре ближайшего гнезда обнаружена транса 12-А 1324572 (Маниша). Врач группы определил, что транса находится на 30-й неделе беременности, что противоречит ее техническим характеристикам. До выяснения взята на борт патрульного катера и погружена в анабиоз. Борового и Гудвина, как и их останков, обнаружить не удалось. Из отмеченных странностей — практически все самки в колонии, как и транса, оказались беременными (срок совпадает). Несколько образцов также взято на борт и погружено в анабиоз. Согласно инструкции 12-IVа, после зачистки местности вылетаем к порту приписки.
Командир группы сержант Дональд О’Хара, личный номер 1473-SAY-1.
14 марта **** года, 15:28 по общегалактическому времени».
Владимир Венгловский Охотник и пряности
На обед подали суп из омаров с Посейдона, вареный картофель и мясо фри-кре, что выращиваются на орбитальных фермах. Фри-кре оказались вполне привычными — курица курицей, а вот омары были странными. Не в том смысле, что расплодились в инопланетном океане, как кролики в Австралии, а потому что их куски не хотели тонуть в прозрачном бульоне и дрейфовали по тарелке вместе с островками зелени. Но это же неправильно! Стоило притопить один из кусков ложкой, как он перемещался у самого дна, изображая из себя подводную лодку, а потом всплывал на поверхность, будто с желанием посмотреть: «Кто этот джентльмен, который меня сегодня съест?»
— У вас свободно? — улыбнулась подошедшая к столику женщина.
Первое, что бросалось в глаза, — бордовый цвет. Его было слишком много. Гранатовое платье, длинное, до самых лодыжек, но с вырезами, которые сводили на нет всю его закрытость. Коралловые сережки и колье, роняющие на гладкий стол и псевдоиллюминатор багровые отблески. Ярко-красные, цвета крови, губы. Даже темные волосы незнакомки, казалось, имели рубиновый оттенок.
— Совершенно свободно, — сказал я. — Странно, однако.
— Что странно?
— Что они плавают, — пояснил я. — Омары должны ползать по дну, а не изображать из себя рыб. Я — Воронов. Охотник Павел Воронов, если вас интересует мое имя и род занятий. Не просто незнакомец-за-столом.
Женщина опустилась на стул — подол платья волнами скользнул по ее ногам и коснулся пола. Интересно, сколько надо тренировать этот жест, чтобы он так изящно получился? Кстати, ноги были ничего себе, стройные. Тут же подошел официант — живой человек, в лайнере «Гордость Земли» могли позволить себе элитное обслуживание — и принял у гостьи заказ.
— Ангелия Джум, посол Совета на Джайтерре, — представилась моя собеседница и подарила ослепительную улыбку.
— Дайте угадаю — вас выбрали из-за того, что ваше имя начинается, как и название планеты? — предположил я.
— Не совсем. Так уж сложилось. А вы на кого охотитесь?
— Конкретно сейчас?
— Нет, вообще. Спасибо, — кивнула она официанту, принесшему на тарелке что-то зеленое, возвышающееся и неровное, как Пизанская башня.
Над тарелкой витал аромат дрейка — лучшей пряности в изученном секторе Галактики. Острее майорана, восхитительнее шафрана, слаще ванили — дрейк бывает совершенно разным и меняет вкус продукта до неузнаваемости. Гурманы готовы отвалить кучу денег за грамм этой сушеной пряности.
Но растет она только на Джайтерре.
Мой проклятый омар никак не хотел оставаться на дне. Доиграется-таки, что я его съем. Я перевел взгляд на псевдоиллюминатор, в котором проносились далекие звезды и туманности.
— Для кого эта обманка? — ткнул я в него ложкой. — Ведь всем известно, что в квазипространстве нет звезд. Вернее, есть, но они не видны. Позвольте сменить эту лживую заставку на что-то более интересное?
Ангелия пожала плечами. Я вызвал меню. Так, что у нас в списке? Ага — вот именно то, что нужно. «Пейзаж Пендрагона. Детям и легко впечатлительным людям просьба не активировать». Я исподтишка глянул на Ангелию. Точно не ребенок. Интересно, не относится ли она к легко впечатлительным? Сейчас проверим.
Я запустил выбранную заставку, и в псевдоиллюминаторе к нам бросился крозавр. Вилка Ангелии испуганно звякнула о тарелку, Пизанская башня окончательно рухнула, разбросав по скатерти зеленые листья салата. Я прицелился указательным пальцем в оскаленную пасть хищника.
— Бах! Вот на него в последний раз и охотился. Яростная тварь, я вам скажу. Яростная и глупая.
Я достал из кармана фигурку крозавра и поставил на стол возле своей тарелки. Зубастая пасть хищника отражалась в бульоне среди плавающих омаров и гранатовых вспышек драгоценностей.
— Он сделан из бедренной кости моей добычи. У меня есть знакомый художник… Скульптор. Хорошо, кстати, у него вышло, согласитесь. Очень похоже. Люблю оставлять себе что-то на память. А весь скелет находится в Московском Космическом музее. Можете глянуть на досуге. Он там во втором крыле сразу возле входа. Повернуть направо. Я придерживаюсь двух принципов: раз — никогда не охочусь на добычу, которая не может тебя убить, и два — никогда не стреляю из засады. Только лицом к лицу с хищником, когда у тебя есть один выстрел. Поднимаешь ружье… Пули, конечно, разрывные, но должен же быть у меня хоть какой-то шанс? Поднимаешь ружье и ждешь, пока эта тварь не подбежит на близкое расстояние, потому что у нее броня прочная, как эльбор, и нужно попасть в раскрытый рот. Знаете, перед нападением крозавр встает на дыбы. Подбираешь момент — ни раньше и ни позже. А потом — бах!
Я опрокинул фигурку хищника на стол.
— И все.
Виртуальный крозавр отошел от экрана в глубь саванны, а потом, очевидно, передумал и вновь бросился к нам.
— И все, — сказала Ангелия, промокая губы салфеткой и поднимаясь со стула. — Как и вы, терпеть не могу лжи. Эта ваша детская игрушка продается в любом сувенирном магазине. Ну, мистер неудачливый Альфонс, счастливо оставаться.
Я посмотрел ей вслед и поднял фигурку крозавра на ноги, заставив ее вновь смотреться в суп.
— Подумаешь, — тихо сказал я. — Ну соврал. Какой же дурак будет ему в пасть стрелять? Он и с выбитыми мозгами тебя растопчет. Стрелять надо в мягкое место над гениталиями, чтобы раздробить позвоночник. Вот это его конкретно остановит. Бах! — Я щелкнул по фигурке, и она кувыркнулась в суп.
Пришлось достать и вытереть салфеткой. Надо будет сообщить Пьеру, что его шедевры принимают за детские игрушки. Потом. Как-нибудь при случае. А вот испуганных омаров следовало съесть сейчас из чувства гуманности и сострадания. Чтобы им было приятнее, я активировал заставку их родной планеты, и в псевдоиллюминаторе заколыхались бирюзовые волны Посейдона. По ту сторону зазеркалья суетились карликовые медузы и плавали рыбы. Разбрасывая лапами разноцветную гальку, прополз пришлый омар.
— Будешь себя плохо вести — последуешь за собратьями в тарелке, — сообщил я ему. — И вообще — пора завязывать с карьерой охотника. У меня родилась одна гениальная идея, которую надо привести в жизнь. Только это наш с тобой секрет.
Я вынул из кармана комм, запустил файл: «Агрокультура иных планет. Как начать свой бизнес» и углубился в чтение.
* * *
Джайтерра встретила меня желтым, словно лимон в чашке черного чая, солнцем, надоедливыми гидами, которые так и норовили охмурить вновь прибывшего туриста, и моим другом Валераном «Стреляю-первым» Уальдом. Он уже пять лет тут помощник мэра. Считай — главный охотник. Деньги гребет лопатой, как глава финансовой пирамиды. С него не убудет предоставить мне на год… ну на два небольшой загородный домик, пока не обзаведусь собственным хозяйством.
— Старик! — Валеран похлопал меня по спине. — Здоровый! Крепкий! Уважаю! Как Алена?
— Какая Алена? — спросил я.
— Не было Алены? Ну и ладно. Будет другая. Главное, что ты у нас! Как в славные добрые времена! Помнишь, как мы завалили ту амфибию с Гефеста? Ох и здоровая была зверюга!
— Я.
— Что?
— Я завалил, а не ты.
— Ну хорошо, ты, ты… Зато здесь я тебя всему научу. И как стрелять, и как добычу выслеживать. — Он подмигнул проходящим мимо смуглокожим красавицам. — Завтра начинается сезон охоты. Дрейков в этот раз обещает быть больше обычного. Всем хватит. Рейнджеры только у города три колонии выследили.
Мне показалось, что на остановке монорельса мелькнуло багровое платье Ангелии. Я тяжело вздохнул. Подумать только, все благосостояние этой колонии зависит от охотников на дрейков. Дрейки — это нечто среднее между растениями и грибами. Во всяком случае, так написано в путеводителе по Джайтерре. Здесь царит жесткая торговая монополия. Осуществляется строгий контроль над приезжими, введен полный запрет на вывоз «живых» плодов Дрейка и нелицензионную охоту. Повезло, что на планете не найдено разумной жизни и Совет позволил колонизацию.
А мне повезло, что Валеран добился для меня разрешения. Как говорится, взял под свое крылышко.
«Спустя три месяца созревший плод дрейка уходит искать новое место для грибницы», — мысленно процитировал я книгу. Плод — уходит… Бред. Растения не должны ходить.
— Что ты сказал? — переспросил Валеран.
Очевидно, я думал вслух. Глупая привычка, которую приобрел, три года прожив Робинзоном на Нью-Гвинее. Не той, что на Земле, а на ее тезке в системе Эты Кассиопеи.
— Говорю, помнишь то хищное растение с Гвинеи? Оно росло, а не ходило.
— А вот теперь поохотишься на ходячие растения, друг мой, — хлопнул меня по спине Валеран.
Плоды Дрейка принимают вид одного из животных Джайтерры. Чаще всего — их тезок, драконов, хищных ящеров, живущих стаями. Точная копия — не отличить. Идеальная мимикрия. Дрейки охотятся вместе со своими животными собратьями, пока не придет время основывать новую грибницу. Тогда они разваливаются на куски, каждый из которых дает подземные побеги.
Главное для рейнджеров — найти грибницу до раскрывания плодов. Остальное — дело охотников.
— Поохотимся, — улыбнулся я. — Дрейки ведь опасны?
— О! Весьма! — Валеран продемонстрировал висящее на шее ожерелье, выполненное из больших изогнутых когтей. — Знаю я твои правила! Предоставим тебе самого страшного из них! Пошли, я покажу твое бунгало, раз не хочешь остановиться в городе.
Мы сели в монорельс, колея которого кольцами и спиралями охватывала всю колонию. Прозрачные капсулы-вагоны мчались мимо небоскребов. Люди загорали на залитых солнцем площадках и купались в воздушных бассейнах. Нет, это неправильно. Вода не должна висеть в пузырях посреди неба.
Я прислонился лбом к стеклу, ощущая легкую вибрацию от двигателя. Все должно быть совсем не так. Я закрыл глаза, вспоминая болота Новой Гвинеи, когда из оружия оставались лишь лук и копье, а спать можно было только на деревьях, чтобы за ночь тебя не сожрали хищные пиявки. Тогда вода не висела в воздухе, а чавкала болотной жижей под ногами. Вот это была жизнь! А здесь куча бездельников, зависящих от смерти несчастных растений.
— Что ты сказал? — спросил Валеран.
— Ничего.
Я отодвинулся от запотевшего стекла и нарисовал на нем пальцем улыбающегося омара. Затем поднял на колени чемодан с моим разборным «Банджо» шестого калибра и плотнее прижал к себе. Это меня успокоило. Близость оружия всегда успокаивает. С ним обычно все понятно — есть лишь ты и добыча. Главное, не перепутать кто из вас кто.
— Долго еще?
— Нет, уже подъезжаем, а там пройдемся пешком. Вон, видишь, начинается лес.
Город закончился резко. Раз — и колея монорельса утонула в зелени густой листвы. Два — и вагон снова вынырнул под солнце саванны, а я смог сполна насладиться зрелищем природы иного мира. Если только что у домов росли привычные привезенные колонистами клены и каштаны, то дальше возвышались дикие великаны Джайтерры — блуждающие деревья, по сравнению с которыми даже земные баобабы выглядели, словно морская свинка рядом с диким кабаном. За каждым из этих гигантов тянулась колея вспаханной земли.
Блуждающие деревья постоянно перемещаются в выбранном направлении в поисках лучшего места для обитания. Медленно, но неустанно и неотвратимо, словно айсберги в океане.
От нескольких гигантов, подобравшихся слишком близко к городу, остались лишь пни.
— Впечатляет, да? — произнес Валеран.
Я молча согласился. Впечатляет. Если бы это были хищники… Я представил тварь такого размера сквозь прицел «Банджо». Она идет, размахивая лапами. Ближе… Еще ближе… Вот сейчас…
— Выходим, — сказал Валеран.
Вагон монорельса плавно повернул и остановился, выпуская последних пассажиров.
— Теперь во-о-он туда. Пешая прогулка пойдет тебе на пользу.
Не так далеко от города саванна переходила в джунгли. По обочинам дороги что-то чирикало и пело. Из-под ног время от времени вспархивали разноцветные кузнечики.
Мой новый дом стоял у самого леса — небольшое деревянное сооружение с открытой верандой и порванными москитными сетками на окнах. Невдалеке росло блуждающее дерево, забравшееся в джунгли, как ледокол во льды, и на первый взгляд там застрявшее. Его колышущиеся на ветру ветви то открывали, то закрывали солнце.
— Класс! — сказал я, рухнув в стоящее на веранде кресло-качалку.
Все три года в болотах Нью-Гвинеи мечтал о таком.
Скрип-скрип… Ни о чем не думать. Сидеть с закрытыми глазами, скрипеть и чувствовать, как свет и тень над головой сменяют друг друга. И никаких хищных пиявок в радиусе десяти световых лет.
— Ты чуть не раздавил Навуходоносора, — сообщил Валеран.
Он поднял с пола деревянную клетку, в которой сидело многолапое мохнатое существо, весьма неприятное на вид.
— Паук Сикорского с Пендрагона, слыхал о таком? Один микрограмм яда гарантированно валит с ног слона. В городе держать запрещено.
Паук бросился на решетку и вцепился челюстями в прутья.
— Меня, кстати, тоже не рекомендуется держать в городе, — вздохнул я. — Так что мы с ним похожи. Милое создание. Это мой сосед? Что мне с ним прикажешь делать?
Через час, когда Валеран ушел, сославшись на срочные дела, я играл с пауком в шахматы. Правда, во время его ходов приходилось поворачивать доску и делать ход за соперника, но Навуходоносор ничего не имел против. А мне было больше нечем заняться — не собирать же ружье в пятый раз? Ночью ожидалась гроза, а после нее можно сразу отправляться на охоту. Так сказал Валеран.
— Тебе мат, — сообщил я, наблюдая, как Навуходоносор в который раз набрасывается на прутья клетки. — Не умеешь проигрывать. Слабак. Ничего, вот исполню свой план и, может быть, выкуплю тебя у Валерана.
После захода солнца действительно началась гроза. Блуждающее дерево вспыхивало огнями и гасило пожары накопленной в стволе водой. Я ходил по дому, сжимая ружье и прислушиваясь к раскатам грома. Хотелось забраться повыше, но повыше били молнии. В Нью-Гвинее не было гроз. Там были только хищные пиявки, которые сейчас чудились мне в каждом темном углу. Наконец я уснул на столе, перетащив туда подушку.
Глубокой ночью я проснулся оттого, что блуждающее дерево сдвинулось с места, сломав при этом несколько своих лесных собратьев. Я схватил ружье и выбежал на веранду.
— Еще раз это сделаешь — и я тебя пристрелю! Не шуметь, ты меня понял?!
Дерево не ответило, и я удовлетворенно вернулся на стол.
— И к тебе это тоже относится! — ткнул я ружьем в Навуходоносора, проходя мимо. — Всем спать!
Но спать мне пришлось недолго. Часа через два, когда на небе заалели первые проблески рассвета, явился Валеран с десятком других охотников. Нас ждала грибница дрейка с созревшим плодом.
* * *
На Новой Гвинее не было комаров. Наверное, там им просто было нечем питаться — все живое сжирали пиявки. Зато в джунглях Джайтерры этой жужжащей кровососущей нечисти хватало с головой. Стоило погрузиться в сумрак под пологом деревьев, как целые стаи насекомых осаждали тебя со всех сторон.
Идущий впереди охотник со свернутым вбок носом и когтями дрейка на ленточке вокруг широкополой шляпы отчаянно ругался, тщетно пытаясь отгонять насекомых. Валеран старался держаться позади. Я видел, насколько он напряжен и осторожен.
— Тихо! — наконец сказал он, поднимая руку. — Впереди.
Мы вышли на поляну. За нами наблюдали глаза на длинных стеблях. Они росли из земли и поворачивались, как подсолнухи за солнцем, когда мы проходили мимо. Глаза были не настоящие — всего лишь рисунок на органике, имитация для отпугивания хищников, один из методов защиты дрейка. Отростков с глазами-обманками было много. Красные и синие, зеленые и карие, большие и маленькие, смотрящие с удивлением и с укором — полный набор, словно дрейк, как модница, пробовал разные варианты макияжа, но так и не определился, какой облик выбрать.
В центре поляны среди пожухлой травы торчал огромный кокон с твердой оболочкой.
— Ждем, — тихо сказал Валеран. — Это добыча Ворона.
Мой первый хищник на Джайтерре. Моя добыча. Согласен.
Надо было соблюдать тишину, чтобы не побеспокоить дрейка, иначе он мог и не вылупиться. Я лежал в траве и думал, какой страшный зверь вскоре появится из кокона.
Может быть, это будет дракон с острыми зубами, большой, свирепый, покрытый броней.
Бах!
Воображаемая пуля попадала ему в голову.
Или хищная птица, одна из тех, которые еще остались в непроходимых джунглях Джайтерры.
Бах!
На моей руке сидел комар, раздувшийся от выпитой крови, как бочонок. Рядом моргал фальшивый глаз дрейка, я не удержался и тоже подмигнул ему в ответ.
По кокону пробежала трещина. Затем вторая. Его оболочка расползлась в стороны, как кожура банана, и наружу выбралось животное. Я вскочил на ноги, вскидывая ружье…
— Почему не стреляешь? — наконец спросил Валеран.
— Это неправильно, — ответил я, опуская оружие.
На поляне стояло существо, напоминающее слона. Не дракон, не хищник, не опасный зверь — всего лишь травоядное, собирающее хоботом листья и отправляющее их в широкую пасть. Зверь подслеповато посмотрел в нашу сторону, развернулся и потрусил в чащу.
— Стреляйте! — закричал Валеран, и грохот выстрелов разорвал тишину леса.
Пули пробивали толстую шкуру зверя. Я стоял и смотрел, как от него отлетают куски и как этот джайтеррский слон тяжело валится на землю. Мимо нас к добыче пробежал охотник в шляпе с зубами дрейка.
— Так бывает, — сказал Валеран. — Он ведь может принимать любые формы. Значит, во время завязи невдалеке проходило стадо элефов, ничего страшного.
— А где хищник? — зачем-то спросил я.
Валеран лишь похлопал меня по спине. Охотники, словно стая налетевших ворон, суетились над телом мертвого дрейка.
— Твоя доля, — бросил мне один из них отрезанную ногу элефа.
Я взял. Не стоило отказываться от своего плана разбогатеть.
* * *
Моя часть дрейка была посажена в джунглях невдалеке от дома. Я вынес Навуходоносора на прогулку и вскопал грядку во влажной лесной подстилке.
— Понимаешь, — сказал я пауку, — либо я гений, либо все вокруг немного глуповаты. Скажи мне, зачем охотиться на то, что можно вырастить самому?
Я показал ему файл про агрокультуру иных планет.
— Занимательная вещица, если подойти с умом, не находишь? Ну, нет так нет.
Я мог бы высушить лапу дрейка. Это килограмм сухой массы, продав который я безбедно прожил бы год. Но надо мыслить на перспективу. Так написано в книге. Через полгода у меня будет целый плод дрейка. Это уже не килограмм, не два и не три, а все пятьдесят, если повезет. Но его я тоже не продам. Ведь надо следовать плану до конца. Перед глазами возникла картина агроимперии Павла Воронова по производству экзотических пряностей.
Поразительно, что до меня никто не додумался выращивать дрейков. А с Валераном я как-нибудь сумею договориться. Победителей не судят.
Валеран улетел куда-то на Землю, и я был предоставлен самому себе. Оставалось только ждать.
Первые побеги появились спустя месяц. Глаза дрейка на ветках удивленно и, как мне казалось, с благодарностью смотрели на меня. Я прогуливался среди них с Навуходоносором в клетке и читал вслух книги. Иногда устраивал шахматные турниры сам с собой. Делал утренние пробежки, когда джунгли пропитывал холодный туман, а тело, казалось, покрывалось росой. И ожидал первого урожая.
Момент выклева плода я пропустил и встретил своего Дрейка уже после этого. Вернее, я видел его каждый день, наблюдал, как он рос (не он, еще не Дрейк — лишь кокон, поднимающийся в центре грибницы), но впервые встретил в то утро, когда от его кокона осталась пустая оболочка.
Я вернулся в дом и взял ружье. Затем вновь пришел к грибнице, читая следы на земле. За мной наблюдали глаза-обманки на длинных стеблях. Среди пожухлой травы лежала пустая оболочка, словно здесь на свет появилась огромная бабочка. Я невольно поднял голову к небу, но с небес лишь падала водяная взвесь. Тогда я пошел по следам. Но вскоре следы, размытые дождем, потерялись.
Я увидел Дрейка только через час, когда мы брели навстречу друг другу вдоль опушки. Я все так же сжимал «Банджо», а он шел, высокий и ссутулившийся, как Паганель, в сером плаще и широкополой шляпе, — очевидно, снял их с какого-то пугала.
И его лицо было копией моего.
* * *
Вечером того же дня вернулся Валеран, и я позвонил ему по Сети.
— Валеран, — сказал я. — Срочно нужна твоя помощь, приезжай.
Он приехал — видимо, что-то понял по моему тону. Мы с Дрейком как раз сидели на веранде и играли в шахматы.
— Представляешь, проигрываю! — сообщил я. — Счет два-один в его пользу.
Дрейк снял шляпу и поклонился. Валеран побледнел.
— Ты вырастил плод Дрейка?! — закричал он. — Зачем?! Псих! Дикарь! Ты что, решил, что все вокруг идиоты, а ты один такой умный?
Я пожал плечами.
— Я же говорил, что этот проклятый гриб принимает любую форму! — не прекращал кричать Валеран. — Любую! Одно время считалось, что эта тварь подстраивается под того, кто был рядом при формировании колонии! Но ее интересует только доминирующий на планете вид! Дрейка нельзя сажать человеку! Думаешь, не пробовали?! Выращивать с помощью роботов, запустить в загон свиней — пусть копирует. Но — нет! Стоит нарушить естественный процесс, как все равно получается жалкая копия человека!
— Почему жалкая? — спросил Дрейк.
— Выходит, ты знал, — прищурился я. — Вы все знали, что дрейк разумен.
— Это не разум, а мимикрия! Он лишь скопировал тебя. Твои мысли, твои умения, твою личность!
— Но в шахматы играет здорово, — снова улыбнулся я. — Хорошо, пусть не разум, а потенциальный разум, возникающий при определенных условиях. Но ведь моего Дрейка сейчас не отличить от человека! Ты понимаешь, что при таком раскладе Совет запретит колонизацию Джайтерры?
Валеран достал из кармана помятый носовой платок и вытер лицо, казалось, стирая с себя весь лоск. Его облик стал жестким, таким, каким я его запомнил, когда мы стояли над телом амфибии с Гефеста.
— Вся наша колония держится на экспорте Дрейка! — холодно сказал Валеран. — Весь этот город живет только этой чертовой пряностью! И ты хочешь все разрушить? Оставить без работы тысячи людей! Разорить всю планету! И заодно меня!
Я пожал плечами.
— Но ведь он разумен.
На этот раз улыбнулся Дрейк, словно моя зеркальная копия. Возникла тишина, в которой слышалось, как кидается на прутья клетки Навуходоносор.
Валеран выхватил из-за пояса пистолет и направил на меня.
— Подними руки. Вот так, молодец. Ситуация «один а», — сообщил он по комму, приложив его левой рукой к щеке. — Всем постам, повторяю, ситуация «один а». Ликвидация объектов.
«Стреляю первым» — это было прозвище Валерана, сколько я его знал. Он действительно раньше всех выхватывал оружие. Но три года на Нью-Гвинее научили меня осторожности. Ведь гигантские пиявки — они очень быстрые. Мое «Банджо» лежало под столом на коленях Дрейка, и Дрейк, все так же улыбаясь, нажал на спуск.
Пуля шестого калибра с легкостью перебьет позвоночник крозавру с Пендрагона, поэтому у Валерана не было шансов. Им проломило стену, обрушив часть дома, и вынесло наружу.
— Бежим! — закричал я, вскакивая на ноги и хватая клетку с Навуходоносором.
Мы бежали к джунглям, а со стороны города уже слышались сирена и стрекот полицейской машины.
— Никому нельзя доверять, — шептал я на бегу. — Ты был прав — никому. Он знал. Они все знали.
Сзади застучал пулемет. Пули поднимали фонтаны земли и зелени. Но мы уже нырнули в тень джунглей. И тут раздалось: «вжух!». Обычно за «вжух!» следует «бам!», а после не следует уже вообще ничего. Это нечестно, мелькнула мысль, с ракетами не охотятся.
— Беги, друг! — закричал я, бросая клетку с пауком дальше в джунгли.
А после взорвалась ракета.
За мгновение до этого Дрейк сбил меня с ног и закрыл собой. Взрыв ударил по барабанным перепонкам, прочертил по деревьям картечью осколков. Я чувствовал, как они входят в тело Дрейка. А после, оглушенный и растерянный, лежал и хватал воздух ртом, словно вытащенная на берег рыба, ощущая, как меня заливает кровь. Моя или его. Наша.
Дрейка изрезало на части.
— Сейчас, — шептал я, подбирая все, что от него осталось, и чувствуя во рту вкус крови. — Сейчас… Надо уходить. Надо бежать. В джунглях нас не найдут.
Стрекот машины прекратился, и группа захвата высадилась у леса. Я нашел в траве свое «Банджо» в котором оставалась целая обойма.
* * *
Ангелия Джум находилась в своей квартире одна, когда услышала стук во входную дверь. Ни звонок, ни сообщение по Сети с просьбой о встрече, а именно стук, подобный тому, как стучат, требуя немедленно впустить.
Она приоткрыла дверь и увидела знакомое лицо.
— О, Альфонс с «Гордости Земли»! Что вы хотели? Вы в крови! Что случилось?! Нужно срочно вызвать врача!
Ангелия распахнула дверь, и космический охотник ввалился в квартиру.
— Не нужно врача, — перехватил он ее руку с коммом. — Это уже не имеет значения. Я у вас. Успел.
Он прислонился к стене и улыбнулся, протягивая сложенный лист бумаги.
— Это письмо. Сообщение для Совета. Передадите. Это очень важно, понимаете?
Он пошатнулся, и Ангелия увидела на стене багровые пятна.
— Я не он. Не ваш охотник. Я — Дрейк. И еще, в правом кармане, это для вас. Она настоящая.
Уже потом, после того, как Ангелия прочитала сообщение и передала в Совет, когда в дверь стучали, но она не открыла, а взламывать никто не решился, потому что уже было поздно, в кармане мертвого гостя нашлась фигура крозавра с Пендрагона.
Вырезанная из настоящей кости.
* * *
В начале нового сезона охоты они стояли вокруг меня. Двадцать охотников, привыкших встречать противника лицом к лицу и знающих, сколь тонка бывает разница между охотником и добычей. И пусть их оружием служили лишь примитивные варварские луки и копья, но зато острые наконечники были смазаны ядом паука Сикорского, микрограмм которого, как известно, валит с ног слона. Должны же мы, в конце концов, уравнять шансы?
Совет, получивший мое сообщение, действует медленно, но верно, как и всякий бюрократический аппарат. Ничего, мы подождем. Я улыбнулся своим новым друзьям.
У них у всех было мое лицо.
Наталья Анискова Надежда
Когда до цели остался всего-то неполный год, у Васко Лопеса в очередной раз отказали нервы.
— Какой же я идиот! — Васко с отвращением отпихнул тарелку с синтетическим мясом. — Идиота де лос кохонес. Ну и кретином же я был, когда подписался на это.
Антон обменялся быстрым взглядом с Франсуа. Срывы у Васко были им не в новинку. Первый случился два года назад по корабельному времени, сразу после смерти Тоширо. Антону с Франсуа тогда пришлось связать Васко и вколоть ему барбитурат, прежде чем запереть в стационаре. Потом оба чувствовали себя неловко, но рисковать было нельзя — срыв застиг Васко в пилотской рубке, в опасной близости от пульта.
— Васко, амиго. — Обычно громкий, раскатистый голос Франсуа звучал сейчас просительно и робко. — Мы все в одинаковом положении. Давай не станем делать из него трагедии, исправить мы все равно ничего не можем.
— Миерда! — Васко с маху рубанул ребром ладони по столешнице. — Через год мне будет сорок пять. Я прожил двадцать лет в жестянке, в банке из-под сардин, ради чего?!
Антон снова взглянул на Франсуа. Вопрос был риторическим. Ради чего они вчетвером согласились на участие в спасательной экспедиции, объяснять было ни к чему. Каждый из них и так это знал. А капитан Тоширо Икава, который знал, наверное, лучше всех, вот уже три года как покоится в морозильной камере.
— Одиннадцать месяцев всего осталось, — напомнил Антон. — Потерпи, дружище. Пожалуйста.
— А потом? Потом что? — Васко вскочил и заметался по корабельному кафетерию. — Их-то мы облагодетельствуем, а сами?
Антон не ответил — в отличие от предыдущего вопроса, на этот ответа не знал никто. Тогда, девятнадцать лет назад, решение лететь к планете с условным названием Харизма казалось естественным и правильным. Полгода, пока шла подготовка к старту, они вчетвером были героями. Их имена, что на Земле, что во внеземелье, знал едва ли не каждый. А теперь вряд ли кто и вспоминает, разве что напрямую причастные к экспедиции люди. Двадцать лет полета в неисследованную часть галактики по неведомым рукавам межпространственных туннелей. Это если повезет и если никогда не хоженный маршрут не оборвется где-нибудь посередине. Для Тоширо он уже оборвался — однажды ночью у капитана внезапно остановилось сердце.
Что будет там, на финише, оставалось неизвестным. Сигнал SOS, впервые принятый лунной станцией два десятка лет назад, продолжал поступать. Вместе с координатами точки пространства, из которой сигнал исходил. SOS ловили всякий раз на выходе из туннелей — неизменный и монотонный, а оттого еще более корежащий, тревожный крик о помощи.
На Харизму, тогда еще безымянную планету системы Глизе 581 в созвездии Весов, полтораста земных лет назад отправилась миссия Харриса. Четыре тысячи первопроходцев на дюжине трансзвездников. Миссия пропала без вести и до поступления сигнала считалась погибшей. Как выяснилось, напрасно: SOS, очевидно, посылали потомки уцелевших.
Команду на «Одиссей», грузовоз измещением в триста миллионов тонн, набирали из добровольцев. Из молодых и здоровых выпускников Академии Межзвездной навигации. В трюмы «Одиссея» забивали все — все, что может понадобиться терпящей бедствие группе людей неизвестной, но предположительно немалой численности. Продовольствие и медикаменты, технику и оружие, предметы первой необходимости и повседневного обихода. Команде предстояло доставить груз по назначению, дальнейшие ее функции были неопределенными. Впрочем, на случай бедственной ситуации надлежало от груза избавиться, заменить его на уцелевших поселенцев и пуститься в обратный путь. В противном же случае команда была вольна поступать по своему разумению. Вернуться на Землю или остаться в колонии. Да хоть провалиться к сеньору дьябло, как время от времени мрачно шутил Васко Лопес.
— Кофе пить будете? — прежним, негромким голосом осведомился Франсуа, едва Васко с грохотом отодвинул стул и уселся, закрыв глаза и запустив в шевелюру ладони.
— Да, конечно, — за обоих отозвался Антон. — Спасибо.
Он вспомнил, как это было тогда, девятнадцать лет назад, на Земле. Полсотни добровольцев с двух последних выпусков Академии. Тесты на выживание, на коммуникабельность, на психическую устойчивость. На совместимость с потенциальными напарниками. Огромная, баснословная сумма, полагающаяся каждому кандидату, если он станет спасателем.
— У меня чертова куча родственников, — подмигнул напарникам Франсуа Берлен сразу после зачисления в экипаж. — Два брата в Париже, три сестры в Провансе. Кузены в Ницце и в Бретани. Я, можно сказать, наш семейный лотерейный билет — счастливый.
— Двое мальчиков, близнецы, — нервно теребил усы Васко Лопес. — Женился еще на первом курсе, им теперь по семь лет. У обоих врожденный порок сердца, деньги на врачей нужны позарез.
— А жена как же? — глядя в сторону, спросил Антон.
Васко долго молчал.
— Глория слышать ни о чем не хотела, — ответил он наконец. — Я уговорил. Она красивая, верная. Найдет хорошего человека. Ну а ты, напарник?
— Я? — Антон невесело усмехнулся. — Мне деньги ни к чему. Я детдомовский, родителей не помню — погибли в горной экспедиции на Марсе. Так что у меня никого, считай, нет.
— Вообще никого? — Васко недоверчиво прищурился. — И девушки нет?
— Девушки? Девушка была.
Вика училась на параллельном курсе, с Антоном она встречалась без малого четыре года. SOS с Харизмы оказался разлучником — Вика записалась добровольцем.
— А как же мы? — пролепетал, узнав об этом, Антон. — Если ты пройдешь отбор, мы расстанемся на всю жизнь.
— Есть вещи важнее жизни. Важнее любви, — отрезала Вика. — Извини. Тебе, боюсь, этого не понять.
Антон покраснел от стыда, затем побледнел от гнева. Хлопнул дверью и на следующий день явился на вербовочный пункт. Потом они встречались еще раз — последний. За сутки до окончательного решения отборочной комиссии, когда из сотни кандидатов осталось восемь. Мужской экипаж и женский. Это означало, что при любом решении комиссии Антон с Викой расстаются навсегда.
Длительные разнополые экспедиции сплошь и рядом не справлялись с задачами, заканчиваясь гибелью экипажей. Любовь и ревность, заточенные в замкнутом пространстве, со временем зачастую принимали чудовищные формы и приводили к трагедиям. За полсотни лет до старта к Харизме команды стали составлять исключительно из гетеросексуальных индивидов одного пола.
— По крайней мере, одному из нас повезет, — сказала Вика, прижавшись к Антону так крепко, словно старалась вживиться в него, впечататься.
— Да. Тому, кто полетит, повезет.
— Ты ошибаешься, — прошептала Вика едва слышно. — Повезет тому, кто останется. Ты не представляешь, сколько раз я кляла себя за то, что тебя вовлекла.
* * *
Из очередного туннеля «Одиссей» вышел на третьи сутки. Безделье на борту враз закончилось, сменившись предшествующей новому переходу рутиной. Профилактика двигателей, проверка оборудования и корректировка курса всякий раз занимали немалое время.
После смерти Тоширо должность капитана решено было упразднить. Специализацию членов экипажа тоже. Каждый из троих был универсалом, способным выполнять обязанности навигатора, бортинженера, врача… И каждый был способен довести судно до цели, даже оставшись один в случае гибели остальных.
— Шестьдесят пять лет, — сказал Васко, завершив сверку звездного неба с корабельными картами, — когда мы вернемся, нам будет по шестьдесят пять. Если будет. Если вернемся.
Смуглое и горбоносое, с усиками в ниточку лицо Васко за последние месяцы осунулось, стало унылым и, казалось, побледнело. Некогда густые вороненные волосы до плеч поредели и выбелились сединой.
— Взбодрись. — Франсуа хлопнул напарника по плечу, улыбнулся задорно. — Чувствую, не станем мы возвращаться. Осядем на Харизме, обзаведемся домами, семьями. А то и на корабле можем жить — лучше любого дома, да и привычнее.
Был Франсуа слегка полноват, невысок ростом и круглолиц. А еще был он отчаянным оптимистом — спокойным, улыбчивым и надежным. Антон не помнил, чтобы Франсуа хоть раз на что-то пожаловался, — он всегда пребывал в одном, ровном и доброжелательном настроении. И щедро делился им с остальными.
— Я бы хотел пожить на старости лет дома, — задумчиво проговорил Васко. — Под Севильей где-нибудь или под Барселоной, а не в глуши за десятки световых лет от них. В доме на берегу или…
— А по мне так все равно, где жить, — прервал Франсуа и заулыбался, готовясь выдать очередной анекдот, из тех, что знал во множестве. — Старого француза одолела раз ностальгия. Пребывал француз в это время на Марсе, ишачил на обслуге космического лифта. И — седина в бороду — сох по одной медсестрице, словно выполотый сорняк.
Антон не слушал. Он вдруг поймал себя на парадоксальной мысли, что согласен с обоими. Состариться на Земле было бы неплохо. Но и за тридевять земель от нее тоже терпимо. С полминуты Антон размышлял почему. Потому что неважно где, но я должен быть с ними, понял он. У меня кроме них никого нет. И ничего.
За долгие годы горячий импульсивный Васко и веселый добродушный Франсуа стали не просто напарниками или друзьями. Даже не братьями. Видимо, они превратились в часть его самого, в часть, без которой существовать немыслимо. Впервые Антон ощутил это после смерти Тоширо. Было так скверно, что он едва не скатился в депрессию. Антон вспомнил, как впал в буйство Васко и как слеза за слезой катились по щекам никогда не унывающего Франсуа.
— Ладно. — Антон поднялся. — Франсуа, не забудь, тебе сегодня кухарить. И пожалуйста, никаких жюльенов из говяжьего стекловолокна. Пойду, проверю почту.
Почтой называли SOS, тот самый, с Харизмы. Сигналы с Земли «Одиссей» при переходах обгонял и на выходе принимал вновь, так что интереса они не представляли. Впрочем, SOS не представлял также, поскольку содержание его никогда не менялось. Вплоть до сегодняшнего дня.
— Они, видимо, приняли первые послания с Земли, — возбужденно объяснял Антон напарникам. — И теперь отвечают, только, я бы сказал, странновато.
— «…миссия Харриса, — зачитал Антон вслух, — четыреста тринадцать жителей положение критическое потеря профилирующей деятельности тотальный дефицит энергии отсутствие управляющей иерархии просим помощи просим помощи просим помощи спасите наши души».
— Это все? — озадаченно почесал в затылке Васко.
— Все. Двадцать пять слов повторяются непрерывной строкой. У них, видимо, деградация, и серьезная. Население сократилось десятикратно, энергия на исходе. Возможно, в результате природного катаклизма, отсюда и потеря профилирующей деятельности. Какая там у них профилирующая — аграрная? Вероятно, что-то произошло сорок лет назад, и земля перестала родить. А вот насчет управляющей иерархии я попросту не понял.
— Наверное, их лидеры погибли, — высказал догадку Франсуа. — И что-то мешает им выбрать новых. А может… — Франсуа замолчал.
— Ну-ну, договаривай, — подбодрил Антон.
— Я подумал, что там у них мог случиться не катаклизм, а конфликт. Что-то наподобие гражданской войны. Допустим, одна часть населения перебила другую, но и сама значительно пострадала. Если так, то там небезопасно, — подытожил Франсуа. — Мало ли кто в этой войне победил.
С минуту молчали. Вещи внезапно предстали в ином свете. Через неполный год спасательная экспедиция достигнет цели. Только вот кого ей предстоит спасать?
— Час от часу не легче. — Васко не удалось скрыть истерические нотки в голосе. — Не удивлюсь, если в знак благодарности они нас расшлепают.
— Мы этого не допустим, — проговорил Антон успокаивающе. — Пока не выясним, что у них происходит, носов наружу не высунем.
— Постойте, — вмешался Франсуа. — Это они еще не знают, что было принято решение о спасательной экспедиции. Сигнал — лишь первый ответ на шедшую двадцать лет передачу с Земли. На выходе из следующего тоннеля мы получим новую информацию. А пока давайте с выводами не торопиться.
* * *
Новый переход по корабельному времени длился полтора месяца. На этот раз, едва «Одиссей» оказался в стабильном пространстве, проверять почту поспешно двинулись все трое.
Почты не было. SOS, непрерывно поступавший в течение сорока земных лет, умолк.
— Может быть, вышел из строя передатчик, — растерянно предположил Франсуа. — Или энергию экономят. Или…
Франсуа не договорил, и с минуту все трое молчали. Последнее «или» было вероятнее остальных, и каждый страшился думать о том, что оно означало.
— Есть еще один вариант, — задумчиво произнес наконец Антон. — Они получили с Земли первую информацию о нас и прекратили трансляцию именно поэтому.
— Да, но почему? — Лоб у Васко пробило испариной, он ожесточенно утер его рукавом комбинезона. — Представь себя на их месте. Они ошалеть должны были от счастья, а они…
— Не станем гадать, — впервые за весь день улыбнулся Франсуа. — А то будет как с одним французом, который не знал, изменяет ли ему жена, и пошел с этим к гадалке.
— Подожди с французами, — прервал Антон. — Надо двигаться дальше, другого выхода нет. Будем разбираться на месте. К тому же, если у них отказал передатчик, к следующему переходу его, возможно, исправят.
По времени корабля новый переход занял три месяца. Почта по его завершении вновь не пришла.
— Если там никого не осталось, — обреченно сказал Васко, — мы, получается, истратили свои жизни ни на что. Сожгли, стерли их понапрасну.
— Жил в Ницце один француз, — начал было Франсуа и махнул рукой, не закончив. — Еще полгода, парни, — произнес он твердо. — Через полгода мы узнаем наверняка. Вот что я хочу вам сказать: если выяснится, что вместо жизни мы найдем там могильник, не вздумайте стреляться. Очень вас прошу, каждого. Хотя бы потому, что, покончив с собой, любой из нас подписывает приговор остальным. Понимаете?
Антон понимал. Франсуа вслух высказал то, о чем он думал непрестанно. За два десятка лет они срослись, стали частью друг друга. И потерять одного из троих для остальных означало бы потерять треть себя самого. Антона корежило, скручивало всякий раз, когда он пытался представить себе, что будет с ним, если завтра Васко не проснется, как Тоширо. Или что-то случится с Франсуа.
— Осталось три перехода, — сказал Антон вслух. — Будем готовиться. Я не собираюсь стреляться, что бы ни случилось.
* * *
Последний, короткий переход дался команде тяжелее любого из предыдущих. Теперь нервы сдавали уже у всех троих. У Васко ощутимо тряслись руки и дергался непроизвольно кадык. Антон потерял сон. Снотворное не помогало — от недосыпа слипались глаза, кружилась голова и разливалась слабость в коленях. Он теперь передвигался по судовым коридорам, сутулясь и шаркая по-стариковски, а ел механически, не разбирая вкуса. Даже Франсуа утратил половину своего оптимизма. Он не рассказывал больше анекдотов, но все еще улыбался, старательно и натужно.
На выходе из последнего рукава червоточины напряжение на борту достигло критической точки.
— Если не будет сигнала, я, наверное… — Васко не договорил и перекрестился вдруг размашисто и неумело. — Святая Мадонна, — взмолился он, уставившись на монитор бортового компьютера. — Сделай так, чтобы там в живых остались хоть несколько человек. Хоть кто-нибудь, пускай даже один. Святая заступница и надежда, клянусь, я стану верующим, если сотворишь чудо, если все это было не зря.
* * *
В просторной библиотеке главного корабля собрались все четыреста тринадцать жителей Харизмы.
— Мы получили сообщение от спасательной экспедиции, — объявил координатор. — Они приближаются.
Ответом было гробовое молчание. Наконец подал голос руководитель ремонтной мастерской.
— У них есть повреждения?
— О повреждениях не сообщают.
— Когда мы сможем вернуться к основной деятельности? — поинтересовался один из биологов.
— Рабочие свободны. Руководители участков также могут вернуться на места. Руководители департаментов остаются на совещание, — отчеканил координатор.
Когда за вышедшими с мягким шорохом закрылась входная дверь, в библиотеке остались четверо.
— Докладывайте по очереди, — обратился к ним координатор.
— Синтез ферментов закончен, — отрапортовал руководитель биодепартамента. — Мы работаем над интеграцией вещества в организм жителя.
— Мы готовы к приему экспедиции, — отчеканил руководитель департамента снабжения. — Пища и одежда в наличии, жилища будут развернуты через сутки после прибытия людей.
— Все готово, — подтвердил и первый заместитель.
Координатор отпустил руководителей, сел в древнее кресло и сгорбился, сразу потеряв в росте и значительности.
— Мы готовы… А если они не захотят остаться, Даг?
— Проводим этих людей со всеми подобающими почестями.
— А жители Харизмы останутся ущербными, как сейчас?
Заместитель мрачно кивнул, потом осторожно протянул руку и бережно тронул координатора за плечо.
* * *
Сигнала не было и на выходе. На множественные радиосообщения о прибытии ответа не поступило также. Четверо суток, пока «Одиссей» на малой тяге шел от жерла тоннеля к третьей от светила планете, на борту властвовало ощутимое предчувствие беды. Оно отступило и сменилось деловитой озабоченностью, лишь когда вышли на орбиту.
— Планета земного типа, — скороговоркой считывал показания приборов Антон. — Атмосфера, пригодная для дыхания, содержание углекислого газа, кислорода, азота… Три материка, суша повсеместно покрыта растительностью, довольно скудной. В океанах предположительно присутствие многоклеточных органических существ, на суше пока неизвестно. Так, большая концентрация металла в тропическом поясе, координаты… Судя по всему, место высадки там.
Над предполагаемым местом высадки прошли на третьем витке.
— Вот они, — вручную наводя оптику, выдохнул Франсуа. — Даю максимальное увеличение.
Через полчаса, собравшись в кают-компании, команда ошеломленно разглядывала сделанные с борта голографии.
— Ничего не понимаю, — отбросив последнюю из них, признался Антон. — Людей нет, построек нет, возделанных территорий тоже. Ничего нет, кроме…
Он ткнул пальцем в беспорядочно разбросанные по столу снимки. На них была запечатлена дюжина задравших носы в небо космических кораблей, выстроенных в три ряда по четыре.
— Где же они жили? — озвучил общий вопрос Васко. — Эти сто десять лет, прежде чем отправили первый SOS.
— Возможно, селение где-нибудь в стороне, — предположил Франсуа. — Неясно, зачем было отдалять его от места посадки, но теоретическая вероятность есть. Будем искать.
Следы жилья не удалось найти ни на четвертом витке, ни на одном из последующих. Выпущенные в атмосферу поисковые зонды вернулись с негативными результатами. Ни высокоорганизованной жизни, ни следов ее недавнего присутствия на Харизме не обнаружилось.
— Давайте рассуждать, — предложил Франсуа. — Сорок лет назад некто инициировал флагманский передатчик. Сигнал испускался все это время, но год назад передачу прекратили или прервали. Спонтанно эти события произойти явно не могли. Следовательно, самое малое тридцать девять лет на флагмане находились разумные существа. Получается, что они жили на борту, а год назад все погибли?
— Или затаились, — поправил Антон. — У меня явственное ощущение, что нас заманивают в ловушку.
— У меня тоже, — признался Васко. Но… — Он осекся, утер взмокший лоб.
— Что «но»? — помог Франсуа. — Договаривай.
— Я готов в эту ловушку попасть, — выпалил Васко. — Если они злоумышляют против нас, будем считать, что им удалось. Надо садиться и смотреть на месте, нарезать круги по орбите бессмысленно.
— Да, — кивнул Антон. — Другого пути я тоже не вижу.
* * *
Посадочный модуль прошил стратосферу, одолел тропопаузу и вошел в нижние, плотные слои атмосферы. Франсуа привел корпус аппарата параллельно поверхности грунта и начал снижение.
— Минут пятнадцать еще, — сообщил отслеживающий показания локатора Васко. — Знаете, я почему-то перестал нервничать. Будь что будет.
Остальные промолчали. Через считаные минуты экспедиция достигнет конечной точки маршрута. И, по сути, будет считаться завершенной. Неудачно завершенной. Смирились мы, что ли, беспорядочно думал Антон, механически считывая с экранов цифры. Видимо, так. Погибла ли миссия Харриса или деградировала, и сейчас уцелевшие готовятся обманом взять приз — жизни троих незадачливых спасателей, Антону стало вдруг безразлично. Так или иначе, они летели сюда напрасно.
— Высота полкилометра, — монотонно проговаривал Франсуа. — Триста метров. Сто пятьдесят.
Пройдя напоследок над местом высадки миссии, модуль выпустил паучьи лапы опор, на секунду завис над поверхностью и плавно на нее опустился.
— Все, — констатировал Антон.
Через лобовое стекло пилотской кабины он осмотрел местность. Спекшийся на жаре известняк, бугристый, в трещинах. Редкие и жухлые, похожие на мочалу пучки бурой травы. Кое-где стелющийся, изломанный пегий кустарник. И так до горизонта — унылое, монотонное однообразие, если не считать двенадцати металлических стел, словно равнина исторгла из себя дюжину нахально эрегированных детородных органов.
«Экспедиция прибыла, — традиционно транслировал Антон в никуда, в пространство. — Космонавты-спасатели Франсуа Берлен, Васко Лопес и Антон Полянский».
Коммуникатор вдруг запищал, через мгновение на экране поползли буквы.
«Миссия Харрриса приветствует спасательную экспедицию, — ошеломленно считывал эти буквы Антон, — четыреста тринадцать жителей благодарят спасателей и просят о встрече с ними».
— Значит, живы, — сквозь зубы процедил Васко. — Встречи они, выходит, желают.
«Почему хранили радиомолчание? — отстучал на коммуникаторе он. — Почему не отвечали на передачи? Где находятся жители? Отвечайте подробно, до получения исчерпывающей информации никакой встречи не будет».
С минуту коммуникатор молчал, затем выдал:
«Была причина не отвечать вся раса на борту флагманского корабля подробности при личной встрече».
— Ах, скромняги, — разозлился Васко. — Причина у них была.
«В чем заключается бедственная ситуация? — напряженно стиснув челюсти, передал он. — Чем объясняется сокращение численности населения? По какой причине жители прячутся от нас?»
«Просим личной встречи, — незамедлительно поступил ответ, — просим личной встречи, просим личной встречи».
— Дьябло карахо, — выругался Васко. — «Встречи не будет, — принялся отстукивать он. — До тех пор, пока…»
— Постой, — прервал передачу Антон. — Так мы ничего не добьемся. Пускай высылают делегацию, посмотрим на них.
— Верно, — кивнул Франсуа. Он отстранил от коммуникатора Васко и медленно, взвешивая каждое слово, передал:
«На встречу согласны. Пожалуйста, делегируйте двух человек. Без оружия. Пускай выходят наружу и двигаются по направлению к нам. Просим избегать необдуманных действий или поступков».
* * *
— Что-то в них не так. — Антон напряженно разглядывал лица двоих неспешно перемещающихся по известняковой равнине местных. — Не могу понять, что именно.
Он дал увеличение: фигуры на экране приблизились и стали объемными. Мужчина лет сорока в серебристом комбинезоне, коротко стриженные черные волосы, высокий лоб, серые глаза. Обычное, в общем-то, лицо, малопримечательное. Девушке навскидку было лет двадцать пять. Высокая, одного с мужчиной роста, длинные льняные волосы, зеленоглазая. Обыкновенная девушка, симпатичная, подумал Антон, пройдясь взглядом по спортивной, обтянутой лиловым трико фигуре. И тем не менее что-то в обоих было необычное, нестандартное. То ли в выражениях лиц, то ли в походке, а скорее всего и в том, и в другом.
— Выглядят скованными, — прокомментировал Франсуа. — Нерешительными. Впрочем, их можно понять: мы на их месте тоже бы осторожничали. Ладно, раздраивай шлюз, Васко. Придется нам потесниться. Черт, не хочется держать их под прицелом, но ведь придется. Значит, так: я буду…
— Постой, — прервал Антон. — Он пристально разглядывал лицо девушки на экране. Я, кажется, понял, что с ними не так. — Антон перевел взгляд на лицо мужчины. — Да, точно. Обратите внимание: у них нет никакой мимики. Словно вместо лиц — слепки или застывшие маски.
— Дон дьябло, и вправду, — ошеломленно прошептал Васко. — Будто ожившие мумии.
— Мне кажется… — Антон осекся и замолчал. Предположение, спонтанно у него возникшее, было настолько нелепым, что Антон отогнал его, выставил из сознания прочь. — Пойду встречу, — сказал он, поднялся и двинулся к шлюзу.
* * *
— Меня зовут Даг, — представился черноволосый мужчина. — Это Сола, — кивнул он на девушку.
Голос у него оказался звонким, но невыразительным, лишенным оттенков и интонаций. Механическим, понял Антон. Словно…
— Что ж, расскажите, пожалуйста, что у вас происходит, — не дал додумать Франсуа. — С самого начала и в подробностях.
— Дайте слово, что не бросите нас! — выпалила вдруг девушка.
Антон вздрогнул: голос у девушки был точно такой же, как у мужчины, один в один. В следующее мгновение Антон понял. Чудовищная догадка, отринутая им несколько минут назад, стала вдруг осязаемой, четкой. Антон почувствовал себя так, словно на него вылили ведро с помоями.
— Мы здесь для того, чтобы помочь вам, — мягко ответил девушке Франсуа. — Поэтому можете считать, что слово мы…
— Постой! — Антон ухватил Франсуа за предплечье. — Не говори ничего больше. Вы — не люди, так? — бросил Антон девушке в лицо. — Отвечайте! Ну!
— Как это «не люди»? — ошеломленно пробормотал Васко и смолк. Его смуглое лицо стремительно побледнело, лоб пробило испариной, и затряслись, ходуном заходили руки.
— Да, мы не люди, — не изменившись в лице, подтвердил мужчина. — Я не успел рассказать. Прошу вас, выслушайте меня. Мы…
— Кто вы?! — гневно выкрикнул Франсуа. — Доброта и благожелательность слетели у него с лица, как не бывало. Обычная дружелюбная улыбка превратилась в оскал.
Визитеры молчали. Их лица по-прежнему не выражали ничего.
— Это роботы! — взвизгнул Васко. — Не видишь, что ли? Порке коньо, они прислали к нам роботов! Где люди? Я спрашиваю: люди где?! — заорал, разбрызгивая слюну, Васко. — Ну же!
— Люди погибли, — прежним бесстрастным голосом ответила девушка. — Давно, больше ста земных лет назад. Позвольте, я расскажу вам.
— Все погибли? — ужаснулся Васко. — Все до единого?!
— Все.
— И тогда вы послали нам SOS? Вы, чунго мариконе, послали нам SOS?!
— У нас не было другого выхода.
— «Не было другого выхода»? — Васко вскочил. — Вот вам выход — шлюз, — заорал он. — Убирайтесь отсюда, паль карахо! Вон, пока я вас не расшлепал обоих, железная рухлядь, дрянь! Во-о-о-он!
* * *
— Мы должны вернуться и узнать, как было дело, — твердо сказал Антон, едва посадочный модуль взмыл в воздух. — Потом будем решать.
— Что решать? — переспросил Франсуа тоскливо. — И так уже все решено.
— Я настаиваю. — Антон усилием воли заставил себя рассуждать связно. — Если люди погибли больше ста лет назад, как эта банда очутилась здесь? Что-то не так — полтораста лет назад человекоподобных роботов еще не было. И ни при каких обстоятельствах они не могли пилотировать корабли без участия человека. Я думаю, эти двое соврали нам.
— Какое там «соврали», — вскипел Васко. — Ради чего? Хотя… — Он сник, потупился. — У меня в голове не укладывается, — признался Васко. — Мы летели сюда из-за кучи железного хлама. Какого черта эти твари послали сигнал? Пресвятая Мадонна, зачем?
Франсуа тряхнул головой, насупился.
— Антон прав, — сказал он. — Нам придется выяснить, что к чему. Я снижаюсь.
* * *
Даг и Сола так и стояли в сотне метров от прежнего места посадки.
— Они что же, знали, что мы вернемся? — проворчал Васко. — Расчетливые, сволочи.
— Скорее, надеялись, — возразил Антон.
— Что? Надеялись? Роботы? — Васко истерически расхохотался. — Скажи еще, что они тут молились.
— Не исключено, — на полном серьезе ответил Антон. — Давайте пригласим их вовнутрь и на этот раз выслушаем.
Рассказ занял добрых полтора часа. Сменяя друг друга, бесстрастными одинаковыми голосами роботы излагали историю миссии Харриса за сто пятьдесят лет ее существования. Сначала их прерывали азартными, недоверчивыми вопросами. Потом вопросов стало меньше, и недоверие пошло на убыль, а затем и вовсе исчезло.
— Невероятно, — подытожил рассказ Франсуа. — Однако у меня нет сомнений, что они говорят правду. Хотя бы потому, что не вижу, как оно могло быть по-другому.
На расстоянии в двенадцать световых лет от Земли корабли миссии угодили в ионную бурю. Все живое на них погибло мгновенно.
— Остались библиотеки, — объяснил Даг. — Остались банки данных и банки знаний. И остались мы — четыреста тринадцать механических душ. Мы выбрали одного из нас, с самым высоким уровнем интеллекта. Этот робот был координатором на флагмане, распоряжался досугом экипажа. Мы, все остальные, объединились в сеть, по сути, мы стали серверами избранного. Мы учились, каждый из нас, и все вместе учили координатора. Это заняло почти сто земных лет.
— Где сейчас координатор? — спросил Франсуа устало.
— Здесь. — Механический голос Солы впервые за все время вдруг дрогнул. — Я была распорядителем на флагманском корабле. Правда, выглядела я не так, как сейчас. Мы многому научились — пилотировать корабли, модифицировать внешность, ремонтировать оборудование и друг друга. Но мы…
— Почему же тогда вы не вернулись? — спросил Антон с горечью. — Вы могли бы вернуться на Землю, так? И сейчас могли бы.
— Мы не захотели. Мой народ решил, что желает жить в своем доме.
— Твой народ? — изумился Васко.
— Да. Мы считаем себя новой расой. Что бы люди ни думали об этом. Наши знания и умения глубже и обширнее человеческих. Мы не умеем лишь одного — чувствовать. Мы хотели научиться, пытались, но нам не удалось, ни одному из нас.
— И для этого вы… — Антон поперхнулся воздухом. — Вы послали SOS, — выдохнул он, справившись, — чтобы спасатели научили вас чувствовать? А о самих спасателях вы подумали?
— Я сожалею. — В бесстрастном механическом голосе Солы Антону вдруг и в самом деле послышалось сожаление. — Мы думали, что будут мужчины и женщины. Что они останутся, потом появятся дети. Как в миссии Харриса. Мы не знали, что вы не возьмете с собой женщин.
— В экспедициях такого толка участвуют люди одного пола, — со злостью сказал Васко. — Не думали они. Не знали, видите ли. Проклятье!
— И что же, вы думаете, мы способны научить вас чувствовать? — Франсуа усмехнулся невесело. — Вы ошибаетесь. Чувство — это особое состояние души, которое вызывают органические вещества, ферменты. У вас их нет и быть не может. И потом — люди существуют потому, что воспроизводят себя. Думаете, репродукции мы тоже можем вас научить?
— Мы не думаем, — ответил Даг. — Мы знаем. Репродукция не проблема, мы уже сейчас можем клонировать себя. Что до ферментов… Наш коллективный и изначально искусственный разум превосходит естественный. Мы — вечны, и мы прогрессируем. Ферменты не более чем химические соединения. Мы сможем произвести их, органического материала на планете хватает. Нам только нужны модели — носители ферментов, и нужны испытываемые ими чувства. Взамен мы сделаем для вас что хотите. Построим вам дома или дворцы. Добудем или синтезируем любую пищу. Станем исполнять ваши желания, все, что вам заблагорассудится. Ваши имена навсегда останутся в исторических анналах расы. Подумайте, мы просим вас, умоляем! Хотите, по земному обычаю на колени перед вами встанем?
* * *
Створки шлюза за спинами визитеров сошлись. В кабине посадочного модуля зависла, давя на барабанные перепонки, мертвенная гнетущая тишина. Васко застывшим безучастным взглядом уставился в потолок. Горячности и импульсивности больше не было в нем, на осунувшемся и заострившемся, будто у покойника, лице осели лишь усталость и обреченность.
Франсуа, ссутулившись, разглядывал пластиковое покрытие пола. И тоже молчал. Живые карие глаза его, казалось, потухли, словно жизнерадостное веселье в нем отключили, заменив безрадостной унылой безнадегой.
Антон взглянул на себя в зеркало и не узнал. На него смотрел обрюзгший, побитый жизнью старик с расчерченным морщинами лбом и набухшими под глазами мешками. Светлые волосы взмокли от пота и топорщились неопрятными лохмами.
— С меня хватит, — не выдержав, разорвал наконец тишину Васко. — Преодолеть полгалактики, чтобы в результате оказаться подопытными крысами. Да еще у таких хозяев. Это издевательство, циничное и мерзкое. Железяки возомнили себя людьми. Кто бы мог подумать.
— Что ты предлагаешь? — тихо спросил Антон.
— Не знаю. Ничего. Я просто не хочу жить дальше.
— А ты? — обернулся Антон к Франсуа.
Тот долго, собираясь с мыслями, молчал. Потом сказал:
— Надо разгрузить «Одиссей». Оставим им технику и утварь. Пускай пользуются, в конце концов, для этого мы сюда прилетели. Обратно пойдем порожняком. Нам будет по шестьдесят пять, когда вернемся, это еще не старость. Мы терпели двадцать лет. Потерпим и еще двадцать, теперь хотя бы у нас есть привычка.
— Я не вытерплю, — сорвался Васко. — Порке дьябло, они же нас поимели, вы что, не видите?! Я не смогу жить с этим, понимаете вы?! Не смогу дышать, зная, что подарил сорок лет жизни банде ублюдков, которые меня попользовали.
— Не попользовали, — поправил Антон. — Они всего лишь пытались. И еще: я только что попробовал посмотреть на вещи с другой стороны.
— С какой это другой? — ожесточенно выкрикнул Васко.
— С их стороны. Они ведь нас ждали. Боялись, что не доберемся, боялись посылать сигналы, чтобы мы не догадались, как обстоят дела. Сотню с лишним лет учили друг друга, поддерживали. Будь они людьми, я бы сказал — горы свернули. Потом еще сорок лет ждали. Для того чтобы мы сейчас развернулись и бросили их?
— С тобой все в порядке? — спросил Франсуа заботливо. — Они же искусственные. Какая разница им, сколько ждать? У них впереди вечность, у каждого. А у нас ее нет, у нас лишь жалкая надежда оказаться на старости лет дома.
— Ты прав, — ответил Антон тоскливо. — Прав. Только я — остаюсь.
— Что-о?
— Я сказал, что остаюсь с ними. Возможно, сумею быть им полезен.
— И что, бросишь нас? — с ужасом в голосе спросил Франсуа.
Антон не ответил.
* * *
Местное светило медленно заплывало за горизонт. Антон, опершись на ограждение крыльца, ловил последние лучи веками зажмуренных глаз. Дом был большой, слишком большой для двоих. Они жили в нем с Франсуа, который вернулся на Харизму через полгода — после того, как на выходе из очередного тоннеля застрелился Васко. Франсуа не упрекал Антона, он после возвращения скупо расставался со словами. Со временем он отошел, завел себе несколько железных подружек и казался довольным жизнью.
Сейчас Франсуа не было, он присматривал за закладкой молибденовой шахты в двух сотнях километров к северу.
— Антон!
Антон обернулся. Сола стояла в пяти шагах.
— Что тебе? — устало спросил он.
— Ничего. Мне жалко тебя, Антон.
Сола многому научилась за последние пять лет и научила других. Переживать, злиться, отчаиваться, скорбеть — почти всему, что умели Антон с Франсуа. Не дались обитателям Харизмы только привязанность и вражда: все они относились друг к другу одинаково ровно, с прохладным дружелюбием.
— Самому главному вы так и не выучились, — проговорил Антон задумчиво. — А мы не смогли научить.
Заставить себя относиться к Соле как к женщине он так и не сумел.
— Вы не виноваты, — сказала Сола поспешно. — Это наша вина, моя. Но мы работаем над этим, ты не думай. Может быть, через год. Или через два я стану совсем похожа на женщину. Ты не отличишь. Я…
— Да, конечно. — Антон кивнул и пошел в дом.
Объяснять Соле, что быть похожей на женщину для любви мало, он не стал. Про физиологию и влечение тоже.
— Будем надеяться, — тихо обронил Антон, обернувшись на пороге.
Растолковывать Соле, что значит «надеяться», он не стал также. Впрочем, она, наверное, знала это сама.
Диана Удовиченко На круги своя
— Как здесь красиво, — восхищенно протянула Ив. — Похоже на старинные пейзажи двадцатого века.
— Да, наверное, — рассеянно отозвался Эдан.
Он не отрывал взгляда от коммуникатора, ожидая, когда откликнутся остальные участники экспедиции. Сюда, на Кеплер 452b, планету на орбите желтого карлика Кеплер 452 в созвездии Лебедя, с корабля вылетели пять двухместных модулей. Но связь с группой оборвалась еще в воздухе, координаты исчезли с экрана коммуникатора. Более того, Эдан никак не мог связаться и с кораблем.
— У тебя что? — спросил он.
— Все так же ничего, — вздохнула Ив. — Может, пойдем уже?
— Согласно приказу, мы должны двигаться только всей группой, — возразил Эдан. — По инструкции, при высадке…
— Астронавты должны связаться друг с другом, — сердито перебила Ив. — Я и без тебя помню Устав. Но с кем ты собираешься связываться, если они исчезли?
— Это уже чрезвычайная ситуация, — не уступал Эдан. — Если через час по земному времени никто не выйдет на связь, мы должны будем сообщить об этом на корабль и вернуться.
— На какой корабль? — фыркнула Ив. — Корабля тоже нет, как видишь. Слушай, может, просто коммуникаторы именно здесь барахлят. Магнитные волны или еще что-то. Давай прогуляемся хотя бы вон до тех деревьев. Вдруг там ловить начнет?
Начиталась сказок из прошлого, сердито подумал Эдан. Барахлит… Слово-то какое подобрала, старинное. Он вообще был недоволен, когда биолога, лейтенанта Ив-386/09 дали ему в напарницы, — слишком вспыльчивая девица, мечтательная, склонная к импульсивным поступкам и даже авантюризму. Но приказы командования не обсуждаются: согласно заключению расчетного центра, они с Ив идеально дополняли друг друга и должны были стать эффективной командой в экстремальных ситуациях. Таких, как эта…
Выждав положенное время, Эдан кивнул:
— Идем.
Они двинулись к деревьям, согласно показаниям коммуникатора до них было пятьсот два метра. С голубого неба ласково светил Кеплер 452, нежный ветерок поглаживал шелковистую траву, в которой пестрели яркие цветы. Вокруг порхали радужные бабочки.
— Представляешь, программа говорит, это смешанный лес, — тарахтела Ив, анализируя окружающую среду. — Там есть пальмы и баобабы… Баобабы! На Земле они погибли четыреста пятьдесят лет назад.
— Растения, похожие на баобабы, — поправил Эдан. — Или идентичные.
— Не будь занудой, — рассмеялась Ив. — Конечно, это баобабы, раз они идентичные. Кстати, тут великолепные показатели для жизни.
Коммуникатор показывал температуру воздуха двадцать пять градусов по Цельсию, влажность 70 %, атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Химический состав воздуха был идеален для человека.
— Давай снимем скафандры, — предложила Ив.
— Ни в коем случае.
— Но ведь здесь все так, как было на Земле пятьсот лет назад! — уговаривала девушка. — Чего ты боишься?
— Отставить, лейтенант, — приказал Эдан. И, когда Ив надулась, добавил уже мягче: — Мы не можем знать. Вполне вероятно, что в следующую секунду все изменится.
— Ели! — восхищалась Ив. — Те самые, которые принято было наряжать в Новый год и Рождество. А еще березы, яблони и кипарисы. Здесь обязательно есть разумные существа, я просто чувствую!
— Так смотри внимательнее, лейтенант. — Эдан коснулся бластера. — Тут могут оказаться враждебные формы жизни.
— В таком прекрасном месте? Невозможно.
Они вошли в лес — величественный, густой, но не пугающий, и зашагали по широкой, ровной тропе, на которую ложились кружевные тени от крон деревьев. Весело пели птицы, в лучах света, падающего сквозь листья, кружились жемчужные паутинки.
— Давай снимем скафандры, — снова предложила Ив. — Я хочу почувствовать запахи.
Эдан не успел ответить, он отступил и сделал девушке знак остановиться: тропа вывела к большой поляне, посреди которой царственно возлежал огромный рыжий зверь.
— Это лев! — восторженно прошептала Ив, выглядывая из-за плеча напарника.
— Отходим, — скомандовал Эдан.
Львов, а вернее их клоны, он видел в парке криптозоологии, а из школьного курса помнил, что эти древние звери были кровожадными хищниками. Уничтожать льва Эдан решил только в крайнем случае — кто знает, может быть, зверь священен у аборигенов? Не хотелось начинать с враждебных действий.
— Смотри, газель!
Из-за дерева вышло изящное длинноногое животное и принялось мирно щипать траву рядом со львом. Хищник не обращал на газель ни малейшего внимания. Он смотрел на людей. Только сейчас Эдан заметил, что между передними лапами льва бесстрашно сидел белый пушистый зверек — кролик, кажется, так это называлось. Впрочем, возможно, львы здесь травоядные, подумал Эдан. Но этот мир ему явно не нравился, он был подозрительно хорош.
Эдан отступил еще на пару шагов, вынуждая Ив пятиться, и запросил на коммуникаторе видеоизображение капсулы. Прибор дисциплинированно показал траву, примятую при посадке, и бескрайнее цветущее поле. Капсулы не было.
Эдан перепроверил координаты, включил увеличение изображения — результат тот же. Он не успел сообщить Ив об этом неприятном открытии. За спиной раздался сердитый низкий голос:
— Вы как здесь очутились?
Эдан резко обернулся, вскидывая бластер. Перед ними на тропе стоял невысокий полноватый мужчина средних лет, облаченный в бесформенное белое одеяние. Он сложил руки на груди, поверх окладистой седой бороды, и с явным неодобрением разглядывал незваных гостей. Лучи Кеплера 452, отражаясь от абсолютно лысой головы, создавали вокруг нее сияющий нимб. Оружия у человека не было, Эдан опустил бластер и замялся. Он прошел множество инструктажей по передаче информации представителям внеземных цивилизаций, но нигде не предполагалось, что гуманоиды могут знать лингва юниверсус — универсальный земной язык.
— Добрый день. — Ив опомнилась первой. — Мы земляне, прилетели в составе мирной экспедиции…
— Вижу, что земляне. — Казалось, мужчина немного смутился. — Мирная экспедиция, говорите… А прилетели на чем?
— На космическом корабле. Высадились в капсулах.
— Капсулы — это такие шарики, похожие на мыльные пузыри, а корабль — блестящая металлическая штука? — уточнил абориген. Получив подтверждение, дернул себя за бороду, откашлялся и радушным жестом пригласил на поляну.
Газели при виде людей разошлись в стороны, бородач уселся, удобно облокотившись на льва, который растянулся во всю длину и замурлыкал от удовольствия.
Эдан с Ив опустились неподалеку на траву.
— Вы, наверное, голодны?
Ветви деревьев, повинуясь этим словам, опустились совсем низко, и на колени гостей покатились спелые плоды.
— И зачем вам эти странные штуки? Они помешают есть.
В ноздри хлынуло множество ароматов: влажной травы, фруктов, цветов, росы, ветра — всего того, что Эдан никогда не ощущал на Земле. Он вздрогнул и закашлялся.
— Где скафандры? — Ив растерянно провела рукой по лицу. — Хотя… Так гораздо лучше. Но где они?
— Это я их убрал, — усмехнулся абориген. — Не благодарите.
— Тогда верните немедленно! Примеси в воздухе могут вызвать аллергическую реакцию. — Эдан хотел было направить бластер на странного человека, но вдруг осознал, что и оружия тоже нет.
— Ничего вам не будет. Вы же со мной, — отмахнулся загадочный собеседник. — И насколько я понял, эти приспособления у вас в руках нужны для убийства. Поэтому убрал и их. А то еще начнете охотиться на животных. Знаю я вас, людей.
— Подождите… — Эдана внезапно осенило. — Так и капсулы… тоже вы? И корабль?..
Мужчина раздраженно пожал плечами:
— Я не мог знать, что это ваши капсулы. Они были похожи на мыльные пузыри, так забавно лопались в воздухе. Корабль же выглядел подозрительно и, прямо скажем, малоэстетично.
— Вы… убили их всех?.. — Эдан задохнулся от возмущения.
— Да, но я ведь вас не приглашал к себе? И вообще, это странно. Человечество развилось настолько, что покорило космос. И что же вы делаете в первую очередь? Беспокоите своего творца.
— Кто вы? — прошептала Ив.
— Наконец догадались спросить. Творец, создатель, Саваоф… Называйте как хотите, но раньше именовали просто Богом. Кстати, люди все еще верят в меня?
— Не все, — ответила Ив, жадно рассматривая бородача. — Но христианство до сих пор — одна из самых многочисленных конфессий.
— Ты это серьезно? Правда думаешь, он бог? — возмутился Эдан. — Вот так легко?.. Чем вы докажете?
— А разве я в этом нуждаюсь? — усмехнулся бородач. — Можете не верить. Я Саваоф, впрочем, это всего лишь имя, данное мне людьми. А тут, — он широко повел рукой, — Эдем, райский сад, в котором зародилось человечество.
— То есть вы создали мир, — уточнил Эдан. — Все, что существует?
— Да, — просто ответил Саваоф. — Все, что существует. Вселенную, галактики, вот этот сад. Ну а Землю уж потом населил, от скуки…
— Если вы бог, то где же ваши ангелы?
— Всех выгнал. Это были мои первые создания, и знаете, не самые удачные. Склочные, злобные, слишком эмоциональные и, прямо скажем, туповатые. Восставали против меня несколько раз. Мне надоели их свары, я всех отправил на Землю. Там они очеловечились и были вполне счастливы. Только Люцифер где-то здесь остался.
— Для бога вы как-то слишком безжалостны к своим созданиям. Ангелов выгнали, к людям вообще отнеслись отвратительно. Если вы такой всемогущий, почему на Земле было столько войн, смертей, болезней? Да, я знаю, что вы ответите: люди грешны. Но ведь вы создали нас по своему образу и подобию — и за это наказываете. Чем же мы виноваты?
— Я вас умоляю, — рассмеялся Саваоф. — Моя внешность, которую вы видите, слова, которые слышите, — это всего лишь образ, доступный вашему восприятию. Что же касается остального… Да вы ешьте фрукты, ешьте… Это люди создали бога по своему образу и подобию, придумав обо мне множество сказок. Например, до сих пор не понимаю, с чего они взяли, что бог отслеживает их поступки, а потом карает или милует? Я вам что, родная мамочка? Тюремный надсмотрщик? Палач? Я просто создатель, не более того.
— То есть вы сотворили людей, а потом бросили их на произвол судьбы? Тогда это еще более жестоко, — не сдавался Эдан.
— Ну не совсем так. Сначала я все же пытался помогать человечеству. Даже дал вам заповеди: не убий, не укради, вот это вот все… Но кажется, люди приняли их с одной только целью: чтобы нарушать. Посмотрев на это безобразие, я пришел на Землю в ипостаси Сына Человеческого. Хотел научить собственным примером. Однако люди и тут отличились: зверски меня казнили за мое же добро. Этого им показалось мало, они приняли мое учение и тут же стали убивать друг друга во имя любви к ближнему. С тех пор я перестал следить за человечеством…
— И напрасно, — заметила Ив. — На Земле вот уже триста лет как нет войн. Мы научились справляться с агрессией и жить в мире.
— Да неужели? — прищурился бог. — Зачем же явились сюда?
— Мы прилетели с научно-исследовательской экспедицией. На Земле не хватает ресурсов для существования, именно из-за того, что человечество живет без войн и эпидемий. Наша планета перенаселена. Согласно заключениям ученых, Кеплер 452b максимально схож с Землей…
— Не продолжайте, — отмахнулся Саваоф. — Люди истощили Землю, сожрали и выпили все, что можно, использовали все полезные ископаемые и остальные мои дары, потом решили переселиться на другую планету. Я думал, что предвестник апокалипсиса — саранча. С этой целью ее и создавал. Но вы гораздо хуже.
— Саранчи больше нет, уничтожена как опасный вредитель, — вмешался Эдан.
— Не того вредителя уничтожили. Вообще-то, это неуважение к моему труду. Вы не представляете себе, как сложно было придумать миллионы биологических видов. Это только уничтожать быстро, а создавать — долго. Кстати, кто из них остался?
— Фауна Земли представлена в криптозоологических парках, в виде клонов. — Эдан как будто оправдывался. — В дикой природе они не выжили. Вернее, дикой природы больше нет, все леса вырублены.
— То есть вы сожрали или загубили всех моих созданий, — нахмурился бог. — И носорогов тоже?.. Мне они всегда нравились. Симпатичные звери.
Астронавты ничего не ответили.
— Да уж, — вздохнул Саваоф. — Я тоже могу ошибаться. С динозаврами вот нехорошо вышло, тупые получились твари, почти как ангелы. Пришлось кометой их убрать. Но они спокойно легли и померли, прилично поступили. Мне следовало на этом и остановиться, пусть бы Земля была населена носорогами, ехиднами и прочими тасманскими дьяволами. Но нет, решил создать разумных. И главное, ничего вас не брало. Даже Всемирный потоп.
— Послушайте, уважаемый господь. — Ив молитвенно сложила руки. — Люди действительно живут в мире, где нет больше войн и убийств. Ваши заповеди соблюдаются, человечество помнит о вас, возносит молитвы в храмах. Раз уж так получилось, что мы вас нашли, я прошу о помощи. Что вам стоит снова создать ресурсы для Земли и отправить нас обратно? Мы скажем, что Кеплер 452b непригоден для жизни, больше человечество никогда вас не побеспокоит. Пожалуйста, не оставляйте нас. Ведь мы ваши дети!
— Человечество и так больше меня не побеспокоит, — пасмурно сознался Саваоф, поглаживая золотистую гриву льва. — Да, неловко вышло. Но когда я вас увидел, так рассердился, что не глядя уничтожил все население Земли. На этот раз у меня получилось чисто.
Ив и Эдан долго молчали, глядя, как золотится под пальцами бога львиная шкура.
— Значит, мы двое — все, что осталось от человечества, — хрипло прошептала девушка. — Что теперь будет с Землей?
— Пожалуй, я ее переустрою и населю носорогами. Только разум давать не стану, хватит уже. Пусть жуют травку и бодаются, счастливее будут.
— Теперь вы и нас убьете? — Эдан встал, гордо выпрямился, готовясь достойно принять смерть.
— Ну к чему же так драматизировать? Не сатана же я, в конце концов. Останетесь здесь, в Эдеме. Вам тут будет хорошо. Получите бессмертие и возможность вечно наслаждаться безмятежной жизнью в невинности. Только плоды с древа познания не жрите. — Саваоф указал на большое дерево, клонившееся под тяжестью спелых фиг. — А то начнете плодиться, размножаться, мне здесь ваше потомство не нужно, не люблю топить котят, щенков и вообще детенышей. Не повторяйте ошибок своих предков, иначе придется снова изгонять вас на Землю. И да, держитесь подальше от Люцифера. Он все время где-то здесь ползает. Провокатор тот еще.
Саваоф прищелкнул пальцами, и костюмы астронавтов исчезли. Эдан с Ив остались абсолютно обнаженными, лишь лобки были целомудренно прикрыты фиговыми листами.
— Вот и все, — отечески улыбнулся бог. — Очень мило получилось, по-моему. У вас ведь даже имена библейские: Адам и Ева. Да… Все когда-то возвращается на круги своя. Отдыхайте, дети мои. А я пойду обдумывать план переустройства Земли.
Он удалился, насвистывая незамысловатый мотивчик. Ив медленно двинулась вокруг поляны. Эдан только теперь заметил, как красива его напарница, и залюбовался белоснежной кожей, грациозными движениями, крутым изгибом бедер. Побродив немного, девушка подошла к древу познания, решительно сорвала фигу, протянула Эдану:
— Хочешь?
— Брось сейчас же! — воскликнул он. — Ты представляешь, что такое — вернуться на Землю первыми людьми? Да нас сожрут эти его носороги!
— Носороги травоядные, — ухмыльнулась Ив, смачно откусывая от плода, и соблазнительно подмигнула. — И давай не будем затягивать процесс. Не хочу долго сидеть в этом питомнике. Ешь, говорю!
За спиной зашуршали кусты, на поляну выползла огромная змея с желтыми глазами. Люцифер оглядел Ив, что-то прошипел и довольно усмехнулся.
Кеплер 452b, созвездие Лебедя…
Примечания
1
Стихи Константина ЧеКА.
(обратно)
![Земля 2.0 [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/580989/primary-large.jpg)

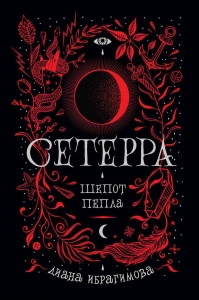
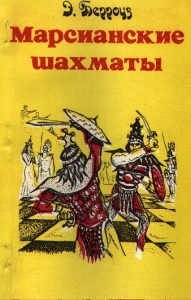





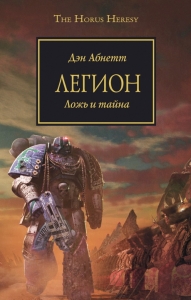

Комментарии к книге «Земля 2.0 [сборник]», Роман Валерьевич Злотников
Всего 0 комментариев