Р. Скотт Бэккер Князь Пустоты. Книга вторая. Воин-Пророк
R. Scott Bakker
The Warrior Prophet
© 2004 by R. Scott Bakker
© О. Степашкина, перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Э“», 2017
* * *
Посвящается Брайану, моему брату по сердцу и видению
Что было прежде…
Первый Апокалипсис уничтожил великие норсирайские народы севера. Лишь юг, кетьянские народы Трех Морей, пережили бойню, учиненную Не-богом Мог-Фарау и его Консультом, состоящим из военачальников и магов. Годы шли, и люди Трех Морей, как это вообще свойственно людям, забыли об ужасе, что довелось перенести их отцам.
Империи возникали и рушились одна за другой: Киранея, Шир, Веней. Последний Пророк, Айнри Сейен, дал новое истолкование Бивню, священнейшей из реликвий, и в течение нескольких веков айнритизм, проповедуемый Тысячей Храмов и их духовным лидером, шрайей, сделался господствующей религией на всех Трех Морях. Великие магические школы — такие как Багряные Шпили, Имперский Сайк и Мисунсай — возникли в ответ на гонения со стороны айнрити, преследовавших Немногих, то есть тех, кто обладал способностью видеть и творить чародейство. Используя хоры, древние артефакты, делающие их обладателей неуязвимыми для магии, айнрити воевали со школами, пытаясь — безуспешно — очистить Три Моря. Затем Фан, пророк Единого Бога, объединил кианцев, племена пустыни, расположенной к юго-западу от Трех Морей, и объявил войну Бивню и Тысяче Храмов. По прошествии веков, после нескольких джихадов фаним и их безглазые колдуны-жрецы, кишаурим, завоевали почти весь запад Трех Морей, включая священный город Шайме, где родился Айнри Сейен. Лишь остатки Нансурской империи продолжали сопротивление.
Теперь югом правили война и раздор. Две великие религии, айнритизм и фанимство, сражались между собой, хотя терпели торговлю и паломничество, когда это было прибыльно и удобно. Великие семейства и народы соперничали за военное и коммерческое господство. Младшие и старшие школы ссорились и плели заговоры, в особенности против выскочек-кишаурим, чью магию, Псухе, колдуны считали проявлением Божьего благословения. А Тысяча Храмов под предводительством развратных и бесполезных шрай преследовала мирские честолюбивые интересы.
Первый Апокалипсис превратился в полузабытую легенду, а Консульт, переживший смерть Мог-Фарау, — в сказку, которую бабки рассказывают детишкам. Через две тысячи лет только адепты Завета, каждую ночь заново переживающие Апокалипсис, видящие его глазами основателя своей школы, Сесватхи, помнили и этот ужас, и пророчество о возвращении Не-бога. Хотя сильные мира сего вкупе с учеными считали их глупцами, сами адепты Завета обладали Гнозисом, магией Древнего Севера, и потому их уважали — и смертельно им завидовали. Ведомые ночными кошмарами, они бродили по лабиринтам власти, выискивая среди Трех Морей присутствие древнего, непримиримого врага — Консульта.
И, как всегда, ничего не находили.
Книга 1. Слуги Темного Властелина
Священное воинство — так нарекли огромное войско, которое Майтанет, глава Тысячи Храмов, созвал, чтобы освободить Шайме от язычников фаним. Призыв Майтанета разнесся по всем уголкам Трех Морей, и истинно верующие из великих народов, исповедующих айнритизм, — галеоты, туньеры, тидонцы, конрийцы, айноны и их данники — отправились в Момемн, столицу Нансурской империи, чтобы стать Людьми Бивня.
С самого начала собирающееся воинство погрязло в политических дрязгах. Сперва Майтанет каким-то образом убедил Багряных Шпилей, самую могущественную колдовскую школу, присоединиться к Священному воинству. Несмотря на возмущение — ведь среди айнрити чародейство предано анафеме, — Люди Бивня понимали, что Багряные Шпили необходимы для противостояния кишаурим, колдунам-жрецам фаним. Без участия какой-то из старших школ Священная война была бы обречена, еще не начавшись. Вопрос заключался в другом: почему чародеям вздумалось принять столь опасное соглашение? На самом деле Элеазар, великий магистр Багряных Шпилей, давно уже вел тайную войну с кишаурим, которые десять лет назад без видимой причины убили его предшественника, Сашеоку.
Затем Икурей Ксерий III, император Нансурии, придумал хитрый план, чтобы обернуть Священную войну к своей выгоде. Многие земли, ныне относящиеся к Киану, некогда принадлежали Нансурии, и Ксерий больше всего на свете жаждал вернуть империи утраченные провинции. Поскольку Священное воинство собиралось в Нансурской империи, оно могло выступить только в том случае, если император снабдил бы его продовольствием, а он не соглашался, пока каждый из предводителей Священного воинства не подпишет с ним договор, письменное обязательство передать ему, императору Икурею Ксерию III, все завоеванные земли.
Конечно же, прибывшие первыми кастовые дворяне отвергли договор, и в результате ситуация сделалась патовой. Но когда Священное воинство стало исчисляться сотнями тысяч, титулованные военачальники забеспокоились. Поскольку они воевали во имя Божье, то считали себя непобедимыми и совершенно не стремились делиться славой с теми, кто еще не прибыл. Один конрийский вельможа, Нерсей Кальмемунис, пошел навстречу императору и уговорил товарищей подписать договор. Получив провизию, большинство собравшихся выступило, хотя еще не прибыли их лорды и основная часть Священного воинства. Поскольку армия состояла в основном из безродной черни, не имеющей господ, ее прозвали Священным воинством простецов.
Несмотря на попытки Майтанета остановить самовольный поход, армия продолжала двигаться на юг и вторглась в земли язычников, где — в точности как и планировал император — фаним уничтожили ее подчистую.
Ксерий знал, что с военной точки зрения потеря Священного воинства простецов особого значения не имеет, поскольку составлявший его сброд в битве обычно только мешается под ногами. Но с политической точки зрения уничтожение армии сделалось бесценным, поскольку продемонстрировало Майтанету и Людям Бивня истинный нрав их врага. С фаним, как прекрасно знали нансурцы, шутки плохи даже для тех, кто ходит под покровительством Божьим. Лишь выдающийся полководец, заявил Ксерий, может обеспечить Священному воинству победу — например, такой, как его племянник, Икурей Конфас, который после недавнего разгрома грозных скюльвендов в битве при Кийуте приобрел славу величайшего тактика эпохи. Предводителям Священного воинства требовалось лишь подписать императорский договор, и сверхъестественное искусство Конфаса оказалось бы в их распоряжении.
Похоже было, что Майтанет очутился в затруднительном положении. Как шрайя, он мог вынудить императора снабдить Священное воинство провизией, но был не в силах заставить его отправить с армией Икурея Конфаса, своего единственного наследника. В разгар конфликта в Нансурию прибыли первые действительно могущественные айнритийские властители, примкнувшие к Священной войне: Нерсей Пройас, наследный принц Конрии, Коифус Саубон, принц галеотов, граф Хога Готьелк из Се Тидонна и Чеферамунни, регент Верхнего Айнона. Священное воинство приобрело силу, хоть и оставалось своего рода заложником, связанное нехваткой провизии. Кастовые дворяне единодушно отвергли договор Ксерия и потребовали, чтобы император обеспечил их продовольствием. Люди Бивня принялись устраивать набеги на окрестные поселения. Ксерий в ответ призвал части имперской армии. Произошло несколько серьезных столкновений.
Пытаясь предотвратить несчастье, Майтанет созвал совет Великих и Малых Имен, и все предводители Священного воинства собрались в императорском дворце Андиаминские Высоты, чтобы обсудить сложившееся положение. Тут-то Нерсей Пройас и потряс собравшихся, предложив на роль командира взамен прославленного Икурея Конфаса покрытого шрамами скюльвендского вождя, ветерана многих войн с фаним. Между этим скюльвендом, Найюром урс Скиоатой, с одной стороны, и императором и его племянником — с другой, состоялся разговор на повышенных тонах, и скюльвенд произвел сильное впечатление на предводителей Священного воинства. Однако же представитель шрайи колебался: в конце концов, этот варвар был таким же еретиком, как и фаним. Лишь мудрые речи князя Анасуримбора Келлхуса помогли ему выйти из затруднения. Представитель зачитал повеление, требующее, чтобы император под угрозой отлучения обеспечил Людей Бивня провизией.
Священное воинство вот-вот должно было выступить.
Друз Ахкеймион был колдуном, которого школа Завета отправила следить за Майтанетом и его Священным воинством. И хотя Друз уже не верил в древнее предназначение его школы, он отправился в Сумну, город, где располагалась Тысяча Храмов, надеясь побольше разузнать о загадочном шрайе, в котором школа Завета подозревала агента Консульта. Во время расследования он возобновил давний роман с проституткой по имени Эсменет и, несмотря на дурные предчувствия, завербовал своего бывшего ученика, а ныне шрайского жреца, Инрау, чтобы тот сообщал ему о действиях Майтанета. В это время его ночные кошмары, видения Апокалипсиса, усилились; отчасти из-за так называемого Кельмомасова пророчества, в котором говорилось, будто в канун Второго Апокалипсиса Анасуримбор Кельмомас вернется в мир.
Затем Инрау умер при загадочных обстоятельствах. Пораженный чувством вины и до глубины души удрученный отказом Эсменет бросить свое ремесло, Ахкеймион бежал из Сумны в Момемн, где под алчным и беспокойным взглядом императора как раз собиралось Священное воинство. Могущественный соперник школы Завета, колдовская школа Багряных Шпилей присоединилась к Священной войне — из-за давней борьбы с колдунами-жрецами кишаурим. Наутцера, наставник Ахкеймиона, приказал ему наблюдать за Багряными Шпилями и Священным воинством. Добравшись до военного лагеря, Ахкеймион пристроился к костру Ксинема, своего старого друга-конрийца.
Продолжая расследовать обстоятельства смерти Инрау, Ахкеймион убедил Ксинема взять его на встречу с еще одним прежним своим учеником, Нерсеем Пройасом, конрийским принцем, ныне ставшим доверенным лицом загадочного шрайи. Когда Пройас высмеял его подозрения и отрекся от него как от святотатца, Ахкеймион упросил его написать Майтанету об обстоятельствах смерти Инрау. Исполненный горечи, он покинул шатер бывшего ученика в уверенности, что его скромная просьба останется неисполненной.
Затем его окликнул человек, приехавший с далекого севера, — человек, называвший себя Анасуримбором Келлхусом. Измученный повторяющимися снами об Апокалипсисе, Ахкеймион поймал себя на мысли, что страшится худшего — Второго Апокалипсиса. Так что же, появление Келлхуса — не более чем совпадение, или он и есть тот самый Предвестник, о котором говорится в Кельмомасовом пророчестве? Ахкеймион попытался расспросить нового знакомого и поймал себя на том, что юмор, честность и ум Анасуримбора полностью его обезоружили. Они ночь напролет проговорили об истории и философии, и перед тем как уйти, Келлхус попросил Ахкеймиона быть его наставником. Ахкеймион, в душе которого необъяснимо возникли теплые чувства к новому знакомому, согласился.
Но тут перед ним встала дилемма. Школе Завета обязательно следовало узнать о возвращении Анасуримбора: более значительное открытие, пожалуй, и придумать было трудно. Но Ахкеймиона пугало то, что могли сотворить его братья-адепты: он знал, что жизнь, наполненная кошмарными снами, сделала их жестокими и безжалостными. И кроме того, он винил их в смерти Инрау.
Прежде чем Ахкеймион сумел разрешить эту проблему, племянник императора, Икурей Конфас, вызвал его к себе в Момемн. Там император пожелал, чтобы Ахкеймион оценил его высокопоставленного советника — старика по имени Скеаос — на предмет наличия у него чародейской Метки. Император Икурей Ксерий III самолично привел Ахкеймиона к Скеаосу и потребовал выяснить, не отравлен ли старик богохульной заразой колдовства. Ахкеймион ничего не обнаружил — и ошибся.
Но Скеаос кое-что разглядел в Ахкеймионе. Он стал корчиться в оковах и говорить на языке из снов Ахкеймиона. Хоть это и казалось невероятным, старик вырвался и успел убить нескольких человек, прежде чем его сожгли императорские колдуны. Ошеломленный Ахкеймион оказался в двух шагах от завывающего Скеаоса — лишь для того, чтобы увидеть, как его лицо расползается в клочья…
Он осознал, что эта мерзость — воистину шпион Консульта, человек, способный принимать чужой облик, не имея красноречивой колдовской Метки. Оборотень. Ахкеймион бежал из дворца, не предупредив ни императора, ни его придворных; он знал, что его уверенность сочтут чушью. Им Скеаос казался не более чем артефактом язычников-кишаурим, тоже не носивших Метки. Не видя ничего вокруг, Ахкеймион вернулся в лагерь Ксинема; он был настолько поглощен пережитым ужасом, что даже не заметил Эсменет, которая наконец-то пришла к нему.
Загадки, окружающие Майтанета. Появление Анасуримбора Келлхуса. Шпион Консульта, обнаруженный впервые за много поколений… Как он мог сомневаться и дальше? Второй Апокалипсис должен вот-вот начаться.
И Ахкеймион плакал в своей скромной палатке, сраженный одиночеством, страхом и угрызениями совести.
Эсменет была проституткой из Сумны, оплакивающей и свою жизнь, и жизнь своей дочери. Когда Ахкеймион приехал в город, чтобы побольше разузнать о Майтанете, Эсменет охотно пустила его к себе. Она продолжала принимать и обслуживать клиентов, хотя понимала, какую боль это причиняет Ахкеймиону. Но у нее и вправду не было выбора: она знала, что рано или поздно Ахкеймиона отзовут и он уйдет. Но однако все сильнее влюблялась в злосчастного колдуна. Отчасти потому, что он относился к ней с уважением, а отчасти — из-за мирской сущности его работы. Хотя самой Эсменет приходилось сидеть полуголой у окна, огромный мир за этим окном всегда оставался ее страстью. Интриги Великих фракций, козни Консульта — вот от чего у нее начинало быстрее биться сердце!
Затем пришла беда: информатор Ахкеймиона, Инрау, погиб, и потерявший дорогого человека адепт был вынужден отправиться в Момемн. Эсменет просила Ахкеймиона взять ее с собой, но колдун отказался, и ей пришлось вернуться к прежней жизни. Вскоре после этого к ней в дом с угрозами явился незнакомец и потребовал от Эсменет рассказать все, что ей известно об Ахкеймионе. Обратив ее желание против нее самой, незнакомец соблазнил Эсменет, и та обнаружила, что отвечает на все его вопросы. С наступлением утра он исчез так же внезапно, как появился, оставив лишь лужицы черного семени как свидетельство того, что он действительно приходил.
Эсменет в ужасе бежала из Сумны, твердо решив отыскать Ахкеймиона и все ему рассказать. В глубине души она знала, что незнакомец как-то связан с Консультом. По дороге в Момемн Эсменет остановилась в какой-то деревне — починить порвавшуюся сандалию. Когда жители заметили у нее на руке татуировку проститутки, они принялись забрасывать ее камнями — так, согласно Бивню, следовало карать продажных женщин. Эсменет спасло лишь внезапное появление шрайского рыцаря Сарцелла, и ей выпало удовольствие полюбоваться на унижение своих мучителей. Сарцелл довез Эсменет до Момемна, и постепенно его богатство и аристократические манеры вскружили голову Эсменет. Сарцелл, казалось, был совершенно лишен уныния и нерешительности, постоянно изводивших Ахкеймиона.
Когда они добрались до Священного воинства, Эсменет осталась с Сарцеллом, хоть и знала, что Ахкеймион находится всего в нескольких милях. Как постоянно напоминал ей шрайский рыцарь, колдунам, к которым относился и Ахкеймион, запрещалось жениться. Если даже она убежит к нему, говорил Сарцелл, колдун все равно ее бросит — это лишь вопрос времени.
Неделя шла за неделей, и постепенно Эсменет начала все меньше ценить Сарцелла и все больше тосковать по Ахкеймиону. В конце концов, в ночь перед тем, как Священное воинство должно было выступить в поход, Эсменет отправилась на поиски колдуна. Наконец она отыскала лагерь Ксинема; но тут ее одолел стыд, и она не решилась показаться Ахкеймиону на глаза. Вместо этого Эсменет спряталась в темноте и стала ждать появления колдуна, удивляясь странным мужчинам и женщинам, сидевшим у костра. Уже наступил день, а Ахкеймион так и не появился, Эсменет побрела по покинутому городу — и Ахкеймион попался ей навстречу. Эсменет раскрыла ему объятия, плача от радости и печали…
А он прошел мимо, словно увидел совершенно чужого человека.
Эсменет бросилась прочь, решив отыскать свое место в Священной войне, но сердце ее было разбито.
Найюр урс Скиоата был вождем утемотов, одного из скюльвендских племен; скюльвендов боялись, зная их воинские умения и неукротимость. Из-за событий, сопутствовавших смерти его отца, Скиоаты, — произошло это тридцать лет назад, — соплеменники Найюра презирали его, но никто не смел бросить вызов свирепому и коварному вождю. Пришли вести о том, что племянник императора, Икурей Конфас, вторгся в степи Джиюнати, и Найюр вместе с прочими утемотами присоединился к скюльвендским ордам на отдаленной имперской границе. Найюр знал репутацию Конфаса и подозревал, что тот придумал ловушку, но Ксуннурит, вождь, избранный для грядущей битвы королем племен, не прислушался к его словам. Найюру оставалось лишь наблюдать за приближающейся бедой.
Спасшись во время уничтожения орды, Найюр вернулся в угодья утемотов, терзаясь еще больше, чем обычно. Он бежал от шепотков и косых взглядов соплеменников и уехал к могилам своих предков, где нашел у отцовского кургана израненного человека, а вокруг него — множество мертвых шранков. Осторожно приблизившись, Найюр с ужасом осознал, что узнает этого человека — или почти узнает. Он походил на Анасуримбора Моэнгхуса — только был слишком молод…
Моэнгхуса взяли в плен тридцать лет назад, когда Найюр был еще зеленым юнцом, и отдали в рабы отцу Найюра. О Моэнгхусе говорили, будто он принадлежит к дунианам, секте, члены которой наделены небывалой мудростью, и Найюр провел с пленником много времени, беседуя о вещах, запретных для скюльвендских воинов. То, что произошло потом — совращение, убийство Скиоаты и последовавшее за этим бегство Моэнгхуса, — мучило Найюра до сих пор. Хотя когда-то Найюр любил этого человека, теперь он ненавидел его, яростно и неистово. Он был уверен, что если бы ему удалось убить Моэнгхуса, к нему наконец-то вернулась бы внутренняя целостность.
И вот теперь, каким бы невероятным это ни казалось, к нему пришла копия Моэнгхуса, странствующая по тому же пути, что и оригинал.
Поняв, что чужак может оказаться полезен, Найюр взял его в плен. Этот человек, назвавшийся Анасуримбором Келлхусом, утверждал, что он — сын Моэнгхуса. Он сказал, что дуниане отправили его в далекий город Шайме убить своего отца. Но как бы Найюру ни хотелось поверить в эту историю, он был настороже. Он много лет непрестанно размышлял о Моэнгхусе и понял, что дуниане наделены сверхъестественными талантами и остротой ума. Теперь Найюр знал, что их единственная цель — господство, хотя там, где другие применяли силу и страх, дуниане использовали хитрость и любовь.
Найюр понял, что история, которую рассказал ему Келлхус, — именно та история, какую сочинил бы дунианин, чтобы обеспечить себе безопасный проход через земли скюльвендов. И тем не менее он заключил сделку с чужаком и согласился отправиться вместе с ним. Вдвоем они быстро пересекли степь, увязнув в призрачной войне слова и страсти. Найюр снова и снова обнаруживал, что почти попался в хитроумно раскинутые сети Келлхуса, и успевал остановиться лишь в последний момент. Его спасала ненависть к Моэнгхусу и то, что он уже знал дуниан.
У границы империи они наскочили на членов враждебного скюльвендского племени, отправившихся в набег. Нечеловеческая искусность Келлхуса в битве и потрясла, и ужаснула Найюра. После схватки они обнаружили наложницу, Серве, спрятавшуюся в груде захваченных вещей. Найюр, сраженный красотой Серве, взял ее себе и от нее узнал об объявленной Майтанетом Священной войне за освобождение Шайме, города, где, как предполагалось, ныне проживает Моэнгхус… Могло ли это быть совпадением?
Было это совпадением или нет, но Священная война заставила Найюра пересмотреть первоначальный план: в Нансурской империи скюльвендов убивали не думая, и потому Найюр намеревался ее обогнуть. Но теперь, когда фанимские правители Шайме должны были вот-вот увязнуть в войне, для них с Келлхусом остался лишь один способ добраться до Священного города — стать Людьми Бивня. Найюр понял, что им остается лишь присоединиться к Священному воинству, которое, если верить Серве, собиралось у города Момемна, самого сердца Нансурской империи, — то есть именно там, где ему нельзя было показываться. Кроме того, Найюр не сомневался, что теперь, когда они благополучно пересекли степь, Келлхус убьет его: дуниане не терпели никаких помех и никаких обязательств.
После спуска с гор Найюр поссорился с Келлхусом: тот заявил, что Найюр по-прежнему его использует. На глазах у перепуганной и потрясенной Серве двое мужчин сразились на вершине горы, и, хотя Найюру удалось удивить Келлхуса, дунианин с легкостью одолел скюльвенда и поднял над обрывом, держа за горло. Желая доказать, что по-прежнему намерен соблюдать условия сделки, Келлхус пощадил Найюра. Он сказал, что Моэнгхус, прожив столько лет в миру, мог стать чересчур могущественным. Он сказал, что им потребуется вступить в армию, а он, в отличие от Найюра, ничего не знает о войне.
Несмотря на все дурные предчувствия, Найюр поверил Келлхусу, и они продолжили путь. Найюр видел, что Серве с каждым днем все сильнее влюбляется в Келлхуса. Это причиняло ему боль, но Найюр не желал в этом признаваться и говорил себе, что воинам нет дела до женщин, особенно до тех, которые захвачены в качестве добычи. Какая ему разница, что днем она принадлежит Келлхусу? Ночью она все равно достается ему, Найюру.
После тяжелого опасного пути они наконец-то добрались до Момемна, места сбора Священного воинства. Там их привели к одному из военачальников, конрийскому принцу Нерсею Пройасу. В соответствии с их планом, Найюр заявил, будто он — последний из утемотов и путешествует с Анасуримбором Келлхусом, князем северного города Атритау, который увидел Священное воинство во сне и возжелал к нему присоединиться. Но Пройаса куда больше заинтересовал сам Найюр, его знания о фаним и их способах ведения войны. Рассказы Найюра произвели на Пройаса сильное впечатление, и конрийский принц принял его со спутниками под свое покровительство.
Вскоре Пройас привел Найюра и Келлхуса на встречу предводителей Священного воинства с императором, где должна была решиться судьба Священной войны. Икурей Ксерий III отказывался снабдить Людей Бивня продовольствием, пока они не поклянутся, что все земли, отвоеванные у фаним, отойдут Нансурской империи. Шрайя Майтанет мог заставить императора дать продовольствие, но боялся, что Священному воинству не хватает полководца, способного одолеть фаним. Император предлагал на эту роль своего выдающегося племянника, Икурея Конфаса, прославившегося эффектной победой над скюльвендами при Кийуте, — но опять же лишь в том случае, если предводители Священного воинства откажутся от притязаний на отвоеванные территории. И тогда Пройас предпринял дерзкий маневр: он предложил на роль главнокомандующего не кого иного, как Найюра. Вспыхнула яростная перепалка, и Найюру удалось взять верх над императорским племянником. Представитель шрайи приказал императору обеспечить Людей Бивня продовольствием. Священное воинство должно было вот-вот выступить.
В считаные дни Найюр превратился из беглеца в командующего величайшим войском, равного которому еще не видели в Трех Морях. Каково же было скюльвенду, вынужденному поддерживать отношения с чужеземными принцами — людьми, которых он поклялся уничтожить! Как он страдал, видя, к чему ведет его месть!
Той ночью он смотрел, как Серве отдалась Келлхусу телом и душой, и размышлял над тем ужасом, который он принесет Священному воинству. Что Анасуримбор Келлхус — дунианин! — сделает с Людьми Бивня? А какая разница? — сказал себе Найюр. Главное, что Священное воинство движется к далекому Шайме. К Моэнгхусу и обещанию крови.
Анасуримбор Келлхус был дунианским монахом, которого отправили на поиски его отца, Анасуримбора Моэнгхуса.
С тех самых пор, как во время Первого Апокалипсиса, что случился две тысячи лет назад, дуниане обнаружили тайную цитадель верховных королей Куниюрии, они поселились там и жили вдали от мира, на протяжении поколений совершенствуя рефлексы и интеллект и непрестанно тренируя тело, мысли и лицо, — и все ради чистого разума, священного Логоса. Стараясь сделать себя совершенным выражением Логоса, дуниане превратили свое существование в борьбу с иррациональностями, влияющими на человеческий разум: историей, обычаями и страстями. Они верили, что именно так со временем вырвутся из тисков того, что называли Абсолютом, и станут истинно свободными душами.
Но теперь их поразительная изоляция подошла к концу. После тридцати лет изгнания один из дуниан, Анасуримбор Моэнгхус, вновь появился в их снах и потребовал, чтобы к нему прислали его сына. Келлхус предпринял труднейшее путешествие через земли, давно покинутые людьми; ему ведомо было лишь одно: его отец живет в далеком городе Шайме. Он зазимовал у охотника по имени Левет и обнаружил, что может читать мысли охотника по выражению его лица. Келлхус понял, что люди, рожденные в миру, — сущие младенцы по сравнению с дунианами. Он принялся экспериментировать и выяснил, что способен добиться от Левета чего угодно — любой любви, любого самопожертвования, — обходясь одними лишь словами. А ведь его отец провел среди подобных людей тридцать лет! Каковы же теперь пределы могущества Анасуримбора Моэнгхуса?
Когда в охотничьи угодья Левета вторглась банда шранков, существ нечеловеческой расы, людям пришлось спасаться бегством. Левет был ранен, и Келлхус бросил его шранкам, не испытывая ни малейших угрызений совести. Но шранки все равно догнали его, и Келлхус сразился с их вожаком, безумным Нелюдем, который едва не одолел дунианина при помощи магии. Келлхусу удалось бежать, но его терзали вопросы, на которые у него не было ответов. Его учили, что магия — не более чем суеверие. Неужто дуниане способны ошибаться? А тогда какие еще факты они проглядели или неверно оценили?
Через некоторое время Келлхус нашел убежище в древнем городе Атритау. Там он сумел организовать экспедицию, чтобы пересечь кишащие шранками равнины Сускары. Келлхус проделал этот путь и пересек границу — лишь затем, чтобы его тут же взял в плен сумасшедший скюльвендский вождь Найюр урс Скиоата, человек, знающий и ненавидящий его отца, Моэнгхуса.
Найюр знал дуниан, и поэтому им невозможно было манипулировать напрямую. Но Келлхус быстро понял, что может обернуть жажду мести, терзающую Найюра, к собственной выгоде. Он заявил, что его послали убить Моэнгхуса, и попросил скюльвенда отправиться с ним. Снедаемый ненавистью Найюр неохотно согласился, и двое мужчин двинулись через степи Джиюнати. Келлхус снова и снова пытался завоевать доверие Найюра, чтобы завладеть его разумом, но варвар упорно сопротивлялся. Его ненависть и проницательность были слишком велики.
Затем, уже у самой границы Нансурской империи, они нашли наложницу по имени Серве, которая рассказала им о Священном воинстве, собирающемся в Момемне, — воинстве, которое намеревалось выступить на Шайме. Келлхус понял, что отец не случайно призвал его. Но что же Моэнгхус задумал?
Они перешли горы и вступили на земли империи. Келлхус видел, как у Найюра растет уверенность: он делается бесполезен. Найюр решил, что убить Келлхуса — почти то же самое, что убить Моэнгхуса, и напал на него. И потерпел поражение. Чтобы доказать скюльвенду, что в нем все еще нуждаются, Келлхус пощадил его. Он понимал, что должен прибрать к рукам Священное воинство, но сам ничего не смыслил в военном деле.
Найюр знал Моэнгхуса и знал дуниан, и это превращало его в помеху. Но воинские навыки делали скюльвенда бесценным. Чтобы заполучить эти знания, Келлхус принялся соблазнять Серве, используя девушку и ее красоту как обходной путь к истерзанному сердцу варвара.
Очутившись в землях империи, они наткнулись на патруль имперских кавалеристов, и их путешествие в Момемн превратилось в бешеную скачку. Когда они наконец добрались до лагеря Священного воинства, их тут же отвели к Нерсею Пройасу, наследному принцу Конрии. Чтобы пользоваться уважением среди Людей Бивня, Келлхус солгал и назвался князем Атритау. Пытаясь заложить основы будущей власти, он рассказал, будто его преследовали сны о Священной войне, — и, не распространяясь особо на эту тему, намекнул, что сны были ниспосланы Богом. Поскольку Пройаса куда больше заинтересовал Найюр — конриец тут же понял, как с помощью военного опыта скюльвенда сорвать планы императора, — он вообще не обратил особого внимания на заявление Келлхуса. Единственным, у кого Келлхус вызвал серьезное беспокойство, был сопровождавший Пройаса адепт Завета Друз Ахкеймион — особенно его встревожило имя дунианина.
На следующий вечер Келлхус обедал вместе с колдуном и постарался обезоружить его при помощи чувства юмора и произвести впечатление, задавая нужные вопросы. Он много знал об Апокалипсисе и Консульте, и хотя он видел, что имя Анасуримбор внушает Ахкеймиону ужас, все равно попросил этого печального человека стать его учителем. Келлхус уже начал понимать, что у дуниан о многом были неверные представления — в том числе и о колдовстве. Ему столько всего необходимо было узнать, прежде чем он встретится лицом к лицу с отцом…
Было созвано последнее совещание, чтобы разрешить разногласия между предводителями Священного воинства, желающими выступить в поход, и императором Нансурии, который отказывался обеспечить их продовольствием. Келлхус, сидевший рядом с Найюром, изучал души присутствующих и прикидывал, кого каким образом можно поработить. Однако среди советников императора оказался один, по лицу которого Келлхус ничего не смог прочесть. Он осознал, что у этого человека поддельное лицо. Пока Икурей Конфас и айнритийские высокородные дворяне грызлись между собой, Келлхус изучал советника. Читая по губам его собеседников, Келлхус узнал, что его зовут Скеаос. Не может ли этот Скеаос быть агентом его отца?
Но прежде чем Келлхус успел прийти к какому бы то ни было выводу, император заметил, что дунианин внимательно наблюдает за его советником. И хоть Священное воинство праздновало победу над императором, Келлхус был ошеломлен и сбит с толку. Никогда еще он не предпринимал столь глубокого исследования.
Той ночью он вступил в плотские отношения с Серве, продолжая терпеливо трудиться над уничтожением Найюра, чтобы затем уничтожить всех Людей Бивня. Где-то, за фальшивыми лицами, скрывалась призрачная фракция.
Далеко на юге Анасуримбор Моэнгхус ждал приближения бури.
«Здесь мы видим, как философия оказывается в том, что, по сути, является шатким положением, которое надлежит выправить как можно быстрее, даже несмотря на то, что его не поддерживает ничто ни на небе, ни на земле. Здесь философии надлежит продемонстрировать ее чистоту в качестве абсолютной опоры, а не только провозвестника законов, которые нашептывает навязанный извне разум или неизвестно какая охранительная природа».
Иммануил Кант, «Основы метафизики морали»Часть I. Первый переход
Глава 1. Ансерка
«Неведение — это доверие».
Старинная куниюрская поговорка4111 год Бивня, конец весны, к югу от Момемна
Друз Ахкеймион сидел, скрестив ноги, во тьме палатки: смутный силуэт, раскачивающийся взад-вперед и бормочущий тайные слова. Изо рта его струился свет. Хотя между ним и Атьерсом лежало сейчас залитое лунным светом Менеанорское море, Ахкеймион шел по древним коридорам своей школы — шел среди спящих.
Не поддающаяся измерению геометрия снов никогда не переставала поражать и пугать Ахкеймиона. Было все-таки что-то чудовищное в мире, для которого не существовало понятия «далеко», где расстояния растворялись в пене слов и страстей. Какое-то незнание, которое невозможно преодолеть.
Погружаясь в один кошмар за другим, Ахкеймион в конце концов нашел того человека, которого искал. В своем сне Наутцера сидел в кровавой грязи и баюкал на коленях мертвого короля. «Наш король мертв! — вскричал Наутцера голосом Сесватхи. — Анасуримбор Кельмомас мертв!»
Чудовищный, сверхъестественный рев ударил по барабанным перепонкам. Ахкеймион скорчился, пытаясь заслониться от исполинской тени.
Враку… Дракон.
Те, кто еще стоял, зашатались под волнами рева; те, кто упал, замахали руками. Воздух разорвали крики ужаса, а затем на Наутцеру и королевскую свиту обрушился водопад кипящего золота. Время крика закончилось. Зубы трещали. Тела разлетались, словно головни из костра, который кто-то ударил ногой.
Ахкеймион повернулся и увидел Наутцеру посреди дымящегося поля. Защищенный оберегами, колдун положил мертвого короля на землю, шепча слова, которые Ахкеймион не мог расслышать, но они не раз снились ему самому: «Отврати очи своей души от этого мира, друг мой… Отвернись, чтобы сердце твое более не рвалось…»
Дракон с грохотом, словно рухнула осадная башня, опустился на землю, подняв тучу дыма и пепла. С лязгом захлопнул челюсти, огромные, словно решетка на крепостных воротах. Расправил крылья размером с паруса военных галер. На блестящей черной чешуе играли отсветы пламени от горящих трупов.
— Наш господин, — проскрежетал дракон, — вкусил кончину твоего короля и сказал: «Готово».
Наутцера встал перед золоторогой мерзостью.
— Нет, Скафра! — крикнул он. — Пока я дышу — нет! Никогда!
Смех — словно хрип тысячи умирающих. Великий дракон навис над колдуном, выставив напоказ ожерелье из дымящихся человеческих голов.
— Твое искусство не спасет тебя, колдун. Твое племя уничтожено. Наша ярость разбила его вдребезги, словно глиняный горшок. Земля красна от крови твоих сородичей, и вскоре тебя окружат враги с тугими луками и острой бронзой. Теперь ты раскаиваешься в своей глупости? Жалеешь, что не унизился перед нашим господином?
— Так, как ты, могучий Скафра? Унизиться, как могущественный Тиран Облаков и Гор?
Ртутные глаза дракона на миг затянула пленка третьего века.
— Я — не Бог.
Наутцера мрачно усмехнулся. Сесватха же произнес:
— Так же, как и ваш господин.
Топот огромных ног, скрежет железных зубов. Крик, исторгнутый пышущими жаром легкими, глубокий, словно стон океана, и пронзительный, как вопль младенца.
Не испугавшись рушащейся на него туши дракона, Наутцера внезапно повернулся к Ахкеймиону. На лице его появилось недоумение.
— Кто ты такой?
— Один из тех, кто делит с тобою сны…
На миг они сделались похожи на двух утопающих: две души, бьющиеся в судорогах и сражающиеся за глоток воздуха… Затем пришла тьма. Безмолвное ничто, пристанище людских душ.
«Наутцера… Это я».
Место чистого голоса.
«Ахкеймион! Этот сон… Он так часто мучает меня в последнее время… Где ты? Мы боялись, что ты умер».
Беспокойство? Наутцеру беспокоит его судьба, его, Ахкеймиона, которого он презирает, как никого из чародеев? Но тогда, получается, Сны Сесватхи — это способ избавиться от мелочной вражды…
«При Священном воинстве, — отозвался Ахкеймион. — Борьба с императором завершена. Священное воинство выступило на Киан».
Эти слова сопровождались образами: Пройас, обращающийся к восторженной толпе вооруженных конрийцев; бесконечные кортежи знатных дворян и их челяди; разноцветные знамена тысяч танов и баронов; взгляд издалека на нансурскую армию, марширующую среди виноградников и полей безукоризненными колоннами…
«Итак, это началось, — решительно произнес Наутцера. — А Майтанет? Удалось ли тебе разузнать о нем побольше?»
«Я думал, что мне поможет Пройас, но я ошибался. Он принадлежит Тысяче Храмов… Майтанету».
«Неладное что-то с твоими учениками, Ахкеймион. Почему они все превращаются в наших врагов, а?»
Легкость, с которой Наутцера вернулся к своему обычному сарказму, одновременно и уязвила Ахкеймиона, и принесла ему странное облегчение. Скоро старому магистру потребуется весь его ум и все остроумие.
«Наутцера, я видел их».
Вспышка: Скеаос — нагой, скованный, извивающийся в пыли.
«Кого ты видел?»
«Консульт. Я видел их. Я теперь знаю, как они ускользали от нас все эти бессчетные годы».
Лицо разжимается, словно кулак скупца, отдающего золотой энсолярий.
«Ты что, пьян?»
«Они здесь, Наутцера. Среди нас. И всегда были здесь».
Пауза.
«О чем ты говоришь?»
«Консульт не отступился от Трех Морей».
«Консульт…»
«Да! Смотри!»
Новые картины, реконструкция безумия, разразившегося в недрах Андиаминских Высот. Дьявольское лицо разворачивается, снова и снова.
«Без применения магии, Наутцера. Понимаешь? У этого человека не было Метки! Мы не сумеем разглядеть этих оборотней за теми, кем они прикидываются…»
Хотя после смерти Инрау Ахкеймион еще сильнее возненавидел Наутцеру, он все-таки обратился к магистру, потому что Наутцера был фанатиком, единственным человеком, достаточно склонным к экстремизму, чтобы трезво оценить всю чрезвычайность ситуации.
«Текне… — произнес Наутцера, и Ахкеймион впервые услышал в его голосе страх. — Древняя наука… Это она! Ахкеймион, другие тоже должны это увидеть! Пошли этот сон остальным, прошу тебя!»
«Но…»
«Что — но? Что, еще что-то стряслось?»
Еще как стряслось. Вернувшийся Анасуримбор, живой потомок мертвого короля, только что снившегося Наутцере.
«Да нет, ничего существенного», — отозвался Ахкеймион.
Почему он так сказал? Почему он скрывает существование Анасуримбора Келлхуса от Завета? Почему защищает…
«Хорошо. Я и это едва в состоянии переварить… Наш древний враг наконец-то обнаружен! Он скрывается за живыми лицами! Если ему удалось пробраться в императорский двор, в самые высокие круги, значит, он может проникнуть почти везде, Ахкеймион. Везде! Пошли этот сон всему Кворуму! Пусть весь Атьерс содрогнется этой ночью!»
Рассвет казался мощным и дерзким, и Ахкеймиону невольно подумалось: может, он всегда выглядит таким, когда его приветствуют тысячи копий? Первые солнечные лучи вынырнули из-за фиолетового края земли, залив склоны холмов и ряды деревьев бодрящим утренним светом. Согианский тракт, древняя прибрежная дорога, существовавшая еще до Кенейской империи, уходила на юг, прямая, словно стрела, и терялась вдали, в холмах. По ней устало брела колонна людей в доспехах, а сзади тащился обоз; сбоку от колонны ехал отряд конных рыцарей. Там, где до солдат дотянулись солнечные лучи, на пастбище падали длинные тени.
Это зрелище изумило Ахкеймиона.
Заботы, столь долго заполнявшие собою его дни, померкли перед ужасом сегодняшней ночи. То, что он видел глазами Сесватхи, никак не соотносилось с миром бодрствования. Конечно же, мир дневного света мог причинить ему боль, мог даже убить, но все это казалось мышиной возней.
До нынешнего момента.
Вокруг, насколько хватало глаз, рассеялись Люди Бивня, теснясь вокруг дороги, словно муравьи вокруг яблочной шкурки. Вон отряд верховых скачет к далекой гряде холмов. А вон сломанная повозка торчит среди чащи обтекающих ее со всех сторон копий, словно лодка, севшая на мель. Кавалеристы галопом несутся через цветущие рощи. Местные юнцы что-то вопят с верхушек молодых берез. Вот это картина! И ведь это — лишь частица их истинной мощи.
Вскоре после того, как Священное воинство покинуло Момемн, оно распалось на отдельные армии, возглавляемые Великими Именами. Если верить Ксинему, причиной тому отчасти была предусмотрительность — по отдельности им будет легче прокормиться, если император нарушит слово и не даст продовольствия, — а отчасти упрямство: айнритийские дворяне просто не смогли договориться, каким путем лучше двигаться к Асгилиоху.
Пройас настаивал на побережье; он намеревался идти на юг по Согианскому тракту до его конечной точки, а уже оттуда свернуть на запад, к Асгилиоху. Прочие Великие Имена — Готьелк со своими тидонцами, Саубон с галеотами, Чеферамунни с айнонами и Скайельт с туньерами — отправились прямо через поля, виноградники и сады густонаселенной Киранейской равнины, думая про себя, что Пройас слишком уж привык хитрить и петлять, вместо того чтобы идти напрямую. Но древние кенейские дороги представляли собой обычные разбитые колеи, а командующие просто понятия не имели, насколько быстрее можно передвигаться по мощеному тракту…
При их нынешней скорости, сказал Ксинем, конрийцы доберутся до Асгилиоха намного раньше остальных. И хотя Ахкеймиону это внушало беспокойство — как они смогут выиграть войну, если обычный поход наносит им поражение? — Ксинем, похоже, был уверен, что это хорошо. Они не только завоюют славу своему народу и своему принцу, но еще и дадут другим хороший урок. «Даже скюльвенды, и те знают, на кой хрен на свете дороги!» — воскликнул маршал.
Ахкеймион тащился вместе с мулом по обочине, окруженный скрипящими телегами. С первого же дня пути ему приходилось прятаться в обозе. Если колонны марширующих солдат походили на передвижные казармы, то обозы напоминали скотный двор на колесах. Запах домашнего скота. Скрип несмазанных осей. Ворчание мужиков с пудовыми кулаками и пудовыми сердцами, время от времени сопровождающееся щелканьем кнутов.
Ахкеймион смотрел на ноги; от раздавленной травы пальцы сделались зелеными. Он впервые задался вопросом: а почему он прячется в обозе? Сесватха всегда ехал по правую руку королей, принцев и генералов. Так почему же он этого не делает? Хотя Пройас продолжал хранить видимость безразличия, Ахкеймион знал, что он бы смирился с его обществом — хотя бы ради Ксинема. Да и какой ученик в смутное время не желает втайне, чтобы его старый наставник оказался рядом?
Так почему же он тащится в обозе? Что это — привычка? В конце концов, он — шпион со стажем, а смирение в стесненных обстоятельствах — лучшая на свете маскировка. Или это ностальгия? Этот поход почему-то напоминал Ахкеймиону, как он в детстве шел следом за отцом к лодке: голова гудит от недосыпа, песок холодный, а море темное и по-утреннему теплое. Неизменный взгляд на восток: там уже сереет рассвет, обещая явление сурового солнца. Неизменный тяжелый вздох, с каким он примирялся с неизбежным, с тяготами, превратившимися в ритуал, который люди называют работой.
Но какое утешение дают подобные воспоминания? Наркотики не смягчают боль, они лишь вызывают оцепенение.
Затем Ахкеймион понял: он ехал среди скота и всякого барахла не по привычке и не из ностальгии, а из отвращения.
«Я прячусь, — подумал он. — Прячусь от него…»
От Анасуримбора Келлхуса.
Ахкеймион замедлил шаг и потянул мула с обочины на луг. От холодной росы тут же заболели ноги. Телеги продолжали катиться мимо бесконечным потоком.
«Я прячусь…»
Похоже, он все чаще ловит себя на том, что действует, исходя из каких-то невнятных причин. Рано ложится спать, но не потому, что устал за время дневного перехода — как он сам себе говорит, — а потому, что боится испытующих взглядов Ксинема, Келлхуса и всех остальных. Смотрит на Серве, и не потому, что она напоминает ему Эсми — как он сам себе говорит, — а потому, что его беспокоит то, как она смотрит на Келлхуса: с таким видом, будто что-то знает…
А теперь еще и это.
«Я что, схожу с ума?»
Он ловил себя на том, что без причины хихикает вслух. Проводил рукой по лицу, чтобы проверить, не плачет ли он. Каждый раз лишь потрясенно бормотал: ну, мало есть на свете более привычных вещей, чем узреть в себе незнакомца. А кроме того, что еще он мог поделать? Заново обнаруженный Консульт — уже одного этого было вполне достаточно, чтобы шагнуть за грань безумия. Но подозрение — нет, уверенность — в том, что начинается Второй Апокалипсис… И нести такое знание в одиночку!..
Разве эта ноша под силу такому человеку, как он?
Раньше Ахкеймион боялся, что Келлхус предвещает возрождение Не-бога. Колдун не стал докладывать о нем, потому как точно знал, что сделает Наутцера и прочие. Они вцепятся в него, словно шакалы в кость, и будут глодать и грызть его до тех пор, пока он не треснет. Но то происшествие под Андиаминскими Высотами…
Все изменилось. Изменилось бесповоротно.
Консульт много лет был всего лишь тягостной абстракцией. Как там про них говорил Инрау? Грехи отцов… Но теперь — теперь! — они стали реальны, словно лезвие ножа. И Ахкеймион больше не боялся, что Келлхус возвещает Апокалипсис, — он это знал.
Оказалось, что знать — куда хуже.
Ну и зачем он продолжает прятаться от этого человека? Анасуримбор вернулся. Кельмомасово пророчество исполнилось! Через считаные дни Три Моря растают, как тот мир, в котором он страдает каждую ночь. И однако же Ахкеймион ничего не говорит — ничего! Почему? Ему случалось замечать, что некоторые люди отказываются признавать такие вещи, как болезнь или неверность, будто факт нуждается в признании, чтобы стать реальностью. Уж не этим ли он сейчас занимается? Он что, думает, если держать существование Келлхуса в секрете, это каким-то образом сделает самого человека менее реальным? Что можно предотвратить конец мира, зажмурившись покрепче?
Это слишком. Просто слишком. Завет должен об этом узнать, невзирая на последствия.
«Я должен им сказать… Сегодня я должен им сказать».
— Ксинем сказал, что я найду тебя в обозе, — донесся из-за спины Ахкеймиона знакомый голос.
— Что, правда? — отозвался Ахкеймион, удивившись неуместной веселости, прозвучавшей в его голосе.
Келлхус улыбнулся.
— Он сказал, что ты предпочитаешь шагать по свежему дерьму, а не по старому.
Ахкеймион пожал плечами, стараясь не измениться в лице.
— Так ногам теплее. А твой скюльвендский друг?
— Едет вместе с Пройасом и Ингиабаном.
— Ага. А ты, значит, решил снизойти до меня.
Он уставился на сандалии северянина.
— Ну, от этого идти не меньше…
Кастовые дворяне не ходят пешком. Они ездят на лошади. Келлхус был князем, хотя, подобно Ксинему, с легкостью заставлял окружающих позабыть о своем статусе.
Келлхус подмигнул.
— Я подумал, что мне для разнообразия неплохо будет проехаться на своих двоих.
Ахкеймион рассмеялся; у него было такое ощущение, словно он надолго затаил дыхание — и только сейчас выдохнул. С первой их встречи под Момемном Келлхус вызывал у него именно это чувство — как будто к нему возвращается возможность дышать полной грудью. Когда он упомянул об этом при Ксинеме, маршал лишь пожал плечами и сказал: «Всякий рано или поздно пернет».
— А кроме того, — продолжал Келлхус, — ты обещал меня учить.
— Что, правда?
— Правда.
Келлхус схватил веревку, привязанную к грубой уздечке мула. Ахкеймион вопросительно взглянул на него.
— Что ты делаешь?
— Я — твой ученик, — пояснил Келлхус, проверяя, надежно ли закреплены сумки на муле. — Наверняка ты и сам в молодости водил мула своего наставника.
Ахкеймион неуверенно улыбнулся.
Келлхус погладил мула по шее.
— Как его зовут? — поинтересовался он.
Банальность этого вопроса почему-то потрясла Ахкеймиона — до ужаса. Никому — ни единому человеку — до сих пор не приходило в голову об этом спросить. Даже Ксинему.
Келлхус заметил его колебания и нахмурился.
— Ахкеймион, что тебя беспокоит?
«Ты…»
Колдун отвернулся и уставился на бесконечные колонны вооруженных айнрити. Голова гудела от шума.
«Он читает меня, словно развернутый свиток…»
— Это что, настолько… Настолько заметно? — спросил Ахкеймион.
— А это важно?
— Важно! — отрезал Ахкеймион, сморгнул слезы и снова повернулся к Келлхусу.
«Так, значит, я плачу! — отчаянно заныло что-то у него в душе. — Так, значит, я плачу!»
— Айенсис, — продолжал он, — некогда сказал, что все люди — обманщики. Некоторые, мудрые, дурачат только других. Другие, глупые, дурачат только себя. И мало кто дурачит и себя, и других — из таких-то людей и получаются правители… Но куда тогда отнести таких людей, как я, Келлхус? Как насчет людей, которые не дурачат никого?
«И я еще называю себя шпионом!»
Келлхус пожал плечами.
— Возможно, они ниже дураков и выше мудрецов.
— Возможно, — отозвался Ахкеймион, стараясь напустить на себя задумчивый вид.
— Так что же тебя беспокоит?
«Ты…»
— Рассвет, — сказал Ахкеймион и потрепал мула по морде. — Его зовут Рассвет.
Для адепта школы Завета не было имени счастливее.
…Преподавание всегда что-то ускоряло в Ахкеймионе. От него, как от черного чая из Нильнамеша, кожу начинало покалывать, а душа пускалась вскачь. Конечно, тут было что-то от обычного тщеславия человека знающего, от гордости человека, видящего дальше других. Но была и радость, которую чувствуешь, когда чьи-то юные глаза вспыхивают пониманием, когда осознаешь, что кто-то видит. Быть учителем — все равно что заново стать учеником, пережить опьянение прозрения, и стать пророком, и набросать мир заново, с самого основания, — не просто вырвать зрение у слепоты, но и потребовать, чтобы узрели другие.
И неотъемлемой частью этого требования было доверие, такое опрометчивое и отчаянное, что Ахкеймиону делалось страшно, когда он над этим задумывался. Ведь это же чистое безумие, когда один человек говорит другому: «Пожалуйста, суди меня…»
Быть учителем — значит быть отцом.
Но в случае с Келлхусом все оказалось совершенно не так. В последующие дни, пока конрийское воинство продвигалось все дальше на юг, они с Ахкеймионом шли рядом, беседуя на всевозможные темы, от флоры и фауны Трех Морей до философов, поэтов и королей Ближней и Дальней Древности.
Ахкеймион не придерживался никакого учебного плана — это было бы непрактично в подобных обстоятельствах; он пользовался методом Айенсиса и просто позволял Келлхусу удовлетворять свое любопытство. Он просто отвечал на вопросы. И рассказывал истории.
Впрочем, вопросы Келлхуса были более чем проницательны — настолько проницательны, что вскоре уважение, которое внушал Ахкеймиону его интеллект, сменилось благоговейным страхом. О чем бы ни шла речь — о политике, философии или поэзии, — князь безошибочно проникал в самую суть. Когда Ахкеймион изложил основные тезисы древнего куниюрского мыслителя Ингосвиту, Келлхус, задавая один уточняющий вопрос за другим, вскорости воспроизвел критические статьи Айенсиса, хоть и утверждал, что никогда не читал работ киранейца. Когда Ахкеймион описал беспорядки, охватившие Кенейскую империю в конце третьего тысячелетия, Келлхус опять же принялся донимать его вопросами — на многие из которых Ахкеймион ответить не мог, — касающимися торговли, денежного обращения и социальной структуры. А затем, через считаные минуты, предложил объяснение ситуации, наилучшее из всех, какое только приходилось читать Ахкеймиону.
— Но как? — однажды, не удержавшись, выпалил Ахкеймион.
— Что — как? — удивился Келлхус.
— Как тебе… как тебе удается все это увидеть? Как я ни вглядываюсь…
— А! — Келлхус рассмеялся. — Ты начинаешь говорить в точности как учителя, которых ко мне приставлял отец.
Он обращался с Ахкеймионом одновременно и смиренно, и до странности снисходительно, как будто уступал в чем-то властному, но любимому сыну. Солнечные лучи позолотили его волосы и бороду.
— Просто у меня такой талант, — пояснил он. — Только и всего.
Ничего себе талант! Скорее уж то, что древние называли «носчи» — гений. Было нечто необычное в самом мышлении Келлхуса, некая неизъяснимая подвижность, с которой Ахкеймион никогда прежде не сталкивался. Нечто такое, из-за чего северянин иногда казался человеком другой эпохи.
В общем, большинство людей от природы были узколобы и замечали лишь то, что им льстило. Они все, почти без исключения, считали, что их ненависть и их страстные желания правильны, невзирая на все противоречия — просто потому, что они чувствуют, что это правильно. Почти все ценили привычный путь выше истинного. В том и заключалась доблесть ученика, чтобы хоть на шаг сойти с наезженной дорожки и рискнуть приблизиться к знанию, которое угнетало и нагоняло ужас. И все равно Ахкеймион, подобно любому учителю, тратил на выкорчевывание предрассудков почти столько же времени, сколько на насаждение истины. В конце концов, все души упрямы.
А вот с Келлхусом дело обстояло иначе. Он ничего не отметал с порога. Для него всякая — абсолютно всякая — возможность заслуживала рассмотрения. Возникало ощущение, будто его душа движется вообще без путей — над ними. Лишь истина вела его к выводам.
Вопросы следовали за вопросами; они били в точку, они затрагивали ту или иную тему так мягко, но при этом так упорно и тщательно, что Ахкеймион сам поражался тому, как много он знает. Больше всего это походило на то, будто Ахкеймион, подгоняемый терпеливыми расспросами Келлхуса, совершает экспедицию по собственной жизни, которую сам по большей части позабыл.
Келлхус спрашивал про Мемгову, древнего зеумского мудреца, который в последнее время сделался чрезвычайно модным среди образованной части айнритийского кастового дворянства. Ахкеймион вспоминал, как читал его «Небесные афоризмы» при свечах на приморской вилле Ксинема, наслаждаясь экзотическими оборотами и зеумской эмоциональностью Мемговы и слушая, как за закрытыми ставнями ветер проносится по саду и сливы падают на землю с глухим стуком, словно железные.
Келлхус спрашивал про его толкование Войн магов, и Ахкеймион вспоминал, как спорил с собственным наставником, Симасом, на черных парапетах Атьерса, как считал себя необычайно одаренным и проклинал негибкость стариков. Как он ненавидел тогда эти высоты!
Вопрос сменялся вопросом. Келлхус никогда не повторялся. Он ни о чем не спрашивал дважды. И с каждым ответом Ахкеймиону все сильнее казалось, что он обменивает предположения на истинное озарение и абстракции на воскрешенные моменты своей жизни. Он понял, что Келлхус учится и одновременно с этим учит сам. У Ахкеймиона никогда еще не было такого ученика. Ни Инрау, ни даже Пройас не были такими. Чем больше он отвечал на вопросы этого человека, тем сильнее казалось, что Келлхус знает ответ на главный вопрос его собственной жизни.
«Кто я? — часто думал Ахкеймион, прислушиваясь к мелодичному голосу Келлхуса. — Что ты видишь?»
А затем Келлхус начал расспрашивать его о Древних войнах. Ахкеймиону, как и большинству адептов Завета, легко было упоминать об Апокалипсисе — и трудно его обсуждать. Очень трудно. Конечно, дело было в заново переживаемом ужасе. Чтобы говорить об Апокалипсисе, требовалось переложить жесточайшее горе в слова — непосильная задача. А еще к этому примешивался стыд, как будто он потворствовал некой унизительной навязчивой идее. Слишком уж многие над этим смеялись.
Но с Келлхусом все осложняла еще и кровь, текущая в его жилах. Он был Анасуримбором. Как рассказывать о конце света его невольному вестнику? Иногда Ахкеймион опасался, что его стошнит от такой иронии. А еще он постоянно думал: «Моя школа! Почему я предаю мою школу?»
— Расскажи мне про Не-бога, — попросил однажды Келлхус.
Как это часто случалось, когда они пересекали ровный луг, колонны сходили с дороги и рассыпались по траве. Некоторые солдаты даже снимали сандалии или сапоги и плясали, как будто, скинув лишнюю тяжесть с ног, обрели второе дыхание. Ахкеймион как раз смеялся над ужимками плясунов, и просьба Келлхуса застала его врасплох.
Его передернуло. Еще не так давно это имя — Не-бог — упоминалось как нечто далекое и мертвое.
— Ты родом из Атритау, — отозвался Ахкеймион, — и ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о Не-боге?
Келлхус пожал плечами.
— Да, мы читали «Саги», как и вы. Наши барды, как и ваши, распевали бесчисленные лэ. Но ты… Ты это все видел.
«Нет, — захотелось сказать Ахкеймиону, — это видел Сесватха. Сесватха».
Вместо этого он уставился вдаль, собираясь с мыслями.
«Ты это все видел. Ты…»
— У него, как тебе, вероятно, известно, много имен. Жители древней Куниюрии называли его Мог-Фарау, откуда и происходит наше «Не-бог». На древнекиранейском он именуется просто Цурумах, «Ненавистный». Нелюди Ишариола называли его со своеобразной поэтичностью, вообще свойственной их именам, Кара-Скинуримои, «Ангел беспредельного голода»… Точные имена. Мир никогда не знал большего зла… Большей опасности.
— Так что же он такое? Нечистый дух?
— Нет. По этому миру бродило множество демонов. Если слухи о Багряных Шпилях истинны, некоторые бродят до сих пор. Нет, он больше и в то же время меньше…
Ахкеймион умолк.
— Возможно, — предположил князь Атритау, — нам не следует говорить…
— Я видел его, Келлхус. Я видел его, насколько это по силам человеку… Неподалеку отсюда, на равнине Менгедда, разбитые войска киранейцев и их союзников заново подняли знамена, решив умереть в схватке с Врагом. Это было две тысячи лет назад.
Ахкеймион горько рассмеялся и опустил голову.
— Я забыл…
Келлхус внимательно наблюдал за ним.
— Что ты забыл?
— Что Священное воинство должно пройти через Менгедду. Что я вскоре вступлю на землю, которая видела смерть Не-бога…
Он взглянул на южные холмы. Вскоре на горизонте появятся горы Унарас, граница мира айнрити. А за ними…
— Как я мог позабыть?
— Многое нужно помнить, — сказал Келлхус. — Слишком многое.
— А это означает, что слишком многое было забыто! — огрызнулся Ахкеймион, не желая прощать себе эту оплошность.
«Мне нужен мой разум! Весь мир…»
— Ты слишком… — начал было Келлхус, но умолк.
— Что — слишком? Слишком груб? Ты не понимаешь, что это было! На протяжении одиннадцати лет — одиннадцати лет, Келлхус! — все младенцы рождались мертвыми! С момента пробуждения Не-бога каждое чрево стало могилой… И все его чувствовали — каждый, где бы он ни находился. Это был ужас, который постоянно, ежесекундно присутствовал в каждом сердце. Стоило лишь взглянуть на горизонт, и человек сразу понимал, где находится он. Он был тенью, знаком судьбы… Север превратился в пустыню — я не стану пересказывать этот кошмар. Мехтсонк, могучая столица Киранеи, была повержена несколькими месяцами раньше. Все дома были разрушены. Все идолы разбиты. Все жены подверглись насилию. Все великие народы пали… Как мало осталось, Келлхус! Сколь немногие уцелели! Киранейцы с их вассалами и союзниками-южанами ожидали Врага. Сесватха стоял по правую руку великого короля Киранеи, Анаксофуса V. Они были верными друзьями и подружились много лет назад, когда Кельмомас созвал всех лордов Эарвы на свою Ордалию, обреченную Священную войну — он хотел уничтожить Консульт прежде, чем те сумеют разбудить Цурумаха. Они вместе следили за его приближением…
«Цурумах…»
Ахкеймион вдруг смолк, повернувшись к северу.
— Вообрази, — сказал он, поднимая руки к небу. — Точно такой же день, воздух напоен ароматом полевых цветов… Вообрази! И вдруг — пелена грозовых туч, от одного края неба до другого, черных, словно вороново крыло, — они, клубясь, заполняют собой небосвод и катятся на нас, словно горячая кровь по стеклу. Я помню росчерки молний, разрывающих небо над холмами. А под сенью бури на восток и на запад галопом скачут бессчетные отряды скюльвендов, намереваясь обойти нас с флангов. А за ними мчатся, словно псы, легионы шранков и воют, воют!..
Келлхус дружески положил руку ему на плечо.
— Тебе вовсе не обязательно рассказывать мне об этом, — сказал он.
Ахкеймион посмотрел на него в упор, смаргивая слезы.
— Нет, обязательно, Келлхус. Мне необходимо, чтобы ты знал. Ведь для этого я и нужен — более, чем когда бы то ни было… Ты понимаешь?
Келлхус кивнул. Глаза его блестели.
— Тьма наползла на нас, — продолжал Ахкеймион, — поглотив солнце. Скюльвенды ударили первыми: конные лучники принялись осыпать нас стрелами, а отряды копейщиков в бронзовых доспехах тем временем врезались нам во фланги. Когда ливень стрел иссяк и лучники отошли, весь мир заполонили шранки. Их было бессчетное количество; завернутые в человеческую кожу, они неслись по холмам, сквозь высокие травы. Киранейцы опустили копья и подняли большие щиты. Нет таких слов, Келлхус, чтобы описать ужас и решимость, которые двигали нами. Мы сражались с дерзостью обреченных, стремясь лишь к одному: чтобы наш последний вздох был плевком в лицо Врагу. Мы не пели гимнов, не читали молитв — мы давно от них отреклись. Вместо них мы пели погребальные песни по самим себе, горькие погребальные плачи по нашему народу, нашей расе. Мы знали, что единственной нашей посмертной славой будет та дань жизнями, которую мы соберем с врагов. А затем из туч на нас обрушились драконы. Драконы, Келлхус! Враку. Древний Скафра, чья шкура несла на себе шрамы тысячи битв. Величественные Скутула, Скогма, Гхосет. Все, кого не доконали стрелы и магия Древнего Севера. Маги Киранеи и Шайгека шагнули в небо и сразились с тварями.
Взгляд Ахкеймиона был устремлен куда-то вдаль. Он видел прошлое.
— К югу отсюда, совсем не далеко, — сказал он, покачав головой. — Две тысячи лет назад.
— И что произошло потом?
Ахкеймион взглянул на Келлхуса.
— Невероятное. Я… нет, Сесватха… Сесватха поверг Скафру. Скутула Черный бежал прочь, весь израненный. Киранейцы и их союзники стояли неколебимо, словно волнолом против вздыбившегося моря, и отражали одну черную волну за другой. На мгновение мы почти посмели обрадоваться. Почти…
— А потом пришел он, — сказал Келлхус.
Ахкеймион сглотнул и кивнул.
— Потом пришел он… Мог-Фарау. Во всяком случае, в этом отношении автор «Саг» написал правду. Скюльвенды отошли; напор шранков ослабел. По их рядам пронесся пронзительный скрежет, переросший в нестерпимый вопль. Башраги принялись колотить по земле своими молотами. Клубящаяся тьма, затянувшая горизонт, превратилась в огромный смерч — как будто небо и землю связала черная пуповина. И все знали. Все просто знали. Не-бог приближался. Мог-Фарау шел, и мир содрогался. Шранки принялись визжать. Многие бросались на землю, пытались выцарапать себе глаза… Я помню, что мне тяжело было дышать… Я сел в колесницу Анакки — Анаксофуса, и я помню, как он держал меня за плечи. Я помню, он что-то кричал, но я не мог его расслышать… Наши лошади пятились и дико ржали. Люди вокруг нас падали на колени, зажимая уши. На нас накатывались огромные тучи пыли…
А потом раздался голос, говорящий гло́тками сотен тысяч шранков.
ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?
Я не понимаю…
МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ.
Смерть. Ужасную смерть!
ГОВОРИ.
Даже ты не сможешь спрятаться от того, чего не знаешь! Даже ты!
ЧТО Я ТАКОЕ?
— Обреченный, — прошептал Сесватха, отвечая грому.
Он вцепился в плечо великого короля Киранеи.
— Давай, Анаксофус! Бей!
Я НЕ МОГУ ВИ…
Через Карапас, вращаясь над холмами, пронеслась сверкающая серебряная нить. Треск, от которого из ушей пошла кровь. Обломки, хлынувшие дождем. Исполненный боли вой, вырвавшийся из бессчетных нечеловеческих глоток.
Смерч исчез, словно дымок задутой свечи, — немного повращался и развеялся.
Сесватха упал на колени, рыдая от горя и ликования. Невероятно! Невероятно! Анаксофус выронил Копье-Цаплю и обнял его за плечи…
— Ахкеймион, с тобой все в порядке?
Ахкеймион? Кто такой Ахкеймион?
— Пойдем, — сказал Келлхус. — Вставай.
Сильные руки незнакомца. А где Анаксофус?
— Ахкеймион!
«Снова. Это происходит снова».
— Что?
— Что такое Копье-Цапля?
Ахкеймион не ответил. Он не мог. Вместо этого он довольно долго шел молча, вспоминая, что предшествовало моменту, когда эта история завладела им, и размышляя над ужасающей потерей себя и ощущения времени — почему-то казалось, будто это в некотором смысле одно и то же. Потом он подумал о Келлхусе, спокойно идущем рядом. Адепты Завета часто упоминали о том, как был повержен Не-бог, но редко рассказывали эту историю. По правде говоря, Ахкеймион вообще не припоминал, чтобы хоть кому-то ее рассказывал — даже Ксинему. И однако же Келлхусу он все выложил по первому требованию. Почему?
«Он что-то со мной делает».
Ахкеймион поймал себя на том, что ошеломленно пялится на этого человека, с прямотой сонного ребенка.
«Кто ты?»
Келлхус ответил таким же прямым взглядом; его это нисколько не смутило — казалось, для него подобные вещи слишком незначительны. Он улыбнулся Ахкеймиону так, словно тот и вправду был ребенком, невинным существом, неспособным желать зла. Этот взгляд напомнил Ахкеймиону Инрау, который так часто видел в нем того, кем Ахкеймион не являлся, — а именно хорошего человека.
Ахкеймион отвел взгляд. У него болело горло.
«Должен ли я выдать и тебя?»
Ученика, подобного которому нет.
Группка солдат затянула гимн в честь Последнего Пророка; смех и гомон стих — окружающие подхватили песню. Келлхус вдруг остановился и опустился на колени.
— Что ты делаешь? — спросил Ахкеймион более резко, чем хотелось.
— Снимаю сандалии, — отозвался князь Атритау. — Давай пройдемся босиком, как остальные.
Не петь вместе с остальными. Не радоваться с ними. Просто пройтись.
Позднее Ахкеймион осознает, что это были уроки. Пока Ахкеймион учил Келлхуса, тот непрестанно учил Ахкеймиона. Он был почти уверен в этом, хотя понятия не имел, что же это могут быть за уроки. Возможно, доверия. Или, быть может, открытости. Каким-то образом Ахкеймион, наставляя Келлхуса, сам сделался учеником, хоть и иного рода. Единственное, что он знал наверняка, так это то, что его образование неполно.
Но по мере того, как шли дни, это открытие лишь усугубляло его страдания. Однажды Ахкеймион трижды за ночь готовил Призывные Напевы, но все заканчивалось лишь невнятными ругательствами и попреками. Он должен все рассказать Завету, своей школе — своим братьям! Анасуримбор вернулся! Кельмомасово пророчество — не просто часть Снов Сесватхи. Многие видели его, достигнув зенита, и узрели в нем причину того, что Сесватха ушел из жизни в кошмары своих учеников. Великое предостережение. И однако же он, Друз Ахкеймион, колебался — нет, не просто колебался, он рисковал. Сейен милостивый… Он рисковал своей школой, своей расой, своим миром ради человека, которого знал без году неделя.
Что за безумие! Он бросил на чашу весов конец света! Обычный человек, слабый и глупый, — кто он такой, Друз Ахкеймион, чтобы брать на себя подобный риск? По какому праву он взвалил на себя эту ношу? По какому праву?
«Еще один день, — подумал он, дергая себя за бороду и за волосы. — Еще один день…»
Келлхус отыскал его, когда все покидали лагерь, наутро после того, как Ахкеймион принял решение, и, несмотря на хорошее настроение и юмор Келлхуса, прошел не один час, прежде чем Ахкеймион смягчился и начал отвечать на его вопросы. Слишком уж многое одолевало и мучило его. Слишком много невысказанного.
— Тебя тревожит наша судьба, — в конце концов сказал Келлхус; взгляд его был серьезен. — Ты боишься, что Священное воинство не добьется успеха…
Конечно же, Ахкеймион боялся за Священное воинство. Он видел слишком много поражений — во всяком случае, в снах. Но несмотря на то что вокруг него двигались тысячи вооруженных людей, мысли Ахкеймиона были заняты отнюдь не Священной войной. Но он предпочел притвориться, что так оно и есть. Он кивнул, не глядя на собеседника, как будто сознавался в чем-то, что причиняло боль. Опять невысказанные упреки. Опять самобичевание. Когда дело касалось других людей, мелкие обманы казались одновременно и естественными, и необходимыми, но с Келлхусом они… они раздражали.
— Сесватха… — произнес Ахкеймион, потом заколебался. — Сесватха был почти мальчишкой, когда начались первые войны против Голготтерата. В те дни даже мудрейшие из древних не понимали, что поставлено на кон. Да и как они могли это понять? Они же были норсирайцами и владели всем миром. Они покорили своих родичей-варваров. Они прогнали шранков за горы. Даже скюльвенды не смели навлекать на себя их гнев. Их поэзия, их магия, их ремесла ценились по всей Эарве, даже среди нелюдей, что некогда были их наставниками. От красоты их городов у иноземных послов на глаза наворачивались слезы. Даже при самых далеких дворах, у киранейцев и у ширцев, старались перенять их манеры, их кулинарное искусство, их моды… Они были истинным мерилом своего времени, как мы — своего. Все было меньше, а они всегда были больше. Даже после того, как Шеонанра, великий магистр Мангаэкки — Консульта, — пробудил Не-бога, никто не верил, что близится конец. Даже разгром куниюрцев, самого могущественного из их народов, не поколебал уверенности в том, что Древний Север как-нибудь да одержит верх. Лишь когда бедствия посыпались словно из рога, они начали понимать…
Заслонив лицо от солнца, Ахкеймион взглянул князю в глаза:
— Величие не снисходит до величия. Всегда может произойти немыслимое.
«Конец близится… Я должен решиться».
Келлхус кивнул и, сощурившись, взглянул на солнце.
— У всего своя мера, — сказал он. — У каждого человека.
Он взглянул на Ахкеймиона в упор:
— У каждого решения.
На мгновение Ахкеймион испугался, что у него сейчас остановится сердце. «Совпадение… Это совпадение, и ничего больше!»
Келлхус внезапно наклонился и подобрал маленький камень. Несколько мгновений он осматривал склон, как будто разыскивал птицу или зайца, кого-нибудь, кого можно было бы убить. Затем он швырнул камень, и рукава его шелковой рясы щелкнули, словно кожаные. Камень со свистом пронесся в воздухе, потом врезался в край растрескавшегося каменного выступа. Выступ покачнулся и рухнул, рассыпавшись грудой пыли и щебня. Внизу зазвучали предостерегающие крики.
— Ты нарочно? — спросил Ахкеймион.
У него перехватило дыхание.
Келлхус покачал головой.
— Нет… — Он бросил на Ахкеймиона поддразнивающий взгляд. — Но это именно то, о чем ты говорил, разве нет? Непредвиденное, катастрофа, следующая по пятам за всеми нашими деяниями.
Ахкеймион сомневался, что вообще упоминал об этом.
— И решениями, — сказал он, чувствуя себя странно — как будто говорил чужими устами.
— Да, — согласился Келлхус. — И решениями.
Той ночью Ахкеймион приготовил Призывные Напевы, хоть и знал, что не сумеет выдавить из себя даже слова. «Какое ты имеешь на это право? — кричал он мысленно. — Какое право? Ты, ничтожество…» Келлхус — Предвестник. Посланник. Вскоре — Ахкеймион это знал — ужас его ночей вырвется в мир бодрствования. Вскоре великие города — Момемн, Каритусаль, Аокнисс — запылают. Ахкеймион уже видел их горящими, много раз. Они падут, как пали их древние собратья: Трайсе, Мехтсонк, Миклы. Крики. Вопли, возносящиеся к небесам, затянутым пеленой дыма… Они станут новыми именами горя.
Какое у тебя право? Что может оправдать подобное решение?
— Кто ты такой, Келлхус? — пробормотал Ахкеймион, сидя в темной палатке, служившей ему пристанищем. — Я рискую ради тебя всем… Всем!
Но почему?
Потому что в нем… в нем есть нечто. Нечто, что заставляет Ахкеймиона ждать. Ощущение чего-то невероятно соответствующего… Но чего? Чему он соответствует? И будет ли этого достаточно? Достаточно, чтобы оправдать предательство школы? Достаточно, чтобы бросить гадальные кости на Апокалипсис? Чего вообще для этого достаточно?
Чего-то, помимо истины. Истины всегда достаточно, не так ли?
«Он посмотрел на меня и понял». Ахкеймион осознал, что брошенный камень был еще одним уроком. Еще одним намеком, еще одной зацепкой. Но на что он намекал? Что бедствие разразится, если он примет неверное решение? Или что бедствие разразится вне зависимости от того, какое решение он примет?
Казалось, его мучениям не будет конца.
Глава 2. Ансерка
«Расстояние между животным и божеством измеряется долгом».
Экианн, послание 44«Дни и недели, предшествующие сражению, — странное время. Все войска — конрийцы, галеоты, нансурцы, туньеры, тидонцы, айноны и Багряные Шпили — пришли к крепости Асгилиох, к Вратам Юга и границе языческих земель. И хотя многие думали о Скауре, язычнике-сапатишахе, с которым им предстояло бороться, он по-прежнему стоял для них в одном ряду с сотнями прочих абстрактных забот. Всякий еще мог перепутать войну с обычным повседневным существованием…»
Друз Ахкеймион, «Компендиум Первой Священной войны»4111 год Бивня, конец весны, провинция Ансерка
В первые дни пути повсюду царило замешательство и неразбериха, особенно на закате, когда айнрити рассыпались по полям и склонам холмов, чтобы встать лагерем на ночь. Пару раз Ахкеймиону не удавалось разыскать Ксинема, но он настолько уставал, что ставил палатку рядом с незнакомыми людьми. Но когда конрийцы привыкли осознавать себя войском, привычка вкупе с грузом обязанностей привела к тому, что лагерь каждый вечер принимал более-менее приличный вид. Вскоре Ахкеймион обнаружил, что делит пищу и шутливые беседы не только с Ксинемом и его старшими офицерами, Ириссом, Динхазом и Зенкаппой, но еще и с Келлхусом, Серве и Найюром. Дважды их навещал Пройас — для Ахкеймиона это были нелегкие вечера, — но обычно наследный принц вызывал Ксинема, Келлхуса и Найюра к себе в шатер, либо на службу, либо для вечернего совета с другими великими лордами, входившими в состав конрийского войска.
В результате Ахкеймион частенько оставался в обществе Ирисса, Динхаза и Зенкаппы. Компания из них была ужасная, особенно в присутствии такой красивой и застенчивой женщины, как Серве. Но вскоре Ахкеймион начал ценить эти ночи — по сравнению с днями, когда ему приходилось идти рядом с Келлхусом. Тут была нерешительность мужчин, сошедшихся без традиционных посредников, а затем — бурный дружелюбный разговор, как будто они одновременно и поражались, и радовались тому, что говорят на одном языке. Это напоминало Ахкеймиону, какое облегчение чувствовал он и его приятели детства, когда их старших братьев звали в лодки или на берег. Ахкеймион вполне способен был понять это товарищество душ, пребывающих в чужой тени. Кажется, с тех пор как покинул Момемн, он переживал редкие мгновения покоя лишь в обществе этих людей, хоть они и считали его проклятым.
Однажды ночью Ксинем забрал Келлхуса и Серве к Пройасу на отмечание Веникаты, айнритийского религиозного праздника. Ирисс и прочие через некоторое время разошлись, вернувшись к своим подразделениям, и Ахкеймион впервые остался наедине со скюльвендом, Найюром урс Скиоатой, последним из утемотов.
Хотя они уже не первую ночь проводили у одного костра, Ахкеймиону до сих пор делалось не по себе в присутствии этого варвара. Иногда, когда Ахкеймион замечал его краем глаза, у него перехватывало дыхание. Найюр, подобно Келлхусу, был призраком из его снов, кем-то, пришедшим из очень ненадежного, коварного края. А если добавить к этому еще и руки, покрытые множеством шрамов, и хору, засунутую за пояс с железными бляхами…
Но все-таки у Ахкеймиона было к нему множество вопросов. По большей части о Келлхусе, но еще и о шранках, появляющихся на севере тех земель, которыми владело его племя. Ему даже хотелось спросить скюльвенда насчет Серве: все заметили, что она без памяти влюблена в Келлхуса, но спать отправляется с Найюром. В те разы, когда эти трое уходили от костра раньше прочих, Ахкеймион видел огонь в глазах Ирисса и остальных офицеров, хотя пока что они не делились друг с другом своими соображениями. Когда Ахкеймион задал этот вопрос Келлхусу, тот пожал плечами и сказал: «Она — его добыча».
Какое-то время Ахкеймион и Найюр изо всех сил старались не замечать друг друга. Откуда-то из темноты доносились возгласы и крики, вокруг костров теснились неясные фигуры празднующих. Некоторые подолгу смотрели в их сторону, но большинство не обращало на них внимания.
Проводив хмурым взглядом шумную компанию конрийских рыцарей, Ахкеймион наконец повернулся к Найюру и спросил:
— Думаю, мы язычники, — а, скюльвенд?
У костра воцарилась неловкая тишина: Найюр продолжал обгладывать кость. Ахкеймион потягивал вино и старался придумать благовидный предлог, чтобы удалиться в палатку. Ну что можно сказать скюльвенду?
— Так ты его учишь, — внезапно произнес Найюр, сплюнув хрящ в костер.
Его глаза поблескивали в тени густых бровей, взгляд был устремлен в огонь.
— Да, — отозвался Ахкеймион.
— Он сказал тебе, зачем?
Ахкеймион пожал плечами.
— Он ищет знаний Трех Морей… А почему ты спрашиваешь?
Но скюльвенд уже вставал, вытирая жирные пальцы о штаны и выпрямляясь во весь свой огромный рост. Не сказав ни слова, он исчез в темноте, оставив сбитого с толку Ахкеймиона у костра. Короче говоря, варвар никаким образом не желал его признавать.
Ахкеймион решил упомянуть об этом происшествии при Келлхусе, когда тот вернется, но быстро позабыл о нем. По сравнению с терзавшими его страхами скверные манеры и загадочные вопросы, в общем-то, были пустяком.
Обычно Ахкеймион ставил свою скромную палатку у шатра Ксинема. Он всегда подолгу лежал без сна и то грыз себя из-за Келлхуса, то увязал в тягостных раздумьях. А когда на остальные мысли находило оцепенение, он беспокоился об Эсменет или о Священном воинстве. Похоже было, что оно вскоре вступит в земли фаним — в бой.
Ночные кошмары становились все более невыносимыми. Пожалуй, не проходило ни единой ночи, чтобы Ахкеймион не просыпался еще до пения утренних рогов от того, что колотил ногами по одеялу либо расцарапывал себе лицо, взывая к древним товарищам. Мало кому из адептов Завета доводилось наслаждаться мирным сном или хотя бы его подобием. Эсменет часто шутила, что он спит, «словно старый пес, который гоняется за кроликами».
«Скорее уж старый кролик, удирающий от собак», — отвечал Ахкеймион.
Но сон — или, во всяком случае, его абсолютная суть, дарующая забвение, — стал ускользать от него, пока не начинало казаться, что он просто перелетает от одного скопления гомона и криков к другому. Ахкеймион выползал из палатки в предрассветной тьме, обхватив себя руками за плечи, чтобы сдержать дрожь, и просто стоял, пока ночь не сменялась холодными, бесцветными сумерками. Он смотрел, как на востоке появляется золотой ободок солнца — словно уголь, просвечивающий сквозь раскрашенную бумагу. И ему казалось, будто он стоит на краю мира и достаточно малейшего толчка, чтобы полететь в бескрайнюю тьму.
«Один, совсем один», — думал он.
Он представлял Эсменет, как она спит у себя в комнате, в Сумне: стройная нога высунулась из-под одеяла, и ее обвивают нити света, лучи все того же солнца, прорвавшегося сквозь щели в ставнях. И он молился, чтобы она была в безопасности, — молился богам, которые прокляли их обоих.
«Одно солнце согревает нас. Одно солнце дарует нам свет. Одно…»
Потом он думал об Анасуримборе Келлхусе — и эти мысли навевали тягостные предчувствия.
Однажды вечером, слушая, как другие спорят о фаним, Ахкеймион вдруг осознал, что ему совершенно незачем страдать от одиночества: он может поделиться всеми страхами с Ксинемом.
Ахкеймион взглянул поверх костра на старого друга, спорившего о битвах, в которых он еще не участвовал.
— Конечно, Найюр знает этих язычников! — возражал маршал. — Я никогда не утверждал обратного. Но до тех пор, пока он не увидит нас на поле битвы, пока он не поймет всю мощь Конрии, ни я, ни наш принц, как я подозреваю, не станем воспринимать его слова как Священное Писание!
Может ли он рассказать все Ксинему?
Утро после безумия, произошедшего под императорским дворцом, было тем самым утром, когда Священное воинство выступило в путь. Вокруг царила полнейшая неразбериха. И даже в тех обстоятельствах Ксинем внимательно отнесся к Ахкеймиону и честно попытался расспросить его о подробностях предыдущей ночи. Ахкеймион начал с правды — ну, во всяком случае, с некой ее части, — сказав, что императору понадобился независимый специалист, чтобы проверить некоторые утверждения, сделанные Имперским Сайком. А вот дальше последовал чистой воды вымысел, история насчет шифра и зачарованной карты. Ахкеймион даже не мог теперь толком ее припомнить.
Тогда он солгал потому, что… ну, просто так получилось. События той ночи были слишком свежи в памяти. Даже сейчас, две недели спустя, Ахкеймион чувствовал, что ему не под силу вынести их ужасающий смысл. Тогда же он вообще едва барахтался, пытаясь удержаться на плаву.
Но как теперь объяснить это Ксинему? Единственному человеку, которому он верит. Которому доверяет.
Ахкеймион смотрел и ждал, переводя взгляд с одного лица, освещенного пламенем костра, на другое. Он нарочно положил свой коврик с наветренной стороны, туда, куда шел дым, надеясь во время еды посидеть в одиночестве. Теперь ему казалось, что сюда его поместило само провидение, давшее возможность исподтишка взглянуть на всех вместе.
Конечно, там был Ксинем; он сидел, скрестив ноги, словно зеумский военный вождь, и лицо у него было каменное, но смешинки в глазах и крошки в квадратной бороде создавали противоречивое впечатление. Слева, примостившись на бревне и раскачиваясь в разные стороны, сидел кузен Ксинема, Ирисс. По избытку чувств и энергии он здорово походил на задиристого большелапого щенка. Слева от него сидел Динхаз, или Кровавый Дин. Он держал в вытянутой руке чашу, чтобы рабы заново наполнили ее вином; шрам в виде буквы «Х» у него на лбу из-за игры света и теней казался черным. Зенкаппа, как обычно, сидел рядом с ним. Его угольно-черная кожа поблескивала в свете костра. Ахкеймиону почему-то всегда казалось, будто Зенкаппа озорно подмигивает. Поблизости сидел Келлхус в белой тунике и взирал на мир, будто на похищенный из древнего храма портрет, — одновременно и медитативно, и внимательно, и отстраненно, и затаив дыхание. К нему прислонилась Серве. Глаза под полуприкрытыми веками сияли, одеяло было обернуто вокруг бедер. Как всегда, ее безукоризненное лицо приковывало взгляд, а от изгибов фигуры захватывало дыхание. Рядом с ней сидел Найюр, но подальше от костра, в тени, смотрел на пламя и отщипывал кусочки хлеба. Даже сейчас, когда он ел, он смотрел так, будто был готов в любое мгновение свернуть кому-нибудь из присутствующих шею.
Такое вот странное семейство. Его семейство.
Способны ли они чувствовать это? Ощущают ли приближение конца?
Ахкеймиону необходимо было поделиться тем, что он знал. Если не с Заветом, то хоть с кем-нибудь. Ему необходимо разделить ношу, или он сойдет с ума. Если бы только Эсми пришла к нему… Нет. Это принесет только боль.
Ахкеймион поставил чашу, встал и присел рядом со старым другом, Крийатесом Ксинемом, маршалом Аттремпа.
— Ксин…
— Что такое, Акка?
— Мне нужно поговорить с тобой, — приглушенно произнес Ахкеймион. — Насчет… Насчет…
Келлхус, казалось, был занят чем-то другим. И все же Ахкеймион и сейчас не мог избавиться от ощущения, будто за ним наблюдают.
— Та ночь, — продолжил он, — ну, последняя под стенами Момемна. Помнишь, как Икурей Конфас пришел за мной и отвел в императорский дворец?
— Еще бы я забыл! Я тогда здорово перенервничал!
Ахкеймион заколебался. Ему вновь вспомнился тот старик — первый советник императора, — бьющийся в цепях. Лицо, которое разжимается, словно рука, и выгибается наружу, и тянется… Которое захватывает, а потом завладевает…
Ксинем присмотрелся к нему и нахмурился.
— Что случилось, Акка?
— Я — адепт, Ксин, я связан клятвой и долгом, точно так же, как ты…
— Лорд кузен! — позвал маршалла Ирисс. — Вы только послушайте! Келлхус, расскажите ему!
— Кузен! — резко отозвался Ксинем. — А не мог бы ты…
— Да вы только послушайте! Мы пытаемся понять, что это означает.
Ксинем собрался обругать Ирисса, но было уже поздно. Келлхус заговорил.
— Это просто притча, — сказал князь Атритау. — Я узнал ее от скюльвендов. Звучит она примерно так: некрупный, стройный молодой бык и его коровы, к потрясению своему, обнаружили, что хозяин купил другого быка, с более широкой грудью, более толстыми рогами и более скверным характером. Но все равно, когда сын хозяина привел нового быка на пастбище, молодой бык опустил голову, выставил рога и принялся фыркать и рыть копытом землю. «Нет! — вскричали коровы. — Пожалуйста, не надо рисковать жизнью из-за нас!» «Рисковать жизнью? — удивился молодой бык. — Я просто забочусь о том, чтобы он знал, что я — бык!»
Мгновение тишины и взрыв смеха.
— Скюльвендская притча? — переспросил Ксинем, смеясь. — Вы…
— Вот что я думаю! — воскликнул Ирисс, перекрывая общий хохот. — Вот мое толкование! Слушайте! Эта притча означает, что наше достоинство — нет, наша честь — дороже всего, даже наших жен!
— Да ничего она не означает, — сказал Ксинем, вытирая выступившие на глазах слезы. — Это просто шутка, только и всего.
— Это притча о мужестве, — проскрежетал Найюр, и все смолкли, потрясенные.
Ахкеймион попытался понять, что же на самом деле сказал неразговорчивый варвар.
Скюльвенд сплюнул в огонь.
— Эту историю старики рассказывают мальчишкам, чтобы пристыдить их, чтобы научить, что красивые жесты ничего не значат, что реальна только смерть.
Все переглянулись. Один лишь Зенкаппа громко рассмеялся.
Ахкеймион подался вперед.
— А ты что скажешь, Келлхус? Что, по-твоему, это означает?
Келлхус пожал плечами, удивляясь, что ему нужно так много объяснять. Он поднял на Ахкеймиона дружеский, но совершенно неумолимый взгляд.
— Это означает, что иногда из молодого быка получается неплохая корова…
Все снова расхохотались, но Ахкеймион с трудом изобразил слабое подобие улыбки. Да что его, собственно, так разозлило?
— Нет! — воскликнул он. — Что ты думаешь на самом деле?
Келлхус помолчал, взял Серве за руку и оглядел присутствующих. Ахкеймион покосился на Серве и тут же отвернулся. Она смотрела на него очень внимательно.
— Эта история учит, — серьезным, изменившимся голосом произнес Келлхус, — что есть разное мужество и разные понятия о чести.
Он говорил так, что, казалось, заставил умолкнуть всех вокруг — едва ли не все Священное воинство.
— Она учит, что все эти вещи — мужество, честь, даже любовь — лишь проблемы, а не абсолютные понятия. Вопросы.
Ирисс решительно встряхнул головой. Он принадлежал к числу тех туго соображающих людей, которые постоянно путают рвение с проницательностью. Для других уже стало дежурным развлечением наблюдать, как он спорит с Келлхусом.
— Мужество, честь, любовь — проблемы? А что же тогда решения? Трусость и развращенность?
— Ирисс… — сказал Ксинем, начиная сердиться. — Кузен.
— Нет, — отозвался Келлхус. — Трусость и развращенность — это тоже проблемы. А что касается решений… Вы, Ирисс, — вы решение. На самом деле все мы — решения. Каждая жизнь рисует набросок другого ответа, другого пути…
— Так что же, все решения равны? — выпалил Ахкеймион.
И удивился горечи, прозвучавшей в собственном голосе.
— Это философский вопрос, — сказал Келлхус, улыбнувшись.
Его улыбка развеяла возникшую неловкость.
— Нет. Конечно же, нет. Некоторые жизни прожиты лучше других — в этом не может быть сомнений. Как вы думаете, почему мы поем песни? Почему чтим священные книги? Почему размышляем над жизнью Последнего Пророка?
Примеры, понял Ахкеймион. Примеры жизней, несущих свет, дающих ответы… Он понимал, но не мог заставить себя произнести это вслух. В конце концов, он ведь колдун — пример жизни, которая ни на что не отвечает. Ахкеймион молча встал и ушел от костра. Его не волновало, что подумают другие. Его охватила острая потребность побыть в темноте, в одиночестве…
Подальше от Келлхуса.
А потом он осознал, что Ксинем так и не услышал его исповеди, что он по-прежнему наедине со своим знанием, — и опустился на колени у своей палатки.
«Возможно, оно и к лучшему».
Оборотни среди них. Келлхус — Предвестник конца света. Ксинем наверняка решит, что он свихнулся.
Из размышлений его вырвал женский голос:
— Я видела, как ты смотришь на него.
На него — в смысле, на Келлхуса. Ахкеймион оглянулся и увидел на фоне костра стройный силуэт Серве.
— И что с того? — спросил он.
Серве была рассержена — это было ясно по ее тону. Она что, ревнует? Ведь днем, пока они с Ксинемом шагают с колонной, она идет с рабами Ксинема.
— Тебе не следует бояться, — сказала Серве.
Ахкеймион облизал губы. На языке остался кислый привкус. Ксинем вместо вина пустил сегодня по кругу перрапту — омерзительный напиток.
— Бояться чего?
— Бояться любить его.
Ахкеймион мысленно проклял бешено бьющееся сердце.
— Ты меня недолюбливаешь, верно?
Даже сейчас, в полумраке, она казалась слишком красивой, чтобы быть настоящей, — словно нечто, проходящее сквозь трещины мироздания, нечто дикое и белокожее. Ахкеймион впервые осознал, насколько сильно хочет ее.
— Только… — Серве заколебалась, уставившись на примятую траву.
Затем она подняла голову и на кратчайший миг взглянула на колдуна глазами Эсменет.
— Только потому, что ты отказываешься видеть, — пробормотала она.
«Что видеть?!» — хотелось закричать Ахкеймиону.
Но Серве уже убежала.
— Акка! — позвал Келлхус в полутьме. — Я слышал плач.
— Пустяки, — хрипло отозвался Ахкеймион, все еще пряча лицо в ладонях.
В какой-то момент — он сам не мог точно сказать, когда именно, — он выполз из палатки и свернулся калачиком у костра, от которого остались только угли. Теперь уже светало.
— Это Сны?
Ахкеймион протер лицо и полной грудью вдохнул холодный воздух.
«Скажи ему!»
— Д-да… Сны. Это Сны.
Он чувствовал, как Келлхус смотрит на него сверху вниз, но не решался поднять голову. Когда Келлхус положил руку ему на плечо, Ахкеймион вздрогнул, но не отстранился.
— Но это не просто Сны, Акка? Это что-то еще… Нечто большее.
Горячие слезы потекли по щекам Ахкеймиона. Он ничего не ответил.
— Ты не спал этой ночью… Ты не спишь уже много ночей, так ведь?
Ахкеймион взглянул на усеянные шатрами поля и склоны холмов. На фоне серо-стального неба яркими пятнами вырисовывались знамена.
Затем он перевел взгляд на Келлхуса.
— Я вижу в твоем лице его кровь, и это наполняет меня одновременно и надеждой, и ужасом.
Князь Атритау нахмурился.
— Так, значит, все из-за меня… Этого я и боялся.
Ахкеймион сглотнул и вступил в игру.
— Да, — сказал он. — Но все не так просто.
— Но почему? Что ты имеешь в виду?
— Среди многих Снов, терзающих меня и моих братьев-адептов, есть один, который беспокоит нас в особенности. Это Сон о смерти Анасуримбора Кельмомаса II, верховного короля Куниюрии, — о его смерти на полях Эленеота в 2146 году.
Ахкеймион глубоко вздохнул и сердито потер глаза.
— Видишь ли, Кельмомас был первым великим врагом Консульта и первой и самой знаменитой жертвой Не-бога. Первой! Он умер у меня на руках, Келлхус. Он был моим самым ненавистным и самым дорогим другом, и он умер у меня на руках!
Он помрачнел и в замешательстве развел руками.
— В смысле… я имел в виду — на руках у Сесватхи…
— И это причиняет тебе боль? Что я…
— Ты не понимаешь! П-послушай… Он, Кельмомас, сказал мне — то есть Сесватхе — перед тем, как умереть… Он сказал всем нам…
Ахкеймион замотал головой, фыркнул и запустил пальцы в бороду.
— На самом деле он продолжает это говорить каждую треклятую ночь, умирая снова и снова — и всегда первым! И… и он сказал…
Ахкеймион поднял голову; он как-то резко перестал стыдиться своих слез. Если он не раскроет душу перед этим человеком — так похожим на Айенсиса и на Инрау! — то перед кем же еще?
— Он сказал, что Анасуримбор — Анасуримбор, Келлхус! — вернется перед концом света.
Лицо Келлхуса, на котором никогда прежде не отражалась борьба чувств, потемнело.
— Что ты такое говоришь, Акка?
— А ты не понял? — прошептал Ахкеймион. — Это ты, Келлхус. Тот самый Предвестник! И это означает, что все начинается заново…
«Сейен милостивый!»
— Второй Апокалипсис, Келлхус… Я говорю о Втором Апокалипсисе. Ты — его знак!
Рука Келлхуса соскользнула с плеча Ахкеймиона.
— Но, Акка, это лишено смысла. То, что я здесь, еще ничего не значит. Ничего. Сейчас я здесь, а прежде был в Атритау. А если мой род и вправду уходит корнями в настолько далекое прошлое, как ты утверждаешь, значит, Анасуримбор всегда был здесь, где бы это здесь ни находилось…
Взгляд его помутнел, словно князь Атритау боролся с чем-то незримым. На миг его абсолютное самообладание дало сбой, и Келлхус сделался похож на любого человека, ошеломленного внезапно переменившимися обстоятельствами.
— Это просто… — начал он и умолк, как будто ему не хватило дыхания продолжать.
— Совпадение, — сказал Ахкеймион, прижавшись к его ногам.
Ему почему-то ужасно хотелось обнять Келлхуса, поддержать и успокоить.
— Именно так мне и показалось… Должен признаться, я был потрясен, впервые встретив тебя, но никогда не думал… Это казалось чересчур безумным! Но затем…
— Что — затем?
— Я обнаружил их. Я обнаружил Консульт… В ту ночь, когда вы праздновали победу Пройаса над императором, меня вызвали в Андиаминские Высоты — не кто иной, как сам Икурей Конфас — и привели в катакомбы. Очевидно, они обнаружили шпиона, причем такого, что император был убежден — без колдовства здесь не обошлось. Но колдовство оказалось ни при чем, и человек, которого мне показали, не был обычным шпионом…
— Как так?
— Сперва он назвал меня Чигра — так выглядело имя Сесватхи на агхурзое, искаженном языке шранков. Он каким-то образом разглядел во мне след Сесватхи… Затем он…
Ахкеймион прикусил губу и замотал головой.
— У него не было лица! У него была не плоть, а какая-то мерзость, Келлхус! Шпион, способный в точности подражать облику любого человека, без колдовства и колдовской Метки. Идеальный шпион! Когда-то Консульт убил первого советника императора и подменил его вот этим. Такие… такие существа могут быть где угодно! Здесь, в Священном воинстве, при дворах Великих фракций… Судя по тому, что нам известно, кто-то из них мог сделаться королем!
«Или шрайей…»
— Но почему я-то становлюсь Предвестником?
— Потому что Консульт овладел Древней Наукой. Шранки, башраги, драконы, все мерзости инхороев — это артефакты Текне, Древней Науки, созданной в незапамятные времена, когда Эарвой правили нелюди. Считается, что она была уничтожена, когда Куйара Кимнои стер инхороев с лица земли — еще до того, как был написан Бивень, Келлхус! Но шпионы-оборотни — это нечто новое. Неизвестные ранее артефакты Древней Науки. А раз Консульт заново открыл тайны Текне, есть вероятность, что они знают и как возродить Мог-Фарау…
От этого имени у Ахкеймиона перехватило дыхание, словно от удара в грудь.
— Не-бога, — сказал Келлхус.
Ахкеймион сглотнул и поморщился, как если бы у него болело горло.
— Да, Не-бога…
— И теперь, раз Анасуримбор вернулся…
— Эти домыслы превращаются в уверенность.
Несколько тягостных мгновений Келлхус изучающе глядел на Ахкеймиона; лицо его было непроницаемо.
— И что ты будешь делать?
— Мне поручено лишь наблюдать за Священным воинством, — сказал Ахкеймион. — Но решение все равно принимать мне… И есть еще кое-что, что непрестанно разрывает мое сердце.
— Что же это?
Ахкеймион изо всех сил старался выдержать взгляд ученика, но в его глазах было нечто… нечто, не поддающееся описанию.
— Я не сказал им о тебе, Келлхус. Я не сказал моим братьям, что пророчество Кельмомаса исполнилось. И пока я молчу, я предаю их, Сесватху, себя, — он нервно рассмеялся, — и, может быть, весь мир…
— Но почему? — спросил Келлхус. — Почему ты им не сказал?
Ахкеймион глубоко вздохнул.
— Если я это сделаю, они придут за тобой, Келлхус.
— Ну, может, так будет правильнее…
— Ты не знаешь моих братьев, Келлхус.
Найюр урс Скиоата лежал нагим в предрассветной полутьме, в шатре, который делил с Келлхусом, вглядывался в лицо спящей Серве и кончиком ножа убирал пряди, упавшие ей на лицо. Наконец он отложил нож и провел мозолистыми пальцами по щеке женщины. Та заворочалась, вздохнула и поплотнее закуталась в одеяло. Она так красива. Так похожа на его покинутую жену.
Найюр смотрел на Серве; он был неподвижен, как и девушка, хотя она спала, а он бодрствовал. Все это время снаружи доносились голоса: Келлхус и колдун несли какую-то чушь.
Все происходящее казалось ему чудом. Он не только пересек империю, он еще и плюнул под ноги императору, унизил Икурея Конфаса в присутствии высшего дворянства и получил все права и привилегии айнритийского принца. Теперь он ехал во главе самого огромного войска, какое ему только доводилось видеть. Войска, способного сокрушать города, уничтожать целые народы, убивать бессчетное множество людей. Войска, достойного песен сказителей. Священного воинства.
И воинство это шло на Шайме, цитадель кишаурим. Кишаурим!
Анасуримбор Моэнгхус был кишаурим.
Вопреки непомерным амбициям дунианина, его план, похоже, работал. В мечтах Найюр всегда шел за Моэнгхусом один. Иногда он убивал его молча, иногда — с какими-то словами. Всегда смерти ненавистного врага сопутствовало много крови. Но теперь все эти мечты казались ребяческими фантазиями. Келлхус был прав. Моэнгхус — не тот человек, которого можно просто зарезать в переулке; он наверняка сделался крупной величиной. Властителем. Да разве могло быть иначе? Он ведь дунианин.
Как и его сын, Келлхус.
Кто скажет, насколько велико могущество Моэнгхуса? Конечно же, ему подвластны кишаурим и кианцы. Но есть ли его пешки в Священном воинстве?
Служит ли ему Келлхус?
Послать к ним сына. Есть ли для дунианина лучший способ уничтожить врагов?
Во время советов у Пройаса кастовые дворяне-айнрити уже начали мгновенно замолкать, едва лишь раздавался голос Келлхуса. Они уже наблюдали за ним, когда думали, что он погружен в свои мысли, и шептались, когда думали, что он не слышит. При всем их самомнении, эти вельможи уже считались с ним, словно он обладал чем-то очень нужным. Каким-то образом Келлхус убедил их, что стоит выше обыденности и даже выше необычного. Дело было не только в том, что он заявил, будто, находясь в Атритау, увидел Священную войну во сне, и не только в его гнусной манере говорить так, словно он отец, играющий на слабостях и тщеславии своих детей. Дело было в том, что он говорил. В правде.
— Но Бог благоволит к праведным! — однажды воскликнул во время совета Ингиабан, палатин Кетантейский.
По настоянию Найюра они обсуждали, какую стратегию может применить Скаур, сапатишах Шайгека, для победы над ними.
— Сам Сейен…
— А вы, — перебил его Келлхус, — вы праведны?
В королевском шатре воцарилось странное, бесцельное ожидание.
— Да, мы праведны, — отозвался палатин Кетантейский. — Если нет, то что, во имя Юру, мы здесь делаем?
— Действительно, — сказал Келлхус. — Что мы здесь делаем?
Найюр заметил краем глаза, как лорд Гайдекки повернулся к Ксинему; взгляд у него был обеспокоенный.
Насторожившись, Ингиабан решил тянуть время и пригубил анпоя.
— Поднимаем оружие против язычников. Что же еще?
— Так мы поднимаем оружие против язычников потому, что праведны?
— И потому, что они нечестивы.
Келлхус улыбнулся, сочувственно, но строго.
— «Праведен тот, в ком не находят изъяна на путях Божьих…» Разве не так писал Сейен?
— Да, конечно.
— А кто определяет, есть ли в человеке изъян? Другие люди?
Палатин Кетантейский побледнел.
— Нет, — сказал он. — Только Бог и его пророки.
— Так значит, мы не праведны?
— Да… То есть я хотел сказать — нет…
Сбитый с толку Ингиабан посмотрел на Келлхуса; на лице его читалась ужасающая откровенность.
— Я хотел… Я уже не знаю, что я хотел сказать!
Уступки. Всегда добивайтесь уступок. Накапливайте их.
— Тогда вы понимаете, — сказал Келлхус.
Теперь его голос сделался низким и сверхъестественно гулким и шел словно со всех сторон одновременно.
— Человек никогда не может назвать себя праведным, господин палатин, он может лишь надеяться на это. И именно надежда придает смысл тому, что мы делаем. Когда мы поднимаем оружие против язычников, мы не жрецы перед алтарем, мы — жертвы. Это означает, что нам нечего предложить Богу, и потому мы предлагаем самих себя. Не обманывайтесь. Мы рискуем душами. Мы прыгаем во тьму. Это паломничество — наше жертвоприношение. И лишь впоследствии мы узнаем, выдержали мы это испытание или нет.
Присутствующие загомонили, выражая согласие с Келлхусом.
— Хорошо сказано, Келлхус! — провозгласил Пройас. — Хорошо сказано.
Все умеют смотреть вперед, но Келлхус каким-то образом умудряется видеть дальше прочих. Он словно занимает высоты каждой души. И хотя никто из айнритийских дворян не посмеет заговорить о Келлхусе в таком ключе, они — все они — чувствуют это. Найюр уже видел у них первые признаки благоговейного трепета.
Трепета, делающего людей маленькими и незначительными.
Найюр слишком хорошо знал все эти потаенные чувства. Следить за тем, как Келлхус обрабатывает этих людей, было все равно что наблюдать за позорной записью собственного падения от рук Моэнгхуса. Иногда Найюру казалось, что он сейчас не выдержит и крикнет, так ему хотелось их предостеречь. Иногда Келлхус вел себя так мерзко, что пропасть между скюльвендом и айнрити грозила исчезнуть — особенно когда дело касалось Пройаса. Моэнгхус играл на тех же самых уязвимых местах, на том же тщеславии… Если у Найюра общие беды с этими людьми, сильно ли он от них отличается?
Иногда преступление все равно кажется преступлением, как бы смехотворно и нелепо ни выглядела жертва.
Но лишь иногда. По большей части Найюр просто наблюдал за Келлхусом с холодным недоверием. Он теперь не столько слушал, как говорит дунианин, сколько смотрел, как он рубит, высекает, вырезает и обтачивает, словно этот человек каким-то образом разбил стекло языка и сделал из осколков ножи. Вот гневное слово, чтобы могла начаться размолвка. Вот обеспокоенный взгляд, чтобы можно было подбодрить улыбкой. Вот проницательность, чтобы напомнить — правда может ранить, исцелять или поражать.
Как легко, наверное, было Моэнгхусу! Один зеленый юнец. Одна жена вождя.
В память Найюра вновь вторглись картины степи, застывшей и сухой. Женщины, вцепившиеся в волосы его матери, царапающие ей лицо, бьющие ее камнями и палками. Его мать! Вопящий младенец, которого вытаскивают из якша и швыряют в очищающее пламя, — его белокурый единоутробный брат. Каменные лица мужчин, отворачивающихся от его взгляда…
Неужто он допустит, чтобы все это произошло снова? Неужто он будет стоять в стороне и смотреть? Неужто он…
Все еще лежа рядом с Серве, Найюр опустил глаза и с потрясением осознал, что раз за разом всаживает нож в землю. Белый, словно кость, тростник циновки разорвался, и в ней зияла дыра.
Найюр, тяжело дыша, тряхнул черной гривой. Опять эти мысли — опять!
Угрызения совести? Из-за кого — из-за чужеземцев? Беспокоиться за этих хныкающих павлинов? И в особенности за Пройаса!
«При условии, что прошлое остается сокрытым, — говорил ему Келлхус во время их путешествия через степи Джиюнати, — при условии, что люди уже обмануты, какое это имеет значение?» И в самом деле: какое ему дело до того, что Келлхус дурачит дураков? Найюру было важно: не дурачит ли этот человек его? Вот острое лезвие, от которого непрестанно кровоточили мысли. Действительно ли дунианин говорит правду? Действительно ли намеревается убить своего отца?
«Я еду на смерче!»
Он никогда не сможет об этом забыть. Ненависть — его единственная защита.
А Серве?
Голоса снаружи смолкли. Найюр слышал, как этот нытик, этот дурень-колдун высморкался. Затем приподнялся полог, и в шатер вошел Келлхус. Взгляд его метнулся к Серве, затем к ножу в руке Найюра, потом к лицу варвара.
— Ты слышал, — произнес он на безукоризненном скюльвендском.
У Найюра до сих пор по спине пробегали мурашки, когда Келлхус так говорил.
— Это военный лагерь, — отозвался Найюр. — Многие слышали.
— Нет. Они спят.
Найюр понимал, что спорить бесполезно, — он знал дунианина — и потому ничего не сказал, а принялся копаться в разбросанных вещах, выискивая штаны.
Серве застонала и сбросила одеяло.
— Помнишь, как мы впервые с тобой разговаривали, — тогда, в твоем якше? — спросил Келлхус.
— Конечно, — отозвался Найюр, натягивая штаны. — Я непрестанно проклинаю тот день.
— Этот колдовской камень, который ты бросил мне…
— Ты имеешь в виду хору моего отца?
— Да. Она по-прежнему с тобой?
Найюр внимательно посмотрел на Келлхуса.
— Ты же знаешь, что да.
— Откуда мне знать?
— Ты знаешь.
Найюр молча оделся; Келлхус тем временем разбудил Серве.
— Но тр-р-рубы, — пожаловалась она, пытаясь спрятать голову под одеяло. — Я не слышала труб…
Найюр внезапно расхохотался.
— Опасная работа, — сказал он, перейдя на шейский.
— Какая? — поинтересовался Келлхус.
Насколько мог понять Найюр — в основном из-за Серве. Дунианин знал, что он имеет в виду. Он всегда все знал.
— Убивать колдунов.
Снаружи запели горны.
4111 год Бивня, конец весны, Андиаминские Высоты
Ксерий вылез из ванны и поднялся по мраморным ступеням туда, где его поджидали рабы с полотенцами и душистыми притираниями. Впервые за много дней он ощущал гармонию и благосклонность богов… Он поднял голову и с легким удивлением увидел императрицу-мать, появившуюся из темной ниши.
— Скажите, матушка, — поинтересовался Ксерий, не обращая внимания на ее экстравагантный облик, — это случайность, что вы приходите в самые неподходящие моменты?
Он повернулся к императрице; рабы осторожно обернули полотенцем его чресла.
— Или вам удается вычислить нужное время?
Императрица слегка наклонила голову, словно равная ему.
— Я к тебе с подарком, Ксерий, — сказала она, указав на стоящую рядом черноволосую девушку.
Ее евнух, великан Писатул, эффектным жестом снял с девушки одеяние. Она оказалась белокожей, словно галеотка, — такая же нагая, как император, и почти такая же прекрасная.
Подарки от матери — они подчеркивали вероломство подарков тех, кто не был его данником. На самом деле они вовсе не были подарками как таковыми. Они всегда требовали чего-то взамен.
Ксерий не помнил, когда Истрийя начала приводить к нему мужчин и женщин. У матери был наметанный глаз шлюхи — императору следовало бы поблагодарить ее за это. Она всегда точно угадывала, что доставит ему удовольствие, и это нервировало Ксерия.
— Вы — корыстная ведьма, матушка, — сказал Ксерий, любуясь испуганной девушкой. — Есть ли на свете второй такой же везучий сын?
Но Истрийя сказала лишь:
— Скеаос мертв.
Ксерий мельком взглянул на нее, потом снова перенес внимание на рабов, которые начали натирать его маслом.
— Нечто мертво, — ответил он, сдерживая дрожь. — Но что именно, мы не знаем.
— А почему мне об этом не сказали?
— Я не сомневался, что вы вскорости обо всем узнаете.
Император уселся на стул, и рабы принялись полировать ему ногти и расчесывать волосы, умащивая их благовониями.
— Вы всегда обо всем узнаете, — добавил он.
— Кишаурим, — после паузы сказала императрица.
— Ну конечно же.
— Тогда они знают. Кишаурим знают твои планы.
— Это не имеет значения. Они и так их знали.
— Ксерий, неужто ты стал глупцом? А я-то думала, что ты будешь готов к пересмотру.
— К пересмотру чего, матушка?
— Твоего безумного соглашения с язычниками. Чего же еще?
— Матушка, замолчите!
Ксерий нервно покосился на девушку, но та, похоже, не знала ни единого слова по-шейски.
— Об этом не следует говорить вслух. Никогда больше так не делайте. Вы меня поняли?
— Но кишаурим, Ксерий! Ты только подумай! Все эти годы — рядом с тобой, под обличьем Скеаоса! Единственный доверенный советник императора! Злой язык, постоянно отравляющий совещания своим кудахтаньем. Все эти годы, Ксерий!
Ксерий думал об этом: точнее говоря, последние дни он почти ни о чем другом и думать не мог. По ночам ему снились лица — лица, подобные сжимающемуся кулаку. Гаэнкельти, умерший так… так нелепо.
А был еще вопрос, который настолько его ошеломил, что теперь постоянно маячил на краю сознания, невзирая на всю скуку повседневных обязанностей.
«А другие? Другие такие же…»
— Ваша нотация вполне обоснованна, матушка. Вы знаете, что во всем есть баланс, который можно нарушить. Вы сами меня этому учили.
Но императрица не успокоилась. Старая сука никогда не унималась.
— Кишаурим держат в когтях твое сердце, Ксерий. Через тебя они присосались к душе империи. И ты допустишь, чтобы это беспримерное оскорбление осталось безнаказанным теперь, когда боги послали тебе орудие возмездия? Ты по-прежнему хочешь остановить продвижение Священного воинства? Если ты пощадишь Шайме, Ксерий, ты пощадишь кишаурим.
— Молчать! — раздался оглушительный вопль.
Икурей Истрийя неистово рассмеялась.
— Мой голый сын, — сказала она. — Мой бедный… голый… сын.
Ксерий вскочил со стула и растолкал окружающих его рабов; вид у него был уязвленный и вместе с тем недоуменный.
— Это не похоже на вас, матушка. Вы никогда прежде не относились к числу людей, трясущихся при мысли о загробных муках. Может, вы просто стареете? Расскажите, каково стоять на краю пропасти? Чувствовать, что чрево ваше иссыхает, видеть, как во взглядах ваших любовников появляется нерешительность — из-за тайного отвращения…
Он ударил, повинуясь импульсу и метя в ее самолюбие — это был единственный известный ему способ уязвить мать.
Но Истрийя и виду не подала, что ее задели слова сына.
— Пришло время, Ксерий, когда не следует заботиться о зрителях. Такие спектакли сродни дворцовым церемониям — они нужны только молодым и глупым. Действие, Ксерий. Действие — вот главное украшение всего.
— Тогда зачем вам косметика, матушка? Зачем ваши личные рабы разрисовывают вас, словно старую шлюху к пиру?
Истрийя безучастно взглянула на него.
— Какой чудовищный сын… — прошептала она.
— Такой же чудовищный, как его мать, — добавил Ксерий с жестоким смехом. — А скажите-ка… Теперь, когда ваша развратная жизнь почти завершилась, вы решили сыграть роль раскаивающейся матери?
Истрийя отвела взгляд и стала смотреть на ванну, над которой поднимался парок.
— Раскаяние неминуемо, Ксерий.
Эти слова поразили его.
— Возможно… возможно, и так, — ответил император.
В его душе шевельнулась жалость. Ведь в свое время они с матерью были так… близки. Но Истрийя могла быть близка только с теми, кем владела. Им же она давно перестала управлять.
Эта мысль тронула Ксерия. Потерять такого богоподобного сына…
— Что, матушка, вечно мы обмениваемся колкостями? Ладно, я сожалею. И хочу, чтобы вы об этом знали.
Он задумчиво посмотрел на императрицу, пожевал нижнюю губу.
— Но попробуйте только еще раз заговорить о Шайме, и вам несдобровать. Вы меня поняли?
— Поняла, Ксерий.
Их глаза встретились. Император прочел во взгляде Истрийи злобу, но проигнорировал ее. Когда имеешь дело с императрицей, уступка — любая уступка — уже триумф.
Вместо этого Ксерий принялся рассматривать девушку, ее упругие груди, высокие, словно крылья ласточки, мягкие завитки волос в паху. Почувствовав возбуждение, он поднял руку, и девушка неохотно приблизилась. Ксерий подвел ее к ближайшему ложу и растянулся на нем.
— Ты знаешь, что нужно делать? — поинтересовался он.
Девушка подняла стройную ножку и оседлала его. По щекам ее катились слезы. Дрожа, она опустилась на его член…
У Ксерия перехватило дух. Он словно погрузился в теплый персик. Да, мир порождает не только всякую мерзость вроде кишаурим, но еще и подобные сладкие плоды.
Старая императрица развернулась, собираясь уходить.
— Матушка, почему бы вам не остаться? — низким голосом окликнул ее Ксерий. — Посмотрите, как ваш сын наслаждается подарком.
Истрийя заколебалась.
— Нет, Ксерий.
— Но вы должны, матушка. Доставить удовольствие императору — дело нелегкое. Дайте ей наставления.
Последовала пауза, нарушаемая лишь всхлипами девушки.
— Конечно, сын мой, — наконец сказала Истрийя и величественно приблизилась к ложу.
Застывшая девушка вздрогнула, когда Истрийя схватила ее руку и передвинула ниже, к мошонке Ксерия.
— Мягче, дитя, — проворковала она. — Тс-с-с, не плачь…
Ксерий застонал и выгнулся под нею, и засмеялся, когда девушка пискнула от боли. Он взглянул в разрисованное лицо матери, маячившее над плечом девушки — белым, белее фарфора, — и его обожгла давняя, тайная дрожь наслаждения. Он снова почувствовал себя беспечным ребенком. Все было прекрасно. Боги воистину благосклонны…
— Скажи мне, Ксерий, — хрипло спросила мать, — а как тебе удалось раскрыть Скеаоса?
Глава 3. Асгилиох
«Утверждение „я — центр всего“ никогда не следует излагать словами. Это исходная посылка, на которой основана вся уверенность и все сомнения».
Айенсис, «Третья аналитика рода человеческого»«Следи за довольством твоих врагов и унынием твоих любимых».
Айнонская пословица4111 год Бивня, начало лета, крепость Асгилиох
Впервые на памяти ныне живущих землетрясение поразило отрог Унарас и нагорья Инунара. За сотни миль оттуда, на шумных, многолюдных базарах Гиельгата воцарилась тишина, когда товары заплясали на крюках, а со стен посыпалась штукатурка. Мулы принялись лягаться, в страхе закатывая глаза. Завыли собаки.
Но в Асгилиохе, что с незапамятных времен был южным оплотом жителей Киранейских равнин, люди валились, не в силах устоять на ногах, стены качались, словно пальмовые листья, а древняя цитадель Руом, пережившая королей Шайгека, драконов Цурумаха и не менее трех фанимских джихадов, рухнула, подняв огромный столб пыли. Когда выжившие вытаскивали тела из-под обломков, они поняли, что горюют по камню больше, чем по плоти. «О крепкостенный Руом! — рыдали они, не в силах поверить в случившееся. — Могучий Бык Асгилиоха пал!» Для многих в империи Руом был тотемом. Цитадель Асгилиоха не подвергалась разрушениям со времен Ингушаторепа II, древнего короля-бога Шайгека, — тогда юг в последний раз завоевал Киранейские равнины.
Первые Люди Бивня, отряд мчавшихся во весь опор галеотских кавалеристов под командованием Атьеаури, племянника Коифуса Саубона, добрались до Асгилиоха через четыре дня. Они обнаружили, что город лежит в руинах, а его потрепанный гарнизон уверен, что Священное воинство обречено. Нерсей Пройас со своими конрийцами прибыл на следующий день, еще через два дня — Икурей Конфас с имперскими колоннами и шрайские рыцари под командованием Инхейри Готиана. Пройас прошел по Согианскому тракту вдоль южного побережья, а затем — через Инунарское нагорье, а Конфас и Готиан воспользовались так называемой Запретной дорогой, которую построили нансурцы, чтобы быстро перебрасывать войска от фаним к скюльвендам. Из тех Великих Имен, что добирались через центр провинции, первым прибыл Коифус Саубон со своими галеотами — почти через неделю после Конфаса. Готьелк с тидонцами появился вскоре после него, а за ним — Скайельт и его угрюмые туньеры.
Об айнонах не известно было ничего, кроме того, что они еще при выступлении задержались на полдня — то ли из-за численности, то ли из-за Багряных Шпилей и их огромных обозов. Потому большая часть Священного воинства встала лагерем на бесплодных склонах под стенами Асгилиоха и принялась ждать, обмениваясь слухами и предчувствуя беду. Часовым, стоящим на стенах города, это казалось великим переселением народов — наподобие того, что творилось во времена Бивня.
Когда же стало очевидно, что может пройти еще много дней, если не недель, прежде чем айноны присоединятся к ним, Нерсей Пройас созвал совет Великих и Малых Имен. Из-за размеров собрания его пришлось проводить во внутреннем дворе асгилиохского замка, почти что на руинах Руома. Великие Имена расположились за взявшимся невесть откуда столом, а прочие пышно разряженные участники расселись на груде камней, образовавших своеобразный амфитеатр.
Большая часть утра ушла на подобающие ритуалы и жертвоприношения: совет заседал в полном составе впервые с тех пор, как армия ушла из Момемна. День был потрачен на ссоры: военачальники грызлись из-за того, стоит ли считать разрушение Руома предзнаменованием катастрофы, или же оно ничего не означает. Саубон заявил, что Священному воинству следует немедленно сняться и через Врата Юга уходить в Гедею.
— Это место подавляет нас! — воскликнул он, указывая на развалины. — Мы и спим, и бодрствуем в тени смерти!
Он настаивал, что Руом — нансурское суеверие, «традиционный предрассудок надушенных и изнеженных». Чем дольше Священное воинство будет находиться рядом с его руинами, тем больше попадет под влияние здешних мифов.
Некоторые увидели в его доводах здравый смысл, но многие сочли их безумными. Без Багряных Шпилей, как напомнил галеотскому принцу Икурей Конфас, Священное воинство будет отдано на милость кишаурим.
— Согласно донесениям шпионов моего дяди, Скаур собрал всех вельмож Шайгека и поджидает нас в Гедее. Кто поручится, что с ними нет кишаурим?
Пройас и его советник-скюльвенд, Найюр урс Скиоата, согласились с Конфасом: выступать, не дождавшись айнонов, — выдающаяся глупость. Но, похоже, никакие доводы не могли поколебать уверенности Саубона и его союзников.
День уже догорал, солнце склонилось к западным башням, а участники совета так и не сошлись ни на чем, кроме самого очевидного: скажем, разослать конников на поиски айнонов или отправить Атьеаури на разведку в Гедею. Было похоже, что столь недавно собравшееся Священное воинство готово развалиться. Пройас погрузился в молчание и спрятал лицо в ладонях. Лишь Конфас по-прежнему продолжал спорить с Саубоном — если, конечно, ожесточенный обмен оскорблениями можно назвать спором.
А затем из рядов зрителей поднялся нищий князь Атритау, Келлхус, и воскликнул:
— Вы неверно истолковали значение увиденного, все вы! Утрата Руома — не случайность, но и не проклятие!
Саубон расхохотался и крикнул в ответ:
— Руом — это талисман против язычников, так, что ли?
— Да, — ответил князь Атритау. — До тех пор пока цитадель стояла, мы могли вернуться. Но теперь… Разве вы не видите? За этими горами люди собрались под знамена лжепророка. Мы стоим на берегу языческого моря. Моря язычников!
Он умолк, поочередно обводя взглядом все Великие Имена.
— Без Руома возврата нет… Бог сжег наши корабли.
После этого было единодушно принято решение: Священное воинство будет дожидаться айнонов и Багряных Шпилей.
Вдалеке от Асгилиоха, в своем большом шатре Элеазар, великий магистр Багряных Шпилей, откинулся на спинку кресла — единственной роскоши, которую он позволил себе в этом безумном путешествии. Личные рабы мыли ему ноги в тазу с горячей водой. Полумрак шатра рассеивали три светильника. Покои наполнились клубами дыма, и по холсту стен плыли тени, превращая его в подобие испятнанной водой рукописи.
Путешествие оказалось не таким тяжелым, как он боялся, — во всяком случае, до сих пор. И тем не менее вечера, подобные нынешнему, неизменно вызывали у него ощущение постыдного облегчения. Сперва Элеазар думал, что причина тому — его возраст: в последний раз он выезжал за границы своих владений более двадцати лет назад. Старое корыто, думал он, глядя, как в вечерних сумерках его люди ставят шатры и палатки. Старое разбитое корыто.
Но затем магистр припомнил годы, когда бродил от города к городу. И понял, что страдает сейчас не от усталости. Элеазар восстановил в памяти, как лежал у костра, под звездным небом, и не было ни огромного шатра, укрывающего его от непогоды, ни шелковых подушек, ласкающих щеку, — лишь твердая земля да изнеможение путника, которому наконец-то удалось прилечь. Вот это была настоящая усталость! А сейчас? Сейчас его несут в паланкине, его окружают десятки рабов…
Магистр осознал, что облегчение, которое он чувствует каждый вечер, связано не с утомлением, а с противостоянием…
Попросту говоря, с Шайме.
Великие решения, размышлял магистр, оцениваются не только по их последствиям, но и по их завершенности. Иногда Элеазар буквально ощущал это как нечто осязаемое: неизбранный путь, ответвление истории, в котором Багряные Шпили отвергли оскорбительное предложение Майтанета и остались наблюдать за Священной войной со стороны. Этого ответвления не было на самом деле, и все же оно существовало, как ночь страсти может существовать в молящем взгляде рабыни. Элеазар видел его во всем: в нервном молчании, во взглядах, которыми обменивались адепты, в неослабевающем цинизме Ийока, в хмурой гримасе генерала Сетпанареса. И казалось, оно насмехается над магистром, так же как избранный им путь, насмехается, суля опасность.
Присоединиться к Священному воинству! Элеазар привык иметь дело с вещами нереальными; это было его ремеслом. Но нереальность такого масштаба — присутствие Багряных Шпилей здесь — было почти невозможно переварить. Сама мысль об этом казалась иронией, но не той иронией, которой наслаждаются культурные люди — айноны в особенности, — а скорее той, что беспрестанно воспроизводит саму себя и превращает уверенность в зыбкую нерешительность.
Но на этом сложности не кончались: дом Икуреев плел заговоры с язычниками; Завет вел тайную гностическую игру; все до единого агенты Шпилей в Сумне были раскрыты и казнены — хотя они, казалось, находились вне опасности до того, как Багряные Шпили вступили на территорию империи. Даже Майтанет, Великий шрайя Тысячи Храмов, и тот что-то мудрил.
Небольшое чудо Шайме действовало угнетающе. Небольшое чудо каждую ночь казалось передышкой.
Элеазар вздохнул; Мьяза, новая фаворитка, принялась натирать его правую ногу теплым ароматическим маслом.
«Неважно, — подумал он. — Сожаление — наркотик для глупцов».
Он запрокинул голову, наблюдая за девушкой из-под полуопущенных век.
— Мьяза, — сказал он, ухмыльнувшись в ответ на ее застенчивую улыбку. — М-м-мьяз-з-за-а-а…
— Хануману Элеа-з-з-за-а-ар, — выдохнула она в ответ.
Дерзкая девчонка! Прочие рабыни потрясенно ахнули, затем захихикали.
«Вот паршивка!» — подумал Элеазар и потянулся сгрести ее в охапку. Но вид одетого в черное Ушера, что ступил на ковер и опустился на колени, остановил магистра.
Судя по всему, кто-то желает видеть его. Наверное, генерал Сетпанарес снова пришел жаловаться на скорость продвижения войска — а на самом деле на медлительность Багряных Шпилей. Дескать, так айноны доберутся до Асгилиоха последними. Ну и какое это имеет значение? Пускай их подождут.
— В чем дело? — неприязненно поинтересовался магистр.
Молодой человек поднял голову.
— Великий магистр, к вам проситель.
— В такое время? Кто?
Ушер заколебался.
— Маг из школы Мисунсай, великий магистр. Некто Скалетей.
Мисунсаи? Продажные твари — все до единого.
— Чего ему надо? — спросил Элеазар.
У него противно засосало под ложечкой. Ну вот, новые проблемы.
— Он толком не объяснил, — отозвался Ушер. — Сказал только, что прискакал сюда из Момемна, чтобы побеседовать с вами по неотложному делу.
— Сводник, — буркнул Элеазар. — Наемник сраный. Ладно, помурыжь его немного, а потом пускай заходит.
Ушер вышел. Рабы вытерли ноги Элеазара и надели на них сандалии. Затем он их отпустил. Когда последний раб покинул шатер, в покой вошел этот тип, Скалетей, в сопровождении двух вооруженных джаврегов.
— Оставьте нас, — велел Элеазар воинам-рабам.
Они согнулись в поклоне и удалились.
Элеазар, не вставая из кресла, принялся разглядывать наемника. Тот был чисто выбрит на нансурский манер и облачен в скромную дорожную одежду: обтягивающие штаны, простая коричневая рубаха и кожаные сандалии. Похоже было, что он дрожит. Неудивительно. В конце концов, он стоит перед самим великим магистром Багряных Шпилей.
— Это чрезвычайно дерзко, мой брат-наемник, — сказал Элеазар. — Для подобных сделок есть свои каналы.
— Прошу меня простить, великий магистр, но для того, что я… что у меня имеется на продажу, никакие каналы не годятся.
Он поспешно добавил:
— Я… я — пералог белого пояса из ордена Мисунсай, великий магистр, нанят императорской фамилией в качестве аудитора. Император время от времени пользуется моими услугами для подтверждения неких измерений, производимых Имперским Сайком…
Элеазар из вежливости стерпел эту тираду.
— Продолжай.
— Не м-могли бы мы… э-э…
— Не могли бы мы что?
— Не могли бы мы обсудить вопрос оплаты?
Ну, естественно. Кастовый лакей. Сутент. Никакого представления о правилах игры. Но джнан, как любят говорить айноны, не требует согласия. Если играет один, играет и другой.
Вместо ответа Элеазар начал рассматривать длинные накрашенные ногти и рассеянно полировать их об одежду. Потом он поднял взгляд, будто поймал посетителя на мелкой неучтивости, и принялся изучать наемника как человек, отягощенный обязанностью решать вопросы жизни и смерти.
От сочетания молчания и внимательного разглядывания посетитель мгновенно потерял самообладание.
— П-простите м-мне м-мое рвение, великий магистр, — заикаясь, пробормотал Скалетей и рухнул на колени. — Знание и алчность слишком часто пришпоривают друг друга.
Хорошо сказано. У этого человека имеется кое-какой ум.
— Действительно, пришпоривают, — сказал Элеазар. — Но, возможно, тебе следует предоставить мне решать, кто из них куда поскачет.
— Конечно, великий магистр!.. Но…
— Никаких «но». Выкладывай.
— Конечно, великий магистр, — повторил Скалетей. — Это касается фанимских колдунов-жрецов, кишаурим… У них появилась новая разновидность шпионов.
Позабыв о манерах, Элеазар подался вперед.
— Говори дальше.
— П-простите, великий магистр, — выпалил наемник, — н-но я должен получить плату, прежде чем говорить дальше!
Нет, все-таки он дурак. Даже для адептов время всегда оставалось самым дорогим товаром. Скалетею следовало бы это знать. Элеазар вздохнул, потом произнес первое слово. Его глаза и рот вспыхнули фосфоресцирующим светом.
— Нет! — завопил Скалетей. — Пожалуйста! Я скажу! Не надо…
Элеазар остановился, но недосказанное заклинание продолжало эхом отдаваться в шатре. Тишина, когда она все-таки наступила, показалась абсолютной.
— Н-нак-кануне т-того дня, к-когда Священное воинство выступило из Момемна, — начал мисунсай, — меня вызвали в катакомбы, чтобы я пронаблюдал за допросом шпиона — так они сказали. По-видимому, первый советник императора…
— Скеаос?! — воскликнул Элеазар. — Скеаос — шпион?!
Мисунсай заколебался, облизал губы.
— Не Скеаос… Некто, прикидывающийся им. Или нечто…
Элеазар кивнул.
— Тебе удалось заинтересовать меня, Скалетей.
— При допросе присутствовал сам император. Он громогласно потребовал, чтобы я опроверг выводы Сайка, чтобы я сказал, будто тут замешано колдовство… Первый советник, как вам известно, человек старый, однако же, когда его арестовывали, он убил или покалечил несколько человек из эотской гвардии — как мне сказали, голыми руками. Император… э-э… разнервничался.
— Ну и что же ты увидел, аудитор? Была ли на нем Метка?
— Нет. На нем не было ни малейшего отпечатка колдовства. Но когда я сказал об этом императору, тот обвинил меня в сговоре с Сайком. Затем появился адепт Завета. Его привел Икурей Конфас…
— Адепт Завета? — перебил Элеазар. — Ты имеешь в виду Друза Ахкеймиона?
Скалетей сглотнул.
— Вы его знаете? Мы, мисунсаи, давно уже не интересуемся Заветом. Так ваше преосвященство утве…
— Ты хотел продать сведения, Скалетей, или купить их?
Мисунсай нервно улыбнулся.
— Продать, конечно же.
— Тогда рассказывай, что произошло дальше.
— Адепт Завета подтвердил мои выводы. Император обвинил его во лжи. Как я уже сказал, император… э… э…
— Разнервничался.
— Да. Но этот адепт Завета, Ахкеймион, тоже разволновался. Они заспорили…
— Заспорили? — это почему-то не удивило Элеазара. — О чем?
Мисунсай покачал головой.
— Не помню. Кажется, речь шла о страхе. А потом первый советник заговорил с Ахкеймионом — на языке, которого я никогда прежде не слышал. Он узнал его.
— Узнал? Ты уверен?
— Абсолютно. Скеаос, чем бы он ни был, узнал Друза Ахкеймиона. А потом он — оно — затряслось. Мы смотрели на него в полном изумлении, а оно вырвало цепи из стены… Освободилось!
— Друз Ахкеймион ему помогал?
— Нет. Он перепугался точно так же, как и все остальные, если не больше. Началась суматоха, и это существо успело убить не то двоих, не то троих, прежде чем вмешался адепт Сайка и сжег его. Теперь я припоминаю, что он его сжег, невзирая на возражения Ахкеймиона. Вышел из себя.
— Ахкеймион хотел вступиться за это существо?
— Он даже пытался закрыть первого советника своим телом.
— Ты уверен?
— Абсолютно. Я никогда этого не забуду, потому что именно тогда лицо первого советника… его лицо… оно… отделилось.
— Отделилось?
— Или развернулось… Оно просто… просто раскрылось, как кулак, но… Я не знаю, как это еще можно описать.
— Как кулак?
«Этого не может быть! Он лжет!»
— Вы мне не верите. Пожалуйста, поверьте, ваше преосвященство! Шпион был копией советника, двойником — без Метки! А это значит, что он — артефакт Псухе. Кишаурим. Это значит, что у них есть шпионы, которых невозможно распознать.
По телу Элеазара разлилось оцепенение.
«Я подверг мою школу риску».
— Но их искусство слишком грубое…
Скалетей как-то странно воодушевился.
— И тем не менее другого объяснения я не вижу. Они отыскали способ создавать идеальных шпионов… Подумайте только! Как долго они могли нашептывать все, что захотят, на ухо императору? Императору! Кто знает, сколько…
Он умолк — очевидно, осознал, что слишком близко подобрался к сути дела.
— Вот почему я прискакал сюда в великой спешке. Чтобы предупредить вас.
У Элеазара пересохло во рту. Он попытался сглотнуть.
— Ты должен остаться с нами, чтобы мы могли… расспросить тебя поподробнее.
Лицо мисунсая превратилось в маску ужаса.
— Б-боюсь, это н-невозможно, ваше преосвященство. Меня ждут при дворе.
Элеазар сцепил руки, чтобы скрыть дрожь.
— Отныне, Скалетей, ты работаешь на Багряных Шпилей. Твой контракт с домом Икуреев расторгнут.
— Э-э, в-ваше преосвященство, я — прах перед вашей славой и могуществом — ваш раб! — но боюсь, что этот контракт нельзя расторгнуть по приказанию. Д-даже по вашему. Т-так что если я м-могу получить м-мою, м-мою…
— Ах да. Твоя плата.
Элеазар строго посмотрел на мисунсая и улыбнулся с обманчивой снисходительностью. Несчастный глупец. Думает, что недооценил свою информацию. Это стоит куда больше золота. Намного больше.
Лицо мисунсая сделалось непроницаемым.
— Полагаю, что не могу более медлить с отъездом.
— Ты пола…
И тут Элеазар едва не стал покойником. Скалетей начал свой Напев одновременно с репликой Элеазара, выиграв по времени один удар сердца — и этого почти хватило.
Молния прорезала воздух, с грохотом ударилась об оберег-зеркало великого магистра и отскочила. На миг ослепший Элеазар откинулся назад вместе с креслом и грохнулся на ковер. Он запел, даже не успев подняться на четвереньки.
Воздух наполнился всполохами пламени. Пляска огненных птиц…
Наемник завопил и в спешке принялся читать заклинание, чтобы усилить свои обереги. Но для хануману Элеазара, великого магистра Багряных Шпилей, он был детской загадкой, решить которую не стоило труда. На Скалетея посыпались пылающие птицы, одна за другой. Поочередно они раскололи все его обереги. Затем из воздуха появились цепи; они пронзили руки и плечи мисунсая, пересеклись, словно ниточки в детской игре «Паутинка», и Скалетей повис в воздухе.
Мисунсай закричал.
Джавреги влетели в покои с оружием наголо и сразу же остановились в ужасе, увидев, что случилось с мисунсаем. Элеазар гневно рыкнул на них, велев убираться прочь.
Тут он заметил своего главного шпиона, Ийока; тот работал локтями, прокладывая себе дорогу среди отступающих воинов-рабов. Заядлый приверженец чанва спотыкался о ковры; его покрасневшие глаза были широко распахнуты, распухшие губы приоткрыты от возбуждения. Элеазар не припоминал, чтобы ему доводилось видеть на лице Ийока настолько сильные эмоции — во всяком случае, после того рокового нападения кишаурим, десять лет назад, перед…
Перед объявлением войны.
— Эли! — воскликнул Ийок, глядя на пронзенную, корчащуюся фигуру Скалетея. — Это что такое?
Великий магистр рассеянно затоптал небольшой костерок на ковре.
— Подарок для тебя, старина. Еще одна загадка, которой следует найти решение. Еще одна угроза…
— Угроза? — возмутился Ийок. — Эли, что это значит? Что произошло?
Элеазар рассматривал вопящего мисунсая с видом человека, которого отвлекают от работы.
«Что мне делать?»
— Тот адепт Завета, — отрывисто спросил Элеазар, поворачиваясь к Ийоку. — Где он сейчас?
— Движется вместе с Пройасом. Во всяком случае, так я полагаю… Эли! Скажи…
— Друза Ахкеймиона необходимо доставить ко мне, — продолжал Элеазар. — Доставить ко мне или убить.
Лицо Ийока потемнело.
— Такие вещи требуют времени… планирования… Он же адепт Завета, Эли! Не говоря уже о том, что могут последовать ответные действия… Мы что, воюем с кишаурим и с Заветом одновременно? Ну нет, ничего подобного не будет, пока я не пойму, что происходит! Это мое право!
Элеазар поднял глаза на Ийока, и во взгляде его было такое же беспокойство. Его, наверное, впервые не пробрал озноб при виде полупрозрачного черепа друга. Напротив, это зрелище успокоило его. «Ийок! Это ты, ведь правда?»
— Это покажется неразумным… — начал Элеазар.
— Скорее откровенным бредом.
— Поверь, старый друг. Это не так. Необходимость делает разумным все.
— Да что за увертки?! — вскричал Ийок.
— Терпение… — отозвался Элеазар.
К нему постепенно возвращалось достоинство, приличествующее великому магистру.
— Для начала смирись с моим безумием, Ийок… А потом послушай, почему на самом деле я не сошел с ума. Но сперва позволь ощупать твое лицо.
— Зачем? — изумился Ийок.
Скалетей взвыл.
— Мне нужно знать, что под ним есть кости… Такие, как полагается.
Впервые с тех пор, как они ушли из Момемна, Ахкеймион остался у вечернего костра один. Пройас устраивал пиршество для Великих Имен, и туда были приглашены все, кроме колдуна и рабов. Потому Ахкеймион праздновал сам с собой. Он пил с солнцем, прилегшим на склоны гор, с Асгилиохом и его разрушенными башнями, с лагерем Священного воинства, чьи бесчисленные костры мерцали в сумерках. Он пил до тех пор, пока голова не поникла, а мысли не превратились в мешанину доводов, возражений и сожалений.
Рассказывать Келлхусу о стоящей перед ним дилемме было безрассудством — теперь он это понимал.
Со времен той исповеди минуло две недели. За это время конрийское войско распрощалось с брусчаткой Согианского тракта и свернуло на рыжие, поросшие кустарником склоны нагорья Инунара. Ахкеймион шагал рядом с Келлхусом, как и прежде, отвечая на его вопросы, размышляя над его замечаниями — и поражаясь, постоянно поражаясь интеллекту молодого человека. На первый взгляд все казалось точно таким же, не считая исчезнувшей дороги, по обочине которой они шли раньше. Но в действительности изменилось все.
Ахкеймион думал, что разговор с Келлхусом облегчит его ношу, что честность избавит его от стыда. Глупец! Как он мог вообразить, будто его мучает тайность дилеммы, а не сама ее суть? Тайность была скорее целебна. Теперь же всякий раз, когда они с Келлхусом обменивались взглядами, Ахкеймион видел в его глазах отражение своей боли — и иногда ему начинало казаться, будто он задыхается. Он не только не уменьшил свою ношу — он удвоил ее.
— А что, — внезапно спросил Келлхус, — сделает Завет, если ты им расскажешь?
— Заберет тебя в Атьерс. Посадит в темницу. Станет задавать вопросы… Теперь, когда известно, что Консульт пошел вразнос, они пойдут на все, чтобы восстановить хотя бы видимость контроля. Они никогда не позволят тебе ускользнуть.
— Тогда ты не должен ничего им говорить, Акка!
Его слова полны были гнева и тревоги; его безрассудство напомнило Ахкеймиону об Инрау.
— А Второй Апокалипсис? Как быть с ним?
— А ты уверен? Достаточно уверен, чтобы рисковать чужой жизнью?
Жизнь за мир. Или мир за жизнь.
— Ты не понимаешь! Ставки, Келлхус! Подумай о том, что поставлено на кон!
— Как я могу думать о чем-то другом? — парировал Келлхус.
Ахкеймион слышал, будто жрицы Ятвера всегда тащат к алтарю две жертвы — обычно молодых барашков; одного — чтобы положить под нож, а второго — как свидетеля священного пути. Таким образом, каждое животное, брошенное на алтарь, смутно понимало, что происходит. Для ятверианцев недостаточно было ритуала как такового: им требовалось осознание. Один барашек стоит десяти быков, — так когда-то сказала ему жрица, словно у нее была возможность судить о подобных вещах.
Один барашек стоит десяти быков. Тогда Ахкеймион рассмеялся. Теперь он понял.
Прежде эта дилемма бросала его в мучительную дрожь, словно он совершал тайный грех. Но теперь, когда Келлхус знал, она стала подавлять Ахкеймиона. Прежде ему удавалось хотя бы время от времени отдыхать в обществе этого незаурядного человека. Он мог притворяться обычным наставником. Но теперь, когда дилемма встала между ними, ощущение мучительного выбора неотвязно преследовало его, вне зависимости от того, отводил Ахкеймион взгляд или нет. Не было больше никакого притворства, никакой «забывчивости». Только острый нож бездействия.
И вино. Сладкое неразбавленное вино.
Когда они прибыли в полуразрушенный Асгилиох, Ахкеймион, наверное, от безысходности, начал учить Келлхуса алгебре, геометрии и логике. Есть ли лучший способ отвлечь душу от терзаний, заменить уверенностью мучительные сомнения? Пока другие наблюдали за ними со стороны, смеялись и чесали в затылках, Ахкеймион с Келлхусом часами напролет царапали доказательства прямо на земле. Через несколько дней князь Атритау вывел новые аксиомы и принялся сочинять теоремы и формулы, которые никогда не приходили Ахкеймиону в голову и уж подавно не встречались в классических текстах. Келлхус даже доказал ему — доказал! — что логике, положенной Айенсисом в основу «Силлогистики», предшествует некая более глубинная логика, та, что опирается на связи между целыми предложениями, а не только между подлежащим и сказуемым. Две тысячи лет постижения и проникновения в суть вещей оказались перечеркнуты пыльной палочкой в руке Келлхуса!
— Но как?! — воскликнул Ахкеймион. — Как!
Келлхус пожал плечами.
— Просто я это вижу.
«Он здесь, — пришла Ахкеймиону в голову абсурдная мысль, — но он одновременно и не со мной…» Если все люди смотрят на мир с того места, на котором стоят, значит, Келлхус стоит где-то в отдалении от прочих. Но не находится ли это место за пределами понимания Друза Ахкеймиона?
Все тот же вопрос. Надо выпить еще.
Ахкеймион покопался в сумке и вытащил схему, которую набросал по дороге из Сумны в Момемн. Он поднес ее к огню и поморгал, пытаясь сфокусироваться на пергаменте. Все надписи были соединены между собою, не считая одной-единственной.
АНАСУРИМБОР КЕЛЛХУС.
Взаимосвязи. Все сводилось к взаимосвязям, точно так же, как в арифметике или логике. Ахкеймион нарисовал то, в чем не сомневался, — например, связь между императором и Консультом, и то, о чем мог только догадываться, — связь между Майтанетом и Инрау. Тонкие линии: одна — проникновение Консульта к императорскому двору, вторая — убийство Инрау, третья — война Багряных Шпилей против кишаурим, четвертая — поход Священного воинства, и так далее. Чернильные штрихи, обозначающие взаимосвязи. Тонкий черный скелет.
Но куда вписать Келлхуса? Где его место?
Ахкеймион нервно рассмеялся, борясь с желанием швырнуть пергамент в огонь. Дым. Быть может, все эти связи — не более чем дым. Дым, а не чернила. Трудно разглядеть и невозможно ухватить. Не в том ли проблема? Глобальная проблема, касающаяся всего на свете?
Мысль о дыме заставила Ахкеймиона подняться на ноги. Он покачнулся, потом наклонился за сумкой. Снова задумался, не бросить ли схему в костер, но не стал — у него был богатый опыт совершенных спьяну ошибок — и положил пергамент к прочим вещам.
С сумкой на одном плече и Ксинемовым бурдюком на другом Ахкеймион побрел во тьму, спотыкаясь, смеясь про себя и думая: «Да, дым… Мне нужен дым». Гашиш.
А почему бы и нет? Все равно скоро конец света.
Когда солнце село за горы Унарас, каждый костер превратился в круг света, а весь лагерь — в черную ткань с рассыпанными по ней золотыми монетами. Поскольку конрийцы прибыли в числе первых, они обосновались на холмах у стен Асгилиоха, поближе к воде. В результате Ахкеймион шагал все вниз и вниз, словно спускался в преисподнюю.
Он шел и спотыкался, исследуя артерии темных проходов между шатрами. Много кто попадался ему на пути: пьянствующие компании; солдаты, бродящие в поисках отхожего места; рабы, спешащие с поручениями, и даже жрец Гильгаоала, который что-то монотонно читал нараспев и помахивал тушкой ястреба, висящей на кожаном шнуре. Время от времени Ахкеймион замедлял шаг, смотрел на грубые лица людей, теснящихся у каждого костра, смеялся над их ужимками или размышлял над хмурыми взглядами. Он наблюдал, как они пыжатся и расхаживают взад-вперед, как бьют себя в грудь и похваляются друг перед другом. Скоро они обрушатся на язычников. Скоро они сойдутся с ненавистным врагом. «Бог сжег наши корабли!» — взревел какой-то галеот с голым торсом, сперва на шейском, потом на родном языке. «Воссен хэт Вотта грефеарса!»
Иногда Ахкеймион останавливался и вглядывался в темноту за спиной. Старая привычка.
Вскоре он устал и почти протрезвел. Он надеялся, что Судьба, Ананке, приведет его к проституткам, путешествующим вместе с армией; в конце концов, ее тоже частенько называют блудницей. Но она, как обычно, подвела — вот продажная дрянь. Ахкеймион набрался наглости и стал подходить к кострам, спрашивая дорогу.
— Это ты зря, приятель, — сказал ему на одной стоянке уже немолодой мужчина, у которого не хватало передних зубов. — Сейчас гон только у мулов. У быков и у мулов.
— Это хорошо, — сказал Ахкеймион, ухватившись за пах на тидонский манер. — По крайней мере, размеры подходящие.
Старик и его товарищи расхохотались. Ахкеймион подмигнул им и приложился к бурдюку.
— Ну, тогда иди туда, — крикнул какой-то остряк, указывая в темноту. — Надеюсь, у твоей задницы глубокие карманы!
Ахкеймион поперхнулся, да так, что вино пошло носом, и несколько мгновений стоял, пытаясь откашляться. Это так всех развеселило, что ему дали место у костра. Ахкеймион, закоренелый бродяга, был привычен к обществу воинственных незнакомцев и некоторое время наслаждался компанией, вином и собственной безымянностью. Но когда расспросы сделались слишком дотошными, Ахкеймион поблагодарил солдат и продолжил путь.
Привлеченный барабанным боем, Ахкеймион пересек пустынную часть лагеря и очутился в районе, где обосновались проститутки. Там Ахкеймион на каждом шагу то натыкался на чье-то плечо, то вжимался в чью-то спину. Кое-где ему приходилось в темноте проталкиваться через толпу, где лишь головы, плечи да лица белели в тусклом свете Гвоздя Небес. В других местах были воткнуты в землю факелы, и вокруг них устроились где музыканты, а где торговцы. Иногда попадались бордели, обнесенные кожаными загородками. Некоторые проходы могли похвастаться настоящими фонарями. Ахкеймион видел молодых Людей Бивня — сущих мальчишек, — которых рвало от излишка спиртного. Он видел десятилетних девочек, ведущих крепко сбитых воинов в шатры. Он даже заметил мальчишку с изрядным слоем косметики на лице — тот смотрел на проходящих мужчин с боязливым обещанием. Он видел палатки ремесленников и несколько импровизированных кузниц. За развевающимися занавесями курильни опиума он видел людей, которые двигались так, словно их дергали за веревочки. Он прошел мимо позолоченных шатров культов: Гильгаоала, Ятвера, Мома, Айокли, даже малопонятной Онкис, которую особенно любил Инрау, и бесчисленного множества прочих. Он отмахивался от вездесущих нищих и смеялся над адептами, пытавшимися всучить ему глиняные таблички с благословениями.
В некоторых местах не было шатров — только примитивные навесы, сооруженные из палок, бечевы, раскрашенной кожи или обычных циновок. В каком-то проходе Ахкеймион успел заметить не менее дюжины пар, мужчин и женщин, совокуплявшихся у всех на виду. Однажды он приостановился, чтобы посмотреть на невероятно красивую норсирайку, удовлетворявшую двух мужчин одновременно, но к нему тут же прицепился чернозубый тип с дубинкой и потребовал монету. Потом он понаблюдал за старым, покрытым татуировками отшельником, пытавшимся поиметь толстую женщину. Он видел чернокожих зеумских проституток, танцевавших в своей странной, кукольной манере и одетых в кричащие яркие платья из поддельного шелка, — карикатуры на замысловатую изысканность, столь свойственную их далекой стране.
Первая женщина скорее нашла его, чем он ее. Когда Ахкеймион шел по особенно темному проходу между полотняными хибарами, он услышал хриплое дыхание, а потом почувствовал, как маленькие руки обхватили его сзади и принялись ощупывать пах. Когда он повернулся и обнял женщину, она показалась ему довольно хорошо сложенной, но он почти не мог разглядеть в темноте ее лица. Женщина уже принялась теребить его мужское достоинство через одежду, бормоча:
— Всего один медяк, господин. Всего медяк за ваше семя…
Ахкеймион заметил ее кривую улыбку.
— Два медяка за мой персик. Хотите мой персик?
Ахкеймион почти против воли поддался легким движениям ее рук, и у него перехватило дыхание. Но потом мимо протопала с факелами колонна кавалеристов — имперских кидрухилей, — и Ахкеймион увидел ее лицо: пустые глаза и потрескавшиеся губы…
Он оттолкнул женщину и полез за кошельком. Выудил оттуда медяк, намереваясь отдать его, но уронил монетку на землю. Женщина упала на колени и с ворчанием принялась искать ее… Ахкеймион позорно бежал.
Вскоре после этого он принялся рыскать в темноте, рассматривая группу сидевших у костра проституток. Они пели и хлопали в ладоши, а одна из них, плоскогрудая кетьянка, танцевала; из одежды на ней было лишь одеяло, обмотанное вокруг бедер. Ахкеймион знал, что это распространенный обычай. Они будут по очереди отплясывать непристойные танцы и выкрикивать призывы в окружающую темноту, нахваливая свой товар.
Сперва Ахкеймион оценивал женщин, прячась под покровом темноты. Танцевавшая девушка ему не понравилась — больно уж она смахивала на лошадь. А вот молодая норсирайка, которая повернула хорошенькое личико и запела, как дитя… Она сидела на земле, вытянув ноги перед собой, и блики костра метались по внутренней стороне ее бедер.
Когда Ахкеймион наконец вышел к ним, они тут же подняли гам, словно рабы на аукционе, рассыпаясь в обещаниях, которые мгновенно сменились насмешками, как только он взял за руку галеотку. Несмотря на выпитое, Ахкеймион так разнервничался, что ему трудно было дышать. Она выглядела такой красивой. Такой нежной и непорочной.
Прихватив свечу, девушка потянула его в темноту и в конце концов привела к ряду примитивных шалашей. Она сбросила покрывало и забралась под грязную кожу. Ахкеймион стоял над ней, ловя ртом воздух; ему хотелось надышаться бледным великолепием ее нагого тела. Однако дальняя стена шалаша состояла из тряпок, связанных между собою веревками. И сквозь нее Ахкеймион видел людей, снующих туда-сюда по темному проходу.
— Ты хочешь трахнуть меня, да? — спросила девушка.
— О да, — пробормотал Ахкеймион.
Да что такое с его дыханием?
«Сейен милостивый!»
— Трахнуть меня много раз? А, Басвутт?
Ахкеймион нервно рассмеялся. Снова взглянул на тряпочную занавеску. Мимо прошли двое переругивающихся мужчин, так близко, что Ахкеймион вздрогнул.
— Много раз, — ответил он, зная, что это — вежливый способ договориться о цене. — Сколько, как ты думаешь?
— Ну, думаю… Думаю, четыре серебряных раза.
Серебряных? Очевидно, она приняла его замешательство за неопытность. А, да что значат деньги в такую ночь! Он празднует или как?
Пожав плечами, Ахкеймион сказал:
— Такой старик, как я?
Так мужчине приходилось осмеивать собственную удаль, чтобы добиться честной сделки. Тот, кто был беден, жаловался, что стар, у него плохо стоит, и так далее. Эсменет как-то сказала, что мужчины, которые высокого мнения о себе, обычно плохо торгуются — в чем, собственно, и состоял весь смысл. Шлюхи никого так не ненавидят, как мужчин, которые приходят, уже веря в ту ложь, что скажут женщине. Эсми называла таких — симустарапари, «те, кто брызгает дважды».
Галеотка устремила на него затуманенный взор; она начала ласкать себя.
— Ты такой сильный, — сказала она.
Голос у нее вдруг сделался тоненьким.
— Как Басвутт… Сильный! Может, два серебряных раза?
Ахкеймион рассмеялся, стараясь не смотреть на ее пальцы. Земля начала медленно вращаться. На миг девушка показалась бледной и тощей, словно рабыня, с которой дурно обращаются. Циновка, на которой она лежала, на вид была достаточно грубой, чтобы врезаться ей в кожу… Он слишком много выпил.
«Ничего не слишком! Просто достаточно…»
Земля остановилась. Ахкеймион сглотнул, кивнул в знак согласия, затем вытащил из кошелька две монеты.
— А что означает «Басвутт»? — спросил он, роняя серебро в подставленную ладошку.
— А? — отозвалась она, победно улыбаясь.
Девушка с поразительной быстротой спрятала два блестящих таланта. «Интересно, что она купит?» — подумалось Ахкеймиону. Галеотка взглянула на него большими глазами.
— Что это значит? — повторил он помедленнее. — «Басвутт»…
Девушка нахмурилась, потом хихикнула.
— Большой медведь…
Она была грудастой и созревшей, но что-то в ее поведении напоминало Ахкеймиону маленькую девочку. Простодушная улыбка. Бегающий взгляд и подрагивающий подбородок. Ахкеймион почти ожидал появления сварливой матери, которая примется костерить их обоих. Интересно, а это тоже часть представления, как и бесстыдное поддразнивание?
Сердце гулко забилось у него в груди.
Ахкеймион опустился между ее ног, на уровне ступней. Галеотка извивалась и корчилась, словно готова была кончить от одного его присутствия.
— Трахни меня, Басвутт, — выдохнула она. — Басву-у-утт… Трахни-меня-трахни-меня-трахни-меня… Ну пожа-а-алуйста…
Ахкеймион качнулся, выпрямился, засмеялся. Начал стягивать одежду, нервно поглядывая на прохожих, движущихся мимо занавески. Они шли так медленно, что он мог бы плюнуть им на ноги.
— О-о-ох, какой большой медведь, — заворковала галеотка, поглаживая его член.
И вдруг все его опасения испарились, и какая-то часть сознания возликовала при мысли, что на него смотрят. Пускай смотрят! Пускай учатся!
«Всегда наставник…»
Хохотнув, Ахкеймион ухватил галеотку за узкие бедра и потянул к себе.
Как он жаждал этого момента! Заняться распутством с незнакомкой… Наверное, ничего нет слаще нового персика!
Ахкеймион дрожал! Дрожал!
Она стонала серебром, кричала золотом. Лица прохожих повернулись в их сторону.
И через связанные тряпки Ахкеймион увидел Эсменет.
— Эсми! — звал Ахкеймион, продираясь через толпу. Позади что-то кричала галеотка — он не понимал, что.
Он снова на миг разглядел Эсменет; она быстро шла вдоль ряда факелов перед пологом ятверианского лазарета. Высокий мужчина, щеголяющий спутанными косами туньерского воина, держал ее за руку, но похоже было, что это Эсменет ведет его.
— Эсми! — крикнул Ахкеймион, подпрыгивая, чтобы его было видно из-за людской стены.
Но Эсменет не обернулась.
— Эсми! Постой!
Почему она убегает? Она увидела его с той проституткой?
Но коли так — что она сама тут делает?
— Черт подери, Эсменет! Это я! Я!
Обернулась ли она? Слишком темно — не разглядишь…
На долю секунды Ахкеймион даже задумался, не воспользоваться ли ему колдовством: он мог бы при желании осветить всю округу. Но, как всегда, он чувствовал небольшие сгустки смерти, рассеянные среди толпы: Люди Бивня, носящие при себе фамильные хоры…
Ахкеймион с удвоенной силой принялся проталкиваться сквозь толпу. Кто-то ударил его, да так, что зазвенело в ушах, но Ахкеймиону было все равно.
— Эсми!
Он заметил, как Эсменет потянула туньерца в еще более темный проход. Ахкеймион выбрался из скопления народа и со всех ног припустил за ней. Но замешкался, прежде чем нырнуть во тьму, — его вдруг пронзило предчувствие беды. Эсменет здесь? В Священном воинстве? Не может быть.
Ловушка? Мысль как удар ножа.
Земля снова начала вращаться.
Если Консульт мог подделать Скеаоса, почему бы им не подделать и Эсменет? Если они знали об Инрау, то почти наверняка знают и о ней… Есть ли более надежный способ одурачить безнадежно влюбленного колдуна, чем…
«Шпион-оборотень? Я гонюсь за оборотнем?»
Перед мысленным взором Ахкеймиона предстал труп Гешрунни, выловленный из реки Сают. Убитый. Поруганный.
«Благой Сейен, они забрали его лицо». Не могло ли то же самое произойти с…
— Эсми! — прокричал он, кидаясь во тьму. — Эсми!
Эсми-и-и!
По счастью, она остановилась вместе со своим спутником в свете единственного факела. Ее то ли встревожили крики, то ли…
Ахкеймион остановился перед ней, лишившись дара речи. Его шатало.
Это была не она — карие глаза чуть поменьше, брови чуть повыше. Почти такие же, но… Почти Эсменет.
— Еще один ненормальный, — фыркнула женщина, обращаясь к туньеру.
— Я думал… — пробормотал Ахкеймион. — Я принял вас за другую.
— Бедная девушка, — насмешливо произнесла женщина, поворачиваясь к нему спиной.
— Погодите! Пожалуйста…
— Что — пожалуйста?
Ахкеймион сморгнул слезы. Она выглядела такой… такой близкой.
— Я нуждаюсь в вас, — прошептал он. — Нуждаюсь в вашем… в вашем утешении.
Туньер безо всякого предупреждения ухватил его за горло и одновременно врезал в живот.
— Кундроут! — взревел он. — Парасафау фераутин кун даттас!
Ахкеймион захрипел и вцепился в здоровенную ручищу туньера. Паника. Потом гравий и камни ударили его по щеке. Сотрясение. Слепящая тьма. Чей-то крик. Вкус крови. Расплывчатая картинка: воин с растрепанными волосами плюет на него.
Ахкеймион скорчился, перекатился на бок. Всхлипнул, потом подтянул колени к животу. Сквозь слезы он видел исчезающие в темноте спины этих двоих.
— Эсми! — крикнул он. — Эсменет, пожалуйста!
Какое старомодное имя.
— Эсми-и-и!
«Вернись…»
Затем он почувствовал прикосновение. Услышал голос.
— Ты все такой же обаяшка, как я погляжу… Потрепанный старый пес.
Свет факелов.
Ее тонкие руки, обхватившие его.
Они, спотыкаясь, брели сквозь толпу. От Эсменет пахло камфарой и кунжутным маслом, словно от фанимского торговца. Неужто это и вправду ее запах?
— Сейен милостивый, Акка, ну и видок у тебя!
— Эсми?
— Да… Это я, Акка. Я.
— Твое лицо…
— Какой-то галеот, скотина неблагодарная…
Горький смех.
— Таковы отношения Людей Бивня и их шлюх. Если не можешь ее трахнуть, вмажь покрепче.
— Ох, Эсми…
— Если судить по набитости морды, так я по сравнению с тобой просто девственница из знатного семейства. Ты слыхал, как я орала, когда тот тип пинал тебя ногой в лицо? Что ты там вообще делал?
— Н-не знаю точно… Искал тебя…
— Тс-с-с, Акка… Тс-с-с… Не здесь. Потом.
— Т-только скажи… М-мое имя. Т-только скажи его!
— Друз Ахкеймион… Акка.
Он заплакал и сперва даже не понял, что Эсменет плачет вместе с ним.
Ведомые, возможно, одним и тем же порывом, они отступили в темноту, упали на колени и обнялись.
— Это и вправду ты… — пробормотал Ахкеймион, увидев отражение луны в ее влажных глазах.
Эсменет рассмеялась и всхлипнула:
— Вправду я…
Его губы горели от соли смешавшихся слез. Он стянул хасу с левой груди Эсменет и принялся водить вокруг соска большим пальцем.
— Почему ты ушла из Сумны?
— Я боялась, — прошептала Эсменет, целуя его лоб и щеки. — Почему я всегда боюсь?
— Потому что ты дышишь.
Страстный поцелуй. Руки, шарящие во тьме, тянущие, сжимающие. Вращающаяся земля. Ахкеймион откинулся назад, и Эсменет обхватила горячими бедрами его талию. Потом он оказался внутри, и она ахнула. Несколько мгновений они сидели молча, пульсируя в унисон и тяжело дыша.
— Никогда больше, — сказал Ахкеймион.
— Обещаешь?
Она вытерла лицо, хлюпнула носом.
Он начал медленно раскачивать ее.
— Обещаю… Никакой человек, никакая школа, никакая угроза. Ничто больше не отнимет тебя у меня.
— Ничто… — простонала она.
Некоторое время они казались одним существом, плясали в одном исступленном, безумном танце, сходились в одной и той же точке, где захватывало дух. Некоторое время они не чувствовали страха.
Потом они ласкали друг друга и шептали нежные слова, лежа в темноте, и просили друг у друга прощения за уже забытые проступки. Наконец Ахкеймион спросил, где она хранит свое имущество.
— Меня уже ограбили, — отозвалась Эсменет, пытаясь улыбнуться. — Но кое-какие мелочи у меня еще есть. Тут недалеко.
— Ты останешься со мной? — очень серьезно спросил Ахкеймион.
В голосе его слышались слезы.
— Ты можешь?
— Могу.
Он рассмеялся и рывком поднялся на ноги.
— Тогда пошли за твоими вещами.
Даже в полумраке он увидел ужас в ее глазах. Эсменет обхватила себя за плечи, будто стараясь удержаться от немедленного бегства, потом вложила руку в его протянутую ладонь.
Они шли медленно, словно любовники, прогуливающиеся по базару. Время от времени Ахкеймион заглядывал ей в глаза и смеялся, сам себе не веря.
— Я думал, ты ушла, — сказал он.
— Но я все время была здесь.
Ахкеймион не стал спрашивать, что она имеет в виду, и вместо этого просто улыбнулся. Ее тайны сейчас не имели значения. Он не такой дурак и не настолько пьян, чтобы и вправду поверить, что ничего не произошло. Что-то прогнало Эсменет из Сумны. Что-то привело ее к Священному воинству. Что-то заставило ее… да, избегать его. Но сейчас все это не имело значения. Важно было лишь одно: она здесь.
«Пусть эта ночь продлится подольше. Пожалуйста… Отдайте мне одну лишь эту ночь».
Они непринужденно болтали о всяких пустяках, подшучивали над прохожими, рассказывали друг другу про разные любопытные вещи, которые повидали в Священном воинстве. Они отлично знали запретные темы и пока что избегали больных мест.
Они остановились, чтобы поглазеть на бродячего актера, запустившего кожаную веревку в корзину со скорпионами. Когда он вытащил веревку обратно, та ощетинилась хитиновыми конечностями, клешнями и заостренными хвостами. Это, как заявил актер, и есть та самая Скорпионова Коса, которую короли Нильнамеша до сих пор используют для кары за самые тяжкие преступления. Когда зрители, которым не терпелось взглянуть на диковинку поближе, окружили его, актер поднял Косу повыше, чтобы всем было видно, а потом внезапно начал размахивать ею над головами. Женщины завизжали, мужчины втянули головы в плечи или закрыли их руками, но ни один скорпион не слетел с веревки. Она, как во всеуслышание заявил актер, была пропитана ядом, склеившим челюсти скорпионов. Если не дать им противоядия, они так и будут оставаться на веревке, пока не умрут.
Ахкеймион наблюдал не столько за представлением, сколько за Эсменет, восторгался эмоциями, отражающимися на ее лице, и поражался, что она выглядит такой… новой? Он поймал себя на мысли, что думает о вещах, которых никогда прежде не замечал. Россыпь веснушек у нее на носу и скулах. Поразительный цвет ее глаз. Рыжие отблески в роскошных черных волосах. Казалось, все в ней дышит чарующей новизной.
«Я должен всегда видеть ее такой. Незнакомкой, в которую я влюблен…»
Всякий раз, когда их глаза встречались, они смеялись, словно празднуя счастливое воссоединение. Но неизменно отводили взгляды, как будто понимали, что их блаженство мимолетно. А потом что-то проскользнуло между ними — возможно, дуновение тревоги, — и они перестали смотреть друг на друга. И внезапно в самой сердцевине радостного возбуждения, поселившегося в душе Ахкеймиона, возникла зияющая пустота. Он вцепился в руку Эсменет в поисках утешения, но ее вялые пальцы не ответили пожатием.
Несколько мгновений спустя Эсменет потянула его за собой и остановилась рядом с ярко горящими масляными лампами. Она принялась разглядывать Ахкеймиона, и на ее лице ничего невозможно было прочесть.
— Что-то изменилось, — наконец сказала она. — Прежде ты всегда притворялся. Даже после смерти Инрау. Но теперь… теперь что-то изменилось. Что произошло?
Ахкеймион уклонился от ответа.
— Я — адепт Завета, — запинаясь, пробормотал он. — Что я могу сказать? Мы все страдаем…
Эсменет сердито посмотрела на него, и он умолк.
— Знание, — произнесла она. — Вы все страдаете знанием… Чем больше вы страдаете, тем больше узнаете… Так? Ты узнал больше?
Ахкеймион снова ничего не ответил. Слишком рано случился этот разговор!
Эсменет отвела взгляд и уставилась в толпу.
— Хочешь знать, что случилось со мной?
— Оставь, Эсми.
Эсменет вздрогнула и отвернулась. Потом высвободила руку и двинулась дальше.
— Эсми… — позвал Ахкеймион, зашагав следом.
— Знаешь, — сказала она, — было не так уж плохо, если не считать побоев. Множество клиентов. Множество…
— Эсми, хватит.
Эсменет рассмеялась, будто участвовала в иной, более откровенной и искренней беседе.
— Я спала с лордами… С кастовыми дворянами, Акка! Представляешь? У них даже члены больше — ты в курсе? Я толком ничего не узнала про айнонов — они, похоже, предпочитают мальчиков. И про конрийцев — те толпятся вокруг галеотских потаскушек, прямо дуреют от их молочно-белой кожи. А вот нансурцы — те любят домашние персики и редко выбираются за пределы своих военных борделей. А туньеры! Они едва сдерживаются, чтобы не кончить, как только я раздвигаю ноги! Хотя они грубые, особенно когда выпьют. И скаредные к тому же. А вот галеоты — это настоящее удовольствие. Они жалуются, что я слишком тощая, но им нравится моя кожа. Если бы потом их не грызло чувство вины, они были бы моими любимчиками. Они не привыкли к шлюхам… Думаю, это потому, что у них в стране мало старых городов. Мало торговли…
Она внимательно посмотрела на Ахкеймиона; взгляд ее был одновременно и горьким, и проницательным. Колдун шел рядом, упорно не глядя на нее.
— А так клиентура хорошая, — добавила Эсменет.
Вернулся давний гнев, тот самый, что несколько месяцев назад вырвал Ахкеймиона из ее объятий. Он стиснул кулаки; ему представилось, как он бьет Эсменет. «Гребаная шлюха!» — захотелось крикнуть ему.
Ну зачем рассказывать все это? Зачем говорить то, что он не в силах слушать?
Особенно когда ей самой есть что объяснять…
«Почему ты оставила Сумну? Как долго прячешься от меня? Как долго?»
Но прежде чем Ахкеймион смог хоть что-то сказать, Эсменет резко развернулась и направилась к костру, вокруг которого сидели женщины с раскрашенными лицами — другие проститутки.
— Эсми! — окликнула ее темноволосая женщина с грубым, почти мужским голосом. — Кто твой…
Она умолкла, присмотрелась получше, потом рассмеялась.
— Кто твой несчастный друг?
Она была крупной, с широкой талией, но совершенно без жира — таких женщин, как сказала ему однажды Эсми, очень ценят некоторые норсирайцы. Ахкеймион сразу понял, что она принадлежит к тому типу людей, которые путают дурные манеры со смелостью.
Эсменет остановилась и задумалась — так надолго, что Ахкеймион нахмурился.
— Это Акка.
Густые брови проститутки поползли вверх.
— Тот самый знаменитый Друз Ахкеймион? — спросила женщина. — Колдун?
Ахкеймион взглянул на Эсменет. Кто эта женщина?
— Это Яселла, — сказала Эсменет.
Она произнесла имя женщины таким тоном, словно оно все объясняло.
— Ясси.
Яселла не сводила с Ахкеймиона оценивающего взгляда.
— И что же ты здесь делаешь, Акка?
Он пожал плечами.
— Иду со Священным воинством.
— Так же, как и мы! — воскликнула Яселла. — Хотя можно сказать, что мы движемся за другим Бивнем…
Остальные проститутки расхохотались — совсем как мужчины.
— И маленьким пророком, — хрипло добавила другая. — Пригодным лишь для одной проповеди…
Женщины зашлись хохотом, все, за исключением Ясси, которая просто улыбнулась.
Посыпались новые шуточки, но Эсменет уже нырнула во тьму — должно быть, туда, где стоял ее навес.
— Все наши живут группами, — сказала она, предвосхищая любые вопросы. — Мы присматриваем друг за дружкой.
— Так я и подумал…
— Это мое, — сказала Эсменет, опускаясь на колени у засаленного полога полотняной палатки.
У Ахкеймиона отлегло от сердца: Эсменет, не сказав ни единого слова, забралась внутрь. Ахкеймион последовал за ней.
В палатке едва хватало места, чтобы сесть. Сквозь дым благовоний пробивался запах совокупления — а может, Ахкеймион просто не мог перестать думать о других мужчинах Эсменет. Он разглядывал ее стройное тело с маленькой грудью. В отблесках костра Эсми казалась такой хрупкой, такой маленькой и одинокой… Мысль о том, как она извивается здесь ночь за ночью, под все новыми и новыми мужчинами…
«Я должен сделать это правильно!»
— У тебя есть свеча? — спросил он.
— Есть вроде… Но мы же сгорим.
Пожар был вечным кошмаром всех, кто вырос в городах.
— Нет, — отозвался Ахкеймион. — Со мной — нет.
Эсменет извлекла свечу из узелка, лежавшего в углу, и Ахкеймион зажег ее словом. В Сумне Эсменет всегда приходила в восторг от этого фокуса. Теперь же она просто наблюдала за ним с безропотной осторожностью.
Они сощурились от света. Эсменет натянула на ноги грязное одеяло, безучастно глядя на груду валяющейся одежды.
Ахкеймион сглотнул.
— Эсми… Зачем рассказывать мне… все это?
— Потому что мне нужно знать, — сказала Эсменет.
— Что знать? Отчего у меня дрожат руки? Отчего у меня такой перепуганный, мечущийся взгляд?
Плечи Эсменет поникли; Ахкеймион понял, что она всхлипывает.
— Ты сделал вид, будто меня там не было, — прошептала она.
— Что?
— В последнюю ночь в Момемне… я пришла к тебе. Я смотрела на твой лагерь, на твоих друзей. Только я спряталась, я очень боялась, что меня… Но тебя там не было, Акка! Потому я ждала и ждала. Потом я увидела… увидела тебя… Я заплакала от радости, Акка! Заплакала! Я стояла там, прямо перед тобой, и плакала! Я протянула руки, а ты… ты…
Ее наполненные болью глаза потускнели, и договорила Эсменет уже совсем другим тоном — куда более холодным:
— Ты сделал вид, будто меня там нет.
О чем она говорит? Ахкеймион прижал ладони ко лбу, сражаясь со стремлением ударить ее. Она стояла рядом, так близко, что можно было рукой дотронуться — после всего этого времени! — и все же отступила… Ему нужно было понять…
— Эсми… — медленно произнес он, пытаясь собрать воедино затуманенные вином мысли. — Что ты…
— Что я, Акка? — спросила она сухо. — Я слишком замарана, слишком осквернена? Я оказалась слишком грязной шлюхой?
— Нет, Эсми, я…
— Слишком измятым персиком?
— Эсменет, да послушай же…
Эсменет горько рассмеялась.
— Так ты говоришь, что собираешься взять меня к себе в палатку? Добавить меня ко множеству…
Ахкеймион ухватил ее за плечи и встряхнул.
— И ты еще будешь говорить мне про множество? Ты?!
Но он мгновенно пожалел о своем порыве, увидев, как его свирепость отразилась ужасом на ее лице. Она даже съежилась, будто ожидая удара. Ахкеймион внезапно заметил синяк у нее под левым глазом.
«Кто это сделал? Не я. Не я…»
— Посмотри на нас, — сказал он, отпуская Эсменет и осторожно убирая руки. Оба избитые. Оба изгои.
— Посмотри на нас, — пробормотала Эсменет.
По щекам ее струились слезы.
— Я могу объяснить, Эсми… Объяснить все.
Эсменет кивнула и потерла плечи там, где он ее схватил.
За палаткой зазвучал слаженный хор голосов; женщины принялись петь, подобно другим проституткам, обещая мягкие вещи за твердое серебро. Отблески костра мерцали в прорехах палатки, словно золото сквозь темную воду.
— Той ночью, про которую ты говоришь… Сейен милостивый, Эсми, если я не подошел к тебе, то не потому, что стыдился! Да как я мог бы? Кто вообще стал бы стыдиться такой женщины, как ты?
Эсменет прикусила губу и улыбнулась, хотя его слова вызвали у нее новый поток слез.
— Тогда почему?
Ахкеймион перекатился на бок и лег рядом с ней; взгляд его был устремлен в холстяной потолок.
— Потому, что я нашел их, Эсми, — в ту самую ночь… Я нашел Консульт.
— А дальше я ничего не помню, — сказал он. — Знаю, что прошел ночью всю дорогу от императорского дворца до лагеря Ксинема, но я ничего не помню…
Слова хлынули из него потоком, рисуя кошмарные события, что произошли в ту ночь под Андиаминскими Высотами. Беспрецедентный вызов. Встреча с Икуреем Ксерием III. Допрос Скеаоса, первого советника императора. Лицо, которое не было лицом, раскрывающееся, словно сжатая в кулак рука с длинными пальцами. Чудовищный заговор кожи. Он рассказал ей обо всем, кроме Келлхуса…
Эсменет свернулась в его объятиях калачиком и слушала. Теперь она положила подбородок ему на грудь.
— Император тебе поверил?
— Нет… Кажется, он думает, что в этом замешаны кишаурим. Мужчины предпочитают новых любовниц и старых врагов.
— А Атьерс? Что говорит Завет?
— Они одновременно и в восторге, и в ужасе, насколько я могу понять.
Ахкеймион облизал губы.
— Я не уверен. Я не связывался с ними после того, как доложил обо всем Наутцере. Возможно, они решили, что я мертв… Убит из-за того, что узнал.
— Тогда почему они не свяжутся с тобой…
— Разве ты не помнишь, как это работает?
— Да-да, — отозвалась Эсменет, закатывая глаза и самодовольно улыбаясь. — Как это работает? Для Призывных Напевов нужно знать и человека, с которым связываешься, и место, где он находится. Поскольку ты движешься вместе с войском, они понятия не имеют, где ты сейчас…
— Вот именно, — сказал Ахкеймион, собираясь с духом и готовясь к неизбежным расспросам.
Эсменет испытующе взглянула на него, сочувственно, но в то же время настороженно.
— Тогда почему ты не свяжешься с ними сам?
Ахкеймион вздрогнул. Он провел дрожащей рукой по ее волосам.
— Я так рад, что ты здесь, — пробормотал он. — Так рад, что с тобой ничего не случилось…
— Акка, что с тобой? Ты меня пугаешь…
Ахкеймион закрыл глаза и глубоко вздохнул.
— Я кое-кого встретил. Человека, чье появление было предсказано две тысячи лет назад…
Он открыл глаза. Эсменет по-прежнему была здесь.
— Анасуримбора.
— Но это означает… — Эсменет нахмурилась. — Ты как-то разбудил меня ночью, потому что кричал во сне это имя…
Она подняла голову, вглядываясь в его лицо.
— Я помню, как спросила тебя, что это значит — Анасуримбор, — и ты сказал… ты сказал…
— Я не помню.
— Ты сказал, что это имя последней правящей династии древней Куниюрии, и…
Ее лицо исказил ужас.
— Акка, это не смешно. Ты меня пугаешь!
Ей стало страшно, понял Ахкеймион, потому что она поверила… Он задохнулся и почувствовал на ресницах горячие слезы. Слезы радости.
«Она поверила… Она все-таки поверила!»
— Нет, Акка! — воскликнула Эсменет, крепко обняв его. — Этого не может быть!
Что за извращенная штука — жизнь! Чтобы адепт Завета радовался Апокалипсису…
Нагая Эсменет лежала, прижавшись к нему, а Ахкеймион объяснял, почему так уверен, что Келлхус — это Предвестник. Она слушала, ничего не говоря, и смотрела на него с боязливым ожиданием.
— Разве ты не понимаешь? — спросил Ахкеймион, обращаясь не столько к Эсменет, сколько к миру за пределами палатки. — Если я расскажу все Наутцере и остальным, они заберут его… Чьим бы покровительством он ни заручился.
— Они убьют его?
Ахкеймион попытался прогнать из памяти картины прошлых дознаний.
— Они сломают его, убьют того, кем он является сейчас…
— Даже если так, — сказала Эсменет. — Акка, ты должен выдать его.
Ни колебания, ни малейшей паузы — холодный взгляд и беспощадный приговор. Похоже, для женщин не существует ничего, что могло бы сравниться по значимости с опасностью или любовью.
— Но, Эсми, речь ведь идет о жизни.
— Вот именно, — отозвалась Эсменет. — О жизни… Много ли значит жизнь одного человека? Сколько людей умирает, Акка!
Жестокая логика жестокого мира.
— Зависит от того, какой человек, разве не так?
Это заставило ее на некоторое время умолкнуть.
— Думаю, да, — сказала она. — Ну и что же он за тип? Какой человек стоит того, чтобы из-за него рисковать целым миром?
Несмотря на сарказм, Ахкеймион чувствовал, что она боится его ответа. Суровые факты плохо сочетаются с путаницей в его голове, так что Эсменет стремится во всем разобраться. «Она думает, что спасает меня, — понял Ахкеймион. — Она хочет, чтобы я поступил дурно — ради моего же блага…»
— Он…
Ахкеймион сглотнул.
— Он ни на кого не похож.
— Как так?
Скептицизм проститутки.
— Это трудно объяснить.
Ахкеймион замолчал, думая о том времени, что провел рядом с Келлхусом. Столько озарений. Столько мгновений благоговейного трепета.
— Представляешь, каково это — стоять на чужой земле, в чужих владениях?
— Ну… наверное, чувствуешь себя гостем. Иногда непрошеным.
— Вот он каким-то образом заставляет тебя ощущать именно это. Словно ты гость.
Проступившее на лице отвращение.
— Что-то мне не нравится, как это звучит.
— Значит, я неверно сказал.
Ахкеймион глубоко вздохнул, пытаясь подобрать нужные слова.
— У людей много… много земель. Некоторые из них — общие, некоторые — нет. Вот, например, когда мы с тобой говорили о Консульте, ты стояла на моей земле, как я стоял на твоей, когда ты говорила о… о своей жизни. Но с Келлхусом нет разницы, о чем ты говоришь и где стоишь; все равно земля у тебя под ногами принадлежит ему. Я всегда его гость — всегда! Даже когда учу его, Эсми!
— Ты учишь его? Ты взял его в ученики?
Ахкеймион нахмурился. Эсменет произнесла это так, словно речь шла о предательстве.
— Только внешним знаниям, — ответил он, пожав плечами, — знаниям о мире. Ничего тайного, ничего эзотерического. Он не принадлежит к Немногим… — И запоздало добавил: — Слава богу.
— Почему ты так считаешь?
— Из-за его интеллекта, Эсми! Ты не представляешь! Я никогда не встречал такого проницательного человека, ни в жизни, ни в книгах… Даже Айенсис — и тот… Даже Айенсис, Эсми! Если бы Келлхус обладал способностью колдовать, он был бы… был бы…
У Ахкеймиона перехватило дыхание.
— Кем?
— Вторым Сесватхой… Если не больше…
— Тогда он мне совсем не нравится. Судя по тому, что ты рассказываешь, он опасен, Акка. Пусть Наутцера и остальные узнают о нем. Если его схватят, значит, так тому и быть. По крайней мере, ты сможешь умыть руки и перестать сходить с ума.
На глаза Ахкеймиону снова навернулись слезы.
— Но…
— Акка, — взмолилась Эсменет, — это не твоя ноша, и не тебе ее нести!
— Нет, моя!
Эсменет отодвинулась. Ее волосы волной упали на левое плечо, непроницаемо черные в тусклом свете. Казалось, она колеблется.
— В самом деле? А мне кажется, все дело в Инрау…
Сердце Ахкеймиона сжала ледяная рука. Инрау. Мальчик.
Сын.
— А почему бы и нет? — крикнул он с неожиданной свирепостью. — Они убили его!
— Но они послали тебя! Они послали тебя в Сумну, чтобы вернуть Инрау, и ты сделал это, хотя точно знал, что будет потом… Ты говорил мне об этом еще до того, как нашел его!
— Что ты хочешь сказать? Что это я убил Инрау?
— Я говорю, что ты так думаешь. Думаешь, что убил его.
«Ох, Ахкеймион, — говорили ее глаза, — ну пожалуйста…»
— А если это и вправду так? Разве не значит, что теперь я должен исправиться? Пускай эти недоумки в Атьерсе издеваются над другим человеком…
— Нет, Ахкеймион. Ты делаешь это — все это! — не для того, чтобы спасти своего драгоценного Анасуримбора Келлхуса. Ты делаешь это для того, чтобы наказать себя.
Ахкеймион, онемев, уставился на Эсменет. Она что, действительно так думает?
— Ты говоришь так потому, — выдохнул он, — что слишком хорошо знаешь меня…
Он протянул руку и провел пальцем по ее бледной груди.
— И не знаешь Келлхуса.
— Таких замечательных людей не бывает… Я же шлюха, ты не забыл?
— Это мы посмотрим, — сказал Ахкеймион, толкая ее на спину.
Они поцеловались. Поцелуй был жарким и долгим.
— Мы, — повторила Эсменет и рассмеялась, словно эта мысль одновременно и радовала ее, и причиняла боль. — Теперь это вправду «мы» — верно?
С робкой, почти испуганной улыбкой она помогла Ахкеймиону снять одежду.
— Когда я не мог найти тебя, — сказал он, — или когда ты отвернулась, я чувствовал… чувствовал себя пустым, будто мое сердце сделано из дыма… Разве это не «мы»?
Эсменет прижала его к циновке и оседлала.
— Я понимаю тебя, — отозвалась она.
По щекам ее ручьями текли слезы.
— Значит, так тому и быть.
«Один барашек, — подумал Ахкеймион, — за десять быков». Узнавание.
От соприкосновения его мужское достоинство затвердело; Ахкеймиону не терпелось познать ее снова. Как всегда, на него обрушилась вереница образов, и каждый — словно острый нож. Окровавленные лица. Бряцание бронзовых доспехов. Люди, истребленные заклинаниями. Драконы с железными зубами… Но Эсменет приподняла бедра и одним толчком оборвала одновременно и прошлое, и будущее, оставив лишь восхитительную боль настоящего. У Ахкеймиона вырвался крик.
Эсменет принялась тереться об него, не с ловкостью шлюхи, надеющейся побыстрее отработать монеты, а с неуклюжим эгоизмом любовницы, ищущей утоления, — любовницы или жены. Сегодня она собиралась получить его, и на это — Ахкеймион знал — не способна ни одна проститутка.
Тварь, носящая лицо проститутки, сидела в темноте — на расстоянии вытянутой руки — и ловила звуки любовной возни. И думала о слабости плоти, обо всех нуждах, от которых сама она была избавлена.
Воздух наполнился их стонами и запахом, тяжелым запахом немытых тел, бьющихся друг о дружку. Это был по-своему даже приятный запах. Лишенный разве что привкуса страха.
Запах животных, похотливых животных.
Но тварь кое-что понимала в похоти. Вернее, не кое-что, а гораздо больше. Страсть — это тоже путь, и зодчие твари не обделили страстью свое творение. О да, зодчие — не дураки.
Экстаз в лице. Восторг в обмане. Оргазм в убийстве…
И уверенность во тьме.
Глава 4. Асгилиох
«Не бывает настолько хороших решений, чтобы они не связывали нас своими последствиями.
Не бывает настолько неожиданных последствий, чтобы они не избавляли нас от решений.
Даже смерть».
Ксиус, «Тракианские драмы»«Вспоминая эти события, чувствуешь себя странно: как будто очнулся и обнаружил, что едва не оступился в темноте и не разбился насмерть. Всякий раз, возвращаясь в мыслях к прошлому, я преисполняюсь удивления оттого, что все еще жив, и ужаса оттого, что все еще путешествую по ночам».
Друз Ахкеймион, «Компендиум Первой Священной войны»4111 год Бивня, начало лета, крепость Асгилиох
Ахкеймион и Эсменет проснулись, сжимая друг друга в объятиях, и оба смутились, вспомнив минувшую ночь. Они поцеловались, чтобы заглушить свои страхи, а пока лагерь медленно просыпался, их мягко, но неудержимо повлекло друг к другу, и они занялись любовью. Потом Эсменет некоторое время лежала молча, отводя взгляд всякий раз, когда Ахкеймион пытался заглянуть ей в глаза. Сперва эта неожиданная перемена в ее поведении озадачила и разозлила его, но потом Ахкеймион понял, что она боится. Прошлой ночью она разделила с ним палатку. Сегодня ей предстояло разделить с Ахкеймионом его друзей, его повседневные беседы — его жизнь.
— Не волнуйся, — проговорил Ахкеймион, пока она нервно возилась со своей хасой. — В выборе друзей я куда более разборчив.
Недовольство вытеснило страх из ее глаз.
— Более разборчив, чем?..
Ахкеймион подмигнул ей.
— Чем в выборе женщин.
Эсменет опустила взгляд, улыбнулась и покачала головой. Ахкеймион услышал, как она вполголоса ругается. Когда он принялся выбираться из палатки, она ущипнула его за ягодицу, да так, что он взвыл.
Обняв Эсменет за талию, Ахкеймион подвел ее к Ксинему, который разговаривал о чем-то с Кровавым Дином. Когда он представил Эсменет, Ксинем небрежно поздоровался с ней и тут же указал на размытую полосу дыма у восточного края горизонта. Он объяснил, что фаним перешли горы и сейчас пересекают плоскогорье. Очевидно, крупное село, именуемое Тусам, ночью было захвачено врасплох и сожжено дотла. Пройас пожелал лично осмотреть разоренную деревню вместе со своими старшими офицерами.
Вскоре маршал покинул их, на ходу выкрикивая приказы. Ахкеймион и Эсменет вернулись к костру и некоторое время сидели молча, наблюдая, как по дорожкам лагеря движутся длинные колонны аттремпских кавалеристов. Ахкеймион видел, что Эсменет одолевают дурные предчувствия, что она боится, как бы он не стал стыдиться ее, но не находил слов, чтобы развеселить или утешить женщину. Он мог лишь наблюдать, как она осматривается, ощущая себя изгоем в лагере маршала.
Затем к ним присоединился Келлхус.
— Итак, началось, — сказал он.
— Что началось? — переспросил Ахкеймион.
— Кровопролитие.
Ахкеймион, несколько оробев, представил ему Эсменет. Он мысленно скривился от холодности ее тона — и от вида крупного синяка у нее на лице. Но даже если Келлхус и заметил это, то, похоже, нисколько не смутился.
— Новый человек, — сказал он, тепло улыбаясь. — Не бородатый и не тощий.
— Пока что… — добавил Ахкеймион.
— Ну уж бородой я точно не обрасту! — в шутку возмутилась Эсменет.
Они рассмеялись, и враждебность Эсменет вроде бы улетучилась.
Вскоре появилась Серве, все еще кутавшаяся в одеяло. Сперва Эсменет вызвала у нее сложное чувство, нечто среднее между изумлением и ужасом, а когда Серве заметила, что Эсменет не просто слушает мужчин, но и разговаривает с ними, то ощутимо начала склоняться ко второму. Ахкеймиона это беспокоило, но он не сомневался, что женщины подружатся, хотя бы из стремления отдохнуть от мужских бесед.
Отчего-то лагерь угнетал Ахкеймиона. Ему невыносимо было сидеть на месте, и он предложил прогуляться в горы. Келлхус мгновенно согласился, сказав, что давно хотел посмотреть на Священное воинство со стороны.
— Чтобы понять что-то, — сказал он, — нужно взглянуть на это сверху.
Уставшая от одиночества Серве так обрадовалась возможности поучаствовать в прогулке, что на нее почти неловко было смотреть. А Эсменет, казалось, была счастлива уже тому, что может держать Ахкеймиона за руку.
Коренастые, могучие отроги гор Унарас грозно вырисовывались на фоне лазурного неба. Изогнувшись, словно ряд древних зубов, они уходили к горизонту. Путники все утро искали место, откуда можно было бы увидеть Священное воинство целиком, но лабиринт склонов сбивал с толку, и чем дальше они заходили, тем больше казалось, что они видят лишь окраины огромного лагеря, теряющегося в дыму бесчисленных костров. Несколько раз им попадались конные патрули, советовавшие остерегаться разведывательных отрядов фаним. Группа конрийских кавалеристов, которыми командовал один из родичей Ксинема, упорно желала сопровождать их, утверждая, что им необходим вооруженный эскорт, но Келлхус, используя статус айнритийского князя, отослал их.
Когда Эсменет спросила, разумно ли было это делать — ведь опасность и вправду есть, — Келлхус сказал лишь:
— С нами адепт Завета.
Эсменет подумала и согласилась с тем, что это правда, но все разговоры о язычниках нервировали ее, напоминая, что Священное воинство вообще-то идет навстречу вполне конкретному врагу. Она поймала себя на том, что все чаще посматривает на восток, словно ждет, когда за очередным холмом покажутся дымящиеся развалины Тусама.
Давно ли она сидела у окна в Сумне? Давно ли она в пути?
В пути. Городские проститутки называли своих товарок, сопровождающих имперские колонны, «пенедитари», «много ходящие» — хотя частенько это слово произносят как «пембедитари», «чесоточницы», поскольку многие верят, что женщины, обслуживающие войска, переносят множество паразитов. В общем, одним пенедитари казались такими же, как знатные куртизанки, другим — грязными и презренными, как шлюхи-нищенки, спящие с отбросами общества. Правда, как выяснила Эсменет, лежала где-то посередине.
Она определенно ощущала себя пенедитари. Никогда раньше ей не приходилось так много и так далеко ходить. Каждую ночь — а ночи она проводила либо на спине, либо на четвереньках, — ей казалось, будто она все идет и идет, следом за огромной армией своенравных членов и обвиняющих глаз. Никогда раньше ей не приходилось удовлетворять такую прорву мужчин. Их призраки все еще трудились на ней, когда она просыпалась по утрам. Она собирала вещи, присоединялась к движущемуся войску, и у нее было такое чувство, будто она не столько следует за, сколько бежит от.
Но даже в этой обстановке Эсменет находила время удивляться и учиться. Она смотрела, как изменяются земли, через которые они шли. Она наблюдала, как темнеет ее кожа, подбирается и становится более упругим живот, наливаются силой мышцы ног. Она нахваталась галеотских словечек, вполне достаточно, чтобы поражать и радовать клиентов. Она выучилась плавать, наблюдая за детьми, плескавшимися в канале. Погрузиться в прохладную воду. Плыть!
Наконец-то быть чистой.
Но каждую ночь повторялось одно и то же. Бледные чресла, опаленные солнцем руки, угрозы, споры, даже шутки, которыми проститутки обменивались у костра, — все это давило на нее, заставляло ее быть такой, какой она никогда не была прежде. По ночам ей начали сниться лица, усатые, бородатые, глядящие на нее с вожделением.
А потом, предыдущей ночью, она услышала, как кто-то выкрикивает ее имя. Она обернулась — может, немного удивилась, но не приняла это всерьез, решив, что ослышалась. Потом она увидела Ахкеймиона, — похоже, пьяного, — который дрался с каким-то здоровяком-туньером.
Эсменет хотела кинуться к нему, но не сумела сдвинуться с места. Она могла лишь смотреть, затаив дыхание, как воин швырнул Ахкеймиона на землю. Когда туньер пнул его, Эсменет закричала, но была не в силах сделать хоть шаг. Она вышла из оцепенения лишь тогда, когда Ахкеймион, всхлипывая, поднялся на колени и снова выкрикнул ее имя.
Эсменет бросилась к нему… А что ей еще оставалось? У него во всем мире не было никого, кроме нее — кроме нее! Конечно, Эсменет злилась на него, но весь гнев куда-то испарился. Ему на смену пришли его прикосновения, его запах, почти опасная уязвимость, ощущение покорности, которого она прежде не знала, — и это было хорошо. Сейен милостивый, как это было хорошо! Как обнимающие тебя детские ручонки, как вкус приправленного перцем мяса после долгой голодовки. Словно плывешь в прохладной, смывающей грязь воде…
Никакой тяжести, лишь отблески солнечного света да медленно покачивающиеся тела, запах зелени…
Она больше не была пенедитари. Она стала тем, кого галеоты называют «им хустварра», походной женой. Теперь она наконец-то принадлежала Друзу Ахкеймиону. Наконец-то была чистой.
«Я могу пойти в храм», — подумала Эсменет.
Эсменет ничего не рассказала Ахкеймиону ни о Сарцелле, ни о той безумной ночи в Сумне, ни о своих подозрениях касательно Инрау. Ей казалось, что если заговорить хоть о чем-то подобном, то придется рассказывать вообще обо всем. Вместо этого она сказала Ахкеймиону, что ушла из Сумны из-за любви к нему и что примкнула к войсковым проституткам после той ночи под Момемном, когда он отверг ее.
А что ей оставалось делать? Не могла же она рисковать всем сейчас, когда они нашли друг друга? А кроме того, она и впрямь покинула Сумну из-за него. И к войсковым проституткам примкнула из-за него. Умолчание не противоречит правде.
Возможно, если бы он был тем же самым Ахкеймионом, который уходил из Сумны…
Ахкеймион всегда был… слабым, но его слабость шла от честности. Когда другие молчали и отдалялись, он говорил, и это придавало ему странную силу, отличавшую его от всех мужчин, каких только встречала Эсменет. Но теперь он стал другим. Отчаявшимся.
В Сумне она часто обвиняла его, что он похож на тех сумасшедших с Экозийского рынка, которые завывают про грехи и Страшный суд. Всякий раз, когда они проходили мимо такого типа, Эсменет говорила: «О, гляди, еще один твой приятель», — точно так же, как Ахкеймион говорил: «О, гляди, еще один твой клиент», — когда им навстречу попадался какой-нибудь непомерно разжиревший мордоворот. Теперь она бы не посмела так сказать. Ахкеймион по-прежнему оставался Ахкеймионом, но сделался изнуренным, как те безумцы, и точно так же постоянно опускал глаза, будто видел нечто ужасное, стоящее между ним и окружающим миром.
То, что он рассказал, конечно же, напугало Эсменет, но куда больше ее напугало то, как он говорил: бессвязная речь, странный смех, язвительная горячность, беспредельные угрызения совести.
Он сходил с ума. Эсменет чуяла это нутром. Но причиной тому — она поняла, — было не обнаружение Консульта и даже не уверенность в приближении Второго Апокалипсиса, а этот человек… Анасуримбор Келлхус.
Упрямый дурак! Почему он не отдаст его Завету? Если бы Ахкеймион сам не был колдуном, Эсменет сказала бы, что его зачаровали. Никакие доводы не могли переубедить его. Никакие!
Если верить Ахкеймиону, у женщин отсутствует инстинктивное понимание морали. Для них все воплощенное, материализованное… Как он там выражался? А, да! Что для женщин «существование предшествует сущности». В силу природы пути, проходящие через их души, идут параллельно с теми, каких требуют моральные принципы. Женская душа более податлива, более сострадательна, более привязчива, чем мужская. В результате им труднее осознать свой долг, и потому женщины склонны путать эгоизм с правильностью поведения — вероятно, именно это она сейчас и делала.
Но для мужчин, чья приверженность высоким идеалам порой доходит до фанатизма, принципы — это тяжелейшая ноша, которую они либо тащат сами, либо перекладывают на других. В отличие от женщины, мужчина всегда способен понять, что ему должно делать, ведь это слишком отличается от того, что он хочет.
Сперва Эсменет почти поверила ему. А как еще можно объяснить его готовность рисковать их любовью?
Но потом поняла, что ей не дают покоя именно принципы, а не тупая женская неспособность разграничить надежду и благочестие. Разве она не отдала себя ему? Разве она не отказалась от своей жизни, от своего таланта?
Разве она не смягчилась, в конце концов?
И от чего она попросила его отказаться взамен? От человека, с которым он знаком всего несколько недель, — от чужака! Более того — от человека, которого, в соответствии с его же собственными принципами, он обязан был выдать. «Может, это у тебя женская душа?!» — хотелось крикнуть ей. Но она не могла. Если мужчины должны защищать женщин от окружающего мира, то женщины должны защищать мужчин от правды — словно каждый из них навсегда остается беззащитным ребенком.
Эсменет затаила дыхание, глядя, как Ахкеймион и Келлхус обмениваются неслышными, но явно смешными замечаниями. Ахкеймион расхохотался. «Я должна ему объяснить. Я должна как-то ему это объяснить!»
Даже когда плывешь, приходится иметь дело с течением.
Всегда с чем-то борешься.
Серве шла рядом с ней и то и дело нервно посматривала в ее сторону. Эсменет помалкивала, хотя знала, что девочке хочется поговорить. Учитывая обстоятельства, она казалась достаточно безвредной. Она была из тех женщин, которых постоянно насилуют и грабят. Будь Серве ее товаркой-проституткой в Сумне, — Эсменет втайне презирала бы ее. Она бы терпеть не могла ее красоту, ее молодость, ее белокурые волосы и светлую кожу — но более всего она бы злилась на ее уязвимость.
— Акка… — выпалила девушка, потом покраснела и уставилась себе под ноги. — Ахкеймион учит Келлхуса поразительным, невиданным вещам!
И даже этот ее милый акцент. Негодование всегда было тайным напитком шлюх.
Глядя в другую сторону, Эсменет отозвалась:
— Что, в самом деле?
Возможно, именно в этом и крылась проблема. Ахкеймион предложил Келлхусу стать учеником до того, как узнал про шпионов-оборотней Консульта, то есть до того, как уверился в том, что этот человек — Предвестник. Если, конечно, он и вправду Предвестник. Возможно, тут замешаны те самые маловразумительные принципы, о которых упоминал Ахкеймион, узы… Келлхус был его учеником, как Пройас или Инрау.
При этой мысли Эсменет захотелось сплюнуть.
Серве вдруг рванулась вперед, перепрыгивая через бугорки и продираясь сквозь спутанные травы.
— Цветы! — крикнула она. — Какие красивые!
Эсменет присоединилась к Ахкеймиону и Келлхусу, которые стояли и наблюдали за девушкой. Серве опустилась на колени перед кустом, усыпанным необычными бирюзовыми цветами.
— А, — сказал Ахкеймион, приблизившись к ней, — пемембис… Ты никогда прежде их не видела?
— Никогда, — выдохнула Серве.
Эсменет почудился запах сирени.
— Никогда? — переспросил Ахкеймион, срывая цветок.
Он обернулся, взглянул на Эсменет и подмигнул ей.
— Ты хочешь сказать, что никогда не слышала этой легенды?
Эсменет стояла рядом с Келлхусом, а Ахкеймион тем временем рассказывал историю: что-то про императрицу и ее кровожадных любовников. Так прошло несколько неуютных мгновений. Князь Атритау был высок, даже для норсирайца, и отличался крепким телосложением, неизбежно вызвавшим бы грубые домыслы у ее старых друзей в Сумне. Глаза у него были ослепительно-голубые, чистые и прозрачные; при взгляде на них вспоминались рассказы Ахкеймиона про древних северных королей. А в его манере держаться, в его изяществе было что-то, казавшееся не вполне… не вполне земным.
— Так вы жили среди скюльвендов? — в конце концов спросила Эсменет.
Келлхус рассеянно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Серве и Ахкеймиона.
— Да, некоторое время.
— Расскажите что-нибудь про них.
— Например?
Эсменет пожала плечами.
— Расскажите про их шрамы… Это такие награды?
Келлхус улыбнулся и покачал головой.
— Нет.
— А что тогда?
— На этот вопрос так просто не ответишь… Скюльвенды верят лишь в действие, хотя сами они никогда не сказали бы так. Для них реально только то, что они делают. Все остальное — дым. Они даже жизнь называют «сьюртпиюта», что означает — «движущийся дым». Для них человеческая жизнь — не есть что-то конкретное, что-то такое, чем можно владеть или что можно обменять, это скорее путь, направление действий. Путь одного человека может сплетаться с другими, например с путями соплеменников; его можно указывать, если имеешь дело с рабом, его можно прервать, убив человека. Поскольку последний вариант — это действие, прекращающее действия, скюльвенды считают его самым значительным и самым истинным изо всех действий. Краеугольным камнем чести. Но шрамы, они же свазонды, не прославляют отнятие жизни, как, похоже, считают в Трех Морях. Они отмечают… ну, можно сказать, точку пересечения путей, точку, в которой одна жизнь уступила движущую силу другой. Например, тот факт, что Найюр носит столько шрамов, означает, что его ведет движущая сила многих. Его свазонды — нечто большее, чем награды, чем перечень его побед. Это — свидетельство его реальности. С точки зрения скюльвендов, он — камень, повлекший за собой лавину.
Эсменет в изумлении уставилась на Келлхуса.
— А я думала, что скюльвенды — грубые варвары. Но ведь подобные верования слишком утонченны для дикарей!
Келлхус рассмеялся.
— Все верования слишком утонченны.
Его сияющие голубые глаза словно бы удерживали Эсменет.
— А что касается «варварства»… Я боюсь, этим словом принято называть то, чего не понимаешь и что представляет собой угрозу.
Сбитая с толку Эсменет уставилась на траву у своих сандалий. Потом взглянула на Ахкеймиона и обнаружила, что он по-прежнему стоит рядом с Серве, но смотрит на нее. Он понимающе улыбнулся и принялся дальше рассказывать про качающиеся на ветру цветы.
«Он знал, что это произойдет».
Затем откуда-то донесся голос Келлхуса:
— Так, значит, ты была шлюхой.
Потрясенная Эсменет подняла голову, по привычке прикрывая татуировку на тыльной стороне руки.
— А если да, то что с того?
Келлхус пожал плечами.
— Расскажи мне что-нибудь…
— Например? — огрызнулась Эсменет.
— Каково это: ложиться с мужчиной, которого не знаешь?
Эсменет хотелось возмутиться, почувствовать себя оскорбленной, но в его манерах была какая-то искренность, сбивающая с толку — и вызывающая отклик в душе.
— Неплохо… иногда, — сказала она. — Иногда — невыносимо. Но нужно же как-то зарабатывать на жизнь. Просто таков порядок вещей.
— Нет, — отозвался Келлхус. — Я просил рассказать, каково это…
Эсменет откашлялась и смущенно отвела взгляд. Она заметила, как Ахкеймион коснулся пальцев Серве, и ощутила укол ревности. Она нервно рассмеялась.
— Какой странный вопрос…
— Тебе никогда его не задавали?
— Нет… то есть да, конечно, но…
— И что ты отвечала?
Эсменет помолчала. Она была взволнованна, испугана и ощущала странный трепет.
— Иногда, после сильного дождя, улица под моим окном становилась изрыта колеями от тележных колес, и я… я смотрела на них и думала, что моя жизнь похожа…
— На колею, протоптанную другими.
Эсменет кивнула и сморгнула слезинки.
— А в другое время?
— Шлюхи — они, вообще-то, лицедейки, об этом надо помнить. Мы играем…
Она заколебалась и взглянула в глаза Келлхусу, будто там содержались нужные слова.
— Я знаю, Бивень говорит, что мы унижаем себя, что мы оскорбляем божественность нашего пола… иногда так оно и есть. Но не всегда… Часто, очень часто, когда все эти мужчины лежали на мне, хватали ртом воздух, словно рыбы, думая, что они владеют мною, трахают меня, — мне было жалко их. Их, а не себя. Я становилась скорее… скорее вором, чем шлюхой. Я дурачилась, дурачила их, смотрела на себя со стороны, будто на отражение в серебряной монете. Это было так, как будто… как будто…
— Как будто ты свободна, — сказал Келлхус.
Эсменет улыбнулась и нахмурилась одновременно; она была обеспокоена интимными подробностями их разговора, потрясена поэтичностью собственного озарения и в то же время чувствовала странное облегчение, будто сбросила с плеч тяжелую ношу. Ее колотило. И Келлхус казался таким… близким.
— Да…
Она попыталась скрыть дрожь в голосе.
— Но откуда…
— Так мы узнали о священном пемембисе, — сказал Ахкеймион, подходя к ним вместе с Серве. — А что вы узнали?
Он бросил на Эсменет многозначительный взгляд.
— Каково это: быть тем, кто мы есть, — ответил Келлхус.
Иногда, хотя и нечасто, Ахкеймион оглядывал окрестности и просто знал, что идет той же, что и две тысячи лет назад, дорогой. Он застывал, как будто замечал в зарослях льва, или просто озирался по сторонам, изумленно, ничего не понимая. Его сбивало с толку узнавание, знание, которого не могло быть.
Сесватха когда-то проходил по этим самым холмам, спасаясь бегством из осажденного Асгилиоха, стремясь вместе с сотней прочих беженцев отыскать путь через горы, бежать от чудовищного Цурумаха. Ахкеймион поймал себя на том, что то и дело оглядывается и смотрит на север, ожидая увидеть на горизонте черные тучи. Он обнаружил, что хватается за несуществующие раны и отгоняет прочь картины битвы, в которой он не сражался: поражение киранейцев при Мехсарунате. Он осознал, что движется, как автомат, лишенный надежды и любых желаний, кроме стремления выжить.
В какой-то момент Сесватха оставил своих спутников и ушел в одиночестве бродить между продуваемых ветром скал. Где-то неподалеку отсюда он нашел маленькую темную пещерку и забился туда, свернувшись, словно пес, обхватив колени, визжа, подвывая, моля о смерти… Когда настало утро, он проклял богов за то, что все еще дышит…
Ахкеймион поймал себя на том, что смотрит на Келлхуса, и руки у него дрожат, а мысли путаются все больше и больше.
Обеспокоенная Эсменет спросила его, что случилось.
— Ничего, — бесцеремонно отрезал он.
Эсменет улыбнулась и сжала его руку, словно показывая, что доверяет ему. Но она все понимала. Ахкеймион замечал, как она с ужасом поглядывает на князя Атритау.
Время шло, и постепенно Ахкеймион начал успокаиваться и приходить в себя. Похоже, чем дальше они удалялись от пути Сесватхи, тем лучше у него получалось притворяться. Ахкеймион, сам того не заметив, завел остальных так далеко, что они просто не успели бы вернуться к Священному воинству до наступления темноты, и потому предложил поискать место для ночевки.
Фиолетовые облака смягчили облик гор. К вечеру путники отыскали на высоком квадратном уступе рощицу цветущих железных деревьев. Они направились туда, взбираясь по исчерченному бороздами склону горы. Келлхус первым заметил развалины: они наткнулись на руины небольшого айнритийского храма.
— Это что, гробница? — спросил Ахкеймион, ни к кому конкретно не обращаясь, когда они пробирались к древнему фундаменту через заросли кустов и высокую траву. Он понял, что найденная роща на самом деле была разросшейся аллеей. Железные деревья стояли рядами; их темные ветви блестели пурпуром и белизной, покачиваясь под теплым вечерним ветерком.
Путники миновали каменные глыбы, потом вскарабкались на осыпавшиеся стены и обнаружили за ними мозаичный пол с изображением Айнри Сейена; голова пророка была погребена под обломками, руки, окруженные ореолом, раскинуты в стороны. Некоторое время все четверо просто бродили, изучая окрестности, протаптывая тропки в густой траве и поражаясь тому, что это место оказалось заброшенным.
— Пепла нет, — заметил Келлхус, поковыряв ногой песчаную почву. — Похоже, строение просто рухнуло от старости.
— Такое красивое, — сказала Серве. — Как можно было это допустить?
— После того как Гедея оказалась захвачена фаним, — объяснил Ахкеймион, — нансурцы ушли с этих земель… Наверное, они сделались слишком уязвимы для налетов… Должно быть, тут везде подобные развалины.
Они набрали сухих веток. Ахкеймион развел костер колдовским словом и лишь потом понял, что разжег его на животе Последнего Пророка. Усевшись на камни по разным сторонам изображения, они продолжили разговор, и огонь казался все ярче по мере того, как вокруг темнело.
Они пили неразбавленное вино, ели хлеб, лук-порей и солонину. Ахкеймион переводил обрывки текстов, сохранившихся на мозаике.
— Маррукиз, — сказал он, изучая стилизованную печать с надписью на высоком шайском. — Это место когда-то принадлежало Маррукизу, духовной общине при Тысяче Храмов… Если я правильно помню, она была уничтожена, когда фаним захватили Шайме… Значит, это место было заброшено задолго до падения Гедеи.
Келлхус тут же задал несколько вопросов касательно духовных общин — ну конечно же! Поскольку Эсменет разбиралась в тонкостях жизни Тысячи Храмов куда лучше его, Ахкеймион предоставил отвечать ей. В конце концов, она спала со священниками всех мыслимых общин, сект и культов…
Трахала их.
Слушая ее объяснения, Ахкеймион разглядывал ремешки своей сандалии. Он понял, что ему нужна новая обувь. И его охватила глубокая печаль, злосчастная печаль человека, которого изводит все до последней мелочи. Где он найдет сандалии среди этого безумия?
Ахкеймион извинился и отошел от костра.
Некоторое время он сидел за пределами круга света, на обломках, свалившихся в рощу. Все вокруг было черным, кроме железных деревьев, но их цветущие кроны, медленно покачивавшиеся на ветру, в лунном свете казались таинственными и неземными. Их горьковато-сладкий запах напоминал о садах Ксинема.
— Опять хандришь? — раздался за спиной голос Эсменет.
Ахкеймион обернулся и увидел ее в полумраке, окрашенную в те же бледные тона, что и все вокруг. Он поразился, как ночь заставляет камень походить на кожу, а кожу — на камень. Потом Эсменет очутилась в его объятиях и принялась целовать его, стягивая с него льняную рясу. Он прижал ее к треснувшему алтарю; его руки шарили по ее бедрам и ягодицам. Она на ощупь отыскала его член и ухватила обеими руками.
Они слились воедино.
Потом, стряхивая грязь с кожи и с одежды, они улыбнулись друг другу понимающей, робкой улыбкой.
— Ну и что ты думаешь? — спросил Ахкеймион.
Эсменет издала странный звук, нечто среднее между смешком и вздохом.
— Ничего, — сказала она. — Ничего такого нежного, распутного и восхитительного. Ничего такого волшебного, как это место…
— Я имел в виду Келлхуса.
Вспышка гнева.
— Ты что, вообще ни о чем больше не думаешь?
У Ахкеймиона перехватило дыхание.
— Как я могу?
Эсменет сделалась отчужденной и непроницаемой. Над развалинами зазвенел смех Серве, и Ахкеймион поймал себя на том, что гадает — что же такого сказал Келлхус.
— Он необычный, — пробормотала Эсменет, старательно не глядя на Ахкеймиона.
«Ну и что же мне делать?» — захотелось крикнуть ему.
Но он промолчал, пытаясь задушить рев внутренних голосов.
— У нас есть мы, — внезапно сказала Эсменет. — Ведь правда, Акка?
— Конечно, есть. Но что…
— Но что еще имеет значение, если мы есть друг у друга?
Вечно она его перебивает…
— Сейен милостивый, женщина, он — Предвестник!
— Но мы можем бежать! От Завета. От него. Мы можем спрятаться. Мы с тобой, вдвоем!
— Но, Эсми… Эта ноша…
— Не наша! — прошипела она. — Почему мы должны страдать из-за нее? Давай убежим! Ну пожалуйста, Акка! Давай оставим все это безумие позади!
— Глупости, Эсменет. От конца света не убежишь! А если бы нам и удалось бежать, я стал бы колдуном без школы — волшебником, Эсми! Это еще хуже, чем быть ведьмой! Они откроют охоту на меня. Все они — не только Завет. Школы не терпят волшебников…
Он с горечью рассмеялся.
— Мы даже не доживем до того, чтобы нас убили.
— Но это же впервые, — произнесла она ломким голосом. — Я впервые…
Что-то — быть может, ее безутешно поникшие плечи или то, как она сложила руки, запястье к запястью, — толкнуло Ахкеймиона к ней: поддержать, обнять… Но его остановил перепуганный крик Серве.
— Келлхус просит вас скорее подойти! — крикнула она из темноты. — Там, вдали, факелы! Всадники!
Ахкеймион нахмурился.
— У кого там хватило дури шляться по горам среди ночи?
Эсменет не ответила. От нее и не требовался ответ.
Фаним.
Пока они пробирались через темноту, Эсменет мысленно обзывала себя дурой. Келлхус затоптал костер, превратив мозаичное изображение Последнего Пророка в созвездие беспорядочно разбросанных углей. Они поспешно перебежали открытый участок и присоединились к Келлхусу, спрятавшемуся в траве за грудой обломков.
— Смотрите, — сказал князь Атритау, указывая вниз.
У Эсменет и так перехватило дух от слов Ахкеймиона, а от того, что она увидела теперь, ей окончательно сделалось нечем дышать. Вереницы факелов извивались во тьме, двигаясь вдоль крутых склонов, по которым проходила единственная возможная дорога к разрушенному святилищу. Сотни сверкающих точек. Язычники, едущие, чтобы ограбить их. Если не хуже…
— Они скоро будут здесь, — констатировал Келлхус.
Эсменет изо всех сил пыталась совладать с внезапно захлестнувшим ее ужасом. Может случиться все, что угодно, — даже с такими людьми, как Ахкеймион и Келлхус! Мир крайне жесток.
— Может, если мы спрячемся…
— Они знают, что мы здесь, — пробормотал Келлхус. — Наш костер. Они движутся на свет костра.
— Значит, надо посмотреть, что там, — сказал Ахкеймион.
Потрясенная его тоном, Эсменет взглянула в сторону колдуна — и попятилась в страхе. Глаза и рот Ахкеймиона вдруг вспыхнули белым светом, а слова прозвучали подобно раскату грома. Затем на земле между вытянутыми руками Ахкеймиона появилась линия, такая яркая, что Эсменет вскинула руки, защищаясь от слепящего сияния. Эта безукоризненно прямая линия ринулась вперед и вверх, врезалась в облака и, озарив их, ушла в бесконечную тьму…
«Небесный Барьер! — подумала Эсменет. — Напев из рассказов Ахкеймиона про Первый Апокалипсис».
Тени запрыгали по далеким обрывам. Горы осветились, словно выхваченные из темноты вспышкой молнии. И Эсменет увидела вооруженных всадников, целую колонну; они кричали в страхе и пытались усмирить перепуганных лошадей. Она увидела потрясенные лица…
— Стойте! — крикнул Келлхус. — Стойте!
Свет погас. Темнота.
— Это галеоты, — сказал Келлхус, уверенно положив руку ей на плечо. — Люди Бивня.
Эсменет моргнула и схватилась за грудь. Она разглядела среди всадников Сарцелла.
Из темноты долетел звучный оклик:
— Мы ищем князя Атритау, Анасуримбора Келлхуса!
Звук голоса рассыпался, распался на отдельные волны: искренность, беспокойство, гнев, надежда… И Келлхус понял, что опасности нет.
«Он пришел ко мне за советом».
— Принц Саубон! — крикнул Келлхус. — Добро пожаловать! Все верные — желанные гости у нашего костра!
— А колдуны? — послышался другой голос. — Богохульники — тоже желанные гости?
В голосе звучали возмущение и сарказм. Кто говорит? Какой-то нансурец, возможно, из Массентии, хотя акцент было до странности трудно определить. Наследственный кастовый дворянин, чей ранг позволяет ему состоять в свите принца… Кто-то из генералов императора?
— И они — желанные гости, когда служат верным! — отозвался Келлхус.
— Прошу простить моего друга! — со смехом выкрикнул Саубон. — Боюсь, он прихватил с собой всего одни штаны!
Галеоты развеселились, и среди горных склонов заметались отзвуки смеха, улюлюканья, дружеских подначек.
— Чего им надо? — негромко поинтересовался Ахкеймион.
Даже в полутьме Келлхус видел на его лице отпечаток недавней боли — следы разговора с Эсменет.
Разговора о нем.
— Кто знает? — отозвался Келлхус. — На совете Саубон был первым из тех, кто рвался идти вперед, не дожидаясь айнонов и Багряных шпилей. Возможно, теперь, когда Пройас далеко, он ищет, что бы еще натворить…
Ахкеймион покачал головой.
— Он доказывал, что разрушение Руома грозит подорвать боевой дух Людей Бивня, — уточнил колдун. — Ксинем мне рассказал, что это именно ты заставил его умолкнуть… По-другому истолковав предзнаменование, которое несло в себе землетрясение.
— Думаешь, он ищет возможности поквитаться? — спросил Келлхус.
Но было уже поздно. Все новые и новые всадники останавливали коней, спешивались и разминали уставшие ноги. Саубон со свитой рысью ехал к Келлхусу; по бокам от них двигались факелоносцы. Галеотский принц натянул поводья коня в роскошной сбруе; глаза его прятались в тени бровей.
Келлхус опустил голову ровно настолько, насколько это предписывалось джнаном, — поклон, уместный при встрече двух принцев.
— Мы шли по вашим следам весь день, — сказал Саубон, спрыгивая на землю.
Когда он спустился, оказалось, что он почти так же высок, как Келлхус, но немного шире в плечах. Принц, как и его люди, оделся для битвы; на нем была не только кольчуга, но и шлем, и латные рукавицы. Под вышитым на котте Красным Львом, знаком галеотского королевского дома, красовался наспех пририсованный Бивень.
— И кто эти «мы»? — поинтересовался Келлхус, внимательно оглядывая спутников Саубона.
Саубон представил нескольких из них, начиная с седого конюха, Куссалта, но Келлхус удостоил их лишь мимолетным взглядом. Его вниманием завладел одинокий шрайский рыцарь, которого принц назвал Кутием Сарцеллом…
«Еще один. Еще один Скеаос».
— Ну, наконец-то, — произнес Сарцелл.
Его глаза поблескивали сквозь пальцы поддельного лица.
— Знаменитый князь Атритау.
Он поклонился ниже, чем того требовал его ранг.
«Отец, что все это означает?»
Так много переменных.
…Расставив дозорных и распределив людей по краям рощи, Саубон вместе со своим придворным и шрайским рыцарем вернулся к костру, вновь разведенному в глубине разрушенного святилища. В соответствии с обычаями южных дворов, галеотский принц избегал разговора о цели своего визита, скрупулезно дожидаясь того, что практикующие джнан именуют «мемпонти», то есть «удачного поворота», который как бы сам по себе переведет разговор на более важные темы. Келлхус знал, что Саубон считает обычаи собственного народа грубыми и примитивными. Каждым своим вздохом он ведет войну с тем, кто он есть.
Но внимание Келлхуса было приковано к шрайскому рыцарю, Сарцеллу, — и не только из-за его лица. Ахкеймиону удалось совладать с потрясением, и все же всякий раз, когда он смотрел в сторону рыцаря Бивня, в глазах его вспыхивали тревога и ярость. Келлхус понял, что Ахкеймион не просто знает Сарцелла — он его ненавидит. Дунианский монах прямо-таки слышал движения души Ахкеймиона: бурлящее негодование, обида за проявленное в прошлом пренебрежение, вызывающие содрогание воспоминания об ударе, угрызения совести…
«Сумна, — понял Келлхус, припоминая все, что Ахкеймион когда-либо рассказывал о своем предыдущем задании. — Что-то произошло между ним и Сарцеллом в Сумне. Что-то, затрагивающее Инрау…»
Несмотря на ненависть, чародей, по-видимому, понятия не имеет, что Сарцелл — еще один Скеаос… еще один шпион-оборотень Консульта.
И точно так же об этом не подозревает Эсменет, хотя ее эмоции еще сильнее, чем у Ахкеймиона. Страх разоблачения. Вероломная надежда… «Она думает, что он пришел забрать ее… Забрать ее у Ахкеймиона».
Она была любовницей этой твари.
Но эти загадки блекли перед главным вопросом: что оно здесь делает? Не просто в Священном воинстве, а именно здесь, в этой ночи, рядом с Саубоном…
— Как вы нас нашли? — спросил внезапно Ахкеймион.
Саубон провел рукой по коротко стриженным волосам.
— Вот мой друг, Сарцелл. Он обладает невероятными способностями следопыта…
Принц повернулся к рыцарю.
— Как, говоришь, ты этому научился?
— Еще в юности, — солгал Сарцелл, — в западных поместьях моего отца.
Он поджал чувственные губы, словно сдерживая усмешку.
— Когда выслеживал скюльвендов…
— Выслеживал скюльвендов, — повторил Саубон, словно желая сказать: «Только в Нансурии…». — Я уже готов был вернуться, когда начало темнеть, но он твердил, что вы рядом.
Саубон развел руками.
Молчание.
Эсменет сидела, оцепенев, пряча татуированные руки, как человек, стыдясь скверных зубов, старается не улыбаться. Ахкеймион поглядывал на Келлхуса, ожидая, что тот прогонит возникшую неловкость. Серве, чувствуя тревогу, молча обхватила колени руками. Тварь без лица смотрела в чашу с вином.
В иных обстоятельствах Келлхус уже сказал бы что-нибудь. Но сейчас он не мог придумать ничего дельного. Его глаза смотрели, но не видели. Лицо казалось зеркалом, отражающим чувства его спутников. Его «я» исчезло, а безжалостная мысль охотилась сама на себя. Следствие и результат. События, что, подобно концентрическим кругам, разбегаются по темной воде будущего… Каждое слово, каждый взгляд — камень.
В том была великая опасность. Следовало понять логику этой неожиданной встречи. Только Логос может осветить путь… Только Логос.
— Я шел за вами по запаху, — сказал Сарцелл.
Он смотрел прямо на Ахкеймиона, и в глазах его поблескивало нечто непонятное. Юмор?
Келлхус решил, что эта фраза не была шуткой: тварь действительно выследила их, как пес. Нужно быть чрезвычайно осторожным с подобными существами. Пока что он понятия не имел об их способностях. «А ты знаешь этих тварей, отец?»
С тех пор как он взял Друза Ахкеймиона в учителя, все преобразилось. Мир — теперь Келлхус это понимал, — скрывает много, очень много тайн, неведомых его братьям. Логос оставался истинным, но его пути были куда более извилистыми, чем полагали дуниане. И Абсолют… Конец Концов куда дальше, чем они могли себе представить. Так много препятствий. Так много развилок на пути…
Невзирая на свой скептицизм, Келлхус начал верить во многое из того, что говорил Ахкеймион в ходе их дискуссий. Он поверил в Первый Апокалипсис. Он верил, что безликая тварь, сидящая сейчас перед ним, — артефакт Консульта. Но пророчество Кельмомаса? Приближение Второго Апокалипсиса? Все это было нелепостью. Будущее не может предвосхищать прошлое. То, что придет потом, не может предшествовать тому, что было раньше…
А если может?
Столько всего, что должно дождаться отца… Так много вопросов…
Его неосведомленность уже едва не привела к беде. Простой обмен взглядами в императорском саду повлек за собой череду катастроф, включая события под Андиаминскими Высотами, в результате которых Ахкеймион уверился в том, что Келлхус — Предвестник. Если бы он решил сообщить своей школе, что Анасуримбор вернулся…
Да, опасность велика.
Друза Ахкеймиона следует оставить в неведении — это точно. Если он узнает, что Келлхус способен видеть шпионов-оборотней, он не колеблясь свяжется со своими хозяевами в Атьерсе. Эта информация слишком важна, чтобы Ахкеймион скрывал ее от школы.
Получается, Келлхусу придется разбираться со всем этим самостоятельно.
— Мой конюх, — сказал Саубон шрайскому рыцарю, — клянется, что тебя привело сюда не что иное, как колдовство… Куссалт сам воображает себя великим следопытом.
Может быть, Консульт каким-то образом узнал, что это он разоблачил Скеаоса? Император видел, как он изучал первого советника, и, что еще важнее, он это запомнил. Келлхус уже несколько раз замечал императорских шпионов, наблюдавших за ним исподтишка. Вполне возможно, что Консульт понял, как был разоблачен Скеаос.
Если им это известно, тогда вполне возможно, что Сарцелл играет роль пробного образца. Им нужно знать, провалился ли Скеаос случайно, из-за паранойи императора, или этот чужак из Атритау сумел заглянуть в его истинное лицо. Они будут следить за ним, осторожно задавать вопросы, а когда это не поможет найти ответ, они пойдут на контакт… Так ли?
А еще следовало не забывать об Ахкеймионе. Консульт, несомненно, будет присматривать за адептами Завета, единственными людьми, которые до сих пор верят в его существование. Сарцелл и Ахкеймион уже сталкивались раньше, и напрямую — это видно по реакции колдуна, — и косвенно, через Эсменет, которую, очевидно, лжерыцарь в прошлом соблазнил. Они используют ее для какой-то цели… Возможно, испытывают ее, прощупывают ее способность обманывать и предавать. Она ничего не сказала Ахкеймиону о Сарцелле — это очевидно.
«Предмет изучения так глубок, отец».
Тысяча возможностей, скачущих галопом по лишенной дорог степи будущего. Сотня сценариев, вспыхивающих у него в сознании; одни ветвились и ветвились, на время уводя его от цели, другие вели к катастрофе…
Открытое противостояние. Обвинения, выдвинутые в присутствии Великих Имен. Шум, который поднимется при разоблачении всего этого ужаса. Завет, подключившийся к делу. Открытая война с Консультом… Не годится. Нельзя привлекать Завет, пока они не смогут занять господствующее положение. Нельзя рисковать войной против Консульта. Пока что нельзя.
Косвенное противостояние. Ночные налеты. Перерезанные глотки. Попытки нанести ответный удар. Тайная война, постепенно выходящая на поверхность… Тоже не годится. Если убить Сарцелла и прочих тварей, Консульт поймет, что кто-то способен их распознавать. Когда они узнают, что этот «кто-то» — Келлхус, то косвенное противостояние перерастет в открытый конфликт.
Бездействие. Оценка происходящего. Безрезультатные проверки. Другие предположения. Ответные действия откладываются из-за необходимости разобраться. Беспокойство в тени растущей силы… Да, это годится. Даже если они узнают детали, сопутствовавшие разоблачению Скеаоса, Консульт сможет лишь строить домыслы. Если то, что рассказывает Ахкеймион, соответствует действительности, они не настолько грубы, чтобы вычеркнуть возможную угрозу, не попытавшись предварительно понять ее. Конфронтация неизбежна. Но исход зависит лишь от того, сколько времени у него будет на подготовку…
Он — дунианин, один из Обученных. Обстоятельства поддадутся. Миссия должна быть…
— Келлхус, — раздался голос Серве. — Принц тебя спрашивает.
Келлхус моргнул и улыбнулся, словно бы потешаясь над собственной глупостью. Все сидящие у костра смотрели на него, кто-то с беспокойством, кто-то с недоумением.
— П-простите, — запинаясь, пробормотал он. — Я…
Он нервно оглядел присутствующих и вздохнул.
— Иногда я… вижу…
Тишина.
— Я тоже, — язвительно бросил Сарцелл. — Но я обычно вижу, когда мои глаза открыты.
Он что, закрыл глаза? Келлхус совершенно этого не помнил. Если да, то это промах, внушающий беспокойство. Он давным-давно уже…
— Идиот! — рявкнул Саубон, поворачиваясь к шрайскому рыцарю. — Дурак! Мы сидим у костра этого человека, и ты его оскорбляешь?!
— Рыцарь-командор не оскорбил меня, — сказал Келлхус. — Вы забыли, принц, что он не только воин, но и жрец, а мы попросили его разделить костер с колдуном… Наверное, это все равно что попросить повитуху преломить хлеб с прокаженным.
Нервный смех, слишком громкий и слишком короткий.
— Несомненно, — добавил Келлхус, — он просто слегка погорячился.
— Несомненно, — откликнулся Сарцелл.
Язвительная усмешка, откровенная, как и любое выражение его лица.
«Чего оно хочет?»
— А отсюда вытекает вопрос, — продолжал Келлхус, легко и непринужденно создавая «удачный поворот», которого никак не мог дождаться принц Саубон. — Что привело шрайского рыцаря к костру колдуна?
— Меня послал Готиан, — сказал Сарцелл, — мой великий магистр…
Он взглянул на Саубона. Тот сидел с каменным лицом.
— Шрайские рыцари поклялись в числе первых ступить на землю язычников, а принц Саубон предложил…
Но тут Саубон прервал его, выпалив:
— Я буду говорить с вами наедине, князь Келлхус.
«Что ты хочешь, чтобы я сделал, отец?»
Так много вероятностей. Бессчетные вероятности.
Келлхус прошел следом за Саубоном по темным тропинкам железной рощи. Они остановились у края утеса, глядя на залитые лунным светом просторы Инунарского нагорья. Ветер усилился, листва шуршала под его порывами. Склон под утесом был усеян рухнувшими деревьями. Мертвые корни торчали кверху. На некоторых до сих пор сохранились огромные комья земли, будто упавшие грозили пыльными кулаками уцелевшим.
— Вы видите разные вещи, так ведь? — сказал в конце концов Саубон. — В смысле — вы ведь увидели Священное воинство там у себя, в Атритау.
Келлхус обнял этого человека своими ощущениями. Бешено колотящееся сердце. Кровь, прилившая к лицу. Напряженные мышцы…
«Он боится меня».
— Почему вы спрашиваете?
— Потому, что Пройас — упрямый дурак. Потому что те, кто первым успеет к столу, и пировать будут первыми!
Принц галеотов был одновременно и дерзок, и нетерпелив. Хоть он и ценил хитрость и коварство, превыше всего он ставил храбрость.
— Вы хотите выступить немедленно, — сказал Келлхус.
Саубон скривился в темноте.
— Я уже был бы в Гедее, — огрызнулся он, — если бы не вы!
Он имел в виду недавний совет, на котором предложенное Келлхусом толкование падения Руома уничтожило все доводы Саубона. Но его негодование не было искренним — Келлхус это видел. Коифус Саубон был безжалостен и корыстен, но не мелочен.
— Тогда почему вы пришли ко мне?
— Из-за того, что вы сказали… ну, про то, что Бог сжег наши корабли… В этом чувствовалась правда.
Келлхус понял, что Саубон из тех людей, что постоянно наблюдают за другими, сравнивают и оценивают. Он всю жизнь считал себя человеком проницательным, гордился умением наказывать лесть и вознаграждать критику. Но с Келлхусом… Саубон не знал, с какой меркой к нему подойти. «Он сказал себе, что я — провидец. Но боится, что я — нечто большее…»
— И что вы видите? Правду?
При всем своем корыстолюбии Саубон обладал неким приземленным благочестием. Для него вера была игрой — но игрой очень серьезной. Там, где другие клянчили и называли это «молитвой», Саубон торговался. Идя сюда, он думал, что отдает богам то, что им причитается…
«Он боится совершить ошибку. Блудница-Судьба дает ему всего один шанс».
— Мне нужно знать, что вы видите! — выкрикнул принц. — Я воевал во многих кампаниях: все — ради моего жалкого отца. Я не дурак повоевать. И я не думаю, что иду в фанимскую ловуш…
— Вспомните, что сказал на совете Найюр, — перебил его Келлхус. — Фаним сражаются верхом. Они заманят вас в капкан. И не забывайте про кишау…
Саубон громко фыркнул.
— Мой племянник отправился к Гедее на разведку и каждый день шлет мне донесения. Нет никаких фанимских войск, затаившихся в тени этих гор! Их застрельщики, за которыми гоняется Пройас, просто дурачат нас, задерживают, чтобы язычники успели собрать силы. Скаур достаточно благоразумен, чтобы понять, когда расклад не в его пользу. Он отступил в Шайгек, засел в городах по Семпису и ждет, пока подойдет падираджа с кианскими грандами. Он уступит Гедею тому, у кого хватит мужества прийти и взять ее!
Галеотский принц определенно верил в то, что говорил, но можно ли верить ему? Его доводы казались достаточно здравыми. И Пройас с уважением отзывался о военных талантах Саубона. Во время затишья Саубон даже боролся с Икуреем Конфасом, за несколько лет до…
Поток вероятностей. Где-то среди них кроется благоприятная возможность… И наверное, нет необходимости открыто противостоять Сарцеллу или уничтожать его. Пока что.
«Я мало знаю о войне. Слишком мало…»
— Значит, вы надеетесь, — сказал Келлхус. — Скаур может…
— Значит, я знаю!
— Тогда какое имеет значение, одобряю я ваши действия или нет? Правда есть правда, вне зависимости от того, кто ее высказал…
Безрассудство.
— Я прошу лишь вашего совета. Скажите, что вы видите… И ничего больше.
Слабость в глазах. Прерывистое дыхание. Глухой голос.
«Еще одна ложь».
— Но я вижу многое… — пожал плечами Келлхус.
— Ну так скажите мне!
Келлхус покачал головой.
— Я лишь изредка вижу проблески будущего. Сердца людей… то, чем они являются…
Он умолк, с беспокойством посмотрел вниз, на крутой склон, на выбеленные солнцем кости изломанных деревьев.
— Вот что я обычно вижу.
Саубон насторожился.
— Тогда скажите… Что вы видите в моем сердце?
«Разоблачи его. Сорви с него всю ложь, все притворство.
Когда стыд пройдет…»
Келлхус на краткий миг впился взглядом в глаза принца.
«…он будет думать, что так и надо — стоять нагим передо мной».
— Мужчина и дитя, — сказал Келлхус, вплетая в голос более глубокие обертоны, делая его почти осязаемым. — Я вижу мужчину и дитя… Мужчину терзает пропасть между силой и бессилием, данными ему по праву рождения. Ему навязали судьбу, которую он отверг, и потому он день за днем живет среди того, чем не обладает. Жажда, Саубон… Не жажда золота — жажда признания. Неудержимое желание быть признанным людьми — чтобы они смотрели и говорили: «Вот король, создавший себя сам!»
Келлхус смотрел в пустоту у себя под ногами, пустоту, от которой начинала кружиться голова. Глаза его были стеклянными: он созерцал путаницу внутренних тайн…
Саубон глядел на него с ужасом.
— А дитя? Вы сказали, что есть еще и дитя!
— Дитя по-прежнему страшится отцовской руки. Просыпается по ночам и плачет, не потому, что хочет признания, а потому, что хочет, чтобы его знали… Никто его не знает. Никто не любит.
Келлхус повернулся к принцу; в глазах его светилось понимание и неземное сострадание.
— Я могу продолжить…
— Н-нет, — запинаясь, пробормотал Саубон, словно выходя из транса. — Хватит. Довольно…
Но чего довольно? Саубон хотел получить предлог. Что он даст взамен? Там, где так много вероятностей, все сопряжено с риском. Абсолютно все.
«Что, если я сделаю неверный выбор, отец?»
— Вы слышите?! — со страхом воскликнул Келлхус, поворачиваясь к Саубону.
Галеотский принц отскочил от края утеса.
— Что слышу?
Правда порождает правду, даже если это ложь.
Келлхус пошатнулся. Саубон метнулся и оттащил его от обрыва.
— Поход! — выдохнул Келлхус прямо в лицо Саубону. — Блудница-Судьба будет благосклонна к вам… Но вы должны позаботиться, чтобы шрайские рыцари…
Он изумленно распахнул глаза, словно говоря: «Не может быть, чтобы послание оказалось таким!»
Есть предназначения, которые невозможно постигнуть заранее. Есть дороги, по которым следует пройти, чтобы узнать их. Рискнем.
— Вы должны позаботиться, чтобы шрайские рыцари были наказаны.
Когда Келлхус и Саубон ушли, Эсменет осталась сидеть, молча глядя в костер и изучая мозаичное изображение Последнего Пророка у себя под ногами. Она убрала ступни с ореола, окружающего руки Айнри Сейена. Это казалось кощунством, что им приходится ходить по нему…
Хотя с каких пор ее это волнует? Она проклятая. Никогда еще это не казалось таким очевидным, как сейчас.
Сарцелл здесь!
Несчастье за несчастьем. Почему боги настолько ее ненавидят? Почему они так жестоки?
Сарцелл, великолепный в своей серебристой кольчуге и белой котте, дружелюбно беседовал с Серве о Келлхусе, расспрашивая, откуда он родом, где они встретились, и все такое. Серве наслаждалась его вниманием; по ее ответам ясно было, что она обожает князя Атритау. Она говорила так, словно существовала только в той мере, в какой была связана с ним. Ахкеймион смотрел на них, хотя почему-то казалось, будто он не слушает.
«Ох, Акка… Почему я знаю, что потеряю тебя?»
Не боюсь, а знаю. До чего же жесток этот мир!
Пробормотав извинения, Эсменет встала и медленной, размеренной походкой отошла от костра.
Окутанная темнотой, она остановилась и опустилась на обломок рухнувшей колонны. Ночь была пропитана шумом, поднятым людьми Саубона: ритмичный стук топоров, гортанные возгласы, грубый смех. Под темными деревьями фыркали боевые кони и рыли копытами землю.
«Что мне делать? А вдруг Акка узнает?»
Эсменет оглянулась и была потрясена, обнаружив, что по-прежнему видит Ахкеймиона, темно-оранжевую фигуру у костра. Его несчастный вид и пять белых прядей в бороде вызвали у нее улыбку. Кажется, он говорил с Серве…
А куда делся Сарцелл?
— Должно быть, трудно быть женщиной в подобном месте, — раздался голос у нее за спиной.
Эсменет подскочила и стремительно обернулась; сердце бешено забилось от испуга и тревоги. Она увидела идущего к ней Сарцелла. Ну конечно…
— Так много свиней, — продолжил он, — и всего одно корыто.
Эсменет сглотнула и застыла, ничего не ответив.
— Я уже где-то видел тебя, — сказал Сарцелл, продолжая игру притворства, начатую еще у костра. — Ведь правда?
Он насмешливо поднял брови.
Глубокий вздох.
— Нет. Я уверена, что мы не виделись.
— Но как же… Да! Ты… проститутка. — Он обворожительно улыбнулся. — Шлюха.
Эсменет огляделась по сторонам.
— Я понятия не имею, о чем вы говорите.
— Колдун и шлюха… Пожалуй, в этом есть некое странное соответствие. Если учесть, сколько мужчин вылизывали тебе промежность, пожалуй, неплохо припасти одного с магическим языком.
Эсменет ударила его — точнее, попыталась. Рыцарь перехватил ее руку.
— Сарцелл, — прошептала она. — Сарцелл, пожалуйста…
Она почувствовала, как его пальцы скользнули по внутренней стороне ее бедра, следуя какой-то немыслимой линии.
— Как я и сказал, — пробормотал он тоном, который она сразу узнала. — Корыто одно.
Эсменет оглянулась на костер и увидела, что Ахкеймион, хмурясь, смотрит туда, куда она ушла. Конечно, он ничего не видит в темноте — таково вероломство огня, освещающего небольшой круг и делающего весь остальной мир еще темнее. Но мог Ахкеймион это видеть или не мог, значения не имело.
— Нет, Сарцелл! — прошипела она. — Не… «…здесь».
— Нет, пока я жива! Ты понял?
Она чувствовала его жар.
«Нет-нет-нет-нет…»
Тут раздался другой, более звучный голос:
— Что-то случилось?
Развернувшись, Эсменет увидела, как из рощи вышел князь Келлхус.
— Н-нет. Ничего, — выдохнула Эсменет, с изумлением осознав, что ее рука свободна. — Господин Сарцелл испугал меня, только и всего.
— Она говорит охотно, — сказал Сарцелл. — Но то же самое делает большинство женщин.
— Вы так думаете? — отозвался Келлхус и подошел вплотную, так что Сарцеллу пришлось поднять взгляд. Келлхус смотрел на рыцаря. Держался он спокойно и даже несколько рассеянно, но в его поведении чувствовалась неумолимая, непреклонная решимость, от которой у Эсменет бешено заколотилось сердце. Ей захотелось кинуться прочь, не разбирая дороги. Неужто он слушал? Неужто он слышал?
— Возможно, вы правы, — бесцеремонно заявил Сарцелл. — Большинство мужчин тоже говорят легко.
На миг воцарилось неловкое молчание. Что-то в душе Эсменет требовало заполнить тишину, но ей не хватало воздуха, чтобы заговорить.
— Ну что ж, я вас покину, — объявил Сарцелл.
И, небрежно поклонившись, он размашисто зашагал обратно к костру.
Оставшись наедине с Келлхусом, Эсменет облегченно вздохнула. Рука, сжимавшая ее сердце мгновением раньше, исчезла. Эсменет взглянула на Келлхуса и мельком заметила Гвоздь Небес над его левым плечом. Князь казался призраком, сотканным из золота и тени.
— Спасибо, — прошептала она.
— Ты любила его?
У Эсменет защипало глаза. Ей почему-то даже в голову не пришло просто ответить «нет». Князю Анасуримбору Келлхусу невозможно было солгать. Вместо этого Эсменет сказала:
— Пожалуйста, не говорите Акке.
Келлхус улыбнулся, но в глазах его по-прежнему стояла глубокая печаль. Он протянул руку, словно собираясь коснуться щеки Эсменет, — но уронил ее.
— Пойдем, — сказал он. — Ночь заканчивается.
Держась за руки крепко, как юные влюбленные, Эсменет и Ахкеймион брели через кусты, выбирая подходящее местечко для сна. Они нашли ровный пятачок на опушке рощи, неподалеку от утеса, и расстелили там свои циновки. Улеглись, тяжело дыша и постанывая, словно старик со старухой. Ближайшее к ним железное дерево недавно засохло, и теперь его алебастровый силуэт застыл на фоне неба искривленной рукой. Эсменет принялась разглядывать созвездия сквозь ветви. Ее тяготили мысли о Сарцелле и воспоминание о гневных словах, брошенных Ахкеймионом.
«От конца света не убежишь!»
Как она могла быть такой дурой! Чтобы шлюха посмела ставить себя на одну доску с ним! Он ведь — адепт Завета! Каждую ночь он теряет любимых, каких она даже вообразить не может, не то что самой стать достойной их. Она слышала его крики. Слышала, как он лихорадочно бормочет что-то на неведомых языках. Видела, как его взгляд теряется в древних галлюцинациях.
Она же знала это! Сколько раз она удерживала его во влажной тьме?
Да, Ахкеймион любил ее, но любовь Сесватхи была мертва.
— Я тебе когда-нибудь рассказывала, — спросила Эсменет, содрогнувшись от этой мысли, — что моя мать умела читать по звездам?
— Это опасно, особенно в Нансурии, — отозвался Ахкеймион. — Разве она не знала, какая кара за это грозит?
Запрет на астрологию был таким же строгим, как и на колдовство. Будущее слишком ценно, чтобы делиться им с людьми низших каст. «Лучше быть шлюхой, Эсми, — говаривала мать. — Камни — всего лишь далеко бьющие кулаки. Лучше быть побитой, чем сожженной…»
Сколько лет ей было тогда? Одиннадцать?
— Знала, потому и отказалась учить меня…
— Она была мудрой женщиной.
Задумчивое молчание. Эсменет боролась с необъяснимым приступом гнева.
— Акка, как ты думаешь, они действительно знают будущее? Ну, звезды?
Короткая пауза.
— Нет.
— А почему?
— Нелюди считают, что небо — это бездонная, бескрайняя пустота…
— Пустота? Но как такое возможно?
— Более того, они считают, что звезды — это далекие солнца.
Эсменет хотелось рассмеяться, но потом она увидела — словно вдруг взглянула сквозь отражение в воде — как небесное блюдо тонет в невозможной глубине, как пустота громоздится на пустоту, бездна на бездну, и звезды — не солнца! — висят, словно пылинки в луче света. У нее перехватило дыхание. Странным образом небо превратилось в зияющую дыру. Эсменет безотчетно ухватилась за траву, будто стояла на краю обрыва, а не лежала на земле.
— Как они могут так считать? — спросила она. — Солнце ходит вокруг мира. Звезды движутся кругами вокруг Гвоздя.
Тут ей вдруг пришло в голову, что и сам Гвоздь Небес может быть еще одним миром, одним из тысячи тысяч солнц. В таком небе все может быть!
Ахкеймион пожал плечами.
— Предполагается, что им это рассказали инхорои. Что они приплыли сюда со звезд, которые на самом деле солнца.
— И ты им веришь? Нелюдям? Потому и не думаешь, что звезды прядут наши судьбы?
— Я им верю.
— Но при этом ты веришь, что будущее предрешено…
В воздухе сгустилось напряжение; трава сделалась колкой, словно проволока.
— Ты веришь, что Келлхус — Предвестник.
Эсменет осознала, что все время говорит о Келлхусе. О князе Келлхусе.
Краткий миг тишины. Смех среди разрушенных стен — Келлхус и Серве.
— Да, — сказал Ахкеймион.
Эсменет затаила дыхание.
— А что, если он нечто большее? Больше, чем Предвестник?
Ахкеймион перекатился на бок и подложил ладонь под щеку. Эсменет лишь сейчас заметила дорожки слез на его лице. Он плакал все это время — поняла она. Все это время.
«Он страдает… Страдает куда сильнее, чем когда-либо страдала я».
— Ты понимаешь, — сказал Ахкеймион. — Ты понимаешь, почему он мучает меня, ведь правда?
Ее кожа вспомнила прикосновение пальцев Сарцелла ко внутренней стороне бедра. Эсменет содрогнулась, и ей показалось, будто она слышит, как Серве постанывает и вскрикивает в темноте…
«Я просил тебя рассказать, — сказал тогда Келлхус, — каково это».
Она больше не хотела бежать.
— Завету не следует знать о нем, Акка… Мы должны нести эту ношу сами.
Ахкеймион поджал дрожащие губы. Сглотнул.
— Мы?
Эсменет снова перевела взгляд на звезды. Еще один язык, которого она не знает.
— Мы.
Глава 5. Равнина Менгедда
«Почему я должен завоевывать, спросите вы. Война приносит ясность. Жизнь или Смерть. Свобода или Рабство. Война изгоняет осадок из воды жизни».
Триамис I, «Дневники и диалоги»4111 год Бивня, начало лета, неподалеку от равнины Менгедда
Найюр понял, что не все гладко, еще до того, как увидел вытоптанные пастбища и мертвые очаги: слишком мало дыма на горизонте, слишком много стервятников в небе. Когда он сказал об этом Пройасу, принц побледнел, словно Найюр был заодно с грызущим его беспокойством. Когда они выехали на гребень последней гряды холмов и увидели, что под стенами Асгилиоха остались лишь конрийцы и нансурцы, Пройас впал в такую ярость, что казалось, будто его вот-вот хватит удар. Он нахлестывал коня, мчась вниз по склону, и пронзительно выкрикивал проклятия.
Найюр, Ксинем и прочие конрийские кастовые дворяне из их отряда гнались за ним всю дорогу до штаб-квартиры Конфаса, где экзальт-генерал со свойственной ему бойкостью объяснил, что вчера утром Коифус Саубон решил выступить в отсутствие Пройаса. Шрайские рыцари, конечно же, не могли допустить, чтобы кто-то ступил на земли язычников прежде них, а что касается Готьелка, Скайельта и их варваров — разве стоит ожидать, что они отличат дурака от мудреца, если волосы закрывают им глаза?
— И вы что, не спорили с ними? — воскликнул Пройас. — Не привели свои доводы?
— Саубона не интересовали доводы, — отозвался Конфас с таким видом, будто мысленно полировал ногти. — Он прислушивался к более громкому голосу — судя по всему.
— Голосу Бога? — спросил Пройас.
Конфас рассмеялся.
— Я бы сказал — к голосу жадности, но да, я полагаю, ответ «Бог» тоже подойдет. Он сказал, что у вашего друга, князя Атритау, было видение…
Он взглянул на Найюра.
— У кого — у Келлхуса?! — крикнул Пройас. — Келлхус сказал ему выступать?!
— Так он заявил, — отозвался Конфас.
«Настолько уж безумен этот мир», — звучало в его голосе, хотя в глазах читалось совсем иное.
Всех охватило полное замешательство. За прошедшие недели имя дунианина приобрело большой вес среди айнрити, словно Келлхус был камнем, который они держали в руке. Найюр видел это по их лицам: взгляды попрошаек, у которых в подол зашито золото, или пьянчуг с чрезмерно застенчивыми дочерьми… Интересно, а что произойдет, когда камень сделается слишком тяжелым?
Позднее, когда Пройас добрался до лагеря Ксинема и отыскал дунианина, Найюра преследовала одна и та же мысль. «Он совершил ошибку!»
— Что ты наделал?! — спросил Пройас у чудовища.
Голос его дрожал от гнева.
Все — Серве, Динхаз, даже болтливый колдун и его сварливая шлюха, — все сидели вокруг костра, ошеломленные. Никто и никогда не разговаривал с Келлхусом в подобном тоне. Никто.
Найюр едва не расхохотался.
— Что ты хочешь, чтобы я сказал? — спросил дунианин.
— Что произошло?! — крикнул Пройас.
— Саубон пришел к нам, — быстро проговорил Ахкеймион, — пока ты был в Тус…
— Тихо! — рявкнул принц, даже не взглянув на колдуна. — Я спрашиваю тебя…
— Ты не выше меня по статусу! — прогремел голос Келлхуса.
Все, включая Найюра, подскочили, и не только от неожиданности. Что-то было такое в его голосе… Что-то сверхъестественное.
Дунианин вскочил и, хоть и стоял на некотором отдалении, словно бы навис над конрийским принцем. Пройас даже попятился.
— Ты равен мне по положению, Пройас. И не претендуй на большее.
С того места, где остановился Найюр, казалось, будто красновато-желтые стены и приземистые башни Асгилиоха обрамляют головы и плечи мужчин. Келлхус с его аккуратно подстриженной бородой и длинными волосами, сияющими золотом в лучах закатного солнца, был на целую голову выше смуглого конрийского принца, но в обоих в равной мере ощущались изящество и сила. Взгляд Пройаса вновь загорелся гневом.
— Я претендую лишь на одно, Келлхус: чтобы решения, касающиеся Священного воинства, не принимались без меня.
— Я не принимал никакого решения. Ты это знаешь. Я только сказал Саубону…
На краткий миг на лице Келлхуса проступило странное, почти безумное выражение уязвимости. Казалось, будто он смотрит сквозь конрийского принца.
— Только — что?
Глаза дунианина стали пустыми, поза сделалась напряженной — все в нем будто… будто бы сошлось в одной точке, словно он присутствовал здесь и сейчас куда больше, чем все прочие. Словно он стоял среди призраков.
«Он говорит загадками, — напомнил себе Найюр. — Он воюет против всех нас!»
— Только то, что я видел, — вымолвил наконец Келлхус.
— И что же ты видел?
Эти слова прозвучали вымученно.
— Ты хочешь знать, Нерсей Пройас? Ты действительно хочешь, чтобы я рассказал тебе?
Теперь Пройас заколебался. Взгляд его заметался, на долю секунды, не более, задержавшись на Найюре. Бесцветным, лишенным выражения голосом принц произнес:
— Ты нас погубил.
А затем, резко развернувшись, зашагал к своему лагерю.
Впоследствии, когда они очутились в душном шатре, Найюр уселся напротив дунианина по-скюльвендски и потребовал объяснить, что же произошло на самом деле. Серве забилась в угол, словно щенок, побитый двумя хозяевами.
— Я сказал то, что сказал, и это укрепит наше положение, — заявил Келлхус.
Голос его был бесстрастен и бездонен — как всегда, когда он желал проявить свое истинное «я».
— Так ты укрепляешь наше положение? Отталкивая от себя нашего покровителя? Посылая половину Священного воинства на верную смерть? Поверь мне, дунианин, я воевал с фаним. У Священного воинства… этого переселения, или как там еще его назвать, очень мало шансов их одолеть, не говоря уж о том, чтобы отвоевать Шайме! А ты еще уменьшил эти шансы! Мертвый Бог, ты же говорил, что я нужен тебе, чтобы научиться войне!
Келлхус, конечно же, остался непреклонен.
— Ссора с Пройасом пойдет нам на пользу. Он слишком резок в суждениях и слишком подозрителен. Он откроется лишь после того, как его подтолкнут к раскаянию. И он раскается. Что же касается Саубона, я сказал ему только то, что он хотел услышать. Каждому человеку нравится, когда подтверждают льстящие ему иллюзии. Каждому. Потому-то люди и поддерживают — охотно поддерживают — столько паразитических каст: тех же прорицателей, жрецов, сказителей…
— Читай мое лицо, пес! — прорычал Найюр. — Ты не убедишь меня в том, что это — успех!
Пауза. Сияющие глаза сощурились, наблюдая. Намек на устрашающий испытующий взгляд.
— Нет, — сказал Келлхус. — Думаю, нет.
Новая ложь.
— Я не предвидел, — продолжал монах, — что остальные — Готьелк и Скайельт — последуют за ним. В том, что касалось галеотов и шрайских рыцарей, я счел риск приемлемым. Священное воинство может пережить их потерю. А если вспомнить, что ты говорил про слабости неповоротливого войска, может, это даже к лучшему. Но без тидонцев…
— Лжешь! Иначе ты остановил бы их! Ты мог бы их остановить, если бы захотел!
Келлхус пожал плечами.
— Возможно. Но Саубон покинул нас в ту самую ночь, когда отыскал в холмах. Вернувшись, он сразу поднял своих людей и на следующий день выступил еще до рассвета. К тому времени, как мы вернулись, Готьелк и Скайельт уже двинулись следом за ним к Вратам Юга. Мы опоздали.
— Ты ему поверил, так? Ты поверил во весь этот вздор насчет того, что Скаур бежал из Гедеи. Ты до сих пор в это веришь!
— Верит Саубон. Я лишь полагаю, что это возможно.
— Как ты сказал, — злобно огрызнулся Найюр, — каждому нравится, когда подтверждают льстящие ему иллюзии.
Очередная пауза.
— Сперва мне требуется кто-нибудь из Великих Имен, — сказал Келлхус, — затем последуют другие. Если Гедея падет, принц Коифус Саубон будет обращаться ко мне всякий раз, прежде чем принять сколько-нибудь серьезное решение. Нам нужно Священное воинство, скюльвенд. Я решил, что ради этого стоит рискнуть.
Недоумок! Найюр уставился на Келлхуса, хоть и знал, что по лицу дунианина ничего не прочесть, а вот по его собственному — все, что угодно. Он подумал было, не рассказать ли ему о коварстве фаним, которые постоянно пускали в ход ложные атаки и дезинформацию и с неизменным успехом одурачивали кретинов вроде Коифуса Саубона. Но тут он боковым зрением заметил Серве, наблюдающую за ним из угла; ее взгляд был полон ненависти и ужаса. «Все как всегда», — сказала часть его души. Измученная часть.
И вдруг Найюр осознал, что он действительно поверил дунианину, поверил, что тот совершил ошибку.
Такое случается часто — когда человек верит и не верит одновременно. Найюру вспомнилось, как он слушал старого Хаюрута, сказителя утемотов, который в детстве учил его своим стихам. Вот только что Найюр плыл по степи с каким-нибудь героем вроде великого Утгая, а в следующий миг видел перед собой сломленного старика, перепившего гишрута и бормочущего фразы тысячелетней давности. Когда человек верит, это трогает его душу. Когда не верит — все остальное.
— Не все, что я говорю, — сказал дунианин, — обязательно является ложью, скюльвенд. Почему ты упорно считаешь, будто я обманываю тебя во всем?
— Потому что так ты ни в чем не сможешь меня обмануть.
…Найюр ехал с краю, чтобы избежать пыли, и посматривал на Пройаса и его свиту. Несмотря на великолепие нарядов, вид у кастовых дворян был мрачный. Они перешли горы Унарас через Врата Юга и теперь наконец-то ехали по землям язычников, по Гедее. Но они не чувствовали ни ликования, ни уверенности. Два дня назад Пройас разослал несколько конных отрядов на поиски Саубона, галеотского принца. Нынешним утром кавалеристы лорда Ингиабана обнаружили воинов одного из этих отрядов мертвыми.
Гедея — во всяком случае здесь, в предгорьях Унарас, — была неуютным краем, сплошь состоящим из каменистых склонов и приземистых скал. Весенняя зелень уже начала выгорать под летним солнцем; свежими остались лишь рощи выносливых кедров. Небо напоминало бирюзовое блюдо, плоское и сухое — совершенно не похожее на усыпанные облачками глубокие небеса Нансурии.
Грифы и вороны взмыли в воздух при приближении людей.
Пройас выругался и натянул поводья.
— Что это значит? — поинтересовался он у Найюра. — Что Скаур умудрился зайти в тыл Саубону? Что фаним их окружили?
Найюр приставил ладонь ко лбу, закрывая глаза от солнца.
— Возможно…
Трупы были раздеты: шесть-семь десятков мертвецов, раздувшихся на жаре, разбросанных, словно вещи, потерянные во время бегства. Найюр без предупреждения послал коня в галоп, вынудив принца и его свиту отправиться следом.
— Содорас был моим кузеном, — раздраженно произнес Пройас, резко останавливаясь рядом с Найюром. — Отец будет в бешенстве!
— Еще одним кузеном, — мрачно заметил лорд Ингиабан.
Ему вспомнился Кальмемунис и Священное воинство простецов.
Найюр втянул воздух, принюхиваясь к запаху разложения. Он почти забыл, что это такое: ползающие мухи, раздувшиеся животы, глаза, подобные разрисованной ткани. Почти забыл, как это свято.
Война… Казалось, будто сама земля трепещет.
Пройас спешился и присел рядом с одним из покойников. Смахнул мух латной перчаткой. Повернувшись к Найюру, спросил:
— А ты? Ты все еще веришь ему?
Он отвел взгляд, словно смутившись искренности вопроса.
Ему… Келлхусу.
— Он… — Найюр помедлил, потом сплюнул, хотя следовало бы пожать плечами. — Он видит разные вещи.
Пройас фыркнул.
— Что-то твои слова не сильно меня успокаивают.
Он встал — тень принца накрыла мертвого воина — и принялся отряхивать пыль с богато украшенной юбки, которую носил поверх кольчужных штанов.
— Пожалуй, все как всегда.
— Что вы имеете в виду, мой принц? — спросил Ксинем.
— Мы считаем явления более прекрасными, чем они есть на самом деле, думаем, что они будут развиваться в соответствии с нашими чаяниями, нашими ожиданиями…
Он открыл бурдюк и сделал большой глоток.
— У нансурцев даже есть для этого специальное слово, — добавил принц. — Мы — идеалисты.
Найюр решил, что подобные заявления отчасти объясняют тот благоговейный трепет, который Пройас внушает людям, в том числе и кастовым дворянам, таким как Гайдекки и Ингиабан. Смесь честности и проницательности…
Келлхус делает то же самое. Или не то?
— Ну, так что ты думаешь? — спросил Пройас. — Что здесь произошло?
Он снова взобрался на коня.
— Трудно сказать, — отозвался Найюр, еще раз оглядывая мертвецов.
Лорд Гайдекки громко фыркнул.
— Ха! Содорас не был дураком. Его превзошли числом.
Найюр не был с ним согласен, но, не став спорить, пришпорил коня и поскакал к гребню горы. Почва была песчаной, дерн — рыхлым, и его конь — холеный вороной конрийской породы — несколько раз оступился, прежде чем добрался до вершины. Там Найюр остановился, прислонившись к луке седла, чтобы не так болела спина. Прямо на севере в дымке расплывались вершины гор Унарас.
Найюр немного проехал вдоль гребня, разглядывая истоптанную землю и считая мертвых. Еще семнадцать убитых: раздетых, как и прочие, руки искорежены, вокруг ртов кишат мухи.
Слышно было, как внизу Пройас спорит с придворными.
Пройас неглуп, но горячность делает его нетерпеливым. Он подолгу слушал рассказы Найюра об изобретательности кианцев, но до сих пор плохо представляет себе врага. Однако, с другой стороны, его соотечественники вообще не понимают, с кем им придется воевать. А когда люди, знающие мало, спорят с людьми, не знающими ничего, то непременно выходят из себя.
С первых же дней похода Найюр испытывал серьезные опасения насчет Священного воинства. До сих пор едва ли не все его предложения, высказанные на советах, либо просто отвергались, либо высмеивались в открытую. Мягкотелые придурки!
Во многих отношениях Священное воинство было полной противоположностью скюльвендской орде. Степной народ не терпел, чтобы за ним кто-то тащился. Никаких рабов, подтирающих задницу хозяину, никаких прорицателей и жрецов, и уж, конечно, никаких баб — их всегда можно найти во вражеской стране. Скюльвенды брали с собой ровно столько, сколько могли унести конь и всадник, — даже для самых долгих походов. Если у них заканчивался амикут и не удавалось раздобыть еды, они пили кровь своих коней либо ходили голодными. Их лошади были маленькими, невзрачными и относительно небыстрыми, но зато приспособленными к жизни под открытым небом. Коню, на котором Найюр ехал сейчас, не просто требовалось зерно вместо травы; ему требовалось столько зерна, что его хватило бы на трех человек!
Безумие.
Единственным, против чего Найюр не протестовал, был распад Священного воинства — именно то, чего так боялось напыщенное дворянство. Что такое с этими айнрити? Они что, спят с собственными сестрами? Или их в детстве часто бьют по голове? Ведь чем больше войско, тем медленнее оно продвигается. Чем медленнее оно продвигается, тем больше припасов съедает. Что тут непонятного? Проблема не в том, что Священное воинство разделилось. У него просто не было другого выхода: Гедея, судя по описанию, страна бедная и малонаселенная. Проблема в том, что они разделились, ничего не обдумав, не выслав разведку, не согласовав маршруты продвижения и способы связи.
Но как заставить их понять это? Понять, что от этого согласования зависит жизнь Священного воинства. Зависит все…
Найюр сплюнул в пыль, послушал их перебранку, посмотрел, как они размахивают руками.
Важным было лишь одно: убить Анасуримбора Моэнгхуса. Вот мера всего.
«Любое унижение… Все, что угодно!»
— Лорд Ингиабан! — крикнул Найюр.
Спорщики умолкли и повернулись к нему.
— Скачите обратно к главной колонне и приведите хотя бы сотню людей. Фаним любят внезапно обрушиться на тех, кто отходит посмотреть на покойников.
Когда никто из толпящихся внизу дворян не сдвинулся с места, Найюр выругался и поскакал вниз по склону. Пройас нахмурился при его приближении, но ничего не сказал.
«Он меня испытывает».
— Меня не волнует, считаете ли вы меня наглецом, — сказал Найюр. — Я говорю только то, что должно быть сделано.
— Я съезжу, — вызвался Ксинем и уже развернул было коня.
— Нет, — отрезал Найюр. — Поедет лорд Ингиабан.
Ингиабан заворчал, провел пальцами по синим воробьям, вышитым на котте, — знаку его дома — и гневно взглянул на Найюра.
— Из всех псов, которые осмеливались мочиться мне на ногу, — бросил он, — ты — единственный, кто прицелился выше колена.
Несколько придворных загоготали, а палатин Кетанейский с горечью усмехнулся.
— Но прежде чем я сменю брюки, — продолжил Ингиабан, — пожалуйста, объясни, скюльвенд, почему ты решил помочиться именно на меня.
Найюра эта речь не позабавила.
— Потому что твои люди ближе всего к нам. Потому что на кон поставлена жизнь твоего принца.
Худощавый длиннолицый придворный побледнел.
— Делай, как он говорит! — крикнул Ксинем.
— За собой последи, маршал! — огрызнулся Ингиабан. — Если ты играешь в бенджуку с принцем, это еще не значит, что ты выше меня.
— Это значит, Ксин, — язвительно заметил лорд Гайдекки, — что ты не должен описывать его выше пояса.
Новый взрыв смеха. Ингиабан печально покачал головой. Он немного задержался, прежде чем уехать, и слегка наклонил голову, глядя на скюльвенда, но трудно было сказать, то ли это знак примирения, то ли предостережения.
Воцарилось неловкое молчание. На миг группу придворных накрыла тень грифа. Пройас взглянул на небо.
— Итак, Найюр, — сказал он, щурясь от яркого солнца, — что же здесь произошло? Их превзошли числом?
Найюр хмуро посмотрел на принца.
— Их превзошли умом, а не числом.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Пройас.
— Твой кузен был глупцом. Он привык строить своих людей колонной. Они свернули в эту низинку и начали подниматься по склону, по трое-четверо в ряд. Кианцы, заставив лошадей лечь, поджидали их наверху.
— То есть они попали в засаду…
Пройас приставил руку козырьком ко лбу, вглядываясь в гребень холма.
— Ты думаешь, язычники натолкнулись на них случайно?
Найюр пожал плечами.
— Может быть. А может, и нет. Поскольку Содорас считал свой отряд передовым, то не видел нужды самому высылать разведчиков. Фаним более благоразумны. Они вполне могли выслеживать его так, что он об этом не знал, и рассчитать, что рано или поздно он подойдет сюда…
Он развернул коня и указал на раздувшихся мертвецов у самого гребня. Они выглядели до странности мирно, словно группа евнухов, вздремнувших на солнышке после купания.
— Ясно одно: фаним атаковали их, когда первые всадники поднялись на гребень, Содорас — в их числе…
— Какого черта! — не сдержался лорд Гайдекки. — Откуда ты знаешь, как…
— Кавалеристы, которые находились ниже, сломали строй и кинулись защищать лорда, да только обнаружили, что фаним заняли весь гребень. А этот склон, хоть и кажется безобидным, весьма коварен. Песок и щебень. Многих перебили стрелами в упор, когда их кони увязли в песке. Те немногие, кому удалось добраться до вершины, все-таки доставили фаним неприятности — там куда больше пятен крови, чем мертвых тел, — но в конце концов враги одолели их численным превосходством. Прочие — человек двадцать, более здравомыслящие, но безнадежно храбрые, — поняли, что лорда уже не спасти, и отступили — во-он туда. Возможно, они намеревались заманить фаним вниз и хоть немного отыграться.
Найюр взглянул на Гайдекки, проверяя, осмелится ли дерзкий придворный оспорить его слова. Но тот, как и все прочие, разглядывал, как и где лежат мертвецы.
— Кианцы, — продолжал Найюр, — остались на гребне… Я думаю, они пытались спровоцировать уцелевших, осквернив труп Содораса — вон там кого-то выпотрошили. Затем они попытались сократить численность противника путем обстрела. Айнрити, сражавшиеся на гребне, должно быть, изрядно подорвали их силы, и даже на короткой дистанции стрелы не принесли особого результата. В какой-то момент фаним начали стрелять по лошадям — хотя обычно они этого не делают. Что, кстати, стоит запомнить… Как только люди Содораса оказались спешены, кианцы просто затоптали их.
Война. Он почувствовал, как волосы на загривке встают дыбом…
— Они обобрали убитых, — добавил он, — и ускакали на юго-запад.
Найюр вытер ладони об штаны. Лорды поверили ему — это было ясно по ошеломленному молчанию. Прежде это место было упреком и грозным знамением, но теперь… Тайна делает все колоссальным. Знание умаляет.
— Сейен милостивый! — внезапно воскликнул Гайдекки. — Он читает мертвых, словно рукопись!
Пройас нахмурился:
— Не богохульствуйте, пожалуйста, господин палатин.
Он потеребил аккуратную бородку; взгляд его снова метнулся к мертвецам. Казалось, будто он вот-вот кивнет своим мыслям. Затем он спокойно взглянул на Найюра.
— Сколько?
— Фаним? — Скюльвенд пожал плечами. — Шестьдесят. Может, семьдесят. Не больше. Легковооруженные всадники.
— А Саубон? Значит ли это, что он окружен?
Найюр ответил ему таким же спокойным взглядом:
— Когда пеший воюет против конного, он всегда окружен.
— Так, значит, этот ублюдок может все еще быть жив, — произнес Пройас; одышка выдавала легкую дрожь в его голосе.
Священное воинство могло пережить потерю одного народа, но чтобы троих сразу… Безрассудным маневром Саубон поставил на карту не только собственную жизнь, а намного больше — потому-то Пройас, невзирая на протесты Конфаса, приказал своим людям выступать. Быть может, четыре народа смогут одержать верх там, где это будет не под силу троим.
— Судя по тому, что нам известно, — сказал Ксинем, — не исключено, что этот галеотский ублюдок прав. Он может промчаться через всю Гедею и загнать Скаура в море.
— Нет, — возразил Найюр. — Он в большой опасности… Скаур собрал силы в Гедее. Он ждет вас со всем своим войском.
— Откуда ты знаешь?! — воскликнул Гайдекки.
— Оттуда, что фаним, перебившие ваших родичей, сильно рисковали.
Пройас, прищурившись, кивнул. Он предчувствовал недоброе.
— Они напали на крупный, хорошо вооруженный отряд. Это означает, что им было приказано — строго-настрого приказано — не допускать сообщения между отдельными частями войска.
Найюр склонил голову в знак почтения — не к этому человеку, а к правде. Наконец-то Нерсей Пройас начал понимать. Скаур наблюдает за ними; он стал изучать Священное воинство задолго до того, как оно вышло из Момемна. Он знает его слабости…
Знание. Все сводится к знанию. Моэнгхус научил его этому.
— Война — это ум, — сказал скюльвендский вождь. — Если ты и твои люди будете поступать так, как подсказывает сердце, вы обречены.
— Акирейя им Вал! — грянула тысяча галеотских глоток. — Акирейя им Вал па Валса!
Хвала Богу. Хвала Богу Богов.
Вырванный из своих мечтаний, Коифус Саубон взглянул на огромную беспорядочную колонну — его войско, — пытаясь разглядеть там Куссалта, конюха, отправившегося навстречу разведчикам. Он грыз мозолистые костяшки пальцев — как всегда, когда его терзало беспокойство. «Пожалуйста, — подумал он. — Ну пожалуйста…»
Но Куссалта не было видно.
Стащив шлем и подшлемник, Саубон провел рукой по коротко стриженным белокурым волосам, выжимая пот, упорно заливавший ему глаза. Принц стоял на скале, выходившей на небольшую, но очень быструю речку, не отмеченную ни на одной карте. К счастью, речку, хоть и не без труда, можно было перейти вброд. Она уже забрала четыре повозки и одну жизнь, не считая нескольких часов драгоценного времени; в долине за бродом скапливалось все больше и больше людей и обозных телег. На противоположном берегу воины и обслуга отряхивались от воды, а затем расходились по сторонам; некоторые шли вдоль берега, чтобы наполнить мехи водой или, как мрачно отметил Саубон, половить рыбу. Другие с трудом брели дальше; лица их были отупелыми от усталости; с пик и копий свисали узелки с пожитками.
На юге громоздились высокие горные гряды, мешали разглядеть, что там за ними, и ограничивали обзор речной долиной, открывая лишь смутные контуры того, что впереди. А там, за холмами, он видел широкую равнину, уходящую до самого горизонта. Равнина Менгедда. Великая равнина Битвы из легенд.
Что-то сдавило принцу грудь. Он подумал о своем старшем кузене, Тарщилке, чьи кости рассыпались в прах вместе с костями Кальмемуниса и Священного воинства простецов где-то среди тех далеких трав. Он подумал о князе Келлхусе…
«Эта земля моя… Она принадлежит мне! Должна принадлежать!»
Они шли целую неделю, через Врата Юга, а затем по разрушенной кенейской дороге, которая внезапно уткнулась в ущелье и там оборвалась. Там они с Готьелком — упрямый старый ублюдок! — поссорились, да так, что дело едва не дошло до кулаков, — поссорились из-за того, по какому маршруту им двигаться дальше. Драгоценностью Гедеи, если можно так сказать, был город Хиннерет на юго-востоке Менеанорского побережья. Саубон, конечно же, хотел заполучить этот город себе, а кроме того, Священному воинству необходимо было обезопасить фланги, если оно собиралось и дальше продвигаться на юг. Однако же, по мнению великого Хоги Готьелка, Гедею следовало просто пересечь, а не завоевывать. Этот дурак думал, будто земли, отделяющие Священное воинство от Шайме, не более чем дорожные столбы на пути скорохода. Они орали друг на друга до поздней ночи, Готиан пытался найти решение, которое устроило бы всех, а Скайельт кивал из своего угла, время от времени делая вид, будто слушает переводчика. В конце концов они решили идти разными дорогами. Готиан, получивший, подобно всем нансурским кастовым дворянам, полноценное военное образование, решил продолжать двигаться на Хиннерет — он, по крайней мере, не дурак. Что решил Скайельт, никто не знал до следующего дня, когда он рванул на юг вместе с Готьелком и его тидонцами.
«Ну и скатертью дорога», — подумал Саубон.
Тогда он все еще верил, что Скаур уступил Гедею.
«Поход… — сказал князь Атритау той ночью в горах. — Блудница-Судьба будет благосклонна к вам. Но вы должны позаботиться о том, чтобы шрайские рыцари были наказаны».
Никогда в жизни Саубон не размышлял так долго над столь малым количеством слов. Казалось, будто они прозвучали точно в срок. Но, подобно жутковатым древним изваяниям нелюдей, которые выглядели то благожелательными, то злобными, то божественными, то демоническими, смотря с какой стороны на них взглянуть, значение этих слов изменялось с каждым прошедшим днем. Действительно ли принц Келлхус подтвердил то, во что верил Саубон? Да, конечно, боги дали свои заверения и, как истинные скряги, назвали условия. Но они ничего не сказали насчет того, что Скаур оставил Гедею. Скорее уж намекнули на обратное…
Битва. Они намекали на битву. Как еще он может наказать шрайских рыцарей?
— Акирейя им Вал! Акирейя им Вал!
Саубон посмотрел вниз, затем снова перевел взгляд на равнину Битвы. Плоская, темно-синяя, она больше походила на океан, чем на земной простор, и казалось, будто она способна поглотить целые народы.
Скаур не отказался от Гедеи. Саубон чувствовал это. Понимание, появившееся после ссоры с Готьелком, наполнило Саубона ужасом — таким сильным, что он сперва даже лишился самообладания. Он же получил заверения богов — самих богов! Так какое имеет значение, отправился он вместе с Готьелком или нет? Блудница-Судьба благосклонна к нему. Гедея падет!
Так он говорил себе.
А потом внутренний голос прошептал: «Возможно, князь Келлхус — мошенник…»
Этот мир так безумен — так извращен! — что одна-единственная мысль, одно-единственное движение души способно все перевернуть. Он понимал, что бросил кости — поставил на кон жизни тысяч людей! А может, и судьбу всего Священного воинства.
Одна-единственная мысль… Так хрупко равновесие между душой и миром.
Страх обуял его, угрожая отчаянием. Ночью Саубон тайком плакал у себя в шатре. Почему все так? Почему боги постоянно насмехаются над ним, срывают его замыслы, унижают его? Сперва само рождение — душа первенца в теле седьмого сына! Потом отец, который наказывал его совершенно ни за что, бил, потому что видел в сыне свой огонь, свое хитроумие! Потом войны с нансурцами, несколько лет назад… Считаные мили! Они подошли так близко, что он уже чуял дым Момемна! А в результате его сокрушил Икурей Конфас — его превзошел этот сопляк!
И вот теперь…
Почему? Почему боги его дурят? Разве он не ухаживал за их прекрасными статуями, разве не удовлетворял их отвратительную жажду крови?
А вчера Атьеаури и Ванхайл, которых Саубон отправил на разведку, заметили большие отряды фаним.
— Многоцветные, в тонких, развевающихся одеждах, — рассказывал Ванхайл, граф Куригладский, на вечернем совете.
Несмотря на то что они были близки по возрасту и даже внешне похожи, Ванхайл всегда казался Саубону одним из тех людей, которые волей случая рождаются далеко от их естественного состояния: трактирный шут в нарядах кастового дворянина.
— Даже хуже айнонов… Отряд каких-то гребаных плясунов!
Ему ответил взрыв смеха.
— Но быстрые, — добавил Атьеаури, не отрывая глаз от огня. — Очень быстрые.
Когда он перевел взгляд на окружающих, лицо его было сурово, и глаза под длинными ресницами глядели строго.
— Когда мы погнались за ними, они с легкостью ушли от погони…
Он сделал паузу, чтобы значение его слов дошло до присутствующих на совете графов и танов.
— А лучники! Я в жизни не видел ничего подобного! Они умудряются пускать стрелы на полном скаку — стрелять в преследователей.
На предводителей войска это сообщение впечатления не произвело: айнритийские кастовые дворяне, что норсирайцы, что кетьянцы, считали стрельбу из лука вульгарным и недостойным мужчины занятием. Что же касалось самих стрелков, общее мнение гласило, что они особого значения не имеют.
— Конечно, они тайком следили за нами! — заявил Ванхайл. — Удивительно только, что мы до сих пор не замечали их шутов-застрельщиков.
Даже Готиан согласился с ним, хотя в основном приличия ради.
— Если бы Скаур хотел бороться за Гедею, — сказал он, — он бы защищал перевалы, так?
И только Атьеаури остался при своем мнении. Немного позже он оттащил Саубона в сторону и прошипел:
— Дядя, здесь что-то не так!
Что-то действительно было не так, хотя тогда Саубон ничего не сказал. Он давно уже научился воздерживаться от резких суждений в обществе своих военачальников — особенно в тех ситуациях, когда его главенство легко было оспорить. Хоть он и мог рассчитывать на многих, в основном на родичей или ветеранов его предыдущих кампаний, на самом деле он был лишь номинальным главой галеотского войска, и это прекрасно понимали многочисленные дворяне, постоянно отправляющиеся в холмы поохотиться. Разница между графом и безземельным принцем была сугубо протокольной; складывалось впечатление, будто всем приказам Саубона нужно преодолевать море гордыни и прихотей.
Поэтому он притворялся, будто размышляет, скрывая уверенность, что легла на его плечи тяжелым грузом. Скрывая правду.
Они были одни, сорок-пятьдесят тысяч галеотов и примерно девять тысяч шрайских рыцарей, не говоря уже о бессчетных тысячах тех людей, что тащились за войском, — одни во враждебной стране, в когтях безжалостного, хитроумного и решительного врага. Готьелк с его тидонцами ушел. Пройас и Конфас остались у Асгилиоха. Враг намного превосходил их численностью, если оценка сил Скаура, которую давал Конфас, была верной — а Готиан настаивал на том, что она верна. У них не было ни реальной дисциплины, ни реального вождя. И у них не было колдунов. Не было Багряных Шпилей.
«Но он сказал, что Блудница-Судьба будет благосклонна ко мне… Он так сказал!»
Саубона озадачил хор голосов, по-прежнему гремевший внизу. «Акирейя им Вал!» Обычно подобное переплетение выкриков, скандирования и гимнов было характерно для войска на марше. Это возбуждало солдат. Саубон снова принялся вглядываться в запыленную плотную толпу, пытаясь отыскать своего конюха. Ну где же Куссалт…
«Пожалуйста…»
А, вот! Скачет вместе с небольшим отрядом всадников. У Саубона вырвался прерывистый вздох. Он смотрел, как отряд пробирается сквозь строй тяжеловооруженных кавалеристов — агмундрменов, если судить по каплевидным щитам, — и начинает взбираться по каменистому склону туда, где стоит Саубон. Охватившее его облегчение быстро испарилось. Он увидел, что у всадников при себе копья. А на копья насажено несколько голов.
— Акирейя им Вал па Валса!
Саубон стиснул кулак и ударил себя по бедру, обтянутому кольчужной сеткой. Он надавил на глаза, пытаясь прогнать навязчивое видение — образ князя Келлхуса.
«Никто не знает тебя…»
Копья! Они несут копья… Традиционный знак, который используют галеотские рыцари, чтобы предупредить командиров о надвигающейся битве.
— От Атьеаури? — крикнул принц, когда конь Куссалта добрался до гребня.
Старый конюх нахмурился, словно бы говоря: «А от кого же еще?» Все в нем было тусклым — кольчуга, древний, покрытый зарубками шлем, даже Красный Лев на синем фоне, нашитый на его котту, знак принадлежности к дому Коифуса. Тусклым и опасным. Куссалта абсолютно не волновало, как он выглядит, и это придавало ему особую внушительность. Саубон никогда не встречал человека, у которого был бы столь безжалостный взгляд, как у Куссалта, — не считая князя Келлхуса.
— Что он говорит? — крикнул Саубон.
Старый конюх отшвырнул копье и натянул поводья, останавливая коня. Саубон с трудом поймал копье. На нем красовалась отрубленная голова. Бескровная темная кожа, сухая, словно долго пролежавшая на солнце. Бородка, заплетенная в косички. Мертвый кианский вельможа. Но даже сейчас казалось, будто он продолжает глядеть на Саубона из-под тяжелых век.
Его враг.
— «Война и яблоки», — сказал Куссалт. — Он сказал: «Война и яблоки».
«Яблоками» галеоты называли отрубленные головы. Наставник когда-то сказал Саубону, что во время оно галеоты вываривали и набивали их, как до сих пор поступают туньеры.
Остальные с топотом неслись к Саубону, приветствуя его на ходу. Готиан со своим заместителем, Сарцеллом. Анфириг, граф Гесиндальский с конюхом. Несколько танов, представителей разных домов. Четверо-пятеро безбородых юнцов, готовых разносить послания. И на всех лицах читалось нечто среднее между отчаянием и злобой.
Последовавший спор был наиболее ожесточенным из всех после ухода Готьелка. Видимо, Атьеаури и Ванхайл с раннего утра вели бои. Куссалт сказал, что Атьеаури уверен, будто войска Скаура собраны где-то неподалеку, скорее всего — на равнине Менгедда.
— Он думает, что сапатишах пытается замедлить наше продвижение, натравливая на войско мелкие отряды, чтобы не пустить нас на равнину Битвы, пока он не будет готов к встрече.
Но Готиан не согласился с ним и принялся настаивать, что Скаур уже давным-давно готов и на самом деле заманивает их.
— Он знает, что ваши люди безрассудны и неосторожны, что предвкушение битвы заставит их мчаться вперед.
Когда Анфириг и прочие запротестовали, великий магистр начал хрипло выкрикивать: «Разве вы не понимаете? Не понимаете?» — и кричал, пока все, включая Саубона, не умолкли.
— Он хочет как можно скорее втянуть вас в бой при благоприятных для него обстоятельствах! Как можно скорее!
— И что? — надменно спросил Анфириг.
Готиан постоянно твердил о хитрости и свирепости фаним. И в результате многие галеоты решили, что он трус и боится язычников. Но Саубон знал, что на самом деле шрайский рыцарь боится опрометчивости своих союзников-норсирайцев.
— Он, скорее всего, знает нечто такое, чего не знаем мы! Что-то такое, из-за чего ему надо побыстрее с нами покончить!
От этих слов Саубону сделалось нечем дышать.
— Если вся Гедея — одна сплошная пересеченная местность, — ошеломленно проговорил он, — значит, равнина Битвы — самый быстрый способ пересечь ее…
Принц взглянул на Готиана. Тот осторожно кивнул.
— И что… — начал было Анфириг.
— Думай! — воскликнул Саубон. — Думай, Анфи, думай! Готьелк! Если Готьелк хочет пройти через Гедею как можно быстрее, какой путь он выберет?
Граф Гесиндальский не был дураком, но и гением тоже не был. Он опустил седеющую голову, задумался, потом произнес:
— Ты хочешь сказать, что он близко, что тидонцы и туньеры все это время двигались параллельным курсом, направляясь, как и мы, к равнине Битвы…
Когда он поднял голову, в глазах его светилось скупое восхищение. Саубон знал, что для Анфирига, близкого друга его старшего брата, он всегда оставался мальчишкой, которого весело было дразнить в детстве.
— Ты думаешь, сапатишах пытается помешать нам объединиться с Готьелком?
— Именно, — отозвался Саубон.
Он снова взглянул на Готиана, осознав, что великий магистр попросту подарил ему это озарение. «Он хочет, чтобы я возглавлял войско. Он мне доверяет».
Но ведь Готиан не знает его. Никто его не знает. Никто…
«Опять эти мысли!»
Тидонцы составляли самую большую, если не считать айнонов, часть Священного воинства — около семидесяти тысяч человек. Добавить к этому двадцать тысяч головорезов Скайельта, и получится… Да это же величайшее норсирайское войско, какое только собиралось после падения Древнего Севера!
«Ах, Скаур, мой языческий друг…»
Внезапно отрубленная голова на копье перестала выглядеть укором, знаком нависшего над ними рока. Теперь она казалась сигналом, дымом, обещающим священный огонь. Саубон с непостижимой уверенностью вдруг осознал, что Скаур боится…
Так и надо.
Все заблуждения исчезли, и прежний азарт заструился по жилам, подобно вину; для Саубона это ощущение всегда было неразрывно связано с Гильгаоалом, Одноглазой Войной.
«Блудница-Судьба будет благосклонна к тебе».
Саубон вернул копье с насаженным на него неприятным трофеем обратно Куссалту, затем принялся выкрикивать приказы — отослал множество гонцов, чтобы сообщить Атьеаури и Ванхайлу о сложившейся ситуации, поручил Анфиригу поиски Готьелка, велел Готиану рассредоточить рыцарей по всей колонне для усиления дисциплины.
— До тех пор пока не объединимся с Готьелком, мы останемся в холмах, — объявил принц. — Если Скаур хочет познакомиться с нами поближе, пускай бьется пешим или ломает шеи!
Потом вдруг оказалось, что рядом с ним остался только Куссалт; в ушах у принца гудело, лицо горело.
Вот оно, — понял Саубон. Началось. После долгих лет война слов наконец-то закончилась, и началась подлинная война. Другие, как тот же Пройас, говоря о Священной войне, выделяли голосом слово «священная». Другие, но не Саубон. Его интересовала «война». Во всяком случае, так он себе говорил.
Это не только произошло — это произошло именно так, как предсказывал князь Келлхус.
«Никто не знает тебя. Никто».
Он взглянул вслед удаляющимся Готиану и Сарцеллу. И вдруг у него остановилось сердце при мысли о том, что ими придется пожертвовать, как того потребовал князь Келлхус — или боги.
«Накажи их. Ты должен позаботиться о том, чтобы шрайские рыцари были наказаны».
Что-то сдавило Саубону горло, и Гильгаоал покинул его.
— Что-то не так, милорд? — поинтересовался Куссалт.
Этот человек с какой-то сверхъестественной проницательностью угадывал его настроение. Но, впрочем, он ведь всегда был рядом с принцем. Первое детское воспоминание Саубона: Куссалт прижимает его к себе и мчится по коридорам Мораора. Это случилось, когда малолетнего принца ужалила пчела и он едва не задохнулся.
Саубон сам не заметил, как снова принялся грызть костяшки пальцев.
— Куссалт!
— Что?
Саубон заколебался и поймал себя на том, что смотрит на юг, в сторону равнины Битвы.
— Мне нужен экземпляр «Трактата»… Мне нужно найти… кое-что.
— Что именно? — спросил старый конюх; в голосе его звучало потрясение, смешанное с какой-то странной нежностью…
Саубон гневно взглянул на него.
— Какое тебе дело…
— Я спрашиваю потому, что всегда ношу «Трактат» при себе… — Куссалт приложил обветренную руку к груди, ладонью к сердцу. — Вот здесь.
Он выучил его наизусть, понял Саубон. Это потрясло его до глубины души. Он всегда знал, что Куссалт благочестив, и все же…
— Куссалт… — начал было принц и умолк, не зная, что сказать.
Неумолимые глаза моргнули, и ничего более.
— Мне нужно… — набрался храбрости Саубон. — Мне нужно знать, что Последний Пророк говорит о… о жертве.
Кустистые белые брови конюха сошлись к переносице.
— Много что. Очень много… Я не понимаю.
— Если боги требуют… Надлежит ли приносить жертву, если того требуют боги?
— Нет, — ответил Куссалт, продолжая хмуриться.
Почему-то ответ конюха, быстрый и уверенный, рассердил Саубона. Да что может знать этот старый дурак?
— Вы мне не верите, — произнес Куссалт; голос его был хриплым от усталости. — Но в том и слава Айнри Сейе…
— Хватит! — резко оборвал его Саубон.
Он взглянул на отрубленную голову и заметил за обмякшими, разбитыми губами блеск золотого зуба. Так вот он каков, их враг… Вытащив меч, он одним ударом сшиб голову с копья, выбив древко из рук Куссалта.
— Я верю в то, что мне нужно, — сказал принц.
Глава 6. Равнина Менгедда
«Древние говорили, что один колдун стоит тысячи воинов в битве и десяти тысяч грешников в аду».
Друз Ахкеймион, «Компендиум Первой Священной войны»«Когда щиты становятся костылями, а мечи — посохами, сердца многих охватывает смятение. Когда жены становятся добычей, а враги — танами, всякая надежда иссякает».
Неизвестный автор, «Плач по завоеванным»4111 год Бивня, начало лета, неподалеку от равнины Менгедда
Рассвело, и чистый воздух разорвало пронзительное пение галеотских и тидонских труб.
Призыв к битве.
Вопреки всем стараниям фаним, предыдущий день был ознаменован воссоединением галеотской, тидонской и туньерской армий, здесь, на холмах к северу от равнины Битвы. Помирившись, Коифус Саубон и Хога Готьелк договорились дойти до северного края равнины тем же вечером, в надежде укрепить свое преимущество. Они решили, что там их положение будет настолько прочным, насколько это вообще возможно. С северо-востока их будут прикрывать болота, а на западе они смогут уйти в холмы. Неглубокая ложбина, по которой протекал ручей, питающий болота, оказалась довольно длинной, и айнрити решили построиться в линию. Склоны были слишком пологими, чтобы сорвать атаку противника, но так язычникам придется карабкаться по грязи.
Теперь же ветер подул с востока, и люди клялись, что чувствуют запах моря. Некоторые удивленно смотрели на землю у себя под ногами. Они спрашивали у других, спокойно ли тем спалось и не раздавался ли негромкий шум, похожий на шипение воды во время отлива.
Великие графы Среднего Севера собирали вассалов со свитами. Мажордомы объявляли приказы, стараясь перекричать царящий повсюду гам. В воздухе звенели радостные кличи, и смех, и раскатистый топот копыт — это отряды рыцарей помоложе, уже подвыпивших, устремились на юг, желая оказаться в числе тех, кто первым увидит язычников. Кружа по коврам смятой, истоптанной травы, тысячи людей готовились к битве. Жены и наложницы обнимали своих мужчин. Шрайские жрецы проводили службы и для воинов, и для обслуги, сопровождающей войско. Тысячи людей становились на колени, бормотали молитвы, касались губами по-утреннему прохладной земли. Священники разнообразных культов нараспев произносили слова древних ритуалов, умащивали идолов кровью и дорогими маслами. Гильгаоалу принесли в жертву ястребов. В костры Темного Охотника, Хузьельта, полетели ноги разделанной антилопы.
Прорицатели кинули кости. Хирурги положили ножи калиться и собирали инструменты.
Солнце решительно поднялось над горизонтом, залив всю эту суматоху золотистым светом. Ветерок вяло теребил знамена. Тяжеловооруженные всадники сбивались в кучи и старались найти себе место в строю. То и дело по лагерю проезжали конные отряды; доспехи сверкали, на щитах красовались грозные гербы и изображения Бивня.
Внезапно со стороны тех, кто уже выстроился вдоль ложбины, донеслись крики. Казалось, будто весь горизонт пришел в движение, мерцая так, словно его посыпали металлическими опилками. Язычники. Кианские гранды Гедеи и Шайгека.
Рассыпая ругательства и выкрикивая команды, графы и таны Среднего Севера кое-как расставили людей вдоль северного края ложбины. Ручей уже превратился в черную илистую лужу, усеянную глубокими отпечатками копыт. На южном краю ложбины стояли пехотинцы, а перед ними толпились кучками айнритийские рыцари. Потом послышались испуганные возгласы — солдаты начали натыкаться в траве на кости, поверх которых еще сохранились ошметки сгнившей кожи или ткани. Останки предыдущего Священного воинства.
Звучало множество гимнов, особенно среди пехотинцев, но потом их заглушил мерный ритм победной песни. Вскоре ее уже подхватил многотысячный хор. Всадники отмечали рефрены громкими возгласами. И даже кастовые дворяне, уже выстроившиеся длинными рядами, запели:
Война из наших смотрит глаз, Нам тяжек ратный труд, Но если битвы день угас, Наш отдых боги чтут!Эта песня была древней, как сам Север, — песня из «Саг». И когда айнрити запели ее вслух, то ощутили, как на них хлынула слава их прошлого, хлынула и связала воедино. Тысяча голосов и одна песня. Тысяча лет и одна песня! Никогда еще они не чувствовали себя так уверенно. Многих слова этой песни поразили, будто откровение. По загорелым щекам текли слезы. Войско воодушевилось; люди принялись бессвязно орать и потрясать оружием. Они стали единым целым.
Но если битвы день угас, Наш отдых боги чтут!Кианцы же, используя рассвет в качестве прикрытия, мчались им навстречу. Они были народом жаркого солнца, а не пасмурных небес и мрачных лесов, как норсирайцы, и казалось, будто солнце благословляет их своим великолепием. Его лучи сверкали на посеребренных шлемах. Шелковые рукава мерцали, превращая строй кианцев в разноцветную линию. А из-за строя несся рокот барабанов.
А айнрити все пели:
Но если битвы день угас, Наш отдых боги чтут!Саубон, Готьелк и прочие высокородные дворяне собрались для последнего краткого совещания, перед тем как разъехаться по местам. Несмотря на все их усилия, строй получился неровным, болезненно мелким в одних местах и бессмысленно глубоким в других. Между вассалами разных лордов вспыхивали споры. Некоего тана по имени Тронда, вассала Анфирига, пришлось усмирить, потому что он пытался заколоть ножом человека, равного ему по статусу. Но все же песня звучала так громко, что некоторые хватались за грудь, опасаясь, как бы не выскочило сердце.
Война из наших смотрит глаз, Нам тяжек ратный труд.Кианцы подъехали ближе, расходясь веером по серо-зеленой равнине, — бесчисленные тысячи всадников; казалось, их куда больше, чем предполагали военачальники айнрити. Грохот барабанов разносился над равниной, пульсируя, словно океанский прибой. Галеотские лучники, по большей части — агмундрмены из северных болот, вскинули луки и выпустили залп. На миг небо словно покрылось соломенной крышей, и навстречу приближающейся лаве язычников метнулась разреженная тень — но без особого эффекта. Фаним были уже близко, и теперь айнрити видели полированную кость их луков, железные наконечники копий, одеяния с широкими рукавами, реющими на ветру.
И они пели, благочестивые рыцари Бивня, голубоглазые воины Галеота, Се Тидонна и Туньера. Они пели, и воздух дрожал, как будто над ними вместо неба был каменный свод.
Но если битвы день угас, Наш отдых боги чтут!С криком «Хвала Богу!» Атьеаури и его таны бросились прочь из строя, припав к шеям коней и постепенно опуская копья. Все больше и больше домов оставляли строй и мчались навстречу кианцам — Ванхайл, Анфириг, Вериджен Великодушный, сам Готьелк, — выкрикивая: «Так хочет Бог!» Дом за домом срывался с места, словно лавина, до тех пор, пока почти вся мощь Среднего Севера не понеслась навстречу врагу. «Вон они!» — кричали пехотинцы, завидев Красного Льва Саубона или Черного Оленя Готьелка.
Могучие боевые кони перешли с рыси на медленный галоп. Прятавшиеся в траве дрозды разлетелись из-под копыт, лихорадочно хлопая крыльями. Осталось лишь дыхание, лязг железа да стук копыт, впереди, сзади, по сторонам. А затем, словно туча саранчи, в ряды айнрити ворвались стрелы. Поднялся чудовищный шум, где смешалось пронзительное ржание и потрясенные возгласы. Боевые кони валились на землю и молотили ногами, роняя всадников, ломая им спины, дробя ноги.
Затем безумие схлынуло. Остался лишь чистый грохот конной атаки. Удивительный дух товарищества устремленных к единой, роковой цели людей. Пригорки, кустарник и кости солдат из Священного воинства простецов остались позади. Ветер проникал между кольцами кольчуг, трепал косы туньеров и гребни на шлемах тидонцев. Яркие знамена реяли на фоне неба. Язычники, свирепые и отвратительные, приближались. Налетел последний шквал пущенных почти горизонтально стрел, пробивающих щиты и доспехи. Некоторых просто вышибло из седла. Многие при падении прикусывали языки. Упавшие корчились на земле и кричали. Раненые кони, все в мыле, метались, не разбирая дороги. Остальные продолжали нестись вперед, по траве, по пятачкам цветущего молочая, покачивавшегося на ветру. Они взяли копья наперевес, двадцать тысяч человек, облаченных в длинные кольчуги поверх плотных акитонов, в шлемах с забралами, на боевых конях. Страх растворился в одуряющей скорости и смешался с радостным возбуждением. Они были пьяны этой атакой, Люди Бивня. Мир сжался до сверкающего наконечника копья. Цель все ближе, ближе…
Песня их родичей потонула в топоте копыт и рокоте барабанов. Они проломились через тонкую стену сумаха… увидели глаза, побелевшие от внезапного ужаса.
Удар. Расщепившееся дерево. Копья, пронзающие щиты и доспехи. Земля под ногами вдруг сделалась твердой и неподвижной, а воздух наполнился криками. Все повыхватывали мечи и топоры. Повсюду, куда ни глянь, сцепились между собою враги. Кони поднимались на дыбы. Из рассеченных тел била кровь.
И кианцы падали, погубленные своей свирепостью, сокрушенные руками северян, умирали перед белыми лицами и безжалостными голубыми глазами. Язычники вырвались из бойни — и побежали.
Галеоты, тидонцы и туньеры с победными воплями ринулись следом. Но шрайские рыцари придержали коней; казалось, они впали в замешательство.
Рыцари айнрити мчались изо всех сил, но фаним обогнали их и принялись забрасывать стрелами прямо на скаку. Внезапно они растворились в наступающей волне более тяжелых кавалеристов. Два строя с грохотом налетели друг на друга. На несколько мгновений воцарился ад. Оранжево-черное знамя графа Хагаронда Юсгальского исчезло в этой кутерьме, и сам галеотский лорд рухнул на землю бездыханным. Удар копья в горло снес Маггу, кузена Скайельта, с коня. Завертелся водоворот смерти. Сам Готьелк был повержен, и яростные вопли его сыновей перекрыли шум боя. Улюлюканье фаним достигло пика…
Но война — тяжелая работа, и железные люди били врагов, раскалывали черепа сквозь шлемы, разбивали деревянные щиты и ломали руки, державшие эти щиты. Ялгрота Гибель Шранков одним ударом снес голову коню какого-то язычника и принялся вышибать фанимских грандов из седел, словно малых детей. Вериджен Великодушный, граф Плайдеольский, собрал вокруг себя тидонцев и рассеял язычников, сваливших Готьелка. Туньер Гокен Рыжий, граф Керн Авглаи, оставшись без коня, пробился обратно к своему знамени, вокруг которого кипела битва, по дороге кроша людей и лошадей. Никогда еще кианцам не приходилось сталкиваться с такими людьми, с такой яростной решимостью. Смуглолицые язычники выли от боли, валяясь на земле. Ястребиные глаза наполнились страхом.
Мгновение передышки.
Челядь оттащила раненых лордов в более-менее безопасные места. Кинней, граф Агмундрский, раненный в руку, устроил выволочку своим людям, пытавшимся увести его прочь. Отрейн, граф Нумайнейри, со слезами взял старинное знамя их рода из мертвых рук сына и воздел его над головой. Принц Саубон орал, чтобы ему привели другого коня. Там, где они прошли всего несколько мгновений назад, валялись раненые и искалеченные. Но куда больше было тех, кто ликовал, кого охватило безумие битвы, сквозь чьи сердца сейчас скакал жестокий Гильгаоал.
Враги были повсюду — впереди, сзади, с флангов. Гранды Гедеи и Шайгека, великолепные в своих шелковых халатах и позолоченных доспехах, снова атаковали железных людей.
Окруженные со всех сторон, Люди Бивня умирали. Их били копьями в спину. Стаскивали крючьями с седел и затаптывали лошадьми. Протыкали их кольчуги чеканами. Закидывали стрелами великолепных боевых коней. Умирающие звали жен и богов. Из общего шума то и дело выделялись знакомые голоса. Кузен. Друг. Пронзительный вскрик брата или отца. Темно-красное знамя Котвы, графа Гаэтунского, упало, появилось снова, а потом сгинуло навеки, вместе с Котвой и пятью сотнями тидонцев. Черный Олень Агансанора тоже был повержен и втоптан в грязь. Люди Готьелка пытались спасти своего раненого графа, но были перебиты кианскими кавалеристами. Лишь неистовая атака сыновей спасла Готьелка, но при этом старший из них, Готерас, получил серьезную рану в бедро.
Сквозь шум графы и таны Среднего Севера слышали пронзительное пение труб, командующих отход, но отходить было некуда. Вокруг тучами клубились язычники, осыпая Людей Бивня стрелами, наскакивая на них с флангов, подавляя попытки контратак. Куда ни глянь, повсюду вились шелковые знамена фаним, шитые золотом, с изображениями странных животных. И нескончаемый, сверхъестественный рокот барабанов, отбивающих ритм смерти.
А затем вдруг произошло невероятное: отряды фаним, перекрывавших путь к отступлению, разметало по сторонам, и на их месте возник строй облаченных в белое шрайских рыцарей, выкрикивавших: «Бегите, братья! Бегите!»
Охваченные паникой рыцари пустились скакать, бежать или ковылять вместе со своими соотечественниками. Окровавленные отряды спускались в ложбину. Шрайские рыцари продержались еще несколько мгновений, потом развернулись и поскакали прочь, а за ними гнались язычники — лавина копий, щитов, темнокожих лиц и взмыленных лошадей, море, раскинувшееся от одного края горизонта до другого. Сотни раненых, тащившихся по равнине Битвы, были зарублены на расстоянии броска копья от строя. Люди Бивня ничего не могли поделать и лишь в ужасе смотрели на это. Их песня была мертва. Они слышали лишь барабаны, которые грохотали, грохотали, грохотали…
Вокруг были только язычники и смерть.
— Мы их одолели! Одолели! — выкрикнул Саубон, сплевывая кровь.
Готиан схватил его за плечи.
— Никого ты не одолел, идиот! Никого! Ты знаешь правило! Рассеял их — вернись в строй!
Миновав жидкую грязь, в которую превратился ручей, и пробившись сквозь шеренги воинов, Готиан отправился искать галеотского принца — а вместо него нашел буйного умалишенного.
— Но мы же их одолели! — воскликнул Саубон.
Раздался громкий крик, и Готиан непроизвольно вскинул щит.
Саубон продолжал бредить и буйствовать.
— Мы разбили их, как детей, прежде…
Послышался звук, напоминающий стук града по медной крыше. Новые крики.
— …как детей! Мы им всыпали!
Из груди галеота торчало древко языческой стрелы. На мгновение великий магистр подумал, что принц тяжело ранен, но Саубон просто взялся за стрелу и выдернул ее. Она пробила кольчугу, но увязла в акитоне.
— Мы их одолели, так их растак! — продолжал орать Саубон.
Готиан снова схватил его и хорошенько встряхнул.
— Послушай! — крикнул он. — Они хотят, чтобы ты так думал! Кианцы слишком хитры, слишком гибки и неистовы, чтобы их было так просто одолеть. Надо, атакуя, пустить им кровь, а не рассеять их!
Саубон тупо взглянул на великого магистра.
— Я погубил всех нас…
— Да возьмись же за ум! — взревел Готиан. — Мы — не такие, как язычники. Мы твердые, но ломкие. Это нас одолели! Готьелк из игры выбыл. Он ранен — возможно, смертельно! Теперь ты должен возглавить войско!
— Да… возглавить…
Внезапно глаза Саубона засияли, будто внутри у него развели костер, прибавивший ему бодрости.
— «Блудница-Судьба будет благосклонна к тебе!» — воскликнул принц. — Именно так он и сказал!
Сбитый с толку Готиан молча глядел на него.
Коифус Саубон, принц Галеота, седьмой сын Эрьеата, старого черта, снова заорал, требуя коня.
…Волны фанимских копейщиков, бессчетные тысячи язычников налетели на строй айнрити — и остановились. Галеотские и тидонские пикинеры вспарывали животы их лошадям. Татуированные нангаэлы из северных болот Се Тидонна забивали дубинками тех, кто валился в грязь. Агмундрмены натягивали свои смертоносные тисовые луки и прошивали стрелами щиты и доспехи. Когда фаним начали отступать, авгулишмены из глухих лесов Туньера выскочили из строя и метали вдогонку язычникам свои топорики, жужжащие на лету, словно стрекозы.
Тогда вдоль ложбины, параллельно строю айнрити, принялись носиться отряды фаним в кожаных доспехах, осыпая противника стрелами и ядовитыми насмешками и швыряя в солдат головами их лордов, убитых в первой схватке. Северяне укрылись за щитами, пережидая обстрел, а потом стали кидаться в язычников теми же самыми головами, чем повергли их в растерянность.
Вскоре фаним начали объезжать подальше некоторые места в строю айнрити — отважных гесиндальменов и куригальдеров из Галеота, угрюмых нумайнеришей и бородатых плайдольменов из Се Тидонна; но наибольший страх им внушали соломенноволосые туньеры, чьи огромные щиты казались каменными стенами, а двуручные секиры и палаши были способны до пояса разрубить человека в доспехах. Оставшийся без лошади великан Ялгрота Гибель Шранков стоял перед строем туньеров, выкрикивал ругательства и потрясал топором. Когда кианцы, не выдержав, бросились на него, Ялгрота со своим кланом изрубил их на кусочки.
И все же гранды Гедеи и Шайгека то и дело перебирались через ложбину и очертя голову кидались на железных людей, то на галеотов, то на тидонцев, пытаясь отыскать слабое звено. Им хватило бы один-единственный раз прорвать строй айнрити, и, понимая это, они действовали с безрассудством фанатиков. Люди со сломанными саблями, с кровоточащими ранами, даже те, у кого кишки свисали до самых колен, рвались вперед и набрасывались на норсирайцев. Но каждый раз они безнадежно увязали в грязи и рукопашной схватке, перерастающей в бойню, и в конце концов крики кианских грандов вынуждали их отойти на равнину. Люди Бивня, в свою очередь, падали на колени, плача от облегчения.
На северо-востоке, там, где строй упирался в болота, сын падираджи, наследный принц Фанайял, повел койяури, элитную тяжелую кавалерию отца, на кюрвишменов из Се Тидонна. На некоторое время воцарился хаос, и видно было, как кюрвишмены десятками удирают в болота. Палаши и сабли вспыхивали на солнце. Внезапно отряды койяури появились с другой стороны, хотя знамя Фанайяла с изображением белого коня по-прежнему оставалось у ложбины. Два младших сына Готьелка ринулись на койяури, и фаним, чья тактика ориентировалась на открытую местность, были отброшены и понесли ужасающие потери.
Воодушевленный успехом, принц Саубон собрал тех рыцарей, которые еще сохранили коней, и айнрити начали, все более и более уверенно, отвечать на нападения фаним контратаками. Они врезались друг в друга, образуя бесформенную кучу, айнрити колошматили фаним, а потом изо всех сил мчались обратно, потому что их пытались обойти с флангов. Запыхавшись, они в беспорядке вваливались в общий строй: копья поломаны, мечи иззубрены, ряды поредели. Под Саубоном убили трех лошадей. Отрейна, графа Нумайнейри, привезли обратно его слуги; граф был смертельно ранен. Вскоре он ушел вслед за сыном.
Солнце взобралось на самый верх и оттуда опаляло равнину Битвы.
Графы и таны Среднего Севера и костерили кианцев, и поражались их гибкой тактике. Они с завистью глядели на великолепных лошадей, которыми их всадники-язычники управляли, казалось, одной лишь силой мысли. Они больше не насмехались над языческими грандами за то, что те искусны в обращении с луком. Многие щиты айнрити словно обросли перьями. Из кольчуг торчали сломанные древки. В лагере набралось уже несколько тысяч убитых и раненых, пострадавших именно от стрел.
Когда фаним отступили и перестроились, Люди Бивня разразились нестройными, но радостными возгласами. Многие пехотинцы, задыхавшиеся от жары, кинулись в заваленную трупами ложбину и погрузили головы в грязную, смешанную с кровью воду. Некоторые попадали на колени и затряслись от беззвучных рыданий. Рабы, жрецы, жены и проститутки сновали среди воинов, перевязывали раны, предлагали воду или пиво простым солдатам и вино знати. То тут, то там группки измученных воинов затягивали гимн. Офицеры выкрикивали приказы; сотни людей были отправлены вбивать сломанные копья, пики и просто острые обломки в склон перед строем войска.
Пролетел слух, будто язычники послали несколько крупных отрядов на север, в холмы, чтобы обойти айнрити с фланга, и там, поскольку принц Саубон это предвидел, они были полностью разгромлены благодаря доблести и искусству графа Атьеаури и его галеотских рыцарей. Войско снова разразилось радостными возгласами, и на некоторое время они даже заглушили непрекращающийся рокот барабанов фаним.
Но ликование длилось недолго. Язычники собрались под свои треугольные знамена и выстроились длинными рядами. Барабаны смолкли. На мгновение Люди Бивня услышали шорох ветра в траве и даже жужжание пчел, бесцельно летавших над мертвыми телами. Небольшой отряд всадников проехал вдоль рядов застывших фаним, и над этим отрядом реяло знамя с черным шакалом, гербом сапатишаха Скаура, правителя Шайгека. До айнрити донеслись отголоски речи, обращенной к войскам; в ответ раздались дружные вопли на неизвестном языке.
Принц Саубон заорал дурным голосом, обещая пятьдесят золотых талантов лучнику, который сумеет убить сапатишаха, и десять — тому, кто сможет его ранить. Оценив ветер, кое-кто из агмундрменов натянул луки и сделал несколько выстрелов наугад. Большинство стрел не долетело до противника, но некоторые все же преодолели расстояние, разделявшее два войска. Всадники делали вид, будто ничего не замечают, пока один вдруг не схватился за горло и не рухнул на землю.
Люди Бивня разразились смехом и улюлюканьем. Они принялись колотить по щитам, свистя и вопя. Свита сапатишаха рассыпалась в разные стороны. На месте остался лишь один: знатный человек в великолепном белом одеянии, расшитом черно-золотыми узорами. Видимо, он не испугался, недвижим под градом насмешек. И айнрити, все до единого, поняли, что видят великого Скаура аб Налайяна, которого нансурцы называют Сутис Сутадра, Южный Шакал.
Стрелы, выпущенные галеотами, усеяли землю вокруг него, но сапатишах не шелохнулся. Все больше и больше стрел вонзались в землю — агмундрмены оценили расстояние и силу ветра. Глядя на айнрити, сапатишах достал из-за темно-красного кушака нож и невозмутимо принялся чистить ногти.
Теперь уже фаним разразились хохотом и заколотили по круглым щитам сверкающими на солнце саблями. Казалось, будто сама земля содрогнулась — такой поднялся шум. Два народа, две религии, готовые ненавидеть и убивать, стояли друг против друга на равнине Битвы.
Затем Скаур поднял руку, и барабаны зарокотали снова. Строй фаним двинулся вперед. Люди Бивня замолчали, опустили пики и сомкнули щиты. Все начиналось заново.
Кианцы постепенно набирали скорость, поднимая клубы пыли. Словно повинуясь ритму барабанного боя, передние ряды слаженно, единым движением опустили копья и пустили коней в галоп. С пронзительным криком они ринулись на айнрити, а конные лучники разлетелись по сторонам, осыпая северян стрелами. Язычники шли волна за волной, и их было куда больше, чем утром. Они жертвовали целыми отрядами за пядь земли. Там, где стояли юсгальдеры из Галеота, потрепанные кюрвишмены, нангаэлы и варнуты из Се Тидонна, кианцы выбирались из ложбины и теснили железных людей. Сломанные копья, изувеченные лица, порванная сбруя. Изогнутые сабли раскалывали шлемы, ломали ключицы через кольчуги. Обезумевшие кони врезались в ряды щитов. И когда показалось, что напор язычников стал ослабевать, из пыли вынырнули новые воины; они скакали прямо по трупам, шли в атаку на выстроившихся ступенями пехотинцев. Было уже не до тактики и не до молитв; осталась лишь ожесточенная схватка, в которой каждый стремился убить врага и уцелеть.
В нескольких местах строй айнрити дрогнул, возникли бреши…
И тут, словно из слепящего солнца, появились кишаурим.
Саубон плашмя ударил нескольких убегавших юсгальеров, но это не дало никакого результата. Обезумев от ужаса, они спасались от кианских всадников в позолоченных доспехах.
— Бог! — взревел Саубон, кидаясь навстречу койяури. — Так хочет Бог!
Его вороной врезался в скакуна язычника, оказавшегося на пути у принца. Кианский конь, уступавший размерами северному, пошатнулся, и Саубон вонзил меч точно в шею ошеломленного всадника. Затем развернулся и отразил мощный удар кианца в развевающемся темно-красном одеянии. Вороной пронзительно заржал и отпрыгнул вбок, так что галеот оказался бок о бок с язычником — но Саубон был выше. Он врезал кианцу рукоятью меча, и тот свалился с лошади; лицо его было разбито в кровь. Тут чей-то клинок скользнул по шлему Саубона. Принц полоснул оставшегося без всадника коня по заду, и тот пошел метаться среди собак-язычников; затем с размаху рубанул по морде лошадь нападавшего. Та встала на дыбы и скинула всадника. Саубон развернул вороного и затоптал визжащего нечестивца.
— Так! — выкрикнул он, атаковав другого язычника и разрубив ему щит.
— Хочет! — Его второй удар раздробил руку, сжимавшую щит.
— Бог! — Третий удар расколол серебристый шлем и рассек смуглое лицо на две части.
Койяури, стоявший за оседающим наземь покойником, заколебался. А вот те, кто был за спиной у Саубона, — нет. Копье скользнуло по спине, зацепилось за кольчугу и едва не выкинуло принца из седла. Саубон привстал на стременах, снова ударил и выбил копье. Когда противник потянулся за изогнутым мечом, Саубон всадил клинок в сочленение его доспеха. Еще один. Язычники кружили вокруг принца, но приблизиться не решались.
— Трусы! — выкрикнул Саубон, пришпорил коня и с безумным смехом ринулся на врагов. Те в ужасе попятились — и это стоило жизни еще двоим. Но вороной Саубона вдруг поднялся на дыбы и споткнулся… Опять лошадь, так ее перетак! Принц тяжело рухнул на землю. Мысли спутались. Движущийся лес ног и копыт. Недвижные тела. Истоптанная трава. Встать… встать… скорее встать! Бьющийся в агонии вороной лягнул Саубона. Огромная тень нависла над ним. Копыта с железными подковами ударили в землю рядом с его головой. Саубон ткнул мечом вверх, почувствовал, как острие скользнуло по броне лошади, а потом вонзилось в мягкий коричневый живот. Брызнул на миг солнечный свет. Саубон, пошатываясь, поднялся на ноги. Но что-то обрушилось на его шлем и вновь швырнуло принца на колени. От следующего удара он полетел лицом в траву.
О господи! По сравнению с землей его ярость казалась такой пустой, такой бренной! Саубон потянулся вперед и ухватил чужую руку — холодную, мозолистую, с гладкими ногтями. Мертвую руку. Принц взглянул поверх спутанной травы и увидел мертвеца. Айнрити. Лицо было сплющено об землю и залито кровью. Покойник потерял шлем, и светло-русые волосы выбились из-под кольчужного капюшона. Мертвец казался таким тяжелым, таким неподвижным — как сама земля…
Кошмарный момент узнавания, слишком нереальный, чтобы испугаться.
Это его лицо! Он сжимает свою собственную руку!
Саубон попытался закричать.
Не получилось.
Но потом послышался топот тяжелых копыт, крики на знакомых языках. Саубон выпустил холодные пальцы, с трудом поднялся на четвереньки. Обеспокоенные голоса. Кто-то невидимый поставил его на ноги. Саубон очумело вытаращился на землю, на пустое место, где мгновение назад лежал его собственный труп…
«Эта земля… Эта земля проклята!»
— Вот, держитесь за меня.
Голос звучал отечески, словно его обладатель обращался к сыну, получившему жестокий урок.
— Вы спасены, мой принц.
Куссалт.
«Спасен?»
— Вы не ранены?
Саубон перевел дух, сплюнул кровь и выдохнул:
— Только помят…
В нескольких ярдах от них рубились шрайские рыцари и койяури. Звон оружия, блеск стальных клинков на фоне солнца и неба. Так красиво. Так невероятно далеко, словно картина, вытканная на гобелене…
Саубон молча повернулся к конюху. Старый воин выглядел измученным и обессилевшим.
— Вы удержали брешь, — сказал Куссалт, и в глазах его было странное выражение: изумление, если не гордость.
Саубон сморгнул кровь, стекавшую на левый глаз. Его охватила необъяснимая жестокость.
— Ты старый и неповоротливый… Отдай мне коня!
Куссалт помрачнел и поджал губы.
— Здесь не место обижаться, старый дурак! Сейчас же отдай мне этого гребаного коня!
Куссалт дернулся, как будто в нем что-то оборвалось, а потом всем весом рухнул вперед, на Саубона.
Принц упал вместе с конюхом.
— Куссалт!
Он втащил старика к себе на колени. Из его спины торчала стрела, ушедшая почти по самое оперение.
У конюха в груди что-то забулькало. Он закашлялся; на губах выступила темная, стариковская кровь.
Выпученные глаза отыскали Саубона, и старый воин рассмеялся, снова закашлявшись кровью. У Саубона от страха по спине побежали мурашки. Сколько раз он слышал, чтобы Куссалт смеялся? Не то три, не то четыре раза за всю жизнь?
«Нет-нет-нет-нет…»
— Куссалт!
— Я хочу, чтобы ты знал… — прохрипел старик, — как я тебя ненавижу…
По его телу прошла судорога, он сплюнул кровь. Судорожно вздохнул и застыл неподвижно.
Как земля.
Саубон оглядел странный пятачок спокойствия, что окружал его сейчас. Отовсюду сквозь истоптанную траву на него смотрели глаза мертвецов. И он понял.
«Это проклятие».
Койяури развернулись и кинулись прочь, через ложбину, края которой уже осыпались. Но вместо радостных криков раздались вопли ужаса. Где-то вспыхнули огни, настолько яркие, что отбрасывали тени при полуденном солнце.
«Он никогда не испытывал ко мне ненависти…»
Да и как он мог? Куссалт был единственным, кто…
«Смешная шутка. Ха-ха, старый ты дурак…»
Кто-то стоял над ним и кричал.
Усталость. Случалось ли ему раньше так уставать?
— Кишаурим! — вопил этот кто-то. — Кишаурим!
А, это те огни…
Сильный удар. Лопнувшие звенья оцарапали щеку. Куда подевался шлем?
— Саубон! Саубон! — кричал Инхейри Готиан. — Кишаурим!
Саубон провел рукой по щеке. Увидел кровь.
Неблагодарная скотина. Гребаный чурка.
«Позаботься, чтобы они были наказаны! Накажи их! Накажи!»
Чурки гребаные.
— Атакуй их, — ровным тоном произнес галеотский принц.
Он сидел, прижимая к себе мертвого конюха.
— Ты должен атаковать кишаурим.
Они шли, стараясь не попадаться на глаза арбалетчикам, снабженным Слезами Господними, которых, как они знали, айнрити держат в задних рядах. Нельзя было рисковать ни одним из них, особенно теперь, когда Багряные Шпили подключились к войне. Они были кишаурим, Водоносами Индары, и их дыхание было драгоценнее дыхания тысяч. Они были оазисами среди людей.
Проводя ладонями над травами, над золотарником и белым ковылем, они шли к строю айнрити; их было четырнадцать. Ветер и восходящие потоки воздуха трепали желтые шелковые рясы; змеи — у каждого на горле их было пять — вытянулись, словно свечи на канделябре, и внимательно следили за всем, что происходит вокруг. Охваченные отчаянием айнрити раз за разом выпускали тучу стрел, но древки сгорали в магическом пламени. Кишаурим продолжали идти, обводя слепым взглядом выдавленных глаз ощетинившийся строй айнрити. Там, куда они поворачивались, вспыхивал невыносимо яркий голубой свет, от которого кожа покрывалась волдырями, железо прикипало к телу, а сердца обугливались…
Немало северян остались на местах, падая и прикрываясь щитами, как их учили. Но многие обратились в бегство — юсгальдеры и агмундрмены, гаэриши, нумайнериши и плайдольмены — глухие к крикам офицеров и лордов, пытавшихся навести порядок. Ряды айнрити смешались. Битва превратилась в бойню.
Посреди всего этого беспорядка принц Фанайял со своими койяури бежал прочь от ложбины, а шрайские рыцари гнались за ними сквозь тучи пыли и дыма — по крайней мере, так показалось бы тому, кто взглянул бы на это со стороны. Сперва фаним просто не верили своим глазам. Многие кричали, но не от страха или тревоги, а от изумления при виде свирепости этих чокнутых идолопоклонников. Когда же Фанайял свернул в сторону, Инхейри Готиан, а с ним около четырех тысяч шрайских рыцарей по-прежнему продолжили скакать вперед, с криками — с рыданиями — «Так хочет Бог!».
Они рассыпались по равнине Битвы. Они неслись над травами, в страхе прижимаясь к гривам коней, и яростно кричали, бросая вызов врагу. Они атаковали четырнадцать кишаурим, погнав коней в тот адский свет, что исходил от лиц жрецов. И умерли, сгорели, словно мотыльки, полетевшие на угли в самой глубине камина.
Голубые нити раскалились добела; они ветвились, сверкали сверхъестественной красотой, сжигали руки и ноги в пепел, взрывали тела, уничтожали людей прямо в седлах. Среди пронзительных воплей и воя, среди грохота копыт и громового клича «Так хочет Бог!» Готиан кубарем полетел с обугленных останков лошади. Сверху рухнул Биакси Сковлас — от его ноги осталась лишь обгорелая культя, — и его растоптали те, кто скакал следом. Рыцарь, мчавшийся прямо перед Кутием Сарцеллом, взорвался, и его нож со свистом вонзился Сарцеллу в горло. Первый рыцарь-командор ничком рухнул на землю. Вокруг бушевала смерть.
Мозги кипели в черепах. Лязгали зубы. Сотни погибли в первые тридцать секунд. Испепеляющий свет был повсюду, его лучи ветвились, словно трещины по стеклу. И все же шрайские рыцари продолжали гнать коней вперед, скакали по тлеющим останкам своих братьев, мчась навстречу гибели — тысячами! — и крича во всю глотку. Кусты и трава вспыхивали. Жирный дым поднимался к небу, и ветер нес его в сторону кишаурим.
Затем одинокий всадник, молодой посвященный, налетел на одного из жрецов-колдунов и смахнул ему голову с плеч. Когда ближайший кишаурим посмотрел на него пустыми глазницами, во вспышке пламени исчез лишь скакун юноши. Сам молодой рыцарь очутился на земле и с пронзительным воплем ринулся вперед. К его руке была привязана хора покойного отца.
Лишь теперь кишаурим осознали свою ошибку — высокомерие. Несколько кратких мгновений они колебались…
И тут из клубов дыма на них обрушилась волна опаленных, окровавленных рыцарей, среди которых был великий магистр Готиан, несущий белое полотнище с изображением золотого Бивня, священное знамя ордена. Во время этого решающего рывка сгорели еще сотни рыцарей. Но некоторые уцелели, и кишаурим разверзли землю, в отчаянии пытаясь избавиться от владельцев хор. Но поздно — впавшие в безумие рыцари были уже рядом. Один кишаурим попытался бежать, шагнув в небо, но его снял болтом арбалетчик со Слезой Господней. Прочих просто зарубили на месте.
Они были кишаурим, Водоносами Индары, и их смерть была драгоценнее смерти тысяч.
На один невероятный миг все стихло. Шрайские рыцари — несколько сотен уцелевших — хромая и пошатываясь, отступали к потрепанным рядам своих братьев-айнрити. Одним из последних вернулся Инхейри Готиан, неся на плече обожженного юношу.
Скаур, понимая, что кишаурим, невзирая на гибель, выполнили свою задачу, заорал на грандов, веля начинать атаку — но потрясение от зрелища, представшего их глазам, оказалось слишком сильным. Фаним отступили, смешав ряды, а напротив, среди пятен обожженной земли и дымящихся трупов, графы и таны Среднего Севера бились, восстанавливая порядок. Когда гранды Шайгека и Гедеи пошли в атаку, железные люди снова сомкнули ряды, и хотя их строй поредел, сердца окрепли еще больше.
И они снова запели древнюю песнь, которая теперь казалась им скорее пророчеством:
Война из наших смотрит глаз, Нам тяжек ратный труд, Но если битвы день угас, Наш отдых боги чтут!День заканчивался, и все больше достойных людей уходило в лучший из миров. Графа Ванхайла Куригалдского сбросили с коня во время контратаки, и при падении он сломал спину. Младший брат Скайельта, принц Наррадха, получил стрелу в глаз. Из тех, кто еще был жив, многие свалились от теплового удара. Некоторые сошли с ума от горя, и их, беснующихся, пришлось оттащить к жрецам, в лагерь. Но тех, кто остался стоять, уже невозможно было сломить. Железные люди вновь запели песню, и она снова разожгла в них неистовый пыл. Грохот барабанов фаним ослабел, а потом и вовсе стих.
Тысячи голосов и одна песня. Тысячи лет и одна песня.
Но если битвы день угас, Наш отдых боги чтут!По мере того как солнце клонилось к западу, фаним все неохотнее приближались к строю айнрити и все с большим беспокойством ходили в атаку. Они видели демонов в глазах своих врагов-идолопоклонников.
Скаур уже дал приказ к отступлению, когда над западными холмами показались знамена Нерсея Пройаса. Галеоты, тидонцы и туньеры в едином порыве, без всякого приказа ринулись вперед и помчались через равнину Битвы. Уставшие, ослабевшие фаним запаниковали, и отступление превратилось в беспорядочное бегство. Рыцари Конрии врезались в их ряды, и великое кианское воинство сапатишаха Скаура аб Налайяна, правителя Шайгека, было разгромлено вчистую. Тем временем графы и таны Среднего Севера на оставшихся лошадях налетели на огромный лагерь фаним. Поддавшись буйной ярости, истерзанные северяне насиловали женщин, убивали рабов и грабили роскошные шатры бесчисленных грандов.
К закату Священное воинство простецов было отомщено.
В течение следующих недель Людям Бивня предстояло наткнуться на тысячи раздувшихся туш, валяющихся вдоль дороги на Хиннерет. Лошадей загнали до смерти — так отчаянно язычники удирали от железных людей из Священного воинства.
Сгорбившись в седле, Саубон наблюдал, как колонны усталых людей тащатся по залитым лунным светом травам, стремясь наконец-то нагнать Пройаса и его рыцарей. Саубон понял, что конрийский принц действительно спешил изо всех сил, раз настолько обогнал обоз и прислугу, следующую за войском. Саубону не нужно было зеркало, чтобы понять, как он выглядит: хватало перепуганных взглядов тех, кто проходил мимо. Изорванная котта пропитана кровью. Кровь засохла на звеньях кольчуги…
Он подождал, пока человек не окажется прямо перед ним, прежде чем окликнуть его.
— Твой друг. Где он?
Этот колдун, Ахкеймион, съежился при виде восседающей на коне фигуры и вцепился в свою бабу. Неудивительно. Съежишься тут, когда над тобою во тьме нависнет нечто, смахивающее на окровавленный призрак.
— Вы имеете в виду Келлхуса? — спросил бородатый колдун.
Саубон сердито посмотрел на него.
— Не забывайся, пес! Он князь.
— Значит, вы имеете в виду князя Келлхуса?
Неведомо как сдержавшись, Саубон помолчал, облизнул распухшие губы.
— Да…
Колдун пожал плечами.
— Я не знаю. Пройас гнал нас, словно скот, чтобы настичь вас. Все перемешалось… А кроме того, накануне битвы князья не околачиваются среди таких, как мы.
Саубон сердито взглянул на велеречивого дурака, размышляя, не врезать ли ему за наглость. Но воспоминание о том, как он увидел на поле битвы свой собственный труп, удержало его. Он содрогнулся, обхватил себя руками. «Это был не я!»
— Возможно… возможно, ты сумеешь мне помочь.
Колдун озадаченно уставился на него, с видом, который Саубон счел оскорбительным.
— Я к вашим услугам, мой принц.
— Эта земля… Что о ней известно?
Колдун снова пожал плечами.
— Это равнина Битвы… Место, где умер Не-бог.
— Я знаю легенды.
— Я в этом не сомневаюсь… Вам известно, что такое топои?
Саубон скривился.
— Нет.
Привлекательная бабенка рядом с колдуном зевнула и потерла глаза. На галеотского принца внезапно обрушилась усталость. Он пошатнулся в седле.
— Вы знаете, что с возвышения — например, с башни или с вершины горы — видно дальше? — спросил колдун.
— Я не дурак. И нечего обращаться со мной, как с дураком.
Страдальческая улыбка.
— Топои — тоже своего рода возвышения, места, откуда можно дальше видеть… Но если обычные возвышения созданы из камня и земли, топои состоят из страданий и эмоциональных травм. Такие высоты позволяют нам заглянуть за пределы этого мира… некоторые даже говорят — заглянуть Вовне. Вот почему эта земля беспокоит вас — вы стоите опасно высоко… Это равнина Битвы. Ваши ощущения сродни головокружению.
Саубон кивнул, чувствуя, как что-то сдавило ему горло. Он понял, и это понимание почему-то, без всяких причин, принесло ему неизмеримое облегчение. Два судорожных всхлипа сокрушили его.
— Устал, — хрипло буркнул принц, сердито вытирая глаза.
Колдун смотрел на него скорее с сожалением, чем с осуждением. Женщина упорно таращилась себе под ноги. Не в силах глядеть на этого человека, Саубон кивнул ему и поехал прочь. Но голос чародея заставил его остановиться.
— Даже среди топои, — сказал тот, — это место… особенное.
В его тоне появилось нечто такое, отчего Саубону померещилось, будто в лицо ударил порыв зимнего ветра.
— Это как? — выдавил принц, глядя во тьму.
— Вы помните это место в «Сагах» — «Эм уитри Тир мауна, ким раусса райн»…
Саубон смахнул слезы и ничего не ответил.
— «Душа, что столкнулась с Ним, — продолжал колдун, — не проходит дальше».
— И что эта дрянь означает, так ее перетак? — спросил галеотский принц и сам поразился свирепости, прозвучавшей в его голосе.
Колдун оглядел темную равнину.
— В некотором смысле, он где-то здесь… Мог-Фарау. — Когда он снова повернулся к Саубону, в глазах его читался неподдельный страх. — Смерть не ушла с равнины Битвы, мой принц… Это место проклято. Здесь умер Не-бог.
Глава 7. Менгедда
«Сон, когда он достаточно глубок, неотличим от бессонницы».
Сориан, «Книга кругов и спиралей»4111 год Бивня, начало лета, равнина Менгедда
Раскинув широкие черные крылья, Синтез плыл вместе с утренним ветром. Восточный край неба постепенно светлел, а потом солнце вдруг раскололо горизонт и ринулось в атаку, на усеянный трупами простор равнины Битвы, и из беспредельной черноты, оттуда, куда он в конечном счете вернется, протянулась непостижимо длинная нить…
Возможно, до самого дома.
Кто бы упрекнул Синтеза за то, что он позволил себе предаться ностальгии? Снова очутиться здесь через тысячу лет, здесь, где это почти произошло, где люди и нелюди едва не сгинули навеки. Едва. Увы…
Уже скоро. Скоро.
Синтез опустил человеческую голову и принялся разглядывать узоры, образованные на равнине бессчетными мертвыми телами, восхищаясь сходством этих узоров с некоторыми знаками, что некогда высоко ценились его видом — в те времена, когда они действительно могли так зваться. Вид. Род. Раса.
Инхорои — так величали их эти паразиты.
Некоторое время Синтез наслаждался ощущением глубины, которое создавали тысячи медленно кружащих внизу стервятников. Затем он уловил нужный запах… это потустороннее зловоние — такое особенное! — предусмотренное как раз для подобного случая.
Так значит, Сарцелл мертв.
По крайней мере, Священное воинство одержало победу — над кишаурим, не над кем-нибудь!
Голготтерат будет доволен.
Растянув человеческие губы в улыбке — а может, в гримасе, — Древнее Имя камнем рухнул вниз, чтобы присоединиться к стервятникам на их пиру.
Пространство корчилось, извивалось от белых, словно личинки, фигур, увешанных человеческой кожей, — от шранков, визжащих шранков. Их были тысячи тысяч, и они расцарапывали себя до крови, выдирали глаза. Глаза! Смерч с ревом прокатился сквозь них, расшвыряв по сторонам бессчетные тысячи.
Мог-Фарау шел.
Великий верховный король киранейцев схватил Сесватху за плечи, но колдун не в состоянии был расслышать его крик. Он слышал голос, исходящий из глоток сотен тысяч шранков, звучащий так, словно в череп насыпали горящих углей… Голос Не-бога.
— ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?
Видишь? Но что он может…
— МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ.
Верховный король отвернулся и потянулся за Копьем-Цаплей.
— ГОВОРИ.
Тайны… Тайны! Даже Не-бог не может выстроить стены против того, что забыто! Перед глазами промелькнул нечестивый панцирь, сияющий в сердце смерча, саркофаг из нимиля, исписанный хорическими рунами, висящий…
ЧТО Я…
Ахкеймион проснулся с криком. Руки свело судорогой. Колдуна трясло.
Но тут зазвучал чей-то нежный голос, заворковал, успокаивая. Мягкие руки погладили его по лицу, убрали с глаз мокрые волосы, стерли слезы со щек.
Эсми.
Он еще некоторое время лежал в ее объятиях, вздрагивая, и изо всех сил старался держать глаза открытыми, желая видеть, что он здесь — здесь и сейчас.
— Я думала о Келлхусе, — сказала Эсменет, когда его дыхание выровнялось.
— Он тебе снился? — вяло поддразнил ее Ахкеймион.
Он пытался заставить голос звучать спокойно.
Эсменет улыбнулась.
— Вовсе нет, дурачок. Я ска…
ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?
Визжащий голос, резкие, отрывистые фразы…
— Извини, — произнес Ахкеймион, неловко рассмеявшись, — что ты сказала? Я, должно быть, заснул…
— Я сказала, что просто подумала.
— О чем?
Ахкеймион почувствовал, что Эсменет вздернула голову, как делала всегда, когда пыталась выразить словами нечто, ускользающее от нее.
— О том, как он говорит… Ты не…
Я НЕ ВИЖУ.
— Нет, — прохрипел Ахкеймион. — Никогда не замечал.
И зашелся кашлем.
— Вот что получается из-за того, что ты все время сидишь с подветренной стороны костра, в дыму, — сердито сказала Эсменет.
Ее традиционный упрек.
— Старое мясо лучше есть прокопченным.
Его традиционный ответ. Ахкеймион вытер пот, норовящий попасть в глаза.
— Как бы то ни было, Келлхус… — продолжала она, понизив голос.
Ткань палатки была тонкой, а в лагере находилось слишком много людей.
— Все принялись шептаться о нем, из-за битвы и из-за того, что он сказал принцу Саубону, и мне вдруг пришло в голову…
СКАЖИ МНЕ.
— …перед тем как уснуть, я подумала, что почти все его слова, это… ну, то ли далеко, то ли близко…
Ахкеймион сглотнул и с трудом выдавил:
— Что ты имеешь в виду?
Ему хотелось помочиться.
Эсменет рассмеялась.
— Я сама толком не понимаю… Помнишь, я рассказывала, он однажды спросил меня, каково это — быть шлюхой? Ну, в смысле, спать с незнакомыми людьми. Когда он говорит так, кажется, будто он близко, так близко, что аж не по себе делается, — до тех пор, пока не соображаешь, какой он честный и скромный… Тогда я подумала, что он просто еще один пес, которому приспичило…
ЧТО Я ТАКОЕ?
— Говори по существу, Эсми…
Обиженное молчание.
— А в другие разы, когда он говорит, кажется, будто он далеко, так далеко, что прямо дух захватывает. Будто он стоит на высокой горе и видит оттуда все, ну, или почти все…
Эсменет снова умолкла, и по длине паузы Ахкеймион понял, что задел ее. Он почувствовал, как она пожала плечами.
— Все остальные говорят откуда-то из середины, а он… А теперь еще и это — он увидел то, что произошло вчера, до того, как оно произошло. С каждым днем…
Я НЕ ВИЖУ.
— …он словно бы говорит еще чуть ближе и чуть дальше. Мне от этого… Акка! Ты дрожишь! Тебя же трясет!
Ахкеймион судорожно втянул воздух.
— Эсми, я н-не могу здесь оставаться.
— Ты о чем?
— Это место! — выкрикнул Ахкеймион. — Я не могу здесь оставаться!
— Тс-с. Все будет хорошо. Я слышала, как солдаты говорили, что завтра мы тронемся в путь. Подальше от мертвецов, чтобы не начались болезни и…
СКАЖИ МНЕ.
Ахкеймион закричал, пытаясь удержать ускользающий рассудок.
— Тише, Акка, тише…
— Они не сказали, куда? — выдохнул Ахкеймион.
Эсменет сбросила одеяла и нагая опустилась на колени рядом с колдуном, положив руки ему на грудь. Она выглядела обеспокоенной. Очень обеспокоенной.
— Кажется, они говорили что-то про развалины.
— Еще х-хуже.
— Ты о чем?
— Это место разрывает меня на куски, Эсми. Эхо. Постоянное эхо. П-помнишь, что я с-сказал Саубону прошлой ночью? Н-не-бог… Его… его эхо здесь очень сильно. Слишком сильно! А развалины — это, должно быть, город Менгедда. Там, где произошло… Где Не-бог был повержен. Я знаю, я похож на безумца, но мне кажется, это место… оно узнало меня… м-меня или Сесватху во мне.
— Так что же нам…
СКАЖИ.
— Уходить… Поставить палатку в восточных холмах, на краю равнины Битвы. Мы можем дождаться остальных там.
На лицо Эсменет набежало облако новой тревоги.
— Акка, ты уверен?
— Мы будем в безопасности… Мне просто нужно очутиться подальше отсюда.
С накоплением сил, как однажды заметил Ахкеймион, приходят загадки. Старая нильнамешская пословица. Когда Келлхус спросил, что она означает, колдун сказал, что речь идет о парадоксе силы: чем большей безопасности добивается от мира кто-то один, тем в большей опасности оказывается другой. Тогда Келлхус подумал, что эта пословица — очередное бессмысленное обобщение, эксплуатирующее склонность людей путать невразумительность с глубокомыслием. Теперь он не был в этом так уверен.
После битвы прошло пять дней. Солнце пятого дня выкипело и утекло через западные холмы. Великие Имена — включая Конфаса и Чеферамунни — собрались со своими свитами в открытом амфитеатре, давным-давно построенном на склоне невысокого холма. В центре его горел огромный костер, превращавший сцену в печку. Великие Имена расселись на нижнем ярусе амфитеатра, а их советники и соотечественники-дворяне переругивались и перешучивались ярусом выше. Их торжественные облачения блестели и переливались в свете пламени. На лицах плясали оранжевые отсветы. Внизу из темноты на сцену то и дело выходили рабы и бросали в огонь мебель, одежду, свитки и прочие бесценные предметы из лагеря кианцев. Над костром поднимался странный голубовато-стальной дым. Запах от него шел отвратный — напоминающий мазь из навоза, которой пользовались ятверианские жрицы, — но на равнине Битвы не было другого топлива.
Наконец-то Священное воинство собралось воедино. Чуть раньше, днем, нансурское и айнонское войска пересекли равнину и присоединились к огромному лагерю, разбитому рядом с развалинами Менгедды: как сказал Келлхусу Ахкеймион, в древности это был великий город, но его уничтожили еще в бронзовом веке. Впервые со времен ухода из Момемна удалось созвать на совет все Великие и Малые имена сразу. Хотя статус и известность обеспечивали ему место среди Великих Имен, Келлхус предпочел сесть вместе с рыцарями и кавалеристами, устроившимися на камнях с противоположной стороны амфитеатра. Это позволяло лишний раз поддержать репутацию скромного человека, а кроме того, отсюда удобнее было разглядывать тех, кого ему требовалось завоевать.
Их лица являли собой разительный контраст. На многих красовались отметины: повязки, раны с затянувшимися краями и начавшие желтеть синяки — следы недавней битвы. На некоторых не было ничего, в особенности на лицах только что прибывших нансурцев и айнонов. Одни радовались и веселились тому, что удалось сломать хребет язычникам. Другие были пепельно-бледными от ужаса и недосыпа…
Казалось, будто победа на равнине Битвы взяла с них жуткую, потустороннюю дань.
Когда войско поставило палатки на равнине Менгедда, множество мужчин и женщин стали жаловаться на ночные кошмары. Люди утверждали, будто каждую ночь оказываются на равнине Битвы в ужасных обстоятельствах, сражаются с врагами, каких никогда не видели, и погибают от их рук, — с древними нансурцами, настоящими кианцами из пустыни, кенейскими пехотинцами, с колесницами древнего Шайгека, с киранейцами в бронзовых доспехах, с буйными скюльвендами, шранками, башрагами — а некоторые говорили даже о враку, драконах.
Когда лагерь перенесли подальше от ветров, несущих запах разложения, к развалинам Менгедды, кошмары лишь усилились. Некоторые рассказывали, будто им снится недавняя битва с кианцами, что они снова горят в магическом огне или гибнут от рук впавших в боевое безумие туньеров. Казалось, будто земля собрала последние, предсмертные моменты обреченных и теперь раз за разом предъявляет их живым. Многие пытались вообще перестать спать, особенно после того, как одного тидонского тана поутру нашли мертвым в собственной палатке. Некоторые, как тот же Ахкеймион, бежали.
Затем начали появляться изъеденные ржавчиной ножи, монеты, разбитые шлемы и кости, как будто земля медленно извергала их из себя. Сперва их находили по утрам торчащими из земли — в таких местах, где их не могли прежде не заметить. Постепенно подобные случаи учащались. А потом один человек якобы споткнулся обо что-то в собственной палатке и обнаружил под тростником, которым была застелена земля, детский скелетик.
Самому Келлхусу ничего не снилось, но кости он видел. По словам Готиана, который двумя днями раньше, на закрытом совете, рассказал кое-какие легенды о равнине Битвы, эта земля за тысячу лет приняла слишком много крови, и теперь ей, как чересчур соленой воде, приходится что-то выталкивать из себя, чтобы принять новую порцию. Равнина Битвы проклята, сказал великий магистр, но не нужно бояться за души, пока они крепки в вере. Проклятие это старо и широко известно.
Пройас и Готьелк, не страдавшие от кошмарных снов, не хотели уходить отсюда, поскольку, отправляя гонцов к Конфасу и Чеферамунни, назвали местом встречи Менгедду. К тому же ручьи, текущие через разрушенный город, были единственным крупным источником воды на многие мили вокруг. Саубон тоже предлагал остаться, но, как знал Келлхус, по своим, личным причинам. Потому что он-то как раз видел сны. И лишь Скайельт требовал уходить.
Каким-то образом сама земля, на которой произошла битва, стала их врагом. Однажды вечером, у костра, Ксинем сказал, что подобная борьба подобает философам и жрецам, а не воинам и шлюхам.
Келлхус же подумал, что такой борьбы вообще не должно быть…
С тех пор как он узнал ужасные подробности победы айнрити, Келлхуса одолевали вопросы и загадки.
Судьба действительно оказалась благосклонна к Коифусу Саубону, но исключительно потому, что галеотский принц посмел поставить под удар шрайских рыцарей. По всем раскладам выходило, что именно сумасшедшая атака Готиана спасла графов и танов Среднего Севера. Иными словами, события разворачивались так, как предсказал Келлхус. В точности так.
Но ведь он ничего не предсказывал. Он просто сказал то, что ему было нужно. Он хотел приобрести влияние на Саубона и по возможности уничтожить Сарцелла. Он пошел на риск.
Это всего лишь совпадение. По крайней мере, так говорил себе Келлхус поначалу. Судьба — это еще одна распространенная отговорка, еще одна ложь, которую люди любят использовать, желая придать видимость смысла своей жалкой беспомощности. Именно поэтому они представляют судьбу в образе Блудницы — как нечто такое, что никому не отдает предпочтения. Нечто донельзя безразличное.
То, что было прежде, определяет то, что произойдет потом… На этом основывается вероятностный транс. Это принцип, позволяющий подчинять себе обстоятельства, побеждать их словом или мечом. Именно это делает Келлхуса дунианином.
Одним из Обученных.
Потом земля начала выплевывать кости. Не это ли доказательство того, что земля отозвалась на людские страдания, что она не безразлична? А если земля — земля! — не безразлична, то как насчет будущего? Действительно ли то, что было прежде, определяет то, что произойдет потом? Что, если линия, разделяющая прошлое и будущее, не является ни прямой, ни непрерывной, что, если она изогнута, способна образовывать петли, противореча закону о прежде и потом?
Может ли он, Келлхус, действительно являться Предвестником, как утверждает Ахкеймион?
«Ты поэтому призвал меня, отец? Чтобы спасти этих детей?»
Но все это были вопросы, которые Келлхус называл предварительными. Оставалось еще множество неотложных проблем, нуждавшихся в изучении, и множество осязаемых угроз. А подобные вопросы находятся в ведении либо философов и жрецов, как сказал Ксинем, либо Анасуримбора Моэнгхуса.
«Почему ты не свяжешься со мной, отец?»
Костер разгорелся ярче, поглощая небольшую библиотеку свитков, притащенных рабами откуда-то из темноты. И хотя Келлхус сидел в стороне, он прямо-таки чувствовал, как в голове выстраивается отношение айнритийской знати к его скромной персоне. Он чуть ли не физически ощущал это, словно Келлхус был рыбаком и держал в руках широкие сети. Каждый мимолетно брошенный или, наоборот, внимательный взгляд отмечался, классифицировался и запоминался. Каждое лицо расшифровывалось.
Понимающий взгляд человека, сидящего среди дворян Пройаса… Палатин Гайдекки.
«Он подробно обсудил меня с людьми своего круга, счел загадкой и смотрит на ее решение пессимистически. Но в глубине его души живет настоящее изумление».
Один из тидонцев. Короткий взгляд глаза в глаза… Граф Керджулла.
«До него доходили слухи, но он слишком гордится своими подвигами на поле боя, чтобы списывать их на судьбу. Его мучают кошмары…»
Взгляд вскользь из-за спины Икурея Конфаса… Генерал Мартем.
«Он много слышал обо мне, но слишком поглощен другими заботами, чтобы беспокоиться еще и на этот счет».
Туньер, буйноволосый воитель, выискивающий кого-то в толпе… Граф Гокен.
«Он почти ничего обо мне не слышал. Слишком многие из туньеров говорят на разных языках».
Презрительный, высокомерный взгляд конрийца… Палатин Ингиабан.
«Он обсуждает меня с Гайдекки — не мошенник ли я? На самом деле его интересуют мои взаимоотношения с Найюром. Он тоже перестал спать».
Твердый, неподвижный взгляд кого-то из поредевшей свиты Готиана…
«Сарцелл…»
Снова это непроницаемое лицо, и, похоже, их становится все больше. Шпионы-оборотни, как называет их Ахкеймион.
Почему он смотрит на него? Из-за слухов, как остальные? Из-за ужасающих последствий, которые его слова возымели для шрайских рыцарей? Келлхус знал, что Готиан с трудом удерживается, чтобы не возненавидеть его…
Или он знает, что Келлхус видит его истинную сущность?
Келлхус бестрепетно встретил немигающий взгляд твари. Со времен первой встречи со Скеаосом в Андиаминских Высотах Келлхус научился лучше понимать их специфическую физиогномистику. Там, где другие видели невзрачные или красивые лица, он видел глаза, глядящие сквозь сжатые пальцы. Келлхус насчитал уже одиннадцать таких тварей, замаскированных под различных влиятельных особ, и не сомневался, что есть и другие…
Келлхус любезно кивнул, но Сарцелл просто продолжал смотреть на него. Он то ли не понимал, что за ним тоже наблюдают, то ли его это не волновало…
«Подозревают, — подумал Келлхус. — Они что-то подозревают».
Поблизости началась непонятная суматоха, и, повернувшись, Келлхус увидел, как граф Атьеаури пробивается сквозь толпу зрителей, направляясь к нему. Келлхус вежливо поклонился молодому дворянину. Тот ответил, хотя его поклон был чуть менее глубоким.
— Потом, — сказал Атьеаури. — Мне нужно, чтобы потом вы пошли со мной.
— Принц Саубон?..
У Атьеаури — молодого человека с эффектной внешностью — на скулах заиграли желваки. Келлхус знал, что Атьеаури относится к тому типу людей, которые не понимают ни подавленности, ни колебаний, — и поэтому считает подобное поручение унизительным. Хоть юноша и восхищался дядей, он думал, что Саубон придает слишком большое значение обедневшему князю из Атритау.
«Слишком много гордости».
— Мой дядя хочет встретиться с вами, — сказал граф таким тоном, словно извинялся за некую оплошность.
И, не произнеся больше ни слова, он развернулся и принялся проталкиваться обратно к амфитеатру. Келлхус взглянул поверх голов вниз, на Великие Имена. И заметил, как Саубон нервно отводит взгляд.
«Его страдания усиливаются. Его страх растет». Вот уже шесть ночей галеотский принц усердно избегал его, даже на тех советах, где они сидели у одного костра. Что-то произошло там, на поле битвы, — что-то более ужасное, чем потеря родичей или отправка шрайских рыцарей на верную смерть.
Благоприятная возможность для Келлхуса.
Дунианин заметил, что Сарцелл покинул свое место и теперь стоит с небольшой группкой шрайских жрецов, которые должны были помогать Готиану во время вступительной церемонии.
Великий магистр затянул очищающую молитву — насколько понял Келлхус, из «Трактата». Затем он некоторое время говорил об Айнри Сейене, Последнем Пророке, и о том, что означает быть айнрити.
— «Всякий, кто сокрушается о тьме в своем сердце, — процитировал он Книгу Ученых, — пусть поднимет Бивень и следует за мной».
Готиан напомнил, что быть айнрити — значит быть последователем Айнри Сейена. А есть ли более верные его последователи, чем те, кто пошел по его святым стопам?
— Шайме, — произнес он чистым, звучным голосом. — Шайме близко, очень близко, ибо при помощи мечей мы за один день прошли больше, чем могли бы пройти за два года при помощи ног…
— Или языков! — выкрикнул какой-то остряк.
Доброжелательный смех.
— Четыре ночи назад, — объявил Готиан, — я отправил свиток Майтанету, нашему Святейшему шрайе, Возвышенному Отцу нашего Священного воинства.
Он сделал паузу, и в наступившей тишине слышалось лишь потрескивание костра. У великого магистра до сих пор были перевязаны обе руки — их обожгло, когда его, раненого, волокли по горящей траве.
— И в этом свитке, — продолжал он, — я написал всего одно слово — одно-единственное! — ибо руки мои до сих пор кровоточат.
Из толпы полетели отдельные возгласы. Атака шрайских рыцарей уже превратилась в легенду.
— Победа! — выкрикнул Готиан.
— Победа!!!
Люди Бивня разразились ликующими криками; некоторые даже плакали. Курганы Менгедды содрогнулись.
Но Келлхус оставался безмолвен. Он взглянул на Сарцелла, стоявшего теперь вполоборота к нему, и заметил… несоответствия. Улыбающийся Готиан, блистательный в своем белом с золотом одеянии, залитый светом костра, жестом велел присутствующим успокоиться, а затем призвал их присоединиться к храмовой молитве.
Милостивый Бог богов, что ходит среди нас, бессчетны твои священные имена…Тысячи языков повторяли эти слова. Воздух дрожал от небывалого резонанса. Казалось, будто говорит сама земля… Но Келлхус видел только Сарцелла — вернее, отличия. Его осанка, его рост и сложение, даже блеск черных волос. Все чуть-чуть иное.
«Подмена».
Келлхус понял, что настоящий рыцарь мертв. Смерть Сарцелла прошла незамеченной, и его просто подменили.
…имя твое — Истина, что длится и длится, отныне и вовеки.Завершив вступительную церемонию, Готиан и Сарцелл удалились. Затем появились закованные в доспехи жрецы Гильгаоала, чтобы провозгласить Ведущего Битву — человека, которого ужасный бог войны пять дней назад избрал своим сосудом на поле боя. Все стихли в ожидании. Как объяснил Келлхусу Ксинем, избрание Ведущего Битву служило темой многочисленных пари, словно это была лотерея, а не божественный выбор. Первым на сцену амфитеатра вышел немолодой мужчина; его широкая борода казалась белой, как снег. Это был Кумор, верховный жрец Гильгаоала. Но прежде чем он успел хоть что-то сказать, принц Скайельт вскочил с места и крикнул: «Веат фирлик реор кафланг дау хара маускрот!» Он повернулся в сторону тех, кто толпился рядом с Келлхусом; его длинные белокурые волосы взметнулись от резкого разворота. «Веат дау хара мут кефлинга! Кефлинга!»
Кумор пробормотал нечто неразборчивое, но все уже смотрели на туньеров Скайельта, ожидая объяснений. Однако похоже было, что его переводчик куда-то подевался.
— Он говорит, — в конце концов выкрикнул на шейском кто-то из людей Готьелка, — что мы должны сперва договориться об уходе отсюда. Что мы должны бежать.
Влажный воздух наполнился криками; одни поддерживали туньера, другие пытались спорить. Конюх Скайельта, великан Ялгрота, вскочил и заколотил себя в грудь, выкрикивая угрозы. Сморщенные головы шранков, подвешенные к его поясу, болтались, словно кисточки. Внезапно Скайельт принялся пинать землю ногой. Он присел с ножом в ладони, а потом встал, вытягивая руку, чтобы его находку было видно в свете костра. Люди ахнули.
Это был череп, наполовину забитый землей, наполовину размозженный полученным в древности ударом.
— Веат, — медленно произнес Скайельт, — дау хара мут кефлинга.
Мертвец всплыл на поверхность, словно утопленник.
«Как такое возможно?» — подумал Келлхус.
Но ему требовалось думать о вещах более насущных, имеющих практическое применение, а не об этом странном свойстве земли.
Скайельт швырнул череп в костер и обвел яростным взглядом Великие Имена. Спор продолжился, и присутствующие один за другим неохотно согласились со Скайельтом, хотя Чеферамунни сперва отказывался верить в проклятие. Даже экзальт-генерал уступил без малейших проявлений недовольства. В ходе дебатов кое-кто то и дело поглядывал на Келлхуса, но никто не попросил князя поделиться мнением. Вскоре Пройас объявил, что Священное воинство покинет Менгедду завтра утром.
Люди Бивня загомонили с удивлением и облегчением.
Внимание вновь переключилось на Кумора. Жрец, то ли от волнения, то ли опасаясь дальнейших помех, отказался от каких бы то ни было ритуалов и направился прямиком к Саубону. Прочих служителей бога поведение Кумора повергло в замешательство.
— Преклони колени, — с дрожью в голосе велел старик.
Саубон повиновался, но прежде выпалил:
— Готиан! Он возглавил атаку!
— Это ты, Коифус Саубон, — повторил Кумор, так тихо, что лишь немногие, как предположил Келлхус, могли его расслышать. — Ты… Многие видели это. Многие видели его, Сокрушителя Щитов, славного Гильгаоала… Он смотрел из твоих глаз! Сражался твоими руками!
— Нет…
Кумор улыбнулся и извлек из широкого рукава венок, сплетенный из ветвей терна и оливы. Среди айнрити воцарилось благоговейное молчание, лишь кто-то один закашлялся. Со стариковской мягкостью Кумор возложил венок на голову Саубона. Затем верховный жрец Гильгаоала отступил на шаг и воскликнул:
— Встань, Коифус Саубон, принц Галеота, Ведущий Битву!
И снова присутствующие разразились криками ликования.
Саубон поднялся на ноги, медленно, словно человек, едва не падающий от изнеможения. На миг у него сделался такой вид, будто он сам себе не верил, а потом он повернулся к Келлхусу, и в свете костра было заметно, что на щеках его блестят слезы. На чисто выбритом лице до сих пор видны были синяки и ссадины, полученные пять дней назад.
«Почему? — говорил его страдальческий взгляд. — Я не заслужил этого…»
Келлхус печально улыбнулся и склонил голову ровно настолько, насколько этого требовал джнан от тех, кто находится в присутствии Ведущего Битву. Теперь дунианин в совершенстве овладел их грубыми обычаями; он изучил тонкие жесты, что превращают приличествующее в величественное. Он знал теперь их суть.
Рев толпы усилился. Все заметили, как эти двое обменялись взглядами. Все слышали историю о паломничестве Саубона к Келлхусу, в разрушенное святилище.
«Это произошло, отец. Это произошло».
Но оглушительные вопли вдруг оборвались, превратившись в вопросительный гомон. Келлхус видел, что Икурей Конфас встал со своего места у костра, неподалеку от Саубона, но лишь теперь услышал, что тот кричит.
— …дураки! — бушевал экзальт-генерал. — Полные идиоты! Вы оказываете почести этому человеку? Вы восхваляете действия, которые чуть не погубили все Священное воинство?
По амфитеатру прокатилась волна насмешек и язвительных выкриков.
— Коифус Саубон, Ведущий Битву! — издевательским тоном продолжил Конфас, умудрившись перекрыть шум. — Я бы сказал, Просерающий Битву! Этот человек едва не уложил вас всех! И уж поверьте мне, равнина Менгедда — последнее место, где вам хотелось бы умереть…
Саубон смотрел на него молча, словно лишился дара речи.
— Ты знаешь, о чем я говорю, — обратился прямо к нему экзальт-генерал. — Ты знаешь — то, что ты сделал, было вопиющей ошибкой.
Отсветы костра извивались на его позолоченных доспехах, будто масляные разводы.
Воцарилась мертвая тишина. Келлхус понял, что у него не осталось иного выхода, кроме как вмешаться.
«Конфас слишком умен, чтобы…»
— Трусы видят глупость везде, — разнесся над нижним ярусом мощный голос. — Всякая отвага кажется им безрассудством, потому что они называют свою трусость «благоразумием».
Это поднялся с места Найюр.
Проницательность скюльвенда не переставала поражать Келлхуса. Найюр увидел опасность и понял, что, если Саубон окажется дискредитирован, он сделается бесполезным.
Конфас рассмеялся.
— Так, значит, я — трус, да, скюльвенд? Я?
Его правая рука легла на эфес меча.
— В некотором смысле, — заявил Найюр.
На нем были черные штаны и серый жилет длиной до пояса, добытый в кианском лагере и оставлявший руки и грудь открытыми. Блики костра играли на вышитом шелке жилета и плясали в светлых глазах скюльвенда. От степняка, как всегда, веяло свирепой силой, заставлявшей окружающих ежиться от непонятной тревоги.
— С тех пор как ты победил Народ, — продолжал скюльвенд, — твое имя окружили почетом, и поэтому ты не хочешь делиться славой с другими. Доблесть и мудрость Коифуса Саубона одолели Скаура — великое деяние, если верить тому, что ты сказал, преклонив колени перед императором. Но поскольку эта слава не твоя, ты считаешь ее фальшивой. Ты называешь победу глупостью, слепым ве…
— Это и было слепое везение! — выкрикнул Конфас. — Боги покровительствуют пьяницам и недоумкам! Вот единственный урок, который мы получили.
— Я не знаю, кому там покровительствуют ваши боги, — невозмутимо отозвался Найюр. — Но вы узнали много, очень много. Вы узнали, что фаним не выдерживают решительной атаки рыцарей айнрити. Вы узнали, что они не могут прорвать оборону ваших пехотинцев. Вы узнали, каковы сильные и слабые стороны их тактики и оружия при столкновении с противником в тяжелых доспехах. Вы увидели пределы их терпения. И вы не только получили урок, но и сами его дали — очень важный урок. Вы научили их бояться. Даже теперь, в холмах, они бегут, словно шакалы при виде волка.
В толпе вновь послышались одобрительные возгласы, постепенно переросшие в дружный рев.
Конфас ошеломленно смотрел на скюльвенда; его пальцы сжимались и разжимались на рукояти меча. Его разбили наголову. И так быстро…
— Тебе причитается еще один шрам! — выкрикнул кто-то, и по амфитеатру прокатился раскат смеха.
Найюр одарил собравшихся айнрити скупой усмешкой.
Даже со своего места Келлхус видел, что экзальт-генерал не чувствует ни стыда, ни смущения: он улыбался, как если бы толпа прокаженных обозвала его уродом. Для Конфаса насмешка тысяч значила так же мало, как насмешка одного человека. Важна лишь игра.
Из тех, кого Келлхусу требовалось прибрать к рукам, Икурей Конфас представлял собой едва ли не самый тяжелый случай. Он был не только горд — безумно горд, — ему было наплевать, как его оценивают другие. Более того, Конфас, как и его дядя-император, полагал, что Келлхус неким образом связан со Скеаосом — то есть с кишаурим, если Ахкеймион правильно угадал их мнение. Добавить к этому детство, проведенное в лабиринте дворцовых интриг, — и экзальт-генерал становился почти так же невосприимчив к техникам дуниан, как и скюльвенд.
И Келлхус знал, что Конфас замышляет нечто, грозящее Священному воинству катастрофой…
Очередная загадка. Очередная угроза.
Великие Имена принялись препираться из-за прочих накопившихся вопросов. Сперва Пройас предложил как можно скорее отправить в Хиннерет крупный кавалерийский отряд — не для того, чтобы захватить город, а для того, чтобы уберечь окружающие его поля, иначе хлеб пожнут до срока и спрячут за городскими стенами. Пройас заявил, что так следует поступить со всем побережьем. Несколько пленных кианцев под пытками сознались, что Скаур приказал на случай непредвиденных обстоятельств собрать весь урожай, как только зерно достигнет молочной спелости, повсюду, по всей Гедее. Конфас возражал против этого плана, клянясь, что имперский флот сможет обеспечить Священное воинство припасами; он твердил, что у Скаура пока что довольно и сил, и хитрости, чтобы уничтожить любой подобный отряд. Но не желавшие ни в чем зависеть от императора Великие Имена ему не поверили, и решение было принято: постановили собрать несколько тысяч кавалеристов, чтобы утром, под командованием графа Атьеаури, палатина Ингиабана и графа Вериджена Великодушного, они выступили в путь.
Затем добрались до больного вопроса: медлительности айнонского войска и постоянного дробления Священного воинства. Как ни удивительно, тут Чеферамунни, которому приходилось отвечать за Багряных Шпилей, внезапно обрел союзника в лице Пройаса. Хоть и с некоторыми оговорками, тот утверждал, что им действительно следует продвигаться вперед отдельными армиями. Вопрос оказался тяжелым, Пройас обратился за поддержкой к Найюру, но суровые аргументы скюльвенда не принесли особого результата, и спор затянулся.
Первые из Людей Бивня продолжали спорить до утра, все больше и больше упиваясь сладкими эумарнскими винами сапатишаха. А Келлхус изучал их, заглядывая в такие глубины душ, что они ужаснулись бы, если б узнали об этом. Время от времени он посматривал на тварь, носящую маску Сарцелла. Она часто оглядывалась, будто Келлхус был мальчиком с красивыми ногами, в которого порочный шрайский рыцарь тайно влюбился. Тварь дразнила его. Но Келлхус знал, что этот взгляд — всего лишь видимость, так же как и выражение, оживляющее его собственное лицо.
И все же сомнений быть не могло — больше не могло… Они знали, что Келлхус способен их различать.
«Я должен действовать быстрее, отец».
Нильнамеши ошибались. Тайны можно убить, если располагать достаточной силой.
Устроившись поудобнее под провисшей крышей своего шатра, Икурей Конфас провел первый час, развлекаясь тем, что придумывал разнообразные сценарии, включавшие в себя убийство скюльвенда. Мартем говорил мало, и где-то в глубине сознания Конфас подозревал, что зануда-генерал не только втайне восхищается варваром, но и наслаждается тем фиаско, которое принц потерпел в амфитеатре. И все же это мало волновало Конфаса, хоть он и не смог бы объяснить, почему. Возможно, он был уверен в надежности Мартема, и поэтому его не задевала духовная неверность генерала. Духовной неверности вокруг как грязи.
Потом он провел еще час, рассказывая Мартему, что произойдет в Хиннерете. От этого у него значительно улучшилось настроение. Демонстрация своих блестящих способностей всегда поднимала дух принца, а его планы касательно Хиннерета были поистине гениальными. Полезно все-таки водить дружбу с врагами.
И поэтому, в приливе великодушия, он решил приоткрыть дверцу и впустить Мартема — несомненно, самого компетентного и самого надежного из всех его генералов — поглубже в залы своей души. В скором времени ему потребуются наперсники. Каждому императору нужны наперсники.
Но, конечно же, благоразумие требовало некоторых гарантий. Хотя Мартем по природе своей был склонен к верности, верность, как любят говорить айноны, все равно что жена. Всегда нужно знать, кому она принадлежит.
Принц откинулся на спинку полотняного кресла и посмотрел в дальнюю часть шатра, где в цветном чехле покоилось темно-красное знамя великой армии. Взгляд Конфаса задержался на древнем киранейском диске, поблескивающем в складках ткани, — предположительно, это была нагрудная пластина с доспехов какого-то из верховных королей. Почему-то вычеканенные на ней фигуры, золотые воины с чрезмерно длинными руками, всегда привлекали его внимание. Такие знакомые и в то же время такие чуждые.
— Мартем, ты когда-нибудь прежде смотрел на него? Я имею в виду — смотрел по-настоящему? — спросил принц.
На миг у генерала сделался такой вид, будто он все-таки хлебнул лишку, но лишь на миг. Он никогда не напивался.
— На Наложницу? — переспросил Мартем.
Конфас весело улыбнулся. Солдаты прозвали великое знамя «Наложницей», поскольку традиция требовала, чтобы его всегда хранили у экзальт-генерала. Конфаса это особенно забавляло: он не раз использовал драгоценный шелк не по назначению. Странное чувство возникает, когда изливаешь семя на нечто священное… Он бы даже сказал — восхитительное.
— Да, — сказал он. — На Наложницу.
Генерал пожал плечами.
— Какой же офицер на нее не смотрел?
— А как насчет Бивня? На него ты смотрел когда-нибудь?
Мартем приподнял брови.
— Да.
— Что, правда? — воскликнул Конфас.
Сам он ни разу не видел Бивня.
— И когда?
— Еще мальчишкой, когда шрайей был Псайлас II. Отец взял меня с собой в Сумну, когда отправился навестить брата, моего дядю, — он тогда служил в Юнриюме… Он повел меня взглянуть на Бивень.
— Ну и как? Что ты тогда почувствовал?
Генерал взглянул на бутылку с вином, которую держал в необыкновенно толстых пальцах.
— Да уже трудно припомнить… Наверное, благоговение.
— Благоговение?
— Помню, что у меня звенело в ушах. Я дрожал — это тоже помню… Дядя сказал, что я должен бояться, что Бивень связан с великими вещами.
Генерал улыбнулся, устремив на Конфаса взгляд ясных карих глаз.
— Я спросил его — уж не с мастодонтами ли? — и он мне врезал — прямо там, в присутствии Святыни Святынь!..
Конфас сделал вид, будто история позабавила его.
— Хм-м, Святыня Святынь…
Он пригубил вино, наслаждаясь теплым вкусом. Много лет прошло с тех пор, как ему доводилось пить вино из личных запасов Скаура. Принцу до сих пор не верилось, что старого шакала превзошли — и кто, Коифус Саубон!.. Конфас сказал именно то, что хотел: боги покровительствуют недоумкам. С другой стороны, таких людей, как он сам, они испытывают. Таких, как они сами…
— А скажи-ка, Мартем, если бы тебе предстояло умереть, защищая либо Бивень, либо Наложницу, чтобы ты предпочел?
— Наложницу, — без колебаний отозвался генерал.
— А что так?
Генерал снова пожал плечами.
— Привычка.
Вот теперь Конфас вполне искренне рассмеялся. Это и вправду было забавно. Привычка. Какой еще гарантии можно желать?
«Вот это прелесть! Настоящее сокровище!»
Принц помолчал, собираясь с мыслями, потом спросил:
— Этот человек, Келлхус, князь Атритау… Что ты о нем думаешь?
Мартем нахмурился, затем подался вперед. Когда-то Конфас даже устроил из этого игру — то откидывался на спинку кресла, то садился прямо и смотрел, как Мартем в зависимости от этого изменяет позу, будто ему необходимо сохранять между их лицами некое определенное расстояние. У Мартема тоже имелись свои причуды.
— Умен, — после секундного размышления сказал генерал, — хорошо говорит и очень беден. А почему вы спрашиваете?
Все еще колеблясь, Конфас оценивающе взглянул на подчиненного. Мартем был безоружен, как и полагалось при личной беседе с членами императорской фамилии. На нем не было роскошных одеяний — лишь простая красная рубаха. «Он не стремится произвести на меня впечатление…» Именно это, напомнил себе Конфас, и делает его мнение бесценным.
— Я думаю, Мартем, настало время открыть тебе небольшой секрет… Ты помнишь Скеаоса?
— Главный советник императора. А что с ним?
— Он был шпионом, шпионом кишаурим… Мой дядя, который всегда очень внимателен, заметил, что во время первого собрания Великих Имен в Андиаминских Высотах князь Келлхус проявил особый интерес к Скеаосу. А наш император, как тебе известно, не из тех людей, кто лениво обдумывает свои подозрения.
Мартем побледнел от потрясения. На миг у генерала сделался такой вид, будто он вот-вот потеряет сознание. Конфас буквально слышал его мысли: «Скеаос — шпион? Это называется „небольшой секрет“?»
— Так Скеаос признался, что работал на кишаурим?
Экзальт-генерал покачал головой.
— В этом не возникло необходимости… Он был… Он был какой-то мерзостью — мерзостью без лица! — колдуном такой разновидности, которую Имперский Сайк не смог засечь… А это, конечно же, означает, что он имел отношение к кишаурим.
— Без лица?
Конфас скривился и в тысячный раз увидел, как некогда столь знакомое лицо Скеаоса… разжимается.
— Не проси меня объяснить. Я не могу.
Гребаные слова.
— Так вы думаете, что князь Келлхус — тоже шпион кишаурим? Что он работает на кианцев?
— Не «он», Мартем, а «оно». Одна лишь видимость.
Лицо генерала вдруг сделалось жестче, и на смену потрясению пришла расчетливость.
— Вы, экзальт-генерал, как и император, не склонны лениво обдумывать свои подозрения.
— Это верно, Мартем. Но, в отличие от дяди, я считаю разумным иногда воздержаться от действий и позволить врагам считать, будто им удалось ввести меня в заблуждение. Внимательно наблюдать и лениво обдумывать — не одно и то же.
— Но я об этом и говорю, — сказал Мартем. — Вы, конечно же, купили осведомителей. Конечно же, вы позаботились, чтобы за этим человеком следили… И что вам удалось узнать?
Конечно же.
— Немного. Он живет на одной стоянке со скюльвендом и, похоже, делит с ним женщину — как мне сказали, настоящую красавицу. Он проводит целые дни в обществе колдуна по имени Друз Ахкеймион — того самого дурня из школы Завета, которого мой дядя нанял, чтобы проверить мнение Имперского Сайка касательно Скеаоса. Не знаю, правда, что это — простое совпадение или нечто более серьезное. Предположительно, они беседуют об истории и философии. Он, как и скюльвенд, вхож в ближний круг Пройаса, и он, как могло сегодня видеть все Священное воинство, обладает странной властью над Саубоном. Кроме того, люди из низших каст считают его кем-то вроде пророка бедноты — провидцем или что-то в этом роде.
— Немного?! — воскликнул Мартем. — Судя по тому, что вы сказали, он кажется могущественным человеком — пугающе могущественным, если принадлежит кишаурим.
Конфас улыбнулся:
— Растущая сила…
Он подался вперед, и, естественно, Мартем тут же откинулся на спинку кресла.
— Хочешь знать, что я думаю?
— Конечно.
— Я думаю, он послан кишаурим, чтобы внедриться в наши ряды и уничтожить Священное воинство. Идиотский бросок Саубона и вся эта чушь насчет наказания шрайских рыцарей — только первая попытка. Попомни мое слово, будут и другие. Он околдовывает людей, разыгрывает из себя ясновидящего…
Мартем прищурился и покачал головой.
— А я слышал обратное. Говорят, будто он возражает, когда его пытаются возвеличивать.
Конфас рассмеялся.
— А есть ли лучший способ изобразить из себя пророка? Люди не любят, когда смердит самонадеянностью, Мартем. Мне же, напротив, нравится пикантный запах нахальства. Я нахожу его честным.
Лицо Мартема потемнело.
— Почему вы мне все это говорите?
— Ты, как всегда, быстро соображаешь, генерал. Неудивительно, что я нахожу твое общество таким занятным.
— Неудивительно, — согласился генерал.
У Мартема всегда был бесстрастный ум. Конфас потянулся за графином и снова наполнил чашу вином из запасов сапатишаха.
— Я говорю тебе это, Мартем, ибо мне нужно, чтобы ты послужил генералом еще и в другой войне. Помимо всего прочего, ты фигура заметная. Если князь Келлхус собирает сторонников ради какой-то цели, если он добивается расположения влиятельных людей, ты покажешься ему крайне привлекательной жертвой.
На лице Мартема проступило страдальческое выражение.
— Вы хотите, чтобы я разыграл его сторонника?
— Да, — отозвался Конфас. — Мне не нравится, как пахнет от этого человека.
— Тогда почему бы просто не убить его?
«Ну конечно же…» Как Мартему только удается быть одновременно таким проницательным и таким тупым?
Экзальт-генерал наклонил чашу и полюбовался напитком цвета темной крови. На миг букет этого вина перенес его на много лет назад, в те дни, когда он жил заложником при роскошном дворе Скаура. Он снова взглянул на знамя. Его дорогая Наложница.
— Странно, — сказал Конфас, — но я чувствую себя молодым.
Глава 8. Менгедда
«Любой сильнее мертвеца».
Айнонская поговорка«Всякий монументальный труд Государства измеряется в локтях. Всякий локоть измеряется длиной руки аспект-императора. А рука аспект-императора, как говорят, неизмерима. Но я говорю, что рука аспект-императора измеряется в локтях и что все локти измеряются трудами Государства. Даже вселенная, все сущее, не является неизмеримой, ибо она больше, чем то, что заключено в ней, и это „больше“ — тоже разновидность меры. Даже у Бога есть свои локти».
Импарфас, «Псухалог»4111 год Бивня, начало лета, равнина Менгедда
— Они празднуют, радуясь почестям, оказанным моему дяде, — сказал граф Атьеаури, ведя Келлхуса через толпу пьяных северян.
Галеоты предпочитали кожаные, украшенные примитивными изображениями животных палатки с треугольной крышей и тяжелыми деревянными рамами. Поскольку растяжки для таких палаток не требовались, их ставили вплотную друг к другу вокруг центрального костра. Атьеаури провел Келлхуса через несколько таких кругов, отвечая на расспросы князя о внешности, традициях и обычаях галеотов. Сперва это раздражало Атьеаури, но вскоре молодой граф уже сиял от гордости и изумления, пораженный не только своеобразием и благородством своего народа, но и тем, что сам начал по-новому это осознавать. Подобно множеству других людей, он никогда особо не задумывался над тем, кто он такой или что он такое.
Келлхус знал, что Коифус Атьеаури никогда не забудет их прогулку.
«Так легко и одновременно так трудно…»
Келлхус избрал кратчайший путь. Он получил важные базовые знания о культуре народа, к которому принадлежал Саубон, и заручился доверием его не по годам развитого племянника. Он знал, что теперь Атьеаури будет глядеть на князя Атритау как на друга, более того — как на человека, рядом с которым он становится мудрее.
Постепенно они протолкались в огороженный круг, превосходивший все прочие и по своему размеру, и по степени опьянения находившихся там людей. На дальней стороне круга Келлхус заметил поднятое знамя с Красным Львом, гербом дома Коифусов. Атьеаури стал пробираться к нему, ругая и понося соотечественников. Но когда они очутились неподалеку от костра, граф остановился.
— Вот, вам это будет интересно, — сказал он, усмехаясь.
Перед костром было расчищено значительное пространство, где стояли лицом друг к другу два галеота, полуголые, тяжело дышащие, и держали в руках по два посоха каждый. Келлхус понял, что концы этих посохов привязаны кожаными ремнями к запястьям борющихся. Вцепившись в отполированное дерево, они давили друг на дружку; белые торсы и загорелые руки бугрились от напряжения мышц. Зрители подбадривали их криками.
Внезапно тот, который стоял ближе к Келлхусу, левой рукой рванул шест на себя, и его противник, споткнувшись, полетел вперед. Затем они заплясали вокруг огня, тяжело дыша, дергая за шесты, толкая их, делая все что угодно, лишь бы уронить противника на утоптанную землю.
Тот, что был покрупнее, пошатнулся, и в какой-то момент казалось, будто он сейчас упадет в костер. Толпа ахнула и разразилась воплями, когда он восстановил равновесие у самой границы огненного столба. На его коротко стриженных густых волосах показался язычок пламени; это зрелище вызвало взрыв хохота. Боец дернулся и выругался. Было похоже, что он сейчас запаникует, но тут кто-то плеснул ему на голову не то пивом, не то медом. Снова смех, перемежаемый криками о том, что это, дескать, не по правилам.
Атьеаури сдавленно хохотнул, потом повернулся к Келлхусу.
— Эти двое действительно ненавидят друг друга, — крикнул он, стараясь перекрыть гомон голосов. — Они жаждут не серебра, им нужно избить или обжечь противника.
— Что это такое?
— Мы называем это «гандоки», «тени». Чтобы победить своего гандоки, свою тень, ты должен уронить его на землю.
Атьеаури непринужденно рассмеялся. Смех человека, полностью уверенного в себе.
— Чурки, — добавил он, используя общепринятый уничижительный термин, обозначающий всех не-норсирайцев, — они думают, что мы, галеоты, народ, не знающий утонченности, — так же и женщины говорят о мужчинах! Но гандоки доказывает, что это не совсем верно.
И тут внезапно, словно появившись из воздуха, между ними очутился Сарцелл, в тех же бело-золотых одеяниях, что были на нем в амфитеатре.
— Князь, — произнес он, отвесив поклон Келлхусу.
Атьеаури резко повернулся.
— Что вы здесь делаете?
Шрайский рыцарь рассмеялся, глядя на графа большими глазами с неимоверно длинными ресницами.
— Полагаю, то же, что и вы. Я хотел посоветоваться с князем Келлхусом.
— Вы следили за нами! — возмутился Атьеаури.
— Ну что вы… — отозвалась тварь, притворяясь оскорбленной. — Я знал, что найду его здесь, наслаждающегося щедростью Ведущего Битву.
Он скептически оглядел нетрезвую толпу.
Атьеаури посмотрел на Келлхуса; в его взгляде, пульсе, даже в самом дыхании чувствовалось едва скрываемое отвращение. Келлхус понял, что граф считает Сарцелла изнеженным и самовлюбленным типом, особенно отталкивающим представителем вида, который он давно научился презирать. Вполне возможно, что изначально Кутий Сарцелл был именно таким: самодовольным кастовым дворянином. Но Сарцелл — настоящий Сарцелл — мертв. А то, что стояло перед ними в его обличье, было чародейской тварью, невероятно хорошо обученным животным. Оно убило Сарцелла и присвоило все, чем он обладал. Оно украло у шрайского рыцаря даже смерть.
Невозможно представить себе более совершенного убийства.
— Тогда ладно, — сказал молодой граф, отводя взгляд.
Кажется, он был немного сбит с толку.
— Позвольте мне перемолвиться парой слов с рыцарем-командором, — попросил Келлхус.
Атьеаури скривился, но все же дал согласие и сказал, что будет ждать его у шатра Саубона.
— Беги, маленький, — сказал Сарцелл, когда граф принялся прокладывать себе дорогу через толпу галдящих соотечественников.
Раздался пронзительный вопль. Келлхус увидел, что рослый гандоки споткнулся и упал под ударами нескольких галеотов, выскочивших из круга зрителей. Но кричал не он, а его противник. Келлхус успел заметить упавшего за частоколом темных ног: кожа, вспухшая волдырями от ожога, в правое плечо и руку врезались дымящиеся угли…
Другие ринулись на защиту гандоки… Сверкнул нож. На утоптанную землю плеснуло кровью.
Келлхус взглянул на Сарцелла; тот стоял не дыша, поглощенный зрелищем драки. Зрачки расширены. Дыхание прерывистое. Пульс учащенный…
«Ему свойственны непроизвольные реакции».
Келлхус заметил, что правая рука твари задержалась у паха, словно борясь с непреодолимым порывом немедленно заняться мастурбацией. Большой палец поглаживал указательный.
Еще один крик.
Тварь, называющая себя Сарцеллом, явственно дрожала от сдерживаемого пыла. И Келлхус понял, чего жаждут эти твари. Безумно жаждут.
Из всех примитивных животных влечений, вредно влияющих на интеллект, ничто не могло сравниться по силе с плотским вожделением. В какой-то мере оно питало почти каждую мысль, служило поводом почти каждого действия. Именно это и делало Серве такой бесценной. Любой мужчина у костра Ксинема — кроме скюльвенда, — сам того не осознавая, чувствовал, что наилучший способ поухаживать за ней — угодить Келлхусу. И они ухаживали за девушкой, поскольку ничего не могли с собой поделать.
Но Сарцелл — теперь это было ясно — жаждал другой разновидности совокуплений. Той, что несет страдания. Шпионы-оборотни, как и шранки, постоянно мечтали отыметь кого-нибудь ножом. У них был один изготовитель, превративший этих продажных тварей в своих рабов и отточивший их, словно наконечник копья.
Консульт.
— Галеоты, — с грубой ухмылкой заметил Сарцелл, — вечно режут друг другу глотки и убивают слабейших в собственном стаде.
Драка вскоре была пресечена гневной тирадой графа Анфирига. Троих окровавленных людей поспешно унесли прочь от костра.
— «Они борются, — сказал Келлхус, цитируя Айнри Сейена, — сами не зная за что. Потому они кричат о злодействе и обвиняют других в том, что те стоят у них на пути…»
Консульт каким-то образом узнал, что он сыграл важную роль в разоблачении Скеаоса. Они не знали только, было ли его участие случайным. Если они заподозрили, что Келлхус способен видеть их шпионов, то вынуждены будут выбирать между нависшей угрозой разоблачения и необходимостью понять, что именно позволяет ему различать оборотней. «Я должен пройти по лезвию бритвы и превратить себя в загадку, которую им придется решать…»
Келлхус несколько мгновений смотрел на тварь в упор. Когда та сделала вид, что хмурится, он сказал:
— Извините, пожалуйста… С вами что-то странное… С вашим лицом.
— Вы именно поэтому так смотрели на меня в амфитеатре?
На краткий миг Келлхус открылся легиону, стоящему перед ним. Ему требовалась информация. Ему необходимо было знать, а это означало, что следует показать свою слабость, уязвимость…
«Этот Сарцелл — новый».
— Что, было настолько заметно? — спросил Келлхус. — Прошу прощения… Я размышлял о том, что вы сказали мне той ночью в горах Унарас, в разрушенном святилище… Вы произвели на меня сильное впечатление.
— И что же я сказал?
«Оно признается в своей неосведомленности, как это сделал бы любой человек, которому нечего скрывать… Эта тварь хорошо натаскана».
— А вы не помните?
Тварь пожала плечами.
— Я много что говорил.
И добавила, ухмыльнувшись:
— У меня красивый голос…
Келлхус напустил на себя недовольный вид.
— Вы что, играете со мной? Вы затеяли какую-то игру?
Поддельное лицо сжалось, изображая хмурую гримасу.
— Вовсе нет, уверяю вас. Так что именно я сказал?
— Вы сказали, будто что-то произошло, — с опаской начал Келлхус. — Кажется, что-то про бесконечный… голод.
По лицу твари пробежала судорога — неразличимая для глаз рожденных в миру.
— Да-да, — продолжал Келлхус. — Бесконечный голод…
— Ну и что?
Едва заметное повышение тона.
— Вы сказали мне, что вы не тот, кем кажетесь. Сказали, что вы — не шрайский рыцарь.
Еще одна судорога, как будто паук откликается на колебания, пробежавшие по его паутине.
«Эту тварь можно читать».
— Вы это отрицаете? — спросил Келлхус. — Вы хотите сказать, что не помните этого?
Лицо стало бесстрастным.
— Что еще я сказал?
«Оно сбито с толку… Не знает, что делать».
— Такое, во что я просто не мог поверить. Вы сказали, что вам поручено наблюдать за адептом Завета и что для этого вы соблазнили его любовницу, Эсменет. Вы сказали, что мне грозит страшная опасность, что ваши хозяева думают, будто я приложил руку к некоему бедствию, произошедшему при императорском дворе. Вы сказали, что готовы помочь…
Складки и морщинки, образовывавшие выражение лица, сложились в сеть тончайших трещинок, словно втягивали в себя влажный ночной воздух.
— А я сказал, почему во всем этом сознаюсь?
— Потому что хотели того же… Вы что, вправду ничего не помните?
— Помню.
— Тогда как это понимать? Отчего вы сделались таким… таким застенчивым? Вы не похожи на себя прежнего.
— Возможно, я передумал.
Вот так. За считаные секунды Келлхус удостоверился в справедливости своих гипотез относительно того, чем интересуется Консульт, и выяснил, как читать эти создания. Но что важнее всего, он заронил мысль о предательстве. Они ведь спросят себя: откуда Келлхус мог это все узнать, если не от изначального Сарцелла? Каковы бы ни были их намерения, Консульт целиком и полностью зависит от конспирации. Один отступник может погубить все. Если они усомнятся в надежности своих полевых агентов, шпионов-оборотней, то вынуждены будут ограничить их автономность и действовать намного осторожнее.
Иными словами, им придется уступить товар, в котором Келлхус нуждался сильнее всего, — время. Время, необходимое для того, чтобы подчинить Священное воинство. Время, необходимое для того, чтобы отыскать Анасуримбора Моэнгхуса.
Он был одним из Обученных, дунианином, и следовал по кратчайшему пути. Логосу.
Окружающие заговорили громче; Келлхус и Сарцелл дружно взглянули в сторону костра. Какой-то рослый гесиндальмен с волосами, собранными в узел, вскинул шесты гандоки к ночному небу, вызывая новых бойцов. Тварь, именующая себя Сарцеллом, рассмеялась, схватила Келлхуса за руку и втащила в круг. Толпа снова зашумела.
«Оно мне поверило».
Что это с ее стороны — импровизация? Или действие, продиктованное паникой? Или именно так тварь и собиралась поступить изначально? О том, чтобы отказаться от брошенного вызова, не могло быть и речи — во всяком случае, здесь, среди этих воинственных людей. Если он потеряет лицо, результат будет сокрушительным.
Они разделись, омываемые жаром костра: Келлхус — до льняного килта, который носил под синей шелковой рясой, Сарцелл — догола, на манер нансурских атлетов. Галеоты принялись осыпать его насмешками, но твари, похоже, было безразлично. Они встали, оценивая друг дружку, пока двое агмундрменов привязывали шесты к их запястьям. Гесиндальмен подергал шесты, проверяя, крепко ли они держатся, а затем, даже не взглянув на участников, выкрикнул:
— Га-а-а-ндох!
Тень.
Они закружились, придерживая края шестов; тела отливали желтым в свете костра. Толпа, продолжавшая реветь, отошла на второй план, а потом и вовсе исчезла, и осталось одно-единственное существо, Сарцелл, занимающее одно-единственное место…
Келлхус.
Узлы мышц, перетекающих под блестевшей в свете костра кожей; многие закреплены и соединены между собою не так, как у людей. Широко открытые глаза смотрят со сжатого в кулак лица, наблюдают, изучают. Ровный пульс. Набухший фаллос затвердевает. Рот, состоящий из тонких пальцев, шевелится, говорит…
— Мы стары, Анасуримбор, очень, очень стары. А в этом мире возраст — сила.
Келлхус понял, что связался со зверем, с чем-то, порожденным, если верить Ахкеймиону, в недрах Голготтерата. Мерзость, созданная Древней Наукой, Текне… Вероятности переплетались, словно ветви, на открытом воздухе невероятного.
— Многие, — прошипела тварь, — пытались сыграть в ту игру, в которую сейчас играешь ты.
Проще всего было бы проиграть, но слабость вызывает презрение и провоцирует агрессию.
— За тысячу лет у нас были тысячи тысяч врагов, и мы превратили их сердца в сгустки боли, их страны — в пустыню, их шкуры — в накидки…
Но побеждать эту тварь слишком опасно.
— Это произошло со всеми, Анасуримбор, и ты — не исключение.
Нужно сохранить некое равновесие. Но как?
Келлхус толкнул правый шест и отвел левый, пытаясь заставить Сарцелла потерять равновесие. Безрезультатно. С тем же успехом он мог попробовать опрокинуть быка. У твари сверхъестественные рефлексы, к тому же она сильна — очень сильна.
Келлхус изменил тактику, мысленно пересматривая различные варианты. Тварь, именуемая Сарцеллом, ухмылялась; теперь его фаллос поднимался к животу, изгибаясь, словно лук. Келлхус знал, что способность испытывать плотское возбуждение от битвы или состязания высоко почитается среди нансурцев.
«Насколько она сильна?»
Келлхус налег на шесты, расставив локти, как будто держал ручки тачки, и толкнул. Сарцелл скопировал его стойку. Мышцы напряглись, взбугрились, кожа заблестела, словно смазанная маслом. Ясеневые шесты затрещали.
— Кто ты? — выдохнул Келлхус.
Сарцелл заворчал, опустил руки и рванул шесты. Келлхус полетел вперед. В тот миг, когда он потерял равновесие, тварь резко развернулась, словно швыряя невидимый диск. Келлхус вскинул оба шеста и удержался на ногах. Противники заплясали по площадке, дергая и толкая, отвечая на каждое действие противодействием, и каждый был идеальной тенью другого…
В промежутках между ударами сердца Келлхус следил за перемещением центра равновесия твари, некой точки, примерно отмеченной вершиной ее эрегированного члена. Он наблюдал за повторами, опознавал приемы, проверял догадки, непрерывно анализируя вероятности исхода этой игры и разнообразные последовательности движений. Он держал себя в пределах элегантного, но ограниченного набора движений, провоцируя тварь на привычные, рефлекторные ответы…
— Чего ты хочешь? — крикнул он.
А затем принялся импровизировать.
Почти из приседа он швырнул шест, вскинув левую руку, и одновременно с силой ткнул тварь правым шестом. Правая рука Сарцелла ударилась об землю; он согнулся, и его отшвырнуло назад. На миг тварь сделалась похожа на человека, отброшенного падающим валуном…
Тварь оттолкнулась от земли и попыталась сделать сальто. Келлхус рванул шесты, добиваясь, чтобы та упала на живот. Но тварь исхитрилась и успела подтянуть левую ногу коленом к груди. Ее правая нога попала в костер…
В воздух взметнулась туча пепла и углей — не для того, чтобы ослепить Келлхуса, а для того, чтобы заслонить их обоих от наблюдающих галеотов…
Тварь раскинула руки и попыталась пнуть Келлхуса. Келлхус заблокировал удар голенью — раз, другой…
«Оно собирается убить меня…» Несчастный случай во время варварской игры.
Келлхус рывком скрестил руки, на третьем ударе поймав ногу твари шестами. На миг он получил преимущество в равновесии. Он толкнул шесты, окунув голую тварь в золотые языки пламени…
«Возможно, если я нанесу ущерб…»
Затем он дернул тварь на себя.
Это было ошибкой. Сарцелл, невредимый, приземлился после прыжка и, продолжая движение, с нечеловеческой силой толкнул Келлхуса, впечатав его в толпу галеотов. Дважды Келлхус едва не упал; затем он врезался спиной во что-то тяжелое — в каркас шатра. Шатер с треском рухнул и накрыл их обоих. Они оказались в темноте, скрытые от чужих глаз, — именно здесь, как понял Келлхус, тварь и намеревалась его убить.
«Это пора прекращать!»
Он встал покрепче, ухватился за шесты, нырнул вперед и стремительно развернулся; Сарцелл по дуге взмыл в воздух. Изумление твари длилось всего секунду; в следующий миг она уже умудрилась пинком сломать шест… Келлхус с силой ударил тварь об землю.
И та стала человеком, скользким от пота, тяжело дышащим.
Кто-то из галеотов ворвался в снесенный шатер, спотыкаясь в темноте и громко требуя принести факелы. За ним последовали другие. Они увидели Сарцелла, стоящего на четвереньках у ног Келлхуса. Пораженные галеоты разразились криками, восхваляя Келлхуса.
«Что я наделал, отец?»
Галеоты отвязывали шесты от запястий Келлхуса, хлопали его по спине и клялись, что в жизни не видели ничего подобного, — а Келлхус не мог оторвать взгляд от Сарцелла, медленно поднимавшегося на ноги.
У него должны быть переломаны кости. Но теперь Келлхус знал, что у этой твари нет костей. На их месте хрящи.
Как у акулы.
Саубон смотрел, как Атьеаури в ужасе глядит на кости, разбросанные по земляному полу. Шатер был маленьким — куда меньше, чем яркие шатры других Великих Имен. Под красно-синей крышей хватало места лишь для видавшей виды походной койки и небольшого стола, за которым и сидел галеотский принц с чашей вина…
Снаружи орали и хохотали перебравшие гуляки.
— Но он здесь, дядя, — сказал молодой граф Гаэнри. — Он ждет…
— Отошли его! — крикнул Саубон.
Он искренне любил племянника и всякий раз, глядя на него, видел отражение обожаемой сестры. Она защищала его от отца. Она любила его, пока была жива…
Но знала ли она его?
«Куссалт знал…»
— Но, дядя, вы же просили…
— Меня не волнует, что я просил!
— Я не понимаю… Что случилось?
Что за жизнь, когда тебя знает один-единственный человек — тот, кого ты ненавидишь! Саубон вскочил с места и схватил племянника за плечи. Как ему хотелось сказать правду, признаться во всем этому мальчику, этому мужчине с глазами его сестры — ее плоти и крови! Но Атьеаури — не она… Он не знает его.
А если бы знал — презирал бы.
— Я не могу! Не могу допустить, чтобы он видел меня таким! Как ты не понимаешь?!
«Никто не должен знать! Никто!»
— Каким?
— Вот таким! — прорычал Саубон, отталкивая парня.
Атьеаури удержался на ногах и остался стоять, словно онемев — и обидевшись на дядю. Он должен чувствовать себя оскорбленным, подумал Саубон. Он — граф Гаэнри, один из самых могущественных людей в Галеоте. Он должен быть сейчас в ярости, а не в смятении…
Шевелящиеся губы Куссалта. «Я хочу, чтобы ты знал, как я тебя ненавижу…»
— Просто отошли его! — выкрикнул Саубон.
— Как вам будет угодно, — пробормотал племянник.
Он еще раз бросил взгляд на кости, лезущие из земли, и вышел, откинув кожаный полог.
Кости. Словно множество маленьких бивней.
«Никто! Даже он!»
Хотя было уже поздно, о сне не могло идти и речи. Теперь, когда Верхний Айнон и Багряные Шпили вновь присоединились к Священному воинству, Элеазару казалось, будто он проспал несколько месяцев. Ибо что такое сон, если не оторванность от мира? Полное неведение.
Чтобы исправить это, Элеазар отправил Ийока, своего главного шпиона, трудиться, как только их паланкины опустились на землю равнины Менгедда. Надлежало обследовать поле битвы, состоявшейся пять дней назад, расспросить очевидцев, определить, какую тактику использовали кишаурим и как айнрити сумели взять над ними верх. Кроме того, следовало выйти на связь с осведомителями, которых Багряные Шпили внедрили в Священное воинство, и расспросить еще и их, чтобы восстановить общий ход событий за время продвижения по землям язычников. К тому же оставался открытым вопрос об этих новых шпионах кишаурим.
Безликих шпионах. Шпионах без Метки.
Элеазар, прохаживаясь, ждал Ийока у своего шатра, а его секретари и джавреги-телохранители наблюдали за великим магистром с почтительного расстояния. После недель, проведенных в паланкине, Элеазара воротило от замкнутых пространств. Казалось, будто полотняные стены давят на него.
Через некоторое время Ийок вынырнул из темноты — вурдалак в темно-красном одеянии.
— Идем со мной, — велел ему Элеазар.
— Прямо через лагерь?
— Боишься беспорядков? — с некоторым скептицизмом поинтересовался великий магистр. — Я думаю, теперь, потеряв столько людей стараниями кишаурим, они будут ценить присутствие святотатцев.
— Да нет… Я просто подумал, что вместо этого мы могли бы посетить руины. Говорят, Менгедда старше, чем Ша…
— А, Ийок Любитель Древностей! — Элеазар рассмеялся. — Я уже начал было забывать…
Сам он не питал ни малейшего интереса к развалинам, более того, считал любовь к древностям изъяном характера, подобающим разве что адептам Завета, но сейчас отнесся к слабости Ийока на удивление снисходительно. Кроме того, он решил, что, когда размышляешь о собственном выживании, мертвые — далеко не худшая компания.
Велев телохранителям держаться сзади, Элеазар, позвав Ийока, зашагал в темноту.
— Ну и что ты нашел? — спросил он.
— После того как мы осветили поле, — сказал Ийок, — все встало на свои места…
Мимо пронесли факел, и лишенные пигмента глаза шпиона на миг вспыхнули красным.
— Очень это тревожно — видеть работу колдунов без Метки. Я уж и подзабыл…
— Вот еще одна причина так рисковать, Ийок — возможность сокрушить Псухе…
Колдовство, которое они не в состоянии увидеть. Метафизика, которую они не в состоянии постичь… Есть ли для чародея большее зло?
— Да, правда, — неуверенно согласился шпион. — Итак, что нам известно: согласно докладам, как галеотов, так и всех прочих, принц Саубон в одиночку отразил атаку койяури падиражди…
— Впечатляюще, — протянул Элеазар.
— Так же впечатляюще, как и невероятно, — отозвался неизменно скептичный Ийок. — Что, в общем, несущественно. Важно то, что шрайские рыцари погнались за фаним. Именно это, я думаю, и оказалось решающим фактором.
— Как так?
— Обожженная земля свидетельствует, что атака Готиана началась не от войск Саубона, стоявших на краю ложбины, а шагов на семьдесят дальше… Я думаю, отступающие койяури заслонили шрайских рыцарей от кишаурим… Рыцари находились всего шагах в ста, когда безглазые начали Бичевать их.
— Значит, они применяли Бичевание?
Ийок кивнул.
— Я бы сказал, да. И, возможно, еще и Плети.
— Так это были секондарии или терциарии?
— И те, и другие, — отозвался глава шпионов, — и, возможно, даже один-два примария… Очень жаль, что мы не додумались разместить наблюдателей среди норсирайцев: не считая того, что мы видели десять лет назад, мы ничего больше не знаем про них. И, к сожалению, никто, похоже, не ведает, кто именно из кишаурим был здесь — даже высокопоставленные кианские пленники.
Элеазар кивнул.
— Да, было бы неплохо узнать имена… И все-таки дюжина кишаурим мертва, Ийок. Дюжина!
Колдунов Трех Морей недаром называли Немногими. Кишаурим, если верить осведомителям в Шайме и Ненсифоне, могли выставить от ста до ста двадцати колдунов высокого ранга — примерно столько же, сколько и Багряные Шпили. Для тех, кто ведет счет на тысячи, потеря двенадцати человек вряд ли покажется значительной, и Элеазар не сомневался, что многие в Священном воинстве, в особенности среди шрайских рыцарей, скрипят зубами при мысли о том, скольких они потеряли ради победы над столь малочисленным противником. Но для тех, кто, как колдуны, считает десятками, уничтожение двенадцати было катастрофой — или поистине славной победой.
— Это потрясающее достижение, — согласился Ийок.
Он жестом указал на Людей Бивня, снующих вокруг; Элеазар подумал, что это, вероятно, зрители, возвращающиеся после совета Великих и Малых Имен.
— И судя по тому, что я успел узнать, солдаты более чем смутно осознают его значение.
«Оно и к лучшему», — подумал Элеазар. Как странно, что жестокость и ликование могут так сочетаться.
— В таком случае, — торжественно заявил он, — это и будет нашей стратегией. Мы будем сохранять свои жизни любой ценой, позволив этим псам и дальше убивать столько кишаурим, сколько они смогут.
Магистр сделал паузу и подождал, пока Ийок соизволит на него посмотреть.
— Мы должны беречь себя для Шайме.
Сколько раз он обсуждал этот вопрос с Ийоком и прочими? Все соглашались, что Псухе при всей ее силе все-таки ниже мистической магии. В открытом противостоянии с кишаурим Багряные Шпили, несомненно, победят. Но скольким из них придется умереть? И какие силы останутся у Багряных Шпилей после этого? Победу, которая низведет их до статуса Малой школы, нельзя считать таковой.
Они должны не просто победить кишаурим — они должны стереть их с лица земли. Но какой бы безумной ни была его жажда мести, Элеазар не собирался ради этого губить собственную школу.
— Мудрая линия поведения, великий магистр, — сказал Ийок. — Но я опасаюсь, что в следующей стычке айнрити уже не проявят себя так хорошо.
— Почему?
— Кишаурим шли пешком, скрываясь от снабженных хорами лучников и арбалетчиков Саубона. Однако все равно странно, что они приблизились без кавалерийского эскорта…
— Они шли в открытую? Но я всегда считал, что их обычная тактика — бить из-за спин атакующей конницы…
— Именно так утверждают специалисты, работающие на императора.
— Самонадеянность, — сказал Элеазар. — Всякий раз, когда они схватывались с Нансурией, им приходилось иметь дело с Имперским Сайком. А тогда они знали, что мы в нескольких днях пути, около Южных Врат.
— Так, значит, они отбросили предосторожности, потому что сочли себя непобедимыми…
Ийок опустил взгляд, словно разглядывал сандалии и сбитые ногти больших пальцев, выглядывающие из-под подола его сияющего облачения.
— Возможно, — в конце концов произнес он. — Похоже, они намеревались устроить бойню, чтобы под следующей волной конницы строй айнрити рухнул. Возможно, они считали, что поступают предусмотрительно…
Они прошли мимо костров и вышитых круглых шатров своих соотечественников-айнонов и подобрались к границе погибшей Менгедды. Земля начала отлого подниматься. Из нее торчали широкие каменные фундаменты — останки древней стены. Не обращая внимания на опасность испачкать одежду, чародеи взобрались на вершину холма. Вокруг были развалины и изломанные стены, а на горизонте виднелся древний акрополь, увенчанный портиком с исполинскими колоннами.
«Что-то переломило хребет этому месту, — подумал Элеазар. — Что-то ломает хребет всем подобным местам…»
— Какие новости о Друзе Ахкеймионе? — спросил он.
Отчего-то у магистра перехватило дыхание.
Шпион, подсевший на чанв, смотрел в ночь и погружался в свои грезы. Кто знает, что творится в его паучьей душе?
— Боюсь, вы были правы насчет него… — проговорил Ийок.
— Боишься? — разозлился Элеазар. — Ты же сам допрашивал Скалетея! Ты знаешь, что произошло той ночью под императорским дворцом, лучше, чем кто-либо еще — кроме, разве что, непосредственных участников событий. Та мерзость узнала Ахкеймиона, следовательно, Ахкеймион каким-то образом связан с ней. Мерзость может быть только шпионом кишаурим, следовательно, Ахкеймион связан с кишаурим.
Ийок повернулся к магистру, с видом кротким, как у овечки.
— Но насколько существенна связь между ними?
— Именно на этот вопрос мы и должны ответить.
— Верно. И как вы предлагаете искать ответ?
— То есть как? Отыскав колдуна. Допросив его.
Он что, не считает, что угроза, которую представляют собой эти оборотни, заслуживает применения столь чрезвычайных мер? Элеазар не мог даже представить себе опасности серьезнее!
— Так же, как Скалетея?
Элеазар подумал о неглубокой могиле, оставшейся в Ансерке, и его слегка передернуло.
— Так же, как Скалетея.
— Именно этого, — сказал Ийок, — я и боюсь.
И внезапно Элеазар понял.
— Ты думаешь, что его бесполезно убеждать…
За прошедшие века Багряные Шпили похитили не одну дюжину адептов Завета в надежде вырвать у них тайны Гнозиса, чародейства Древнего Севера. Ни один не поддался. Ни один.
— Я думаю, что пытаться выведать у него что-либо бесполезно, — подтвердил его догадки Ийок. — Но я боюсь другого: что он даже под пытками будет твердить, будто мерзость, занявшую место Скеаоса, подослал Консульт, а не кишаурим…
— Но нам уже известно, — воскликнул Элеазар, — что этот человек говорит одно, а делает другое! Вспомни Гешрунни! Друз Ахкеймион срезал ему лицо… А потом, меньше чем через год, в императорской темнице его узнал безликий шпион. Это не может быть совпадением!
Элеазар взглянул на Ийока и сцепил дрожащие руки. Ему не нравилось, с каким видом Ийок его слушает — вылитая рептилия!
— Я знаю все ваши доводы, — сказал шпион.
Он снова повернулся и принялся разглядывать залитые лунным светом руины; лицо его было полупрозрачным и непроницаемым.
— Я просто боюсь, что за этим кроется что-то еще…
— Что-то еще есть всегда, Ийок. Иначе стали бы люди убивать людей?
…После смерти дочери Эсменет много раз пыталась сделать что-то с пустотой внутри себя.
Она старалась прогнать ее, расспрашивая жрецов, с которыми спала, но все они повторяли одно и то же — что Бог обитает только в храмах, а она превратила свое тело в бордель. И после этого имели ее снова. Некоторое время она пыталась замазать пустоту, совокупляясь с мужчинами за что угодно — за медный грош, кусок хлеба, как-то раз даже за подгнившую луковицу. Но мужчины никогда не могли заполнить ее — только пачкали.
Тогда Эсменет обратилась к таким же, как она сама, и принялась наблюдать за ними. Она изучала постоянно смеющихся проституток, которые умудрялись ликовать, не выбираясь из сточной канавы, и щебечущих девушек-рабынь, сгибающихся под тяжестью кувшинов с водой, но при этом успевающих улыбаться и постреливать глазами по сторонам. Она изучала их, словно диковинный танец. И на некоторое время обрела спокойствие, как будто заученные жесты могли заставить биться затихающее сердце.
На некоторое время она забыла о боли.
Эсменет никогда не верила в любовь. Если радость действия не в силах развеять отчаяние, тогда, возможно, радость в отчаянии.
Теперь же они целых пять дней вместе жили в холмах, окаймляющих равнину Битвы. Ахкеймион отыскал небольшой ручей, и они пошли вверх по его течению. Поднимаясь по каменистому склону, они наткнулись на рощицу желтых горных сосен, чьи массивные кроны покачивались на ветру, медленно описывая круги, и нашли среди деревьев прозрачное зеленое озерцо. Они расположились неподалеку от него, хотя, чтобы обеспечить пропитанием Рассвета, мула Ахкеймиона, им приходилось каждый день не меньше часа бродить по холмам, собирая корм для животного.
Пять дней. Они шутили и заваривали чай прохладным утром, занимались любовью под шуршание ветра в ветвях, ели по вечерам зайцев и сусликов, которых Ахкеймион ловил силками, и с изумлением касались друг друга, когда их лица заливал лунный свет.
И еще они купались и плавали. Смывали палящий зной в прохладной воде.
Как ей хотелось, чтобы это никогда не кончалось!
Эсменет вытащила циновки из палатки, вытряхнула их, а потом постелила поверх теплых камней. Они поставили палатку на мягкой земле под древней, огромной сосной, стоявшей в одиночестве, словно часовой, у края широкого уступа.
«Это наше место…» — подумала Эсменет. Без людей, без руин, без воспоминаний, если не считать костей неизвестного зверька, чей скелетик они обнаружили под деревом.
Она нырнула обратно в палатку и вытащила кожаную сумку Ахкеймиона. Сумка валялась на траве, и теперь один бок у нее отсырел и отдавал затхлостью. По шву поползла белая плесень.
Эсменет вынесла сумку на солнце и уселась, скрестив ноги, на мягкий ковер из сосновых иголок. Она вытащила из сумки кучу пергаментных свитков и разложила их сушиться, придавив камушками. Потом нашла деревянную куклу с головой из завязанного узлом шелкового лоскута и маленьким ржавым ножиком в правой руке. Напевая под нос старую песенку из Сумны, Эсменет покружила куколку в танце, заставляя деревянного человечка скакать и подбрасывать ножки. Затем, посмеявшись над собственной глупостью, положила игрушку на солнце, скрестив ей ножки и убрав ручки за голову, так, что та начала напоминать замечтавшегося раба, прилегшего в поле отдохнуть. И зачем Ахкеймиону эта кукла?
Потом Эсменет извлекла из сумки лист пергамента, лежавший отдельно от прочих. Развернув его, она увидела короткие, небрежно начертанные вертикальные столбцы, каждый из которых был соединен с другими одной, двумя или несколькими наспех нацарапанными линиями. Хотя Эсменет не умела читать — она еще не встречала женщину, владевшую бы этим искусством, — она интуитивно поняла, что это очень важный листок. Она решила расспросить о нем Ахкеймиона, когда тот вернется.
Надежно прижав его тяжелым камнем, Эсменет переключила внимание на шов и принялась счищать плесень тонкой веточкой.
Вскоре из рощи показался Ахкеймион, голый по пояс, с охапкой валежника, которую нес, прижимая к поросшему черными волосами животу. Проходя мимо Эсменет, он взглянул на разложенные вещи и изобразил преувеличенно хмурую гримасу. Эсменет фыркнула и ухмыльнулась. Ей безумно нравилось видеть Ахкеймиона таким — колдуном, разыгрывающим из себя заправского лесного жителя, ходящего в одних штанах. Даже теперь, после того как Эсменет столько времени пропутешествовала со Священным воинством, штаны по-прежнему казались ей чем-то чужеземным, варварским — и необычайно эротичным. Недаром во многих нансурских городах они находились под запретом.
— Знаешь, почему нильнамешцы считают, будто кошки куда больше похожи на людей, чем обезьяны? — спросил Ахкеймион, складывая валежник у подножия великанской сосны.
— Нет.
Он повернулся к Эсменет, отряхивая ладони.
— Из-за любопытства. Они считают, что именно любопытство — отличительное свойство человека.
Ахкеймион подошел к Эсменет. На губах его играла улыбка.
— И уж тебе оно точно присуще.
— Любопытство тут вовсе ни при чем, — отозвалась Эсменет, пытаясь говорить сердито. — От твоей сумки воняет, как от заплесневелого сыра.
— А я-то думал, что это воняет от меня…
— Ну уж нет, от тебя воняет как от ишака!
Ахкеймион расхохотался, приподнимая брови.
— Но я же мыл бороду…
Эсменет бросила ему в лицо пригоршню сосновых иголок, но порыв ветра отнес их прочь.
— А это для чего? — спросила она, указывая на куклу. — Чтобы заманивать к себе в палатку маленьких девочек?
Ахкеймион уселся рядом с ней прямо на землю.
— Это, — сказал он, — Кукла Вати, и если я расскажу тебе про нее, ты начнешь требовать, чтобы я ее выкинул.
— Ясно… А это? — спросила Эсменет, поднимая сложенный лист. — Что это такое?
От хорошего настроения Ахкеймиона мгновенно не осталось и следа.
— Это моя схема.
Эсменет положила лист на землю между ними и взмахом руки отогнала небольшую осу.
— А что здесь написано? Имена?
— Имена и различные фракции. Все, кто имеет отношение к Священному воинству… Линии обозначают их взаимосвязи… Вот тут, — сказал он, указывая на вертикальный столбец в левом краю листа, — написано «Майтанет».
— А ниже?
— «Инрау».
Эсменет, не осознавая, что делает, сжала его колено.
— А здесь, в верхнем углу? — с излишней поспешностью спросила она.
— «Консульт».
Эсменет слушала, как Ахкеймион перечисляет имена знатных военачальников, членов императорской фамилии, Багряных Шпилей, кишаурим, объясняет, кто из них к чему стремится и кто как, по его мнению, может быть связан с остальными. Он не сказал ничего такого, чего Эсменет не слышала бы раньше, но внезапно все это показалось ужасающе реальным… Мир неумолимых, безжалостных сил. Тайных. Яростных…
Эсменет пробрал озноб. Она вдруг осознала, что Ахкеймион не принадлежит ей — не принадлежит на самом деле. И никогда не сможет принадлежать. Да и что она такое по сравнению со всеми этими силами?
«Я даже не умею читать…»
— Но почему, Акка? — вдруг спросила она. — Почему ты остановился?
— Что ты имеешь в виду?
Взгляд Ахкеймиона был прикован к листу пергамента, как будто схема полностью завладела его мыслями.
— Я знаю, что тебе полагается делать, Акка. В Сумне ты постоянно куда-то уходил, кого-то расспрашивал, встречался с осведомителями. Ну или ждал новостей. Ты все время шпионил. А теперь — перестал. С тех пор как привел меня в свою палатку, ты уже не шпионишь.
— Я думал, это будет справедливо, — небрежно произнес он. — В конце концов, ты же отказалась от…
— Не лги, Акка.
Ахкеймион вздохнул и ссутулился, словно раб, несущий тяжелый груз. Эсменет смотрела ему в глаза. Ясные, блестящие карие глаза. Беспокойные. Печальные и мудрые. И, как всегда, когда она оказывалась рядом с ним, Эсменет захотелось запустить пальцы в его бороду и нащупать под ней подбородок.
«Как я тебя люблю…»
— Это не из-за тебя, Эсми, — сказал он. — Это из-за него…
Его взгляд скользнул по имени, расположенному рядом со словом «Консульт», — по единственному имени, которое он не прочел вслух.
Да в том и не было нужды.
— Келлхус, — произнесла она.
Некоторое время они сидели молча. По кроне сосны пробежал порыв ветра, и Эсменет краем глаза заметила пух, летящий прочь, вверх по гранитному склону и дальше, в беспредельное небо. На миг она испугалась за сохнущие листы пергамента, но те были надежно придавлены камнями, и лишь их углы приподнимались и опускались, словно беззвучно шевелящиеся губы.
Они перестали говорить о Келлхусе с тех самых пор, как бежали с равнины Битвы. Иногда это казалось безмолвным соглашением из тех, что обычно заключают любовники, чтобы не бередить общие раны. А иногда — случайным совпадением антипатий: например, точно так же они избегали разговоров о верности и сексе. Но по большей части в этом просто не было нужды, как если бы все слова, которые только можно произнести, уже были сказаны.
Некоторое время Келлхус вызывал у Эсменет беспокойство, но вскоре она заинтересовалось им: сердечный, доброжелательный и загадочный человек. А потом в какой-то момент он будто вырос, и все прочие очутились в его тени, словно он был благородным и понимающим отцом или великим королем, преломляющим хлеб с рабами. А теперь Келлхус и вовсе превратился в сияющую фигуру — и это ощущение лишь усилилось, когда его не оказалось рядом. Как будто он — маяк в ночи. Нечто такое, за чем они должны следовать, ибо все прочее вокруг — тьма…
«Что он такое?» — хотела спросить Эсменет, но вместо этого молча взглянула на своего любовника.
На своего мужа.
Они улыбнулись — робко, как если бы только сейчас вспомнили, что не чужие друг дружке. Соединили сухие, согретые солнцем руки. «Я никогда еще не была настолько счастлива».
Если бы только ее дочка…
— Пойдем, — сказал вдруг Ахкеймион, с усилием поднимаясь на ноги. — Я хочу кое-что тебе показать.
Они поднялись на голый, раскаленный от солнечного жара склон. Эсменет шипела и подпрыгивала, чтобы не обжечь ноги, пока они забирались на закругленный выступ. На самом верху она приставила ладонь ко лбу, защищая глаза от палящего солнца. А потом она увидела их…
— Сейен милостивый… — прошептала она.
Колонны солдат темнели на равнине, словно тени огромных туч; их доспехи алмазной пылью блестели на солнце.
— Священное воинство выступило в путь, — с благоговением сказал Ахкеймион.
От этого зрелища захватывало дух. Эсменет видела отряды рыцарей — сотни и тысячи, — и огромные колонны пехотинцев, длиной в целые города. Она видела обозы, ряды повозок, казавшихся издалека малыми песчинками. И реющие знамена, тысячу знамен с гербами домов, и на каждом было шелком вышито изображение Бивня…
— Как же их много! — вырвалось у Эсменет. — До чего же, наверное, сейчас страшно фаним…
— Больше двухсот пятидесяти тысяч, — отозвался Ахкеймион. — Во всяком случае, так говорит Ксин…
Эсменет показалось, будто его голос доносится из глубины пещеры. Он звучал глухо, словно у человека, угодившего в ловушку.
— И, возможно, столько же обслуги… Никто не знает точно.
Тысячи и тысячи. Море людей раскинулось на равнине. Эсменет подумалось, что они движутся, словно вино, растекающееся по шерстяной ткани.
Как могло случиться, что столько людей посвятили себя одной цели, ужасной и грандиозной? Одному месту. Одному городу.
Шайме.
— Это… это…
Эсменет поджала губы.
— Это похоже на твои сны?
Ахкеймион ответил не сразу, и, хотя он стоял ровно, Эсменет вдруг испугалась, что он сейчас упадет. Она схватила колдуна за локоть.
— Да. Это похоже на мои сны, — сказал Ахкеймион.
Часть II. Второй переход
Глава 9. Хиннерет
«Можно смотреть в будущее, а можно смотреть на будущее. Второе куда поучительнее».
Айенсис, «Третья аналитика рода человеческого»«Если кто-либо сомневается в том, что судьбу наций определяет страсть и безрассудство, пусть взглянет на встречу Великих. Короли и императоры не привыкли общаться с равными, а когда наконец встречаются с таковыми, зачастую чувствуют неоправданное облегчение или отвращение. У нильнамешцев есть поговорка: „Когда принцы встречаются, они находят братьев или себя самих“, — иными словами, либо мир, либо войну».
Друз Ахкеймион, «Компендиум Первой Священной войны»4111 год Бивня, начало лета, Момемн
Пение и несметное множество мерцающих факелов приветствовали Икурея Ксерия III, когда он откинул занавесь из тонкого, словно дымка, льна и прошел во внутренний двор. Послышался шорох одежд: столпившиеся придворные рухнули на колени и уткнулись напудренными лицами в траву. Лишь рослые эотские гвардейцы остались стоять. Ксерий прошествовал мимо простертых ниц людей — маленькие рабы несли край его одеяния; он, как всегда, наслаждался своим одиночеством. Богоподобным одиночеством.
«Он вызвал меня! Меня! Какая наглость!»
Ксерий поднялся по деревянным ступенькам и забрался в императорскую колесницу. Прозвучал сигнал, позволяющий придворным встать.
Ксерий протянул руку в белой перчатке, лениво размышляя, кого Нгарау, его великий сенешаль, выбрал для вручения императору поводьев — этой чести в силу традиции приписывалось большое значение, но на практике она не заслуживала императорского внимания. Ксерий безоговорочно полагался на мнение великого сенешаля… Как когда-то полагался на Скеаоса.
Ужас, на миг сдавивший сердце. Долго еще это имя будет резать его, словно осколок стекла? Скеаос.
Император почти не смотрел на юнца, подавшего ему поводья. Какой-то отпрыск дома Кискеи? Неважно. Ксерий всегда держался с изяществом, даже когда бывал расстроен или погружен в свои мысли, — свойство, унаследованное от отца. Хоть его отец и был трусливым дураком, он всегда выглядел как великий император.
Ксерий передал поводья колесничему и знаком велел трогаться. Кони загарцевали и повлекли за собой обшитую золотыми листами повозку. Курильницы, закрепленные по бокам колесницы, затряслись, и за ними потянулись синие струйки ароматического дыма. Жасмин и сандаловое дерево. Не следует допускать, чтобы запахи столицы оскорбляли обоняние императора.
На Ксерия были обращены сотни лиц, раскрашенных, ищущих его расположения; сам же император смотрел строго перед собой — поза величественная, взгляд отчужденный и надменный. Лишь немногие были удостоены кивка: его сука-мать, Истрийя, старый генерал Кумулеус, чья поддержка обеспечила Ксерию императорскую мантию после смерти отца, и, конечно же, его любимый прорицатель, Аритмей. Ксерий очень ревностно хранил неосязаемое золото императорского благоволения и крайне искусно раздавал его. Возможно, для восхождения на вершину действительно нужна отвага, но, чтобы удержаться там, необходима бережливость.
Еще один урок матери. Императрица с головой заваливала сына кровавой историей его предшественников и наставляла, приводя бесконечные примеры прошлых бедствий. Тот был слишком доверчив, а тот — чересчур жесток, и так далее. Сюрмант Скилура II, державший под рукой чашу с расплавленным золотом, чтобы швырять ею в того, кто вызовет его неудовольствие, был чрезмерно жесток. А Сюрмант Ксантий, с другой стороны, был чересчур воинственен — завоевания должны обогащать, а не разорять. Зерксей Триамарий III был слишком толстым — настолько толстым, что, когда он ехал верхом, рабам приходилось поддерживать его колени. Его смерть, как со сдавленным смешком сообщила Истрийя, была вопросом эстетики. Император должен выглядеть как бог, а не как разжиревший евнух.
Слишком много того и слишком много сего. «Этот мир не ограничивает нас, — однажды объяснила Ксерию неукротимая императрица, помаргивая распутными глазами, — и потому мы должны ограничивать себя сами — подобно богам… Дисциплина, милый Ксерий. Мы должны подчиняться дисциплине».
Вот уж чем-чем, а дисциплиной Ксерий обладал в избытке. Во всяком случае, он так считал.
Когда императорская колесница выехала со двора, ее окружили кидрухили, элитная тяжелая кавалерия, и бегуны с факелами; сияющая процессия устремилась с Андиаминских Высот в темную, дымную котловину Момемна. Двигаясь неспешно, чтобы бегуны поспевали за ней, колесница выбралась на длинную дорогу, соединяющую Дворцовый район с храмовым комплексом Кмираль.
Множество жителей Момемна стояли вдоль дороги, силясь хотя бы на миг увидеть своего божественного императора. Очевидно, слух о его краткосрочном паломничестве разлетелся по городу. Ксерий поворачивался из стороны в сторону, улыбался и время от времени лениво вскидывал руку в приветственном жесте.
«Так, значит, он желает, чтобы это было предано гласности…»
Сперва император почти ничего не видел, кроме бегунов и факелов у них в руках, и ничего не слышал, кроме стука копыт по брусчатке. Но чем дальше они отъезжали от дворца, тем больше народу скапливалось вдоль дороги. Вскоре толпа рабов и дворцовых слуг подступила к факелоносцам на расстояние плевка; лица собравшихся оказались ярко освещены, и Ксерий понял, что они насмехаются и глумятся над императором, когда он им машет. На миг он испугался, как бы у него не остановилось сердце. Он ухватился за бортик колесницы. Как он мог свалять такого дурака?
Сквозь аромат благовоний пробивалась отчетливая вонь дерьма.
Императору показалось, будто в считаные мгновения сотни обернулись тысячами, и число собравшихся все продолжало увеличиваться — равно как и их злоба и наглость. Вскоре воздух уже звенел от криков. Перепуганный Ксерий наблюдал, как свет факелов выхватывает из темноты одно немытое лицо за другим; некоторые глядели на императора с презрением, другие ухмылялись, третьи орали и бесновались. Процессия продолжала двигаться вперед, и пока что ей никто в этом не препятствовал, но ощущение пышности и великолепия исчезло без следа. Ксерий судорожно сглотнул. По спине императора зазмеились струйки холодного пота. Он усилием воли заставил себя снова смотреть только вперед.
«Именно этого он и хотел, — подумалось Ксерию. — Помни о дисциплине!»
Офицеры принялись выкрикивать команды. Кидрухили взялись за дубинки.
Процессия получила краткую передышку, пока пересекала мост через Крысиный канал. На его черной воде лениво покачивались изящные барки, окутанные подсвеченной факелами дымкой благовоний. Торговцы и наложницы, поднимаясь с подушек, вскидывали глиняные таблички с пожеланиями, чтобы разбить их в честь императора. Но Ксерий невольно заметил, что их взгляды задолго до того, как он проехал мимо, обратились к ожидающей толпе.
Процессию снова окружили взбунтовавшиеся горожане. Женщины, старики, калеки, даже дети — все вопили и потрясали кулаками… Скользнув взглядом по толпе, Ксерий заметил сифилитика; тот катал на языке прогнивший зуб, а когда императорская колесница проехала мимо, плюнул в нее. Зуб упал куда-то между колесами…
«Они действительно терпеть меня не могут, — понял Ксерий. — Они меня ненавидят… Меня!»
Но это изменится, напомнил он себе. Когда все закончится, когда плоды его трудов станут явными, они начнут прославлять его, как не славили никого из императоров. Они будут радоваться, глядя на караваны рабов-язычников, несущих дань в столицу, на ослепленных королей, которых приволокут в цепях к подножию императорского трона. Они будут смотреть на Икурея Ксерия III и знать — знать! — что он и вправду аспект-император, восставший из пепла Киранеи и Кенеи, чтобы подчинить себе весь мир и вынудить все племена склониться перед ним и поцеловать его колено.
«Я им покажу! Они меня еще узнают!»
Колесница выехала на огромную площадь Кмираля, и рев толпы достиг апогея. У Ксерия перехватило дыхание, он оцепенел. Ехавшие впереди кидрухили остановились, колонна смешалась. Ксерий увидел, как лошадь одного из кавалеристов поднялась на дыбы. Кидрухили, ехавшие сзади, послали коней в галоп, чтобы обеспечить безопасность с флангов. Все они выхватили дубинки и размахивали ими в качестве предупреждения, лупя всякого, кто подходил слишком близко. За пределами круга их сверкающих доспехов бушевало людское море. Сплошная толпа нищих, затопившая площадь от храмов до базальтовых колонн Ксотеи.
Ксерий вцепился в бортик колесницы с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Все они… Снова и снова выкрикивали это имя…
Страх, головокружение, и такое чувство внутри, будто падаешь куда-то.
«Это он настроил их против меня? Это покушение?»
Император увидел, как кидрухили, работая дубинками, клином врезались в толпу. И вдруг усмехнулся, оскалился от свирепого наслаждения. Именно так боги утверждают себя — кровью смертных! Горожане шарахнулись в разные стороны, и шум возрос вдвое. Несколько сияющих всадников споткнулись и исчезли в толпе, но их место заняли другие. Дубинки вздымались и опускались. Засверкали мечи.
Колесничий, сдерживая лошадей, обеспокоенно взглянул на Ксерия.
«Ты смотришь императору в глаза?»
— Вперед! — взревел Ксерий. — На них! Пшел!
Расхохотавшись, он перегнулся через бортик и плюнул на свой народ, на тех, кто смел выкрикивать другое имя, когда перед ними стоял богоподобный Икурей Ксерий III. Какая жалость, что он не умеет плеваться расплавленным золотом!
Колесница медленно покатилась вперед, кренясь и подбрасывая Ксерия всякий раз, когда под колесами оказывался кто-нибудь из упавших. Императора мутило, сердце от страха жгло как огнем, но им овладело неистовство, исступление, ликование от близости смерти. Факелоносцев одного за другим втягивали в толпу, но кидрухили держались стойко и с боем прокладывали дорогу императору. Их мечи поднимались и опускались, поднимались и опускались, и Ксерию казалось, что он карает чернь собственными руками.
Так, хохоча, словно безумец, император Нансурии проехал между рядами подданных к растущей громаде храма Ксотеи.
В конце концов поредевшая процессия добралась до эотских гвардейцев, выстроившихся на монументальных ступенях Ксотеи. Оглушенного, оцепеневшего Ксерия свели с колесницы на деревянный помост, ведущий к огромным вратам храма. Император всегда должен возвышаться над обычными людьми… В приступе злобы Ксерий схватил за руку капитана.
— Послать сообщение в казармы! Проучить их как следует! Я желаю, чтобы моя колесница плыла по крови, когда я буду возвращаться!
Дисциплина. Он их проучит.
Он зашагал к вратам Ксотеи, споткнулся, наступив на собственный подол, и почувствовал, как сердце от ярости пропустило удар, когда к реву толпы примешался хохот. Ксерий обернулся и посмотрел на бушующих от злобы и восторга людей. А затем, подобрав одеяния, бросился бежать по помосту.
Массивная каменная кладка храма окружила его со всех сторон. Убежище.
Двери с грохотом захлопнулись за императором.
У Ксерия подкосились ноги. Короткое замешательство. Холодный пол под коленями. Ксерий прижал дрожащую руку ко лбу и с удивлением почувствовал, как из-под пальцев струится пот.
Потрясающая глупость! Что подумает Конфас?
Звон в ушах. Неестественная темнота. И все то же имя, эхом отдающееся от стен.
Майтанет.
Тысячи голосов, подобно молитве, твердили имя, которое Ксерий швырял, как ругательство.
Майтанет.
С трудом переводя дух и нетвердо держась на ногах, Ксерий прошел через притвор и остановился. Огромные храмовые светильники горели не все. Тусклые круги света падали на пол и на ряды потускневших молитвенных табличек. Колонны толщиной с нетийские сосны уходили во мрак. В темноте смутно виднелись очертания галерей для певчих. Во время официальных богослужений здесь клубились облака фимиама, придававшие залу призрачный и таинственный вид. Они окружали светильники сияющим ореолом, так что верующим казалось, будто они стоят на границе иного мира. Но сейчас храм был пуст и напоминал огромную пещеру. В воздухе отчетливо чувствовался запах подземелья.
Вдалеке Ксерий увидел его, преклонившего колени в центре большого полукруга, образованного статуями богов.
«Вот ты где», — подумал император, ощущая, как к нему постепенно возвращаются силы. Его туфли без задников шлепали при ходьбе. Руки Ксерия непроизвольно пробежались по одежде, расправляя и приглаживая ее. Взгляд императора скользнул по высеченным на колоннах изображениям: короли, императоры и боги, застывшие со сверхъестественным достоинством изваяний. Ксерий остановился перед первым ярусом ступеней. Сейчас над его головой вздымался центральный, самый высокий купол храма.
Несколько мгновений Ксерий смотрел на широкую спину шрайи.
«Повернись к своему императору, ты, фанатичная, неблагодарная тварь!»
— Я рад, что ты пришел, — сказал Майтанет, так и не повернувшись.
Голос шрайи был звучен и словно бы окутывал собеседника. Но почтения в нем не слышалось. Согласно джнану, шрайя и император равны.
— Зачем это, Майтанет? И зачем именно здесь?
Шрайя обернулся. Он был одет в простую белую рясу с рукавами чуть ниже локтя. На миг он остановил на Ксерии оценивающий взгляд, потом вскинул голову, прислушиваясь к глухому гомону толпы так, словно это был шум первого после долгой засухи дождя. Сквозь черную, умащенную маслами бороду проглядывал волевой подбородок. Лицо у него было широким, словно у крестьянина, и на удивление молодым. «Сколько же тебе лет?»
— Слушай! — прошипел шрайя, указывая рукой в сторону площади, откуда доносилось его имя. «Майтанет-Майтанет-Майтанет…» — Я не гордец, Икурей Ксерий, но их преданность трогает меня до глубины души.
Несмотря на нелепый драматизм сцены, Ксерий поймал себя на том, что присутствие этого человека вызывает у него благоговейный страх. На миг у императора снова закружилась голова.
— Я недостаточно терпелив для игры в джнан, Майтанет.
Шрайя выдержал паузу, затем обаятельно улыбнулся и начал спускаться по ступеням:
— Я приехал из-за Священного воинства… Я приехал, чтобы взглянуть тебе в глаза.
Эти слова усилили замешательство, овладевшее императором. Ксерию еще до прихода сюда следовало понять, что встреча со шрайей окажется не простым визитом вежливости.
— Скажи, — спросил Майтанет, — ты действительно заключил пакт с язычниками? Действительно дал слово предать Священное воинство прежде, чем оно достигнет Святой земли?
«Откуда он знает?»
— Что ты, Майтанет… Нет, конечно.
— Нет?
— Я оскорблен твоими подозрениями…
Хохот Майтанета был внезапен, громок и достаточно звучен, чтобы заполнить собой огромный зал Ксотеи.
Ксерий задохнулся от изумления. Предписание Псата-Антью, кодекс, управляющий поведением шрайи, запрещал громкий смех почти так же строго, как потворство плотским влечениям. Он понял, что Майтанет позволил императору на миг заглянуть в его душу. Но зачем? Все это: толпы, требование встретиться здесь, в храме Ксотеи, даже скандирование его имени — было преднамеренно грубой демонстрацией.
«Я сокрушу тебя, — тем самым говорил Майтанет. — Если Священное воинство падет, ты будешь уничтожен».
— Прими мои извинения, император, — небрежно обронил Майтанет. — Похоже, даже Священная война может быть отравлена лживыми слухами, не так ли?
«Он пытается меня запугать… Он ничего не знает и поэтому пытается меня запугать!»
Ксерий продолжал хранить зловещее молчание. Ему подумалось, что он всегда обладал бо́льшим умением ненавидеть, чем Конфас. Его не по летам развитый племянничек бывал свирепым, даже жестоким, но неизменно возвращался к той стеклянной холодности, которая так нервировала его окружение. С точки зрения Ксерия, ненависть должна отличаться двумя основными качествами: устойчивостью и неукротимостью.
Что за странная привычка — вдруг понял император, — эти краткие экскурсы в характер его племянника. Когда, интересно, Конфас успел стать мерилом для глубин его сердца?
— Пойдем, Икурей Ксерий, — торжественно произнес шрайя Тысячи Храмов.
И Ксерий внезапно понял, какое счастливое свойство характера вознесло этого человека на такую высоту: способность наделять святостью любой момент жизни, внушать благоговение простому люду.
— Пойдем… Послушаешь, что я скажу моему народу.
Но за время их краткого диалога гул тысячи голосов, скандирующих имя Майтанета, стал изменяться — сперва почти нечувствительно, но потом все более и более определенно. Он преобразился.
В крики.
Очевидно, безымянный капитан ревностно исполнил приказ императора. Ксерий победно улыбнулся. Наконец-то он почувствовал себя ровней этому оскорбительно сильному человеку.
— Слышишь, Майтанет? Теперь они выкрикивают мое имя.
— Воистину, — загадочно проговорил шрайя. — Воистину.
4111 год Бивня, конец лета, Хиннерет, побережье Гедеи
По мере приближения к побережью Гедеи местность пошла складками, словно бы здешняя природа преисполнилась отвращения к морю. Поскольку все прибрежные равнины, за исключением пойменных полей вокруг Хиннерета, были крайне узкими, то казалось, будто сама земля ведет Священное воинство в древний город. Когда первые отряды спустились с холмов, перед ними раскинулся Хиннерет: тесный лабиринт грязных кирпичных домов, окруженный известняковыми стенами. Заунывное пение рогов пронзило соленый воздух и прокатилось до самого моря, возвестив о судьбе города.
С холмов спускались отряд за отрядом: храбрые бойцы Среднего Севера, рыцари Конрии и Верхнего Айнона, нансурские ветераны-пехотинцы.
Хиннерет издавна был лакомым кусочком. Подобно всем землям, которым выпало очутиться между двух великих цивилизаций, Гедея была вечным данником, мимолетным эпизодом в хрониках своих завоевателей. Хиннерет, единственный ее город, заслуживающий упоминания, повидал бесчисленное количество чужеземных правителей: шайгекских, киранейских, кенейских, нансурских и — в последнее время — кианских. А вот теперь и Люди Бивня намеревались внести свои имена в этот список.
Священное воинство рассеялось по полям и рощам у стен Хиннерета, встав несколькими отдельными лагерями. Посовещавшись, Великие Имена отправили к городским воротам делегацию танов и баронов с требованием безоговорочной капитуляции. Когда фаним Ансакер аб Саладжка, кианский сапатишах Гедеи, прогнал их стрелами, тысячи людей были посланы на поля жать пшеницу и просо, сохранившиеся благодаря передовым отрядам графа Атьеаури, палатина Ингиабана и графа Вериджена Великодушного, добравшимся сюда на неделю раньше. Немалая часть армии отправилась в холмы, рубить деревья для таранов, катапульт и осадных башен.
Осада Хиннерета началась.
После недельной подготовки Люди Бивня предприняли первый штурм. Их встретила туча стрел. На мантелеты полилось кипящее масло. Солдаты, крича, падали с лестниц либо гибли на стенах. Горящая смола превратила осадные башни в огромные погребальные костры. Люди Бивня истекали кровью или сгорали под стенами Хиннерета, а фаним только насмехались над ними.
После этого бедствия некоторые Великие Имена отправили делегацию к Багряным Шпилям. Чеферамунни уже предупредил Саубона и прочих, что Багряные адепты не намерены помогать Людям Бивня в иных случаях, кроме атаки кишаурим и штурма Шайме, поэтому Великие Имена решили ограничиться скромным пожеланием. Они попросили одну брешь в стене, не более того. Отказ Элеазара был едким и презрительным, равно как и порицания со стороны Пройаса и Готиана, которые заявили, что не станут пользоваться помощью богохульников до тех пор, пока без нее можно обойтись.
Последовал еще один этап подготовки. Одни трудились в холмах, рубя лес. Другие горбатились во тьме саперных туннелей, выгребая камни и острый щебень стертыми до волдырей руками. Третьи продолжали разводить погребальные костры и сжигать убитых. По ночам солдаты пили воду, привезенную с холмов, ели хлеб, золотисто-красные фиги, жареных куропаток и гусей — и проклинали Хиннерет.
Все это время отряды рыцарей айнрити совершали рейды на юг вдоль побережья, вступали в стычки с остатками войска Скаура, грабили рыбацкие деревни и обирали укрепленные города. Граф Атьеаури направился в глубь страны и принялся рыскать по холмам в поисках добычи. Неподалеку от маленькой крепости под названием Дайюрут он захватил врасплох отряд из нескольких тысяч кианцев и обратил их в бегство, хотя у него самого была всего лишь сотня людей. Вернувшись к крепости, он заставил местных жителей построить маленькую катапульту, а потом взялся с ее помощью швырять за стены Дайюрута отрубленные головы кианцев. После сто тридцать первой головы устрашенный гарнизон открыл ворота и простерся ниц перед северянами. Каждому солдату был задан вопрос: «Отрекаешься ли ты от Фана и признаешь ли Айнри Сейена истинным гласом многоликого Бога?» Тех, кто ответил «нет», тут же казнили. Тех, кто сказал «да», связали и отправили к Хиннерету, где продали в рабство Священному воинству.
Подобным образом пали и другие города — столь велик был страх фаним перед железными воинами. Старые нансурские крепости Эбара и Куррут, полуразрушенная кенейская крепость Гунсаэ, кианская цитадель Ам-Амида, построенная в те времена, когда большую часть населения здесь еще составляли айнрити, — всех их Священное воинство смахнуло, словно монеты в латную перчатку. Казалось, будто срок падения Гедеи зависит исключительно от скорости передвижения завоевателей.
Тем временем под Хиннеретом Великие Имена завершили приготовления ко второму штурму — но на рассвете их разбудили изумленные крики. Люди повысыпали из палаток и шатров. Сперва большинство смотрело на огромную флотилию военных галер и каррак, вставших на якорь в заливе, — сотни кораблей под нансурскими знаменами с изображением черного солнца. Но вскоре все уставились на Хиннерет, не веря своим глазам. Главные ворота города были распахнуты настежь. А на стенах крохотные фигурки воинов снимали треугольные флаги Ансакера со знаменитой Черной Газелью и поднимали Черное Солнце Нансурской империи.
Все разразились криками — кто радостными, кто негодующими. Видно было, как отряды полуголых всадников скачут к воротам — а там их останавливает фаланга нансурской пехоты. Засверкали мечи…
Но было слишком поздно. Хиннерет пал, но не перед Священным воинством, а перед императором Икуреем Ксерием III.
Сперва Икурей Конфас проигнорировал требование явиться на совет, и устрашающая задача успокоить Саубона и Готьелка легла на плечи генерала Мартема. Генерал, особо не церемонясь, объяснил, что с прибытием нансурского флота предыдущей ночью гедейский сапатишах понял, что его положение безнадежно, и прислал Конфасу письмо, в котором излагал условия капитуляции. Мартем даже предъявил лист, испещренный кианской скорописью, — само письмо, якобы написанное лично Ансакером. Сапатишах, заявил Мартем, чрезвычайно боится свирепости айнрити и потому согласился сдаться лишь нансурцам. В вопросах милосердия, сказал Мартем, знакомый враг всегда предпочтительнее незнакомого. Первым побуждением экзальт-генерала, продолжал Мартем, было созвать все Великие Имена и предоставить письмо на их суд, но сам Мартем напомнил экзальт-генералу, что предложение сдаться конкретному противнику — вопрос деликатный, и что оно, возможно, порождено скорее дурными предчувствиями, чем взвешенным решением. И поэтому экзальт-генерал предпочел быть решительным, а не демократичным.
Когда Великие Имена пожелали узнать, почему, в таком случае, Хиннерет по-прежнему закрыт для Священного воинства, Мартем пожал плечами и сообщил, что таковы были условия, на которых сапатишах согласился сдаться. Ансакер — человек осторожный, заявил генерал, он боится за безопасность своих людей. Кроме того, он весьма уважает дисциплину нансурцев.
В итоге один лишь Саубон отказался принять объяснения Мартема. Он орал, что Хиннерет принадлежит ему по праву, что это трофей, причитающийся ему за победу на равнине Битвы. Когда Конфас все-таки прибыл на совет, галеотского принца в буквальном смысле слова пришлось держать. Но Готьелк и Пройас напомнили ему, что Гедея — малонаселенная, бедная страна. Пускай император злорадствует, забрав себе первую, не имеющую ценности добычу. Священное воинство пойдет дальше на юг. Там их ждет древний Шайгек, край легендарных сокровищ.
— Ксин, останься, — попросил Пройас.
Он только что распустил совет и теперь, поднявшись со своего места, наблюдал, как расходятся его люди. Они толпились в дымном шатре, и одни из них были благочестивы, другие — корыстны, но почти все — чрезмерно горды. Гайдекки и Ингиабан, как обычно, еще продолжали спорить, но большинство уже потянулось прочь из шатра: Ганьятти, Кусигас, Имротас, несколько баронов рангом повыше и, конечно же, Келлхус и Найюр. Все они, кроме скюльвенда, кланялись, прежде чем исчезнуть за синей шелковой занавеской. Каждому Пройас отвечал коротким кивком.
Вскоре остался один Ксинем. В полумраке шатра проворно сновали рабы, собирая тарелки и липкие чаши из-под вина, расправляя ковры и раскладывая по местам бессчетное множество подушек.
— Вас что-то беспокоит, мой принц? — спросил маршал.
— Просто у меня есть несколько вопросов…
— О чем?
Пройас заколебался. С чего вдруг принцу бояться говорить на какую-то тему?
— О Келлхусе.
Ксинем приподнял брови.
— Он вас тревожит?
Пройас взялся за шею, скривился.
— Если честно, Ксин, я в жизни не встречал человека, который внушал бы меньше беспокойства, чем он.
— Именно это вас и гнетет.
Принца беспокоило многое, и не в последнюю очередь — недавнее бедствие под Хиннеретом. Император и Конфас перехитрили их. Это не должно повториться. У него не было времени и почти не было терпения для всяких… личных вопросов.
— Скажи, какого ты о нем мнения?
— Он меня пугает, — без малейшего колебания отозвался Ксинем.
Пройас нахмурился.
— Как так?
Взгляд маршала устремился куда-то вдаль.
— Я выпил с ним много вина, — нерешительно произнес он, — не раз преломлял с ним хлеб и не могу сосчитать всего того, что он мне показал. Каким-то образом его присутствие делает меня… делает меня лучше.
Пройас уставился на ковер, расшитый стилизованными крыльями.
— Да, у него есть такое свойство.
Он чувствовал, как Ксинем изучает его в своей несносной манере — как будто смотрит сквозь всю мишуру взрослости на того мальчишку со впалой грудью, который так и не покинул тренировочную площадку.
— Он — всего лишь человек, мой принц. Он сам так говорит… Кроме того, мы…
— А как там Ахкеймион? — вдруг спросил Пройас.
Коренастый маршал нахмурился.
— Я думал, его имя под запретом.
— Я просто спросил.
Ксинем осторожно кивнул.
— Неплохо. На самом деле, очень даже неплохо. Он взял себе женщину, свою давнюю любовницу из Сумны.
— Да… Как там ее — Эсменет? Та самая, которая была шлюхой.
— Ему она вполне подходит, — сказал Ксинем, словно защищая ее. — Я никогда не видел его таким довольным, таким счастливым.
— Но у тебя голос обеспокоенный.
Ксинем прищурился, потом тяжело вздохнул.
— Пожалуй, да, — согласился он, не глядя на Пройаса. — Сколько я его знаю, он всегда был адептом Завета. А теперь… не разберешь.
Маршал поднял голову и взглянул в глаза принцу.
— Он почти перестал говорить про Консульт и свои Сны… Вам бы это понравилось.
— Так, значит, он влюблен…
Пройас покачал головой.
— Влюблен! Ты уверен? — спросил принц, не сдержав улыбку.
Ксинем хмыкнул.
— Он влюблен, да. У него уже которую неделю стоит не переставая.
Пройас расхохотался.
— Так, значит, и до него дошел черед?
Акка влюблен. Это казалось одновременно и невероятным, и неизбежным.
«Таким людям, как он, нужна любовь… Не таким, как я».
— Это верно. Да и она, похоже, от него без ума.
Пройас фыркнул.
— Ну, в конце концов, он ведь колдун.
Взгляд Ксинема на миг смягчился.
— Да, он колдун.
Последовало неловкое молчание. Пройас тяжело вздохнул. С любым другим человеком, не с Ксинемом, этот разговор прошел бы легко и непринужденно. Ну почему Ксинем, его дорогой Ксин, делается упрямым как осел в совершенно очевидных вопросах?
— Он по-прежнему учит Келлхуса? — поинтересовался Пройас.
— Каждый день.
Маршал улыбнулся — с трудом, словно смеялся над собственной глупостью.
— Так вот, значит, в чем дело? Вы хотите верить, что Келлхус — нечто большее, но…
— Он оказался прав насчет Саубона! — воскликнул Пройас. — Даже в подробностях, Ксин! В подробностях!
— Однако же, — продолжал Ксинем, недовольный тем, что его перебили, — он в открытую якшается с Ахкеймионом. С колдуном…
Ксинем в насмешку произнес последнее слово так, как его произносили другие: словно говорил о чем-то непоправимо испачканном.
Пройас повернулся к столу и налил вина; последнее время оно казалось очень сладким.
— Ну так и что же ты думаешь? — спросил он.
— Я думаю, что Келлхус просто видит в Акке то же самое, что вижу я и что когда-то видел ты… Что душа человека может быть добра, вне зависимости от того, кем…
— Бивень говорит, — отрезал Пройас: — «Сожгите их, ибо они — Нечистые!» Сожгите! Можно ли выразиться яснее? Келлхус якшается с мерзостью. Равно как и ты.
Маршал покачал головой.
— Не могу поверить.
Пройас устремил взгляд на Ксинема. Отчего ему вдруг сделалось так холодно?
— Значит, ты не можешь поверить Бивню.
Маршал побледнел, и конрийский принц впервые увидел на лице старого наставника страх. Ему захотелось извиниться, забрать свои слова обратно, но холод был таким сильным…
Таким истинным.
«Я просто следую Слову!»
Если человек не может поверить голосу Бога, если он отказывается слушать, — пусть даже из лучших побуждений! — все откровения становятся пищей для ученых дебатов. Ксинем слушает только сердце, и в этом одновременно и его сила, и его слабость. Сердце не знает наизусть Священное Писание.
— Ну что ж, — неубедительно произнес маршал. — Вам можно не беспокоиться о Келлхусе — во всяком случае, не больше, чем обо мне…
Пройас прищурился и кивнул.
Было принуждение, было направление, было — самое яркое из всех — собирание воедино.
Настала ночь, и Келлхус сидел в одиночестве на скалистом уступе, прислонившись к стволу одинокого кедра. Много лет обдуваемые ветрами, ветви кедра тянулись к звездному небу и, разветвляясь, клонились к земле. Они словно были привязаны к раскинувшейся внизу панораме: лагерю Священного воинства, Хиннерету, спящему за огромным каменным поясом, и Менеанору, чьи далекие волны серебрились в лунном свете.
Но Келлхус не видел ничего этого, во всяком случае — глазами…
Там слышались обещания того, что грядет, там обсуждалось будущее.
Там был мир, Эарва, порабощенный своей историей, традициями и животным голодом, мир, влекомый под молот того, что было прежде.
Там был Ахкеймион и все, о чем он говорил: Апокалипсис, родословные королей и императоров, дома и школы Великих фракций. И было колдовство, Гнозис, и перспективы почти безграничной власти.
Там была Эсменет, и стройные бедра, и острый, проницательный ум.
Там был Сарцелл и Консульт, и шаткое перемирие, порожденное загадкой.
Там был Саубон и мучительная борьба с жаждой власти.
Там был Найюр, и безумие, и военный гений, и возрастающая угроза того, что он поймет.
Там было Священное воинство, и вера, и стремление.
И там был отец.
«Что ты хочешь, чтобы я сделал?»
Вероятностные миры проносились сквозь него, обдавали его порывом ветра и разлетались подобно снопу искр…
Безымянный колдун, взбирающийся по крутому, каменистому морскому берегу. Пальцы, сжимающие сосок. Конвульсии оргазма. Отрубленная голова на фоне палящего солнца. Призраки, выходящие из утреннего тумана.
Мертвая жена.
Келлхус глубоко выдохнул, а потом втянул в себя горьковато-сладкий запах кедра, земли и войны.
Там было откровение.
Глава 10. Нагорье Ацушан
«Любовь — это вожделение, создавшее смысл. Надежда — это потребность, создавшая человека».
Айенсис, «Третья аналитика рода человеческого»«Как научить невинности? Как обучить неведению? Быть ими не означает знать их. И все же они — непоколебимая ось, вокруг которой вращается компас жизни, мера всякого преступления и сострадания, критерий всякой мудрости и глупости. Они — Абсолют».
Неизвестный автор, «Импровизация»4111 год Бивня, конец лета, внутренние районы Гедеи
Мир настал.
Ахкеймион видел во сне войну куда чаще, чем кто бы то ни было, за исключением прочих адептов Завета. Он даже видел войну между народами — Три Моря ссорились так же охотно, как напивались. Но сам он никогда не имел отношения к войнам. Он никогда не шел вместе с армией, как сейчас, не потел под солнцем Гедеи, окруженный тысячами Людей Бивня в железных доспехах, мычанием тысяч волов и топотом тысяч ног. Война, в дыме, застящем горизонт, в пронзительном пении труб, в карнавалах лагерей, в темнеющих камнях и белеющих мертвецах. Война, в кошмарах о прошлом и дурных предчувствиях о будущем. Повсюду — война.
И вот непонятным образом настал мир.
Конечно же, это все Келлхус.
С тех пор как Ахкеймион решил не извещать Завет о его существовании, мучения пошли на убыль, а там и вовсе прекратились. Как так получилось, оставалось для колдуна загадкой. Опасность сохранялась. Келлхус, как Ахкеймион напоминал себе время от времени, был Предвестником. Вскоре солнце встанет за спиной Не-бога, и его чудовищная тень накроет Три Моря. Вскоре мир будет разрушен Вторым Апокалипсисом. Но когда Ахкеймион думал об этом, вместо привычного ужаса его охватывал странный душевный подъем, похожий на возбуждение пьяного. Ахкеймион всегда с недоверием относился к историям о людях, которые в битве выскакивали из строя, чтобы кинуться на врага. Но теперь он понимал, что может стоять за такой безрассудной атакой. Когда впадаешь в неистовство, последствия уже не важны. А безрассудство, заглушившее страдания, превращается в наркотик.
Он был сейчас тем самым придурком, в одиночку кидающимся на копья многотысячного воинства. За Келлхуса.
Ахкеймион продолжал учить его во время дневных переходов, хотя теперь их сопровождали Эсменет и Серве; иногда женщины болтали друг с дружкой, но чаще просто слушали. Вокруг тысячами шли Люди Бивня, сгибаясь под тяжестью тюков и потея под жарким солнцем Гедеи. Невероятно, но Келлхус сумел вычерпать до конца все познания Ахкеймиона о Трех Морях, и поэтому теперь они говорили о Древнем Севере, о Сесватхе и его бронзовом веке, о шранках и нелюдях. Иногда Ахкеймиону думалось, что вскоре ему уже нечего будет дать Келлхусу — кроме Гнозиса.
Которого он, конечно, дать не мог. Но Ахкеймион невольно размышлял: интересно, а что смог бы сделать с Гнозисом Келлхус? К счастью, Гнозис был тем языком, слов которого князь не смог бы произнести.
Дневной переход завершался незадолго до наступления сумерек — обычно это зависело от характера местности и, самое главное, от наличия воды. Гедея была засушливой страной, а Ацушанское нагорье — в особенности. Привычно и сноровисто разбив лагерь, они собирались у костра Ксинема, хотя нередко оказывалось так, что Ахкеймион ел в обществе Эсменет, Серве и рабов маршала. Ксинем, Найюр и Келлхус все чаще ужинали с Пройасом, который благодаря грубым урокам скюльвенда превратился в человека, одержимого стратегией. Но обычно они все часок-другой сидели у костра, прежде чем отправиться по палаткам.
И здесь, как и повсюду, Келлхус блистал.
Однажды ночью, вскоре после ухода Священного воинства из-под Хиннерета, они сидели и задумчиво ужинали рисом и ягнятиной, добытой предприимчивым Найюром. Эсменет сперва заметила, как это здорово — поесть горячего мяса, а потом поинтересовалась, где же их кормилец.
— У Пройаса, — сказал Ксинем, — обсуждает с ним войну.
— И о чем можно говорить столько времени?
Келлхус, который как раз пытался проглотить прожеванный кусок, поднял руку.
— Я слушал их, — сказал он. Глаза его были яркими и насмешливыми. — Разговор звучал примерно так…
Эсменет сразу же рассмеялась. Все прочие нетерпеливо подались вперед. Кроме озорного остроумия, Келлхус обладал еще и необыкновенным талантом подражать чужим голосам. Серве сдавленно фыркнула от возбуждения.
Келлхус напустил на себя надменный и воинственный вид. Он картинно сплюнул, а потом голосом, поразительно похожим на голос самого Найюра, произнес:
— Народ ездит не так, как слабаки айнрити. Они кладут одно яйцо на левую сторону седла, другое — на правую, и те не подпрыгивают, такие они твердые.
— Скюльвенд, я бы предпочел, чтобы ты избавил меня от своих наглых замечаний, — отозвался Келлхус-Пройас.
Ксинем поперхнулся вином и закашлялся.
— Потому-то ты и не понимаешь путей войны, — продолжал Келлхус-Найюр. — Они опасны и темны, словно щели немытых борцов. Война — это встреча сандалии мира с мошонкой людей.
— Я предпочел бы также, чтобы ты избавил меня от своего богохульства, скюльвенд.
Келлхус плюнул в костер.
— Ты думаешь, что твои пути — это пути Народа, но ты ошибаешься. Вы против нас — просто глупые девчонки, и мы бы отлюбили вас в задницу, если бы она была такой же мускулистой, как у наших лошадей.
— Я бы также предпочел, чтобы ты избавил меня от описания своих склонностей, скюльвенд!
— Но ты останешься жить в шрамах на моих руках! — воскликнула Эсменет.
Стоянка взорвалась хохотом. Ксинем уткнулся лицом в колени, фыркая и трясясь. Эсменет от смеха рухнула на циновку, хохоча так обольстительно, как это умела она одна. Зенкаппа и Динхаз прислонились друг к дружке, плечи их подрагивали. Серве свернулась клубочком и, казалось, рыдала и от смеха, и от радости.
Келлхус же просто улыбнулся, с таким видом, словно не мог понять, чем вызвана всеобщая истерика.
Когда вечером Найюр вернулся в лагерь, все тут же смолкли, одновременно и сконфуженно, и заговорщически. Скюльвенд, нахмурившись, остановился у костра и обвел взглядом ухмыляющиеся лица. Ахкеймион покосился на Серве и был поражен той злобой, что отражалась в ее усмешке.
Внезапно Эсменет расхохоталась.
— Жалко, что ты не слышал, как Келлхус тебя передразнивал! — воскликнула она. — Это было так смешно!
Обветренное лицо скюльвенда сделалось непроницаемым. Убийственный взгляд стал тусклым от… Возможно ли такое? Но затем на его лице вновь появилось презрительное выражение. Найюр плюнул в костер и зашагал прочь.
Плевок зашипел на углях.
Келлхус встал — очевидно, его настигли угрызения совести.
— Этот человек — просто обидчивый дикарь, — раздраженно высказался Ахкеймион. — Между друзьями насмешка — это дар. Дар.
Князь стремительно развернулся.
— Дар? — крикнул он. — Или просто повод?
Ахкеймион ошеломленно уставился на князя. Келлхус сделал ему выговор. Келлхус. Ахкеймион взглянул на лица остальных и увидел, словно в зеркале, свое потрясение — но не смятение.
— Дар ли это? — настойчиво повторил Келлхус.
Ахкеймиона бросило в краску, у него задрожали губы. В голосе Келлхуса было что-то такое… Совсем как у отца Ахкеймиона…
«Кто он…»
— Прости, пожалуйста, Акка, — вдруг сказал князь, опуская голову. — Я наказал тебя за собственную нелепую выходку… Я вдвойне глупец.
Ахкеймион сглотнул. Покачал головой. Сложил губы в подобие улыбки.
— Н-нет… Нет, это я прошу прощения. — Голос его дрожал. — Я был слишком резок…
Келлхус улыбнулся и положил руку ему на плечо. От прикосновения Ахкеймион словно онемел. Отчего-то запах, исходящий от князя, — запах выделанной кожи с едва заметной примесью розовой воды — всегда повергал колдуна в смятение.
— Значит, мы оба были не правы, — сказал Келлхус.
Ахкеймион ощутил восторг и мимолетное жутковатое ощущение — ему показалось, будто Келлхус чего-то ожидает…
— Я всегда это говорил! — пробурчал Ксинем с другой стороны костра.
Маршал, как всегда, выбрал нужный момент. Эсменет нервно рассмеялась, подавая пример остальным, и к людям вернулась часть былого веселья. Ахкеймион поймал себя на том, что смеется вместе со всеми.
Каждый из них, в тот или иной момент, неизбежно с кем-то не ладил. Ксинем мог бы пожаловаться на Ирисса, который постоянно бубнил про Эсменет, которая ворчала на Серве, которая придиралась к Ахкеймиону, который бурчал на Ксинема. Тот слишком тупой, эта слишком развязна, тот слишком самодоволен, этот слишком груб, и так далее. Все люди в некотором смысле торговцы; они торгуют и торгуются, не имея ни весов, ни гирь, чтобы подтвердить вес своей звонкой монеты. У них есть лишь догадки. Злословие за глаза, мелочная зависть, обиды, споры и постоянные апелляции к третейскому судье — таков рынок людской жизни.
Но с Келлхусом все было иначе. Он умудрялся просматривать товар на этом рынке, не открывая кошелька. Почти с самого начала все признали в нем Судью — все, включая Ксинема, который официально был главой их лагеря. Несомненно, в нем чувствовалась некая неуверенность, вполне сочетающаяся с его великолепием, но главное — разум, с равным успехом постигающий и день сегодняшний, и седую старину. Сострадание, широкое, как у Инрау, и одновременно куда более глубокое. Человеколюбие, порожденное скорее пониманием, чем готовностью прощать, как будто через мутный поток мыслей и страстей он способен узреть островок невинности, сохранившийся в каждой душе. А слова! Аналогии, ухватывающие самую суть реальности…
Иногда Ахкеймиону казалось, что Келлхус обладает тем, к чему, по словам поэта Протата, должен стремиться каждый человек, — рукой Триамиса, интеллектом Айенсиса и сердцем Сейена.
И остальные считали так же.
Каждый вечер, когда заканчивался ужин и прогорали костры, незнакомые люди собирались вокруг лагеря Ксинема; иногда они выкрикивали имя Келлхуса, но, как правило, просто стояли молча. Поначалу их было немного, но постепенно становилось все больше и больше, пока их число не достигло трех дюжин. Вскоре аттремпцы Ксинема начали оставлять широкие промежутки между своими круглыми палатками и шатром маршала. Иначе им бы пришлось ужинать в обществе чужаков.
Примерно с неделю все, включая Келлхуса, старались не обращать на чужаков внимания, думая, что им скоро надоест и они отправятся восвояси. Ну кто, спрашивается, станет ночь за ночью сидеть и смотреть на других людей — просто на то, как они отдыхают? Но чужаки оказались упорны, словно младшие братья, не желающие искать себе другого занятия. Их число даже увеличилось.
По собственной прихоти Ахкеймион просидел одну ночь с ними; он смотрел на то, на что смотрели они, надеясь понять, что заставляет их так унижаться. Сперва он видел просто знакомые фигуры, освещенные светом костра. Вот Найюр сидит, скрестив ноги; спина у него широкая, словно айнонский веер, и бугрится узлами мышц. За ним, на дальней стороне костра, на складной табуретке восседает Ксинем, положив руки на колени; его квадратная борода опускается на грудь. Он смеется в ответ на реплики Эсменет, которая присела рядом с ним на колени и, несомненно, вполголоса отпускает шуточки в адрес каждого из присутствующих. Динхаз. Зенкаппа. Ирисс. Серве лежит на циновке, невинно сведя коленки. И рядом с ней — Келлхус, безмятежный и прекрасный.
Ахкеймион оглядел тех, кто находился рядом с ним в темноте. Он увидел Людей Бивня всех народов и каст. Некоторые держались вместе и о чем-то переговаривались. Но большинство сидело так же, как и он, в одиночестве, вглядываясь в освещенные фигуры. Они выглядели… зачарованными. Они словно оказались в подчинении — и не столько у света, сколько у окружающей тьмы.
— Почему вы это делаете? — поинтересовался Ахкеймион у ближайшего человека, белокурого тидонца с руками солдата и ясными глазами дворянина.
— Разве вы не видите? — отозвался человек, даже не взглянув в его сторону.
— Что не вижу?
— Его.
— Вы имеете в виду князя Келлхуса?
Вот теперь тидонец повернулся к Ахкеймиону; его блаженная улыбка была исполнена жалости.
— Вы слишком близко, — пояснил он. — Потому и не можете увидеть.
— Что увидеть? — спросил Ахкеймион.
Непонятное чувство сдавило ему грудь.
— Однажды он прикоснулся ко мне, — вместо ответа сказал тидонец. — Еще до Асгилиоха. Я споткнулся на марше, а он поддержал меня. Он сказал: «Сними сандалии и обуй землю».
Ахкеймион рассмеялся.
— Это старая шутка. Должно быть, вы отпустили крепкое словцо в адрес земли, когда споткнулись.
— И что? — отозвался тидонец.
Ахкеймион вдруг понял, что его собеседник дрожит от негодования.
Он нахмурился, потом попытался улыбнуться, чтобы успокоить воина.
— Ну, это просто такая поговорка — на самом деле, очень древняя. Ее цель — напомнить людям, что не надо валить свои промахи на других.
— Нет, — проскрежетал тидонец. — Не так.
Ахкеймион в нерешительности помедлил.
— А как тогда?
Вместо того чтобы ответить, тидонец отвернулся. Ахкеймион несколько мгновений смотрел на него; он был сбит с толку и вместе с тем ощущал смутную тревогу. Как может ярость защитить истину?
Он встал и отряхнул колени от пыли.
— Это означает, — сказал у него за спиной тидонец, — что мы должны исправить мир. Мы должны уничтожить все, что оскорбляет.
Ахкеймион вздрогнул — такая ненависть звучала в голосе этого человека. Он повернулся, сам не зная зачем — то ли посмеяться над тидонцем, то ли выбранить его. А вместо этого стоял и смотрел на него, утратив дар речи. Почему-то тидонец не смог выдержать его взгляда и стал наблюдать за костром. Остальные повернулись, услышав сердитые голоса, но тут же, прямо на глазах у Ахкеймиона, устремили взоры обратно на Келлхуса. И колдун понял, что эти люди никуда не уйдут.
«Я точно такой же, как они, — подумал Ахкеймион, ощутив боль, ставящую его в тупик, боль узнавания вещей, которые уже известны. — Я просто сижу ближе к костру…»
Эти люди руководствовались теми же причинами, что и он сам. Ахкеймион знал это.
Причины были смутно понятны: горе, искушение, угрызения совести, замешательство. Они смотрели, потому что их толкали к этому усталость, тайные надежды и страхи, зачарованность и восторг. Но более всего их толкала необходимость.
Они смотрели потому, что знали: что-то вот-вот произойдет.
Костер вдруг выстрелил и выбросил в небо сноп искр; одна поплыла по воздуху к Келлхусу. Тот, улыбаясь, взглянул на Серве, потом протянул руку и взял оранжевую светящуюся точку пальцами. Погасил ее.
В темноте кто-то ахнул.
Смотрящих с каждым днем становилось больше. Ситуация делалась все более неудобной из-за неуемной натуры Келлхуса. К тому же лагерь превратился в подобие сцены — пятно света, окруженное глазеющими тенями. Князь Атритау влиял на каждого, кто приходил к костру Ксинема, ведомый своими надеждами и скорбями, и от зрелища того, как человек, переписавший основы их представлений, гневается, становилось не по себе — словно кто-то, кого ты любишь, вдруг повел себя вопреки ожиданиям.
Однажды ночью в Ксинеме заговорил свойственный ему здравый смысл, и маршал выпалил:
— Проклятье, Келлхус! Почему бы тебе просто не поговорить с ними?
Последовало ошеломленное молчание. Эсменет не глядя нащупала в темноте руку Ахкеймиона. Один лишь скюльвенд продолжал есть как ни в чем не бывало. Ахкеймиону стало неприятно, как будто он увидел что-то непристойное.
— Потому, — напряженно произнес Келлхус, не отрывая взгляда от костра, — что они делают меня значительнее, чем я есть на самом деле.
«А так ли это?» — подумал Ахкеймион. Хотя они редко говорили между собой о Келлхусе, он знал, что и другие задают себе тот же вопрос. Почему-то, как только заходила речь о Келлхусе, всех охватывала странная робость, как будто они таили некие подозрения, слишком глупые или обидные, чтобы их можно было высказать вслух. Сам Ахкеймион мог говорить о нем только с Эсменет, да и то…
— Ну и пусть! — рявкнул Ксинем.
Похоже, он с бо́льшим успехом, чем прочие, способен был делать вид, что Келлхус — не более чем еще один человек у их костра.
— Пойди поговори с ними!
Несколько мгновений Келлхус смотрел на маршала, не мигая, затем кивнул. Не сказав ни слова, он поднялся и зашагал в темноту.
Так началось то, что Ахкеймион назвал «Импровизацией», — ночные беседы, которые Келлхус вел с Людьми Бивня. Не всегда, но часто Ахкеймион и Эсменет присоединялись к нему, садились поблизости и слушали, как он отвечает на вопросы и обсуждает множество различных тем. Келлхус говорил им, что их присутствие придает ему храбрости. Он признавался в растущем самомнении — эта мысль пугала его, поскольку он обнаружил, что все больше и больше свыкается с ролью проповедника.
— Часто, говоря с ними, я не узнаю собственного голоса, — сказал Келлхус.
Ахкеймион не помнил, чтобы ему прежде случалось с такой силой цепляться за руку Эсменет.
Число приходящих все увеличивалось, не настолько стремительно, чтобы Ахкеймион мог заметить разницу между двумя вечерами, но достаточно быстро, чтобы по мере приближения к Шайгеку несколько десятков превратились в сотни. Самые верные слушатели сколотили небольшой деревянный помост; они ставили на него две жаровни и клали посередине циновку. Келлхус сидел между языками пламени, скрестив ноги, уверенный, хладнокровный и неподвижный. Обычно он надевал простую желтую рясу, захваченную, как рассказала Ахкеймиону Серве, в лагере сапатишаха на равнине Менгедда. И отчего-то — благодаря то ли его позе, то ли одеянию, то ли игре света — Келлхус начинал казаться сверхъестественным существом. Сверхъестественным и прекрасным.
Однажды вечером Ахкеймион отправился следом за Келлхусом и Эсменет, прихватив свечу, письменные принадлежности и лист пергамента. Накануне вечером Келлхус, говоря о доверии и предательстве, рассказал историю об охотнике, с которым встретился в глуши к северу от Атритау, о том, кто хранил верность покойной жене, питая глубочайшую привязанность к своим собакам. «Когда любимое существо умирает, — сказал Келлхус, — нужно полюбить кого-то другого». Эсменет заплакала, не скрывая слез.
Такие слова непременно следовало записать.
Ахкеймион и Эсменет постелили свою циновку слева от помоста. Небольшое поле было обнесено факелами. Обстановка царила дружеская, хотя при появлении Келлхуса все почтительно замолчали. Ахкеймион заметил в толпе знакомые лица. Здесь было несколько высокородных дворян, включая мужчину с квадратным подбородком, в синем плаще нансурского генерала, — насколько мог припомнить Ахкеймион, его звали не то Сомпас, не то Мартем. Даже Пройас сидел в пыли вместе с остальными, хотя вид у него был обеспокоенный. Он не ответил на взгляд Ахкеймиона, предпочел отвести глаза.
Келлхус занял свое место между разожженными жаровнями. На несколько мгновений он показался невыносимо настоящим, словно был единственным живым человеком в мире призраков.
Он улыбнулся, и Ахкеймион перевел дух. Его затопило непостижимое облегчение. Дыша полной грудью, он приготовил перо и выругался — на пергамент тут же упала клякса.
— Акка! — укоризненно произнесла Эсменет.
Как всегда, Келлхус оглядел лица присутствующих; глаза его светились состраданием. Несколько мгновений спустя взгляд его остановился на одном человеке — конрийском рыцаре, если судить по тунике и тяжелым золотым кольцам. Вид у рыцаря был изможденный, будто он по-прежнему спал на равнине Битвы. Борода сбилась в колтуны.
— Что случилось? — спросил Келлхус.
Рыцарь улыбнулся, но в выражении его лица было нечто странное, вызывающее легкое ощущение несоответствия.
— Три дня назад, — сказал рыцарь, — до нашего лорда дошли слухи о том, что в нескольких милях к западу есть деревня, и мы отправились туда за добычей…
Келлхус кивнул.
— И что же вы нашли?
— Ничего… В смысле — не нашли никакой деревни. Наш лорд разгневался. Он заявил, что другие…
— Что вы нашли?
Рыцарь моргнул. Сквозь маску усталости на миг проступила паника.
— Ребенка, — хрипло произнес он. — Мертвого ребенка… Мы поехали по тропе — наверное, ее протоптали козы, — чтобы сократить дорогу, и там лежал мертвый ребенок, девочка, лет пяти-шести, не больше. У нее было перерезано горло…
— И что дальше?
— Ничего… В смысле — на нее просто никто не обратил внимания; все отправились дальше, как будто это была груда тряпья… обрывок кожи в пыли.
Рыцарь, дрожа, опустил голову и уставился на свои загрубевшие руки.
— Вина и гнев терзают тебя днем, — сказал Келлхус, — ты чувствуешь, что совершил ужасное преступление. По ночам тебя мучают кошмары… Она говорит с тобой.
Рыцарь в отчаянии кивнул. Ахкеймион понял, что этот человек не годится для войны.
— Но почему? — воскликнул рыцарь. — Ну, мы же видели множество мертвецов!
— Видеть и быть свидетелем — не одно и то же.
— Я не понимаю…
— Свидетельствовать — означает видеть то, что служит свидетельством, судить то, что следует судить. Ты видишь, и ты судишь. Свершилось прегрешение, был убит невинный человек. Ты видел это.
— Да! — простонал рыцарь. — Девочка. Маленькая девочка.
— И теперь ты страдаешь.
— Но почему?! Почему я должен страдать? Она мне никто! Она была язычницей!
— Повсюду… Повсюду нас окружает то, что благословенно, и то, что проклято, священное и нечестивое. Но наши сердца подобны рукам; от соприкосновения с миром они делаются мозолистыми. Но сердца, какими бы огрубевшими они ни были, болят, если перетрудить их или натереть в непривычном месте. Некоторое время мы ощущаем неудобство, но не обращаем на него внимания — у нас ведь так много дел…
Келлхус посмотрел на свою правую руку, потом вдруг сжал ее в кулак и вскинул над головой.
— А потом один удар, молотом или мечом, водянка лопается, и наше сердце разрывается. И мы страдаем, ибо чувствуем боль, причиняемую тем, что проклято, тому, что благословенно. Мы больше не видим — мы свидетельствуем…
Его сияющие глаза остановились на безымянном рыцаре. Голубые и мудрые.
— Вот что произошло с тобой.
— Да… Да! Но что же мне делать?
— Радоваться.
— Радоваться? Но я страдаю!
— Да, радоваться! Загрубевшая рука не может ощутить, как нежна щека любимой. Когда мы свидетельствуем, мы принимаем ответственность за то, что видим. И это — именно это! — означает принадлежать.
Келлхус внезапно встал, соскочил с невысокого помоста и сделал два шага в сторону толпы.
— Не ошибитесь! — продолжал он, и воздух зазвенел от звуков его голоса. — Этот мир владеет вами. Вы принадлежите, хотите вы того или нет. Почему мы страдаем? Почему несчастные кончают с собой? Да потому, что мир, каким бы проклятым он ни был, владеет нами. Потому, что мы принадлежим.
— И что, мы должны радоваться страданиям? — с вызовом выкрикнул кто-то из толпы.
Князь Келлхус улыбнулся, глядя в темноту.
— Но тогда это уже не страдания, верно?
Собравшиеся рассмеялись.
— Нет, я не это имел в виду. Нужно радоваться значению страданий. Тому, что вы принадлежите, а не тому, что вы мучаетесь. Помните, чему учит нас Последний Пророк: блаженство приходит в радости и печали. В радости и печали…
— Я в-вижу мудрость твоих слов, князь, — запинаясь, пробормотал безымянный рыцарь. — Действительно вижу! Но…
И шестым чувством Ахкеймион понял суть его вопроса…
«Но как этого добиться?»
— Я не прошу тебя видеть, — сказал Келлхус. — Я прошу тебя свидетельствовать.
Непроницаемое лицо. Безутешные глаза. Рыцарь моргнул, и по его щекам скатились две слезы. Потом он улыбнулся — и не было на свете ничего прекраснее этой улыбки.
— Сделать себя… — Голос его дрогнул и сорвался. — С-сделать…
— Быть единым целым с миром, в котором живешь, — величественно произнес Келлхус. — Сделать свою жизнь заветом.
«Мир… Ты приобретешь мир».
Ахкеймион взглянул на пергамент и лишь теперь осознал, что перестал писать. Он повернулся и беспомощно посмотрел на Эсменет.
— Не волнуйся, — сказала она. — Я все запомнила.
Ну конечно же, она запомнила.
Эсменет. Второй столп, на котором покоился его мир, причем куда мощнее первого.
Это казалось одновременно и странным, и очень уместным — обрести нечто, очень схожее с супружеством, посреди Священной войны. Каждый вечер они в изнеможении уходили или от помоста Келлхуса, или от костра Ксинема, держась за руки, словно юные влюбленные, размышляя, или пререкаясь, или смеясь над недавними событиями. Они пробирались между растяжками шатров, и Ахкеймион с преувеличенной галантностью откидывал полог их палатки. Они раздевались, а потом находили друг друга в темноте — как будто вместе могли сделаться чем-то бо́льшим.
Мир отступал в тень. С каждым днем Ахкеймион все меньше думал об Инрау и все больше размышлял о жизни с Эсменет. И о Келлхусе. Даже опасность, исходящая от Консульта, и угроза Второго Апокалипсиса стали чем-то банальным и далеким, словно слухи о войне между неизвестными бледнокожими народами. Сны Сесватхи обрушивались на него с прежней ясностью, но растворялись в мягкости ее прикосновения, в утешении ее голоса. «Ну, будет, Акка, — говорила она, — это только сон», — и все одолевающие его картины — рывки, стоны, плевки, пронзительные вопли — все таяло как дым. Впервые в жизни Ахкеймионом завладело нынешнее время, настоящее… Ее глаза, становящиеся обиженными, когда он брякал что-нибудь, не подумав. Ее рука, перебирающаяся к нему на колено, когда они сидели рядом. Ночи, когда они лежали обнаженные в палатке — голова Эсменет покоилась у него на груди, темные волосы струились по плечам и шее — и говорили о вещах, ведомых им одним.
— Это все знают, — сказала она как-то.
В ту ночь они ушли рано и теперь слышали голоса остальных: сперва шутливые протесты и громкий смех, потом полная тишина, порожденная магией голоса Келлхуса. Костер все еще горел, и они видели пятно света сквозь холст палатки.
— Он — пророк, — пояснила Эсменет.
Ахкеймиону стало страшно.
— Что ты говоришь?
Она повернулась и изучающе взглянула на него. Казалось, будто ее глаза светятся.
— Только то, что тебе требуется услышать.
— А почему мне требуется это услышать?
Что она говорит?
— Потому что ты так думаешь. Потому что ты этого боишься… Но прежде всего потому, что тебе это нужно.
«Мы обречены», — сказали ее глаза.
— Не смешно, Эсми.
Эсменет нахмурилась, но не сильно — как будто заметила прореху на одном из своих новых платьев кианского шелка.
— Сколько времени прошло с тех пор, как ты в последний раз связывался с Атьерсом? Недели? Месяцы?
— При чем тут…
— Ты выжидаешь, Акка. Выжидаешь, чтобы увидеть, во что он превратится.
— Кто — Келлхус?
Эсменет отвернулась, прижалась щекой к его груди.
— Он — пророк.
Она знала его. Когда Ахкеймион вспоминал прошлое, ему казалось, что она знала его всегда. Он даже принял ее за ведьму, когда они впервые встретились, и не столько из-за едва различимой Метки заколдованной ракушки, которую Эсменет использовала в качестве противозачаточного средства, сколько из-за того, что она угадала в нем колдуна буквально через пару минут. Казалось, будто у нее с самого начала был талант к нему. К Друзу Ахкеймиону.
Это было так странно — чувствовать, что тебя знают. Действительно знают. Что тебя ждут, а не опасаются. Что тебя принимают, а не оценивают. Странно чувствовать себя привычкой другого. И постоянно видеть свое отражение в чужих глазах.
И не менее странно было знать ее. Иногда она хохотала так, что у нее начиналась икота. А когда она разочаровывалась, глаза у нее делались тусклыми, словно пламя свечей, которым не хватает воздуха. Она любила класть руку ему на член и держать неподвижно, пока тот затвердевает. «Я ничего не делаю, — шептала она, — и все-таки ты встаешь ко мне». Она боялась лошадей. Она поглаживала левую подмышку, когда впадала в задумчивость. Она не прятала лица, когда плакала. И могла говорить столь прекрасные вещи, что иногда Ахкеймиону казалось, будто у него вот-вот остановится сердце.
Детали. Довольно простые по отдельности, но вместе пугающие и загадочные. Тайна, которую он знал…
Что это, если не любовь? Знать, доверять тайну…
Однажды, в ночь Ишойи, когда конрийцы устроили праздник с обильными возлияниями, Ахкеймион спросил у Келлхуса, как тот любит Серве. К тому моменту не спал только он, Ксинем и Келлхус. Все они были пьяны.
— Не так, как ты любишь Эсменет, — ответил князь.
— А как? Как я люблю ее?
Он споткнулся и зашатался в дыму костра.
— Как рыба любит море? Как… как…
— Как пьяница любит свой бочонок! — хохотнул Ксинем. — Как мой пес любит твою ногу!
Ахкеймион поблагодарил его за ответ, но ему хотелось услышать мнение Келлхуса. Всегда и везде — мнение Келлхуса.
— Ну так как, мой князь? Как я люблю Эсменет?
В голосе его проскользнула нотка гнева.
Келлхус улыбнулся, поднял глаза. На щеках его блестели слезы.
— Как дитя, — сказал он.
Эти слова выбили землю из-под ног Ахкеймиона. Колени подогнулись, и он упал.
— Да, — согласился Ксинем.
Он смотрел куда-то в ночь и улыбался… Ахкеймион понял, что эта улыбка адресована ему, его другу.
— Как дитя? — переспросил Ахкеймион, отчего-то и сам чувствуя себя ребенком.
— Да, — отозвался Келлхус. — Не спрашивай, Акка. Просто так есть… Безоговорочно, полностью.
Он повернулся к колдуну. Ахкеймион очень хорошо знал этот взгляд — тот самый взгляд, который он так желал встретить, когда внимание Келлхуса было обращено на других. Взгляд друга, отца, ученика и наставника. Взгляд, в котором отражалась его душа.
— Она стала твоей опорой, — сказал Келлхус.
— Да… — отозвался Ахкеймион.
«Она стала моей женой».
Вот это мысль! Он просиял от детской радости. Он чувствовал себя великолепно пьяным.
«Моя жена!»
Но позднее, той же ночью, как-то вдруг получилось, что он занялся любовью с Серве.
Впоследствии он даже не мог толком припомнить это — но проснулся он на тростниковой циновке у потухшего костра. Ему снились белые башни Микл и слухи о Мог-Фарау. Ксинем и Келлхус ушли, а небо казалось невероятно глубоким, как в ту ночь, когда они с Эсменет спали у разрушенного святилища. Глубоким, словно бездонная пропасть. Серве опустилась на колени рядом с ним, безукоризненная в свете костра; она улыбалась и плакала одновременно.
— Что случилось? — изумленно спросил Ахкеймион.
Но потом до него дошло, что она задрала его рясу до самого пояса и легонько перекатывает его фаллос по животу. Тот уже затвердел — прямо-таки безумно.
— Серве… — попытался было возразить он, но с каждым движением ее ладони его пронзала вспышка экстаза.
Он выгнулся, пытаясь прижаться к ее руке. Почему-то казалось, будто все, что ему нужно, — это чувствовать ее пальцы у самой головки его члена.
— Нет… — простонал Ахкеймион, вжимаясь пятками в землю и цепляясь за траву.
Что происходит?
Серве отпустила его, и он задохнулся от поцелуя прохладного воздуха. Он чувствовал, как бешено пульсирует в жилах кровь…
Что-нибудь. Ему нужно что-нибудь сказать! Этого не может быть!
Но она легко выскользнула из своей хасы, и он задрожал от одного ее вида. Такая стройная. Такая гладкая. Белая в тени, отливающая золотом в свете костра. Ее персик нежно золотился. Она больше не прикасалась к нему, но ее красота воспламенила его, и в паху мучительно запульсировало. Он сглотнул, тяжело дыша. Потом она оседлала его. Он успел заметить, как качнулись ее фарфоровые груди, увидел изгиб гладкого живота.
«Она что…»
Она уселась на него. Он вскрикнул, выругался.
— Это ты! — прошипела она, отчаянно глядя ему в глаза. — Я могу видеть тебя. Я могу видеть!
Он в исступлении запрокинул голову, боясь, что кончит слишком быстро. Это была Серве… Сейен милостивый, это была Серве!
А потом он увидел Эсменет, одиноко стоящую в темноте. Она стояла и смотрела…
Он зажмурился, скривился и кончил.
— А-ах… ах-х-х…
— Я могу чувствовать тебя! — воскликнула Серве.
Когда он открыл глаза, Эсменет исчезла — если она вообще была там.
Серве продолжала тереться о его кожу. Мир превратился в мешанину жара, влажности и гулких хлопков бьющейся об него красавицы. Он сдался, уступив ее напору.
Каким-то образом Ахкеймиону удалось проснуться до пения труб, и некоторое время он сидел у входа в палатку, глядя на спящую Эсменет и чувствуя на своих бедрах засохшее семя. Когда Эсменет проснулась, он заглянул в ее глаза, но ничего не увидел. Во время долгого, трудного перехода она отчитала его за пьянство, только и всего. Серве вообще не глядела в его сторону. К вечеру Ахкеймион убедил себя, что это был сон. Восхитительный сон.
Перрапта. Другого объяснения быть не могло.
«Вот ведь гребаный напиток!» — подумал Ахкеймион и попытался ощутить сожаление.
Когда он рассказал все Эсменет, та засмеялась и пригрозила, что наябедничает Келлхусу. Позднее, оставшись в одиночестве, Ахкеймион даже расплакался от облегчения. Он понял, что никогда, даже той безумной ночью в Андиаминских Высотах, не чувствовал такой обреченности. И он знал, что принадлежит Эсми — а не миру.
Она — его завет. Она — его жена.
Священное воинство подбиралось все ближе к Шайгеку, а Ахкеймион по-прежнему игнорировал свою школу. Он мог придумать этому различные оправдания. Он мог сказать, что невозможно расспрашивать людей, давать им взятки или лезть со своими предположениями, когда находишься в лагере вооруженных фанатиков. Он мог напомнить себе о том, что школа сделала с Инрау. Но в конечном итоге это ничего не значило.
Он ринулся на врагов. Он видел свою ересь насквозь. Но ему было неважно, какие ужасы ждали его впереди. Впервые за долгую бродячую жизнь Друз Ахкеймион обрел счастье.
И на него снизошел покой.
Дневной переход выдался особенно утомительным, и Серве сидела у костра, растирая ноющие ноги — и смотрела поверх огня на своего любимого, Келлхуса. Если бы только так было всегда…
Четыре дня назад Пройас отправил скюльвенда на юг, дав ему несколько сотен рыцарей, — как сказал Келлхус, разведать дорогу на Шайгек. Четыре дня ей не приходилось натыкаться на взгляд его голодных, злобно сверкающих глаз. Четыре дня ей не приходилось съеживаться в его железной тени, когда он вел ее в шатер. Четыре дня ей не приходилось терпеть его ужасающую свирепость.
И каждый день она непрестанно молилась — пусть его убьют!
Но на эту молитву Келлхус никогда бы не ответил.
Она смотрела, любовалась и восхищалась. Его длинные белокурые волосы отливали золотом в свете костра; лицо лучилось добродушием и пониманием. Ахкеймион заговорил с ним о чем-то — должно быть, о колдовстве, — и Келлхус кивнул. Серве не обратила особого внимания на слова колдуна. Она смотрела на лицо Келлхуса, и это поглощало ее всю, без остатка.
Она никогда не видела подобной красоты. В его внешности было нечто нереальное, божественное, не от мира сего. Поразительная изысканность, невероятное изящество, нечто такое, что в любой миг могло вспыхнуть и ослепить ее откровением. Лицо, ради которого билось ее сердце…
Дар.
Серве положила ладонь на живот, и на миг ей почудилось, будто она ощущает второе бьющееся в ней сердце — крохотное, словно у воробушка, — и его биение словно бы усиливалось с каждым мигом.
Его дитя… Его.
Как все переменилось! Она была мудра, куда мудрее, чем надлежало двадцатилетней девушке. Мир обуздал ее, показав ей бессилие насилия. Сперва сыновья Гауна и их жестокая похоть. Потом Пантерут и его неописуемая грубость. Потом Найюр с его безумием и железной волей. Что для такого человека, как он, могло значить насилие над слабой наложницей? Просто еще одна вещь, которую следовало разбить. Она поняла, что все ее усилия тщетны, что таящееся в ней животное будет унижаться, пресмыкаться и визжать, вылижет член любого мужчины, вымаливая пощаду, сделает все, что угодно, удовлетворит любое желание — лишь бы выжить. Она постигла истину.
Покорность. Истина в покорности.
«Ты сдалась, Серве, — говорил ей Келлхус. — И, сдавшись, завоевала меня!»
Время пустоты миновало. Мир, сказал Келлхус, готовил ее для него. Ей, Серве хил Кейялти, предназначено было стать его священной супругой.
Она будет носить сыновей Воина-Пророка.
Что по сравнению с этим все унижения и страдания? Конечно, она плакала, когда скюльвенд бил ее, стискивала зубы от ярости и стыда, когда он пользовался ею. Но потом она поняла, а Келлхус объяснял ей, что понимание превыше всего. Найюр был тотемом старого, темного мира, древним насилием, обретшим плоть. У каждого бога, говорил Келлхус, есть свой демон.
У каждого Бога…
Жрецы — и тот, который жил в поместье отца, и тот, что жил у Гауна, — твердили, что боги воздействуют на души людей. Но Серве знала, что боги и ведут себя как люди. И поэтому зачастую, глядя на Эсменет, Ахкеймиона, Ксинема и прочих, кто сидел у костра, Серве поражалась: как они могут не замечать? Хотя иногда она подозревала, что в глубине сердец они все понимают, но боятся в это поверить.
Но впрочем, они ведь не занимались любовью с богом — и его обличьями.
Их не учили, как прощать и подчиняться, хотя постепенно обучались и они. Серве часто замечала, как он тонко, незаметно наставляет их. Это было поразительно: смотреть, как бог просвещает людей.
Даже сейчас он учил их.
— Нет, — гнул свое Ахкеймион. — Мы, колдуны, отличаемся от прочих нашими способностями, как вы, знать, отличаетесь происхождением. Какая разница, видят ли окружающие в нас колдунов? Мы то, что мы есть.
— Ты уверен? — спросил Келлхус.
Глаза его улыбались.
— Что ты имеешь в виду? — резко отозвался Ахкеймион.
Келлхус пожал плечами.
— А если бы я сказал тебе, что я такой же, как ты?
Ксинем метнул взгляд на Ахкеймиона. Тот нервно рассмеялся.
— Как я? — переспросил колдун и облизал губы. — Это как?
— Я вижу Метку, Акка… Я вижу кровоподтек вашего проклятия.
— Ты шутишь, — отрезал Ахкеймион, но голос его прозвучал как-то странно.
— Вот видишь? Мгновение назад я ничем не отличался от тебя. Разницы между нами не существовало до тех пор, пока…
— Ее по-прежнему не существует! — звенящим голосом выпалил Ахкеймион. — И я это докажу!
Келлхус изучающе посмотрел на колдуна; взгляд его был заботливым и встревоженным.
— И как можно доказать, кто что видит?
Ксинем, сидевший с невозмутимым видом, хохотнул:
— Что, получил, Акка? Многие видят твое богохульство, но предпочитают об этом не говорить. Подумай об общине лютимов…
Но Ахкеймион вскочил на ноги; он был перепуган и сбит с толку.
— Это просто… просто…
Мысли Серве заметались. «Он знает, любовь моя! Ахкеймион знает, кто ты!»
У Серве в памяти всплыло, как она сидела верхом на колдуне, и она зарделась, но потом твердо заявила себе, что это не Ахкеймиона она помнит, а Келлхуса.
«Ты должна знать меня, Серве, знать во всех моих обличьях».
— Есть способ это доказать! — воскликнул колдун.
Он с нелепым видом уставился на окружающих, а затем, ничего не объяснив, бросился в темноту.
Ксинем пробормотал нечто насмешливое, и рядом с Серве уселась Эсменет, улыбаясь и хмурясь.
— Опять Келлхус накрутил ему хвост? — спросила она, вручая Серве чашку с ароматным чаем.
— Опять, — сказала Серве, взяв чашку.
Она плеснула несколько капель на землю, прежде чем начать пить. Чай был теплым; он лег ей в желудок, словно нагретый солнцем шелк.
— М-м-м… Спасибо, Эсми.
Эсменет кивнула и повернулась к Келлхусу и Ксинему. Вчера вечером Серве подрезала черные волосы Эсменет — подстригла ее коротко, по-мужски, — и теперь та походила на красивого мальчика. «Она почти такая же красивая, как я», — подумала Серве.
Ей никогда прежде не доводилось встречаться с такими женщинами, как Эсменет: храбрыми и острыми на язык. Иногда она пугала Серве своим умением разговаривать с мужчинами, отвечать им шуткой на шутку. Лишь Келлхусу удавалось превзойти ее в острословии. Но она всегда оставалась внимательной и заботливой. Однажды Серве спросила Эсменет, отчего она такая добрая? И Эсменет ответила, что, будучи шлюхой, нашла успокоение лишь в одном — в заботе о том, кто еще более беззащитен, чем она сама. Когда Серве принялась доказывать ей, что она не шлюха и не беззащитна, Эсменет лишь печально улыбнулась, сказав: «Все мы шлюхи, Серча…»
И Серве ей поверила. Да и как она могла не поверить? Эти слова звучали слишком похоже на то, что мог бы сказать Келлхус.
— Дневной переход тебя не утомил, Серча? — спросила Эсменет.
Она улыбнулась в точности так же, как когда-то улыбалась тетя Серве, тепло и участливо. Но затем Эсменет внезапно помрачнела, как будто увидела в лице Серве нечто неприятное. Взгляд ее сделался отстраненным.
— Эсми! — позвала Серве. — Что случилось?
Эсменет смотрела вдаль. Когда же она вновь повернулась к Серве, на ее красивом лице появилась другая улыбка — более печальная, но такая же искренняя. Серве опустила взгляд на свои руки. Ей стало страшно: а вдруг Эсменет откуда-то узнала?.. Перед ее мысленным взором возник скюльвенд, трудящийся над ней в темноте.
«Но это был не он!»
— Горы… — быстро сказала Серве. — Земля здесь такая твердая… Келлхус сказал, что раздобудет для меня мула.
— Да, он наверняка… — кивнула Эсменет.
Она не договорила и, нахмурившись, принялась вглядываться в темноту.
— Что он затеял?
Ахкеймион вернулся к костру, неся с собою куколку. Он посадил ее на землю, прислонив к белому, словно кость, камню. Кукла — вся, кроме головы — была вырезана из темного дерева; руки и ноги крепились на шарнирах, в правой ладошке она держала маленький ржавый ножик, а туловище было исписано мелкими буковками. Голова же представляла собой бесформенный шелковый мешочек. Серве взглянула на куколку, и та вдруг показалась ей кошмарной. Отсветы костра блестели на полированном дереве. Маленькая тень на фоне камня казалась черной, как смола, и плясала вместе с языками пламени. Сейчас кукла выглядела мертвым человечком, которого собираются возложить на погребальный костер.
— Серча, Ахкеймион тебя не пугает? — спросила Эсменет.
В ее глазах плясали озорные искры.
Серве подумала о той ночи у разрушенной гробницы, когда Ахкеймион послал свет к звездам, и покачала головой.
— Нет, — отозвалась она.
Она была слишком печальна, чтобы бояться.
— Значит, сейчас испугает, — сказала Эсменет.
— Он ушел за доказательствами, — язвительно заметил Ксинем, — а вернулся с игрушкой!
— Это не игрушка! — раздраженно пробормотал Ахкеймион.
— Он прав, — серьезно произнес Келлхус. — Это колдовской артефакт. Я вижу Метку.
Ахкеймион бросил взгляд на Келлхуса, но промолчал. Пламя костра гудело и потрескивало. Ахкеймион закончил возиться с куклой и отступил на два шага. И вдруг, когда фоном ему сделалась темнота и огни огромного лагеря, он стал меньше похож на усталого ученого, и больше — на адепта Завета. Серве вздрогнула.
— Это называется «Кукла Вати», — пояснил Ахкеймион. — Я… приобрел ее в Сансори пару лет назад… В этой кукле заключена душа.
Ксинем поперхнулся вином и закашлялся.
— Акка! — прохрипел он. — Я не потерплю…
— Уважь меня, Ксин. Келлхус сказал, что он из Немногих. А это — единственный способ доказать его утверждение, не навлекая проклятие на него — или на тебя, Ксин. А мне все равно уже нечего терять.
— Что я должен делать? — спросил Келлхус.
Ахкеймион присел и выдернул из земли прутик.
— Я просто нацарапаю два слова, а ты скажешь их вслух. Они не являются Напевом, значит, ты не будешь отмечен. Никто, посмотрев на тебя, не увидит Метки. И ты по-прежнему будешь достаточно чист, чтобы без особых проблем взять в руки Безделушку. Ты произнесешь пароль, приводящий в действие этот артефакт… Кукла пробудится лишь в том случае, если ты и вправду один из Немногих.
— А почему это плохо, если кто-то узнает в Келлхусе колдуна? — спросил Кровавый Дин.
— Потому, что он будет проклят! — гаркнул Ксинем.
— Именно, — согласился Ахкеймион. — И после этого проживет недолго. Он окажется колдуном без школы, волшебником, а школы не терпят волшебников.
Ахкеймион обеспокоенно переглянулся с Эсменет. Потом он подошел к Келлхусу. Серве чувствовала, что он уже сожалеет об этом представлении.
Ахкеймион проворно нацарапал веточкой цепочку знаков на земле, у самых сандалий Келлхуса.
— Я написал их на куниюрском, — сказал Ахкеймион, — чтобы не оскорблять ничей слух.
Он отступил и медленно поклонился. Несмотря на бронзовый загар, приобретенный под палящим солнцем Гедеи, Ахкеймион казался сейчас серым.
— Произнеси их, — велел он.
Келлхус, серьезный и сдержанный, мгновение разглядывал слова, а затем отчетливо проговорил:
— Скиуни ариситва…
Все взгляды обратились к кукле. Серве затаила дыхание. Она ждала, что кукла вздрогнет и задергается, как марионетка, запляшет, повинуясь невидимым нитям. Но ничего подобного не случилось. Первой шевельнулась грязная шелковая голова. Серве поняла, что на ткани проступает крохотное лицо — нос, губы, лоб, глазные впадины, — и задохнулась от ужаса.
Казалось, будто всех присутствующих окутала наркотическая дымка, оцепенение людей, оказавшихся свидетелями невозможного. Сердце Серве лихорадочно стучало. Голова шла кругом…
Но она не могла отвести взгляд. На шелке появилось человеческое лицо — такое маленькое, что могло бы поместиться в ладони. Крохотные губы разомкнулись в беззвучном вопле.
А потом кукла задвигалась — проворно и ловко, ничего общего с подергиваниями марионетки. И Серве, впадая в панику, поняла, что это и есть душа, сама по себе… Одним плавным, усталым движением кукла подалась вперед, оперлась руками о землю, согнула колени, потом поднялась на ноги; на землю упала крохотная тень — тень человека с мешком на голове.
— Ради всего святого!.. — напряженно выдохнул Кровавый Дин.
Деревянный человечек стоял, поводя безглазым лицом из стороны в сторону, и изучал онемевших великанов.
Потом он поднял маленькое, ржавое лезвие, заменявшее ему правую руку. Костер выстрелил; человечек подскочил и развернулся. Дымящийся уголек упал к его ногам. Человечек наклонился и, подцепив уголек ножом, кинул его обратно в костер.
Ахкеймион пробормотал нечто неразборчивое, и кукла осела бесформенной грудой. Колдун обратил к Келлхусу каменное лицо и мертвенным ровным голосом произнес:
— Так, значит, ты из Немногих…
Ужас, подумала Серве. Он в ужасе. Но почему? Разве он не видит?
Ксинем внезапно вскочил на ноги. И прежде чем Ахкеймион успел что-то сказать, маршал ухватил его за руку и рывком развернул к себе.
— Зачем ты это сделал? — крикнул Ксинем.
На лице его отражались боль и гнев.
— Ты же знал, что мне и так трудно из-за… из-за… Ты же знал! И теперь — вот это представление? Это богохульство?
Ошеломленный Ахкеймион в ужасе уставился на друга.
— Но, Ксин! — воскликнул он. — Это то, что я есть.
— Возможно, Пройас был прав! — рявкнул Ксинем.
Он с рычанием отшвырнул Ахкеймиона и размашисто зашагал прочь. Эсменет вскочила и схватила безвольную руку Ахкеймиона. Но колдун продолжал вглядываться в темноту, где исчез маршал Аттремпа. Серве слышала настойчивый шепот Эсменет: «Все в порядке, Акка! Келлхус поговорит с ним. Объяснит, что он не прав…» Но Ахкеймион отвернулся от вопрошающих взглядов тех, кто сидел у костра, и вяло оттолкнул ее.
Ошеломленная Серве — у нее по коже до сих пор бегали мурашки — умоляюще взглянула на Келлхуса. «Пожалуйста… исправь это как-нибудь!» Ксинем должен простить Ахкеймиона. Они все должны научиться прощать!
Серве не знала, когда начала говорить с ним без слов, но теперь это происходило часто, и она уже не могла вспомнить, что произносила вслух, а что нет. Это было частью того бесконечного мира, что царил между ними. Они ничего не скрывали.
И почему-то взгляд Келлхуса напомнил Серве его слова, сказанные однажды. «Серве, мне следует открываться им медленно. Медленно и постепенно. Иначе они обратятся против меня…»
Той ночью Серве разбудил разговор — сердитые голоса у самого шатра. Она непроизвольно схватилась за живот. Ее скрутило от страха. «О боги!.. Милосердия! Прошу вас, пощадите!»
Скюльвенд вернулся.
Серве знала, что он вернется. Ничто не могло убить Найюра урс Скиоату — во всяком случае, при ее жизни.
«Только не это… ну пожалуйста, только не это…»
Серве ничего не видела, но угроза его присутствия уже вцепилась в нее, как будто Найюр был зловещим призраком, склонившимся над ней, чтобы пожрать ее, выцарапать у нее сердце — выскоблить, как кепалоранки скоблят шкуры острыми краями раковин. Серве заплакала — тихо, чтобы он не услышал… Она знала, что в любое мгновение скюльвенд может вломиться в шатер, обдав ее запахом мужчины, только что снявшего доспехи, схватить за горло и…
«Ну пожалуйста! Я знаю, что мне полагается быть хорошей девочкой, — и я буду, буду хорошей девочкой! Пожалуйста!»
Она слышала его хриплый голос; скюльвенд говорил яростно, но тихо, словно не желал, чтобы его подслушали.
— Мне это надоело, дунианин.
— Нута’таро хирмута, — отозвался Келлхус с бесстрастностью, от которой Серве сделалось не по себе.
Но потом она поняла. «Он говорит так холодно, потому что ненавидит его… Ненавидит, как и я!»
— И не подумаю! — огрызнулся скюльвенд.
— Ста пут юра’грин?
— Потому, что ты тоже меня просишь! Мне надоело слушать, как ты мараешь мой язык. Мне надоели насмешки. Мне надоели эти дураки, из которых ты вьешь веревки. Мне надоело смотреть, как ты оскверняешь мою добычу! Мою добычу!
Мгновение тишины. Звон в ушах.
— Нам обоим, — сказал Келлхус на хорошем шейском, — отвели почетное место. К нам обоим прислушиваются сильные мира сего. Чего еще ты желаешь?
— У меня всего одно желание.
— И мы вместе идем кратчайшим путем к…
Келлхус вдруг умолк. Воцарилось напряженное молчание.
— Ты собираешься уйти, — сказал наконец князь.
Смех, подобный волчьему рычанию.
— Незачем жить в одном якше.
Серве задохнулась. Шрам на ее руке, свазонд того обитателя равнин, приобретенный у гор Хетанты, вдруг вспыхнул жгучей болью.
«Нет-нет-нет-нет-нет…»
— Пройас, — сказал Келлхус все тем же бесцветным голосом. — Ты намерен встать одним лагерем с Пройасом.
«О господи, не-ет!»
— Я пришел за своими вещами, — сказал Найюр. — Я пришел за своей добычей.
Никогда еще за всю свою полную насилия жизнь Серве не ощущала такой опасности. У нее перехватило дыхание, и она застыла, боясь шелохнуться. Стояла пронзительная тишина. Три удара сердца понадобилось Келлхусу, чтобы ответить, и это время ее жизнь болталась, словно на виселице. Она знала, что умерла бы за него, — и знала, что умрет без него. Казалось, будто она всегда была рядом с ним, с самого детства. Серве оцепенела от страха.
А потом Келлхус сказал:
— Нет. Серве останется со мной.
Потрясенное облегчение. Горячие слезы. Твердая земля сделалась текучей, словно море. Серве едва не потеряла сознание. И голос, не принадлежавший ей, пробился сквозь мучения и восторг, произнеся: «Милосердие… Наконец-то милосердие…»
Она не слышала дальнейшего спора; неожиданное спасение и радость заглушали их ругань. Но они говорили недолго — не дольше, чем она плакала. Когда Келлхус вернулся в палатку, Серве бросилась к нему, осыпала его отчаянными поцелуями и так крепко прижалась к его сильному телу, что стало трудно дышать. Наконец усталость и потрясение все-таки взяли верх. Серве лежала, свернувшись клубочком, на пороге сладкого, детского сна и чувствовала, как загрубевшие, но нежные пальцы медленно гладят ее по щеке.
Бог коснулся ее. Оберегал ее с божественной любовью.
У тыльной стороны шатра неподвижно сидела, припав к земле, тварь, именуемая Сарцеллом. Мускусный запах ярости скюльвенда пропитал воздух: сладкий и резкий запах, пьянящий обещанием крови. От всхлипываний женщины у твари ныло в паху. Она вполне стоила того, чтобы пофантазировать на ее счет, если бы не отвратительный запах плода…
И тут нечто, заменявшее твари душу, пронзило подобие мысли.
Глава 11. Шайгек
«Если все, что происходит с людьми, имеет цель, значит, все действия людей имеют цель. Однако же, когда люди состязаются с людьми, ничья цель не достигается полностью: результат всегда находится где-то посередине. Следовательно, результат действий не проистекает из целей людей, поскольку люди всегда состязаются между собой. А это означает, что действия людей должны направляться кем-то иным, а не ими самими. Из этого следует, что все мы рабы.
Но кто же наш Господин?»
Мемгова, «Книга Божественных деяний»«Что такое практичность, как не умение предать одно ради другого?»
Триамис I, «Дневники и диалоги»4111 год Бивня, конец лета, южная Гедея
Гедея не столько закончилась, сколько исчезла. После десятков стычек и нескольких маловажных осад Коифус Атьеаури вместе со своими рыцарями помчался на юг, через обширное каменистое плато внутренней Гедеи. Они двигались вдоль гребней холмов, все время наверх. Они охотились на антилоп ради пропитания и на шакалов ради развлечения. По ночам они чувствовали дыхание Великой пустыни. Трава понемногу исчезла, уступив место пыли, щебню и кустарнику с резким запахом. Они ехали три дня, не встретив ни единой живой души, а потом наконец увидели дым у южного края горизонта. Они помчались вверх по склону — лишь затем, чтобы резко натянуть поводья, в испуге останавливая лошадей. Плато закончилось обрывом глубиной в добрую тысячу футов, если не больше. Противоположная сторона огромного откоса терялась вдали, в туманной дымке. А внизу по зеленой равнине текла, извиваясь и сверкая под солнцем, река Семпис.
Шайгек.
Древние киранейцы называли эти края Чемерат, Красная земля, — из-за ила цвета меди, во время половодья оседавшего по всей долине. В седой древности здесь находился центр империи, раскинувшейся от Сумны до Шайме. Деяния ее королей-богов вошли в легенды, а многие произведения так и остались непревзойденными по сей день, в том числе легендарные зиккураты. В недавнем прошлом она прославилась хитростью своих жрецов, изысканностью благовоний и действенностью ядов. А для Людей Бивня это была земля проклятий, склепов и руин.
Край, где прошлое сделалось источником страха — так далеко в глубь веков оно уходило.
Атьеаури со своими рыцарями спустился с откоса и поразился тому, как быстро пустыня сменилась плодородной почвой и зелеными деревьями. Опасаясь засады, он двигался вдоль древних насыпей от одной покинутой деревни к другой. В конце концов айнрити обнаружили старика, которому, видимо, нечего было бояться, и с некоторыми затруднениями выяснили, что Скаур с армией покинул северный берег. Вот откуда взялся дым, который они видели с обрыва. Сапатишах сжег все лодки, какие только смог отыскать.
Молодой граф Гаэнри отправил известие Великим Именам.
Две недели спустя первые колонны Священного воинства вошли в долину Семписа, не встретив на пути ни малейшего сопротивления. Отряды айнрити рассеялись вдоль реки, прибирая к рукам припасы и занимая оставленные кианцами укрепления. Кровь почти не лилась — поначалу.
На берегу реки Люди Бивня видели священных ибисов и серых цапель, бродящих в тростниках, и огромные стаи белых цапель, плещущихся в черной воде. Некоторые даже заметили крокодилов и гиппопотамов — зверей, которых в Шайгеке почитали священными. На небольшом отдалении от реки, в рощах разнообразных деревьев — эвкалиптов и платанов, финиковых и веерных пальм, — люди частенько натыкались на руины домов, колонны и стены, покрытые резными изображениями безымянных царей и их давно забытых завоеваний. Некоторые развалины оказались поистине колоссальными — останки дворцов или храмов, что некогда, как подумалось Людям Бивня, были под стать Андиаминским Высотам в Момемне или Юнриюме в Священной Сумне. Многие солдаты подолгу бродили там, размышляя о вечном.
Когда они проходили через селения, двигаясь вдоль земляных насыпей — их строили, чтобы отводить на поля воды разлившейся реки, — жители собирались, чтобы поглазеть на войско, шикая на детей и удерживая лающих собак. За века кианского владычества шайгекцы сделались правоверными фаним, но это был древний народ, земледельцы, испокон веков переживавшие своих господ. Они уже не узнавали себя в воинственных ликах, что глядели с полуразрушенных стен. И потому несли пиво, вино и воду, чтобы утолить жажду чужеземцев. Они отдавали финики, лук и свежевыпеченный хлеб, чтобы насытить их. А иногда даже предлагали дочерей для удовлетворения их похоти. Люди Бивня недоверчиво качали головами и восклицали, что здешний край — страна чудес. А некоторым вспоминалось, как они в молодости возвращались в отцовский дом после первой отлучки — из-за странного ощущения возвращения в страну, где никогда не бывали прежде.
Шайгек часто упоминался в «Трактате», вместе со слухами о тиране, что казался древним еще в те далекие дни. И некоторых айнрити стало терзать беспокойство — из-за того, что описание не соответствовало увиденному. Они мочились в реку, испражнялись под деревьями и били комаров. Эта земля была древней и печальной — но оставалась просто страной, такой же, как и все прочие. Однако большинство Людей Бивня все равно ощущали трепет. Каким бы священным ни был текст, пока земля остается незримой, слова лишь дразнят. Теперь же они, каждый на свой лад, поняли, что суть паломничества в том, чтобы совместить мир со Священным Писанием. Они сделали свой первый настоящий шаг.
И казалось, что Шайме совсем рядом.
Затем тидонец Керджулла, граф Варнутский, наткнулся на укрепленный городок Чиама. В прошлом году здесь случился недород из-за насекомых-вредителей, и старейшины городка, боясь голода, потребовали, чтобы айнрити дали определенные гарантии, прежде чем жители отопрут ворота. А Керджулла, не желая разговаривать, просто двинул людей на штурм — тем более что взять город не составляло особого труда. Прорвавшись за стены, варнутцы перебили всех местных жителей до единого.
Два дня спустя произошла другая резня, в Юриксе, крупной крепости на берегу реки. Судя по всему, шайгекский гарнизон, оставленный Скавром, взбунтовался и перебил кианских офицеров. Когда к городу прибыл со своими рыцарями Ураньянка, прославленный айнонский палатин Мозероту, мятежники отворили ворота — после чего их всех перебили. Как позднее Ураньянка объяснял Чеферамунни, язычников он еще может терпеть, но вот язычников-предателей вытерпеть не смог.
На следующее утро Гайдекки, неистовый палатин Анплейский, приказал штурмовать городок под названием Гутерат, расположенный неподалеку от одного из городов Древней династии, Иотии. Возможно, из-за того, что его переводчик, редкостный пьянчуга, неправильно изложил выдвинутые городом условия сдачи. Как только ворота пали, конрийцы принялись бесчинствовать на улицах, насилуя и убивая без разбора.
А затем, словно от первой крови пошла своя жестокая инерция, пребывание Священного воинства на северном берегу выродилось в бессмысленную бойню — хотя никто не понимал, чем она вызвана. Возможно, причиной послужили слухи об отравленных финиках и гранатах. Возможно, одно кровопролитие порождало другое. Возможно, искренняя вера не только прекрасна, но и ужасна. Что может быть более правильным и более добродетельным, чем искоренение ереси?
Вести о зверствах айнрити разнеслись по всему Шайгеку. У алтарей и на улицах жрецы Фана провозглашали, что Единый Бог карает их за терпимость к идолопоклонникам. Шайгекцы запирались в своих огромных храмах с высокими куполами. Вместе с женами и детьми они падали ниц на ковры и с причитаниями каялись в грехах, моля о прощении. Ответом им были лишь удары тарана в дверь. А затем — поток железных людей с мечами.
Все храмы северного берега пережили резню того или иного масштаба. Люди Бивня рубили кающихся грешников, пинками опрокидывали треножники, разбивали мраморные алтари, рвали в клочья драпировки на стенах и роскошные молитвенные ковры на полах. Все, на чем лежало пятно чужой религии, летело в колоссальные костры. Иногда они обнаруживали под коврами поразительной красоты мозаики работы тех айнрити, что некогда возводили здание, — и тогда сам храм щадили. Все прочие великие храмы Шайгека были сожжены. Рядом с чудовищными столбами дыма собаки обнюхивали сваленных в кучи мертвецов и слизывали кровь с широких ступеней.
В Иотии, что в ужасе поспешила распахнуть ворота перед захватчиками, сотни кератотиков, членов айнритийской секты, пережившей века господства фаним, спаслись только благодаря тому, что пели древние гимны Тысячи Храмов. Люди, причитавшие от ужаса, вдруг оказались в объятиях давно утраченных братьев по вере. Той ночью улицы принадлежали кератотикам; они вышибали двери и убивали давних конкурентов, нечестных откупщиков и вообще всех, кому завидовали во времена владычества сапатишаха. А завидовали они многим.
В красностенном Нагогрисе Люди Бивня начали убивать друг друга. Почти сразу после того, как Священное воинство добралось до Шайгека, здешние вельможи отправили посланцев к Икурею Конфасу, предложив сдать город в обмен на покровительство императора. Конфас немедля снарядил туда генерала Нумемария с отрядом кидрухилей. Но из-за некой необъяснимой ошибки ворота оказались захвачены крупным отрядом туньеров, которые тут же, не теряя времени, принялись грабить город. Кидрухили попытались вмешаться, и на улицах разгорелось сражение. Когда генерал Нумемарий встретился под белым флагом с Ялгротой Гибелью Шранков, великан размозжил ему голову. Смерть генерала внесла путаницу в ряды кидрухилей, а ярость светлобородых воинов подорвала их боевой дух, и кидрухили отступили.
Но никто не пострадал сильнее, чем фанимские жрецы.
По ночам, в свете костров из чужих реликвий, айнрити использовали жрецов для пьяных потех — вспарывали им животы и водили, словно мулов, на поводьях из собственных кишок. Некоторых ослепили, некоторых удавили, иных заставили смотреть, как насилуют их жен и дочерей. Иных сожгли заживо. Множество людей сожгли, обвинив в колдовстве. Вряд ли нашлось бы хоть одно селение, в котором нельзя было наткнуться на изувеченного жреца, валяющегося в пыли или со знанием дела приколоченного к могучему эвкалипту.
Так прошло две недели, а затем — внезапно, как будто исчерпалась некая мера — безумие схлынуло. В конечном итоге, погибла не такая уж большая часть населения Шайгека, но путнику невозможно было проехать и часа, не наткнувшись на мертвеца. Вместо скромных лодок рыбаков и торговцев на оскверненных водах Семписа теперь покачивались раздувшиеся трупы, и течение несло их в Менеанорское море.
Наконец-то Шайгек был очищен.
Отсюда, со смотровой площадки, зиккурат казался куда выше, чем с земли. Но то же самое можно сказать о многих вещах — постфактум.
Добравшись до вершины ненадежной лестницы, Келлхус принялся разглядывать окрестности. На север и на запад тянулись возделанные земли. Келлхус видел орошаемые поля, ряды платанов и ясеней и селения, казавшиеся издалека грудой битых черепков. Неподалеку высилось несколько зиккуратов поменьше, скреплявших сеть каналов и дамб, что уходили к затянутому дымкой гигантскому откосу. На юге, за зиккуратом Палпотис — так его назвал Ахкеймион, — взору Келлхуса предстали группки болотных гинкго, что стояли, словно согбенные часовые, среди зарослей песчаных ив. За ними блестел под солнцем могучий Семпис. А на востоке Келлхус видел красные полосы на зеленом фоне — свежепротоптанные тропинки и древние дороги среди тенистых рощиц и залитых солнцем полей. И все они вели к Иотии, темневшей на горизонте.
Шайгек. Еще одна древняя страна.
«Древняя и огромная, отец… Тебе она тоже видится такой?»
Он посмотрел вниз, на лестницу, дорожкой протянувшуюся по гигантской спине зиккурата, и увидел, что Ахкеймион все еще тащится по ступеням. Под мышками и на воротнике его белой льняной туники проступили пятна пота.
— А мне казалось, ты говорил, будто в древности люди верили, что на вершинах этих штуковин живут боги! — крикнул Келлхус. — Почему ты мешкаешь?
Ахкеймион остановился и нахмурился, оценив оставшийся путь. Тяжело дыша, он попытался улыбнуться.
— Потому, что в древности люди верили, что на вершинах этих штуковин живут боги…
Келлхус усмехнулся, затем повернулся и принялся рассматривать изрядно пострадавшую от времени площадку на вершине зиккурата. Древнее жилище богов пребывало не в лучшем состоянии: разрушенные стены и валяющиеся каменные глыбы. Он разглядел куски изображений и неразборчивые пиктограммы. Видимо, это были останки богов…
Вера воздвигла эти ступенчатые рукотворные горы — вера давным-давно умерших людей.
«Так много трудов, отец, — и все во имя заблуждения».
Келлхус не видел особого различия между древними заблуждениями и идеями Священного воинства. В некотором смысле это была более масштабная, хоть и более эфемерная работа.
За месяцы, прошедшие после выступления из Момемна, Келлхус заложил фундамент собственного зиккурата, постепенно, незаметно завоевав доверие сильных мира сего, возбудив подозрение в том, что он нечто большее — куда большее, — чем просто князь. С неохотой, подобающей мудрости и смирению, он в конце концов принял роль, которую ему навязывали другие. Учитывая все сопряженные с этим сложности, Келлхус изначально намеревался действовать осторожнее, но столкновение с Сарцеллом вынудило его ускорить развитие событий и пойти на риск, которого при ином раскладе он постарался бы избежать. Даже теперь — Келлхус это знал — Консульт следит за ним, изучает его и размышляет над его растущим влиянием. Ему нужно прибрать Священное воинство к рукам прежде, чем терпение Консульта истощится. Нужно построить зиккурат из этих людей.
«Ты тоже их видишь — ведь правда, отец? Это ведь за тобой они охотятся? Именно из-за них ты меня и вызвал?»
Оглядев окрестности, Келлхус заметил человека; тот гнал быков по тропинке в гору, стегая их через каждые три-четыре шага. Он увидел согбенные спины крестьян, трудящихся на полях, засеянных просом. В полумиле отсюда он различил отряд айнритийских всадников, едущих цепочкой через желтеющую пшеницу.
И любой из них мог оказаться шпионом Консульта.
— Сейен милостивый! — воскликнул Ахкеймион, добравшись до вершины.
Что сделает колдун, если узнает о его тайном конфликте с Консультом? Келлхус понимал, что нельзя допускать вмешательства Завета — во всяком случае, до тех пор, пока он не будет располагать такой силой, чтобы говорить с чародеями на равных.
Все так или иначе сводилось к силе.
— Так как эта штуковина называется? — спросил Келлхус, хотя он ничего не забывал.
— Великий зиккурат Ксийосер, — отозвался Ахкеймион, все еще тяжело дыша. — Одно из чудес Древней династии… Впечатляет, правда?
— Да, — согласился Келлхус с вымученным энтузиазмом.
«Ему должно стать стыдно».
— Тебя что-то беспокоит? — спросил Ахкеймион, упершись руками в колени. Он повернулся, чтобы сплюнуть с края зиккурата.
— Серве, — произнес Келлхус с таким видом, словно неохотно в чем-то признавался. — Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, способна ли она…
Он изобразил нервное сглатывание.
Ахкеймион отвернулся к подернутому дымкой пейзажу, но Келлхус успел заметить промелькнувшее на его лице выражение ужаса. Нервное поглаживание бороды, участившийся пульс…
— Способна на что? — спросил колдун с притворным безразличием.
Из всех душ, которыми завладел Келлхус, мало кто был полезен больше, чем Серве. Похоть и стыд оказались кратчайшими путями к сердцам людей, рожденных в миру. С тех пор как он подослал Серве к Ахкеймиону, колдун старался расплатиться за прегрешение, которое сам едва помнил, множеством разнообразных способов. Получается, старинная конрийская поговорка полностью соответствует действительности: нет друга великодушнее того, который соблазнил твою жену. А великодушие — это именно то, что ему нужно от Друза Ахкеймиона.
— Да нет, ничего, — отозвался Келлхус, покачав головой. — Наверное, все мужчины боятся, что их женщины продажны.
Некоторые возможности стоит разрабатывать постоянно, а некоторые нужно оставлять и давать им дозреть.
Стараясь не смотреть Келлхусу в глаза, колдун застонал и потер поясницу.
— Я становлюсь слишком стар для этого, — сказал он с притворным добродушием.
Потом откашлялся и еще раз сплюнул.
— Как говорит Эсми…
Эсменет. Она тоже часть игры.
После стольких месяцев тесного общения Келлхус знал Ахкеймиона куда лучше, чем сам Ахкеймион. Люди, любившие колдуна, — Ксинем и Эсменет — часто считали его слабым. Они старались делать вид, будто не замечают его дрожащих рук или болезненного выражения лица, и говорили о нем с почти родительским стремлением защитить. Но Друз Ахкеймион — Келлхус знал это — был куда сильнее, чем считали все, и прежде всего сам Друз Ахкеймион. Некоторые люди растрачивали себя на непрестанные сомнения и размышления, до тех пор, пока не начинало казаться, что у них вообще нет облика, за который они могли бы ухватиться. Некоторых людей словно бы отесывал грубый топор мира.
Испытывал.
— Скажи мне, — проговорил Келлхус, — сколь много должен отдавать наставник?
Он знал, что Ахкеймион давно уже перестал считать себя его наставником, но колдун был достаточно тщеславен, так что не стоило лишать его приятных иллюзий. Самая могучая лесть не в том, что сказано, а в допущениях, стоящих за тем, что сказано.
— А это, — отозвался Ахкеймион, снова отводя взгляд, — зависит от ученика…
— Значит, следует знать ученика, чтобы не дать ему слишком мало.
«Он должен сам задать себе этот вопрос».
— Или слишком много.
Такова была особенность мышления Ахкеймиона: для него не было ничего важнее противоречия и не существовало ничего очевидного. Он наслаждался, срывая покровы и обнажая сложности, скрывающиеся за простыми на первый взгляд вещами. В этом он был почти уникален: Келлхус обнаружил, что люди, рожденные в миру, презирают сложность почти так же сильно, как ценят самообман. Большинство из них предпочло бы умереть в иллюзии, чем жить с неопределенностью.
— Слишком много… — повторил Келлхус. — Ты имеешь в виду таких учеников, как Пройас?
Ахкеймион уставился на свои сандалии.
— Да. Таких, как Пройас.
— А чему ты его учил?
— Тому, что мы называем экзотерикой. Логике, истории, арифметике — всему, кроме эзотерики — колдовства.
— И этого оказалось слишком много?
Колдун озадаченно умолк; он вдруг перестал понимать, что же имеет в виду.
— Нет, — признал он мгновение спустя. — Думаю, нет. Я надеялся научить его сомнению, терпимости, но голос его веры оказался слишком силен. Возможно, если бы мне позволили довести его образование до конца… Но теперь он потерян. Теперь он всего лишь один из Людей Бивня.
«Дай ему возможность успокоиться».
Келлхус издал короткий смешок.
— Как я.
— Именно, — согласился адепт Завета, улыбнувшись лукавой и вместе с тем робкой улыбкой.
Как обнаружил Келлхус, окружающие находили эту улыбку подкупающей.
— Еще один кровожадный фанатик, — сказал колдун.
Келлхус рассмеялся смехом Ксинема, а потом, улыбаясь, пригляделся к Ахкеймиону. Он уже некоторое время изучал, как тот реагирует на тончайшие оттенки чувств, отраженных на его лице. Хотя Келлхус никогда не встречался с Инрау, он знал — с поразительной точностью — все особенности его поведения, так, что довольно было взгляда или улыбки, чтобы напомнить Ахкеймиону о нем.
Паро Инрау. Ученик, которого Ахкеймион потерял в Сумне. Ученик, которого он подвел.
— Есть разные виды фанатизма, — сказал Келлхус.
Глаза колдуна на миг округлились, потом сощурились при тревожной мысли об Инрау и событиях прошлого года — событиях, о которых Ахкеймион предпочел бы не думать.
«Завет должен стать для него не просто ненавистным господином. Он должен стать для него врагом».
— Но не все его виды равны, — отозвался Ахкеймион.
— Что ты имеешь в виду? Не равны по своим принципам или не равны по последствиям?
Инрау как раз и был таким последствием, так же как и бессчетные тысячи людей, погибших за последние дни. И теперь Келлхус наводил колдуна на мысль: «Твоя школа ничем не лучше».
— Истина, — сказал Ахкеймион. — Различие между ними — в истине. Неважно, от кого исходит фанатизм — от айнрити, Консульта или Завета. Результат один и тот же — люди страдают либо умирают. Вопрос в том, ради чего они страдают…
— Так, значит, цель — истинная цель — оправдывает страдания и даже смерть?
— Ты должен в это верить — иначе ты бы здесь не находился.
Келлхус улыбнулся — смущенно, словно застеснявшись того, что его разгадали.
— Значит, все упирается в истину. Если цель правильная…
— То она оправдывает все. Любое мучение, любое убийство…
Келлхус округлил глаза так, как это делал Инрау.
— Любое предательство? — подхватил он.
Ахкеймион внимательно взглянул на него, постаравшись сделать свое подвижное, выразительное лицо непроницаемым. Но Келлхус видел сквозь смуглую кожу, сквозь переплетение тонких мышц, даже сквозь душу, таящуюся внутри. Он видел тайны и муку, страстное стремление, пропитавшее собой три тысячелетия мудрости. Он видел ребенка, которого бил и изводил пьяный отец. Он видел сотни поколений нронских рыбаков, зажатых между голодом и безжалостным морем. Он видел Сесватху и безумие безнадежной войны. Он видел племена древних кетьянцев, хлынувшие с гор. Он видел животное, укоренившееся в глубине души, возбужденное, уходящее к незапамятным временам.
Он не видел, что пришло после; он видел, что было прежде…
— И предательство, — глухо повторил колдун.
«Он закрылся».
— Для тебя, — безжалостно продолжал Келлхус, — цель — это предотвращение Второго Апокалипсиса.
— Верно. В этом не может быть сомнений.
— Значит, во имя ее ты можешь совершить все, что угодно?
Глаза Ахкеймиона потускнели от страха, и Келлхус заметил промелькнувшее в них беспокойство, слишком мимолетное, чтобы сделаться вопросом. Колдун стал привыкать к продуктивности их бесед: они редко перескакивали от одной темы к другой, как сейчас.
— Странно, — сказал Ахкеймион, — отчего слова, которые один человек произносит с уверенностью, в устах другого звучат возмутительно, если не сказать — ужасно.
Неожиданный поворот, но это тоже вариант. «Более короткий путь».
— Сложный вопрос. Он доказывает, что убежденность сто́ит не дороже слов. Всякий может верить во что-то всей душой. Всякий может сказать то же самое, что сказал ты.
— И поэтому ты боишься, что я ничем не отличаюсь от прочих фанатиков?
— А ты отличаешься?
«Насколько глубока его убежденность?»
— Ты — действительно Предвестник, Келлхус. Если бы ты видел Сны Сесватхи, как я…
— Но разве Пройас не может сказать то же самое о своем фанатизме? Разве он не может сказать: «Если бы ты говорил с Майтанетом, как я»?
«Насколько далеко он способен зайти? Верит ли он всей душой?»
Колдун вздохнул и кивнул.
— Эта дилемма возникает всегда, не так ли?
— Но чья это дилемма? Моя или твоя?
«Готов ли он пойти дальше?»
Ахкеймион рассмеялся, но невыразительно — так смеются люди, пытающиеся преуменьшить свой страх.
— Это дилемма целого мира, Келлхус.
— Мне нужно нечто большее, Ахкеймион. Нечто посущественнее голословных утверждений.
«Пойдет ли он до конца?»
— Я не уверен…
— Что это — именно то, чего ты хочешь от меня? — воскликнул Келлхус, словно внезапно впадая в крайность.
Нерешительность Инрау прозвенела в его голосе. Ужас Инрау отразился в его глазах.
«Я должен этого добиться».
Колдун в ужасе уставился на него.
— Келлхус, я…
— Думай о том, что говоришь мне! Думай, Акка, думай! Ты утверждаешь, что я — признак Второго Апокалипсиса, что я — предвестье исчезновения рода человеческого!
Но, конечно же, Ахкеймион думал о нем больше…
— Нет, Келлхус… Это не все.
— Тогда что я такое? Чем ты меня считаешь?
— Я думаю… Мне кажется, возможно, ты…
— Что, Акка? Что?
— У всего есть цель! — раздраженно буркнул колдун. — Ты пришел ко мне зачем-то, даже если не осознаешь этого.
А вот это — Келлхус знал — истине не соответствовало. Если бы все события имели цель, их завершение определяло бы их начало, а такое невозможно. Все происходящее зависит от истока, а не от места назначения. То, что произошло прежде, формирует то, что произойдет потом. Его манипуляции рожденными в миру — достаточное тому доказательство… Даже если дуниане и допускают ошибки в своих теориях, их аксиомы остаются нерушимыми. Логос усложнился — только и всего. Даже колдовство, из которого он черпал по капле, подчинялось общим законам.
— И какова эта цель? — спросил Келлхус.
Ахкеймион заколебался, и, хотя он безмолвствовал, все в нем, от выражения лица до запаха и участившегося сердцебиения, кричало о панике. Он облизнул губы…
— Я думаю… спасение мира.
Ну вот, опять то же самое. Вечно одно и то же заблуждение.
— Так, значит, я — твоя причина? — спросил Келлхус, словно не веря своим ушам. — Я — та истина, которая оправдывает твой фанатизм?
Ахкеймион в ужасе смотрел на ученика. Упиваясь выражением его лица, Келлхус наблюдал, как предположения падают на душу колдуна и просачиваются сквозь нее, увлекаемые собственным весом, к одному-единственному, неизбежному выводу.
«Все, что угодно… По его же собственному признанию, он должен совершить все, что угодно».
Даже отдать Гнозис.
«Насколько же могущественным ты стал, отец?»
Ахкеймион внезапно встал и двинулся вниз по монументальной лестнице. Он преодолевал каждую ступеньку устало и неторопливо, как будто считал их. Шайгекский ветер ерошил блестящие черные волосы. Когда Келлхус окликнул его, в ответ он сказал лишь:
— Я устал от высоты.
Келлхусу следовало догадаться, что этим все и закончится.
…Генерал Мартем считал себя человеком практичным. Он всегда дотошно изучал стоящую перед ним задачу, а затем методично двигался к поставленной цели. Он не принадлежал к знати по праву рождения, в детстве его не баловали, и потому ничто не затуманивало его суждений. Он просто смотрел, оценивал и действовал. Мир не так уж сложен, говорил генерал своим подчиненным, если сохранять ясный рассудок и безжалостную практичность.
Смотреть. Оценивать. Действовать.
Он всю жизнь прожил, опираясь на эту философию. Как же легко оказалось ее подорвать…
Поначалу поставленная задача представлялась простой, хоть и несколько необычной. Следить за Анасуримбором Келлхусом, князем Атритау, и попытаться войти к нему в доверие. Если этот человек собирает сторонников для свершения коварных планов, как предполагал Конфас, то нансурский генерал, страдающий кризисом веры, окажется для него лакомым кусочком.
А вышло все не так. Мартем посетил добрую дюжину его вечерних проповедей, или «импровизаций», как их называли, прежде чем этот человек удостоил его хотя бы словом.
Конечно же, Конфас, всегда возлагавший вину на исполнителей, считал, что все дело в Мартеме. Не могло быть никаких сомнений в том, что Келлхус — кишаурим, поскольку он имел связь со Скеаосом, а Скеаос был кишаурим. Не вызывало сомнений и то, что князь строит из себя пророка — во всяком случае, после инцидента с Саубоном это стало очевидным. И ему совершенно неоткуда было узнать, что Мартем — всего лишь наживка, поскольку Конфас не делился своим планом ни с кем, кроме самого генерала. Следовательно, в неудаче повинен Мартем, даже если он слишком упрям, чтобы признать это.
Но это была лишь еще одна из бесчисленных несправедливостей со стороны Конфаса. Даже если бы Мартем давал себе труд обижаться на него, что было не в его духе, сейчас ему хватало других забот — он боялся.
Он сам толком не понимал, когда это произошло, но в какой-то момент их длинного пути через Гедею Мартем перестал верить, что князь Атритау просто разыгрывает из себя пророка. Мартем, конечно же, не решил, что этот человек — настоящий пророк, нет, но он теперь не знал, что и думать…
А вскоре он понял — и ужаснулся. Мартем от природы был человеком верным и ценил свое положение советника Икурея Конфаса. Он часто думал, что затем и родился на свет, чтобы служить деятельному экзальт-генералу, чтобы уравновешивать несомненный гений этого человека более приземленными замечаниями. «Таланту нужно напоминать о практичности», — часто думал Мартем. Какими бы восхитительными ни были пряности, без соли не обойдешься.
Но если Келлхус на самом деле… Что тогда станет с его верностью?
Мартем размышлял об этом, сидя среди тысяч вспотевших людей, что сошлись послушать проповедь — первую после безумия, которым сопровождалось прибытие в Шайгек. Впереди высился древний Ксийосер, Великий зиккурат, гора отполированного черного камня — столь огромная, что при виде ее казалось уместным спрятать лицо и упасть ниц. Вокруг раскинулась плодородная долина дельты Семписа, усыпанная зиккуратами поменьше, рукавами реки, болотами, поросшими тростником, и бесконечными рисовыми полями. В безоблачном небе пылало добела раскаленное солнце.
Собравшиеся люди смеялись и разговаривали. Некоторое время Мартем наблюдал, как сидящая перед ним пара делит скромную трапезу, состоящую из хлеба и лука. Потом он понял, что люди вокруг старательно избегают его взгляда. Он подумал, что их, быть может, пугает его форма и синий плащ, придающие ему вид знатного дворянина. Мартем переводил взгляд с одного соседа на другого и пытался сообразить, что бы такого им сказать, чтобы они успокоились. Но он так и не смог заставить себя завести разговор.
Его затопило ощущение одиночества. Он снова подумал о Конфасе.
Потом он увидел вдалеке князя Келлхуса — тот спускался по колоссальной лестнице Ксийосера. Мартем заулыбался, как будто встретил в толчее чужеземного базара старого друга.
«Что он скажет?»
Когда Мартем только начинал посещать импровизации, он полагал, что Келлхус будет вести либо еретические речи, либо такие, от которых можно легко отмахнуться. Но оказалось иначе. Князь Келлхус повторял слова Древних Пророков и Айнри Сейена так, словно они были его собственными. Ничего из сказанного им не противоречило бесчисленным проповедям, которые Мартему доводилось слышать, — хотя сами эти проповеди частенько противоречили друг другу. Казалось, будто князь ищет некие истины, некие невысказанные смыслы того, во что верят благочестивые айнрити.
Слушать его было все равно что узнавать то, что ты уже подсознательно знал и так.
«Божий князь» — так называли его некоторые. «Изливающий свет».
Его белое шелковое одеяние сияло в лучах солнца. Князь остановился, немного не дойдя до конца лестницы, и оглядел волнующуюся толпу. В его облике сквозило великолепие, как будто Келлхус сошел не с зиккурата, а с небес. Внезапно Мартему сделалось страшно: он осознал, что не видел ни как этот человек поднимался на зиккурат, ни как он спускался с вершины колоссальной постройки. Он просто… просто заметил его.
Генерал обозвал себя дураком.
— Пророк Ангешраэль, — изрек князь Келлхус, — спустился с горы Эшки, где он постился.
Толпа мгновенно смолкла; сделалось так тихо, что Мартем слышал шум ветра.
— Хузьелт — так говорит нам Бивень — послал ему зайца, чтобы Ангешраэль мог наконец-то поесть. Пророк освежевал зайца, дар Хузьелта, и развел костер, чтобы насладиться трапезой. Когда он поел и был доволен, божественный Хузьелт, Святой Охотник, присоединился к нему у костра, ибо в те дни боги еще не отдали мир на попечение людей. Ангешраэль, узнав в нем Бога, тут же упал на колени рядом с костром, не думая, куда опустит лицо.
Принц вдруг улыбнулся.
— Словно юноша в брачную ночь, он промазал из-за охватившего его пыла…
Мартем расхохотался вместе с тысячной толпой. Как-то так получилось, что солнце запылало еще ярче.
— И Бог спросил: «Почему наш пророк опустился лишь на колени? Разве пророки людей не подобны прочим людям? Разве не подобает им падать ниц?» Ангешраэль ответил: «Но передо мной огонь». На что несравненный Хузьелт сказал: «Огонь горит на земле, и то, что поглощает огонь, становится землей. Я — твой Бог. Пади же ниц».
Князь сделал паузу.
— И тогда Ангешраэль — так говорит нам Бивень — опустил лицо в пламя.
Невзирая на душный, влажный воздух, Мартема охватила дрожь. Сколько раз — особенно в детстве, — когда он смотрел на костер, ему приходила мысль опустить лицо в огонь — чтобы почувствовать то же, что когда-то чувствовал пророк.
Ангешраэль. Сожженный Пророк. «Он опустил лицо в огонь! В огонь!»
— Подобно Ангешраэлю, — продолжал князь, — мы опускаемся на колени перед костром…
Мартем затаил дыхание. Жар хлынул сквозь него — или ему показалось?
— Истина! — воскликнул князь Келлхус так, словно называл имя, знакомое каждому человеку. — Огонь истины! Истины того, кем вы являетесь…
Голос его звучал гулко.
— Вы слабы. Вы одиноки. Вы не любите того, кого вам следовало бы любить. Вы вожделеете непотребств. Вы боитесь даже собственных братьев. Вы понимаете куда меньше, чем делаете вид…
Келлхус вскинул руку, словно добиваясь от собравшихся еще большей тишины.
— Вот что вы есть. Слабость, одиночество, незнание, похоть, страх и непонимание. Но даже сейчас вы способны ощущать огонь истины. Даже сейчас он снедает вас!
Он опустил руку.
— Но вы не падаете ниц. Нет, не падаете…
Взгляд его блестящих глаз остановился на Мартеме, и генерал почувствовал, как у него сдавило горло, почувствовал, как стучит молоточек сердца, пригоняя кровь к лицу.
«Он смотрит мне в душу. Он свидетельствует…»
— Но почему? — вопросил князь, и в голосе его слышалась непостижимая старая мука. — В муке огня таится Бог. А в Боге кроется избавление. Каждый из вас владеет ключом к собственному спасению. Вы уже стоите на коленях. Но вы до сих пор не пали ниц и не коснулись лицом земли. Вы слабы. Вы одиноки. Вы не знаете тех, кто любит вас. Вы вожделеете непотребств. Вы боитесь даже собственных братьев. И вы понимаете куда меньше, чем делаете вид!
Мартем скривился. Эти слова наполнили его болью, а мысли закружились вихрем от понимания чего-то и знакомого, и неведомого одновременно. «Это я… он говорит обо мне!»
— Есть ли среди вас тот, кто станет это отрицать?
Тишина. Кто-то заплакал.
— Но вы это отрицаете! — воскликнул князь Келлхус, словно любовник, столкнувшийся с женской неверностью. — Все вы! Вы опускаетесь на колени, но жульничаете — жульничаете с огнем собственного сердца! Вы извергаете ложь за ложью, крича, что этот огонь — не истина. Что вы сильны. Что вы не одиноки. Что вы знаете тех, кто вас любит. Что вы не вожделеете непотребств. Что вы не боитесь своих братьев. Что вы понимаете все!
Сколько раз Мартему доводилось лгать подобным образом? Мартем Практичный. Мартем Реалист. Сколько раз он был таким, если прекрасно понимает слова князя Келлхуса?
— Но в тайные моменты — да, в тайные моменты — эти отрицания звучат неискренне — верно? В тайные моменты вы видите, что ваша жизнь — фарс. И вы плачете! И вы спрашиваете, что не так! И вы восклицаете: «Почему я не могу быть сильным?»
Он спрыгнул вниз на несколько ступенек.
«Почему я не могу быть сильным?»
У Мартема заболело горло, словно он сам выкрикнул эти слова.
— Да потому, — негромко произнес князь, — что вы лжете.
И Мартем исступленно подумал: «Кожа и волосы… Он всего лишь человек!»
— Вы слабы потому, что притворяетесь сильными.
Теперь его голос сделался бесплотным, он словно шептал на ухо каждому из тысячи присутствующих.
— Вы одиноки потому, что непрестанно лжете. Вы вожделеете непотребств потому, что не сознаетесь в своей похоти. Вы боитесь брата, ибо боитесь того, что он видит. Вы мало понимаете — ведь для того, чтобы научиться чему-то, вы должны признать, что ничего не знаете.
Как можно уместить всю жизнь на ладони?
— Вы видите трагедию? — умоляюще вопросил князь. — Писания велят нам быть как боги, быть большим, чем мы есть. А что мы такое? Слабые люди со сварливыми, завистливыми сердцами, задыхающиеся под саваном собственной лжи. Люди, которые остаются слабыми, потому что не могут сознаться в собственной слабости.
И это слово — «слабость» — будто сорвалось с небес, пришло откуда-то извне, и на миг человек, произнесший его, стал уже не человеком, а земной оболочкой чего-то неизмеримо большего. «Слабость…» Слово, слетевшее не с человеческих уст… И Мартем понял.
«Я нахожусь в присутствии Бога».
Ужас и блаженство.
Гнев его глаз. Сияние его кожи. Повсюду.
Присутствие Бога.
Наконец-то остановиться, оказаться связанным тем, что скрепляет весь мир, и увидеть, как низко ты пал. И Мартему показалось, что он впервые находится здесь, как будто на самом деле быть собой — быть здесь! — возможно лишь в присутствии ясности, которая есть Бог.
Здесь…
Невозможность втянуть сладкий воздух солеными губами. Тайна взволнованной души и хитрого разума. Притягательность накопившихся страстей. Невозможность.
Невозможность…
Чудо пребывания здесь.
— Опуститесь на колени вместе со мной, — произнес голос ниоткуда. — Возьмите меня за руку и не бойтесь. Опустите лицо в горнило.
Момент для завершающих слов был подготовлен — для слов, что восходили к священному писанию его сердца. Момент восторга.
Люди закричали, и Мартем вскрикнул вместе со всеми. Некоторые плакали, не таясь, и Мартем плакал вместе с ними. Другие тянули руки к Келлхусу, словно пытаясь удержать его образ. Мартем поднял два пальца, чтобы коснуться далекого лица.
Он не мог сказать, как долго Келлхус говорил. Но он говорил о многом, и куда бы ни ступала его нога, мир вокруг изменялся. «Что это означает — быть воином? Разве война — не огонь? Не горнило? Разве война не есть самое верное свидетельство нашей слабости?» Он даже научил их гимну, который, как он сказал, явился ему во сне. И песня тронула их так, как могла тронуть только песня извне. Гимн богам. До скончания своих дней Мартем будет, просыпаясь, слышать эту песню.
А потом, когда люди столпились вокруг Келлхуса, падая на колени и осторожно целуя край белого одеяния, он велел им встать, напомнив, что он — всего лишь человек, такой же, как и все прочие. И в конце концов, когда людской поток донес Мартема до князя, невозможные голубые глаза мягко взглянули на него, не обращая внимания ни на позолоченную кирасу, ни на синий плащ, ни на знаки общественного положения.
— Я ждал вас, генерал.
Взволнованный гул толпы вдруг сделался далеким, хотя вокруг по-прежнему бушевало людское море. Мартем мог лишь глядеть — лишившийся дара речи, трепещущий от благоговения и преисполненный благодарности…
— Вас послал Конфас. Но теперь все изменилось. Верно?
И Мартем почувствовал себя, словно ребенок перед отцом, не в силах ни солгать, ни сказать правду.
Пророк кивнул, как будто что-то услышал.
— И что же теперь будет с вашей верностью?
Где-то вдали, на грани слышимости, закричали люди. Мартем смотрел, как пророк повернул голову, поднял руку, окруженную золотистым ореолом, и поймал несущийся на него кулак, в котором был зажат длинный нож.
«Покушение», — безучастно подумал Мартем.
Человека, что стоял сейчас перед ним, невозможно убить. Теперь Мартем это знал.
Толпа пригвоздила незадачливого убийцу к земле. Мартем успел заметить окровавленное лицо…
Пророк снова повернулся к нему.
— Я не стану рвать твое сердце надвое, — сказал он. — Приходи ко мне снова — когда будешь готов.
— Я вас предупреждаю, Пройас. С этим человеком необходимо что-то делать.
Икурей Конфас вложил в слова больше чувств, чем намеревался. Но таковы уж нынешние времена, провоцирующие сильные чувства.
Конрийский принц откинулся на спинку походного стула и невозмутимо взглянул на него, рассеянно теребя аккуратно подстриженную бороду.
— И что вы предлагаете?
«Ну наконец-то».
— Созвать в полном составе совет Великих и Малых имен.
— И?
— И выдвинуть против него обвинения.
Пройас нахмурился.
— Обвинения? Какие обвинения?
— Обвинения по закону Бивня. По древнему закону.
— Ага, ясно. И в чем же вы собираетесь обвинить князя Келлхуса?
— В подстрекательстве к богохульству. В том, что он строит из себя пророка.
Пройас кивнул.
— Иными словами, — язвительно произнес он, — в том, что он — лжепророк.
Конфас недоверчиво рассмеялся. Ему вспомнилось, как когда-то — теперь ему казалось, что это было давным-давно, — он думал, что во время Священной войны они с Пройасом подружатся и вместе станут знамениты. Они оба красивы. Они почти ровесники. Их считали, каждого в своей стране, равно подающими надежды — до того, как он разбил скюльвендов в битве при Кийуте.
«У меня нет равных».
— Можно ли найти более подходящее случаю обвинение? — спросил Конфас.
— Я согласен обсуждать, как нам лучше переправиться на южный берег и захватить Скаура врасплох, — раздраженно ответил Пройас. — Но я не согласен обсуждать благочестие человека, которого считаю своим другом.
Хотя шатер Пройаса был большим и богато обставленным, в нем было темно и невыносимо жарко. В отличие от прочих, сменивших палатки на мрамор покинутых хозяевами вилл, Пройас продолжал жить так, словно он по-прежнему в походе.
«Фанатик несчастный».
— Вы слыхали о проповедях у Ксийосера? — спросил Конфас, а про себя подумал: «Мартем, ты дурак…»
Но в том-то и беда. Мартем — отнюдь не дурак. Конфасу трудно было представить человека, менее подходящего под это определение…
— Слышал, слышал, — со вздохом отозвался Пройас. — Меня много раз приглашали туда, но я очень занят.
— Я думаю… А вы в курсе, что множество людей самых разных сословий и званий — и мои люди, и ваши — именуют его Воином-Пророком? Воином-Пророком!
— Да. Мне это известно, — отозвался Пройас с тем же снисходительно-нетерпеливым видом, что и прежде, но брови его тревожно сошлись к переносице.
— Изначально предполагалось, — сказал Конфас, делая вид, будто еле сдерживается, — что это — Священная война в честь Последнего Пророка… Айнри Сейена. Но если число сторонников этого мошенника и дальше будет увеличиваться, вскоре она превратится в Священную войну Воина-Пророка. Вы меня понимаете?
Мертвые пророки бывают полезны, поскольку от их имени удобно править. Но живые пророки? Пророки-кишаурим?
«Может, стоит рассказать ему, что произошло со Скеаосом?»
Пройас устало покачал головой.
— И что вы хотите, чтобы я сделал, а, Конфас? Келлхус… не похож на прочих людей. В этом не может быть сомнений. И ему являются вещие сны. Но он не считает себя пророком. И сердится, когда другие называют его так.
— И что? Он, выходит, должен направо и налево кричать, что он лжепророк? Того, что он им является, недостаточно?
На лице Пройаса отразилась боль. Он прищурился и оглядел Конфаса, словно оценивая, насколько хороши его доспехи.
— А почему это вас так беспокоит? Уж вас-то не назовешь благочестивым человеком.
«Что бы ты сделал, дядя? Стал бы ты рассказывать ему эту историю?»
Конфасу захотелось сплюнуть, но он подавил этот порыв и лишь провел языком по зубам. Он презирал нерешительность.
— Мое благочестие тут совершенно ни при чем.
Пройас с силой вдохнул и так же с силой выдохнул.
— Я провел много времени в обществе этого человека, Конфас. Мы вместе читали вслух «Хроники Бивня» и «Трактат», и ни разу я не заметил в его речах даже проблеска ереси. На самом деле Келлхус, возможно, самый благочестивый человек из всех, кого я когда-либо встречал. То, что другие стали называть его пророком, — это тревожный признак, не спорю. Но он тут не виноват. Люди слабы, Конфас. Так ли удивительно, что они смотрят на Келлхуса и видят в его силе нечто большее, чем есть на самом деле?
На лице Конфаса невольно отразилось презрение.
— Даже вы… Он поймал в ловушку даже вас.
Что же он за человек? Хотя Конфасу до жути не хотелось этого признавать, встреча с Мартемом потрясла его до глубины души. Каким-то образом за считаные дни князю Келлхусу удалось превратить самого надежного из его людей в несущего чушь недоумка. Истина! Слабость людей! Горнило!
Что за чепуха! Но однако эта чепуха расползалась по Священному воинству, словно пятно крови по ткани. А раной был князь Атритау. И если он действительно шпион кишаурим, как того опасается дражайший дядюшка Ксерий, рана вполне может оказаться смертельной.
Пройас обозлился и ответил презрением на презрение.
— Поймал в ловушку! — фыркнул он. — Конечно же, вам все видится именно так. Честолюбцы никогда не понимают благочестия. С их точки зрения, цель должна быть мирской, иначе она неразумна.
Конфасу показалось, что эти слова прозвучали несколько натянуто.
«По крайней мере, мне удалось заронить в его душу зерно сомнения».
— Да, чувствуется, что это сказал человек, которого хорошо кормят, — огрызнулся Конфас и развернулся, собираясь уходить.
Хватит идиотов на сегодня.
Но у самого выхода его настиг голос Пройаса.
— Последний вопрос, экзальт-генерал.
Конфас обернулся, полуприкрыв глаза и подняв брови.
— Да?
— Вы слыхали о покушении на князя Келлхуса?
— Вы хотите сказать, что в этом мире нашелся еще один здравомыслящий человек?
Пройас криво улыбнулся. На миг в его глазах вспыхнула подлинная ненависть.
— Князь Келлхус сказал мне, что человек, пытавшийся его убить, был нансурцем. Точнее, одним из ваших офицеров.
Конфас тупо уставился на собеседника, понимая, что его одурачили. Все эти вопросы… Пройас расспрашивал его исключительно затем, чтобы посмотреть, имелись ли у него мотивы для покушения. Конфас мысленно обозвал себя идиотом. Фанатик он или нет, но Нерсей Пройас — не тот человек, которого можно недооценивать.
«Это начинает превращаться в кошмар».
— И что? — спросил Конфас. — Вы предлагаете арестовать меня?
— Предложили же вы арестовать князя Келлхуса.
— Вам предстоит узнать, что арестовать армию не так-то просто.
— Я не вижу никакой армии.
Конфас усмехнулся.
— Увидите.
Конечно же, Пройас ничего не мог предпринять, даже если бы убийца прожил достаточно долго, чтобы назвать имя Конфаса. Священное воинство нуждалось в империи.
И все-таки это был урок, который следовало усвоить. Война — это интеллект. Он еще покажет князю Келлхусу, что…
Когда Конфас вышел из шатра, кидрухили вытянулись по стойке «смирно». Из предосторожности экзальт-генерал прихватил с собой в качестве эскорта две сотни тяжелых кавалеристов. Великие Имена были рассеяны от Нагогриса на краю Великой пустыни до Иотии в дельте Семписа, а Скаур высылал отряды на северный берег, чтобы не давать покоя завоевателям. Не хватало еще погибнуть или попасть в плен. К тому же проблема, которую представлял из себя Анасуримбор Келлхус, пока оставалась скорее теоретической.
Адьютанты подвели принцу коня; Конфас поискал взглядом Мартема и обнаружил его среди кавалеристов. Генерал всегда предпочитал обществу офицеров общество простых солдат. Когда-то Конфас считал эту привычку странной причудой — теперь же он находил ее раздражающей, если не бунтарской.
«Мартем… Что с тобой случилось?»
Конфас вскочил на вороного и подъехал к Мартему. Тот молча наблюдал за его приближением, не выказывая страха.
Конфас, подобно скюльвенду, плюнул под копыта генеральского коня. Затем оглянулся на шатер Пройаса, на вышитых орлов, раскинувших черные крылья на потрепанном белом холсте, и на стражников, что с подозрением следили за ним и его людьми. Слабый ветерок шевелил знамя с орлом дома Нерсеев, а за ним виднелся вдали крутой южный берег.
Конфас повернулся к своенравному генералу.
— Похоже, — яростно прошипел он, — ты — не единственная жертва чар этого шпиона, Мартем… Когда ты убьешь Воина-Пророка, ты отомстишь за многих, очень многих.
Глава 12. Иотия
«…И земля содрогнется от стенаний нечестивцев, и идолы их будут сброшены и разбиты. И демоны идолопоклонников распахнут свои рты, подобно умирающим прокаженным, ибо никто из людей не откликнется на их чудовищный голод».
«Свидетельство Фана». 16:4:22«И хоть вы теряете душу, вы приобретете весь мир».
Катехизис Завета4111 год Бивня, конец лета, Шайгек
Ксинем никогда особо не любил этого человека и не доверял ему, но как-то так вышло, что ему пришлось с ним беседовать. Этот человек, Теришат, барон с сомнительной репутацией, чьи владения располагались на границе Конрии и Верхнего Айнона, перехватил Ксинема, когда тот шел с совещания у Пройаса. При виде Ксинема худощавое, обрамленное бородкой лицо барона просияло, и на нем появилось выражение «о, какая удача!». Ксинему свойственно было терпеливо обращаться даже с теми, кого он недолюбливал, но недоверие — это уже вопрос другой. Впрочем, это лишь одно из тех незначительных унижений, которые приходится переносить благочестивому человеку.
— Кажется, я припоминаю, лорд-маршал, что вы питаете слабость к книгам, — изрек Теришат, стараясь поспеть за размашисто шагающим Ксинемом.
Неизменно вежливый Ксинем кивнул.
— Благоприобретенная привычка.
— Тогда вас, должно быть, не оставила равнодушным весть о том, что галеоты захватили в Иотии знаменитую Сареотскую библиотеку, в целости и сохранности.
— Галеоты? Я думал, айноны.
— Нет, — отозвался Теришат, растягивая губы в странной кривой улыбке. — Я слыхал, что это были галеоты. Точнее, люди самого Саубона.
— Понятно, — нетерпеливо буркнул Ксинем. — Что ж, тогда…
— Я понимаю, лорд-маршал, вы человек занятой. Не волнуйтесь… Я пришлю к вам своего раба попросить об аудиенции.
Столкнуться с Теришатом уже само по себе неприятно — но еще и страдать от официального приема?
— Для вас, барон, у меня всегда найдется время.
— Отлично! — почти что взвизгнул Теришат. — Тогда… Недавно один мой друг… ну, пожалуй, пока он мне не друг, но я… я…
— Но вы надеетесь снискать благоволение этого человека, так, Теришат?
Барон одновременно просиял и скривился.
— Да! Хотя это звучит несколько неделикатно — вам не кажется?
Ксинем ничего не ответил, лишь двинулся дальше, упорно глядя на маячивший впереди купол своего шатра. За ним виднелись окутанные дымкой холмы Гедеи. «Шайгек, — подумал Ксинем. — Мы взяли Шайгек!» По неведомой причине его вдруг охватило ощущение, что скоро, невероятно скоро он увидит раскинувшийся перед ним священный Шайме. «Свершаются великие дела…» Одного этого почти хватило Ксинему, чтобы почувствовать некую приязнь к Теришату. Почти.
— Ну, этот мой друг — он только что вернулся из Сареотской библиотеки — спросил меня, что такое «гнозис».
Ксинем остановился и внимательно взглянул на увязавшегося за ним человечка.
— Гнозисом, — осторожно произнес он, — называют колдовство Древнего Севера.
— Ах, вот оно что! — воскликнул Теришат. — Да, это звучит осмысленно.
— А что понадобилось вашему другу в библиотеке?
— Ну, вы же слыхали — поговаривают, будто Саубон может продать книги, чтобы разжиться деньгами.
До Ксинема ничего подобного не доходило, и это его обеспокоило.
— Сомневаюсь, чтобы прочие Великие Имена это одобрили. Ну так что, этот ваш друг уже начал составлять каталог?
— Он отличается редкостной предприимчивостью, лорд-маршал. Толковый человек знает, когда кто-то заинтересован в прибыли, — если вы понимаете, о чем я…
— Пес из касты торговцев — несомненно, — без обиняков отрезал Ксинем. — Позвольте дать вам совет, Теришат: не забывайте о своем положении.
Но Теришат, вместо того чтобы оскорбиться, насмешливо ухмыльнулся.
— Ну, лорд-маршал, — произнес он тоном, лишенным всякого почтения, — вам ли говорить!
Ксинем поморщился; его поразила не столько наглость Теришата, сколько собственное лицемерие. Да уж, человеку, делящему трапезу с колдуном, не пристало упрекать другого в том, что он заискивает перед торгашом. Внезапно гул конрийского лагеря показался ему оглушительным. Маршал Аттремпа свирепо уставился на Теришата и смотрел до тех пор, пока этот дурень не занервничал и, пробормотав неискренние извинения, не ринулся прочь.
По дороге к шатру Ксинем думал об Ахкеймионе, добром и давнем друге. А еще он подумал о своей касте и поразился тому, как у него противно засосало под ложечкой, когда он вспомнил слова Теришата: «Вам ли говорить».
«И сколько людей думает так же, как он?»
В последнее время их отношения с Ахкеймионом сделались натянутыми — Ксинем понимал это. Пожалуй, им обоим будет лишь на пользу, если Ахкеймион уедет на несколько дней.
В библиотеку. Изучать богохульство.
— Я не понимаю, — гневно произнесла Эсменет.
«Он покидает меня…»
Ахкеймион взвалил на спину мула джутовый мешок с овсом. Его мул, Рассвет, с серьезным видом взирал на хозяина. Позади на склонах раскинулся лагерь; шатры и палатки рассыпались среди небольших рощиц ив и тополей. Эсменет видела вдали Семпис, сверкающий под палящим солнцем подобно обсидиановой мозаике. И всякий раз, глядя на затянутый дымкой южный берег, Эсменет чувствовала, что язычники наблюдают за ними.
— Я не понимаю, Акка, — повторила она, на этот раз жалобно.
— Но, Эсми…
— Что — но?
Ахкеймион, снедаемый раздражением и тревогой, повернулся к ней:
— Это библиотека. Библиотека!
— И что? — запальчиво поинтересовалась Эсменет. — Неграмотным нечего…
— Нет! — помрачнев, отрезал Ахкеймион. — Нет! Послушай, мне нужно несколько дней побыть одному. Мне нужно время, чтобы подумать. Чтобы подумать, Эсми!
Отчаяние, прозвучавшее в его голосе, так поразило Эсменет, что она на миг умолкла.
— О Келлхусе, — сказала она после паузы.
У нее начало покалывать кожу головы.
— О Келлхусе, — согласился Ахкеймион.
Он откашлялся и сплюнул в пыль.
— Он тебя попросил — верно?
Что-то сдавило грудь Эсменет. Неужто это возможно?
Ахкеймион ничего не сказал, но в его движениях появилась едва заметная безжалостность, а в глазах — пустота. Эсменет вдруг поняла, что изучила его, словно песню, спетую много раз. Она его знала.
— О чем попросил? — в конце концов осведомился Ахкеймион, привязывая циновку к седлу.
— Научить его Гнозису.
С того момента, когда конрийские отряды вошли в долину Семписа, — или даже с той ночи, когда произошел случай с куклой, — Ахкеймиона, похоже, охватило странное оцепенение, напряжение, не позволявшее ему ни смеяться, ни заниматься любовью дольше считаных мгновений. Но Эсменет полагала, что причиной тому была его ссора с Ксинемом и возникшее между ними отчуждение.
Несколько дней назад она подошла с этим делом к маршалу и рассказала о предчувствиях, терзающих его друга. Да, Ахкеймион поступил возмутительно, но сделал это по глупости.
— Он пытается забыть, Ксин, но не может. Каждое утро он плачет, а я успокаиваю его. Каждое утро мне приходится напоминать ему, что Апокалипсис остался в прошлом… Он думает, что Келлхус — Предвестник.
Но Ксинем, насколько поняла Эсменет, всегда знал об этом. Его тон, слова, поведение — все было преисполнено терпения, все, кроме взгляда. Его глаза не желали прислушиваться, и Эсменет поняла, что корень бед лежит куда глубже. Ахкеймион сказал однажды, что такой человек, как Ксинем, рискует многим, взяв в друзья колдуна.
Она никогда не давила на Ахкеймиона; самое большее, что она себе позволяла, — это мягкие напоминания типа «ну ты же знаешь, что он о тебе беспокоится». Обиды мужчин недолговечны. Ахкеймион любил говорить, будто мужчины — существа простые и незатейливые и что женщинам достаточно кормить их, трахать и льстить им, чтобы они были счастливы. Возможно, с некоторыми мужчинами дело и вправду обстояло именно так, но к Друзу Ахкеймиону это точно не относилось. Поэтому Эсменет ждала, понадеявшись, что время и привычка вернут старым друзьям прежнее взаимопонимание.
Ей даже в голову не приходило, что причиной страданий Ахкеймиона может оказаться Келлхус, а не Ксинем. Келлхус святой — теперь она в этом не сомневалась. Он был пророком, вне зависимости от того, верил он в это сам или нет. А колдовство нечестиво…
Как там выразился Ахкеймион?
Он станет богом-колдуном.
Ахкеймион продолжал возиться со своими вещами. Он не произнес ни слова. Ему это было не нужно.
— Но как такое возможно? — спросила она.
Ахкеймион замер и несколько мгновений смотрел в никуда.
Затем повернулся к Эсменет, лицо его окаменело от надежды и ужаса.
— Может ли пророк быть богохульником? — проговорил Ахкеймион, и Эсменет поняла, что этот вопрос давно мучает его. — Я спросил его об этом…
— И что он ответил?
— Он выругался и заявил, что он никакой не пророк. Он был оскорблен… и даже уязвлен.
«У меня к этому делу талант», — прозвучало в голосе Ахкеймиона.
Внезапно Эсменет охватило безрассудство.
— Ты не можешь его учить, Акка! Ты не должен! Разве ты не понимаешь? Ты — искушение! Он должен сопротивляться тебе и тому обещанию могущества, которое ты несешь. Он должен отвергнуть тебя, чтобы стать тем, кем он должен стать!
— Вот что ты думаешь? — возмутился Ахкеймион. — Что я — король Шиколь, который искушал Сейена, предлагая ему власть над миром? А вдруг он прав, Эсми? Тебе это не приходило в голову? Вдруг он и вправду не пророк?
Эсменет в страхе воззрилась на него; она была испугана и сбита с толку, но вместе с тем ощутила странное веселье. Как ее угораздило зайти так далеко? Каким образом шлюха из трущоб Сумны очутилась здесь, рядом с сердцем мира?
Как и когда ее жизнь превратилась в часть Писания? На миг ей даже не поверилось, что все это правда…
— Вопрос в том, Акка, что об этом думаешь ты.
Ахкеймион опустил взгляд.
— Что я думаю? — переспросил он и внезапно посмотрел Эсменет в глаза.
Та ничего не сказала, хоть и почувствовала, что ее решимость тает как снег.
Ахкеймион вздохнул и пожал плечами.
— Я думаю, что Три Моря не готовы ко Второму Апокалипсису — настолько не готовы, что худшего и представить нельзя… Копье-Цапля утрачено. Шранки шляются по половине мира, и их в сто — в тысячу! — раз больше, чем во времена Сесватхи. А люди сохранили лишь незначительную часть Безделушек.
Ахкеймион глядел на Эсменет. Глаза его блестели ярко, как никогда.
— Хотя боги прокляли меня, прокляли нас, я не верю, что им настолько безразлична судьба мира…
— Келлхус, — прошептала Эсменет.
Ахкеймион кивнул.
— Они послали нам не Предвестника, а нечто большее… Я сам толком не знаю, что думать и на что надеяться…
— Но колдовство, Акка…
— Это богохульство. Я знаю. Но подумай, Эсменет, почему колдуны — богохульники? И почему пророк — это пророк?
Глаза Эсменет испуганно округлились.
— Потому, что колдуны поют песни Бога, — ответила она, — а пророк говорит голосом Бога.
— Вот именно. Так будет ли для пророка богохульством произносить колдовские слова?
Эсменет смотрела на него, от изумления лишившись дара речи.
«Ибо Бог поет свою песнь…»
— Акка…
Он снова повернулся к мулу и поднял с земли седельную сумку.
Эсменет вдруг охватила паника.
— Пожалуйста, Акка, не оставляй меня!
— Я же сказал тебе, Эсми, — отозвался он, не оборачиваясь. — Мне нужно подумать.
«Но мы же отлично думали вместе!»
Он становился мудрее от ее советов. Он это знал! Сейчас перед ним встала небывалая проблема… Так почему же он покидает ее? Не кроется ли за этим что-то еще? Не скрывает ли он чего-то?
На миг ей вспомнилось, как он извивался под Серве… «Он нашел себе другую шлюху, помоложе», — словно прошептал чей-то голос.
— Почему ты так поступаешь? — спросила Эсменет куда более резко, чем хотела.
Раздраженная пауза.
— Как я поступаю?
— Ты словно лабиринт, Акка. Ты распахнул ворота, пригласил меня войти, но отказываешься показать путь. Почему ты всегда прячешься?
Глаза Ахкеймиона вспыхнули гневом.
— Я? — Он рассмеялся и вернулся к прерванному занятию. — Говоришь, я прячусь?
— Да, прячешься. Ты слаб, Акка, хотя должен быть сильным. Подумай о том, чему учил нас Келлхус!
Ахкеймион взглянул на нее, и в глазах его боролись боль и ярость.
— А ты сама? Давай поговорим о твоей дочери… Помнишь ее? Сколько времени прошло с тех пор, как ты…
— Это совсем другое! Она родилась еще до тебя! До тебя!
Зачем он говорит так? Почему причиняет ей боль?
«Моя девочка! Моя малышка мертва!»
— Изумительное проведение различий! — Ахкеймион сплюнул. — Прошлое никогда не умирает, Эсми. — Он с горечью рассмеялся. — А это даже не прошлое.
— Тогда где моя дочь, Акка?
На миг Ахкеймион онемел. Эсменет часто загоняла его в тупик подобными вопросами.
«Сломленный дурак!»
У Эсменет начали дрожать руки. По щекам заструились горячие слезы. Как она могла подумать такое?
Это все потому, что он сказал… Да как он смеет!
Ахкеймион изумленно воззрился на женщину, словно прочел что-то в ее душе.
— Прости, Эсми, — невыразительным тоном произнес он. — Мне не следовало упоминать… Мне не следовало говорить это…
Колдун умолк. Он снова повернулся к мулу и принялся сердито затягивать ремни.
— Ты не понимаешь, что такое для нас Гнозис, — добавил он. — Я поплачусь не одними душевными терзаниями.
— Тогда научи меня! Дай мне понять!
«Это же Келлхус! Мы обнаружили его вместе!»
— Эсми… Я не могу говорить об этом. Просто не могу…
— Но почему?
— Я знаю, что ты скажешь!
— Нет, Акка, — отозвалась она, вновь ощущая свойственную представительницам ее профессии холодность. — Ты не знаешь. Ты даже понятия не имеешь.
Ахкеймион поймал грубую пеньковую веревку, привязанную к уздечке мула, и начал теребить ее в руках. На мгновение все в нем: сандалии, упакованные вещи, одежда из белого льна — все показалось одиноким и несчастным. Почему он вечно выглядит таким несчастным?
Ей вспомнился Сарцелл, уверенный в себе, холеный и пахнущий благовониями.
«Убогий рогоносец».
— Я не бросаю тебя, Эсми, — сказал он. — Я никогда не смогу бросить тебя. Никогда больше.
— Но я вижу одну лишь циновку для спанья, — бросила она.
Ахкеймион попытался улыбнуться, затем развернулся и неуклюже зашагал прочь, ведя Рассвета на поводу. Эсменет глядела ему вслед; ее мутило, как будто она стояла на вершине высокой башни. Ахкеймион двинулся по тропе, идущей на восток, мимо выцветших круглых шатров. Он так быстро уменьшался… Просто удивительно, как на ярком солнце люди издалека выглядят только темными фигурками…
— Акка! — закричала Эсменет.
Ей было безразлично, кто ее услышит.
— Акка!
«Я люблю тебя».
Фигурка с мулом на миг остановилась, далекая, неузнаваемая. Она помахала рукой.
А потом исчезла за рощей черных ив.
Ахкеймион обнаружил, что разумные люди, как правило, менее счастливы. Причина проста: они умеют логически обосновывать свои иллюзии. А способность усвоить истину имеет мало общего с умом — точнее, ничего общего. Разум куда лучше годится для того, чтобы оспаривать истины, нежели для того, чтобы открывать их. Потому-то он и бежал от Келлхуса и Эсменет.
Ахкеймион шел по тропе; по правую руку от него нес свои черные воды Семпис, а по левую тянулись ряды огромных эвкалиптов. Если не считать мимолетных прикосновений солнечных лучей, проникающих в просветы между кронами, эвкалиптовый навес надежно укрывал от зноя. Ветерок пронизывал белую льняную тунику. Как же все мирно и спокойно, когда ты в одиночестве, подумал Ахкеймион.
Когда Ксинем сообщил ему, что в Сареотской библиотеке обнаружились книги, имеющие отношение к Гнозису, Ахкеймион прекрасно понял подтекст. «Тебе лучше уйти», — сказал ему друг. С той памятной ночи Ахкеймион все ждал, что его прогонят от костра маршала, пусть даже на время. Более того — он нуждался в изгнании, нуждался в том, чтобы его вынудили уйти…
И тем не менее это было больно.
Ладно, неважно, сказал себе Ахкеймион. Всего лишь очередная распря, порожденная их неудобной дружбой. Знатный дворянин и колдун. «Нет друга труднее, чем грешник», — писал один из поэтов Бивня.
А Ахкеймион и был грешником.
В отличие от других колдунов, он редко размышлял над проклятостью своего дара. Ему казалось, что примерно поэтому мужья, бьющие жен, не размышляют о кулаках…
Но были и другие причины. В молодости Ахкеймион относился к числу студентов, отличавшихся непочтительностью и неблагочестивостью, как будто то непростительное богохульство, которое он изучал, давало ему право на все прочие виды богохульства. Они с Санклой, его товарищем по комнате, имели обыкновение читать «Трактат» вслух и хохотать над его нелепостями. Например, над отрывками, касающимися обрезания жрецов. Или над описаниями всяких идиотских очистительных ритуалов. И только один момент привлекал его внимание на протяжении многих лет — знаменитый тезис «Ожидай без увещеваний» из Книги Жрецов.
— Послушай-ка! — однажды вечером воскликнул Санкла, уже валявшийся на своей койке. — «И Последний Пророк сказал: „Благочестие — не дело менял. Не давайте пищу за пищу, крышу над головой за крышу над головой, любовь за любовь. Не швыряйте Добро на весы — давайте, не ожидая воздаяния. Отдавайте пищу даром, крышу над головой даром, любовь даром. Уступайте обидчикам вашим. Вот единственное, чего нечестивцы не сделают. Не ожидайте ничего, и обретете вечное блаженство“».
Парнишка остановил на Ахкеймионе взгляд своих темных, вечно смеющихся глаз — глаз, что на некоторое время сделали их любовниками.
— Можешь в это поверить?
— Во что поверить? — спросил Ахкеймион.
Он уже начал улыбаться, потому что знал: все, что придумывает Санкла, на редкость потешно. Таким уж он был человеком. Его смерть — он погиб в Аокниссе три года спустя, от руки пьяного дворянчика с Безделушкой — стала для Ахкеймиона тяжким потрясением.
Санкла постучал по свитку пальцем — в скриптории его бы за такое взгрели.
— По сути дела, Сейен говорит: «Отдавайте, не ожидая вознаграждения, и сможете рассчитывать на вознаграждение побольше»!
Ахкеймион задумался.
— Понимаешь? — продолжал Санкла. — Он говорит, что благочестие заключается в том, чтобы делать добрые дела без корыстных побуждений. Он говорит, что если ты рассчитываешь получить что-то взамен, значит, ты не даешь ничего — ничего!.. Просто не даешь.
У Ахкеймиона перехватило дыхание.
— Значит, айнрити, ожидающий, что он будет возвышен Вовне…
— Не дает ничего, — отозвался Санкла и рассмеялся, не в силах поверить самому себе. — Ничего! Мы же, с другой стороны, отдаем свои жизни, чтобы продолжить борьбу Сесватхи… Мы отдаем все, а взамен можем ожидать лишь проклятия. Это сказано о нас, Акка!
Это сказано о нас.
Какое бы искушение ни несли в себе его слова, какими бы волнующими и важными они ни были, Ахкеймион сделался слишком скептичным, чтобы верить в них. Они выглядели чересчур лестными, чересчур возвеличивающими, чтобы оказаться истиной. И поэтому Ахкеймион думал, что достаточно быть просто хорошим человеком. А если недостаточно, значит, тот, кто измеряет добро и зло, сам недобр.
И похоже, именно так и обстояли дела.
Но, конечно же, Келлхус изменил все. Теперь Ахкеймион много размышлял о своей проклятости.
Прежде этот вопрос казался лишь поводом для самоистязания. Бивень и «Трактат» выражались насчет колдовства предельно ясно, хотя Ахкеймион читал и много еретических трудов. Там утверждалось, будто противоречия в сути Писания доказывают, что пророки — и древних дней, и относительно недавних времен — были обычными людьми. «Все небеса, — писал Протат, — не могут сиять через единственную щелочку».
А поэтому лазейка для сомнений в его проклятости существовала. Возможно, как предположил Санкла, проклятые на самом деле были избранными. А возможно, как предпочитал думать Ахкеймион, избранниками были сомневающиеся. Ему часто казалось, что искушение изображать уверенность — самое притягательное и самое пагубное из всех искушений. Творить добро без уверенности означало творить добро без ожидания награды… Быть может, само сомнение и есть ключ.
Но если он прав, этому вопросу суждено навсегда остаться без ответа. Ведь если искреннее недоумение действительно условие условий, значит, спасутся лишь не ведающие ответа. Ему всегда казалось, что размышлять о собственном проклятии уже само по себе проклятие.
А поэтому Ахкеймион о нем и не думал.
Но теперь… Теперь появилась надежда на ответ. Каждый день он шел рядом с этой надеждой, говорил с ней…
Князь Анасуримбор Келлхус.
Нет, Ахкеймион не думал, что Келлхус может просто дать ему ответ, даже если колдун наберется мужества спросить. Равно как и не считал, что Келлхус каким-то образом воплощает или олицетворяет этот ответ. Нельзя умалять его роль. Он не был, говоря мистическим языком, живым знаком судьбы Друза Ахкеймиона. Нет. Ахкеймион знал, что его проклятость или величие зависит только от него самого. Он должен ответить на этот вопрос самостоятельно…
Своими поступками.
И хотя понимание этого устрашало Ахкеймиона, оно наполняло его неизменной и недоверчивой радостью. Порождаемый им страх был не нов: Ахкеймион боялся, что от его поступков будет зависеть судьба мира. Стоило ему задуматься о возможных последствиях, и Ахкеймион впадал в оцепенение. А вот радость была чем-то новым и неожиданным. Анасуримбор Келлхус превратил спасение в реальную возможность. Спасение.
Хоть ты теряешь душу, ты приобретешь весь мир — с этих слов начинается катехизис Завета.
Но это совершенно не обязательно! В конце концов Ахкеймион понял, насколько безутешной, лишенной надежды была его прежняя жизнь. Эсменет научила его любить. А Келлхус, Анасуримбор Келлхус научил его надеяться.
И он ухватился за них, за любовь и надежду, и будет держаться изо всех сил.
Нужно лишь решить, что ему делать…
— Акка, — сказал Келлхус накануне ночью, — мне нужно кое о чем тебя спросить.
Они сидели у костра вдвоем и кипятили воду для чая.
— Конечно, Келлхус, — отозвался Ахкеймион. — Что тебя беспокоит?
— Меня беспокоит то, о чем я должен спросить…
Никогда прежде Ахкеймион не видел на человеческом лице подобной муки — как будто ужас дошел до той точки, где он соприкасается с восторгом. Ахкеймион едва совладал с сильнейшим желанием прикрыть глаза рукой.
— О чем ты должен спросить?
— Каждый день, Акка, я умаляюсь.
Какие слова! От одного воспоминания у Ахкеймиона перехватило дыхание. Добравшись до солнечного островка, он остановился, прижав руки к груди. Стая птиц взмыла в небо. Их тени беззвучно пронеслись над ним. Ахкеймион, прищурившись, взглянул на солнце.
«Следует ли мне учить его Гнозису?»
У Ахкеймиона не хватало духу принять решение — при одной мысли о том, чтобы отдать Гнозис кому-то за пределами школы, он бледнел от ужаса. Он даже не был уверен, что сможет научить Келлхуса, если захочет. Ведь он делил знание Гнозиса с Сесватхой, чей оттиск лежал на всех движениях его оцепеневшей души.
«Позволишь ли ты мне сделать это? Видишь ли ты то же, что и я?»
Никогда — никогда! — за всю историю их школы не случалось, чтобы колдун высокого ранга предал Гнозис. Он один позволял Завету выжить. Он один давал им возможность вести войну Сесватхи. Стоит утратить его, и они превратятся в Малую школу. Ахкеймион знал, что его братья будут биться насмерть, чтобы предотвратить это. Они будут охотиться за ними обоими, не ведая пощады, и убьют их, если смогут найти. Они не станут прислушиваться ни к каким доводам… И само имя Друза Ахкеймиона будет звучать ругательством в темных залах Атьерса.
Но чем это отличается от жадности или ревности? Второй Апокалипсис надвигается. Не пришла ли пора вооружить Три Моря? Разве Сесватха не велел делиться своим арсеналом, если надвинется тень?
Велел…
Не следует ли из этого, что Ахкеймион — самый верный адепт Завета?
Он зашагал дальше.
В глубине души он знал, что Келлхус — посланник богов. Опасность слишком велика, а обещание — слишком поразительно. Он наблюдал, как Келлхус усвоил за несколько месяцев знания целой жизни. Он слушал, затаив дыхание, как князь изрекает истины мысли, более тонкие, чем у Айенсиса, и истины страсти, более глубокие, чем у Сейена. Он сидел в пыли и глазел, разинув рот, как этот человек расширяет геометрию Муретета до немыслимых пределов, как он поправляет древнюю логику, а потом набрасывает основы новой логики — так ребенок мог бы нацарапать палочкой спирали.
Чем станет Гнозис для подобного человека? Игрушкой? Что он откроет? Какой силой овладеет?
Ахкеймиону представилось, как Келлхус шагает по полям сражений, словно Бог, уничтожая полчища шранков, сшибая драконов с небес, шагает навстречу воскрешенному Не-богу, чудовищному Мог-Фарау…
«Он — наш спаситель! Я знаю!»
Но вдруг Эсменет права? Вдруг он, Ахкеймион, — всего лишь испытание? Как злой король Шиколь в «Трактате», предложивший Айнри Сейену свой скипетр из бедренной кости, армию, гарем — все, кроме короны, — лишь бы тот перестал проповедовать…
Ахкеймион резко остановился, но врезавшийся в него Рассвет вынудил хозяина сделать еще пару шагов. Колдун погладил мула по морде и улыбнулся печальной улыбкой человека, обремененного бесталанным животным. Ветерок погнал рябь по сверкающим на солнце водам Семписа, прошуршал в кронах деревьев. Ахкеймиона начала бить дрожь.
Пророк и колдун. Бивень называл подобных людей шаманами. Это слово лежало у Ахкеймиона в сознании, неподвижное, словно зиккурат.
«Шаман.
Нет… Это безумие!»
Две тысячи лет адепты Завета хранили Гнозис в неприкосновенности. Две тысячи лет! Кто он такой, чтобы нарушать подобную традицию?
Неподалеку под платаном толпились ребятишки, щебеча и толкаясь, словно воробьи над крошками хлеба. Ахкеймион заметил двух мальчишек лет четырех-пяти, которые что-то рассказывали, крепко держась за руки. Их невинность поразила его до глубины души. Ахкеймион невольно подумал, сколько времени пройдет, прежде чем они поймут, что держаться за руки — это ошибка.
Или они откроют для себя Келлхуса?
Непонятный скулящий звук заставил его поднять взгляд, и Ахкеймион едва не закричал от потрясения.
К дереву, под которым он стоял, был прибит нагой человек, белый, как мрамор, в пятнах синяков и засохшей крови. Когда момент ошеломления миновал, Ахкеймион подумал было снять человека. Но куда его отнести? В соседнее селение? Айнрити настолько запугали шайгекцев, что местные жители, скорее всего, побоятся даже взглянуть на несчастного, не то что прикоснуться к нему.
Ахкеймион ощутил угрызения совести и отчего-то вдруг вспомнил Эсменет.
«Береги себя».
Ведя в поводу Рассвета, Ахкеймион зашагал дальше, мимо детей, по тени, испещренной солнечными пятнами, к Иотии, древней столице королей-богов Шайгека. Ее стены из светлого камня уже виднелись вдали, проглядывая через темную зелень эвкалиптов. Ахкеймион шел и сражался с невероятным…
Прошлое было мертво. Будущее было непроглядно, словно зияющая могила.
Ахкеймион вытер слезы. Назревало нечто невообразимое, нечто такое, о чем историки, философы и теологи будут спорить тысячи лет — если, конечно, у них будут эти годы. И действия Друза Ахкеймиона приобретут особое значение.
Он должен просто отдать. Не ожидая ничего взамен. Свою школу. Свое призвание. Свою жизнь…
Гнозис станет его пожертвованием.
За могучими стенами Иотии скрывался лабиринт четырехэтажных домов из кирпича-сырца, стоящих вплотную друг к дружке. Узенькие улочки сверху были затянуты навесами из пальмовых листьев, и Ахкеймиону казалось, будто он идет по безлюдным туннелям. Он избегал кератотиков: ему не нравился триумф, которым светились их глаза. Но когда ему встречались вооруженные Люди Бивня, Ахкеймиону приходилось спрашивать дорогу и дальше пробираться через паутину улиц. Большинство попадавшихся ему айнрити были айнонами, и это беспокоило Ахкеймиона. А пару раз, когда стены расходились настолько, что удавалось разглядеть здешние памятники, ему начинало казаться, будто он ощущает в отдалении присутствие Багряных Шпилей.
Но затем он встретил отряд галеотских кавалеристов и ощутил некоторое облегчение. Да, они знают, как пройти в Сареотскую библиотеку. Да, библиотека занята галеотами. Ахкеймион начал привычно врать и сказал, что он — ученый, ведущий хронику побед Священного воинства. Как всегда, при мысли о том, что их имена могут попасть на страницы истории, у галеотов засверкали глаза. Они сказали, что будут проезжать библиотеку по дороге, и предложили отправиться с ними.
В полдень Ахкеймион уже стоял в тени библиотеки, исполненный недобрых предчувствий.
Если слухи о существовании текстов Гнозиса достигли его ушей, они с тем же успехом могли дойти и до Багряных Шпилей. При мысли о том, что ему придется спорить с колдунами в красном, Ахкеймиону становилось, мягко говоря, не по себе.
Сама идея о том, что тексты Гнозиса могли сокрытыми лежать здесь все это время, была вовсе не такой абсурдной, как казалось на первый взгляд. Библиотека могла посоперничать древностью с Тысячей Храмов; ее построили сареоты, эзотерическая коллегия жрецов, посвятивших себя хранению знаний. В Кенейской империи существовал закон, согласно которому всякий, кто входил в Иотию и имел при себе книгу, обязан был предоставить ее сареотам, дабы те могли сделать копию. Но Сареотская коллегия была религиозным учреждением, а потому для Немногих вход в знаменитую библиотеку был заказан.
Когда много столетий спустя фаним захватили Шайгек и перебили сареотов, библиотеку посетил сам падираджа. Как гласила легенда, он извлек из-под халата тоненький, переплетенный в кожу список кипфа’айфан, «Свидетельства Фана», слегка помявшийся от ношения на груди. Подняв его над головой, падираджа заявил: «Вот вся записанная истина. Вот единственный путь ко всем душам. Сожгите это нечестивое место». И якобы в этот миг с полки упал один-единственный свиток и подкатился к сапогам падираджи. Падираджа развернул его и обнаружил подробную карту Гедеи, которая впоследствии пригодилась ему в войнах с Нансурской империей.
Библиотека сохранилась, но если при сареотах она была закрыта для колдунов, то при кианцах вообще могла перестать работать.
Так что Ахкеймион вполне верил, что в библиотеке могли остаться тексты Гнозиса. Такие находки случались и прежде. Если адепты Завета были самыми учеными из всех колдунов, то причиной тому, не считая их снов о Древних войнах, было ревностное отношение к Гнозису. Гнозис давал им силу, несоизмеримую с численностью школы. Если Гнозисом завладеет школа, подобная Багряным Шпилям, — кто знает, что произойдет тогда? В том, что Завету придется туго, можно даже не сомневаться.
Но, впрочем, все это должно вот-вот измениться — теперь, когда Анасуримбор вернулся.
Ахкеймион завел мула в маленький внутренний дворик. Брусчатка давно скрылась под слоем красной пыли, и лишь отдельные камни выглядывали то здесь, то там. Фасад библиотеки был квадратным, словно у кенейского храма; высокие колонны подпирали осыпающийся портик с фигурами не то людей, не то богов. Два рослых галеота с мечами стояли, прислонившись к колоннам у входа. Они встретили подошедшего Ахкеймиона скучающими взглядами.
— Приветствую вас, — сказал Ахкеймион, надеясь, что стражники говорят по-шейски. — Я — Друз Истафас, летописец Нерсея Пройаса, принца Конрии.
Ответа не последовало. Ахкеймион замер в нерешительности. Один из стражников, тип со шрамом, тянущимся через все лицо, от лба до подбородка, особенно его нервировал. Выглядели они недружелюбно. Хотя с чего веселиться воину, которого поставили охранять столь бесполезную вещь, как книжки?
Ахкеймион кашлянул.
— Много ли посетителей бывает в библиотеке?
— Нет, — отозвался стражник без шрама и пожал плечами. — Несколько ворюг-торговцев, и все.
Он что-то выплюнул, и Ахкеймион понял, что стражник обсасывал персиковую косточку.
— Что ж, могу вас заверить, что я не принадлежу к торговцам. — И добавил со смесью любопытства и почтительности: — Дозволите мне войти?
Стражник кивком указал на мула.
— Только без этой твари. Нельзя же допускать, чтобы осел срал в священных залах, верно?
Он ухмыльнулся и повернулся к своему товарищу со шрамом, который все продолжал смотреть на Ахкеймиона. Вид у него был словно у скучающего мальчишки, который размышляет, не потыкать ли палкой дохлую рыбу.
Прихватив кое-какие вещи, Ахкеймион быстро прошел мимо стражников. Огромные двери были украшены потускневшей бронзой; одна створка оставалась приоткрытой ровно настолько, чтобы в нее мог проскользнуть человек. Уже нырнув в полумрак библиотеки, Ахкеймион услышал, как один из галеотов — кажется, тот, со шрамом, — пробормотал: «Гнусный чурка».
Но Ахкеймиону было сейчас не до презрения норсирайцев. Его охватило радостное возбуждение. Он едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Окаянные сареоты собирали тексты на протяжении тысячи лет. Что он может здесь обнаружить? Все, что угодно, и не только работы по Гнозису. «Девять классиков», ранние «Диалоги Инсерути» — даже утраченные труды Айенсиса!
Ахкеймион прошел через темный просторный вестибюль с высокими сводами, по мозаичному полу, на котором некогда был изображен Айнри Сейен, тянущий к людям окруженные сиянием руки, — во всяком случае, до тех пор, пока фаним, которые, судя по всему, никогда не пользовались библиотекой, не изуродовали мозаику. Ахкеймион достал из дорожной сумки свечу и зажег ее тайным словом. И так, неся перед собой крохотный огонек, он вступил в священные залы библиотеки.
Сареотская библиотека представляла собой лабиринт непроглядно темных коридоров, где пахло пылью и гниющими книгами. Окруженный ореолом света, Ахкеймион брел сквозь мрак и подбирал сокровища. Никогда еще он не встречал подобного собрания. Никогда еще он не видел столько погубленных мыслей.
Из тысяч томов и тысяч тысяч свитков спасти можно было хорошо если несколько сотен. Ахкеймион не обнаружил ничего, что имело хотя бы малейшее отношение к Гнозису, зато отыскал кое-какие интересные вещи.
Он нашел книгу Айенсиса, о которой никогда прежде не слышал, но та была написана на вапарси, древнем нильнамешском языке, и познаний Ахкеймиона хватило лишь на то, чтобы разобрать заголовок: «Четвертый диалог о движении планет, как им свойственно…» — и дальше в том же духе. Но хотя бы то, что это был диалог, имело огромное значение. Ведь диалогов великого киранейского философа сохранилось очень мало.
Он нашел в пыли и паутине груду глиняных табличек с клинописным письмом древнего Шайгека. Ахкеймион выбрал одну, хорошо сохранившуюся, и решил, что попытается тайком прихватить ее с собой — хотя, судя по всему, это учетные записи какой-нибудь житницы. Он решил, что это будет хорошим подарком Ксинему.
Он нашел множество других томов и свитков — древних и редких. Повесть об эпохе Воюющих городов некоего историка, с которым Ахкеймион никогда прежде не сталкивался. Странную книгу, написанную на пергаменте и озаглавленную «О храмах и их беззакониях», заставившую Ахкеймиона призадуматься — уж не симпатизировали ли сареоты еретикам? Ну, и еще кое-что.
Спустя некоторое время и радость от находки сохранившихся сокровищ, и гнев от вида сокровищ загубленных ослабели. Ахкеймион устал и, найдя каменную скамью в нише, разложил на ней книги и скромные пожитки, словно тотемы в магическом круге, съел немного зачерствевшего хлеба и выпил вина из бурдюка. За едой он думал об Эсменет, ругая себя за внезапно вспыхнувшее желание.
О Келлхусе он старался не вспоминать.
Ахкеймион заменил потрескивающую свечу и решил почитать. «Один среди книг. Опять». Он улыбнулся. «Опять? Нет, наконец-то…»
Книгу не «читают». Тут язык искажает истинную природу действия. Сказать, что книгу читают, означает совершить ту же самую ошибку, которую совершает игрок, хвастающийся своим выигрышем, словно добыл его благодаря решимости или силе рук. Тот, кто бросал игральные кости, переживал момент беспомощности, и только. Но открыть книгу — это куда более глубокая игра. Открыть книгу значит не только пережить момент беспомощности, не только отказаться от мгновений ревности при виде непредсказуемого следа, оставленного другим человеком, — это значит позволить себе быть написанным. Ибо что такое книга, как не долгая последовательная уступка движениям чужой души?
Ахкеймион просто не мог представить более серьезного отказа от себя.
Он читал и смеялся над иронией человека, умершего тысячу лет назад, и печально размышлял над претензиями и надеждами, пережившими свое время.
Он сам не заметил, как уснул.
Во сне он видел дракона, древнего, ужасного — и злобного сверх всякой меры. Скутула, чьи лапы были словно узловатое железо, а черные крылья закрывали полнеба. Фонтан огня, извергшийся из пасти дракона, превратил песок в стекло. Сесватха упал на одно колено, чувствуя во рту привкус крови, но голова старого колдуна была запрокинута, пряди седых волос бились на ветру, поднятом драконьими крыльями, и невозможные слова срывались с губ, словно смех. Иглы ослепительного света вонзились в небо…
Но края этой картины скручивались, как будто сон был нарисован на пергаменте, а затем внезапно что-то свернуло пергамент и швырнуло во тьму…
Тьму при открытых глазах… Судорожное, прерывистое дыхание. Где он? Ах да, библиотека… Должно быть, свеча догорела.
Но затем Ахкеймион понял, что именно разбудило его. Его обереги, которые он держал наготове с тех самых пор, как присоединился к Священному…
«Сейен милостивый!.. Багряные Шпили».
Ахкеймион засуетился во тьме, собирая пожитки. Скорее, скорее… Он встал, глядя уже другими глазами.
Помещение, в котором он находился, было длинным, с низким потолком и рядами стеллажей и полок. Незваные гости поспешно пробирались между стеллажей, приближаясь к нему с разных сторон.
Зачем они пришли? За Гнозисом? Знания всегда были объектом алчного вожделения, и, возможно, во всех Трех Морях не существовало знания более ценного, чем Гнозис. Но похищать адепта Завета посреди Священного воинства? Ведь, казалось бы, сейчас Багряных Шпилей должны волновать более насущные проблемы — хотя бы те же кишаурим.
Казалось бы… Но как насчет шпионов-оборотней? Как насчет Консульта?
Они знали, что слухи о текстах Гнозиса приведут его сюда. И знали, что в библиотеке он будет чувствовать себя в безопасности. Кто станет рисковать подобными сокровищами? Конечно же, не собратья-адепты, какими бы недобрыми ни были их намерения…
Ахкеймион понял, что все это необычайно хитрая ловушка — ловушка, в которую попался даже Ксинем. Есть ли лучший способ убаюкать все подозрения адепта Завета, чем подкинуть ему приманку через друга, которому тот доверяет больше, чем кому бы то ни было?
Ксинем? Нет. Этого не может быть.
Сейен милостивый…
Все это происходит на самом деле!
Ахкеймион схватил сумку, ринулся во тьму, врезался в тяжелый стеллаж со свитками и почувствовал, как папирус крошится в пальцах, словно засохшая грязь. Он сунул сумку в груду изломанных свитков. Скорее, скорее! Затем он принялся пробираться к выходу.
Они были близко. На потолке над черными полками, среди которых стоял Ахкеймион, появились пятна света.
Ахкеймион отступил в небольшую нишу, где перед этим дремал, и принялся наговаривать серию оберегов, короткие цепочки невозможных мыслей. Свет срывался с его губ. Воздух вокруг него наполнился сиянием — так лучи солнца пронизывают туман.
Откуда-то доносилось невнятное бормотание — таящиеся, вкрадчивые слова, эдакие паразиты, грызущие стены мира.
Яростный свет, превративший на миг полки перед Ахкеймионом в рассветный горизонт… Взрыв. Гейзер пепла и огня.
От ударной волны у Ахкеймиона вышибло воздух из легких. Окружающие стены затрещали от жара. Но его обереги выдержали.
Ахкеймион зажмурился. Мгновение относительной темноты…
— Друз Ахкеймион, сдавайся. Ты в безвыходном положении!
— Элеазар? — крикнул в ответ Ахкеймион. — Сколько раз вы, дурни, пытались вырвать у нас Гнозис? И ни хрена не вышло!
Прерывистое дыхание. Бешено бьющееся сердце.
— Элеазар!
— Ты обречен, Ахкеймион! Обречешь ли ты на гибель и сокровища, что окружают тебя сейчас?
Как бы ни были драгоценны эти книги, слова, что вращались и сваливались грудой вокруг него, не значили ничего. Не сейчас.
— Не делай этого, Элеазар! — крикнул Ахкеймион срывающимся голосом. — Ставки! Какие ставки!
— Уже…
Ахкеймион зашептал слова. Пять сверкающих линий протянулись вдоль узкого прохода между обгоревшими полками, через дым и осыпающиеся страницы. Воздух затрещал. Его невидимый враг вскрикнул от удивления — как и все, кто впервые сталкивался с Гнозисом. Ахкеймион пробормотал еще несколько древних слов, еще несколько Напевов. Делящие планы Мирсеора — для постоянного давления на обереги противника. Напевы Принуждения Одаини, чтобы оглушить его, сбить с мысли. Затем мираж Киррои…
Ослепительные геометрические фигуры рванулись сквозь дым. Линии и параболы бритвенно острого света, пронзающие дерево и папирус, прорезающие камень. Багряный адепт закричал и попытался убежать. Ахкеймион сварил его заживо.
Темнота, если не считать враждебных огней, рассеянных среди руин. Ахкеймион слышал, как прочие колдуны перекликаются, потрясенно и испуганно. Он чувствовал, как они пробираются между стеллажами, спеша образовать Ансамбль.
Подумай, Элеазар! Сколькими ты готов пожертвовать?
«Пожалуйста. Не надо…»
Рев пламени. Грохот рушащихся полок. Огонь, бьющийся об его обереги, словно пенящийся прибой. Ослепительная вспышка, залившая светом все огромное помещение, от одной стены до другой. Раскат грома. Ахкеймион пошатнулся и упал на колени. Обереги у него в сознании затрещали.
Он ударил в ответ Выводом и Абстракцией. Он был адептом Завета, гностическим колдуном высокого ранга, мастером Напевов Войны. Он был словно маска, выставленная на солнце. Его голос разнесся по залу, над обломками и головешками.
Собранные сареотами знания взрывались и горели. Вырванные страницы кружились в вихрях. Книги летели по спирали, словно мотыльки на огонь. Драконье пламя низвергалось между уцелевших полок. Молнии сплетались в воздухе и потрескивали, сталкиваясь с оберегами Ахкеймиона. Он наконец увидел своих противников. Их было семеро. Они напоминали облаченных в багрец танцоров на поле погребальных огней. Адепты школы Багряных Шпилей.
Мимолетное видение шквала ослепительно-белых молний. Головы призрачных драконов, изрыгающие огонь. Несущиеся горящие воробьи. Великие Аналогии, сверкающие и тяжеловесные, с грохотом бились о его обереги. А за ними — Абстракции, блистающие и молниеносные…
Седьмая теорема Кийана. Эллипсы Тосоланкиса… Ахкеймион выкрикнул невозможные слова.
Крайний слева Багряный адепт завопил. Его обереги рухнули под напором Гнозиса. Взрыв разворотил стены библиотеки, и его унесло в вечереющее небо, словно клочок бумаги.
На миг Ахкеймион оставил Напевы и принялся восстанавливать обереги.
Водопады адского огня. Пол провалился. Огромные камни посыпались вокруг, хлопая, словно ладони молящегося. Ахкеймион очутился в огне, в хаосе исполинских развалин. Но продолжал петь.
Он был наследником Сесватхи, ученика Ношайнрау Белого. Он был победителем Скафры, сильнейшего из враку. Он возвысил в песне свой голос против кошмарных высот Голготтерата. Он стоял, гордый и неколебимый, перед самим Мог-Фарау…
Резкий удар. Пол под ногами закачался, словно палуба корабля. Стены начали рассыпаться. Погружение в одно темное значение за другим, тяжкая суть рушащегося мира, ниспадающего, словно одежды любовницы, в ответ на его песню.
И наконец-то — небо, такое влажное и прохладное, когда смотришь на него из самого сердца ада.
А высоко — Гвоздь Небес и серебрящаяся грудь полупрозрачного облачка.
Сареотская библиотека превратилась в раскаленную топку, окруженную изломанными, шатающимися стенами. А над ней висели, словно на ниточках, Багряные колдуны, и швыряли в Ахкеймиона один злобный Напев за другим. Головы призрачных драконов поднимались и извергали озера огня. Они плевались, изничтожая его ослепительным, прожигающим до костей пламенем. Одно за другим на него опускались ослепляющие солнца.
Ахкеймион стоял на коленях, тело его покрывали ожоги, изо рта и глаз текла кровь, вокруг громоздились груды камней и текстов; он рычал оберег за оберегом, но те трещали и раскалывались, и рвались, как гнилая ткань. Казалось, будто безжалостный хор Багряных Шпилей отдается эхом от небесного свода. Они били, словно рассерженные кузнецы по наковальне.
И сквозь это безумие Друз Ахкеймион на краткий миг увидел заходящее солнце, невероятно равнодушное, в обрамлении розовых и оранжевых облаков…
Хорошая была песня, подумал он.
Прости меня, Келлхус.
Глава 13. Шайгек
«Люди всегда указывают на других, и поэтому я предпочитаю следовать за шляпкой гвоздя, а не за его острием».
Онтиллас. «О глупости людской» «День без полудня, Год без конца. Любовь всегда нова — Иначе это не любовь». Неизвестный автор. «Ода утрате утрат»4111 год Бивня, конец лета, Шайгек.
И был свет…
— Эсми…
Она пошевелилась. Это что, сон? Да… Она плывет. Озерцо в холмах над равниной Битвы.
Чья-то рука взяла ее за голое плечо. Осторожное пожатие.
— Эсми… Проснись.
Но ей так тепло… Она приоткрыла один глаз и скривилась, поняв, что еще ночь. Свет лампы. Кто-то держит лампу. Что Акке не спится?
Эсменет перевернулась на спину и увидела, что над ней склонился Келлхус, очень мрачный и серьезный. Нахмурившись, она натянула одеяло на грудь.
— Что… — Она закашлялась. — Что случилось?
— Библиотека сареотов, — глухо произнес Келлхус. — Она горит.
Эсменет щурилась от света лампы.
— Багряные Шпили уничтожили ее, Эсми.
Она оглянулась, разыскивая Ахкеймиона.
Что-то в выражении лица Ксинема поразило Пройаса до глубины души. Он отвел взгляд, бесцельно провел пальцем по краю пустой золотой чаши, стоявшей перед ним на столе. Принц смотрел на сверкающих орлов, вычеканенных по бокам чаши.
— И что же ты хочешь, чтобы я сделал, Ксин?
Недоверие и нетерпение.
— Все, что в твоих силах!
Маршал сообщил ему о похищении Ахкеймиона два дня назад — никогда еще Пройас не видел, чтобы Ксинем так беспокоился. По его просьбе принц отдал приказ об аресте Теришата, барона с южного порубежья, — Пройас смутно его помнил. Затем он поехал в Иотию, где потребовал аудиенции у самого Элеазара и получил ее. Великий магистр держался любезно, но наотрез отвергал любые обвинения. Он заявил, что его люди, обследуя Сареотскую библиотеку, наткнулись на тайную келью кишаурим.
— Мы оплакиваем потерю двоих наших людей, — торжественно произнес магистр.
Когда Пройас, со всей надлежащей учтивостью, попросил разрешения взглянуть на останки кишаурим, Элеазар сказал:
— Вы можете даже забрать их, если пожелаете. У вас есть мешок?
«Вы сами поймете тщетность ваших действий», — говорили его глаза.
Но Пройас с самого начала полагал, что любые усилия ни к чему не приведут — даже если им удастся отыскать Теришата. Вскоре Священное воинство пересечет реку и атакует Скаура на южном берегу. Людям Бивня нужны Багряные Шпили — нужны позарез, если скюльвенд говорит правду. Что значит жизнь одного человека — тем более богохульника — по сравнению с этой необходимостью? Боги требуют жертв…
Пройас понимал тщетность усилий — еще как понимал! Проблема заключалась в том, как заставить Ксинема это понять.
— Все, что в моих силах? — повторил принц. — А что это может быть, скажи мне, Ксин? Какую власть принц Конрии имеет над Багряными Шпилями?
Он пожалел о раздражении, прозвучавшем в его голосе, но тут уж ничего нельзя было поделать.
Ксинем продолжал стоять по стойке «смирно», словно на параде.
— Ты можешь созвать совет…
— Да, могу, но какой в этом смысл?
— Смысл? — переспросил Ксинем, потрясенный словами принца. — Какой в этом смысл?
— Да. Возможно, это жестокий вопрос, но зато честный.
— Ты что, не понимаешь?! — воскликнул Ксинем. — Ахкеймион не мертв! Я не прошу тебя мстить за него! Они захватили его, Пройас! Они держат его где-то в Иотии — прямо сейчас! Они обрабатывают его такими способами, каких мы даже представить не можем! Багряные Шпили! Багряные Шпили захватили Ахкеймиона!
Багряные Шпили. Для тех, кто жил в тени Верхнего Айнона, название школы всегда было вторым именем ужаса. Пройас глубоко вздохнул. Бог указал, что важнее…
«Вера делает сильным».
— Ксин… Я понимаю, как ты мучаешься. Я знаю, что ты винишь в этом себя, но…
— Ты — неблагодарный, заносчивый сукин сын! — взорвался маршал.
Он уперся ладонями в стол и наклонился над стопками пергамента.
— Ты что, забыл, сколькому у него научился? Или твое сердце окаменело еще в детстве? Это же Ахкеймион, Пройас! Акка! Человек, который души в тебе не чаял! Который тебя вырастил! Человек, который сделал тебя тем, кто ты есть!
— Не забывайтесь, маршал! Я терплю…
— Нет, ты меня выслушаешь! — взревел Ксинем, грохнув кулаком по столу.
Золотая чаша подскочила и упала набок.
— При всей своей непреклонности, — проскрежетал маршал, — ты должен знать, как это работает. Помнишь, что ты сказал в Андиаминских Высотах? «Игра без начала и конца». Я не прошу тебя штурмовать лагерь Элеазара, Пройас, я просто прошу тебя вести игру! Заставь их думать, что ты не остановишься ни перед чем, лишь бы вызволить Акку, что если его убьют, ты объявишь им открытую войну. Если они поверят, что ты готов отказаться от всего, даже от святого Шайме, чтобы вернуть Ахкеймиона, они отступят. Они отступят!
Пройас встал, стушевавшись перед впавшим в ярость наставником, некогда учившим его владеть оружием. Он действительно знал, как «это» работает. Он должен пригрозить Элеазару войной.
Принц горько рассмеялся.
— Ксин, ты с ума сошел? Ты действительно просишь меня предпочесть учителя детских лет Богу? Предпочесть колдуна моему Богу?
Ксинем выпрямился.
— Ты что, за все эти годы так ничего и не понял?
— Что тут понимать? — воскликнул Пройас. — Сколько нам еще придется говорить об этом? Ахкеймион — Нечистый!
Его охватил пыл убежденности, как будто знание обладало собственной яростью.
— Если богохульники убивают богохульников, значит, мы сэкономим масло и дрова!
Ксинем дернулся, словно от удара.
— Так, значит, ты ничего не будешь делать.
— Равно как и вы, маршал. Мы готовимся выступать. Падиражда собрал всех сапатишахов, от Гиргаша до Эумарны. На южном берегу весь Киан!
— В таком случае я слагаю с себя обязанности маршала Аттремпа, — сдавленным голосом произнес Ксинем. — Более того, я отрекаюсь от тебя, твоего отца и моей клятвы дому Нерсеев. Я более не рыцарь Конрии.
У Пройаса онемело лицо и руки. Такого не могло быть.
— Подумай, Ксин, — еле слышно выговорил он. — Все… Твои владения, твое имущество, поддержка твоей касты… Ты лишишься всего, что у тебя есть, — всего, что ты есть.
— Нет, Пройас, — сказал Ксинем, направляясь к выходу. — Это ты отказался от всего.
А потом он ушел.
Красный фитиль масляной лампы зашипел и погас. Сгустилась тьма.
Так много всего! Бесконечные сражения. Язычники. Бремя — неизмеримо тяжкое. Бесконечный страх перед будущим. И Ксинем всегда был рядом. Он всегда был! Человек, который понимал, который делал понятным то, что его изводило, который взваливал на себя непомерную ношу…
Акка.
Сейен милостивый… Что же он наделал?
Нерсей Пройас упал на колени, оцепенев от острой боли в груди. Но слезы не шли.
«Я знаю, ты испытываешь меня! Ты испытываешь меня!»
Два тела — одно тепло.
Кажется, так Келлхус говорил о любви?
Эсменет смотрела на Ксинема. Тот сидел с нерешительным видом, словно не был уверен, рады ли ему здесь. Он медленно провел рукой по лицу. Эсменет видела безумие в его глазах.
— Я разузнал все, что мог, — глухо произнес он.
Он имел в виду разговоры людей, которым надо чесать языком, чтобы поддержать репутацию.
— Нет! Ты должен сделать больше! Ты не можешь сдаться, Ксин. После того, что…
Боль в его глазах завершила фразу за Эсменет.
— В ближайшие дни Священное воинство переправится на южный берег, Эсми…
Он поджал губы.
Ксинем имел в виду, что вопрос о Друзе Ахкеймионе как раз сейчас очень удобно забыть, как забывают все трудные и вызывающие неловкость вопросы. Но как? Как мог человек, знающий Друза Ахкеймиона, приблизиться к нему, а потом отойти прочь, соскользнуть, словно простыни по сухой коже? Но они — мужчины. Мужчины сухие снаружи, а влажные лишь внутри. Они не могут смешивать, соединять свою жизнь с чужой. По-настоящему — не могут.
— М-может… — сказала она, вытирая слезы и изо всех сил стараясь улыбаться, — может, Пройасу одиноко… Может, он з-захочет расслабиться с…
— Нет, Эсми. Нет.
Горячие слезы. Эсменет медленно покачала головой; уголки ее губ опустились.
«Нет… Я должна что-нибудь сделать! Должно быть хоть что-нибудь, что я могу сделать!»
Ксинем посмотрел мимо нее на согретую солнцем землю, словно отыскивая слова.
— Почему бы тебе не остаться с Келлхусом и Серве? — спросил он.
Как много изменилось за столь краткий срок. Лагерь Ксинема перестал существовать — вместе со статусом его хозяина. Келлхус забрал Серве и присоединился к Пройасу. Это повергло Эсменет в смятение, хотя она понимала, чем руководствовался Келлхус. Как бы сильно он ни любил Акку, теперь он должен был заниматься остальными людьми. Но как она умоляла! Пресмыкалась! Она даже пыталась, ослепленная безумием, соблазнить его, хотя он в этом вовсе не нуждался.
Священная война. Священная война. Куда ни кинь — кругом эта гребаная Священная война!
А как же Ахкеймион?
Но Келлхус не мог перечить Судьбе. У него имелась куда более примечательная блудница, чтобы отвечать…
— А вдруг Акка вернется? — всхлипнула Эсменет. — Вдруг он вернется и не найдет меня?
Все ушли, но ее палатка — палатка Ахкеймиона — стояла по-прежнему. Эсменет цеплялась за место, где была счастлива. Теперь по приказу Ирисса аттремпцы обращались с ней уважительно. Они звали ее «женщина колдуна»…
— Тебе не следует оставаться здесь одной, — сказал Ксинем. — Ирисс вскоре уйдет вместе с Пройасом, а шайгекцы… Они захотят отплатить.
— Я справлюсь, — хрипло выдохнула Эсменет. — Я всю жизнь прожила одна, Ксин.
Ксинем поднялся на ноги, потом погладил Эсменет по щеке, осторожно стер слезинку.
— Береги себя, Эсми.
— Что ты собираешься делать?
Взгляд Ксинема устремился вдаль, то ли на окутанные дымкой зиккураты, то ли просто в никуда.
— Искать, — безнадежным тоном произнес он.
— Я поеду с тобой! — вскочив, воскликнула Эсменет.
«Я иду, Акка! Я иду!»
Ксинем, ничего не ответив, подошел к коню и вскочил в седло. Он вынул нож из-за пояса, затем высоко подбросил его. Нож вонзился в землю у ног Эсменет.
— Возьми, — сказал Ксинем. — Береги себя, Эсми.
Лишь сейчас Эсменет заметила в отдалении конных Динхаза и Зенкаппу. Они ждали бывшего лорда. Они помахали Эсменет, прежде чем устремиться следом за Ксинемом. Эсменет упала на землю и разрыдалась. Она спрятала лицо в горящих ладонях.
Когда она подняла голову, всадники уже исчезли.
Беспомощность. Если существует более давний спутник женщины, чем надежда, то это беспомощность. Да, конечно, женщине часто удается приобрести ужасающую власть над одним сердцем, но мир за пределами чувств принадлежит мужчинам. И именно в этом мире исчез Ахкеймион, в холодной тьме между костров.
Все, что она могла делать, это ждать… Есть ли на свете бо́льшая мука, чем ожидание? Ничто так болезненно не подчеркивает бессилие, как пустой ход времени. Мгновение за мгновением, одни — тусклые от неверия, другие — туго натянутые от беззвучных криков. Горящие светом мучительных вопросов. Где он? Что я буду делать без него? Темные от изнемогающей надежды. Он мертв. Я осталась одна.
Ожидание. То, что традиция предписывает женщине. Ждать у очага. Вглядываться — не поднимая глаз. Бесконечно спорить с ничем. Думать, не имея надежды на озарение. Повторять слова сказанные и слова подразумеваемые. Вплетать намеки в заклинания, как будто точность и сила их боли в движениях ее души может добраться до сути мира и заставить его поддаться.
Шли дни, и казалось, будто Эсменет превратилась в недвижную точку массивного колеса событий, в единственное сооружение, уцелевшее после того, как схлынуло половодье. Палатки и шатры падали, словно саваны, в которые заворачивают мертвецов. Загружались огромные обозы. Повсюду до самого горизонта метались всадники в доспехах, разнося тайные послания и тягостные приказы. Огромные колонны строились на пастбище и под крики и пение гимнов уходили прочь.
Так же, как уходило лето.
А Эсменет сидела одна. Она смотрела, как ветер шевелит примятую траву. Смотрела, как пчелы носятся над вытоптанной равниной. Она сохраняла видимость покоя, какой сопровождается проходящее потрясение.
Эсменет сидела перед палаткой Ахкеймиона, спиной к их жалким пожиткам, лицом к зияющему, выжженному солнцем простору, и плакала — звала его по имени, как будто он мог прятаться за рощицей черных ив, чьи зеленые ветви качались сами по себе, словно под порывами разных ветров.
Она почти видела его, припавшего к земле за черным стволом.
«Вернись, Акка… Они все ушли. Опасность миновала».
День. Ночь.
Эсменет вела свое собственное безмолвное расследование, дознание без надежды получить ответ. Она много думала об умершей дочери и проводила запретные сравнения. Она спускалась к Семпису и смотрела на его черные воды, не понимая, то ли ей хочется пить, то ли утопиться. Она словно видела саму себя в отдалении, как она машет руками…
Одно тело — никакого тепла.
День. Ночь. Мгновение за мгновением.
Эсменет была шлюхой, а шлюхи умеют ждать. Терпение нескончаемого страстного желания. Ее дни змеились, словно слова на свитке длиною в жизнь, и каждое шептало одно и то же: «Опасность миновала, любовь моя. Возвращайся». Опасность миновала.
С тех пор как Найюр покинул лагерь Ксинема, он проводил дни почти так же, как раньше: либо совещаясь с Пройасом, либо выполняя его просьбы. За недели, прошедшие после поражения на равнине Битвы, Скаур не терял времени. Он уступил земли, которые не мог удержать, — в том числе и северный берег Семписа. Он сжег все лодки, какие только сумел найти, чтобы помешать переправе армии айнрити, воздвиг сторожевые башни вдоль всего южного берега и собрал остатки своей армии. К счастью для шайгекцев и их новых хозяев-айнрити, он не стал жечь амбары и уничтожать при отступлении поля и сады. Вывод кианских войск с северного берега проходил очень продуманно. Скаур знал, что Хиннерет задержит Людей Бивня. Даже в Зиркирте, восемь лет назад, когда скюльвенды разбили фаним, те быстро оправились от поражения. Это был упорный и изобретательный народ.
Найюр знал, что Скаур пощадил северный берег потому, что собирался вернуть его себе.
И этот факт айнрити оказалось тяжеловато усвоить. Даже Пройас, во многом отбросивший дворянскую спесь и принявший опеку Найюра, не мог поверить, что кианцы все еще представляют собой реальную угрозу.
— Ты так уверен, что победишь? — спросил Найюр как-то вечером, ужиная наедине с принцем.
— Уверен? — переспросил Пройас. — Конечно.
— Почему?
— Потому, что так хочет мой Бог.
— А Скаур? Разве он не ответил бы точно так же?
Брови Пройаса сперва поползли на лоб, потом сошлись у переносицы.
— Но дело не только в этом, скюльвенд. Сколько тысяч мы убили? Сколько ужаса вселили в их сердца?
— Слишком мало тысяч — и чересчур мало ужаса.
Найюр рассказал, как сказители читали наизусть рифмованные строки, посвященные каждой нансурской колонне, истории, описывающие их эмблемы, оружие, манеру поведения в битве, чтобы, когда племена отправлялись в паломничество или на войну, они могли бы разобраться в построившемся для битвы нансурском войске.
— Вот почему Народ потерпел поражение при Кийуте, — сказал Найюр. — Конфас заставил свои колонны поменяться эмблемами; он рассказал нам лживую историю…
— Да любой дурак может разобраться в выстроенном войске противника! — выпалил Пройас.
Найюр пожал плечами.
— Тогда расскажи мне, какую историю ты прочел на равнине Битвы?
Пройас пошел на попятный.
— Да откуда, черт подери, мне это знать? Я узнал лишь…
— Я узнал их всех, — заявил Найюр. — Изо всех кианских великих домов — а их немало — на равнине Менгедда против нас выступило лишь две трети. Из них некоторые, похоже, прислали чисто символические отряды — это зависело от того, сколько врагов Скаур успел нажить среди равных ему. После истребления Священного воинства простецов многие язычники, включая падираджу, несомненно, с презрением отнеслись к следующему Священному воинству…
— Но теперь…
— Они не повторят своей ошибки. Они заключат соглашения с Гиргашем и Нильнамешем. Они вычистят все казармы, оседлают каждого коня, дадут оружие каждому сыну… Можешь не сомневаться — в этот самый момент они тысячами скачут к Шайгеку. На Священную войну они ответят джихадом.
После этого разговора Пройас стал все больше прислушиваться к предостережениям Найюра. На следующем совете, когда все Великие Имена, за исключением Конфаса, подняли Найюра вместе с его советами на смех, Пройас велел привести пленных, захваченных во время рейдов за реку. Они подтвердили все, о чем говорил Найюр. Через неделю, сказали эти бедолаги, сюда должны прибыть гранды из южных пустынь, даже из таких отдаленных краев, как Селевкара и Ненсифон. Похоже, некоторые из их имен были известны даже норсирайцам: Кинганьехои, прославленный сапатишах Эумарны, Имбейян, сапатишах Энатпанеи, и даже Дуньокша, деспотичный сапатишах, управлявший провинцией Амотеу.
Совет пришел к согласию. Священному воинству следовало пересечь Семпис как можно быстрее.
— Подумать только, — впоследствии признался Найюру Пройас, — ведь сперва я думал, что ты — не более чем полезная уловка, которую можно использовать против императора. Теперь ты — наш командующий, во всем, кроме титула. Ты это понимаешь?
— Я не сделал ничего такого, чего не мог бы сделать сам Конфас.
Пройас рассмеялся.
— Ты не берешь в расчет доверие, скюльвенд. Доверие.
Хотя Найюр усмехнулся в ответ, эти слова отчего-то резанули его. Да какое оно имеет значение, доверие псов и домашнего скота?
Найюр был рожден для войны и воспитан для нее. Она и только она была единственным в его жизни, что не вызывало сомнений. И потому он взялся за проблему штурма южного берега с удовольствием и необычным рвением. Пока Великие Имена руководили постройкой плотов и барж в таких количествах, чтобы их хватило для перевозки всего Священного воинства, Найюр руководил конрийцами, разыскивающими наилучшее место для высадки. Он водил свои отряды в ночные вылазки на южный берег и даже брал с собой картографов, чтобы те составили планы местности. Если что и произвело на него впечатление в военном искусстве айнрити, так это использование карт. Он присутствовал на допросах пленных и даже научил дознавателей Пройаса нескольким традиционным скюльвендским методам. Он разговаривал с теми айнрити, кто, как граф Атьеаури, наведывался на южный берег, дабы грабить и изводить противника, и расспрашивал, что они там видели. И он постоянно советовался с прочими, кто занимался той же задачей, — с графом Керджуллой, генералом Виакси Сомпасом и палатином Ураньянкой.
Он никогда не встречался и не разговаривал с Келлхусом, кроме как на советах у Пройаса. Дунианин сделался для него не более чем слухом.
Дни Найюра проходили точно так же, как и прежде. Но вот ночи…
Ночи были совершенно другими.
Он никогда не ставил свою палатку на одном и том же месте. Почти каждый вечер после захода солнца или после ужина с Пройасом и его дворянами он уезжал из лагеря конрийцев, мимо часовых, в поля. Он разводил свой костер и слушал, как ночной ветер шумит в кронах деревьев. Иногда, когда конрийский лагерь оказывался в пределах видимости, Найюр рассматривал его и считал костры, словно мальчишка-дурачок. «Всегда считай своих врагов, — когда-то сказал ему отец, — по сверканию их костров». Иногда Найюр смотрел на звезды и думал: может, и они тоже его враги? А время от времени он представлял, будто остановился на ночевку в глухой степи. Священной степи.
Он часто думал о Серве и Келлхусе. Найюр поймал себя на том, что снова и снова пытается понять, что же заставило его оставить Серве дунианину. Он — воин! Воин-скюльвенд! На кой ему, Найюру-Убийце, какая-то там женщина?
Но какими бы очевидными ни были его доводы, Найюр не мог перестать думать о ней. О полукружиях ее грудей. О гибкой линии ее бедер. Такой безукоризненной. Как он жаждал ее, жаждал как воин, как мужчина! Она была его добычей — его испытанием!
Найюр помнил, как притворялся, будто спит, и слушал, как она плачет в темноте. Он помнил жалость, тяжелую, словно весенний снег, придавившую его своим холодом. Каким же глупцом он был! Он думал об извинениях, об отчаянной мольбе, которая могла бы уменьшить ее отвращение, помогла бы ей увидеть. Ему грезилось, как он целует мягкую выпуклость ее живота. Он думал об Анисси, первой жене его сердца, которая спит сейчас при неярком свете их далекого очага и прижимает к себе их дочь, Санати, словно пытаясь укрыть ее от ужаса женской доли.
И еще он думал о Пройасе.
В худшие ночи он сидел во тьме палатки, обхватив себя руками за плечи, кричал и плакал. Он молотил землю кулаками, тыкал ее ножом. Он проклинал этот мир. Он проклинал небеса. Он проклинал Анасуримбора Моэнгхуса и это чудовище, его сына.
Он думал: «Так тому и быть».
В лучшие ночи он вообще не разбивал лагерь, а вместо этого ехал в ближайшее шайгекское селение, а там вламывался в дома и упивался криками. По какой-то прихоти он избегал домов, чьи двери были отмечены, как полагал Найюр, кровью ягненка. Но когда он обнаружил, что так помечены все двери, он перестал обращать на это внимание. «Убейте меня! — орал он на шайгекцев. — Убейте меня, и все прекратится!»
Вопящие мужчины. Визжащие девушки и безмолвные женщины.
Так он срывал свой гнев на других.
Прошла неделя, прежде чем Найюр нашел наилучшее место для плацдарма на южном берегу: мелкие приливные болота, протянувшиеся вдоль южного края дельты Семписа. Конечно же, все Великие Имена, за исключением Пройаса и Конфаса, взвились при этом известии, особенно после того, как их собственные люди вернулись и доложили, что это за местность. Они были рыцарями, рыцарями до мозга костей, приученными к конной атаке, а судя по всем описаниям, по такому болоту лошадь могла пройти разве что медленным шагом.
Но, конечно же, в этом-то и была суть.
На совете, проходившем в Иотии, Пройас попросил Найюра объяснить свой план присутствующим айнрити. Он развернул на столе, вокруг которого восседали Великие Имена, большую карту южной дельты.
— На Менгедде, — заявил Найюр, — вы узнали, что кианцы превосходят вас в скорости. А это означает, что не имеет значения, где вы соберетесь, чтобы переправиться через Семпис, — Скаур первым успеет подтянуть туда силы. Но на Менгедде вы узнали и силу ваших пехотинцев. И, что более важно, вы усвоили урок. Эти болота мелкие. Человек — даже человек в тяжелом доспехе — свободно пройдет через них, а вот лошадей придется вести. Как бы вы ни гордились своими лошадьми, кианцы гордятся своими больше. Они откажутся спешиться, и они не пошлют против вас своих недавно мобилизованных солдат. Что смогут новобранцы против людей, сокрушивших напор грандов? Нет. Скаур отступится от этих болот…
Он ткнул обветренным, грубым пальцем в карту, в точку к югу от болот.
— Он отступит вот сюда, к крепости Анвурат. Он отдаст вам весь этот выгон, куда вы сможете стянуть силы. Он уступит вам и землю, и ваших лошадей.
— Отчего ты настолько в этом уверен? — крикнул Готьелк. Изо всех Великих Имен старого графа Агансанора, похоже, больше всего тревожило варварское наследие Найюра — кроме Конфаса, конечно.
— Да оттого, — уверенно отозвался Найюр, — что Скаур — не дурак.
Готьелк грохнул кулаком по столу. Но прежде чем Пройас успел вмешаться, экзальт-генерал поднялся со своего места и сказал:
— Он прав.
Ошеломленные Великие Имена повернулись к нему. Со времен поражения под Хиннеретом Конфас по большей части держал свое мнение при себе. Его больше не жаждали слышать. Но услышать, как он поддерживает скюльвенда, да еще когда речь идет о таком дерзком плане…
— Как бы больно мне ни было это признавать, но скюльвендский пес прав. — Он взглянул на Найюра, и в глазах его одновременно светились смех и ненависть. — Он отыскал на южном берегу самое подходящее для нас место.
Найюр представил, как перерезает горло этому неженке.
После этого репутация скюльвенда как военачальника упрочилась. Он даже вошел в моду среди дворян айнрити, особенно среди айнонов и их жен. Пройас предупреждал Найюра о том, что так может случиться. «Их будет тянуть к тебе, — объяснил он, — как старых развратников тянет к молоденьким мальчикам». Найюра завалили приглашениями и предложениями. Одна женщина, особенно настырная, даже отыскала его на его стоянке. Найюр едва не удушил ее.
Пока рассредоточившееся по значительной территории Священное воинство стягивалось к Иотии, Найюра изводили мысли о Скауре, точно так же, как перед битвой при Кийуте его изводили мысли о Конфасе. Этот человек не ведал страха. История о том, как он стоял, один, и подрезал ногти, когда стрелы агмундрменских лучников Саубона втыкались в землю совсем рядом с ним, уже превратилась в легенду. А из допросов пленных кианцев Найюр узнал новые подробности: что Скаур — сторонник строгой дисциплины, что он наделен организаторским даром и что его уважают даже те, кто превосходит его по общественному положению, например, сын падираджи, Фанайял, или его прославленный зять, Имбейян. Кроме того, как-то так получилось, что Найюр много узнал от Конфаса, который время от времени припоминал всякие случаи из времен своей юности, когда он жил в заложниках у сапатишаха. Из его рассказов следовало, что Скаур — необыкновенно осторожный и необычайно злобный человек.
Изо всех этих свойств именно последнее, злобность, привлекло наибольшее внимание Найюра. Судя по всему, Скаур любил подмешивать в вино своим ничего не подозревающим гостям разнообразные айнонские и нильнамешские наркотики, вплоть до чанва. «Все те, кто пьет со мной, — процитировал однажды Конфас его слова, — пьет и сам с собою». Когда Найюр впервые услышал эту историю, он подумал, что это просто еще одно доказательство того, как роскошь отнимает у человека разум, подобающий мужчине. Но теперь он уже не был в этом уверен. Найюр понял, в чем смысл наркотиков, — в том, чтобы превратить гостей в иных по отношению к самим себе, в незнакомцев, с которыми можно чокнуться кубками.
А это означало, что коварный сапатишах любит не только хитрить и сбивать с толку — ему нравится показывать и доказывать…
Для Скаура надвигающаяся битва должна стать не просто схваткой — ему нужна демонстрация. Этот человек недооценил айнрити при Менгедде, поскольку видел лишь свою силу и слабость своих противников, точно так же, как Ксуннурит недооценил Конфаса при Кийуте. Теперь он даже не попытается одолеть Людей Бивня за счет силы. Скаур — не тот человек, чтобы повторять собственные ошибки. Скорее он попробует перехитрить их, выставить их дураками…
Так что же станет делать коварный старый воин?
Найюр поделился своими опасениями с Пройасом.
— Ты должен добиться, — сказал он принцу, — чтобы Багряные Шпили рассредоточились по всему войску.
Пройас приложил ладонь ко лбу.
— Элеазар будет сопротивляться, — устало сказал он. — Он уже заявил, что выступит лишь после того, как Священное воинство переправится через реку. Очевидно, его шпионы донесли ему, что кишаурим остались в Шайме…
Найюр нахмурился и сплюнул.
— Тогда у нас будет преимущество!
— Боюсь, Багряные Шпили берегут свои силы для кишаурим.
— Они должны сопровождать нас, — настаивал Найюр, — даже если они будут держаться в тени. Наверняка есть что-нибудь такое, что ты можешь им предложить.
Принц безрадостно улыбнулся.
— Или кто-нибудь, — произнес он с необычной печалью.
По крайней мере раз в день Найюр подъезжал к реке, взглянуть, как идет подготовка. Пойма вокруг Иотии лишилась всех деревьев, равно как и берега Семписа, где тысячи голых по пояс айнрити трудились над сваленными стволами — рубили, сколачивали, связывали. Можно было проехать целые мили, вдыхая запах пота, смолы, обтесанного дерева, и так и не увидеть, где это заканчивается. Сотни людей приветствовали Найюра, когда он проезжал мимо. Они встречали его криками: «Скюльвенд!» — как будто происхождение Найюра сделалось его славой и его титулом.
Найюру достаточно было взглянуть через Семпис, чтобы понять, что Скаур ждет их на том берегу. Всадники фаним — издалека они казались крохотными — постоянно патрулировали берег, причем целыми отрядами. Иногда Найюр слышал долетающие через реку тысячеголосые кличи, а иногда — грохот барабанов.
В качестве меры предосторожности на реке выстроились имперские военные галеры.
Священное воинство начало погрузку задолго до рассвета. Сотни грубо сработанных барж и тысячи плотов были спущены на воду и медленно двинулись через Семпис. К тому времени, как утреннее солнце позолотило реку, значительная часть огромной флотилии, заполненной встревоженными людьми и животными, уже была в пути.
Найюр переправился вместе с Пройасом и его ближайшим окружением. Ксинем отсутствовал, и это показалось Найюру странным, но потом он понял, что у маршала имелись свои люди, за которыми нужно было присмотреть. Но, конечно же, Келлхус сопровождал принца, и время от времени Пройас подходил к нему. Они обменивались острыми шутками, и Пройас смеялся. Найюра этот смущенный смех раздражал.
Найюр наблюдал, как росло влияние дунианина. Он видел, как тот постепенно взнуздал всех у костра Ксинема; Келлхус обрабатывал их сердца, как мастер-седельщик обрабатывает кожу, — дубил, мял, придавал нужную форму. Он видел, как Келлхус приманивает все новых и новых Людей Бивня зерном своего обмана. Он видел, как тот порабощает тысячи — тысячи! — при помощи незамысловатых слов и бездонных взглядов. Он видел, как Келлхус обхаживает Серве…
Он следил за этим, пока не почувствовал, что не может больше этого видеть.
Найюр изначально был осведомлен о способностях Келлхуса; он знал, что Священное воинство окажется во власти дунианина. Но знать и наблюдать — это две разные вещи. Найюру не было дела до айнрити. И все же, когда он видел, как ложь Келлхуса расползается, словно язва по коже старухи, он ловил себя на том, что боится за них — боится, хотя и презирает их. Как они из кожи вон лезли, подольщаясь, пресмыкаясь, раболепствуя. Как они унижались, и юные недоумки, и матерые воины. Просительные взгляды и умоляющие лица. О Келлхус… О Келлхус… Шатающиеся пьянчуги! Изнеженные, как бабы! Неблагодарные! Как легко они сдались!
И прежде всего это относилось к Серве. Смотреть, как она поддается, снова и снова. Видеть, как ее рука скользит меж бедер дунианина…
Неверная, вероломная, заблудшая сучка! Сколько раз он должен был ударить ее? Сколько раз он должен был ее взять? Сколько раз он должен был смотреть на нее во все глаза, ошеломленный ее красотой?
Найюр сидел на носу, скрестив ноги, смотрел на дальний берег, вглядывался в тень меж деревьев. Он видел отряды всадников — похоже, их там были тысячи, — сопровождавшие флотилию в медленном движении вниз по течению.
Воздух был неприятно влажный, промозглый. Беспокойные голоса разносились над водой: айнрити с разных плотов перекрикивались, по большей части обмениваясь шутками. Вокруг было видно слишком много голых задов.
— Вы только гляньте на эти задницы! — крикнул какой-то остряк, наблюдая за кианцами, скопившимися на противоположном берегу.
— Меня это достало! — проорал кто-то с соседнего плота.
— Что тебя достало? Язычники?
— Нет! То, что я в заднице!
На миг могло показаться, будто это сам Семпис зашелся громовым хохотом.
Но когда какой-то придурок оступился и упал в реку, настроение изменилось. Найюр видел, как это произошло. Этот тип сперва ударился об воду плашмя, а потом, поскольку на нем были доспехи, просто продолжил погружаться, и вскоре его потрясенные товарищи не могли разглядеть в воде ничего, кроме собственных отражений. Фаним на другом берегу разразились воплями и улюлюканьем. Пройас выругался и крепко обложил всех вокруг, кто оказался на расстоянии слышимости от него.
Некоторое время спустя принц оставил Келлхуса и протолкался на нос, к Найюру; глаза его сияли по-особенному. После разговора с Келлхусом так сияли глаза всякого, как будто человек только что пробудился от кошмара и обнаружил, что все его родные целы и невредимы.
Но в его поведении ощущалось нечто большее, скорее слишком ревностный дух товарищества, чем тень страха.
— Ты сторонишься Келлхуса, словно чумного.
Найюр фыркнул.
Пройас некоторое время смотрел на него; улыбка постепенно исчезла с его лица.
— Я понимаю, это нелегко, — сказал принц. Взгляд его скользнул от Найюра к язычникам, скапливающимся и движущимся потоком вдоль южного берега реки.
— Что нелегко? — спросил Найюр.
Пройас скривился, почесал в затылке.
— Келлхус рассказал мне…
— Что он тебе рассказал?
— Про Серве.
Найюр кивнул и плюнул в воду, бурлящую у носа баржи. Конечно же, дунианин ему рассказал. Отличный способ оправдать их разрыв! Проще не придумаешь! Какой наилучший способ объяснить отчуждение между двумя мужчинами? Правильно, женщина.
Серве… Его добыча. Его испытание.
Отличное объяснение. Простое. Правдоподобное. Отбивающее всякую охоту к дальнейшим расспросам…
Объяснение дунианина.
На некоторое время воцарилось молчание, неловкое от дурных предчувствий и превратных толкований.
— Скажи, Найюр, — в конце концов заговорил Пройас. — А во что верят скюльвенды? Каковы их законы?
— Во что я верю?
— Да… Конечно.
— Я верю в то, что ваши предки убили моего Бога. Я верю в то, что ваш народ несет ответственность за это преступление.
Голос Найюра не дрогнул. Его лицо осталось все таким же невозмутимым. Но, как всегда, он услышал адский хор.
— Так, значит, ты поклоняешься мести…
— Я поклоняюсь мести.
— И скюльвенды именно поэтому называют себя Народом войны.
— Да. Воевать означает мстить.
Правильный ответ. Так почему же эти вопросы так гнетут его?
— Чтобы вернуть то, что было отнято, — сказал Пройас; глаза его одновременно были и обеспокоенными, и сияющими. — Как наша Священная война за Шайме.
— Нет, — отозвался Найюр. — Чтобы убить отнявшего.
Пройас с беспокойством взглянул на него, потом отвел глаза.
— Ты куда больше нравишься мне, скюльвенд, когда я забываю, кто ты такой, — проговорил он с таким видом, словно сознавался в чем-то.
По мнению Найюра, вид у него сделался изнеженный и бабский.
Найюр отвернулся, разглядывая южный берег и выискивая на нем мужчин, которые убьют его, если смогут. Его не волновало, что там Пройас помнит и что забывает. Он — тот, кто он есть.
«Я — один из Народа!»
Флотилия айнрити, вытянувшаяся в длинную колонну, вошла в первый рукав дельты. Найюру стало любопытно: а что подумает Скаур, когда наблюдатели доложат ему, что они потеряли Священное воинство из виду? Он догадается, что это означает? Или просто испугается? Даже теперь имперские военные корабли могли бы занять позицию в самой южной из проходимых проток. Сапатишах вскоре узнает, где собралось высадиться Священное воинство.
Когда дело дошло до высадки, их изводили лишь москиты. Утро, а затем и день превратились в странное затишье перед неминуемой битвой. Так же, как и всегда. Почему-то воздух сделался свинцовым, мгновения падали, словно камни, а беспокойная тоска, не похожая ни на какую другую, делалась все более и более тяжкой; шеи каменели, а головы начинали болеть. Каждый — как бы он ни боялся поутру — обнаружил, что жаждет битвы, как будто ожидание насилия было куда более гнетущим, чем его осуществление.
Ночь прошла в неудобствах и беспамятстве на грани сна.
Они добрались до соленых болот к полудню следующего дня: темно-зеленое море тростника простиралось до самого горизонта. Внезапно оцепенение спало, и Найюр ощутил неистовство, словно перед атакой. Он с трудом брел вместе с остальными через болото, стараясь протащить баржу как можно дальше, и рубил высокий папирус мечом. Потом он оказался одним из многих тысяч, что тащились вперед, утаптывая заросли тростников до состояния топкой равнины. В конце концов были проложены дороги, ведущие на твердую землю южного берега. Найюр пошел вперед вместе с Пройасом, Келлхусом, Ингиабаном и отрядом рыцарей, дабы взглянуть, что их ждет. Как всегда в присутствии дунианина, у Найюра было неспокойно на душе, будто ему грозил удар с неведомой стороны.
На востоке они видели вдали буруны Менеанора. Впереди, на юге, местность повышалась, и груды камней постепенно переходили в скопление серо-черных холмов. На западе тянулась широкая полоса пастбищ, морщинистая, словно лоб глубоко задумавшегося человека, а за пастбищами темнели фруктовые сады. На стоящем на отшибе холме виднелись, едва различимые в туманной дымке, приземистые крепостные валы Анвурата. В отдалении время от времени проезжали рысью небольшие отряды всадников, но не более того.
Скаур отступил от южного берега. Как и предсказывал Найюр.
Пройас буквально-таки орал от радости.
— Вот идиоты! — восклицал Ингиабан. — Нет, ну какие идиоты!
Не обращая внимания на поток радостных возгласов, Найюр взглянул на Келлхуса и не удивился, увидев, что тот наблюдает и изучает. Найюр сплюнул и отвернулся; он отлично знал, что именно заметил дунианин.
Это было слишком просто.
Священное воинство весь день выбиралось из болота. Большинство народу ставило свои палатки уже в сумерках. Найюр слышал пение айнрити и насмехался над ними, как всегда. Он видел, как они преклоняли колени для молитвы, собравшись вокруг своих жрецов и идолов. Он прислушивался к их смеху и веселью и удивлялся тому, что это веселье кажется скорее искренним, чем наигранным, как следовало бы накануне битвы. Для них война не была свята. Для них война была средством, а не целью. Путем, ведущим к месту назначения.
К Шайме.
Но темнота приглушила их праздничное настроение. К югу и к западу, насколько хватало взгляда, пространство заполонили огоньки, словно угли, рассыпанные по складкам синей шерсти. Огни стоянок — бесчисленное множество костров, разведенных кианскими воинами, воинами с сердцами из дубленой кожи. Рокот их барабанов катился вниз по склонам.
На совете Великих и Малых Имен Люди Бивня, опьяненные успехом бескровной высадки, провозгласили Найюра своим королем племен — у них это называлось Господин Битвы. Икурей Конфас в ярости покинул совет, и его генералы и офицеры рангом пониже удалились вместе с ним. Найюр принял это молча; его обуревали слишком противоречивые чувства, чтобы ощущать гордость либо смущение. Рабам было велено вышить для него личное знамя — айнрити почитали знамена священными.
Некоторое время спустя Найюр наткнулся на Пройаса — тот стоял один в темноте и смотрел на бессчетные костры язычников.
— Как много… — негромко проговорил принц. — Что скажешь, Господин Битвы?
Пройас улыбнулся, но Найюру видно было в свете луны, как тот сжимает кулаки. И варвара поразило, каким юным сейчас казался принц, каким хрупким… Найюр словно бы впервые осознал катастрофические размеры того, что должно вскорости произойти. Народы, религии и расы.
Какое отношение такой молодой человек, почти мальчик имеет к этому всему? Как он будет жить?
«Он мог бы быть моим сыном».
— Я одолею их, — сказал Найюр.
Но когда он уже шел к своей одинокой стоянке на продуваемом ветрами побережье Менеанора, он злился на себя за эти слова. Кто он такой, чтобы давать подобные гарантии принцу айнрити? Какая ему разница, кто будет жить и кто умрет? Какое это имеет значение до тех пор, пока он будет вовлечен в убийство?
«Я — один из Народа!»
Найюр урс Скиоата, неистовейший из мужей.
Той же ночью, позднее, он сидел на корточках у пенного прибоя и мыл свой палаш в море, размышляя о том, как он когда-то сидел на туманном берегу далекого моря Джоруа вместе со своим отцом и занимался тем же самым. Он слушал рокот далеких бурунов и шипение воды, утекающей через песок и гальку. Он смотрел на сияющие просторы Менеанора и размышлял над его бездорожьем. Иная разновидность степи.
Что бы сказал его отец об этом море?
Потом, когда он точил свой меч для завтрашнего ритуала, из темноты беззвучно выступил Келлхус. Ветер сплел его волосы в льняные пряди.
Найюр ухмыльнулся по-волчьи. Отчего-то он не удивился.
— Что привело тебя сюда, дунианин?
Келлхус внимательно разглядывал его лицо в свете костра, и впервые это совершенно не беспокоило Найюра.
«Я знаю твою ложь».
— Ты думаешь, Священное воинство возьмет верх? — спросил Келлхус.
— Великий пророк! — фыркнул Найюр. — Небось, другие приходят к тебе с этим же самым вопросом?
— Приходят, — не стал спорить Келлхус.
Найюр плюнул в костер.
— Как там поживает моя добыча?
— С Серве все в порядке… Почему ты уклоняешься от ответа на мой вопрос?
Найюр презрительно усмехнулся и снова принялся за меч.
— А почему ты задаешь вопросы, когда и так знаешь ответ?
Келлхус ничего не сказал; он лишь стоял, вырисовываясь на фоне темноты, словно нечто не от мира сего. Ветер гнал дым в его сторону. Море рокотало и шуршало.
— Ты думаешь, что во мне что-то сломалось, — продолжал Найюр, ведя точильный камень вверх, к звездам. — Но ты ошибаешься… Ты думаешь, что я сделался более странным, более непредсказуемым, и потому представляю большую угрозу для твоего дела…
Он отвернулся от палаша и встретил взгляд бездонных глаз дунианина.
— Но ты ошибаешься.
Келлхус кивнул, но Найюру это было безразлично.
— Когда эта битва начнется, — сказал дунианин, — ты должен наставлять меня… Ты должен обучить меня войне.
— Я скорее перережу себе глотку.
Внезапный порыв ветра налетел на костер и понес искры к берегу. Ветер был приятным — как будто женщина перебирает твои волосы.
— Я отдам тебе Серве, — сказал Келлхус.
Меч с лязгом упал к ногам Найюра. На миг он словно подавился льдом.
— А на кой ляд мне твоя беременная шлюха? — презрительно бросил скюльвенд.
— Она — твоя добыча, — сказал Келлхус. — Она носит твоего ребенка.
Почему он с такой силой желает ее? Глуповатая девица, случайно подвернувшаяся ему под руку, — ничего больше она из себя не представляет. Найюр видел, как Келлхус использует ее, как он ее обрабатывает. Он слышал слова, которые тот велел ей говорить. Для дунианина не бывает слишком мелких орудий, слишком простых слов, слишком кратких мгновений. Он использовал резец ее красоты, молоток ее персика… Найюр это видел!
Так как же он может даже думать…
«Война — это все, что у меня есть!»
Волны Менеанора вздымались и с грохотом разбивались о берега. Ветер пах солью. Найюру казалось, будто он смотрит на дунианина целую вечность. В конце концов он кивнул, хотя и понимал, что отказывается от последней возможности влиять на творящуюся мерзость. После этого у него не будет ничего, кроме слова дунианина…
У него не будет ничего.
Но когда Найюр закрыл глаза, он увидел ее, почувствовал ее, мягкую и податливую, смятую его телом. Она — его добыча! Его испытание!
Завтра, после ритуала…
Он возьмет то возмещение, какое сумеет.
Глава 14. Анвурат
«Есть некое отличие в знании, что внушает уважение. Вот почему истинный экзамен для каждого ученика лежит в унижении его наставника».
Готагга, «Первый аркан»«Дети здесь вместо палок играют с костями, и когда я вижу их, то невольно задумываюсь: правоверной плечевой костью они размахивают или языческой?»
Неизвестный автор «Письмо из Анвурата»4111 год Бивня, конец лета, Шайгек
Икурей Конфас просмотрел последние донесения разведки, заставив Мартема стоять рядом в неведении. Полотняные стены штабного шатра были свернуты и подняты, дабы облегчить движение. Офицеры, гонцы, секретари и писцы сновали туда-сюда между освещенным шатром и окружающей темнотой нансурского лагеря. Люди тихо переговаривались; их лица были настолько непроницаемы, что по ним почти ничего нельзя было понять; взгляды сделались вялыми от настороженного ожидания битвы. Эти люди были нансурцами, и ни один народ не потерял в стычках с фаним столько своих сыновей, как они.
Какая битва! И он — он! Лев Кийута! — будет в ней кем-то чуть повыше младшего офицера…
Ну да ничего. Пусть она будет солью к меду, как говорят айноны. Горечь сделает месть более сладкой.
— Я решил, что, когда рассветет и скюльвендский пес поведет нас в битву, — сказал Конфас, все еще изучая документы, разложенные перед ним на столе, — ты, Мартем, будешь моим представителем.
— Будут ли у вас какие-либо особые указания? — чопорно поинтересовался генерал.
Конфас поднял голову и удостоил этого человека с квадратной челюстью изучающего взгляда. Почему он до сих пор позволяет Мартему носить синий генеральский плащ? Ему следовало бы продать этого идиота работорговцам.
— Ты думаешь, что я даю тебе это поручение потому, что доверяю тебе так же сильно, как не доверяю скюльвенду… Но ты ошибаешься. Как бы я ни презирал этого дикаря, как бы мне ни хотелось увидеть его мертвым, я доверяю ему в вопросах войны…
Да и неудивительно, подумалось Конфасу. Каким бы странным это ни казалось, некоторое время этот варвар был его учеником. Со времен битвы при Кийуте, если не дольше…
Неудивительно, что Судьбу называют блудницей.
— Но ты, Мартем, — продолжал Конфас, — тебе я вообще едва ли доверяю.
— Тогда почему вы даете мне такое задание?
Никаких заверений в собственной невиновности, никаких уязвленных взглядов или стиснутых кулаков… Лишь стоическое любопытство. Конфас вдруг осознал, что Мартем, при всех своих слабостях, остается незаурядным человеком. Да, это будет серьезная потеря.
— Из-за твоего незавершенного дела. — Конфас вручил несколько листов своему секретарю, потом опустил голову, словно изучая следующий пергаментный свиток. — Мне только что сообщили, что скюльвенда сопровождает князь Атритау.
Он одарил генерала ослепительной улыбкой.
На миг Мартем застыл с каменным лицом.
— Но я же вам сказал… Он… он…
— Довольно! — прикрикнул Конфас. — Сколько времени прошло с тех пор, когда ты в последний раз извлекал свой меч из ножен, а? Если бы я сомневался в твоей верности, я бы посмеялся над твоей доблестью… Нет. Ты будешь только наблюдать.
— Тогда кто…
Но Конфас уже махнул рукой, подзывая троих — убийц, предоставленных его дядей. Двое, по внешности нансурцы, были всего лишь внушительными — а вот на третьего, чернокожего зеумца, даже офицеры Конфаса поглядывали с опаской. Он возвышался над толпой на добрую голову; у него была грудь, как у буйвола, и желтые глаза. Он был облачен в тунику в красную полоску и в чешуйчатый доспех императорских наемных частей, хотя за спиной у него висела кривая сабля, талвар.
Зеумский танцор с мечом. Ксерий проявил воистину императорскую щедрость.
— Эти люди, — сказал Конфас, холодно глядя на генерала, — выполнят работу…
Он подался вперед и понизил голос, чтобы его нельзя было подслушать.
— Но ты, Мартем, именно ты принесешь мне голову Анасуримбора Келлхуса.
Что промелькнуло в его глазах? Ужас? Или надежда?
Конфас снова откинулся на спинку кресла.
— Можешь для удобства завернуть ее в плащ.
Протяжное пение труб айнрити разорвало предрассветный полумрак, и Люди Бивня поднялись, уверенные в своей победе. Они закрепились на южном берегу. Они уже встречались с этим врагом и сокрушили его. Они вступят в битву всей своей объединенной мощью. И что самое важное, среди них шел сам Бог — они видели его в тысячах блестящих глаз. Им казалось, будто копья превратились в знаки Бивня.
Повсюду звучали команды танов, баронов и их майордомов. Люди поспешно облачались. Между шатрами потоком текли всадники. Воины в доспехах становились в кружок, опускались на колени и молились. Они передавали друг другу вино, поспешно ломали и проглатывали хлеб. Отряды двигались к своим местам в строю; одни пели, другие держались настороженно. Жены и проститутки, сбившись в небольшие группки, махали руками и яркими шарфами проезжающим кавалеристам. Жрецы нараспев произносили самые проникновенные благословения.
Когда солнце позолотило воды Менеанора, айнрити уже выстроились на поле. В нескольких сотнях шагов напротив них тянулась огромная дуга — серебристые доспехи, пестрые халаты, гарцующие лошади. От южных возвышенностей до темных вод Семписа, и до самого горизонта, куда ни глянь, повсюду были фаним. Крупные отряды всадников рысцой двигались через северные луга. На стенах и башнях Анвурата поблескивало оружие. На юге, у мелководья, обнесенного дамбой, темнел строй копейщиков. На холмах, спускающихся к морю, тоже скопились всадники. Казалось, будто все вокруг кишит язычниками.
Строй айнрити бурлил, в соответствии с привычками и ненавистью народов, составлявших его. Буйные галеоты сыпали оскорблениями и насмешками, припоминая кианцам предыдущую бойню. Величественные рыцари Конрии выкрикивали проклятия из-за посеребренных боевых масок. Свирепые туньеры обменивались клятвами со своими братьями по оружию. Дисциплинированные нансурцы стояли неподвижно, ожидая приказов своих офицеров. Шрайские рыцари, сжав губы, смотрели в небо и страстно молились.
Надменные айноны, тревожащие и бесстрастные в своей белой боевой раскраске. Тидонцы в черных доспехах, угрюмо оценивающие количество дворняг, которое им придется перебить.
Сотни сотен знамен реяли на утреннем ветру.
Что за сделку он совершил? Сменял войну на женщину…
Найюр во главе небольшого отряда офицеров, наблюдателей и гонцов поднялся по каменистому склону холма, возвышающегося посреди лугов. Келлхус ехал рядом с ним. Пройас снабдил Найюра рабами, и они поспешно исполняли его приказы, сгружая подмости с повозок, устанавливая навесы и раскладывая ковры на земле. Рабы подняли его знамя, сделанное специально для этого случая: две молнии, вышитые на белом шелке, каждая перехвачена поперечными красными нашивками, а по бокам размещены конские хвосты, развевающиеся на ветру с моря.
Айнрити уже прозвали его «Знамя-Свазонд». Знак их Господина Битвы.
Найюр подъехал к краю и изумленно оглядел открывшуюся его взгляду картину.
Внизу, насколько хватало глаз, темнело Священное воинство и терялось вдали — огромные прямоугольники пехотинцев, шеренги и колонны рыцарей в отполированных доспехах. Напротив них по холмам и лугам рассыпались ряды язычников, сверкающие под лучами утреннего солнца. В отдалении виднелась крепость Анвурат — настолько маленькая отсюда, что ее можно было заслонить двумя пальцами; ее стены и парапеты украшали шафрановые знамена.
В воздухе висел гул бесчисленных возгласов. Неясные отзвуки далеких боевых труб заглушались пронзительным пением таких же труб, но поближе. Найюр вдохнул полной грудью и почувствовал запахи моря, пустыни и речной сырости — и ничего от этого нелепого зрелища, разворачивающегося перед ним. Если закрыть глаза и заткнуть уши, можно вообразить, будто он здесь один…
Он спешился, надменно сунув поводья дунианину. Оглядывая равнину, Найюр принялся выискивать слабые места в построении айнрити. Через милю их знамена превращались в выступы над кружевом шеренг, потому Найюру оставалось лишь принять на веру, что расположенные подальше Великие Имена построились именно так, как было договорено. Айноны, вставшие на самом краю южного фланга, отсюда казались темными пятнами, протянувшимися вдоль невысоких склонов прибрежных холмов.
Найюр вдруг осознал присутствие Келлхуса и прищурился. Келлхус был одет в накидку из белой парчи, с разрезами до самой талии, на конрийский манер, так, чтобы она не мешала двигаться. Под этим одеянием на нем были кианские латы — возможно, прихваченные с равнины Битвы, — и плиссированная юбка конрийского рыцаря. Шлем он взял нансурский, с открытым лицом, даже без наносника. Как всегда, из-за левого плеча дунианина выглядывала длинная рукоять меча. Из-за кожаного пояса торчали два ножа грубой работы, с рукоятками, изукрашенными в туньерском зверином стиле. На накидке кто-то вышил справа на груди красный Бивень Священной войны.
От этого соседства у Найюра мурашки побежали по коже.
Что за сделку он совершил?
Никогда еще у Найюра не было такой тяжелой ночи, как предыдущая. Почему? — кричал он Менеанору. Почему он согласился учить дунианина войне? Войне! Ради Серве? Ради безделушки, подобранной в Степи?
Ради пустого места?
За прошедшие месяцы он сменял многое. Честь на обещание мести. Кожу на бабские шелка. Свой якш на шатер принца. Сотни немытых утемотов на тысячи и тысячи айнрити…
«Господин Битвы… Король племен!»
Несмотря ни на что, эта мысль пьянила его, да так, что от ликования у него шла кругом голова. Какое войско! Оно протянулось от реки до холмов, почти на семь миль, и все равно стоит во много рядов! Народ никогда не смог бы собрать такую орду, даже если опустошить все якши и посадить в седло всех до последнего мальчишки. И он, Найюр урс Скиоата, укротитель коней и мужей, командует этим войском! Чужеземные принцы, графы и палатины, бесчисленные таны и бароны и даже сам экзальт-генерал подчиняются ему! Икурей Конфас, ненавистный победитель при Кийуте!
Как к этому отнесется Народ? Станут ли они восхвалять его? Или будут плеваться и поносить его имя всю оставшуюся жизнь?
Но разве не всякая война, не всякое сражение святы? Разве победа не есть знак праведности? Если он сокрушит фаним, бросит их к своим ногам, как тогда Народ отнесется к его сделке? Скажут ли они в конце концов: «Этот человек, проливший множество крови, воистину из нашей земли»?
Или они станут перешептываться у него за спиной, как перешептывались всегда? Станут смеяться над ним, как всегда смеялись?
«Ты — имя нашего позора!»
А если он преподнесет Народу айнрити? Что, если он погубит их? Что, если он прискачет домой с головой Икурея Конфаса у седла?
— Скюльвенд, — сказал стоящий рядом Анасуримбор.
«Этот голос!»
Найюр, моргнув, взглянул на Келлхуса.
«Скаур! — кричали глаза дунианина. — Здесь наш враг — Скаур!»
Найюр повернулся к ожидающим айнрити. Он слышал, как они тихо переговариваются позади. Все Великие Имена, за исключением Пройаса, прислали своих представителей — как полагал Найюр, и для того, чтобы давать советы, и для того, чтобы приглядывать за ним. Он помнил многих из них по советам Великих и Малых Имен: тан Ганрикка, генерал Мартем, барон Мимарипал и прочие. Отчего-то у него вдруг засосало под ложечкой…
«Надо сосредоточиться! Здесь враг — Скаур!»
Он сплюнул на пыльную траву. Все было готово. Айнрити построились с воодушевляющей быстротой и точностью. Скаур расположил свои войска именно так, как ожидал Найюр. Вроде бы сделано все, что можно, и все-таки…
«Время! Мне нужно время!»
Но времени у него не было. Война пришла, и он согласился отдать ее секреты в обмен на Серве. Он согласился уступить последнее средство воздействия, которым владел. После этого у него не останется ничего, чтобы обеспечить его возмездие. Ничего! После этого у Келлхуса не останется никаких причин сохранять ему жизнь.
«Я опасен для него. Единственный человек, знающий его тайну…
Так что же она такое, что он согласился погубить себя ради нее? Что она такое, что он согласился в обмен на нее отдать войну?
Со мной что-то неладно… Что-то неладно.
Нет! Ничего! Ничего!»
— Командуйте общее наступление! — рявкнул он, снова поворачиваясь к полю битвы. Сзади зазвучал хор взволнованных голосов. Вскоре небо разорвало пение труб.
Келлхус неотрывно смотрел на него своими сияющими, пустыми глазами.
Но Найюр уже отвел взгляд и принялся осматривать просторы, открывающиеся на западе, и выстроившиеся там шеренги и прямоугольники Священного воинства. Длинные шеренги доспешных всадников рысью двинулись вперед, за ними — располагавшиеся позади пехотинцы; они шли, словно человек, спешащий поприветствовать друга. Выстроившиеся примерно в полумиле от них фаним ждали, пока айнрити преодолеют этот отрезок пересеченной местности, сдерживали своих разгоряченных породистых коней и пригибались к их шеям, поднимая копья и щиты. С холмов понесся рокот барабанов.
Дунианин маячил на краю видимости, царапающий, словно смертный укор.
«Что-то неладно…»
Лорды айнрити, стоявшие позади, запели.
По всей протяженности строя рыцари айнрити быстро обогнали пеших воинов. Из кустарника разбегались зайцы, мчались по иссушенной земле. Подкованные копыта сминали сухую траву. Вскоре Люди Бивня пересекли кочковатое пастбище; за ними тянулся огромный шлейф пыли. Небо потемнело от стрел язычников. Пронзительно заржали падающие лошади. Рыцари в доспехах катились по земле, и их топтали свои же соратники. Но Люди Бивня сокрушили поле копытами своих коней. Подпрыгивающие наконечники копий принялись описывать круги перед приближающейся стеной язычников, что словно была обнесена изгородью из серебристых шипов. Ненависть стискивала зубы. Военные кличи превратились в крики экстаза. Сердца и тела звенели от восторга. Есть ли еще что-либо столь же чистое, столь же ясное? Войско, раскинувшееся, словно распростертые руки, обняло своих врагов.
Проповедь была проста.
Бей.
Умирай.
Серве осталась совсем одна. Она избегала общества жрецов и женщин, собравшихся на молитву в разных уголках лагеря. Она уже помолилась своему богу. Она поцеловала его и заплакала, когда он уехал, чтобы присоединиться к скюльвенду.
Серве сидела у их костра и кипятила воду для чая, как велел жрец-целитель Пройаса. Ее смуглые руки и плечи горели под лучами встающего солнца. Здесь под редкой травой скрывался песок, и Серве чувствовала, как песчинки натирают нежную кожу под коленками. Шатер вздымался и хлопал, словно паруса корабля на ветру, — странная песня, со вставленными наугад крещендо и бессмысленными паузами. Серве не боялась, но ее беспокоили разные мысли, вгоняющие в замешательство.
«Почему он должен рисковать собой?»
Потеря Ахкеймиона наполнила ее жалостью к Эсменет и страхом за себя. До его исчезновения Серве словно бы не осознавала, что живет посреди войны. Это скорее походило на паломничество — не такое, когда верующие путешествуют, чтобы посетить какое-либо священное место, а такое, когда люди пускаются в путь, чтобы доставить что-либо святое.
Чтобы доставить Келлхуса.
Но если Ахкеймион, великий колдун, мог исчезнуть, стать жертвой обстоятельств, не может ли оказаться так, что и Келлхус тоже исчезнет?
Эта мысль не столько пугала ее — она была слишком невероятной, — сколько сбивала с толку. Человек не может бояться за Бога, но человек может недоумевать, не понимая, следует ли ему бояться.
Боги могут умереть. Скюльвенды поклоняются мертвому Богу.
«А Келлхус боится?»
Это тоже было немыслимо.
Серве показалось, будто она услышала что-то позади — тень какого-то звука, — но тут у нее закипела вода. Она встала, чтобы снять грубый чайник при помощи палок. Как ей не хватало рабов Ксинема! Ей удалось поставить чайник на землю, не обжегшись, — небольшое чудо. Серве выпрямилась, переводя дыхание и потирая поясницу, и тут теплая рука обняла ее и легла на ее раздавшийся живот. Келлхус!
Улыбнувшись, Серве полуобернулась, прижалась щекой к его груди и обвила его шею рукой.
— Что ты делаешь? — рассмеялась она и озадачилась. Келлхус словно бы стал пониже. Он что, стоит в каком-то углублении?
— Война вызывает голод, Серве. А голод некоторого рода следует удовлетворять.
Серве зарделась и снова подивилась тому, что он избрал ее — ее!
«Я ношу его ребенка».
— Но как? — пробормотала она. — А как же битва? Разве ты о ней не беспокоишься?
Его глаза смеялись; он увлек ее ко входу в их шатер.
— Я беспокоюсь о тебе.
Его айнритийская свита переговаривалась и веселилась у него за спиной, восклицая на разные голоса: «Смотрите! Смотрите!»
Куда бы Найюр ни обращал взор, повсюду он видел великолепие и ужас. Справа от него галеоты и тидонцы галопом скакали через северные пастбища навстречу толпам кианских кавалеристов. Прямо перед ним тысячи конрийских рыцарей гнали лошадей к высотам Анвурата. Слева от него туньеры, а за ними нансурские колонны неумолимо продвигались на запад. И лишь край южного фланга, скрытый завесой пыли, оставался загадкой.
Сердце Найюра колотилось. Дыхание сделалось прерывистым. «Слишком быстро! Все происходит слишком быстро!»
Саубон и Готьелк обратили в бегство фаним и теперь гнались за ними сквозь тучи пыли.
Пройас со своими рыцарями в тяжелых доспехах врезался в ощетинившуюся копьями огромную шайгекскую фалангу. Его пехотинцы двигались за ним по пятам и теперь скопились под южными бастионами Анвурата; они несли с собой мантелеты и огромные лестницы, поверху окованные железом. Лучники держали галереи под непрерывным обстрелом, а люди и упряжки быков тем временем волокли на позиции разнообразные осадные машины.
Скайельт и Конфас продвигались по лугу на юг, придерживая свою кавалерию в резерве. Им преграждал путь ряд земляных укреплений, невысоких, но слишком крутых, чтобы штурмовать их верхом. Как и предполагал Найюр, сапатишах разместил за насыпями новобранцев. Благодаря этим укреплениям весь центр войска Скаура мог бы оказаться недоступным для атаки, если бы Найюр не приказал вытащить из болот несколько сотен плотов и раздать их туньерам и нансурцам. И вот теперь нансурцы под градом копий и дротиков устанавливали первые плоты, превращая их в импровизированные пандусы.
Генерал Сетпанарес и его десятки тысяч айнонских рыцарей оставались невидимыми. Найюр мог рассмотреть лишь самый край пехоты, выстроившейся фалангой — с этого расстояния они казались не более чем тенью фаланги, — но ничего более.
«Псы уже грызут мои внутренности!»
Он взглянул на Келлхуса.
— Поскольку Скаур обезопасил свои фланги за счет особенностей местности, — объяснил Найюр, — это сражение будет относиться к типу йетрут, прорыву, а не к унсваза, охвату. Войска, как и люди, предпочитают сходиться с врагом лицом к лицу. Окружи их или прорви их ряды, напади на них с флангов или с тыла…
Он намеренно не договорил. Ветер развеял пыль, и вдали показались южные холмы. Вглядевшись, Найюр различил тонкие нити; это могли быть лишь айнонские рыцари, отступающие на всем их двухмильном участке. Кажется, они перестраивались на склонах. За ними толпилась айнонская пехота.
Кианцы по-прежнему удерживали высоты.
«Нужно было поставить айнонов в центр! Кого Скаур разместил на том фланге? Имбейяна? Сварджуку?»
— И так ты сокрушишь своих врагов? — спросил Келлхус.
— Что?
— Напав на них с флангов или с тыла…
Найюр встряхнул черной копной волос.
— Нет. Так ты убедишь своих врагов.
— Убедишь?
Найюр фыркнул.
— Эта война, — отрывисто бросил он по-скюльвендски, — такая же как твоя, только по-честному.
Келлхус никак не показал, что это его задело.
— Вера… Ты говоришь, что сражение — это спор двух вер… Дискуссия.
Найюр, сощурившись, снова уставился на юг.
— Сказители называют сражение «оетгаи вутмага», великая ссора. Оба войска выходят на поле, веря, что именно они — победители. Одному воинству придется в этом разувериться. Нападай на него с флангов или с тыла, внушай ему страх, сбивай его с толку, потрясай его, убивай его: все это — доводы в споре, предназначенные для того, чтобы убедить твоего врага в том, что он побежден. Тот, кто поверит, что он побежден, и есть побежденный.
— Значит, в сражении, — сказал Келлхус, — убеждение становится правдой.
— Как я сказал, это честно.
«Скаур! Я должен думать о Скауре!»
Охваченный внезапным беспокойством, Найюр рванул свой кольчужный доспех, словно тот был ему тесен. Выкрикнув несколько отрывистых команд, он отправил гонца к генералу Сетпанаресу. Ему нужно было знать, кто отбросил айнонов от холмов, — хотя Найюр понимал, что к тому времени, как гонец вернется, судьба битвы уже наверняка будет решена. Потом он приказал трубачам напомнить генералу, чтобы тот позаботился о своих флангах. Из соображений целесообразности они переняли нансурский способ связи: по полю были расставлены группы трубачей, передающих закодированные сигналы, которые представляли собой небольшое количество предупреждений и команд. Айнонский генерал производил впечатление человека трезвомыслящего, но его король-регент, Чеферамунни, оказался редкостным кретином.
Айноны были народом тщеславным и изнеженным — и Скаур не мог не принять этого во внимание.
Найюр взглянул на нансурцев и туньеров. Дальние колонны, соседствующие с айнонами, уже, похоже, пошли в атаку по своим настилам. Ближние, в которых Найюр даже мог разглядеть отдельных людей, устанавливали первые плоты. И там, где они падали, исчезало несколько шайгекцев — их просто раздавливало. Первый туньер с воплем ринулся вперед…
Тем временем Пройас со своими рыцарями пробился через рассыпавшиеся ряды шайгекцев. Солнечный свет сверкал на их вздымающихся и опускающихся мечах. Но дальше к западу, за деревней с глинобитными домиками и темнеющими садами, в тылу у шайгекцев, Найюр видел шеренги приближающихся всадников — видимо, резерв Скаура. Он не мог разглядеть сквозь дымку их гербов, но их численность внушала беспокойство… Найюр отправил гонца предупредить конрийцев.
«Все идет по плану…» Найюр знал, что шайгекцы, стоящие под Анвуратом, рухнут под яростью атаки Пройаса. И он предполагал, что Скаур это тоже понимает: вопрос заключался в том, кого сапатишах пошлет в образовавшуюся брешь…
«Возможно, Имбейяна».
Потом он взглянул на север, на открытую местность, где кавалерия фаним отступила перед Готьелком и Саубоном, так что в результате центром их внимания сделался крепкостенный Анвурат.
— Видишь, как Скаур срывает планы Саубона? — спросил он.
Келлхус оглядел луга и кивнул.
— Он не столько сражается, сколько тянет время.
— Он отходит на севере. Галеотские и тидонские рыцари обладают преимуществами в гайвуте, в ударе. А кианцы — в утмурзу, сплоченности, и в фира, скорости. Хотя фаним не в состоянии выдержать атаку айнрити, они достаточно быстры и сплоченны, чтобы исполнить малк унсвара, защитный обхват.
Едва произнеся эти слова, Найюр увидел, как по сторонам от северян хлынули потоки кианской кавалерии.
Келлхус кивнул, не отрывая глаз от разыгрывающейся вдали драмы.
— Когда нападающий увлечется атакой, он рискует поставить свои фланги под удар.
— Что айнрити обычно и делают. Их спасает лишь исключительная ангтома, отвага.
Рыцари айнрити, внезапно оказавшись в окружении, не сдавали своих позиций. На некотором расстоянии от них галеотская и тидонская пехота продолжала с трудом продвигаться вперед.
— Их убежденность, — сказал Келлхус.
Найюр кивнул.
— Когда сказители перед битвой дают советы вождям, они просят их никогда не забывать, что на войне все люди связаны друг с другом, одни цепями, другие веревками, третьи бечевками, и все это — разной длины. Они называют эту связь майютафиюри, узы войны. Именно через них описывается сила и подвижность ангтомы, отряда. Кианцев Народ назвал бы труту гаротут, люди длинной цепи. Их можно разогнать, но они снова стянутся воедино. Галеотов и тидонцев мы бы назвали труту хиротут, людьми короткой цепи. Оставшись в одиночестве, такие люди будут сражаться и сражаться. Лишь бедствие или утгиркоу, изнеможение, могут разорвать цепи таких людей.
Пока они наблюдали за этим участком, фаним рассыпались под ударами длинных мечей норсирайских рыцарей, отступили и заново сгруппировались западнее.
— Командир, — продолжал Найюр, — должен непрестанно оценивать бечевки, веревки и цепи врагов и своих людей.
— Так, значит, север тебя не беспокоит.
— Нет…
Найюр развернулся к югу; его охватили дурные предчувствия, необъяснимое ощущение рока. Похоже, айнонские рыцари почему-то отступали, хотя над холмами висела такая пыль, что сказать этого наверняка было нельзя. Пехота продолжала подъем, вдоль всей протяженности строя. Найюр послал гонцов к Конфасу, с просьбой отправить кидрухилей в тыл к айнонам. Он приказал трубачам передать сигнал Готиану…
— Вот, — сказал он Келлхусу. — Видишь, как продвигается айнонская пехота?
— Да… Похоже, какие-то отряды смещаются вправо.
— Люди невольно, сами того не замечая, отклоняются вправо, под защиту щита соседа. Когда фаним атакуют, они сосредоточатся на этих подразделениях — вот увидишь…
— Потому, что те проявляют недостаточную дисциплину.
— Это зависит от того, кто ими командует. Если бы их вел Конфас, я бы сказал, что они отклоняются вправо нарочно, чтобы отвлечь внимание кианцев от своих менее опытных подразделений.
— Уловка.
Найюр крепко вцепился в свой пояс с железными бляхами. По его рукам пробежала дрожь.
«Все идет по плану!»
— Знай то, что знают твои враги, — сказал он, отворачиваясь, чтобы скрыть выражение лица. — Связи следует оборонять настолько же яростно, насколько яростно их атакуют. Используй знания о твоем враге, уловки, особенности местности, даже речи или примеры доблести, чтобы контролировать ситуацию и влиять на нее. Не терпи ни малейшего неверия. Приучай свое войско не поддаваться неверию, а все его проявления карай смертью.
«Что сейчас делает Сетпанарес?»
— Иначе их число увеличится, — заметил Келлхус.
— Народ, — сказал Найюр, — хранит много историй о нансурских колоннах, погибших целиком, до последнего человека… Сердца таких людей невозможно сломить. Но большинство смотрят на других в поисках того, чему можно верить.
— А потеря всех убеждений — это разгром? Это мы видели на равнине Битвы?
Найюр кивнул.
— Именно потому кнамтури, бдительность, — величайшая добродетель командующего. Необходимо постоянно читать поле боя. Знаки следует непрестанно оценивать и взвешивать. Нельзя упустить гобозкой!
— Момент решения.
Найюр помрачнел, припоминая, что произносил этот термин некоторое время назад, на том судьбоносном совете у императора, в Андиаминских Высотах.
— Момент решения, — повторил он.
Он по-прежнему смотрел на прибрежные холмы, следя за едва различимыми рядами пехоты, что поднимались на далекие склоны. Генерал Сетпанарес отвел своего коня… Но почему?
Фаним поддавались по всему фронту, кроме южного фланга. Что же так терзает его?
Найюр взглянул на Келлхуса и увидел, что тот изучает дали так же внимательно, как обычно изучал души. Порыв ветра бросил прядь волос ему на лицо.
— Боюсь, — сказал дунианин, — что этот момент уже миновал.
…Серве расслышала в промежутках между собственными вскриками пение боевых труб.
— Но как? — с трудом выдавила она.
Она лежала на боку, уткнувшись лицом в подушки, на которые ее толкнул Келлхус. Он проник в нее сзади; Серве ощущала спиной жар, исходящий от его груди; его рука поддерживала ее колено. Каким иным он ощущался!
— Что — как, милая Серве?
Он вошел глубже, и она застонала.
— Такой другой, — выдохнула она. — Ты кажешься совсем другим.
— Это для тебя, милая Серве… Для тебя…
Для нее! Серве прижалась к нему.
— Да-а… — простонала она.
Он перекатился на спину и посадил ее сверху. Он провел левой рукой, окруженной ореолом, по выпуклости ее живота. А потом его рука скользнула вниз, заставив Серве вскрикнуть. Правой же рукой он за волосы притянул ее голову к себе, так, чтобы он мог шептать ей на ухо. Никогда еще он не пользовался ею подобным образом!
— Поговори со мной, милая Серве. Твой голос так же сладок, как твой персик.
— О ч-чем? — тяжело выдохнула она. — Что ты хочешь, чтобы я сказала?
Он протянул руки и приподнял ее за ягодицы, легко, словно монетку. Он начал входить в нее, медленно и глубоко.
— Говори обо мне…
— Ке-елхус, — простонала она. — Я люблю тебя… Я боготворю тебя! Люблю, люблю, люблю!
— А почему, милая Серве?
— Потому, что ты — воплощенный бог! Потому, что ты послан с небес!
Он застыл, поняв, что довел ее до самого предела.
Серве сидела на нем верхом, тяжело дыша, и чувствовала, как удары сердца отдаются в позвоночнике и в его члене, вибрирующем, словно тетива. Сквозь трепещущие ресницы она видела очертания складок шатра, смотрела, как линии преломляются через слезы радости.
Она окутала его. Он был ее, до самого основания! От одной этой мысли воздух меж ее бедер сгустился, и тончайшее его движение сделалось ощутимым.
Серве вскрикнула. Какой экстаз! Какое наслаждение!
«Сейен…»
— А скюльвенд? — промурлыкал он. Его голос сочился обещанием. — Почему он так меня презирает?
— Потому, что он боится тебя, — пробормотала Серве, извиваясь под ним. — Потому, что он знает, что ты накажешь его!
Он начал двигаться снова, но с нечеловеческой осторожностью. Серве взвизгнула и стиснула зубы, и поразилась его отличию от всех остальных. Он даже пах иначе…
Как… как…
Его рука скользнула по ее шее… Как она любила эту игру!
— А почему он называет меня «дунианин»?
— Что ты имеешь в виду? — спросил Найюр у дунианина. — Еще ничего не решено. Ничего!
«Он пытается сбить меня с толку! Выставить меня дураком перед чужеземцами!»
Келлхус взирал на него с полнейшим бесстрастием.
— Я изучал «Книгу гербов», нансурский справочник, в котором перечисляются различные важные особы и их эмблемы в кианском…
— Я тоже!
Ну, во всяком случае, страницы с иллюстрациями. Читать Найюр не умел.
— Большинство гербов слишком далеко, отсюда не разглядишь, — продолжал Келлхус, — но мне удалось опознать многие.
«Ложь! Ложь! Он боится, что я стану слишком могущественным!»
— Как? — едва не выкрикнул Найюр.
— Разные формы. В этой книге есть списки грандов, подчиняющихся каждому сапатишаху… Я просто посчитал.
Найюр вскинул руку, словно отмахивался от мух.
— Тогда кто противостоит айнонам?
— Ближе всего к Менеанору Имбейян с грандами Энатпанеи. Сварджука Джурисадский занял оставшиеся высоты. Данджокша и гранды Святого Амотеу держат понижающийся участок напротив правого фланга айнонов и левого фланга нансурцев. В центре шайгекцы. Знамя Скаура развевается над Анвуратом, но я полагаю, что его гранды вместе с Ансакером и прочими, кто выжил на равнине Битвы, сражаются на северных лугах. Те кавалеристы за селением, которые спускаются к Пройасу, скорее всего, из людей Куяксаджи и грандов Кхемемы. С ним идут не то наемники, не то какие-то союзники… Похоже, кхиргви. Многие едут на верблюдах.
Найюр недоверчиво смотрел на Келлхуса; на скулах у него играли желваки.
— Но это невозможно…
Где наследный принц Фанайял и его наводящие страх койяури? Где грозный Кинганьехои и знаменитые десять тысяч грандов Эумарны?
— Это правда, — сказал Келлхус. — Нам противостоит лишь часть кианцев.
Взгляд Найюра снова метнулся к южным холмам, и скюльвенд нутром почуял, что дунианин прав. Внезапно он увидел поле боя глазами кианцев. Гранды Шайгека и Гедеи увели тидонцев и галеотов еще дальше на запад. Шайгекцы умирали во множестве, как им и полагалось, и бежали, как люди, знающие, что они делают. Анвурат — недвижный пункт, угрожающий тылу айнрити. И эти южные холмы…
— Скаур изображает, — пробормотал Найюр. — Изображает…
— Две армии, — без малейших колебаний заявил Келлхус. — Одна обороняется, одна скрыта, в точности как на равнине Битвы.
И тут Найюр заметил первые цепочки кианских кавалеристов, спускающихся с дальних южных склонов. За ними вздымались клубы пыли, скрывая тех, кто ехал следом. Даже отсюда Найюру было видно, что айнонскую пехоту обходят с обеих сторон…
Тем временем нансурцы и туньеры прорубили себе путь через последние земляные укрепления. Ряды шайгекцев рассеялись под их напором. Бесчисленные тысячи уже бежали на запад, преследуемые впавшими в боевое безумие туньерами. Офицеры и дворяне, стоявшие за спиной у Найюра и Келлхуса, разразились радостными криками.
Недоумки.
Скауру не требовалось вести наступление на всей длине строя. У него имелись скорость и сплоченность, фира и утмурзу. Шайгекцы были всего лишь уловкой, блестящим и чудовищным жертвоприношением — способом заставить айнрити рассеяться по пересеченной местности. Коварный старый сапатишах знал, что избыток убежденности может быть так же опасен, как и ее недостаток.
Грудь Найюра сдавило болью. Лишь сильная рука Келлхуса спасла его от унижения — иначе он рухнул бы на колени. «Снова то же самое…»
Никогда еще он не испытывал таких противоречивых чувств и такого замешательства.
На протяжении битвы, пока другие глазели, разинув рот, восклицали и тыкали пальцами, генерал Мартем следил за скюльвендом и князем Келлхусом, стараясь расслышать, о чем они говорят. На варваре был полированный чешуйчатый доспех; укороченные рукава оставляли открытыми предплечья со множеством шрамов. Талию перехватывал кожаный пояс с железными бляхами. Голову защищал кианский шлем с высоким навершием; его серебряное покрытие во многих местах было выщерблено. Длинные черные волосы падали на плечи.
Мартем узнал бы его даже за несколько миль. Скюльвендская мерзость. Да, этот человек производил на него сильное впечатление, и на советах и на поле боя, но видеть, как скюльвенд — скюльвенд! — командует Священным воинством в сражении, было почти нестерпимым оскорблением. Как только другие не замечают отвратительную истину о его происхождении? Каждый его шрам вопиял о необходимости убить его! Мартем с радостью — с радостью! — пожертвовал бы жизнью, чтобы отомстить за тех, кого перебил этот дикарь.
Так почему же Конфас приказал ему убить другого человека, того, что стоял сейчас рядом со скюльвендом?
«Потому, генерал, что он — шпион кишаурим…»
Но никакой шпион не станет произносить подобных речей.
«Это его колдовство! Никогда не забывайте…»
Нет! Это не колдовство! Это истина!
«Генерал, я уже сказал. Это его колдовство…»
Мартем наблюдал, не обращая внимания на болтовню вокруг.
Но каким бы ужасным ни было его задание, Мартем не мог не обратить внимания на триумфальное развитие событий на поле битвы. И никакой солдат не смог бы. Привлеченный радостными криками, Мартем повернулся и увидел, что по всему центру строй язычников развалился. На протяжении нескольких миль, от Анвурата до южных холмов, шайгекские отряды смешались и в беспорядке ринулись на запад, а за ними гналась нансурская и туньерская пехота. Мартем присоединился к победным кличам. Какой-то миг он чувствовал лишь гордость за своих соотечественников и облегчение от того, что победа досталась столь невеликой ценой. Конфас снова победил!
А потом он опять посмотрел на скюльвенда.
Мартем слишком долго был солдатом, чтобы не распознать, когда дело начинает плохо пахнуть — даже когда на первый взгляд все благоухает победой. Что-то пошло катастрофически не так…
Варвар заорал, веля трубачам давать сигнал к отступлению. На миг Мартем оцепенел; он только и мог, что потрясенно таращиться на скюльвенда. Потом вокруг воцарилась суматоха и всеобщее замешательство. Тидонский тан Ганрикка обвинил скюльвенда в измене. Засверкало оружие. Чокнутый варвар продолжал орать на них, требуя, чтобы они посмотрели на юг, но никто не мог ничего разглядеть из-за пыли. И все-таки неистовые протесты скюльвенда многих сбили с толку. Некоторые, включая князя Келлхуса, стали тоже кричать на трубачей. Но скюльвенд, видимо, решил, что с него довольно. Он растолкал наблюдателей и вскочил на коня. Считаные мгновения — и вот он уже мчится на юго-восток, оставляя за собой длинный, узкий вымпел пыли.
Затем в небо взвилось пение труб.
Прочие тоже ринулись к своим лошадям. Мартем обернулся и посмотрел на убийц, которых Конфас отправил с ним. Чернокожий здоровяк зеумец встретил его взгляд, кивнул, потом взглянул мимо него, на князя Атритау. Они никуда не побегут.
«К несчастью», — подумал Мартем. Соображение насчет бегства было первой практичной мыслью, посетившей его за долгий срок.
На миг принц Келлхус встретился с ним глазами. В его улыбке сквозила такая печаль, что у Мартема перехватило дыхание. Затем пророк повернулся к сражению, кипевшему у него под ногами.
Волны кианских всадников — из-под многоцветных халатов сверкали доспехи — скатились со склонов и налетели на потрясенных айнонов. Передние ряды укрылись за щитами и попытались упереть свои длинные копья в землю, а над их головами уже засверкали на утреннем солнце сабли. Над иссушенными склонами поднялась пыль. В испуге взвыли трубы. В воздухе повисли крики, топот копыт и грохот фанимских барабанов. Все новые и новые копейщики врезались в ряды айнонов.
Первым оказался разбит Сансори, вассал принца Гарсахадуты; он столкнулся не с кем иным, как с неистовым Кинганьехои, прославленным Тигром Эумарны. Гранды Эумарны словно бы за считаные мгновения врезались в тыл передним фалангам. Вскоре все фаланги, остававшиеся у айнонов, — кроме элитных частей кишьяти под командованием палатина Сотера, — либо оказались в бедственном положении, либо были обращены в беспорядочное бегство. Кишьяти же организованно отступали, отражая атаку за атакой, и тем самым выигрывали драгоценное время для айнонских рыцарей, групировавшихся ниже.
Казалось, будто весь мир затянут завесой пыли. Закованные в причудливые доспехи, рыцари Карьоти, Хиннанта, Мозероту, Антанамеры, Эшкаласа и Эшганакса скакали вверх по склону. Они встретились с фаним в красновато-желтой дымке. Трещали копья. Пронзительно ржали лошади. Люди взывали к невидимым небесам.
Размахивая своей огромной двуручной булавой, Ураньянка, палатин Мозероту, валил одного язычника за другим. Сефератиндор, палатин Хиннанта, повел своих нагримированных рыцарей в яростную атаку, кося людей, словно траву. Принц Гарсахадута и его сансорская дружина продолжали рваться вперед, отыскивая священные знамена своих соплеменников. Кианские кавалеристы дрогнули и побежали от них, и айноны разразились ликующими воплями.
Ветер начал развеивать дымку.
Потом Гарсахадута, оторвавшись от своих на несколько сотен шагов, налетел на наследного принца Фанайяла и его койяури. Сансорский принц получил колющий удар в глазницу и свалился с седла. И заплясал вихрь смерти. В считаные мгновения все шестьсот сорок три рыцаря Сансора либо погибли сами, либо потеряли лошадей. Не видя, что творится уже на расстоянии нескольких шагов от них, многие айнонские рыцари просто кидались на шум схватки — и исчезали в желтом тумане. Другие столпились вокруг своих графов и баронов, ожидая, пока подует ветер.
На флангах и в тылу у них появились конные лучники.
…Рыдающая Серве съежилась, пытаясь натянуть на себя одеяло.
— Что я сделала? — всхлипывала она. — Что я такого сделала, что вызвала твое неудовольствие?
Окруженная сиянием рука ударила ее, и Серве упала на ковер.
— Я люблю тебя! — завизжала она. — Келлху-у-ус!
Воин-Пророк рассмеялся.
— Скажи-ка мне, милая Серве, что я задумал для Священного воинства?
Знамя-Свазонд склонилось к пыльной земле; белые молнии вздымались и хлопали, словно паруса. Мартем уже решил, что втопчет эту мерзость в грязь — потом… Все покинули холм, кроме него самого, князя Келлхуса и трех убийц, присланных Конфасом.
Хотя южные холмы еще сильнее затянуло завесой пыли, Мартему удалось разглядеть в ее клубах бегущую айнонскую пехоту. Скюльвенда он уже давно потерял из виду. На западе, на фоне смутных очертаний творящегося бедствия, он видел перестраивающиеся колонны своих соотечественников. Мартем понимал, что вскоре Конфас ускоренным маршем поведет их обратно к болотам. Нансурцы давно на опыте узнали, что нужно делать, чтобы выжить, когда фаним берут верх.
Князь Келлхус сидел спиной к ним четверым, сведя ступни и положив ладони на колени. За ним видно было, как люди карабкались на крепостные стены и валились оттуда, как рыцари скакали по пыльному лугу, как северяне рубили злосчастных шайгекцев…
Казалось, будто пророк… прислушивается.
Нет. Свидетельствует.
«Только не его, — подумал Мартем. — Я не могу этого сделать».
Первый убийца двинулся вперед.
Глава 15. Анвурат
«Безумец завладевает миром, тогда как святой делает людей из дураков».
Протат, «Сердце дурака»4111 год Бивня, конец лета, Шайгек
Пересохшее русло прорезало сердце равнины, и некоторое время Найюр скакал по нему и выбрался оттуда лишь после того, как оно начало извиваться, словно вены старика. Он заставил своего вороного выпрыгнуть на берег. Вдали громоздились приморские холмы; их вершины и склоны до сих пор заволакивала желто-красная дымка. На западе уцелевшие айнонские фаланги отступали вниз по склонам. На востоке бессчетные тысячи людей мчались по вытоптанному лугу. Неподалеку, у небольшого холмика, Найюр заметил группу пехотинцев в длинных черных кожаных юбках, обшитых железными кольцами, но без шлемов и без оружия. Некоторые сидели; другие стояли, стаскивая с себя доспехи. Все, кроме тех, кто плакал, с потрясением и ужасом смотрели на окутанные завесой пыли холмы.
Где же айнонские рыцари?
На самом востоке, там, где бирюзовая и аквамариновая лента Менеанора исчезала за серовато-коричневым подножием холмов, Найюр увидел лавину кианских кавалеристов, мчащихся вдоль полосы прибоя. Ему не нужно было рассматривать гербы, чтобы понять: Кинганьехои и гранды Эумарны появились оттуда, откуда их никто не ждал…
Где же резервы? Готиан с его шрайскими рыцарями, Гайдекки, Вериджен Великодушный, Атьеаури и все прочие?
Боль сдавила ему горло. Найюр стиснул зубы.
«Опять…»
Кийут.
Только на этот раз роль Ксуннурита сыграл он сам. Это он оказался самонадеянным упрямцем!
Найюр стер пот, заливающий глаза, и увидел фаним, что скакали за ширмой далекого кустарника и чахлых деревьев — нескончаемый поток…
«Лагерь. Они скачут в лагерь…»
Найюр с криком пришпорил коня и помчался на восток. «Серве».
До самого горизонта, насколько хватало глаз, люди дрались друг с другом, сшибались ряд на ряд, кружились в мешанине общей схватки. В воздухе висел не столько грохот, сколько шипение отдаленного сражения; Мартему подумалось, что это похоже на шум моря в раковине — штормового моря. Затаив дыхание, он следил за первым из Конфасовых убийц, что уже подошел к князю Келлхусу и занес короткий меч…
Затем последовал невероятный момент — не длиннее резкого вдоха.
Пророк просто повернулся и взял опускающийся клинок большим и указательным пальцами. «Нет», — сказал он, а потом развернулся и невероятным ударом ногой уложил нападавшего. Каким-то неизъяснимым образом меч перекочевал к нему в левую руку. Все еще не выпрямившись, пророк вонзил его в горло убийцы, пришпилив того к земле.
Все это произошло в мгновение ока.
Второй убийца-нансур ринулся вперед, нанося удар в движении. Еще один пинок из низкой стойки, и голова нападающего дернулась назад, а меч выпал из обмякших пальцев. Нансур осел на землю, словно сброшенная одежда, — похоже, он был мертв.
Зеумский танцор с мечом опустил свою кривую саблю и расхохотался.
— Цивилизованный человек, — произнес он низким голосом.
Его сабля со свистом рассекла воздух, описав дугу вокруг хозяина. Солнце сверкало на клинке, словно на посеребренных спицах колесницы.
Пророк, не вставая, извлек из ножен за спиной свой странный меч с длинной рукоятью. Держа его в правой руке, он коснулся острием земли между ног. Резкое движение, и в глаза танцору полетела засохшая глина. Тот с ругательствами отшатнулся и чуть не оступился. Пророк ринулся вперед и вонзил меч в нёбо зеумцу. Он подтолкнул огромное тело, и оно рухнуло на землю.
Он стоял, а за ним кипела битва; его бороду и волосы трепал ветер. Он повернулся к Мартему, перешагнул через труп танцора с мечом…
Освещенный утренним солнцем. Приближающееся видение.
Нечто слишком ужасное. Слишком яркое.
Генерал отшатнулся и попытался извлечь меч из ножен.
— Мартем, — произнесло видение. Оно протянуло руку и с силой сжало правое запястье генерала.
— Пророк! — выдохнул Мартем.
Видение улыбнулось и сказало:
— Скаур знал, что нас возглавляет скюльвенд. Он видел Знамя-Свазонд…
Генерал Мартем уставился на Келлхуса, ничего не соображая.
Воин-Пророк повернулся и кивком указал на окрестный ландшафт.
Прежних построений там не сохранилось. Сперва Мартем заметил Пройаса и конрийских рыцарей, попавших в бедственное положение в глинобитном лабиринте отдаленного селения. Вырвавшись из-под сени садов, с флангов к ним неслось несколько тысяч кианских кавалеристов, и во главе их реяло треугольное знамя Куяксаджи, сапатишаха Кхемемы. Мартем подумал, что конрийцы обречены, но он все равно не понял, что же имел в виду Воин-Пророк… Потом он взглянул в сторону Анвурата.
— Кхиргви, — пробормотал генерал.
Тысячи кхиргви, восседающие на рослых верблюдах, врезались в ряды поспешно перестроившейся конрийской пехоты, обтекли ее с флангов и теперь мчались к холму, к Знамени-Свазонду…
К ним.
Лишающие мужества, улюлюкающие боевые кличи перекрыли шум сражения.
— Надо бежать! — крикнул Мартем.
— Нет, — возразил Воин-Пророк. — Знамя-Свазонд не должно пасть.
— Но оно падет! — воскликнул Мартем. — Оно уже пало!
Воин-Пророк улыбнулся, и глаза его заблестели яростно и неукротимо.
— Убежденность, генерал Мартем…
Его рука, окруженная сияющим ореолом, легла на плечо Мартема.
— Война — это убежденность.
В сердцах айнонских рыцарей царили замешательство и ужас. Окончательно потеряв всякую ориентацию, они пытались докричаться друг до друга через завесу пыли, не понимая, что же им делать. Отряды лучников налетали на них и расстреливали лошадей под ними. Рыцари ругались и прикрывались щитами, уже утыканными стрелами. Всякий раз, как Ураньянка, Сефератиндор и прочие переходили в атаку, кианцы рассеивались и отрывались от них, продолжая стрелять на ходу, и все новые рыцари с грохотом летели на выжженную солнцем землю. Многие айноны отстали от своих и очутились в затруднительном положении: на них нападали со всех сторон. Кусьетер, палатин Гекаса, вслепую добрался до верха холма и оказался зажат между земляными укреплениями, сорвавшими первую атаку айнонов, и безжалостными копьями койяури. Кусьетер раз за разом вступал в схватку с элитной кавалерией кианцев, но в результате лишился коня, и его люди решили, что он убит. Его рыцари запаниковали и во время бегства затоптали его. Вихрь смерти продолжал кружиться…
Тем временем сапатишах Эумарны, Кинганьехои, ринулся в атаку через луг. Большая часть его грандов врассыпную рванули на север; им не терпелось наведаться в лагерь айнрити. Сам же Тигр ударил на запад, помчавшись со своими приближенными через удирающую айнонскую пехоту. Он налетел на командный пункт генерала Сетпанареса и захватил его. Генерал был убит, но Чеферамунни, король-регент Верхнего Айнона, каким-то чудом сумел бежать.
Далеко на северо-западе штабную группу Найюра урс Скиоаты, Господина Битвы Священного воинства, захлестнуло замешательство и обвинения в предательстве. Толпы шайгекских новобранцев, составлявших центр Скаурова войска, окончательно стушевались под напором объединенной мощи нансурцев, туньеров и удара во фланг, который нанес Пройас с конрийскими рыцарями. Поверив в победу Священного воинства, айнрити ринулись преследовать бегущих, и их боевые порядки смешались. Строй превратился в разрозненные группы людей на лугу. Многие даже падали на колени на иссушенную землю, вознося хвалу Богу. Мало кто услышал пение труб, командующих общее отступление, — в основном потому, что очень мало труб передало эту команду. Большинство трубачей просто не поверили, что им действительно приказали именно это.
Барабаны язычников ни разу не дрогнули, ни разу не сбились с ритма.
Гранды Кхемемы и десять тысяч кхиргви на верблюдах, свирепые кочевники из южных пустынь, вдруг возникли из-за толп бегущих шайгекцев и безудержно ринулись на разбившихся на отдельные группы Людей Бивня. Отрезанный от своей пехоты Пройас отступил в ближайшее селение, лабиринт глинобитных домишек, взывая попеременно то к Богу, то к своим людям. Туньеры, рассыпавшиеся по лугу, образовали круги, обнесенные стеной щитов, и сражались с поразительным упрямством, потрясенные встречей с врагом, чья ярость не уступала их собственной. Принц Скайельт отчаянно сзывал своих графов и рыцарей, но их задержали у земляных укреплений.
Огромное сражение раскололось на множество битв поменьше — более отчаянных и гораздо более ужасных. Куда бы ни смотрели Великие Имена, повсюду видны были лишь отряды фаним, скачущие по полю. Там, где язычники превосходили противника численностью, они шли в атаку и брали верх. Там, где им не удавалось одолеть врага с наскока, его окружали и начинали изводить обстрелом.
Многие рыцари, охваченные тревогой, в одиночку кидались на врага, но под ними убивали коней, а их самих затаптывали.
Найюр скакал изо всех сил, проклиная себя за то, что сбился с пути в бесконечных проходах и переходах лагеря. Он натянул поводья, остановив вороного около участка, огороженного галеотскими шатрами с тяжелыми, прочными каркасами, и взглянул на север, выискивая приметные верхушки круглых шатров, излюбленных конрийцами. Вдруг словно бы ниоткуда выскочили три женщины; они стрелой промчались через галеотский лагерь на север и исчезли за шатрами на дальней стороне. Мгновение спустя за ними последовала еще одна, черноволосая, что-то неразборчиво вопя на кетьянском. Найюр взглянул на юг и увидел десятки столбов черного дыма. Ветер на миг стих, и пологи окружающих шатров повисли.
Найюр заметил синюю накидку на доспех, брошенную у дымящегося костра. Кто-то вышил на ней красный бивень…
Он слышал крики — тысячи криков.
Где она?
Найюр знал, что происходит, и, что более важно, он знал, как это будет происходить. Первые костры были зажжены как сигналы для тех айнрити, кто сейчас сражался на поле боя, — дабы убедить их в том, что их и вправду одолели. В противном случае лагерь бы сперва обыскали как следует, прежде чем уничтожать. Даже теперь кианцы наверняка кружили по лагерю, выискивая добычу, особенно такую, которая кричала и извивалась. Если он не найдет Серве в самое ближайшее время…
Он пришпорил коня и поскакал на северо-восток.
Осадив вороного у шатра, расшитого изображениями животных, он проломился через извилистый коридор и увидел троих кианцев на конях в нарядной сбруе. Они обернулись, заслышав его приближение, но тут же отвернулись снова, приняв его за своего. Кажется, они о чем-то спорили. Выхватив свой палаш, Найюр послал коня в галоп. Первый раз проскакав мимо этой троицы, он убил двоих. Хотя их товарищ в оранжевом халате в последний момент заорал, они даже не успели на него взглянуть. Найюр натянул поводья и развернул коня, но уцелевший фаним уже удрал. Найюр не стал за ним гнаться и направился на восток, поняв наконец-то — во всяком случае, он на это надеялся, — в какой части лагеря он сейчас находится.
Пронзительный визг, от которого мурашки пробежали по коже, раздавшийся не далее как в сотне шагов от него, заставил Найюра перевести коня на рысь. Привстав в стременах, он заметил каких-то людей, носящихся между битком набитыми шатрами. Новые крики взвились в воздух — на этот раз срывающиеся, и совсем рядом. Внезапно из-под прикрытия окружающих шатров и палаток выскочила целая толпа обслуги, следовавшей за войском. Жены, проститутки, рабы, писцы и жрецы — кто кричал, кто просто молча мчался куда глаза глядят, не разбирая дороги. Некоторые вопили, завидев Найюра, и пытались пробиться подальше от него. Другие не обращали на него никакого внимания, то ли сообразив, что он не фаним, то ли понимая, что он не сумеет перебить сразу столько народу. В считаные мгновения людской поток поредел. Молодые и здоровые сменились старыми и немощными. Найюр заметил Кумора, пожилого жреца Гильгаоала, подгоняемого служками. Он видел множество обезумевших от страха матерей, которые тянули за собой перепуганных детей. Немного позади несколько перевязанных воинов, примерно человек двадцать, отделились от потока беглецов и заняли боевую позицию. Они начали петь…
Найюр услышал приближающийся хор хриплых победных воплей, фырканье и топот лошадей…
Он натянул поводья и вынул палаш.
Потом он увидел их; они быстро ехали между палатками, толкая друг друга. На мгновение они напомнили ему отряд, пробирающийся через бурный прибой. Кианцы из Эумарны…
Найюр вздрогнул и опустил взгляд. Молодая женщина с окровавленной ногой, с младенцем, привязанным к спине, уцепилась за его колено, умоляюще лопоча что-то на неведомом ему языке. Найюр поднял ногу, чтобы пнуть ее, потом отчего-то вдруг опустил. Он наклонился и посадил ее перед собой в седло. Женщина залилась слезами. Найюр развернул вороного и поскакал через толпу бегущих.
Мимо уха просвистела стрела.
Его золотистые волосы развевались на ветру. Складки белого парчового одеяния колыхались.
— Не вставай! — велел пророк.
Но Мартем и без того замер, словно громом пораженный. Поле боя внизу бурлило клубами пыли и мелькающими в нем неясными силуэтами кхиргви. Воин-Пророк резко опустил сперва одно плечо, потом другое. Он резко опустил голову, прогнулся назад, ушел в полуприсед, потом подпрыгнул. Это был странный танец, одновременно и беспорядочный, и продуманный, размеренный и поразительно быстрый… И лишь ощутив удар в бедро, Мартем понял, что пророк танцует, уклоняясь от стрел.
Генерал упал, схватившись за ногу. Весь мир заполнили крики и оглушительный шум.
Сквозь слезы боли Мартем увидел Знамя-Свазонд на фоне ослепительно сияющего солнца.
«Сейен милостивый. Теперь я умру».
— Беги! — крикнул он. — Ты должен бежать!
Вороной всхрапнул и пронзительно заржал. Мимо проносились шатер за шатром, холст крашеный и холст полосатый, разрисованная кожа, бивни и снова бивни. Безымянная женщина у него в седле дрожала, тщетно пытаясь взглянуть на своего ребенка. Топот кианских коней был все ближе; они скакали колоннами по узким проходам и разворачивались в шеренги на редких просветах. «Скафади! — кричали они. — Ияра тил Скафади!» Такие же колонны грохотали и по параллельным проулкам. Дважды Найюру приходилось прижимать женщину с ребенком к шее своего коня, когда над ними свистели стрелы.
Он снова пришпорил вороного до крови. Найюр услышал крики и понял, что догоняет новую группу беженцев. Вдруг его окружила толпа обезумевших, спотыкающихся мужчин, вопящих матерей и бледных как мел детей. Найюр бросил коня влево. Он узнал преследующего его кианца. Это был знаменитый капитан Скафади, изводивший идолопоклонников. Все пленные, кого только приходилось допрашивать Найюру, слыхали о нем. Найюр вылетел на огромную площадь — нансурцы использовали такие для строевой подготовки, — и его вороной помчался вперед с новым воодушевлением. Найюр вставил стрелу в лук, натянул тетиву и убил ближайшего кианца, мчащегося за ним через клубы пыли. Вторая стрела вошла в шею коню следующего преследователя, и конь рухнул вместе со всадником, подняв новое облако пыли.
— Зиркиреа-а-а! — взвыл Найюр.
Женщина завизжала от ужаса. Найюр взглянул вперед и увидел, как на западную оконечность поля вылетают несколько десятков фаним.
«Гребаные кианцы!»
Найюр развернул выдыхающегося вороного и погнал его к северному выходу с площади, благодаря нансурцев и их рабскую приверженность компасу. В воздухе висели отдаленные крики и резкие вопли «ют-ют-ют-ют!». Безымянная женщина плакала от страха.
Нансурские палатки-бараки уходили на север, напоминая ряды подточенных зубов. Проход между ними все приближался. Женщина то смотрела вперед, то оглядывалась на кианцев, и то же самое проделывал ее черноволосый младенец. «Странно, — подумалось Найюру. — Младенцы откуда-то знают, когда нужно вести себя тихо». Вдруг и из северного прохода хлынули фанимские кавалеристы. Найюр резко свернул вправо и поскакал вдоль легких белых палаток, выискивая, где бы проскочить между ними. Так ничего и не обнаружив, он погнал коня к углу. Все больше и больше кианцев вылетали из восточного выхода и рассыпались по площади. Те, кто гнался за ним, приблизились, судя по топоту копыт. Еще несколько стрел вспороли воздух у них над головами. Найюр резко развернул вороного и скинул женщину на пыльную землю. Младенец тут же завопил. Найюр сунул ей нож — прорезать холст шатров…
Воздух загудел от грохота копыт и криков язычников.
— Беги! — рявкнул Найюр на женщину. — Беги!
Его окутало облако пыли.
Найюр со смехом развернулся.
Выхватывая палаш, он уклонился от сабли, идущей по широкой дуге, и нанес нападающему колющий удар в подмышку. Потом сломал меч следующему нападающему и располосовал тому грудь. Кровь ударила из рассеченного тела, словно вино. Следующего он поймал за щит, вращая мечом, словно булавой. Кианец опрокинулся назад, свалился с коня и каким-то образом умудрился приземлиться на четвереньки. Шлем слетел с него и покатился под копыта. Перехватив меч, Найюр заколол врага ударом в основание черепа.
Он встал на стременах и стряхнул кровь с клинка в лица потрясенным кианцам.
— Кто?! — взревел Найюр на священном языке.
Он принялся рубить оставшихся без всадников лошадей, которые отделяли его от врагов. Одна рухнула, молотя ногами в воздухе. Другая пронзительно заржала и вломилась в ряды кианцев.
— Я — Найюр урс Скиоата, — выкрикнул Найюр, — неистовейший из мужей!
Тяжело дышащий вороной сделал шаг вперед.
— Ваши отцы и братья — на моих руках!
Глаза язычников отблескивали белым из теней их посеребренных шлемов. Некоторые вскрикнули.
— Кто, — проревел Найюр с таким остервенением, словно все его тело состояло из одного горла, — кто хочет убить меня?
Пронзительный женский крик. Найюр бросил взгляд назад и увидел безымянную женщину, задержавшуюся у входа в ближайший шатер. Она сжимала нож, который дал ей Найюр, и махала руками, призывая его следовать за ней. На миг Найюру показалось, будто он всегда знал ее, будто они много лет были любовниками. Он увидел проблеск солнечного света с дальней стороны шатра, там, где она разрезала стену. Потом он заметил какую-то тень над собою, услышал нечто не совсем…
Несколько кианцев завопили — тоже от ужаса, но иначе.
Найюр сунул левую руку за пояс и крепко сжал в ладони отцовскую Безделушку.
На миг он встретился взглядом с широко распахнутыми, ничего не понимающими глазами женщины, увидел младенца у нее за плечом… Это был сын — теперь Найюр откуда-то это знал.
Он попытался крикнуть.
Они превратились в тени в ливне сверкающего пламени.
Одно пространство.
А пересечения бесконечны.
Келлхусу было пять лет, когда он впервые вышел за пределы Ишуаля. Прагма Юан собрал всех детей этого возраста и велел им ухватиться за длинную веревку. Затем он без всяких объяснений свел их вниз по террасам, к Охряным воротам, а оттуда — в лес, и остановился, лишь добравшись до рощи могучих дубов. Он позволил детям немного побродить по роще — как теперь понимал Келлхус, чтобы повысить их чувствительность по отношению к самим себе. К щебету ста семнадцати птиц. К запаху мха на коре, почвы, дышащей под маленькими сандалиями. К цветам и формам: белые полосы солнечных лучей на фоне медного полумрака, черные корни.
Несмотря на поразительную новизну происходящего, Келлхус способен был думать лишь о прагме. По правде говоря, он едва ли не дрожал от предчувствия. Все видели прагму Юана со старшими мальчишками. Все знали, что он обучает старших мальчишек тому, что именуют путями тела…
Путями битвы.
— Что вы видите? — в конце концов спросил старик, глядя на полог листвы.
Посыпались нетерпеливые ответы. Листья. Ветки. Солнце.
Но Келлхус видел больше. Он подметил засохшие сучья, давку состязающихся ветвей и веточек. Он видел, как деревца поменьше, молодая поросль, чахнут в тени великанов.
— Борьбу, — сказал он.
— В каком смысле, Келлхус?
Страх и ликование — взрыв детских чувств.
— Д-деревья, прагма, — запинаясь, отозвался он. — Они воюют за… за место.
— Верно, — согласился прагма Юан. — И этому, дети, я и буду вас учить. Как быть деревом. Как воевать за место…
— Но деревья не двигаются, — сказал кто-то из детей.
— Двигаются, — сказал прагма, — но медленно. Сердце дерева делает лишь один удар, весной, потому ему приходится вести войну на все стороны одновременно. Оно должно ветвиться и ветвиться, пока не заслонит собою небо. Но вы — ваши сердца делают много ударов, и вам нужно вести войну лишь в одном направлении за раз. Именно таким образом люди овладевают местом.
Невзирая на возраст, прагма вскочил, словно мячик.
— Давайте, — сказал он, — попробуйте прикоснуться к моим коленям.
И Келлхус тоже ринулся вместе с остальными сквозь пятна солнечного света. Он верещал от расстройства и восторга всякий раз, как палка тыкала его или хлопала по спине. Он изумленно глядел, как старик пляшет и кружится, а дети плюхаются на попы или катятся по опавшей листве кубарем, словно барсуки. Никто не сумел дотянуться до его ног. Никто даже не сумел войти в круг, очерченный его палкой.
Прагма Юан был деревом-победителем. Единственным владельцем своего места.
Кхиргви в своих потрепанных коричневых плащах, повесив щиты на лоснящиеся бока верблюдов, подгоняли их и угрожающе размахивали саблями. Воздух звенел от улюлюканья.
Келлхус поднял свой меч, меч дунианской работы.
Кхиргви захохотали. Темные лица жителей пустыни, такие уверенные…
Они мчались к кругу, очерченному его мечом.
…Найюр пнул седло и опаленную тушу лошади. Он отряхнулся от пепла, моргая из-за едкого дыма, резавшего глаза. Звон. Мир состоял из дыма, вони сгоревшего мяса — и звона. Найюр ничего больше не слышал.
Он отыскал горелые оболочки, что прежде были безымянной женщиной и ее ребенком. Он подобрал свой нож, осторожно взяв его за обуглившуюся рукоять.
Она обгорела, но не обжигала — таким странным образом колдовской жар просачивался в реальность.
Найюр двинулся на северо-запад, мимо треклятых вышитых, обвисших айнонских шатров. Знамена с различными изображениями реяли на ветру. За спиной у Найюра по небу шагали Багряные адепты. Беззвучно проносились огненные столпы. Вдали потоком лились молнии. Кажется, где-то пронзительно кричали люди.
И Найюр подумал: «Серве…»
Его окружили люди — ликующие, перепуганные, сбитые с толку. Хотя рты их открывались и языки касались зубов, Найюр не слышал ничего, кроме звона. Он проложил себе дорогу через толпу и зашагал дальше.
В левой руке что-то причиняло боль. Найюр открыл ладонь и увидел отцовскую хору. Грязный железный шарик, тусклый даже на солнечном свету, весь исписанный бессмысленными закорючками. Эта штуковина дважды спасала его.
Найюр сунул хору обратно за пояс.
Потом он услышал удар грома. Звон перешел в пронзительное нытье — почти неслышное. Найюр остановился, закрыл глаза. Крики и вопли, вон тот далеко, а этот близко, совсем рядом. Они разъели расстояния, разнеслись до края слышимости и в конце концов растворились в окружающем шуме битвы и моря.
Через некоторое время Найюр отыскал вышитый шатер Пройаса, установленный на небольшом пригорке. «Каким потрепанным он теперь выглядит», — подумалось Найюру, и его охватила печаль. Все вокруг казалось таким поблекшим.
Неподалеку он нашел старый шатер, который прежде делил с Келлхусом; шатер скрипел и хлопал на ветру. Чайник рядом с погасшим костром. Дым тянулся над землей и терялся между соседними палатками.
Сердце Найюра бешено заколотилось. А вдруг она пошла вместе с остальными поглазеть на битву с юго-восточного края лагеря? Вдруг кианцы поймали ее? Такую красавицу они непременно прихватили бы, хоть она и беременна. Игрушка для принцев. Необыкновенный подарок!
Добыча!
Звук ее голоса заставил Найюра подскочить. Пронзительный крик…
На миг он застыл, не в силах шелохнуться. Он услышал мужской голос — мягкий, вкрадчивый и при этом безумно жестокий…
Земля ушла у него из-под ног. Найюр попятился. Шаг. Другой. По коже побежали мурашки.
Дунианин.
— Пожалуйста! — закричала Серве. — Пожа-алуйста!
Дунианин.
Но как?
Найюр крадучись двинулся вперед. Ребра словно окаменели. Он не мог сделать вдох! Нож дрожал в его ладони. Найюр вытянул руку и кончиком ножа отвел полог шатра.
Поначалу он ничего не увидел — внутри было слишком темно. Лишь какие-то тени да судорожные всхлипы Серве…
Потом Найюр разглядел ее; она нагая стояла на коленях перед нависающей над ней тенью. Один глаз заплыл, из носа и откуда-то из-под волос течет кровь и ручейками струится по шее и груди.
Что?
Найюр, не задумываясь, скользнул в темноту шатра. В воздухе мерзко воняло спариванием. Дунианин развернулся; он был так же наг, как и Серве, окровавленная рука сжимала набухший член.
— Скюльвенд, — протянул Келлхус; глаза его сверкали отвратительным экстазом. — Я не почуял тебя.
Найюр ударил, целясь в сердце. Но окровавленная рука взметнулась и задела его запястье. Нож вошел дунианину под ключицу.
Келлхус отшатнулся, запрокинул голову к провисшей крыше шатра и закричал; это были сотни криков, сотни голосов, заключенных в одну нечеловеческую глотку. И Найюр увидел, как его лицо открылось, как будто уголки рта растянулись от шеи до волос. Он увидел за вспухшими чертами глаза без век, десны без губ…
Тварь ударила его, и Найюр упал на одно колено. Он выхватил палаш.
Но тварь исчезла за пологом, прыгая, словно животное.
Вскоре разрозненным отрядам айнонских рыцарей, под которыми отстреливали лошадей, не осталось ничего иного, кроме как остановиться и обороняться. Кианцы все чаще с ревом врывались в их гущу, метя в дневном мраке в раскрашенные белым лица, словно в мишени. Кровь запеклась на холеных бородах. Знамена опрокидывали и затаптывали. Пыль превращала пот в корку грязи. Серьезно раненного Сефератиндора вынесли из первых рядов, где он «смеялся с Саротессером», как старались поступать все айнонские дворяне, когда были уверены в приближении смерти.
Некоторые, как Галрота, палатин Эшганакса, ринулись вниз по склону на прорыв, бросив тех родичей и вассалов, которые остались без лошадей. Некоторые, как жестокий Зурсодда, обескровили свои отряды бесконечными контратаками, и в конце концов у них вообще не осталось конных. Но другие, как безжалостный Ураньянка или беспристрастный Чинджоза, палатин Антанамеры, просто пережидали атаки язычников. Они подбадривали своих людей и яростно обороняли каждую пядь пыльной земли. Снова и снова кианцы кидались в бой. Ржали кони. Трещали копья. Кричали и выли люди. По всем склонам звенели сабли и мечи. И каждый раз фаним откатывались назад, поражаясь этим побежденным, которые отказывались становиться побежденными.
На северо-западе кхиргви нападали на айнрити с неослабной, какой-то безумной яростью. Многие просто прыгали с верблюдов и вышибали ошеломленных рыцарей из седел. Так были убиты конрийский палатин Аннанда, Кушигас, и туньерский граф Скавги, Инскарра. Пройас, как и тысячи туньеров, попал в окружение за своими стенами из щитов. Кхиргви прочесали территорию вокруг Анвурата и обрушились на конрийцев, осаждавших крепость, и разгромили их. А потом ринулись к холмику, на котором стояло Знамя-Свазонд Господина Битвы.
Тем временем гранды Эумарны вихрем пронеслись по извилистым переулкам и длинным улицам лагеря айнрити, поджигая шатры и палатки, рубя жрецов, швыряя кричащих женщин на землю и насилуя их. При виде столбов дыма, вставших вдалеке над лагерем, многие из свиты Скаура попадали на колени и заплакали, вознося хвалу Единому Богу. Некоторые же принялись славить сапатишаха, целуя землю у его ног.
Затем небо на востоке заполонил мерцающий свет. Прославленные кавалеристы Кинганьехои натолкнулись на Багряных Шпилей… И погибли.
Те, кто пережил первый удар колдунов, всей массой пустились наутек, в основном — по широким пляжам вдоль Менеанора, где их перехватили великий магистр Готиан, граф Керджулла и граф Атьеаури, возглавлявшие резервные силы Священного воинства. Около девяти тысяч рыцарей айнрити налетели на язычников, и втоптали их в песок, и загнали в бушующий прибой. Мало кому удалось ускользнуть.
Тем временем имперские кидрухили прорвали удавку, сжимающуюся вокруг рыцарей Верхнего Айнона. Имбейян и гранды Энатпанеи были отброшены. Так впервые возникла пауза в сражении, что впоследствии получило название Битвы на склонах. Пыль начала рассеиваться… Когда ситуация внизу, на поле, прояснилась, длинные ломаные ряды айнонских рыцарей разразились радостными криками. Вместе с кидрухилями они в едином порыве ринулись с высот.
На севере чудовищное продвижение кхиргви сперва затормозило из-за чудесной обороны Келлхуса, князя Атритау, под Знаменем-Свазондом, а потом окончательно остановилось из-за фланговых атак ауглишских и инграулишских рыцарей в черных доспехах, под командованием графа Гокена и графа Ганброты.
Затем барабаны фаним смолкли. Далеко на северо-западе принц Саубон и граф Готьелк в конце концов сломили сопротивление грандов Шайгека и Гедеи, которых они прижали к берегам Семписа. Граф Финаол со своими канутишскими рыцарями, хоть они и уступали противнику в численности, атаковал гвардейцев падираджи, охранявших священные барабаны. Сам граф Финаол получил копьем в подмышку, но его вассалы одержали верх и перебили разбегавшихся барабанщиков. Вскоре запыхавшиеся галеоты и тидонцы уже ловили женщин и рабов в лагере кианцев.
Огромное войско фаним распалось на части. Наследный принц Фанайял со своими койяури бежал на юг, а за ними по бесконечным пляжам гнались кидрухили. Имбейян оставил высоты вместе с остатками айнонов и попытался отступить через холмы. Но там его уже поджидал Икурей Конфас, и Имбейяну пришлось бежать с горсткой своих придворных, пока его гранды истекали кровью, сражаясь с закаленными ветеранами Селиалской колонны. Хотя генерал Боргас был убит шальной кианской стрелой, нансурцы не дрогнули, и энатпанейцы оказались перебиты подчистую. Кхиргви бежали на юго-восток, в пустыню, в бездорожье, и железные люди преследовали их.
Сотни айнтрити, чересчур увлекшиеся погоней за кочевниками, заблудились в пустыне.
Найюр увидел на циновках свой обгоревший нож.
Потрясенная тем, что произошло с Келлхусом, Серве вцепилась в измазанное кровью одеяло и принялась вопить, словно сумасшедшая. Когда Найюр ухватил ее, она попыталась выцарапать ему глаза. Найюр толкнул ее, и Серве полетела на землю.
— Я нужна ему! — выла она. — Он ранен!
— Это был не он, — пробормотал Найюр.
— Ты убил его! Ты убил его!
— Это был не он!
— Ты свихнулся! Ты ненормальный!
Прежний гнев заглушил недоверие. Найюр схватил Серве за руку и скрутил.
— Я забираю тебя! Ты — моя добыча!
— Ты ненормальный! — завизжала Серве. — Он все мне про тебя рассказал! Все-все!
Найюр снова бросил ее на землю.
— Что он сказал?
Серве стерла кровь с губ; кажется, она впервые перестала бояться.
— Почему ты бьешь меня. Почему ты никак не перестанешь про меня думать, а постоянно возвращаешься мыслями ко мне, и возвращаешься в ярости. Он все мне рассказал!
Внутри у Найюра что-то задрожало. Он вскинул руку, но пальцы не сжимались в кулак.
— Что он сказал?
— Что я — только знак, символ. Что ты бьешь не меня, а себя самого!
— Я тебе шею сверну! Удавлю, как котенка! Выбью кровь из твоего чрева!
— Давай, бей! — завизжала Серве. — Бей — и забивай себя!
— Ты — моя добыча! Моя добыча! Ты должна делать, что я захочу!
— Нет! Нет! Я — не твоя добыча! Я — твой позор! Он так сказал!
— Позор? Какой позор? Что он сказал?
— Что ты бьешь меня за то, что я сдалась, как ты сдался! За то, что я трахаюсь с ним, как ты трахался с его отцом!
Она все еще лежала на земле, подтянув ноги. Такая красивая. Избитая и сокрушенная, но все равно красивая. Как может человеческое существо быть настолько красивым?
— Что он сказал? — тупо спросил Найюр.
Он. Дунианин.
Теперь Серве принялась всхлипывать. Откуда-то у нее в руке появился нож. Она приставила его к горлу; Найюр видел, как в клинке отражается безукоризненный изгиб ее шеи. Он мельком заметил единственный свазонд у нее на предплечье.
«Она убивала!»
— Ты сумасшедший! — плача, выговорила она. — Я убью себя! Я убью себя! Я не твоя добыча! Я его! Его!
«Серве…»
Ее рука была согнута в запястье и плотно прижимала нож к горлу. Лезвие уже рассекло кожу.
Но Найюру каким-то чудом удалось ухватить ее за запястье. Он вывернул Серве руку и отнял нож.
Он оставил ее плакать у шатра дунианина. Он шел между палаток, сквозь прибывающие толпы ликующих айнрити, и смотрел вдаль, на бескрайний Менеанор.
Какое оно необычное, думал он, это море…
Когда Конфас нашел Мартема, солнце уже превратилось в шар, тлеющий у западного края неба, золотой на бледно-синем — цвета, запечатлевшиеся в сердце каждого. Экзальт-генерал в сопровождении небольшого отряда офицеров и телохранителей поднялся на холм, где проклятый скюльвенд устроил свой командный пункт. На вершине он обнаружил генерала, который сидел, скрестив ноги, под покосившимся знаменем скюльвенда, и со всех сторон его окружали трупы кхиргви. Генерал смотрел на закат так, как будто надеялся ослепнуть. Он был без шлема, и ветер трепал его короткие, серебристые волосы. Конфасу подумалось, что без шлема генерал выглядит одновременно и моложе, и более по-отцовски.
Конфас распустил свою свиту, потом спешился. Ни слова не говоря, он широким шагом подошел к генералу, вытащил меч и принялся рубить древко Знамени-Свазонда. Один удар, другой… Древко треснуло, и под напором ветра непотребное знамя начало медленно клониться.
Довольный результатом, Конфас встал над своим блудным генералом и уставился на закат, словно желал разделить тот вздор, который там вроде как видел Мартем.
— Он не мертв, — сказал Мартем.
— Жаль.
Мартем промолчал.
— Помнишь, — спросил Конфас, — как мы после Кийута ехали по полю, заваленному убитыми скюльвендами?
Глаза Мартема вспыхнули. Он кивнул.
— Помнишь, что я тебе сказал?
— Что война — это интеллект.
— Ты — жертва в этой войне, Мартем?
Упрямец генерал нахмурился, поджав губы. Он покачал головой.
— Нет.
— Боюсь, да, Мартем.
Мартем отвернулся от солнца и обратил взгляд измученных глаз на Конфаса.
— Я тоже боялся… Но больше не боюсь.
— Больше не боишься… И почему так, Мартем?
— Я свидетельствовал, — сказал генерал. — Я видел, как он убил всех этих язычников. Он просто убивал и убивал их, пока они в ужасе не бежали.
Мартем снова повернулся к закату.
— Он не человек.
— И Скеаос не был человеком, — парировал Конфас.
Мартем взглянул на свои мозолистые ладони.
— Я — человек практичный, господин экзальт-генерал.
Конфас оглядел освещенную солнцем картину побоища, открытые рты и распахнутые глаза, руки, скрюченные, словно лапы обезьянок-талисманов. Его взгляд скользнул к дыму, поднимающемуся над Анвуратом, — не так уж далеко отсюда. Не так уж далеко.
Он снова посмотрел на солнце Мартема. Ему подумалось, что есть определенное различие между красотой, которая освещает, и красотой, которая освещена.
— В том числе, Мартем. В том числе.
Скаур аб Налайян распустил своих подчиненных, слуг и рабов, длинную вереницу людей, неизбежную принадлежность высокого положения, и остался в одиночестве сидеть за полированным столом красного дерева, потягивая шайгекское вино. Похоже, он впервые распробовал сладость всего того, что потерял.
Невзирая на почтенный возраст, сапатишах-правитель все еще был крепок и бодр. Его белые волосы, по кианскому обыкновению смазанные маслом, были такими же густыми, как и у любого мужчины помоложе. Длинные усы и редкая, заплетенная в косички борода придавали его лицу строгий и мудрый вид. Под нависшими бровями блестели темные глаза.
Сапатишах сидел в башне Анвуратской цитадели. Сквозь узкое окно доносился шум отчаянного сражения, идущего внизу, крики дорогих его сердцу друзей и вассалов.
Хотя Скаур был человеком благочестивым, за свою жизнь он совершил много дурного; дурные поступки — тоже неизбежная принадлежность власти. Сапатишах сожалел о них и жаждал более простой жизни. Пусть в ней меньше удовольствий, но зато и ноша куда легче. Но, конечно же, он совершенно не желал столь сокрушительных перемен…
«Я погубил мой народ… мою веру».
Он подумал, что это был хороший план. Внушить идолопоклонникам иллюзию простого, неподвижного строя. Убедить их в том, что он будет сражаться в их битве. Заманить их на север. Сломать их строй, не при помощи грубого давления и тщетных атак, а путем прорыва — точнее, его видимости — в центре строя фаним. А потом раздавить то, что останется после Кинганьехои и Фанайяла.
Какая славная была бы победа.
Кто мог догадаться о подобном плане? Кто мог предвидеть его?
Возможно, Конфас.
Старый враг. Старый друг — если только такой человек способен быть кому-нибудь другом.
Скаур запустил руку за пазуху халата с вышитым на нем изображением шакала и достал пергамент, который ему прислал нансурский император. Он несколько месяцев носил этот пергамент на груди, и теперь, после сегодняшней катастрофы, это была, возможно, последняя надежда остановить идолопоклонников. Пергамент промок от пота и повторял изгибы тела, сделавшись похожим на ткань. Послание Икурея Конфаса, императора Нансурии.
Старый враг. Старый друг.
Скаур не стал перечитывать пергамент. Он в этом не нуждался. Но идолопоклонники — нельзя допустить, чтобы они его прочли.
Сапатишах сунул угол пергамента в сверкающую слезинку лампы. Посмотрел, как тот свивается и вспыхивает. Посмотрел, как тонкие струйки дыма поднимаются вверх и их утягивает в окно.
Боже Единый, еще даже дневной свет не угас!
«И они подняли головы, и се! — увидели, что день не угас, и позор их открыт и виден всякому…»
Слова пророка. Да будет он милостив к ним.
Трепещущие языки пламени окутали пергамент, и сапатишах отпустил его. Тот слабо заметался, словно живое существо. Сверкающая поверхность стола покрылась пузырями и потемнела.
Подходящий знак, решил сапатишах-правитель. Намек. Небольшое предсказание будущего рока.
Скаур выпил еще вина. Идолопоклонники уже ломились в двери. Быстрые люди. Смертоносные люди.
«Неужто все мы мертвы? — подумал сапатишах. — Нет. Только я».
Погрузившись в последнюю, самую благочестивую молитву Единому Богу, Скаур не слышал, как трещит дерево. Лишь завершающий удар и грохот обломков, раскатившихся по мозаичному полу, подсказали ему, что настал час взяться за меч.
Он повернулся, чтобы встретить лицом к лицу вломившихся в комнату рослых, охваченных безумием битвы неверных.
Это будет недолгая битва.
Когда она очнулась, ее голова лежала у него на коленях. Он вытер ей щеки и лоб влажной тканью. В свете фонаря глаза его блестели от слез.
— Ребенок? — выдохнула Серве.
Келлхус закрыл глаза и кивнул.
— В порядке.
Она улыбнулась и заплакала.
— Почему? Чем я прогневала тебя?
— Это был не я, Серве.
— Но это был ты! Я видела тебя!
— Нет… Ты видела демона. Самозванца с моим лицом…
И вдруг она поняла. То, что было знакомым, сделалось чуждым. Что было необъяснимым, сделалось ясным.
«Ко мне приходил демон! Демон…»
Она посмотрела на Келлхуса. По щекам ее снова заструились горячие слезы. Сколько она может плакать?
«Но я… Он…»
Келлхус медленно взглянул на нее. «Он взял тебя».
Серве задохнулась. Она повернула голову и прижалась щекой к его бедру. Тело ее сотрясали конвульсии, но рвота не шла.
— Я… — всхлипнула Серве. — Я…
— Ты была верна.
Серве повернулась к нему. Вид у нее был сокрушенный и подавленный.
«Но это был не ты!»
— Тебя обманули. Ты была верна.
Он вытер ей слезы, и она заметила кровь на его одежде. Некоторое время они молчали, просто глядя друг другу в глаза. Жжение, охватившее кожу Серве, утихло, а ушибы растворились в какой-то странной, гудящей тупой боли. Как долго, подумалось Серве, сможет она смотреть в эти глаза? Как долго она сможет греться в их всепонимающем взгляде?
«Вечно? Да, вечно».
— Скюльвенд приходил, — в конце концов сказала она. — Он пытался забрать меня.
— Я знаю, — отозвался Келлхус. — Я сказал ему, что он может это сделать.
Откуда-то она и это тоже знала.
«Но почему?»
Он улыбнулся с гордостью.
— Потому, что я знал, что ты этого не допустишь.
«Что они узнали?»
Озаренный светом единственной лампы, Келлхус говорил с Серве нежным, успокаивающим тоном, подстраиваясь под ее ритмы, под биение сердца, под дыхание. С терпением, недоступным для рожденных в миру, он медленно ввел ее в транс, который дуниане называют «поглощением». Извлекая цепочку односложных ответов, Келлхус проследил весь ход ее разговора со шпионом-оборотнем. Потом он постепенно стер оскорбление, нанесенное этой тварью, с пергамента ее души. Поутру она проснется и удивится своим синякам, только и всего. Она проснется очищенной.
Затем Келлхус зашагал через ликующую толпу, заполнившую лагерь, направляясь к Менеанору, к стоянке скюльвенда на морском берегу. Он не обращал внимания на тех, кто громко приветствовал его; Келлхус сделал вид, будто погружен в размышления, что было не так уж далеко от истины… А самые настойчивые исчезали, натолкнувшись на его раздраженный взгляд.
У него осталась одна задача.
Из всех объектов его исследования скюльвенд оказался самым сложным и самым опасным. Он был горд, а потому чересчур чувствителен к чужому влиянию. А еще он обладал уникальным интеллектом, способностью не только ухватывать суть вещей, но и размышлять над движениями своей души — докапываться до истоков собственных мыслей.
Но важнее всего было его знание — знание о дунианах. Моэнгхус, когда много лет назад пытался бежать от утемотов, вложил в свои беседы с ним слишком много правды. Он недооценил Найюра и не подумал о том, как тот сумеет распорядиться открывшимися ему фрагментами истины. Раз за разом возвращаясь мыслями к событиям, что сопутствовали смерти его отца, степняк сумел сделать много тревожащих выводов. И теперь из всех рожденных в миру он единственный знал правду о Келлхусе. Из всех, рожденных в миру, Найюр урс Скиоата был единственным, кто бодрствовал…
И поэтому он должен был умереть.
Люди Эарвы не задумывались об обычаях своих народов. Конрийцы не брились, потому что голые щеки — это по-бабски. Нансурцы не носили гамаши, потому что это вульгарно. Тидонцы не заключали браков с темнокожими — чурками, как они их называли, — потому что те, дескать, грязные. Для рожденных в миру все эти обычаи просто были. Люди отдавали изысканную пищу каменным статуям. Целовали колени слабакам. Жили в страхе из-за непостоянства своих сердец. Каждый из них считал себя абсолютным мерилом всего. Они ощущали стыд, отвращение, уважение, благоговение…
И никогда не спрашивали — почему?
Но Найюр был не таким. Там, где прочие цеплялись за невежество, он постоянно был вынужден выбирать и, что более важно, защищать свою мысль от бесконечного пространства возможных мыслей, свое действие от бесконечного пространства возможных действий. Зачем укорять жену за то, что она плачет? Почему бы не стукнуть ее? Почему не посмеяться над ней, не утешить ее? Может, просто не обращать на нее внимания? Почему не поплакать вместе с ней? Что делает один ответ правильнее другого? Нечто в крови человека? Слова убеждения? Бог?
Или, как утверждал Моэнгхус, цель?
Найюр, сын своего народа, живущий среди него и обреченный среди него умереть, выбрал кровь. На протяжении тридцати лет он пытался поместить свои мысли и страсти в рамки узких представлений утемотов. Но, несмотря на звериную выносливость, несмотря на природные дарования, соплеменники Найюра постоянно чувствовали в нем какую-то неправильность. Во взаимоотношениях между людьми каждое действие ограничено ожиданиями других; это своего рода танец, и он не терпит ни малейших колебаний. А утемоты замечали вспыхивавшие в нем сомнения. Они понимали, что он старается, и знали, что всякий, кто старается быть одним из Народа, на самом деле чужой.
Потому они наказывали его перешептыванием и настороженными взглядами — на протяжении долгих лет…
Тридцать лет позора и отверженности. Тридцать лет мучений и ужаса. Целая жизнь, проведенная среди ненавидящих каннибалов… В конце концов Найюр проложил свой собственный путь, путь одиночки, путь безумия и убийства.
Он превратил кровь в воды очищения. Раз война — предмет поклонения, то Найюру требовалось сделаться самым благочестивым из скюльвендов — не просто одним из Народа, а величайшим из всех. Он сказал себе, что его руки — его слава. Он — Найюр урс Скиоата, неистовейший из мужей.
И так он продолжал твердить себе, невзирая на то, что каждый свазонд отмечал не его честь, а смерть Анасуримбора Моэнгхуса. Чем было это безумие, если не всепоглощающим нетерпением, потребностью наконец-то завладеть тем, в чем мир ему отказывал? Моэнгхус не просто должен был умереть, он должен был умереть сейчас, и неважно, Моэнгхус это или нет.
В ярости Найюр превратил весь мир в замену своего врага. И тем самым мстил за себя.
Несмотря на всю точность этого анализа, он мало чем помог Келлхусу в попытках завладеть вождем утемотов. Скюльвенд знал дунианина, и это знание постоянно воздвигало преграды на пути у Келлхуса. Некоторое время он даже думал, что Найюр не сдастся никогда.
Затем они нашли Серве — замену иного рода.
С самого начала скюльвенд сделал ее своим образом жизни, своим доказательством того, что следует путями Народа. Серве заслонила собой Моэнгхуса, о котором так часто напоминал Келлхус своим проклятым сходством. Она была заклинанием, превращающимся в проклятие Моэнгхусу. И Найюр влюбился — не в нее, но в идею любви к ней. Потому что если он любит ее, то не может любить Анасуримбора Моэнгхуса…
Или его сына.
Дальше все было элементарно.
Келлхус начал соблазнять Серве, зная, что тем самым напоминает варвару его собственное соблазнение, произошедшее тридцать лет назад. Вскоре она стала заменой и повторением ненависти, переполняющей сердце скюльвенда. Степняк начал бить ее, но не чтобы выразить скюльвендское презрение к женщинам, а чтобы побольнее ударить себя. Он наказывал ее за то, что она повторяла его грехи, и при этом одновременно любил ее и презирал любовь как проявление слабости…
Этого Келлхус и добивался — нагромоздить противоречие на противоречие. Он обнаружил, что рожденные в миру уязвимы для противоречий. Похоже, ничто не владело их сердцами сильнее. Ничем они не были так одержимы.
Как только Найюр окончательно попал в зависимость от Серве, Келлхус просто забрал ее, зная, что Найюр отдаст все, лишь бы получить ее обратно, и сделает это, даже не понимая, почему поступает так.
И теперь полезность Найюра урс Скиоаты исчерпалась.
Монах поднялся на вершину дюны, поросшей редкой травой. Ветер трепал его волосы и развевал полы белой парчовой накидки. Впереди раскинулся Менеанор, уходя вдаль, туда, где земля словно бы перетекала в великую пустоту ночи. А внизу он увидел круглую палатку скюльвенда; заметно было, что ее повалили пинками и потоптались сверху. Костра рядом не было.
На мгновение Келлхусу показалось, что он опоздал. Но затем он услышал доносимые ветром крики и увидел среди встающих валов одинокий силуэт. Келлхус прошел через разрушенную стоянку к краю воды, ощущая под сандалиями похрустывание ракушек и гальки. На волнах серебрилась лунная дорожка. Кричали чайки, зависая в ночном небе подобно воздушным змеям.
Келлхус смотрел, как волны бьются о нагое тело скюльвенда.
— Здесь нет следов! — кричал степняк и колотил по воде кулаками. — Где здесь…
Вдруг он застыл. Темные волны вставали вокруг него, закрывали его почти до плеч, а потом откатывались в облаках хрустальной пены. Найюр повернул голову, и Келлхус увидел смуглое лицо, окаймленное длинными прядями мокрых черных волос. На лице не отражалось никаких чувств.
Абсолютно никаких.
Найюр побрел к берегу. Волны накатывались на него, невесомые, словно дым.
— Я сделал все, что ты просил! — крикнул он, перекрывая грохот прибоя. — Я опозорил своего отца, втянув его в схватку с тобой. Я предал его, мое племя, мой народ…
Вода стекала по его широкой груди на поджарый живот и дальше, к паху. Волна ударилась в белые бедра, качнула длинный фаллос. Келлхус отрешился от шума Менеанора и сосредоточился на приближающемся варваре. Ровный пульс. Бледная кожа. Расслабленное лицо…
Мертвые глаза.
И Келлхус осознал: «Я не могу читать этого человека».
— Я последовал за тобой через Степь, не имеющую дорог.
Босые ноги прошлепали по мокрому песку. Найюр остановился перед Келлхусом; его рослая фигура блестела, залитая лунным светом.
— Я любил тебя.
Келлхус отступил, достал меч и выставил его перед собой.
— На колени, — приказал он.
Скюльвенд рухнул на колени, вытянул руки и провел пальцами по песку. Он запрокинул лицо к звездам, подставляя горло под удар. Позади бушевал Менеанор.
Келлхус недвижно стоял над ним.
«Что это, отец? Жалость?»
Он посмотрел на скюльвендского воина, жалкого и униженного. Из какой тьмы пришло это чувство?
— Ну, бей! — выкрикнул скюльвенд.
Огромное тело, покрытое шрамами, дрожало от ужаса и ликования.
Но Келлхус не шелохнулся.
— Убей меня! — крикнул Найюр в купол ночи.
Со сверхъестественной быстротой он схватил клинок Келлхуса и приставил острие к своему горлу.
— Убей! Убей!
— Нет, — сказал Келлхус.
Волна разбилась о берег, и ветер осыпал их холодными брызгами.
Подавшись вперед, он осторожно высвободил клинок из руки скюльвенда.
Найюр схватил его за шею и повалил на песок.
Келлхус не стал вырываться. Благодаря инстинкту или везению варвар ухватил его за точки смерти. Келлхус знал, что Найюру достаточно незначительного рывка, чтобы свернуть ему шею.
Скюльвенд подтащил его к себе, так близко, что Келлхус почувствовал тепло, исходящее от мокрого тела.
— Я любил тебя! — шепотом прокричал он.
А потом оттолкнул Келлхуса. Но теперь дунианин был настороже; он прижал подбородок к груди, чтобы не растянуть мышцы шеи. Найюр смотрел на него с надеждой и ужасом…
Келлхус спрятал меч в ножны.
Скюльвенд качнулся назад и вскинул кулаки к голове. Он запустил пальцы в волосы и вцепился в них изо всех сил.
— Но ты же сказал! — исступленно выкрикнул он, потрясая окровавленными прядями. — Ты же сказал!
Келлхус молча смотрел на него. Можно найти и другую пользу.
Всегда можно найти другую пользу.
Тварь, именуемая Сарцеллом, двигалась по узкой тропе вдоль насыпи между полями. Несмотря на нетипичную для здешних мест сырость, ночь была ясная, и луна окрашивала рощи эвкалиптов и платанов в синеватый оттенок. Добравшись до руин, тварь придержала коня и направила его в длинную галерею колонн, уходящую к скоплению поросших травой курганов. За колоннами раскинулся Семпис, неподвижный на вид, словно озеро, и в его зеркальной глади отражалась белая луна и размытая линия северных склонов. Сарцелл спешился.
Это место когда-то было частью древнего города Гиргилиота, но тварь, именуемую Сарцеллом, не интересовали подобные вещи. Она жила мгновением. Сейчас ее интересовало только это сооружение. Отличное место для шпионов, дабы встречаться с теми, кто ими руководит, будь то люди или нелюди.
Сарцелл сел, прислонившись спиной к колонне, и погрузился в мысли, хищные и непостижимые. На лунно-бледных колоннах были высечены изображения леопардов, вставших на задние лапы. Шум крыльев вывел Сарцелла из грез, и он приоткрыл большие карие глаза.
На колени к нему опустилась птица размером с ворона — во всем подобная ему, но с белой головой.
Белой человеческой головой.
Птица склонила голову набок и взглянула на Сарцелла маленькими бирюзовыми глазками.
— Я чую кровь, — произнесла она тонким голосом.
Сарцелл кивнул.
— Скюльвенд… Он помешал мне допрашивать девчонку.
— Твоя работоспособность?
— Не пострадала. Я излечился.
Помаргивание.
— Хорошо. Ну так что ты узнал?
— Он — не кишаурим.
Тварь сказала это очень тихо, словно бы щадя крохотные барабанные перепонки.
По-кошачьи любопытный поворот головы.
— В самом деле? — после секундной паузы переспросил Синтез. — Тогда кто же?
— Дунианин.
Легкая гримаса. Маленькие блестящие зубы, словно зернышки риса, сверкнули под приподнявшимися губами.
— Все игры приводят ко мне, Гаоарта. Все игры.
Сарцелл застыл.
— Я не веду никаких игр. Этот человек — дунианин. Так его называет скюльвенд. Она сказала, что это совершенно точно.
— Но в Атритау нету ордена под названием «дуниане».
— Нету. Следовательно, он — не князь Атритау.
Древнее Имя застыл, словно пытался провести большие человеческие мысли через маленький птичий разум.
— Возможно, — в конце концов сказал он, — название этого ордена не случайно происходит из древнего куниюрского языка. Возможно даже, что имя этого человека — Анасуримбор, — вовсе не является неуклюжей ложью кишаурим. Возможно, он и вправду принадлежит к Древнему Семени.
— Может, его обучали нелюди?
— Возможно… Но у нас есть шпионы — даже в Иштеребинте. Нам мало что неизвестно о действиях нинкилджирас. Очень мало.
Маленькое лицо оскалилось. Птица взмахнула обсидиановыми крыльями.
— Нет, — продолжил Синтез, нахмурив лоб, — этот дунианин — не подопечный нелюдей… Там, где был затоптан свет древней Куниюрии, уцелело много упрямых угольков. Один из них — Завет. Возможно, дуниане — другой такой уголек, не менее упрямый, — голубые глаза снова моргнули, — но куда более скрытный.
Сарцелл ничего не сказал. Рассуждения на подобные темы в его полномочия не входили — таким его создали.
Крохотные зубы лязгнули — раз, другой, как будто Древнее Имя проверял их прочность.
— Да… Уголек… и причем прямо в тени Святого Голготтерата…
— Он сказал этой женщине, что Священное воинство будет его.
— И он — не кишаурим! Вот загадка, Гаоарта! Так кто же такие эти дуниане? Что они хотят от Священного воинства? И каким образом, милое мое дитя, этому человеку удается видеть сквозь твое лицо?
— Но мы не…
— Он видит достаточно… Да, более чем достаточно…
Птица склонила голову, моргнула, потом выпрямилась.
— Дадим князю Келлхусу еще немного времени, Гаоарта. Теперь, когда колдун Завета выведен из игры, он сделался менее опасен. Оставим его… Нам нужно побольше узнать об этих «дунианах».
— Но его влияние продолжает расти. Все больше и больше Людей Бивня зовут его Воином-Пророком или Божьим князем. Если так пойдет и дальше, от него станет очень трудно избавиться.
— Воин-Пророк, — Синтез закудахтал. — Экий он ловкач, твой дунианин. Он связал этих фанатиков их же веревкой… Что он проповедует, Гаоарта? Это чем-либо угрожает Священной войне?
— Нет. Пока что нет, Консульт-Отец.
— Оцени его, а потом поступай, как сочтешь нужным. Если тебе покажется, что он может заставить Священное воинство остановиться, сделай так, чтобы он замолчал. Любой ценой. Он — не более чем любопытный курьез. Кишаурим — вот кто наши враги!
— Да, Древний Отец.
Поблескивающая, как мокрый мрамор, белая голова дважды качнулась, словно повинуясь непонятному инстинкту. Крыло опустилось Сарцеллу на колено, нырнуло между бедер… Гаоарта напрягся и застыл.
— Тебе очень больно, милое дитя?
— Д-да! — выдохнула тварь, именуемая Сарцеллом.
Маленькая голова наклонилась вперед. Глаза под тяжелыми веками смотрели, как кончик крыла кружит и поглаживает, поглаживает и кружит.
— Но ты только вообрази… Вообрази мир, в котором ни одно чрево не оживает, ни одна душа не надеется!
Сарцелл задохнулся от восторга.
Глава 16. Шайгек
«Люди никогда не бывают сильнее похожи друг на дружку, чем в тот момент, когда они спят или мертвы».
Оппарита, «О плотском»«В дни после Анвурата заносчивость айнрити расцвела пышным цветом. Хотя здравомыслящие требовали, чтобы они продолжали наступление, подавляющее большинство пожелало устроить передышку. Они думали, что фаним обречены, точно так же, как уже считали их обреченными после Менгедды. Но пока Люди Бивня мешкали, падираджа строил планы. Он превратил мир в свой щит».
Друз Ахкеймион, «Компендиум Первой Священной войны»4111 год Бивня, начало осени, Иотия
Ахкеймиона мучили сны…
Сны, извлеченные из ножен.
Мелкий дождь заволакивал даль, затягивал Кольцевые горы завесой, словно бы сотканной из серой шерсти, насылал безумие на все живое, оказавшееся под ним. Сквозь пелену дождя проступали нерадостные картины… Скопища шранков, ощетинившиеся оружием из черной бронзы. Шеренги башрагов, бьющих по грязи своими тяжелыми молотами. А за ними — высокие бастионы Голготтерата. Неясные очертания барбаканов над отвесными скалами, два огромных рога Ковчега, высящиеся в густом мраке, изогнутые, золотистые на фоне бесконечных серых, стелющихся полос дождя.
Голготтерат, взметнувшийся над древним ужасом, обрушившимся с небес.
Чтобы вскоре осесть…
Грубый хохот раскатился над мрачной, безрадостной равниной.
Шранки ринулись вперед, словно пауки, с воплями продираясь через лужи, мчась по грязи. Они врезались в фаланги воинственных аорси, защитников Севера; они бились о сверкающие ряды воинов Куниюрии. Вожди-принцы Верхнего Норсираи погнали свои колесницы навстречу врагам и все полегли в схватке. Знамена Иштеребинта, последней обителей нелюдей, глубоко вошли в море этой мерзости, оставляя за собой полосу трупов и черной крови. Великий Нильгиккас стоял, словно сияющий солнечный луч, посреди дыма и жестокой тени. И Нимерик трубил в Мировой Рог, снова и снова, пока шранки перестали слышать что-либо, кроме его роковых раскатов.
Сесватха, великий магистр Сохонка, подставил лицо дождю, и его охватила радость, ибо все это происходило, происходило на самом деле! Чудовищный Голготтерат, древний Мин-Уройкас, вот-вот должен был пасть. Он ведь предупреждал их в свое время!
В памяти Ахкеймиона ожили все восемнадцать лет этой иллюзии.
Сны, извлеченные из ножен.
А когда он приходил в себя от грубых криков или выплеснутой на него холодной воды, могло показаться, что один кошмар просто сменился другим. Он снова щурился от света факелов, смутно осознавал боль от впивающихся в тело цепей, ощущал во рту кляп из отвратительной тряпки и видел темные фигуры в красных одеяниях, стоящие вокруг него. И думал, прежде чем снова погрузиться в Сны: «Надвигается… Апокалипсис приближается…»
— Странно, а, Ийок?
— Что именно?
— Что людей можно с такой легкостью сделать беспомощными.
— Людей и школы…
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего, великий магистр.
— Смотри-ка! Он открыл глаза!
— Да… Время от времени он это делает. Но ему нужно восстановить силы, прежде чем мы сможем взяться за дело.
Когда Эсменет увидела, как они идут через поле, она заплакала. Келлхус и Серве, измученные после долгого пути, шли к ней по кочковатому лугу, ведя коней в поводу. Потом она сорвалась с места и помчалась, спотыкаясь о кочки, падая и вновь поднимаясь на ноги. Эсменет бежала к ним. Нет, не к ним — к нему.
Она подбежала к Келлхусу и ухватилась за него с такой силой, какую и не подозревала в себе. От него пахло пылью и ароматическими маслами. Его борода и волосы целовали ее голые руки мягкими завитками. Эсменет чувствовала, как ее слезы стекают ему на шею.
— Келлхус, — всхлипывала она. — О Келлхус… Я думала, что схожу с ума!
— Нет, Эсми… Это просто горе.
Он казался столпом утешения. Эсменет прижалась к его широкой груди. Его длинные руки оберегающим жестом легли ей на спину и узкую талию.
Потом Келлхус отстранил ее, и она повернулась к Серве, которая тоже плакала. Они обнялись, а потом вместе зашагали к одинокой палатке на склоне. Келлхус вел лошадей.
— Мы соскучились по тебе, Эсми, — сказала Серве, странно взволнованная.
Эсменет взглянула на девушку с жалостью; под левым глазом Серве красовался синяк, а под линию волос уходил воспаленный порез. Даже если бы у Эсменет хватало духу — а его таки не хватало, — она бы все равно предпочла подождать, пока Серве сама объяснит, что случилось, нежели расспрашивать ее. При таких отметинах вопросы влекут за собой ложь, а молчание может позволить себе правду. Такое случается со многими женщинами — особенно с распутницами…
Не считая лица, девушка выглядела здоровой и прямо-таки сияла. Под хасой угадывался раздавшийся живот. У Эсменет в голове тут же закружились десятки вопросов. Как ее спина? Часто ли она мочится? Не было ли кровотечений? Эсменет вдруг осознала, насколько девушке должно быть страшно — даже рядом с Келлхусом. Эсменет помнила собственный радостный ужас. Но тогда она была одна. Совершенно одна.
— Вы, должно быть, умираете от голода! — воскликнула она.
Серве покачала головой, но получилось у нее неубедительно, и Эсменет с Келлхусом рассмеялись. Серве всегда была голодна — что неудивительно для беременной женщины.
На мгновение Эсменет ощутила, как в глазах заплясали прежние искорки.
— Как приятно снова увидеть вас, — сказала она. — Я печалилась о вас больше, чем из-за утраты Ахкеймиона.
Смеркалось, поэтому Эсменет пришлось носить дрова — в основном это был белесый плавник, который она собирала на берегу реки, — и подбрасывать в огонь. Келлхус сидел, скрестив ноги, у гаснущего костра. Серве положила голову ему на плечо; волосы ее были выбелены солнцем, а нос обгорел и шелушился.
— Это тот же самый костер, — сказал Келлхус. — Тот самый, который мы развели, когда только-только пришли в Шайгек.
Эсменет застыла с охапкой дров.
— Да! — воскликнула Серве.
Она оглядела пустые склоны и повернулась к змеящейся неподалеку темной ленте реки.
— Но все исчезло… Все шатры. Все люди…
Эсменет скармливала огню одно с трудом добытое полено за другим. В последнее время она просто тряслась над костром. Ведь ей было не за кем больше ухаживать.
Она чувствовала на себе мягкий, испытующий взгляд Келлхуса.
— Есть очаги, которые не зажжешь заново, — сказал он.
— Он достаточно хорошо горит, — пробормотала Эсменет.
Она сморгнула слезы, шмыгнула носом и вытерла его.
— Но что делает очаг очагом, Эсми? Огонь — или семья, которая поддерживает его?
— Семья, — после продолжительного молчания отозвалась Эсменет. Странная пустота овладела ею.
— Семья — это мы… Ты же это знаешь.
Келлхус склонил голову набок, чтобы заглянуть в ее опущенное лицо.
— И Ахкеймион тоже это знает.
Ноги вдруг перестали слушаться Эсменет; она споткнулась и упала. И снова расплакалась.
— Н-но я д-должна о-остаться… Я д-должна ж-ждать его… п-пока он в-вернется домой.
Келлхус опустился на колени рядом с ней, приподнял ее подбородок. Эсменет заметила на его левой щеке блестящую дорожку, оставленную скатившейся слезой.
— Мы и есть дом, — сказал он и каким-то образом положил конец ее терзаниям.
За ужином Келлхус поведал, что произошло за последнюю неделю. Он всегда был потрясающим рассказчиком, и на некоторое время Эсменет позабыла обо всем, кроме битвы при Анвурате. У нее сердце готово было выскочить из груди, когда Келлхус описывал поджог лагеря и налет кхиргви, и она хлопала в ладоши и хохотала не меньше Серве, когда он повествовал о защите Знамени-Свазонда, которая, по его словам, была не более чем кучей несусветных оплошностей. И Эсменет снова удивлялась тому, что такой потрясающий человек — пророк! кем еще он мог быть? — заботится о ней, женщине из низкой касты, шлюхе из трущоб Сумны.
— Ах, Эсми, — сказал он, — мне становится легче на сердце, когда я вижу, как ты улыбаешься.
Эсменет прикусила губу и засмеялась сквозь слезы.
Келлхус продолжил рассказ, уже более серьезно; он описал события, последовавшие за битвой. Как преследовали язычников в пустыне. Как Готиан принес голову Скаура к праздничным кострам. Как Священное воинство до сих пор охраняет южный берег. От дельты и до самой пустыни горят дома…
Эсменет видела этот дым.
Некоторое время они сидели молча, слушая, как огонь пожирает дрова. Как всегда, на небе не было ни облачка, и звездный купол казался бесконечным. Воды вечного Семписа серебрились в лунном свете.
Сколько ночей она размышляла над этим? Небо и окружающий простор. Они заставляли Эсменет чувствовать себя крохотной и беззащитной, подавляли своим чудовищным равнодушием, напоминали ей, что сердца — не более чем трепещущие лоскуты. Слишком сильный ветер — и их срывает и уносит в беспредельную черноту. Слишком слабый — и они обвисают.
Есть ли на что надеяться Акке?
— Я получил известия от Ксинема, — в конце концов сказал Келлхус. — Он все еще продолжает поиски…
— Так, значит, надежда еще есть?
— Надежда всегда есть, — произнес он тоном, который одновременно и подбодрил Эсменет, и притупил ее чувства. — Нам остается лишь ждать, что выяснит Ксинем.
Не в силах вымолвить хоть слово, Эсменет взглянула на Серве, но та отвела взгляд.
«Они думают, что он мертв».
Она слишком хорошо знала — надеяться не на что. Таков мир. Но все же мысль о том, что он мертв, казалась ей невозможной. Как можно думать о конце всего?
«Акка обязательно…»
— Ну, будет, — сказал Келлхус, быстро и открыто, как человек, уверенный в избранном пути.
Он обошел вокруг костерка и сел рядом с Эсменет, обхватив руками колени. Потом нацарапал веткой на земле странно знакомый знак.
— Давай я поучу тебя читать.
Эсменет казалось, что у нее уже не осталось слез, но откуда-то…
Она взглянула на Келлхуса и улыбнулась. Голос ее был тонким и дрожащим.
— Я всегда мечтала уметь читать.
Непрерывная смена мучений — от агонии Сесватхи в недрах Даглиаша две тысячи лет назад к нынешнему моменту… Боль от ожогов, стертые запястья, суставы, вывернувшиеся неестественным образом под весом тела. Сперва Ахкеймион не осознавал, что приходит в себя. Казалось, будто лицо Мекеритрига просто превращается в лицо Элеазара — нечеловечески прекрасное лицо предателя рода людского сменялось изрытым глубокими морщинами лицом великого магистра.
— Ну как, Ахкеймион, — спросил Элеазар, — приятно видеть то, что ты видишь? Некоторое время мы боялись, что ты вообще не очнешься… Понимаешь ли, тебя чуть не убили. Библиотека полностью уничтожена. Все книги превратились в пепел — и все из-за твоего упрямства. Представляю, как сареоты сейчас воют Вовне. Все их злосчастные книги!
Ахкеймион, нагой, с кляпом во рту, скованный по рукам и ногам, висел на цепях над великолепным мозаичным полом. Зал был сводчатым, но Ахкеймион не видел сводов, равно как и стен — кроме стоящей прямо перед ним своеобразной стены из фигур в шелковых одеяниях. Все прочее пространство терялось во мраке. Горели три треножника, но лишь Ахкеймион, висящий на пересечении кругов света, был ярко освещен.
— Ах да… — продолжал Элеазар, наблюдая за ним со слабой улыбкой. — Это место… Всегда хорошо, когда удается обеспечить ощущение тюрьмы, верно? Это, судя по виду, старинная церковь айнрити. Полагаю, кенейской постройки.
Внезапно до Ахкеймиона дошло.
«Багряные Шпили! Я покойник… покойник!»
Слезы заструились по его щекам. Тело — избитое, затекшее — предало его, и он почувствовал, как по голым ногам потекла моча и жидкий кал, услышал, как все это шлепнулось на мозаичных змей на полу.
«Не-е-ет! Этого не может быть!»
Элеазар рассмеялся, негромко и противно.
— А теперь, — с насмешкой произнес он, — взвыл еще и какой-то давно скончавшийся кенейский архитектор.
У кого-то из его свиты вырвался неловкий смешок.
Охваченный животным ужасом, Ахкеймион забился в цепях, закашлялся, подавившись тряпкой, засунутой чуть ли не в горло. Резкий приступ — и он обмяк. Теперь он покачивался, описывая небольшие круги, и по телу его прокатывалась одна волна боли за другой.
«Эсми…»
— Тут все ясно, — сказал Элеазар, поднося к лицу платочек, — тебе не кажется, Ахкеймион? Ты знаешь, почему тебя схватили. И ты знаешь, каков неизбежный исход. Мы будем выпытывать у тебя Гнозис, а ты, закаленный годами обучения, будешь сводить на нет все наши усилия. Ты умрешь в мучениях, сохранив тайны в своем сердце, и нам останется очередной бесполезный труп. Именно так все и должно происходить, верно?
Ахкеймион только и мог, что смотреть на него в слепом ужасе, а маятник боли все качался и качался, вперед-назад, вперед-назад…
Элеазар сказал правду. Предположительно, ему предстояло умереть за свое знание, за Гнозис.
«Думай, Ахкеймион, думай! О боже милостивый! Ты должен думать!»
Без наставлений нелюдской Квуйи мистические школы Трех Морей никогда не узнали бы, как превзойти то, что они называли Аналогиями. Все их колдовство, каким бы мощным или искусным оно ни было, проистекало из силы тайных связей, из резонанса между словами и реальными событиями. Им нужны были окольные пути — драконы, молнии, солнца, — чтобы поджечь мир. Они не могли, в отличие от Ахкеймиона, заклясть суть этого явления, само горение. Они ничего не знали об Абстракциях.
Они были поэтами, а он — философом. Рядом с его железом они были бронзой, и ему следовало продемонстрировать это.
Ахкеймион с силой выдохнул через нос. Он свирепо уставился на великого магистра, хотя у него все плыло перед глазами.
«Я увижу тебя горящим! Увижу!»
— Но в наши неспокойные времена, — тем временем говорил Элеазар, — нельзя допускать, чтобы прошлое стало нашим тираном. Тебя совершенно не обязательно мучить и убивать…
Элеазар вышел вперед — пять изящных, размеренных шагов, — и остановился рядом с Ахкеймионом.
— Чтобы доказать это тебе, я уберу кляп. На самом деле я позволю тебе говорить, вместо того чтобы поработать над тобой, как это прежде делали с твоими коллегами-адептами. Но я предупреждаю, Ахкеймион, — даже не пытайся напасть на нас. Бессмысленно.
Из-под манжета расшитого разнообразными символами рукава высунулась изящная рука и указала на мозаичный пол.
Ахкеймион увидел, что поверх стилизованных животных нарисован большой красный круг: изображение змеи, покрытой пиктограммами, словно чешуей, и пожирающей собственный хвост.
— Как ты можешь видеть, — мягко произнес Элеазар, — ты висишь над Кругом Уробороса. Стоит тебе начать Напев, и ты обрушишь на себя нестерпимую боль. Можешь мне поверить. Я уже видел подобное.
Равно как и Ахкеймион. Похоже, Багряные Шпили владели многими могущественными приспособлениями.
Великий магистр отошел, и из полумрака выступил неуклюжий евнух. Пальцы у него были толстые, но гибкие; он проворно вынул кляп. Ахкеймион жадно втянул воздух ртом, ощущая зловоние, что исходило от его тела. Он наклонил голову и сплюнул.
— Итак? — поинтересовался Элеазар.
— Где мы? — прохрипел Ахкеймион.
Редкая седая козлиная бородка великого магистра дрогнула, он расплылся в улыбке.
— Конечно же, в Иотии.
Ахкеймион скривился и кивнул. Он взглянул вниз, на Круг Уробороса, увидел, как моча просачивается в щелочки между кусочками мозаики…
Это не было проявлением мужества — просто головокружительный миг разрыва связей, намеренное пренебрежение последствиями.
Он произнес два слова.
Мучительная боль.
Достаточная, чтобы пронзительно закричать и снова опорожнить кишечник.
Добела раскаленные нити обвили его и просочились сквозь кожу, как будто в жилах вместо крови потек солнечный свет.
Он кричал и кричал, пока не начало казаться, что глаза вот-вот лопнут, а зубы треснут и со стуком посыплются на мозаичный пол.
А потом вернулся куда более давний кошмар и куда более продолжительная мука.
Когда визг стих, Элеазар посмотрел на бесчувственное тело. Даже сейчас, скованный по рукам и ногам, нагой, со съежившимся фаллосом, торчащим из черных волос на лобке, этот человек казался… грозным.
— Упрямец, — сказал Ийок тоном, в котором недвусмысленно звучало: «А вы чего ожидали?»
— Действительно, — согласился Элеазар.
Он был зол. Проволочка за проволочкой. Конечно, было бы замечательно вырвать Гнозис у этого дрожащего пса, но дар оказался бы слишком уж нежданным. А вот что ему действительно очень нужно, так это узнать, что именно произошло в ту ночь в императорских катакомбах под Андиаминскими Высотами. Ему необходимо узнать, что этому человеку известно о шпионах-оборотнях кишаурим.
Кишаурим!
Прямо или косвенно, но этот пес Завета уничтожил все преимущество, которое они приобрели после битвы при Менгедде. Сперва — убив двух колдунов высокого уровня в Сареотской библиотеке, и в их числе — Ютирамеса, давнего и могущественного союзника Элеазара. А затем — предоставив этому фанатику Пройасу рычаг для воздействия. Если бы не угрозы принца отомстить за своего «дорогого старого наставника», Элеазар никогда не позволил бы Багряным Шпилям поддержать Священное воинство в схватке на южном берегу. Шесть! Шесть опытных колдунов погибли в битве при Анвурате от стрел фанимских лучников. Укрумми, Каластенес, Наин…
Шестеро!
И Элеазар знал, что именно этого кишаурим и хотят… Обескровить их, при этом ревностно сберегая собственную кровь.
О да, он желал обладать Гнозисом. Так сильно желал, что это почти перевешивало другое слово — «кишаурим». Почти. Тем вечером в Сареотской библиотеке, наблюдая, как один человек противостоит восьми опытным колдунам при помощи сверкающего, абстрактного света, Элеазар позавидовал ему так, как никогда и никому прежде. Какая поразительная сила! Какая чистота управления! «Но как? — думал он. — Как?»
Гребаные свиньи Завета.
Когда он узнает все, что ему нужно, о кишаурим, неплохо было бы поработать с этим псом на прежний манер. Вся жизнь — лотерея, и кто знает, вдруг поимка этого человека окажется столь же значительным деянием, как и уничтожение кишаурим — в конечном итоге.
Вот в чем, решил Элеазар, недостаток Ийока. Он не в силах постичь тот факт, что при определенной ставке даже самая отчаянная игра стоит свеч. Он ничего не знает о надежде.
Те, кто пристрастился к чанву, ничего не знают о надежде.
При переправе Семпис казался не рекой, а чем-то большим.
Эсменет подъехала к ближайшему парому айнрити, сидя за спиной у Серве; ее одновременно пугала мысль о необходимости переправляться на спине у животного и восхищало искусство верховой езды Серве. Девушка объяснила, что, как всякая кепалоранка, она рождена в седле.
А это означает, мелькнула у Эсменет непривычно горькая мысль, что ноги у нее широко расставлены.
Потом, стоя в тени шуршащей листвы, она смотрела через реку, на оголенный северный берег. Эта нагота печалила Эсменет, напоминая ей о собственном сердце и о том, почему ей пришлось уйти. Но расстояние… Ее охватило ужасающее ощущение окончательности, уверенность в том, что Семпис, чьи воды казались ей добрыми, на самом деле безжалостен и что возвращения к ручью не будет.
«Я могу плавать… Я знаю, как плавать!»
Келлхус похлопал ее по плечу.
— Смотри лучше на юг, — посоветовал он.
Возвращение к конрийцам прошло куда легче, чем опасалась Эсменет. Пройас разбил лагерь у высоких стен Аммегнотиса, единственного крупного города на южном берегу. Они влились в поток, текущий в ту же сторону: отряды всадников, повозки, босоногие кающиеся грешники, — и все толпились на той стороне дороги, где тень пальм была погуще. Но путникам не удалось раствориться в толпе — их стало осаждать множество людей. По большей части Люди Бивня, но были среди них и гражданские, из числа тех, кто следовал за войском; и все они жаждали прикоснуться к краю одежды Воина-Пророка или испросить у него благословения. Как объяснила Серве, вести о том, как он противостоял нападению кхиргви, широко разошлись и привлекли к нему еще большее внимание. Когда путники добрались до лагеря, их сопровождала целая толпа.
— Он больше не укоряет их, — сказала Эсменет, в изумлении наблюдавшая за происходящим.
Серве рассмеялась.
— Здорово, правда?
И это вправду было здорово! Келлхус, тот самый человек, который много раз поддразнивал ее на вечерних посиделках у костра, шел среди преклоняющихся перед ним людей, улыбался, прикасался к щекам, говорил теплые, подбадривающие слова. Это был Келлхус!
Воин-Пророк.
Он взглянул на них, усмехнулся и подмигнул. Эсменет, прижавшаяся к Серве, чувствовала, как та дрожит от восторга, и на миг ее захлестнула дикая, необоснованная ревность. Почему она всегда проигрывает? Почему боги так ненавидят ее? Почему не кого-то другого, не того, кто этого заслуживает? Почему не Серве?
Но следом за этими мыслями пришел стыд. Келлхус приехал за ней. Келлхус! Человек, которого боготворили, пришел, чтобы позаботиться о ней.
«Он делает это ради Ахкеймиона. Ради своего наставника…»
Пройас расставил стражу вокруг конрийского лагеря, — как объяснила Серве, в основном из-за слишком большого числа людей, следующих за Келлхусом, — и вскоре они уже спокойно, без помех шли между длинными рядами полотняных палаток.
Эсменет говорила себе, что боится возвращаться, потому что это пробудит слишком много воспоминаний. Но на самом деле она, наоборот, боялась утратить эти воспоминания. Ее отказ покинуть прежнюю стоянку был безрассудным, отчаянным, жалким… Келлхус доказал ей это. Но то, что она осталась там, в некотором смысле укрепило ее — во всяком случае, так казалось Эсменет, когда она об этом думала. Там она ощущала уверенность в том, что должна защитить все, что окружало Ахкеймиона. Она даже отказывалась прикасаться к выщербленной глиняной чашке, из которой он тем утром пил чай. Подобные вещи стали словно бы фетишами, заклинаниями, которые обеспечат его возвращение. И еще присутствовало чувство гордости всеми оставленного человека. Все бежали, а она осталась — она осталась! Она смотрела на покинутые поля, на кострища, снова становящиеся землей, на тропинки, протоптанные в траве, и весь мир будто превращался в призрак. Лишь ее утрата казалась реальной… Лишь Ахкеймион. Разве не было в этом некоего величия, некой добродетели?
Теперь же она продолжила путь — что бы там Келлхус ни говорил об очаге и семье. Не значит ли это, что она тоже оставила Ахкеймиона позади?
Эсменет плакала, пока Келлхус помогал ей устанавливать палатку Ахкеймиона, такую маленькую и потрепанную, в тени величественного парчового шатра, который он делил с Серве. Но она была признательна ему. Очень признательна.
Эсменет думала, что первые несколько вечеров будет ощущать неловкость, но она ошиблась. Келлхус относился к ней с таким великодушием, а Серве с такой наивной простотой, что Эсменет чувствовала себя желанным гостем. Время от времени Келлхус смешил ее — как подозревала Эсменет, просто для того, чтобы напомнить ей, что она все еще способна радоваться. Иначе он либо разделил бы ее печаль, либо отошел бы в сторонку, чтобы не мешать ей страдать в уединении.
Серве была… ну, Серве как Серве. Иногда она словно бы забывала о горе, постигшем Эсменет, и вела себя так, будто ничего не произошло, и Ахкеймион мог в любое мгновение появиться на извилистой дорожке, смеясь или пререкаясь с Ксинемом. И хотя такая мысль оскорбляла Эсменет, на практике это оказалось странно успокаивающим. Уместное притворство.
В другие же моменты Серве выглядела полностью подавленной и угнетенной — из-за Эсменет, из-за Ахкеймиона и в не меньшей степени — из-за себя самой. Эсменет понимала, что отчасти это вызвано беременностью — она сама то хохотала, то ревела, как ненормальная, когда носила дочь, — но Эсменет обнаружила, что это довольно трудно терпеть. Она покорно спрашивала у Серве, что случилось, всегда оставалась мягкой и вежливой, но не могла избавиться от мыслей, которых сама стыдилась. Если Серве говорила, что плачет по Ахкеймиону, то Эсменет сразу хотелось спросить: «Почему?» Может, они были любовниками не одну ночь, а дольше? Если Серве говорила, что плачет по ней, Эсменет возмущалась. Что? Неужто она настолько жалкая? А если Серве просто ныла, Эсменет охватывало отвращение. Как только человек может быть таким эгоистичным?
Позднее Эсменет всегда бранила себя. Что бы подумал Ахкеймион о таких мыслях, полных горечи и недоброжелательства? Как он был бы разочарован! «Эсми! — сказал бы он. — Эсми, ну пожалуйста…» И Эсменет проводила одну бессонную ночь за другой, вспоминая все свои грубые слова, все свои мелкие жестокости и моля богов о прощении. Она же не имела этого всего в виду! Ну как она могла?
На третью ночь она услышала негромкое постукивание об холст палатки. Эсменет откинула полог, и в палатку нырнула Серве, пахнущая дымом, апельсинами и жасмином. Полунагая девушка с плачем опустилась на колени. Эсменет знала, что Келлхус не вернулся, потому что прислушивалась. Конечно же, у него были военные советы и растущая паства.
— Серча, — позвала Эсменет, охваченная материнской усталостью от необходимости утешать кого-то, кто страдает меньше тебя. — Что случилось, Серча?
— Пожалуйста, Эсми, пожалуйста! Прошу тебя!
— Что — «пожалуйста», Серча? О чем ты?
Девушка заколебалась. В темноте ее глаза превратились в две сверкающие точки.
— Не кради его! — вдруг воскликнула Серве. — Не кради его у меня!
Эсменет рассмеялась, но мягко, чтобы не ранить чувства девушки.
— Украсть Келлхуса… — произнесла она.
— Пожалуйста, Эсми! Т-ты такая красивая… Почти такая же красивая, как я! Но ты еще и умная! Ты разговариваешь с ним так же, как с ним разговаривают мужчины! Я слышала!
— Серча… Я люблю Акку. Я и Келлхуса тоже люблю, но… но не так, как ты. Пожалуйста, не бойся. Я не вынесу, если ты будешь меня бояться, Серча!
Эсменет считала, что говорит искренне, но позднее, умостившись рядом с Серве, она поймала себя на том, что злорадствует по поводу ее страхов. Она перебирала белокурые волосы девушки и вспоминала, как они рассыпались по груди Ахкеймиона… Интересно, подумала она, а трудно ли будет их выдрать?
«Почему ты легла с Аккой? Почему?»
На следующее утро Эсменет проснулась, терзаемая угрызениями совести. Ненависть, как говорили в Сумне, ненасытный гость и засиживается лишь в сердцах, ожиревших от гордости. А сердце Эсменет сделалось очень худым. Она посмотрела на девушку в полумраке. Серве повернулась во сне и теперь лежала лицом к Эсменет. Ее правая рука покоилась на выпуклом животе. Серве дышала тихо, словно дитя.
Как может такая красота жить в спящем лице? Некоторое время Эсменет размышляла над тем, что, как ей казалось, она видела. Странное ощущение раболепия, нервная дрожь, столь знакомая детям. Она вызвала у Эсменет улыбку. Но было там и нечто большее: аура скрытой жизни, предчувствие смерти, изумление при виде буйного карнавала выражений человеческого лица, вложенное в неподвижность единственной точки. Ощущение истины, узнавание всех лиц, сошедшихся воедино в этой точке. Эсменет знала, что это было ее собственное лицо, равно как и лицо Ахкеймиона или даже Келлхуса. Но самое важное — эта чудесная уязвимость. Спящее горло, как гласит нильнамешская пословица, легко перерезать.
Не это ли и есть любовь? Чтобы на тебя смотрели, когда ты спишь…
Когда Серве проснулась, Эсменет плакала. Девушка поморгала, ее взгляд прояснился, и она нахмурилась.
— Почему? — спросила Серве.
Эсменет улыбнулась.
— Потому, что ты такая красивая, — сказала она. — Такая безупречная.
Глаза Серве вспыхнули радостью. Она перекатилась на спину, раскинув руки.
— Я знала! — воскликнула она, поводя плечами. Она взглянула на Эсменет, выразительно поднимая и опуская брови. — Меня хотят все! — Серве рассмеялась: — Даже ты!
— Ах ты сучка! — возмутилась Эсменет и вскинула руки, словно собираясь вцепиться Серве в глаза.
Когда они вывалились из палатки, хохоча и визжа, Келлхус уже сидел у костра. Он покачал головой — как, вероятно, и подобало мужчине.
С этого дня Эсменет стала обращаться с Серве с еще большей нежностью. Это было странное, вгоняющее в замешательство чувство — дружба, связавшая ее с этой девушкой, с беременным ребенком, которого взял в возлюбленные пророк.
Еще до того, как Ахкеймион отправился в библиотеку, Эсменет размышляла: а что, собственно, Келлхус нашел в Серве? Конечно, это нечто большее, чем просто внешность, хотя ее красота, как часто думалось Эсменет, прямо-таки сверхъестественная. Но Келлхус смотрел на сердца, а не на кожу, какой бы гладкой и белоснежной та ни была. А сердце Серве содержало множество изъянов. Да, конечно, оно было радостным и открытым, но вместе с тем — тщеславным, вздорным, сварливым и распутным.
Но теперь Эсменет подумала: а не скрывали ли эти изъяны тайну совершенства ее сердца? Того самого, проблеск которого она заметила, наблюдая за спящей девушкой. На мгновение она узрела то, что способен видеть только Келлхус… Красоту недостатка. Великолепие несовершенства.
И Эсменет поняла, что ей дано свидетельство. Свидетельство истины.
Она не могла подобрать для этого нужных слов, но стала чувствовать себя лучше, каким-то образом вернувшись к жизни. Тем утром Келлхус посмотрел на нее и кивнул, искренне и восхищенно, напомнив ей Ксинема. Он ничего не сказал, потому что слова были не нужны — во всяком случае, так казалось. Возможно, подумала Эсменет, истина сходна с колдовством. Возможно, те, кто зрит истину, просто видят друг друга.
Позднее, перед тем как она отправилась вместе с Серве бродить по полупустому базару Аммегнотиса в поисках съестного, Келлхус помогал ей с чтением. Несмотря на ее возражения, он выдал ей в качестве учебника «Хроники Бивня». Уже само прикосновение к переплетенному в кожу манускрипту внушало страх. Сам его вид, запах, даже поскрипывание корешка говорили о праведности и бесповоротном приговоре. Казалось, будто страницы трактата пронизаны суровостью. В каждом слове чудились раскаты грома. Каждая колонка, напоминающая птичьи следы, грозила соседней.
— Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы читать доказательства моего проклятия! — сказала Эсменет Келлхусу.
— Что здесь написано? — спросил Келлхус, не обращая внимания на ее вспышку раздражения.
— Что я — мерзость!
— Что здесь написано, Эсми?
Эсменет вновь вернулась к утомительной задаче: биться над знаками, переводя их в звуки, и биться над звуками, складывая их в слова.
День выдался жаркий, словно в пустыне, и особенно припекало в городе, где камень и кирпич-сырец впитывали солнце и будто удваивали его жар. Вечером Эсменет рано ушла в палатку и впервые за много дней уснула, не поплакав об Ахкеймионе.
Проснулась она в тот промежуток времени, который нансурцы именуют «утром дураков». Стоило ей чуть-чуть приоткрыть глаза, и сон тут же покинул ее, хотя темнота и прохлада говорили, что до утра еще далеко. Эсменет недовольно взглянула на откинутый полог палатки. Ее босые ноги торчали из-под одеяла. Лунный свет освещал их и мужские ноги, обутые в сандалии…
— В каком интересном обществе ты вращаешься, — сказал Сарцелл.
Эсменет даже в голову не пришло закричать. Несколько мгновений его присутствие казалось столь же должным, сколь и невозможным. Сарцелл лежал рядом с ней, подперев голову рукой, и большие карие глаза светились весельем. Под белым одеянием с золотым цветочным орнаментом на нем была шрайская риза с Бивнем, вышитым на груди. От него пахло сандалом и ритуальными благовониями, которые Эсменет не могла распознать.
— Сарцелл, — пробормотала она.
Давно ли он лежит здесь и смотрит на нее?
— Ты так и не рассказала колдуну обо мне, верно?
— Да.
Сарцелл с печальной насмешкой покачал головой.
— Порочная шлюха.
Ощущение нереальности схлынуло, и Эсменет ощутила первый укол страха.
— Чего ты хочешь, Сарцелл?
— Тебя.
— Уходи…
— Твой пророк — вовсе не тот, кем ты его считаешь… Ты это знаешь.
Страх перерос в ужас. Эсменет слишком хорошо знала, каким жестоким Сарцелл может быть с теми, кто не входит в узкий круг уважаемых им людей, но она всегда думала, что входит в этот круг — даже после того, как покинула его шатер. Но что-то произошло… Эсменет осознала, что ничего, абсолютно ничего не значит для мужчины, который сейчас рассматривает ее.
— Сарцелл, уходи сейчас же.
Рыцарь-командор рассмеялся.
— Но ты мне нужна, Эсми. Мне нужна твоя помощь… Вот золото…
— Я закричу. Я тебя предупреждаю…
— Вот жизнь! — прорычал Сарцелл.
Его ладонь зажала ей рот. Эсменет не нужно было чувствовать укол, чтобы понять, что он приставил к ее горлу нож.
— Слушай меня, шлюха. Ты завела привычку попрошайничать не у того стола. Колдун мертв. Твой пророк вскоре последует за ним. Ну и с чем ты останешься, а?
Он сдернул с Эсменет одеяло. Она вздрогнула и всхлипнула, когда острие ножа скользнуло по залитой лунным светом коже.
— А, старая шлюха? Что ты будешь делать, когда твой персик потеряется в морщинах? С кем ты будешь спать тогда? Интересно, как ты закончишь? Будешь трахаться с прокаженными? Или отсасывать у перепуганных мальчишек за кусок хлеба?
От ужаса Эсменет обмочилась.
Сарцелл глубоко вздохнул, словно наслаждаясь букетом ее унижения. Глаза его смеялись.
— Никак, я слышу запах понимания?
Эсменет, всхлипывая, кивнула.
Самодовольно ухмыльнувшись, Сарцелл убрал руку.
Эсменет завизжала и не смолкала до тех пор, пока ей не начало казаться, что она содрала горло в кровь.
Потом оказалось, что ее держит Келлхус, и Эсменет вывели из палатки к рдеющим углям костра. Она слышала крики, видела людей, столпившихся вокруг них с факелами, слышала голоса, громко говорящие по-конрийски. Кое-как Эсменет объяснила, что произошло, содрогаясь и всхлипывая в кольце сильных рук Келлхуса. Прошло то ли несколько мгновений, то ли несколько дней, и шум улегся. Люди разошлись досыпать. Ужас отступил, сменившись нервной дрожью стыда. Келлхус сказал, что пожалуется Готиану, но вряд ли удастся что-либо поделать.
— Сарцелл — рыцарь-командор, — сказал Келлхус.
А она — всего лишь любовница мертвого колдуна.
«Порочная шлюха».
Эсменет отказалась, когда Серве предложила ей остаться в их с Келлхусом шатре, но приняла предложение воспользоваться ее сосудом для омовений. Затем Келлхус провел Эсменет в ее палатку.
— Серве убрала там, — сказал он. — Она сменила постель.
Эсменет снова заплакала. Когда она сделалась такой слабой? Такой жалкой?
«Как ты мог покинуть меня? Почему ты покинул меня?»
Она заползла в палатку, словно в нору. Уткнулась лицом в чистое шерстяное одеяло. Почувствовала запах сандала…
Келлхус забрался в палатку следом за Эсменет, неся с собой фонарь, и уселся над нею, скрестив ноги.
— Он ушел, Эсменет… Сарцелл не вернется. После сегодняшнего — не вернется. Даже если ничего не произойдет, расспросы поставят его в неловкое положение. Какой мужчина не подозревал других мужчин в том, что те действуют, руководствуясь похотью?
— Ты не понимаешь! — вырвалось у Эсменет.
Как она могла ему сказать? Все это время она боялась за Ахкеймиона, даже смела горевать о нем, и при этом…
— Я лгала ему! — выкрикнула она. — Я лгала Акке!
Келлхус нахмурился.
— Что ты имеешь в виду?
— После того как он оставил меня в Сумне, ко мне приходил Консульт! Консульт, Келлхус! И я знала, что смерть Инрау — не самоубийство. Я знала! Но так и не сказала Акке! Сейен милостивый, я так ничего ему и не сказала! А теперь он исчез, Келлхус! Исчез!
— Успокойся, Эсми. Успокойся… Какое это имеет отношение к Сарцеллу?
— Я не знаю… И это хуже всего. Я не знаю!
— Вы были любовниками, — сказал Келлхус, и Эсменет застыла, словно ребенок, столкнувшийся нос к носу с волком.
Келлхус всегда знал ее тайну, с той самой ночи у гробницы под Асгилиохом, когда наткнулся на них с Сарцеллом. Так откуда же ее нынешний ужас?
— Некоторое время ты думала, что любишь Сарцелла, — продолжал Келлхус. — Ты даже сравнивала его с Ахкеймионом… Ты решила, что Ахкеймион недостаточно хорош.
— Я была дурой! — крикнула Эсменет. — Дурой!
Как только можно быть такой глупой?
«Никто не сравнится с тобой, возлюбленный! Ни один мужчина!»
— Ахкеймион был слаб, — сказал Келлхус.
— Но я и любила его за слабости! Разве ты не понимаешь? Именно поэтому я его и любила!
«Я любила его искренность!»
— И именно поэтому ты так и не смогла вернуться к нему… Если бы ты пришла к нему тогда, когда делила ложе с Сарцеллом, то тем самым обвинила бы его в такой слабости, которой он не смог бы вынести. Поэтому ты оставалась вдалеке и обманывала себя, думая, будто ищешь его, в то время как на самом деле пряталась от него.
— Откуда ты знаешь? — всхлипнула Эсменет.
— Но как бы ты ни лгала себе, ты знала… И поэтому ты так и не смогла рассказать Ахкеймиону о том, что произошло в Сумне, — хотя ему очень важно было это знать! Ты догадывалась, что он не поймет, и боялась, что он может увидеть…
Презренная, эгоистичная, омерзительная…
Оскверненная.
Но Келлхус может видеть… Он всегда видел.
— Не смотри на меня! — крикнула Эсменет.
«Посмотри на меня…»
— Но я смотрю, Эсми. И то, что я вижу, наполняет меня изумлением и восхищением.
И эти усыпляющие слова, теплые и близкие — такие близкие! — успокоили ее. Подушка под щекой вызывала боль, и от твердой земли под циновкой ныло тело, но ей было тепло и безопасно. Келлхус задул фонарь и тихо вышел из палатки. А Эсменет все казалось, будто теплые пальцы перебирают ее волосы.
Изголодавшаяся Серве рано принялась за еду. На костре кипел котелок с рисом; время от времени Келлхус снимал с него крышку и добавлял туда лук, пряности и шайгекский перец. Обычно приготовлением пищи занималась Эсменет, но сейчас Келлхус посадил ее читать вслух «Хроники Бивня»; он посмеивался над ее редкими промахами и всячески подбадривал ее.
Эсменет читала Гимны, древние «Законы Бивня», многие из которых Последний Пророк в своем «Трактате» объявил неправильными. Они вместе поражались тому, что детей насмерть забивали камнями за удар, нанесенный родителям, или тому, что если человек убивал брата другого человека, то в ответ на это казнили его собственного брата.
Потом Эсменет прочла:
— Не дозволяй…
Она узнала эти слова, потому что они часто повторялись. А потом, разобрав по буквам следующее слово, она проговорила: «Шлюхе…» — и остановилась. Она взглянула на Келлхуса и с гневом прочитала наизусть:
— Не дозволяй шлюхе жить, ибо она превращает яму своего чрева…
У нее горели уши. Эсменет едва сдержала порыв швырнуть книгу в огонь.
Келлхус смотрел на нее без малейшего удивления.
«Он ждал, пока я прочту этот отрывок. Все время ждал…»
— Дай мне книгу, — невыразительным тоном произнес он.
Эсменет повиновалась.
Плавным, почти беспечным движением Келлхус извлек кинжал из церемониальных ножен, которые носил на поясе. Взяв его за клинок у самого острия, он принялся соскребать оскорбительную надпись с пергамента. Несколько мгновений Эсменет никак не могла понять, что же он делает. Она просто смотрела — окаменевший свидетель.
Как только колонка очистилась, Келлхус немного отодвинулся, чтобы рассмотреть дело своих рук.
— Вот так-то лучше, — сказал он так, будто соскреб плесень с хлеба.
И протянул книгу обратно.
Эсменет не смогла заставить себя прикоснуться к ней.
— Но… Но ты не можешь этого сделать!
— Не могу?
Он сунул ей книгу. Эсменет просто уронила ее в пыль.
— Келлхус, это же Писание! Бивень. Священный Бивень!
— Я знаю. Утверждение о твоем проклятии.
Эсменет уставилась на него, разинув рот — дура дурой.
— Но…
Келлхус нахмурился и покачал головой, словно поражаясь ее глупости.
— Эсми, как по-твоему, кто я?
Серве весело рассмеялась и даже захлопала в ладоши.
— К-кто? — запинаясь, переспросила Эсменет.
Это было уже чересчур для нее. Она никогда не слышала, чтобы Келлхус говорил с такой надменностью — разве что в шутку или в редкие мгновения гнева.
— Да, — повторил Келлхус, — кто?
Его голос был подобен грому. Он казался бесконечным, словно кольцо.
Затем Эсменет заметила золотое сияние, окружающее его руки… Она, не задумываясь, рухнула на колени перед ним и уткнулась лицом в землю.
«Пожалуйста! Пожалуйста! Я — ничто!»
Потом Серве икнула. Внезапно, нелепо, перед Эсменет оказался прежний Келлхус; он засмеялся, поднял ее с земли и велел поесть.
— Ну что, полегчало? — спросил он, когда оцепеневшая Эсменет села на прежнее место.
У нее жгло и покалывало все тело. Келлхус отправил в рот ложку риса и кивком указал на открытую книгу.
Смущенная и взволнованная, Эсменет покраснела и отвела взгляд. И кивнула, уставившись в свою миску.
«Я знала это! Я всегда знала!»
Разница состояла в том, что теперь это знал еще и Келлхус. Она ощущала боковым зрением его сияние. Как, — с замиранием сердца подумала она, — как теперь она посмеет взглянуть ему в глаза?
На протяжении всей жизни она рассматривала все по отдельности. Она, Эсменет, и ее миска, императорское серебро, шрайский мужчина, божья земля и все такое. Она была здесь, а эти вещи там. До последнего момента. Теперь же ей казалось, будто все вокруг излучает тепло его кожи. Земля под ее босыми ногами. Циновка, на которой она сидит. И на краткий безумный миг Эсменет охватила уверенность, что если она коснется своей щеки, то ощутит под пальцами мягкие завитки льняной бороды, а если повернется влево, то увидит Эсменет, застывшую над миской риса.
Каким-то образом все сделалось здесь, и все здесь сделалось им.
Келлхус!
Эсменет глубоко вдохнула. Сердце колотилось об ребра.
«Он стер этот отрывок!»
Осуждение, всю жизнь висевшее над ней, словно бы оказалось сдернуто единым рывком, и Эсменет впервые почувствовала себя освобожденной от греха, на самом деле освобожденной. Один вздох — и она прощена! Эсменет ощутила необыкновенную ясность, как будто ее мысли очистились, словно вода, пропущенная через чистую белую ткань. Эсменет подумала, что заплачет, но солнечный свет был слишком резким, а воздух — слишком чистым, чтобы плакать.
Все было таким… настоящим.
«Он стер этот отрывок!»
Потом она подумала об Ахкеймионе.
Воздух провонял перегаром, рвотой и потом. Во мраке ярко, неровно горели факелы, раскрашивая глинобитные стены в оранжевый и черный, выхватывая из темноты толпящихся пьяных воинов: там — очертания бороды, тут — нахмуренный лоб, здесь — блестящий глаз или окровавленная рука на рукояти меча. Найюр урс Скиоата бродил среди них по тесным улочкам Неппы, старинного базарного района Аммегнотиса. Он прокладывал себе путь через толпу, старательно двигаясь вперед, словно к какой-то цели. Из распахнутых дверей лился свет. Шайгекские девушки хихикали, зазывая прохожих на ломаном шейском. Дети торговали вразнос ворованными апельсинами.
«Смеются, — подумал Найюр. — Все они смеются…»
«Ты не из этой земли!»
— Эй, ты! — услышал он чей-то оклик.
«Тряпка! Тряпка и педик!»
— Ты! — повторил стоящий рядом молодой галеот. Откуда он взялся? Глаза его сияли изумлением и благоговением, но неровный свет факелов превращал лицо в жутковатую маску. Губы его казались похотливыми и женственными, а черная дыра рта выглядела многообещающе.
— Ты путешествовал с ним. Ты — его первый ученик! Его первый!
— Кого?
— Его. Воина-Пророка.
«Ты избил меня, — крикнул старый Баннут, брат его отца, — за то, что трахался с ним так же, как с его отцом!»
Найюр схватил галеота и подтянул к себе.
— Кого?
— Келлхуса, князя Атритау… Ты — тот самый скюльвенд, который нашел его в Степи. Который привел его к нам!
Да… Дунианин. Найюр отчего-то забыл о нем. Он заметил краем глаза лицо, подобное степной траве под порывом ветра. Он почувствовал чью-то ладонь, теплую и нежную, на своем бедре. Его затрясло.
«Ты больше… Больше, чем Народ!»
— Я — из Народа! — проскрежетал он.
Галеот дернулся, пытаясь вырваться из его хватки, но безрезультатно.
— Пожалуйста! — прошипел он. — Я думал… Я думал…
Найюр швырнул его на землю и гневно взглянул на прохожих. Они смеются?
«Я следил за тобой в ту ночь! Я видел, как ты смотрел на него!»
Как он очутился на этой дороге? Куда он идет?
— Как ты меня назвал?! — крикнул он распростертому на земле человеку.
Найюр помнил, как бежал изо всех сил, прочь от черных тропинок среди травы, прочь от якша и отцовского гнева. Он натолкнулся на заросли сумаха и расчистил там местечко. Переплетение зеленых трав. Запах земли, жуков, ползающих по сырым и темным пещеркам. Запах одиночества и тайны. Он стянул с пояса обломки и уставился на них в полнейшем изумлении. Он перебрал их. Она была такой печальной. И такой красивой. Невероятно красивой.
Кто-то. Он забывал кого-то ненавидеть.
Глава 17. Шайгек
«В ужасе люди всегда вскидывают руки и прячут лица. Запомни, Тратта, — всегда береги лицо! Ибо это и есть ты».
Тросеанис, «Триамский император»«Поэт отложит свое перо лишь тогда, когда Геометр сумеет объяснить, как жизнь умудряется быть одновременно и точкой, и линией. Как может все живое, все мироздание, сходиться в одной точке — „сейчас“? Не ошибитесь: этот момент, миг этого самого вздоха и есть та хрупкая нить, на которой висит все мироздание.
И люди смеют быть беспечными…»
Терес Ансансиус, «Город людей»4111 год Бивня, начало осени, Шайгек
Однажды, возвращаясь от реки с выстиранной одеждой, Эсменет случайно услышала, как несколько Людей Бивня обсуждают подготовку Священного воинства к дальнейшему пути. Келлхус провел часть вечера с ней и Серве, объясняя, как кианцы, прежде чем отступить через пустыню, перебили всех верблюдов на южном берегу, в точности так же, как сожгли все лодки, прежде чем отступить за Семпис. И это очень осложнило налеты на юг, на пустыни Кхемемы.
— Падиражда, — сказал Келлхус, — надеется сделать из пустыни то, что Скаур надеялся сделать из Семписа.
Конечно же, Великие Имена это не остановило. Они планировали двинуться вдоль прибрежных холмов, в сопровождении имперского флота, который должен будет обеспечить их водой. Дорога обещает быть трудной — придется отправлять тысячные отряды в холмы, за водой, — но так они доберутся до Энатпанеи, до самых границ Священной земли, задолго до того, как падираджа сумеет оправиться от поражения при Анвурате.
— Так что будете скоро вы двое тащиться по песку, — сказал Келлхус с тем дружелюбным поддразниванием, которое Эсменет давно полюбила. — Да, Серве, тебе, в твоем положении, нелегко будет нести шатер.
Девушка бросила на него взгляд, одновременно и укоризненный, и восхищенный.
Эсменет рассмеялась, понимая при этом, что уходит все дальше от Ахкеймиона…
Ей хотелось спросить Келлхуса, не было ли известий от Ксинема, но она чересчур боялась. Кроме того, она знала, что Келлхус сам все ей скажет, как только появятся хоть какие-нибудь новости. И она знала, какими будут эти новости. Она уже много раз мельком видела их в глазах Келлхуса.
Они снова собрались на одной стороне костра, ища спасения от дыма: Келлхус в центре, Серве справа и Эсменет слева. Они жарили кусочки баранины, нанизывая их на палочки, и ели с хлебом и сыром. Это стало их любимым лакомством — одна из тех маленьких деталей, что несет в себе обещание семьи.
Келлхус потянулся мимо Эсменет за хлебом, продолжая дразнить Серве.
— Ты когда-нибудь раньше ставила шатер на песке?
— Келлху-у-ус, — жалобно и ликующе протянула Серве.
Эсменет вдохнула его сухой, соленый запах. Она ничего не могла с собой поделать.
— Говорят, это занимает целую вечность, — назидательно произнес он, и его рука случайно скользнула по груди Эсменет.
Дрожь нечаянной близости. Порыв тела, внезапно исполнившегося той мудрости, что превосходит интеллект.
Весь оставшийся вечер вышедшие из повиновения глаза Эсменет изводили ее мучительным своенравием. Если прежде ее взгляд был прикован к лицу Келлхуса, то теперь он бродил по всей его фигуре. Ее глаза словно бы превратились в посредников между их телами. Когда Эсменет видела его грудь, ее груди ныли в надежде на то, что их сомнут. Когда она видела его узкие бедра и крепкие ягодицы, внутренняя поверхность ее бедер гудела в предвкушении тепла. Иногда у нее просто невыносимо свербели ладони!
Нет, это безумие. Эсменет достаточно было поймать настороженный взгляд Серве, чтобы опомниться.
Тем же вечером, после того как Келлхус ушел, они с Серве растянулись на циновках, так, что их головы почти соприкасались, а тела вытянулись по разные стороны костра. Они часто так устраивались, когда Келлхуса не было. Они смотрели в огонь, иногда разговаривали, но по большей части молчали — только вскрикивали, когда из костра вылетали угольки.
— Эсми? — произнесла Серве странным, задумчивым тоном.
— Что, Серча?
— Знаешь, я буду.
Сердце Эсменет затрепетало.
— Что ты будешь?
— Делиться им, — сказала девушка.
Эсменет сглотнула.
— Нет… Что ты, Серве… Я же сказала тебе, что ты можешь не беспокоиться.
— Но я как раз об этом и говорю… Я не боюсь потерять его. Больше не боюсь. И никого не опасаюсь. Я хочу только того, чего хочет он. Он — это все…
Эсменет лежала, затаив дыхание, и смотрела в щель между поленьями на пульсирующие раскаленные угли.
— Ты хочешь сказать, что… что он…
«Хочет меня…»
Серве негромко рассмеялась.
— Конечно, нет, — сказала она.
— Конечно, нет, — повторила Эсменет.
Мысленно пожав плечами, она прогнала прочь сводящие с ума мысли. Что она делает? Это же Келлхус. Келлхус.
Она подумала об Акке и смахнула две жгучие слезинки.
— Нет, Серве. Никогда.
Келлхус отсутствовал до следующего вечера; когда же он вернулся на их маленькую стоянку, его сопровождал сам Пройас. Конрийский принц выглядел очень усталым и измотанным. На нем была простая синяя туника — как предположила Эсменет, дорожная одежда. Лишь причудливый золотой узор на подоле говорил о его статусе. Борода, которую Пройас обычно коротко стриг, отросла и теперь больше походила на широкие бороды его дворян.
Сперва Эсменет отводила взгляд, опасаясь, как бы Пройас, заглянув ей в глаза, не догадался о силе обуревающей ее ненависти. Как ей было не ненавидеть его? Он не только отказался помочь Ахкеймиону — он еще и запрещал Ксинему помогать ему, а когда тот стал настаивать, лишил его полномочий и статуса. Но что-то в голосе Пройаса — возможно, высокородное безрассудство, — заставило ее присмотреться к принцу повнимательнее. Кажется, Пройас чувствовал себя неловко — да и выглядел жалко, — когда уселся у костра рядом с Келлхусом, так что неприязнь Эсменет куда-то делась.
Возможно, потому, что он страдает. Возможно, он не так уж сильно отличается от нее.
Эсменет знала, что именно это сказал бы Келлхус.
Налив всем разбавленного вина и подав мужчинам остатки еды, Эсменет уселась на противоположной стороне костра.
Мужчины за едой обсуждали военные дела, и Эсменет поразило несоответствие между тем, как Пройас прислушивался к словам Келлхуса, и его сдержанными манерами в целом. Внезапно она поняла, почему Келлхус запретил своим последователям присоединяться к их лагерю. Ведь наверняка Келлхус вызывает беспокойство у таких людей, как Пройас, — то есть у всех Великих Имен. Те, кто находится в центре событий, всегда отличаются меньшей гибкостью и обладают большими полномочиями, чем те, кто остается на краю. А Келлхус грозил превратиться в новый центр…
Нетрудно пройти от края до края.
Управившись с бараниной, луком и хлебом, мужчины замолчали. Пройас отставил тарелку и глотнул вина. Он взглянул на Эсменет, вроде как невзначай, и уставился куда-то вдаль. Тишина вдруг показалась Эсменет удушливой.
— Как поживает скюльвенд? — спросила она, не придумав, что бы еще сказать.
Пройас посмотрел на нее. На мгновение его взгляд задержался на ее татуированной руке…
— Я редко его вижу, — отозвался он, глядя в огонь.
— А я думала, он советует… — Эсменет умолкла, вдруг усомнившись в уместности своих слов.
Ахкеймион всегда пенял ей за дерзкое обращение с кастовыми дворянами…
— Советует мне, как вести войну?
Пройас покачал головой, и на краткий миг Эсменет сумела понять, почему Ахкеймион любил его. Это было странно — находиться рядом с тем, кого он когда-то знал. От этого его отсутствие делалось более ощутимым, но одновременно с этим его становилось легче переносить.
Он на самом деле был. Он оставил свою метку. Мир запомнил его.
— После того как Келлхус объяснил, что произошло при Анвурате, — продолжал принц, — совет воздал Найюру хвалу как творцу нашей победы. Жрецы Гильаоала даже провозгласили его Ведущим Битву. Но он ничего этого не принял…
Принц хлебнул еще вина.
— Мне кажется, для него это невыносимо…
— То, что он — скюльвенд среди айнрити?
Пройас покачал головой и поставил пустую чашу рядом с правой ногой.
— То, что мы ему нравимся, — сказал он.
И с этими словами он встал, извинился, поклонился Келлхусу, поблагодарил Серве за вино и приятное общество, а потом, даже не взглянув на Эсменет, решительным шагом ушел во тьму.
Серве сидела, уткнувшись взглядом в собственные ноги. Келлхус, казалось, погрузился в размышления, отрешенные от всего земного. Эсменет некоторое время молчала; лицо ее горело, тело изнывало от странного внутреннего гула. Он всегда был странным, хотя Эсменет и знала его так же хорошо, как привкус у себя во рту.
Стыд.
Везде, куда бы она ни пошла. Везде от нее смердело.
— Извините, — сказала она Келлхусу и Серве.
Что она здесь делает? Что она может предложить другим, кроме своего унизительного положения? Она нечиста! Нечиста! И она еще сидит здесь, с Келлхусом? С Келлхусом! Ну не дура ли? Она не в состоянии изменить себя, равно как не в состоянии смыть татуировку с руки! Она может смыть семя, но не грех! Не грех!
А он… он…
— Простите, — всхлипнула Эсменет. — Простите!
Она бросилась прочь от костра и забилась в обособленную темноту своей палатки. Его палатки! Палатки Акки!
Вскоре Келлхус пришел к ней, и Эсменет обругала себя за надежду на то, что он придет.
— Лучше бы я умерла, — прошептала она, уткнувшись лицом в землю.
— Многие хотели бы того же.
Неумолимая честность, как всегда. Сможет ли она последовать за ним туда, куда он ведет? Хватит ли у нее сил?
— За всю жизнь я любила только двоих людей, Келлхус…
Князь никогда не отводил взгляд.
— И оба они мертвы.
Эсменет кивнула и сморгнула слезы.
— Ты не знаешь моих грехов, Келлхус. Ты не знаешь той тьмы, что таится в моем сердце.
— Тогда расскажи мне.
Они долго говорили той ночью, и ею двигало странное бесстрастие, делавшее все горести ее жизни — смерти, потери, унижения — странно незначительными.
Шлюха. Сколько мужчин обнимало ее? Сколько щетинистых подбородков касалось ее щеки? Всегда что-то нужно было переносить. Все они наказывали ее за свою нужду. Однообразие делало их забавными: длинная череда мужчин — слабых, надеющихся, стыдящихся, обозленных, опасных. С какой легкостью одно бормочущее тело сменялось другим! И так до тех пор, пока они не сделались чем-то абстрактным, моментами нелепой, смехотворной церемонии, проливающими на нее подогретую выпивку. И все они ничем не отличались друг от друга.
Они наказывали ее и за это тоже.
Сколько лет ей было, когда отец впервые продал ее своим друзьям? Одиннадцать? Двенадцать? Когда началось это наказание? Когда он впервые возлег с ней? Эсменет помнила, как мать плакала в углу… да и все, пожалуй.
А ее дочь… Сколько лет было ей?
Она думала так же, как отец, объяснила Эсменет. Еще один рот. Пусть сама добывает себе пропитание. Монотонность приглушит ее ужас, превратит деградацию в нечто смехотворное. Отдавать блестящее серебро за семя — вот дураки! Пусть Мимара учится на глупости людской. Грубые, похотливые животные. С ними только и нужно, что немного потерпеть, притвориться, будто разделяешь их страсть, подождать, и вскоре все закончится. И поутру можно будет купить еды… Еда от дураков, Мимара! Ты что, не понимаешь, дитя? Ш-ш, тише! Перестань плакать. Смотри! Еда от дураков!
— Это ее так звали? — спросил Келлхус. — Мимара?
— Да, — сказала Эсменет.
Почему она смогла произнести это имя сейчас, хотя ни разу не сумела назвать его при Ахкеймионе? Странно, но давние невзгоды смягчили боль настоящего.
Первые рыдания удивили ее. Прежде чем Эсменет поняла, что делает, она прижалась к Келлхусу, и он обнял ее. Она запричитала и забилась об его грудь, тяжело дыша и плача. От него пахло шерстью и прогретой солнцем кожей.
Они мертвы. Те, кого она любила, мертвы.
Когда она успокоилась, Келлхус отпустил ее, и руки Эсменет, безвольно скользнув, упали ему на колени. Несколько мгновений она ощущала тыльной стороной ладони его затвердевший член — словно змея, свернувшегося под шерстяной тканью. Эсменет застыла, затаив дыхание.
Воздух, безмолвный, словно свеча, взревел…
Эсменет отдернула руки.
Почему? Почему она испортила такую ночь?
Келлхус покачал головой и негромко рассмеялся.
— Близость порождает близость, Эсми. До тех пор пока мы не забываемся, нам нечего стыдиться. Все мы слабы.
Эсменет посмотрела на свои ладони, на запястья. Улыбнулась.
— Я помню… Спасибо, Келлхус.
Он коснулся ее щеки, потом выбрался из маленькой палатки. Эсменет повернулась на бок, засунула ладони между коленями и бормотала ругательства, пока не уснула.
Послание доставлено морем — так сказал этот человек. Это был галеот, и, судя по его перекидке на доспех, из свиты Саубона.
Пройас взвесил футляр из слоновой кости на ладони. Он был маленьким, холодным на ощупь и искусно разукрашенным миниатюрными изображениями Бивня. Тонкая работа, — оценил Пройас. Бесчисленные крохотные Бивни, вплотную прилегающие друг к другу и заполняющие все пространство целиком. Никакого пустого фона — бивни и только бивни. Пройасу подумалось, что даже оболочка этого письма — уже сама по себе проповедь.
Но таков уж Майтанет: проповедь во всем.
Конрийский принц поблагодарил и отпустил посыльного, потом вернулся в кресло, к походному столу. В шатре было влажно и жарко. Пройас поймал себя на том, что злится на лампы — за то, что от них исходит лишнее тепло. Он разделся, оставшись в тонкой белой льняной рубахе, и уже решил, что спать ляжет голым — после того, как прочтет письмо.
Он осторожно срезал ножом восковую печать, потом наклонил футляр, и оттуда выскользнул маленький свиток, тоже запечатанный. На этот раз — личной печатью шрайи.
«Чего он может хотеть?»
Несколько мгновений Пройас размышлял, какая это привилегия: получать письма от подобного человека. Потом сломал печать и развернул пергамент.
Принцу Нерсею Пройасу.
Да защитят тебя боги Бога, и да хранят они тебя.
Твое последнее послание…
Пройас остановился. Его пронзило ощущение вины и стыда. Несколько месяцев назад он по просьбе Ахкеймиона написал Майтанету и спросил о смерти бывшего ученика колдуна, Паро Инрау. В тот момент он вообще не верил, что действительно отошлет письмо. Он был уверен, что само написание этого письма сделает отправление невозможным. Отличный способ исполнить обязательство и одновременно покончить с ним. «Уважаемый Майтанет, тут один мой приятель-колдун попросил меня поинтересоваться, не вы ли убили одного из его шпионов…» Безумие какое-то. Нет, он никак не мог отослать подобное письмо…
И все же.
Как он мог не ощущать родства с Инрау, другим учеником, которого любил Ахкеймион? Как он мог не помнить этого богохульного дурня, его насмешливую улыбку, его блестящие глаза, ленивые вечера, заполненные занятиями в саду? Как он мог не жалеть о нем, о хорошем человеке, добром человеке, собирающем легенды и женские побасенки к вечному своему проклятию?
Пройас отослал письмо, решив, что, в конце концов, теперь дело его наставника, адепта Завета, можно выбросить из головы. На самом деле он даже не ожидал ответа. Но он был принцем, наследником престола, а Майтанет был шрайей Тысячи Храмов. Письма таких людей друг другу находят дорогу, невзирая на разделяющие их мирские бури.
Пройас стал читать дальше, задержав дыхание, чтобы заглушить неловкость. Ему было стыдно, что он обратился с таким несерьезным, банальным делом к человеку, которому предстояло очистить Три Моря. Стыдно, что он написал это человеку, у чьих ног плакал. И стыдно, что ему стыдно из-за того, что он выполнил просьбу учителя.
Принцу Нерсею Пройасу.
Да защитят тебя боги Бога, и да хранят они тебя.
Твое последнее послание, мы боимся, повергло нас в глубокое недоумение, пока мы не вспомнили, что ты сам ранее поддерживал некоторые — как бы это выразиться? — сомнительные связи. Нам сообщили, что смерть этого молодого жреца, Паро Инрау, наступила в результате самоубийства. Коллегия лютимов, жрецов, которым было поручено расследовать данное дело, доложила, что некогда этот Инрау был учеником школы Завета и что его недавно видели в обществе Друза Ахкеймиона, его прежнего учителя. Лютимы полагают, что Ахкеймиона послали, дабы он вынудил Инрау оказывать разнообразные услуги его школе. Попросту говоря, шпионить. Они полагают, что в результате молодой жрец оказался в ситуации, несовместимой с жизнью. Книга Племен, глава 4, стих 8: «Тоскует он по дыханию, но нет ему места, где он мог бы дышать».
Мы боимся, что ответственность за прискорбную кончину молодого человека лежит на этом богохульнике, Ахкеймионе. И добавить тут нечего. Да будет Бог милостив к его душе. Книга Гимнов, глава 6, стих 22: «Земля плачет при вести о тех, кто не знает гнева Божьего».
Но как твое послание привело нас в недоумение, так, мы боимся, это послание озадачит тебя не менее. Поскольку мы заключили для Священной войны союз с Багряными Шпилями, благочестивые люди не раз уже задавали нам вопросы о пути Компромисса. Но мы молимся, чтобы все уразумели, что рукой нашей двигала Необходимость. Без Багряных Шпилей Священное воинство не может и надеяться одержать верх над кишаурим. «Не отвечай на богохульство богохульством», — сказал наш Пророк, и наши враги часто повторяют этот стих. Но, отвечая на обвинения культовых жрецов, Пророк также сказал: «Много тех, кто очищен путем греха. Ибо Свету всегда должна сопутствовать тьма, если это Свет, и Святости всегда должны сопутствовать нечестивцы, если это Святость». И потому Священному воинству должны сопутствовать Багряные Шпили, если оно Священно. Книга Ученых, глава 1, стих 3: «Пусть Солнце следует за Ночью по небосводу».
Теперь же, принц Нерсей Пройас, мы должны просить тебя о дальнейшем Компромиссе. Ты должен сделать все, что в твоих силах, чтобы помочь адепту Завета. Возможно, это окажется не настолько трудно, как мы страшимся, поскольку этот человек был некогда твоим учителем в Аокниссе. Но мы знаем глубину твоего благочестия, и, в отличие от большего Компромисса, на который мы тебя вынудили пойти в деле с Багряными Шпилями, здесь нет Необходимости, на которую мы могли бы сослаться, дабы утешить сердце, смущенное соседством греха. Книга Советов, глава 28, стих 4: «Спрашиваю я вас: есть ли друг труднее, чем друг грешный?» Помоги Друзу Ахкеймиону, Пройас, хоть он и богохульник, дабы через эту нечестивость пришла Святость. Ибо в конце все будет очищено. Книга Ученых, глава 22, стих 36: «Ибо воюющее сердце устанет и обратится к более приятной работе. И покой рассвета будет сопровождать людей в трудах дневных».
Да защитит и сохранит тебя Бог и все Его аспекты.
Майтанет.
Пройас положил пергамент на колени.
«Помоги Друзу Ахкеймиону…»
Что мог иметь в виду шрайя? Что должно стоять на кону, чтобы он обратился с такой просьбой?
И что ему, Пройасу, делать с этой просьбой теперь, когда выполнять ее слишком поздно?
Теперь, когда Ахкеймион сгинул.
«Я убил его…»
И Пройас внезапно осознал, что он использовал старого учителя как знак, как меру собственного благочестия. Что может быть большим доказательством праведности, чем готовность пожертвовать тем, кого любишь? Не таков ли смысл урока, полученного Ангешраэлем на горе Кинсурея? И есть ли лучший способ пожертвовать любимым человеком, чем сделать это нехотя?
Или чем отдать его врагам…
Пройас подумал о той женщине на стоянке Келлхуса — любовнице Ахкеймиона, Эсменет… Какой безутешной она казалась. Какой испуганной. Неужто он тому виной?
«Она всего лишь шлюха!»
А Ахкеймион был всего лишь колдуном. Всего лишь.
Все люди не равны. Несомненно, боги благосклонны к некоторым более, чем к другим, но дело не только в этом. Действия — вот что определяет ценность каждого чувства. Жизнь — вопрос, который Бог задает людям, а поступки — их ответы. И, как и всякий ответ, они могут быть правильными или неправильными, благословенными или проклятыми. Ахкеймион сам себя погубил, приговорил собственными действиями! Точно так же, как и эта шлюха… Это не мнение Нерсея Пройаса, это мнение Бивня и Последнего Пророка!
Айнри Сейена…
Тогда откуда этот стыд? Боль? Откуда непрестанные, терзающие сердце сомнения?
Сомнение. В некотором смысле, это был единственный урок, который преподал ему Ахкеймион. Геометрия, логика, история, математика, использующая нильнамешские цифры, даже философия! — все это, как сказал бы Ахкеймион, тщета и суета сует перед лицом сомнения. Сомнение создало их, и сомнение же их уничтожит.
Сомнение, сказал бы он, сделало людей свободными… Сомнение, а не истина!
Вера — основание действий. Тот, кто верит, не сомневаясь, сказал бы Ахкеймион, действует, не думая. А тот, кто действует, не думая, порабощен.
Он всегда так говорил.
Однажды, наслушавшись рассказов обожаемого старшего брата, Тируммаса, о его душераздирающем путешествии в Святую землю, Пройас сказал Ахкеймиону, что хочет стать шрайским рыцарем.
— Почему? — воскликнул колдун.
Они гуляли по саду — Пройас и посейчас помнил, как перепрыгивал с одного опавшего листа на другой, просто ради того, чтобы послушать их хруст под его сандалиями. Они остановились рядом с огромным железным дубом в центре сада.
— Тогда я смогу убивать язычников на границе империи!
Ахкеймион в смятении воздел руки к небу.
— Глупый мальчишка! Сколько на свете вероисповеданий? Сколько конкурирующих религий? И ты будешь убивать людей в слабой надежде, что твоя религия единственно правильная?
— Да! У меня есть вера!
— Вера, — повторил колдун, так, словно произнес имя заклятого врага. — Подумай-ка вот над чем, Пройас… Вдруг настоящий выбор — он не между чем-то определенным, между той верой и этой, а между верой и сомнением? Между тем, чтобы отказаться от тайны, и тем, чтобы принять ее?
— Но сомнения — это слабость! — крикнул Пройас. — А вера — это сила! Сила!
Никогда — Пройас был уверен, — он не чувствовал себя таким праведным, как в тот момент. Ему казалось, что солнечный свет пронизывает его насквозь, омывает его сердце.
— В самом деле? А ты не пробовал смотреть по сторонам, Пройас? Попробуй быть повнимательнее, мальчик. Посмотри, а потом скажи мне, многие ли впадают в сомнения из слабости? Прислушайся к тем, кто тебя окружает, а потом скажи, что ты понял…
Пройас выполнил просьбу Ахкеймиона. На протяжении нескольких дней он наблюдал и слушал. Он видел множество колебаний, но он был не настолько глуп, чтобы спутать их с сомнениями. Он слышал, как пререкаются кастовые дворяне и как жалуются жрецы. Он подслушивал разговоры солдат и рыцарей. Он наблюдал, как посольство за посольством пререкается с его отцом, выдвигая одну цветистую претензию за другой. Он слушал, как рабы перешучиваются за стиркой белья или препираются за едой. И он крайне редко слышал среди всей этой бесчисленной похвальбы, заявлений и обвинений те слова, которые благодаря Ахкеймиону сделались для него такими знакомыми и обычными… Слова, которые самому Пройасу казались очень трудными! И даже при этом они по большей части принадлежали тем, кого Пройас считал мудрыми, справедливыми, сострадательными, и очень редко — тем, кого он считал глупыми или злыми.
«Я не знаю».
Что трудного в этих словах?
— Это все из-за того, что люди хотят убивать, — объяснил ему впоследствии Ахкеймион. — Из-за того, что люди хотят обладать золотом и славой. Из-за того, что они хотят веры, которая даст ответ на их страхи, их ненависть, их желания.
Пройас помнил изумление, от которого начинало колотиться сердце, возбуждение человека, сошедшего с пути…
— Акка! — Он глубоко вздохнул, набираясь храбрости. — Ты хочешь сказать, что Бивень лжет?
Взгляд, исполненный страха.
— Я не знаю…
Трудные слова. Настолько трудные, что, похоже, именно из-за них Ахкеймиона изгнали из Аокнисса, и наставником Пройаса сделался Чарамемас, прославленный шрайский ученый. А ведь Ахкеймион знал, что так оно и случится… Теперь Пройас это понимал.
Почему? Почему Ахкеймион, который и без того уже был проклят, пожертвовал столь многим ради этих нескольких слов?
«Он думал, что дает мне что-то… Что-то важное».
Друз Ахкеймион любил его. Более того — он любил его так сильно, что рискнул своим положением, репутацией — даже призванием, если Ксинем сказал правду. Ахкеймион отдал это все без малейшей надежды на вознаграждение.
«Он хотел, чтобы я был свободен».
А Пройас пожертвовал им, думая только о вознаграждении.
Эта мысль оказалась невыносимой.
«Я сделал это ради Священного воинства! Ради Шайме!»
И вот теперь письмо от Майтанета.
Пройас схватил пергамент и снова проглядел его, как будто письмо шрайи могло предложить ему иной ответ.
«Помоги Друзу Ахкеймиону…»
Что произошло? Багряные Шпили — это он понимал, но какая польза шрайе Тысячи Храмов от простого колдуна? Тем более — от адепта Завета…
Внезапно Пройаса пробрал озноб. Там, под черными стенами Момемна, Друз пытался объяснить, что Священная война — не то, чем она кажется… Уж не является ли это письмо подтверждением его слов?
Что-то напугало или, по меньшей мере, обеспокоило Майтанета. Но что?
Может, до него дошли слухи о князе Келлхусе? Пройас вот уже несколько недель собирался написать шрайе о князе Атритау, но никак не мог заставить себя взяться за пергамент и чернила. Что-то вынуждало его ждать, но что это, надежда или страх, Пройас не понимал. Келлхус просто поразил его, как одна из тех тайн, в которые можно проникнуть лишь посредством терпения. Да и кроме того, что он мог сказать? Что Священная война за Последнего Пророка засвидетельствовала появление самого Последнего Пророка?
До тех пор пока Пройас не желал этого признавать, Конфас оставался прав: такое предположение было слишком нелепым!
Нет. Если бы Святейший шрайя питал сомнения относительно князя Келлхуса, то просто спросил бы, — в этом Пройас был целиком и полностью уверен. А так в письме не было даже намека, не то что упоминания о князе Атритау. Не исключено, что Майтанет и не подозревает о существовании Келлхуса, несмотря на его возрастающее влияние.
Нет, решил Пройас. Это связано с чем-то другим… С чем-то таким, что, с точки зрения шрайи, превышает предел познаний Пройаса. Иначе почему он не объяснил свои мотивы?
Может ли это быть Консульт?
«Сны, — сказал Ахкеймион тогда, в Момемне. — В последнее время они усилились».
«А, опять ты про свои кошмары…»
«Что-то происходит, Пройас. Я знаю. Я это чувствую!»
Никогда он не выглядел таким отчаявшимся.
Неужто это может оказаться правдой?
Нет. Тоже нелепо. Если даже они и существуют, как мог шрайя их обнаружить, если самому Завету не удалось?
Нет… Должно быть, это связано с Багряными Шпилями. В конце концов, ведь таково было поручение Ахкеймиона, разве не так? Следить за Багряными Шпилями…
Пройас вцепился в волосы и беззвучно зарычал.
Почему?
Почему ничто не может быть чистым? Почему все святое — абсолютно все! — пронизано помпезными и жалкими намерениями?
Пройас застыл, судорожно дыша. Он представил себе, как вытаскивает меч и носится по шатру, с воплями и ругательствами рубя все, что попадается на пути. Затем, прислушиваясь к биению собственного пульса, он взял себя в руки.
Ничего чистого… Любовь преобразуется в предательство. Молитвы — в обвинения.
Именно так и написал Майтанет. Святому сопутствует нечестивое.
Пройас считал себя духовным лидером Священного воинства. Но теперь он лучше понимал происходящее. Теперь он понимал, что он — лишь фигура на доске для бенджуки. Возможно, он знал, кто здесь игроки — Тысяча Храмов, дом Икуреев, Багряные Шпили, кишаурим и, возможно, даже Келлхус, — но вот правила, самый коварный и ненадежный элемент любой партии в бенджуку, оставались ему неизвестны.
«Я не знаю. Я ничего не знаю».
Священное воинство только что одержало победу, и все же Пройас никогда не ощущал такого отчаяния.
Такой слабости.
«Я же говорил тебе, наставник. Я же говорил…»
Выйдя из ступора, Пройас позвал Аглари, старого раба-киронджу, и велел ему принести ящичек с письменными принадлежностями. Как он ни устал, следовало немедленно написать ответ шрайе. Завтра Священное воинство выступит в пустыню.
Почему-то, открыв ящичек из красного дерева, отделанный слоновой костью, и пробежав пальцами по перу и свернутому пергаменту, Пройас снова почувствовал себя ребенком, как будто ему предстояло выполнять упражнения по чистописанию под ястребиным, но всепрощающим взором Ахкеймиона. Он почти ощущал дружелюбную тень колдуна, маячащую за его худыми мальчишескими плечами.
«Неужто дом Нерсеев мог породить такого глупого мальчишку?!»
«Неужто школа Завета могла прислать такого слепого учителя?!»
Пройас едва не рассмеялся мудрым смехом наставника.
И когда он закончил первый столбец своего исполненного недоумения ответа Майтанету, на глаза его навернулись слезы. «…Но похоже, Ваша Святость, Друз Ахкеймион мертв».
…Эсменет улыбнулась, и Келлхус взглянул сквозь оливковую кожу, сквозь игру мышц над костями, на некую абстрактную точку, средоточие ее души.
«Она знает, что я вижу ее, отец».
Лагерь бурлил всяческими хлопотами и чистосердечными разговорами. Священное воинство готовилось к переходу через пустыни Кхемемы, и Келлхус пригласил к своему костру четырнадцать старших заудуньяни, что на куниюрском означало «племя истины». Они уже знали свою миссию; Келлхусу нужно было лишь напомнить им, что он обещал. Одной веры недостаточно, чтобы контролировать действия людей. Нужно еще желание, и эти люди, его апостолы, должны светиться желанием.
Таны Воина-Пророка.
Эсменет сидела напротив Келлхуса, по другую сторону костра, смеясь и болтая с соседями, Арвеалом и Персоммасом; лицо ее зарумянилось от радости, которой она не могла вообразить и не смела себе в ней признаться. Келлхус подмигнул ей, потом оглядел других, улыбаясь, смеясь, восклицая…
Внимательно приглядываясь. Подчиняя своей воле.
Каждый из них был источником знаний. Потупленные глаза, быстро бьющееся сердце и неловкая, нескладная речь Оттмы говорили о всепоглощающем присутствии Серве. Короткая презрительная усмешка Ульнарты за миг до улыбки означала, что он все еще неодобрительно относится к Тцуме, поскольку боится его черной кожи. То, что Кассала, Гайямакри и Хильдерат старались все время находиться лицом к Верджау, даже когда разговаривали друг с другом, означало, что они до сих пор считают его первым среди них. И действительно, то, как Верджау окликал кого-то из сидящих вокруг костра, подавался вперед, опираясь на ладони, пока остальные по большей части беседовали между собой, говорило о сочетании подсознательной тяги к господству и подчинению. Верджау даже выпячивал подбородок…
— Скажи мне, Верджау, — позвал Келлхус, — что ты видишь в своем сердце?
Подобные вмешательства неизбежны. Все эти люди были рождены в миру.
— Радость, — улыбаясь, ответил Верджау.
Слегка потускневшие глаза. Учащение пульса. Рефлекторный прилив крови к лицу.
«Он видит, и он не видит».
Келлхус поджал губы, печально и сдержанно.
— А что вижу я?
«Это он знает…»
Прочие голоса смолкли.
Верджау опустил глаза.
— Гордость, — ответил молодой галеот. — Вы видите гордость, господин.
Келлхус улыбнулся, и охватившая всех тревога развеялась.
— Нет, — сказал он. — Не с таким лицом, Верджау.
Все, включая Серве и Эсменет, расхохотались, а Келлхус удовлетворенно обвел взглядом сидящих вокруг костра. Он не мог допустить, чтобы кто-то из них принялся строить из себя великого учителя. Именно полное отсутствие самонадеянности и делало эту группу столь уникальной, именно поэтому их сердца трепетали и головы кружились от возможности видеть его. Бремя греха связано с тайной и порицанием. Сорвите их, избавьте людей от уловок и суждений, и ощущение стыда и никчемности у них просто исчезнет.
В его присутствии они чувствовали себя значительнее, ощущали себя чистыми и избранными.
Прагма Мейджон взглянул сквозь лицо маленького Келлхуса и увидел страх.
— Они безвредны, — сказал он.
— А что они такое, прагма?
— Примеры дефектов… Образцы. Мы храним их для образовательных целей.
Прагма изобразил улыбку.
— Для таких учеников, как ты, Келлхус.
Они находились глубоко под Ишуалем, в шестиугольной комнате, в громадных галереях Тысячи Тысяч Залов. На стенах крепились подставки со множеством свечей, излучающих яркий и чистый, словно в солнечный полдень, свет. Уже одно это делало комнату из ряда вон выходящей — во всех прочих местах Лабиринта свет был строго запрещен, — но что еще больше поразило Келлхуса, так это множество людей в углублении в полу.
Каждый из них был наг, бледен, как полотно, и прикован зеленоватыми медными кандалами к наклоненным доскам. Доски образовывали широкий круг, так, что каждый человек лежал на расстоянии вытянутой руки от остальных, на краю центрального углубления, и мальчик ростом с Келлхуса мог, стоя на полу, посмотреть им в лицо…
Если бы у них были лица.
Их головы лежали на железных рамах, и крепежные скобы удерживали их в неподвижном состоянии. Под головами на каждой раме были натянуты проволочки. Они расходились по кругу и заканчивались крохотными серебряными крючками, погруженными в едва заметную кожу. Гладкие, лоснящиеся мышцы поблескивали на свету. Келлхусу почудилось, будто каждый из лежащих сунул голову в паутину, и из-за этого у них облезли лица.
Прагма Мейджон назвал это Комнатой Снятых Масок.
— Для начала, — сказал старик, — ты изучишь и запомнишь каждое лицо. Затем воспроизведешь то, что увидел, на пергаменте.
Он кивком указал на несколько старых столов у южной стены.
Келлхус сделал шаг вперед; тело было легким, словно осенний лист. Он слышал чмоканье бледных ртов, хор беззвучного ворчания и тяжелого дыхания.
— У них были удалены голосовые связки, — пояснил прагма Мейджон. — Для лучшей концентрации.
Келлхус остановился перед первым образцом.
— Лицо состоит из сорока четырех мышц, — продолжал прагма. — Действуя согласованно, они способны выразить все оттенки чувств. Существует пятьдесят семь основных типов эмоций. Все их можно найти в этой комнате.
Несмотря на отсутствие кожи, Келлхус немедленно распознал ужас на лице распластанного перед ним образца. Мышцы, окружающие глаза, одновременно тянулись и внутрь, и наружу, словно борющиеся плоские черви. Более крупные, размером с крысу, мышцы нижней части лица растягивали рот в оскале страха. Глаза, лишенные век, смотрели. Учащенное дыхание…
— Ты, вероятно, хочешь знать, как ему удается поддерживать именно это выражение, — сказал прагма. — Столетия назад мы обнаружили, что можем ограничивать поведенческие реакции при помощи игл, введенных в мозг. Теперь мы называем это нейропунктурой.
Келлхус от потрясения словно прирос к месту. Внезапно за спиной у него вырос служитель, сжимающий в зубах узкую тростинку. Он погрузил тростинку в чашу с жидкостью, которую держал в руках, а потом дунул, и брызги покрыли образец красивой оранжевой дымкой.
— Нейропунктура, — тем временем говорил прагма, — сделала возможной применение дефективных субъектов для учебных целей. Например, этот образец всегда демонстрирует страх, вариант два.
— Ужас? — переспросил Келлхус.
— Совершенно верно.
Келлхус почувствовал, что его детский ужас тает от понимания. Он посмотрел по сторонам, на расположенные по кругу образцы, на ряды белых глаз, окруженных блестящими красными мышцами. Это были всего лишь дефективные субъекты, не более того. Келлхус снова переключил внимание на ближайший образец, базовую реакцию страха, вариант два, и зафиксировал увиденное в памяти. Затем перешел к следующему.
— Хорошо, — сказал откуда-то сбоку прагма Мейджон. — Очень хорошо.
Келлхус в очередной раз позволил своему взгляду скользнуть по лицу Эсменет.
Она уже два раза прошлась от костра к палатке; эти прогулки были предназначены для того, чтобы привлечь внимание Келлхуса и втайне проверить его интерес. Она периодически поглядывала по сторонам, делая вид, будто ей что-то понадобилось, а на самом деле выясняя, смотрит ли он на нее. Дважды Келлхус разрешил ей поймать его взгляд. Каждый раз он весело, по-мальчишески усмехался. Каждый раз она опускала глаза, краснела, зрачки ее расширялись, глаза быстро моргали, а от тела исходил мускусный запах зарождающегося возбуждения. Хотя Эсменет еще не пришла на его ложе, она уже жаждала его и даже добивалась.
При всех своих талантах, Эсменет оставалась рожденной в миру. И как у всех рожденных в миру, две души делили одно тело, лицо и глаза. В каждом жило два начала. Животное и разумное.
Дефективные субъекты.
Одна Эсменет уже отреклась от Друза Ахкеймиона. Вторая вскоре последует за ней.
…Эсменет прищурилась, приставив ладонь козырьком ко лбу и заслоняя глаза от сияния бирюзового неба. Эта картина, сколько бы раз она ни созерцала ее, неизменно ошеломляла Эсменет.
Священное воинство.
Она остановилась вместе с Келлхусом и Серве на вершине небольшого холма: Серве нужно было перепаковать свой тюк. Мимо них воины-айнрити и мирное население, увязавшееся за войском, шли к осыпающимся скалам северного откоса. Взгляд Эсменет скользил по воинам в доспехах, все дальше и дальше, мимо скоплений народа, сквозь сгущающуюся завесу пыли, вдаль. Она повернулась и взглянула на оставшиеся позади желтоватые стены Аммегнотиса на фоне темной реки и ее зеленых берегов.
Прощай, Шайгек.
«Прощай, Акка».
Эсменет зашагала вперед с глазами, полными слез, и лишь махнула рукой, когда Келлхус окликнул ее.
Она шла среди незнакомых людей, ощущая себя мишенью для взглядов и брошенных вполголоса слов — такое часто с ней случалось. Некоторые мужчины действительно приставали к ней, но Эсменет не обращала на них внимания. Один даже сердито схватил ее за татуированную руку, словно напоминая, что она принадлежит всем мужчинам.
Пожухлая трава становилась все реже, сменяясь гравием, что обжигал ступни и раскалял воздух. Эсменет потела, страдала от жары, но откуда-то знала, что это лишь начало.
Вечером она без особого труда отыскала Келлхуса и Серве. Хотя топлива было мало, они умудрились приготовить ужин на небольшом костерке. Как только солнце зашло, воздух тут же остыл, и они встретили свои первые сумерки в пустыне. От земли веяло жаром, словно от камня, извлеченного из очага. На востоке вдали протянулись полукругом бесплодные холмы, заслонявшие море. На юге и западе, за беспорядочно раскинувшимся лагерем, горизонт образовывал безукоризненную линию, красноватую от закатного солнца. На севере, за шатрами все еще виднелся Шайгек; в сгущающихся сумерках его зелень сделалась черной.
Серве уже задремала, свернувшись клубочком на циновке рядом с костром.
— Ну и как ты прогулялась? — поинтересовался Келлхус.
— Извини, — устыдившись, сказала Эсменет. — Я…
— Тебе не за что извиняться, Эсми… Ты идешь туда, куда хочешь.
Эсменет опустила взгляд, ощущая одновременно и облегчение, и укол горя.
— Ну так как? — повторил Келлхус. — Как ты прогулялась?
— Мужчины, — тяжело вздохнула она. — Слишком много мужчин.
— И ты называешь себя проституткой, — усмехнулся Келлхус.
Эсменет упорно продолжала смотреть на свои запыленные ноги. Но по лицу ее скользнула робкая улыбка.
— Все меняется…
— Возможно, — согласился Келлхус.
Тон его голоса напомнил Эсменет звук, с которым топор врубается в дерево.
— Ты когда-нибудь задумывалась, почему боги поставили мужчин выше женщин?
Эсменет пожала плечами.
— Мы стоим в тени мужчин, — заученно повторила она, — точно так же, как мужчины стоят в тени богов.
— И ты думаешь, что стоишь в тени мужчин?
Эсменет улыбнулась. Келлхуса не обманешь, даже по мелочам. Таков уж он.
— Некоторых — да…
— Но не многих?
Эсменет рассмеялась, оттого что Келлхус поймал ее на неприкрытом тщеславии.
— Совсем немногих, — призналась она.
И, как потрясенно поняла Эсменет, даже Акка не входил в их число…
«Только ты».
— А как насчет прочих мужчин? Разве не все мужчины в некотором смысле находятся в тени?
— Думаю, да…
Келлхус повернул руки ладонями к Эсменет — странно обезоруживающий жест.
— Так отчего же ты меньше мужчины? Чем это вызвано?
Эсменет снова рассмеялась. Она удостоверилась, что Келлхус затеял какую-то игру.
— Да тем, что повсюду, где мне только довелось побывать, и вообще повсюду, женщины служат мужчинам. Просто так оно есть. Большинство женщин похожи на…
Эсменет запнулась, смущенная ходом своих мыслей. Она посмотрела на Серве. Безукоризненное лицо девушки светилось в тусклых отблесках костра.
— На нее, — сказал Келлхус.
— Да, — согласилась Эсменет.
Она вдруг ощутила странное упрямство.
— На нее. Большинство женщин просты.
— И большинство мужчин.
— Ну, среди мужчин куда больше образованных, чем среди женщин… Больше умных.
— Именно поэтому мужчины выше женщин?
Эсменет ошеломленно уставилась на него.
— Или, — продолжал Келлхус, — это потому, что в этом мире мужчинам дано больше, чем женщинам?
Эсменет потрясенно смотрела на него; голова у нее шла кругом. Она глубоко вздохнула и осторожно положила руки на колени.
— Ты хочешь сказать, что женщины на самом деле… равны мужчинам?
Келлхус со страдальческим изумлением приподнял брови.
— Почему, — спросил он, — мужчины готовы платить золотом за то, чтобы возлечь с женщинами?
— Потому, что они хотят нас… Они нас вожделеют.
— А законно ли это для мужчин — покупать удовольствие у женщин?
— Нет…
— Так почему же они это делают?
— Они не могут удержаться, — ответила Эсменет. Она печально приподняла бровь. — Они — мужчины.
— Значит, они не способны контролировать свои желания?
Эсменет усмехнулась, совсем как прежде.
— Перед тобой живое свидетельство тому, в лице прожженной шлюхи.
Келлхус рассмеялся, но негромко, и этот смех с легкостью отделил ее боль от шутки.
— Так почему же, — спросил он, — мужчины пасут скот?
Скот?
Эсменет нахмурилась. И к чему ведут эти абсурдные рассуждения?
— Ну… чтобы резать его для…
И вдруг ее постигло озарение. По коже побежали мурашки. Она снова сидела в тени, а Келлхус впитал в себя угасающее солнце, став похожим на бронзового идола. Казалось, солнце всегда покидает его последним…
— Мужчины, — сказал Келлхус, — не могут господствовать над своими желаниями, поэтому господствуют над объектами своих желаний. Будь то скот…
— Или женщины, — одними губами произнесла Эсменет.
Воздух искрился пониманием.
— Когда один народ, — продолжал Келлхус, — платит дань другому, как кепалоранцы — нансурцам, на каком языке эти народы говорят?
— На языке завоевателя.
— А на чьем языке говоришь ты?
Эсменет сглотнула.
— На языке мужчин.
Перед ее мысленным взором мелькала одна картина за другой, один мужчина за другим, согнувшиеся над ней, словно псы…
— Ты видишь себя такой, — сказал Келлхус, — какой тебя видят мужчины. Ты боишься стареть, потому что мужчины предпочитают молодых. Ты одеваешься бесстыдно, потому что мужчины желают видеть твое тело. Ты съеживаешься от страха, когда говоришь, потому что мужчины предпочитают, чтобы ты молчала. Ты угождаешь. Ты рисуешься. Ты наряжаешься и прихорашиваешься. Ты искажаешь свои мысли и уродуешь свое сердце. Ты ломаешь и переделываешь себя, режешь, и режешь, и режешь, и все ради того, чтобы говорить на языке завоевателя.
Кажется, никогда еще Эсменет не сидела столь неподвижно. Будто воздух в ее легких и даже кровь в сердце застыли… Келлхус превратился в голос, доносящийся откуда-то из пространства между слезами и светом костра.
— Ты говоришь: «Пусть я буду стыдиться себя ради тебя. Пусть я буду страдать из-за тебя! Умоляю тебя!»
Эсменет осознала, к чему он ведет, и поэтому стала думать об отстраненных вещах — например, почему опаленная солнцем кожа и ткань кажутся такими чистыми…
Она поняла, что грязь нуждается в воде не меньше людей.
— И ты говоришь себе, — продолжал Келлхус, — «Вот пути, которым я не буду следовать!» Возможно, ты отказываешься от извращений. Возможно, ты отказываешься целоваться. Ты притворяешься, будто испытываешь угрызения совести, будто проявляешь свои пристрастия, пусть даже мир вынуждает тебя идти по неторенному пути. Деньги! Деньги! Деньги за все и все за деньги! Хозяину дома. Чиновникам, которые приходят за взятками. Торговцам, которые кормят тебя. Бандитам с отбитыми костяшками. И втайне ты спрашиваешь себя: «Что может быть немыслимого, раз я уже проклята? Какой поступок может унизить меня, если у меня нету достоинства? Что за любовь стоит за самопожертвованием?»
Лицо Эсменет было мокрым от слез. Когда она отвела руку от щеки, на ней остались черные следы.
— Ты говоришь на языке завоевателей, — прошептал Келлхус. — Ты сказала: «Мимара, детка, пойдем со мной».
Дрожь пробежала по телу Эсменет, словно она была кожей, натянутой на барабан.
— И ты отвела ее…
— Она умерла! — крикнула какая-то женщина. — Умерла!
— К работорговцам в порту…
— Перестань! — прошипела женщина. — Хватит, я сказала!
Судорожно, словно от удара ножом.
— И продала ее.
Она помнила, как он обнимал ее. Помнила, как шла следом за ним в его шатер. Помнила, как лежала рядом с ним и плакала, плакала, а тем временем его голос смягчал ее боль, а Серве утирала слезы, и ее прохладная ладонь скользила по волосам Эсменет. Она помнила, как рассказывала им, что произошло. Про голодное лето, когда она отсасывала у мужчин задаром, ради их семени. О ненависти к маленькой девочке — к этой дрянной сучке! — которая ныла и канючила, канючила и ела ее еду, и гнала ее на улицы, и все из-за любви! О безумии с пустыми глазами. Кто может понять, что такое умирать от голода? О работорговцах, об их кладовых, ломившихся от хлеба, когда все вокруг голодали. О том, как кричала Мимара, ее маленькая девочка. О монетах, которые жгли руки… Меньше недели! Их не хватило даже на неделю!
Она помнила свой пронзительный крик.
И помнила, как плакала — так, как не плакала никогда в жизни, — потому что она говорила, а он слышал ее. Она помнила, как плыла по волнам его уверенности, его поэзии, его богоподобного знания о том, что правильно, а что нет…
Его отпущения грехов.
— Ты прощена, Эсменет.
«Кто ты такой, чтобы прощать?»
— Мимара.
Когда Эсменет проснулась, ее голова лежала на руке Келлхуса. Она не ощутила ни малейшего замешательства, хотя должна бы. Она знала, где находится, и чувствовала одновременно ужас и ликование.
Она лежала рядом с Келлхусом.
«Я не совокуплялась с ним… Я только плакала».
Лицо ее было помятым после вчерашнего. Ночь выдалась жаркой, и они спали без одеял. Эсменет долго, как ей казалось, лежала неподвижно, просто наслаждаясь его близостью. Она положила руку на его обнаженную грудь. Грудь была теплой и гладкой. Эсменет чувствовала медленное биение его сердца. Пальцы ее дрожали, как будто она прикоснулась к наковальне, по которой бьет кузнец. Она подумала о его тяжести и вспыхнула…
— Келлхус… — позвала она.
Она смотрела на его профиль. Откуда-то она знала, что он проснулся.
Келлхус повернулся и взглянул на нее. Глаза его улыбались.
Эсменет смущенно фыркнула и отвела взгляд.
— Как-то странно лежать так близко… верно? — спросил Келлхус.
— Да, — Эсменет улыбнулась в ответ, подняла глаза, потом снова отвела их. — Очень странно.
Келлхус повернулся к ней лицом. Эсменет услышала, как Серве застонала и что-то жалобно пробормотала во сне.
— Тс-с-с, — с тихим смехом сказал Келлхус. — Она куда больше любит спать, чем я.
Эсменет рассмеялась, качая головой и лучась недоверчивым возбуждением.
— Это так странно! — прошептала она.
Никогда еще ее глаза не сияли так ярко.
Эсменет нервно сжала колени. Он был слишком близко!
Келлхус подался к ней, и губы ее тут же ослабели, а веки отяжелели.
— Нет! — выдохнула она.
Келлхус дружески нахмурился.
— У меня набедренная повязка сбилась, — сказал он.
— А! — отозвалась Эсменет, и они снова рассмеялись.
И снова она ощутила его тяжесть…
Он был мужчиной, который затмевал ее, как и подобает мужчине.
Потом его рука скользнула под ее хасу, очутилась меж бедер, и вот Эсменет уже застонала прямо в его сладкие губы. А когда он вошел в нее, пронзив, как Гвоздь Небес пронзает небосвод, слезы хлынули из ее глаз, и в голове ее осталась лишь одна мысль: «Наконец-то! Наконец-то он взял меня!»
И это не было грезой. Это было на самом деле.
Больше никто и никогда не назовет ее шлюхой.
Часть III. Третий переход
Глава 18. Кхемема
«Кто мочится в воду, мочится на свое отражение».
Пословица кхиргви4111 год Бивня, начало осени, южный Шайгек
Потея под солнцем, Люди Бивня двигались на юг, вдоль извивистых, зазубренных склонов южного берега к дышащей жаром пустыне Каратай, или, как ее называли кхиргви, Эй’юлкийя, «Великая жажда». В первую ночь они остановились у Тамизнаи, перевалочной базы караванов, опустошенной отступающими фаним.
Вскорости после этого Атьеаури, которого послали разведать путь в Энатпанею, вернулся ни с чем; люди его были еле живы от жажды и усталости. Сам Атьеаури был сильно не в духе. Он сообщил Великим Именам, что не нашел ни одного незагрязненного источника и что был вынужден путешествовать по ночам, потому что днем невыносимо жарко. Язычники, заявил он, отступили в дальний угол преисподней. Великие Имена в ответ напомнили ему о бесконечных вереницах мулов, которых они ведут с собой, и об императорском флоте, обязанном сопровождать их, нагрузившись водой из Семписа. Они объяснили свои тщательно продуманные планы, как перевезти воду через прибрежные холмы.
— Вы не представляете, — сказал молодой граф Гаэнри, — в какую землю осмелились вступить.
На следующий вечер трубы Галеота, Нансурии, Туньера, Конрии, Се Тидонна и Верхнего Айнона пронзили сухой воздух. Шатры были сорваны под крики солдат и рабов. Мулы были нагружены и пинками выстроены в длинные колонны. Жрецы Гильгаоала бросили на жертвенник большого ястреба, затем выпустили еще одного в сторону клонящегося к западу солнца. Пехотинцы подцепили свои тюки на копья, перешучиваясь и жалуясь на перспективу ночного перехода. Гимны терялись и растворялись в гомоне тысяч хлопочущих людей.
Воздух сделался прохладнее, и первая колонна двинулась по западным отрогам кхемемских прибрежных холмов.
Первые кхиргви появились после полуночи; они завывали, мчась на своих верблюдах, неся истину Единого Бога и Его пророка на остриях кривых клинков. Нападения были короткими и ужасными. Кхиргви набрасывались на группы, отбившиеся от основной массы войска, и поливали пески красной водой. Они просачивались между рядами айнрити и с воплями налетали на обозы, и повсюду, где только находили, вспарывали драгоценные бурдюки с водой. Иногда, особенно на твердой почве, их нагоняли и уничтожали в яростных схватках. В противном случае они отрывались от преследователей и исчезали в освещенных луною песках.
На следующий день первые вереницы мулов перебрались через прибрежные холмы к Менеанору и обнаружили залив, серебрящийся на солнце и усеянный кораблями нансурского флота. Первые вытащенные на берег лодки с грузом воды были встречены радостными криками. Изнурительная работа — погрузка воды на мулов — сопровождалась песнями. Многие люди раздевались до пояса и окунались в море, чтобы легче переносить жару. А вечером, когда Священное воинство выбралось из невыносимо душных шатров, его встретила свежая вода Семписа.
Священное воинство продолжило ночной марш. Невзирая на леденящие кровь налеты, многих заворожила красота Каратая. Здесь не было насекомых, не считая странных жуков, катавших по пескам шарики навоза. Айнрити смеялись над ними и называли их «сборщиками дерьма». И крупных животных они тоже не видели, кроме стервятников, неустанно кружащих в небе. Где нет воды, там нет жизни, а в Каратае воды не найти, — разве что в тяжелых бурдюках, которые несли солдаты Священного воинства. Здесь казалось, будто солнце выжгло весь мир до костей. И все же пустыня была прекрасна, словно запавший в память страшный сон, рассказанный кем-то другим.
На седьмую назначенную встречу Священного воинства и имперского флота Люди Бивня добирались через сухие узкие ущелья. Они посмотрели на Менеанор, весь расписанный лазурью и белизной, и не обнаружили никаких кораблей. Встающее солнце золотило поверхность моря. Люди видели отдаленные буруны. Но кораблей не было.
Они стали ждать. В лагерь отправили гонцов с сообщением. Вскоре к водовозам присоединились Саубон и Конфас. Они искупались в море, примерно с час проспорили, а затем уехали обратно к лагерю Священного воинства. Был созван совет, и Великие и Малые Имена пререкались до самых сумерек, пытаясь решить, что же теперь делать. Они принялись было обвинять Конфаса, но быстро прекратили, когда экзальт-генерал заметил, что его жизнь сейчас подвергается не меньшему риску, чем жизни остальных.
Священное воинство прождало сутки, и, когда имперский флот так и не прибыл, они решили идти дальше. Теорий выдвигалось множество. Возможно, как предположил Икурей Конфас, флот был настигнут шквалом и решил плыть на юг, к следующему месту встречи, дабы сберечь время. Или, как предположил князь Келлхус, кианцы не случайно столь долго воздерживались от войны на море. Возможно, они перебили верблюдов и придержали флот, дабы заманить Священное воинство в Каратай.
Возможно, Кхемема была ловушкой.
Два дня спустя бо́льшая часть Великих и Малых Имен отправилась вместе с обозом мулов к морю и ошарашенно уставилась на его прекрасный пустой простор. Когда они вернулись с холмов, им больше не хотелось уходить из пустыни. Солнце, камень и песок манили их.
Вся вода была поделена на порции, в соответствии с кастами. Было объявлено, что всякого, кто будет прятать воду или превышать паек, казнят.
На совете Икурей Конфас развернул карты, нарисованные имперскими картографами в те времена, когда Кхемема принадлежала империи, и ткнул пальцем в место, именуемое Субис. Он утверждал, что Субисский оазис слишком велик, чтобы язычники могли его отравить. С имеющейся водой Священное воинство сможет добраться до Субиса, но только если оставит позади все — мулов, рабов, гражданскую обслугу…
— Оставит позади… — протянул Пройас. — И как вы предлагаете это сделать?
Хотя приказы отдавались в обстановке величайшей секретности, слух быстро разнесся по впавшему в оцепенение лагерю. Многие бежали в пустыню, навстречу гибели. Некоторые схватились за оружие. Остальные просто сидели и ждали, пока их убьют: рабы, войсковые проститутки, торговцы и даже работорговцы. Над барханами взлетели крики.
Кое-где вспыхнули мятежи. Сперва многие отказывались убивать своих. Тогда Великие Имена принялись объяснять людям, что Священное воинство должно выжить. Они должны выжить. В конце концов бесчисленные тысячи были перебиты горюющими Людьми Бивня. Пощадили лишь жрецов, жен и полезных торговцев.
В ту ночь айнрити шли сквозь пустыню, похожую на остывающую печь, не видя ничего вокруг — прочь от оставшегося за спиной ужаса, навстречу обещанному Субису…
Когда кхиргви наткнулись на поле, усеянное грудами тел и брошенным имуществом, они попадали на колени и с ликованием вознесли хвалу Единому Богу. Испытания идолопоклонников начались.
Огромная колонна Священного воинства тянулась на юг. Кхиргви сотнями истребляли тех, кто отделялся от основной части войска. Несколько племен врезались в середину колонны и произвели изрядное опустошение, прежде чем броситься наутек. Группа налетчиков напоролась на Багряных Шпилей и была сожжена подчистую.
Следующее утро Великие и Малые Имена встретили в полном отчаянии. Они знали, что вода где-то есть. В противном случае кхиргви не могли бы все это время изводить их. Так где же источники? Они призвали тех, кто обладал наибольшим опытом рейдов, — Атьеаури, Тамписа, Детнамми и прочих — и велели им вступить в битву с племенами пустыни, чтобы отыскать потаенные оазисы. Ведя за собой тысячи рыцарей айнрити, они двинулись в глубь барханов и исчезли в жарком мареве.
Все, кроме Детнамми, айнонского палатина Эшкаласа, вернулись на следующую ночь, отброшенные яростью кхиргви и беспощадной жарой Каратая. Они не нашли никаких источников. А даже если бы и нашли, сказал Атьеаури, то он понятия не имеет, как их можно было бы отыскать заново, потому что пустыня совершенно безлика.
Тем временем вода почти закончилась. Поскольку Субиса было не видать, Великие Имена решили оставить всех лошадей, кроме тех, что принадлежали кастовой знати. Несколько тысяч кенгемских пехотинцев — кетьянцев, данников Тидонна, — взбунтовались, требуя, чтобы перебили всех лошадей без исключения, а воду поровну поделили между Людьми Бивня. Ответ Готьелка и других графов Се Тидонна был быстрым и безжалостным. Вожаки мятежников были арестованы, выпотрошены и повешены на пиках.
На следующую ночь воды почти не осталось, и Люди Бивня, чья кожа уже стала похожа на пергамент, охваченные раздражительностью и изнеможением, принялись выбрасывать еду. Они больше не хотели есть. Они хотели пить. Они никогда еще не чувствовали такой жажды. Сотни лошадей пали и были оставлены издыхать в песках. Странное оцепенение охватило людей. Когда кхиргви напали на них, многие просто продолжали идти, не слыша, как позади гибнут их соплеменники, — или их это больше не беспокоило.
«Субис», — думали они, и это имя заключало в себе больше надежды, чем имя любого из богов.
Когда рассвело, а они так и не достигли Субиса, решено было продолжить путь. Мир превратился в подернутое маревом горнило из обожженного камня и барханов, бронзовых, изгибающихся, словно бедра женщины. Вдали висели миражи озер, и многие бросались бежать, уверенные, что видят оазис, вожделенный Субис.
Субис… Имя возлюбленной.
Люди Бивня брели дальше, шли гуськом между выходами песчаника, напоминающими огромные грибы на тонких ножках. Они взбирались на огромные барханы.
Неожиданно открывшееся селение выглядело как жесткое угловатое насекомое. Темная зелень и солнечное серебро оазиса манили своей невозможностью.
Субис!
Толпы людей ринулись через выкованные солнцем пески. Люди промчались мимо покинутого селения, между финиковыми пальмами с их ворохами засохших листьев и между акациями, усеянными гнездами. Толкаясь, они сбежали по утоптанной земле и рухнули в сверкающие воды, хохоча и поднимая тучи брызг…
И нашли там Детнамми.
Мертвого, распухшего, плавающего в прозрачной зелени воды, а с ним — все четыреста пятьдесят девять его людей. Это сделали кхиргви, решив заодно задачу отравления Субиса.
Но Людей Бивня это уже не волновало. Они жадно глотали воду, их рвало, но они глотали ее снова. Тысячи и тысячи Людей Бивня с воплями скатывались с барханов и неслись в оазис. Они дрались и отталкивали друг друга. Сотни людей задавило насмерть. Сотни утонули — те, кого вытолкали на середину озера. Великим Именам далеко не сразу удалось навести порядок. Таны и рыцари угрозами выгоняли людей из оазиса. Кое-кого даже пришлось убить для пущей наглядности. Постепенно были организованы команды водоносов, наполнявших и разносивших бурдюки с водой. Те, кто умел плавать, начали извлекать мертвецов из озера.
Великие Имена отказали Детнамми и его людям в погребальных обрядах, поскольку поняли, что он рванул на юг, к Субису, вместо того чтобы выполнять поставленную задачу. Чеферамунни, король-регент Верхнего Айнона, объявил палатина Эшкаласа вне закона и посмертно лишил его титула и владений. Тело было осыпано ритуальными айнонскими проклятиями и брошено стервятникам.
Тем временем Люди Бивня наконец-то напились. Многие ушли в тень, под пальмы, прислонились к стволам и дивились ветвям с листьями, так напоминающими крылья стервятника. Теперь, когда жажда отступила, они начали беспокоиться насчет болезней. Врачей-жрецов грозного Мора, Аккеагни, призвали к Великим Именам, и они перечислили болезни, какие приключаются от питья воды, загрязненной мертвыми телами. Но поскольку все их снадобья были оставлены в пустыне, жрецы мало что могли поделать — только читать молитвы.
Но умилостивить богов не удалось.
Так или иначе поплохело всем — озноб, колики, тошнота, — но тысячи заболели серьезно, с безудержной рвотой и поносом. К следующему утру самые тяжелые корчились от болей в брюшине, а тела их покрылись воспаленными красными пятнами.
На совете Великие Имена долго рассматривали карты Икурея Конфаса. Они понимали, что Энатпанея попросту слишком далеко. Они отправили несколько десятков отрядов к разным точкам побережья, вопреки очевидному надеясь, что удастся отыскать имперский флот. На этот раз были выдвинуты обвинения против императора, а Конфаса с Саубоном дважды пришлось держать. Когда поисковые отряды вернулись с холмов ни с чем, Великие Имена пришли к официальному согласию и постановили двигаться на юг.
Куда бы они ни шли, сказал князь Келлхус, Бог будет видеть их.
Люди Бивня покинули Субис на следующий вечер; они уносили бурдюки, под завязку наполненные загрязненной водой. Несколько сотен человек — те, кто был слишком слаб и не мог идти, — остались в оазисе, ожидать появления кхиргви.
Больных становилось все больше, и тех, у кого не было друзей или родичей, бросали. Священное воинство превратилось в огромное сборище ковыляющих людей. Они шли сквозь бескрайние просторы растрескавшегося на солнце камня и песка с вкраплениями песчаника. Облака звезд кружили вокруг Гвоздя Небес, считая мертвецов. Те, кто был слишком болен, чтобы продолжать путь, падали и плакали в пыли, равно страшась утреннего солнца и кхиргви.
— Энатпанея, — говорили идущие друг другу, ибо Великие Имена солгали, сказав, что до Энатпанеи всего три дня пути — а на самом деле их было больше шести. — Бог явится нам в Энатпанее.
Имя-обещание… Как Шайме.
Для тех, кто страдал от диареи, водного пайка попросту не хватало. Ослабевшие, они, задыхаясь, падали на прохладный песок. Многие так и умерли — тысячи и тысячи.
Через два дня воды снова стало слишком мало. Жажда вернулась. Губы потрескались, глаза сделались странно спокойными, а кожа натянулась — сухая, словно папирус.
Но некоторые выглядели во время этого испытания невероятно сильными. Нерсей Пройас был одним из немногих дворян, кто отказался поить коня в то время, как умирают люди. Он шел среди самых стойких рыцарей и солдат Конрии, подбадривая их и напоминая, что сущность этого испытания — вера.
Князь Келлхус, сопровождаемый двумя прекрасными женщинами, тоже нес людям слово силы. Он говорил воинам, что они не просто страдают — они страдают за что-то. За Шайме. За истину. За Бога! А тот, кто страдает за Бога, стяжает славу Вовне. Да, многие сломаются, но те, кто останется в живых, будут знать крепость своих сердец. Он утверждал, что они будут не такими, как все прочие люди. Они будут больше…
Они будут избранными.
Куда бы ни шел князь Келлхус и две его женщины, вокруг них тут же собирались люди, умоляя о прикосновении, исцелении, прощении. Его лицо, выкрашенное пылью в цвет пустыни, сделалось бронзовым, а струящиеся волосы — почти белыми; он казался воплощением солнца, песка и камня. Он и только он мог смотреть на бескрайний Каратай и смеяться, протягивать руки к Гвоздю Небес и благодарить за страдания.
— Бог избирает! — восклицал он. — Бог!
И слова, что он произносил, были подобны воде.
На третью ночь он остановился в просторной впадине между барханами. Он отметил место на слежавшемся песке и велел нескольким своим ближайшим приверженцам, заудуньяни, начать копать. Когда они отчаялись что-либо найти, он приказал продолжать. Вскоре они почувствовали, что песок сделался влажным… Затем Келлхус прошел дальше и велел тем, кто был рядом, тоже копать ямы в разных местах. А из других организовал вооруженную охрану. Тысячи людей, пребывающих на грани отчаяния, толпились вокруг, удерживаемые остриями опущенных копий, — им не терпелось посмотреть, что же тут творится. Через некоторое время в лунном свете заблестело четырнадцать луж темной воды. Колодцы, питаемые подземными водами…
Вода была мутной, но сладкой и не отравленной мертвечиной.
Когда первые из Великих Имен криками и пинками проложили себе путь к колодцам, они обнаружили князя Келлхуса на дне ямы; он стоял по колено в воде и подавал наполненные бурдюки людям, жадно тянувшим руки.
— Он указал мне место! — рассмеялся Келлхус, когда его начали славить. — Бог указал мне!
По приказу Великих Имен были вырыты новые колодцы и организована раздача воды. Поскольку бо́льшая часть Священного воинства страдала от жестокого обезвоживания, Великие Имена решили задержаться здесь на несколько дней. Уцелевших лошадей забили и съели сырыми, поскольку не нашлось топлива для костров. На совете князя Келлхуса хвалили за его открытие, но и только. Многие в Священном воинстве, особенно люди низших каст, не скрываясь, славили его как Воина-Пророка. На собраниях Великих Имен, проходивших в узком кругу, спорили о князе Атритау, но так и не пришли к единому мнению. Икурей Конфас твердил, что пустыня уже породила одного лжепророка, Фана.
Тем временем в глубинах пустыни собрались племена кхиргви, решившие, что Священное воинство, подобно шакалу, нашло себе подходящее место, чтобы умереть. На следующую ночь они накинулись на айнрити. Тысячи кхиргви бешеным потоком хлынули с гребней барханов. Они сочли, что их враги уже скорее трупы, чем живые люди. Но Люди Бивня, хоть и захваченные врасплох, уже воспряли духом, их силы обновились; они окружили и перебили жителей пустыни. Были истреблены целые племена, пролившие много крови в бесчисленных стычках на просторах Кхемемы.
Последнюю еду распределили между воинами. Бурдюки снова наполнили водой и закинули на крепкие плечи. Над темной пустыней взлетели песни, и многие из них были гимнами в честь Воина-Пророка. Священное воинство, непокоренное и дерзкое, продолжило свой путь на юг. Оно потеряло при Менгедде, при Анвурате и в пустыне почти треть людей, но по-прежнему огромные колонны тянулись от горизонта до горизонта.
Они переходили через глубокие высохшие русла, проложенные редкими зимними дождями, и взбирались на барханы. Они снова смеялись над жуками-навозниками, суетливо спешащими куда-то со своим грузом. Настал день, и они поставили полотняные шатры, чтобы укрыться от безжалостного солнца и поспать.
Когда пришел вечер и войско, свернув лагерь, готово было двинуться в путь, многие заметили у западного края неба облака — кажется, первые облака, которые они видели с тех пор, как пришли в Гедею. Темно-фиолетовые тучи растеклись вдоль горизонта и окружили садящееся солнце, так что оно стало походить на радужку гневного красного глаза. Жрецы, оставшиеся без книг с толкованиями знамений, могли лишь гадать, что все это значит.
Воздух еще дрожал от жары и колыхался над раскаленной землей. И он был неподвижен — абсолютно неподвижен. Тишина опустилась на Священное воинство. Люди смотрели на горизонт, обеспокоенно переглядываясь, и понимали, что эти облака принадлежат не небу, а земле. А потом догадались.
Песчаная буря.
Тучи пыли катились на них с запада с ленивым изяществом шарфа, трепещущего на ветру. Старина Каратай все еще способен был ненавидеть. Великая жажда все еще могла карать.
Порывы ветра, сдирающего кожу. Люди Бивня кричали во весь голос, зовя друг друга, — и не слышали. Они пытались разглядеть хотя бы силуэты сотоварищей сквозь бронзовую пелену, но были слепы. Они сбивались в кучки под хлещущим ветром, чувствуя, как вокруг воздвигаются груды песка и поглощают их. Чудовищный ветер сорвал походные укрытия. Он набросал новый узор барханов. Забытые бурдюки с водой были похоронены под слоем песка.
Песчаная буря бушевала до рассвета, а когда ветер стих, Люди Бивня, ошеломленные, словно дети, увидели вокруг преобразившуюся землю. Они собрали, что сумели, из уцелевших вещей и нашли несколько мертвых, погребенных под песком. Великие и Малые Имена собрались на совет. Они поняли, что не смогут остаться здесь на день. Они должны идти — это было ясно. Но куда? Большинство считало, что следует вернуться к колодцам, найденным князем Келлхусом — так его до сих пор называли в совете, как по его настоянию, так и из-за отвращения, которое многим внушало имя «Воин-Пророк». Во всяком случае, на этот переход им воды хватит.
Но несогласные, с Икуреем Конфасом во главе, твердили, что колодцы, скорее всего, исчезли под слоем песка. Они указывали на окружающие барханы, так ярко сверкающие на солнце, что приходилось прикрывать глаза, и твердили, что местность вокруг колодцев наверняка изменилась. Если Священное воинство использует оставшуюся воду, чтобы двигаться прочь от Энатпанеи, и так и не найдет колодцы, оно обречено. Но при этом, заявил Конфас, снова опираясь на свои карты, сейчас они в двух днях пути от воды. Если они выступят в этом направлении, им, конечно, придется терпеть лишения, но они выживут.
К удивлению многих, князь Келлхус согласился с ним.
— Конечно же, — сказал он, — лучше подвергнуться страданиям, чтобы избежать смерти, чем пытаться избежать страданий, рискуя умереть.
Священное воинство двинулось к Энатпанее.
Они прошли через море барханов и вступили на землю, подобную раскаленной плите, — каменную равнину, воздух над которой буквально шипел от жары. Снова был введен жесткий водный паек. Людей шатало от обезвоживания, и некоторые принялись сбрасывать доспехи, оружие и одежды. Они шли нагишом, словно безумцы, а потом падали, почерневшие от жажды и сожженные солнцем. Последние лошади издохли, и пехотинцы, всегда возмущавшиеся тем, что знать заботится о лошадях больше, чем о людях, проходя мимо, проклинали и пинали безжизненные туши. Старый Готьелк окончательно лишился сил. Сыновья смастерили для него носилки и делились с ним своей водой. Лорда Ганьятти, конрийского палатина Анкириона, чья лысая голова здорово смахивала на обожженный палец, выглядывающий из порвавшейся перчатки, привязали к седлу, словно тюк.
Когда наступила ночь, Священное воинство по-прежнему двигалось на юг, ковыляя по песчаным барханам. Люди Бивня шли и шли, но прохладный воздух пустыни не приносил им облегчения. Никто не разговаривал. Они превратились в бесконечную процессию безмолвных теней, ползущих по барханам Каратая. Они шли — запыленные, истерзанные, с невидящими глазами, шатаясь, будто пьяные. Прежде четкие колонны расплывались, словно щепоть грязи, брошенная в воду, и удалялись друг от друга, пока Священное воинство не стало скопищем разрозненных фигур, бредущих по песку и пыли.
Утреннее солнце явилось пронзительным укором, ибо пустыня так и не закончилась. Священное воинство превратилось в армию призраков. Там, где оно прошло, остались лежать тысячи мертвых и умирающих, а солнце поднималось все выше, беспощадное и смертоносное. Некоторые просто теряли волю и опускались в пыль; их мысли и тела гудели от жажды и изнеможения. Другие заставляли себя идти, пока изношенные тела не предавали их. Они корчились на песке, мотая головами, и хрипло молили о помощи.
Но снисходила к ним лишь смерть.
Языки распухали. Сухая, как пергамент, кожа чернела и натягивалась до тех пор, пока не лопалась, обнажая багровую плоть. Ноги подгибались и отказывались повиноваться хозяевам. И солнце било их, сжигало потрескавшуюся кожу, превращало губы в серовато-белую корку.
Не было ни плача, ни стенаний, ни изумленных возгласов. Братья бросали братьев, мужья — жен. Каждый превратился в обособленную юдоль страданий, но они все шли и шли.
Ушло обещание сладкой воды Семписа. Ушло обещание Энатпанеи…
Ушел голос Воина-Пророка.
Осталось лишь испытание, вытягивающее горячие, потрепанные сердца в исполненную боли линию, бесконечную, словно пустыня, — и простую, словно пустыня. Слабое биение сердца сплеталось с Каратаем, с угасающей яростью пульсировало в утекающей, изголодавшейся по воде крови.
Люди умирали тысячами, хватая ртом раскаленный воздух — каждый следующий вдох давался все тяжелее, — втягивали сквозь обугленное горло последние мгновения мучительной, призрачной жизни. Жара, подобная прохладному ветру. Черные пальцы, судорожно скребущие палящий песок. Застывшие, восковые глаза, устремленные на слепящее солнце.
Скулящее безмолвие и беспредельное одиночество.
Эсменет брела рядом с Келлхусом, волоча по песку ноги, которых уже не чувствовала. Над головой пронзительно вопило солнце, и Эсменет давно перестала задумываться, каким образом свет может производить звук.
Келлхус нес Серве на руках, и Эсменет казалось, что никогда еще она не была свидетелем чего-либо столь же победоносного.
Потом он остановился, глядя в темную даль.
Эсменет покачнулась, и причитающее солнце завертелось над ней, но Келлхус оказался рядом и поддержал ее. Эсменет попыталась облизать пересохшие губы, но язык слишком распух. Она посмотрела на Келлхуса, и он улыбнулся, невероятно сильный…
Он откинулся назад и крикнул туманным клубам далекой зелени и изгибам сверкающей на солнце реки. И слова его разнеслись до самого горизонта:
— Отец! Мы пришли, отец!
4111 год Бивня, начало осени, Иотия
Сердитый взгляд Ксинема заставил его умолкнуть, и трое мужчин отступили в темную пещерку, туда, где стена вплотную подходила к одной из построек отгороженного района. Труп воина-раба они уволокли с собой.
— Я всегда думал, что эти ублюдки — народ крепкий, — прошептал Кровавый Дин; глаза его все еще были безумны после убийства.
— Так оно и есть, — негромко отозвался Ксинем. Он осмотрел полутемный внутренний двор — хитроумная коробка, состоящая из открытых пространств, глухих стен и изукрашенных фасадов. — Багряные Шпили покупают своих джаврегов в Шранчьих Ямах. Они и вправду народ крепкий, и тебе лучше об этом не забывать.
Зенкаппа самодовольно ухмыльнулся в темноте и добавил:
— Тебе повезло, Дин.
— Клянусь яйцами Пророка! — прошипел Кровавый Дин. — Да я…
— Тс-с-с! — шикнул на них Ксинем.
Он знал, что и Дин, и Зенкаппа — люди хорошие, сильные, но их готовили сражаться на поле битвы, а не красться по темным закоулкам. И Ксинема задевало то, что они, похоже, неспособны были осознать важность стоящей перед ними задачи. Он понял, что жизнь Ахкеймиона ничего не значит для них. Для них он колдун, мерзость. Маршалу казалось, что после исчезновения Ахкеймиона они облегченно перевели дух. Богохульникам не место в компании благочестивых людей.
Но если Дин с Зенкаппой и не прониклись важностью задачи, то прекрасно понимали, с какой смертельной опасностью она сопряжена. Красться, подобно ворам, мимо толп вооруженных людей — то еще развлечение, но пробираться среди Багряных Шпилей…
Ксинем знал, что оба они напуганы — отсюда и вымученный юмор, и пустая бравада.
Ксинем указал на ближайшее здание, стоящее на другой стороне двора. Его нижний этаж представлял собой длинную колоннаду, обрамляющую черноту внутренних помещений.
— Вон те заброшенные конюшни, — сказал он. — Если нам хоть немного повезет, там есть проход в казармы.
— Пустые казармы, я надеюсь, — прошептал Дин, изучая темные силуэты зданий.
— На вид — пустые.
«Я спасу тебя, Ахкеймион… Я исправлю то, что натворил».
Багряные Шпили обосновались в просторной, укрепленной резиденции, относящейся, судя по виду, ко временам Кенейской империи, — как предположил Ксинем, некогда здесь располагался дворец давно почившего кенейского губернатора. Они наблюдали за резиденцией больше двух недель, пережидая, пока огромные вереницы вооруженных людей, повозок с припасами и рабов, несущих паланкины, вытекут из узких ворот на запутанные улочки Иотии, чтобы присоединиться к войску, двинувшемуся через Кхемему. Ксинем не знал, сколько точно людей у Багряных Шпилей, но полагал, что их многие тысячи. Это означало, что сама резиденция должна состоять из бесчисленных казарм, кухонь, кладовых, жилых помещений и официальных покоев. Получалось, что, когда основная масса школы отправится на юг, немногим оставшимся трудно будет воспрепятствовать проникновению незваных гостей.
Это было хорошо… Если, конечно, Ахкеймиона и в самом деле держали здесь.
Багряные Шпили не посмели бы взять колдуна с собой. В этом Ксинем был уверен. Дорога — не лучшее место для разбирательств с адептом Завета, особенно когда приходится путешествовать вместе с его учениками. И уже один тот факт, что Багряные Шпили оставили здесь группу людей, означал, что у школы имеется в Иотии неоконченное дело. И Ксинем готов был побиться об заклад, что Ахкеймион и есть это дело.
Если же его здесь нет, тогда, скорее всего, он мертв.
«Он здесь! Я чувствую!»
Когда троица добралась до внутренних помещений конюшен, Ксинем вцепился в болтающуюся на шее Безделушку так, словно она была более свята, чем висящий рядом маленький золотой Бивень. Слезы Господни. Их единственная надежда в споре с колдунами. Ксинем получил в наследство от отца три Безделушки и поэтому сейчас взял с собой только Динхаза и Зенкаппу. Три Безделушки для трех человек, чтобы пробраться в логово богохульников. Но Ксинем молился, чтобы хоры им не пригодились. Невзирая на все их грехи, колдуны тоже люди, а людям свойственно время от времени спать.
— Зажмите их в кулаке, — приказал Ксинем. — Запомните: они должны соприкасаться с кожей. Что бы вы ни делали, не выпускайте их… Это место наверняка защищено оберегами, и если Безделушка хоть на миг перестанет касаться кожи, то нам конец…
Он сорвал свою хору с шеи, и тяжесть ее холодного железа принесла ему успокоение.
Стойла не были вычищены, и в конюшне воняло засохшим лошадиным навозом и соломой. Немного побродив в темноте, они наткнулись на проход, ведущий в заброшенные казармы.
А потом началось кошмарное путешествие через лабиринт. Резиденция и вправду оказалась огромной. Ксинем ощутил облегчение при виде множества пустых комнат и в то же время начал терять надежду отыскать Ахкеймиона. Пару раз они слышали в отдалении голоса — разговор велся по-айнонски, — и им приходилось то забиваться в тень, то прятаться за непривычную кианскую мебель. Они проходили через пыльные залы для аудиенций, достаточно освещенные луной, чтобы разглядеть грандиозные фрески с геометрическими узорами. Они тайком пробирались через кухни и слышали во влажной тьме храп рабов. Они крались по лестницам и коридорам, вдоль которых протянулись жилые помещения. Каждая дверь открывалась словно в пропасть: за ней мог находиться либо Ахкеймион, либо верная смерть. Каждый миг, каждый вздох казался частью невозможной, невыносимой игры.
И повсюду им мерещились призраки Багряных магов, ведущих таинственные совещания, вызывающих демонов или изучающих богохульные трактаты в тех самых комнатах, мимо которых они проскальзывали.
Где же его держат?
Через некоторое время Ксинем осмелел. Уж не так ли себя чувствует вор или крыса, когда крадется по самому краю, на грани видимости, никем не замеченный? В том, чтобы пробираться невидимым в самом логове своего врага, было приятное возбуждение и, как ни странно, успокоение. Внезапно Ксинем почувствовал прилив уверенности.
«Мы сделаем это! Мы спасем его!»
— Надо проверить подвалы… — прошипел Дин. Его сероватое лицо блестело от пота, а седая широкая борода спуталась. — Они же наверняка должны были засунуть его в такое место, откуда крики не донесутся до посетителей.
Ксинем скривился, одновременно и от того, как громко прозвучал голос его старого майордома, и от истины, заключенной в его словах. Ахкеймиона мучают, и мучают уже давно… Эта мысль была невыносима.
«Акка…»
Они вернулись к каменной лестнице, мимо которой проходили, и спустились в непроглядную тьму.
— Нам нужен свет! — заявил Зенкаппа. — Иначе мы внизу даже собственных рук не отыщем!
Спотыкаясь, они стали пробираться по застеленному ковром коридору, держась как можно ближе друг к другу. Ксинема охватило отчаяние. Безнадежная затея!
Но затем они увидели свет и небольшое освещенное пространство…
Коридор, в котором они очутились, был узким, с низким скругленным потолком — теперь они это разглядели, — и очень длинным, как будто тянулся под большей частью резиденции.
И по нему шел колдун.
Он был худым, облаченным в просторное одеяние из багряного шелка, с широкими рукавами, расшитыми золотыми цаплями. Отчетливее всего было видно его лицо, поскольку оно купалось в невозможном свете. Морщинистые щеки тонули в гладких, лоснящихся завитках бороды, заплетенной во множество косичек; в выпученных глазах отражался язычок пламени, висевший в воздухе неподалеку от колдуна.
Ксинем услышал, как Дин выдохнул сквозь стиснутые зубы.
Призрачный свет замер посреди коридора, как будто колдун натолкнулся на непривычный запах. Лицо старика на миг нахмурилось, и он уставился в темноту — на них. Все трое застыли, словно соляные столпы. Три удара сердца… Казалось, будто их ищут глаза самой смерти.
Потом хмурая гримаса колдуна снова сменилась скучающим выражением, и он свернул за угол; на краткий миг осветилась полоса каменной кладки и сбившийся ковер. А потом — темнота. Убежище.
— Сейен всемилостивый… — выдохнул Дин.
— Надо идти за ним, — прошептал Ксинем, постепенно успокаиваясь.
После того как они увидели это лицо и колдовской свет, каждый шаг для них звенел опасностью. Ксинем понимал: единственное, что заставляет Динхаза и Зенкаппу помогать ему, — это верность, превосходящая страх смерти. Но здесь, в подвале, в самом сердце цитадели Багряных Шпилей верность подвергалась такому испытанию, какому не подвергалась никогда прежде. Они не только ввязались в игру с этой откровенной нечестивостью — в ней не было вдобавок никаких правил, и этого, вкупе со страхом смерти, хватило бы, чтобы сломить любого человека.
По темному коридору им пришлось продвигаться на ощупь, касаясь пальцами известняковой стены. Так они добрались до тяжелой двери, из-за которой не выбивалось ни лучика света. Ксинем ухватился за железную щеколду и заколебался.
«Он рядом! Я уверен!»
Ксинем потянул дверь на себя.
Сквозняк, лизнувший разгоряченную кожу, свидетельствовал, что дверь вела в какое-то большое помещение, но тьма по-прежнему была непроницаемой, словно в чудовищной могиле.
Вытянув руку вперед, Ксинем сделал шаг во тьму, шепотом велев остальным следовать за ним.
Чей-то голос расколол тишину, заставив их сердца остановиться.
— Но этого не будет.
Затем — свет, слепящий, жаляще яркий, и замешательство. Ксинем выхватил меч.
Моргая и щурясь, он сфокусировал взгляд на фигурах, собравшихся вокруг него. Полукруг из дюжины джаврегов, под синекрасными накидками — полный доспех. У шестерых — взведенные арбалеты.
Ошеломленный Ксинем опустил отцовский меч; мысли его судорожно метались.
«Мы погибли…»
За джаврегами стояли три Багряных мага. Одного они уже видели раньше, второй был очень похож на первого, только борода выкрашена хной. И третий — Ксинем по одному наряду узнал в нем старшего.
По сравнению со своим багряным одеянием этот человек выглядел не то что бледным — он был попросту лишен пигмента. Судя по всему, наркоман, подсевший на чанв. Еще одна небольшая непристойность в дополнение ко всем прочим. Его талию опоясывал широкий синий кушак, а поверх — позолоченный пояс, спускающийся до самого паха под тяжестью подвески, болтающейся между бедер, — змеи, обвившиеся вокруг вороны.
Глаза с красными радужками изучали незваных гостей, полные болезненного веселья.
Он поцокал языком. Губы его были полупрозрачными, словно утонувшие черви.
«Что-то сделать! Я должен что-то сделать!» Но впервые в жизни Ксинем оказался парализован ужасом.
— Эти штуки, которые вы прихватили для защиты от нас… — сказал колдун-наркоман. — Безделушки. Видите ли, мы способны их чувствовать. Особенно когда они приближаются. Правда, это ощущение трудно описать… Смахивает на кусок мрамора, положенный на растянутую тонкую ткань. Чем больше мрамора, тем сильнее ткань провисает. — Полупрозрачные веки дрогнули. — Можно сказать, мы вас унюхали.
Ксинем заставил себя говорить вызывающе:
— Где Друз Ахкеймион?
— Неправильный вопрос, друг мой. Я бы на твоем месте спросил: «Что мне делать?»
Ксинем ощутил вспышку праведного гнева.
— Я тебя предупреждаю, колдун. Верни Ахкеймиона.
— Предупреждаешь? Меня?
Странный смех. Щеки колдуна затрепетали, словно жабры.
— Я думаю, лорд маршал, ты очень мало о чем можешь меня предупредить — разве что об ухудшении погоды. Твой принц идет сейчас через бескрайние просторы Кхемемы. Уверяю, ты здесь совершенно один.
— Но я по-прежнему исполняю его приказ.
— Нет, не исполняешь. Ты лишен титула и должности. Но ты, друг мой, в любом случае вторгся в чужие владения. Мы, колдуны, очень серьезно относимся к такому. А приказы принцев нас не волнуют.
Влажный, липкий страх. Ксинем почувствовал, как волосы у него на загривке встали дыбом. Дурацкая вышла ошибка.
«Но ведь план сам по себе был верен…»
Колдун улыбнулся.
— Вели своим вассалам бросить Безделушки. Конечно, ты тоже можешь бросить свою, лорд маршал… Осторожно.
Ксинем с опаской взглянул на взведенные арбалеты, на джаврегов с каменными лицами, держащих эти арбалеты, и почувствовал, что его жизнь висит на волоске.
— Быстро! — рявкнул маг.
Все три Безделушки плюхнулись на ковер, словно сливы.
— Отлично… Нам нравится коллекционировать хоры. Всегда приятно знать, где они находятся.
А потом колдун пробормотал нечто такое, от чего его красные глаза превратились в два солнца.
Удар жара швырнул Ксинема на колени. Он услышал пронзительный крик…
Пронзительные крики Дина и Зенкаппы.
Когда он обернулся, Дин уже упал — груда обугленных останков и слепящее белое пламя. Зенкаппа бился и продолжал кричать, заключенный в столб огня. Он сделал два шага по темному коридору и рухнул на пол. Предсмертный вопль стих, сменившись потрескиванием горящего жира.
Стоящий на коленях Ксинем смотрел на два костра. Сам того не осознавая, он заткнул уши.
«Мой путь…»
Сильные руки в латных перчатках схватили Ксинема, прижали, не позволяя подняться с колен. Его рывком развернули лицом к колдуну. Тот подошел очень близко, настолько близко, что маршал чувствовал запах айнонских благовоний.
— Наши люди сообщили, — произнес колдун тоном, намекающим на то, о чем вежливые люди не упоминают, — что ты лучший друг Ахкеймиона еще с тех времен, когда вы оба были наставниками Пройаса.
Ксинем только и мог, что смотреть на колдуна, словно человек, которому никак не удается проснуться и стряхнуть с себя кошмар. По его широким щекам ручьями текли слезы.
«Я снова подвел тебя, Акка».
— Видишь ли, лорд маршал, мы боимся, что Друз Ахкеймион лжет нам. Сперва мы посмотрим, насколько то, что он говорил тебе, соотносится с тем, что он говорит нам. А потом посмотрим, что он ценит больше, Гнозис или лучшего друга. Если для него знание дороже жизни и любви…
Колдун с полупрозрачным лицом умолк, как будто ему в голову внезапно пришла восхитительная мысль.
— Ты благочестивый человек, маршал. Ты уже знаешь, что значит быть инструментом истины, не так ли?
Да. Он это знал.
Быть инструментом истины — это означает страдать.
…Груды битого камня, угнездившиеся среди пепла.
Изувеченные стены, окруженные обломками, — беспорядочные линии на фоне ночного неба.
Трещины ветвятся, словно тянутся за ускользающим солнцем.
Разбитые колонны, залитые лунным светом.
Обожженный камень.
Библиотека давно умерших сареотов, разрушенная из-за алчности Багряных адептов.
Тишина, если не считать негромкого скребущего звука, как будто скучающий ребенок играет с ложкой.
Долго ли оно пряталось, словно крыса в норе, ползло по запутанным галереям, образованным нагромождениями цемента и камня? Мимо погребенных книг, почерневших и покоробившихся от огня, а однажды — мимо безжизненной человеческой руки. По крохотной шахте, где вместо руды — обломки знаний. Вверх, всегда только вверх, копая, пробираясь, проползая. Как долго? Дни? Недели?
Оно имело смутное представление о времени.
Оно проложило себе путь через изорванные страницы, придавленные массивными каменными плитами. Оно отодвинуло в сторону обломок кирпича размером с ладонь и подняло шелковое лицо к звездам. Потом принялось взбираться наверх и в конце концов затащило свое кукольное тельце на вершину руин.
Подняло маленький нож, размером не больше кошачьего языка.
Как будто хотело прикоснуться к Гвоздю Небес.
Кукла Вати, украденная у мертвой ведьмы в Сансори.
Кто-то произнес ее имя.
Глава 19. Энатпанея
«Да разве это месть? Допустить, чтобы он упокоился, когда я продолжаю страдать? Кровь не гасит ненависти, не смывает грехов. Подобно семени, она проливается по собственной воле и не оставляет после себя ничего, кроме печали».
Хэмишеза, «Король Темпирас»«…И мои солдаты, говорят они, творят идолов из собственных мечей. Но разве не меч приносит определенность? Разве не меч приносит простоту? Разве не меч добивается услуг от тех, кто стоит на коленях в его тени? Мне не нужно иного бога».
Триамис I, «Дневники и диалоги»4111 год Бивня, конец осени, Энатпанея
Первым, что услышал Пройас, был шум ветра в листве. А затем он различил и вовсе невероятный звук — журчание воды. Звук жизни.
«Пустыня…»
Сон мгновенно слетел с него; глаза разрывались от боли, и Пройас сощурился, защищая их от солнца. Казалось, будто в голове у него раскаленный уголь. Принц попытался позвать Аглари, но получился лишь негромкий шепот. Губы саднило и жгло.
— Твой раб мертв.
Пройас начал что-то вспоминать… Чудовищная бойня в песках.
Он повернулся на голос и увидел рядом Найюра. Тот сидел на корточках и ковырялся в земле. Скюльвенд был без рубашки, и Пройас заметил обожженную до волдырей кожу на широких плечах и жгуче-красный цвет покрытых шрамами рук. Чувственные губы распухли и потрескались. За его спиной по глубокому руслу с журчанием бежал ручей. Вдали маячила живая зелень.
— Скюльвенд!
Найюр поднял голову, и Пройас впервые осознал его возраст: сеточка морщин вокруг снежно-голубых глаз, первая седина в черной гриве. Он вдруг понял, что варвар не намного моложе его отца.
— Что случилось? — прохрипел Пройас.
Скюльвенд вновь принялся что-то копать, обмотав руки кожей.
— Ты упал, — сказал он. — Там, в пустыне…
— Ты… Ты спас меня?
Найюр на миг замер, не поднимая головы. Потом продолжил работу.
Выйдя из горнила, они растеклись во все стороны, подобно разбойникам, — люди, выдержавшие испытание солнцем. Они обрушивались на селения и штурмовали воздвигнутые на склонах холмов форты и виллы северной Энатпанеи. Они сжигали все постройки. Они предавали мечу всех мужчин. Они резали пытавшихся спрятаться женщин и детей.
Здесь не было невиновных. Такова тайна, которую они вынесли из пустыни.
Все виновны.
Они двигались на юг, разрозненные отряды путников, пришедших с равнин смерти, чтобы терзать эту землю, как терзались они сами, чтобы причинять страдания, какие претерпели сами. Ужасы пустыни отражались в их страшных глазах. Жестокость сожженных земель была написана на их изможденных лицах. Мечи были их правосудием.
В Кхемему под знаменами Бивня вступило около трехсот тысяч человек, примерно три пятых из них — воины. А вышло всего около ста тысяч, из них почти все — воины. Несмотря на потери, из Великих Имен не умер никто, если не считать палатина Детнамми. И все же можно сказать, что смерть описывала над ними круги, каждый последующий — уже предыдущего, забирая сначала рабов и гражданскую обслугу, потом солдат из низших каст, и так далее. Жизнь превратилась в паек, выдаваемый в соответствии со статусом. Двести тысяч трупов отмечали путь Священного воинства от оазиса Субис до границы Энатпанеи. Двести тысяч мертвецов, дочерна сожженных солнцем…
На протяжении многих поколений кхиргви будут называть маршрут, которым они прошли, сака’илрайт, «Дорога черепов».
Дорога через пустыню превратила их души в ножи. И теперь Люди Бивня собирались отметить красным иную дорогу, такую же ужасную, но куда более яростную.
4111 год Бивня, конец осени, Иотия
Как давно они обрабатывают его?
Сколько мучений он вытерпел?
Но как бы они его ни пытали, при помощи грубых инструментов или тончайших колдовских уловок, его невозможно было сломать. Он кричал и кричал, срывая голос, пока не начинало казаться, что его вопли прилетают откуда-то издалека, что это доносимые ветром крики другого человека. Но он не сломался.
Это не имело ничего общего с силой. Ахкеймион не был сильным.
А вот Сесватха…
Сколько раз Ахкеймион переживал Стену пыток в Даглиаше? Сколько раз он вырывался из муки сна, плача от радости, от того, что руки его не скованы и в них не вогнаны гвозди? В том, что касалось пыток, Багряные Шпили были просто жалкими подмастерьями по сравнению с Консультом.
Нет. Ахкеймион не был сильным.
Чего Багряные маги не понимали, при всем их жестоком коварстве, так это того, что они обрабатывают двоих, а не одного. Ахкеймион висел нагим в цепях, и, когда голова его безвольно падала на грудь, он видел на мозаичном полу свою размытую тень. И какой бы острой ни была боль, тень оставалась твердой и бесстрастной. Она шептала ему, когда он выл или давился криком…
«Что бы они ни делали, я остаюсь нетронутой. Сердце великого дерева никогда не горит. Сердце великого дерева никогда не горит».
Два человека, колдун и его тень. Пытки, Напевы Подчинения, наркотики — все оказывалось безрезультатным, потому что им требовалось подчинить двоих, а один из них, Сесватха, находился за пределами нынешнего времени. При любых терзаниях, какими бы отвратительными они ни были, его тень шептала: «Но я страдал больше…»
Время шло, мучения сменялись мучениями, а потом этот приверженец чанва, Ийок, притащил какого-то человека и бросил его на колени перед самым Кругом Уробороса. На человеке не было ничего, кроме цепей, и руки его были скованы за спиной. Его устремленное к Ахкеймиону лицо, избитое и заросшее, словно бы смеялось и плакало одновременно.
— Акка! — выкрикнул незнакомец.
Губы его были испачканы в крови. Из уголков рта текла слюна.
— Акка, умоляю! Умоляю, скажи им!
В нем что-то было, что-то раздражающе знакомое…
— Мы исчерпали традиционные методы, — сказал Ийок. — Я подозревал, что так оно и будет. Ты доказал, что не менее упорен, чем твои предшественники.
Взгляд красных глаз метнулся к незнакомцу.
— Пришла пора ступить на новую почву…
— Я больше не могу, — всхлипнул человек. — Больше не могу…
Глава шпионов с притворным состраданием поджал бескровные губы.
— Знаешь, он ведь явился сюда, пытаясь спасти тебя.
Ахкеймион пригляделся к человеку.
«Нет».
Этого не может быть. Он не должен допустить этого.
— Поэтому вопрос следующий, — продолжал Ийок, — насколько далеко простирается твое безразличие? Справится ли оно с мучениями тех, кого ты любишь?
«Нет!»
— Я обнаружил, что драматические жесты наиболее эффективны вначале, пока субъект еще не сделался равнодушен ко всему… Потому, я думаю, мы начнем с выкалывания глаз.
Он нарисовал в воздухе круг указательным пальцем. Один из солдат-рабов, стоящих за спиной у Ксинема, ухватил его за волосы и рывком запрокинул голову, а потом занес сверкающий нож.
Ийок взглянул на Ахкеймиона, потом кивнул джаврегу. Тот ударил — почти осторожно, как будто ему нужно было нанизать на острие сливу, лежащую на блюде.
Ксинем пронзительно закричал. Полированная сталь вошла в глазницу.
Ахкеймион задохнулся от невероятности происходящего. Такое знакомое и такое дорогое лицо, тысячи раз дружески хмурившееся или печально улыбавшееся ему — и вот теперь, теперь…
Джаврег занес нож.
— Ксин!!! — хрипло крикнул Ахкеймион.
Но его тень прошептала:
«Я не знаю этого человека».
Тут заговорил Ийок.
— Ахкеймион. Ахкеймион! Выслушай меня внимательно, как чародей чародея. Мы оба знаем, что ты не выйдешь отсюда живым. Но здесь твой друг, Крийатес Ксинем…
— Умоляю! — завыл маршал. — Умоля-а-а-а-ю!
— Я, — продолжал Ийок, — глава шпионов Багряных Шпилей. Не больше и не меньше. Я ничего не имею ни против тебя, ни против твоего друга. Мне не нужно ненавидеть тех, с кем я работаю. Если ты отдашь мне то, в чем нуждается моя школа, твой друг станет мне не нужен. Я прикажу, чтобы его расковали и отпустили. Я даю тебе слово мага…
Ахкеймион верил ему и отдал бы все, если бы мог. Но из его глаз смотрел колдун, умерший две тысячи лет назад, и он следил за происходящим с ужасающей бесстрастностью…
Ийок наблюдал за Ахкеймионом; его тонкая кожа влажно поблескивала в неверном свете. Он зашипел и покачал головой.
— Какое фанатичное упрямство! Какая сила!
Облаченный в красное колдун повернулся и кивнул рабу-солдату, держащему Ксинема.
— Не-е-ет! — провыл жалобный голос.
Незнакомец забился в агонии, пачкая себя.
«Я не знаю этого человека».
…Безымянный рыжий кот застыл, припал к земле и навострил уши, не сводя глаз с засыпанной битым камнем улочки. Что-то кралось в тени, медленно, словно ящерица в холодное время… Внезапно непонятное существо метнулось через освещенное солнцем пыльное пространство. Кот прыгнул.
Вот уже пять лет он шлялся по трущобам Иотии, питался мышами, охотился на крыс и изредка, когда выпадал такой случай, подъедал оставленные людьми объедки. Однажды он даже сожрал труп сородича-кота, которого мальчишки сбросили с крыши.
А с недавних пор привык обедать мертвыми людьми.
Каждый день рыжий кот с величием, присущим его породе, рыскал, бежал, крался по одному и тому же маршруту. По улочкам за Агнотумским рынком, где крысы выискивали отбросы, вдоль разрушенной стены, где сухая трава приманивала мышей, мимо трактиров на Паннасе, через руины храма, а потом через запутанные щели между готовыми развалиться кенейскими домами, где какой-нибудь ребенок мог почесать его за ухом.
И с некоторых пор на этом маршруте стали попадаться мертвые люди.
А теперь — вот это существо…
Прячась за обломками, рыжий кот прокрался к затененному уголку, где исчезло непонятное существо. Он не был голоден. Ему просто хотелось посмотреть, что это такое.
А кроме того, он соскучился по вкусу живой, истекающей кровью добычи…
Сгорбившись у обожженной кирпичной стены, кот высунул голову из-за угла. Он неподвижно застыл, впитывая шепот мира своими усами…
Ни биения сердца, ни пронзительного крысиного писка, который способен был слышать он один.
Но что-то двигалось…
Кот прыгнул на неясный силуэт, выпустив когти. Он сбил фигурку с ног, всадив когти ей в спину, а зубы — в мягкую ткань горла. Вкус был неправильный. Запах был неправильный. Кот ощутил первый режущий удар, за ним — другой. Он рванул горло, стремясь добраться до мяса, до великолепного потока живой крови.
Но там ничего не было.
Еще один порез.
Рыжий кот отпустил существо и попытался убраться прочь, но его задние лапы подломились. Кот взвыл, скребя когтями по булыжникам.
Руки куклы сомкнулись на горле кота.
Вкус крови.
4111 год Бивня, конец осени, Карасканд
Расположенный на великом пути, связывающем народы юга Каратая с Шайгеком и Нансуром, Карасканд издревле занимал важное стратегическое положение. Все те товары, которые торговцы боялись доверить своенравным морям, — зеумские шелка, корица, перец и великолепные гобелены Нильнамеша, галеотские шерстяные ткани и прекрасное нансурское вино — все это проходило через базары Карасканда, и так было на протяжении тысячелетий.
Карасканд, бывший во времена Древней династии шайгекским аванпостом, вырос за прошедшие столетия и в краткие промежутки между владычеством великих народов правил собственной небольшой империей. Энатпанея — гористая страна, и лето здесь засушливое, как в Каратае, а зима — дождливая, как в Эумарне. Карасканд стоял посреди Энатпанеи, раскинувшись на девяти холмах. Его могучие стены возвели при Триамисе I, величайшем из кенейских аспект-императоров. Огромные рынки устроил император Боксариас в те времена, когда Карасканд считался едва ли не богатейшей провинцией Кенейской империи. Подернутые дымкой башни и вместительные казармы Цитадели Пса, которую было видно с любого из девяти городских холмов, построили при воинственном Ксатании, нансурском императоре, использовавшем Карасканд в качестве временной столицы в ходе бесконечных войн с Нильнамешем. А великолепный беломраморный дворец сапатишаха на Коленопреклоненном холме воздвигли при Ферокаре I, самом яростном и самом благочестивом из падираджей древнего Киана.
Хоть Карасканд и находился на положении данника, это был великий город, способный поспорить с Момемном, Ненсифоном и даже Каритусалем.
Гордые города не сдаются.
Невзирая на официальные заверения падиражди, Священное воинство сумело выжить в Кхемеме. Люди Бивня больше не были пугающими слухами, доходящими с севера. За их приближением следили по столбам дыма, встающим у северного края горизонта. Беженцы толпились у ворот, рассказывая о бойне, которую учиняли бесчеловечные айнрити. Священное воинство, говорили они, это гнев Единого Бога, пославшего идолопоклонников, дабы покарать нас за грехи.
Карасканд охватила паника, и даже заверения их знаменитого сапатишаха, Имбейяна Всепобеждающего, не могли успокоить город. Разве не Имбейян бежал от Анвурата, словно побитая собака? Разве не идолопоклонники перебили три четверти грандов Энатпанеи? Необычные имена передавались из уст в уста. Саубон, белокурый зверь из варварского Галеота, — от одного его взгляда с людьми приключается медвежья болезнь. Конфас, великий тактик, сокрушивший силой своего гения даже скюльвендов. Атьеаури, человек-волк, рыскающий по холмам и похищающий всякую надежду. Багряные Шпили, мерзкие колдуны, от которых бежали даже кишаурим. И Келлхус, демон, идущий с ними в обличье лжепророка, подталкивающий их к безумным, чудовищным деяниям. Их имена повторяли часто, но с опаской, словно это был глас судьбы — как звон гонга, которым отмечали вечерние казни.
Но на улицах и базарах Карасканда не говорили о сдаче города. Мало кто из горожан обратился в бегство. Среди прочих крепло безмолвное соглашение: идолопоклонникам следует сопротивляться. Такова воля Единого Бога. От Божьего гнева не убежишь — ведь дитя не убежит от карающей руки отца.
Принять кару — это деяние веры.
Горожане заполняли огромные храмы. Они плакали и молились, за себя, за свое имущество, за свой город.
Священное воинство приближалось…
4111 год Бивня, конец осени, Иотия
Они на некоторое время оставили его в молельне, подвешенным на цепях и медленно задыхающимся. Огонь в треножниках угас, превратившись в груды тлеющих углей, и теперь границы тьмы очерчивали смутно различимые стены из оранжевого камня. Ахкеймион не осознавал присутствия Ийока, пока приверженец чанва не подал голос.
— Тебе, конечно же, любопытно узнать, как поживает Священное воинство.
Ахкеймион даже не поднял голову.
— Любопытно? — прохрипел он.
Белокожий колдун был для него не более чем голосом, доносящимся издалека.
— Похоже, падираджа — очень коварный человек. Он составил план, распространяющийся далеко за пределы битвы при Анвурате. Видишь ли, это — признак интеллекта. Способность учитывать в планировании и то, что противоречит твоим чаяниям. Он понимал: чтобы продолжить продвижение к Шайме, Священному воинству придется преодолеть Кхемему.
Короткий кашель.
— Да… Я знаю.
— Ну так вот, еще когда Священное воинство осаждало Хиннерет, встал вопрос, почему падираджа отказался от войны на море. Нельзя сказать, чтобы кианский флот правил Менеанором, но все-таки. Этот же вопрос встал, когда мы взяли Шайгек, но снова был забыт. Дескать, Каскамандри решил, что его флоту с нашим не тягаться. А почему бы, собственно, ему так не решить? Изо всех побед, одержанных Кианом в войнах с Нансурской империей за многие столетия, мало какие были морскими… И это навело вас на ложное предположение.
— Что ты имеешь в виду?
— Священное воинство решило идти через Кхемему, используя имперский флот для подвоза воды. Как только Священное воинство зашло в пустыню достаточно далеко, чтобы у него не было возможности повернуть обратно, кианский флот обрушился на нансурский.
Ийок усмехнулся, язвительно и горько:
— Они использовали кишаурим.
Ахкеймион моргнул и увидел нансурские корабли, горящие в неистовом пламени Псухе. Внезапная вспышка беспокойства — он уже переступил те пределы, в которых живет страх, — заставила его поднять голову и взглянуть на Багряного адепта. Тот казался призраком на фоне мерцающих белых шелков.
— Священное воинство? — прохрипел Ахкеймион.
— Почти уничтожено. Бесчисленные трупы лежат в песках Кхемемы.
«Эсменет?» Ахкеймион давно уже не произносил ее имя даже в мыслях. Поначалу оно служило ему прибежищем, его звучание приносило ему облегчение — но после того, как они привели Ксинема и использовали его любовь как орудие пытки, Ахкеймион перестал думать о ней. Он отказался от всякой любви…
Ради более глубоких вещей.
— Похоже, — продолжал Ийок, — мои братья-адепты тоже жестоко пострадали. Нас отзывают отсюда.
Ахкеймион смотрел на него сверху вниз, не осознавая, что по его запавшим щекам текут слезы. Ийок внимательно наблюдал за ним, стоя у самого края проклятого Круга Уробороса.
— Что это означает? — проскрипел Ахкеймион.
«Эсменет. Любовь моя…»
— Это означает, что твои мучения завершены…
Ийок заколебался, но все-таки добавил:
— Друз Ахкеймион, я хочу, чтобы ты знал: я был против твоей поимки. Мне уже приходилось руководить допросами адептов Завета, и я знаю, что это занятие утомительное и бесполезное… И неприятное… прежде всего — неприятное.
Ахкеймион смотрел на него молча и равнодушно.
— Знаешь, — продолжал Ийок, — я не удивился, когда маршал Аттремпа подтвердил твою версию событий под Андиаминскими Высотами. Ты действительно веришь, что советник императора, Скеаос, был шпионом Консульта — ведь так?
Ахкеймион сглотнул, преодолевая боль.
— Я это знаю. А вскоре узнаете и вы.
— Возможно. Возможно… Но мой великий магистр решил, что это шпионы кишаурим. А легенды знанием не заменишь.
— Ты подменяешь то, чего боишься, тем, чего не знаешь, Ийок.
Ийок взглянул на него, сощурившись, словно от удивления, что настолько беспомощный, истерзанный человек все еще способен осмысленно говорить.
— Возможно. Но как бы то ни было, наше совместное времяпрепровождение завершилось. Мы готовимся присоединиться к нашим братьям, пересекшим Кхемему.
Ахкеймион кулем висел на цепях; мышцы окостенели от хранящейся в памяти мучительной боли. Он словно бы смотрел на стоящего перед ним чародея из трюма, изнутри потерпевшего крушение корабля его тела.
Ийоку начало становиться не по себе.
— Я знаю, что такие люди, как мы, не питают склонности к религии, — сказал он, — но я подумал, что могу позволить себе некую любезность. Через некоторое время в камеру спустится раб с Безделушкой и ножом. Безделушка — для тебя, а нож — для твоего друга. У тебя будет время приготовиться к путешествию.
Очень странные слова для Багряного адепта. Ахкеймион откуда-то знал, что это не очередная садистская игра.
— Ты скажешь об этом Ксинему?
Полупрозрачное лицо резко повернулось к нему, но потом как-то необъяснимо смягчилось.
— Полагаю, да, — сказал Ийок. — Он, по крайней мере, может надеяться на законное место в царстве мертвых…
Колдун развернулся и решительным шагом удалился во тьму. Дверь отворилась в освещенный коридор, и Ахкеймион разглядел профиль Ийока. На миг ему показалось, будто он смотрит на другого человека.
Ахкеймион подумал о покачивающейся груди, о коже, целующей кожу во время занятий любовью.
«Живи, милая Эсменет. Живи ради меня».
4111 год Бивня, конец осени, Карасканд
Распаленные своими злодеяниями, Люди Бивня собрались у стен Карасканда. Они бесчисленными вереницами спустились с высот и обнаружили, что их ярость остановлена могучими укреплениями. Крепостные валы протянулись по окружающим холмам — огромный каменный пояс цвета меди, поднимающийся и опускающийся вместе со склонами и теряющийся в дымке.
И, в отличие от стен великих городов Шайгека, эти стены, как обнаружили айнрити, оборонялись.
Айнрити воткнули в каменистую почву древки знамен. Вассалы, потерявшиеся за время скитаний в пустыне, отыскали своих лордов. Воины возводили самодельные палатки и шатры. Шрайские и культовые жрецы собирали верных и служили панихиды по бессчетным тысячам, которых поглотила пустыня. Был созван совет Великих и Малых Имен, и после долгого ритуала благодарения за спасение из Кхемемы они разработали план захвата Карасканда.
Нерсей Пройас встретился с Имбейяном. Встреча состоялась у ворот Слоновой Кости, прозванных так из-за того, что их огромная башня была построена не из красноватого камня энатпанейских каменоломен, а из белого известняка. Конрийский принц через переводчика предложил сапатишаху сдаться и пообещал жителям города жизнь, а свите Имбейяна — освобождение. Имбейян, облаченный в великолепное сине-желтое одеяние, расхохотался и ответил, что стены Карасканда довершат то, что начала пустыня.
По большей части стены Карасканда возносились над крутыми склонами и спускались на ровное место лишь на северо-востоке, там, где холмы сменялись пойменной долиной, плотно забитой полями и рощами и усеянной брошенными фермами и поместьями — равниной Тертаэ. Здесь айнрити разбили большой лагерь и стали готовиться к штурму ворот.
Саперы начали копать туннели. В горы были посланы люди с упряжками быков, валить лес для осадных машин. Верховые отправились патрулировать и грабить окрестности. Обожженные лица зажили. Изглоданные пустыней тела окрепли от тяжелой работы и обильной добычи, взятой в Энатпанее. Айнрити снова принялись распевать песни. Жрецы водили процессии вокруг стен Карасканда, метя землю перед собой пучками тростника и проклиная камень укреплений. Язычники улюлюкали со стен и швырялись в них чем попало, но жрецы не обращали на это внимания.
Впервые за несколько месяцев айнрити увидели облака, настоящие облака, клубящиеся на небе, словно взбитое молоко.
По ночам, когда айнрити собирались у своих костров, истории о бедах, перенесенных в Кхемеме, и о спасении из пустыни постепенно сменялись рассуждениями о Шайме. Карасканд часто упоминался в «Трактате», достаточно часто, чтобы этот город казался огромными вратами в Святую землю. Благословенная Амотеу, страна Последнего Пророка, была совсем рядом.
— После Карасканда, — говорили они, — мы очистим Шайме.
Шайме. При звуках святого имени воинство вновь исполнилось пыла.
Толпы собирались на склонах холмов, чтобы послушать проповеди Воина-Пророка. Многие верили, что это именно он спас Священное воинство в пустыне. Тысячи вырезали на руках знак Бивня и становились его заудуньяни. На совещаниях Великих и Малых Имен лорды Священного воинства с трепетом прислушивались к его советам. Князь Атритау присоединился к Священному воинству, не располагая никакой силой; теперь он командовал войском, не меньшим, чем у всех прочих.
Затем, когда Люди Бивня приготовились идти на приступ Карасканда, небеса потемнели и пошел дождь. Три сотни тидонцев погибли, смытые внезапным наводнением к югу от города. Десятки были убиты, когда рухнули проложенные саперами туннели. Сухие русла ручьев превратились в бурные потоки. Дождь все шел и шел. Пересохшая кожа начала гнить, а кольчуги приходилось постоянно трясти в бочках со щебенкой, чтобы очистить от ржавчины. Во многих местах земля сделалась мягкой и скользкой, как сгнившие груши, а когда айнрити попытались подтянуть к стенам огромные осадные башни, оказалось, что их невозможно сдвинуть с места.
Настало время зимних дождей.
Первым человеком, умершим от мора, был неизвестный кианский пленник. Его тело зарядили в катапульту и перебросили через городскую стену — как и всех, кто последовал за ним.
4111 год Бивня, конец осени, Иотия
Мамарадда решил, что первым убьет колдуна. Хотя сам он толком не знал причины, но идея убить колдуна вызывала у капитана джаврегов настоящее возбуждение. Ему даже в голову не приходило связать это с тем фактом, что его хозяева тоже были колдунами.
Он вошел в молельню быстрым шагом, сжимая и разжимая кулак с Безделушкой, которую дали ему хозяева. Колдун висел в дальнем конце комнаты, словно охотничья добыча; его избитое тело омывало оранжевое свечение стоящих вокруг треножников. Подойдя поближе, Мамарадда заметил, что колдун тихонько покачивается из стороны в сторону, словно от легкого сквозняка. Потом он услышал пронзительный скрип, как будто кто-то царапал железом по стеклу.
Джаврег остановился на полпути, под высокими сводами, инстинктивно приглядываясь к полу под колдуном — к черно-красным каллиграфическим знакам Круга Уробороса.
Он увидел что-то маленькое, припавшее к полу у края Круга… Кошка? Погадила и теперь закапывает? Джаврег сглотнул и прищурился. От быстрого царапанья у него заныло в ушах, как будто кто-то подпиливал ему зубы ржавым ножом. Что?
Он вдруг понял, что перед ним крохотный человечек. Крохотный человечек, который склонился над Кругом Уробороса и сцарапывает таинственные письмена…
Кукла?
Мамарадда зашипел от внезапного ужаса и схватился за нож.
Звук прекратился. Висящий колдун поднял бородатое лицо, и взгляд его блестящих глаз остановился на Мамарадде. Миг малодушного ужаса.
«Круг нарушен!»
А потом — тихое бормотание…
Изо рта и глаз колдуна хлынул солнечный свет.
Невозможный свет, изогнутый, словно клинки кхиргви, сомкнулся вокруг джаврега, как паучьи лапки. С мозаичного пола ударили гейзеры пыли и черепков. Казалось, будто сам воздух начал потрескивать.
Мамарадда вскинул руки и завыл, ослепленный неземным белым сиянием.
Но затем свет исчез, а он остался стоять — целый и невредимый…
Тут он вспомнил о зажатой в кулаке Безделушке. Мамарадда, щит-капитан джаврегов, расхохотался.
Треножники рухнули, словно от пинка. Ливень углей полетел Мамарадде в лицо. Несколько штук попали ему в рот, и зубы затрещали от жара. Джаврег выронил Безделушку и закричал, перекрывая бормотание…
Сердце взорвалось у него в груди. Огонь ринулся наружу. Мамарадда упал — уголь, обтянутый оболочкой кожи.
Возмездие шло по коридорам резиденции, словно бог.
Он пел свою песню со слепой животной яростью, отделяя стены от фундамента, швыряя крышу в небо, словно эти творения рук людских были сделаны из песка.
А когда он отыскал их, съежившихся под своими Аналогиями, он разорвал их обереги, как насильник — хлопчатобумажную юбку. Он избивал их светом, держал их визжащие тела, словно любопытные предметы, — так идиот смотрит на насекомое, мечущееся у него в руке.
Плясал водоворот смерти.
Он чувствовал, как они мечутся по коридорам, бесплодно пытаясь организовать хотя бы подобие сопротивления. Он знал, что крики боли и опаленный камень напоминают им о собственных деяниях. Их ужас был ужасом вины. Сверкающая смерть пришла, дабы покарать за прегрешения.
Паря над устланным коврами полом, окруженный шипящими оберегами, он сжег полуразрушенный коридор. Он наткнулся на отряд джаврегов. Игра окружающего его света превратила выпущенные арбалетные болты в пепел. А потом джавреги закричали, хватаясь за глаза, превратившиеся в горящие угли. Он прошел мимо них, оставив позади лишь размазанное по полу мясо и обгоревшие кости. Он наткнулся на разрыв в ткани бытия и знал, что новые джавреги, вооруженные Слезами Господними, ждут его приближения.
Он обрушил на них здание.
И он смеялся, говоря безумные слова, упиваясь разрушением. Вспышки огня разбились вдребезги об его защиту, и он повернулся, переполненный темной иронией, и сказал двум Багряным магам, атаковавшим его, сокровенные истины, губительные Абстракции, и мир вокруг них был разрушен до основания.
Он разорвал их хрупкие мистические защиты, поднял их над развалинами, как верещащие куклы, и швырнул на камни.
Сесватха освободился и шел путями настоящего, несущего на себе знаки древнего рока.
Он им покажет Гнозис!
Когда по фундаменту пробежала первая дрожь, Ийок подумал: «Мне следовало знать».
Следующая его мысль, как ни странно, была об Элеазаре.
«Я же ему говорил, что это добром не кончится».
Для завершения работы Элеазар оставил ему всего шестерых магов, из них только трое — колдуны высокого ранга, и две с половиной сотни джаврегов. Что еще хуже, они были рассеяны по территории комплекса. Возможно, когда-то Ийок и счел бы, что их достаточно для того, чтобы совладать с колдуном Завета, но после яростной схватки в Сареотской библиотеке он больше не был в этом уверен… Хотя они и готовились.
«Мы обречены».
За долгие годы жизни приверженец чанва сделал свои страсти такими же бесцветными, как и его кожа. То, что он испытывал сейчас, было скорее памятью о сильном чувстве, чем самим чувством. Памятью о страхе.
Но, однако же, надежда оставалась. У джаврегов имелось не менее дюжины Безделушек, и, более того, здесь находился он сам, Херамари Ийок.
Он, как и его братья, завидовал Завету из-за того, что они обладают Гнозисом, но, в отличие от них, не чувствовал ненависти. Скорее наоборот — Ийок уважал Завет. Он понимал гордость обладания тайным знанием.
Колдовство — не что иное, как огромный лабиринт, и тысячу лет Багряные Шпили составляли его карту, углубляясь, постоянно углубляясь, добывая знания, ужасные и гибельные. И хотя они так и не добрались до восхитительных границ Гнозиса, существовали определенные ответвления, определенные ходы, карта которых принадлежала им и никому другому. Ийок как раз и был адептом этих запретных ответвлений, постигающим Даймос.
Даймотическим колдуном.
Во время тайных совещаний они иногда задумывались: а что произойдет, если военные Напевы Древнего Севера столкнутся с Даймосом?
По коридорам разнеслись крики. Стены гудели от приближающихся взрывов. Ийок, даже в таких ужасных обстоятельствах оставшийся бледным и расчетливым, понял, что пришло время ответить на этот вопрос.
Он несколькими искусными, отработанными движениями начертил на мозаичном полу круги. Свет хлынул с бесцветных губ, когда Ийок забормотал Даймотические Напевы. К тому моменту, как шум усилился, он наконец-то завершил свою песню. Он посмел произнести имя кифранга.
— Анкариотис! Услышь меня!
Защищенный кругом символов, Ийок в изумлении уставился на полотнища света Того, Что Вовне. Он смотрел на корчащуюся гнусность. Пластины, подобные ножам, конечности, подобные железным колоннам…
— Это больно? — спросил он, перекрывая громоподобный вой существа.
«Что ты сделал, смертный?»
Анкариотис, ярость глубин, кифранг, вызванный из бездны.
— Я связал тебя!
«Твое искусство проклято! Ты что, не узнал того, кому будешь принадлежать целую вечность?»
Демон…
— Значит, такова моя судьба! — выкрикнул Ийок.
Джавреги скакали, словно горящие танцоры, кричали, спотыкались, метались по роскошным кианским коврам.
Ахкеймион шел среди них, нагой, избитый.
— Ийок!!! — прогремел он.
Пласты опадающей штукатурки вспыхнули в воздухе, столкнувшись с его оберегами.
— Ийок!!!
В воздухе висела пыль.
Он просто смахнул стены, преграждавшие ему путь. Он прошел через пустое пространство по рушащемуся полу. С грохотом упала кирпичная кладка потолка. Он вглядывался во вздымающиеся облака пыли.
И он был окутан ослепительным драконовым огнем.
Он со смехом обернулся к любителю чанва. Окруженный призрачными стенами, глава шпионов припал к плавающему обломку пола; его бледные губы трудились над стаккато песни… Хищные птицы ярче солнечного света ринулись на защиты Ахкеймиона. Снизу хлынул поток лавы, переливаясь через его обереги. Из четырех темных углов комнаты ударили молнии…
— Ты мне не противник, Ийок!
Он ударил миражом Киррои, обхватив обереги Багряного адепта геометрией света.
Потом он упал — на него налетел неистовствующий демон и взгромоздился на его обереги, молотя по ним огромными кулачищами.
При каждом ударе Ахкеймион кашлял кровью.
Он свалился на груду обломков, ударил Напевом Сотрясения Одаини и отшвырнул кифранга; тот улетел куда-то в темноту развалин. Ахкеймион огляделся, разыскивая Ийока. Краем глаза он заметил, как тот лезет в дыру в дальней стене. Он запел Гребень Веара, и тысяча лучей света метнулась вперед. Стена рухнула, изрешеченная бесчисленными дырами. Раскаленные добела нити веером разошлись по Иотии и ночному небу.
Он заставил себя подняться.
— Ийок!!!
Демон снова прыгнул на него, завывая и сверкая адским светом.
Ахкеймион обуглил его крокодиловую шкуру, изорвал в клочья его плоть, измолотил его слоновий череп увесистыми каменными дубинками, и сотня ран демона кровоточила огнем. Но он отказывался подыхать. Он выл непристойности, от которых крошился камень и земля покрывалась трещинами. Еще несколько этажей обрушилось, и теперь колдун и демон боролись в темных подвалах, и там становилось светло от их сверкающей ярости.
Колдун и демон.
Нечестивый кифранг, терзаемая душа, бьющаяся в агонии вселенной. Опутанный словами, как лев веревками, он стремился выполнить задачу, которая позволила бы ему освободиться.
Ахкеймион терпел его сверхъестественное буйство, добавляя рану за раной к его агонии.
И в конце концов демон рухнул под его песней, съежился, словно побитое животное, и растаял во тьме…
Нагой Ахкеймион брел через дымящиеся развалины — оболочка, оживленная целью. Спотыкаясь, он спустился по грудам обломков и сам поразился: неужто это он был катастрофой, разрушившей все вокруг? Он видел множество трупов тех, кого сжег и раздавил. Он сделал так, поддавшись ненависти, что внезапно всплыла в памяти.
Ночь была прохладной, и он наслаждался прикосновением воздуха к коже. Камень причинял боль босым ногам.
Ахкеймион безучастно прошел к уцелевшим постройкам, словно призрак, возвращающийся к месту, с которым его связывали яркие воспоминания. Не сразу, но он отыскал Ксинема; тот съежился среди собственных экскрементов и плакал, обхватив руками нагое тело. Некоторое время Ахкеймион просто сидел рядом с ним.
— Я не вижу! — стонал маршал. — Сейен милостивый, я не вижу!
Он нащупал щеки Ахкеймиона.
— Прости меня, Акка. Прости, пожалуйста…
Но Ахкеймион не мог вспомнить никаких слов, кроме тех, которые убивают.
Проклятых слов.
Когда они в конце концов выбрались из разрушенной резиденции Багряных Шпилей на улочки Иотии, потрясенные зрители — шайгекцы, вооруженные кератотики и немногочисленные айнрити, оставленные в гарнизоне города, — задохнулись от изумления и ужаса. Но они не посмели ни о чем их расспрашивать. Равно как и не посмели последовать за этими двумя людьми, когда те, ковыляя, скрылись в темноте.
Глава 20. Карасканд
«Чернь думает о Боге по аналогии с человеком и потому поклоняется Ему в облике богов. Люди ученые думают о Боге по аналогии с принципами и потому поклоняются ему в облике Любви или Истины. А мудрые о Боге вообще не думают. Они знают, что мысль, которая по природе своей конечна, это насилие по отношению к Богу, бесконечному по своей природе. Достаточно того, что Бог думает о них, — так они говорят».
Мемгова, «Книга Божественных деяний»«…Ибо грех идолопоклонника не в том, что он почитает камень, а в том, что он почитает один камень превыше всех остальных».
«Свидетельство Фана», книга 8, глава 9, стих 44111 год Бивня, начало зимы, Карасканд
Огромные осадные башни из бревен и шкур катились к западным стенам Карасканда; их волокли длинные упряжки заляпанных грязью волов и измотанные люди. Катапульты швыряли камни и горшки с кипящей смолой. Лучники айнрити держали стены под обстрелом. Язычники в ответ пускали тучи стрел с фланговых башен и с улиц под стенами. То и дело в плотных рядах айнрити кто-то вскрикивал и падал в грязь. Башни приближались с поскрипыванием. Люди на их верхних площадках сбились в кучи, прикрываясь щитами, и вглядывались в дым, ожидая сигнала.
Грохот прорезало пение трубы.
На стены со стуком упали сколоченные из бревен мостки. Закованные в железо рыцари хлынули вперед с криками: «Победа или смерть!» Размахивая огромными мечами, они прыгали на копья и сабли кианцев. Внизу, на земле, тысячи солдат ринулись на приступ, поднимая огромные лестницы с железными крючьями наверху. Сверху на них сыпались камни и трупы. Те, на кого попадало кипящее масло, с криками падали с перекладин. Но так или иначе, они поднялись до самого верха, забрались на парапеты и ринулись на фаним. Правоверные и язычники равно валились с высоты.
Нангаэльцам, анплеи и суровым гесиндальменам удалось захватить свои участки стены. Все больше и больше айнрити прыгали с осадных башен или взбирались на парапет, лишь на миг приостанавливаясь, чтобы в изумлении взглянуть на раскинувшийся внизу огромный город. Некоторые принялись штурмовать ближайшие крепостные башни. Другие вынуждены были прятаться за щитами, поскольку лучники фаним начали обстреливать их с соседних крыш. Стрелы проносились над головами, жужжа, словно стрекозы. Горшки с кипящей смолой разбивались среди скопления людей. Пострадавшие с пронзительными криками валились вниз, оставляя за собой узкие ленты дыма. Одна осадная башня рухнула, превратившись в огненную преисподнюю. От прочих валил такой густой дым, что десятки нангаэльских рыцарей попадали с мостков, — им пришлось бежать вслепую, не разбирая дороги, а сзади напирал поток тех, кто задыхался в дыму.
Затем из крепостных башен вышли Имбейян и его гранды. Люди вопили, рубили друг друга, дрались врукопашную.
Когда айнрити лишились осадных башен и оказались под шквальным обстрелом, поднимающиеся по лестницам уже не могли возместить потери. Казалось, будто за считаные мгновения каждый смог бы похвастаться десятком стрел, вонзившихся в его щит или доспех. Рыцарей, схватившихся с Имбейяном, оттеснили обратно под крики их сородичей. В конце концов граф Ийенгар, видя смертельное безрассудство в глазах своих людей, дал приказ отступать. Выжившие падали с лестниц. Мало кто добрался до земли живым.
За последующие недели айнрити еще дважды штурмовали стены Карасканда, и оба раза свирепость и искусство кианцев заставляли их отступить с ужасающими потерями.
Осада все тянулась, сопровождаемая дождями и мором.
Через несколько дней после того, как была выявлена болезнь, которую простолюдины называли «опустением», а знать — гемофлексией, лекари-жрецы оказались завалены сотнями жалоб на головную боль и озноб. Когда Хепма Скаралла, верховный жрец Аккеагни, Мора, сообщил Великим Именам, что слухи подтвердились и грозный бог действительно коснулся их своей гемофлектической Рукой, Священное воинство охватила паника. Даже после того, как Готиан пригрозил отлучить дезертиров от церкви, сотни людей бежали в холмы Энатпанеи — таков был страх, внушаемый гемофлексией.
Пока здоровые вели войну и умирали под стенами Карасканда, тысячи оставались в своих промокших, сделанных на скорую руку палатках, их рвало желчью, они горели в лихорадке и тряслись в ознобе. Через день-два глаза тускнели, и человека покидала всякая энергия, не считая вспышек лихорадочного бреда. Через четыре-пять дней кожа делалась бесцветной — как объясняли лекари-жрецы, это был след, оставленный Рукой Бога. По истечении первой недели лихорадка достигала пика и происходила следующая вспышка, лишавшая даже железных людей остатков сил. Затем больной либо выздоравливал, либо впадал в подобный смерти сон, от которого почти никто не пробуждался.
Лекари-жрецы организовали по всему лагерю лазареты для тех, кто остался без свиты или товарищей, за кем некому было присматривать. Выжившие жрицы Ятвера, Анагке, Онкисы и даже Гиерры, равно как и прочие прислужники Ста богов, ухаживали за лежачими больными. И сколько бы благовоний они ни жгли, вокруг невозможно было дышать от запаха смерти. Казалось, в лагере не осталось ни единого уголка, где не слышались бы возгласы бредящих и не чувствовалась бы вонь гемофлектического гниения. Она была такой, что многие Люди Бивня ходили по лагерю, обвязав лица тряпками, пропитанными мочой, — так было принято поступать у айнонов во время эпидемий.
Мор ширился, и Рука Бога не щадила никого, даже членов благословенных каст. Кумор, Пройас, Чеферамунни и Скайельт свалились в считаные дни, один за другим. Временами казалось, будто больных в лагере больше, чем здоровых. Шрайские жрецы ходили по раскисшим проулкам, от палатки к палатке, тяжело ступая по грязи, и проверяли, нет ли где умерших. Погребальные костры горели непрестанно. За одну горестную ночь умерло три сотни айнрити, и в их числе — Имрот, палатин Адерота.
А дожди все шли и шли, сгнивала парусина, пенька и надежда.
Затем вернулся граф Гаэнри, принеся с собой роковые вести.
Атьеаури, всегда отличавшийся нетерпением, покинул Карасканд в самом начале осады и принялся рыскать по Энатпанее со своими рыцарями и тысячей куригальдеров и агмундрменов, выделенных его дядей, принцем Саубоном. Он взял штурмом старинную кенейскую крепость Бокэ у западных границ Энатпанеи, обойдясь почти без потерь. Затем он переместился к югу, громя местных грандов, осмеливавшихся встать у него на пути, и устраивая налеты на северные границы Эумарны, где его рыцари воодушевились, увидев цветущий, плодородный край.
Некоторое время Атьеаури осаждал огромную крепость Мизарат, но отступил, когда до него дошли известия, что сам Кинганьехои вознамерился защищать ее. Он ускользнул от Тигра в заросшие кедрами ущелья гор Бетмулла, затем спустился в Ксераш, где разгромил небольшую армию Утгаранги, сапатишаха Ксераша. Сапатишах оказался уступчивым пленником, и Атьеаури — в обмен на пять сотен лошадей и некоторые сведения — отпустил его целым и невредимым обратно в его древнюю столицу, Героту, город, упоминаемый в «Трактате» под именем «Ксеротской блудницы». А затем он во весь опор помчался к Карасканду.
То, что он обнаружил, встревожило Атьеаури.
Он рассказал о своем путешествии тем Великим Именам, которые были достаточно здоровы, чтобы присутствовать на совете, а потом быстро перешел к сведениям, полученным от Утгаранги. По словам сапатишаха, сам падираджа, великий Каскамандри, выступил из Ненсифона с теми, кто уцелел при Анвурате, с грандами Чианадини — родины кианцев — и воинственными гиргашами, нильнамешскими фаним.
В ту ночь умер принц Скайельт, и к дождливому небу вознеслись жутковатые погребальные плачи тидонцев. На следующий день пришло известие, что умер Керджулла, тидонский граф Варнута, разбивший лагерь у стен соседнего города, Джокты. Вскоре после этого перестал дышать Сефератиндор, айнонский палатин Хиннанта. И, как утверждали жрецы-лекари, вскоре за ними должны были последовать Пройас и Чеферамунни…
Уцелевших предводителей Священного воинства обуял страх. Карасканд продолжал сопротивляться, Аккеагни испытывал их невзгодами и смертью, а сам падираджа шел на них с еще одним языческим воинством.
Они застряли вдалеке от дома, среди враждебных земель и нечестивых людей, и Бог отвернулся от них. Они впали в отчаяние.
А для таких людей вопрос «почему» рано или поздно сменяется вопросом «кто»…
Дождь барабанил по крыше шатра, наполняя мир влажным грохотом.
— Итак, — спросил Икурей Конфас, — чего же вы хотите, рыцарь-командор? — Он нахмурился. — Сарцелл, если не ошибаюсь?
Хотя Сарцелл часто сопровождал Готиана на советы, их с Конфасом никогда не представляли друг другу — во всяком случае, официально. Темные волосы рыцаря прилипли к черепу, и с них на лицо — в детстве, вероятно, очаровательное и проказливое — текла вода. Белый плащ был невероятно чистым, настолько, что Сарцелл казался анахронизмом, человеком из тех времен, когда Священное воинство еще стояло под Момемном. Всем прочим, включая Конфаса, приходилось носить либо лохмотья, либо одежду, отнятую у кианцев.
Шрайский рыцарь кивнул, продолжая неотрывно смотреть Конфасу в глаза.
— Просто поговорить о некоторых неприятных вещах, экзальт-генерал.
— Уверяю вас, рыцарь-командор, я обожаю неприятные новости, — усмехнулся Конфас и добавил: — Я, в некотором смысле, мазохист — вы разве не заметили?
Сарцелл обворожительно улыбнулся.
— Благодаря советам этот факт сделался более чем очевидным, экзальт-генерал.
Конфас никогда не доверял шрайским рыцарям. Слишком много набожности. Слишком много самоотречения. Конфасу всегда казалось, что самопожертвование — это даже не глупость, а сумасшествие.
Он пришел к такому выводу в юности, после того как осознал, насколько часто — и насколько радостно — люди вредят себе или даже губят себя во имя веры или сентиментальности. Как будто все прочие получают указания от голоса, которого он сам не слышал, — от голоса ниоткуда. Они совершали самоубийства, когда считали себя обесчещенными, продавали себя в рабство, чтобы прокормить детей. Они вели себя так, словно существовало нечто худшее, чем смерть или рабство, словно они не смогут жить, если с другими случится что-то плохое…
Как Конфас ни ломал голову, ему не удалось ни постичь, ни вообразить это чувство. Конечно же, существовал Бог, Писание и все тому подобное. Этот голос он мог понять. Угроза вечных мук могла послужить толчком для самого абсурдного самопожертвования. Этот голос исходит из какого-то определенного места. Но тот, другой…
Тот, кто слышал голоса, делался безумным. Достаточно было пройтись по любой базарной площади и послушать, как странники-богомольцы вопят «что? что?», дабы в этом убедиться. А еще тот, кто слышал голоса, мог превратиться в фанатика — как, скажем, шрайские рыцари.
— И что же вас беспокоит? — поинтересовался Конфас.
— Человек, которого они именуют Воином-Пророком.
— Князь Келлхус.
Он подался вперед, не вставая с походного кресла, и жестом предложил Сарцеллу сесть. Сквозь поднимающийся над курильницами дымок благовоний пробивался запах плесени. Дождь притих и теперь лишь шуршал по парусине шатра.
— Да… Князь Келлхус, — подтвердил Сарцелл, выжимая воду из волос.
— И что с ним такое?
— Мы знаем, что…
— Мы?
Шрайский рыцарь раздраженно прищурился. Конфасу подумалось, что, невзирая на благочестивую внешность, в его манере держаться видно нечто такое — возможно, некий оттенок тщеславия, — что вступало в противоречие с изображением Бивня, вышитым золотом у него на груди… Возможно, он недооценил этого Сарцелла.
«Возможно, он — здравомыслящий человек».
— Да, — продолжал рыцарь. — Я и некоторые мои братья…
— Но не Готиан?
Сарцелл состроил гримасу, которую Конфас истолковал как знак согласия.
— Нет, не Готиан. Во всяком случае, пока.
Конфас кивнул.
— Хорошо, продолжайте.
— Мы знаем, что вы пытались убить князя Келлхуса.
Экзальт-генерал фыркнул, изумленно и оскорбленно. Этот человек либо невероятно храбр, либо нестерпимо дерзок.
— Вот как? Знаете?
— Мы думаем, — поправился Сарцелл. — Как бы то ни было, существенно иное — чтобы вы поняли, что мы разделяем ваши чувства. Особенно после того безумия, что творилось в пустыне.
Конфас нахмурился. Он знал, что имеет в виду этот человек: князь Келлхус вышел из Каратая, располагая тысячами людей и всеобщим благоговением. Но Конфас не думал, что шрайский рыцарь станет говорить о знаках и знамениях, а не о силе.
Пустыня сама была безумием. Сперва Конфас тащился по пескам наравне со всеми, проклиная чертова идиота Сассотиана, которого назначил командовать имперским флотом, и обдумывал безумные планы, которые должны были помочь ему спастись. Затем, когда надежда, питавшая эти бесконечные и бесплодные размышления, выгорела, Конфаса начало терзать странное неверие. Перспектива смерти стала казаться чем-то таким, чему он потакает приличия ради, как тем глупым заверениям, которыми торговцы осыпают свои товары. «Да-да, вы непременно умрете! Я вам гарантирую!»
Затем, с приходом мрачного равнодушия, отличительного признака этого похода, — его сомнения переросли в уверенность. Конфаса охватило ощущение, которое можно было бы назвать интеллектуальным трепетом — трепетом, сопряженным с завершением жизни. Он понял, что никакой последней страницы не существует. Никакого последнего локтя свитка. Просто чернила иссякают, и все становится пустым и пустынно-белым.
«Итак, здесь, — думал он, оглядывая подернутые рябью барханы, — находится место, к которому я шел всю жизнь. Место, которое ждало меня, ждало с самого рождения…»
Но затем он наткнулся на него — на князя Келлхуса, добывающего воду из песчаных ям. Этот человек нашел выход, когда он, Икурей Конфас, умирал от жажды! Конфас обдумывал множество вариантов, но ему никогда не хватило бы безумия предположить, что его спасет человек, которого он пытался убить. Можно ли представить большее унижение? Большую нелепость?
Но тогда… Тогда его сердце пропустило удар — оно до сих пор трепетало при этом воспоминании, — и на мгновение Конфасу подумалось: а вдруг Мартем прав? Возможно, в этом человеке и вправду что-то есть. В этом Воине-Пророке.
Да уж. Пустыня была сущим безумием.
Конфас устремил на шрайского рыцаря оценивающий взгляд.
— Но он спас Священное воинство, — сказал принц. — Вашу жизнь… Мою жизнь…
Сарцелл кивнул.
— Верно. В этом, я бы сказал, и кроется проблема.
— Как так? — спросил Конфас, хотя прекрасно понимал, что именно хочет сказать Сарцелл.
Рыцарь-командор пожал плечами.
— До пустыни князь Келлхус был просто одним из фанатиков с некоторыми претензиями на Зрение. Но теперь… Особенно теперь, когда среди нас бродит Ужасный Бог…
Он вздохнул и подался вперед, сложив руки на коленях.
— Я боюсь за Священное воинство, экзальт-генерал. Мы боимся за Священное воинство. Половина наших братьев приветствует этого мошенника как нового Айнри Сейена, как нашего спасителя, а вторая половина открыто считает его проклятием, причиной наших бедствий.
— И почему вы рассказываете об этом мне? — мягко поинтересовался Конфас. — Почему вы пришли, рыцарь-командор?
Сарцелл криво усмехнулся.
— Потому что здесь будут массовые волнения, беспорядки, возможно, даже вооруженные столкновения. Нам нужен человек, у которого хватит искусности и власти предупредить или свести к минимуму подобные случайности, человек, который до сих пор может опереться на своих людей. Нам нужен человек, который сумеет сохранить Священное воинство.
— После того как вы убьете князя Келлхуса, — иронически произнес Конфас.
Он покачал головой, словно бы то, что слова собеседника не вызвали у него ни малейшего удивления, разочаровало его.
— Он теперь стоит отдельным лагерем, вместе со своими последователями, и они охраняют его, как сам Бивень. Говорят, будто в пустыне сотня из них отдала свою воду — свою жизнь! — ему и его женщинам. А теперь новая сотня заняла место его телохранителей. Каждый из них поклялся умереть за Воина-Пророка. Сам император не может похвалиться такой защитой! И вы все-таки думаете, что можете убить его.
Лениво опущенные веки. Конфас вдруг подумал — нелепость какая! — что у Сарцелла есть красавицы-сестры.
— Я не думаю, экзальт-генерал… Я знаю.
Крик Серве походил на крик животного, нечто среднее между рычанием и воем. Эсменет склонилась над ней, гладя девушку по мокрым от пота волосам. Дождь стучал по провисшему потолку их самодельного шатра, и то здесь, то там в полумраке поблескивали струйки воды, стекающие на плетеные циновки. Эсменет казалось, будто они сидят в глубине освещенной пещеры, окруженные заплесневелыми тряпками и гниющим тростником.
Приглашенная Келлхусом кианская женщина ворковала на языке, который, похоже, понимал только князь. Но Эсменет поймала себя на том, что гортанный голос язычницы действует на нее успокаивающе. Она сознавала, что в той ситуации, в которой они оказались, разница в языке и вере уже не имеет значения.
Серве вот-вот должна была родить.
Повитуха сидела между раздвинутыми ногами Серве, Эсменет стояла на коленях в изголовье, а Келлхус возвышался над всеми, и лицо его было внимательным, мудрым и печальным. Эсменет обеспокоенно взглянула на него. «Все будет так, как должно», — сказали его глаза. Но его улыбка все-таки не прогнала ее опасений.
«Это нечто большее, — напомнила себе Эсменет. — Большее, чем я».
Сколько времени прошло с тех пор, как Ахкеймион покинул ее?
Возможно, не так уж много, но теперь между ними лежала пустыня.
Казалось, что на свете нет пути длиннее. Каратай насиловал ее, неловко возясь с поясом и застежками, запуская мозолистые руки под одежду, царапая отполированными ногтями ее грудь и бедра. Он содрал с нее прошлое, до самой кожи, до мозга костей. Он разбросал ее по пескам, словно морские ракушки.
Он отдал ее Келлхусу.
Сперва Эсменет вообще почти не замечала пустыни. Она была слишком опьянена радостью. Когда Келлхус шел вместе с ней и Серве, Эсменет смеялась и разговаривала, много и охотно, как всегда, но теперь это почему-то казалось притворством, способом замаскировать ту дивную близость, которую они теперь делили. Она думала, что позабыла таинство любви, ведь проституция вывела наготу и совокупление за пределы интимности. Но нет. Занятия любовью с Келлхусом — и Серве — превратили бесстыдство в скромность. Эсменет чувствовала себя сокрытой. Она чувствовала себя цельной.
Когда Келлхус шел со своими заудуньяни, они с Серве брели, взявшись за руки, и говорили обо всем на свете, пока разговор снова не возвращался к нему. Они хихикали и краснели и шутили, замышляя удовольствие. Они сознавались друг другу в обидах и страхах, зная, что ложе, которое они делят, не терпит обмана. Они мечтали о дворцах, о толпах рабов. Они, словно подростки, хвастались, что короли будут целовать землю у их ног.
Но все то время она шла не столько через Каратай, сколько мимо него. Барханы, словно переплетенные загорелые тела в гареме. Равнины, раскаленные солнцем. Пустыня казалась не более чем подобающим фоном для ее любви и возвышения Воина-Пророка. Лишь после того, как вода стала заканчиваться, после того, как перебили рабов и гражданскую прислугу… Лишь после этого Эсменет по-настоящему вступила в Великую жажду.
Прошлое осыпалось, а будущее испарилось. Казалось, будто каждый удар сердца дается с трудом. Эсменет помнила накапливающиеся знаки смерти, упадок сил — как будто ее тело было свечой, разделенной черточками на промежутки. Светом, при котором читают. Она помнила, как с изумлением смотрела на Серве, которая превратилась в незнакомку на руках у Келлхуса. Она помнила, как удивлялась незнакомке в собственном теле.
В Каратае ничего не росло. Все скиталось, лишенное корней и источников. Смерть деревьев. Вот в чем тайна пустыни.
Потом Келлхус попросил ее отказаться от воды.
«Серве. Она потеряет ребенка».
Его ясные глаза напомнили ей, кто она такая. Эсменет. Она достала свой бурдюк и недрогнувшей рукой протянула ему. Она смотрела, как он вливает ее жизнь в рот незнакомой женщине. А потом, когда последние капли протянулись, словно струйка слюны, она поняла — постигла — с безжалостной ясностью солнца: «Это больше меня».
Келлхус бросил ее бурдюк.
«Ты первая», — сказали его глаза, и его взгляд был подобен воде — подобен жизни.
Эсменет обожгла ноги об гравий. Ее волосы слиплись от пыли. Ее губы потрескались от солнца. При каждом вздохе ей казалось, будто в груди и горле у нее горящая шерсть. А потом, вопреки ожиданию смерти, они пришли в прекрасный зеленый край. В Энатпанею. Спотыкаясь, они спустились в речную долину, в тень странных ив. Пока Серве спала, Келлхус раздел Эсменет и отнес ее к прозрачным водам. Он искупал ее, смыл барханную пыль с ее кожи.
«Ты моя жена, — сказал он. — Ты, Эсми…»
Эсменет моргнула, и солнце заиграло на ее слипшихся от воды ресницах.
«Мы перешли пустыню», — сказал он.
«И я, — подумала Эсменет, — твоя жена».
Келлхус рассмеялся, прикоснулся к ее лицу — словно бы смущенно, — а она поймала и поцеловала его окруженную сиянием руку… С соломенных завитков его волос стекала вода, а борода сделалась коричневой — цвета засохшей крови.
Келлхус построил для Серве шалаш из камней и веток. Он наловил силками кроликов, накопал клубней и развел костер. Некоторое время казалось, будто в живых остались лишь они — не только из всего Священного воинства, а из всего человечества. Одни они разговаривали. Одни они смотрели и понимали, что они видели. Одни они занимались любовью, одни во всех землях, во всем свете. Казалось, будто все страсти, все знание находится здесь, звеня в одной предпоследней ноте. Это чувство невозможно ни объяснить, ни постичь. Это не похоже на цветок. Это не похоже на беззаботный детский смех.
Они стали мерой всего…
Абсолютной.
Безусловной.
Когда они занимались любовью в реке, казалось, будто они освящают море. «Ты, Эсменет, моя жена». Пылая, погрузиться в чистые воды — друг в друга… Скрепляющая боль.
Пустыня изменила все.
— Ке-еллхус! — выдохнула в промежутке между схватками Серве. — Келлхус, я боюсь!
Она застонала и выкрикнула:
— Что-то не так! Что-то не так!
Келлхус обменялся несколькими словами с кианской матроной, обмывавшей внутреннюю сторону бедер Серве горячей водой, кивнул и улыбнулся. Он взглянул на Эсменет, потом опустился на колени рядом с рожавшей женщиной и взял ее лицо в ладони. Серве схватила его за руку и прижалась к ней сведенным судорогой ртом; ее светлые брови были испуганно сдвинуты, а глаза смотрели с мольбой.
— Ке-еллхус!
— Все идет так, как должно, — сказал он.
Глаза его сияли благоговением.
— Ты! — воскликнула Серве, хватая воздух ртом. — Ты!
Келлхус кивнул, как будто услышал куда больше, чем это короткое загадочное слово. Улыбнувшись, он подушечкой большого пальца стер слезы с ее щеки.
— Я, — прошептал он.
Эсменет показалось, будто она смотрит на себя со стороны. У нее перехватило дыхание. Да и как могло быть иначе? Она стояла на коленях рядом с ним, Воином-Пророком, над женщиной, дающей жизнь его первому ребенку…
У мира свои обычаи. Иногда события могут доставлять удовольствие, иногда — причинять страдания, а иногда — просто разносить человека в щепки, но каким-то образом они всегда вливаются в монотонность ожидаемого. Так много неясных происшествий! Так много моментов, не излучающих света, не обозначающих никакого поворота, вообще ни о чем не говорящих. Всю жизнь Эсменет чувствовала себя ребенком, которого ведет за руку чужой человек, проводит через толпу и направляется куда-то, куда, как она понимает, ей идти не следует, но ребенку слишком страшно, чтобы сопротивляться или задавать вопросы.
«Куда ты меня ведешь?»
Эсменет никогда не смела спросить об этом, и не потому, что боялась ответа. Она боялась того, во что этот ответ превратит ее жизнь.
«Никуда. Ни к чему хорошему».
Но теперь, после пустыни, после вод Энатпанеи, Эсменет знала ответ. Всякий раз в своей прошлой жизни, когда она ложилась с мужчиной, она делала это ради него. Всякий грех, который она совершала, она совершала ради него. Всякая миска, которую она разбила. Всякое сердце, которое она задела. Даже Мимара. Даже Ахкеймион. Сама того не зная, Эсменет всю жизнь жила ради него — ради Анасуримбора Келлхуса.
Тоска по его состраданию. Несбыточная мечта о его откровении. Грех, который он может простить. Падение — чтобы он мог возвысить ее. Он был истоком. Он был предназначением. Он был и был с ней!
Здесь!
Это безумно, невероятно, но это правда.
Когда Эсменет пришла в голову эта мысль, она только и сумела, что рассмеяться от радостного изумления. Святое всегда казалось таким далеким, словно лица королей и императоров на монетах, которыми она желала обладать. До встречи с Келлхусом она ничего не знала о святом, кроме того, что оно каким-то образом всегда отыскивало ее в глубине невзгод и унижений. Оно, подобно отцу Эсменет, приходило в глухой ночи, нашептывая угрозы, требуя подчинения, обещая утешение, но давая лишь бесконечный ужас и позор.
Как же она могла не ненавидеть святое? Как она могла не бояться его?
Она была проституткой в Сумне, а быть проституткой в священном городе — это вам не жук начхал. Некоторые ее товарки в шутку называли себя «ворами у врат на Небеса». Они постоянно обменивались насмешливыми историями про паломников, которые так часто плакали в их объятиях. «Они все это затевают ради того, чтобы увидеть Бивень, — язвительно заметила однажды старая Пираша, — а заканчивают тем, что показывают его!»
И Эсменет смеялась вместе с остальными, хоть и знала, что паломники плачут оттого, что потерпели неудачу, оттого, что пожертвовали урожаем, сбережениями и обществом близких людей, чтобы попасть в Сумну. Ни один человек из низших каст не был настолько глуп, чтобы стремиться к богатству или радости — мир для этого слишком непостоянен и своенравен. Им оставалось лишь спасение, святость. Вот и Эсменет выставляла ноги в окно, подобно спятившим прокаженным, которые из одной лишь злобы набрасывались на здоровых.
Какой далекой теперь казалась та женщина. Каким близким — Святое…
Серве кричала и подвывала; от мучительной боли, терзающей чрево, все ее тело сотрясала дрожь.
Кианка издала одобрительный возглас, состроила гримасу и улыбнулась. Серве откинулась на колени к Эсменет, тяжело дыша, глядя безумным взором, крича. Эсменет смотрела, затаив дыхание; тело ее занемело от изумления, а мысли спутались оттого, что чудесное столь тесно и неразрывно смешивалось с обыденным.
— Хеба серисса! — воскликнула кианка. — Хеба серисса!
Ребенок сделал первый вдох и подал голос в первой, плаксивой мольбе.
Эсменет смотрела на новорожденного и понимала: вот результат, к которому привел ее отказ от воды. Она страдала, чтобы Серве могла пить, и вот теперь на свет появился этот вопящий младенец, сын Воина-Пророка.
Плача, Эсменет склонилась над Серве.
— Сын, Серча! У тебя сын! И он не синенький!
Серве улыбнулась, прикусив губу, всхлипнула и рассмеялась. Они обменялись мудрыми и радостными взглядами, которых не понял бы ни один мужчина, кроме Келлхуса.
Со смехом Келлхус взял верещащего младенца из рук повитухи и принялся внимательно разглядывать его. Ребенок притих, и на миг могло показаться, будто он, в свою очередь, тоже изучает отца с тем ошарашенным видом, какой бывает только у младенцев. Келлхус подставил ребенка под струю воды, смывая с его лица кровь и слизь. Когда тот снова загорланил, Келлхус издал возглас притворного изумления и с нежностью взглянул на Серве.
На миг — всего лишь на миг — Эсменет показалось, будто она слышит чей-то голос.
Келлхус передал ребенка Серве; та, не переставая плакать, принялась укачивать его. Внезапно Эсменет охватила печаль, укор чужой радости. Она встала и, не поднимая лица, не сказав ни слова, стремительно вышла из шатра.
Снаружи воины из Сотни Столпов, священные телохранители Келлхуса, посмотрели на нее с окаменевшими от тревоги лицами, но не сделали попытки ее остановить. Все так же безмолвно Эсменет прошла между самодельными укрытиями, но далеко отходить не стала, понимая, что тогда ее непременно побеспокоит какой-нибудь взволнованный последователь. Заудуньяни, верные, постоянно охраняли периметр лагеря, как от своих же товарищей, Людей Бивня, так и от язычников.
Вот и еще одна перемена, порожденная пустыней…
Дождь прекратился, но отовсюду капало и воздух был прохладным. Тучи разошлись, и Эсменет увидела Гвоздь Небес — словно сверкающий пупок между разошедшимися полами шерстяного одеяния. Если поднять голову и смотреть только на Гвоздь, можно вообразить себя где угодно — в Сумне, в Шайгеке, в пустыне или в колдовском Сне Ахкеймиона. Эсменет подумала, что Гвоздь Небес — единственная вещь, для которой не имеет значения ни «где», ни «когда».
Два человека — судя по виду, галеоты, — устало брели в ее сторону через темноту и грязь.
— Истина сияет, — пробормотал один, когда они приблизились; лицо его было в пятнах от сильных солнечных ожогов, полученных в пустыне.
Потом они узнали Эсменет.
— Истина сияет, — отозвалась она, опуская лицо.
Она пряталась от их взволнованных взглядов, пока они не прошли дальше.
— Госпожа… — прошептал один из галеотов; у него словно бы перехватило дыхание от благоговения.
Люди все чаще и чаще вели себя в присутствии Эсменет робко и подобострастно. И похоже, это все меньше смущало ее и все больше ей нравилось. Это был не сон.
Откуда-то донеслась резкая мелодия. Это шрайские жрецы подули в молитвенные трубы, и правоверные айнрити преклонили колени у самодельных алтарей. На миг эти ноты напомнили Эсменет крики Серве, как они звучали бы издалека.
Горе Эсменет сменилось раскаянием. Почему она в пустыне охотно отдала Серве свою воду и едва не отдала жизнь, а теперь не смогла подарить ей мгновение радости? Что с ней? Она ревнует? Нет. От ревности человек с горечью поджимает губы. Она не ощущала горечи…
Или все-таки ощущала?
«Келлхус прав… Мы не знаем, что нами движет». Всегда есть что-то большее.
Грязь под ногами была прохладной — такой непохожей на дышащий жаром песок.
Крики, раздавшиеся в ближайшей палатке, напугали Эсменет. Она поняла, что там лежит больной, страдающий от гемофлексии. Эсменет попятилась, борясь с желанием взглянуть, кто это, предложить поддержку и утешение.
— Пожа-алуйста… — выдохнул слабый голос. — Мне нужно… мне нужно…
— Я не могу, — сказала Эсменет, с ужасом глядя на неясный силуэт хижины, сооруженной из ветвей и кож.
Келлхус изолировал больных и требовал, чтобы им помогали только те, кто переболел и выжил. Он сказал, что Ужасный Бог передает болезнь через вшей.
— Я валяюсь в собственном дерьме!
— Я не могу…
— Но почему? — донесся жалкий голос. — Почему?
— Пожалуйста! — негромко воскликнула Эсменет. — Пожалуйста, пойми! Это запрещено.
— Он не слышит тебя…
Келлхус. Его голос казался чем-то неизменным. Он обнял Эсменет; его шелковистая борода скользнула по ее шее.
— Они слышат лишь собственные страдания, — пояснил Келлхус.
— Совсем как я, — отозвалась Эсменет.
Ее вдруг одолели угрызения совести. Ну зачем ей понадобилось убегать?
— Ты должна быть сильной, Эсменет.
— Иногда я чувствую себя сильной. Иногда я чувствую себя обновленной, но тогда…
— Ты на самом деле обновлена. Мой отец переделал нас всех. Но прошлое остается прошлым, Эсменет. Если ты была кем-то, ты этим была. Прощение требует времени.
Как ему это удается? Как он может так легко, без малейших усилий, говорить с ее сердцем?
Но Эсменет знала ответ на этот вопрос — или думала, что знает.
Люди, как сказал ей когда-то Келлхус, подобны монетам: у них две стороны. Когда одна сторона видна, другая остается в тени, и хотя все люди являются и тем и другим одновременно, они знают лишь ту сторону себя и те стороны других, которые видят, — они способны на самом деле познать лишь внутреннюю часть себя и внешнюю часть окружающих.
Сперва это казалось Эсменет глупостью. Разве внутренняя часть — это не целое? Просто окружающие недостаточно его постигают. Но Келлхус попросил ее поразмыслить над всем, что она свидетельствовала в окружающих. Сколько она видела непреднамеренных ошибок? Сколько изъянов характера? Самомнение, звучащее в брошенных мимоходом замечаниях. Страхи, прикидывающиеся суждениями…
Недостатки людей написаны в глазах тех, кто смотрит на них. И поэтому каждый так стремится добиться хорошего мнения о себе. Именно поэтому все лицедействуют. Они в глубине души знают, что то, какими они видят себя, лишь половина того, чем они являются на самом деле. И им отчаянно хочется быть целыми.
Келлхус говорил, что истинная мудрость заключается в том, что есть в промежутке между этими двумя половинами.
Лишь позднее Эсменет подумала так о самом Келлхусе. И с потрясением осознала, что ни разу — ни разу! — не видела ни единого изъяна ни в его словах, ни в поступках. Именно поэтому он казался беспредельным, словно земля, раскинувшаяся от маленького круга у нее под ногами до огромного круга под небом. Келлхус стал ее горизонтом.
Для Келлхуса не существовало ни малейшей разницы между тем, чтобы видеть и быть видимым. И более того, он каким-то образом оставался извне и видел изнутри. Он сделался целым…
Эсменет запрокинула голову и взглянула ему в глаза.
«Ты здесь, ведь правда? Ты со мной… внутри».
— Да, — сказал Келлхус, и Эсменет показалось, будто на нее смотрит Бог.
Она сморгнула слезы.
«Я твоя жена! Твоя жена!»
— И ты должна быть сильной, — сказал он, перекрывая жалобный голос больного. — Бог очищает Священное воинство, очищает для похода на Шайме.
— Но ты сказал, что мы можем не бояться болезни.
— Не болезни — Великих Имен. Многие из них начали бояться меня… Некоторые считают, что Бог наказывает Священное воинство из-за меня. Другие опасаются за свою власть и привилегии.
Неужто он предвидит нападение, войну внутри Священного воинства?
— Тогда ты должен поговорить с ними, Келлхус! Ты должен сделать так, чтобы они увидели!
Келлхус покачал головой.
— Люди восхваляют то, что им льстит, и насмехаются над тем, что их укоряет, — ты же это знаешь. Прежде, когда меня слушали лишь рабы и простые пехотинцы, знать могла позволить себе не обращать на меня внимания. Но теперь, когда их самые доверенные советники и вассалы принимают Поглощение, они начинают понимать истинность своей власти, а вместе с этим и свою уязвимость.
«Он обнимает меня! Этот человек обнимает меня!»
— И что тогда делать?
— Верить.
Эсменет смотрела ему в глаза, не отводя взгляда.
— Тебе и Серве, — продолжал Келлхус, — ни при каких обстоятельствах не следует ходить без сопровождения. Они, если сумеют, используют вас против меня…
— Неужели положение вещей сделалось настолько отчаянным?
— Пока нет. Но скоро сделается. До тех пор пока Карасканд будет сопротивляться…
Внезапный, бездонный ужас. Мысленному взору Эсменет представились убийцы, пробирающиеся в ночи, высокопоставленные заговорщики, хмуро сидящие при свечах.
— Они попытаются убить тебя?
— Да.
— Тогда ты должен убить их!
Эсменет сама поразилась свирепости этих слов. Но не жалела о них.
Келлхус рассмеялся.
— Говорить так в эту ночь! — пожурил он Эсменет.
Ее снова затопило раскаяние. Сегодня ночью Серве родила! У Келлхуса сын! А она только и делает, что копается в своих недостатках и потерях. «Почему ты покинул меня, Акка?»
Эсменет мучительно всхлипнула.
— Келлхус, — пробормотала она. — Келлхус, мне так стыдно! Я завидую ей! Я так ей завидую!
Келлхус коротко рассмеялся и уткнулся лицом в ее волосы.
— Ты, Эсменет, — линза, через которую я буду жечь. Ты… Ты — чрево племен и народов, порождающее пламя. Ты — бессмертие, надежда и история. Ты — больше, чем миф, больше, чем Священное Писание. Ты — матерь всего этого! Ты, Эсменет, — матерь большего…
Глубоко дыша темным, дождливым миром, Эсменет крепко прижала руки Келлхуса к себе. Она знала это, с самых первых дней в пустыне она это знала. Именно поэтому выбросила раковину — купленный у ведьмы противозачаточный талисман.
«Ты — порождающая пламя…»
Никогда больше она не отгонит семени от своего чрева.
4111 год Бивня, начало зимы, побережье Менеанора неподалеку от Иотии
«СКАЖИ МНЕ…»
Бешено крутящийся смерч, соединяющий землю с седыми небесами, изрыгает пыль.
«ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?»
Ахкеймион проснулся без крика. Он лежал неподвижно, силясь перевести дух. Он сморгнул слезы — но он не плакал. Солнечный свет лился через украшенное лепниной окно и освещал темно-красный ковер с каймой, расстеленный посреди комнаты. Ахкеймион поглубже зарылся в теплое одеяло, наслаждаясь мирным утром.
Уже одна здешняя роскошь сама по себе казалась невероятной. Так или иначе, после уничтожения резиденции Багряных Шпилей в Иотии они с Ксинемом оказались почетными гостями барона Шанипала, которого Пройас оставил в Шайгеке в качестве своего представителя. Один из рыцарей барона обнаружил их, когда они нагими скитались по городу. Узнав Ксинема, рыцарь доставил их к Шанипалу, а барон препроводил их сюда, в роскошную кианскую виллу на побережье Менеанора — выздоравливать.
Вот уже несколько недель они пользовались покровительством и гостеприимством барона — достаточно долго, чтобы изумленное потрясение, вызванное их побегом, улеглось и они принялись терзаться потерями. Выживание, как быстро осознал Ахкеймион, тоже требовалось пережить.
Он кашлянул и сбросил одеяло. Из-за парчовой перегородки с цветочным узором появился слуга-шайгекец, один из двух рабов, которых ему предоставил Шанипал. Барон был странным, его доброжелательность или недоброжелательность зависела от того, насколько человек готов потакать его чудачествам. Он твердо решил, что они должны жить в точности как покойные гранды, бывшие владельцы поместья. Судя по всему, кианцы постоянно держали у себя в спальне рабов, как норсирайцы — собак.
Умывшись и одевшись, Ахкеймион отправился бродить по вилле, разыскивая Ксинема — тот, похоже, прошлой ночью не вернулся к себе в комнату. От кианцев здесь осталось достаточно много — мебель из красного дерева, мягчайшие ковры, лазурные драпировки — Ахкеймиону почти верилось, будто он в гостях у настоящего фанимского гранда, а не айнритийского барона, которому взбрело в голову одеваться и жить как гранду.
Через некоторое время Ахкеймион поймал себя на том, что, обыскивая комнаты, костерит маршала. Здоровые всегда ворчат на больных; когда ты скован чужой беспомощностью, это само по себе нелегко. Но негодование Ахкеймиона было странно замкнуто на себя и очень запутанно, почти как лабиринт. С Ксинемом каждый следующий день казался тяжелее предыдущего.
Маршал был его самым давним и самым верным другом — и уже одно это накладывало на Ахкеймиона немалую ответственность. Тот факт, что Ксинем пожертвовал всем тем, чем пожертвовал, перенес то, что перенес, ради спасения Ахкеймиона, только увеличивал ответственность. Но Ксинем до сих пор страдал. Несмотря на солнечный свет, несмотря на шелка и угодливых рабов, он до сих пор кричал, как в тех подвалах, до сих пор выдавал тайны, до сих пор скрипел зубами от мучительной боли… Казалось, будто он каждый день заново теряет зрение. И потому он не просто делал Ахкеймиона ответственным — он обвинял…
— Посмотри на расплату за мою преданность! — выкрикнул он однажды. — Сделай так, чтобы мои глазницы заплакали, ибо у меня сухие щеки. Небось, веки у меня запали, да, Акка? Опиши их мне — я ведь больше не могу видеть!
— Я не просил меня спасать! — крикнул Ахкеймион.
Сколько ему придется расплачиваться за непрошеную услугу?
— Я не просил устраивать такую дурость!
— Эсми, — отозвался Ксинем. — Эсми просила.
Как ни старался Ахкеймион забыть эти вспышки раздражения, их яд проникал глубоко. Он часто ловил себя на том, что размышляет над пределами ответственности. Что именно он должен? Иногда Ахкеймион говорил себе, что Ксинем, настоящий Ксинем, умер, а этот слепой тиран — незнакомый и чужой человек. Пускай попрошайничает в трущобах с такими же, как он! Иногда он убеждал себя, что Ксинем просто нуждается в том, чтобы его бросили — хотя бы для того, чтобы сбить с него эту чертову дворянскую спесь.
— Ты цепляешься за то, что следует отпустить, — сказал он как-то маршалу, — и отпускаешь то, за что следует держаться… Так не может продолжаться, Ксин. Ты должен вспомнить, кто ты такой!
Однако Ксинем был не одинок. Ахкеймион тоже изменился — безвозвратно.
Он ни разу не поплакал над участью друга. Он, который всегда был таким слезливым… А еще он теперь не кричал, пробуждаясь ото Снов, — ни разу после побега. Он просто не чувствовал себя способным на это. Ахкеймион помнил эти ощущения: грохот в ушах, горящие глаза и резь в горле, но они казались далекими и абстрактными, словно нечто такое, о чем он скорее читал, чем знал на собственном опыте.
И еще одна странность: Ксинем, похоже, нуждался в его слезах, как будто тот факт, что теперь не Ахкеймион, а он оказался на положении слабого, был для него мучительнее пыток и слепоты. И что еще более странно: чем острее Ксинем нуждался в его слезах, тем упорнее они ускользали от Ахкеймиона. Зачастую казалось, будто их разговоры превращаются в борьбу, как будто Ксинем был слабеющим отцом, который постоянно позорится, пытаясь удержать власть над сыном.
— Я сильный! — выкрикнул он однажды в пьяном помрачении. — Я!
Наблюдавший за ним Ахкеймион не мог найти в себе иных чувств, кроме жалости.
Он мог горевать, он мог сочувствовать, но не мог плакать по своему другу. Означало ли это, что его тоже лишили чего-то важного? Или же он что-то приобрел? Ахкеймион не чувствовал себя ни сильным, ни решительным, но откуда-то знал, что стал таким. «Муки учат, — написал некогда поэт Протат, — что любовь забываема». Может, это был дар Багряных Шпилей? Может, они преподали ему урок?
Или, возможно, они просто забили его до такой степени, что у него притупились все чувства?
Каким бы ни был ответ, он еще увидит их сожженными — в особенности Ийока. Он покажет им, на что способна его новообретенная уверенность.
Возможно, именно это было их даром. Ненависть.
Расспросив нескольких рабов, Ахкеймион отыскал Ксинема; тот пил в одиночестве на террасе, выходящей на море. Утреннее солнце грело кожу, хотя воздух был прохладным, — ощущение, всегда казавшееся Ахкеймиону бодрящим. Рокот прибоя и соленый морской бриз напомнили ему юность. Менеанор тянулся до самого горизонта, переходя от бирюзы на мелководье к бездонной синеве.
Глубоко вздохнув, Ахкеймион приблизился к маршалу. Тот полулежал с чашей в руках, закинув ноги на ограждение из глазурованного кирпича. Накануне вечером Шанипал предложил оплатить их проезд на корабле до Джокты, портового города неподалеку от Карасканда. Ахкеймион намеревался отплыть как можно скорее — точнее сказать, он крайне в этом нуждался, — но не мог уехать без Ксинема. Почему-то Ахкеймион знал, что, если оставить его одного, Ксинем умрет. Горе и горечь убивали и более крепких людей.
Ахкеймион помедлил, собираясь с духом.
Ксинем внезапно воскликнул:
— Повсюду эта темнота!
Ахкеймион заметил светло-красные пятна на белой льняной тунике и понял, что Ксинем пьян. Мертвецки пьян.
Ахкеймион открыл было рот, но слова не шли. Что он мог сказать Ксинему? Что он нужен Пройасу? Пройас лишил его земель и титулов. Что он нужен Священному воинству? Там Ксинем будет обузой, и он это прекрасно понимает.
«Шайме! Он шел, чтобы увидеть…»
Ксинем спустил ноги на пол и подался вперед.
— Куда ты ведешь, Тьма? Что ты означаешь?
Ахкеймион смотрел на друга, на игру солнечного света на его повернутом в профиль лице. Как обычно, при виде пустых глазниц он почувствовал комок в горле. Казалось, будто оттуда всегда будут торчать ножи.
Маршал протянул руку к солнцу, словно убеждаясь, что вокруг есть некоторое свободное пространство.
— Эй, Тьма! Ты всегда была такой? Всегда была здесь?
Ахкеймион опустил взгляд. Его пронзило раскаяние. «Да скажи ты что-нибудь!»
Но что он мог сказать? Что он должен найти Эсменет, что он просто не может иначе?
«Ну так иди! Иди к своей шлюхе! А меня брось!»
Ксинем захихикал, по свойственному пьяным обыкновению быстро переходя от одного настроения к другому.
— Что, я много жалуюсь, Тьма? О, я понимаю, что ты не так уж плоха. Ты избавила меня от необходимости глядеть на рожу Акки! А когда я мочусь, мне незачем убеждать себя, что у меня просто большие руки! Подумать…
Сперва Ахкеймион отчаянно ждал новостей о Священном воинстве; жажда знать была настолько сильной, что он почти не мог горевать о Ксинеме и его утрате. На протяжении всей вечности, заполненной мучениями, он не позволял себе думать об Эсменет. Каким-то уголком сознания Ахкеймион понимал, что она — его уязвимое место. Но с того момента, как к нему вернулась способность чувствовать, он не мог думать ни о ком другом — еще разве что о Келлхусе. Как он сожмет ее в объятиях, осыплет смехом, слезами и поцелуями!.. Какую радость он обретет в ее радости, в ее слезах счастья!
Он так ясно видел это… видел, как это будет.
— Я просто хочу знать, — с притворной ласковостью пьяного вопросил Ксинем, — что ты такое, черт бы тебя побрал!
Хотя поначалу у Ахкеймиона были все основания опасаться наихудшего, он знал, что Эсменет жива. Просто знал, и все. Согласно доходящим слухам, Священное воинство едва не погибло при переходе через Кхемему. Но если верить Ксинему, Эсменет уехала с Келлхусом, а Ахкеймион не мог желать для нее иного, более верного спутника. Келлхус не может умереть, ведь так? Он ведь Предвестник, посланный, чтобы спасти род людской от Второго Апокалипсиса.
Однако другая уверенность стала для него источником мучений.
— Ты ощущаешься как ветер! — выкрикнул Ксинем.
Его голос сделался более пронзительным.
— Ты пахнешь как море!
Келлхус должен спасти мир. А он, Друз Ахкеймион, должен стать его советником.
— Открой глаза, Ксин! — ломающимся голосом выкрикнул маршал.
Ахкеймион заметил, как блеснули на солнечном свете капельки слюны.
— Открой свои гребаные глаза!
Могучая волна разбилась о черные скалы под террасой. Воздух наполнился солеными брызгами.
Ксинем выронил чашу и принялся, словно безумный, грозить кулаками небу, выкрикивая: «Эй! Эй!»
Ахкеймион быстро сделал два шага. Остановился.
— Каждый звук! — выдохнул маршал. — Каждый звук заставляет меня съеживаться! Я никогда не ощущал такого страха! Никогда! Молю тебя, Господи… Пожалуйста!
— Ксин… — прошептал Ахкеймион.
— Я же был хорошим! Я же был таким хорошим!
— Ксин!
Маршал застыл.
— Акка? — Он обхватил себя руками за плечи, словно желая забиться в темноту, — единственное, что он мог видеть. — Нет, Акка! Нет!
Не думая о том, что делает, Ахкеймион кинулся к нему и обнял.
— Это все из-за тебя! — визгливо выкрикнул Ксинем. — Это все ты наделал!
Ахкеймион крепко прижимал к себе плачущего друга. Плечи Ксинема были такими широкими, что Ахкеймион едва сводил руки у него на спине.
— Нам надо ехать, — пробормотал он. — Надо отыскать остальных.
— Я знаю, — выдохнул маршал Аттремпа. — Надо отыскать Келлхуса!
Ахкеймион прижался подбородком к волосам друга. Кажется, его щеки так и остались сухими.
— Да… Келлхуса.
4111 год Бивня, начало зимы, окрестности Карасканда
Покинутое поместье было построено древними кенейцами. При первом визите Конфас некоторое время развлекался, разглядывая постройки, начав с самых древних и закончив небольшой мраморной молельней, возведенной неизвестным кианским грандом несколько поколений назад. Конфас не представлял себе, как можно не знать план дома, в котором остановился. Видимо, такая привычка — рассматривать все вокруг как поле боя.
Айнритийские дворяне начали прибывать в середине дня: отряды конников, кутающихся в плащи в попытке защититься от непрекращающегося моросящего дождика. Стоя вместе с Мартемом в полумраке крытой веранды, Конфас наблюдал, как люди торопливо проходят через внутренний двор. Они очень сильно изменились с того вечера в саду у его дяди. Закрыв глаза, Конфас и сейчас мог увидеть их, тогдашних, бродящих среди декоративных кипарисов и кустов тамариска; лица их были оптимистичны и беспечны, вели они себя заносчиво и напыщенно, каждый был наряжен в соответствии с обычаями того народа, к которому принадлежал. Когда Конфас смотрел в прошлое, они казались ему такими… неопытными. А теперь, после месяцев войны, после пустыни и болезни, они выглядели суровыми и безжалостными, как те пехотинцы в Колоннах, что постоянно продлевают контракт, — ветераны с сердцами из кремня, которыми восхищаются новобранцы и кого до смерти боятся молодые офицеры. Они казались особым народом, новой расой; все особенности, отличавшие конрийцев от галеотов, айнонов от тидонцев, были выбиты из них, как шлаки из стали.
И конечно же, все они ехали на кианских лошадях, все носили кианскую одежду. Теперь никто не обращал внимания на внешние детали; все важное крылось глубоко внутри.
— Они больше похожи на язычников, чем сами фаним, — сказал Конфас.
— Пустыня создала кианцев, — отозвался генерал, пожав плечами, — она перекроила и нас.
Конфас задумчиво смотрел на Мартема, ощущая непонятное беспокойство.
— Несомненно, ты прав.
Мартем ответил бесстрастным, ничего не выражающим взглядом.
— Скажете ли вы мне, что происходит? Для чего Великие и Малые Имена созваны втайне?
Экзальт-генерал повернулся к черным, затянутым тучами холмам Энатпанеи.
— Конечно, для того, чтобы спасти Священное воинство.
— Я полагал, нас волнует исключительно империя.
Конфас снова внимательно взглянул на подчиненного, пытаясь разгадать скорее самого человека, чем его замечание. После той неудачи с князем Келлхусом Конфас постоянно ловил себя на мысли, что ему хочется заподозрить генерала в измене. Он был недоволен Мартемом по многим причинам. Но, как ни странно, всегда был рад его обществу.
— У империи и Священного воинства общий путь, Мартем.
Хотя вскоре, подумал Конфас, пути их разойдутся. Это будет настоящей трагедией…
«Сперва Карасканд, затем князь Келлхус. Священному воинству придется подождать». Во всем должен быть порядок.
Мартем и глазом не моргнул.
— А если…
— Идем, — перебил его Конфас. — Пора подразнить львов.
Экзальт-генерал велел слугам — после пустыни он был вынужден приставить к той работе, которую прежде выполняли рабы, своих солдат — проводить айнритийских дворян в крытый манеж для верховой езды. Когда Конфас с Мартемом вошли в манеж, гости уже рассыпались по просторному темному помещению, разбившись на группки, грелись у жаровен с углями и приглушенно переговаривались. Всего их было человек пятьдесят-шестьдесят. Сперва никто не заметил их появления, и Конфас так и остался стоять в сводчатом проеме, изучая собравшихся, от глаз, которые в полумраке казались необычно яркими, до соломинок, прилипших к мокрым сапогам.
Интересно, лениво подумал он, сколько падиражда заплатил бы за этот зал?
Голоса стали стихать один за другим: люди заметили его.
— А где Анасуримбор? — громко поинтересовался палатин Гайдекки; взгляд его был таким же резким и циничным, как всегда.
Конфас усмехнулся.
— О, он здесь, палатин. Если не как человек, то как тема для обсуждения.
— Не хватает не только князя Келлхуса, — заметил граф Готьелк. — Нету Саубона, Атьеаури… Пройас, конечно, болен, но я не вижу никого из самых ревностных защитников Келлхуса.
— Несомненно, это счастливое совпадение.
— Я думал, мы будем совещаться насчет Карасканда, — сказал палатин Ураньянка.
— Ну конечно же! Карасканд сопротивляется. Мы собрались, чтобы понять — почему?
— Ну так почему он сопротивляется? — высокомерно осведомился Готиан.
Не в первый раз Конфас осознал, что они его презирают — почти поголовно. Люди всегда ненавидят того, кто лучше их.
Конфас раскинул руки и двинулся к ним.
— Почему?! — воскликнул он, гневно сверкая глазами. — Это главный вопрос, не так ли? Почему дождь все льет, гноя наши ноги, наши палатки, наши сердца? Почему гемофлексия косит нас без разбора? Почему столь многие из нас умирают, барахтаясь в собственном дерьме?
Конфас рассмеялся, изображая изумление.
— И это после пустыни! Как будто мало невзгод, постигших нас в Каратае! Так почему же? Неужто придется просить старика Кумора, чтобы он сверился с книгами знамений?
— Нет, — сухо произнес Готиан. — Все ясно. На нас пал гнев Божий.
Конфас мысленно улыбнулся. Сарцелл утверждал, что так называемый Воин-Пророк будет мертв в ближайшие дни. Но сможет он это устроить или нет — а Конфас подозревал, что нет, — после покушения им понадобятся союзники. Никто точно не знал, какова численность заудуньяни, которыми командовал князь Келлхус, но счет следовало вести на десятки тысяч… Казалось, что чем больше Люди Бивня страдают, тем большее их число переходит на сторону этого демона.
Но ведь не зря же говорят: пес крепче всего любит того хозяина, который его бьет.
Конфас пристально взглянул на собравшихся и сделал паузу, добиваясь большей эффектности.
— Кто может это оспорить? Гнев Божий пал на нас. И по заслугам… — Он обвел присутствующих взглядом. — Ибо мы дали приют лжепророку и потакаем ему.
Собравшиеся разразились протестующими криками. Но Конфас не удивился. Сейчас важно заставить этих недоумков говорить. А все остальное сделает их фанатизм.
Глава 21. Карасканд
«И мы предадим всех их, убитых, детям Эанны; вы будете калечить их лошадей и жечь огнем их колесницы. Вы омоете ноги в крови нечестивых».
Хроника Бивня, Книга Племен, глава 21, стих 134111 год Бивня, зима, Карасканд
Коифус Саубон мчался сквозь дождь. Поскользнувшись, он съехал по склону, перепрыгнул через небольшую ложбину и взобрался на противоположный склон. Потом запрокинул лицо к серому небу и расхохотался.
«Он мой! Клянусь богами, он будет моим!»
Осознавая, что момент требует использования джнана или, по крайней мере, самообладания, принц замедлил шаг, пробираясь через самодельные укрытия. Заметив наконец шатер Пройаса, стоящий рядом с сикаморовой рощей, Саубон заспешил к нему.
«Король! Я буду королем!»
Галеотский принц остановился у шатра, озадаченный отсутствием стражи. Пройас временами жалел своих людей — возможно, он велел им стоять внутри, спрятавшись от этого чертова дождя. Кругом, куда ни глянь, земля раскисла. Повсюду были лужи и затопленные рытвины. Дождь барабанил по провисшему холсту шатра.
«Король Карасканда!»
— Пройас! — крикнул он, перекрывая шум дождя.
Саубон почувствовал, что вода все-таки просочилась через плотный войлочный акитон. Ее прикосновение к коже напоминало теплый поцелуй.
— Пройас! Черт возьми, мне нужно поговорить! Я знаю, что ты здесь!
Наконец он услышал внутри приглушенный голос. Когда полог шатра откинулся, Саубон оказался захвачен врасплох. Перед ним стоял Пройас — худой, изможденный, дрожащий, закутавшийся в темное шерстяное одеяло.
— А сказали, что ты поправился, — в замешательстве пробормотал Саубон.
— Конечно, поправился, идиот. Я же стою.
— А где твоя стража? Где врач?
Болеющий принц хрипло закашлялся. Он прочистил горло и сплюнул мокроту.
— Я их всех отослал, — сказал он, вытирая рот рукавом. — Спать надо, — добавил он, страдальчески морща лоб.
Саубон громогласно расхохотался и сгреб его в объятия.
— Сейчас тебе перехочется спать, мой благочестивый друг!
— Саубон. Принц. Пожалуйста, давай потом. Я как-никак болен.
— Я пришел, чтобы задать тебе вопрос, Пройас. Всего один вопрос.
— Тогда спрашивай.
Саубон внезапно успокоился и сделался очень серьезным.
— Если я захвачу Карасканд, ты поддержишь мое желание стать его королем?
— В каком смысле — «захвачу»?
— Если я открою его ворота Священному воинству, — ответил галеотский принц, устремив на собеседника пронизывающий взгляд голубых глаз.
Пройас мгновенно преобразился. Бледность покинула его лицо. Темные глаза сделались ясными и внимательными.
— Ты говоришь серьезно?
Саубон хихикнул, словно алчный старик.
— Я в жизни не был так серьезен.
Конрийский принц несколько мгновений сосредоточенно изучал его, как будто взвешивал варианты.
— Мне не нравится игра, которую ты затеял…
— Проклятье! Ты можешь просто ответить на вопрос? Поддержишь ли ты меня, когда я потребую, чтобы меня возвели на трон Карасканда?
Пройас немного помолчал, потом медленно кивнул.
— Да… Возьми Карасканд, и ты будешь его королем. Обещаю.
Саубон воздел лицо и руки к грозному небу и издал боевой клич. Струи дождя хлестали его, обволакивая успокаивающей прохладой, оставляя на губах и во рту привкус меда. Несколько месяцев назад он, попав в плен обстоятельств, думал, что умрет. Потом он встретил Келлхуса, Воина-Пророка, человека, указавшего ему путь к собственному сердцу, и пережил бедствия, какие могли бы сломить десятерых более слабых людей. И вот теперь момент, о котором Саубон мечтал всю жизнь, настал. Это казалось настолько невероятным, что голова шла кругом.
Это казалось даром.
Дождь, такой сладостный после Кхемемы. Капли, стучащие по лбу, щекам, закрытым глазам. Саубон стряхнул воду со спутанных волос.
«Король… Наконец-то я буду королем».
— И откуда это мрачное молчание? — спросил Пройас.
Найюр, сидевший посреди темного шатра, взглянул на него.
Он понял, что конрийский принц не просто отлеживался, пока выздоравливал. Он думал.
— Не понимаю, — отозвался Найюр.
— Видишь ли, скюльвенд… Что-то произошло с тобой в Анвурате. И мне нужно знать, что именно.
Пройас все еще был болен — и весьма серьезно, если судить по его виду. Он сидел в походном кресле, зарывшись в груду одеял, и его обычно пышущее здоровьем лицо было бледным и осунувшимся. У любого другого человека подобная слабость показалась бы Найюру отвратительной, но Пройас не был «любым». За прошедшие месяцы молодой принц внушил ему некое беспокоящее чувство, уважение, которого не заслуживали, пожалуй, и сородичи-скюльвенды, не то что какой-то чужак. Даже сейчас, в болезни, Пройас сохранял царственный вид.
«Он всего лишь один из айнритийских псов!»
— Ничего в Анвурате не произошло.
— Как так — ничего? Почему ты бежал? Почему исчез?
Найюр нахмурился. Ну и что ему сказать?
Что он сошел с ума?
Найюр провел много бессонных ночей, пытаясь изгнать из памяти Анвурат. Он помнил, как ход битвы ускользал из его власти. Он помнил, как убивал Келлхуса, который не был Келлхусом. Он помнил, как сидел у прибрежной полосы и смотрел на Менеанор, бьющий по берегу кулаками белой пены. Он хранил тысячу других воспоминаний, но все они казались крадеными, словно истории, рассказанные приятелем детства.
Найюр большую часть своей жизни прожил в обществе безумия. Он слышал, как говорят его братья, понимал, как они думают, но, несмотря на бесконечные взаимные упреки, несмотря на годы жгучего стыда, не мог сделать эти слова и мысли — своими. Он был беспокойной и мятежной душой. Вечно одна мысль, одна жажда — это слишком! Но как бы далеко ни уходила его душа по тропам долга, Найюр всегда нес на себе печать предательства — и всегда знал меру своей испорченности. Его замешательство было замешательством человека, наблюдающего за безумием других. «Как? — готов был кричать он. — Как эти мысли могут быть моими?»
Он всегда владел собственным безумием.
Но в Анвурате все изменилось. Наблюдатель в его душе пал, и впервые сумасшествие овладело им. На протяжении недель Найюр был не более чем трупом, привязанным к взбесившейся лошади. И как же мчалась его душа!
— Какое тебе дело до моих уходов и приходов? — едва не выкрикнул Найюр. Он засунул большие пальцы рук за пояс с железными бляхами. — Я не твой вассал.
Лицо Пройаса потемнело.
— Нет… Но ты занимаешь высокое положение среди моих советников. — Он поднял голову; в глазах его читалась нерешительность. — Особенно после того, как Ксинем…
Найюр скривился:
— Ты слишком много…
— Ты спас меня в пустыне, — сказал Пройас.
Найюра вдруг захлестнуло томление. Отчего-то он тосковал по пустыне — куда больше, чем по Степи. Что было тому причиной? Может, безликость шагов, невозможность проложить тропы и дороги? Или уважение? Каратай убил куда больше людей, чем он сам… Или сердце Найюра узнало себя в одиночестве и отчаянии пустыни?
«Как много проклятых вопросов! Заткнись! Хватит!»
— Конечно, я тебя спас, — отозвался Найюр. — Не забывай: всем уважением, какое я здесь приобрел, я обязан тебе.
Он тут же пожалел об этих словах. Он хотел объяснить, что говорить больше не о чем, а прозвучали они как признание.
Могло показаться, будто Пройас сейчас сорвется на крик. Но он просто опустил голову и принялся разглядывать циновку под босыми ногами. Когда же он поднял взгляд, в нем светились одновременно и печаль, и вызов.
— Тебе известно, что Конфас недавно созвал тайный совет, чтобы поговорить о Келлхусе?
Найюр покачал головой:
— Нет.
Пройас внимательно наблюдал за ним.
— Так, значит, вы с Келлхусом по-прежнему не разговариваете?
— Нет.
Найюр прищурился. На миг ему представился дунианин; он кричал, и лицо его раскрывалось изнутри. Воспоминание? Когда это случилось?
— А почему, скюльвенд?
Найюр еле сдержался, чтобы не фыркнуть.
— Из-за женщины.
— В смысле — из-за Серве?
Найюр помнил, как Серве, измазанная кровью, пронзительно кричала. Это тоже случилось в Анвурате? Да и происходило ли это вообще?
«Она была моей ошибкой».
Что на него нашло, когда ему стукнуло забрать ее с собой, после того, как они с Келлхусом перебили тех мунуати? Что на него нашло, когда он взял женщину — женщину! — в дорогу? Может, ее красота так подействовала на него? Она была ценной добычей — это бесспорно. Младшие вожди похвалялись бы ею при всяком удобном случае, развлекались, прикидывая, сколько голов скота можно получить за нее, и зная при этом, что она — не для продажи.
Но ведь он охотился за Моэнгхусом! За Моэнгхусом!
Нет. Ответ был прост: он взял ее из-за Келлхуса. Разве не так?
«Она была моей добычей».
До того как они наткнулись на Серве, Найюр провел несколько недель наедине с этим человеком — несколько недель наедине с дунианином. Сейчас, наблюдая, как этот демон пожирает одно сердце айнрити за другим, Найюр мог лишь поражаться тому, что остался в живых. Бесконечное тщательное изучение. Опьяняющий голос. Демонические истины… Как он мог не взять Серве после подобного испытания? Даже если не считать красоты, она была простой, честной, страстной — то есть обладала всем тем, чем не обладал Келлхус. Он воевал против паука. Как же ему было не стремиться к обществу мух?
Да… Вот именно! Он взял ее, как ориентир, как напоминание о том, что такое человек. А ему следовало бы понять, что вместо этого она превратится в поле битвы.
«Он использовал ее, чтобы свести меня с ума!»
— Ты уж прости меня за скептицизм, — сказал Пройас. — Многие мужчины вытворяют странные вещи, когда дело касается женщин. Но чтобы ты?..
Найюр рассердился. Что он такое говорит?
Пройас перевел взгляд на бумаги, сложенные перед ним на столе; их уголки загибались от влаги. Он рассеянно попытался разгладить один уголок пальцами.
— Все это сумасшествие, творящееся вокруг Келлхуса, заставило меня думать, — продолжал принц. — Особенно о тебе. Люди тысячами стекаются к нему, пресмыкаются перед ним. Тысячами… Но однако же ты, человек, знающий его лучше всех, не пожелал оставаться с ним. Почему, Найюр?
— Я же сказал — из-за женщины. Он украл мою добычу.
— Ты любил ее?
Сказители говорят, что люди часто бьют сыновей, чтобы оскорбить своих отцов. Но тогда зачем они бьют жен? Любовниц?
Почему он бил Серве? Чтобы оскорбить Келлхуса? Чтобы причинить боль дунианину?
Там, где Келлхус гладил, Найюр бил. Там, где Келлхус шептал, Найюр кричал. Чем большей любви добивался дунианин, тем большую ненависть вызывал Найюр — даже не понимая, что именно он делает. Иногда она вполне заслуживала его ярости. «Своенравная сука! — думал он. — Как ты могла? Как ты могла?»
Любил ли он ее? Мог ли любить?
Возможно, в мире, где не было бы Моэнгхуса…
Найюр сплюнул на циновки, устилающие пол.
— Я владел ею! Она была моей!
— И все? — спросил Пройас. — Это и есть все твои претензии к Келлхусу?
Все его претензии… Найюр едва не расхохотался. То, что он чувствовал, нельзя было изложить словами.
— Меня беспокоит твое молчание.
Найюр снова сплюнул.
— А меня оскорбляет твой допрос. Ты слишком много на себя берешь, Пройас.
Осунувшееся, но по-прежнему красивое лицо исказила гримаса.
— Возможно, — сказал принц, глубоко вздохнув. — А возможно, и нет… Как бы то ни было, Найюр, я получу от тебя ответ. Мне необходимо знать правду!
Правду? И что эти псы будут делать с правдой? Как поступит Пройас, узнав ее?
«Он пожирает вас, и теперь ты это знаешь. А когда он закончит, останутся только кости…»
— И что за правда тебе нужна? — огрызнулся Найюр. — Действительно ли Келлхус — айнритийский пророк? Ты на самом деле думаешь, что я способен ответить на этот вопрос?
Во время спора Пройас от возбуждения подался вперед; теперь же он снова откинулся на спинку кресла.
— Нет, — выдохнул он, проводя рукой по лбу. — Я просто надеялся, что…
Он не договорил и замолк, устало покачав головой.
— Все это несущественно. Я позвал тебя, чтобы обсудить другие дела.
Найюр повнимательнее пригляделся к принцу и поймал себя на том, что его беспокоит неопределенность в глазах Пройаса.
«Конфас вступил с ним в переговоры… Они что-то замышляют против Келлхуса».
А зачем ему лгать насчет дунианина? Все равно он больше не верит, что этот человек будет соблюдать условия их договора…
Тогда во что же он верит?
— Недавно ко мне приходил Саубон, — тем временем продолжал Пройас. — Он обменялся посланиями и даже несколькими заложниками с кианским офицером по имени Кепфет аб Танадж. Судя по всему, Кепфет и его товарищи настолько сильно ненавидят Имбейяна, что готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы увидеть его мертвым.
— Карасканд, — сказал Найюр. — Они предложили Карасканд!
— Участок стены, если говорить точнее. На западе, рядом с небольшими боковыми воротами.
— И ты хочешь моего совета? Даже после Анвурата?
Пройас покачал головой.
— Я хочу от тебя большего, скюльвенд. Ты всегда говорил, что мы, айнрити, делим честь, как другие делят добычу. И сейчас ничего не изменилось. Мы перенесли много страданий. Тот, кто войдет в Карасканд, обретет бессмертную славу…
— А ты слишком болен.
Конрийский принц фыркнул.
— Сперва ты плюешь мне под ноги, а теперь заявляешь о моей немощности… Иногда я думаю: может, ты заслужил эти шрамы на руках, убивая не людей, а хорошие манеры?
Найюр почувствовал себя оплеванным, но сдержался.
— Я заслужил эти шрамы, убивая дураков.
Пройас рассмеялся было, но тут же закашлялся. Он повернулся и сплюнул мокроту в чашу, установленную в тени за креслом. Ее медный край поблескивал в неверном свете.
— Почему я? — спросил Найюр. — Почему не Гайдекки или Ингиабан?
Пройас застонал, его передернуло под одеялами. Он подался вперед и обхватил голову руками. Кашлянув, он взглянул на Найюра. Две слезы, следы борьбы с кашлем, скатились по щекам.
— Потому что ты, — он сглотнул, — самый способный.
Найюр напрягся и почувствовал, как в горле зарождается рычание.
«Он имеет в виду, что без меня проще всего обойтись!»
— Я знаю, ты думаешь, что я лгу, — быстро проговорил Пройас. — Но я не лгу. Если бы Ксинем по-прежнему был… был…
Он моргнул и покачал головой.
— Тогда я попросил бы его.
Найюр внимательно посмотрел на принца.
— Ты боишься, что это может оказаться западней… Что Саубона обманули.
Пройас проглотил ком в горле и кивнул:
— Целый город за жизнь одного человека? Ненависть не может быть настолько велика.
Найюр не стал с ним спорить.
То была ненависть, затмевающая ненавидящего, голод, заключающий в себе саму суть аппетита.
Низко пригнувшись, держа меч наготове, Найюр урс Скиоата крался вдоль верха стены к боковым воротам, размышляя о Келлхусе, Моэнгхусе и убийстве.
«Нужен ему… Я должен найти способ стать нужным ему!»
Да… Безумие подступало.
Найюр замер, прижавшись спиной к мокрому камню. Следом за ним на небольшом расстоянии крался Саубон, а за принцем — еще около полусотни тщательно отобранных людей. Задержав дыхание, Найюр попытался успокоиться. Он взглянул на огромную паутину рассыпанных внизу построек, освещенных лунным светом. Странное чувство: увидеть как на ладони город, который так долго им сопротивлялся. Все равно что поднять юбки спящей женщины.
Тяжелая рука легла на его плечо. Найюр обернулся и разглядел в темноте Саубона, его ухмыляющееся лицо, обрамленное кольчужным капюшоном. Луна бросала блики на его шлем. Найюр уважал воинскую доблесть галеотского принца, но никогда не испытывал к нему ни доверия, ни приязни. В конце концов, этот человек тоже примкнул к своре дунианина.
— Вид почти как у распутницы… — прошептал Саубон, кивком указывая на лежащий внизу город. Он поднял голову; глаза его сияли. — Ты все еще сомневаешься во мне?
— В тебе я не сомневался никогда. Лишь в твоей вере в этого Кепфета.
Ухмылка галеотского принца сделалась еще шире.
— Истина сияет, — сказал он.
Найюр с трудом удержался от презрительной усмешки:
— Не лучше, чем свинячьи зубы.
Он сплюнул на древнюю каменную кладку. От дунианина некуда было деться. Иногда ему казалось, будто Келлхус разговаривает с ним из каждого рта, смотрит из каждой пары глаз. И от этого становилось еще хуже.
«Ну что-нибудь… Ведь что-то я наверняка могу сделать!»
Но что? Их договор об убийстве Моэнгхуса был фарсом. Дуниане не чтят ничего, кроме собственной выгоды. Для них имеет значение лишь результат, а все прочее, от воинственных народов до робких взглядов, это лишь инструменты — нечто, что можно использовать. А Найюр не обладал ничем полезным — больше не обладал. Он безрассудно растратил все свои преимущества. Он даже не мог предложить свою репутацию среди Великих Имен — после позора при Анвурате.
Нет. Келлхусу ничего больше не нужно от него. Ничего, кроме…
Найюр едва не произнес это вслух.
«Ничего, кроме молчания».
Краем глаза он заметил, как Саубон встревоженно повернулся к нему.
— Что случилось?
Найюр смерил его презрительным взглядом.
— Ничего, — отрезал он.
Безумие подступало.
Выругавшись по-галеотски, Саубон двинулся мимо него, медленно пробираясь под парапетом с бойницами. Найюр направился следом; собственное дыхание казалось ему слишком хриплым и громким. Дождевая вода, собравшаяся в стыках каменных плит, блестела в свете луны. Найюр шел, расплескивая эту воду; пальцы его ныли от холода. Чем дальше они крались вдоль парапета, тем больше изменялось соотношение уязвимости. Прежде Карасканд выглядел обнаженным, незащищенным, но теперь, по мере того как приближались башни боковых ворот, уязвимыми стали незваные гости. На верхних площадках башен мерцали факелы.
Они остановились у окованной железом двери и с тревогой посмотрели друг на друга, словно осознав внезапно, что наступает момент истины. В мертвенно-бледном свете Саубон казался почти испуганным. Найюр нахмурился и дернул за железную ручку.
Дверь со скрежетом отворилась.
Галеотский принц зашипел и рассмеялся, словно потешаясь над своим минутным сомнением. Прошептав «Победа или смерть!», он проскользнул в распахнутую черную пасть. Найюр еще раз взглянул на залитый лунным светом Карасканд и последовал за принцем; сердце его бешено колотилось.
Двигаясь подобно призракам, они просочились по коридорам и спустились по лестницам. Выполняя просьбу Пройаса, Найюр держался рядом с Саубоном. Он знал, что планировка ворот должна быть простой, но напряжение и спешка превращали прямые ходы в лабиринт.
Протянутая рука Саубона остановила его в темноте и оттащила к растрескавшейся стенке. Галеотский принц замер перед дверью. Из щелей пробивались нити золотистого света. При звуках приглушенных голосов у Найюра по коже побежали мурашки.
— Бог отдал мне этот город, скюльвенд, — прошептал Саубон. — Карасканд будет моим!
Найюр уставился на него в темноте.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю!
Так ему сказал дунианин. Найюр был в этом уверен.
«Он позволил дунианину читать его лицо».
— Ты привел этого Кепфета к Келлхусу… Верно?
Саубон усмехнулся и фыркнул. Так и не ответив, он повернулся к Найюру спиной и постучал в дверь навершием меча.
Дерево, скользящее по камню, — кто-то отодвинул стул. Гулкий смех, голоса, говорящие по-киански. Если разговоры норсирайцев напоминают хрюканье свиней, подумал Найюр, то речь кианцев похожа на гусиное гоготание.
Саубон развернул меч и занес его над головой. На какой-то безумный миг он сделался похожим на мальчишку, собравшегося бить рыбу острогой. Дверь распахнулась, в проеме показалось чье-то лицо.
Саубон ухватил появившегося на пороге человека за заплетенную в косички бороду и проткнул мечом. Кианец умер прежде, чем очутился на полу. Издав боевой клич, галеотский принц прыгнул в дверной проем.
Найюр вместе с остальными ринулся следом и очутился в узкой, освещенной свечами комнате. Перед ним оказался огромный барабан, сделанный из могучего дерева, обмотанный цепями, пропущенными через кольца в потолке. За барабаном он увидел нескольких кианских солдат в красных одеждах, пытающихся пробиться к своему оружию. Двое просто сидели, оцепенев от неожиданности, за грубо обтесанным столом в углу; у одного во рту был кусок хлеба.
Саубон рубанул ближайшего солдата. Тот с криком упал, схватившись за лицо.
Найюр бросился в свалку, крича по-скюльвендски. Он ударил мечом по руке оказавшегося перед ним перепуганного язычника, сутулого юнца с жалкими клочками волос вместо бороды. Потом Найюр присел и полоснул по ногам второго стражника, кинувшегося на него сбоку. Стражник упал, и Найюр снова развернулся к юнцу, лишь затем, чтобы увидеть, как тот исчезает за дальней дверью. Галеотский рыцарь, имени которого Найюр не знал, пронзил раненого стражника копьем.
Рядом Саубон зарубил двоих фаним; принц размахивал мечом, словно дубинкой, и при каждом взмахе выкрикивал непристойные ругательства. Он потерял шлем, и спутанные белокурые волосы были покрыты кровью. Найюр отпрыгнул от упавшего кианца. Первым же ударом он расколол круглый черно-желтый щит ближайшего стражника. Язычник поскользнулся на крови, взмахнул руками, и Найюр всадил меч в его кольчугу. Крик стражника перешел в судорожное бульканье. Взглянув налево, Найюр увидел, как Саубон срубил противнику нижнюю челюсть. Горячая кровь брызнула Найюру в лицо. Язычник пошатнулся и взмахнул мечом. Саубон утихомирил его одним ударом, едва не снеся ему голову с плеч.
— Поднять ворота! — взревел галеотский принц. — Поднять ворота!
Теперь комната была набита воинами-айнрити, по большей части краснолицыми галеотами. Несколько человек кинулись к деревянным колесам. Их возбужденные голоса потонули в скрежете цепей.
Воздух отравила пронзительная вонь вспоротых кишок.
Офицеры и таны Саубона собрались вокруг принца.
— Хорта! Зажигай сигнальный огонь! Меарьи, на штурм второй башни! Ты должен ее взять, сынок! Пусть твои предки гордятся тобой!
Сияющие голубые глаза отыскали Найюра. Невзирая на кровь на лице, во всей внешности Саубона сквозило величие, отцовская уверенность, от которой Найюру стало не по себе. Коифус Саубон уже был королем — и он принадлежал Келлхусу.
— Охраняй караульную, — велел галеотский принц. — Возьми столько людей, сколько сочтешь нужным…
Он обвел взглядом всех присутствующих.
— Карасканд пал, братья мои! Клянусь богами, Карасканд пал!
Радостные крики сменились хриплыми возгласами и грохотом сапог, превращающих блестящие красные лужицы на полу в непонятное месиво.
— Победа или смерть! — кричали айнрити. — Победа или смерть!
Протолкавшись в дальний коридор, Найюр отыскал караульную. Здесь было настолько темно, что скюльвенду потребовалось несколько мгновений, прежде чем глаза приспособились к темноте. Неподалеку потрескивал фитиль единственной свечи. Найюр слышал скрип поднимающейся решетки. Он чувствовал влажный холод, просачивающийся снаружи, ощущал поток воздуха, поднимающийся у него из-под ног. Найюр осознал, что стоит на большой решетке, установленной над проходом между двумя воротами. Постепенно из темноты проступили окружающие предметы: дрова, сложенные под стенами; ряды амфор — несомненно, в них было масло; две печи высотой ему по колено, каждая с кузнечными мехами и железными котлами для подогревания масла…
Потом он увидел мальчишку-кианца, которого недавно разоружил; тот сжался в комок у дальней стены, и его карие глаза были размером с серебряные таланты. Найюр прикипел к нему взглядом. Невидимые коридоры гудели от воплей и криков.
— П-поюада т’фада, — всхлипнул юнец. — Ос-осма… Пипири осма!
Найюр сглотнул.
Потом неведомо откуда возник галеотский тан — Найюр его не знал — и размашистым шагом направился к мальчишке, занося меч. В проходе внизу засверкал свет, и сквозь решетку под ногами Найюр увидел галеотов с факелами, мчащихся к внешним воротам. Тан опустил меч. Мальчишка вскинул руки в попытке защититься. Клинок скользнул по запястью, прошел вдоль кости предплечья и отрезал большой кусок мяса. Мальчишка закричал.
Двери внизу распахнулись. Помещение наполнилось ликующими воплями, прохладным воздухом и мерцанием факелов. Первые воины, которых Саубон спрятал на склонах под воротами, ринулись через проход.
Тан ударил юнца — раз, другой…
Крики прекратились.
Пятна света плясали на забрызганной кровью одежде тана. Голубоглазый мужчина в изумлении воззрился на разворачивающееся внизу действо. Он посмотрел на Найюра, улыбнулся и провел рукой по щекам.
— Истина сияет! — судорожно выкрикнул он. — Истина сияет!
В глазах его светилась слава.
Не думая о том, что делает, Найюр бросил меч и схватил тана, почти оторвав его от пола. Какой-то миг они боролись. Потом Найюр с размаху ударил противника лбом в лицо. Меч тана выпал из обмякших пальцев. Голова мотнулась назад. Найюр ударил еще раз; у него лязгнули зубы. Снизу доносились крики и шум, железная решетка дрожала. С каждым проносящимся факелом по стенам скользили тени. И снова кость ударилась о кость. У тана хрустнула переносица, затем левая скула. Найюр бил и бил, превращая лицо противника в кровавое месиво.
«Я сильнее!»
Дергающееся тело упало; на Людей Бивня закапала кровь.
Найюр выпрямился; грудь его тяжело вздымалась, по железной чешуе доспехов бежали ручейки крови. Казалось, будто весь мир пришел в движение, столь мощным был текущий внизу поток людей и оружия.
Да, безумие подступало.
Над великим городом неслось пение труб. Военных труб.
Тем утром не было дождя, но редкий туман затянул дали, лишая Карасканд резкости и цвета, придавая дальним районам призрачный вид. Невзирая на облачный покров, чувствовалось, что солнце светит победителям.
Фаним, как энатпанейцы, так и кианцы, толпились на крышах и пытались разглядеть, что же происходит. Женщины крепко прижимали к себе плачущих детей, бледные как мел мужчины стискивали кулаки, а старухи громко причитали. Прямо у них на глазах восточные кварталы стало затягивать пеленой дыма. Внизу кианские кавалеристы прокладывали себе путь по узким улочкам, скача по телам соплеменников. Они стремились ответить на призыв барабанов сапатишаха. Они рвались на северо-запад, к Цитадели Пса. А потом, некоторое время спустя, перепуганные наблюдатели заметили на дальних улицах Людей Бивня: небольшие, злобные тени, мелькающие в дыму. Закованные в железо люди мчались по улицам, мечи поднимались и опускались, и крохотные несчастные фигурки падали под их ударами. Сердца наблюдателей сжались от ужаса. Некоторые кинулись вниз, на забитые людьми улицы, чтобы присоединиться к ним в безумной, отчаянной попытке бежать. Иные остались и смотрели на приближающиеся столбы дыма. Они молились Единому Богу, рвали свои бороды и одежды и безнадежно думали обо всем том, чего вот-вот должны были лишиться.
Саубон со своими людьми пробивался к могучим вратам Слоновой Кости. Их массивная башня пала после яростной схватки, но на галеотов обрушились фанимские кавалеристы, которых удалось собрать офицерам сапатишаха. На узких улочках закипели схватки. Невзирая на пополнение, постоянно прибывающее через боковые ворота, галеоты начали сдавать позиции.
Но врата Слоновой Кости в конце концов распахнулись, и в город влетел Атьеаури с гаэнрийскими рыцарями, а за ними шеренга за шеренгой двинулись конрийцы, непобедимые и бесчеловечные. Следом на носилках внесли еще не оправившегося от болезни принца Нерсея Пройаса.
Новый натиск айнрити обратил кианцев в бегство, и они потеряли последнюю возможность отстоять город. Организованное сопротивление рухнуло, остались лишь отдельные его очаги, разбросанные по всему Карасканду. Айнрити разбились на отряды и принялись грабить город.
Дома переворачивали вверх дном. Целые семьи вырезали поголовно. Рыдающих нильнамешских рабынь за волосы выволакивали из укрытий, насиловали, а потом предавали мечу. Гобелены срывали со стен, скатывали или засовывали в мешки вместе с блюдами, статуэтками и прочими серебряными и золотыми вещами. Люди Бивня рыскали по древнему Карасканду, оставляя за собой разодранные одежды и разбитые сундуки, смерть и огонь. В некоторых местах вооруженные отряды кианцев резали или гнали прочь одиноких грабителей или держали их на расстоянии до тех пор, пока какой-нибудь тан или барон не набирал достаточно людей, чтобы вступить в схватку с язычниками.
Жестокие битвы разгорелись на огромных базарах Карасканда и в самых великолепных зданиях. Лишь Великим Именам удавалось удержать достаточно людей вместе, чтобы пробиться через высокие двери, а потом проложить себе путь по длинным, устланным коврами коридорам. Но здесь была самая богатая добыча — прохладные погреба с эумарнскими и джурисдайскими винами, золотые ковчежцы с изукрашенных резьбой алтарей, алебастровые и нефритовые статуэтки львов и пустынных волков, декоративные пластины из халцедона. Хриплые крики железных людей эхом отдавались от высоких сводов. По беломраморным полам тянулись их кровавые, грязные следы. Мужчины убирали оружие в ножны и принимались неуклюже возиться с завязками штанов, входя в гарем какого-нибудь уже покойного гранда.
Двери огромных храмов были выбиты, и Люди Бивня шли среди толп коленопреклоненных фаним, нанося удары направо и налево, пока не усеивали мозаичные полы мертвыми и умирающими язычниками. Айнрити вышибали двери соседних зданий и бродили по полутемным помещениям. Их встречали размытые тени и странные запахи. Через крохотные окошки с цветными стеклами лился свет. Сперва они боялись. Они ведь оказались в самом логове нечестивости, там, где ужасные кишаурим творили свои мерзкие дела. Айнрити ступали тихо, ошеломленные своими страхами. Но постепенно к ним возвращалось опьянение вопящих улиц. Кто-то протянул руку и сбросил книгу с пюпитра из слоновой кости, и, когда за этим ничего не последовало, аура дурных предчувствий развеялась, сменившись вспышкой праведной ярости. Они хохотали, выкрикивали имена Айнри Сейена и богов и громили внутренние святилища лжепророка. Они мучили фанимских жрецов, выпытывая их тайны. Они подожгли великолепные многоколонные храмы Карасканда.
Люди Бивня сбрасывали трупы с крыш. Они обшаривали мертвецов, стаскивали кольца с посеревших пальцев — или просто рубили пальцы, чтобы не тратить время. Истошно кричащих детей отрывали от матерей, кидали через комнату и ловили на острие меча. Жен избивали и насиловали, пока мужья выли, валяясь со вспоротыми животами среди собственных кишок. Айнрити превратились в зверей, опьяневших от убийства. Движимые яростью Божьей, они перебили в городе все живое — мужчин и женщин, старых и молодых, быков, овец и ослов — всех до единого.
Гнев Божий пал на головы жителей Карасканда.
…Солнечный свет прорвался сквозь облака и озарил город, холодный и сверкающий на фоне темного горизонта. Раскинув крылья, Древнее Имя плыл в потоках жаркого западного ветра. Карасканд простерся под ним: вереницы зданий с плоскими крышами, пологие склоны, мешанина построек из кирпича-сырца, прерываемая широкими площадями и монументальными сооружениями.
На востоке полыхали пожары, скрывая дальние районы. Древнее Имя обогнул огромные клубы дыма.
Он видел караскандцев, что толпились в садиках на плоских крышах домов. Они истошно голосили, не в силах поверить в происходящее. Он видел своры вооруженных айнрити, что кружили по пустынным улицам и пропадали в домах. Он видел, как вспыхивали храмы. Отсюда, с высоты, они напоминали поставленные вверх ногами чаши. Он видел всадников, скачущих через огромные рыночные площади, и фаланги пехотинцев, пробивающихся по широким улицам к подернутым дымкой бастионам Цитадели Пса.
А еще он видел, как человек, именующий себя дунианином, бежал по ветхим крышам, несся, словно ветер, а за ним гнались Гаоарта и прочие. Он видел, как этот человек подпрыгнул и, проделав пируэт, взлетел на третий этаж, промчался по крыше и перескочил на соседний, двухэтажный дом. Он приземлился в полуприсед посреди толпы кианских пехотинцев, затем ушел в сторону, забрав по дороге четыре жизни. Солдаты едва успели схватиться за оружие, как на них обрушился Гаоарта со своими братьями.
Что такое этот человек? Кто такие дуниане?
Эти вопросы требовали ответа. По словам Гаоарты, его заудуньяни, его «племя истины», исчислялось уже десятками тысяч. Гаоарта утверждал, что через считаные недели Священное воинство будет полностью принадлежать этому человеку. Опасность перевесила возникающие вопросы. Ничто не должно препятствовать миссии Священного воинства. Шайме должен пасть! Кишаурим должны быть уничтожены!
Но, несмотря ни на что, этого человека больше нельзя терпеть. Он должен умереть, по причинам, выходившим за пределы войны с кишаурим. Даже его сверхъестественные способности, даже постепенный переход Священного воинства под его власть не внушали столько беспокойства, сколько его имя. Анасуримбор вернулся. Анасуримбор! И хотя Голготтерат давно уже смеялся над Заветом и их жалким лепетом насчет пророчества Кельмомаса, разве могли они не принимать его во внимание? Ведь они были так близки к цели! Скоро дети соберутся и разрушат этот презренный мир! Грядет Конец Концов…
Никто не смеет играть с подобными вещами. Они убьют Анасуримбора Келлхуса, потом схватят скюльвенда и женщин, и узнают от них все, что нужно.
Далекая фигурка дунианина метнулась к чьей-то резиденции и там пропала. Синтез вытянул маленькую человеческую шею и описал круг в небе, наблюдая, как его рабы исчезают следом за человеком.
Отлично. Гаоарта и его братья приближаются… Воин-Пророк… Древнее Имя уже решил, что совокупится с его трупом.
Стук сандалий, ритмичное дыхание не ведающих усталости, звериных легких, хлопанье ткани о вытянутые руки.
«Они слишком быстро двигаются!»
Келлхус бежал. Проносились комнаты, мимолетно, словно воспоминания, и каждая отличалась строгим изяществом, так свойственным народу пустыни. Сзади Сарцелл и ему подобные рассыпались по коридорам. Келлхус пнул дверь, ссыпался по каменной лестнице и очутился в темноте. Преследователи отставали от него всего на несколько ударов сердца. Келлхус услышал шелест стали, извлекаемой из ножен. Он нырнул вправо и перекатился. Слева сверкнул нож, оставил зазубрину на темном камне, звякнул об пол. Келлхус метнулся по другой лестнице, в непроглядную мглу. Он проломился через непрочную деревянную дверь, ощутив дуновение ветра и запах затхлой воды.
Шпионы-оборотни заколебались.
«Всем глазам нужен свет».
Келлхус завертелся по комнате, воспринимая окружающее пространство всем телом, осязая потоки воздуха, камни и ковры под сандалиями, прикосновения одежды к стенам. Его вытянутые пальцы коснулись стола, стула, сложенной из кирпичей печи — сотни различных поверхностей, и все это за пригоршню мгновений. Он остановился в дальнем углу комнаты. Вытащил меч.
Застыл недвижно.
Где-то в темноте щелкнула деревянная планка.
Келлхус чувствовал, как оборотни просачиваются сквозь дверной проем, один за другим. Они рассыпались вдоль дальней стены; сердца их стучали, состязаясь в ритме. Келлхус ощущал, как по комнате распространяется мускусный запах.
— Я пробовал оба твои персика! — выкрикнула тварь, именуемая Сарцеллом.
Как догадался Келлхус — для того, чтобы заглушить звуки чужих шагов.
— Я пробовал их долго и усердно — ты об этом знаешь? Я заставил их вопить…
— Ты лжешь! — крикнул Келлхус, изображая ярость отчаяния.
Он услышал, как шпионы-оборотни застыли, а потом двинулись к тому углу, куда он направил свой голос.
— Они оба были сладкими, — продолжал Сарцелл, — и такими сочными!.. Как говорится, мужчина помогает персику созреть.
Келлхус всадил острие меча в ухо скользнувшей мимо твари и опустил ее на пол, стараясь проделать это как можно тише.
— Эй, дунианин! — позвал Сарцелл. — Получается, ты теперь дважды рогоносец?
Одна из тварей натолкнулась на стул. Келлхус прыгнул, вспорол ей живот и закатился под стол, пока тварь пронзительно визжала.
— Он играет с нами! — выкрикнул кто-то из преследователей. — Унза, пофара токук!
— Вынюхивайте его! — распорядилась тварь, именуемая Сарцеллом. — Рубите все, что пахнет им!
Выпотрошенная тварь судорожно билась и кричала — как и надеялся Келлхус. Он выбрался из-под стола и отскочил к стене слева от входа. Он стащил с себя парчовое одеяние и швырнул на спинку стула. Он не мог видеть в темноте, но помнил, где стояла мебель…
Келлхус застыл. Твари приблизились к нему, невнятно бормоча. Он чувствовал биение их звериных сердец, ощущал хищный жар их тел. Два прыжка к его одежде. Мечи взметнулись и с треском врубились в стул. Келлхус сделал выпад и пронзил горло твари слева, но та опрокинулась навзничь, и меч вырвался у него из руки. Келлхус отпрыгнул назад и влево, чувствуя, как сталь вспорола воздух у самого его носа. Он перехватил чье-то запястье и заблокировал руку с ножом. Потом дотянулся до горла твари и покончил с ней.
Меч Сарцелла со свистом рассек темноту. Келлхус извернулся, сделав стойку на руках, оттолкнулся от спинки стула и приземлился на согнутые ноги в дальнем конце стола. Шпион-оборотень со вспоротым животом метался прямо под ним.
Снова застыв, Келлхус слушал, как тварь, именуемая Сарцеллом, выбирается из погреба. Бежит…
Несколько мгновений Келлхус оставался недвижен, лишь дышал, медленно и глубоко. В темноте звенели нечеловеческие крики. Казалось, будто кого-то — и не одного — сжигают заживо.
«Откуда могли взяться подобные существа? Что тебе известно о них, отец?»
Подобрав меч, Келлхус отрубил еще живому шпиону-оборотню голову. Внезапно стало тихо. Келлхус набросил на тварь, из которой все еще била кровь, свое изрубленное одеяние.
А потом двинулся наверх, навстречу бойне и дневному свету.
Огромная черная крепость, которую Люди Бивня нарекли Цитаделью Пса, стояла на самом восточном из девяти холмов Карасканда. Айнрити прозвали ее так из-за того, что внутренние и внешние стены вместе смутно напоминали собаку, свернувшуюся у ног хозяина. Фаним же именовали эту крепость просто Ил’худа, Бастион. Возведенная великим Ксатанием, самым воинственным из первых нансурских императоров, Цитадель Пса отражала размах и изобретательность народа, сумевшего расцвести в тени скюльвендов: круглые башни по периметру, массивная навесная башня, смещенные относительно друг друга внутренние и внешние ворота. Укрепления цитадели были выстроены ярусами, так что каждый следующий круг возвышался над предыдущим. А внешние стены заключены в почти непробиваемую базальтовую оболочку.
Понимая, что цитадель — нансурцы называли ее Инсарум — является ключом к городу, Икурей Конфас почти сразу же атаковал ее, надеясь взять крепость штурмом прежде, чем Имбейян сумеет организовать оборону. Солдаты Селиалской колонны захватили южные возвышенности, но затем понесли сокрушительные потери и были отброшены. Вскоре вместе с ними на крутые склоны полезли галеоты, а затем и тидонцы. Саубон и Готьелк были не так глупы, чтобы оставить столь ценную добычу экзальт-генералу. К цитадели подтащили осадные машины, построенные для штурма стен Карасканда. Баллисты швыряли через укрепления горшки с горящей смолой. С требушетов градом летели гранитные валуны и тела фаним. К стенам были приставлены длинные лестницы с железными крюками наверху, а кианцы поднимали на стены камни и кипящее масло, чтобы давить и жечь тех, кто карабкался по этим лестницам. К огромным воротам принесли под защитой мантелетов окованный железом таран и под градом огня и валунов принялись бить им в ворота. Тучи стрел взлетали в небо. Саубона унесли с кианской стрелой в бедре.
Благодаря численному превосходству и ярости, варнутишмены из Се Тидонна захватили западную стену. Высокие бородатые рыцари, вассалы погибшего графа Керджуллы, прорубались через толпы язычников, которые так и роились вокруг, пытаясь вытеснить их. Лучники, собравшиеся во внутреннем дворе, осыпали рыцарей стрелами, но стрелы, даже если им и удавалось пробить тяжелый доспех, вязли в толстом войлоке. У многих воинов из спины торчало по нескольку оперенных древков, а они продолжали реветь и сражаться. Мертвые и умирающие летели со стен, падая на камни либо на людей внизу. Тидонцы укрепились на плацдарме и упорно обороняли его до тех пор, пока сзади не подошла подмога, состоявшая в основном из их родичей, аганси, под командованием младшего сына Готьелка, Гурньяу. Лучники Агмундра, которых возглавил раненый Саубон, стали стрелять по внутренней стене, вынуждая энатпанейских и кианских стрелков прятаться за зубцами парапета. Кто-то поднял над внешней башней знамя Агансанора, Черного Оленя. Айнрити, окружившие холм, встретили его громогласным ревом.
Вдруг вспыхнул свет, слепящий сильнее солнца. Люди кричали, указывая на чудовищные фигуры в шафрановых одеяниях, возникшие между башнями черной цитадели. Безглазые кишаурим, и у каждого вокруг шеи обвилось по две змеи. Нити ужасающего белого сияния загорелись над внешней стеной. Тидонцы припали к земле и попытались спрятаться от слепящего света за большими каплевидными щитами, крича от страха и негодования, но их смело. Агмундрмены тщетно пытались стрелять по плывущим в воздухе колдунам. Отряды арбалетчиков с хорами смотрели, как болт за болтом со свистом проносятся мимо цели из-за слишком большого расстояния.
Рыцарей Се Тидонна попросту выкосило. Многие, видя безнадежность своего положения, до самого конца размахивали мечами и выкрикивали ругательства. Другие бежали. Кто успел, спустился на землю. Несколько воинов спрыгнули со стены; их волосы и бороды горели. Чудовищное пламя поглотило знамя Готьелка.
И вспышки света погасли.
На миг все стихло, не считая криков, раздававшихся на возвышенности. Затем кианцы разразились радостными воплями. Они помчались по парапетам, сбрасывая оставшихся в живых тидонцев со стен. В их числе оказался и младший сын Готьелка, Гурньяу. Старого графа, обезумевшего от горя, увели.
Люди Бивня в беспорядке отступили. Отрядили верховых гонцов — отыскать Багряных Шпилей, которые все еще не вступили в Карасканд. Гонцы несли всего одно сообщение: «В Цитадели Пса засели кишаурим».
Неся в руках свой трофей, Келлхус вышел на террасу покинутого дворцового комплекса. Он пересек небольшой садик с цветущими или фигурно подстриженными кустами. Между двух кустов можжевельника лежала мертвая женщина; юбка у нее была задрана на голову. Перешагнув через труп, Келлхус двинулся дальше по сияющему мрамору балюстрады. Ветерок принес запах благовоний и гари — где-то жгли драгоценные вещи.
Цитадель Пса нависала над окрестностями; черная, затянутая дымкой, она, словно гора, возвышалась над скоплением стен и крыш в долине. Келлхус заметил крохотные фигурки кианских солдат, мчащихся вдоль стены; когда они мелькали в проемах бойниц, их серебристые шлемы сверкали на солнце. Он увидел, как тела айнрити сбрасывают со стен.
На севере и юге Карасканд продолжал умирать. Вглядываясь в завесы дыма, Келлхус изучал лабиринт далеких улиц, успевая мельком заметить десятки маленьких драм: ожесточенные схватки, мелкие зверства, мародеров, обирающих мертвецов, причитающих женщин и даже ребенка, бросившегося с крыши. Внезапный пронзительный вскрик заставил его взглянуть вниз, и Келлхус увидел отряд туньеров в черных доспехах, мчащийся куда-то через дворцовый сад, прямо под террасой. Он быстро потерял их из виду. Ветер донес хриплый смех.
Келлхус взглянул на юг, на холмы за стенами Карасканда. В сторону Шайме.
«Я иду, отец. Я почти рядом».
Он сбросил с плеч окровавленный тюк, сооруженный из собственного одеяния, и отрубленная голова твари глухо ударилась о мраморный пол. Келлхус внимательно разглядел лицо твари — оно казалось сплетением змей под человеческой кожей. Во впадинах поблескивали лишенные век глаза. Келлхус уже понял, что эти существа не являются колдовскими артефактами. Он достаточно узнал от Ахкеймиона и пришел к выводу, что это — оружие, которое древние инхорои изготавливали, как люди изготавливают мечи. Но в сочетании с раскрывающимися лицами этот факт казался все более примечательным.
Оружие. И Консульт в конце концов заполучил его.
«Война внутри войны. До этого все-таки дошло».
Келлхус уже встретил нескольких своих заудуньяни. И сейчас, в этот самый момент, его приказы расходились по городу. Серве и Эсменет эвакуируют из лагеря. Вскоре его Сотня Столпов возьмет под охрану этот безымянный дворец. Заудуньяни, которым он поручил следить за шпионами-оборотнями, ушли на поиски. Если он сумеет организовать все это прежде, чем закончится хаос…
«Священное воинство необходимо очистить».
А потом над цитаделью вспыхнул свет. Над городом разнесся оглушительный грохот. Снова белое сияние озарило башни. Келлхус увидел, как рухнули целые слои каменной кладки. Обломки посыпались и покатились по склону холма.
Зависнув в воздухе, Багряные Шпили образовали огромный полукруг вокруг могучих башен цитадели. Хлынул сверкающий огонь, и даже отсюда, издалека, Келлхус увидел горящих фаним, что прыгали во двор замка. С призрачных облаков сорвалась молния, равно уничтожая камень и плоть. Стаи раскаленных добела воробьев взмыли над парапетами стен.
Невзирая на разрушения, сперва один Багряный адепт, затем другой, третий застывали, потом стремительно спускались на крыши внизу, пораженные языческой хорой. Проследив взглядом за слепящей вспышкой, Келлхус увидел, как один колдун рухнул на склон холма и разбился, словно был сделан из камня. Адское пламя хлестало по крепостным валам. Верхушки башен взрывались. Огонь поглощал все живое.
Песнь Багряных Шпилей остановилась. Вдали пророкотал гром. На несколько мгновений весь Карасканд застыл.
Над крепостными стенами поднимался дым.
Несколько колдунов зашагали вперед. Ахкеймион как-то объяснил Келлхусу, что они на самом деле не летают, а скорее идут по поверхности, эху земли в небе. Они шли через завесу дыма, пока не повисли над узкими стенами внутренних укреплений. Келлхус заметил очертания их призрачных оберегов. Казалось, колдуны чего-то ждут… или ищут.
Внезапно из разных мест цитадели ударили пронзительно голубые лучи и сошлись на колдуне, стоявшем в центре…
«Кишаурим, — понял Келлхус. — В Цитадели засели кишаурим».
Кольцо темно-красных фигур — отсюда они казались маленькими пятнышками — ответило затаившемуся врагу. Келлхус вскинул руку, защищая глаза от ослепительного сияния. Воздух содрогнулся. Западная башня скрылась в огне и медленно обрушилась. Обломки проломили внешнюю стену, потом лавиной скатились по склону, поднимая клубы пыли.
Келлхус смотрел, завороженный зрелищем и обещанием более глубокого уровня понимания. Колдовство оставалось единственным незавоеванным знанием, последним бастионом тайн, рожденных в миру. Он был одним из Немногих — как одновременно и надеялся, и страшился Ахкеймион. Так какой же силой он будет обладать?
А его отец, ставший кишаурим, — какой силой он обладает сейчас?
Багряные адепты наносили по цитадели удар за ударом, без жалости и передышки. Кишаурим было не видно и не слышно. Клубы дыма и пыли поднимались к небу, окутывая черные стены. На островках чистого воздуха виднелись вспышки колдовского света, и этот свет мерцал и пульсировал сквозь черную завесу.
Жуткие гимны отдавались болью в ушах Келлхуса. Как можно произнести такое? Как эти слова могли прийти кому-то в голову?
Еще одна башня рухнула, на этот раз на юге, — обрушилась целиком, до самого фундамента, подняв тучу пыли. Туча двинулась вниз, на окрестные дома. Наблюдая, как прячутся в домах Люди Бивня, Келлхус заметил краем глаза фигуру в желтом шелковом одеянии, что парила среди пульсирующей тьмы: руки вытянуты вдоль тела, ноги в сандалиях направлены к земле. Внизу воины-айнрити разбегались в разные стороны.
Уцелевший кишаурим.
Келлхус смотрел, как фигура в желтом скользнула над уступами крыш. На мгновение ему подумалось, что этот человек может и спастись: дым и пыль заслонили его от Багряных адептов. Но потом он понял…
Кишаурим поворачивал в его сторону.
Вместо того чтобы продолжать двигаться на юг, фигура в желтом свернула на запад, старательно прячась за домами, чтобы скрыться от наблюдательных Багряных Шпилей. Келлхус смотрел, как кишаурим зигзагами продвигается по улицам, и отслеживал общее направление его внезапных поворотов, чтобы оценить траекторию. Каким бы невероятным — и невозможным — это ни казалось, сомнений быть не могло: кишаурим направлялся к нему. Но как такое могло случиться?
«Отец?»
Келлхус отступил от балюстрады и наклонился, чтобы понадежнее завернуть голову шпиона-оборотня в загубленную одежду. Потом он зажал в кулаке одну из двух хор, которые ему дали заудуньяни… По словам Ахкеймиона, хора с равным успехом защищала и от Псухе, и от колдовства.
Кишаурим поднимался по склону к террасе, скользя над верхушками деревьев и сбивая непрочно держащиеся листья. Там, где он пролетал, птицы прыскали в разные стороны. Келлхус видел черные провалы его глаз, две раздувшиеся змеи у него на шее: одна смотрит вперед, вторая наблюдает за уничтожением цитадели.
Вслед за очередным раскатом грома издалека долетел драконий вой. Мраморный пол под ногами Келлхуса вздрогнул. Над цитаделью поднялись новые черные тучи…
«Отец? Не может быть!»
Кишаурим описал круг над усадьбой, где Келлхус недавно видел тидонцев, потом ринулся наверх. Келлхус услышал, как бьется на ветру его шелковое одеяние.
Он отскочил, выхватывая меч. Колдун-жрец проплыл над балюстрадой, сложив руки и соединив кончики пальцев.
— Анасуримбор Келлхус! — позвал он.
Столкнувшись со своим отражением, кишаурим резко остановился. По полированному мрамору со звоном разлетелись осколки.
Келлхус стоял неподвижно, крепко сжимая в руке хору.
«Он так молод…»
— Я — Хифанат аб Тунукри, — задыхаясь, произнес безглазый человек, — дионорат племени Индара-Кишаури… Я несу послание от твоего отца. Он сказал: «Ты идешь Кратчайшим Путем. Вскоре ты постигнешь Тысячекратную Мысль».
«Отец?»
Убрав меч в ножны, Келлхус открылся всем внешним знакам, какие предлагал этот человек. Он увидел безрассудство и целеустремленность. «Цель превыше всего…»
— Как ты меня нашел?
— Мы видим тебя. Все мы.
За спиной у кишаурим дым, поднимающийся над цитаделью, раскрылся, словно огромная бархатная роза.
— Мы?
— Все, кто служит ему, — Обладатели Третьего Зрения.
«Ему… Отцу». Он контролирует какую-то фракцию кишаурим…
— Я должен знать, что он задумал, — с нажимом произнес Келлхус.
— Он ничего мне не сказал. А если бы и сказал — сейчас не время.
Хотя боевой настрой и отсутствие глаз у собеседника затрудняли чтение, Келлхус видел, что кишаурим говорит искренне. Но почему, вызвав его из такой дали, отец теперь оставляет его во тьме?
«Он знает, что прагма прислал меня как убийцу… Ему необходимо сперва проверить меня».
— Я должен предупредить тебя, — продолжал тем временем Хифанат. — С юга сюда идет сам падираджа. Уже сейчас его передовые разъезды видят дым на горизонте.
Да, слухи о войске падираджи доходили… Неужто он и вправду настолько близко? Вероятности, возможности и альтернативы стрелой пронеслись в сознании Келлхуса — но без всякой пользы. Падираджа приближается. Консульт атакует. Великие Имена плетут заговор…
— Столько всего произошло… Ты должен рассказать об этом моему отцу!
— Я не…
Змея, наблюдавшая за цитаделью, зашипела. Келлхус заметил троих Багряных адептов, шагающих по воздуху. Их темно-красные одеяния, хоть и поношенные, горели в лучах солнца.
— Идут Шлюхи, — сказал безглазый человек. — Ты должен убить меня.
Одним движением Келлхус извлек клинок. Кишаурим словно бы ничего и не заметил, а вот ближняя змея поднялась, как будто ее дернули за веревочку.
— Логос, — дрогнувшим голосом произнес Хифанат, — не имеет ни начала, ни конца.
Келлхус снес кишаурим голову. Тело тяжело упало набок, а голова покатилась назад. Одна змея, располовиненная, билась на полу. Вторая, целая и невредимая, быстро уползла в сад.
На том месте, где была Цитадель Пса, поднимался огромный черный столп дыма. Он нависал над разграбленным городом и тянулся, казалось, до самых небес.
Теперь все районы Карасканда горели, от Чаши — его прозвали так за то, что он располагался между пятью из девяти холмов, — до Старого города, обнесенного осыпающимися киранейскими стенами, что когда-то окружали древний Карасканд. Повсюду, куда ни глянь, поднимались столбы дыма — но ни один не мог сравниться с той башней из пепла, что высилась на юго-востоке.
Далеко на юге, стоя на вершине холма, Каскамандри аб Теферокар, Верховный падираджа Киана и всех Чистых земель, смотрел на дым со слезами на глазах. Когда первые разведчики принесли ему весть о бедствии, Каскамандри отказался в это верить. Он твердил, что Имбейян, его находчивый и свирепый зять, просто подает им сигнал. Но теперь он не мог отрицать того, что видел своими глазами. Карасканд — город, соперничавший с белостенной Селевкарой, — пал под натиском проклятых идолопоклонников.
Он прибыл слишком поздно.
— Что мы не смогли предотвратить, — сказал падираджа своим блистательным грандам, — за то мы должны отомстить.
В тот самый момент, когда Каскамандри размышлял, что же он скажет дочери, отряд шрайских рыцарей перехватил Имбейяна и его свиту, когда те пытались бежать из города. Вечером по настоянию Готиана каждый из Великих Имен поставил ногу на грудь Имбейяну, говоря при этом: «Славьте силу Господню, что предала наших врагов в наши руки». Это был древний ритуал, появившийся в дни Бивня.
Потом они повесили сапатишаха на дереве.
— Келлхус! — крикнула Эсменет, мчась по галерее между колоннами черного мрамора.
Никогда еще ей не случалось бывать в столь огромном и роскошном здании.
— Келлхус!
Келлхус отвернулся от собравшихся вокруг него воинов и улыбнулся той ироничной, трогательной, товарищеской улыбкой, от которой у Эсменет всегда вставал комок в горле и сжималось сердце. Какая дерзкая, безрассудная любовь!
Она подлетела к нему. Его руки легли ей на плечи, окутали ее почти наркотическим ощущением безопасности. Он казался таким сильным, таким незыблемым…
Нынешний день был полон сомнений и ужаса — и для нее, и для Серве. Радость, охватившая их при падении Карасканда, быстро развеялась. Сперва они услышали известие о покушении. Как твердили несколько заудуньяни с безумными глазами, в городе на Келлхуса напали демоны. Вскоре после этого пришли люди из Сотни Столпов, чтобы эвакуировать их лагерь. И никто, даже Верджау и Гайямакри, не знал, жив ли Келлхус. Потом, пробираясь по разоряемому городу, они оказались свидетельницами множества ужасов. Такого, что и сказать нельзя. Женщины. Дети… Эсменет пришлось оставить Серве во внутреннем дворике. Девушку невозможно было успокоить.
— Они сказали, что на тебя напали демоны! — воскликнула Эсменет, прижавшись к его груди.
— Нет, — хмыкнул Келлхус. — Не демоны.
— Что случилось?
Келлхус мягко отстранил ее.
— Мы многое перенесли, — сказал он, погладив Эсменет по щеке.
Казалось, будто он скорее наблюдает, чем смотрит. Она поняла его невысказанный вопрос: «Насколько ты сильна?»
— Келлхус?
— Испытание вот-вот начнется, Эсми. Истинное испытание.
Эсменет содрогнулась от ни с чем не сравнимого ужаса.
«Нет! — мысленно крикнула она. — Только не ты! Только не ты!»
В голосе его звучал страх.
4111 год Бивня, зима, залив Трантис
Хотя ветер продолжал неравномерно, порывами наполнять паруса, сам залив был необыкновенно спокоен. Можно было положить хору на перевернутый щит, и она бы не скатилась — настолько ровно шла «Амортанея».
— Что это? — спросил Ксинем, поворачивая лицо из стороны в сторону. — На что все смотрят?
Ахкеймион оглянулся на друга, потом снова перевел взгляд на берег, усыпанный обломками.
Раздался крик чайки — как всегда у чаек, полный притворной боли.
На протяжении жизни у Ахкеймиона случались такие мгновения — мгновения безмолвного изумления. Он мысленно называл их «визитами», потому что они всегда приходили по собственному желанию. Возникала некая передышка, ощущение отрешенности, иногда теплое, иногда холодное, и Ахкеймион думал: «Как я живу эту жизнь?» На несколько мгновений то, что находилось совсем рядом, — ветерок, трогающий волоски на руке, плечи Эсменет, хлопочущей над их скудными пожитками, — представлялось очень далеким. А мир, от привкуса во рту до невидимого горизонта, казался едва возможным. «Как? — безмолвно твердил он. — Как это может быть?»
Но никакого иного ответа, кроме изумленного трепета, он никогда не получал.
Айенсис называл подобные переживания «амрестеи ом аумретон», «обладание в утрате». В самой знаменитой своей работе, «Третьей аналитике рода человеческого», он утверждал, что это — пребывание в сердце мудрости, самый достоверный признак просветления души. Точно так же, как истинное обладание нуждается в утрате и обретении, так и истинное существование, настаивал Айенсис, нуждается в амрестеи ом аумретон. В противном случае человек просто бредет, спотыкаясь, сквозь сон…
— Корабли, — сказал Ахкеймион Ксинему. — Сожженные корабли.
Правда, немалая ирония крылась в том, что амрестеи ом аумретон придавало всему вид сна — или кошмара, в зависимости от ситуации.
Безжизненные прибрежные холмы Кхемемы стеной окружали залив. Между линией прибоя и пологими склонами тянулась узкая полоса пляжа. Песок напоминал по цвету беленый холст, но везде, насколько хватало глаз, на нем виднелись черные пятна. Повсюду лежали корабли и обломки кораблей, их все поглотил огонь. Их были сотни, и на осколках восседали легионы красношеих чаек.
Над палубой «Амортанеи» зазвучали крики. Капитан корабля, нансурец по имени Меумарас, приказал бросить якорь.
На небольшом расстоянии от берега, на отмели чернело несколько полусгоревших остовов — судя по виду, трирем. За ними из воды поднималось примерно с дюжину корабельных носов; их железные тараны порыжели от ржавчины, а яркие краски, которыми были нарисованы глаза, потрескались и облезли. Но большинство кораблей сгрудилось на берегу; очевидно, их выбросило туда каким-то давним штормом, словно больных китов. От некоторых остались лишь черные ребра шпангоутов. От других — корпуса, лежащие на боку или вовсе перевернутые. Из портов торчали ряды сломанных весел. И повсюду, куда ни падал взгляд, Ахкеймион видел чаек: они кружили в небе, ссорились из-за мелких обломков и стаями сидели на изувеченных корпусах судов.
— Здесь кианцы уничтожили имперский флот, — объяснил Ахкеймион. — И едва не погубили Священное воинство.
Ему вспомнилось, как Ийок описывал это бедствие, когда он висел, беспомощный, в подвале резиденции Багряных Шпилей. С того момента он перестал бояться за себя и начал бояться за Эсменет.
«Келлхус. Келлхус должен был уберечь ее».
— Залив Трантис, — хмуро произнес Ксинем.
Теперь это название известно всему свету. Битва при Трантисе стала величайшим поражением на море за всю историю Нансурской империи. Заманив Людей Бивня поглубже в пустыню, падираджа атаковал их единственный источник воды — имперский флот. Хотя никто точно не знал, что именно произошло, в целом считалось, что Каскамандри как-то удалось спрятать на своих кораблях большое количество кишаурим. По слухам, кианцы потеряли всего две галеры, да и то из-за внезапного шквала.
— Что ты видишь? — не унимался Ксинем. — Как это выглядит?
— Кишаурим сожгли все, — ответил Ахкеймион.
Он умолк, почти поддавшись идущему из глубины души нежеланию говорить что бы то ни было еще. Это казалось богохульством — передавать подобную картину словами. Кощунством. Так происходит всегда, когда один пытается описать потери другого. Но иного способа, кроме слов, не существует.
— Здесь повсюду лежат обугленные корабли… Они напоминают тюленей, которые выбрались на берег погреться на солнце. И чайки — тысячи чаек… У нас в Нроне таких чаек называют гопас. Ну, ты их знаешь — выглядят так, будто у них горло перерезано. Гнусные твари, всегда отвратительно себя ведут.
Капитан «Амортанеи», Меумарас, покинул своих людей и подошел к стоящим у поручней Ахкеймиону с Ксинемом. Ахкеймиону нравился этот человек, с самой первой встречи, еще в Иотии. Он принадлежал к числу тесперариев: так нансурцы называли командиров военных галер, ушедших в отставку и занявшихся коммерческими перевозками. Коротко подстриженные волосы Меумараса серебрились благородной сединой, а лицо, хоть и было выдублено морем, отличалось задумчивостью и изяществом. Конечно, капитан был чисто выбрит, и это придавало ему мальчишеский вид. Впрочем, то же можно сказать обо всех нансурцах.
— Я сделал крюк, вместо того чтобы идти по кратчайшему пути, — объяснил капитан. — Но мне нужно было самому взглянуть на это.
— Вы кого-то потеряли здесь, — сказал Ахкеймион, заметив припухшие веки Меумараса.
Капитан кивнул и взглянул на обугленные корпуса, что валялись вдоль берега.
— Брата.
— Вы точно уверены, что он мертв?
Над головами у них с визгливыми криками пронеслась стая чаек.
— Мои знакомые, сходившие на берег, рассказывали, что кости и иссохшие трупы усеивают пустыню на несколько миль окрест, к северу и к югу. Какой бы катастрофой ни стало нападение кианцев, тысячи человек — если не десятки тысяч — выжили благодаря тому, что генерал Сассотиан тогда поставил флот на якорь недалеко от берега… Вы не чувствуете запаха? — спросил он, взглянув на Ксинема. — Пыль… похоже на сильный запах мела. Мы стоим у границы великого Каратая.
Капитан повернулся к Ахкеймиону, и твердый взгляд его карих глаз встретился со взглядом колдуна.
— Там погибло слишком много людей.
Ахкеймион напрягся; его душу вновь охватил страх, уже успевший сделаться привычным.
— Священное воинство выжило, — возразил он.
Капитан нахмурился, как будто тон Ахкеймиона чем-то задел его. Он уже открыл было рот для ответной реплики, но передумал; в глазах промелькнуло понимание.
— Вы боитесь, что тоже кого-то потеряли.
Он снова взглянул на Ксинема.
— Нет, — отозвался Ахкеймион.
«Она жива! Келлхус должен был спасти ее!»
Меумарас вздохнул и отвел глаза, с жалостью и смущением.
— Желаю удачи, — сказал он, глядя на волны, тихо плескавшиеся о борт корабля. — От всего сердца. Но это Священное воинство…
И он погрузился в загадочное молчание.
— А что — Священное воинство? — спросил Ахкеймион.
— Я старый моряк. Я видел достаточно кораблей, сбившихся с курса и даже пошедших ко дну. Поэтому я знаю — Бог не дает никаких гарантий, невзирая на то, кто капитан и какой груз он везет. А насчет Священного воинства точно можно сказать лишь одно: свет не видывал большего кровопролития.
Ахкеймион знал, что это не так, но предпочел воздержаться. Он вновь принялся разглядывать уничтоженный флот; присутствие капитана стало тяготить его.
— Почему вы так считаете? — спросил Ксинем.
Как всегда, говоря, он вертел головой, поворачивая лицо из стороны в сторону. Отчего-то Ахкеймиону становилось все труднее выносить это зрелище.
— Что вы слышали?
Меумарас пожал плечами:
— По большей части, всякие ужасы. Все эти разговоры про гемофлексию, про чудовищные поражения, про то, что падираджа собирает все оставшиеся у него силы.
Ксинем фыркнул с несвойственной ему горечью:
— Ха! Это всем известно.
Теперь в каждом слове Ксинема Ахкеймиону слышался страх. Казалось, будто в темноте таится нечто ужасное, и Ксинем боится, что это нечто может узнать его по голосу. За прошедшие недели это становилось все более явным: Багряные Шпили отняли у него не только глаза. Они отняли свет, напористость, боевой дух, что некогда наполняли Ксинема до краев. Своими Напевами Принуждения Ийок загнал его душу на извращенные пути, вынудил его предать и достоинство, и любовь. Ахкеймион пытался объяснить Ксинему, что не он думал эти мысли, не он произносил эти слова, — но ничего не помогало. Как сказал Келлхус, люди не способны разглядеть, что ими движет. Слабости, которые Ксинем засвидетельствовал, были его слабостями. Столкнувшись с истинным размахом злобы, Ксинем решил, что всему виной его собственная нестойкость.
— А кроме того, — продолжал капитан, которого, по всей видимости, не задела вспышка Ксинема, — еще и эти истории о новом пророке.
Ахкеймион резко вскинул голову.
— А что за истории? — осторожно спросил он. — Кто вам рассказывал их?
Это мог быть только Келлхус. А если Келлхус выжил…
«Пожалуйста, Эсми! Пожалуйста, уцелей!»
— Каракка, рядом с которой мы стояли в Иотии, — сказал Меумарас. — Ее капитан как раз вернулся из Джокты. Он сказал, что у Людей Бивня сейчас только и разговоров, что о каком-то Келахе, чудотворце, способном выжать воду из песков пустыни.
Ахкеймион сам не заметил, когда прижал руку к груди. Сердце его бешено колотилось.
— Акка? — пробормотал Ксинем.
— Это он, Ксин… Это должен быть он.
— Вы его знаете? — со скептической улыбкой поинтересовался Меумарас.
Среди моряков слухи ценились на вес золота. Но Ахкеймион не мог говорить. Он лишь вцепился в поручни: от радости у него закружилась голова.
Эсменет, наверное, жива. «Она жива!»
Облегчение было даже более глубоким. При мысли о том, что с Келлхусом все в порядке, его сердце забилось быстрее.
— Спокойнее, спокойнее! — пробормотал капитан, обхватив Ахкеймиона за плечи.
Ахкеймион смотрел на него, ничего не соображая. Он едва не потерял сознание.
Келлхус. Чем он так взволновал его? Тем, что при нем он становился больше, чем есть на самом деле? Но кому, как не колдуну, знать вкус тех вещей, что выходят за пределы человеческих возможностей? Если колдуны и насмехались над людьми религиозными, то потому, что верующие относились к ним как к изгоям, потому что они, как казалось колдунам, ничего не понимали в той самой трансцендентности, которая якобы принадлежала исключительно им. А зачем повиноваться, когда можешь запрячь другого в ярмо?
— Да вы присядьте! — продолжал говорить Меумарас.
Ахкеймион отстранил отечески заботливые руки капитана.
— Все хорошо, — выдохнул он.
Эсменет и Келлхус. Они живы! Женщина, которая может спасти его сердце, и мужчина, который может спасти мир.
Он почувствовал на своем плече другую, более сильную руку. Ксинем.
— Оставьте его, — услышал он голос маршала. — Это плавание — лишь малая часть нашего путешествия.
— Ксин! — воскликнул Ахкеймион.
Ему хотелось рассмеяться, но помешала боль в горле.
Капитан отошел; Ахкеймион так и не понял — то ли он сделал это из сострадания, то ли от смущения.
— Она жива, — сказал Ксинем. — Подумай только, как она обрадуется!
Отчего-то от его слов у Ахкеймиона перехватило дыхание. Ксинем, страдавший больше, чем он в состоянии был вообразить, позабыл о своей боли, чтобы…
О своей боли. Ахкеймион сглотнул, пытаясь изгнать возникшую в памяти картину: Ийок, стоящий перед ним, и в глазах с красными радужками — вялое сожаление.
Ахкеймион ухватился за друга. Их руки крепко сжались — в меру их безумия.
— Когда я вернусь, Ксин, там будет огонь.
Он окинул взглядом разбитые корабли имперского флота. Теперь они показались ему скорее переходным периодом, чем концом, — словно надкрылья исполинских жуков.
Красногорлые чайки продолжали нести свою стражу.
— Огонь, — повторил Ахкеймион.
Глава 22. Карасканд
«Ибо все здесь — дань. Мы платим каждым вздохом, и вскоре кошелек наш опустеет».
Хроники Бивня, Книга Песней, глава 57, стих 3«Подобно многим старым тиранам, я души не чаю в своих внуках. Я восхищаюсь их вспышками раздражения, их визгливым смехом, их странными капризами. Я злонамеренно балую их медовыми палочками. И я ловлю себя на том, что восхищаюсь их блаженным неведением мира и миллиона его оскаленных зубов. Следует ли мне, как это сделал мой дедушка, выбить из них эту ребячливость? Или же мне следует снисходительно отнестись к их иллюзиям? Даже теперь, когда смерть стягивает вокруг меня свои призрачные заставы, я спрашиваю: „Почему невинность должна держать ответ перед миром?“ Быть может, это мир должен держать ответ перед невинностью.
Да, я скорее склоняюсь к этому. Я устал нести ответственность…»
Стаджанас II, «Размышления»4111 год Бивня, зима, Карасканд
На следующее утро над Караскандом висела пелена дыма. Город был испятнан пустошами пожаров, на которых то тут, то там виднелись огромные выпотрошенные постройки. Мертвые были повсюду: они грудами лежали перед дымящимися храмами, валялись в разграбленных дворцах и на площадях прославленных караскандских базаров. Коты лакали кровь из луж. Вороны выклевывали незрячие глаза.
Пение одинокой трубы скорбным эхом разнеслось над крышами. Все еще хмельные после вчерашнего, Люди Бивня зашевелились, предвидя день покаяния и мрачного празднования. Но из разных районов города стали доноситься голоса других труб — призыв к оружию. Рыцари в железных доспехах затопали по улицам, выкрикивая: «Тревога! Тревога!»
Те, кто взобрался на южные стены, увидели огромные отряды всадников в разноцветных одеждах, что перехлестнули через гребень холма и теперь скатывались вниз по склонам, поросшим редким лесом. Каскамандри I, падиражда Киана, наконец-то лично повел военные действия против айнрити.
Великие Имена отчаянно пытались собрать своих танов и баронов — безнадежная затея, ибо люди рассеялись по всему городу. Готьелк все еще был не в себе после гибели младшего сына, Гурньяу, и от него ничего не добились. А тидонцы отказались покидать город без своего возлюбленного графа Агансанорского. Длинноволосые туньеры после недавней смерти принца Скайельта распались на плохо организованные отряды и теперь безответственно вернулись к грабежу. А айнонские палатины, когда Чеферамунни оказался на смертном ложе, принялись враждовать между собой. Трубы звали и звали, но мало нашлось тех, кто откликнулся на зов, слишком мало.
Фанимские кавалеристы спустились с холмов так быстро, что большую часть осадных лагерей Священного воинства пришлось оставить, вместе с военными машинами и съестными припасами. Отступавшие рыцари подожгли несколько лагерей, чтобы добро не попало в руки язычников. Сотни больных, неспособных спасаться бегством, были брошены на произвол судьбы. Отряды рыцарей-айнрити, пытавшихся сопротивляться продвижению падираджи, быстро оттеснили или обратили в бегство, а по их следам катились волны улюлюкающих всадников. Все утро Великие Имена лихорадочно собирали тех, кто остался за пределами Карасканда, и прилагали усилия, чтобы организовать оборону городских стен.
Победа обернулась ловушкой. Айнрити оказались заточены в городе, который уже несколько недель пребывал в осаде. Великие Имена приказали обследовать продовольственные запасы. Когда они узнали, что Имбейян, поняв, что потерял Карасканд, сжег городские амбары, они впали в отчаяние. И конечно же, огромные кладовые последнего оплота города, Цитадели Пса, были уничтожены Багряными Шпилями. Разрушенная крепость все еще горела, маяком возвышаясь над самым восточным холмом Карасканда.
Восседая на роскошном канапе, окруженный советниками и многочисленными детьми, Каскамандри аб Теферокар наблюдал с террасы брошенной виллы на склоне холма, как широкие крылья его армии неумолимо смыкаются вокруг Карасканда. Прижавшись к его огромному, словно у кита, животу, очаровательные дочки падираджи засыпали отца вопросами о том, что здесь произошло.
Несколько месяцев он наблюдал за Священным воинством из роскошных святилищ Кораши, из возвышенного дворца «Белое солнце» в Ненсифоне. Он положился на проницательность и талант своих полководцев. Он презирал идолопоклонников-айнрити, считая их варварами, ничего не смыслящими в войне.
Теперь с этим покончено.
Чтобы возместить ущерб, причиненный по его недосмотру, падираджа собрал воинство, достойное его предков, некогда ведших джихад. В него входили те, кто выжил при Анвурате, — около шестидесяти тысяч сильных воинов, под командованием несравненного Кинганьехои, отказавшегося от вражды с падираджой; гранды Чианадини, родины кианцев, и с ними около сорока тысяч кавалеристов под командованием блестящего и безжалостного Фанайяла, сына Каскамандри; и давний данник Каскамандри, Пиласаканда, король Гиргаша, чей вассал вел с собой тридцать тысяч чернокожих фаним и сто мастодонтов из языческого Нильнамеша. Эти последние вызывали у падираджи особенную гордость, а его дочери при виде неуклюжих гигантов ахали и хихикали.
Когда спустился вечер, падираджа приказал штурмовать стены города, в надежде воспользоваться смятением, охватившим идолопоклонников при виде его преимущества. Принесли лестницы, сделанные еще плотниками-айнрити, прикатили единственную осадную башню, захваченную в целости и сохранности, и вдоль стен, примыкающих к вратам Слоновой Кости, вспыхнул яростный бой. Мастодонтов впрягли в огромный таран, окованный железом, — тоже сделанный Людьми Бивня, — и вскоре раскатистый рокот барабанов и трубные вопли слонов перекрыли крики дерущихся. Но железные люди отказывались сдавать стены, и кианцы с гиргашцами понесли ужасающие потери — в том числе четырнадцать мастодонтов, сожженных заживо кипящей смолой. Младшая дочь Каскамандри, прекрасная Сироль, расплакалась.
Когда солнце наконец зашло, Люди Бивня встретили темноту с облегчением и ужасом. С облегчением — потому что сегодня сумели спастись. А с ужасом — потому что все равно были обречены.
Низкое стаккато барабанной дроби.
Пройас — рядом с ним стоял Найюр — прислонился к известняковому парапету на вершине Роговых Врат, глядя через бойницу на грязную равнину внизу. Окрестности кишели кианцами, которые стаскивали вещи и палатки айнрити на огромные костры, устанавливали яркие шатры, подновляли частоколы и земляные валы. Отряды всадников в серебристых шлемах патрулировали холмы.
Айнрити пришлось занять те же самые места, чтобы обстреливать нападающих; обгоревшая махина осадной башни стояла на расстоянии броска камня от того места, где устроился Пройас. Принц крепко зажмурился; глаза жгло, словно огнем. «Этого не может быть! Только не это!»
Сперва эйфория, — полный экстаз! — вызванная падением Карасканда. Затем падираджа, который так долго оставался не более чем слухом об огромных силах, скапливающихся на юге, материализовался на холмах у города. В голове у Пройаса билась одна-единственная мысль: кто-то совершил чудовищную ошибку; все уладится само собой, как только прекратится хаос грабежей. Эти отряды всадников в шелковых одеяниях — они не могут быть кианской кавалерией. Язычники были смертельно ранены под Анвуратом — уничтожены! Священное воинство взяло могучий Карасканд, великие врата Ксераша и Амотеу, и уже готово вступить в Священные земли! Они так близко!..
Так близко, что в Шайме — Пройас был в этом уверен — видели на горизонте дымы Карасканда.
Но кавалеристы действительно были кианцами. Они охватили город огромным кольцом, и над ними реял Белый Лев падираджи. Они жгли оставшиеся без защиты лагеря айнрити, убивали больных и гнали прочь безумцев, которым хватало глупости препятствовать их продвижению. Каскамандри пришел. И Бог, и надежда покинули Людей Бивня.
— Сколько их, на твой взгляд? — спросил Пройас у скюльвенда, который стоял, скрестив покрытые шрамами руки поверх чешуйчатого доспеха.
— А какая разница? — отозвался варвар.
Его бирюзовый взгляд раздражал Пройаса, и принц снова принялся осматривать затянутые серым дымом окрестности. Вчера, когда масштабы бедствия постепенно прояснились, Пройас раз за разом спрашивал себя: почему? Почему? Его мысли, словно обиженный ребенок, топтались вокруг его благочестия. Кто из Великих Имен трудился столько, сколько он? Кто совершил больше жертвоприношений, вознес больше молитв? Но теперь Пройас не смел задаваться этим вопросом.
К нему вернулись мысли об Ахкеймионе и Ксинеме.
«Это ты, — сказал тогда маршал Аттремпа, — все предал…»
«Но это же во имя Бога! Ради славы Господней!»
— Большая разница! — прошипел Пройас.
Он знал, что скюльвенд ощетинится, заслышав подобный тон, но его это не волновало.
— Нам нужно найти способ выбраться отсюда!
— Вот именно, — отозвался Найюр, внешне совершенно невозмутимый. — Нам нужно найти способ выбраться отсюда. А насколько велико воинство падираджи — неважно.
Нахмурившись, Пройас снова повернулся к бойнице. Он был не в том настроении, чтобы выслушивать замечания.
— А как же Конфас? — спросил принц. — Возможно ли, что он солгал насчет запасов еды?
Варвар пожал могучими плечами.
— Нансурцы умеют считать.
— А еще они умеют лгать! — сорвался Пройас.
Ну почему этот человек не может просто отвечать на вопросы?
— Ты думаешь, Конфас сказал правду?
Найюр сплюнул за край древней каменной стены.
— Придется подождать… Посмотрим, останется ли он жирным, когда мы отощаем.
Чума на голову скюльвенда! Как он может дразнить его сейчас, в таких тяжелых обстоятельствах?
— Ты осажден, — продолжал скюльвендский воин, — в городе, который уже несколько недель голодал. Даже если Конфас и припрятал сколько-то еды, это не имеет значения. У тебя всего один выход, один-единственный. Нужно пустить в дело Багряных Шпилей — и немедленно, пока падираджа не успел собрать кишаурим. Священное воинство должно выйти в поле.
— Ты что, думаешь, я с этим не согласен? — воскликнул Пройас. — Я уже обращался к Элеазару — и знаешь, что он мне ответил? Он сказал: «Багряные Шпили уже понесли слишком много ненужных потерь…» Ненужные потери! Каково, а? Дюжина погибших при Анвурате, если не меньше! Чуть больше в пустыне — не так уж плохо по сравнению с сотней тысяч правоверных! И что? Человек пять сражены вчера хорами, — небо, спаси и помилуй! — убиты при уничтожении последних остававшихся в Карасканде запасов еды. Всем бы нам такие потери!
Пройас умолк, осознав, что начинает задыхаться. Мысли путались, как будто он по-прежнему страдал от лихорадки. Огромные, потрепанные временем камни башни словно кружились вокруг него. Если бы Триамис построил эти стены из хлеба! — мелькнула у него бредовая мысль.
Скюльвенд бесстрастно наблюдал за ним.
— Тогда вы обречены, — сказал он.
Пройас поднес руки к лицу, провел ногтями по щекам. «Этого не может быть! Что-то… Я что-то упустил!»
— Мы прокляты, — пробормотал он. — Они правы… Бог наказывает нас!
— Ты о чем?
— О том, что Конфас и прочие, возможно, правы насчет него!
Грубое лицо превратилось в каменную маску.
— Него?
— Келлхуса! — воскликнул Пройас.
Он крепко сцепил дрожащие руки.
«Я дрогнул! Я потерпел неудачу!»
Пройас читал множество трактатов о том, как другие люди совершали ошибки в критических ситуациях, и вдруг понял, что сейчас — сейчас! — его момент слабости. Но вопреки ожиданиям, это не придало ему сил. Скорее уж осознание того, что он потерпел неудачу, грозило ускорить его крах. Он был слишком болен… Слишком устал.
— Они ругаются из-за него, — резко произнес принц. — Сперва Конфас, а теперь даже Готьелк и Готиан.
Пройас судорожно вздохнул.
— Они утверждают, что он — лжепророк.
— Это не слухи? Они сами сказали тебе об этом?
Пройас кивнул.
— Они думают, что при моей поддержке смогут открыто выступить против него.
— Ты рискнешь развязать войну? Войну айнрити против айнрити?
Пройас сглотнул, пытаясь придать взгляду строгость.
— Да, если этого потребует Бог.
— А откуда вам знать, чего именно требует ваш Бог?
Пройас в ужасе уставился на скюльвенда.
— Я просто…
К горлу подступила острая боль, по щекам потекли горячие слезы. Пройас мысленно выругался, открыл было рот, но вместо слов у него вырвался всхлип.
«О Господи!»
Все это длилось чересчур долго. Ноша оказалась непосильной. Все — каждый день, каждое слово! — все было битвой. А жертвы — они оставляли слишком глубокие раны. Пустыня, даже гемофлексия — пустяки. Но Ахкеймион — о, это уже серьезно! И Ксинем, от которого он отказался. Два человека, которых он уважал, как никого другого, — и отрекся от них ради Священного воинства… Но этого все равно недостаточно!
«Ничего… Ничего не достаточно!»
— Скажи мне, Найюр, — прохрипел принц.
Странная улыбка, больше похожая на оскал, проступила на лице скюльвенда, и Пройас снова всхлипнул. Он закрыл лицо руками и осел на парапет.
— Пожалуйста! — крикнул он камню. — Найюр… Ты должен сказать мне, что делать!
Теперь, похоже, ужаснулся скюльвенд.
— Иди к Келлхусу, — сказал варвар. — Но я тебя предупреждаю, — он вскинул могучий, покрытый боевыми шрамами кулак, — береги свое сердце. Накрепко закрой его!
Он опустил голову и взглянул исподлобья — так мог бы глядеть волк.
— Иди, Пройас. Иди и сам спроси этого человека.
Кровать стояла на черном помосте, устроенном в центре спальни, словно постамент, вырезанный из каменной глыбы. Легкие покрывала, которые обычно натягивались между столбиками кровати, здесь были прикреплены к изумрудно-золотому балдахину. Закинув ногу поверх простыней, Келлхус нежно погладил Эсменет по щеке. Глядя на ее зардевшуюся кожу, он видел, как кровь питает бьющееся сердце, а затем разливается по всему телу.
«Наша кровь, отец…» В мире неискусных и тупых душ ничто не могло быть драгоценнее.
«Дом Анасуримборов».
Дуниане видели не только глубоко — они видели далеко. Даже если Священное воинство выживет в Карасканде, даже если удастся захватить Шайме, война все равно только начинается. Этому его научил Ахкеймион.
И в конечном итоге лишь сыновья смогут победить смерть.
«Ты поэтому вызвал меня? Из-за того, что умираешь?»
— Что это? — спросила Эсменет, подтягивая простыню к подбородку.
Келлхус резким движением подался вперед и уселся, поджав ноги. Он вгляделся в освещенный свечами полумрак, прислушиваясь к приглушенному шуму возни за дверью. «Что он…»
Двустворчатая дверь вдруг распахнулась, и Келлхус увидел Пройаса, все еще слабого после болезни, — он скандалил с двумя из Сотни Столпов.
— Келлхус! — прорычал конрийский принц. — Отгони своих псов, или, клянусь Богом, сейчас прольется кровь!
Повинуясь короткому приказу, телохранители отпустили Пройаса и вернулись на свои места. Принц остался стоять. Грудь его тяжело вздымалась, взгляд блуждал по роскошной полутемной спальне. Келлхус охватил его своими чувствами… Этот человек прямо-таки излучал безрассудство, но буйство его страсти создавало определенные трудности, в которых тяжело было разобраться. Он боялся, что Священное воинство погибло — как и все его люди, и что Келлхус каким-то образом послужил этому причиной.
«Ему нужно знать, что я такое».
— Что случилось, Пройас? Что это на тебя нашло, раз ты так возмутительно себя ведешь?
Но тут взгляд принца наткнулся на Эсменет, оцепеневшую от потрясения. Келлхус мгновенно распознал опасность.
«Он ищет повод».
У дверей была устроена внутренняя терраса; Пройас, пошатываясь, попятился к ограждению.
— Что она здесь делает? — Он в замешательстве смотрел на женщину. — Почему она в твоей постели?
«Он не хочет понимать».
— Она моя жена. Так что случилось?
— Жена?! — воскликнул Пройас и поднес ладонь ко лбу. — Она твоя жена?
«До него доходили слухи…»
— Пустыня, Пройас. Пустыня оставила след на всех нас.
Принц покачал головой.
— К черту пустыню, — пробормотал он, потом, охваченный внезапной яростью, поднял взгляд. — К черту пустыню! Она же… она… Акка любил ее! Акка! Ты что, забыл? Твой друг…
Келлхус опустил глаза, с печалью и раскаянием.
— Мы подумали, что он хотел бы этого.
— Хотел? Хотел, чтобы его лучший друг трахал шлю…
— Да кто ты такой, чтобы говорить об Акке со мной! — выкрикнула Эсменет.
— Ты о чем? — спросил Пройас, бледнея. — Что ты имеешь в виду?
Он поджал губы; глаза его потухли, правая рука поднялась к груди. Ужас открыл новую точку в бурлении его страстей — возможность…
— Но ты же сам знаешь, — сказал Келлхус. — Изо всех людей ты менее всего имеешь право судить.
Конрийский принц вздрогнул.
— Что ты имеешь в виду?
«Давай… Предложи ему перемирие. Продемонстрируй понимание. Покажи бессмысленность его вторжения…»
— Послушай, — сказал Келлхус, потянувшись к собеседнику словами, тоном и каждым оттенком выражения. — Ты позволил своему отчаянию править собой… А я рассердился на дурные манеры. Пройас! Ты — один из лучших моих друзей…
Он отбросил простыни, спустил ноги на пол.
— Давай выпьем и поговорим.
Но Пройас зацепился за его предыдущее замечание — как того и желал Келлхус.
— Я желаю знать, почему не имею права судить. Что это означает, «лучший друг»?
Келлхус с болью поджал губы.
— Это означает, что именно ты, Пройас, — ты, а не мы — предал Ахкеймиона.
Красивое лицо оцепенело от ужаса. Сердце лихорадочно заколотилось.
«Мне следует действовать осторожно».
— Нет, — отрезал Пройас.
Келлхус разочарованно прикрыл глаза.
— Да. Ты обвиняешь нас, хотя на самом деле считаешь, что сам должен нести ответственность.
— Ответственность? За что? — Принц фыркнул, словно испуганный юнец. — Я ничего не сделал.
— Ты сделал все, Пройас. Тебе нужны были Багряные Шпили, а Багряным Шпилям был нужен Ахкеймион.
— Никто не знает, что случилось с Ахкеймионом!
— Ты знаешь… Я вижу это знание в тебе.
Конрийский принц отшатнулся.
— Ты ничего не видишь!
«Так близко…»
— Конечно, вижу, Пройас. Как ты можешь до сих пор сомневаться во мне, после всего, что было?
Но прямо у него на глазах что-то произошло: непредвиденная вспышка осознания, каскад противоречий, слишком сильных, чтобы их можно было заглушить. «Какое слово…»
— Сомневаться? — выкрикнул Пройас. — А как я могу не сомневаться? Священное воинство стоит на краю пропасти, Келлхус!
Келлхус улыбнулся, как прежде улыбался Ксинем тому, что казалось ему одновременно и трогательным, и глупым.
— Бог испытывает нас, Пройас. Он еще не вынес приговор. Скажи, как может быть испытание без сомнений?
— Он испытывает нас… — с непроницаемым лицом повторил Пройас.
— Конечно, — печально произнес Келлхус. — Просто открой свое сердце, и ты сам все увидишь!
— Открыть свое… — Пройас оборвал фразу; глаза его до краев наполнились недоверием и страхом. — Он говорил мне! — вдруг прошептал он. — Так вот что он имел в виду!
Острая тоска во взоре, боль, сражавшаяся с дурными предчувствиями, — все это внезапно рухнуло, сменившись подозрительностью и недоверием.
«Кто-то предупредил его… Но кто? Скюльвенд? Неужели он зашел так далеко?»
— Пройас…
«Мне следовало убить его».
— А как насчет тебя, Келлхус? — бросил Пройас. — Ты сам-то сомневаешься? Великий Воин-Пророк боится будущего?
Келлхус взглянул на Эсменет и увидел, что она плачет. Он сжал ее холодные руки.
— Нет.
«Я не боюсь».
Пройас уже отступал, пятясь, через двустворчатую дверь, в ярко освещенную прихожую.
— Ну так будешь.
Больше тысячи лет огромные известняковые стены Карасканда смотрели на холмистые просторы Энатпанеи. Когда Триамис I — возможно, величайший из аспект-императоров — возвел их, его хулители в Кенейской империи потешались над такой тратой сил и средств, заявляя, что он, победивший всех врагов, не нуждается в стенах. Триамис же, как писали летописцы, отмахнулся от их замечаний, сказав: «Никто не может победить будущее». И действительно, за последующие века Триамисовы стены, как их прозвали, не раз сдерживали ход истории, если не направляли его в иную сторону.
День за днем трубы айнрити пели на высоких башнях, созывая Людей Бивня на крепостные валы, ибо падираджа с безрассудной яростью гнал своих людей на приступ могучих укреплений, убежденный, что силы голодающих идолопоклонников на исходе. Изможденные галеоты, конрийцы, тидонцы становились к военным машинам, оставшимся от прежних защитников Карасканда, стреляли из катапульт горшками с кипящей смолой, а из баллист — огромными железными стрелами. Туньеры, нансурцы и айноны собирались на стенах, под парапетом с бойницами, и прикрывались щитами от ливня стрел, что временами застил солнце. И день за днем отбрасывали язычников.
Даже проклиная врагов, кианцы не могли не изумляться их отчаянной ярости. Дважды молодой граф Атьеаури устраивал дерзкие вылазки на изрытую подковами равнину; в первый раз он захватил окопы саперов и обрушил проложенные ими туннели, а во второй — прорвался за насыпанные кое-как земляные валы и разграбил стоящий на отшибе лагерь. Всем было очевидно, что айнрити обречены, и однако же они продолжали сражаться, как будто не знали этого.
Но они знали — как могут знать только люди, к которым подступает голодная смерть.
Гемофлексия шла своим чередом. Многие — и в их числе Чеферамунни, король-регент Верхнего Айнона — еще медлили на пороге смерти, а другие — такие как палатин Зурсодда, правитель Корафеи, или Кинней, граф Агмундрский, в конце концов перешагнули его. Когда пламя поглотило графа Агмундрского, его прославленные лучники принялись стрелять через стену горящими стрелами, и кианцы поражались, не понимая, что за безумие охватило идолопоклонников. Кинней попал в число последних великих лордов айнрити, сгинувших в горниле болезни.
Но когда мор пошел на убыль, угроза голодной смерти усилилась. Ужасный Голод, Буркис, бог, пожирающий людей и выплевывающий кожу и кости, бродил по улицам и дворцам Карасканда.
Во всем городе люди охотились на котов, собак, а под конец даже на крыс. Дворяне победнее вскрывали вены породистым скакунам. Многие отряды кидали жребий, определяя, кому придется забить своего коня. Те, у кого коней не было, копались в земле, выискивая съедобные клубни. Они варили виноградные лозы и даже осот, чтобы заглушить мучительное безумие, терзающее желудки. Кожу — с седел, курток, и вообще отовсюду, откуда только удавалось ее отодрать, — тоже варили и ели. Когда раздавалось пение труб, на многих доспехи болтались, потому что ремешки и застежки очутились в каком-нибудь горшке. Изможденные люди бродили по улицам в поисках съестного; лица их были пусты, а движения медлительны, словно они шли сквозь песок. Поговаривали, будто некоторые пируют жирными трупами кианцев или убивают в глухой ночи, чтобы унять безумный голод.
Вслед за фаним вернулись и болезни. Люди, особенно из низших каст, начали терять зубы от цинги. Других дизентерия наказала коликами и кровавым поносом. Во многих районах города можно было увидеть воинов, что ходили без штанов, погрязнув в своем вырождении.
Все это время внимание, окружающее Келлхуса, князя Атритау, и напряжение между теми, кто восхвалял его, и теми, кто осуждал, усиливались. На заседаниях совета Конфас, Готьелк и даже Готиан без устали обвиняли Келлхуса, утверждая, что он — лжепророк, язва на теле Священного воинства и ее следует выжечь. Кто мог усомниться в том, что Бог наказывает их? У Священного воинства, настаивали они, может быть только один пророк, и его имя — Айнри Сейен. Пройас, который прежде с таким красноречием защищал Келлхуса, самоустранился ото всех споров и отказывался что-либо говорить. Лишь Саубон по-прежнему выступал в его защиту, хоть и без особого рвения, поскольку ему не хотелось портить отношения с людьми, в поддержке которых он нуждался, дабы упрочить свои притязания на Карасканд.
Но никто по-прежнему не смел предпринять что-то против так называемого Воина-Пророка. Его последователи, заудуньяни, исчислялись десятками тысяч, хотя представителей высших каст среди них было не так уж много. Мало кто забыл Чудо Воды в пустыне, когда Келлхус спас Священное воинство, включая и тех неблагодарных, которые теперь предавали его анафеме. Вспыхнул раздор и мятеж, и впервые мечи айнрити пролили кровь айнрити. Рыцари отрекались от лордов. Брат отказывался от брата. Соплеменники восставали друг против друга. Лишь Готиану и Конфасу удалось как-то сохранить верность своих людей.
И тем не менее, когда раздавалось пение труб, айнрити забывали о вражде. Они стряхивали с себя уныние болезни и сражались с жаром, знакомым лишь тем, на кого пал гнев Божий. А штурмовавшим их язычникам казалось, будто стены обороняют мертвецы. Сидя у своих костров, кианцы шепотом рассказывали истории об отважных и проклятых душах, о том, что Священное воинство уже погибло, но до сих пор продолжает сражаться, ибо столь сильна была ненависть его воинов.
Слово «Карасканд» из названия города сделалось именем страдания. Казалось, будто сами стены — стены, возведенные Триамисом Великим, — стонут.
Роскошь этого дома напоминала Серве о праздной жизни наложницы в доме Гауна. С открытой колоннады на дальней стороне комнаты ей был виден Карасканд, раскинувшийся на холмах под синью небес. Серве полулежала на зеленой кушетке; она сбросила платье с плеч, и теперь оно свисало с яркого пояса, повязанного у нее на талии. Младенец вертелся у ее обнаженной груди, и Серве как раз начала кормить его, когда услышала щелчок отодвигающейся щеколды. Серве подумала, что это кто-то из домашних рабов-кианцев, и ахнула от неожиданности и восторга, когда почувствовала прикосновение к шее руки Воина-Пророка. Вторая рука скользнула по ее нагой груди, когда Келлхус потянулся, чтобы осторожно провести пальцем по пухлой щечке младенца.
— Что ты здесь делаешь? — спросила Серве, подставляя губы для поцелуя.
— Много всего произошло, — мягко произнес Келлхус. — Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке… А где Эсми?
Ей всегда было странно слышать, как Келлхус задает такие простые вопросы. Они напоминали ей о том, что Бог все еще человек.
— Келлхус, — задумчиво спросила она, — а как зовут твоего отца?
— Моэнгхус.
Серве наморщила лоб.
— Я думала, его имя… Этель или как-то так.
— Этеларий. В Атритау короли, восходя на престол, принимают имя великого предка. А Моэнгхус — его настоящее имя.
— Тогда, — сказала Серве, проводя пальцами по светлому пушку, покрывающему головку ребенка, — это и будет его имя при помазании: Моэнгхус.
Это не было утверждением. В присутствии Воина-Пророка все заявления становились вопросами.
Келлхус улыбнулся:
— Так мы назовем нашего ребенка.
— Мой пророк, а что он за человек — твой отец?
— Самый загадочный на свете, Серве.
Серве негромко рассмеялась.
— А он знает, что породил на свет голос Бога?
Келлхус поджал губы от притворной сосредоточенности.
— Возможно.
Серве, которая уже стала привыкать к таинственным беседам наподобие этой, улыбнулась. Она смахнула слезы с глаз. С теплом ребенка, пригревшегося на груди, и теплом дыхания пророка на шее мир казался замкнутым кругом, как будто радость давно изгнала горе.
Внезапно Серве захлестнуло ощущение вины.
— Я знаю, что ты горюешь, — сказала она. — Столько страданий…
Он опустил голову. Ничего не ответил.
— Но я никогда не была такой счастливой, — продолжала Серве. — Такой целой… Это грешно? Обрести радость, когда другие страдают?
— Для тебя — нет, Серве. Для тебя — нет.
Серве ахнула и перевела взгляд на младенца, присосавшегося к груди.
— Моэнгхус проголодался! — рассмеялась она.
Радуясь, что их долгие поиски завершены, Раш и Вригга остановились на вершине стены. Опустив щит, Раш уселся спиной к парапету, а Вригга остался стоять, прислонившись к каменной кладке и глядя через бойницу на вражеские костры, рассеянные по долине Тертаэ. Никто из них не обратил внимания на темную фигуру, припавшую к парапету на некотором расстоянии от них.
— Я видел ребенка, — сказал Вригга.
— Да ну? — с искренним интересом отозвался Раш. — А где?
— У нижних врат на площади Фама. Помазание проводили прилюдно… А ты что, не знал?
— А мне кто-нибудь сообщил?!
Вригга уставился в ночную мглу.
— Какой-то он странно темненький, я бы сказал.
— Чего?
— Ребенок. Ребенок темненький.
Раш фыркнул.
— Подумаешь, с такими волосиками родился. Они все равно скоро сменятся. У моей второй дочки вообще были бачки!
Дружеский смех.
— Когда-нибудь, когда все закончится, я приеду поухаживать за твоими волосатыми дочками.
— Ох, начни лучше с моей волосатой жены!
Новый взрыв смеха, оборвавшийся от внезапного озарения.
— О-хо! Так вот откуда взялось твое прозвище!
— Ах ты наглый ублюдок! — возмутился Раш. — Нет, просто моя кожа…
— Имя ребенка! — проскрежетал чей-то голос из темноты. — Как его имя?
Вздрогнув, друзья повернулись к похожему на призрак скюльвенду. Им уже доводилось видеть этого человека — мало кто из Людей Бивня не видел его, — но им никогда еще не случалось сталкиваться с варваром лицом к лицу. Даже в лунном свете от его вида становилось не по себе. Буйные черные волосы. Загорелый лоб, глаза — словно два осколка льда. Могучие плечи, слегка ссутуленные, как будто согнутые сверхъестественной силой его спины. Тонкая, словно у юноши, талия. И крепкие руки, исчерченные шрамами, и ритуальными, и полученными в боях. Он казался каменным изваянием, древним и голодным.
— Ч-что? — запинаясь, переспросил Раш.
— Имя! — прорычал Найюр. — Как его назвали?
— Моэнгхус! — выпалил Вригга. — Они назвали его Моэнгхусом…
Висящее в воздухе ощущение угрозы внезапно развеялось. Варвар сделался странно непроницаемым, настолько неподвижным, что его можно было принять за неодушевленный предмет. Безумные глаза глядели сквозь друзей, в края далекие и запретные.
Некоторое время царило напряженное молчание. А затем, не сказав ни слова, скюльвенд развернулся и ушел во тьму.
Вздохнув, двое друзей переглянулись, а потом возобновили свою специально разыгранную беседу — на всякий случай, для верности.
Как им и было велено.
«Какой-нибудь иной путь, отец. Должен быть иной путь».
К Цитадели Пса не подходил никто, даже самые отчаявшиеся охотники на крыс.
Стоя на гребне разрушенной стены, Келлхус смотрел на темный Карасканд с его сотнями тлеющих пожарищ. А за стенами, по всей равнине, горели бесчисленные костры армии падираджи.
«Путь, отец… Где путь?»
Сколько бы раз Келлхус ни подвергал себя строгости вероятностного транса, все линии оказывались задавлены то ли бедствием, то ли весом чрезмерных перестановок. Переменные величины были слишком многочисленны, а вероятности — слишком безудержны.
В течение последних недель он пустил в ход все влияние, каким только располагал, в надежде обойти вариант, который теперь казался неминуемым. Из Великих Имен его в открытую продолжал поддерживать лишь Саубон. Пройас, хотя и отказался присоединиться к созданной Конфасом коалиции, наотрез отвергал все попытки Келлхуса помириться. Среди прочих Людей Бивня углублялось разделение на заудуньяни и ортодоксов, как они теперь себя называли. А угроза нового, более решительного нападения со стороны Консульта не позволяла Келлхусу свободно ходить среди людей — и это при том, что ему необходимо было сохранить тех, кого он уже приобрел, и завоевать новых последователей.
А тем временем Священное воинство умирало.
«Ты сказал, что мой путь — Кратчайший…» Он тысячу раз воскрешал в памяти неожиданную встречу с посланцем-кишаурим, анализируя, оценивая, взвешивая различные прочтения — и все тщетно. Что бы ни говорил отец, всякий шаг теперь вел во тьму. Каждое слово несло риск. Казалось, он во многих отношениях ничем не отличался от людей, рожденных в миру…
«Что такое Тысячекратная Мысль?»
Келлхус услышал постукивание камня о камень, потом шорох гравия и песка. Он попытался разглядеть что-нибудь сквозь тени, окружавшие подножие руин. Опаленные стены образовали не имеющий крыши лабиринт. Темная фигура вскарабкалась на груду обломков. Келлхус разглядел в лунном свете округлое лицо.
— Эсменет! — позвал он. — Как ты меня нашла?
Улыбка ее была озорной и лукавой, хотя Келлхус видел скрывающееся за ней беспокойство.
«Она никогда никого не любила так, как меня. Даже Ахкеймиона».
— Мне сказал Верджау, — ответила Эсменет, пробираясь между изувеченных стен.
— Ах да, — сказал Келлхус, который все мгновенно понял. — Он боится женщин.
Эсменет пошатнулась, раскинула руки. Она восстановила равновесие, но на миг у Келлхуса перехватило дыхание — и он сам этому удивился. Падение с такой высоты стало бы смертельным.
— Нет… — Она на миг сосредоточилась, высунув кончик языка. Потом пляшущей походкой преодолела оставшееся расстояние. — Он боится меня!
Эсменет со смехом бросилась в его объятия. Они крепко прижались друг к другу на этой темной, ветреной высоте, окруженные городом и миром — Караскандом и Тремя Морями.
«Она знает… Она знает, что я борюсь».
— Мы все тебя боимся, — сказал Келлхус, удивляясь, какой влажной сделалась его кожа.
«Она пришла, чтобы утешить меня».
— Ты просто восхитительно лжешь, — пробормотала Эсменет, подставляя губы для поцелуя.
Они прибыли вскоре после того, как сгустились сумерки, — девять наскенти, старших учеников Воина-Пророка. На террасе дворца, который Келлхус выбрал в качестве опорного пункта и пристанища в Карасканде, был установлен огромный стол из красного дерева, высотой по колено. Стоявшая в тени сада Эсменет смотрела, как они усаживались на подушки, подбирая или скрещивая ноги. Прошедшие дни избороздили почти все лица морщинами беспокойства, но эти девятеро казались особенно встревоженными. Наскенти круглые сутки проводили в городе, организовывая заудуньяни, посвящая новых судей и закладывая основы богослужения. Пожалуй, они лучше, чем кто бы то ни было, знали, насколько трудное положение у Священного воинства.
Терраса возвышалась над северным склоном Бычьего холма, и с нее открывался вид на большую часть города. Лабиринт улочек и переулков Чаши, образующий сердце Карасканда, уходил вдаль и поднимался к холмам, словно ткань, натянутая между пятью столбиками. На востоке вырисовывался остов Цитадели; лунный свет окаймлял извилистые очертания опаленных стен. На северо-западе, на Коленопреклоненном холме раскинулся дворец сапатишаха; холм был не слишком высок, и время от времени на розовых мраморных стенах мелькали какие-то люди. По ночному небу ходили темные тучи, но Гвоздь Небес, ясный и сверкающий, поблескивал из темных глубин.
Внезапно среди наскенти воцарилась тишина; они, все как один, склонили головы. Эсменет увидела Келлхуса, он появился из соседних апартаментов. Отбрасывая множество теней, он прошел мимо ряда жаровен. По бокам от него шествовали двое мальчишек-кианцев с голыми торсами; они несли курильницы, над которыми поднимался серо-голубой, стального оттенка дым. Следом шли несколько мужчин в кольчугах и шлемах, и с ними — Серве.
У Эсменет перехватило дыхание, и она обругала себя за это. Почему ее сердце так сильно колотилось? Опустив взгляд, она заметила, что непроизвольно накрыла ладонью татуировку, пятнающую тыльную часть левой руки.
«Это время миновало».
Эсменет вышла из сада и поприветствовала пророка. Келлхус улыбнулся и, удерживая пальцы ее левой руки, усадил Эсменет справа от себя. Его белое шелковое одеяние теребил ветер, и почему-то скрещенные сабли, вышитые по подолу и манжетам, не казались неуместными. Кто-то — скорее всего, Серве — заплел ему волосы в галеотскую воинскую косу. Борода, которую Келлхус теперь подстригал и заплетал на айнонский манер, поблескивала бронзой в свете жаровен. Над левым плечом у него, как всегда, торчала длинная рукоять меча. Эншойя — так теперь называли этот меч заудуньяни. «Уверенность».
Глаза пророка сверкали под густыми бровями. Когда он улыбнулся, от уголков глаз и губ разбежалась сеточка морщин — дар пустыни.
— Вы, — сказал Келлхус, — мои ветви.
Голос его был низким и звучным, и почему-то Эсменет казалось, будто он исходит из ее груди.
— Изо всех людей лишь вы знаете, что важнее всего. Только вы, таны Воина-Пророка, знаете, что вами движет.
Пока Келлхус вкратце излагал наскенти все те вопросы, которые уже обсудил с ней, Эсменет поймала себя на том, что думает о лагере Ксинема, о разнице между теми сборищами и этим. Прошло всего несколько месяцев, но Эсменет казалось, будто за это время она прожила целую жизнь. Она нахмурилась от странности привидевшейся картины: Ксинем говорит то весело, то озорно; Ахкеймион слишком крепко сжимает ее руку и слишком часто заглядывает ей в глаза; и Келлхус с Серве… Все пока — не более чем обещание, хотя Эсменет казалось, что она любила его уже тогда — втайне.
По непонятной причине ее вдруг обуяло страстное желание увидеть того насмешливого капитана, Кровавого Дина. Эсменет вспомнилось, как она видела его в последний раз, когда он вместе с Зенкаппой дожидался Ксинема, и его коротко подстриженные волосы серебрились под шайгекским солнцем. Какими черными казались теперь те дни. Какими бессердечными и жестокими.
Что сталось с Динхазом? А Ксинем…
Нашел ли он Ахкеймиона?
На миг Эсменет задохнулась от ужаса… Мелодичный голос Келлхуса вернул ее обратно.
— Если что-нибудь случится, — говорил он, — слушайтесь Эсменет, как сейчас слушаетесь меня…
«Ибо я — его сосуд».
От этих слов собравшиеся стали встревоженно переглядываться. Эсменет прекрасно понимала их чувства: что Учитель мог иметь в виду, поставив женщину над священными танами? Даже сейчас, после всего, что было, они по-прежнему продолжали бороться с тьмой, из которой вышли. Они еще не целиком восприняли его, в отличие от нее…
«Старые суеверия умирают с трудом», — подумала Эсменет с некоторой обидой.
— Но, Учитель, — проговорил Верджау, самый храбрый из всех, — ты говоришь так, будто тебя могут отнять у нас!
Прошло мгновение, прежде чем Эсменет осознала свою ошибку: их беспокоило скрытое значение слов Келлхуса, а не перспектива подчиняться его супруге.
Келлхус умолк на несколько долгих мгновений. Он обвел всех серьезным взглядом.
— Нас окружает война, — в конце концов сказал он, — и снаружи, и внутри.
Хотя они с Келлхусом уже обсудили ту опасность, о которой он повел речь, у Эсменет по коже побежали мурашки. Собравшиеся разразились восклицаниями. Эсменет почувствовала, как на ее руку легла рука Серве. Эсменет повернулась, чтобы успокоить девушку, но обнаружила, что это Серве успокаивает ее. «Просто слушай», — сказали ее прекрасные глаза. Безумная, безграничная вера Серве всегда озадачивала и беспокоила Эсменет. Уверенность девушки была колоссальной — она словно бы составляла единое целое с землей, настолько неколебимой она оказалась.
«Она допустила меня в свою постель, — подумала Эсменет. — Из любви к нему».
— Кто выступает против нас? — выкрикнул Гайямакри.
— Конфас! — выпалил Верджау. — Кто ж еще? Он плетет интриги с самого Шайгека…
— Тогда мы должны нанести удар! — воскликнул беловолосый Касаумки. — Священное воинство необходимо очистить — лишь после этого удастся прорвать осаду! Очистить!
— Что за безумие! — рявкнул Хильдерут. — Мы должны начать переговоры. Ты должен пойти к ним, Учитель…
Келлхус взглядом заставил всех умолкнуть.
Иногда Эсменет пугало то, насколько легко он командовал этими людьми. Но иначе и быть не могло. Там, где другие двигались на ощупь, брели от мгновения к мгновению, едва понимая собственные желания, горести и надежды, Келлхус чувствовал каждый миг — каждую душу. Его мир, как осознала Эсменет, не имел стен, в то время как миры прочих были словно окружены дымчатым стеклом, чем-то, что мешало видеть.
Он — Воин-Пророк… Истина. А истина повелевает всем.
Эсменет готова была сама себя поздравить, с радостью и изумлением. Она находилась здесь — здесь! — по правую руку от величайшего человека, какого только видел мир. Целовать истину. Держать истину меж своих бедер, чувствовать, как глубоко он входит в ее чрево. Это больше, чем благо, больше, чем дар…
— Она улыбается! — воскликнул Верджау. — Как она может улыбаться в такой момент?
Эсменет взглянула на дюжего галеота, зардевшись от смущения.
— Да просто, — терпеливо пояснил Келлхус, — она видит то, чего не можешь увидеть ты, Верджау.
Но Эсменет вовсе не была настолько уверена. Она просто грезила — разве не так? Верджау почувствовал, как она мечтает о Келлхусе, словно глупая девчонка.
Но в таком случае, почему так гудит земля? И звезды… Что она видит?
«Что-то… Что-то такое, что не с чем сравнить».
По коже побежали мурашки. Таны Воина-Пророка смотрели на нее, а она смотрела сквозь их лица и прозревала их жаждущие сердца. Подумать только!
Так много обманутых душ, живущих иллюзорными жизнями в нереальных мирах! Так много! Это и пугало ее, и разбивало ей сердце.
И в то же время это был ее триумф.
«Нечто абсолютное».
От сияющего взгляда Келлхуса ее сердце затрепетало. Она одновременно воспринимала дым и обнаженную плоть — нечто просвечивающее и нечто желанное.
«Это нечто большее, чем я… Большее, чем это, — да!»
— Скажи нам, Эсми, — прошипел Келлхус ртом Серве. — Скажи, что ты видишь!
«Нечто большее, чем они».
— Мы должны отобрать у них нож, — заговорила Эсменет, произнося слова, вложенные в нее Учителем — она это знала. — Мы должны показать им демонов в их рядах.
«Гораздо большее!»
Воин-Пророк улыбнулся ее губами.
— Мы должны убить их, — произнес ее голос.
Тварь, именуемая Сарцеллом, спешила по темным улицам к холму, на котором квартировали экзальт-генерал и его колонны. Письмо Конфаса было кратким и простым: «Приходите скорее. Опасность ширится». Конфас не потрудился подписать послание, но его каллиграфический почерк ни с чем не перепутать.
Сарцелл свернул на узкую улочку, пропахшую немытыми людьми. Очередные айнрити-отщепенцы. Чем дольше голодало Священное воинство, тем большее количество Людей Бивня возвращалось к животному существованию; они охотились на крыс, поедали то, что есть не следовало, и попрошайничали.
Когда Сарцелл двинулся мимо голодающих бедолаг, они начали подниматься на ноги. Они собрались вокруг него, протягивая немытые ладони и хватая его за рукава. «Подайте, — стонали и бормотали они. — Пода-а-айте!» Сарцелл растолкал их. Нескольких самых настойчивых пришлось ударить. Не то чтобы они вызывали у него особое недовольство — они часто оказывались полезны, когда его голод делался слишком силен. Никто не хватится нищего.
А кроме того, они являли собой живое напоминание о том, что представляют из себя люди на самом деле.
Бледные руки в награбленных шелках. Жалобные крики, звенящие в темноте. А потом какой-то оказавшийся рядом с Сарцеллом человек произнес сиплым голосом пьяницы:
— Истина сияет.
— Что? — огрызнулся Сарцелл, резко останавливаясь.
Он схватил говорившего за плечи и с силой вздернул ему голову. Невзирая на следы побоев, на его лице не читалось смирения. Взгляд его был твердым, словно сталь. Сарцелл понял, что этот человек сам кого хочешь ударит.
— Истина, — сказал человек, — не умирает.
— Это что? — поинтересовался Сарцелл, отпуская воина. — Ограбление?
Человек со стальным взглядом покачал головой.
— А! — до Сарцелла вдруг дошло. — Ты принадлежишь ему… Как там вы себя называете?
— Заудуньяни.
Человек улыбнулся, и на миг Сарцеллу показалось, что он никогда еще не видел улыбки страшнее: бледные губы сжались, образовав тонкую, бесстрастную линию.
Потом Сарцелл вспомнил, для чего его создали. Как он мог забыть, что он такое? Его фаллос под штанами затвердел.
— Рабы Воина-Пророка, — презрительно фыркнул он. — А вы вообще знаете, что я такое?
— Мертвец, — произнес кто-то сзади.
Сарцелл расхохотался, провел взглядом по шеям, которые он сейчас свернет. Какой экстаз! Как он изольется ему на бедро! Он был в этом уверен.
«Да! Сразу со столькими! Наконец-то…»
Но хорошее настроение мгновенно покинуло его, как только он снова натолкнулся на взгляд заудуньяни с стальными глазами. Лицо под маской человека дернулось от непонимания. «Они не…»
Что-то хлынуло на него сверху. Внезапно Сарцелл промок до нитки. Масло! Они облили его маслом! Он огляделся по сторонам, сдувая вязкую жижу с губ, стряхивая с кончиков пальцев. Он увидел, что его будущие убийцы тоже в масле.
— Идиоты! — крикнул он. — Подожгите меня — и вы сгорите сами!
В последний миг Сарцелл услышал звон тетивы. Он рванулся в сторону. Горящая стрела вонзилась в человека со стальными глазами. Пламя разбежалось по его промасленной одежде.
Но вместо того чтобы упасть, человек метнулся вперед и крепко вцепился в Сарцелла. Древко стрелы, оказавшись между ними, сломалось. Одна горящая грудь столкнулась с другой.
Пламя поглотило их обоих. Тварь, именуемая Сарцеллом, взвыла и завизжала. Она в ужасе уставилась на стальные глаза, окруженные ярким пламенем.
— Истина… — прошептал человек.
Икурей Конфас выглядел как дитя; нагой, он свернулся клубком под простынями, голова слегка запрокинулась назад, как будто во сне он вглядывался в небо. Генерал Мартем стоял в тени и смотрел на спящего экзальт-генерала, безмолвно повторяя приказ, что привел его сюда — с ножом в руке.
«Сегодня ночью, Мартем, я протяну руку…»
Это не было похоже ни на один приказ, который отдавали ему до сих пор.
Большую часть жизни Мартем получал приказы. Неважно, сколь жалким или величественным был их источник, — приказы, которые он исполнял, всегда исходили откуда-то, из обессиленного и развращенного мира: от сварливых офицеров, злопамятных чиновников, тщеславных генералов… В результате его часто посещала мысль, роковая для человека, которому от рождения предназначено служить: «Я лучше тех, кому подчиняюсь».
Но приказ, который он получил этой ночью…
«Сегодня ночью, Мартем…»
Он пришел ниоткуда, из-за кругов этого мира…
«Я возьму жизнь».
Ответ на подобный вопрос, как решил Мартем, не просто сродни поклонению — это само поклонение, обретшее плоть. Все, что обладало смыслом — как теперь ему казалось, — было разновидностью молитвы.
Уроки Воина-Пророка.
Мартем вскинул нож. Тот блеснул в лунном свете и на краткий миг отбросил тень на горло Конфаса. Глазами души Мартем увидел императорского наследника мертвым: прекрасные губы приоткрыты словно в память о последнем вздохе, остекленевшие глаза смотрят куда-то далеко, вовне. Он увидел кровь, собравшуюся лужицами в складках льняных простыней, словно вода между лепестками лотоса. Генерал оглядел роскошную спальню, и смутно различимые фрески заплясали по стенам, а темные ковры заскользили по полу. Интересно, будет ли это место казаться более скромным, когда они обнаружат труп на окровавленных простынях?
Приказы. Благодаря им голос мог сделаться армией, а вздох — кровью.
«Думай о том, как долго ты желал его смерти!»
Ужас и веселье.
«Ты — человек практичный. Ударь и покончи с этим!»
Конфас застонал и заворочался, словно нагая девственница под покрывалом. Веки его затрепетали, и глаза открылись. Уставились на генерала с тупым непониманием. Взгляд метнулся к обвиняющему ножу.
— Мартем? — выдохнул молодой человек.
— Истина, — проскрежетал генерал, нанося удар.
Но мелькнула вспышка, и, хотя рука его продолжала опускаться, неведомая сила рванула ее назад, и нож выпал из онемевших пальцев. Мартем ошеломленно поднял руку и в ужасе уставился на обрубок вместо запястья. Кровь лилась по руке и струйками стекала с локтя.
Мартем развернулся и увидел сверкающего демона; кожа его сморщилась от адского огня, а лицо было невозможно растянутым и хватало воздух, словно клешня краба.
— Гребаный дунианин, — прорычал демон.
Что-то прошло через шею Мартема. Что-то острое…
Голова Мартема отскочила от тюфяка и укатилась в тень; на мертвом лице все еще сохранялось осмысленное выражение. Слишком испуганный, чтобы кричать, Конфас попытался выбраться из спутанных простыней, отползти подальше от неизвестного, убившего его генерала. Фигура отступила во тьму дальнего угла, но на миг Конфас разглядел нечто нагое и кошмарное.
— Кто?! — выдохнул принц.
— Тихо! — прошипел знакомый голос. — Это я!
— Сарцелл?
Ужас несколько ослабел. Но замешательство осталось.
«Мартем мертв?»
— Это ночной кошмар! — воскликнул Конфас. — Я сплю!
— Ты не спишь, уверяю тебя. Хотя ты был очень близок к тому, чтобы никогда не проснуться.
— Что произошло? — крикнул Конфас.
Невзирая на подгибающиеся ноги, он быстро обошел дальний столбик кровати и как был, без одежды, остановился над трупом своего генерала. На нем по-прежнему была воинская форма.
— Мартем!
— Принадлежал ему, — произнес голос из темного угла.
— Князю Келлхусу, — сказал Конфас с просыпающимся осознанием.
Внезапно он понял все, что ему нужно было знать: только что произошло сражение — и оно выиграно. Он улыбнулся с облегчением — и безграничным изумлением. Этот человек использовал Мартема. Мартема!
«А я-то думал, что победил в битве за его душу!»
— Мне нужен фонарь, — отрывисто произнес Конфас, вновь обретая властные манеры.
Чем это так воняет?
— Никакого света! — выкрикнул бесплотный голос. — Этой ночью они напали и на меня.
Конфас нахмурился. Хоть он и спас его, Сарцелл все же не имел никакого права отдавать приказы тем, кто выше его по положению, да еще таким тоном.
— Как вы можете видеть, — любезно, чтобы его нельзя было заподозрить в неблагодарности, произнес он, — самый доверенный из моих генералов лежит мертвым. Мне нужен свет.
Принц повернулся, чтобы позвать стражу.
— Не будьте идиотом! Мы должны действовать быстро, иначе Священное воинство обречено!
Конфас остановился, глядя в угол, где скрывался шрайский рыцарь, и склонил голову набок в приступе нездорового любопытства.
— Они что, сожгли вас?
Он сделал два шага по направлению к тени.
— От вас несет жареной свининой.
Раздался грохот, как будто какое-то животное опрометью бросилось наутек, и что-то очень быстрое стрелой пронеслось через спальню и исчезло на балконе.
Громогласно призывая стражу, Конфас ринулся следом, откинув тонкую занавеску на двери. Он почти ничего не видел в темноте караскандской ночи, но заметил брызги крови на своих руках. Принц услышал, как стражники вломились в комнату, и усмехнулся, когда раздались их встревоженные крики.
— Генерал Мартем оказался предателем, — произнес он, возвращаясь с неприятно холодного воздуха навстречу их изумлению. — Отнесите его тело к осадным машинам. Проследите, чтобы его перебросили к язычникам, которым оно принадлежит. Затем пошлите за генералом Сомпасом.
Перемирие завершилось.
— А голова генерала? — неуверенно поинтересовался здоровяк-капитан, Триаксерас. — Вы желаете, чтобы ее тоже перебросили к язычникам?
— Нет, — ответил Икурей Конфас, натягивая одежду, поднесенную одним из его хаэтури.
Он рассмеялся над тем, как нелепо выглядела валяющаяся у кровати голова — ну точно кочан капусты! Даже странно, что он почти ничего не чувствовал, после того, как много они пережили вместе.
— Генерал никогда не покидает меня, Триах. Ты же знаешь.
Фустарас был старательным солдатом. Он был проадъюнктом третьей манипулы Селиалской колонны и относился к числу тех, кого в имперской армии называли «трояками», то есть теми, кто подписал третий контракт — договор на третий четырнадцатилетний срок службы, — вместо того чтобы принять имперскую пенсию. Хотя «трояки» вроде Фустараса зачастую были сущей погибелью для младших офицеров, генералы всегда высоко ценили их, тем более что они нередко играли более важную роль, чем их титулованное начальство. «Трояки» образовывали упрямое сердце любой колонны. Это были люди, видящие суть вещей.
Вот поэтому, решил Фустарас, генерал Сомпас выбрал для этого задания именно его и нескольких его товарищей.
— Когда дети сбиваются с пути, — сказал он, — их следует вздуть.
Одетый, подобно большинству Людей Бивня, в трофейные кианские наряды, Фустарас со своим отрядом прошел по улице, носящей название Галереи; насколько мог предположить Фустарас, ее прозвали так из-за отходящих от нее бесчисленных переулочков, застроенных многоквартирными домами. Эта улица, расположенная в юго-восточной части Чаши, была известна как место сбора заудуньяни — проклятых еретиков. Многие из них толпились на крышах домов и возносили молитвы, глядя в сторону Бычьего холма, где засел наглый мошенник, Келлхус, князь Атритау. Другие слушали этих ненормальных фанатиков, которых тут именовали судьями: они проповедовали у входа в какой-нибудь переулок.
Следуя инструкциям, данным в письме, Фустарас остановился и обратился к судье, вокруг которого собралось больше всего еретиков.
— Скажи-ка мне, друг, — дружелюбно спросил он, — что они говорят об истине?
Изможденный человек обернулся; за ворохом спутанных белых волос поблескивала розовым лысина. Не колеблясь ни мгновения, он отозвался:
— Что она сияет.
Фустарас запустил руку под плащ — как будто за мелкой монетой для попрошаек, а на самом деле за спрятанной там ясеневой дубинкой.
— Ты точно уверен? — переспросил он.
Его поведение сделалось одновременно и небрежным, и угрожающим. Он взвесил в руке полированную рукоятку.
— Может, она кровоточит?
Сверкающий взгляд проповедника метнулся от глаз Фустараса к дубинке, потом обратно.
— И кровоточит тоже, — произнес он непреклонным тоном человека, твердо решившего подчинить себе дрогнувшее сердце. — Иначе к чему Священное воинство?
Фустарас решил, что еретик чересчур умен. Он вскинул дубинку и нанес удар. Проповедник упал на одно колено. По правому виску и щеке потек ручеек крови. Он протянул два пальца к Фустарасу, словно говоря: «Видишь…»
Фустарас ударил еще раз. Судья упал на растрескавшуюся булыжную мостовую.
Улица взорвалась криками, и Фустарас заметил боковым зрением, что к нему со всех сторон бегут полуживые от голода люди. Его солдаты выхватили дубинки и сомкнули строй. Фустарас подумал, что сомневается в достоинствах плана генерала.
Их было слишком много. Откуда их столько?
Потом Фустарас вспомнил, что он — «трояк».
Он стер грязным рукавом брызги крови с лица.
— Все те, кто слушает так называемого Воина-Пророка! — выкрикнул он. — Знайте, что мы, ортодоксы, приведем в исполнение приговор, который вы сами на себя навлекли…
Что-то ударило его по подбородку. Фустарас отшатнулся, схватившись за лицо, и споткнулся о неподвижное тело судьи. Он покатился по твердой земле, чувствуя кровь под пальцами. Камень. Кто-то бросил камень!
В ушах у него звенело, вокруг стоял крик. Фустарас поднялся сперва на одно колено, потом на второе… Держась за челюсть, он встал, огляделся по сторонам и увидел, что его людей истребляют. Фустараса пронзил ужас.
«Но генерал сказал…»
Какой-то туньер с безумными глазами, с тремя болтающимися на поясе головами шранков схватил Фустараса за горло. На миг он показался нансурцу нечеловеком, таким он был высоким и тощим.
— Реара тунинг праусса! — взревел соломенноволосый варвар.
Фустарас заметил вооруженные тени. Его крик захлебнулся хрипом, когда пальцы туньера раздавили трахею.
— Фраас каумрут!
На миг Фустарас почувствовал холод наконечника копья у своей поясницы. Такое ощущение, как будто глубоко вдохнул ледяной воздух. Воющие лица. Поток горячей крови.
Хрипящее, задыхающееся животное правило его черным сердцем, скуля от боли и ярости.
Тварь, именуемая Сарцеллом, пробиралась через руины безымянного храма. Вот уже три дня она пряталась по темным углам, ибо боль лишала ее способности закрыть лицо. Теперь же, пиная груду почерневших человеческих черепов, тварь думала о снеге, со свистом несущемся над равнинами Агонгореи, о белых просторах, по которым разбросаны черные пятна стоянок. Твари вспомнилось, как она прыгала по холодным сугробам, и ледяной ветер скорее успокаивал, чем жалил ее. Твари вспомнилась кровь, брызгающая на незапятнанную белизну и растекающаяся розовыми линиями.
Но снег был так далек — так же далек, как Святой Голготтерат! — а огонь пылал совсем рядом с обожженной, покрытой волдырями кожей твари. Огонь все еще горел!
«Проклятье, проклятье, проклятье, проклятье, проклятье на его голову! Я выгрызу ему язык! Я буду трахать его раны!»
— Ты страдаешь, Гаоарта?
Тварь дернулась, словно кот, вглядываясь сквозь сведенные судорогой пальцы своего внешнего лица.
Неподвижный и глянцево-черный, словно диоритовая статуя, Синтез разглядывал его, восседая на груде обугленных тел. В темноте лицо его казалось белым, влажным и непроницаемым, как будто было вырезано из картофелины.
Оболочка Древнего Отца… Ауранг, великий генерал Сокрушителя мира, принц инхороев.
— Больно, Древний Отец! Как больно!
— Наслаждайся этим чувством, Гаоарта, ибо в нем вкус того, что придет.
Тварь, именуемая Сарцеллом, громко втянула воздух и заревела, вскинув оба лица, внутреннее и внешнее, к безжалостным звездам.
— Нет! — простонала она, колотя руками по груде обломков. — Не-е-ет!
— Да, — произнесли тонкие губы. — Священное воинство обречено. Ты потерпел неудачу. Ты, Гаоарта.
Дикий ужас пронзил тварь: она знала, к чему ведут неудачи, но не могла даже шелохнуться. По отношению к Зодчему, Создателю не существовало ничего иного, кроме повиновения.
— Но это не я! Это все они! Кишаурим падираджи! Это все их…
— Вина? Ты говоришь про вину, Гаоарта? — поинтересовался Древний Отец. — Про тот самый яд, который мы должны высосать из этого мира?
Тварь, именуемая Сарцеллом, вскинула руки в тщетной попытке защититься. На нее словно бы обрушилась вся чудовищная, колоссальная слава Консульта.
— Простите! Умоляю!
Крохотные глаза закрылись, но тварь, именуемая Сарцеллом, не могла сказать, отчего — от скуки или задумчивости. Когда же они открылись, то казались голубоватыми, словно катаракта.
— Еще одна задача, Гаоарта. Еще одна задача во имя злобы.
Тварь рухнула ничком перед Синтезом, корчась от мучительной боли.
— Все, что угодно! — выдохнула она. — Все, что угодно! Я вырву сердце любому! Выколю глаза! Я предам весь мир забвению!
— Священное воинство обречено. Мы должны иным образом разделаться с кишаурим.
Глаза снова закрылись.
— Ты должен проследить, чтобы этот Келлхус умер вместе с остальными Людьми Бивня. Он не должен спастись.
И тварь, именуемая Сарцеллом, забыла о снеге. Месть! Месть станет бальзамом для сожженной кожи!
— А теперь закрой лицо, — проскрежетал Синтез, и Гаоарта ощутил, как бескрайняя сила, древняя, вековая, хлынула из красного горла.
С разрушенных стен то тут, то там потекли ручейки пыли.
Гаоарта повиновался, ибо не мог не повиноваться, — но кричал, ибо не мог не кричать.
Комкая послание Пройаса в руке, Найюр шагал по застеленному коврами коридору скромной, но стратегически выгодно расположенной виллы, которую занял конрийский принц. Он помедлил, прежде чем выйти на залитый светом квадрат внутреннего двора, задержавшись под вычурным двойным сводом, характерным для кианской архитектуры. Кусок засохшей апельсиновой шкурки, длиной не больше пальца Найюра, лежал, свернувшись, в пыли, окружающей черное мраморное основание левого пилястра. Скюльвенд не задумываясь сгреб шкурку, сунул в рот и скривился от горечи.
С каждым днем он становился все более голодным.
«Мой сын! Как они могли так назвать моего сына?»
Пройас ожидал его у трех прудиков в центре двора; он стоял там вместе с двумя людьми, которых Найюр не узнал, — с имперским офицером и шрайским рыцарем. Полуденные облака образовали на небе неповоротливую процессию, волоча свои тени по залитым солнцем холмам.
Карасканд. Город, что станет их гробницей.
«Он сделал это, чтобы позлить меня. Чтобы напомнить о предмете моей ненависти!»
Пройас заметил его первым.
— Найюр, как хорошо…
— Я не читал, — прорычал скюльвенд, швырнув скомканный лист к ногам принца. — Если ты хочешь посоветоваться со мной, присылай слово, а не каракули.
Лицо Пройаса потемнело.
— Да, конечно, — натянуто ответил он.
Он кивнул двум незнакомцам, словно бы пытаясь сохранить некоторые внешние приличия, подобие джнана.
— Эти люди предъявили своего рода иск, дабы заручиться моей поддержкой. Ты нужен, чтобы утвердить его.
Пораженный внезапным ужасом, Найюр уставился на имперского офицера, увидев знаки различия, вычеканенные у горловины его кирасы. И конечно же, на нем была синяя накидка.
Офицер нахмурился, потом обменялся многозначительным взглядом со своим спутником.
— Похоже, мозги у него тоже отощали, — сказал офицер голосом, слишком хорошо знакомым Найюру.
Он вспомнил, как этот голос плыл над трупами его соплеменников — после битвы при Кийуте. Икурей Конфас… Перед ним стоял сам экзальт-генерал! Как он умудрился не узнать его?
«Безумие нарастает!»
Найюр сощурился и представил себе, как сидит на груди у Конфаса и отрезает ему нос, словно ребенок, копающийся в грязи.
— Чего он хочет? — пролаял он, обращаясь к Пройасу.
Найюр взглянул на шрайского рыцаря и осознал, что и его тоже где-то видел, хоть и не помнит имени. На груди у рыцаря-командора висел маленький золотой Бивень, прятавшийся в складках накидки.
Вместо Пройаса на его вопрос ответил Конфас.
— Чего я хочу, неотесанный варвар, так это истины.
— Истины?
— Господин Сарцелл, — пояснил Пройас, — объявил, что у него имеются новости об Атритау.
Найюр уставился на рыцаря, впервые заметив повязки у него на руках и странную сеточку воспаленных линий на красивом лице.
— Об Атритау? Это каким же образом?
— К нам обратились три человека, движимые благочестием, — произнес Сарцелл. — Они клянутся, что один человек, много лет водивший караваны на север и погибший при переходе через пустыню, сказал им, что князь Келлхус никак не может быть тем, за кого себя выдает.
Шрайский рыцарь странно улыбнулся — видимо, ожоги на его лице были довольно болезненными.
— По их словам, суть в том, — неумолимо продолжал Сарцелл, — что у их короля, Этелария, нет наследников. Род Моргхандов вот-вот угаснет, как говорят, навеки. А это означает, что Анасуримбор Келлхус — самозванец.
Тишину нарушила далекая дробь кианских барабанов. Найюр снова повернулся к Пройасу.
— Ты сказал, что они хотят твоей поддержки. В чем?
— Да просто ответь на вопрос, черт тебя побери! — взорвался Конфас.
Игнорируя экзальт-генерала, Найюр и Пройас обменялись взглядами, полными искренности и признания. Невзирая на их ссоры, за последние недели подобные взгляды сделались пугающе привычными.
— Они думают, — сказал Пройас, — что с моей поддержкой смогут предъявить Келлхусу обвинение, не вызвав войны между нашими людьми.
— Предъявить Келлхусу обвинение?
— Да. В том, что он — лжепророк, согласно Закону Бивня.
Найюр нахмурился.
— А зачем тебе понадобилось мое слово?
— Затем, что я тебе доверяю.
Найюр сглотнул. «Чужеземные псы! — бушевал кто-то внутри него. — Коровы!»
На лице Конфаса промелькнула тревога.
— Несомненно, прославленный принц Конрии, — заметил Сарцелл, — не пожелает иметь ничего общего со слухами…
— Равно как и со столь зловещим делом! — огрызнулся Пройас.
У Найюра на скулах заиграли желваки; он свирепо уставился на шрайского рыцаря, размышляя, отчего у человека на лице могли появиться столь странно расположенные ожоги. Он подумал о битве при Анвурате, о том, с каким удовольствием всадил тогда нож в грудь Келлхусу — или той твари, что притворялась им. Он подумал о Серве, задыхающейся под ним, и от внезапной боли на глаза навернулись слезы. Только она знала его сердце. Только она понимала его, когда он просыпался в слезах.
Серве, первая жена его сердца.
«Я должен владеть ею! — рыдал кто-то у него в душе. — Она принадлежит мне!»
Такая красивая… «Моя добыча!»
Внезапно все стихло, как будто мир пропитался оцепенением и тяжестью. И Найюр понял — без терзаний, без разочарования, — что Анасуримбор Моэнгхус оказался за пределами его досягаемости. Невзирая на всю его ненависть, всю ярость, кровавый след, по которому он шел, окончился здесь. В городе.
«Мы покойники. Все мы».
Если уж Карасканду суждено сделаться их гробницей, он позаботится, чтобы сперва здесь пролилась кое-чья кровь.
«Но Моэнгхус! — вскричал кто-то. — Моэнгхус должен умереть!» Но он больше не мог вызвать в памяти ненавистное лицо. Он видел лишь хныкающего младенца.
— Ты говоришь правду, — в конце концов произнес Найюр.
Он повернулся к Пройасу и заглянул в потрясенные карие глаза. Ему заново почудился вкус апельсиновой кожуры, настолько горькими были эти слова.
— Человек, которого ты называешь князем Келлхусом, — самозванец. Князь пустоты.
Никогда еще его сердце не было столь вялым и безучастным.
Зал аудиенций во дворце сапатишаха, такой же огромный, как сырая галерея старого короля Эрьеата в Мораоре, древнем Чертоге королей, на фоне славы Воина-Пророка был жалок, словно комнатка в лачуге. Восседая на троне Имбейяна, вырезанном из слоновой кости, Саубон с трепетом следил за его приближением. Краем глаза он видел Королевские Огни, пылающие в гигантских железных чашах. Даже по прошествии времени они словно оскорбляли окружающее великолепие — деталь, навязанная неотесанными, отсталыми людьми.
Но как бы то ни было, он — король! Король Карасканда!
Облаченный в белую парчу человек, что некогда был князем Келлхусом, остановился перед ним на круглом темно-красном ковре, где кианцы били поклоны. Человек не преклонил колени, даже не кивнул Саубону.
— Зачем ты вызвал меня?
— Чтобы предупредить… Тебе нужно бежать. Вскоре соберется совет…
— Но падираджа занял все окрестности. Кроме того, я не могу бросить тех, кто последовал за мной. Я не могу бросить тебя.
— Но ты должен! Они признают тебя виновным. Даже Пройас!
— А ты, Коифус Саубон? Ты тоже признаешь меня виновным?
— Нет… Никогда!
— Но ты уже дал им гарантии.
— Кто это сказал? Что за лжец посмел…
— Ты. Ты это сказал.
— Но… Но ты же должен понять!
— Я понимаю. Они потребовали выкуп за Карасканд. Тебе не осталось иного выхода, кроме как заплатить.
— Нет! Это не так! Не так!
— Тогда как?
— Это… это… это так, как оно есть!
— Всю жизнь, Саубон, ты отчаянно жаждал всего того, что принадлежало старому Эрьеату, твоему отцу. Скажи, к кому ты бежал каждый раз после того, как отец бил тебя? Кто перевязывал твои раны? Кто? Твоя мать? Или Куссалт, твой конюх?
— Никто меня не бил! Он… он…
— Значит, Куссалт. Скажи, Саубон, что было труднее? Потерять его на равнине Менгедда или узнать о его ненависти?
— Замолчи!
— Всю жизнь никто не знал тебя.
— Замолчи!
— Всю жизнь ты страдал, ты сомневался…
— Нет! Нет! Замолчи!
— …и наказывал тех, кто должен был любить тебя.
Саубон закрыл уши руками.
— Прекрати! Я приказываю!
— Как ты наказывал Куссалта, как наказываешь…
— Хватит, хватит, хватит! Они сказали, что ты так и сделаешь! Они меня предостерегали!
— Верно. Они предостерегали тебя против истины. Против того, чтобы ты попал в сети Воина-Пророка.
— Как ты можешь это знать? — выкрикнул Саубон, охваченный недоверием. — Как?
— Могу, потому что это истина.
— Тогда к черту ее! К черту истину!
— А как же твоя бессмертная душа?
— Пусть будет проклята! — вскочив, взревел Саубон. — Я выбираю это… выбираю это все! Проклятие в этой жизни! Проклятие во всех иных! Мучения поверх мучений! Я вынес бы все, лишь бы один день побыть королем! Я готов увидеть тебя изломанным и окровавленным, если это означает, что я смогу сидеть на троне! Я готов увидеть, как вырвут глаза Богу!
Последний выкрик гулко разнесся по огромному залу и вернулся обратно к Саубону навязчивым эхом: богу-богу-богу-богу…
Саубон упал на колени перед собственным троном, чувствуя, как жар Королевских Огней жалит мокрую от слез кожу. Послышались крики, лязг доспехов и оружия. Стражники ринулись в зал…
Но Воина-Пророка и след простыл.
— Он… он не настоящий! — пробормотал Саубон. — Он не существует!
Но кулаки, унизанные золотыми кольцами, продолжали опускаться. Они никогда не остановятся.
Он целыми днями сидел на террасе, затерянный в мирах, которые исследовал во время транса. На восходе и на закате Эсменет приходила к нему и приносила чашу с водой, как он распорядился. Она приносила и еду, хотя об этом он не просил. Она смотрела на его широкую, неподвижную спину, на волосы, которые трепал ветерок, на лицо, освещенное закатным солнцем, и чувствовала себя маленькой девочкой, преклоняющей колени перед идолом, предлагающей дань чему-то чудовищному и ненасытному: соленую рыбу, сушеные сливы и фиги, пресный хлеб — этого хватило бы, чтобы учинить небольшой мятеж в нижнем городе.
Он ни к чему не прикасался.
Потом однажды на заре она пришла к нему, а его не оказалось на месте.
После отчаянной беготни по галереям дворца она отыскала его в их покоях; растрепанный, он шутил с только что вставшей Серве.
— Эсми-Эсми-Эсми, — надув губы, проговорила Серве; глаза у нее были припухшими после сна. — Ты не могла бы принести мне маленького Моэнгхуса?
На радостях забывшая рассердиться Эсменет нырнула в детскую и вытащила темноволосого младенца из люльки. Хотя ошарашенный взгляд малыша заставил ее улыбнуться, она поймала себя на том, что от зимней синевы его глаз ей становится не по себе.
— Я как раз говорил, — сказал Келлхус, когда она передала ребенка Серве, — что Великие Имена и должны были вызвать меня…
Он поднял окруженную сиянием руку.
— Они хотят вести переговоры.
Конечно же, он и словом не обмолвился о результатах своей медитации. Он никогда этого не делал.
Эсменет взяла его руку и села на кровать, и лишь тогда до нее дошел весь смысл сказанного.
— Переговоры?! — воскликнула она. — Келлхус, они вызывают тебя, чтобы убить!
— Келлхус! — позвала Серве. — Что она такое говорит?
— Что эти переговоры — ловушка! — Эсменет сурово посмотрела на Келлхуса: — Ты же знаешь!
— Как ты можешь так думать?! — изумилась Серве. — Все любят Келлхуса. Все теперь знают!
— Нет, Серве. Многие ненавидят его — очень многие. Многие желают его смерти!
Серве рассмеялась — рассеянно, как умела она одна.
— Эсменет… — произнесла она так, словно разговаривала с ребенком.
Она подняла маленького Моэнгхуса в воздух.
— Тетя Эсми забыла, — проворковала она. — Да-а-а. Она забыла, кто твой папа!
Эсменет смотрела на нее, утратив дар речи. Иногда ей больше всего на свете хотелось свернуть девчонке шею. Как? Как он может любить эту жеманную дурочку?
— Эсми, — позвал вдруг Келлхус.
От предостережения, прозвучавшего в его голосе, сердце Эсменет заледенело. Она повернулась к нему, воскликнув глазами: «Прости меня!»
Но она не могла сделаться менее резкой — только не сейчас.
— Скажи ей, Келлхус! Скажи ей, что может произойти!
«Опять?! Нет!»
— Выслушай меня, Эсми. Другого пути нет. Нельзя допустить, чтобы заудуньяни и ортодоксы воевали между собой.
— Даже из-за тебя? — выкрикнула Эсменет. — Все Священное воинство, весь город — не более чем жалкие крохи по сравнению с тобой! Разве ты не понимаешь, Келлхус?
Весь ее запал вдруг растворился во внезапной боли и опустошении, и Эсменет сердито вытерла слезы. Происходящее было слишком важным, чтобы тратить время на плач. «Но я так много потеряла!»
— Разве ты не понимаешь, насколько драгоценен? Подумай о том, что говорил Акка! А вдруг ты действительно единственная надежда этого мира?
Келлхус взял ее лицо в ладони, провел большим пальцем по брови и задержался на виске.
— Иногда для того, чтобы достичь цели, нужно пройти через смерть.
Эсменет представила себе Шиколя из «Трактата», умалишенного ксерашского короля, велевшего казнить Последнего Пророка. Она представила себе его позолоченную бедренную кость, орудие правосудия, которое до нынешних дней оставалось в мире айнрити самым ярким символом зла. Что там Айнри Сейен сказал безымянной любовнице короля? Что иногда гибель ведет на небеса?
«Но это же безумие!»
— Кратчайший Путь, — сказала Эсменет и сама ужаснулась прозвучавшему в голосе высокомерию, от которого на глаза наворачивались слезы.
Но на его лице, обрамленном светлой бородой, засияла улыбка.
— Да, — кивнул Воин-Пророк. — Логос.
— Анасуримбор Келлхус, — нараспев произнес Готиан сильным, хорошо поставленным голосом, — настоящим я объявляю тебя лжепророком и самозванцем, незаконно заявившим о принадлежности к касте воинов. Совет Великих и Малых Имен постановил наказать тебя так, как велит Писание.
Серве услышала пронзительный вопль, перекрывший оглушительные выкрики, и лишь потом осознала, что это кричит она сама. Моэнгхус у нее на руках захныкал, и Серве принялась укачивать его, хотя была слишком напугана, чтобы ворковать над малышом. Сотня Столпов обнажила мечи и взяла их с Келлхусом в кольцо, обмениваясь яростными взглядами со шрайскими рыцарями.
— Вы никого не можете судить! — проорал кто-то. — Только Воин-Пророк изрекает приговор Божий! Это вы виновны! Это вас надлежит наказать!
— Лжепророк! Лжепророк!..
Обвинения. Проклятия. Причитания. Воздух звенел от криков. Сотни людей собрались у разрушенной Цитадели Пса, чтобы послушать, как Воин-Пророк ответит на обвинения Великих и Малых Имен. Нагревшиеся на солнце черные руины высились над ними: обломанные закопченные стены; фундамент, засыпанный обломками; бок обрушившейся башни, голый и округлый на фоне руин, смахивающий на бок всплывшего подышать кита. Люди Бивня теснились на всех свободных участках склона. На каждом пятачке земли толпились люди, потрясающие кулаками.
Инстинктивно прижав ребенка к груди, Серве в ужасе оглядывалась по сторонам. «Эсми была права… Нам не следовало приходить!» Она посмотрела на Келлхуса и не удивилась спокойствию, с которым он наблюдал за бушующей толпой. Даже сейчас он казался божественным гвоздем, скрепляющим то, что произошло, с тем, что должно произойти.
«Он заставит их увидеть!»
Но рев усиливался, отдаваясь дрожью в ее теле. Несколько человек уже схватились за ножи, как будто яростные крики были достаточным основанием для кровавых бесчинств.
«Как много ненависти».
Даже Великие Имена, собравшиеся на свободном участке посреди двора крепости, кажется, обеспокоились, хотя все шло в точном соответствии с их расчетом. Они с непроницаемым видом смотрели на неистовствующую толпу. Уже вспыхнуло несколько драк. Серве видела сверкание стали среди плотной толпы — верующие, осажденные неверующими.
Какой-то изголодавшийся фанатик сумел проскользнуть мимо Сотни Столпов и ринулся к Воину-Пророку…
… Келлхус вынул нож у него из руки — легко, словно у ребенка, — схватил одной рукой за горло и поднял над землей, как задыхающегося пса.
Крики постепенно стихли; все больше и больше перепуганных глаз оказывались прикованы к Воину-Пророку и его бьющейся жертве — и вскоре уже было слышно, как хрипит несостоявшийся убийца. От ужаса Серве не могла отвести глаз от Келлхуса. «Почему они делают это? Почему они навлекают на себя его гнев?»
Келлхус швырнул нападавшего на землю, и тот остался лежать недвижно — обмякшая груда плоти.
— Чего вы боитесь? — спросил Воин-Пророк.
Тон его был одновременно и печальным, и властным — не повелительные манеры короля, но деспотичный голос истины.
Готиан принялся проталкиваться через зрителей.
— Гнева Господня, — выкрикнул он, — карающего нас за то, что мы дали приют мерзости!
— Нет, — сверкающие глаза Келлхуса находили их среди толпы: Саубона, Пройаса, Конфаса и прочих. — Вы боитесь, что по мере того, как моя сила возрастает, ваша начнет ослабевать. Вы делаете это не во имя Бога, а во имя корыстолюбия. Вы не в силах стерпеть, что кто-то владеет вашим Священным воинством. Но в сердце каждого из вас угольком тлеет вопрос, который вижу я один: «А вдруг он и вправду пророк? Какая судьба ждет нас тогда?»
— Молчать!!! — взревел Конфас, брызгая слюной.
— А ты, Конфас? Что скрываешь ты?
— Его слова — копья! — крикнул Конфас остальным. — Уже сам его голос — оскорбление!
— Но я всего лишь повторяю вам ваш собственный вопрос — а вдруг вы ошибаетесь?
Даже Конфас был оглушен силой этих слов. Казалось, будто Воин-Пророк говорит голосом Бога.
— Вы злитесь из-за отсутствия уверенности, — печально продолжал Келлхус. — Я спрашиваю лишь об одном: что движет вашими душами? Что заставляет вас осуждать меня? Действительно ли это Бог? Бог идет через сердца людей с уверенностью и славой! Так Бог ли идет сейчас через ваши сердца? Действительно ли Бог идет сейчас через ваши сердца?
Тишина. Едкая тишина страха, как будто они были сборищем испорченных детей, внезапно получивших выговор от богоподобного отца. Серве почувствовала, что по щекам текут слезы.
«Они видят! Они наконец-то видят!»
Но затем шрайский рыцарь по имени Сарцелл, — единственный, на чье лицо не легла тень сомнения, — ответил Воину-Пророку громким, чистым голосом.
— Все на свете одновременно и свято, и грешно, если говорить о сердцах людей, — сказал рыцарь-командор, цитируя Бивень, — и хоть они сбиты с толку и тянут руки ко тьме, имя их — свет.
Воин-Пророк внимательно взглянул на него и процитировал:
— Внимайте Истине, ибо она в силе идет среди вас, и не будет она отвергнута.
Сарцелл ответил с блаженным спокойствием:
— Бойтесь его, ибо он — мошенник, Ложь, обретшая плоть, идет он среди вас, чтобы загрязнить воды вашего сердца.
И Воин-Пророк печально улыбнулся.
— Говоришь, ложь, обретшая плоть, Сарцелл?
Серве заметила, как его взгляд скользнул по толпе, потом задержался на стоящем неподалеку скюльвенде.
— Ложь, обретшая плоть, — повторил он, глядя в напряженное лицо чудовища. — Охота не должна прекращаться… Помни об этом, когда будешь вспоминать секреты битвы. Великие все еще прислушиваются к тебе.
— Лжепророк, — бросил Сарцелл. — Князь пустоты.
И, как будто эти слова были сигналом, шрайские рыцари кинулись на Сотню Столпов, и закипела яростная схватка. Кто-то пронзительно закричал, и один из рыцарей упал на колени, зажимая левой рукой обрубок правой. Еще один пронзительный крик, и еще, а потом толпа голодных людей, словно пробудившись при виде крови, хлынула вперед.
Серве закричала, вцепилась в белый рукав Воина-Пророка, с неистовым безрассудством прижала к себе ребенка. «Этого не может быть…»
Но все тщетно. После нескольких мгновений ужасной бойни шрайские рыцари добрались до них. Словно в кошмарном сне, Серве смотрела, как Воин-Пророк поймал чей-то клинок ладонями, сломал его, а потом прикоснулся к шее нападавшего. Тот рухнул. Другого Келлхус схватил за руку, и та внезапно обмякла, а потом его кулак прошел через голову нападавшего, словно это был арбуз.
Где-то невероятно далеко Готиан орал на своих людей, приказывая им остановиться.
Серве увидела, как рыцарь с лицом безумца мчится на нее, воздев меч к солнцу; но потом он очутился на земле, нашаривая кровоточащую рану у себя в боку, а ее грубо схватила чья-то рука, перевитая шрамами и невероятно сильная.
Скюльвенд? Скюльвенд спас ее?
Великому магистру наконец-то удалось обуздать своих рыцарей, и они отступили. Поджарые воины напоминали волков. Бивни, которые они носили на грязных исцарапанных доспехах, казались старыми и недобрыми.
Весь мир превратился в круговорот вопящих лиц.
Готиан, переставший сыпать проклятиями, вышел из-за спин своих людей, несколько мгновений мрачно смотрел на Найюра, потом повернулся к Воину-Пророку. Некогда аристократическое лицо великого магистра теперь было изможденным и осунувшимся.
— Сдайся, Анасуримбор Келлхус, — хрипло произнес он. — Ты будешь наказан в соответствии с Писанием.
Серве билась в руках степняка, пока он не отпустил ее. Он смотрел на нее с диким ужасом, но она не ощущала ничего, кроме ненависти. Она протолкалась к Келлхусу и прижалась лицом к его одежде.
— Сдайся! — всхлипнула она. — Мой супруг и господин, ты должен сдаться! Или умрешь здесь! Ты не должен умереть!
Серве почувствовала ласковый взгляд Пророка, его божественное объятие. Она взглянула ему в лицо и увидела любовь в сияющих глазах. Любовь Бога к ней! К Серве, первой жене и возлюбленной Воина-Пророка. К девушке, не представляющей из себя ничего…
Сверкающие слезы потекли по ее щекам.
— Я люблю тебя! — воскликнула она. — Я люблю тебя, и ты не можешь умереть!
Она опустила взгляд на горланящего ребенка.
— Наш сын! — всхлипнула Серве. — Наш сын нуждается в Боге!
Она почувствовала, как чьи-то руки грубо обхватили ее и вырвали из объятий Келлхуса. Серве ощутила боль, какой прежде не знала. «Мое сердце! Они отрывают меня от моего сердца!»
— Он же Бог! — пронзительно закричала она. — Неужто вы не видите? Он — Бог!
Серве сопротивлялась, но державший ее мужчина был слишком силен.
— Бог!
Тот, кто держал ее, спросил:
— Согласно Писанию?
Это был Сарцелл.
— Согласно Писанию, — ответил Великий магистр, и в голосе его не было сострадания.
— Но у нее же новорожденный ребенок! — крикнул кто-то.
Скюльвенд?.. Почему он защищает ее? Серве взглянула на него, но увидела лишь темную тень на фоне скопления людей, слившихся из-за слез и яркого света в единую массу.
— Это не имеет значения, — отозвался Готиан; голос его затвердел от свирепой решимости.
— Это мой ребенок!
Неужто в голосе скюльвенда и вправду прозвучало безумие? Боль?
«Нет… не твой. Келлхус? Что случилось?»
— Ну так забери его.
Отрывисто, словно стараясь подавить разочарование.
Кто-то вырвал вопящего сына из рук Серве. Еще одно сердце ушло. Еще одна боль.
«Нет… Моэнгхус? Что происходит?»
Серве кричала до тех пор, пока ей не начало казаться, что ее глаза вспыхнули огнем, а лицо рассыпалось в пыль.
Вспышка солнечного света на стали. Нож Сарцелла. Крики. Радостные и испуганные.
Серве почувствовала, как жизнь вытекает из груди. Она шевельнула губами, пытаясь заговорить с ним, с богоподобным человеком, сказать что-нибудь напоследок, но с губ не сорвалось ни звука, ни вздоха. Она подняла руки, и с протянутых пальцев упали капли темного вина.
«Мой Пророк, моя любовь — как такое может быть?»
«Я не знаю, милая Серве…»
И когда небо потемнело, она вспомнила его слова, сказанные однажды.
«Ты невинна, милая Серве. Ты — единственное сердце, которое мне не нужно учить…»
Последняя вспышка солнечного света, нагоняющего дремоту, — как будто она ребенок, что уснул под деревом и был потревожен колыханием его ветвей.
«Невинна, Серве».
Свод из ветвей, становящийся все темнее, теплый, словно покрывало. Солнце исчезло.
«Ты и есть то счастье, которое ты ищешь».
«Но мой малыш, мой…»
Глава 23. Карасканд
«Для людей круг никогда не замыкается. Мы всегда движемся по спирали».
Друз Ахкеймион, «Компендиум Первой Священной войны»«Приведите того, кто изрек пророчество, на суд жрецов, и если пророчество его будет признано истинным, то он чист, а если пророчество его будет признано ложным, привяжите его к трупу его жены и повесьте в локте от земли, ибо он нечист и проклят перед богами».
«Хроники Бивня», Книга Свидетельств, глава 7, стих 484112 год Бивня, конец зимы, Карасканд
Ощущение было такое, будто кто-то врезал ему под колени посохом. Элеазара качнуло вперед, но его подхватила и удержала сильная рука лорда Чинджозы, палатина Антанамерского.
«Нет… нет».
— Вы понимаете, что это означает? — прошипел Чинджоза.
Элеазар оттолкнул палатина и, пошатываясь, словно пьяный, сделал два шага к телу Чеферамунни. Темноту комнаты, в которой лежал больной король, рассеивали свечи, стоявшие у изголовья кровати. Сама кровать — пышная, роскошная — была установлена между четырех мраморных столбов, поддерживающих низкий свод потолка. Но воняло от нее фекалиями, кровью и заразой.
Голова Чеферамунни покоилась в окружении свечей, но его лицо…
Его просто не было.
На том месте, где полагалось находиться лицу, Элеазар видел нечто, напоминающее перевернутого паука, сдохшего и поджавшего лапы к брюху. То, что прежде было лицом Чеферамунни, теперь лежало, выглядывая из-под сжатых лап. Элеазар видел знакомые фрагменты: одну ноздрю, лохматый край брови. А за ними темнели глаза без век и поблескивали человеческие зубы, обнаженные, лишенные губ.
И, в точности как и утверждал тот недоумок, Скалатей, Элеазар не мог увидеть колдовскую Метку.
Чеферамунни — шпион-оборотень кишаурим.
Невозможно.
Великий магистр Багряных Шпилей закашлялся и сморгнул слезы. Это было уже чересчур. Казалось, будто сам воздух пропитался безумием и превратился в ночной кошмар. Земля ушла из-под ног. Элеазар снова почувствовал, что Чинджоза поддерживает его.
— Магистр! Что это означает?
«Что мы обречены. Что я привел мою школу к уничтожению».
Цепочка катастроф. Чудовищные потери в сражении при Анвурате. Гибель генерала Сетпанареса. Смерть пятнадцати колдунов высокого ранга при переходе через пустыню и во время мора. И катастрофа в Иотии, унесшая еще двоих. Священное воинство сидит в осаде и голодает.
А теперь еще вот это… Обнаружить ненавистного врага здесь, рядом с собой. Насколько много известно кишаурим?
— Мы обречены, — пробормотал Элеазар.
— Нет, великий магистр, — ответил Чинджоза.
Его низкий голос звучал сдавленно — от ужаса.
Элеазар повернулся к нему. Чинджоза был крупным, крепко сбитым мужчиной; поверх кольчуги он носил нараспашку кианский халат из красного шелка. Из-за белого грима его энергичное лицо казалось окостеневшим, особенно в контрасте с широкой черной бородой. Чинджоза показал себя неукротимым воином, способным командиром и — в отсутствие Ийока — проницательным советником.
— Мы были бы обречены, если бы эта тварь повела нас в битву. Быть может, боги оказали нам милость, наслав эту болезнь.
Элеазар вгляделся в лицо Чинджозы. Его поразила очередная ужасная мысль.
— А ты, Чинджоза, тот, за кого себя выдаешь?
Палатин Антанамеры, одной из главных провинций Верхнего Айнона, сурово взглянул на него.
— Я это я, великий магистр.
Некоторое время Элеазар внимательно разглядывал кастового дворянина, и простая, воинственная сила этого человека словно оттащила его от края бездны отчаяния. Чинджоза был прав. Это — не катастрофа. Это… да, действительно, своего рода благословение. Но если Чеферамунни оказалось возможно подменить… Значит, должны быть и другие.
— Чинджоза, об этом никто не должен знать. Никто.
В полумраке видно было, как палатин кивнул.
«Если бы только эту неблагодарную тварь Завета удалось сломить!»
— Отруби у него голову, — сказал Элеазар напряженным голосом, — а труп сожги.
Ахкеймион с Ксинемом шли между светом и тьмой, путями сумерек, что ведомы лишь теням. Там не было ни пищи, ни воды, и их тела, которые они тащили на себе, как тащат трупы, ужасно страдали.
Путь сумерек. Путь теней. От портового города Джокта до Карасканда.
Когда они проходили мимо вражеских лагерей, то чувствовали, как вырванные глаза кишаурим — сверкающие, чистые, словно отражение лампы в серебряном зеркале — смотрят из-за горизонта, выискивая их. Часто Ахкеймион думал, что они обречены. Но всякий раз эти глаза отводили нечеловечески внимательный взгляд, то ли обманувшись, то ли… Ахкеймион не мог сказать, почему именно.
Добравшись до стен, они встали перед небольшими боковыми воротами. Была ночь, и на зубчатых стенах поблескивало пламя факелов. Ахкеймион крикнул, обращаясь к пораженным стражникам:
— Откройте ворота! Я Друз Ахкеймион, адепт Завета, а это Крийатес Ксинем, маршал Аттремпа… Мы пришли, чтобы разделить вашу судьбу!
— Этот город обречен и проклят, — сказал кто-то. — Кто будет пытаться войти в такое место? Кто, кроме безумцев или изменников?
Ахкеймион ответил не сразу. Его поразила мрачная убежденность, прозвучавшая в тоне говорившего. Он понял, что Люди Бивня лишились всякой надежды.
— Люди, привязанные к тем, кого любят, — сказал он. — До самой смерти.
Через некоторое время боковая дверь распахнулась, и их окружил отряд осунувшихся, изможденных туньеров. Наконец-то они очутились в ужасе Карасканда.
Эсменет когда-то слышала, что храмовый комплекс Ксокиса столь же стар, как и Великий зиккурат Ксийосера в Шайгеке. Он располагался в самой середине Чаши, и с вымощенных известняком площадок вокруг его центральной коллегии, Калаула, были видны пять окрестных холмов. В центре коллегии росло огромное дерево, древний эвкалипт, который люди с незапамятных времен называли Умиаки. Эсменет плакала в его плотной тени, глядя на висящие тела Келлхуса и Серве. Младенец Моэнгхус дремал у нее на руках, ни на что не обращая внимания.
— Пожалуйста… Пожалуйста, Келлхус, очнись, ну пожалуйста!
На глазах у беснующейся толпы Инхейри Готиан сорвал с Келлхуса одежду и отхлестал его кедровыми ветвями так, что он весь покрылся кровоточащими ранами. Потом окровавленное тело привязали к голому трупу Серве — лодыжка к лодыжке, запястье к запястью, лицо к лицу. Их обоих поместили внутрь большого бронзового обруча и подвесили этот обруч — вверх ногами — на самой нижней, самой могучей ветви Умиаки. Эсменет выла, пока не сорвала голос.
Теперь они медленно вращались; ветер переплел их золотистые волосы между собой, их руки и ноги были раскинуты, словно у танцоров. Эсменет увидела пепельно-серую грудь, закрутившиеся прядями волосы под мышкой; потом перед глазами у нее проплыла стройная спина Серве, почти мужская из-за крепкого позвоночника. Эсменет заметила ее половые органы, выставленные напоказ между раздвинутыми ногами, прижатые к обмякшим гениталиям Келлхуса.
Серве… Лицо ее потемнело от застывшей крови, тело казались вырезанным из серого мрамора, безукоризненное, словно произведение искусства. И Келлхус… Его лицо поблескивало от пота, мускулистую спину покрывали воспаленные красные полосы. Отекшие глаза были закрыты.
— Но ты же сказал! — стенала Эсменет. — Ты же сказал, что истина не может умереть!
Серве мертва. Келлхус умирает. Как бы долго она ни смотрела, как бы проникновенно ни убеждала, как бы пронзительно ни взывала…
Оборот за оборотом. Мертвая и умирающий. Безумный маятник.
Прижимая к себе Моэнгхуса, Эсменет свернулась на мягкой подстилке из листьев. Там, где они смялись под тяжестью ее тела, от листьев исходил горьковатый запах.
«Помни об этом, когда будешь вспоминать секреты битвы…»
Там, где он проходил, айнрити смолкали и провожали его взглядами, как провожают королей. Найюр прекрасно знал, как его присутствие действует на других людей. Даже под звездным небом ему не нужно было ни золота, ни герольдов, ни знамен, чтобы объявить о своем статусе. Он носил свою славу на коже рук. Он был Найюр урс Скиоата, укротитель коней и мужей. Всем прочим достаточно было взглянуть на него, чтобы устрашиться.
«Охота не должна прекращаться…»
«Замолчи! Замолчи!»
Калаул, широкая центральная площадь Ксокиса, была заполнена жалкой, презренной толпой. По периметру площади айнрити толпились на монументальных лестницах храмов, столь же древних, как храмы Шайгека или Нансурии. Другие осторожно пробирались вдоль фасадов общих спален и полуразрушенных крытых галерей. Айнрити сидели на циновках и переговаривались. Некоторые даже разводили маленькие костерки и жгли ароматические смолы и древесину — надо думать, в качестве подношения Воину-Пророку. По мере того как Найюр приближался к огромному дереву посреди Калаула, толпа становилась все плотнее. Он видел людей, одетых лишь в нижние сорочки; их задницы воняли дерьмом. Он видел людей, у которых животы словно бы приросли к спине. Он натолкнулся на какого-то дурачка с голым торсом — тот скакал взад-вперед и тряс над головой сложенными коробочкой ладонями, словно погремушкой. Когда Найюр отодвинул недоумка со своего пути, по булыжной мостовой застучала мелкая дробь. Он услышал, как позади сумасшедший вопит что-то насчет своих зубов.
«…тайны битвы…»
«Ложь! Снова ложь!»
Не обращая внимания на угрозы и ругательства, сопровождающие его продвижение, Найюр пробивался вперед, проталкиваясь через зловонное море голов, локтей и плеч. Остановился он лишь тогда, когда увидел могучее дерево, которое люди называли Умиаки. Подобное огромному перевернутому корню, оно высилось на фоне ночного неба, черное, безлистное.
«Великие все еще прислушиваются к тебе…»
Найюр вглядывался изо всех сил, но никак не мог разглядеть дунианина — равно как и Серве.
— Дышит ли он? — воскликнул Найюр. — Бьется ли еще его сердце?
Окружавшие его айнрити переглядывались в смущении и тревоге. Никто не ответил.
«Пьянчуги с собачьими глазами!»
Он продолжал с отвращением пробиваться через толпу, расталкивая людей. В конце концов он добрался до оцепления шрайских рыцарей, один из которых уперся ладонью ему в грудь, желая остановить скюльвенда. Найюр хмуро смотрел на него, пока рыцарь не убрал руку, потом снова вгляделся во тьму под кроной Умиаки.
Он ничего не увидел.
Некоторое время Найюр раздумывал: не прорубить ли себе дорогу? Затем с противоположной стороны Умиаки прошла процессия шрайских рыцарей с факелами, и на краткий миг Найюр заметил силуэт — ее или его?
Айнрити, стоящие в первых рядах, разразились криками, кто восторженными, кто издевательскими. Сквозь рев Найюр услыхал бархатный голос, какой могло слышать только его сердце.
«Это хорошо, что ты пришел… Это правильно».
Найюр в ужасе уставился на тело, распятое в кольце. Затем цепочка факелов удалилась, и землю под Умиаки вновь окутала тьма. Гвалт голосов пошел на убыль, распался на отдельные выкрики.
«Все люди, — сказал голос, — должны знать свою работу».
— Я пришел посмотреть, как ты страдаешь! — выкрикнул Найюр. — Я пришел посмотреть, как ты умираешь!
Краем глаза он заметил, как люди начали встревоженно на него оборачиваться.
«Но почему? Почему ты этого хочешь?»
— Потому что ты предал меня!
«Как? Как я тебя предал?»
— Тебе достаточно было говорить! Ты — дунианин!
«Ты слишком высоко меня ценишь… Даже выше, чем эти айнрити».
— Потому что я знаю! Я один знаю, что ты такое! Я один могу уничтожить тебя!
Найюр расхохотался, как способен хохотать лишь чистокровный вождь утемотов, потом махнул рукой, показывая на тьму за Умиаки.
— Свидетельствую…
«А мой отец? Охота не должна заканчиваться — ты это знаешь».
Найюр застыл, не дыша, не шевелясь, словно затаившийся в травах Степи камень.
— Я совершил сделку, — ровным тоном произнес он. — Я воздал тому, кого ненавижу больше.
«Так ли это?»
— Да! Да! Посмотри на нее! Посмотри, что ты сделал с ней!
«То, что я сделал, скюльвенд? Или то, что сделал ты?»
— Она мертва! Моя Серве! Моя Серве мертва! Моя добыча!
«О да… О чем они будут шептаться, теперь, когда твое доказательство уже сыграло свою роль? Как они это оценят?»
— Ее убили из-за тебя!
Смех, звучный и искренний, словно у любимого дядюшки, когда он хлебнет хмельного.
«Слова, достойные истинного сына Степи!»
— Ты смеешься надо мной?
Тяжелая рука легла на плечо Найюра.
— Хватит! — крикнул кто-то. — Кончай сходить с ума! Прекрати говорить на этом гнусном языке!
Плавным движением Найюр перехватил чужую руку и вывернул ее, разрывая сухожилие и ломая кость. Потом он одним ударом отправил наглеца, посмевшего тронуть его, на землю.
«Смеяться? Кто посмеет смеяться над убийцей?»
— Ты! — закричал Найюр в сторону дерева.
Он протянул руки, с легкостью способные свернуть человеку шею.
— Ты убил ее!
«Нет, скюльвенд. Это сделал ты… Когда продал меня».
— Чтобы спасти моего сына!
И Найюр увидел ее, обмякшую, перепуганную, в руках Сарцелла — кровь текла по ее платью, глаза тонули во тьме… Во тьме! Сколько раз он видел, как она поглощает людские взоры?
Он услышал доносящееся из темноты хныканье младенца.
— Они должны были убить ту шлюху! — выпалил Найюр.
Теперь уже несколько айнрити кричали на него. Он почувствовал скользящий удар по щеке, заметил сверкание стали. Найюр схватил нападавшего за голову и надавил большими пальцами на глаза. Что-то острое вонзилось ему в бедро. Кулаки замолотили по спине. Что-то — не то дубинка, не то эфес меча — врезалось ему в висок; Найюр отпустил нападавшего и резко развернулся. Он услышал, как в тени Умиаки дунианин смеется — смеется, как надлежит смеяться только утемоту.
«Нытик!»
— Ты! — взревел Найюр, сшибая людей ударами своих каменных кулаков. — Ты!!!
Вдруг толпа раздалась в стороны, при виде человека, возникшего справа от него. Некоторые даже принялись громко извиняться. Найюр взглянул на этого человека — тот почти не уступал ему ростом, хоть и был поуже в плечах.
— Скюльвенд, ты что, рехнулся? Это же я! Я!
— Ты убил Серве.
Внезапно незнакомец превратился в Коифуса Саубона в потрепанном одеянии кающегося грешника. Это что еще за чертовщина?
— Найюр! — воскликнул галеотский принц. — С кем ты разговариваешь?
«Ты…» — хохотнула темнота.
— Скюльвенд?
Найюр стряхнул с себя крепкую руку Саубона.
— Это дурацкое бдение, — проскрежетал он.
Он сплюнул, потом развернулся и принялся прокладывать себе путь подальше от этой вони.
«Эсми…»
При этой мысли его сердце радостно забилось.
«Я иду, милая. Я уже совсем рядом!»
Ахкеймиону чудился ее запах, мускусный, апельсиновый. Ему казалось, будто он чувствует ее горячее дыхание на своей щеке, ощущает, как она прижимается к его чреслам — отчаянно, безрассудно, словно в попытке потушить опасное пламя. Он словно видел, как она откидывает волосы — проблеск страстных глаз и разомкнутых губ.
«Совсем рядом!»
Тидонцы — пять рыцарей и пестрая толпа пехотинцев — проводили их по темным улицам. Вели они себя достаточно любезно, особенно с учетом обстоятельств их появления, но рыцари отказывались что-либо рассказывать, пока за них не поручится наделенный властью человек. Ахкеймион видел по пути других Людей Бивня; по большей части они выглядели так же ужасно, как и стража у ворот. Кто сидел у окон, кто полулежал, прислонившись к колоннам, но лица у всех были бледные и пустые, а глаза — невероятно яркие, будто в них горел огонь, сжигающий тела изнутри.
Ахкеймиону уже доводилось видеть подобные взгляды. На полях Эленеота, после смерти Анасуримбора Кельмомаса. В великом Трайсе, когда рухнули врата Шайнота. На равнине Менгедда, при приближении чудовищного Цурумаха. Взгляд, полный ужаса и ярости, взгляд человека, который может биться, но не в силах победить.
Взгляд Апокалипсиса.
Всякий раз, когда Ахкеймион встречался с кем-нибудь глазами, в этом обмене взглядами не было ни угрозы, ни вызова, лишь грустное понимание. Нечто — демон или безумие — заползало в черепа к тем, кто перенес непереносимое, и когда оно выглядывало из глаз человека, то могло узнать себя в других. Ахкеймион понял, что он — одно целое с этими людьми. Не только с его любимыми, но со всем Священным воинством. Он един с ними — до самой смерти.
«У нас одна судьба».
Они медленно — из-за Ксинема — прошли между двумя холмами, имен которых Ахкеймион не знал, в район, который нумайньерцы называли Чашей, — предположительно, именно там расположился Пройас со своей свитой. Они миновали лабиринт улиц и переулков, не раз проходя мимо рыцарей, требовавших у них пароль. Несмотря ни на что — на перспективу отыскать Келлхуса и Эсменет, увидеть Пройаса после стольких тяжких месяцев, — Ахкеймион поймал себя на том, что размышляет, уж не зря ли он так легкомысленно заявил под стенами Карасканда: «Я — Друз Ахкеймион, адепт Завета…»
Сколько времени прошло с тех пор, когда он в последний раз произносил эти слова вслух?
«Адепт Завета…»
А действительно ли он — адепт Завета? И если так, отчего ему делается не по себе при мысли о том, что надо связаться с Атьерсом? По всей видимости, они узнали о его похищении. У них наверняка есть осведомители, о которых самому Ахкеймиону ничего не известно — по крайней мере, в конрийском войске. Они наверняка предположили, что он мертв.
Ну так почему бы не связаться с ними? За время его пребывания в плену угроза Второго Апокалипсиса не уменьшилась. И Сны — они терзали его так же, как раньше…
«Потому, что я больше — не один из них».
Да, он свирепо оборонял Гнозис — вплоть до того, что пожертвовал Ксинемом! — но при этом отрекся от Завета. Ахкеймион вдруг осознал, что отвернулся от собратьев по школе еще до того, как Багряные Шпили похитили его. И все ради Келлхуса…
«Я собирался обучить его Гнозису».
От одной этой мысли у Ахкеймиона перехватило дух. Он вспомнил, что внутри этих стен его ждет нечто большее, чем Эсменет. Давние тайны, окружающие Майтанета. Угроза, исходящая от Консульта и его шпионов-оборотней. Обещание и загадка Анасуримбора Келлхуса. Предвестия Второго Апокалипсиса!
Но хотя по коже побежали мурашки, что-то в нем упрямилось, что-то старое и бессердечное, словно крокодил. «Да в гробу я видел эти тайны! — подумалось Ахкеймиону. — Пускай хоть весь мир вокруг летит в тартарары!» Ибо он — Друз Ахкеймион, такой же мужчина, как и все прочие, и у него есть его возлюбленная, его жена — его Эсменет. Все остальное казалось ребячеством, подобно строкам в зачитанной книге.
«Я знаю, что ты жива. Я знаю!»
В конце концов их небольшой отряд остановился перед безликими стенами какой-то усадьбы. Ахкеймион, стоя рядом с Ксинемом, наблюдал, как двое нумайньерских рыцарей спорят со стражниками, охраняющими ворота. Услышав голос друга, он повернулся в его сторону.
— Акка, — сказал Ксинем, хмуря брови в своей странной, безглазой манере. — Когда мы шли через тени…
Маршал заколебался, и на миг Ахкеймион испугался яростного потока взаимных упреков. До Иотии сама идея о том, что можно прибегнуть к колдовству, чтобы проскользнуть мимо врагов, была бы немыслима для Ксинема. И однако же он согласился, когда Ахкеймион предложил этот вариант в Джокте — согласился неохотно, но без единого слова жалобы. Может, теперь он раскаивается? Или его, как и самого Ахкеймиона, одолевают заботы?
— Я слеп, — продолжал Ксинем. — Слеп, как самый настоящий слепец, Акка! И все же я видел их… Кишаурим. Я видел, как они смотрят!
Ахкеймион поджал губы. Его встревожил страх, смешанный с надеждой, в голосе маршала.
— Ты действительно видел, — осторожно подбирая слова, ответил он, — в некотором роде… Существует много способов видеть. И все мы обладаем глазами, что никогда не прорастали сквозь кожу. Люди ошибаются, думая, что между слепотой и зрячестью нет промежутков.
— А кишаурим? — не унимался Ксинем. — Как им…
— Кишаурим — господа этого промежутка. Говорят, будто они ослепляют себя сами, чтобы лучше видеть Мир, Что Между. По мнению некоторых, именно в этом — ключ к их метафизике.
— Так, значит… — начал Ксинем со страстностью в голосе.
— Не сейчас, Ксин, — оборвал его Ахкеймион. — Как-нибудь в другой раз…
Старший из тидонских рыцарей, раздражительный тан по имени Анмергал, шел к ним от ворот усадьбы.
На ломаном, но вполне понятном шейском Анмергал сообщил, что люди Пройаса согласны принять их — вопреки здравому смыслу.
— Никто еще не пробирался в Карасканд, — пояснил он.
А потом, не дожидаясь ответа, тан неуклюже зашагал прочь, на ходу выкрикивая команды своему отряду. Из темноты появились пехотинцы, одетые как кианцы, но с Черным Орлом дома Нерсеев на щитах. Ахкеймиона с Ксинемом ввели на территорию усадьбы.
Там их встретил управитель в потрепанной — но зато черно-белой, цветов дома Пройаса — ливрее. Они прошли мимо какой-то кианки — очевидно, рабыни, — опустившейся на колени в дверном проеме, и Ахкеймион поймал себя на том, что потрясен — не ее неприкрытым страхом, а просто тем, что она — первая из фаним, кого он увидел во всем Карасканде…
Неудивительно, что город напоминает гробницу.
Они завернули за угол и оказались в передней с высоким потолком. Между двумя толстыми колоннами — судя по виду, нильнамешскими, — обнаружилась приоткрытая дверь, бронзовая с прозеленью. Управитель просунул голову в щель. Затем он отворил дверь полностью и, обеспокоенно глянув на Ксинема, жестом пригласил их войти. У Ахкеймиона скрутило внутренности, он мысленно выругался…
А потом обнаружил, что смотрит на Нерсея Пройаса.
Хоть он и был более изможденным и гораздо более худым — льняная рубаха болталась на нем, словно на вешалке, — наследный принц Конрии казался почти прежним. Копна вьющихся черных волос, которые его мать одновременно и ругала, и обожала. Аккуратно подстриженная борода. Лицо, уже не столь молодое, но сохранившее прежние очертания. Выразительный лоб. И конечно же, ясные карие глаза, теперь достаточно глубокие, чтобы вместить любую смесь страстей, сколь угодно противоречивых.
— Что такое? — спросил Ксинем. — Что происходит?
— Пройас… — сказал Ахкеймион и кашлянул, прочищая горло. — Это Пройас, Ксин.
Конрийский принц с ледяным спокойствием посмотрел на Ксинема. Он отступил на два шага от искусно украшенного стола. И, словно во сне, спросил:
— Что случилось?
Ахкеймион не ответил, оцепенев от потока неожиданных эмоций. Он почувствовал, как лицо залила краска ярости. Ксинем стоял рядом, абсолютно неподвижно.
— Говорите же, — приказал Пройас. В голосе его звенело безрассудство. — Что случилось?
— Багряные Шпили лишили его глаз, — ровным тоном произнес Ахкеймион. — Чтобы… чтобы…
Молодой принц вдруг кинулся к Ксинему и, словно безумный, стиснул его в объятиях — не щека к щеке, как принято между мужчинами, а уткнувшись, словно ребенок, лицом в грудь маршалу. Плечи его вздрагивали от рыданий. Ксинем положил ладони ему на затылок и прижался бородой к макушке.
Несколько мгновений невыносимой тишины.
— Ксин, — прохрипел Пройас. — Пожалуйста, прости меня! Прости! Умоляю!
— Ш-ш-ш… Мне достаточно почувствовать твое объятие… Услышать твой голос.
— Но, Ксин! Твои глаза! Глаза!
— Ну, будет, успокойся… Акка вылечит меня. Вот увидишь.
При этих словах Ахкеймион дернулся. Надежда, обманывающая близких, — наихудший яд.
Задохнувшись, Пройас прижался щекой к плечу маршала. Его блестящие глаза остановились на Ахкеймионе, и некоторое время они, не мигая, смотрели друг на друга.
— И ты, старый наставник, — сипло произнес молодой человек. — Сможешь ли ты найти в своем сердце прощение?
Хотя Ахкеймион отчетливо слышал эти слова, они доносились до него словно откуда-то издалека. Нет, понял он. Он не сможет простить — и не потому, что сердце его ожесточилось, а потому, что все это стерлось, изгладилось из памяти. Он видел мальчика, которого когда-то любил, — но в то же время он видел и чужака, незнакомца, мужчину, идущего ненадежными, сомнительными путями.
Истинно верующего.
Слепого фанатика.
Как ему только могло прийти в голову, будто эти люди — его братья?
Изо всех сил сохраняя каменное выражение лица, Ахкеймион сказал:
— Я более не наставник.
Пройас крепко зажмурился. Когда же он открыл глаза, его взгляд сделался непроницаемым. Какие бы невзгоды ни перенесло Священное воинство, Пройас-Судия выжил.
— Где они? — спросил Ахкеймион.
Теперь круги были очерчены куда четче. Если не считать Ксинема, его сердце принадлежало лишь Эсменет и Келлхусу. В целом мире только они имели значение.
Пройас явственно напрягся, отодвинулся от Ксинема.
— Тебе что, никто не сказал?
— Нам вообще никто ничего не говорил, — пояснил Ксинем. — Они боялись, что мы можем оказаться шпионами.
У Ахкеймиона перехватило дыхание.
— Эсменет?! — еле выдохнул он.
— Нет… Эсменет в безопасности.
Пройас провел рукой по стриженым волосам; вид у него был встревоженный и зловещий.
Где-то зашипел фитиль оплывшей свечи.
— А Келлхус? — спросил Ксинем. — С ним что?
— Вы должны понять. Много, очень много всего произошло.
Ксинем принялся шарить в воздухе рукой, словно ему нужно было прикоснуться к собеседнику.
— Что ты такое говоришь, Пройас?
— Я говорю, что Келлхус мертв.
Во всем Карасканде лишь огромный базар нес память о Степи, и даже это была всего лишь тень памяти — ровная поверхность каменной кладки, открытое пространство, окруженное фасадами с темными окнами. Между камнями брусчатки не росла трава.
«Свазонд, — сказал он тогда. — Человек, убитый тобой, ушел из мира, Серве. Он существует лишь здесь, в шраме на твоей руке. Это — знак его отсутствия, всех путей, где не пройдет его душа, всех действий, какие он не совершит. Знак тяжести, которую ты отныне несешь».
А она ответила: «Я не понимаю…»
До чего же милая глупышка. Такая невинная…
Найюр лежал рядом с животом дохлой лошади, окруженный мертвыми кианцами — жертвами разграбления города, произошедшего три недели назад.
— Я понесу тебя, — сказал он темноте.
Кажется, он никогда еще не произносил более сильной клятвы.
— У тебя не будет недостатка ни в чем, пока спина моя крепка.
Традиционные слова, которые произносит жених, когда во время свадьбы сказитель заплетает ему волосы.
Он поднес нож к горлу.
…Привязанный к кругу, подвешенный на суку темного дерева.
Привязанный к Серве.
Холодной и безжизненной.
Серве.
Муха проползла по ее груди, остановилась перед ноздрей, из которой не вырывалось дыхания. Он подул, поток воздуха коснулся мертвой кожи, и муха улетела. «Должен сохранить ее чистой».
Ее глаза полуприкрыты и сухи, словно папирус.
«Серве! Дыши, девочка, дыши! Я приказываю!»
«Я пойду впереди тебя. Я пойду впереди».
Привязанный к Серве, кожа к коже.
«Что я… Что? Что?»
Судорога.
«Нет… Нет! Я должен сосредоточиться. Я должен оценить…»
Немигающие глаза, глядящие на звезды.
«Нет никаких обстоятельств за пределами… никаких обстоятельств за пределами…»
Логос.
«Я — один из Обученных!»
Он чувствовал ее, от голеней до щеки, холодную, излучающую холод, проникающий до самых костей.
«Дыши! Дыши!»
Сухая… И такая неподвижная! Такая невероятно неподвижная!
«Отец, пожалуйста! Пожалуйста, сделай так, чтобы она дышала! Я… Я не могу идти дальше».
Лицо такое темное, крапчатое, как будто извлеченное из моря. Неужели она и вправду когда-то улыбалась?
«Сосредоточься! Что происходит?»
«Все в беспорядке. И они убили ее. Убили мою жену».
«Я отдал ее им».
«Что ты говоришь?»
«Я отдал ее им».
«Почему? Почему ты это сделал?»
«Ради тебя… Ради них».
Что-то капало вокруг, и он провалился в сон; холодная вода омыла кожу, покрытую синяками и ранами.
Потом пришли сновидения. Мрачные туннели, безрадостная земля.
Горный хребет, изогнувшийся на фоне ночного неба, словно бедро спящей женщины.
А на нем — два силуэта, темные по сравнению с невероятно яркими звездами.
Силуэт сидящего человека: плечи сгорблены, словно у обезьяны, ноги скрещены, словно у жреца.
И дерево, чьи ветви качаются из стороны в сторону, пронзая чашу неба.
И звезды, вращающиеся вокруг Гвоздя Небес, словно тучи, несущиеся по зимнему небу.
И Келлхус смотрел на эту фигуру, смотрел на дерево, но не мог пошевелиться. Небесный свод кружился, как будто ночь проходила за ночью, минуя день.
И фигура, обрамленная вращающимися небесами, заговорила — миллион глоток в его глотке, миллион ртов в его рту…
ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?
Человек встал, сложив руки, словно монах, согнув ноги, словно медведь.
СКАЖИ МНЕ…
Весь мир взвыл от ужаса.
Воин-Пророк очнулся; там, где к нему прикасалась щека мертвой женщины, кожа горела.
Новые судороги.
«Отец! Что со мной происходит?»
Один приступ боли за другим. Они срывали с него лицо, превращали его в лицо чужака.
«Ты плачешь».
Заудуньяни на Бычьем холме узнали в нем друга Воина-Пророка, и Ахкеймион очутился в великолепной гостиной, щурясь от блеска пластин из слоновой кости, врезанных в отполированный черный мрамор. Некоторое время спустя появился айнонский дворянин по имени Гайямакри — как сказали, он был одним из наскенти, — и повел его по темным коридорам. Когда Ахкеймион спросил его насчет воинов в белых одеждах, расставленных по всему дворцу, этот человек принялся жаловаться на смуту и злые происки ортодоксов. Но Ахкеймион не слышал ничего, кроме бешеного стука собственного сердца.
Наконец они остановились перед роскошной двустворчатой дверью — древесина орехового дерева и накладные украшения из бронзы, — и Ахкеймион поймал себя на том, что придумывает шутки, чтобы насмешить Эсми.
«Из палатки колдуна в дворянские покои… Хм».
Он почти слышал ее смех, почти видел ее глаза, искрящиеся любовью и проказливостью.
«Что же будет после того, как я умру в следующий раз? Андиаминские Высоты?»
— Она, наверное, спит, — извиняясь, сказал Гайямакри. — Ей пришлось тяжелее всех.
Шутки… О чем он только думает? Она нуждается в нем — отчаянно нуждается, если то, что сказал Пройас, правда. Серве мертва, а Келлхус умирает. Священное воинство голодает… Ей нужна поддержка и опора. Он будет ей опорой!
Гайямакри вдруг развернулся и схватил его за руки.
— Пожалуйста! — прошипел он. — Ты должен спасти его! Ты должен!
Он упал на колени, сжимая руки Ахкеймиона с таким пылом, что у него побелели костяшки.
— Ты же был его наставником!
— Я… я сд-делаю все, что смогу, — заикаясь, пробормотал Ахкеймион. — Даю слово.
Слезы струились по щекам айнона и терялись в бороде. Он прижался лбом к рукам Ахкеймиона.
— Благодарю тебя! Благодарю!
Не зная, что сказать, Ахкеймион поднял наскенти с пола. Гайямакри принялся оправлять свое желто-белое одеяние, словно вспомнил вдруг об извечной одержимости джнаном.
— Ты не забудешь? — выдохнул он.
— Конечно, не забуду. Только сперва мне нужно посоветоваться с Эсменет. Наедине… Понимаешь?
Гайямакри кивнул. Три шага он пятился, потом развернулся и припустил прочь по коридору.
Ахкеймион остановился перед высокой дверью, тяжело дыша.
«Эсми».
Он будет сжимать ее в объятиях, пока она не выплачется. Он поведает ей каждую свою мысль, расскажет, что она значила для него во время плена. Он сообщит ей, что он, адепт Завета, возьмет ее в жены. В жены! И на глазах ее от изумления выступят слезы. Ахкеймион едва не рассмеялся от радости.
«Наконец-то!»
Вместо того чтобы постучать, он просто толкнул дверь и вошел, как мог бы войти муж. Его встретил полумрак, наполненный запахом ванили. Всего лишь шесть расставленных в беспорядке свечей освещали покои, просторные, с высоким сводчатым потолком, в изобилии заполненные коврами, ширмами и драпировками. На помосте стояла огромная пятиугольная кровать, занимавшая всю середину комнаты; простыни и покрывала были смяты, словно после ночи страсти. Слева раздвижная стена открывала проход в небольшой садик. Небо было усыпано яркими звездами.
Ничего себе палатка колдуна!
Ахкеймион вышел из полосы света и вгляделся в глубину покоев. Кровать была пуста — он видел это сквозь кисею. Дверь за спиной у Ахкеймиона захлопнулась с громким стуком, заставив его вздрогнуть.
Где же она?
Потом Ахкеймион разглядел ее в дальнем конце комнаты: Эсменет лежала на небольшом диванчике, свернувшись клубочком, спиной к двери — и к нему. Волосы ее отросли и в полумраке казались почти фиолетовыми. Свободная рубаха сползла, обнажив тонкое плечо, одновременно и загорелое, и бледное. Ахкеймиона тут же охватило возбуждение, радостное и безрассудное.
Сколько раз он целовал эту кожу?
Поцелуй. Вот как он разбудит ее — плача и целуя ее плечо. Она зашевелится, подумает, что это сон. «Нет… Это не можешь быть ты. Ты умер». Потом он возьмет ее, с медленной, яростной нежностью, заполнив ее чувственным экстазом. И она поймет, что наконец-то ее сердце вернулось.
«Я вернулся к тебе, Эсми… Из смерти и муки».
Он сделал несколько шагов и тут же остановился, потому что Эсменет вдруг рывком села. Она встревоженно огляделась, потом остановила взгляд припухших, неверящих глаз на нем.
На мгновение она показалась ему чужой, незнакомой женщиной; Ахкеймион увидел ее теми молодыми, страстными глазами, как много лет назад, в Сумне, при их первой встрече. Веселая красота. Веснушки на щеках. Полные губы и безукоризненные зубы.
На миг у них обоих перехватило дыхание.
— Эсми… — прошептал Ахкеймион, не в силах произнести ничего более.
Он забыл, как она прекрасна.
На миг на ее лице отразился дикий ужас, как будто она увидела призрак. Но потом все чудесным образом переменилось, и Эсменет кинулась к нему; босые ноги несли ее, словно крылья.
Они очутились рядом и прижались друг к другу, не помня себя. Она казалась такой маленькой, такой хрупкой в его объятиях!
— Ох, Акка! — всхлипнула Эсменет. — Ты же умер! Умер!
— Нет-нет-нет, милая, — пробормотал Ахкеймион, судорожно вздохнув.
— Акка, Акка, ох, Акка!
Ахкеймион погладил ее по голове. Рука его дрожала. Волосы ее были на ощупь словно шелк. И ее запах — мягкий запах фимиама и женского мускуса.
— Ну будет, Эсми, — прошептал он. — Все хорошо. Мы снова вместе!
«Пожалуйста, позволь мне поцеловать тебя».
Но она заплакала еще сильнее.
— Ты должен спасти его, Ахкеймион! Ты должен спасти его!
Легкое замешательство зашевелилось в его душе.
— Спасти его? Эсми… Что ты имеешь в виду?
Его руки ослабели. Эсменет вырвалась из объятий и отступила, как будто вспомнила нечто ужасное.
— Келлхус, — сказала она.
Губы ее дрожали.
Ахкеймион прихлопнул воющий страх, что поднялся у него в сердце.
— О чем ты, Эсми?
Он почувствовал, как кровь отхлынула от лица.
— Ты что, не понимаешь? Они убивают его!
— Келлхуса? Да… Конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти его! Но пожалуйста, Эсми! Позволь мне побыть с тобой! Ты нужна мне!
— Ты должен спасти его, Акка! Ты не можешь допустить, чтобы его убили!
Вспышка страха, на этот раз неудержимого. «Нет. Будь благоразумен. Она страдала не меньше меня. Просто она не такая сильная».
— Я никому не позволю что-либо сделать с ним. Клянусь. Но только… пожалуйста…
«Эсми… Что ты наделала?»
Уголки ее губ опустились. Она всхлипнула.
— Он… он…
Странное ощущение — как будто погружаешься под воду, а в легких нет воздуха.
— Да, Эсми… Он — Воин-Пророк. Я тоже верю в это! Я сделаю все, лишь бы спасти его.
— Нет, Ахкеймион…
Теперь лицо ее сделалось мертвым, как у человека, который должен убить то, что некогда было частью его.
«Не говори! Пожалуйста, не говори этого!»
Ахкеймион оглядел непомерно роскошную комнату, повел рукой. Попытался рассмеяться, потом выговорил:
— Н-неплохая палатка колдуна, а?
Всхлип ободрал горло, словно нож.
— Ч-что же будет в следующий раз, когда я умру? Анди… Андиамин…
Он натянуто улыбнулся.
— Акка, — прошептала Эсменет, — я ношу его ребенка. «Шлюха есть шлюха».
Ахкеймион прошел мимо скопища айнрити, мимо сигнальных огней шрайских рыцарей — тень, отбрасываемая солнцем иного мира. Он помнил крики и рушащиеся стены Иотии. Он помнил, как разлетались коридоры из камня и обожженного кирпича. О, он знал мощь своей песни, грохот своего голоса, сокрушающего мир!
И знал горькое упоение мести.
Огромное дерево высилось на фоне ночного неба, древний эвкалипт, слишком древний, чтобы не получить собственного имени. Первой мыслью Ахкеймиона было подпалить его, превратить в пылающий маяк — погребальный костер для предателя, для совратителя!
Ахкеймион прокрался к дереву, на подстилку из опавшей листвы. Там он сел, обхватив руками колени, и принялся раскачиваться взад-вперед. Он чувствовал, что Люди Бивня привязали три хоры к бронзовому обручу.
Еще там была она, невозможность, обретшая плоть.
Мертвая Серве.
И там был он, привязанный к ней, рука к руке, грудь к груди.
Келлхус… Нагой, медленно вращающийся, как будто кольцо распутывало длинную нить его жизни.
Как такое могло произойти?
Ахкеймион перестал раскачиваться и застыл. Он слышал, как поскрипывают ветви под порывами ветра. Он чувствовал запах эвкалипта и смерти. Тело его успокоилось, превратившись в холодный сосуд ярости и горя.
На площади, перед оцеплением шрайских рыцарей, толпились тысячи людей, они пели гимны и погребальные плачи по Воину-Пророку. Голос флейты рассек назойливый шум; он блуждал, стелился, поднимался до горестного крещендо, творил безбожную молитву, вопль, почти животный по своей силе.
Ахкеймион обхватил себя за плечи.
«Как такое могло…»
Пальцы крепко прижаты к глазам. Дрожь. Холод. Сердце, словно груда тряпья на холодных камнях.
Он поднял голову к объекту своей ненависти. По щекам струились слезы.
— Как? Как ты мог предать меня? Ты… Ты! Два человека — всего два! Ты ж-же знал, насколько пуста моя жизнь. Ты знал! Я н-не могу понять… Я пытаюсь и пытаюсь, но не могу понять! Как ты мог так поступить со мной?
Образы клубились в его сознании… Эсменет, задыхающаяся под натиском бедер Келлхуса. Касание тяжело дышащих губ. Ее потрясенный вскрик. Ее оргазм. Они оба, нагие, сплетенные под покрывалами; они смотрят на огонек единственной свечи, и Келлхус спрашивает: «Как только ты терпела этого человека? Как ты вообще дошла до того, чтобы лечь с колдуном?»
«Он кормил меня. Он был теплой подушкой с золотом в карманах… Но он не был тобою, любовь моя. С тобой не сравнится никто».
Рот его распахнулся в негромком крике… Как. Почему.
Потом пришла ярость.
— Я могу разорвать тебя, Келлхус! Посмотреть, как ты будешь гореть! Жечь до тех пор, пока у тебя не лопнут глаза! Пес! Вероломный пес! Ты будешь визжать, пока не подавишься собственным сердцем, пока твои конечности не сломаются от боли! Я могу это сделать! Я могу сжечь войско своими песнями! Я могу вогнать в твое тело непереносимую боль! Я могу разделать тебя при помощи одних только слов! Стереть твое тело в пыль!
Он заплакал. Темный мир вокруг него гудел и горел.
— Будь ты проклят… — выдохнул Ахкеймион.
Он не мог дышать. Куда делся воздух?
Он замотал головой, словно мальчишка, гнев которого перешел в боль… И неловко ударил кулаком по опавшим листьям.
«Проклятье, проклятье, проклятье…»
Он осторожно огляделся по сторонам и вяло вытер лицо рукавом. Шмыгнул носом и ощутил на губах соленые слезы.
— Ты сделал из нее шлюху, Келлхус… Ты сделал из моей Эсми шлюху…
Они вращались по кругу. Ночной ветер донес чей-то смех.
«Ахкеймион…» — вдруг прошептал Келлхус.
Это слово обвило его, заставив замереть от ужаса.
«Нет… Ему не полагается говорить…»
«Он сказал, что ты придешь», — донеслось от щеки мертвой женщины.
Келлхус смотрел, словно с аверса монеты; его темные глаза блестели, лицо было прижато к лицу Серве. Ее голова запрокинулась, а распахнутый рот открывал ряд грязно-белых зубов. На миг Ахкеймиону показалось, что Келлхус лежит, распростертый на зеркале, а Серве — всего лишь его отражение.
Ахкеймион содрогнулся: «Что они сделали с тобой?»
Поразительно, но кольцо прекратило свое неторопливое вращение.
«Я вижу их, Ахкеймион. Они ходят среди нас, спрятавшись так, что их невозможно разглядеть…»
Консульт.
Волоски у него на загривке встали дыбом. Холодный пот обжег кожу.
«Не-бог вернулся, Акка… Я видел его! Он такой, как ты говорил. Цурумах. Мог-Фарау…»
— Ложь! — крикнул Ахкеймион. — Ты лжешь, чтобы избавиться от моего гнева!
«Мои наскенти… Скажи им, пусть покажут тебе то, что лежит в саду».
— Что? Что лежит в саду?
Но глаза Келлхуса закрылись.
Горестный вопль разнесся над Калаулом, леденя кровь; люди с факелами ринулись в темноту под Умиаки. Кольцо продолжало свое бесконечное вращение.
…Утренний свет струился с балкона, через кисейную занавеску, превращая спальню в подобие гравюры с ее сияющими поверхностями и темными пятнами теней. Заворочавшись в постели, Пройас нахмурился и поднял руку, защищаясь от солнечных лучей. Несколько мгновений он лежал неподвижно, пытаясь проглотить боль, засевшую в горле, — последний след гемофлексии. Потом его снова захлестнули стыд и раскаяние вчерашнего вечера.
Ахкеймион и Ксинем вернулись. Акка и Ксин… Оба изменились безвозвратно.
«Из-за меня».
Зябкий утренний ветер пробрался через занавески. Пройас свернулся калачиком, не желая отдавать тепло, накопившееся под одеялами. Он попытался задремать, но понял, что просто хочет избавиться от тревоги. В детстве он любил роскошную леность утренних часов. Таким вот холодным утром он заворачивался поплотнее в одеяло и наслаждался этим, как люди постарше наслаждаются горячей ванной. Тогда тепло не утекало из его тела, как сейчас.
Прошло некоторое время, прежде чем Пройас понял, что на него смотрят.
Сперва он прищурился, слишком пораженный, чтобы шевельнуться или закричать. И планировка, и отделка усадьбы были нильнамешскими. Кроме экстравагантных скульптур, спальня отличалась низким потолком, который подпирали толстые колонны с каннелюрами, позаимствованные, несомненно, из Инвиши или Саппатурая. К колонне у самого балкона прислонилась фигура, почти невидимая в утреннем свете.
Пройас резко отбросил одеяла.
Прошло несколько мгновений, прежде чем глаза приспособились к освещению и он смог узнать нежданного гостя.
— Ахкеймион? Что ты здесь делаешь? Что тебе нужно?
— Эсменет, — проговорил колдун. — Келлхус взял ее в жены. Ты знал об этом?
Пройас изумленно смотрел на колдуна; в его голосе звучало нечто такое, что мгновенно погасило возмущение принца: какое-то странное опьянение, безрассудство, но порожденное не выпивкой, а потерей.
— Знал, — признался Пройас, щурясь. — Но я думал, что… — Он сглотнул. — Келлхус скоро умрет.
Он тут же почувствовал себя дураком: его слова прозвучали так, словно он предлагал Ахкеймиону компенсацию.
— Эсменет для меня потеряна, — сказал Ахкеймион.
Лицо колдуна казалось тенью под ледяной коркой, но Пройас сумел разглядеть на нем изможденную решимость.
— Как ты можешь говорить такое? Ты не…
— Где Ксинем? — перебил его колдун.
Пройас приподнял брови и кивком указал налево:
— За стеной. В соседней комнате.
Ахкеймион поджал губы.
— Он тебе рассказал?
— Про свои глаза? — Пройас уставился на собственные ноги под пунцовым одеялом. — Нет. У меня не хватило мужества спросить. Я подумал, что Багряные…
— Из-за меня, Пройас. Они ослепили его, чтобы кое-чего от меня добиться.
Подтекст был очевиден. «Это не твоя вина», — говорил он.
Пройас поднял руку, словно для того, чтобы смахнуть сон с глаз. А вместо этого вытер слезы.
«Проклятье, Акка… Мне не нужна твоя защита!»
— Из-за Гнозиса? — спросил он. — Они этого хотели?
Крийатеса Ксинема, маршала Конрии, ослепили из-за богохульства!
— Отчасти… Еще они думали, что я располагаю сведениями о кишаурим.
— Кишаурим?
Ахкеймион фыркнул:
— Багряные Шпили боятся. Ты что, не знал этого? Боятся того, чего не могут увидеть.
— Это очевидно: они только и делают, что прячутся. Элеазар по-прежнему отказывается выйти на битву, хоть я и сказал ему, что скоро они начнут с голодухи жрать свои книги.
— Тогда они не смогут слезть с горшков, — заметил Ахкеймион, и сквозь звучавшее в голосе изнеможение пробился прежний огонек. — Их книги — такое гнилье!
Пройас расхохотался, и его окутало почти забытое ощущение покоя. Именно так они когда-то разговаривали, выпуская наружу заботы и тревоги. Но вместо того, чтобы приободриться, Пройас впал в замешательство.
Хорошее настроение вдруг исчезло. Воцарилось долгое молчание. Взгляд Пройаса скользил по веренице людей, бронзовокожих и полунагих, вышагивающих по разрисованным стенам и несущих разнообразные дары. С каждым ударом сердца тишина звенела все громче.
Потом Ахкеймион сказал:
— Келлхус не может умереть.
Пройас поджал губы.
— Ничего себе, — ошеломленно пробормотал он. — Я говорю, что он должен умереть, а ты говоришь, что он должен жить.
Принц обеспокоенно взглянул на рабочий стол. Пергамент лежал на виду, и его приподнятые уголки на солнце сделались полупрозрачными. Письмо Майтанета.
— Это не имеет никакого отношения к тебе, Пройас. Я более не связан с тобой.
И от самих слов, и от тона, каким они были сказаны, Пройаса пробрал озноб.
— Тогда почему ты здесь?
— Потому что из всех Великих Имен лишь ты один способен понять.
— Понять, — повторил Пройас, чувствуя, как прежнее нетерпение вновь разгорается в сердце. — Понять что? Нет, погоди, дай я угадаю… Только я способен понять значение имени «Анасуримбор». Только я способен понять опасность…
— Довольно! — громыхнул Ахкеймион. — Ты не видишь, что, принижая все это, принижаешь и меня? Разве я хоть раз насмехался над Бивнем? Разве я глумился над Последним Пророком? Когда?
Пройас молча проглотил резкое замечание, еще более резкое из-за того, что Ахкеймион сказал чистую правду.
— Келлхус был осужден, — спокойно заметил он.
— Осторожнее, Пройас. Вспомни короля Шиколя.
Для любого айнрити имя ксерашского короля Шиколя, приговорившего Айнри Сейена к смерти, было синонимом заносчивости и предметом ненависти. При одной лишь мысли о том, что его собственное имя может приобрести такую же славу, Пройасу сделалось страшно.
— Шиколь был не прав… А я прав!
— Интересно, что бы сказал Шиколь.
— Что? — воскликнул Пройас. — Неужто такой скептик, как ты, думает, что среди нас ходит новый пророк? Да брось, Акка… Это же нелепо!
«Именно так твердит Конфас…» Еще одна обидная мысль.
Ахкеймион помолчал, но Пройас не мог понять, чем это вызвано, осторожностью или нерешительностью.
— Я не уверен, что он такое… Я знаю одно: он слишком важен, чтобы позволить ему умереть.
Неподвижно сидя на кровати, Пройас смотрел против солнца, силясь разглядеть своего старого наставника. Но если не считать силуэта на фоне синей колонны, все, что ему удалось рассмотреть, это пять белых прядей, прочертивших черноту бороды Ахкеймиона. Пройас с силой выдохнул через нос и опустил взгляд.
— Еще недавно я и сам так думал, — сознался он. — Я беспокоился: вдруг то, что говорит Конфас и другие, — правда, вдруг это из-за него гнев Божий обрушился на нас? Но я слишком часто делил с ним чашу, чтобы… чтобы не понимать, что он нечто большее, чем просто замечательный…
— А потом?
Огромное облако вдруг наползло на солнце, и комнату заполнил сумрачный холод. Пройасу наконец удалось отчетливо разглядеть старого колдуна: изможденное лицо, несчастные глаза и задумчивый лоб, синяя рубаха и шерстяная дорожная одежда, испачканная черным на коленях.
Такой жалкий. Почему Ахкеймион всегда кажется жалким?
— И что потом? — повторил колдун; его не волновало, что он вдруг сделался видимым.
Пройас снова тяжело вздохнул и взглянул на письмо Майтанета. Ветер донес отдаленный раскат грома, и кроны черных кедров заволновались.
— Ну, — продолжил Пройас, — сперва был скюльвенд. Он ненавидел Келлхуса. Я подумал про себя: «Как человек, знающий Келлхуса лучше всех, может настолько презирать его?»
— Серве, — ответил Ахкеймион. — Келлхус однажды сказал мне, что варвар любил Серве.
— То же самое сказал мне и Найюр, когда я в первый раз спросил его. Но в его поведении было нечто такое, что заставило меня усомниться в его словах. За этим кроется что-то еще. Скюльвенд — человек неистовый и печальный. И сложный, очень сложный.
— У него слишком тонкая кожа, — сказал Ахкеймион. — Но, я думаю, на ней достаточно шрамов.
Кислая улыбка — вот и все, что позволил себе Пройас.
— Найюр урс Скиоата тоже куда больше, чем ты думаешь, Акка. Уж поверь мне. В некотором смысле он столь же необыкновенен, как и Келлхус. Мы должны радоваться, что это мы приручили его, а не падираджа.
— Ближе к делу, Пройас.
Конрийский принц нахмурился:
— А суть дела в том, что когда я снова принялся расспрашивать его о Келлхусе, вскоре после того, как мы оказались в осаде…
— Ну?
— Он предложил мне пойти и спросить самого Келлхуса. Тогда…
Пройас заколебался, тщетно пытаясь сделать рассказ немного деликатнее. С балкона донесся новый раскат грома.
— Тогда я и обнаружил Эсменет в его постели.
Ахкеймион на миг зажмурился. Когда же он открыл глаза, взгляд его был тверд.
— И твои дурные предчувствия перешли в искренние сомнения… Я тронут.
Пройас предпочел не обращать внимания на сарказм.
— После этого я уже не мог отмахиваться от доводов Конфаса. Я размышлял над всем случившимся. То, что произошло, причиняло мне боль, и я боялся, что если приму сторону Конфаса, то брошу искры на трут.
— Ты боялся войны между ортодоксами и заудуньяни?
— И до сих пор боюсь! — вскричал Пройас. — Хотя это вряд ли имеет значение, раз снаружи нас поджидает падираджа со своими волками пустыни.
Как только все могло дойти до такого критического положения?
— И что же ты решил?
— Конфас откопал свидетелей, — сказал Пройас, пожав плечами. — Они заявили, что знали человека, водившего караваны на север, и что этот человек до своей гибели в пустыне говорил, что в Атритау нет князя.
— Слухи, — отрезал Ахкеймион. — Никчемное доказательство. Ты сам знаешь. Вполне возможно, это была уловка со стороны Конфаса. Мертвецы вообще имеют привычку рассказывать самые удобные истории.
— Так думал и я, пока это не подтвердил скюльвенд.
Ахкеймион подался вперед, гневно и потрясенно нахмурившись:
— Подтвердил? Что ты имеешь в виду?
— Он назвал Келлхуса князем пустоты.
Некоторое время колдун сидел неподвижно, уставившись в пространство. Он знал, какое наказание полагается за нарушение святости каст. Все это знали. Кастовые дворяне Трех Морей берегли свитки своих предков отнюдь не из сентиментальных соображений, а по гораздо более веским причинам.
— Он мог солгать, — задумчиво проговорил Ахкеймион. — Например, чтобы вернуть Серве.
— Возможно. Если учесть, как он отреагировал на ее казнь…
— Казнь Серве! — воскликнул колдун. — Как такое могло произойти? Пройас? Как ты мог это допустить? Она была всего лишь…
— Спроси у Готиана! — выпалил в ответ Пройас. — Это была его идея — поступить с ними по закону Бивня. Его! Он думал, это придаст законность всему делу, чтобы оно казалось не таким… не таким…
— Не каким?! — взорвался Ахкеймион. — Не заговором перепуганных дворян, пытающихся защитить свои привилегии?
— Это зависит от того, о ком ты спрашиваешь, — напряженно отозвался Пройас. — Так или иначе, нам необходимо было предотвратить войну. И до сих пор…
— Небо упаси, чтобы люди убивали людей из-за веры! — огрызнулся Ахкеймион.
— И пусть небо упасет нас от того, чтобы дураков убивали за их глупость. И пусть оно упасет нас от того, чтобы матери теряли плод, а детям выкалывали глаза. И пусть оно упасет нас вообще от всех ужасов! Я полностью согласен с тобою, Акка…
Принц саркастически ухмыльнулся. Подумать только, а он ведь почти соскучился по старому богохульнику!
— Но вернемся к делу. Я вынес приговор Келлхусу отнюдь не просто так. Многое, очень многое, заставило меня проголосовать вместе с остальными. Пророк он или нет, но Анасуримбор Келлхус мертв.
Ахкеймион внимательно смотрел на принца; лицо его ничего не выражало.
— Кто сказал, что он был пророком?
— Акка, хватит. Ну пожалуйста… Ты сам недавно говорил, что он слишком важен, чтобы умереть.
— Так и есть, Пройас! Так оно и есть! Он — наша единственная надежда!
Пройас снова протер глаза и раздраженно вздохнул.
— Ну? Опять Второй Апокалипсис, да? Келлхус что, новое воплощение Сесватхи? — Он покачал головой. — Пожалуйста… Пожалуйста, скажи…
— Он больше! — воскликнул колдун с пугающей страстностью. — Куда больше, чем Сесватха, и он должен жить. Копье-Цапля утрачено; оно было уничтожено, когда скюльвенды разграбили Кеней. Если Консульт преуспеет во второй раз, если Не-бог снова придет в мир… — Глаза Ахкеймиона округлились от ужаса. — У людей не будет никакой надежды.
Пройас еще в детстве наслушался подобных тирад. Что делало их такими жуткими и в то же время такими несносными, так это манера, в которой Ахкеймион говорил: как будто рассказывал, а не строил догадки. Утреннее солнце снова пробилось между складками собирающихся туч. Но гром продолжал греметь над злосчастным Караскандом.
— Акка…
Колдун вскинул руку, заставляя его умолкнуть.
— Однажды ты спросил меня, Пройас, есть ли у меня что-нибудь посущественнее Снов, чтобы подтвердить мои страхи. Помнишь?
Еще бы ему не помнить. Это было в ту самую ночь, когда Ахкеймион попросил его написать Майтанету.
— Да, помню.
Ахкеймион встал и вышел на балкон. Он исчез в утреннем сиянии и тут же появился снова, неся в руках что-то темное.
По какому-то совпадению солнце спряталось в тот самый момент, когда Пройас попытался заслонить глаза. Он уставился на узел, измазанный в земле и крови. Комнату наполнил резкий запах.
— Посмотри на это! — приказал Ахкеймион, протягивая сверток. — Посмотри! А потом отправь самых быстрых гонцов к Великим Именам!
Пройас отпрянул, вцепившись в одеяло. Он вдруг осознал то, что, казалось бы, знал всегда: Ахкеймион не смягчится. Конечно, нет — он ведь адепт Завета.
«Майтанет… Святейший шрайя. Это то, чего ты хотел от меня? Это оно?»
Уверенность в сомнении. Вот что свято! Вот!
— Прибереги свои свидетельства для других, — пробормотал Пройас.
Он рывком сбросил одеяло и нагишом подошел к столу. Пол был настолько холодным, что заныли ступни. По коже побежали мурашки.
Он взял послание Майтанета и сунул его нахмурившемуся колдуну.
— Вот, читай, — буркнул принц.
Небо над разрушенной Цитаделью Пса прочертила молния.
Ахкеймион отложил свой зловонный узел, схватил пергамент и просмотрел его. Пройас заметил черные полумесяцы грязи у него под ногтями. Вопреки ожиданиям Пройаса, колдун не казался потрясенным. Вместо этого он нахмурился и прищурился, вглядываясь в послание. Он даже повернул лист к свету. Комната содрогнулась от очередного громового раската.
— Майтанет? — спросил колдун, по-прежнему не отрывая глаз от безукоризненного почерка шрайи.
Пройас знал, о чем он думает. Невероятное всегда оставляет самый глубокий след в душе.
«Помоги Друзу Ахкеймиону, Пройас, хоть он и богохульник, дабы через эту нечестивость пришла Святость…»
Ахкеймион положил пергамент на колени, продолжая придерживать его за уголки. Двое мужчин задумчиво переглянулись. В глазах старого учителя сплелись замешательство и облегчение.
— Это письмо — единственное, что я вынес из пустыни, — сухо обронил Пройас, — не считая меча, доспеха и крови предков в моих жилах. Единственное, что я сберег.
— Зови их, — сказал Ахкеймион. — Собирай совет.
Золотое утро исчезло. С черного неба хлынул дождь.
Глава 24. Карасканд
«Они разят слабых и именуют это правосудием. Они распоясывают свои чресла и именуют это возмещением. Они лают как псы и именуют это рассудком».
Онтиллас, «О глупости людской»4112 год Бивня, конец зимы, Карасканд
Из серых облаков сыпался дождь. Он стучал по крышам и мостовым. Он булькал в сточных канавах, смывая чешуйки засохшей крови. Он барабанил по обтянутым кожей черепам мертвецов. Он целовал верхние ветви древнего Умиаки и погружался в глубины его кроны. Миллионы капель. Они собирались в развилках ветвей, сливались в струйки, пронизывали темноту поблескивающими белыми нитями. Вскоре ручейки добрались до пеньковой веревки и, срываясь с бронзового кольца словно стеклянные шарики, растеклись по коже — и по живой, и по мертвой.
В Калауле тысячи людей в поисках укрытия спрятались под шерстяные плащи или щиты. Другие причитали, протягивали руки, молились, пытаясь понять, что знаменует собой этот дождь. Молнии слепили их. Потоки воды хлестали их по щекам. А гром бормотал тайны, которые они не могли постичь.
Они протягивали руки в мольбе.
…Спал он плохо. В сон его то и дело вторгались слова и дела дунианина. «Великие все еще прислушиваются к тебе», — сказала эта мерзость. Серве обмякла в руках Сарцелла, потекла кровь. «Помни тайны битвы — помни!»
Найюр проснулся от дождя и шепота.
«Тайны битвы… Великие прислушиваются…»
Не найдя Пройаса в усадьбе, Найюр погнал коня ко дворцу сапатишаха на Коленопреклоненном холме — перепуганный управляющий сказал, что принца можно найти там. Когда скюльвенд добрался до первых построек дворцового комплекса, расположенных у подножия холма, дождь почти иссяк. Солнце рассыпало сверкающие лучи по темному небу. Погоняя изголодавшегося коня, Найюр бросил взгляд через плечо и увидел, как свет пробился через клубящиеся черные тучи. От холма до холма, от мешанины построек Чаши и до самых Триамисовых стен, темных, теряющихся в дымке, лужи вспыхнули белым, словно тысячи серебряных монет.
Найюр спешился во внешнем дворе. Казалось, будто каждое мгновение в ворота с цокотом въезжает новый отряд вооруженных всадников. Кроме стражников-галеотов и нескольких кианских рабов, отощавших до состояния скелета, все принадлежали к кастовой знати, судя по одежде и манерам. Найюр узнал многих участников прошлых советов, но почему-то никто не осмелился поприветствовать его. Он прошел следом за айнрити в полумрак Входной залы, где столкнулся с Гайдекки, облаченным в темно-красное одеяние.
Палатин остановился и возбужденно уставился на скюльвенда.
— Сейен милостивый! — воскликнул он. — С тобой все в порядке? Там что, новая схватка на стенах?
Найюр взглянул на свою грудь: белая туника вся пропиталась красным.
— У тебя разрезано горло, — удивленно сказал Гайдекки.
— Где Пройас? — отрывисто спросил Найюр.
— С другим мертвым, — загадочно ответил палатин, указав на цепочку людей, исчезающих во внутренних покоях дворца.
Найюр пристроился следом за отрядом буйных туньеров, возглавляемых Ялгротой Гибелью Шранков. Соломенные косы Ялгроты украшали железные гвозди, согнутые наподобие бивней, и сморщенные головы язычников. В какой-то момент великан резко повернулся и враждебно уставился на скюльвенда. Найюр ответил ему не менее свирепым взглядом; душа его вскипела при мысли об убийстве.
— Ушуррутга! — фыркнул туньер и отвернулся.
Его соотечественники разразились гортанным смехом, а Ялгрота ухмыльнулся.
Найюр плюнул на стену, потом яростно огляделся. И на кого бы ни падал его взгляд, люди поспешно отводили глаза — так ему казалось.
«Все они! Все они!»
До него словно бы донесся шепот его соплеменников-утемотов.
«Плакса…»
Сводчатый коридор закончился у бронзовых дверей, открытых нараспашку и подпертых, чтобы не захлопывались, двумя бюстами. Наверное, это были изображения былых сапатишахов или реликты времен нансурской оккупации. Войдя в дверь, Найюр очутился в большом зале и принялся проталкиваться через толпу кастовых дворян. От множества голосов стоял гул.
«Слюнявый мужеложец!»
Зал был круглым и куда более древним, чем бо́льшая часть дворца, — наверное, киранейский или шайгекский. Центр зала занимал роскошный ковер с медно-золотыми узорами, а на нем стоял стол, вырезанный из белого селенита. От края ковра расходились концентрические ярусы амфитеатра, откуда все собравшиеся могли видеть стол внизу. Сложенные из огромных глыб стены были увешаны канделябрами и украшены характерными драпировками в кианском стиле. Стрельчатый купол из фигурно обточенного камня неясно вырисовывался над головой; казалось, он держится сам по себе, не скрепленный известковым раствором. Через окна у основания купола в зал проникал свет, белый и рассеянный, а высоко над центральным столом колыхались от сквозняка языческие знамена.
Найюр обнаружил Пройаса возле стола. Принц стоял, наклонив голову, и внимательно слушал приземистого человека. Его сине-серая одежда на коленях была испачкана в грязи, а по сравнению с угловатыми фигурами окружающих он казался почти непристойно толстым. Кто-то закричал с ярусов, и человек обернулся на звук; через его незаплетенную бороду тянулось пять белых прядей. Найюр уставился на него, не веря собственным глазам.
Это был колдун. Мертвый колдун.
Что здесь происходит?
— Пройас! — крикнул он. Ему не хотелось подходить ближе. — Нам нужно поговорить!
Конрийский принц осмотрелся и, отыскав его взглядом, нахмурился почти как Гайдекки. Колдун заговорил снова, и принц раздраженно отмахнулся от Найюра.
— Пройас! — прорычал Найюр, но принц ответил лишь яростным взглядом.
«Идиот!» — подумал Найюр. Осаду можно прорвать! Он знает, что им нужно делать!
Тайны битвы. Он вспомнил…
Он отыскал себе место на ярусе, где собрались Малые Имена и их вассалы, и принялся наблюдать за Великими Именами, устроившими перебранку. Голод в Карасканде дошел до таких пределов, что даже верхушка айнрити вынуждена была есть крыс и пить кровь своих лошадей. Вожди Священного воинства сделались костлявыми и изможденными, и на многих — особенно на тех, кто прежде был толстым, — болтались кольчуги, так что они напоминали юнцов, напяливших для игры отцовские доспехи. Они выглядели одновременно и нелепо, и трагично, с неуклюжим величием умирающих властителей.
Саубон, как титулованный король Карасканда, восседал в большом лаковом кресле во главе стола. Он подался вперед, вцепившись в подлокотники, словно знал за собой преимущество, которого не замечали другие. Справа от него расположился, откинувшись на спинку стула, Конфас; он смотрел по сторонам с ленивым раздражением человека, вынужденного вести себя на равных с теми, кто ниже его по положению. Слева от Саубона обосновался брат принца Скайельта, Хулвагра Хромой, который представлял туньеров с тех пор, как Скайельт умер от гемофлексии. Рядом с Хулвагрой сидел Готьелк, седой граф Агансанорский; его жесткая борода была такой же косматой, как и всегда, а воинственный взгляд сделался еще более грозным. Слева от него сидел Пройас; вид у него был настороженный и задумчивый. Хоть он и разговаривал с колдуном, устроившимся рядом с принцем на стуле поменьше, взгляд конрийца непрестанно скользил по лицам собравшихся. И последним, занявшим место между Пройасом и Конфасом, был чинный палатин Антанамерский, Чинджоза, которого, если верить слухам, Багряные Шпили назначили временным королем-регентом после кончины Чеферамунни.
— Где Готиан? — требовательно спросил Пройас.
— Возможно, — со странным сарказмом отозвался Икурей Конфас, — великий магистр узнал, что ты собрал нас, дабы мы выслушали колдуна. Боюсь, шрайские рыцари склонны подчиняться шрайе…
Пройас обратился к Сарцеллу; тот сидел на нижнем ярусе, с ног до головы облаченный в белые одеяния, которые обычно надевал на совет. Вежливо поклонившись Великим Именам, рыцарь-командор заявил, что не знает о местонахождении его магистра. Пока он говорил, Найюр смотрел на свою правую руку, не столько слушая, сколько запоминая ненавистный голос этого человека. Он смотрел, как вздуваются вены и шрамы, когда он сжимает и разжимает кулак.
Потом он моргнул и увидел нож, проходящий по горлу Серве, хлынувшую блестящую кровь…
Найюр почти не слышал последовавших за этим споров, законно ли будет продолжать совет без представителя Святейшего шрайи. Он наблюдал за Сарцеллом. Не обращая внимания на Великие Имена и их слова, этот пес принялся совещаться с кем-то из шрайских рыцарей. Паутина красных линий все еще покрывала его чувственное лицо, хотя по сравнению с тем, каким Найюр видел его в последний раз, линии эти изрядно поблекли. Лицо Сарцелла казалось спокойным, но большие карие глаза смотрели тревожно, взгляд был обращен куда-то вдаль, как будто шрайский рыцарь обдумывал дела, по сравнению с которыми разворачивающиеся события были сущей чепухой.
Как там сказал дунианин?
Ложь, обретшая плоть.
Найюр был голоден, очень голоден — он не ел уже несколько дней, — и постоянная ноющая боль в животе придавала странную остроту всему, что он видел, как будто душа лишилась роскоши жирных мыслей и жирных ощущений. Он чувствовал на губах вкус крови своего коня. В какой-то безумный момент Найюр поймал себя на том, что размышляет: а какова на вкус кровь Сарцелла? Может, у нее вкус лжи?
Есть ли у лжи вкус?
После убийства Серве все казалось нечистым, и как Найюр ни старался, ему не удавалось отличить день от ночи. Все переливалось через край, перетекало в нечто иное. Все было грязным — грязным! И дунианин никак не затыкался!
А утром Найюр просто понял. Он вспомнил тайны битвы. «Я сказал ему! Я раскрыл ему тайны!»
И загадочные слова, которые Келлхус произнес у разрушенной цитадели, сделались ясными и простыми.
«Охота не должна прекращаться!»
Он понял план дунианина — во всяком случае, отчасти… Если бы только Пройас выслушал его!
Внезапно гам вокруг стола стих, равно как и шепот на ярусах. В древнем зале воцарилось удивленное молчание, и Найюр увидел, что колдун Ахкеймион стоит рядом с Пройасом и смотрит на остальных с мрачным бесстрашием вымотанного до предела человека.
— Раз мое присутствие настолько оскорбляет вас, — произнес он громко и отчетливо, — я буду говорить начистоту. Вы совершили страшную ошибку, ошибку, которую следует исправить, ради Священного воинства и всего мира.
Он сделал паузу и оглядел хмурые лица.
— Вы должны освободить Анасуримбора Келлхуса.
И те, кто стоял вокруг стола, и те, кто сидел на ярусах, разразились негодующими воплями. Найюр, не поднимаясь со стула, наблюдал за воинственно настроенным колдуном. Возможно, ему и не понадобится говорить с Пройасом.
— Выслушайте его!!! — хрипло выкрикнул конрийский принц, перекрывая хор голосов.
Пораженные яростью его вспышки, все присутствующие затаили дыхание. А Найюр к этому моменту уже не дышал.
«Он старается освободить его!»
Но это означает, что они тоже знают план дунианина?
На советах Священного воинства Пройас всегда вел себя сдержанно и рассудительно, особенно выделяясь этим на фоне прочих чрезмерно эмоциональных Великих Имен. И поэтому его крик — да еще такой — привел людей в замешательство. Великие Имена смолкли, словно дети, напуганные не отцом, а тем, на что они его вынудили.
— Это не издевательство, — продолжал Пройас. — Это не шутка, продиктованная злобой или стремлением нанести оскорбление. От того, какое решение мы примем сегодня, зависит нечто большее, чем наши жизни. Я прошу вас решать вместе со мной, и пусть выскажется каждый. Но я требую — требую! — чтобы вы выслушали, прежде чем принимать решение. И полагаю, что мое требование — отнюдь не простой каприз, поскольку так поступил бы всякий разумный человек — выслушал, без предвзятости и фанатизма.
Найюр оглядел зал и заметил, что Сарцелл следит за происходящим столь же внимательно, как и все прочие. Он даже гневно махнул рукой своему окружению, веля замолчать.
Чародей, стоящий перед великими лордами айнрити, выглядел изможденным и жалким в перепачканной землей одежде. Он заколебался, как будто лишь сейчас осознал, насколько далеко ушел от своей стихии. Но из-за полноты и сохранившегося здоровья он казался королем в обносках нищего. А Люди Бивня, наоборот, напоминали привидения, нарядившиеся в одежды королей.
— Вы спрашивали, — заговорил Ахкеймион, — почему Бог наказывает Священное воинство? Что за язва поразила наши ряды? Что за болезнь духа навлекла на нас гнев Божий? Но этих язв много. Для правоверных язвой являются колдуны — такие, как я. Но сам шрайя дозволил нам присутствовать здесь. Поэтому вы принялись глядеть по сторонам и обнаружили человека, которого многие называли Воином-Пророком, и спросили себя: «А что, если он самозванец? Не достаточно ли этого, чтобы гнев Божий испепелил нас? Вдруг он лжепророк?»
Колдун помолчал, и Найюр заметил, что он сглотнул, не разжимая губ.
— Я пришел не с целью сказать, что князь Келлхус — истинный пророк, и не с целью выяснить, является ли он князем. Я пришел, чтобы предостеречь вас против иной язвы. Той, которую вы проглядели, хотя некоторые знают о ее существовании. Среди нас, мои лорды, есть шпионы… — зал мгновенно наполнился гулом, — мерзость, носящая поддельные лица.
Колдун наклонился и достал из-под стола зловонный сверток. Одним движением он развернул ткань. На полированную столешницу выкатилось нечто, напоминающее почерневший кочан капусты, и остановилось, отбрасывая невероятную тень. Отрубленная голова?
«Ложь, обретшая плоть…»
Под сводом зала зазвенел беспорядочный хор выкриков.
— Уловка! Богохульная уловка!..
— …это безумие! Мы не можем…
— …но что это могло бы…
Пока его соседи вопили и потрясали кулаками, Найюр заметил, как Сарцелл встал и принялся прокладывать себе путь к выходу. И снова Найюру бросились в глаза воспаленные полосы, избороздившие лицо рыцаря-командора. Скюльвенд вспомнил, что уже видел этот узор. Но где? Где?
Анвурат… Серве — в крови, кричащая. Нагой Келлхус, его пах густо измазан красным, его лицо раскрывается, словно пальцы, сжимающие уголь… Келлхус, который на самом деле не Келлхус.
Охваченный волчьим голодом, Найюр встал и быстро двинулся следом за шрайским рыцарем. Наконец-то он понял все, что сказал дунианин в тот день, когда Великие Имена вынесли приговор, — в день смерти Серве. Воспоминание о голосе Келлхуса перекрыло буйство толпы.
Ложь, обретшая плоть. Имя.
И имя это — Сарцелл.
Синерсес рухнул на колени перед высоким порогом, потом прижался лбом к узорчатому каменному полу, имитирующему ковер. Кианцы, подобно большинству других народов, считали некоторые пороги священными, но вместо того, чтобы умащать их по определенным дням, как это делали айноны, они украшали их искусной резьбой, изображающей плетенный из тростника ковер. Хануману Элеазар решил, что это — достойный обычай. Переход из одного места в другое следует отмечать в камне. Полезное напоминание.
— Великий магистр! — выдохнул Синерсес, подняв голову. — Я принес весть от лорда Чинджозы!
Элеазар ждал появления вестника — но не того, что он явится в таком смятении. По коже у него поползли мурашки. Великий магистр взглянул на секретарей и жестом велел им покинуть комнату. Подобно большинству влиятельных лиц в Карасканде, Элеазар весьма интересовался состоянием своих тающих припасов.
Казалось, в последние месяцы все обернулось против него. Голод в Карасканде достиг такого размаха, что даже у высокопоставленных колдунов не осталось еды — самые отчаявшиеся начали варить кожаные переплеты и пергаментные страницы книг. Величайшая из школ Трех Морей докатилась до того, чтобы есть собственные книги! Багряные Шпили страдали, как и все Священное воинство, страдали настолько, что уже обсуждали, не встретиться ли им с Великими Именами и не заявить ли, что с этого момента Багряные Шпили вступают в открытые боевые действия вместе с айнрити — идея, которая всего несколько недель назад показалась бы немыслимой.
Ставки все возрастали, каждая отчаяннее предыдущей. Пытаясь сохранить первую ставку, Элеазар дошел до того, что теперь вынужден был сделать вторую, которая подставит Багряных Шпилей под смертоносные Безделушки тесджийских лучников падираджи. И он понимал, что это может настолько ослабить Багряные Шпили, что они лишатся всякой надежды одолеть кишаурим.
Хоры! Проклятые хоры. Слезы Господни не оказывали ни малейшего воздействия на их обладателей, будь то айнрити или фаним. Очевидно, совершенно не обязательно понимать Бога правильно, чтобы уметь Им пользоваться.
Ставка за ставкой. Безумие за безумием. Ситуация сделалась такой зловещей, положение вещей — таким напряженным, что любая новость могла переломить хребет его школе. Даже слова этого стоявшего на коленях раба-солдата могли возвестить их рок.
Элеазар с трудом сделал вдох.
— Что ты узнал, капитан?
— Пройас привел на совет адепта Завета.
Элеазара пробрал озноб. С тех пор как он услышал об уничтожении их резиденции в Иотии, он то и дело ловил себя на мысли, что боится возвращения колдуна.
— Ты имеешь в виду Друза Ахкеймиона?
«Он пришел за возмездием».
— Да, великий магистр. Он…
— Он один? Или с ним есть другие?
«Пожалуйста, ну пожалуйста…» С одним Ахкеймионом они смогут совладать без особых затруднений. А вот отряд адептов Завета окажется губителен для них. Потерь и так уже слишком много.
«Хватит! Мы не можем больше позволить себе терять людей!»
— Нет. Похоже, он один, но…
— Выдвигал ли он обвинения против нас? Клеветал ли он на нашу величественную школу?
— Он говорил о шпионах-оборотнях, великий магистр! О шпионах-оборотнях!
Элеазар непонимающе уставился на гонца.
— Он сказал, что они ходят среди нас! — продолжал Синерсес. — Он сказал, что они повсюду! Он даже принес голову кого-то из них в мешке — она ужасна, господин! Эта мерзость… п-простите, я забылся! Лорд Чинджоза лично отправил меня… Он просит указаний. Адепт Завета требует, чтобы Великие Имена освободили Воина-Пророка…
Князя Келлхуса? Элеазар нахмурился, силясь отыскать смысл в лепете джаврега.
«Да! Да! Его друг! Они были друзьями до того, как… Этот демон Завета был его наставником».
— Освободить? — сдержанно проговорил Элеазар. — И каковы его доводы?
Глаза Синерсеса чуть ли не лезли на лоб, на изможденном лице это было особенно заметно.
— Шпионы-оборотни… Он заявил, что Воин-Пророк — единственный, кто способен видеть их.
Воин-Пророк. Со времени перехода через пустыню они следили за этим человеком с растущей тревогой — особенно когда стало ясно, насколько много их собственных джаврегов втайне разговаривали с Поглощающим и сделались заудуньяни. Когда Икурей Конфас пришел к нему, обещая уничтожить князя, Элеазар приказал Чинджозе поддержать экзальт-генерала. Хотя магистр все еще опасался войны между ортодоксами и заудуньяни, он думал, что судьба Анасуримбора Келлхуса наконец-то решена.
— Что ты имеешь в виду?
— Он заявил, что раз только Пророк способен видеть их, его необходимо освободить, чтобы очистить Священное воинство. Он сказал, что только так можно отвести от нас гнев Божий.
Как старый мастер джнана, Элеазар не любил открыто демонстрировать подлинные чувства в присутствии рабов, но последние дни были… очень тяжелыми. И потому Синерсес заметил, что великий магистр сбит с толку и озадачен — сейчас он казался стариком, который очень боится окружающего мира.
— Собери всех, кого только сможешь, — сухо приказал Элеазар. — Немедленно!
Синерсес кинулся выполнять приказание.
Шпионы… Повсюду шпионы! И если он не сможет отыскать их… Если он не сможет их отыскать…
Великий магистр Багряных Шпилей будет говорить с этим Воином-Пророком — святым человеком, способным видеть то, что скрыто. За свою жизнь Элеазар, колдун, умеющий заглядывать в самые потаенные уголки мира, не раз задумывался, что такое святость. Теперь он понял.
Это злоба.
Тварь, именуемая Сарцеллом, жаждала. Жаждала крови. Жаждала совокупляться с живыми и мертвыми. Но более всего она жаждала завершения. Вся она, от ануса до того, что называла своей душой, была подчинена создателям. Все, что происходило в мире, было превращено в обещание оргазма.
Но Зодчие, конструируя тварь, действовали практично, бессердечно и расчетливо. Мало что — редчайшее стечение обстоятельств! — могло доставить ей истинное удовольствие. Убийство той женщины, жены дунианина, было как раз подходящим способом. Одного воспоминания об этом хватало, чтобы фаллос твари выгнулся в штанах и затрепетал, словно рыба…
И вот теперь этот адепт Завета — проклятый Чигра! — вернулся, требуя освободить дунианина. Угроза! Ярость! Тварь мгновенно поняла, что должна сделать. Когда она вышла из дворца сапатишаха, воздух дрожал ее жаждой, солнце мерцало ее ненавистью.
При всей хитрости и изворотливости твари, мир, в котором она жила, был куда проще того, в котором жили люди. В нем не было ни войны спорящих между собою страстей, ни необходимости в дисциплине и самоотречении. Тварь жаждала лишь исполнять волю тех, кто ее сделал. Что утоляет ее жажду, то и хорошо.
Такой ее изобрели. Таково было искусство ее создателей.
Воин-Пророк должен умереть. Твари не мешали никакие чувства — ни страх, ни жалость, ни соревнующиеся между собой желания. Она убьет Анасуримбора Келлхуса прежде, чем его сумеют освободить, и тем самым…
Обретет экстаз.
Найюру достаточно было увидеть, по какой дороге Сарцелл спускается с Коленопреклоненного холма, чтобы понять, что у этого пса на уме. Он направлялся в Чашу, а значит — в тот храмовый комплекс, где расположился Готиан со своими рыцарями и где на черной ветви Умиаки висели Келлхус и Серве.
Найюр сплюнул, потом кликнул коня.
Когда он выехал из внешнего лагеря, он уже не смог отыскать Сарцелла. Скюльвенд погнал коня вниз, через лабиринт построек на склонах. Невзирая на состояние лошади, Найюр хлестнул ее и послал в галоп. Они промчались мимо зубчатых стен дворца, мимо заброшенных лавок и громад многоэтажных домов, сворачивая там, где улицы уходили под уклон. Найюр вспомнил, что Ксокис расположен почти на самом дне Чаши.
Казалось, будто воздух звенит от предчувствий.
В сознании Найюра то и дело вспыхивал образ Келлхуса. Он словно чувствовал руки дунианина на своем горле, как будто тот снова держал его за шею над пропастью — там, в горах Хетанта. На какой-то пугающий миг Найюру померещилось, что он не может ни вздохнуть, ни сглотнуть. Ощущение это прошло лишь после того, как он провел пальцами по запекшемуся порезу на горле — своему последнему свазонду.
«Как? Как ему удается так изводить меня?»
Но таков был урок Моэнгхуса. Дунианин превращал всех вокруг в своих учеников, желали люди того или нет. Достаточно просто дышать.
«Даже мою ненависть! — подумал Найюр. — Даже мою ненависть он обратил себе на пользу!»
Он страдал от этого, но еще сильнее страдал от мысли, что может потерять Моэнгхуса. Много месяцев назад, в лагере утемотов Келлхус сказал правду: для его сердца существовала лишь одна намеченная жертва, и никакая замена не могла его насытить. Дунианин был привязан к трупу Серве, а Найюр был привязан к дунианину — привязан режущими веревками несокрушимой ненависти.
Любой позор. Любое унижение. Он вытерпит любое оскорбление, совершит любую мерзость, лишь бы отомстить. Он скорее увидит весь мир сожженным дотла, чем откажется от своей ненависти. Ненависть! Вот в чем заключался источник его силы. Не в клинке. Не в могучем телосложении. Его ломающая шеи, поражающая жен, сокрушающая щиты ненависть! Ненависть сохранила для него Белый Якш. Ненависть покрыла его тело священными шрамами. Ненависть спасла его от дунианина, когда они пересекали Степь. Ненависть заставляла его страдать от притязаний, которые чужеземцы предъявляли на его сердце.
Ненависть и только ненависть помогала ему сохранять рассудок.
Конечно же, дунианин знал об этом.
После Моэнгхуса Найюр искал прибежища в законах Народа, думая, что они сумеют сохранить его сердце. С тех пор как его обманом отторгли от них, они казались еще более драгоценными, подобно воде во времена великой засухи. За годы он загнал себя в пути, которым следовали его соплеменники, — загнал, исхлестав плетью до крови! Быть мужчиной, твердили сказители, это значит брать и не быть взятым, порабощать и не быть порабощенным. Если так, то он станет первым среди воинов, самым яростным из мужчин! Ибо таков первый из неписаных законов: мужчина — настоящий мужчина! — завоевывает и покоряет, а не страдает от того, что его используют.
В том-то и крылась мука его договора с Келлхусом. Все это время Найюр ревностно оберегал свое сердце и душу, плевал на слова дунианина — но ему никогда и в голову не приходило, что Келлхус может управлять им, манипулируя обстоятельствами. Он лишил его мужественности точно так же, как и этих недоумков айнрити.
«Моэнгхус! Он назвал его Моэнгхусом! Моего сына!»
Был ли лучший способ уязвить его? Его использовали. Даже сейчас, когда он думал обо всем этом, дунианин использовал его!
Но это неважно.
Здесь нет законов. Здесь нет чести. Мир среди людей так же лишен дорог, как и Степь — как и пустыня! Здесь нет людей… Одни лишь животные — гребущие под себя, жаждущие, ноющие, вопящие. Терзающие мир своими желаниями. Подхлестываемые, словно пляшущие медведи, то одним, то другим нелепым обычаем. Все эти тысячи, все Люди Бивня, убивали и умирали во имя иллюзии. Миром правит голод, и ничего более.
В этом заключалась тайна дуниан. В этом заключалась их чудовищность. И их притягательность.
С тех пор как Моэнгхус бросил его, Найюр считал себя предателем. Всегда одна и та же мысль, одно и то же вожделение, одна и та же жажда! Но теперь он знал, что предательство обитало в хоре осуждающих голосов, бросающих ему ненавистные имена!
«Она была моей добычей!»
Лжецы! Дураки! Он заставит их увидеть!
Любой позор. Любое унижение. Он будет душить младенцев в колыбелях. Он будет стоять на коленях под потоком горячего семени. Он увидит, как его месть исполнится!
Чести не существует. Только ярость и разрушение.
Только ненависть.
«Охота не должна прекращаться!»
Заброшенные дома остались позади, и Найюр очутился на одном из караскандских базаров. Конь несся через площадь галопом, оставляя за спиной трупы — раскисшие груды кожи и костей. На середине пути Найюр заметил обелиски Ксокиса за невысокими домами. Миновав квартал кирпичных складов — ветхих, готовых вот-вот развалиться, — Найюр обнаружил знакомую улицу и погнал коня вдоль ряда сгоревших домов. После резкого поворота конь по инерции перескочил через перевернутый таз для мочи, большую каменную чашу, принадлежавшую, должно быть, соседней прачечной. Найюр скорее почувствовал, чем услышал, как его эумарнский белый конь потерял подкову. Он заржал, споткнулся и поплелся еле-еле — видимо, попортил ногу.
Проклиная животное, Найюр спрыгнул и помчался бегом, понимая, что теперь не сумеет догнать рыцаря-командора. Но после первого же поворота перед ним открылся белый Калаул, оплетенный лужицами воды, собравшейся в щелях между камнями брусчатки, и темный от многочисленной толпы изголодавшихся людей.
В первый момент Найюр сам не понял, то ли его привел в замешательство вид стольких айнрити разом, то ли приободрил. Наверняка большинство из них — заудуньяни, и они могли помешать Сарцеллу убить дунианина — если тот действительно именно это намеревался сделать. Проталкиваясь между встревоженными зрителями, Найюр оглядывал толпу, силясь отыскать шрайского рыцаря, но тщетно. Он увидел в отдалении дерево Умиаки, темное и сутулое на фоне подернутых дымкой колоннад. Найюр вдруг решил, что дунианин мертв, и у него перехватило дыхание.
«Все кончено».
Казалось, его никогда еще не посещала столь мучительная мысль. Найюр с ужасом вгляделся в даль. Под жгучими лучами солнца от мокрой после дождя толпы поднимался пар. Скюльвенд оглядел людей вокруг себя и ощутил внезапное облегчение, от которого голова пошла кругом. Многие пели или скандировали гимны. Другие просто смотрели на дерево. Все страдали от голода, но и только.
«Если бы он умер, уже поднялся бы бунт…»
Найюр прокладывал себе дорогу, с удивлением обнаружив, что полуживые от голода айнрити спешат убраться с его пути. До него доносились выкрики: «Скюльвенд!» — но это звучало не как приветствие, а как ругательство или мольба. Вскоре за ним уже двигалась длинная вереница людей; одни сыпали насмешками, другие разражались ликующими воплями. Казалось, будто каждый, мимо кого он проходит, поворачивается к нему. Перед ним открылся широкий проход, почти до самого дерева.
— Скюльвенд! — кричали Люди Бивня. — Скюльвенд!
Как и прежде, дерево охраняли шрайские рыцари, только теперь они стояли в три-четыре ряда — по сути, в боевом построении. Неподалеку с трудом передвигались конные патрули. Единственные из айнрити, рыцари Бивня отказались надевать кианские одежды и теперь выглядели оборванцами в потрепанных бело-золотых плащах. Но их шлемы и кольчуги по-прежнему блестели на солнце.
Приблизившись, Найюр увидел Сарцелла рядом с Готианом и группой шрайских офицеров. Рыцари, стоявшие в переднем ряду, узнали и пропустили Найюра, когда он направился к Сарцеллу и великому магистру. Кажется, эти двое спорили. Умиаки высился за ними: черные ветви на фоне синевы небес. Бросив взгляд поверх опавших листьев, Найюр заметил обруч, свисающий с растрескавшейся ветви. Серве и дунианин медленно вращались, словно две стороны одной монеты.
«Как она может быть мертвой?»
«Из-за тебя, — прошептал дунианин. — Нытик…»
— Но почему именно сейчас? — донесся до Найюра возглас великого магистра, перекрывший нарастающий ропот толпы.
— Да потому, — крикнул Найюр, — что он таит недоброжелательство, которого обычному человеку не понять!
Несмотря на дополнительные курильницы с благовониями, Ахкеймиона вскоре начало мутить от зловония, исходящего от отрубленной головы. Он объяснил, каким образом эти отростки формируют лицо, и даже подержал гниющую голову, чтобы показать, как два отростка точно укладываются поверх липкой глазницы. Собравшаяся знать смотрела на это все, онемев от ужаса, если не считать отдельных возгласов омерзения. В какой-то момент раб предложил Ахкеймиону платок, пахнущий апельсинами. Когда колдун не смог уже больше терпеть, он прижал платок к лицу и жестом уничтожил отвратительный предмет.
В древнем зале воцарилась потрясенная тишина. Курильницы тихо шипели и испускали струйки дыма. Останки головы, напоминающие черное желе, продолжали вонять.
— Итак, — в конце концов произнес Конфас, — это и есть та причина, по которой мы должны освободить мошенника?
Ахкеймион уставился на него, подозревая, что экзальт-генерал готовит ему западню. Он с самого начала знал, что Конфас будет его главным противником. Пройас предупредил его об этом, добавив, что никогда еще не встречал человека, столь искушенного в тонкостях джнана. Ахкеймион решил не отвечать, провоцируя Конфаса на раскрытие роли, которую тот сыграл в этом тяжком деле.
«Мне необходимо разоблачить его».
— Хватит держать тех, кто равен тебе, за идиотов, Икурей.
Экзальт-генерал откинулся на спинку кресла и лениво провел пальцами по императорским солнцам, отчеканенным на кирасе его походного доспеха, словно бы напоминая Ахкеймиону о спрятанной на груди хоре. Этот жест был не менее выразителен, чем презрительная усмешка.
— Ты так говоришь, — сказал Пройас, — словно экзальт-генерал давно знал об этих тварях.
— Он знал.
— Колдун ссылается на одну старую историю, — отозвался Конфас.
На нем был синий генеральский плащ традиционного нансурского покроя. Конфас резким движением отбросил плащ назад, так, что его полы упали на ковер.
— Когда Священное воинство стояло под стенами Момемна, мой дядя обнаружил, что его главный советник на самом деле — один… одна из этих тварей.
— Скеаос?! — воскликнул Пройас. — Скеаос был шпионом-оборотнем?
— Именно. Его оказалось на удивление трудно обуздать, особенно для человека его возраста, и поэтому мой дядя обратился к Имперскому Сайку. Когда они принялись настаивать, что колдовство тут ни при чем, меня послали за этим добрым богохульником, Ахкеймионом, чтобы проверить их утверждение. Тварь стала… — он сделал паузу, потом нахально подмигнул Ахкеймиону, — неприятной.
— Ну так что?! — выкрикнул Готьелк в свойственной ему грубоватой манере. — Было там колдовство?
— Нет, — ответил Ахкеймион. — Именно это и делает их столь смертоносными. Будь они колдовскими артефактами, их быстро раскрыли бы. А так их невозможно засечь. Вот в чем, — сказал он, враждебно глядя на экзальт-генерала, — заключается взаимосвязь Анасуримбора Келлхуса и этих тварей. Он — единственный, кто способен их видеть.
Послышалось несколько восклицаний.
— Откуда вам это известно? — спросил Хулвагра.
Ахкеймион напрягся, мысленно увидев Келлхуса и Серве, вращающихся под черным деревом.
— Он мне сказал.
— Сказал? — прогремел Готьелк. — Когда? Когда?
— Но что они такое? — перебил его Чинджоза.
— Он прав! — воскликнул Саубон. — Верно! Это и есть та самая язва, что пятнает наши ряды! Я всегда говорил, что Воин-Пророк пришел очистить нас!
— Вы чересчур спешите! — огрызнулся Конфас. — Вы затираете самые важные вопросы.
— Вот именно! — вмешался Пройас. — Например, вы знали, что шпионы ходят среди нас, и ничего не сказали Совету!
— Ой, ну будет вам, — отозвался экзальт-генерал, иронично сдвинув брови. — А что мне было делать? Судя по тому, что нам известно, несколько этих тварей находится среди нас прямо сейчас, в эту минуту…
Он обвел взглядом лица окружающих.
— Среди вас, на ярусах, — воскликнул он, взмахнув рукой. — Или даже за этим столом…
По залу прокатился встревоженный ропот.
— Ну так объясните, — продолжал Конфас, — кому я мог доверять? Вы слышали, что сказал колдун: их невозможно засечь. Я делал все, что мог в подобных обстоятельствах…
Он бросил коварный взгляд на Ахкеймиона, хотя продолжал обращаться к Великим Именам.
— Я внимательно наблюдал, а когда наконец-то понял, кто из них главный, то начал действовать.
Ахкеймион резко выпрямился. Он попытался возразить, но было уже поздно.
— Кто?! — хором выкрикнули Чинджоза, Готьелк и Хулвагра.
Конфас пожал плечами.
— Ну, тот самый человек, который называл себя Воином-Пророком… Кто же еще?
Кто-то отпустил презрительное замечание, но его тут же перекрыл хор упреков.
— Вздор! — крикнул Ахкеймион. — Что за отъявленная чепуха?!
Экзальт-генерал приподнял брови, словно удивляясь, как можно противоречить столь очевидному.
— Но ты же сказал, что он один способен различать оборотней, разве не так?
— Да, но…
— Тогда поведай нам — как он их видит?
Захваченный врасплох Ахкеймион мог лишь мрачно смотреть на Конфаса. Кажется, он никогда еще не встречал человека, который успел бы так быстро внушить ему отвращение.
— Ну так вот, — сказал Конфас, — мне ответ кажется очень простым. Он видит их потому, что знает, кто они.
Снова зазвенели крики.
Ахкеймион в замешательстве оглядел бушующие ярусы, переводя взгляд с одного бородатого лица на другое. Внезапно он осознал, что Конфас сказал чистую правду. Даже сейчас шпионы-оборотни следили за ним — он был уверен в этом! Консульт следил за ним… И смеялся.
Он поймал себя на том, что стоит, вцепившись в край стола.
— Тогда откуда он знал, что я одержу победу на равнине Менгедда? — крикнул Саубон. — Откуда он знал, где искать воду в пустыне? Откуда он знает истину, таящуюся в сердцах людей?
— Да оттуда, что он — Воин-Пророк! — проорал кто-то с ярусов. — Опора истины! Несущий свет! Спасение…
— Богохульство! — взревел Готьелк, грохнув по столу кулачищами. — Он — это ложь! Ложь! Никаких пророков больше быть не может! Сейен — вот истинный голос Божий! Единственный…
— Как вы можете утверждать это? — спросил Саубон таким тоном, словно увещевал заблудшего брата. — Сколько раз…
— Он зачаровал вас! — выкрикнул Конфас голосом высокопоставленного имперского офицера. — Околдовал вас всех!
Когда рев несколько стих, экзальт-генерал продолжил, и голос его по-прежнему звенел силой:
— Как я уже говорил ранее, мы забыли о самом важном вопросе! Кто? Кто эти твари, преследующие нас, проникающие незамеченными на наши тайные советы?
— Именно об этом я и твержу, — буркнул Чинджоза. — Кто?
Икурей Конфас многозначительно взглянул на Ахкеймиона, бросая ему вызов и ожидая, что тот ответит.
— А, колдун?
Ахкеймион понял, что его одолели. Конфас знает, что он ответит, и знает, что остальные не поверят ему и поднимут на смех. Для них Консульт — это такая штука из детских сказок и болтовни чокнутых адептов Завета. Он молча смотрел на экзальт-генерала, пытаясь скрыть смятение за маской презрения. Даже теперь, увидев доказательство, они уничтожили все его труды при помощи слова. Даже теперь они отказались верить!
Глаза Конфаса насмехались над ним и словно бы говорили: «Ты сам подставился…»
Конфас вдруг повернулся к остальным.
— Но вы уже ответили на мой вопрос, не так ли? Когда сказали, что эти твари — не результат колдовства или, во всяком случае, не того колдовства, которое способны видеть наши чародеи!
— Кишаурим, — сказал Саубон. — Вы утверждаете, что эти твари — кишаурим.
Краем глаза Ахкеймион видел, что Пройас встревоженно смотрит на него.
«Почему ты не скажешь?»
Но его захлестнуло изнеможение, ледяное ощущение поражения. Перед его мысленным взором предстала Эсменет; она умоляла его, но взгляд ее казался чужим, потому что в нем были вероломные желания и мысли, от которых разрывалось сердце.
«Как такое могло произойти?»
— Ну а кто еще это может быть? — спросил Конфас рассудительным тоном. — Вы же понимаете.
— Да, — согласился Чинджоза, но во взгляде его сквозила странная нерешительность. — Они принадлежат к Безглазым. К Змееголовым! Другого объяснения быть не может!
— Совершенно верно, — сказал Конфас глубоким голосом, подобающим хорошему оратору. — Человек, которого заудуньяни именуют Воином-Пророком, — лжец, незаконно присвоивший привилегии князя, агент кишаурим, присланный, чтобы совратить нас, посеять среди нас вражду, уничтожить Священное воинство!
— И он преуспел! — в смятении воскликнул Готьелк. — По всем пунктам!
И снова воздух задрожал от возражений и сетований. Но судьба, как было известно Ахкеймиону, очертила круг, уходящий далеко за стены Карасканда. «Я должен отыскать способ…»
— Если Келлхус… — крикнул Пройас, удивив собравшихся; он редко кричал. — Если Келлхус — агент кишаурим, тогда почему он спас нас в пустыне?
Ахкеймион повернулся к бывшему ученику, приободрившись.
— Чтобы спасти собственную шкуру! — нетерпеливо огрызнулся экзальт-генерал. — С чего бы еще? Хоть вы и подозреваете меня в коварстве, Пройас, придется мне поверить. Анасуримбор Келлхус — шпион кишаурим. Мы следили за ним с самого Момемна, с тех пор как мой дядя по его блуждающему взгляду распознал Скеаоса.
— Что вы имеете в виду? — не сдержался Ахкеймион.
Экзальт-генерал презрительно взглянул на него.
— А как, по-вашему, мой дядя, прославленный император Нансурии, узнал в Скеаосе шпиона? Он увидел, как ваш Воин-Пророк переглядывался с ним — еще до того, как их представили друг другу.
— Он — не мой Воин-Пророк! — закричал Ахкеймион, уже не соображая, что делает.
Он огляделся по сторонам, растерянно моргая, как будто собственная вспышка поразила его ничуть не меньше, чем остальных.
«Все это время! Он с самого начала способен был видеть их…»
И он ничего не сказал. Все то время, пока они были в пути и вели бесконечные дискуссии о прошлом и будущем, Келлхус знал о шпионах-оборотнях.
Ахкеймион схватился за грудь, ловя ртом воздух. Ему не было дела до того, что кастовые дворяне пристально смотрят на него. От страха по коже у него побежали мурашки. Многие вопросы Келлхуса — особенно те, что касались Консульта и Не-бога, — предстали в новом свете…
«Он использовал меня! Воздействовал на меня ради моих знаний! Пытался понять, что же он такое видит!»
И он вспомнил, как губы Эсменет размыкаются и произносят эти слова, эти невозможные слова…
«Я ношу его ребенка».
Как? Как она могла предать его?
Он помнил те ночи, когда лежал с ней в своей скромной палатке, чувствуя, как ее стройная спина касается его груди, и улыбаясь от прикосновения пальцев ее ног, которые она всегда засовывала ему под икры, когда мерзла. Десять маленьких пальчиков, каждый — холодный, словно дождевая капля. Он помнил свое изумление. Как могла такая красавица выбрать его? Как эта женщина могла чувствовать себя в безопасности в его жалких объятиях? Воздух был теплым от их дыхания, а снаружи, по ту сторону грязного холста, все вокруг на много миль становилось чуждым и холодным. И он вцеплялся в нее, как будто они оба падали.
И он ругал себя, думая: «Не будь дураком! Она здесь! Она поклялась, что ты никогда не будешь один!»
И однако же это произошло. Он один.
Ахкеймион смахнул с глаз нелепые слезы. Даже его мул, Рассвет, и тот умер.
Колдун посмотрел на Великие Имена. Ему не было стыдно. Багряные Шпили избавили его от этого — во всяком случае, так ему казалось. Остались лишь одиночество, сомнения и ненависть.
«Это сделал он! Он отнял ее!»
Ахкеймион помнил, как Наутцера — кажется, это было в прошлой жизни, — спрашивал, стоит ли жизнь его ученика Инрау Апокалипсиса. Он считал тогда, в чем и сознался Наутцере, что никакой человек и никакая любовь не заслуживают подобного риска. И теперь он тоже уступил. Он собирался спасти человека, который оторвал половину от его сердца, потому что сердце не стоит всего мира, не стоит Второго Апокалипсиса.
Так ли это?
Прошлой ночью Ахкеймион почти не спал, лишь подремал немного. И впервые после того, как он сделался колдуном школы Завета, к нему не пришли Сны о Древних войнах. Вместо этого ему снилось, как Келлхус и Эсменет тяжело дышат и смеются под промокшими от пота простынями.
Безмолвно сидя перед Великими Именами, Друз Ахкеймион понял, что держит сердце на одной руке, а Апокалипсис — на другой. И, взвешивая их, не может сказать, что тяжелее.
А этим людям было без разницы.
Священное воинство страдало, и кто-то должен был умереть. Хоть весь мир.
Это был лишь один из тысячи очагов противоборства, разбросанных по Калаулу. И все-таки он был центральным. Десятки шрайских рыцарей стояли напротив заудуньяни с непроницаемыми, настороженными лицами, и их широко распахнутые глаза глядели встревоженно и сосредоточенно.
Что-то назревало.
— Но он должен умереть, великий магистр! — воскликнул Сарцелл. — Убейте его и спасите Священное воинство!
Готиан беспокойно глянул на Найюра и снова перевел взгляд на рыцаря-командора. Он провел рукой по коротко стриженным седеющим волосам. Найюр всегда думал, что магистр шрайских рыцарей — человек решительный, но сейчас он выглядел старым и неуверенным. Казалось даже, будто рвение подчиненного пугает его. Все Люди Бивня страдали, некоторые — больше, чем другие, а некоторые — иначе. У Готиана, похоже, шрамами покрылась душа.
— Я ценю твою заботу, Сарцелл, но это следует согласовать с…
— Но я об этом и твержу, великий магистр! Колдун сообщил Великим Именам, почему следует пощадить мошенника. Он дал им причины. Сочинил байку о злых духах, которых только этот тип способен видеть!
— Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что только он способен их видеть? — резко вмешался Найюр.
Сарцелл повернулся. От него веяло настороженностью, хотя по лицу ничего нельзя было прочитать.
— Что так заявил колдун, — ехидным тоном ответил он.
— Может, он так и заявил, — парировал Найюр, — но только я вышел из зала сразу же за тобой. И к этому моменту он сказал только, что среди нас есть шпионы, — больше ничего.
— По-твоему, мой рыцарь-командор лжет? — резко бросил Готиан.
— Нет, — отозвался Найюр, пожав плечами. Он ощущал смертоносное спокойствие. — Мне просто интересно, откуда он знает то, чего не слышал.
— Ты — языческий пес, скюльвенд, — заявил Сарцелл. — Язычник! Клянусь всем святым и праведным, тебе стоило бы гнить вместе с фаним Карасканда, а не подвергать сомнению слова шрайского рыцаря!
Хищно усмехнувшись, Найюр плюнул на сапог Сарцеллу. За плечами этого человека он видел великанское дерево и стройное тело Серве, привязанное к дунианину, — словно мертвеца прибили гвоздями к мертвецу.
«Пора».
В толпе послышались крики. Встревоженный Готиан приказал Найюру и Сарцеллу убрать руки с рукоятей мечей. Ни один не послушался.
Сарцелл взглянул на Готиана, который всматривался в толпу, потом снова перевел взгляд на Найюра:
— Ты не понимаешь, что делаешь, скюльвенд…
Его лицо согнулось, дернувшись, словно издыхающее насекомое.
— Ты не понимаешь, что делаешь.
Найюр смотрел на него в ужасе, слыша в окружающем реве безумие Анвурата.
«Ложь, обретшая плоть…»
Крики становились все громче. Проследив за взглядом Готиана, Найюр заметил, что через ряды шрайских рыцарей пробирается отряд людей в чешуйчатых доспехах и сине-красных плащах: сперва их было немного, и они терялись среди айнрити, а потом вдруг возникли сотни — и выстроились напротив людей Готиана. Но пока что ни один не извлек меч из ножен.
Готиан быстро двинулся через ряды своих воинов, выкрикивая приказы и веля послать в казармы за подкреплением.
Засверкали на солнце выхваченные мечи. Неизвестных воинов становилось все больше — вот уже целая фаланга прокладывала себе путь через толпу изможденных айнрити. Это джавреги, понял Найюр, рабы-солдаты Багряных Шпилей. Что здесь происходит?
Вспыхнуло несколько схваток. Зазвенели мечи. Сквозь шум слышались пронзительные выкрики Готиана. Стоявшие прямо перед Найюром шрайские рыцари были сбиты с толку, и внезапно их ряды оказались прорваны джаврегами, которые яростно размахивали мечами.
Пораженные Найюр и Сарцелл единодушно схватились за оружие.
Но рабы-солдаты остановились перед ними, дав дорогу вдруг появившейся дюжине худых рабов, что несли паланкин, украшенный причудливой резьбой, покрытый черным лаком и обтянутый шелком и кисеей. Одним слаженным движением бледные носильщики опустили паланкин на землю.
Толпа стихла; воцарилась такая тишина, что Найюру показалось, будто он слышит, как шуршат на ветру ветви Умиаки. В отдалении пронзительно вскрикнул какой-то несчастный, то ли раненый, то ли умирающий.
Из паланкина вышел старик в широком темно-красном одеянии и огляделся по сторонам, надменно и презрительно. Ветерок шевелил его шелковистую белую бороду. Из-под накрашенных бровей поблескивали темные глаза.
— Я — Элеазар, — объявил старик звучным аристократическим голосом, — великий магистр Багряных Шпилей.
Он обвел взглядом ястребиных глаз онемевшую толпу и остановился на Готиане:
— Человек, который именует себя Воином-Пророком. Снимите его и отдайте мне.
— Ну что ж, я думаю, вопрос решен, — сказал Икурей Конфас, но его серьезный, сдержанный голос совершенно не вязался с жестокой насмешкой в глазах.
— Акка? — прошептал Пройас.
Ахкеймион недоуменно взглянул на него. Голос принца звучал так, словно ему опять было двенадцать лет.
Просто удивительно, до чего мало память волнует последовательность прошлого. Может, поэтому умирающие старики зачастую так недоверчивы. При помощи памяти прошлое нападает на настоящее, и не вереницей календарей и хроник, а голодной толпой «вчера».
Вчера Эсменет любила его. Всего лишь вчера она умоляла его не покидать ее, не ехать в Сареотскую библиотеку. И теперь до конца жизни, понял Ахкеймион, это останется «вчера».
Он посмотрел на вход — его внимание привлекло уловленное краем глаза движение. Это был Ксинем. Один из людей Пройаса — Ахкеймион узнал в нем Ирисса — помог маршалу переступить порог и подняться на заполненные людьми ярусы. Ксинем был в доспехах: кожаная юбка конрийского рыцаря, длиной по голень, серебристая кольчуга и наброшенный поверх нее кианский халат. Борода его была умащена маслом и заплетена, и спускалась на грудь веером завитков. По сравнению с полуживыми Людьми Бивня Ксинем выглядел крепким и величественным, одновременно и необычным, и знакомым, словно айнритийский принц из далекого Нильнамеша.
Маршал дважды споткнулся, проходя мимо собратьев-дворян, и Ахкеймион видел, какая мука отразилась на его лице — мука и странное упрямство, от которого разрывалось сердце. Решимость вновь обрести свое место среди сильных мира сего.
Ахкеймион проглотил комок в горле.
«Ксин…»
Не дыша, он смотрел, как маршал уселся между Гайдекки и Ингиабаном, потом повернулся лицом к открытому пространству, как будто Великие Имена сидели не внизу, а прямо перед ним. Ахкеймион вспомнил праздные вечера, проведенные на приморской вилле Ксинема в Конрии. Он вспомнил анпои, куропаток, фаршированных устрицами, и их бесконечные беседы. И Ахкеймион вдруг осознал, что он должен сделать… Рассказать историю.
Эсменет любила его лишь вчера. Но потом мир вдруг обрушился.
— Я страдал! — воскликнул он и словно бы услышал свой голос ушами Ксинема.
Прозвучало сильно.
— Я страдал, — повторил он, рывком поднимаясь на ноги. — Все мы страдали. Время политических интриг миновало. «Тем, кто говорит правду, — сказал Последний Пророк, — нечего бояться, хоть им и предстоит умереть за нее…»
Он чувствовал на себе их взгляды: скептические, пытливые, негодующие.
— Несомненно, вам странно слышать, как колдун, один из Нечистых, цитирует Писание. Думаю, некоторых из вас это даже оскорбляет. И тем не менее я буду говорить правду.
— Так значит, прежде ты нам лгал? — с неким хмурым подобием такта поинтересовался Конфас.
Истинный сын дома Икуреев.
— Не больше, чем вы, — отозвался Ахкеймион, — и не больше, чем любой другой человек в этом зале. Ибо все мы тщательно подбираем слова, прежде чем вложить их в уши слушателей. Все мы играем в джнан, эту проклятую игру! Люди умирают, а мы все играем в нее. И мало кому, экзальт-генерал, это известно лучше, чем вам!
Ахкеймион обнаружил, что то ли его тон, то ли последнее замечание заставило людей замолчать и слушать. Он вдруг понял, что это был тот самый тон, которым так легко и непринужденно говорил Келлхус.
— Люди думают, что адепты Завета пьяны легендами, свихнулись на истории. Все Три Моря потешаются над нами. Да и почему бы не посмеяться над нами, если мы рыдаем и рвем бороды от историй, которые вы рассказываете детям на ночь? Но здесь — здесь! — не Три Моря. Здесь Карасканд, здесь Священное воинство, и Священное воинство сидит в ловушке и голодает, осажденное армией падираджи. По всей вероятности, настали последние дни вашей жизни! Подумайте об этом! Голод, отчаяние и страх грызут ваше нутро, ужас пронзает ваши сердца!
— Довольно! — крикнул пепельно-бледный Готьелк.
— Нет! — пророкотал Ахкеймион. — Не довольно! Вы страдаете сейчас, а я страдал всю жизнь, дни и ночи! Рок! Рок лежит на вас, затмевает ваши мысли, отягощает вашу поступь. Даже сейчас ваши сердца бьются учащенно. Ваше дыхание становится все более напряженным… Но вам еще многое, многое предстоит узнать!
Тысячи лет назад, до того, как люди пересекли Великий Кайярсус, даже до того, как были написаны «Хроники Бивня», этой землей правили нелюди. И, подобно нам, они враждовали друг с другом из-за почестей, богатства, даже из-за веры. Но величайшие войны они вели не друг против друга и даже не против наших предков — хотя мы оказались их погибелью. Величайшие свои войны они вели против инхороев, расы чудовищ. Расы, которая злорадствовала над слабостями плоти и ковала извращения из жизни, как мы куем мечи из железа. Шранки, башраги, даже враку, драконы — все это остатки их оружия против нелюдей.
Под предводительством великого Куйяра Кинмои короли нелюдей разгромили их на равнинах, и в горах, и в глубинах земных. Ценой тяжких испытаний и огромных жертв они загнали инхороев в их первую и последнюю цитадель, место, которое нелюди называли Мин-Уройкас, «Преисподняя непристойностей». Я не стану перечислять ужасы этого места. Достаточно сказать, что инхорои были низвергнуты — по крайней мере, так казалось. И нелюди наложили чары на Мин-Уройкас, чтобы она навсегда оставалась сокрытой. А потом, изможденные и смертельно ослабевшие, они вернулись к останкам своего разрушенного мира — победившая и сломленная раса.
Столетия спустя в Кайярсус пришли люди Эанны, ведомые вождями-королями, — наши праотцы. Вы знаете их имена, поскольку они перечислены в «Хрониках Бивня»: Шелгал, Мамайма, Иншулл… Они смели ослабевших нелюдей, запечатали их обители и сбросили их в море. Со временем знание об инхороях и Мин-Уройкас изгладилось из памяти. Только нелюди Инджор-Нийяса помнили об этом, но не смели покидать свои горные твердыни.
Но постепенно враждебность между расами пошла на убыль. Между уцелевшими нелюдями и норсирайцами Трайсе и Сауглиша были заключены договоры. Начался обмен знаниями и товарами, и люди впервые узнали об инхороях и их войнах с нелюдями. А затем наследники Нинкаэру-Телессера, нелюдского колдуна по имени Кетъингира — он известен вам по «Сагам» под именем Мекеритриг — отыскали местонахождение Мин-Уройкас для Шеонанры, великого магистра древней гностической школы Мангаэкка. Чары, лежавшие на гнусной цитадели, были сняты, и адепты Мангаэкки заполучили Мин-Уройкас — на горе всем нам.
Они назвали ее Анохирва, хотя среди людей, воевавших против нее, она стала известна под именем Голготтерат… Имя, которым мы до сих пор пугаем детей, хотя нам впору пугаться самим.
Ахкеймион сделал паузу и оглядел лица слушателей.
— Я говорю об этом, потому что, хотя нелюди и уничтожили инхороев, они не смогли разрушить Мин-Уройкас, ибо она не принадлежала — и не принадлежит — нашему миру. Адепты Мангаэкки обшарили это место, обнаружив многое из того, что проглядели нелюди, включая чудовищное оружие. И подобно тому, как человек, живущий во дворце, начинает считать себя принцем, так и адепты Мангаэкки возомнили себя наследниками инхороев. Они полюбили их нечеловеческую философию и пришли в восторг от их отвратительного, развращенного искусства Текне, ухватившись за него с любопытством обезьян. И, что важнее и трагичнее всего, они обнаружили Мог-Фарау…
— Не-бога, — тихо проговорил Пройас.
Ахкеймион кивнул.
— Цурумах, Мурсирис, Сокрушающий Мир и тысяча иных ненавистных имен… На это у них ушли века, но две тысячи лет назад, когда великие короли Киранеи стали брать дань с этих земель и, возможно, возвели вот этот зал совета, они в конце концов добились успеха и разбудили Его… Не-бога… И мир едва не захлебнулся криками и кровью прежде, чем Он пал.
Он улыбнулся и посмотрел на слушателей, смахнув слезы со щек.
— Вот что я видел в своих Снах, — негромко сказал он. — Ужасы, которые я видел…
Ахкеймион покачал головой и сделал шаг вперед.
— Кто из вас не помнит равнины Менгедда? Я знаю, что многие страдали там от кошмаров, видели во сне, как умирают в древних сражениях. И все вы находили кости и бронзовое оружие, которые эта проклятая земля извергала из себя. Уверяю вас, все это происходило не просто так, а по определенной причине. Все это — эхо ужасных деяний, следы смерти и катастрофы. Если кто-то сомневается в существовании или силе Не-бога, пусть вспомнит эту землю, сокрушенную одним лишь его присутствием!
Все, что я рассказал вам, — это факты, внесенные в анналы людей и нелюдей. Но это вовсе не история о предотвращении чудовищного рока, как вы могли подумать, — о нет! Мог-Фарау был сражен на равнине Менгедда, но его проклятые служители собрали то, что от него осталось. И именно поэтому, великие лорды, мы, адепты Завета, появляемся при ваших дворах и входим в ваши чертоги. Именно поэтому мы терпим ваши насмешки. Две тысячи лет Консульт продолжал свои нечестивые труды, две тысячи лет они искали способ возродить Не-бога. Считайте нас сумасшедшими, зовите нас дураками, но это ваших жен и детей мы стремимся защитить. Три Моря — вот о ком мы заботимся!
Потому я и пришел к вам сейчас. Задумайтесь над моими словами, ибо я знаю, о чем говорю!
Эти существа, шпионы-оборотни, не имеют никакого отношения к кишаурим. Утверждая это, вы поступаете так же, как делают все люди, столкнувшись с неведомым: вы втаскиваете его в круг того, что знаете. Вы нарядили нового врага в одежду старого. Но эти существа родом из незапамятных времен! Подумайте о том, что мы видели несколько мгновений назад! Эти шпионы-оборотни — за пределами вашего искусства и круга познаний, даже за пределами познаний кишаурим, которых вы боитесь и ненавидите.
Они — агенты Консульта, и само их существование предвещает беду! Лишь глубокие познания в Текне могли породить на свет подобную непристойность, познания, что обещают возрождение Мог-Фарау.
Нужно ли мне объяснять, что это означает?
Мы, адепты Завета, видим во сне конец древнего мира. И среди этих снов есть один, приносящий нам больше страданий, чем любой иной: сон о смерти Кельмомаса, верховного короля Куниюрии, на поле Эленеот.
Ахкеймион сделал паузу, осознав, что ему не хватает воздуха, и добавил:
— Анасуримбора Кельмомаса.
По залу прокатился встревоженный шепот. Кто-то что-то пробормотал по-айнонски.
— И в этом сне Кельмомас изрек великое пророчество. Не горюйте, сказал он, ибо Анасуримбор вернется в конце мира… Анасуримбор! — воскликнул он, как если бы это имя несло в себе ответ на все вопросы.
Голос его прокатился по залу, эхом отразившись от древних стен.
— Анасуримбор вернется в конце мира. И он вернулся. И сейчас, пока мы говорим, он умирает! Анасуримбор Келлхус, человек, которого вы приговорили к смерти, — это тот, кого мы, адепты Завета, зовем Предвестником, живым знаком конца времен. Он — наша единственная надежда!
Ахкеймион обвел взглядом ярусы, опуская раскрытые ладони.
— И сейчас вам, вождям Священного воинства, пора спросить себя — что же поставлено на карту? Вы думаете, что обречены сами, но ваши жены и дети в безопасности. Настолько ли вы уверены, что этот человек — всего лишь тот, кем вы его считаете? Откуда проистекает такая убежденность? Из мудрости? Или из отчаяния? Желаете ли вы рискнуть всем миром, чтобы увидеть, к чему приведет ваш фанатизм?
Голос его смолк, и в зале воцарилось тяжкое, свинцовое молчание. Казалось, будто каменные лики стен и стеклянные глаза окон смотрят на него. Несколько долгих мгновений никто не смел заговорить, и Ахкеймион с испугом и удивлением осознал, что ему действительно удалось достучаться до них. Наконец-то они слушали его сердцем!
«Они поверили!»
А потом Икурей Конфас принялся топать и хлопать себя по бедрам, восклицая: «Хус-са-а! Ху-ху-хус-са-а!» С ярусов к нему присоединился генерал Сомпас: «Хус-са-а! Ху-ху-хус-са-а!»
Насмешка над традиционным одобрительным восклицанием, которое у нансурцев заменяет аплодисменты. Смех — сперва нерешительный, но потом все более громкий, раскатившийся по всему залу.
Предводители Священного воинства сделали свой выбор.
Великий магистр Багряных Шпилей сделал два шага по направлению к шрайским рыцарям; его темно-красное одеяние мерцало на солнце.
— Отдайте его, — мрачно произнес он.
— Сарцелл! — взревел Инхейри Готиан, вскинув левую руку с зажатой в ней хорой. — Убей его! Убей лжепророка!
Но Найюр уже кинулся к дереву. Он развернулся, на несколько шагов опередив рыцаря, и принял боевую стойку.
«Все, что угодно… Любое унижение. Любая цена!»
Сарцелл опустил меч и раскинул руки, словно собираясь заключить скюльвенда в дружеские объятия. Позади бурлила и гудела толпа. Рев все нарастал. Улыбаясь, рыцарь-командор шагнул к Найюру, остановившись на том расстоянии, откуда еще нельзя было нанести внезапный удар.
— Мы с тобой поклоняемся одному и тому же Богу.
Ветер стих, и стало необычайно жарко. Найюру почудился запах гниющей плоти — запах, смешанный с горьковатым ароматом эвкалиптовых листьев.
«Серве…»
— Вот суть моего поклонения, — спокойно произнес Найюр.
«Отдыхай, милая, — я понесу тебя…»
Он схватил запачканную кровью рубаху за ворот и разорвал ее до самого пояса. И вскинул меч.
«Я отомщу».
За спиной у рыцаря-командора Готиан и одетый в красное великий магистр кричали друг на друга. Джавреги, рабы-солдаты Багряных Шпилей, бросились на шрайских рыцарей, а те сомкнули ряды, силясь удержать их и толпу визжащих айнрити. Стоящие вокруг храмы и колоннады Ксокиса маячили на заднем плане, далекие и бесстрастные. На фоне неба вырисовывались пять холмов.
И Найюр усмехнулся, как может усмехнуться лишь вождь утемотов. Казалось, он приставил острие своего меча к горлу мира.
«Я устрою бойню».
Здесь все истощены. Все измучены голодом.
Найюр понял, что все происходит в соответствии с безумным планом дунианина. Какая разница, умрет он сейчас, вися на дереве, или несколькими днями позже, когда падираджа наконец-то сокрушит стены? Потому-то он и отдался в руки врагов, зная, что самый невинный из людей — обвиняемый, разоблачивший своих обвинителей.
Зная, что если он выживет…
Тайна битвы!
Сарцелл завертел мечом, делая ложные выпады. В его быстрых движениях сквозило нечто нечеловеческое.
Найюр не отступил и даже не шелохнулся. Он был сыном Народа, чудом, рожденным в пустынной земле и посланным грабить и убивать. Дикарь с мрачных северных равнин, с громом в сердце и смертью в глазах. Найюр урс Скиоата, неистовейший из мужей.
Он повел загорелыми плечами и встал поустойчивее.
— Прежде чем это закончится, — сказал Сарцелл, — ты узнаешь страх.
— Сперва я зарублю тебя.
Теперь Найюр ясно видел воспаленные красные линии на лице Сарцелла. Он понял, что это складки. И уже однажды видел, как они разгибаются.
— Я понимаю, почему ты любил ее, — проворчал шрайский рыцарь. — Какой персик! Думаю, я отгоню псов от ее трупа — потом! — и отлюблю еще раз…
Найюр, не шевелясь, наблюдал за ним. Воздух звенел от криков. Тысячи людей потрясали кулаками.
Они сошлись на расстояние длинного шага.
Затем их мечи вспороли пространство. Поцеловались. Закружились. Поцеловались снова. Геометрия стали, наполняющая воздух звенящим стаккато. Прыжок. Уход. Выпад… Со звериным изяществом скюльвенд наносил удары по твари, тесня ее. Меч шрайского рыцаря словно был колдовским — так он сверкал на солнце.
Найюр отступил, переводя дух и стряхивая пот с волос.
— Мою плоть, — прошептал Сарцелл, — ковали дольше, чем твой меч.
Он расхохотался, как будто совершенно успокоился.
— Люди — это собаки и коровы. Но мое племя — это волки в лесу, львы на равнине. Мы — акулы в море…
Пустота снова расхохоталась.
Найюр атаковал тварь; его меч пронзил пространство. Обманное движение, потом сокрушительный рубящий удар. Шрайский рыцарь отпрыгнул, отбив его.
Железо свистело, описывало круги, вспарывало воздух, искало, прощупывало…
Они сошлись вплотную. Попытались пересилить друг друга. Найюр нажал, но противник казался непоколебимым.
— Какой талант! — воскликнул Сарцелл.
По лицу его пробежала дрожь. Как? Найюр, пошатываясь, сделал несколько шагов по опавшей листве и горячим камням. Краем глаза он заметил Умиаки, вцепившегося в солнце стариковскими пальцами ветвей. Меч Сарцелла был повсюду; он прорезал и пробивал оборону Найюра. Череда безрассудных действий спасла ему жизнь. Он отскочил.
Голодная толпа вопила и орала. Сама земля у Найюра под сандалиями гудела.
Изнеможение и боль, бремя старых ран.
Клинки схлестнулись, разлетелись и закружили в лучах солнца. Они лязгали и скрежетали, словно зубы.
Весь в поту, словно лошадь в мыле. Каждый вздох — как нож в грудь.
Загнанный под крону Умиаки, Найюр краем глаза заметил Серве, привязанную к дунианину; ее почерневшее лицо запрокинулось, под съежившимися губами обнажились зубы. Гомон толпы стих. Границы между землей и черным деревом осыпались. Что-то наполнило Найюра, швырнуло вперед, развязало обвитые шрамами руки. И он взвыл голосом самой Степи, и меч его разорвал воздух…
Один. Второй. Третий. Удары, которые могли бы развалить надвое быка.
Сарцелл споткнулся, пошатнулся — но спасся, совершив нечеловеческий прыжок назад, с пируэтом в воздухе. Он приземлился на полусогнутые.
Улыбка исчезла.
Черная грива Найюра слиплась от пота, грудь тяжело вздымалась над запавшим животом. Найюр вскинул руки, глядя на взбудораженную толпу.
— Кто?! — взревел он. — Кто всадит нож в мое сердце?!
И он снова ринулся на шрайского рыцаря, гоня его прочь из тени Умиаки. Но хотя бешеная атака Найюра сломала стиль Сарцелла, в его движениях проступила некая прекрасная четкость — столь же прекрасная, сколь и несокрушимая. Сарцелл с силой взмахнул мечом, как будто это была игра. Его длинный клинок описал сверкающий круг, чиркнул Найюра по щеке, срезав кожу.
Найюр отступил, взвыв от ярости.
Острие меча рассекло ему бедро. Найюр поскользнулся на крови и упал, открыв горло. Болезненный удар об камни. Гравий, впившийся в кожу.
«Нет…»
Чей-то сильный голос перекрыл рев Священного воинства:
— Сарцелл!!!
Это был Готиан. Он прекратил спорить с Элеазаром и теперь с опаской приближался к рыцарю-командору. Толпа вокруг внезапно стихла.
— Сарцелл… — В глазах великого магистра читались потрясение и недоверие. — Где… — Готиан заколебался, сглотнул. — Где ты научился так драться?
Рыцарь Бивня быстро развернулся; лицо его превратилось в маску почтительного подобострастия.
— Мой лорд, я…
Вдруг Сарцелл забился в конвульсиях и закашлялся кровью. Найюр проводил его падающее тело до самой земли и лишь потом выдернул меч. После чего, на глазах у ошеломленного магистра, одним ударом снес голову с плеч. Он запустил руку в густые, спутанные черные волосы и высоко поднял отрубленную голову. И лицо расслабилось и раскрылось, словно сжатая ладонь, словно кишки, хлынувшие из вспоротого живота. Готиан упал на колени. Элеазар отшатнулся и едва не рухнул на руки рабам. Рев толпы — ужас и торжество. Буйство откровения.
Найюр швырнул голову под ноги колдуну.
Глава 25. Карасканд
«Какой смысл в обманутой жизни?»
Айенсис, «Третья аналитика рода человеческого»4112 год Бивня, конец зимы, Карасканд
Покрикивая друг на друга в страхе и нетерпении, наскенти разрезали веревки, связывавшие Воина-Пророка с его мертвой женой. Казалось, будто на весь Карасканд опустилось безмолвие.
Келлхус знал, что смертельно слаб, но нечто необъяснимое двигало им. Он откатился от Серве, оперся руками о колени, потом отмахнулся от обезумевших учеников и встал прямо. Кто-то набросил ему на плечи покрывало из белого льна. Пошатываясь, он вышел из тени Умиаки и поднял лицо навстречу солнцу и небу. В нескольких шагах от него застыл в оцепенении Найюр, а за ним — Элеазар. Инхейри Готиан, спотыкаясь, сделал несколько шагов, упал на колени и заплакал. Келлхус улыбнулся с беспредельным состраданием. И повсюду, куда бы он ни взглянул, люди преклоняли колени.
«Да… Тысячекратная Мысль».
Казалось, не существует более ничего, никаких ограничений, что могли бы привязать его к этому месту — к какому бы то ни было месту… Он был всем, и все было им…
Он — один из Обученных. Дунианин.
Слезы потекли по его щекам. Рукой в сияющем ореоле он коснулся груди Серве и оторвал сердце от ребер. Под крики обезумевшей толпы он вытянул вперед руку. От капелек крови камни под ногами растрескались. Краем глаза Келлхус заметил раскрывшееся лицо Сарцелла.
«Я вижу…»
— Они сказали! — провозгласил он, и вопящая толпа мгновенно стихла. — Они сказали, что я — лжец, что это из-за меня гнев Божий обрушился на нас!
Он видел опустошенные лица, лихорадочно блестящие глаза… Он поднял горящее сердце Серве на всеобщее обозрение.
— А я говорю, что мы — мы! — и есть этот гнев!
Каскамандри, неукротимый падираджа Киана, отправил послание Людям Бивня, которые, как он знал, были обречены. Послание содержало предложение — с точки зрения падираджи, необычайно милостивое. Если предводители Священного воинства перестанут сопротивляться, сдадут Карасканд и отрекутся от почитания ложных богов, то получат помилование и земли. Они станут грандами Киана, в соответствии с их статусом среди народов-идолопоклонников.
Каскамандри не был глупцом и не думал, что его предложение будет принято сразу, но кое-что понимал в отчаянии и знал, что в состязании с голодом благочестие часто терпит поражение. Кроме того, известие о том, что Священное воинство было повержено, и не мечами пророка Фана, а его словом, сотрясет нечестивую Тысячу Храмов до основания.
Ответ явился в виде дюжины скелетоподобных рыцарей-айнрити, одетых в простые хлопчатобумажные туники и вооруженных одними ножами. После спора о ножах, с которыми идолопоклонники отказывались расставаться, церемониймейстеры Каскамандри приняли их со всей учтивостью, как предписывал джнан, и провели прямиком к великому падирадже, его детям и пышно разряженным придворным грандам.
На миг воцарилась потрясенная тишина, поскольку кианцам трудно было поверить, что эти заросшие бородами бедолаги могли причинить столько неприятностей. Затем, после ритуального представления, двенадцать посланцев хором воскликнули: «Сатефикос кана та йериши анкафарас!» — выхватили ножи и перерезали себе глотки.
Устрашенный Каскамандри крепко прижал к себе двоих младших дочерей. Они плакали и всхлипывали, а старшие дети, особенно мальчики, возбужденно переговаривались. Падираджа повернулся к онемевшему переводчику.
— Он-ни ск-казали, — пролепетал белый как мел толмач, — «Воин-Пророк придет… придет за тобой…»
Он беспомощно уставился на расшитые золотом комнатные туфли падираджи.
Падираджа потребовал объяснить, кто такой Воин-Пророк, но никто не смог ответить на его вопрос. Лишь после того, как маленькая Сироль снова расплакалась, Каскамандри прекратил гневаться. Отослав рабов, он понес малышку в свой шатер, обещая ей сласти и другие замечательные вещи.
На следующее утро Люди Бивня вышли из ворот Слоновой Кости на начавшую зеленеть равнину Тертаэ. По холмам прокатилось пение воинских труб. Ветер понес над долиной песню, сотканную из тысяч голосов. Священное воинство не собиралось и дальше страдать от голода и болезней. Оно больше не могло сидеть в осаде.
Священное воинство выступило.
Оборванные колонны, извиваясь, тянулись от ворот к полю битвы. Сраженный болезнью Готьелк был слишком слаб, чтобы сражаться, и его место занял Гонраин, его средний сын. Великие Имена согласились поставить тидонцев на правый фланг, так что граф Ангасанорский мог наблюдать за сыном со стен Карасканда. Дальше шел Икурей Конфас, окруженный Священными Солнцами имперских колонн. За ним двигался Нерсей Пройас во главе некогда величественных рыцарей Конрии. Следующим был Хулвагра Хромой, чьи туньеры больше напоминали свирепых призраков, чем людей. Дальше ехал Чинджоза, палантин Антанамерский, назначенный после смерти Чеферамунни королем-регентом Верхнего Айнона. Великая армия, приведенная Багряными Шпилями из родной страны, была лишь бледной тенью себя прежней, но и те, кто остался, представляли собой немалую силу. Последним из ворот Карасканда вышел с войском король Саубон.
Побоявшись, что стремительная атака просто загонит идолопоклонников обратно под прикрытие стен Карасканда, Каскамандри позволил айнрити беспрепятственно выстроиться в поле. Люди Бивня заняли место между коровниками и заброшенными фермами; их строй растянулся примерно на милю. Слабые стояли рядом с сильными, в проржавевших кольчугах, в сгнивших кожаных куртках. Доспехи болтались на истощенных телах. У некоторых руки были не толще мечей. Рыцари в энатпанейских жилетах, рясах и халатах ехали на лошадях, превратившихся в изможденных кляч. И даже те немногочисленные гражданские, которые выжили — по большей части женщины и жрецы, — тоже стояли среди воинов. На поля Тертаэ вышли все — все, кому хватало сил держать оружие. Они вышли, чтобы победить или умереть. Айнрити выстроились длинными рядами, распевая гимны и колотя мечами по щитам.
Из Каратая выбралось около ста тысяч, и менее пятидесяти стояло сейчас на равнине. Еще двадцать тысяч осталось в Карасканде: те, кто был настолько слаб, что мог поддержать своих только криками. Многие больные все-таки поднялись с постелей и теперь толпились под Триамисовыми стенами. Одни выкрикивали что-то ободряющее и молились, другие плакали, раздираемые борьбой надежды и безнадежности.
Но все, что на стенах, что в поле, взволнованно смотрели в центр боевых порядков, стремясь хотя бы краем глаза увидеть новое знамя, сияющее посреди потрепанных стягов Священного воинства. Вон! Вон оно виднеется за рощей или холмистым пастбищем, реет на ветру: черное на белом фоне кольцо, окружающее фигуру человека, Кругораспятие Воина-Пророка. Триумф того, что казалось невозможным…
Трубы пропели сигнал к атаке, и шеренги суровых, угрюмых воинов двинулись вперед, в даль, скрытую садами и рощицами ясеней и платанов. Каскамандри приказал своему войску отойти на две мили назад, туда, где равнина расширялась; он знал, что айнрити трудно будет преодолеть это расстояние, не подставив фланги под удар и не образовав бреши в рядах.
Песни прорывались сквозь рокот барабанов фаним. Размеренные военные напевы туньеров, некогда наполнявшие леса их родины отзвуком рока. Пронзительные гимны айнонов, чей утонченный слух наслаждался диссонансом людских голосов. Погребальные песни галеотов и тидонцев, торжественные и зловещие. Они пели, Люди Бивня, охваченные противоречивыми чувствами: радостью, не ведающей смеха, ужасом, не ведающим страха. Они пели и шли, двигаясь с изяществом еще не сломленных людей.
Многие, ослабев от недоедания, оседали на землю. Боевые товарищи поднимали их и тащили за собой по грязи оставленных под паром полей.
Первая кровь пролилась на севере, на участке, ближе всего расположенном к Триамисовым стенам. Тидонцы под командованием нумайньерского тана Ансволки увидели фаним, взобравшихся на гребни холмов, и их заплетенные в косы черные бороды запрыгали в одном ритме с поступью лошадей. Нумайньерцы — лица у них были раскрашены красным для устрашения врагов, — подперли костлявыми плечами свои огромные щиты. Их лучники дали жидкий залп по приближающимся фаним и тут же получили в ответ тучу стрел. Возглавляемые Ансакером, изгнанным сапатишахом Гедеи, лишившиеся владений гранды Шайгека и Энатпанеи яростно ринулись на рослых воинов Се Тидонна.
В центре, напротив Кругораспятия, ревущие мастодонты неуклюже двинулись вперед; в паланкинах у них на спинах восседали чернолицые гиргаши в синих тюрбанах, со щитами из воловьей кожи, покрытыми красным лаком. Но отважные всадники, анплейские рыцари под командованием палатина Гайдекки, выехали вперед и подожгли сухую траву и кустарник. Маслянистый дым поднялся в небо, и ветер погнал его на юго-восток. Несколько мастодонтов запаниковали и смешали ряды хетменов короля Пиласаканды. Но большинство прорвались через дым и с трубным ревом вломились в ряды айнрити. Вскоре уже мало что можно было разглядеть. Знамя Кругораспятия окружил дым и хаос.
Повсюду кавалеристы фаним поднимались на холмы, вылетали из цитрусовых рощ или скакали через дым. Великий Кинганьехои, возглавлявший гордых грандов Эумарны и Джурисады, врезался в пеший строй айнонов: кишьюатов и мозеротов, которыми командовали палатины Сотер и Ураньянка. Далее к югу гранды Чианадини собрались на холмах, поджидая короля Саубона и его галеотов. Фаним, облаченные в халаты с широкими рукавами и нильнамешские кольчуги, ринулись вниз по склонам; их чистокровные кони были выращены на суровых границах Великой Соли. Наследный принц Фанайял и его койяури ударили по гесиндальменам графа Анфирига, затем вломились в ряды агмундрменов, которыми командовал сам Саубон.
Под стенами Карасканда люди кричали и вопили, поддерживая соотечественников и силясь разглядеть, что же происходит. Но они слышали пение своих братьев даже сквозь гром барабанов и улюлюканье язычников. Центр поля заволокло дымом, но ближе к стенам было видно, как тидонцы сопротивляются натиску фанимских всадников, сражаясь с мрачной, сверхъестественной решимостью. Граф Вериджен Великодушный и рыцари Плайдеола вдруг вырвались вперед и разогнали потрясенных кианцев. На юге некоторые видели, как Атьеаури и его рыцари потоком хлынули со склона и врезались в тыл чианадинцам. Саубон поручил своему молодому племяннику пресечь какие бы то ни было фланговые маневры в холмах. И дерзкий граф Гаэнри, разбив кавалерийскую дивизию, посланную Каскамандри именно для такого маневра, погнался за ней и очутился на самой выгодной позиции, в тылу язычников.
Фаним беспорядочно отступали, а перед ними, на всем протяжении Тертаэ, поющие айнрити продолжали двигаться вперед. Многие из тех, кто стоял под стенами, заковыляли на восток, к Роговым вратам, откуда было видно, как Люди Бивня сражаются и идут дальше по следам отступающих гиргашских кавалеристов. А потом они увидели Кругораспятие, реющее на ветру, белое и незапятнанное…
Железные люди шли вперед, как будто их вела неизбежность. Когда язычники атаковали, айнрити висли на уздечках их коней. Они вгоняли копья в круп фанимским лошадям. Они отбивались мечами, а когда кричащие кианцы падали на землю, их приканчивали ножами, в подмышку, лицо или пах. Айнрити не обращали внимания на разящие стрелы. Когда язычники дрогнули, некоторые Люди Бивня в боевом безумии швыряли свои шлемы в удирающих всадников. Раз за разом кианцы наскакивали на айнрити, терпели поражение и отступали, а железные люди все шли и шли, через оливковые рощи, по невспаханным полям. Они шли с Богом — вне зависимости от того, благоволил он им или нет.
Но кианцы недаром слыли гордым и воинственным народом. Армия падираджи была многочисленной и отважной. Благочестивые воины Единого Бога были испуганы, но не сокрушены. Сам Каскамандри вышел на поле боя — рабы помогли ему взобраться на могучего коня. Обгоняя айнрити, один за другим отряды кавалеристов фаним перестраивались у границы лагеря падираджи. Люди озирались в поисках кишаурим. Потом король Пиласаканда, данник и друг падираджи, выпустил на чернодоспешных туньеров последних мастодонтов.
Животные налетели на ауглишменов, которых возглавлял граф Гокен Рыжий. Люди гибли, пронзенные огромными изогнутыми бивнями, разлетались в разные стороны от ударов хоботов, превращались в кровавое месиво под гигантскими ногами. Из укрепленных паланкинов на спинах у мастодонтов гиргаши слали стрелу за стрелой в лица вопящих внизу айнрити. Но ауглишмены, люди с каменными сердцами, объединили усилия и изрубили трубящих зверей топорами и мечами. Некоторые мастодонты попадали, ослабев от множества ран. Иные испугались огня, зажженного принцем Хулвагрой, и заметались, давя шедшую следом гиргашскую кавалерию.
По всей равнине Тертаэ волны кианских всадников налетали на продвигающихся вперед айнрити. Те, кто наблюдал за битвой от ворот Слоновой Кости, видели Белого Льва падираджи совсем рядом с Кругораспятием. Они заметили, что знамена Гайдекки и Ингиабана задержались на месте, пока нансурцы пробирались вперед. Отважные пехотинцы Селиалской колонны прорубили себе путь в лагерь падираджи. Затем барабаны язычников смолкли, и весь мир затопили голоса айнрити, поющих победные песни. Кинганьехои бежал с поля битвы. Великан Коджирани, кровожадный гранд Мирзаи, пал от руки Пройаса, принца Конрии. Каскамандри, прославленный падираджа Киана, упал, лишившись нижней челюсти, к ногам Воина-Пророка. Голова падираджи была водружена на знамя Кругораспятия. Но его любимые дети бежали — их тайком увел Фанайял, старший сын падираджи.
Зажатые между наступающими айнрити и захваченным лагерем, гранды Чианадини и Гиргаша раз за разом атаковали врага, но их постепенно окружали галеоты и айноны, безрассудно пробивавшиеся вперед. Люди Бивня плакали, истребляя отчаявшихся язычников, ибо никогда прежде не видели такого трагического великолепия.
А после битвы некоторые взобрались на туши мастодонтов, подняли мечи навстречу солнцу и осознали то, чего прежде не понимали.
Священное воинство оправдано.
Прощено.
Уцелевших грандов повесили на ветвях платанов, и в вечернем свете они напоминали всплывших из глубин утопленников. Даже по прошествии многих лет никто не решался притронуться к ним. Они свалились с гвоздей и превратились в груды костей у подножия деревьев. И всякому, кто готов был слушать, они шептали откровение… Тайну битвы.
Неукротимая убежденность. Непобедимая вера.
4112 год Бивня, начало весны, Акксерсия
Закутавшись от дождя в шерстяной плащ и меха, Аэнгелас ехал в длинной колонне всадников по равнине Гал, сквозь серую завесу тумана. Они двигались по широкой полосе вытоптанной травы. Время от времени кто-то находил отпечатавшийся в грязи след ребенка, маленький и невинный. Мужчины, которых Аэнгелас знал всю жизнь, — сильные мужчины — плакали при виде этого.
Они называли себя веригда, и они искали пропавших жен и детей. Два дня назад они вернулись в свое становище, солдаты, разгоряченные победой в маленькой войне, и вместо близких нашли следы погрома и резни. Закаленные бойцы превратились в перепуганных мужей и отцов и кинулись обыскивать руины становища, выкрикивая дорогие имена. Но когда они поняли, что их семьи не убиты, а уведены в плен, то снова стали воинами. И теперь они ехали, ведомые любовью и ужасом.
К середине утра за пеленой дождя показалась исполинская каменная стена: поросшие мхом и лишайником развалины Микл, что некогда были столицей Акксерсии и одним из сильнейших городов Древнего Севера. Аэнгелас ничего не знал о Древних войнах, о гордой Акксерсии, но понимал, что его народ — дети Апокалипсиса. Они жили среди непогребенных костей великой эпохи.
Они шли по следу, мимо курганов, мимо сломанных колонн и рассыпающихся стен. Аэнгелас знал, что шранки, за которыми они гонятся, не принадлежат ни к Киг’кринаки, ни к Ксоаги’и, кланам, что были их врагами с незапамятных времен. Они преследовали какой-то иной, более злобный клан, с которым никогда прежде не сталкивались. Некоторые из них даже ехали верхом — неслыханное дело для шранков.
Они проехали через мертвые Миклы в молчании, глухие к мольбам города восстановить его.
К вечеру дождь прекратился, зато усилился холод, и дрожь превратилась в озноб. Они отыскали кострище, и Аэнгелас, потыкав в золу ножом, извлек оттуда небольшую кучку костей. Детских костей. Веригда заскрежетали зубами, и к темным небесам вознесся их вопль.
Они все равно не смогли бы уснуть этой ночью и потому поехали дальше. Равнина казалась мучительной пустотой, погребальным саваном, окутавшим все дурные предзнаменования, все жестокие замыслы. Что они сделали? Чем прогневали богов? Может, Священное пламя горело слишком слабо? Может, принесенные в жертву телята были больны?
Еще два дня мокрой, дрожащей ярости. Два дня лихорадочного ужаса. Аэнгелас видел отпечатки босых женских и детских ног и вспоминал сожженные жилища, оскверненные тела подростков, валяющиеся среди погрома. Он вспоминал испуг в глазах жены, когда уезжал вместе с остальными в налет на Ксоаги’и. Он помнил ее слова, продиктованные предчувствием.
«Не покидай нас, Аэнга… Великий Разрушитель охотится на нас. Я видела его во сне!»
Очередное кострище, снова — с маленькими костями. Но на этот раз зола была теплой. Казалось, будто сама земля повторяет крики их близких.
Они почти нагнали врагов. Но и сами воины, и их лошади слишком устали для мрачных трудов битвы — так Аэнгелас сказал соплеменникам. Многих эти слова встревожили. Чьего ребенка съедят шранки, кричали они, пока мы будем тут торчать? Всех, ответил Аэнгелас, если веригда не сумеют выиграть завтрашнюю битву. Мы должны выспаться.
Той ночью Аэнгеласа разбудили крики боли. Бледные мозолистые руки сдернули его с подстилки, и он всадил нож в живот нападающему. Над ним прогрохотали копыта, и Аэнгеласа швырнули лицом в землю. Он пытался вырваться и кричал, созывая своих людей, но его окружали лишь невнятно бормочущие тени. Аэнгеласу заломили руки за спину и жестоко связали. С него сорвали одежду.
Вместе с остальными уцелевшими его погнали в ночь, волоча за кожаный ремень, который продели сквозь дырку, прорезанную в губе. Он бежал и плакал, он знал, что все потеряно. Никогда больше он не займется любовью с Валриссой, своей женой. Никогда больше не будет поддразнивать сыновей, сидя вместе с ними у вечернего костра. Снова и снова он спрашивал сквозь терзающую боль: «Что мы сделали, чем заслужили это? Что мы натворили?»
В зловещем свете факелов он видел шранков с их узкими плечами и по-собачьи широкой грудью, выплывающих из ночи, словно из глубин моря. Нечеловечески прекрасные лица, белые, словно отполированная кость; доспехи из лакированной человеческой кожи; ожерелья из человеческих зубов; сморщенные человеческие лица, пришитые к кожаным щитам. Он чувствовал их сладковатый запах — смесь запаха фекалий и гниющих фруктов. Он слышал кошмарное щелканье их смеха, и откуда-то справа — пронзительное ржание веригдских лошадей, которых они резали.
Время от времени он видел нелюдей, высоких, восседающих на черных скакунах. Он понял, что сон Валриссы был правдив: Великий Разрушитель охотился на них! Но почему?
Они добрались до лагеря шранков в серых рассветных сумерках — вереница нагих, измученных людей. Их встретил хор стенаний — женщины выкрикивали имена, дети плакали: «Па! Папа!» Шранки толкнули их к сбившимся в кучу близким и из какого-то странного милосердия развязали. Аэнгелас кинулся к Валриссе и их единственному уцелевшему сыну. Захлебываясь рыданиями, он прижал обоих к груди. И на миг обрел надежду в тепле исхудавших тел.
— Где Илени? — прошептал он.
Но жена лишь плакала и повторяла:
— Аэнга! Аэнга!
Передышка длилась недолго. Тех мужчин, которые не нашли родных, тех, кто упал на колени в мерзлую грязь или забегал с криками, вглядываясь в лица мертвых, просто перебили. Тех жен и детей, кто оказался без мужей, тоже молча перерезали, и остались только воссоединившиеся семьи.
Под взглядом темных глаз нелюдей шранки построили выживших в два ряда, и веригда образовали две цепочки на снегу и сухой зимней траве — мужья с одной стороны, жены и дети с другой.
Привязанный к вбитому в землю железному стержню Аэнгелас ежился от холода и раз за разом пытался разорвать плетеный ремень, не пускающий его к жене и сыну. Он плевал и кидался на проходящих мимо шранков. Он пробовал найти слова ободрения, слова, которые помогли бы его родным вынести все это, укрепили бы их мужество перед страшным ликом будущего. Но он мог лишь плакать и повторять их имена и проклинать себя за то, что не задушил их раньше, не спас от того, что должно было случиться.
А потом он в первый раз услышал вопрос — хотя никто не произносил его вслух.
Жуткая тишина воцарилась среди веригда, и Аэнгелас понял, что все они услышали невозможный голос. Вопрос прозвучал в душах всех его страдающих соплеменников.
Потом он увидел… это. Мерзость, идущую сквозь рассветные сумерки.
Оно было раза в полтора выше человека, с длинными сложенными крыльями, выглядывающими из-за плеч, словно лезвия двух кос. Кожа существа была полупрозрачной — кроме тех мест, где ее покрывали черные язвы, — и обтягивала крупный широкий череп, напоминающий формой очертания устрицы. А в открытой пасти существа проступало другое, более человеческое лицо.
При виде этой твари шранки завыли от восторга и принялись резко дергать пленников, так, что те попадали на колени. Всадники-нелюди склонили головы. Тварь изучающе оглядела ряды людей, а потом ее огромные черные глаза остановились на Аэнгеласе. Рядом всхлипнула Валрисса.
«Ты… Мы чувствуем в тебе древний огонь, человечишка…»
— Я — веригда! — взревел Аэнгелас.
«Ты знаешь, что мы такое?»
— Великий Разрушитель, — выдохнул он.
«Не-е-ет, — проворковала тварь так, словно его ошибка вызвала у нее сладостную дрожь. — Мы — не Он… Мы — Его слуги. Не считая моего Брата, мы — последние из тех, кто пришел из пустоты…»
— Великий Разрушитель! — выкрикнул Аэнгелас.
Тварь подошла ближе и нависла над его женой и сыном. Валрисса прижала Бенгуллу к себе и вытянула руку вперед, словно пытаясь остановить древнее существо.
«Ну, так что ты нам скажешь, человечишка? Ты скажешь то, что нам нужно знать?»
— Но я не знаю! — крикнул Аэнгелас. — Я не знаю того, о чем вы спрашиваете!
Ксурджранк легко, без малейших усилий разорвал путы Валриссы и поднял ее перед собой, словно куклу. Бенгулла пронзительно закричал:
— Мама! Мама!
И снова тот же вопрос прогрохотал в сознании Аэнгеласа. Он заплакал, роняя слезы на землю.
— Я не знаю! Не знаю!
Зажатая в когтях чудовища, Валрисса застыла, словно теленок, очутившийся в пасти у волка. Она отвела испуганный взгляд от Аэнгеласа, и ее глаза закатились.
— Валрисса! — крикнул Аэнгелас. — Валрисса-а-а!
Держа женщину за горло, тварь вяло, небрежно сорвала с нее одежду, словно кожицу с подгнившего персика. Когда ее груди вывалились наружу, круглые, белые, с розовыми сосками, солнечный свет вырвался из-за горизонта и осветил стройное тело…
Животная ярость захлестнула Аэнгеласа, и он до предела натянул ремни, задыхаясь от бешенства.
Хриплый голос у него в сознании произнес:
«Мы — раса любовников, человечишка…»
— Пожа-а-алуйста! — зарыдал Аэнгелас. — Я не зна-а-аю…
Свободной рукой тварь провела кровавую черту между грудями Валриссы и дальше, по вздрагивающему животу. Помутневший взгляд женщины вновь обратился к Аэнгеласу. Она застонала и раздвинула свисающие ноги навстречу руке твари.
«Раса любовников…»
— Я не знаю! Не знаю! Не знаю! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста!
Тварь заклекотала, словно тысяча соколов, и погрузилась в нее. Стеклянный гром. Содрогающееся небо. Валрисса откинула голову назад, лицо ее исказилось болью и блаженством. Она извивалась и стонала, выгибаясь навстречу толчкам твари. А когда она кончила, Аэнгелас рухнул, обхватил голову руками и уткнулся лицом в землю.
Снег приятно холодил разбитые губы.
С нечеловеческим, драконьим вздохом тварь прижала обмякший фаллос к животу Валриссы и выплеснула на ее озаренную солнцем грудь жгучее черное семя. Новый громогласный клекот, смешавшийся с беспомощным воем женщины.
И снова тварь повторила вопрос.
«Я не знаю…»
«Поэтому ты слаб», — сказала тварь, отбрасывая Валриссу на холодную траву, словно мешок. Взглядом он отдал ее шранкам — их распутной ярости. И снова задал вопрос.
Потом тварь отдала шранкам его ни в чем не повинного сына и повторила вопрос.
«Я не знаю, о чем ты говоришь…»
Даже когда шранкам кинули самого Аэнгеласа, тварь все спрашивала и спрашивала, с каждым толчком насильника…
До тех пор пока сдавленные крики его жены и ребенка не превратились в вопрос. До тех пор пока его собственные сумасшедшие вопли не сделались вопросом…
Его жена и сын были мертвы. Комки истерзанной плоти с лицами тех, кого он любил… а они все продолжали.
И повторяли один и тот же безумный, непонятный вопрос.
«Кто такой дунианин?»
Приложение
Действующие лица и фракции
Друз Ахкеймион — колдун Завета, сорока семи лет.
Коифус Атьеаури — племянник Саубона.
Баннут — дядя Найюра.
Нерсей Кальмемунис — кузен Пройаса и конрийский вождь Священного воинства простецов.
Кемемкетри — великий магистр Имперского Сайка.
Чеферамунни — король-регент Верхнего Айнона и глава айнонского войска.
Найюр — варвар-скюльвенд, вождь утемотов, сорока четырех лет.
Икурей Конфас — экзальт-генерал Нансурии и племянник императора.
Элеазар — великий магистр Багряных Шпилей.
Эсменет — проститутка из Сумны, тридцати одного года.
Гешрунни — раб-солдат, на краткое время ставший шпионом Завета.
Хога Готьелк — граф Ангасанорский и командир тидонского войска.
Инхейри Готиан — великий магистр шрайских рыцарей.
Паро Инрау — шрайский жрец и бывший ученик Ахкеймиона.
Икурей Истрийя — императрица Нансурии, мать нынешнего императора.
Ийок — главный шпион Элеазара.
Каскамандри — падираджа Киана.
Анасуримбор Келлхус — монах-дунианин, тридцати трех лет.
Куссалт — конюх Саубона.
Майтанет — шрайя Тысячи Храмов.
Маллахет — один из наиболее могущественных кишаурим.
Мартем — генерал и личный адъютант Конфаса.
Анасуримбор Моэнгхус — отец Келлхуса.
Наутцера — старший из членов Кворума Завета.
Нерсей Пройас — принц Конрии и бывший ученик Ахкеймиона.
Кутий Сарцелл — первый рыцарь-командор шрайских рыцарей.
Коифус Саубон — принц Галеота и командир галеотского войска.
Сеоакти — ересиарх кишаурим.
Серве — наложница-нимбриканка, девятнадцати лет.
Сесватха — колдун, выживший в Древних войнах, основатель школы Завета.
Симас — член Кворума и бывший наставник Ахкеймиона.
Скайельт — принц Туньера и командир туньерского войска.
Скалатей — наемный колдун.
Скаур — кианский сапатишах-правитель Шайгека.
Скеаос — главный советник императора.
Скиоата — покойный отец Найюра.
Икурей Ксерий III — император Нансурии.
Крийатес Ксинем — друг Ахкеймиона, маршал Аттремпа.
Ялгрота — раб Скайельта, человек гигантского роста.
Юрсалка — человек из племени утемотов.
Дуниане
Тайная секта, члены которой отреклись от истории и животных побуждений в надежде обрести абсолютное просветление через управление всеми желаниями и обстоятельствами. В течение двух тысяч лет в членах этой секты воспитывали безукоризненное владение телом и необычайную остроту интеллекта.
Консульт
Группа магов и военачальников, переживших гибель Не-бога в 2155 году и с тех пор непрерывно стремившихся вернуть его и устроить так называемый Второй Апокалипсис. В Трех Морях уже мало кто верит, будто Консульт и впрямь существует.
Скюльвенды
Древние кочевые народы, обитающие в степи Джиюнати. Их боятся и восхищаются их воинским мастерством.
Школы
Собирательное название различных организаций колдунов. Первые школы, как на Древнем Севере, так и в Трех Морях, возникли как ответ на то, что Бивень категорически отвергал колдовство. Древние школы существуют так долго в первую очередь благодаря ужасу, который внушают, а также из-за того, что они, как правило, не вмешиваются в политические и религиозные дела Трех Морей.
ЗАВЕТ — гностическая школа, основанная Сесватхой в 2156 году с целью продолжать борьбу с Консультом и предотвратить возвращение Не-бога, Мог-Фарау.
БАГРЯНЫЕ ШПИЛИ — мистическая школа, наиболее могущественная среди школ Трех Морей, фактически правящая Верхним Айноном с 3818 года.
ИМПЕРСКИЙ САЙК — мистическая школа, связанная договором с императором Нансурии.
МИСУНСАЙ — школа, объявившая себя наемной. Ее колдуны продают свои знания и умения по всем Трем Морям.
Фракции Айнрити
Айнритизм является господствующей религией Трех Морей. Он сочетает в себе элементы монотеизма и политеизма. Основан на откровениях Айнри Сейена (ок. 2159–2202 гг.), именуемого Последним Пророком. Основные постулаты айнритизма состоят в том, что Бог присутствует во всех исторических событиях, что многочисленные божества на самом деле едины и являются ипостасями Бога, явившегося Последнему Пророку (на поклонении этим божествам основаны многочисленные культы), и что Бивень есть святое и непогрешимое Писание.
ТЫСЯЧА ХРАМОВ — учреждение, которое служит церковью айнрити. Несмотря на то что центр его находится в Сумне, влияние Тысячи Храмов распространяется на весь северо-восток и восток Трех Морей.
ШРАЙСКИЕ РЫЦАРИ — монашеский военный орден, напрямую подчиняющийся шрайе, созданный Экьянном III Золотым в 2511 году.
КОНРИЙЦЫ — Конрия, кетьянская страна на востоке Трех Морей. Основана в 3372 году, после падения восточной Кенейской империи. Расположена вокруг Аокнисса, древней столицы Шира.
НАНСУРИЯ — Нансурская империя, кетьянская страна на западе Трех Морей, считающая себя наследницей Кенейской империи. Во времена своего наивысшего расцвета Нансурская империя простиралась от Галеота до Нильнамеша, но сильно уменьшилась в результате многовековых войн с кианскими фаним.
ГАЛЕОТ — норсирайская страна Трех Морей, расположенная на так называемом Среднем Севере, основанная около 3683 года потомками беженцев, выживших в Древних войнах.
ТИДОНЦЫ — Се Тидонн, норсирайская страна на востоке Трех Морей. Основана в 3742 году, после падения кетьянской страны Кенгемис.
АЙНОНЫ — Верхний Айнон, весьма могущественная кетьянская страна на востоке Трех Морей. Основана в 3372 году, после падения восточной Кенейской империи. С конца Войн магов, то есть с 3818 года, ею правят Багряные Шпили.
ТУНЬЕРЫ — Туньер, норсирайская страна. Основана союзом туньерских племен около 3987 года, в айнритизм обратилась сравнительно недавно.
Фракции Фаним
ФАНИМСТВО — строго монотеистическая, сравнительно молодая религия, основанная на откровениях пророка Фана (3669–3742), распространенная исключительно на юго-западе Трех Морей. Основные постулаты фанимства состоят в том, что Бог един и пребывает за пределами мира, что прочие боги ложны (фаним считают их демонами), Бивень нечестив, а все изображения Бога запретны.
КИАНЦЫ — Киан, наиболее могущественная кетьянская страна Трех Морей. Она простирается от южных границ Нансурской империи до Нильнамеша. Основана в результате Белого Джихада, священной войны, которую первые фаним вели против Нансурской империи с 3743 по 3771 год.
КИШАУРИМ — колдуны-жрецы фаним, живущие в Шайме. О метафизике кишауримского колдовства, или Псухе, как называют его сами кишаурим, известно очень мало — только то, что Немногие его не распознают и что оно во многих отношениях столь же ужасно, как мистическое колдовство школ.
Благодарности
Поскольку более пятнадцати лет ушло у меня на то, чтобы написать «Слуг Темного Властелина», то, берясь за их продолжение, я несколько погорячился, пообещав, что справлюсь с книгой за год. Мне думалось, этого будет вполне достаточно, но теперь, когда времена года промелькнули за моим окном быстрее, чем реклама на придорожных щитах, я понял, что был не прав. Из-за своего просчета я, хоть и непреднамеренно, многим усложнил жизнь, как в профессиональном, так и в личном отношении. Никогда еще я не бывал в долгу у стольких людей. Мне хотелось бы поблагодарить:
Прежде всего — мою невесту, Шэрон О’Брайен, за любовь, поддержку и блестящую критику.
Моего брата, Брайана Бэккера, за то, что подал мне куда больше отличных идей, чем я сумел использовать!
Моего агента, Криса Лоттса, и великолепную команду Ральфа М. Вичинанцы.
Мою семью и всех друзей, за то, что прощали мое постоянное отсутствие, — и за то, что узнавали мой голос в тех редких случаях, когда я все-таки им звонил.
Моих студентов в колледже Фаншоу, за то, что не позволили мне расслабиться, когда время начало поджимать.
Майкла Шелленберга — за настойчивость, Барбару Берсон — за прямо-таки библейское терпение и Мэг Мастерс — за ее издательский гений. Я также признателен Трейси Бордиан, Мартину Коулду, Карен Эллистон, Лесли Хорлику и всему канадскому семейству «Пингвина».
Уилла Хорсли и Джека Брауна — за огромную и талантливую поддержку.
Ур-Лорда, Митфаниона и Лузкэннон — за то, что запустили именно этот вирус на рынок вирусов!
И конечно же, Стивена Эриксона — за балконную дверь, распахнутую пинком.






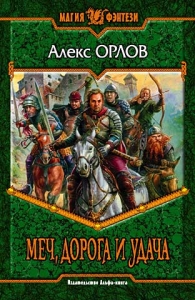



Комментарии к книге «Воин-Пророк», Ричард Скотт Бэккер
Всего 0 комментариев