Дункан Мак-Грегор
Битва Бессмертных
Пролог
Вспыхнул факел, осветив небольшую квадратную комнату мертвым красным светом, и всполохи его задрожали на гладком камне стен, на меди чана с водой, стоявшего посередине, на железе панцирей трех юных мужей, что преклонили колена и головы перед высоким седовласым старцем в широком черном балахоне до пят. Он кивнул им, таким образом выразив одобрение только что произошедшему действу, прошел по комнате и задул свечи во всех четырех углах, затем водрузил факел в бронзовую подставку на стене.
— Встань, Воин Медведь, — тихим ровным голосом приказал старец, не отрывая глаз от пламени. — Встань и возьми огонь в свое сердце.
Один из трех — могучий рослый муж с длинными, торчащими из-под шлема рыжими волосами — поднялся, сделал шаг к факелу. Без промедления схватил он тяжелой дланью своей мертвое пламя, от его прикосновения ставшее вдруг ослепительно ярким; оторвав верхнюю часть, он зажал огонек в кулаке и сунул его под панцирь. В мгновение вся фигура гиганта высветилась изнутри, открыв глазам посвященных твердый красный комок сердца, объятого молотым свечением и трепещущего под левой ключицей. Когда свет погас, старец едва заметно улыбнулся бледными сухими губами — сие был знак высшего расположения — и Воин Медведь гордо вскинул твердый подбородок: обряд завершен, и теперь ему осталось только принять свой меч из рук наставника, а потом уйти отсюда навсегда в тот далекий край, где великая мощь его и чистое сердце необходимы…
Тонкие руки старца легко подъяли массивный двуручный меч, бывший пока без ножен, и передали его в широкие крепкие лапы Медведя. Ни единого слова напутствия или благословения не сказал наставник, но, видимо, никто этого и не ждал. В полном молчании, сжатом стенами с четырех сторон, воин занял свое место.
Пламя, оборванное почти до половины, продолжало гореть ярко, яростно. Старец долго смотрел на него, словно впитывая в себя силу и жизнь стихии. Под этим светом седые волосы его казались желты, а бледное, покрытое сетью морщин лицо свежо.
— Встань, Воин Лев! — сказал он наконец. — Встань и возьми огонь в свое сердце!
Едва он договорил, как русоволосый юноша, мускулистый и стройный, быстро встал, в два шага подошел к факелу и, примерившись, забрал большую часть оставшегося пламени. Точно так, как до него Медведь, он сунул бьющийся в кулаке красный язычок под панцирь, открыв на миг свое сердце, похожее на огромный рубин. Желтые глаза его полыхнули диким, хотя и укрощенным пока, огнем и потухли одновременно с сиянием сердца. Юный воин повел плечом, словно сожалея о завершении ритуала, повернулся к наставнику.
Меч у него уже был, так что старец вручил ему щит — самый обычный прямоугольный щит, обитый бронзовыми полосами, но Лев при виде его побледнел и с трудом сумел скрыть радость, приличную скорее мальчику, нежели мужу. Заняв прежнее место, он вперил невидящий взор в пламя факела, мысленно пребывая уже в том героическом будущем, что ждет его за стенами замка сего не далее как через день…
— Встань и ты, Воин Белка. Встань и возьми огонь в свое сердце, — проговорил наставник, обращаясь к третьему юноше.
Тряхнув копной светлых волос, тот вскочил, тенью метнулся к факелу, у основания коего теперь горел низкий, но все еще ослепительно яркий голубовато-красный огонек, и одним точным движением снял его весь. В комнате сразу стало темно — на несколько мгновений только ее снова осветило сияние сердца Белки — тусклый лунный луч из крошечного оконца под потолком едва проявлял четыре облаченные в темное фигуры. Однако же все и так знали, что сейчас происходит: последний воин получает от наставника свой талисман, призванный охранять его в трудные промена; потом будет рассвет, а потом — они уйдут отсюда навсегда, но не вместе, и одному лишь Митре известно, пересекутся ли когда-нибудь еще их пути…
Наставник надел шлем на голову Белки, легко коснулся пальцами его холодной твердой щеки. Этот был самый младший и самый любимый — тем тяжелее расставаться с ним без надежды свидеться в этой жизни… Морщинистые иски старца дрогнули. «Прощай», — произнес он одними губами, одновременно отталкивая от себя юношу…
— Прощайте, — сказал юноша вслух бесстрастным негромким голосом, затем повернулся и вышел вон.
Глава I
Багровый шар краем уже коснулся горизонта, окрасив легкие облачка в нежный розовый цвет, а крыши дворцовых пристроек в красный. Чайки носились в голубой выси, сверкая белоснежным опереньем; меж и под ними кругами летали черные тушки ворон, коих в последнее время развелось в Аграпуре великое множество; ниже порхали прочие птицы — голуби, воробьи, стрижи — и все они оглашали воздух пронзительным сварливым карканьем, так что даже сами вороны, казалось, были весьма удивлены.
Такое разноцветье Кумбар Простак наблюдал из своего окна каждый день, по-стариковски умиляясь буйному течению общей жизни. Наблюдал и теперь, но — выцветшие редкие брови его, вопреки обыкновению, сурово топорщились, а маленькие черные глазки излучали неизбывную грусть. Прихлебывая из золотого кубка чудесное белое вино, привезенное лично для него из самого Аргоса, он часто и глубоко вздыхал, как бы весь охваченный ужасным страданием, которое навсегда лишило его всякого покоя.
Покосившись на свое отображение в оконном стекле, Кумбар сморщился: высокие чувства никоим образом не подходили к его красной свинячьей физиономии с коротким пятачком вместо носа и вислыми жирными щеками. Недаром придворная мелочь издевательски хрюкала за его спиной, скоро забыв и грозный взор, и тяжелый кулак старого солдата. Увы — власть, капризная, как девица, и столь же непостоянная, ныне принадлежала уж не ему. Цирюльник Гухул, давно пустивший корни у самого императорского трона, владел ею теперь: именно его тощей полосатой рукою третью луну подряд подписывались все «иконы и указы; именно его синюшными, как у покойника, губами говорил с подданными великий Илдиз Туранский. Его же бывшие фавориты повелителя вылетели из дворца за пару дней, и только Кумбар еще остался — видно, в память о прежних его заслугах.
Сам он, правда, предпочел бы вернуться в войско, где некогда служил в небольшом чине сайгада, но — снова увы: бледная поганка Гухул в ответ на нижайшую просьбу старого солдата фыркнул и заявил, что в казарме мест нет, чему свидетелем является не кто иной, как Эрлик. Почему-то более его отказа Кумбара возмутило то обстоятельство, что коварный цирюльник приплел к своим гнусностям Эрлика, у коего и без того хватало дел, хотя сказать об этом не посмел, а ограничился робким плевком на серебряную вязь двери приемного зала…
…Наконец, когда солнце уже наполовину осело за полосу горизонта, старый солдат очнулся, прогнал прочь невеселые воспоминания, потом задернул тяжелую темно-красную занавесь, отчего роскошные покои его погрузились в сплошной полумрак, и всем массивным телом своим развернулся к собеседнику.
— Вот так и вышло, Конан, что я… Хей, парень, никак ты спишь?
Он действительно спал, разметав по вытертому бархату кресла длинные волосы цвета воронова крыла, вытянув ножищи в добротных армейских сапогах и свесив до пола тяжелые мускулистые руки, загорелые до черноты под палящим солнцем Пунта. За восемь лет киммериец мало изменился — та же уверенность в движениях и жестах, та же суровость рубленых черт лица — разве что шрамов поприбавилось, да в густой синеве глаз сквозило странное нечто, доселе Кумбару незнакомое. Впрочем, судя по дворцовой швали, в глазах коей вообще не наблюдалось никаких чувств, кроме чувства голода, то было присущее всем странникам живое знание («… если ты не уверен, что это белое — обложи его черным…» — так говорилось в «Бламантине»). Но в чем заключалось сие знание, старый солдат еще не выяснил, ибо с самого момента нынешней встречи и до сих пор болтал без умолку, описывая свои несчастья, а гость его лишь слушал и пил вино, мешая белое аргосское с красным туранским…
В досаде Кумбар хватил себя кулаком в грудь, да так сильно, что чуть было не вывалился в окно. Дурень! Истинно выживший из ума дурень! За добрую половину дня не удосужился спросить друга, где и как прошли для него эти восемь лет!
Красная физиономия его налилась кровью до цвета розы с любимого куста императора, а крошечные тусклые глазки гневно блеснули. «Дурень! — шепотом повторил он, опять ударяя себя в грудь, но на сей раз осторожнее. — Истинно дурень!» Горестно нахмурившись, он вновь обратил взор на улицу, на птиц, что порхали в потемневших небесах, на грязно-желтый диск луны, сиротливо повисший между серых облаков, и тут вдруг вспомнил, что в запасе у него осталась по крайней мере дюжина бутылей аргосского и пара туранского, а вспомнив — развеселился, как ребенок.
Да, к счастью, нервы старого солдата, закаленного в боях и интригах, были крепки — мгновением позже приступ раскаяния прошел без следа. Живо подскочив к потайному шкафчику, вделанному в стену за тахтой, Кумбар отворил дверцу и выудил из черного пыльного чрева пузатую бутыль матового стекла. С искренней любовью всмотрелся он в ярко-красную муть, в коей плавали блики того жалкого лунного луча, что попадал в окно: вот где правда жизни и смысл ее! Надо только вытащить пробку, чтобы познать высокое назначение сущего в мире сем! Черные глазки Кумбара наполнились слезами восторга; он нежно прижал к своей могучей, поросшей слоями жира груди прохладный сосуд, погладил его по крутому боку, поцеловал узкое горлышко.
— Конан, проснись! — воззвал он, готовый поделиться радостью с другом. — Выпей еще туранского!
Огромная фигура, замершая в кресле, пошевелилась.
— Чего ж только туранского? — пробормотал гость низким, хриплым со сна голосом. — Можно и аргосского тоже…
Он поднял голову, отчего на лицо его сразу упало желтое лунное пятно, с усмешкой поглядел на темную в полумраке обширную тушу царедворца.
— А ты все такой же, сайгад. Разве жирнее стал, рыхлее… — С бульканьем винные остатки из кубка низверглись в бездонную глотку. — Клянусь Кромом, дикари в Зембабве за тебя лодку доверху самоцветами бы набили — такое мясо у них ценится.
— Где рыхлее? — обиделся Кумбар, ощупывая свои мягкие жиры. — Это все мышцы, Конан, ты в темноте не разобрал. Сейчас, погоди, я запалю жаровню…
Но, когда спустя несколько мгновений в треноге заплясало яркое пламя, старый солдат неожиданно смутился и не пожелал более возвращаться к обсуждению особенностей своей фигуры. Вместо этого он предложил другу иную тему, а именно:
— Гухул, собака!
— Нет, — решительно отказался киммериец. — Это дерьмо я уже слышал.
— Ты слышал о том, как он выкинул меня из Собрания Советников, — терпеливо пояснил сайгад, разливая вино из новой бутыли по кубкам. — И еще о том, как он обрюхатил четвертую супругу Великого и Несравненного. А также о том, как он объявил себя пророком Эрлика — наравне с Таримом, и о том…
— Проклятие! — Конан в раздражении сплюнул на дорогой ковер Кумбара. — Нергал меня дернул уйти из «Маленькой плутовки»…
— О, варвар! Неужто в кабаке тебе веселее, чем со старым другом? Ну, погоди чуть — в своем повествовании я спешу к сути, как мать спешит к оставленному дома дитя, как…
— Еще слово — и ты будешь спешить к сути в одиночестве, — мрачно предрек киммериец.
Кумбар сердито засопел, но смолк. В полной тишине он употребил еще два кубка красного туранского, растравляя свою обиду и наслаждаясь ею, отчего маленькие глазки его снова наполнились слезами — пьяными и сладкими, затем принялся за белое аргосское. Уже почти опустошив бутыль, он пришел к выводу, что гость его все же был прав, и надо срочно переходить к сути дела, потому как времени оставалось совсем немного и тратить сию драгоценность зря он не мог. Сейчас в нем проснулся тот самый старый солдат, который некогда славился в Аграпуре твердым, даже жестким нравом, удачно прикрытым маскою добродушия и беспечности. Всяк, кому пришлось испытать на себе вспышку его гнева или — еще того хуже — обыкновенную неприязнь, избавиться от коей вообще не представлялось возможным ни Кумбару, ни его жертве, потом проклинал и судьбу свою, и всех богов, начиная с Эрлика и кончая самим Нергалом.
Но — так бывало прежде. Ныне сайгад не находил в себе сил справиться не то что с сильным врагом вроде Гухула, но и с мелочью вроде повара, виночерпия и подметальщика дорожек в императорском саду… При мысли о наглом цирюльнике старому солдату снова стало дурно и гадостно на душе. Он резко повернулся к киммерийцу — при этом жирные обвисшие щеки его всколыхнулись — и, для пущей убедительности прижав к грудям толстые руки, сказал:
— Гухул, собака!
Конан пожал могучими плечами, встал и направился к двери.
— Погоди! — выкрикнул Кумбар в отчаянье. — Я же и говорю суть! Гухул, собака, замышляет ужасное преступление!
Конан остановился.
— Выпей еще туранского, варвар, — пролепетал облегченно сайгад, видя, что он таки возбудил интерес в этом суровом муже. — Выпей и послушай одну историю.
Вернувшись на свое место, киммериец вновь обратился к кубку с вином и приготовился внимать, ибо точно знал: теперь старый солдат выложит именно то, что надо. До полусмерти напуганный чем-то, а сейчас еще и перспективой остаться с этим самым чем-то наедине, он жаждал тайну свою разделить с другом и — подозревал Конан — в конечном итоге намеревался переложить ответственность на него же.
— Ты должен мне помочь, — немедленно подтвердил Кумбар подозрения сии. — Без тебя и я пропаду и… владыка Илдиз, и весь Туран, наверное…
— А Замора и Шем?
— Что Замора и Шем? — не понял сайгад.
— Они не пропадут без меня?
— О, нет, нет, — заверил друга старый солдат, не приметив иронии в хриплом голосе его. — О них не беспокойся, варвар. Не стоят они твоего многоценного внимания, — льстиво добавил он по гнусной дворцовой привычке сластить любую просьбу. — Но — тороплюсь начать мою печальную повесть, поскольку не люблю терять время зря — уж ты-то об этом знаешь!
Кумбар напыжился и мгновение молчал, то ли ожидая признания заслуги этой, то ли сам осмысливая возможность ее наличия в своем характере. Не придя к какому-либо определенному выводу, он вздохнул, потом отпил славного аргосского и приступил к рассказу.
— Дошли до меня сведения, о варвар, что обозначенный мною собакой Гухул замыслил черное дело… Прости меня, но с этого момента я буду говорить очень тихо, ибо стены тут не то что имеют уши, а и вовсе из них сделаны. Для достижения этой цели я придвинусь к тебе поближе и горячо надеюсь, что ты не воспримешь сие как посягательство на честь твою (варвар одарил собеседника злобным взором, с трудом заставив себя смолчать). Вот так… Ну, слушай.
Дружок мой поваренок, мальчишка пятнадцати лет, однажды умудрился из кореньев горькой травы каиссы сварить чудеснейший напиток, по вкусу весьма похожий на пиво, но не пиво. Горячит кровь он не хуже самого крепкого вендийского вина, голову не просто дурманит, а навевает в нее приятные мысли, ну и… Как бы выразиться… В общем, немощного старца делает снова мужчиной — правда, только на время. Ну, скажем, на вечер.
Гухул же с этим делом давно имеет большие проблемы — об этом я узнал уже из другого источника… Ах, ладно, не стану лукавить с тобой. То четвертая супруга венценосного Илдиза поведала мне: дитя было зачато ею от Гухула, но перед тем он совершил по крайней мере десяток неудачных попыток с нею и со служанкой ее… Ты понимаешь, о чем я…
— Так вот, поваренок… Признаюсь честно, он — мой единственный здесь друг. Как-то я защитил его от страстной любви начальника здешней охраны, и теперь мальчик предан мне как родному отцу… Хм-м… Вот сказал — и сомневаюсь. Тьфу! Проклятая жизнь!
Кумбар понурился. Только в последние годы он начал понимать, как был глуп и самонадеян, меняя службу в армии на служение императору. В казарме отношения были суровы и незатейливы и никак не предполагали ни подлости, ни сплетен, ни чего-либо в том же роде. А во дворце все вышеперечисленные радости присутствовали в полной мере, и даже с лихвой — сайгад неоднократно ловил себя на малоприятной мысли о том, что каждый его шаг моментально становится известен всей придворной шушере, которая не чает отправить его в подвал к палачу или, на худой конец, просто изгнать из дворца.
Он мешал тут многим — начиная от ублюдочного Гухула и кончая садовником, как-то раз в бессильной злобе нагадившим под его любимое кресло, уютно расположенное в тени развесистой яблони. Но ни один из них прежде не решался играть против него в открытую, зная о той благосклонности, что питал к старому солдату повелитель. Да и сам Кумбар тогда был в силе и уме. Увы — теперь Великий и Несравненный поверял нехитрые думы свои об устроении государства мерзкому цирюльнишке, отродью Нергала, бычьему хвосту, а сайгад потерял не только силу, но и ум. Нет, конечно, кое-что еще осталось и от того и от другого, но мало… Так мало!
— Ну? — Интонация Конана была верна и сразу привела к нужному результату: Кумбар очнулся и поторопился продолжить.
— Поваренок Мишлик… Его дар изготовлять всевозможные напитки давно привлек внимание недоноска Гухула, а когда он на себе испробовал поистине волшебные свойства того пива… О-о-о! Этот подлец ни за что не упустит своего! Он тут же положил мальчику небольшое жалованье (а ты знаешь, варвар, что низшая прислуга во дворце вовсе ничего не получает, кроме жратвы да побоев); он назначил его помощником самого главного повара; он повелел ему прислуживать за его личным столом! Последнее весьма порадовало меня тогда, ибо ублюдок не знал о моей дружбе с поваренком, а сие значило, что теперь у меня будут сведения обо всех его кознях — или почти обо всех.
Так и вышло. Мишлик докладывал мне в подробностях то, что слышал во время трапезы нергальей отрыжки Гухула. Поначалу я не очень-то был доволен: тупица цирюльник не умел сказать чего-либо умного или важного — все нес сплошную дребедень. Но потом… Потом…
В волнении Кумбар схватил бутыль и в несколько глотков ополовинил ее. Решив быть с Конаном откровенным и уже не раз за день воздав хвалу Эрлику за то, что варвар появился вдруг в Аграпуре, сайгад все же почувствовал странную слабость в членах, лишь только подойдя к тому моменту, когда надо было уже выкладывать суть. Но иного выхода он вообще себе не представлял. Он ничуть не лукавил, когда утверждал, что один киммериец сможет спасти и его и весь Туран. Так это было или нет — пока не определялось, но сам Кумбар считал именно так.
— Тьфу, хвост вонючей ящерицы… Представь, Конан, совсем я стал стар. Прежде не наблюдал в себе такого страха… Ну вот… Поваренок пришел ко мне как-то печальный и странно молчаливый. «Что с тобой нынче, мальчик?» — спросил я его ласково. «Знаешь, господин, — ответствовал он в задумчивости, — я никак не могу понять…» Тут он замолчал, замер, глядя в одну точку… Вот в эту! — Сайгад вскочил и показал варвару на дыру в занавеси.
— Ну?
— И я его спросил так же: «Ну?» Тогда он посмотрел на меня и сказал: «Кажется, Гухул хочет отравить нашего повелителя…» Вот и я поднял брови, как ты сейчас. Конечно, злобная собака сия способна на многие пакости, я всегда это знал. Но убить Илдиза… «С чего ты взял, мой юный дружок? — сурово осведомился я. — Неужто проклятый червь так откровенничает в твоем присутствии?» Мишлик виновато улыбнулся: «Что ты, господин! Дело проще: он пьян, как последний бродяга!»
До меня и прежде доходили слухи о том, что мерзкая тварь обожает нажраться до полусмерти лучшим туранским вином (именно туранским — таким образом он доказывает свой патриотизм), а потом валяться вонючей тряпкой на роскошном ложе, покрытом лучшими туранскими коврами. Теперь же я убедился в этом окончательно. «Он и раньше пил?» — спросил я у Мишлика. «Только тогда, когда Светлейший проводил утро у луноликих супруг своих, — засмеялся мальчик. — Потому что тогда у него было время напудриться…»
Тут и я расхохотался, представив покрытую слоем розовой пудры рожу старого гнусного недоноска. Вот почему я встречал его то румяным, то бледным — в первом случае он был с похмелья, а во втором бодр и трезв. Но суть моего рассказа, ясно, не в слабости собаки Гухула, а в его страшном замысле. Из его пьяного бормотания Мишлик разобрал лишь то, что подлец намерен подсыпать яд в кушанье владыки не позднее четвертой луны от первого весеннего дня. Поваренок, пока не успевший вникнуть во все тонкости дворцовой жизни, понятия не имел, почему — а я имел не только понятие, но и убежденность в своей правоте. Дело в том, Конан, что в эту самую луну император переписывает наследную грамоту, в коей содержится имя того, кто заменит его на престоле в случае безвременной смерти. Теперь ты понимаешь замысел дерзкого цирюльнишки?
— Вздор! — недоверчиво покачал головой варвар. — Есть прямые наследники или хотя бы кровные. С чего вдруг императорский трон займет безродный?
— Ну что ты! Конечно же не займет! Назначенный повелителем наследник лишь временный — он будет править в течение всего половины луны, то есть до тех пор, пока настоящий правитель (этот самый кровный родственничек императора) не разберется в делах государства. Таков закон… Хотя, конечно, не слишком-то сие умно… Пусть за ним и присматривает дюжина наблюдателей, но все-таки даже за короткий срок правления временщик может натворить столько худых и жутких дел!.. Например, отправить на Серые Равнины истинного наследника… Кажется, недоносок так и собирается сделать…
Конан помолчал. Все, поведанное сейчас Кумбаром, представлялось ему чём-то вроде бреда. Цирюльник, вздумавший отравить императора и занять престол Турана? Это настолько невероятно, что попросту не может быть осуществлено. А впрочем — он неожиданно понял для себя — вся эта история его вовсе не волнует. Ему наплевать и на собаку Гухула, и на Илдиза Туранского, и даже на Кумбара Простака. Его жизнь иная и в ином; путь его нигде не пересекается с их путем, а идет точно параллельно — так что пусть они сами варят свою кашу… Таковое соображение киммериец немедленно высказал сайгаду.
— Так тебе безразлична и моя участь? — вопросил Кумбар с печалью в голосе. — Прости… Я не знал…
Высокая трагедия, заявленная его тоном и видом, раздражила варвара безмерно. Он отлично помнил, как впервые имел счастье узреть сайгада в таверне «Слезы бедняжки Манхи» восемь лет назад. Тогда тот тоже плакал и жаловался, не умея выбрать из двенадцати прекрасных дев шестерых наипрекраснейших, предназначенных в супруги самому императору. Каждая казалась ему верхом совершенства, а потому необходимость выбора пугала царедворца чрезвычайно. Он потерял не только расположение повелителя, не только сон и покой, но и всякое желание видеть женщин, говорить с ними, иметь их. Прежде никогда не испытывал он подобного кошмара…
По Аграпуру уже поползли гадкие слухи о том, что Кумбар Простак был соблазнен однажды красивым мальчиком из свиты Илдиза, так что теперь не переносит другого пола совершенно (в самом деле, не мог же нормальный мужчина громко рыгать от ужаса и отвращения при виде местных пышнотелых красоток), но, конечно, истины в сем не было и на мелкую медную монету. Просто в один момент наступило вдруг пресыщение — так обжора устраивает себе разгрузочный день, потому что накануне объелся…
Благодарение Эрлику, в самый пик отчаяния Кумбар встретил в таверне «Слезы бедняжки Манхи» Конана, который тогда служил в туранской армии, и поведал ему обо всем, что с ним произошло. Киммериец не проявил печали по поводу несчастного положения сайгада, зато дал совет — простой и мудрый: чем бесконечно всматриваться в равно прекрасные лица, выискивая в каждом нечто особенное, лучше взять да и отобрать необходимую шестерку для императора наобум. Кумбар так и сделал, и в результате довольны остались все, кроме отвергнутых красавиц. Правда, потом половину невест поубивали, но зато оставшиеся с удвоенной силой любили Светлейшего и спустя год-другой принесли ему хилое, но многочисленное потомство.
— О своей участи позаботься сам, — отрезал варвар, швыряя пустую бутыль в угол комнаты, — Клянусь бородой Крома, ты и пальцем не шевельнул для того, чтобы зарыть этот кусок дерьма поглубже в землю.
— Какой кусок дерьма? — снова проявил несообразительность сайгад.
— Гухула. — Киммериец, на которого долгие беседы навевали сон, широко зевнул. — Что он, бессмертный?
— Вроде нет… Почему ты так думаешь? — встревожился Кумбар.
— Прах и пепел! Я так не думаю! Но ты — ты думаешь именно так! Какого Нергала ты тут разнылся? Пойди да удави его, вот и все дела!
— Как я его удавлю? — Сайгад недоуменно поднял редкие брови.
— Руками!
Конан рывком поднялся, сделал круг по комнате. Он отлично понимал причину всех бед старого солдата, но оформить свои ясные мысли не умел. Он вспомнил вдруг, восемь лет назад обнаружил в маленьких глазках Кумбара Простака, коего он до тех пор считал нытиком и занудой, насмешливый холодный огонек, свойственный, по его мнению, лишь бывалому воину. Сайгад и был таков; только круто замешанная на подлости и коварстве дворцовая жизнь заставила его нацепить дурацкий шутовской колпак, дабы не прогневать высокомерных лизоблюдов Илдиза. А они — сие знал даже последний служка — имеет власть едва ли не большую, чем сам император, и при случае могли расправиться с любым неугодным. Конан-то относился к ним и прочим обитателям дворца с презрением, но он и не зависел от них. Золотая клетка вовсе не прельщала его — ни в молодости, ни теперь. А сайгад, по всей видимости, уже не мог от нее отказаться…
— Ты заменил простое сложным, приятель, — наконец сказал киммериец, останавливаясь перед Кумбаром. — Наплюй на интригу, скажи Илдизу прямо о том, что замыслил ублюдок. Я знаю точно — любой твари можно заткнуть пасть, вот ты и сделай это. Или ты не держал в руках меча? Ими ты не свернул шею ни одному врагу?
— Так было, Конан, — уныло согласился сайгад. — А ныне все стало иначе, поверь. Я и сам думал одно время, что стоит мне только захотеть, и Гухул вместе с остальной сволочью вылетит из дворца, как бродяга из дорогого кабака, но… Ах, как противно было осознать однажды тщету и иллюзию… Тем не менее я осознал, и вот — ты видишь перед собой не воина, а старца без ума и силы… Я смирился…
— Ну и болван, — спокойно заметил Конан, снова усаживаясь в удобное глубокое кресло. — Зато вино у тебя хорошее.
По последней реплике Кумбар понял, что друг его предлагает завершить эту тему и перейти к другой.
— О, варвар… — пробормотал он, снова впадая в полу-транс. — Ну, пойду я к Илдизу… А в общем, я уж год его не видел. Мне не дозволяется… Написать записку? Так первым всю почту читает этот гад… Знаешь, друг, что я скажу тебе? Нелегко мне признаться, но Гухул — лишь одно несчастье Турана. Дворец забит дерьмом по крышу. Никто не делает своего дела без взятки, а со взяткой делает, но плохо; честь не в чести, и ум в изгнании; суд вершится неправедный, жестокий… Я часто вспоминал тебя — ты заставил меня освободить невиновного, хотя он был всего лишь ничтожным грязным евнухом. Ты, привыкший рубить головы на поле брани, не захотел осквернить душу свою убийством… Да, именно убийством, потому что война — это все же что-то другое… Помоги мне, Конан, прошу тебя…
— Хм-м… Ну, что ты от меня хочешь? Чтобы я прирезал цирюльника?
— Нет… Этого мне будет мало…
— Прах и пепел! — почти весело воскликнул Конан. — Да аппетит у тебя растет с каждым вздохом! Ладно, скажи, кто еще на очереди? Может быть, сам Илдиз?
— Эрлик свидетель, вовсе нет. Я… — Кумбар замялся, выискивая нужные слова, но, так и не найдя их, обратился к единственно верному способу смягчить варвара, — Выпей еще вина. Вон у меня его сколько!
— Выпью, — одобрил предложение Конан, — а ты не рассусоливай. Говори, что тебе надо?
— Шлем Воина Белки!
Глава II
— Шлем Воина Белки! — выдохнул сайгад, сам испугался своей наглости и втянул голову в плечи. — Это еще что такое?
— Шлем.
— Я понял, что шлем, а не кувшин с ослиной мочой! — рявкнул варвар. — Какой шлем? Кто этот Белка? Говори все толком, а не то я уйду — только теперь ты уже не вернешь меня нытьем и слезами.
— Я скажу, скажу, конечно… История недолгая, ты успеешь выпить пару кубков — а я уже подойду к концу ее… Но с чего бы начать?
— С начала. — Киммериец взял в руку кубок и доверху наполнил его аргосским, как бы намереваясь проверить обещание Кумбара.
— Я лучше начну с середины. — Сайгад ухнул, передавая вздохом сим тяжелый труд рассказчика, но глазки его блеснули предовольно: варвар согласился выслушать его, а это значило, что половина дела завершена. — Итак — слышал ли ты об Ордене Бессмертных, иначе именуемом Орденом Воинов? Нет? Я так и думал. Он состоит всего-то из четырех человек, трое из которых — юные воины — меняются каждые двенадцать лет. Четвертый — старец Исидор, их наставник, не покидает пределы замка никогда. Правда ли, нет ли, но я слышал сам от известного тебе Мишрака, что достойный муж сей в далеком прошлом был знаменитым на весь мир бойцом-манниганом и…
— Постой, — Конан едва не поперхнулся аргосским, чем обидел бы хозяина смертельно. — Манниганы — это те самые парни, что владеют всеми боевыми искусствами? Это их еще кличут Бессмертными? Тогда ты врешь, приятель. Они жили в то время, когда и дед твой еще не родился. Бродили по свету, дрались, пили пиво, но на одном месте не задерживались, а потому и потомства но оставили… Так что этот Исидор никак не может быть манниганом.
— Да, все они давно на Серых Равнинах, — подтвердил Кумбар, нисколько не смутившись. — Боги никогда не были благосклонны к ним, ибо те слишком дерзки и горды… Ты знаешь, конечно, о колдунах Белой Руки, отвратительных тварях, которые проживают в Гиперборее? Вот — первейшие враги манниганов. Они уничтожали их последовательно и изощренно — пока не перебили всех. Война эта получила название Битвы Бессмертных…
В общем, старец Исидор — единственный оставшийся ныне манниган. Уж не знаю, каким образом, но он живет на земле едва не триста лет; он всегда печален, молчалив, даже скорбен, ибо… гм-м-м… легко ли нести на плечах своих, пусть и весьма еще крепких, силу всех тех воинов, чьи души бродят давно по Серым Равнинам… Конечно, он силу эту передает другим: раз в двенадцать лет берет мальчиков-пятилеток в свой замок Дамира-Ланга, который находится далеко за морем Запада, в маленькой и нищей стране Саул.
Он обучает их всему, что знает сам; их мощь, равная, наверное, только мощи вымуштрованной армии, растет вместе со стихией огня — сие есть символ и талисман Ордена Воинов; перед тем как Исидор отправляет их в мир, они берут этот огонь в свое сердце, и тогда-то становятся непобедимыми… Так должно быть. Но — это но так.
Ты помнишь, что злейшими врагами манниганов всегда были колдуны из шайки, именующей себя Белой Рукой? Поскольку ученики старца Исидора в какой-то степени и есть манниганы, они также погибают — никто, кроме их наставника да еще самих колдунов, не знает, как именно и где; ясно одно: ни разу причиной их смерти не был огонь. Но прочие стихии, по всей видимости, участвуют в их гибели в полной мере… Какой-то злой рок преследует несчастных…
Первая тройка воинов — Олень, Сова и Гепард — исчезли с лица земли на следующий же день после того, как покинули замок Исидора и пошли в мир с тем, чтобы вершить славные дела, помогая нуждающимся, защищая их… Вторая тройка — Рысь, Орел и Вепрь — продержались немногим больше и погибли — один спустя луну, второй через половину года после него, а третий через год после второго. К счастью, двое последних успели-таки истребить банду жутких разбойников — истинных монстров, что вырезали целые деревни вблизи иранистанского города Хамри, а еще кхитайского змея из озера Тай-Фо и зембабвейского шамана Бдхаамбайа, жестокосердого полусумасшедшего убийцу.
Третья тройка — Медведь, Лев и Белка — погибли всего год тому назад. Ладно, не стану утомлять тебя подробностями. Перейду к главному. Дело в том, что старец Исидор в первый же день знакомства с учениками даровал каждому какой-либо воинский атрибут. Например, Медведю достался меч, Льву — щит, а Белке — шлем. По мере того, как мальчики росли и мужали, их личная вещь наполнялась тем же духом огня и тою же силой и в конце концов становилась для них отличной защитой от любого посягательства на их жизнь. Увы, любого человеческого… На колдовство сие не распространялось…
Так вот что я поведаю тебе, Конан. Твари из Белой Руки жаждут присвоить себе сии талисманы. Думаю, что за меч Медведя они отдали бы несметные богатства… Но — с гибелью воина его атрибут мгновенно превращается в ничтожный и никому не нужный прах — это единственное, чем Исидор сумел защитить мир от страшного оружия в руках проклятых чудовищ. А оставить воина в живых колдуны тоже не могут — тогда он рано или поздно (а скорее всего именно рано) вырвется из плена и перебьет врагов своих. Так что члены Белой Руки жертвуют свое желание обладать талисманом за другое желание, видимо, более сильное — изничтожить Орден Воинов.
А сейчас я начну шептать. Напряги слух, не пропусти ни одного слова! Дело в том, что Воин Белка все-таки не погиб. Вот уже две луны он лежит, придавленный каменной плитой, в пятистах шагах от южного берега моря Вилайет. Там находятся Хальские пещеры — лабиринт глубоких нор, в которых можно заплутать даже в светлое время. К тому же они окружены зыбучими песками, вязкими и топкими, как болото. Никто не рискует гулять п этих местах. А ты — рискнешь!
— Еще чего! — Конан метко плюнул в пустую бутыль, стоящую возле стола.
— Дело стоит того! Я получу шлем, ты — золото. Я отдам тебе все, что у меня есть. Вижу, в Пунте ты порядком поизносился, так что пара кошелей, набитых монетами, тебе не помешает.
— Не помешает, — задумчиво согласился киммериец. — А зачем тебе шлем?
— О-о-о… Шлем Воина Белки — очень полезная штука. Коротко: он возвращает силу молодости, то есть именно то, чего мне сейчас не хватает. Я не стану, конечно, юным и красивым, как много лет назад, но энергия, воля, живость ума — все ко мне вернется. Румянец стыда вот-вот окрасит мои щеки, но я признаюсь тебе… Я ничего не хочу больше — только изгнать собаку Гухула из дворца, а заодно и вычистить отсюда всю дрянь… Знал бы ты… Да тут во всех углах одни подонки! Тьфу!
— А что будет с Белкой?
— Ничего. — Царедворец проникновенно посмотрел в синие, неподвижные сейчас глаза варвара. — Пусть остается под плитой. Он должен быть живой, чтобы его шлем мог действовать, но и выпускать парня оттуда не в наших интересах.
— Не в твоих, — уточнил Конан. — А по мне так лучше помочь воину, чем толстому, старому и подлому верблюду.
— Это ты про меня? Это я верблюд? — опешил сайгад, бледнея.
— Толстый, старый и подлый, — напомнил киммериец. — Цель твоя ясна. Ты возмечтал снова занять свое теплое место возле императорских коленей, вот и все. Не думал я, что ты, приятель, за восемь лет всего из человека превратишься в…
— Нет! — старый солдат протестующе поднял обе — Нет, Конан! Эрликом клянусь, пророком Таримом клянусь — нет! Хочешь, я вовсе уйду из дворца? Позволь только сначала выкинуть цирюльнишку и его прихлебатели, и я сам вернусь к Белке, освобожу его и отдам ему шлем!
— Вздор. За всю твою байку я не дам и глотка кислого пива — один только вздор поведал ты мне, сайгад. И если б я не знал тебя прежде, то не медлил бы и вздоха: снес бы твою дурную башку с плеч долой…
Киммериец говорил медленно, словно лениво, но за этим спокойным тоном его Кумбар чувствовал раздражение и злость. Пожалуй, Конан и впрямь готов был отправить старого приятеля на Серые Равнины; синие глаза его потемнели и тускло мерцали в свете пламени фиолетовым и красным; взгляд их вовсе не перемещался в течение последнего времени, а был уставлен в одну только точку на стене над головой сайгада — так, будто малейшее движение зрачков могло выпустить на волю яростную волну первобытных дремучих чувств, способную затопить всю комнату и старого солдата тоже. Кумбар поежился. Он и раньше, восемь лет назад, имея всю возможную в Аграпуре власть, опасался разозлить этого парня — тогда простого наемника; теперь же и вовсе не знал, чего от него ожидать. То ли он по прошествии времени научился обуздывать свой горячий нрав, то ли наоборот, разогревал его до предела… Сайгад откашлялся и попробовал все же объясниться.
— Конан… Долго был я скорбен телесно…
— Что? — Взгляд варвара наконец сдвинулся с той мертвой точки и обнаружил Кумбара.
— Болел я долго, — пояснил сайгад. — Головою и душой одновременно. И за срок сей понял твердо: Туран — моя родина. Я хочу, чтоб здесь мог дышать и нобиль и простолюдин. А Гухул, собака…
— Не продолжай, — махнул рукой киммериец. — Я согласен пойти за этим шлемом. Но… Но!
Кумбар мелко закивал, в восторге от благополучного исхода столь тяжелой беседы.
— Но с одним условием.
— Опять условие?
Старый солдат сразу сник, припомнив, что и в первый раз, восемь лет назад, варвар также помог ему с условием Слава Эрлику, тогда ему пришлось всего лишь ублажить грудастую красотку Кику, а что Конан потребует на раз…
— На сей раз все будет еще проще. — Киммериец словно прочел в глазах Кумбара его мысли. — Ты отправишься со мной. И там — там я посмотрю, как ты возьмешь шлем и оставишь парня подыхать, как пса…
— О, варвар… — простонал сайгад, ужасаясь условию. Для него не могло быть испытания страшнее. Он-то рассчитывал, что возьмет шлем и оставит Белку под плитой как раз таки Конан, но хитроумный киммериец и тут угадал его тайные мысли. — Я не смогу» право, я не смогу…
Он жалобно уставился в холодные синие глаза старо приятеля, но — напрасно. Ухмыляясь, тот попивал остатки аргосского, вполне, кажется, удовлетворенный собственно справедливостью. Тогда Кумбар вздохнул тяжело, преисполненный печали и страха, и обреченно кивнул. Будь что будет. Он пойдет с Конаном.
— Будь что будет… — пискнул он, отводя взгляд от Конановых глаз, — Я пойду с тобой, Конан…
* * *
— А мои кошели с золотыми? — сурово вопросил варвар, оглядывая все снаряжение сайгада. — Или забыл, свинская рожа?
— О-о-о-о… Как можно… Вот они! — Кумбар поднял над головой два туго набитых кошеля. — Договор наш остается в силе. Найдем Белку — они твои.
— И не найдем — тоже мои. — Конан запихал в дорожный мешок большой кувшин с пивом, — Ты платишь мил Белку, а за совместный путь. Клянусь Кромом, и целого мешка золота мало за такой труд.
— Я буду тих и печален, — поспешил успокоить приятеля сайгад. — Ты и слова лишнего от меня не услышишь.
Конан хмыкнул, но ничего не ответил. Близился рассвет — самое прекрасное время в жарком Туране, когда розовело черное небо, свежий воздух паром поднимался от остывшей за ночь земли, а ночная угрюмая тишина становилась нежной и внимательной к любому, едва рожденному звуку.
Птицы чирикнули несколько раз и затихли, словно проверяли голос перед утренним пением; Кумбар мечтательно посмотрел в окно, в ту даль, что вскоре станет его дорогой; там пока было темно, хотя уже взрастал общий для всей земли свет — тот самый розовый, воспетый неоднократно и поэтом и просто романтиком. Старый солдат, конечно, не был ни тем ни другим, но его душа, в последнее время ослабшая, ежемоментно готовая к слезам и участию во всем происходящем, сразу откликнулась. Забыв о суровом варваре, Кумбар прислонился лбом к стеклу и тихонько запел, соединяясь сейчас с природой в одно целое. Тонкий и довольно противный голос его постепенно набирал силу и вот-вот зазвенел бы на весь дворец, если б разъяренный киммериец не хватил приятеля огромным кулаком по толстой мягкой спине. Сайгад вякнул и заткнулся.
— Прах и пепел! Что ты воешь, как голодная собака!
— Пора в путь? — деловито осведомился Кумбар, оправляясь от только что пережитого шока так же легко, как ящерица переживает потерю хвоста.
— Давно пора!
Конан сердито отвернулся от сайгада, проклиная свою уступчивость. Он ни за что не согласился бы участвовать в этом странном походе, если б не одно обстоятельство: его приятель, иранистанец Гассан, будучи в Пунте проводником варвара, умудрился крепко повздорить с деревенским шаманом, так что теперь ему приходилось спасаться бегством от преследований его посланников, вызванных магией из царства мрака. То же и Конан: приняв участие в первой длительной схватке, он невольно взял на себя добрую половину новых врагов Гассана, кои оказались не столько агрессивны» сколько назойливыми упрямы. И днем и ночью они с тоскливыми вздохами толклись где-нибудь поблизости, выжидая удобного момента, дабы впиться в полные сил и крови тела и переправить их туда, откуда явились сами.
Немногие в Пунте, да и в Кешане, и в Зембабве, умели использовать в качестве собственного войска мертвецов. Шаман обладал натуральными колдовскими способностями и порою достигал настоящего мастерства. Так, в соседнем племени он истребил весь скот (причем не из мести или по заказу, а просто из вредности), не видя в глаза ни единой овцы. На расстоянии же уничтожил он и вождя со всем его семейством, а также постепенно все мужское население, словно в насмешку оставив в живых только древнего старика да безногого юношу, на коего сейчас же свалились обязанности общего мужа, отчего он в скором времени благополучно скончался.
Издалека наблюдая за такими безобразиями, Гассан решил поправить положение несчастных дикарей, что не жалели для него и его приятеля, синеглазого киммерийца, фигурок из слоновой кости и золотых слитков. Держа в одной руке иранистанскую саблю» а в другой веревку, он пришел к хижине шамана, выудил оттуда хозяина, связал ему ноги, и, закрепив клинок прямо у шеи его, удалился. Теперь, стоило несчастному дернуться или даже открыть рот, чтобы позвать на помощь, и сабля тотчас рассекла бы его артерию. А поскольку колдуна знала и безумно боялась вся округа, то почти луну никто не посещал его — он так бы и отошел в мир иной, если б не случайность: заболел единственный сын вождя его племени, и тот срочно послал за шаманом.
Тогда-то киммерийцу и Гассану и пришлось испытать на себе гнев чернокожего колдуна. Два дня и две ночи они отбивались от зомби, что восстали из земли с одной только целью: отправить на Серые Равнины чужестранцев; затем, когда силы уже были на исходе, они предпочли скрыться из Пунта вообще, зная, что на чужой территории эти бездушные и безмозглые твари ориентируются много хуже, чем на родине предков.
Так пришел Конан в Туран, по дороге растеряв все, что ушел взять у щедрых дикарей. Один мешок со слоновой костью у него похитила дева из кабака на окраине Кутхемеса, другой — с золотом — он отдал сам: давняя его подруга из Самарры по злой воле местного нобиля безвинно попала в темницу, и, не имея времени заняться ее освобождением, Конан просто заплатил за нее всю сумму тюремщикам, и те выпустили бедную женщину на волю тайно, ночью. Сам же варвар снова двинулся в путь, освобожденный от богатства, но отягощенный заботой, ибо зомби и вне Пунта, хотя и не так активно, продолжали его преследовать.
Он чувствовал их присутствие даже сейчас, несмотря на то, что только накануне прибыл в Аграпур. Отличить оживленного колдуном мертвеца от обычного человека было непросто, особенно в темноте; меч и всякое другое оружие для них опасности не представляли; двигались они бесшумно и быстро — все эти обстоятельства делали почти невозможным избавление от преследования зомби, так что Конан ощущал не то что постоянную уже усталость, но и нечто похожее на обреченность. Правда, последнее чувство посещало его все больше в ночное время — во сне и перед ним. Взбешенный, варвар просыпался, клял всех богов, начиная всегда со своего Крома, а заканчивая мелочью вроде Бела и Золотого Павлина Саббатеи, проверял наличие и неразрывность черного круга из просмоленной веревки (только это средство могло остановить зомби), в коем теперь всегда спал, и вновь погружался в тяжелый, полуобморочный бредовый сон.
Кумбару знать о том было вовсе не обязательно, тем более что мертвецы двигались целенаправленно — за одним Конаном (а вторая их часть за одним Гассаном, который шел в Вендию), не трогая по пути никого. Пока киммериец, раздраженный более нелепостью этой погони, чем действительной опасностью, не представлял себе, каким образом можно избавиться от посланцев тьмы; с другой стороны, особенно они его не беспокоили — агрессивность их возрастала только тогда, когда Конан оставался один, а в остальное время они только крутились поблизости да тяжко вздыхали — вот как Кумбар сейчас.
— Сколько лет не оставлял я скромной обители своей! — навздыхавшись, воскликнул он, рукою обводя роскошные хоромы, заваленные дорогими коврами, изящными вазами кхитайского тонкого стекла, золотыми и серебряными кубками, изукрашенными самоцветами, горами богатого платья, — О, как привык я горевать в этих стенах в полном одиночестве, брошенный и друзьями и неверными девицами, что клялись в любви, но…
— Не скули! — грубо оборвал его варвар, вскидывая мешок на спину.
— Не буду, — тотчас согласился Кумбар. И он поднял мешок, бывший чуть ли не вдвое тяжелее Конанова, взвалил его на плечи, потом лишь прицепил к поясу меч и кинжал, кои взял в руки впервые лет за пять.
Устав страдать, сайгад подмигнул киммерийцу, сумрачно глядевшему на него, и ударом ноги распахнул дверь. Обленившаяся душа его наконец воспряла и приготовилась к дальней дороге; дрожь, охватившая сейчас тучное тело, была непонятного свойства: то ли старый солдат слишком оброс жирами и теперь они тряслись при энергичных движениях, то ли и в самом деле сердце, принимая токи пробудившейся души, сообщало волнение всем членам царедворца.
— В путь! — громко и визгливо сказал он, уже шагая по длинному коридору дворца. — В путь, мой верный друг!
Конан сплюнул. Кажется, в их походе сайгад собрался руководить… Что ж, посмотрим… Варвар еще раз сплюнул и не спеша, большими шагами, двинулся следом за Кумбаром.
* * *
Белка застонал и попробовал повернуться набок. Благодарение Митре, великому светлому богу, что в голове у воина до сих пор было пусто и темно, иначе ужас непременно сковал бы его сердце, обратил в камень, источил душу… Воз еды и воды он мог продержаться очень долго: шлем ого был с ним, и за это тоже следовало бы благодарить благого Митру — следовало бы, если б Белка понимал, что происходит. Словно окутанный туманом, мозг его улавливал самую малость в нынешней жизни: боль — тупую, ноющую, а с ней странные воспоминания, больше похожие на сон или бред.
Тонкое лицо, иссеченное морщинами, твердый пристальный взгляд, крепкие, хотя и худые руки — наставник… Затем огромный рыжий парень — брат или друг — и второй, русоволосый, мускулистый, стройный — тоже брат. Или друг… Вот негасимый огонь в треноге, что стоит посредине его комнаты. Наставник зажег его в тот день, когда Белка, тогда еще пятилетний мальчик по имени Гинфано, пришел о замок. Потом, двенадцать лет спустя, он соединил его огонь с огнем Медведя и огнем Льва, потом… Что было потом, он помнил плохо…
Виски Белки снова сдавила боль. Так бывало всегда, когда в голове начинало появляться что-то кроме привычной уже пустоты… Он вздохнул глубоко, медленно, стараясь распределить поступление воздуха в легкие таким образом, чтобы не резало грудь, и снова попытался повернуться набок.
Как будто тысячи крошечных игл вонзились во все его тело, затекшее за то время, что он лежал здесь. Каменная плита, рухнувшая на него две луны назад, не сдвинулась и на волос. Проклятие колдунов… Отчего вышло так, что он остался жив?.. Не память, но тело его помнило еще, как трещали кости и рвалась плоть под страшной тяжестью камня, а мозг дышал — дышал и жил, пусть вяло и почти бессмысленно, но жил… Белка открыл рот, выдыхая нечто темное, чужое, поглотившее половину его существа, всхлипнул… Отчего вышло так, что он остался жив?..
Только мелькнув, эта мысль сразу растворилась в теплой волне забвения; черты знакомых лиц расплылись и стерлись, прекрасная пустота заполнила пространство, предназначенное Создателем для накопления знаний и образов; Белка скривил в улыбке тонкие губы и провалился в спасительный сон… Проклятие колдунов? Что это?
* * *
Половина солнца, ослепительно яркого, желтого, еще совсем не горячего, показалась из-за горизонта, одним только светом согревая землю. Легкий теплый ветерок носился где-то меж верхушек деревьев, играя с листьями, время от времени падал вниз и снова взмывал в голубую высь, к равнодушно „скользящим по небу облачкам, пухлым и белым, словно раскормленные северянки.
Кумбар ликовал. Первый раз за много лет выехал он за пределы Аграпура и теперь вовсю наслаждался буйной природой родной страны, удивляясь ей неустанно, восхищаясь и гордясь. Конечно, в Киммерии не было, да и не могло быть, так зелено и пышно, но Конану его горы, сопки, болота и серое влажное небо нравились ничуть не меньше, чем сайгаду его отечество-сад. Поначалу, когда царедворец в экстазе попытался привлечь и его к любованию красотой природы, он огрызнулся, но затем отвлекся своими мыслями и более уже приятеля не слушал. Иногда, правда, восторженные вопли, издаваемые сайгадом, сбивали его с толку, но браниться со старым, выжившим из ума солдатом по этому поводу он не желал — бесполезно. Если бы тот мог замолчать, то давно бы уже замолчал…
«Хо! Ха! Ого-го! У-y-y-y!.» Бурные чувства Кумбара так и рвались на волю. Оглядываясь на варвара, что, угрюмо хмурясь, ехал на полшага позади, он искренне жалел его, чья родина знала лишь дожди да туман, полагая, что только из упрямства Конан не желает признать великолепие Турана. «Хо-хо-хо! P-p-pa! Ух!..» Сайгад вертелся на своей буланой крепкой кобылке так активно, словно его поджаривали снизу. И то сказать, он впервые увидел родные края, а сие всегда приятно…
— Посмотри, о варвар, впереди горы Ильбарс — олицетворение могущества моей державы! — выспренно заявил царедворец, махая пухлой дланью перед лицом Конана, который любые горы — и Ильбарс в том числе — считал всего лишь досадной ошибкой богов, что при сотворении мира забыли разровнять некоторые земляные насыпи. — Перед ними стройные ряды дерев, словно суровые стражи выстроились в караул! А еще раньше… О, какая прелесть, ты посмотри, — Кумбар вытер слезу умиления, — кучка добрых землепашцев! Они бороздят чернозем своей родины для того, чтоб я и другие могли есть хлеб и рис и…
— Это не землепашцы, — пробурчал Конан, вытягивая и а ножен меч и критически осматривая два дня нечищеный клинок. — Это разбойники.
— Нет, не разбойники, — сварливо ответил сайгад. — Видишь, в их натруженных руках блестят мотыги…
— Мотыги не блестят. — Киммериец раздраженно сплюнул на воспетый Кумбаром чернозем. — А это — мечи или сабли, я отсюда не могу разглядеть. Клянусь бородой Кроме, старый ты дурень, они заметили нас прежде, чем ты их, и сейчас наверняка собираются покрошить нас прямо у подножия твоих вонючих гор!
— О-о-о… О, варвар, как ты недоверчив… Разбойники, говоришь? Ну-ка, поглядим!
И он понесся вперед так резво, что Конан не успел и моргнуть, как широкая, закрывавшая ему дорогу фигура старого приятеля превратилась в жирную точку, что размахивала руками, привлекая к себе внимание бандитов.
Фальшивые землепашцы, кои и впрямь деловито копошились у самого строя деревьев, заметив отважного царедворца, насторожились, замерли, но — только на миг. Сразу затем они пришли в движение, поняв, что из засады ничего не выйдет, и туша, несущаяся на буланой и издающая пронзительные визги, направляется именно к ним — непонятно, правда, с какой целью…
Выругавшись, киммериец пустил вороного вскачь, в надежде если не догнать Кумбара, то хотя бы грозным видом своим отпугнуть от него бандитов — в том, что это были все-таки бандиты, Конан не сомневался.
Он мчался по равнине во весь опор, на ходу выхватив из ножен меч и держа его чуть в стороне, так, что лезвие сверкало на новорожденном солнце и слепило глаза. Твердые губы его напряглись и сжались в узкую полоску, брови сдвинулись у переносицы, а в зрачках вспыхнул злобный и радостный огонь. Варвар никогда не был против хорошей драки, особенно если чувствовал себя вполне правым, а эта драка обещала быть жаркой — разбойников он насчитал с десяток, и вроде бы за деревьями мелькали еще чьи-то тени, числом пока неизвестные… Он рыкнул — негромко, дабы не выпустить из себя пыл, который уже согрел сердце и погнал по жилам кровь, и сильнее вонзил пятки в лошадиные горячие бока. Вороной всхрапнул, длинные ноги начали резче рассекать воздух, и…
В этот момент душераздирающий вопль словно стрелой пронзил грудь варвара.
Глава III
Кулем свалился сайгад с буланой кобылки, что по инерции пробежала еще несколько шагов и только потом в растерянности остановилась, оглянулась на незадачливого седока своего.
Туша царедворца недвижимо лежала на шелковом травяном ковре, и к ней, с гиканьем и радостными криками, спешили уже бандиты. Расстояние от них до Кумбара было несколько меньше, чем от варвара до него же, но они перебирали своими ногами, а за Конана этим занимался могучий вороной, так что к бездыханному телу старого приятеля он прибыл первый.
Соскочив на землю, киммериец кинул быстрый взгляд на рану сайгада, из которой торчала стрела, определил ее как незначительную или смертельную — ибо крови видно не было, но и признаков жизни тоже, усмехнулся зло и двинулся навстречу разбойникам. Меч в его полусогнутой руке сверкал уже не весело и свободно, как пару мгновений назад, а угрожающе, яростно — как обычно в последний миг перед битвой. Первобытные дикие чувства, клокотавшие в мощной груди варвара, словно передавались мечу и мутными всполохами пробегали по синеватому гладкому лезвию; смерть — он ощущал это кожей — трепетала на самом кончике клинка в ожидании первой жертвы, и Конан знал: ей не придется ждать слишком долго.
Через несколько шагов выяснилось, что бандитов не десяток, а почти вдвое больше. Часть их выползла из-за деревьев, с удовлетворением обнаружив, что противник один, а с досадой — что он вряд ли везет в своем дорожном мешке что-либо ценное, так как вид его был хотя и грозен, но не богат. Заросшие щетиной, озлобленные и голодные, они медленно, молча шли к киммерийцу, по дороге рассеиваясь так, чтобы взять его в круг. Сине-зеленые куртки их — явно дезертиров из малочисленного войска туранского города Шангары — цветом и впрямь напоминали одеяние здешних землепашцев, зато кинжалы, мечи и сабли, зажатые в крепких руках, ничуть не походили на мотыги или лопаты.
Им исход битвы представлялся яснее ясного: этот огромный синеглазый варвар с обветренным смуглым лицом, конечно, славный воин, но против них ему никак не устоять. Привыкшие добывать себе хлеб оружием, они были уверены в себе и своей удаче — так же, как и он был уверен в своей. Уверенность их все же была разного свойства. За двадцать девять лет жизни Конану многажды доводилось участвовать в схватках и посерьезнее, чем предстоящая сейчас, но всякий раз — он отлично это понимал — могла стать последней.
Так и ныне: даже юнец, впервые взявший в руки меч, знает, что порою один воин может одолеть сотню, хоть чаще случается наоборот, и — тот же воин может погибнуть от случайного укола копья, или пасть жертвой обмана, или… Да мало ли в мире этом причин для переселения на Серые Равнины!.. Поэтому варвар, хотя и ценил свою силу и ловкость достаточно высоко, допускал возможность поражения, а главное — был к нему готов.
Видел ли сейчас суровый Кром сына своего, нет ли — Конан надеялся, что все-таки видел, — но первый удар сразу попал в цель. Здоровенный детина, примерно одних лет с киммерийцем, едва подняв свой меч, рухнул на землю с разрубленной до шеи головой.
Разбойники взревели. Звон оружия — привычная музыка и для них и для их противника — заглушил все мирные дневные звуки. Заблестели в солнечных лучах клинки, засверкали злобой и жаждой крови глаза, и в яростной битве сошлись наконец две силы, как штормовая волна сходится с берегом, а молния с землей.
Меч киммерийца рубил, сек и колол без перерыва. На каждый его вздох приходилось по несколько взмахов; клинок, уже окрашенный в алый цвет, вонзался в плоть с хрустом и чавканьем, и пьяный запах крови всасывался в поры, разогревая ненависть…
Пока Конану удавалось отбивать атаку за атакой. Трое противников его уже валялись на политой кровью земле без жизни, четверо раненых со стонами пытались отползти от круга битвы, но их же взбудораженные, охмелевшие от ярости, от безумного стремления разорвать врага на части собратья, толкаясь, топтали их. Рой серебряных лезвий вился над варваром; глухое рычанье, перемешанное с воплями отчаяния и гневными выкриками, оглушало; смерть была со всех сторон. До сих пор ни один клинок не коснулся тела Конана, не взрезал его одежды, его железных мышц, и все-таки пришло то мгновение, которое рано или поздно обязательно должно было прийти: в очередной раз разворачиваясь вокруг своей оси, киммериец спиной задел сразу с полдюжины остро наточенных кинжалов. Туника его, заправленная в штаны, тут же намокла и прилипла к коже, горячие струи крови потекли по ногам, наполняя сапоги.
Еще яростнее засвистел в воздухе меч варвара. И он был опьянен этой внезапной дикой схваткой, а сейчас еще опасался потерять силы от ран — тогда точно он нашел бы здесь свое последнее пристанище. В один момент выхватил он из-за пояса кинжал, сжал рукоять его в левой руке и сам кинулся на противников, стремясь поразить их не только умением своим, не только ловкостью, но еще и напором. Мощь его могучего крупного тела вмиг смела четверых бандитов, по которым он прошел еще пару шагов вперед, вырываясь из замкнутого круга. Отчаянный вопль был доказательством того, что он принял верное решение.
Оказавшись лицом к лицу с бандитами и с полной пустотой позади, Конан снова, не теряя и вздоха, бросился в атаку. Против него осталось лишь пять человек. Остальные — убитые или раненые — лежали в стороне от поля боя; некоторые из последних делали попытки поднять лук и выпустить в киммерийца стрелу, но не имели сил даже прицелиться.
Те, что еще были живы и бодры, кидались на Конана подобно бешеным псам, рвущимся с цепи. Ненависть и ярость в их глазах потускнели, почти закрылись ужасом, недоумением, обидой. Один воин — пусть сильный и умелый, но один — разбил всю их шайку в открытом бою! Смерть всегда бродила где-то рядом с ними, порой подходя совсем близко, порой даже касаясь их холодными пальцами, но никогда прежде она не брала за горло. А как весело казалось им убивать самим: видеть странные, совсем непонятные чувства в глазах жертв, слышать мольбы о пощаде, упиваться властью, обещать жизнь и — убивать… Видимо, ныне пришел их черед идти на Серые Равнины…
В отчаянии бандиты все рядом, плечом к плечу, двинулись на варвара, но он их маневр принял с молчаливым презрением, он только раз взмахнул мечом — две головы с глухим стуком упали наземь. Вторым ударом он скосил еще одного. Осталась пара бандитов — не самых, наверное, крепких, но обреченность придала им сил. С воем кинувшись на врага, они задели-таки его кинжалами с двух сторон. Кровь брызнула из рук киммерийца, а в следующее мгновение оба рухнули на тела своих собратьев, и головы их теперь походили на чаши — во всяком случае, от них осталась только нижняя половина — та, что с подбородком. Конан остановился. Прерывистое дыхание его, тяжелое и трудное, с присвистом вырывалось из глотки. Алая жидкость хлестала из предплечий и спины. Пот, смешанный с кровью, заливал глаза, склеивал длинные густые ресницы, затекал в рот, и варвар привычно глотал солоноватую влагу, не задумываясь о том и на миг.
Убедившись в том, что нет ни одного живого противника, он нашел сухую траву, тщательно вытер об нее меч и кинжал, потом направился к бездыханному телу сайгада.
Тот возлежал огромным животом вверх, раскинув руки и ноги настолько, насколько позволяли наросты жира на боках и ляжках. Подойдя ближе, киммериец убедился, что Кумбар вовсе не бездыханен — напротив: грудь его равномерно вздымалась, так, будто он спал, и от этих движений стрела в груди покачивалась из стороны в сторону. Глаза его тем не менее были закрыты, и вообще, кроме дыхания, никаких признаков жизни Конан в приятеле не заметил. Он отцепил от седла свой мешок, извлек оттуда кувшин с пивом и, усевшись на землю рядом с тушей поверженного царедворца, надолго присосался к открытому словно для поцелуя глиняному рту. Ароматное, чуть горьковатое пиво с каждым глотком возвращало варвару силы. С трудом оторвавшись от горлышка, он брызнул немного прохладной влаги на раненые руки свои, с наслаждением ощутив, как утихает боль в ранах и воспаленной коже. Затем он скинул окровавленную тунику, выудил из мешка новую, прихваченную в покоях Кумбара, и снова принялся вливать в глотку чудесный напиток, всерьез полагая, что тем самым лечит себя.
Немая природа вокруг него равнодушно взирала на залитые кровью трупы людей. Боль и смерть не могли взволновать ни ее, ни богов, что ее сотворили. Таково было устройство мира, и киммериец, которому не раз приходилось думать о справедливости и равновесии в жизни, считал сие единственно верным.
Даже боги — эти крамольные мысли в последнее время все чаще посещали его — не могут быть судьями. Определить, кто прав, а кто виноват, порою трудно, даже невозможно. Не то что «у каждого своя правда» (здесь имелся свой смысл, но Конан почему-то не любил эту сентенцию, презирал ее и в конечном итоге отвергал), а просто правды иногда вовсе нет. Вот есть дерево, и вот есть холм, и вот ручей вьется по равнине, а правда… Кто знает, что такое эта самая правда. Варвар, не умея оформлять свои мысли, обладал иной, может быть, более ценной способностью, чем умение думать: умением чувствовать. Он и чувствовал сейчас (и прежде тоже), что правда, и тем паче истина, не является материей, а лишь чем-то неуловимым, вроде как духом или даже вздохом, из чего следует, что обозначить ее определенно, точно — нельзя. При этом сам он обычно был вполне уверен в собственной правоте и только по прошествии какого-то времени вдруг возвращался к прошлому — не за тем, чтобы проанализировать свои и чужие поступки, а всего лишь чувствуя — опять чувствуя — нечто трудно понимаемое и, значит, трудно объяснимое.
Потом, конечно, он забывал об этом, ибо жизнь шла своим чередом, менялись дни и события, но внутри его все равно копилось то самое нечто, образуя в конце концов достаточно объемистый багаж, который искушенный царедворец Кумбар определил в начале их нынешней встречи как живое знание» и от которого зависело направление пути Конана, а также смысл его действий, участие или неучастие в происходящем, а после — и оцеп ка минувшего.
Варвар никак сие не называл — в нем все было естественно, все просто. О «живом знании», что носил он в себе, он не догадывался вовсе, и если б сайгад вздумал поведать ему о том, поднял бы его на смех и выкинул такую глупость из головы. Но Кумбар был прав — как ни трактовать понятие правды, в этом случае ошибиться было невозможно, потому что любой, и не замешанный в интригах, человек может отличить того, кто знает и ощущает жизнь, от того, кто существует в ней гостем, — Конан явно обладал живым знанием.
…Когда кувшин опустел, муть, вопреки закону, не сгустилась, а исчезла из синих глаз киммерийца. Он усмехнулся, тихо, но от всей души радуясь вновь обретенной жизни, затем вспомнил вдруг о несчастном царедворце, повернулся к нему. Странный звук расслышал он сквозь шум дыхания приятеля, слабые стоны умирающих и пение птиц. Гр-р-р… Хрр-р-р… Ужасная догадка осенила его в один лишь миг, и ярость, никогда не отходившая от души его слишком далеко, тут же вернулась в тело, дабы сразу вол ною выплеснуться наружу.
Кумбар спал! Быстро осмотрев то место, куда вонзилась стрела, варвар с отвращением увидел, что наконечник вовсе не коснулся кожи, а застрял в многочисленных рубашках, туниках и куртках, в кои сайгад облачился перед дальней дорогой, боясь простудиться и умереть на голой земле, а не в своей теплой и уютной кровати. Значит, он просто потерял сознание от страха, а потом… Или он вообще не терял сознания, а притворился мертвым?
— Вставай, козлиная шкура! Жирное Нергалово отродье! Вставай!
К чести Кумбара надо сказать, что сон его не был крепок, как обычно бывает у лежебок. Получив хороший удар ногой в зад, он приоткрыл глаза и укоризненно посмотрел на Конана.
— Вставай, недоносок!
Рыча, киммериец пнул обширную рыхлую задницу еще раз, на что сайгад, опечаленный подобным обращением, горько вздохнул и снова опустил короткие ресницы, видимо собираясь продолжить сон.
— Убью! — Конан схватил меч, недавно обагренный кровью действительных врагов, и направил его в то место, где болталась застрявшая стрела. — Убью, старая подметка! Шакалье дерьмо!
Кумбар удивленно приоткрыл один глаз.
— Что ты, варвар? Отчего ты сердишься? Что-нибудь случилось?
В ярости киммериец рубанул мечом воздух, сплюнул и пошел к своему вороному, что спокойно щипал траву в двадцати шагах от поля битвы.
— Ты куда? — встрепенулся сайгад. — Хей, Конан! Куда это ты?
— К Эрлику и пророку его Тариму, — злобно рыкнул варвар, не оборачиваясь. — Договорюсь с ними, пусть подвесят тебя вниз головой на дворце Илдиза! Трусливая вонючая жаба!
— Вот еще!
Старый солдат проворно вскочил, нисколько не напуганный угрозой киммерийца, ибо знал, что и Эрлику и пророку его Тариму глубоко наплевать на позорное поведение их поклонника. Опасался он другого: Конан вполне мог уехать отсюда без него, а, хотя они находились всего в четверти дня пути от Аграпура, сайгад не был уверен, что найдет дорогу назад самостоятельно. Все же он очень давно не покидал пределы города.
— Подожди, о варвар! Душа моя рвется за тобою, но тело не поспевает!
— Душа твоя такая же жирная, как и тело! — огрызнулся варвар, так и не удостоив Кумбара взглядом.
Вороной с неохотой оторвался от трапезы, но покорно принял седока. Миг спустя Конан уже несся по равнине — не к Аграпуру и не к югу, а куда-то к западу, что совсем не входило в первоначальные планы.
— Проклятие! — рассердился сайгад. — Ну и уснул, и что? Подожди же, говорю!
Он выдернул из платья стрелу и бросил ее на землю, затем ловко запрыгнул в седло, поерзал, устраивая зад так, чтоб он не свисал по бокам лошади, и помчался вслед за киммерийцем, шепотом проклиная взрывную варварскую натуру. «Ну и уснул… Ну н что… Ну и уснул…»
Вскоре он догнал приятеля и поскакал с ним рядом, дипломатично не заговаривая вообще ни о чем. Молча они проехали до самой Самарры, затем так же молча повернули все-таки на юг. Кумбар казался удовлетворенным, но в душе недоумевал: именно вороной Конана, а не его буланая, вдруг остановился, постоял несколько мгновений и пошел назад — то есть туда, куда сайгаду и было нужно. Неужели деньги причиной тому? Но Кумбар — и варвару должно быть это известно — поделился бы казной со старым другом и безо всякой корысти.
Он не мог знать о том, что на самом деле волновало ныне Конана. Он не мог даже догадываться о том, что его рассказ о Воине Белке произвел на киммерийца сильное впечатление. Юноша, придавленный каменной плитой, — а Конан отлично представлял себе такую тяжесть — возникал перед глазами его беспрестанно. Ему казалось, что каждый вздох, каждый миг промедления убивает Белку. Что шлем, что горы золота, когда смерть зовет человека на Серые Равнины. Вот оно — то живое знание, которым обладал варвар; вот причина, повлекшая его к югу, к зыбучим пескам; вот его правда, не ожидающая одобрения небожителей.
Конан тряхнул головой, отгоняя сложные и мало понятные ему самому мысли, и пустил вороного вскачь, позабыв уже о провинившемся сайгаде, о разбитой шайке бандитов и о собственных преследователях.
* * *
К вечеру, когда багровый, уже остывающий шар краем коснулся синей полосы горизонта, спутники подъехали к северным — весьма и весьма скромным — воротам Шангары.
Эта часть города вообще оказалась довольно пустынной и мрачной, как будто необитаемой, хотя Конан помнил по прежним временам, что в здешних трущобах народу обитало едва ли не больше, чем во всем пышном и богатом центре.
Сейчас им навстречу попались лишь двое мужчин и один старик — все смотрели на чужаков с опаской и неприязнью. Женщин вовсе не было видно, но уже у самого входа в дешевую таверну они заметили обернутую в несколько слоев ткани, с накидкою, закрывавшей все лицо и волосы, женскую фигуру. Она торопливо перебирала ножками по неровному камню, явно спеша по каким-то нехитрым своим делам. Конан свистнул ей, но не остановил, а наоборот, подогнал. Она вздрогнула всем телом и припустила бегом, так что в момент исчезла в узком и грязном переулке.
— Вот образец приличия! — объявил Кумбар свое мнение, полностью противоположное мнению варвара. — Ничего не разберешь — где там зад, где перед…
— Тебе это нравится? — мрачно поинтересовался Конан, привязывая вороного к железному кольцу в стене.
— Как тебе сказать… Как принцип — да, нравится. Но, в общем-то, хотелось бы ее… раздеть, что ли…
— То-то.
Войдя в вонючий маленький зал размером чуть больше кумбаровой комнаты во дворце, спутники нашли свободное место за центральным столом, прямо под огромным закопченным светильником, пристроили дорожные мешки между ножками лавок и потребовали у хозяина, вертевшегося здесь же, баранины и пива на двоих.
Для такого захолустья новые посетители таверны были кем-то вроде принцев в медвежьей берлоге. Хозяин прытко понесся на кухню исполнять заказ, а прочие уставились на варвара и сайгада как на диковинных зверей. Кумбар реагировал на эти взгляды так, как и полагалось знаменитому на весь Туран (он до сих пор был в этом уверен) царедворцу — горделиво выпятив брюхо, он изобразил на своей свинячьей физиономии скуку, свойственную богатому и умному нобилю, подбавив еще толику высокой печали, и устремил взор маленьких черных глазок в обшарпанный потолок — то есть точно по «Бламантине», его любимой книге, описывающей (кроме всевозможных премудростей) характер, манеры и внешний вид каждого сословия.
Конан же, в самом деле привыкший к всеобщему вниманию, словно ничего не заметил. Угрюмо глядя в трещины крышки стола, он снова думал о Белке, воображая себе его страдания так живо, как если бы сам находился сейчас в плену зыбучих песков. Будь этот парень не воином, а, скажем, купцом или ремесленником, он вряд ли думал о нем так же, но для варвара тема силы и воли, подавленных хитростью и колдовством, была слишком близка. Он и сам не раз испытывал подобное на себе. Но, как ни был киммериец занят размышлениями о борьбе добра и зла, пристальный взгляд соседа по столу все-таки достал его.
— Ну? — вопросил он сурово, одним тоном своим повергая нахала в полуобморочное состояние.
— Мр-р… мр-р… — еле сумел ответить тот.
Конан презрительно хмыкнул и отвернулся. Тут принесли баранину, и оба путешественника с энтузиазмом принялись набивать ею свои пустые желудки.
В отличие от прекрасного, только что приготовленного мяса, пиво оказалось несвежим, но Конан, про себя отметив сие прискорбное обстоятельство, долго задумываться о том не стал. Он, бывалый бродяга, на основе своего опыта знал, что, когда в глотке сухо и шершаво, любая жидкость хороша, пусть даже набранная из болота.
Сайгад отнесся к пиву не так доброжелательно. Скривившись, он подозвал хозяина и плеснул в его синюшную морду остаток из своей кружки. Слов он при этом вообще не произносил, но хозяин, облитый и униженный, все понял и так. Кивнув, он вытерся, снова устремился на кухню и вскоре вернулся, таща огромный, в пол своего роста, кувшин с новой брагой.
— Другое дело, — милостиво принял замену Кумбар, а попробовав, запросил еще, ибо это пиво было превосходным.
Конан, в задумчивости попивая то свежую бражку, то старую и не находя между ними большой разницы (вернее, и не ища ее), просчитывал путь отсюда до южного берега моря Вилайет. Прикончив последний кусок баранины, он принял решение: ехать прямо.
Конечно, можно было и берегом, минуя и череду гор, и нежелательную встречу с охраной города Хоарезма, пару лет назад почему-то возжелавшую изловить его, Конана, и отправить в темницу. Кроме того, он подозревал, что сайгад, счастливо уверенный в знаменитости своей персоны, решит посетить дворцы и в Шангаре и в Хоарезме с целью разведать обстановку вне родного Аграпура и вызнать, как здесь относятся к собаке Гухулу. Но берегом они потеряли бы день, а то и два, чего киммериец допустить никак не мог.
Белка, придавленный каменной плитой, все стоял перед его глазами не то что немым укором, а просто наказанием. Вряд ли сам Кром смог бы придумать для сына своего кару ужаснее, чем спокойное наблюдение за муками собрата-воина. Конану казалось, что край плиты совсем рядом, а он не может поднять руки и освободить парня. Все это было похоже на бред — а если учитывать гонку с преследованиями зомби, так оно и было.
— Глянь-ка, шут! Шут из балагана! Ха! А ну, попляши! Гнусавый голос соседа справа, резкий, пронзительный, пробирающий до печенок, в момент вывел киммерийца из состояния хрупкого, но равновесия. Так же и общая тишина, до того прерываемая лишь чавканьем да иканием: вздрогнув, зашипела разбуженной змеей. Головы посетителей повернулись, но не с тем, чтоб осуждающими взглядами остановить сие развязное выступление, а с тем, чтоб обнаружить этого самого шута. На лицах проявилось любопытство — презираемое варваром всегда — и жажда зрелища.
— Э-ге-гей! Попляши! — Тощий крестьянин с физиономией удивленного козла, с бородищей до колен, с сальными длинными волосами, приняв всего-то третью кружку кислятины, явно был настроен воинственно. — Ты что, не понял? Пляши, сказал я тебе!
Мрачно посмотрев на него, Конан проследил за направлением его взгляда и… чуть не захлебнулся глотком браги. Человек, к которому обращал крестьянин свой наглый выпад, вовсе не был шутом из балагана. Пожалуй, даже напротив, он являлся единственным здесь приличным человеком (если не считать, конечно, высокопоставленного Кумбара).
Аккуратно расчесанные темные волосы, заправленные за маленькие уши, высокий чистый лоб, карие глубокие глаза, излучавшие покой и силу, ровные и крепкие длинные руки с холеными ногтями — все это даже не намекало, а откровенно говорило о том, что этот парень отнюдь не простого происхождения. С замирающим сердцем вглядывался варвар в отметину на его виске у правого уха — три вытатуированных широких и коротких, сомкнутых между собой полосы разного цвета. Верхняя — желтая, средняя — зеленая и нижняя — красная. Вот почему тупица крестьянин принял его за шута — отметина эта и впрямь бросалась в глаза не только ярким цветом, но и расположением своим: начиналась она от середины щеки, то есть лишь слепой не увидел бы. На самом деле то был знак шамана высшей касты. Поживший в Пунте Конан отлично разбирался теперь в таких несложных вещах.
Высшая каста не имела в числе своем чернокожих, а только белых и знатного рода. Строгие правила не позволяли им применять свои знания и умения всюду и в любое время — только в случае самой что ни на есть крайней необходимости и только для пользы кого-либо еще, а не своей лично. В этом была и красота, и, может быть, даже отрицаемая варваром правда, но и ужасная ошибка тоже, ибо большинство шаманов высшей касты погибало именно вследствие запрета защищаться. Их число — и без того совсем небольшое (в Пунте и прочих Черных Королевствах не так уж много людей знатных и белых — обычно там болтаются в поисках наживы только вторые) — становилось все меньше и меньше; дикари смелели и нападали на них среди дня ради одного лишь развлечения — вот как сейчас этот козел; не имея возможности жить одним кланом, они разбредались по свету, строго соблюдая свои правила, и, плохо приспособленные к простой жизни, тоже погибали.
Конан считал себя в долгу перед шаманами высшей касты. Не потому, что уважал их суровый и чистый закон, а потому, что однажды на его глазах произошло убиение такого человека, а он не успел вмешаться и помочь ему. В момент разорванный дикарями в клочья светловолосый красавец, способный одним словом всего обратить их всех в бамбуковую рощу, до сих пор иногда снился варвару, и в этих снах Конан всегда успевал на помощь. В глубине души он все же слегка презирал подобное смирение, признаваемое всеми почти богами за основную добродетель человека, но при этом не считал себя вправе осуждать чужие законы.
— Пляши! Пляши! Пляши! — завелся козел. В гнусавом голосе его появились истеричные нотки, и киммериец, сидевший рядом с ним, поморщился.
Шаман молчал. На его худом бледном лице с чертами благородными и приятными не отразилось ни единого чувства, словно он и не слышал оскорбления. Продолжая потягивать из кружки свое пиво, он спокойно смотрел туда же, куда, видимо, смотрел и до того — в окно. Народ между тем постепенно приходил в возбуждение. Подогреваемые брагой и соседями, простолюдины уже выкрикивали в адрес шамана новые грязные ругательства, соревнуясь и похваляясь друг перед другом. Скоро шум превратился в гам, а затем — в крик. Самые нетерпеливые подскакивали к избранной козлом жертве, толкали его или щипали и с радостным визгом возвращались на место.
— Вот ублюдки, — просипел объевшийся Кумбар, с трудом поворачивая к Конану голову. — Пойдем отсюда, что ли?
— Подожди, — сквозь зубы процедил варвар.
Он понимал, что сейчас начнется даже не драка, а самое настоящее побоище. Шаман тем не менее сохранял то же каменное спокойствие, чем вызвал искреннее восхищение киммерийца: не всякий может быть столь хладнокровен перед жаждущей крови орущей толпой. Вот один уже не стал отскакивать в сторону, а, ударив жертву в грудь, гордо поглядел на остальных, потом повернулся и ударил еще раз… Вот и второй, не желая отставать, плюнул в кружку парня… Вся пьянь ликовала.
— Ну и ублюдки… — В голосе Кумбара послышалась растерянность. — Чего им надо от него?
Зло усмехнувшись в ответ, Конан встал. Его массивная фигура для многих задних заслонила зрелище. Послышались возмущенные крики, улюлюканье, свист.
Не опуская взгляда, варвар взял за шиворот зачинщика-козла, легко поднял его вверх, так что тощие ноги недоноска зависли над столом, и негромко сказал» перекрывая зычным голосом своим общий крик и его визг:
— Что, Нергалово отродье? Повеселиться захотелось?
Глава IV
Медленно, очень медленно силы возвращались к Белке. Пока он не мог еще даже чуть сдвинуть с себя камень, но чувствовал, как кровь, до того застывшая в жилах, похолодевшая, снова начинает разогреваться, а из головы постепенно уходит жуткая пустота, и воспоминания все меньше похожи на бред…
Теперь он отлично помнил и названых братьев своих Медведя и Льва, с которыми рядом провел двенадцать лет жизни, и старца Исидора, что был для них троих более отцом и другом, нежели учителем, и… Нет, больше никого. Настоящих родителей Белка представлял себе смутно. Виделись ему порой какие-то красивые светлые лица, но были ли то отец и мать или некие чужие, или просто воображение помогло создать образы родных заново — он не знал.
Ясно помнил он и первый день своего появления в замке Дамира-Ланга, что означает «длинный дом». Наставник берет его за руку и отводит в большой, освещенный чуть ли не тысячью свечей зал. Там уже стоят два мальчика, таких же, как он, настороженных, но не испуганных. Один, рыжий толстый увалень, пыхтит, плечом пытаясь сдвинуть с места второго, русоволосого крепыша. Тот не глядит На него; упрямо сжав губы, он еле удерживается на ногах, потому что рыжий силен, как маленький медвежонок, потом все же оборачивается к нему и резко толкает…
От неожиданности толстяк падает, но тут же с сердитым ревом встает…
«Это Медведь… — ласково говорит наставник, подводя Гинфано к рыжему. — Посмотри ему в глаза. Отныне он будет твоим братом…» Медведь почти на голову выше его, поэтому приседает и долго смотрит своими зелеными глазами в голубые ясные глаза мальчика. Гинфано хочет сделать шаг назад — он не любит, когда к нему подходят так близко, но тут Медведь расплывается в улыбке, такой добродушной, что и сам он начинает улыбаться…
«А это Лев. Он тоже будет твоим братом…» Наставник поворачивает его за плечо ко второму мальчику. Тонкий и гибкий Гинфано одного с ним роста, только Лев шире и плечах и явно крепче. Желтые глаза его, встречаясь с голубыми нового брата, теплеют. Он топает ногой — скорее от смущения, чем от недовольства, — потом отворачивается и берет наставника за руку. «У меня нет братьев», — упрямо заявляет он старцу Исидору. «Есть, — спокойно отвечает тот. — Вот они…»
Двенадцать лет прошло с тех пор. Ныне ему семнадцать… Как ждал он того мига, когда огонь загорится в его сердце… Вряд ли он мог бы жить сейчас, если б не это! огонь, взращенный наставником… Он питает и его душу, и его кровь, он… А впрочем, жизни нет. Есть нелепое и но зоркое существование в зыбучих песках, куда не ступит нога человека никогда…
Белка чуть повернул голову, коснулся щекой внутренней стороны шлема, нагретой его собственным теплом. И все-таки он жив. Пока есть его воинский шлем, пока огонь горит в его сердце, пока он помнит братьев, погибших, кажется, только вчера…
Горячая слеза обожгла его висок; скатившись к уху, намочила волосы. Он заставил себя вновь вернуться в оставленную было пустоту — затем, чтобы сохранить возрождающуюся силу, и тут же почувствовал ее ток в левой стороне груди. «Встань, Воин Белка… — услышал он, уже проваливаясь в забытье. — Встань и возьми огонь в свое сердце…»
* * *
— Что, Нергалово отродье? Повеселиться захотелось?
Низкий, чуть хрипловатый голос варвара легко перекрыл общий крик и визг того козла, что затеял всю эту ионию. На мгновение чернь захлопнула рты, пораженная столь неожиданным препятствием к их веселью в виде огромного северянина с синими колючими глазами. Но — только на одно короткое мгновение. Их было много больше, три, а то и четыре десятка, так что даже этот гигант, пусть и в союзе с хлипким шутом, не одолеет их сплоченного на время войска. Они задавят его массой. Масса всегда сильнее любого одиночки.
Угрожающий рык пьяной швали, набирающий обороты, привел Кумбара в шок. Пот струился по его лбу, шее, спине и, что было особенно противно, животу. Дрожащей рукою вытер он лицо, потом нащупал на поясе кинжал, скорее бивший декоративным, чем боевым.
— Ко-онан… — умоляюще прошептал он, желая уйти отсюда как можно быстрее. — Не надо, Конан…
Но киммериец уже не слышал его. Отшвырнув захлебнувшегося собственным воплем козла в сторону, он коленом поддел крышку стола и опрокинул его, кивнул шаману на выход, понимая, что тот не будет участвовать в сражении по принципам высшей касты, и принял первый удар.
Маленькой злобной собачонкой на него кинулся низкий и широкий, как табурет, ублюдок, метя в глаз варвару бараньей костью. В тот же момент эта кость оказалась в его глотке, и толпа, ахнув, кинулась на врага с диким воем, охваченная жаждой мести.
Обиженный козел, тряся бородищей и клацая черными редкими зубами, попытался впиться Конану в руку. Короткий точный удар надолго лишил его сознания и привлекательности: вместо носа между щек у него вырос огромный то ли хобот, то ли рог — цвета ярко-красного, очень красивого, но не очень уместного на лице.
Одновременно с козлом сознание потеряли еще двое нападавших, и эти, кажется, уже навсегда. Во всяком случае, мертвенная бледность, покрывшая их обветренные лица, а также неестественно вывернутые шеи о том ясно свидетельствовали.
Разъяренную чернь, однако, остановить было уже нельзя. Круша по пути столы и лавки, оскорбленные в лучи чувствах ублюдки кинулись на варвара, гроздьями повисли на его могучих плечах и руках. Глухо рыча, он скиды их с себя, швырял в следующие ряды, из которых к нему тянулся лес рук со скрюченными пальцами, ногами отбрасывал тех, кто пытался подобраться к нему снизу.
Краем глаза он увидел, что шаман и не подумал уйти из таверны. Презрев свои законы, он молча и яростно вступил в драку, действуя как обычный боец, а не обученным всяким премудростям колдун. Небольшие крепкие кулаки его крушили врагов с такой силой, что вскоре круг, в котором он вертелся, раздавая удары, стал овалом, потом квадратом, а потом пунктирным треугольником. Сам он при этом пока не получил ни одной раны, хотя и к нему тянулись руки, и в некоторых даже были зажаты ножи.
Такой нож полоснул сейчас по руке варвара, задев едва затянувшиеся рубцы от кинжалов разбойников. Кровь сразу намочила его рубаху и штаны, но боли в пылу драки он не чувствовал. Зато Кумбар, узрев красные свежие пятна на одеянии приятеля, чуть не умер от ужаса. Все то время, пока продолжался бой, он сидел в полной прострации на своем прежнем месте и глядел куда-то вдаль. Но когда на лицо его попали брызги Конановой крови, очнулся и теперь дрожал, изо всех сил стараясь стать невидимым, и жалобно попискивал. Видели бы его воины туранской армии, где когда-то он служил в небольшом чине сайгада! Отвращение и стыд поразили бы их сердца! Если б сейчас Кумбар мог соображать, то понял бы, конечно, что от былой его удали не то что не осталось следа, а просто невозможно было поверить, что прежде он ею обладал.
Между тем намерения швали задавить противника массой начинали осуществляться. По полшага всего, кб Конан постепенно отступал под их бешеным натиском. II ход шли не только ножи, не только кулаки и ногти, а и глиняные кружки, блюда, бутыли, бараньи кости. Киммериец не имел времени уворачиваться от этого оружия, со всех сторон летящего ему в голову, поэтому просто поднял одного из нападавших вверх и прикрылся им, заодно используя худосочное тело его как таран.
В кухне печально визжал хозяин, приходя в страшное уныние от одной мысли об убытках; слуга — единственный в этом убогом заведении — сидел в углу и наблюдал за ходом сражения, видимо не решив еще, чью сторону ему принять.
Шаман продвигался к Конану. Он оказался неплохим бойцом: вокруг него грудами лежали поверженные противники и громко стенали то ли от боли, то ли от огорчения. Его платье было сплошь покрыто пятнами крови, но чужой. Темные глаза парня оставались по-прежнему спокойны, даже бесстрастны, словно он не бился с чернью, желавшей разорвать его на куски, а разбирал письмена на древнем пергаменте. Вот он сделал рывок по направлению к киммерийцу, потом сразу еще один.
Конан, не столько видя, сколько ощущая его поддержку, тоже рванулся вперед, смазав длинными черными прядями своими по глазам врагов и метнув брыкающегося в его железных руках крестьянина в кучу, разделявшую его и шамана. Еще миг — и они оказались в двух шагах друг от друга.
— К выходу! — рявкнул варвар больше Кумбару, чем шаману.
В тесном пространстве зала он не надеялся одержать победу. Здесь он не мог достать меч, опасаясь задеть обоих своих союзников, и активного и пассивного, да и понимал, что в рукопашном бою меч был бы лишь помехой, а не подмогой. Поэтому он продвигался к двери, следя за тем, чтоб одуревший от страха царедворец сумел пройти ему за спину — путь для него был уже расчищен.
На ватных ногах Кумбар проковылял по залу, брезгливо обходя побитых посетителей, повернул за варвара и попытался юркнуть в проем двери, но застрял там намертво. Выругавшись, Конан с силой пнул старого приятеля в бедро, так что тот вылетел на улицу и кубарем покатился к противоположной стороне.
— Уходи! — крикнул он шаману, отшвыривая очередного нападающего.
Парень кивнул и быстро выскочил за дверь.
Теперь киммериец мог действовать во всю свою мощь. Схватив лавку, он закрылся ею и бросился на плотно сомкнутый ряд противников, повалив их всех на грязный, заплеванный и забрызганный кровью пол. После этого маневра он отскочил назад, выхватил меч — сейчас расстояние между ним и чернью было достаточно велико для работы оружием — и взмахнул им…
Первая же слетевшая с плеч голова заставила остальных отшатнуться в священном ужасе. Ни один из них наверняка никогда не держал в руках не то что меча, НО даже копья или лука, они медленно отступали, спотыкаясь и падая, потом снова поднимаясь и снова отходя назад.
Бой был окончен. Варвар наклонился, вытер лезвие о полу куртки обезглавленного тела. Никто из оставшегося десятка и не подумал продолжить драку, так что Кони и спокойно повернулся к ним спиной и, оставляя за собой полную тишину, изредка прерываемую стонами раненых, вышел на улицу.
Шаман, прислонившись к стене, ждал его. Ростом он был невысок — чуть выше Конанова плеча, — но гибок и строен. Возраст его определить оказалось трудно, даже при ближайшем рассмотрении, ибо, несмотря на гладкую нежную кожу, глубокая продольная морщина уже прорезала чистый лоб, а под глазами набухли мешки. И все же ему вряд ли было больше тридцати.
При виде своего заступника парень улыбнулся, сделал шаг навстречу.
— Парминагал, — представился он голосом негромким, но звучным и глубоким.
— Конан, — буркнул в ответ варвар. — Из Киммерии.
— Не приходилось бывать. Но, думаю, в Киммерии умеют воспитывать настоящих воинов.
— Брахид или хамвид? — вопросил Конан, не реагируя на лесть.
В темных глазах шамана мелькнуло удивление: он явно не предполагал, что его принадлежность к высшей касте шаманов так легко определить.
— Брахид, — тем не менее ответил он. — Ты был в Кешане или Зембабве?
— В Пунте, — уточнил киммериец.
— Ну наконец-то! — пыхтя, к ним вразвалку приближался сайгад. — О, варвар, как ты обеспокоил меня!
— Пшел! — Конан вскочил на вороного и показал шаману на кобылку Кумбара, — Садись!
— У меня есть лошадь, — вежливо отказался тот. — Здесь, за углом. Если позволишь, я возьму ее, а потом покажу тебе и твоему другу место, где можно спокойно переночевать.
Сайгад притворным кашлем скрыл облегченный вздох, начал торопливо карабкаться на свою буланую.
— Клянусь Кромом, неплохая идея, — повеселел варвар, по обращая внимания на умильные взоры старого солдата. — Если б там еще нашлось вино покрепче, чтобы залить мои царапины…
— Найдется, — Парминагал внимательно посмотрел на его пропитанную кровью тунику. — И ты его выпьешь. А царапины подлечу я.
Услышав это обещание, Конан довольно ухмыльнулся: вторая драка за день — это слишком даже для него. К тому же раны, кои он так небрежно назвал царапинами, нестерпимо болели. Исполосованные разбойничьими кинжалами спина и руки, синяки и порезы от схватки в таверне горели как в огне, и киммерийцу стоило немалого труда спокойно сидеть в седле и ждать, когда шаман сходит за своей лошадью.
Но тот вернулся быстро. Его серая в яблоках кобыла, ценою, наверное, вдвое выше, чем вороной Конана и буланая Кумбара вместе взятые, гарцевала под ним на длинных тонких ногах, словно разминаясь перед предстоящей гонкой. Махнув рукой Конану, Парминагал направил ее в ближайший переулок, и спустя несколько мгновений все трое уже ехали цепочкой меж двух рядов низких каменных домов, что стояли не более чем в Десяти шагах друг от друга. Из переулка спутники повернули на широкую улицу, а с нее — снова в переулок, где и находилось то самое, обещанное шаманом место.
— Берут недорого, — сообщил Парминагал, легко соска кивая с лошади. — И народ спокойный — все больше проезжие.
— Так это постоялый двор? — подобострастная улыбка не сходила с уст Кумбара.
— Обычный кабак, — Шаман повернулся к Конану, который привязывал своего вороного под символическим навесом, сколоченным из дырявых досок. — Но комнаты приличные.
— Наплевать на комнаты, — буркнул варвар, — Вина хочу.
— Будет и вино.
Он похлопал по холке свою серую в яблоках и по-хозяйски распахнул дверь. Сайгад суетливо задергался у входа, пропуская вперед Конана, а потом и нового знакомца. В душе он безумно страдал, подозревая, что варвар теперь, после такого позора, прогонит его прочь, что было бы только справедливо, и уже готовил ответное выступление, обильно украшенное тонкой лестью и клятвами в дальнейшем вести себя более мужественно. Но пока Конан молчал и лишь отворачивал взгляд от старого приятеля, будто стыдясь его перед таким отважным человеком, как этот невесть откуда взявшийся на их головы Парминагал.
Обстановка внутри кабака несколько успокоила расшатанные нервы Кумбара. Здесь оказалось тихо, тепло и уютно. Довольно большой зал разделялся на шесть одинаковых квадратов, каждый из которых был обставлен почти по-королевски: низкие круглые столы, удобные глубокие кресла, серебряные кадильницы, благоухающие чудесными ароматами, и — в качестве подарка дорогим гостям огромные бутыли с заключенным в них вином цвета пурпура. Бутыли выдавали у входа в зал слуги в белых передниках.
Посетители действительно выглядели вполне прилично, скромно. Конан пересчитал их на случай драки — для этого ему хватило пальцев на одной руке, — затем прошел к свободному столику в дальнем углу зала. Отсюда отлично просматривалось все помещение, а также вход в кухню и лестница на второй этаж. Усевшись спиной к стене, киммериец вытянул ноги, кивком подозвал слугу. Кумбар и шаман сели по обе стороны от него.
— Еще вина, — коротко приказал Конан подбежавшему парнишке. — И побольше!
— Самого лучшего! — Опальный сайгад широким жестом бросил на стол туго набитый кошель.
— Побереги свои деньги, — улыбнулся Парминагал. — Вы будете моими гостями.
— Пойдет. — Конан откупорил подарочную бутыль и с шумом выхлебал сразу четверть.
— Займемся твоим исцелением? — спросил шаман, открывая свою бутыль.
— Позже.
— Как ты догадался, что я брахид?
Пожалуй, этот вопрос серьезно его интересовал.
— Брахид или хамвид — я в этом не разбираюсь. Но этот знак, — он указал на три полосы на щеке Парминагала, — видал не раз.
— У хамвидов такие же, только другого цвета.
— Мне без надобности.
— Давно ли из Пунта? — продолжал светскую беседу новый знакомый.
— И трети луны не прошло. Да Нергал с ним, с Пунтом. Скажи мне лучше, с чего ты вдруг стал драться? Я слышал, шаманам высшей касты запрещено защищать себя.
— Я уже не принадлежу к высшей касте, — помрачнел Парминагал. — Меня изгнали два года назад…
— И за что же? — строго вопросил Кумбар, заглядывая в лицо шаману.
— А ты помолчи, — приказал Конан. — Тебя все это никак не касаемо.
— Тоже за драку, — все же счел нужным поясниц Парминагал. — Так уж получилось — не имею терпения в достатке. От природы ли, от воспитания ли… А дикари, сам знаешь, Конан, шаманов высшей касты не выносят. Они для них вроде как чужаки. В общем-то, так оно и есть… Ну а чужаки всегда раздражают. Вот хотя бы нынешний случай.
— Да уж… — опять встрял сайгад. — Такова жизнь…
Кумбар и без того действовал на варвара как шаман высшей касты на дикаря, а сие глубокомысленное замечание и вовсе разрушило призрачный мир. Рыкнув, он повернулся к опозоренному царедворцу всем телом, намереваясь, прогнать его наконец обратно в Аграпур, но тут голос снова подал шаман:
— Будь спокоен, Конан. Перед моим лечением вся суть твоя должна быть свободна от дурного.
— Заживет и без твоего лечения, — небрежно махнул рукой киммериец.
— Раны — да, конечно, заживут. — Парминагал вдруг замолчал, поднял бутыль, разглядывая на свет содержимое ее. — Дело тут совсем в ином.
— И в чем же? — подозрительно нахмурился Конан.
— Те, кто следуют за тобой из Пунта. Они беспокоят тебя…
Конан поперхнулся очередным глотком вина.
— А тебе откуда сие известно?
— Это просто. Вокруг тебя я вижу черный овал — значит, душа твоя скована чужой волей. Овал очерчен не сплошной линией, а пунктиром, то есть разорван — значит, ты осведомлен о преследовании и пытаешься скрыться. Ну, а кто гонители… Поверь, шаману высшей касты о том догадаться легко.
— Хм-м-м… Клянусь Кромом, приятель, ты не ошибся… И что же мне делать? — С губ варвара не сходила усмешка, но сердце его тяжело бухало в груди в ожидании ответа. Он и сам себе не хотел признаваться в том, как измучило его в последние дни постоянное напряжение. Всегда готовый сразиться в одиночку хоть с целым войском, если потребуется, перед темными силами он испытывал нечто вроде суеверного ужаса. Он чувствовал себя загнанным зверем, который устал убегать: рыча от ярости и смертельного страха, он останавливается, разворачивается к врагу своему так, чтоб видеть глаза его, и…
— Я расскажу тебе. Потом.
Парминагал подозвал хозяина и велел ему приготовить комнаты для его гостей. В голосе его (таком ровном, спокойном, что Конан снова взбеленился — этот парень будто испытывает его терпение, заставляя ждать, в то время как душа варвара сжимается перед наступлением всякой ночи) было нечто странное. Он словно задумался о чем-то очень серьезно; карие глаза потемнели до черного; морщина, прорезавшая лоб, стала еще глубже; черты лица заострились.
Ничего не понимая, но зато отлично чуя все, что хоть немного не похоже на обычное, киммериец тоже старательно задумался. Проще было спросить шамана, в чем дело, но в присутствии Кумбара он не желал показывать свой страх и свою надежду на избавление от преследователей — тем более что сайгад ни сном ни духом не ведал, что на деле с его старым приятелем произошло.
Угодливый хозяин с миллионом улыбок на пухлом лице, кланяясь, проводил их на второй этаж, показал две комнаты в конце коридора. Кумбар, быстро сунув нос в каждую, выбрал себе ту, что была чуть больше, и, не прощаясь, захлопнул дверь перед носом варвара и шамана. Сразу вслед за тем они услышали лязг засова, громкий, с визгом, зевок и стук большого тела царедворца о жесткую тахту.
— Зайди ко мне. — Голос Парминагала был все тот же, ровный, спокойный, но в нем Конан расслышал и некоторое напряжение.
Комната нового знакомого — а он явно уже провел в ней не одну ночь, судя по разбросанным на тахте вещам, — была мала, с крохотным грязным оконцем почти под самым потолком. Продавленное кресло и стол на трех ногах (четвертая валялась тут же) — вот и вся мебель, предложенная хозяином дорогому гостю.
Конан попытался сесть в кресло, но оно тут же жалобно затрещало под его тяжестью, так что ему пришлось устроиться на полу. В кресло сел Парминагал.
— Закрой глаза и не разговаривай. Я все-таки залечу твои раны.
Киммериец фыркнул, но повеление шамана исполнил. Некоторое время в комнате было совсем тихо, потом послышалось далекое жужжание, будто муха кружила за окном; глубокие порезы на спине и руках Конана вдруг загорелись и нестерпимо зачесались. Стиснув зубы, он не дрогнул ни одним мускулом.
— Хорошо, Конан… — тихо произнес Парминагал. Еще несколько мгновений варвар терпел жар и зуд, но вскоре уже почувствовал облегчение. С каждым вздохом боль уходила, и это было почти осязаемо.
— Все.
С удивлением киммериец осмотрел себя. Раны его, сочащиеся сукровицей, затянулись и теперь были похожи на зажившие царапины.
— Шаман… — со смешанным чувством восхищения и неприязни пробурчал он.
— Выпей еще вина, мой спаситель, и послушай меня внимательно. Сейчас я попробую избавить тебя от твоих преследователей. Это нетрудно, но ты должен мне помочь: поверить в то, что я скажу. Итак, здесь — твой дом.
— Нет у меня дома, и этот не мой, — быстро сказал Конан, желая не тратить время на пустые разговоры, а сразу перейти к делу.
— Здесь — твой дом, — терпеливо повторил шаман. — Не отвечай мне, Конан. Просто слушай. Зомби, идущие за тобой, безмозглы; душ у них нет, есть только черная пустота внутри; они ведомы не своей, а чужой волей. Их призвали из царства мрака за тем, чтоб найти тебя и уничтожить. Так вот я говорю тебе: здесь — твой дом, Конан. Я зову их сюда. Я зову их…
Парминагал вздрогнул и замолчал. Глаза его закатились так, что стали видны одни только белки; дрожь прошла по всему телу раз, другой; губы посинели — казалось, душа вылетела из тела шамана, и, подозревал варвар, так оно и было. С отвращением, но и надеждой он смотрел на нового знакомого, не столько понимая умом, сколько чувствуя сердцем, что сейчас тот вызывает сюда зомби, посланных за его жизнью. Волосы на затылке Конана приподнялись, как у зверя, чуящего опасность. Он затравленно оглянулся, уже ожидая увидеть за спиной пустоглазых монстров, но пока в комнате все оставалось по-прежнему. Огарки свечей тянули к потолку тощие язычки пламени, отбрасывая на темные стены тусклые желто-красные блики, которые человек с богатым воображением непременно принял бы за этих самых зомби, но на варвара они никакого впечатления не произвели. Он верил только тому, что видели его глаза, а сейчас, кроме бликов, они ничего не видели.
— Уже близко… — прошептал шаман осипшим голосом. — Уже совсем близко…
Тут он вдруг тряхнул головой, выходя из отстраненного состояния в обычную жизнь, и посмотрел на киммерийца.
— Они уже близко, — сказал он спокойно. — Теперь ты уходи, Конан.
— А ты? — растерянно спросил Конан, поднимаясь.
— А я встречу их вместо тебя. На короткое время сие была твоя, а не моя обитель, так что они придут именно сюда. Им все равно теперь, кто здесь, — я забрал из твоей души ту часть, которую они предназначили для себя и которая уже отравляла твое существование, так что для них я — это ты… А ты… А ты не представляешь никакого интереса. Я запутал тебя?
Парминагал весело глядел на варвара, забавляясь его растерянностью.
— Слушай, приятель, — Конан снова уселся на пол. — Они разорвут тебя, будь ты хоть трижды колдуном. Я не могу оставить тебя.
Улыбка сошла с губ шамана.
— Уходи, прошу. Со мной они ничего не сделают, но если ты останешься здесь — ты погибнешь!
— К Нергалу! Не уйду, я сказал! — упрямо заявил киммериец. Он понимал, что сейчас противоречил сам себе.
Искренно надеясь на помощь и в итоге получив ее, он вдруг решил от нее отказаться. Подобная непоследовательность не была свойственна ему. Мало того: собственный поступок раздражал Конана неимоверно, но — увы, ничего с собой поделать он не мог. Эта впитанная с молоком матери киммерийская гордость, когда решение всех своих проблем должно быть непременно самостоятельно, не позволяла ему оставить чужого человека наедине с его врагами. Волге себе, чем Парминагалу, Конан повторил: — Не уйду! Шаман побледнел.
— Если ты останешься, — медленно, дабы этот упрямец понял, сказал он, — я не сумею защитить тебя.
— Обойдусь!
— О, благостный Митра! — потерял терпение Парминагал. — Дал силу, но не дал ума! Направь же сына твоего, Конана из Киммерии, на путь истины!
И в этот момент в коридоре послышался шорох, скрип половиц. Конан вытянул из ножен меч, дважды за день побывавший в бою, и настороженно уставился на дверь. Весь пережитый за последнее время страх пропал, оставив вместо себя злость и раздражение, готовые со всей варварской дикой силой обрушиться на врагов.
Шаман встал.
— Вот и первый гость!
Дверь распахнулась. На пороге стоял Кумбар.
Глава V
Через семь лет наставник назвал их Воинами. Они освоили все боевые искусства, так что теперь оставалось только совершенствоваться. Каждую ночь, возвращаясь в свою тесную темную келью, Белка подолгу смотрел на негасимый огонь в треноге, пока еще тусклый, слабый, и мечтал о том, как он выйдет из замка в мир. Он воображал себя героем, призванным богами очистить землю от скверны, но старец Исидор не раз повторял им: «Боги забыли о вас, и не стоит им напоминать». Что же, Белка и не желал напоминать. Он представлял свой ратный подвиг как деяние одиночки — тем значительнее, выше казалось ему собственное предназначение. Кто и для чего его предназначал, он не думал. Вполне достаточно было того, что воинами его и братьев воспитывал сам старец Исидор, а его они приравнивали к божеству.
«Почему он — Медведь? А он — Лев. Почему я — Белка?» — порой спрашивал он наставника, обиженный именем своим. «Он велик и силен, поэтому Медведь. А этот — вынослив и напорист, поэтому Лев. Ты же хитроумен, ловок и быстр. В тебе, милый, главное не столько сила, хотя и ею ты не обделен, сколько гармоничное сочетание всех воинских достоинств…»
Так отвечал ему старец Исидор. Он веселел, ободрялся, но спустя некоторое время снова возвращал наставника к этому вопросу — не для того, чтоб услышать похвалу из его уст. Белка страдал неизлечимой болезнью под названием «сомнение». Особенность сей болезни заключалась п том, что с годами она не проходила, а наоборот, развивалась. Он беспрестанно сомневался в себе, в своей силе и выносливости, в своей воле, в своем проворстве и уме. Ему мнилось, что братья гораздо более него заслуживают прозываться манниганами; что их учение проходит более успешно; что они счастливы и спокойны, а он — нет; наконец, что их дальнейший путь совершенно ясен, п его — расплывчат.
Старец Исидор без слов понимал, что именно мучает младшего ученика. Прежде, очень много лет назад, он и сам был таким. Наверное, в нем и ныне сохранилось — уже не качеством, но памятью — то рвущее душу чувство сомнения. Зато он умел слышать других, ощущать их настроение и даже мгновенную мысль. «Почему я — Белка?» «Потому что ты — это я…» И совсем необязательно было произносить слова, ибо тот, так похожий на него в юности, и по глазам, и по жестам мог легко догадаться об ответе.
…Белка тяжело вздохнул. С каждым днем его тело обретало силу, а огонь в сердце разгорался все сильней. С каждым мигом заполнялась пустота внутри него, но — заполнялась отчаянием. Пока он не помнил всего, что произошло с ним и его братьями, существование его было бессмысленным, болезненным, но простым. Теперь же он стал бояться безумия. Он, который всегда считал Медведя и Льва истинными воинами, а себя — лишь подобием, жив. Они — нет. Все, о чем их предупреждал наставник, случилось… Только один Белка сумел избежать мгновенной смерти. Не для того ли, чтоб умереть медленно?
Он застонал, чувствуя, как тоска давит грудь его больнее каменной плиты. «Встань, Воин Белка, — опять послышался голос наставника. — Встань и возьми огонь в свое сердце…» Эхом последние слова старца Исидора звучали в ушах его, и чудился воину укор такой нелепой жизни, сомнению и желанию умереть.
Он стиснул зубы, напрягся и — камень медленно сдвинулся с его груди. Лишь на палец, но и это была победа.
— Прах и пепел! А тебе чего надо здесь?
Со смешанным чувством злости и облегчения Конан смотрел на тушу старого приятеля своего. Кумбар, потупившись, стоял в проеме двери, не решаясь войти, и на красной физиономии его было ясно написано отчаяние.
— О, варвар… — пробормотал он, толстыми короткими пальцами теребя полы щегольской бархатной куртки, уже покрытой слоем пыли за время пути. — Прости меня. Мое мужество… Оно… Оно подло изменило мне… Я не могу уснуть, поелику стыд мешает…
— Тьфу! — в сердцах сплюнул киммериец — из вежливости в самый угол комнаты, — Иди к себе, сайгад. Здесь ты лишний.
— Совсем? — Маленькие глазки Кумбара налились притворными слезами.
— Да!
Конан и на миг не подумал поверить царедворцу. После его наглой выходки у гор Ильбарс, где трусливый пес притворился убитым, после драки в таверне у северных врат Шангары, где тот же самый пес сиднем сидел на лавке вместо того, чтобы помочь спутнику. Поэтому сейчас он одарил его презрительным взглядом и, не желая больше тратить на такое дерьмо и мига своего времени, повернулся к Парминагалу.
— Скоро?
Шаман искоса поглядел на Кумбара. Выгнать варвара из комнаты ему не удалось, а теперь сюда еще явился его робкий приятель и тоже, кажется, намеревается остаться…
— Скоро. Я думаю, вам обоим лучше уйти.
— Проклятие! Я же сказал — не уйду!
Не стоит спорить. — Парминагал снова обрел спокойствие, хотя внутри его все так и тряслось от ужаса.
Он нисколько не лукавил, когда говорил, что не сможет защитить Конана от преследующих его мертвецов. Если б только он мог представить, что варвар окажется таким упрямцем и не пожелает удалиться в самый опасный момент, то, спасая его, пошел бы другим, более долгим, зато более надежным путем: свершил бы обряд, известный только шаманам высшей касты, обратил бы всех зомби в черных птиц и отправил обратно в Пунт, но, конечно, с другим адресом — их жертвой стал бы тот чернокожий колдунишка, что послал их на варвара.
Теперь было уже поздно. Он всего лишь заменил в их пустых башках образ Конана на свой — поменял ориентир и призвал к себе, будучи в полной уверенности, что сам с ними справится легко. Но для этого бывшая намеченная жертва должна была убраться восвояси, чего она делать не собиралась. Тут еще этот царедворец…
— А что случилось? — невинно вопросил Кумбар, глядя поочередно то на киммерийца, то на шамана.
— Не твое дело, — огрызнулся Конан.
— Вам пора уходить! — Парминагал едва удерживался, чтоб не сорваться и не выкинуть отсюда обоих хотя бы магией, если не понимают слов. Но — ему понравился огромный синеглазый северянин, без доли сомнения вступившийся за него в таверне. Он хотел стать его другом, ибо за годы странствий и одиночества научился ценить отвагу и честь. К разочарованию его, сии качества встречались в мире чрезвычайно редко, хотя он и не решился бы это утверждать: он сам всегда был склонен к уединению и товарища нарочно не искал. Но вот Конан нашелся сам, и Парминагал был этому рад. Увы, видно, удача не любила его — первого же в своей жизни друга ему приходилось сразу терять…
Он призвал на помощь всю свою волю, надеясь все-таки удалить из комнаты варвара (Кумбар и сам ушел бы за ним следом), но тут вдруг сердце его замерло, а кожа на кончиках пальцев начала зудеть… Это были верные признаки…
— Поздно, — хриплым шепотом сказал он, не поворачивая головы. — Теперь уже поздно…
Что поздно? — Кумбар совсем освоился в комнате шамана и даже попытался сесть в его единственное кресло, правда, тут же провалился и, нимало тем не смутясь, перешел на тахту. — Все… — прошептал Парминагал, зажигая маленький светильник и вставая между дверью и гостями.
* * *
Ночь была на исходе. Уже догорели и без того бывшие крошечными огарки свеч, а лунный свет почти не проникал сквозь заляпанное оконное стекло, так что шаман зажег лампу вовремя. Унылые желтые блики ее рассыпались по стенам и потолку, по лицам людей. В полной тишине прошло еще несколько длинных, как сама ночь, мгновений. Потом что-то брякнуло снаружи, и сразу затем дикий вопль потряс кабак, проникая во все его дыры и закоулки.
Один сайгад ничего не понял. Конан же и Парминагал одновременно вздрогнули, представляя, как разрывают зомби здешнего хозяина, что вздумал не пропустить их.
— Тш-ш-ш… — ответил на безмолвный вопрос Кумбара шаман. При этом головы он так и не повернул — спиной почувствовал страх и недоумение гостя.
Медленные размеренные шаги по коридору приближались. После того, как смолк крик хозяина, опять наступила тишина, и в ней каждый звук был подобен раскату землетрясения. Так и шаги: гулкие и тяжелые, они пускали эхо по этажам, а отголоски даже внутрь стен. Сначала Конану показалось, что преследователей двое, но потом он догадался, что гораздо больше — просто шли они в ногу, как солдаты на марше.
Он посмотрел на шамана, чеканный профиль которого в отблесках тусклого света казался вылепленным из желтой глины. Тот стоял, не двигаясь, и на вопросительный взгляд варвара лишь повел плечом, показывая, что понял его, но не может ответить.
Тогда Конан приготовился к бою. Подойдя к Парминагалу, он встал с ним рядом. В глотке у него пересохло, как после трех дней хождения по пустыне, а рукоять меча — наверное, бесполезного сейчас, но иного оружия он не ведал — была скользкой от пота. Расставив широко ножищи, выдвинув подбородок, варвар угрюмо взирал на дверь, ожидая непрошеных гостей. И гости явились.
Чернокожий гигант ростом с киммерийца возник п дверном проеме как привидение (впрочем, с некоторой натяжкой он и был привидением). Белая полотняная одежда, вся в потеках и пыли, висела на нем мешком.
Большие выкаченные глаза, глубокие, но совершенно пустые, слепо пошарили по комнате, не останавливаясь ни на окаменевшем от ужаса царедворце, ни на Конане; затем обнаружили шамана, что стоял ближе всех. Тупая и при жизни физиономия монстра пришла в движение. Нижняя губа его, отвисшая до подбородка, подтянулась к верхней, и вдвоем они изобразили радостную улыбку. Приплюснутый нос зашевелился, словно принюхиваясь. Зубы клацнули, а обвисшие, как у старого пса, щеки затряслись.
Протянув к шее Парминагала тощие длинные руки, местами уже проеденные могильным червем, зомби хрюкнул, предвкушая сладость убийства, но — вдруг рожа его перекосилась, да так, что хрустнули кости. Он удивленно вздохнул и начал стремительно чернеть.
Конан в суеверном страхе смотрел на это. Он никогда не видал прежде, чтоб и так очень черное становилось еще чернее. Монстр на глазах превращался в обугленную головешку, которая тлела, издавая отвратительное шипение и запах, и трескалась. Через мгновение всего от зомби осталась только кучка грязных тряпок.
Не успел Конан опустить меч, так и не пригодившийся ему, как на пороге возникла еще парочка красавцев. Эти когда-то явно умерли не своей смертью: у одного по локоть не было руки, а вместо правого глаза зияла огромная черная дыра. Второй как-то обходился без верхней части головы, но зато остальное имел в полном порядке.
Киммериец снова поднял меч, готовый рубить, но Парминагал шагнул в сторону, загородив от него монстров. Он не сказал ни единого слова и не сделал ни единого жеста, так что Конан так и не понял, почему его преследователи, едва появившись в поле зрения шамана, моментально начинают распадаться на куски. Зрелище было омерзительное. Варвар хотел было отвернуться, но не смог — смотрел как завороженный.
Труха сыпалась на пол, обнажая потемневшие от времени скелеты, и запах сгнившего мяса распространялся по неон комнате, от чего сайгада, судя по звукам за спинами Конана и Парминагала, уже тошнило.
Следующая тройка действовала уже энергичнее. Они не стояли на пороге, а сразу ввалились в комнату, чуть не сбив с ног шамана. Ему пришлось посторониться. Скаля редкие черные зубы, монстры завертели башками в поисках требуемого объекта. Мутные пустые глаза их равнодушно скользнули по туше царедворца, восседавшего на тахте изваянием, с милой улыбкой, застывшей на бледных устах, потом переместились на варвара. В ответ он снова занес меч и, молча и быстро, рубанул своих гонителей.
Тела их были сухи и хрупки, поэтому удар киммерийца легко удвоил их количество: из трех целых зомби Конан имел теперь шесть половинок, которые дергались на полу, пытаясь соединиться. Ногой варвар раскидал их по комнате, а Парминагал тут же испепелил. Но вслед за ними уже рвались другие.
Шаман взмок от напряжения. Гурьбой вламываясь в его комнату, монстры сразу рассеивались, с завидным проворством перебегали от стены к стене, так что он не успевал уследить за всеми. Меч варвара летал в воздухе, круша врагов с такой силой, что они отлетали от него, валя с ног собратьев, но их способность мгновенно срастаться была воистину невероятной — едва меч поднимался снова, они уже вскакивали на ноги целы и невредимы.
Наконец вторжение прекратилось. Оставалось только избавиться от тех, кто шнырял по комнате, не обращая ни малейшего внимания на сверкающий в первых солнечных лучах, уже заглянувших в окно, клинок.
— Встань у двери! — крикнул Конан шаману, который крутился на самой середине, с остервенением уворачиваясь от костистых рук зомби и сжигая одного за другим.
Тот рванулся к выходу, загородил собой дверной проем. Отсюда он мог видеть всех. Собрав остаток сил, Парминагал устремил смертоносный взор свой на копошащиеся в комнате чернокожие тела. Без звука превращались монстры в уголь, затем распадаясь на ошметки и кости и сразу истлевая. Кумбару не повезло: один из них рассыпался прямо ему на колени, и бедолага царедворец тихо и грустно лишился сознания.
— Все! — наконец выдохнул шаман.
Конан опустил меч, оглядел поле боя. Тут и там чернели кучки праха, валялись обожженные тряпки, обломки костей. Вонь была настолько сильна, что материализовалась в серые клубы, похожие на облака. Если б сайгад не валялся сейчас без чувств, он, наверное, заплакал бы от поэтического восторга и умиления…
— Все… — повторил Парминагал и весело посмотрел на варвара. — Ну, Конан, теперь ты можешь спать спокойно — ни одного не осталось.
— Нергалово отродье, — пробормотал киммериец. Его то и дело передергивало от отвращения, а горький ком, застрявший в горле, грозил вот-вот вырваться наружу вместе с тем, что бурлило сейчас в желудке.
Сплюнув, Конан сунул меч обратно в ножны и торопливо вышел из комнаты. Пройдя по коридору до лестницы, он увидел внизу марша хозяина, вернее, одну его голову. Остекленевшие глаза уставились в потолок, рот скошен, все измазано кровью… Даже варвара, который в своей жизни насмотрелся всякого, а уж трупов вообще бесчисленное множество, едва не стошнило прямо в мертвое лицо.
Перешагнув через голову несчастного, он быстро спустился вниз. Чистый пол в пустом зале пересекала двойная цепочка черных следов, протянувшаяся от входа к лестнице. Конан прошел к двери, стараясь не наступать на эти отпечатки босых ног зомби, и вышел на улицу.
* * *
Он с наслаждением вдыхал свежий воздух, чувствуя, как освобождается грудь, как уходит из его нутра нечто темное и чужое. К счастью, его душевное устройство было так незамысловато, что злой воле безумного шамана из Пунта оказалось просто не за что зацепиться. С переселением зомби из этого мира обратно в тот Конан снова стал самим собой. Только сейчас он понял, какую тяжесть скинул сегодня со своих плеч. Выплюнув на землю горечь, скопившуюся во рту, он вдруг вспомнил, что в комнате нового знакомого еще осталось немало вина, и тотчас поспешил назад, боясь, что Кумбар, очнувшись, с горя выпьет все один. Но едва он повернулся к двери, как она распахнулась, и на улицу ступил Парминагал.
Он был бледен, в черноту кругов под глазами добавилась синь, а на лбу появилась еще одна, не слишком пока глубокая морщина. Тем не менее лицо его сияло — видимо, и он чувствовал ту свободу, которую подарил нынче киммерийцу.
— Хей, Конан! Должен огорчить тебя: твой робкий приятель очнулся и с горя выдул все наше вино.
— Тьфу! — разозлился варвар. — Я так и думал. Жрать и пить он большой мастер! А вот…
Но тут он решил, что хоть Кумбар и трусливый шакал, наглая жирная красномордая свинья и безмозглый каплун, все-таки некогда он считал его другом, а посему негоже перед первым встречным клеймить его позором.
— Ничего, — Парминагал словно прочел его мысли, — я знаю одно местечко неподалеку… Там подают отличное красное, и всего по медяку кружка.
— Идем. — Конан решительно двинулся вверх по улице, ибо тоже знал это самое местечко. Ему приходилось бывать в Шангаре, и, как и во многих других городах, он успевал за время своего пребывания посетить если не половину, то треть питейных заведений точно.
Шангара его раздражала. Ему не нравилось тут все: назойливая стража, пугливые девицы, скупые на ласки, но жадные до денег, тупые рожи простолюдинов и слои пыли на улицах (стоило пройти из одного кабака в другой, и вся одежда оказывалась покрыта серой вонючей пылью, от коей Конан беспрестанно чихал и потом ее очень трудно было счистить, ибо она прилипала намертво). Единственное достоинство этого городишки заключалось в том, что и вино и пиво стоили здесь много дешевле, чем, например, в том же Аграпуре…
— Ты бывал в Шангаре? — продолжал читать мысли новый знакомый.
— Ну, — кивнул Конан. — Еле ноги унес.
— И я, — засмеялся Парминагал, стараясь попадать в шаг варвара.
— Как это?
— Тогда я еще не был шаманом высшей касты. Да и вообще шаманом не был. Я родился здесь…
— В этой дыре? — На суровом лице Конана выразилось глубочайшее неодобрение, словно сам он родился не в дождливой холодной Киммерии, а в королевских покоях где-нибудь в богатом и теплом Аргосе или, на худой конец, в Офире.
— Так уж получилось, — смиренно ответствовал Парминагал. — Мой отец был здешним властителем.
— Прах и пепел! — Конан остановился. — Ты, что ли, принц?
— Ну вот еще… Я — одиннадцатый сын. Если уж даже второму ничего не полагается — ни титула, ни наследства, — то что может получить одиннадцатый… Что ты встал, Конан? Идем.
— Значит, сейчас в Шангаре правит твой брат?
— Нет… Его убили…
— А другие братья?
— Всех убили, душа моя… Один я остался… Идем же!
— Ты… наследник?
— Теперь уж все равно. Мой дядька управляет Шангарой, а я… Впрочем, думаю, он заслужил этот трон. Бедняга так трудился, избавляясь от соперников…
— Твоих братьев?
— Да… Вот мы и пришли.
Парминагал с облегчением прервал неприятный для него разговор, вошел в трактир. Конан последовал за ним.
Первые посетители — бравая четверка низкорослых и толстых молодых солдат — уже сидели за длинным прямоугольным столом и потягивали из больших кружек что-то очень вкусное: на их физиономиях было написано такое блаженство, что киммериец невольно сглотнул слюну.
— Красного! — приказал шаман, усаживаясь за стол у двери.
Пока слуга бегал за кувшином красного вина, Конан истребовал у нового знакомого продолжения его истории.
— Да что рассказывать… Когда убили моего последнего брата, я бежал из Шангары на юг. Пару лет мотался по всем Черным Королевствам, потом осел в Зембабве.
— Наплевать на Зембабве. Я хочу знать, почему ты бежал? Дядьки испугался?
— Еще как. Если б ты видел моих братьев… Все рослые, сильные, да и умом не обижены. Но Мангал (это дядька) их всех за одну луну только истребил. А я всегда был самый дохлый, так что не по силам мне было с ним тягаться… Не смотри на меня так, душа моя. Ныне я уж по таков, и думаю иначе.
— Так верни себе трон! — На звучный рык Конана солдаты удивленно оглянулись.
— Тш-ш-ш… Какой трон… Какой трон? Я ж сказал тебе, что права более не имею.
— Врешь! — убежденно сказал киммериец. — Право кровного наследования нельзя утратить. Ты трус, вот и все дела.
— Может, и трус, — задумчиво согласился шаман. — А может, просто не хочу быть властителем…
— Все хотят, а ты нет? — не поверил Конан. — Опять врешь, приятель.
Парминагал вздохнул. Отличное красное вино вернуло румянец на его щеки, промочило пересохшее горло, но испортило настроение, такое радужное после победы над монстрами.
— Гр-м-м… Помнишь того козла, который привязался ко мне в таверне Хаддуллы?
— Кром! Я неплохо потрепал его!
— Неплохо… Так вот, он — слуга моего дядьки. Конечно, он узнал меня… Гнусная скотина! Он не решился даже втихую воткнуть мне кинжал в спину!
Конан хмыкнул. По его мнению, для того, чтобы втихую воткнуть кинжал в спину, большого мужества не требовалось. Если б он своими глазами не видел этого парня в деле, то решил бы, что у него довольно странные представления о достоинствах истинного мужа.
— За три дня, — продолжал тот, — меня трижды пытались прикончить. Конечно, с моей стороны неразумно было возвращаться в Шангару, но… сердце влекло, что ж поделаешь…
Парминагал смущенно улыбнулся: пожалуй, впервые за много лет он позволил себе быть столь откровенным перед малознакомым человеком.
— Мне нравится бродить по свету, Конан, видеть жизнь — не ту, что во дворцах, а ту, что в поле и в лесу, в городских кабаках и деревенских постоялых дворах, на базарах и даже в притонах… Так что пусть наместником в Шангаре остается мой дядька, а я пойду…
Он неожиданно погрустнел, отвернул лицо от киммерийца. Оба погруженные в свои думы, в молчании они допили вино. Парминагал вспоминал юность, замок отца, своих веселых братьев, а Конан — далекую Киммерию, чьи холмы и тучи до сих пор иногда снились ему… Сколько лет прошло с того дня, когда он покинул родной край… И как краток казался теперь этот путь — словно только вчера он закинул за плечи полупустой дорожный мешок, перевязал тесемкой длинные черные волосы, которые не стриг со дня смерти матери, и снова отправился искать свое собственное счастье, которое наверняка где-то ждало его, потому что просто не могло быть иначе. Так он ушел из Киммерии второй раз… Память его хранила столько событий, что сейчас невозможно было вспомнить хотя бы малую часть из них. Вот погоня по снежной пустыне за дочерью Имира — Ледяного Гиганта; вот битва с монстром Гринсвельдом за вечнозеленую ветвь маттенсаи, символ жизни маленькой северной страны Ландхаагген; вот драка на старом галеоне с бандитом Дебом Абдаррахом; вот путешествие вдоль вонючих вод Хорота с рыжим талисманом Висканьо; вот плавание на быстрой «Тигрице» со смуглой темноглазой красавицей Белит и ее черными пиратами… Лицо Белит вдруг стало перед Конаном так ясно, что он скрипнул зубами от внезапной боли под сердцем. Душа ее теперь бродила по Серым Равнинам, неутешная, ибо слишком недолга была их любовь…
— Я пойду с тобой… — сумрачно произнес Парминагал, уткнувшись в кружку с вином.
— Куда? — с трудом очнулся от воспоминаний варвар.
— Все равно… Только подальше от этого города… Знаешь, Конан, когда я жил в Зембабве…
— О-хо-хо! — прогремел на весь кабак знакомый голос. — Наконец я вас отыскал!
Довольный, как свинья, обожравшаяся каштанов, на пороге стоял Кумбар.
Глава VI
Большое тело царедворца протиснулось в дверной проем, застив солнце, и потряслось к столу Конана и шамана.
— Хозяин! Вина! — громогласно потребовал он, усаживаясь.
— Как ты нас нашел? — поинтересовался Парминагал, пряча улыбку.
— Только благодаря Эрлику, — Сайгад подвинул к себе Конанову бутыль с вином и быстро отпил несколько больших глотков. — Когда вы оба так стремительно исчезли, оставив меня одного в этой ужасной комнате, полной пепла, я обратился к моему богу с такими словами… — Он откашлялся, готовясь в точности изложить свою мольбу, закатил глаза и заунывно начал: — О, Эрлик! Великий и могущественный! Обрати взор свой на грешную землю нашу! Отыщи на ней самого несчастного из рабов твоих! Нашел? Нет, в цепях — это кто-то другой. И в гладиаторской казарме тоже… Куда ж ты смотришь? Самый несчастный беседует сейчас с тобой! Это я, Кумбар.
Парминагал закрылся кружкой и трясся от смеха. Будь даже Эрлик не суровым и мрачным божеством, а благодушным слезливым старцем, и то красная, толстая, пышущая здоровьем физиономия царедворца не ввела бы его в заблуждение.
— Одинокий и всеми забытый, — печально вещал самый несчастный из Эрликовых рабов, — я плачу, сидя в грязном трактире, весь в пепле и дерьме, как обгаженный воронами орел…
— Чем от тебя воняет? — рыкнул варвар, поводя носом и отодвигаясь от старого приятеля подальше.
— Горем, мой молодой друг, чем же еще… — Стянув с себя облеванный камзол, Кумбар швырнул его на пол и с воодушевлением продолжил: — Так вот. Молю тебя, о Эрлик, укажи дорогу к жестокосердым спутникам моим, что бросили бездыханное тело мое в проклятом богами гадюшнике!
— И указал? — серьезно вопросил Парминагал.
— А как же!
Закончив рассказ, сайгад повеселел. Присосавшись к огромной кружке с красным вином, он долго и смачно булькал, пока не утолил жажду. Потом подозвал хозяина и велел принести мяса и еще вина — на всех.
— Лучше б Эрлик отослал тебя обратно в Аграпур, — пробурчал Конан.
— Ты же сам просил меня сопровождать тебя! О-о-о, варвар… — Кумбар укоризненно покачал головой. — О-о-о…
— Не просил. — Киммериец схватил огромный кусок говядины с блюда и вцепился в него крепкими белыми зубами. — Я б скорее отправился в путь с ядовитой змеей за пазухой, чем с жирным трусливым кабаном…
— Я не кабан, — отказался сайгад.
— Кабан…
— Не кабан…
От смеха у Парминагал а выступили слезы на глазах. С одной стороны, он был полностью согласен с варваром, что Кумбар как раз таки кабан, но с другой стороны, спорить о том считал занятием, пристойным разве что для мальчишек.
— А ты… Ты… Киммерийский бык! — выпалил оскорбленный сайгад и повернулся к спутникам спиной.
— Ну и что? — На удивление невозмутимый, Конан уплетал мясо, низко склонив голову над блюдом, так что концы его длинных волос то и дело опускались в жир.
— Ха! Ха! Ха! — саркастически сказал Кумбар.
В синих глазах варвара сверкнул злой огонек. Шаман поспешил исправить положение, опасаясь драки.
— А не пора ли нам в путь, друзья? — бодро вопросил он, водружая на стол пустую бутыль.
— Давно пора, — кивнул сайгад. — Да, Конан?
Но если обида Кумбара была скоротечна, то киммериец, памятуя обо всех прегрешениях старого приятеля, более ничего ему прощать не собирался.
— Убирайся в Аграпур, — злобно буркнул он в ответ.
Парминагал вздохнул. Да, примирить его новых знакомых оказалось делом непростым. Он открыл рот, намереваясь произнести нечто вроде стольной речи, но тут царедворец, пораженный в самое большое сердце свое жестокими словами варвара, всполошенно запричитал.
— Как это? Как это? Почему это в Аграпур? Не хочу!
— Р-р-р…
— Да почему же в Аграпур? В «Бламантине» говорится: «Не возвращайся туда, откуда только ушел…» А ты говоришь, в Аграпур!
— Г-р-р-р…
— А еще в «Бламантине» говорится: «Чти спутника своего, как себя самого чтишь»!
Варвар медленно распрямил плечи, устремил опасно безучастный взгляд на сайгада.
— Смотри-ка, Конан! — обрадовался вдруг шаман. — Тот козел!
Теперь он мог быть спокоен. Ссоры между старыми друзьями не будет, ибо для сурового киммерийца появился другой объект для вымещения раздражения: почесывая бородищу, в кабак вошел козел, который в таверне Хаддуллы призывал на голову опального наследника гнев толпы.
Расквашенный нос ублюдка был так красен, что мог бы освещать улицу в темное время — вместо фонаря; одна рука висела на белой шелковой перевязи, другая нервно подергивалась; вдобавок ко всему козел еще и прихрамывал на левую ногу, а правую, ставя на пол, неестественно выворачивал. Все эти признаки вчерашней драки друзья отметили с искренним удовлетворением.
Козел их не заметил. Вихляя бедрами, он прошел к столу, за которым сидели солдаты, и, похлопав одного по плечу, радостно заблеял. Парень посмотрел на него удивленно, потом перевел взгляд на товарищей и снова на козла. Через мгновение наглец уже летел обратно к двери, отчаянно визжа и суча ногами.
Настроение Конана моментально исправилось. Он закинул голову и захохотал. А в следующий миг смеялись уже все — и шаман, и сайгад, и солдаты, и два новых посетителя, и даже сам хозяин.
Приземлившись, козел полежал немного молча, видимо, соображая, что с ним такое произошло, потом вскочил и, потрясая кулачком здоровой руки, кинулся к обидчику.
— Я — Камаль! Я — Камаль! — заверещал он так пронзительно, что у Конана заложило уши. — Как посмел ты, червь, ударить в мое лицо!
— Иди ты… к Нергалу со своим лицом… — ощетинился солдат.
— Уа-а-ау! — В злобе козел не смог найти подходящих этому случаю слов и вздумал просто орать как недорезанный. Слюна брызгала с его губ прямо на куртку парня, который снова посмотрел на товарищей, как бы испрашивая совета — что делать с таким ублюдком? — потом без размаха ткнул прилипалу в глаз вторично.
Под громовой хохот всех присутствующих козел совершил еще один полет к двери. Парминагал, за нынешний день навеселившийся, наверное, на всю жизнь, вдруг дернул Конана за рукав.
— Я же говорил тебе, этот недоумок служит у моего венценосного дядьки! За два удара по его гнусной роже солдат головы лишится!
Киммериец перестал смеяться. Он отлично понял, о чем толковал ему шаман. В самом деле: парень, по всей видимости, не узнал слугу наместника, как не понял и добрых намерений его пообщаться с простыми солдатами, и за это нынче же поплатится. В общем веселии мысль сия показалась варвару тем более неприятной.
Он встал во весь свой огромный рост, холодными синими глазами сверля бьющегося в припадке злости козла. Набычившись, вынул из ножен меч, за последние дни ужо не раз обагренный кровью ублюдков, и неторопливо вышел на середину зала.
— Хей, козлина, — негромко позвал он, но смех тотчас прекратился. Все с удивлением и восхищением смотрели на черноволосого гиганта, что, поигрывая тяжелым мечом, стоял в пяти шагах от наглеца. Грубые рубленые черты его обветренного лица были почти неподвижны: чуть выдвинутый вперед подбородок и сдвинутые к переносице брови — это видели все — были его природной особенностью, а не сиюминутным проявлением чувств.
— Я — Камаль! — тонко выкрикнул козел, отползая к двери. — Ты понял, северянин? Я — Камаль!
Он явно узнал вчерашнего врага своего. Ужас плеснулся в туповатых глазках; слюна струйкой потекла по бородище, капая на одежду.
— Я — Камаль…
Тут он обреченно опустил голову и вдруг, рванувшись за порог, дико заорал: «Стража! Стража! Стража!»
Конан живо наклонился, ухватил его за шиворот и втащил обратно в кабак. Но — было уже поздно. Едва он бросил его на пол, как дверь с треском распахнулась и в зал ворвались стражники.
* * *
— Я — Камаль! Убейте их! Всех! Всех! — захлебываясь слюной, завизжал козел, проворно вскакивая на ноги и отбегая к стене, — А кабак — сжечь!
— Ах ты… подлюга… Нергалово отродье, — сквозь зубы процедил варвар. Подняв меч, он со свистом рассек им воздух и опустил на голову зарвавшегося служки. Кровь хлынула из разрубленного темени. Наконец заткнувшись — теперь уже навеки — козел мешком повалился меж скамеек.
Мигом позже на киммерийца с двух сторон кинулись стражники. Их было пятеро, и все — вооруженные до зубов. В левой руке каждый сжимал внушительного размера дубину, а в правой — длинный обоюдоострый иранистанский кинжал, больше смахивающий на меч. Эти псы, обученные убивать, действовали молча и решительно. Если бы Конан промедлил хотя бы краткий вздох, с ним было бы уже покончено. Но в последний перед смертоносными ударами момент он успел отскочить на полшага назад, так что кинжалы рубанули вхолостую.
За спиной варвара солдаты — обыкновенные армейцы — уже приготовились к бою. Достав свои дешевые, плохо заточенные клинки, они встали рядом с Конаном, признав его своим командиром. Схватка было недолгой и ожесточенной. Звон стали о сталь заглушил причитания несчастного хозяина, коему при любом исходе этой драки грозил штраф и даже, может быть, запрет на продажу вина й пива.
Первым погиб тот солдат, из-за которого варвар и ввязался в свару с козлом. Потом упал с расколотой головой другой. Два оставшихся бились плечом к плечу с Конаном, как молодые львы. Одному удалось серьезно ранить самого здорового стражника, и он, воодушевленный первой в своей жизни победой, радостно взвизгнув, с удвоенной энергией кинулся в бой. Это была его ошибка. Первый же выпад его противник встретил острым, как зуб акулы, кинжалом, насадив на него парня по самую рукоять.
Теперь у варвара оставался только один союзник. Сайгада и шамана он заранее в расчет не принимал. Первого — потому что уже имел случай убедиться в его заячьей трусости, второго — потому что у него не было никакого оружия, а выступать против натасканных на нарушителей спокойствия стражей порядка с голыми руками было бы безумием.
Но вот рыжебородый верзила напоролся на Конанов клинок и рухнул на пол, хрипя и пуская кровавые пузыри. За ним и другой, прозевав удар, принял его под кадык.
Парминагал, с восхищением и без доли страха наблюдая за киммерийцем, все ожидал, когда он взъярится по-настоящему и раскрошит стражников своим верным мечом. Но Конан, казалось, не торопился — он словно наслаждался боем с умелыми противниками. Когда их осталось двое на двое и схватка перестала быть похожей на свайку, его клинок легко отразил град ударов и перешел в наступление.
Постепенно варвар, загородив собой солдата, теснил врагов к стене. Их лица, уже не злобные и насмешливые, как вначале, а растерянные, побледнели; в синих глазах чужестранца они видели смерть, а его меч обжигал, даже не касаясь. Когда один, мощным ударом разрубленный по пояс, упал, последний в панике повернулся, чтобы убежать, но и его настиг клинок Конана. В этот миг раненый с пола попробовал зацепить солдата дубиной; парень отпрыгнул и, яростно ухнув, добил его. Все было кончено.
Хозяин с тремя слугами немедленно принялся убирать помещение. На всякий случай заперев кабак, трупы через заднюю дверь выкинули в выгребную яму, а кровь замыли и сверху еще полили пивом, дабы заглушить ее запах.
— Недурной боишко, Конан, недурной, — важно заметил сайгад, снова принимаясь за полюбившееся ему здешнее красное вино.
— Боишко? — удивился Парминагал. — Да самый настоящий бой! Не слушай его, душа моя. Ты был великолепен!
Конан довольно усмехнулся. Восхищенные взгляды шамана и молодого солдата, единственного из всей четверки оставшегося в живых, тешили его сердце. Хотя он и сам знал, что был великолепен. После того как Парминагал освободил его от преследователей, природная сила его словно утроилась. Он даже немного сожалел о том, что стражников было только пятеро, а не десяток или дюжина…
— Господин, — хозяин робко подергал его за рукав, — тебе надо уходить отсюда, и поскорей…
— Эти ребята шли к северным воротам, — пояснил молодой солдат, — чтобы сменить ночной караул…
— Их будут искать, — закончил хозяин.
— И то верно, Конан. — Шаман критически оглядел варвара с ног до головы. — У тебя вся одежда в крови.
— Пошли отсюда. — Когда приходила пора удирать, сайгад соображал очень быстро. Вскочив, он забрал со стола недопитую бутыль и понесся к выходу с такой скоростью, что нечего было даже и думать о том, чтоб его догнать.
Когда Конан с Парминагалом выходили из кабака, в конце улицы они еще успели заметить широкую спину улепетывающего со всех ног царедворца. Миг спустя улица уже была пуста.
— Ты так и не ответил мне… — тихо сказал шаман.
— А ты ничего и не спрашивал.
— Спрашивал.
— Что?
— Можно мне пойти с тобой?
— Кром! А мне что за дело! Дорога не моя — иди, коли приспичило.
Парминагал помолчал, взвешивая про себя, стоит ли ему спорить с варваром по поводу такого сомнительного разрешения, и пришел к заключению, что не стоит.
— Тогда заберем лошадей и — в путь?
Конан кивнул. Хорошее настроение его понемногу улетучивалось, а причины тому были разные: во-первых, он клял себя за то, что потащил с собой сайгада — от такого спутника только безногий не убежит, да еще он, варвар, для которого старая дружба кое-что значит; во-вторых, ему совсем не хотелось продолжать путь в компании Парминагала — хотя тот и помог ему, но он все же был шаманом, что сродни разного рода магам и колдунам, которых Конан всегда не выносил; и в-третьих, он не мог себе простить, что отвлекся на драки и позабыл о Белке. Всем сердцем он чувствовал сейчас страдания юного воина. Мысленно обращая к суровому Крому просьбу (больше похожую на требование) покарать его за это, он, согласно расчетливой натуре своей, уже прикидывал, как пройти по зыбучим пескам и не увязнуть в них и как не заблудиться в Хальских пещерах.
Так ничего и не придумав, Конан тем не менее несколько отвлекся от неприятных мыслей. Парминагал прав: надо торопиться.
— Заберем лошадей и — в путь? — осторожно повторил вопрос шаман.
— Лошадей и сайгада, — после долгой паузы мрачно ответил варвар.
* * *
Небо над ним было ровным и чистым, цвета его глаз — ярко-голубого. Белка смотрел в него не моргая, пока слезы не замочили ресниц. Вдруг ему стали чудиться там, вверху, лица братьев — вернее, их черты, еле различимые, бледные… Медведь улыбался; рыжие лохмы, как бывало обычно, падали ему на глаза. Лев был сумрачен и на младшего брата глядел недовольно, как бы осуждая его за бессмысленное существование.
И тут волной на Белку нахлынули воспоминания. Его короткая жизнь пронеслась перед ним в одно мгновение всего, потом память вернула к самому началу… Старец Исидор приходит за ним, малышом Гинфано, в дом… Что это был за дом? Белый мрамор, толстые пушистые ковры, выложенные мозаикой стены его комнаты, цветные витражи в окнах… Пожалуй, более он ничего не помнил. Разве что чьи-то руки. Большие, сильные руки, которые подымают его вверх и несут через огромный, блистающий зеркалами зал. Он смеется: так весело быть выше всех!..
Затем происходит что-то странное. Руки ставят его на пол и легонько подталкивают вперед. Он недоуменно оглядывается; губы его дрожат от обиды, потому что он уже рассчитывал на праздник, а его вернули в этот обычный, совсем неинтересный мир. «Иди ко мне…» Ласковый тихий голос седовласого старца с добрыми глазами останавливает вот-вот готовые пролиться слезы. Гинфано шмыгает носом и идет к нему.
Его руки не такие большие, но тоже сильные. Они тоже поднимают его вверх, так что лицо его оказывается на одном уровне с лицом старика. Насупившись, Гинфано долго глядит в его светлые серые глаза и вдруг видит там свое отражение. Многократно уменьшенное, такое смешное… Он ахает и разражается заливистым серебристым смехом, который, кажется, очень веселит старика… Вместе они смеются, потом старик замолкает, прижимает его к своей груди… Гинфано слышит — нет, чувствует, — как стучит его сердце…
…Белка и сейчас чувствовал, как стучит сердце наставника. Если он жив, он тоже чувствует, как стучит сердце Белки, как горит в нем негасимый огонь, взращенный в чертогах древнего замка Дамира-Ланга… Юный воин улыбнулся, с гордостью ощущая связь между собой и старцем Исидором, явственную даже на таком огромном расстоянии, и вдруг, неожиданно для самого себя, коротко всхлипнул и заплакал — горько, отчаянно, как ребенок, которого обманули в любимой, долго лелеемой надежде. Луч солнца, упавший ему на лицо, живо согрел его слезы, а свежий и слабый ветерок остудил.
Устыдившись внезапной слабости своей, Белка замолчал. Рыдания еще клокотали в его груди, больно трогая переломанные камнем ребра, когда новая мысль пришла ему в голову: он выберется отсюда! Если уж боги оставили его в живых, то значит, они должны были предполагать, что сила маннигана достаточно велика для того, чтобы рано ли, поздно ли, но освободиться (в этот момент он забыл, как еще день назад готовился к медленной смерти). Слезы мгновенно высохли в его глазах, и он снова улыбнулся, предвкушая встречу со старцем Исидором.
Да, по правилу Воина он, покинув замок, не может более видеть наставника, но — обстоятельства вынуждают его нарушить правило! Ведь братья его погибли! Он остался один, и теперь путь его необходимо определить заново!
Огонь, дремлющий в сердце Белки, затрепетал, передавая энергию телу. Изящные нежные руки юного воина напряглись; вены на мальчишеской тонкой шее вздулись (он знал, что вид его был обманчив — старец Исидор часто говорил ему об этом несомненном в жестоком мире достоинстве). Токи силы, волнами пробежав под кожей, встряхнули его раз, другой…
— Встань, Воин Белка… — прошептал он сухими губами. — Встань…
Каменная плита шевельнулась и на два пальца съехала с его груди.
* * *
Хоарезм спутники покинули поздней ночью. Кумбар, ворча, требовал подождать до утра, но киммериец наотрез отказался терять время. Все чаще перед глазами его вставал Воин Белка, коего он никогда в жизни не видал, но коего отлично, себе представлял. Мысленно он сдвигал каменную плиту с его груди многажды, потом подавал руку, помогая подняться… Сейчас ему казалось, что ни одно из прошлых его жутких, страшных и порою странных приключений не имело такого определенного стоящего смысла. Власть, богатство, слава — все это ничтожно по сравнению с простым и важным делом: спасением воина от медленной мучительной смерти.
— Я хочу спать, — мрачно ныл царедворец, тем не менее подгоняя свою буланую, дабы не отстать от варвара. — Спать хочу!
— На Серых Равнинах выспишься, — так же мрачно отвечал ему Конан.
Терпение его, удивлявшее и шамана, и сайгада, и даже его самого, уже было на исходе. Никто еще не выматывал его так, как этот толстый и трусливый индюк. Но, учитывая его преклонный возраст (все-таки сайгад был лет на двадцать старше Конана), а также старую дружбу и рассказ о Белке, он сдерживал ярость, копившуюся в его мощной груди, хотя бы до конца путешествия. Правда, терпеть становилось все труднее, ибо Кумбар как нарочно приставал к нему с нытьем и восторгами по поводу окружающей среды чуть не каждый вздох. Варвар отвечал через раз, а еще через раз стискивал зубы и приказывал себе хранить спокойствие.
— Вот еще! На Серых Равнинах!
Ночь была теплой и звездной. Белый круг луны светил так ярко, что вся дорога впереди просматривалась отлично.
— Сначала ехали по равнине, потом вдоль лесной полосы, и наконец вдали показалась череда приморских холмов. К этому времени небо уже просветлело — близился рассвет, в этих краях обычно ранний.
— Там, — Парминагал указал на круглые головы холмов, — раньше была небольшая деревушка. Может, остановимся ненадолго?
— Времени нет, — проворчал Конан, в глубине души совершенно согласный с шаманом: они не спали две ночи — эту и прошлую, проведенную в лучшем кабаке Хоарезма. Там их не только попотчевали хорошо прожаренной говяжьей печенкой и искристым белым вином, но и ублажили телесно.
Конан выбрал черноокую красотку с длинными, ниже колен, волосами, а Кумбару досталась сама матрона, на чьей могучей груди, по мнению рачительного царедворца, запросто можно было разместить на постой отряд пехотинцев, а на обширном пухлом заду — кавалеристов. Вот только оборонительных сооружений у нее не наблюдалось, вследствие чего Кумбар легко завладел сим стратегическим объектом.
Парминагал от услуг хоарезмских див отказался, предпочтя им доброе вино да неспешную беседу с умным слугой.
— Спать хочу, — капризно заявил сайгад, измученный матроной. — Ты слышишь, о варвар? Давай остановимся в этой вонючей деревушке и хоть до полудня поспим.
— Деревушка приличная, — заступился шаман. — Я был там лет так пятнадцать назад. Люди приветливые, гостеприимные…
— За пару золотых и последний ублюдок перед гостями расстелется, — фыркнул Кумбар.
— Ладно, — прервал Конан содержательную беседу своих спутников, — я и сам спать хочу. Где там твоя деревушка, шаман?
— Вон!
Парминагал привстал в стременах и протянул руку. Приглядевшись, киммериец и в самом деле увидел несколько тускло сверкающих под лунным светом пятнышек — но всей видимости, крыш домов. И если до того у него еще оставались сомнения, то сейчас он твердо решил доехать до деревни и выспаться как следует.
— Ну? — нетерпеливо обратился к нему Кумбар. — Мы едем или стоим?
— Едем… — ответил за варвара шаман.
Они пришпорили лошадей и вскоре уже выехали на узкую, утоптанную башмаками и копытами тропу, что вилась меж холмов и вела как раз к деревне.
Когда они поворачивали в очередной раз, Парминагал вдруг коротко вскрикнул и остановился. По инерции проскакав еще с десяток шагов, его спутники тоже осадили лошадей.
— Ну, что еще! — раздраженно крикнул Конан, разворачивая вороного. Терпение никогда не входило в число его достоинств, а последнее время он, кажется, использовал весь его запас.
— Туда нельзя, — выдохнул шаман.
— Почему?! — От злости Кумбар вовсе потерял голос и сейчас уже не говорил, а пищал.
— Я не знаю… Но чувствую — туда нельзя… Конан, прошу тебя, давай остановимся здесь или там, у кустов…
— Кром! Ты сам хотел ехать в деревню! Ты сам говорил, что…
— Да, говорил. — Парминагал смотрел ему прямо в глаза. — А сейчас говорю — туда нельзя.
— Оставайся!
Конан резко дернул повод, опять разворачивая вороного, и помчался вперед, не оглядываясь. Кумбар, одарив шамана презрительным взглядом, припустил за ним.
Глава VII
Конан подъехал к деревне в тот самый миг, когда первый луч солнца озарил землю робким еще, но быстро набирающим силу светом. Пара ветхих заброшенных развалюх, однако, не вызвали у него желания остановиться, поэтому он поскакал дальше, по пустынной холмистой местности, про себя удивляясь такому странному расположению селения — за много сотен локтей ни одного жилого дома он еще не увидел.
Спутники его — он слышал это, хотя не поворачивал головы, — спешили за ним, причем сайгад неустанно ворчал и жаловался. За время пути он совсем разнуздался: обращался к Эрлику с разными идиотскими просьбами и предложениями, громко охал, пел фальцетом, заставляя птиц смолкать от ужаса, а однажды, совершенно обнаглев, попытался даже всплакнуть, горюя о несчастной своей судьбине. Он так и сказал — «судьбина», от какового слова, годного лишь для употребления в кругу старых дев, варвар долго отплевывался.
Парминагал, вопреки опасениям, вел себя вполне прилично. В разумении варвара это значило мало говорить, не стонать, изредка — в случае необходимости — ругаться, а также пить много вина и не особенно от него хмелеть. Вот только с женщинами он явно не желал иметь дела. Поначалу Конана это несколько удивило и, естественно, вызвало некоторое подозрение, но потом, коротко поговорив с ним при выезде из Хоарезма, он понял, что шаман так устроен:
он ждал свою единственную любовь и до той поры предполагал сохранить свою чистоту в целостней возможной сохранности.
Конечно, киммериец до конца так и не смог уяснить, зачем мужчине нужно сохранять чистоту. Он тоже намеревался когда-нибудь (в далеком будущем) одарить любо вью красивую, умную и добрую девушку, которая будет ему верна и родит для него сына, или двух, или трех. Он, Конан, быть может, тоже будет ей верен. Но сейчас-то он с ней вовсе не знаком! Зачем же ей его верность?
На эти соображения Парминагал ничего вразумительного сказать не смог — только пожал плечами и улыбнулся. И тогда Конан сказал сам: «Живи как думаешь, парень. Но если тебе вдруг захочется хорошенькую девчонку — скажи мне. У меня есть одна подружка…» (тут он немного слукавил, ибо подружек у него в каждом городе, где ему пришлось побывать, было с десяток). Шаман и на это ничего не ответил, да варвар ответа и не ждал.
Так, размышляя на непривычную для себя тему — девственность и порочность, — Конан достиг наконец деревянных ворот, кои стояли в самом узком месте тропы, между двух пышных холмов, похожих на грудь Кумбаровой матроны, и обозначали въезд в селение.
— Постой! — почему-то шепотом крикнул ему Парминагал.
Он остановился, подождал шамана.
— Прошу тебя, Конан…
— Вздор! — Не дослушав, киммериец снова пустил коня вскачь.
В ворота он влетел вихрем и так же промчался по небольшому полю, что серебрилось в утреннем нежном свете. Сзади он слышал опять причитания утомленного дорогой царедворца — эти омерзительные звуки только подгоняли его. Инстинктивно он стремился оторваться от спутников, чтобы не слышать, как хнычет старый толстый кабан.
За полем Конан обнаружил перелесок, а уже за ним виднелись и крыши домов. Только здесь он почувствовал близость моря: ветер, свежий, напитанный запахом соли B рыбы, стал сильнее и гнал по небу длинные белые перья облаков.
Десять лет назад он так же стремил коня к морю Вилайет. Там, на Острове Железных Идолов, находился замок отвратительного колдуна, похитившего дочь у доброго хона Буллы, который отнесся к юному варвару как к собственному сыну. В ответ Конан решил освободить его Адвенту, для чего и отправился на поиски злодея. Сопровождал его в путешествии сем Майло, полуоборотень-получеловек. Хон Булла взял его к себе еще младенцем, и — увы, на горе, а не на радость, ибо колдун, не удовольствовавшись тем, что мальчишка с каждым годом становится все более зверем, определил еще и срок его жизни — в двадцать пять Майло должен был умереть.
Киммериец усмехнулся, припоминая подробности этого похода. Особенно развеселило его сейчас то, отчего тогда он пришел в неописуемый ужас, хотя и не признался в том: в зале Железных Идолов Майло, который до тех пор был сварлив, но зато добр и внешне весьма красив, превратился в настоящего монстра- Слава Митре, душа у него осталась прежняя — с ней колдун ничего не смог сотворить. Правду сказать, если б не приемный сын хона Буллы, то Конан сейчас вряд ли ехал бы спасать Воина Белку — Майло заслонил его собой от смертоносного взора колдуна, он же с ним и сразился… Жаль только, девчонка к тому времени была уже мертва…
Вдруг Конану захотелось повидать старых друзей. Хон Булла, наверное, давно уж переселился на Серые Равнины — ему и тогда, десять лет назад, было почти что восемьдесят, а вот его парень, должно быть, жив, женат и многодетен… Какой он сейчас? Помнит ли юного варвара и их совместный поход к морю Вилайет, на Остров Железных Идолов? Конан был уверен, что помнит. Разве можно такое забыть?
— Ко-о-она-а-ан1
Голос сайгада разнесся по полю и рассыпался в перелеске* «Ан-ан…» Киммериец сплюнул на лету и остановил вороного. Запыхавшись, словно это он, а не его лошадь, скакал всю ночь от самого Хоарезма, Кумбар подъехал к спутнику.
— Шаман говорит, там черная зона, — сказал он, махнув толстой рукой в сторону деревни. — Он сам это видел.
— Проклятие! — В ярости Конан дернул повод так резко, что вместе с конем крутанулся на месте. — Когда он это видел? Он же говорил, что был там лет пятнадцать назад!
— Лет пятнадцать назад там все было в порядке, — спокойно заметил Парминагал, приближаясь. — А сейчас над этим местом сплошная чернота.
Несмотря на невозмутимый вид шамана, Конан заметил в карих глазах его тщательно скрываемую тревогу и даже страх. Он и на миг не усомнился, что тот действительно видит — а скорее чувствует — некую черную зону, но это только раззадорило его. Отступать перед мраком он не желал (напрочь забыв сейчас свое бегство из Пунта от зомби) — во всяком случае, так определял он для себя намерение все же поехать в деревню. Но истинная причина тому была все же в ином: варвар был голоден и очень хотел спать.
Во хмелю собираясь отъезжать из Хоарезма, ни один из них не подумал о провианте, так что теперь в их дорожных мешках не имелось даже куска хлеба. В желудке у Конана тоже было пусто, и дума о жареном барашке не оставляла его давно, с самой середины ночи.
— Вздор! — упрямо заявил он, разворачивая вороного, который нежно и удивленно обнюхивал морду серой в яблоках кобылы Парминагала. — Я еду!
— А я — нет! — запальчиво выкрикнул сайгад.
— Я с тобой, Конан, — хмуро произнес шаман, трогаясь с места.
— Ну и я тогда… — Кумбар надулся как индюк, но направил буланую следом за спутниками.
Втроем они въехали в деревню.
Здесь уже и Конан уловил звериным чутьем своим нечто странное, чужое. Ни одного человека поблизости видно не было. Полная тишина царила в этом прекрасном месте. На пятачке между низких и широких холмов стояли уютные деревянные домишки, обнесенные изгородями из сплетенных ветвей. Блики солнечных лучей сверкали в маленьких оконцах, переливаясь всеми цветами радуги. Картина была чудесная, и будь Кумбар сейчас настроен более мирно и поэтично, он непременно отметил бы величие деревенской простоты, но — он был обижен, а чувство сие не располагает к созерцанию. Поэтому он только фыркал и вздыхал, надеясь, что спутники внемлют его страданиям и все-таки повернут обратно. Увы, ни варвар, ни шаман, похоже, не обращали никакого внимания на несчастнейшего из Эрликовых рабов. Они просто ехали впереди него, не оборачивались и вообще молчали.
У одного из домов Конан спешился, жестом велел товарищам ждать его здесь и вошел в маленький аккуратный дворик. Заглянув через окно внутрь, он оглядел комнату, пытаясь найти хоть какие-то признаки человека, но ничего подобного не увидел. Тогда он толкнул тяжелую дверь, которая оказалась не заперта, и ступил в короткий и темный коридор.
И здесь он услышал одну только тишину, причем не живую, наполненную дыханием, а совершенно мертвую. Все звуки умерли в доме; скрип двери был чем-то вроде взрыва вулкана на необитаемом острове — даже варвар вздрогнул от него.
Конечно, в комнате никого не было. Мало того: даже следов пребывания человека Конан не обнаружил. Правда, на середине стоял стол, под ним табурет, а у окна лежанка, но все это — покрытое пылью и обвитое чуть не столетней паутиной — создавало тем более неприятное ощущение небытия. Только рваные сапоги, торчащие из-под лежанки, сообщали надежду на жизнь, и ту — призрачную.
Так ничего и не поняв, киммериец позвал товарищей. Кумбар вежливо пропустил вперед шамана, сам вошел следом, озираясь по сторонам.
— Никого? — хмуро бросил Парминагал, не глядя на варвара.
— Сам видишь, — отозвался тот. Он уже сдул с лежанки пыль и уселся на нее, давая понять спутникам, что это его место для сна
— А пожрать? — задал сайгад главный вопрос.
— Тоже нет…
— Тогда поищем в другом доме?
— В другом то же самое… — Парминагал по примеру Конана сдул пыль с табурета, потом еще протер его полой куртки и лишь потом сел. — Здесь уже давно никто не живет.
— А тебе сие откуда известно? — подозрительно спросил Кумбар, оставшийся без места.
— Нет запаха… жизни…
— Запах жизни! Ха! Ха! Ха! — саркастически сказал царедворец. — Ну, дружище, коли тебе надобен для счастья запах жизни, то мне, простому человеку, достаточно и запаха еды. Барашка там жареного, или почек в крестьянском масле, или петушка на вертеле…
— Тихо! — Шаман вдруг резко побледнел и покачнулся, чуть не упав с табурета.
— Чего еще? — Конан насторожился. Во всем, что касалось темных сил, он верил новому знакомому безоговорочно. Сейчас по виду его, по глазам, потемневшим до наичернейшего, он уверился в том, что здесь действительно если не «черная зона», то обиталище зла точно.
Вместо ответа Парминагал поднял руку, еще раз призывая к молчанию. Несколько мгновений все слушали тишину — чужую, враждебную. Варвар узнал ее сразу, а узнав, положил руку на эфес меча и так замер.
Кумбар, мысленно вознося мольбы Эрлику, обреченно закрыл глаза. Он уже почти смирился с тем, что путешествие его, предпринятое им так опрометчиво, добром не закончится. Между тем картины прошлого все последнее время беспрестанно возникали перед его глазами. Он, как выяснилось, уже плохо помнил те годы, что прослужил в туранской армии. Красномордый парень с наглыми глазами и диким нравом, первый и на дружеской пирушке и на поле брани, был ему знаком весьма смутно. Если б тогда он только на один миг мог себе представить, во что превратится спустя всего-то лет тридцать, то сам бы напоролся на вражеский клинок. «Что спите, ребята! — как во сне слышал он свой собственный голос, веселый и злой. — А ну, вперед! За мной! Руби!» Кумбара даже передернуло от смешанного чувства гордости за себя в молодости и стыда за себя сейчас. Каким образом и когда произошли в нем эти ужасные изменения? Неужели сладкая и сонная жизнь во дворце сотворила из бесшабашного солдата эту жирную курицу, дрожащую от страха при одной только мысли об опасности? Тьфу! В отчаянии сайгад сплюнул на покрытый ковром из пыли пол и повернулся к шаману.
— Ну вот что, парень, — громко сказал он. — Кто бы ни был тот ублюдок, что пожрал всю деревню, я не желаю ждать его молча. Я бу…
Дверь скрипнула. Оборвав себя на полуслове, Кумбар медленно повернулся.
* * *
Тон, каким старый солдат сделал свое заявление, поразил не столько шамана, сколько варвара. Он уже привык к тому, что толстяк скулит по всякому поводу и без повода вовсе. Сейчас ему показалось, что он слышит и видит совсем другого человека — впрочем, показалось лишь на мгновение, ибо дверь-то все же скрипнула, а потом и открылась. На пороге стоял… Или стояло… Скорее, наверное, стояло.
Невысокое существо, пола ни женского и ни мужеского, а какого-то среднего, взирало на спутников как будто бы благосклонно, но варвар, поймавший самый первый его взгляд, готов был поклясться хоть Кромом, хоть Митрой и прочими богами, что в нем сверкнула ненависть, причем такая мощная, что в груди Конана сразу поднялась ответная волна, Он сдвинул брови и на два пальца вытащил из ножен меч.
В полном молчании пришелец и гости рассматривали друг друга. Что там особенного он мог найти в них, так и осталось загадкой, а он явно был чем-то весьма удивлен. Они же видели перед собой нечто косматое, тощее и горбатое. Безобразное плоское лицо с острыми и мелкими чертами, обрамленное всклокоченной бородой, на щеках имело яркий лихорадочный румянец, а в общем отличалось, наоборот, ужасной бледностью. Мышиные глазки беспокойно перебегали с огромного варвара на толстого сайгада, а с него на ничем не примечательного с виду шамана (тем не менее именно шаман удостоился взгляда долгого и тревожного). Вот и все, что было в пришельце человеческого. Остальное могло принадлежать только монстру из царства Нергала — так решил варвар, обозревая странное тело существа.
Руки его, покрытые густым черным волосом, с длинными желтыми ногтями, походили на обезьяньи лапки — только ладони розовели гладкой кожей; босые ноги были коротки, кривы, тоже волосаты и — трехпалы. Между этих пальцев Конан с отвращением заметил пупырчатые перепонки, измазанные в какой-то дряни, смахивающей на болотную тину. Туловище его, гораздо длиннее ног, поросло большими — с кулак — шишками, которые торчали из прорех в грязной тунике.
Наконец монстр завершил осмотр гостей и, откашлявшись, сказал первые слова приветствия.
— Что вам надо здесь, чужестранцы?
Голос урода оказался не менее противным, чем внешность: скрипучий и гнусавый, с нотками страждущего любви кота. Длинные передние клыки, далеко заходящие за нижнюю губу, явно мешали ему говорить.
— А тебе что? — ответил расхрабрившийся сайгад.
— Моя деревня, — коротко пояснил тот.
Кумбар открыл рот, дабы продолжить столь увлекательную беседу, но его перебил Парминагал.
— Не скажешь ли, достопочтенный (при этом слове варвар и сайгад в унисон хмыкнули), куда подевался народ? Помнится, здесь когда-то жили люди…
— Теперь не живут.
— Это я уже понял. Я спрашиваю, где они?
— Где-то там. — Монстр описал лапой полукруг, так что невозможно было уяснить, где же все-таки люди.
— Где люди, старая коряга?! — рыкнул киммериец, жалея время на болтовню с этим ублюдком.
От его голоса монстру стало дурно. Закатив глаза, он прислонился горбом к стене и часто задышал.
Царедворец совсем осмелел. Он подошел к самозваному хозяину деревни так близко, что чуть не касался его животом, потряс перед его носом толстым пальцем и, ласково улыбаясь, сказал:
— Я тебя сейчас укушу.
— А? — удивился монстр, приходя в себя.
— А потом съем.
То, что произошло сразу за этим обещанием, на миг повергло в шок и Конана и шамана. Урод вдруг открыл пасть так широко, что в нее запросто могла бы вместиться голова Кумбара — она и вместилась, по самую шею. Несчастный сайгад заверещал пронзительно, уперся руками в грудь обидчика и попытался вырваться. Напрасно. Он только оцарапал себе затылок об его острые зубы. Кровь брызнула на Парминагала, который был на два шага ближе к обоим, чем варвар.
Эти красные мелкие капли привели в чувство товарищей бедняги Кумбара. В тот момент, когда монстр начал смыкать челюсти — с омерзительным хрустом, наслаждаясь, медленно, — Конан вскочил, молнией рванулся к нему и кулаком со всей силой треснул его по темени. Удар этот был настолько силен, что звук от него эхом разнесся по комнате.
Пришла очередь урода погрузиться в прострацию. Замерев с головой сайгада в пасти, он снова закатил глаза; слюна, вонючая даже на расстоянии, струями потекла по бороде, склеивая волоски.
— Конан! — предостерегающе крикнул Парминагал.
Но было уже поздно. Едва киммериец выхватил из ножен меч, дабы завершить казнь монстра, как черная волосатая рука протянулась к нему, железными пальцами вцепилась в лодыжку и дернула. Потеряв равновесие, Конан грохнулся на пол. Урод при этом так и стоял с отрешенной физиономией и с закаченными к потолку глазами.
В ужасе Парминагал увидел, что поверженный варвар не двигается. Что с его сознанием? Надолго ли покинуло оно его? Эти вопросы промелькнули в голове шамана за краткую долю мига. Затем он вытянул из потайного мешочка на поясе под курткой тонкую иглу и метнул ее в монстра.
Страшный визг потряс дом. Откуда в узкой впалой груди было столько силы, чтобы орать так громко и так долго, шаман понять не мог. Звук рос, крепчал; вот уже трещины побежали по стенам, лопнуло толстое стекло в окне, а потом визг вылетел на улицу и там превратился в ветер. Он выдергивал из земли тонкие молодые деревца и шатал из стороны в сторону старые, срывал листья, сносил крыши с домов; он становился уже настоящим вихрем.
С удивлением отметил про себя шаман два обстоятельства, сопутствующие происшествию. Первое — счастливое: расширив пасть для визга, монстр волей-неволей выпустил голову Кумбара, и тот, от ужаса и последующего за тем шума лишившись чувств, теперь лежал у ног ублюдка. Второе — странное: только в первые несколько мгновений монстр действительно визжал, а потом ни звука не вылетало из его открытой пасти — его визг ожил и начал существовать уже отдельно от него.
Игла Парминагала — самая что ни на есть обыкновенная стрела, какими пользуются дикари Зембабве, но пропитанная особым составом, известным только шаманам высшей касты, — поблескивала меж кустиков бровей урода. На человека она действовала в течение трех-четырех вздохов. Сначала каменели все члены, с ног и до плеч, а потом лицо покрывалось тонкой, с одной стороны прозрачной маской, через которую несчастный ничего не видел, но мог дышать сколь угодно долго. Прежде Парминагал никогда не пользовался этим жутким оружием, предпочитая нормальную драку или, в крайнем случае, малую толику магии. Но сей случай нельзя было даже назвать крайним. Он был вообще бескрайний. Два товарища, одного из которых шаман был бы счастлив назвать другом, валялись на пыльном полу без признаков жизни, и он, Парминагал, что вызвался сопровождать их (а это значит взять на себя часть тех трудностей, каковые неизбежны в пути), пока ничем не может им помочь.
На монстра отравленная стрела действовала весьма медленно. Да, его отвратительные члены, кажется, окаменели, как и положено, а вот маска на роже проявилась какими-то клочками — немного на лбу и на щеках. Глаза заворочались, разыскивал того, кто сотворил с ним такую пакость, а найдя, уставились с уже нескрываемой ненавистью. Будь сейчас на месте Парминагала царедворец, он от такого взгляда пришел бы в неописуемый ужас. Но он поплатился за некстати проявленную смелость и теперь возлежал у ног монстра, а шаману на все чувства грязного чудовища было глубоко наплевать. Напротив, он даже вздохнул с облегчением, ибо мог по глазам узнать очень многое.
Так, он сразу понял, куда все же подевались жители этой деревни. Все они умерли, отравившись водой из единственного в округе ручья. Затем Парминагал увидел отряд всадников, скачущих по той же тропе, по какой прибыли сюда и они. Когда до деревни оставалось примерно двести локтей, вдруг поднялся страшный ураган, в воронку коего и попали всадники. Их крутило над землей вместе с лошадьми довольно долго; шаман слышал их страшные крики, видел мелькающие руки, ноги, головы. Воронка, похожая на черную руку, взметнулась вверх, к самым облакам, и оттуда с размаху грохнулась наземь… Парминагал сморщился: и люди и лошади превратились в одно сплошное кровавое месиво, которое тут же втянула в себя земля — ни следа не осталось.
Потом… А потом он узрел и себя со спутниками, но эта картинка лишь мелькнула и исчезла, ничего интересного в ней не было.
То, что шаман увидел в следующий миг, заставило сердце его застучать отчаянно. Словно с высоты птичьего полета посмотрел он на пятачок меж холмами, где прежде находилась деревня. Черные пятна просвечивали сквозь траву повсюду; приглядевшись, он понял, что они как будто бы живые — они бурлили и клокотали, как лава в кратере очнувшегося вулкана. Парминагал вытер мгновенно взмокший лоб и закрыл глаза.
Видения тут же пропали. Но в памяти его они запечатлелись прочно. Монстр, вращая глазами, стоял перед ним, и маска постепенно обволакивала его гнусную рожу. Шаман, отвернувшись от него, сел на табурет и погрузился в малоприятные думы.
Как он и предчувствовал, здесь была черная зона. Конан тогда не понял, что сие значит, и вряд ли поймет позже — некому будет объяснить. Для белого шамана высшей касты, — а Парминагал был именно белым — черная зона являлась основным местом испытания, по сути, конечной целью всего земного пути. Все обучение его сводилось тоже к этому: следовало уничтожить все пятна и при этом, скорее всего, погибнуть.
Жизнь, как ни старался Парминагал убедить себя в обратном, вполне устраивала его. У него был выбор — он мог уйти и мог остаться. Он больше не состоял в высшей касте и по правилам считался теперь обычным человеком, которому вовсе не обязательно связываться с таким дерьмом, как силы зла. Так что сейчас ему следовало решить для себя, обычный он человек или нет, что делать и делать ли что-нибудь вообще. Всем сердцем он стремился уехать отсюда вместе со спутниками и всем же сердцем желал остаться.
Он посмотрел на Конана, уже подававшего признаки жизни. Вот тот, кто мог бы стать для него братом. Сын самой природы, он был естествен; его сила, ясность ума и отвага — редкостные достоинства, особенно в гармоничном сочетании — для Парминагала значили милость богов. Он точно знал, что боги отметили этого сурового и грубого варвара, что ему они предназначили путь долгий, а судьбу непростую и счастливую. Хорошо бы пройти с ним рядом хотя бы малую часть этого пути…
А черная зона… Шаман пожал плечами. Какое ему дело до этой черной зоны и всех прочих черных зон? Пусть ими занимаются другие — он не единственный брахид на свете…
Но одно дело — так подумать, и совсем иное дело — так и поступить. Парминагал даже застонал от неспособности (или неумения) разрешить вопрос быстро и без сомнений. Насколько проще было отказаться от борьбы за власть и покинуть Шангару!
Вскочив, шаман сделал несколько кругов по комнате, вздымая сандалиями пыль. Время от времени ему приходилось перешагивать через ноги Конана и чуть не откушенную голову Кумбара, но он того вовсе не замечал. Тяжкий груз давил ему на плечи, мысли путались, а сердце билось в груди тяжело и медленно, словно уставший смертельно коваль лупит по наковальне молотом, отдыхая каждый вздох…
Некоторое время спустя он знал уже совершенно точно: день битвы с черной зоной будет последним днем в его жизни. Конечно, по правилам брахидов он не должен был утверждать еще не изведанное, ибо в правиле сказано: «Не скажи — я знаю, скажи — я думаю; не скажи — да, скажи — может быть…» Ему всегда нравилась больше вторая часть того же правила: «…но если знаешь и если да, не говори — я думаю; не говори — может быть». Так что он именно знал…
И вдруг он принял решение. Это произошло короткую долю мига, неожиданно и для него, будто боги узрели его муки и послали Озарение. Парминагал остановился, улыбнулся отстранение. После того, как он ощутил, что сердце успокоилось и легче стало дышать, он вновь вернулся в свое обычное состояние — обычного человека. Он решил.
Теперь нужно было осуществлять задуманное, а для этого — нужно отправить отсюда Конана и его приятеля.
Шаман присел на корточки перед варваром, приложил ладонь к его щеке, почувствовал тепло… «Все, душа моя… — прошептал он, передавая силу огромному, неподвижному пока телу. — Ты можешь встать. Ну? Встань же, Конан…»
Глава VIII
Сила уже ощутимо разогревала кровь. Ее живой поток струился по жилам весело, как воды горной речушки, журча, текут меж камней, то взмывая вверх, то снова падая вниз. А еще сюда вернулись птицы, и они тоже принесли с собой жизнь. Они заливались трелями, свистели, чирикали и просто громко, бранчливо кричали, видимо не поделив рыбешку. Белка завертел головой, пытаясь увидеть их, но только быстрые узкие тени мелькали над ним в воздухе или где-то сбоку, да шум крыльев слышался совсем рядом.
Огонь в сердце, разгораясь так медленно, уже пылал, в скором времени обещая истинную свою мощь. Он смешивался со свежим морским воздухом, с землею, на коей лежал Белка, и с водой — четыре стихии, дополняя одна другую, питали кровь человека и его душу.
Теперь он был спокоен, ибо знал, что будет жить. И он собирался жить — за себя и за братьев. Он получил неплохое наследство: все, что предназначалось свершить в мире сем Медведю и Льву, переходило к нему. Он был рад. Наверное, он был рад — пока он и сам не мог определить свои чувства. Терпеливо ожидая, когда сила вернется к нему, пропитает все его существо, он вел мысленные беседы с братьями и наставником, предлагая им свои ощущения жизни и живо интересуясь их ощущениями. Они гордились им — он читал это в их глазах, и сам он тоже гордился собой. Он остался жить, но главное его достоинство состояло все же в ином: лишь только память вернулась к нему, он перестал желать смерти. Наставник говорил (Белка помнил его слова отчетливо), что воин никогда не хочет умирать, а особенно тогда, когда мрак Серых Равнин уже входит в его душу. Он непременно сопротивляется смерти, хотя не отворачивается от нее и страха в глазах нет. Итак, Белка не хотел умирать.
Он повернул голову чуть вбок, как уже привык делать — чтобы почувствовать виском и затылком тепло шлема. И, как раньше, звякнул о железо камешек, так тихо, что в птичьем клекоте он не расслышал звука, хотя знал, что звук был. Он вообще сейчас много знал, может быть, гораздо больше, чем в тот день, когда покинул замок Дамира-Ланга. Он знал жизнь природы и понимал, чем она отличается от его жизни; он раскрыл тайну равновесия земного — а несмотря на то что наставник часто объяснял ему такую простую вещь, он не мог постичь главного, того, что равновесие и есть основа всего сущего; он собственным телом ощутил дыхание самой земли и вдруг сделал открытие — она тоже звезда, такая, каких много в небе, пусть и видны они только ночью.
Знание сделало его свободным. Пока — лишь духом, но скоро он был намерен освободиться полностью. Это чувство — будущей свободы — охватывало его всего, стоило мельком вспомнить о ней, и было настолько сильным, что он даже начинал опасаться, как бы та легкость, что обретет он, поднявшись на ноги, не унесла его ввысь — как птицу уносит резкий ветер. Впрочем, он с удовольствием полетал бы над Землей, посмотрел бы на нее сверху, хотя бы затем, чтоб убедиться: Земля — Звезда и форму имеет все-таки объемную. Ему говорил об этом наставник, но в то время Белка сомневался во всем, а уж в форме Земли тем более.
…Солнечный луч отыскал его лицо и принялся светить так яростно, словно считал юного воина своим личным врагом. Белка прикрыл глаза, приготовившись терпеливо ждать полудня, когда яркий огненный шар, который люди называют оком светлого бога Митры, перейдет на сотню локтей вперед и край каменной плиты, нависший над подбородком, загородит его. Тогда уже не будет так жарко, а будет тепло, а после — холодно, особенно ночью, но и к этому чередованию Белка уже успел привыкнуть.
Какая-то мысль, очень, очень важная, завертелась в голове. Она была совсем близко, но он никак не мог уловить ее смысл. Он попробовал напрячься, потом расслабиться — все оказалось напрасно. Тогда он придумал новый ход — поиск ассоциаций. От желания жить он перешел к равновесию, от равновесия к будущей свободе, от будущей свободы к форме Земли и вдруг по закону коловращения начал думать в обратном порядке, то есть от формы Земли к будущей свободе и так далее.
Белка усмехнулся. Поиск ассоциаций привел не к ожидаемому результату, а к совершенно противоположному: если до того важная мысль все же вилась где-то рядом, то теперь она исчезла вовсе. Он даже не мог припомнить, какого свойства она была и к чему примерно относилась.
Не открывая глаз, Белка начал играть с солнцем. Он отталкивал от себя его назойливый луч, затем снова ловил его и снова посылал вверх. Но вот солнце зажарило в полную мощь, и уже не один луч, а целый сноп направило ему в лицо. В ярком пятне он разглядел снова черты своих братьев, не нашел в них ни мысли, ни чувства и предался занятию, по его мнению, постыдному для воина: мечтанию. Всякий мужчина — Белка был в этом уверен — может мечтать только об одном: о ратном подвиге. Медведь и Лев ничего иного вообще не держали в голове, отчего были всегда спокойны и ждали своего будущего с достоинством. Он же смел мечтать о многом, в частности о любви.
Он так и не признался в пороке сем наставнику. Порой ему казалось, что тот и без слов понимает все, но надо было все же сказать слова, ибо честность есть вторая воинская доблесть (первая — честь). Он не понимал пока, что в мечтаниях его ничего зазорного нет, потому как он и понятия не имел о сопутствующих прелестях любви возвышенной, любви духа, любви-любования. Само чувство он представлял себе так, как его подают поэты, коих он, втайне от братьев и даже наставника, прочел великое множество. Не все нравилось ему в их одах и балладах, не всему он мог поверить, и бывало, что он, чувствуя фальшь, на многие луны оставлял чтение. Но сердце (тогда в нем еще не было негасимого огня) продолжало работу над мечтой.
И сейчас он, даже наедине с собой слегка покраснев от сознания собственной неполноценности, все-таки принялся мечтать о любви — такой, какой он ее себе представлял. Сам того не зная, он открыл некоторые истины, до него открытые лишь мудрецами и философами (не всегда два эти звания совпадали). Например, он понял однажды — сие было озарение — основную составляющую любви: любящее сердце видит человека таким, каким его придумали боги. Он не удивился этой идее, ибо выяснилось, что его сердце прежде мозга догадалось о том.
…Белка вздрогнул. Та мысль, кою он потерял только что, проявилась вдруг ясно, пойманная опять же сначала сердцем. Он подождал немного, думая, что вот сейчас она будет осознана им, — так и вышло. Да, это точно была очень, очень важная мысль… По коже юного воина войском муравьев пробежали мурашки. Не теряя и мига, он приготовился, вошел в ритм своего сердца, ощутил жар негасимого огня, потом ток, исходящий из шлема, и наконец саму силу.
— Встань, Воин Белка, — сказал он себе вслух, твердо. — Встань и иди.
Он рванулся. Камень слетел с его груди, рухнул в песок и рассыпался в прах.
* * *
— Встань, Конан, — громко произнес шаман, отнимая ладонь от щеки варвара. — Встань и иди!
Ресницы гиганта дрогнули, веки медленно приоткрылись. На Парминагала плеснулась тусклая синь, пока неживая, но с появлением мысли и чувства обещавшая стать яркой и яростной.
Долго ждать не пришлось. С пару мгновений бездумно посмотрев в карие глаза спутника, Копал вдруг нахмурился, отвернулся, потом рыкнул — тихо, словно проверяя голос, но все равно так звучно, что шаман пальцем шутливо поскреб в ухе, — и рывком встал.
— Что со мной? — угрюмо обратился он к Парминагалу, избегая глядеть ему в глаза.
— Ничего особенного, — небрежно ответил тот. — Уродина шмякнула тебя об пол, а так все хорошо.
— Какая уродина? — Похоже было, что киммериец, с силой треснувшись затылком о дерево, забыл все, что тут происходило,
— Вон та.
Конан с недоумением воззрился на окаменевшего монстра. Маска все же залепила его угрюмую рожу, и теперь он, пытаясь скинуть ее, строил гримасу за гримасой, одну страшнее другой, не понимая, что с той стороны его отлично видно. А в общем, он и без гримас был достаточно безобразен, так что особенно удивить и испугать никого не мог.
— Где сайгад?
— О, я забыл про него…
Парминагал присел возле туши царедворца и начал быстро шептать странные слова на незнакомом варвару наречии — каком-то дикарском, судя по отрывистым лающим звукам. Заклинание тут же почти заставило Кумбара открыть глаза (но первым делом он громко и отчаянно застонал) и начать подниматься.
— Где я? — слабым голосом вопросил он, тоже забыв обо всем, что было.
— Теперь на земле, — весело ответил Парминагал.
— Почему теперь?
— Потому что до этого ты гулял по Серым Равнинам, — бестактно заметил варвар.
— О-о-о… — начал было ныть сайгад, но вдруг вспомнил, что он снова стал смел и решителен. — О!
Закончив этим бодрым «О!» нытье, он принужденно оживился и завертел головой, оглядывая незнакомое помещение. И конечно, взор его натолкнулся на монстра, что застыл у дверей.
— Кто это? — с удивлением и отвращением воскликнул он.
— Да так… — Шаман улыбнулся. — Забрел тут один…
Конан хмыкнул. К этому времени он отлично вспомнил все, до единого мига, и теперь едва удерживался, чтобы не расхохотаться при воспоминании о том, как монстр кусал голову царедворцу. Впрочем, натура его не предполагала выдержки в подобных ситуациях, так что он все-таки расхохотался.
— О, варвар… — укоризненно сказал сайгад. Он не понял, что так рассмешило приятеля, но зато понял, что он сыграл в этом не последнюю роль. — О, варвар!
Парминагал улыбался — уже отстранение. Мысленно пока пребывая с Конаном и сайгадом, душою он был в предстоящей в скором времени битве, и сие хотя и не выводило его из равновесия, но сообщало грусть — слава Митре, светлую. Ведомый странным человеческим инстинктом жить, он тянул время, не желая разлучаться с товарищами, но умом того не осознавал. Когда же осознал — испугался. Того, что сила духа оставит его, и тогда он изменит себе, своему сердцу; того, что, еще чуть промедлив, уже не сможет заставить себя остаться здесь. Он на миг стиснул зубы, призывая себя к мужеству (коего, кстати, от природы не имел в достатке), и приступил к главному — к прощанию.
— Вот что… — как мог беспечно сказал он. — Вам пора уже в путь, друзья…
— Нам? — удивился Конан. — А ты?
— Я передумал. Я не пойду с вами.
Эти слова дались шаману с трудом, но, сказав их, он почувствовал неимоверное облегчение. Первый шаг, сделать который, казалось ему, практически невозможно, сделан. Дальше будет много проще.
— И куда ж ты теперь? — с грустью в голосе поинтересовался Кумбар.
— Обратно, в Шангару.
— Что ж, — сказал киммериец, убежденный, что Парминагал решил вернуть себе наследное владение, — клянусь Кромом, я всегда считал, что мужчина должен отвоевывать свое. Ступай, парень, и дядьке своему каждого брата припомни.
— Хорошо, — послушно кивнул шаман, отворачиваясь.
Он не хотел сейчас говорить о том, что меньше всего его волнует власть; что власть — ничтожна, особенно по сравнению с жизнью, с любовью и честью. То же и $*есть за братьев: никогда прежде он не был так от этого далек. Может быть, днем раньше он и чувствовал в себе необходимую для мести злость и обиду, но — не теперь. Нергал с ним, с жестокосердым и хитроумным дядькой… Избавить мир хотя бы от одной черной зоны — вот что действительно важно…
— Тогда прощай! — Грусть бесследно исчезла из голоса Кумбара. Он был уже готов к дальнейшему путешествию, но, по дворцовой привычке любому оставлять о себе приятное впечатление, подскочив к Парминагалу, залихватски потрепал его по плечу и лишь тогда с чувством выполненного долга вышел за дверь.
Конан же только кивнул товарищу. Потом поднял свой пустой дорожный мешок, взятый в дом с целью доверху набить его провизией, и, сунув его за пазуху, вышел вслед за сайгадом. Впрочем, на пороге он обернулся.
Во взгляде его шаман прочитал желание сказать еще какие-то слова — увы, с грустью заметил он, видимо, эти слова не находились. Варвар хмуро взирал на него сверху вниз своими синими, как предзакатное небо, глазами и молчал.
— Я буду помнить тебя, Конан, — помог ему уйти Парминагал.
— Вот что… — Кажется, слова все-таки нашлись. — Сдается мне, твои братья сейчас видят тебя и…
— И гордятся мной? — улыбнулся шаман.
— Да, и гордятся.
На этом киммериец наконец повернулся и вышел совсем. Когда дверь за ним захлопнулась, Парминагал постоял немного — ни о чем не думая и ни о чем не вспоминая, а уж тем более ни о чем не жалея — и начал готовиться к битве.
* * *
— Надо торопиться! — на скаку выкрикнул Кумбар, еще пришпоривая и без того уж загнанную лошадь.
Конан посмотрел на него удивленно: прежде царедворец не выказывал особой прыти, нынче же, с того самого момента, как они покинули пустую деревню, гнал буланую во весь опор, молодецки присвистывая и явно чувствуя себя полководцем.
Сайгад понял его взгляд. Стараясь переорать ветер, он, срываясь на визг, пояснил:
— Зыбучие пески! Один раз! В день! Скоро!
Тут и Конан пришпорил своего вороного. Кумбар был прав — раз в день зыбучие пески у южного берега моря Вилайет замирают, и по ним можно пройти как по твердой земле, не опасаясь провалиться.
Вихрем пролетели они последнюю череду холмов и едва успели остановить лошадей — прямо перед ними было море. Но не синего цвета, не зеленого и не ярко-голубого, а желтого. В первый миг киммериец даже не понял, что это и есть зыбучие пески. Такие же, как в настоящем море, волны, перебегающие одна за одной к берегу, а потом откатывающиеся обратно, такой же простор, такое же спокойное, истинно императорское величие.
Конан покосился на Кумбара, думая, что вот сейчас он опять начнет визжать от восторга и приступа умиления, но красная физиономия старого солдата была сумрачно-неподвижна, словно он погрузился вдруг в некую очень важную думу, против которой красота природы была мелка и ничтожна, как собака Гухул перед умным Кумбаром… Такое сравнение, пришедшее в голову киммерийца неожиданно, насмешило его. За время пути он совсем забыл о пресловутом цирюльнике, к тому же и сам сайгад ни разу не упоминал о нем. Но сейчас, когда цель их уже почти достигнута, приходится вспоминать и о движущем мотиве… Спасение Турана от нечисти — благородно, но странно. Так, по крайней мере, показалось сейчас Конану…
Они простояли у края зыбучих песков недолго — может быть, варвар успел бы выпить кружку-другую пива. Но пива у них не было, и хорошо еще, что запасливый сайгад взял с собой из хоарезмского кабака фляжку с простой водой, не то наверняка они оба сейчас измучились бы от жажды…
Легкая волна, подбегая к берегу, вздыбилась, на миг поднялась и швырнула в путешественников горсть колючего песка. И сразу после улеглась спокойно, выровнялась, как и все желтое море…
— Идем! — Кумбар спустил свое грузное тело с буланой и, не дожидаясь товарища, пошел по песку к темнеющим вдали темным точкам.
За ним и Конан, у коего настроение вдруг резко упало, спрыгнул с вороного, снял сапоги, бросил их в траву и двинулся следом за сайгадом. Босые ступни его обжигал горячий песок, но это было ничуть не больно, а только приятно.
Почему-то варвар все вспоминал шамана. Нельзя сказать, что поведение его показалось ему странным — напротив, он действительно считал не столько привилегией, сколько обязанностью мужчины отвоевывать свое. Женщину, деньги, родину — все, что принадлежит ему по праву, он и может и обязан защищать. Посему Парминагал, по его мнению, принял совершенно верное решение. Наместником в Шангаре должен быть он, а не его хитрый и жестокосердый дядька. Конан подумал: а что он стал бы делать, если б у него были братья и всех их убили? И тут же перестал об этом думать, ибо рукоять верного меча словно сама собой легла ему в ладонь.
И все-таки с Парминагалом было что-то не то (это самое «не-то» отличалось от Кумбарова «не того», хотя и непонятно чем). Варвар с его природным, от земли и воздуха, чутьем ощущал это и на расстоянии от шамана…
Темные точки постепенно превращались в зияющие пасти нор. Их было так много, что издали они казались роем пчел, приземлившимся на песок, чтобы отдохнуть от долгого полета.
— Хальские пещеры? — уточнил Конан, рукой указывая вперед.
— Они…
Сайгад, видимо хорошо знавший дорогу (что удивляло варвара, ибо он знал, что тот не покидал не то что пределов Аграпура, а и дворца уже много лет), вышагивал впереди. Перемена, произошедшая с ним так внезапно, еще день назад, поразила бы Конана несказанно. Ныне он будто ступил в иной мир — и Кумбар тоже — в мир, где просто не могло не меняться все. И он, суровый киммериец, чувствовал в себе нечто малознакомое, странное, но не чужое. Словно сейчас открылась та сторона его сути, которая была в нем всегда, но не всегда проявлялась. Он думал. Весь этот день он думал. О Воине Белке, о шамане, о себе и о жизни вообще. Он вряд ли смог бы пересказать свои мысли вслух, но' внутри очень хорошо понимал их и в них разбирался.
Так и сайгад. Сбросив с себя шелуху, стряхнув сор, словом, полностью почти очистившись, он стал самим собой — спокойным и молчаливым, мужчиной, человеком. Наверное, он был таким в молодости. Конан не мог судить — не только потому, что молодость Кумбара приходилась на его раннее детство, а еще и потому, что тогда он его вовсе не знал…
— Есть… — тихо сказал сайгад, останавливаясь.
Варвар поднял голову. Прямо перед ними, шагах в пятидесяти, чернела дыра грота.
Это была самая большая из всех Хальских пещер, что они здесь видели. Более Кумбар не промедлил и мига. Подойдя к дыре, которая высотой оказалась чуть больше его роста, он зашел внутрь и тут же там исчез, даже не оглянувшись на спутника. По всей видимости, он был ему больше не нужен…
Но Конан о том задумываться не стал. Он тоже подошел к пещере, сразу почувствовав сырой запах моря, застоявшийся там, и тоже, не медля, вошел. Тьма, снаружи казавшаяся ему непроглядной, была на самом деле только в начале грота. Потом она светлела, а вдали вообще сияла ярко, словно туда светил заблудившийся солнечный луч.
Все свои мысли Конан оставил в зыбучих песках. Сейчас он продвигался вперед не с мыслью, а с целью, заменившей остальное — как все менялось в этот день. Может быть — усмехнулся он — день сей чем-то важен богам? Но тут же он опять вернулся к цели, а про богов забыл.
В темноте, а тем более не в черной, а серой, он видел, как кошка. В отличие от Кумбара он ни разу не споткнулся, а продвигался меж выступов и камней быстро, уверенно. Так, на короткий вскрик сайгада он отреагировал спокойно, за полмига до того узрел толстый пятнистый хвост некоего чудовища, а сразу после и башку его с круглыми открытыми глазами цвета протухшей зелени.
На губах киммерийца промелькнула горделивая улыбка: он понял, что перед тем, как принять на себя страшную тяжесть камня, Воин Белка успел расправиться с громадным змеем, который, вероятно, обитал в Хальских пещерах, сюда же затаскивая зазевавшихся и застрявших в зыбучих песках людей… Лабиринты, где можно заблудиться? Нет. Змей, караулящий жертву в извилинах нор, вырытых его собственным длинным и гибким, сильным телом…
Неожиданно яркий свет ударил Конану в лицо. С трудом оторвавшись от самопогружения, он поднял глаза и увидел, что вышел снова к зыбучим пескам, только, видимо, с другой стороны, и солнечные лучи действительно вовсю светят сюда, как и вообще на всякое открытое место на земле. А в следующий миг он увидел и цель…
* * *
Рядом с ним уже стоял Кумбар и, ничего не говоря, рассматривал его как какую-то диковину. Он заходил и справа, и слева и отклонялся назад, дабы не пропустить ни единой черты, а может, почувствовать что-то. Красная физиономия его была при этом сосредоточена и спокойна совершенно, так, как если б он выполнил некую трудную задачу и теперь мог быть свободен душой.
Если б приятель его был женщиной, киммериец понял бы такое внимание к юноше без слов, потому что Воин Белка был поразительно красив. Ростом чуть ниже сайгада, стройный и гибкий, с копной густых светлых волос, торчащих из-под искомого шлема, с тонкими четкими чертами нежного белого лица, с яркими голубыми глазами, ясными и мудрыми.
Да, эту мудрость сразу отметил варвар, не удивившись, а приняв ее как должное, хотя в иное время, наверное, не поверил бы глазам своим. Откуда она в семнадцатилетнем мальчике? Почему-то Конан сразу решил, что знать то — дело богов, а не простых смертных.
Вопреки ожиданиям, юноша не был придавлен каменной плитой. Он стоял, спиной прислонившись к стене, и улыбкой отвечал на интерес к себе сайгада. В улыбке Конан не заметил ни недоумения, ни вопроса, ни тем более гнева. Казалось, он привык к тому, что на него обращают внимание, хотя, судя по рассказу Кумбара о жизни в замке Дамира-Ланга и строгом воспитании старца Исидора, такого просто не могло быть.
— Ты свободен, мальчик? — спросил Кумбар голосом тихим и таким нежным, что вот тут уже варвар удивился.
— Да, — ответил ему юноша с улыбкой. — Я скинул ее. Скинул сам! — добавил он с мальчишеской гордостью. — Ты знаешь, дядя, я ведь Воин!
— Дядя? — Конан строго посмотрел на сайгада.
— Ну да, — смущенно потупился он. — Это Гинфано, сын моего младшего брата… который умер двенадцать лет назад… Прости меня, Конан… Я… Поначалу я хотел, чтобы именно ты помог ему. Ты сильный, ты можешь все, я знаю. Но потом… Да, наверное, сие был напрасный путь для тебя… Прости.
Конан задумался на миг и — простил.
— А как же шлем?
— Какой шлем? А, шлем… Вот он. Покажи, мальчик. Белка снял с головы простой солдатский шлем и протянул варвару.
— Не надо, — отказался тот. — Все свое держи при себе.
— В нем и правда большая сила, — сказал Кумбар. — Но ни тебе, ни мне она ни к чему. Только Воин чувствует ее и владеет ею.
— А что ты там толковал о спасении Турана? — Киммериец вдруг развеселился, припомнив пространное и не в меру горячее повествование товарища.
— А ну его к Нергалу, Туран… — с улыбкой отмахнулся сайгад. — Я теперь вовсе туда не вернусь. Пойду в Аргос, там остался дом брата. Займусь каким-нибудь делом… А ты, Гинфано?
— Я иду к наставнику. Мои братья… Медведь и Лев… Они погибли. Теперь я должен все сделать один… — Чистый звонкий голос юноши дрогнул, но мигом позже снова окреп. — И я сделаю все, дядя, ты веришь?
— Ну конечно, мой мальчик…
— А ты?
Чистые голубые глаза поднялись на Конана, и в сердце сурового варвара дрогнуло нечто теплое, давно позабытое с детства, с материнских жестких и в то же время нежных рук. Он улыбнулся мальчику и сказал;
— Тебе — верю.
Юный воин кивнул, словно и не ожидал иного ответа, повернулся к выходу…
Потом они смотрели, как уходит Белка…
* * *
…А потом шли по песку обратно. Они торопились, потому что скоро уже волны снова побегут по нему, ища жертву, шелестя и швыряя в ветер колючие горсти.
Сайгад был сумрачен, но таким он нравился Конану много больше. В конце концов, всякий мужчина должен стать мужчиной — рано или поздно. А то черная зона захватит и затянет, вот как эти зыбучие пески, и тогда уже не выбраться на волю, в свет, никогда… Черная зона… Где-то он слышал нынче нечто похожее… Черная зона!
Сердце варвара дрогнуло, пронзенное сильной, но мгновенной болью. Он понял. Он понял, почему шаман отказался ехать с ними дальше…
— Ты в Аргос? — спросил он спутника, садясь в седло.
— Да. А ты?
— А я нет.
— Может, нам по дороге?
— Не думаю.
— А все же? — Кумбар смотрел на него с улыбкой, и впервые варвар хмуро, но все-таки улыбнулся ему в ответ.
— Посмотрим!
Конан пришпорил вороного и стремглав помчался по зеленому травяному ковру, боясь только одного — не успеть. Когда, поворачивая за холм, он обернулся, то увидел: сайгад спешил за ним.
«Что ж, — подумал варвар мельком, — вдвоем всегда проще…»
OCR: де Монфор







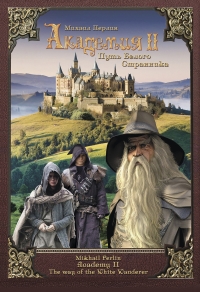
Комментарии к книге «Битва бессмертных», Дункан Мак-Грегор
Всего 0 комментариев