Эрик ЛАСТБАДЕР ДАЙ-САН
Маленькому мальчику, который жил в конце улицы — добро пожаловать домой.
В жизни, как в театре, человек носит маску. За маской — миф. За мифом — образ Бога.
Буджунская пословицаЧасть первая КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
ПАРУСА
Ронин.
Имя мерцало у него в мозгу, словно благоухающий драгоценный камень. Остров. Оазис в бурном, сверкающем потоке. Жизнь в подвижной пустоте, где не должно быть иного присутствия.
Ронин.
Нежное и чувственное; сумеречное, одушевленное смыслом, который больше, чем трепет слова, произнесенного вслух. Алые буквы, огненное клеймо, выжженное на небосводе его рассудка.
Ронин сел, всмотрелся в темноту. Он, кажется, задремал. Его убаюкало поскрипывание корабельных снастей. Негромкие вздохи бескрайнего моря. Медный фонарь покачивался на цепи. Сверху донесся приглушенный звук — били склянки.
Сумрак неуловимо смягчился.
— Моэру?
Да.
Он встал на ноги, обшарил глазами небольшую каюту. Потом изумленное:
Но ты не можешь говорить. Это сон.
Я позвала тебя из сна.
Он медленно повернулся кругом. Койки в наклонной переборке, узкие полки, миска с водой, фосфоресцирующее сияние океана в иллюминаторе, отсвечивающее на медном компасе. Плеск пенящейся воды.
— Где ты?
Здесь.
Он шагнул к закрытой двери. Тусклый свет мерцающей ночи играл на мышцах его обнаженной спины.
У тебя в мозгу.
Он распахнул дверь.
— Кто ты?
Я… я не знаю.
Он по-кошачьи бесшумно двинулся вниз по трапу к ее каюте.
Когда Ронин вышел на палубу, была уже середина вахты часа стрекозы. Он поднялся по кормовому трапу на высокий полуют и встал на корме у леера. Предрассветный бриз раздувал его темно-зеленый плащ, хлеставший его по ногам. В вышине потрескивали белые полотнища парусов, слабо светившиеся в нарождающемся зареве нового дня; тихонько поскрипывал корпус мчащегося на восток корабля. Ночь за кормой отступала, словно страшась восходящего солнца. Темнела кильватерная струя.
У люка в носовой кубрик уже наблюдалось какое-то шевеление, но Ронин не обратил на него внимания. Он не отрываясь глядел на море, созерцая бескрайнюю ширь, по которой скользил их корабль.
— Он опять там торчит, — послышался голос сзади.
— М-м?
— Доброе утро, капитан.
К нему приблизилась высокая мускулистая фигура. Сверкнули темно-карие глаза.
Ронин оторвал взгляд от перекатывающихся волн.
— Вы все, штурманы, такие, Мойши? Ни сна, ни покоя и вечно настороже?
Широкие толстые губы раздвинулись в ослепительной белозубой улыбке, сверкнувшей на смуглом лице, заросшем черной бородой.
— Ха! Таких, как я, больше нет, капитан.
— То есть таких безрассудных? Надо действительно быть дураком, чтобы отправиться в воды, не отмеченные на карте.
Не перестав улыбаться, Мойши развернул листок рисовой бумаги.
— Боннедюк дал мне эту карту, когда нанял меня, капитан.
— В вашем журнале есть подробные записи обо всех местах, куда вы заплывали. Но там не упоминается Ама-но-мори.
Заложив ладони за широкий кушак, Мойши уставился на свои высокие блестящие сапоги.
— Этот Боннедюк — ваш друг, капитан, если не ошибаюсь? — Он кивнул, сам подтверждая свои слова. — С чего бы ему вам лгать? На этой карте указан остров под названием Ама-но-мори, к которому… — тут он сделал какой-то знак, быстро прочертив рукой поперек груди, — …по воле Оруборуса мы и плывем.
Он поднял взгляд.
— Я исходил столько морей, капитан; я видел столько диковинного, что теперь, когда я рассказываю об этом, сидя полупьяным у теплого очага в таверне в каком-нибудь захолустном порту, все присутствующие хохочут и нахваливают меня за богатое воображение. Поверьте, капитан…
Сверху послышался приглушенный крик; впередсмотрящие сменялись с вахты. Ванты закачались под весом матросов.
— Эй, капитан, видите там? — Мойши показал вперед, на розовый краешек солнца, выползающего из-за ровного горизонта. По поверхности моря поплыли розовые полумесяцы отражения. — Пока солнце встает, я уверен, что все в порядке.
Он издал странный лающий звук, который, как Ронин уже знал, означал, что штурман смеется.
— Позвольте мне вам кое-что рассказать о Мойши Аннай-Нине, потому что вы мне нравитесь. — Он умолк на мгновение и почесал длинный нос. — Как только вы ступили на борт корабля, я сразу понял, что никакой вы не капитан. Да, море вы любите, очень любите, но времени в плаваньях провели совсем мало, верно?
Он тряхнул головой.
— Но в этом, как вы понимаете, нет ничего постыдного. Вы — настоящий мужчина, это я тоже понял с первого взгляда, а теперь, шестьдесят шесть дней спустя, убедился, что я был прав.
Восходящее солнце разметало искрящийся свет по океанской шири, придав воде ослепительную иллюзорную твердость. Топсели загорелись слепящим светом. Ронин прищурился.
— Сейчас большинство штурманов хотят одного: денег. Для них неважно, куда они плывут, кто их хозяева… для них имеет значение лишь ценность груза. Поскольку чем груз дороже, тем больше денежек им отвалят по прибытии в порт. — Мойши хлопнул себя по широкой груди. — Но я не такой. Нет, я не стану врать и убеждать вас в том, что звон серебра мне противен. Скорее наоборот.
Снова мелькнула широкая улыбка, казавшаяся белоснежным пятном на фоне темного гранита.
— Но я живу для того, чтобы пополнять мой журнал новыми фактами, а без новых земель их, естественно, не прибавится. Честно скажу, капитан: когда Боннедюк показал мне эту карту, я и думать забыл про груз «Киоку». «Пусть о грузе думает капитан, кто бы он ни был», — сказал я себе. Отплыть на быстроходной шхуне к неизвестному острову, воплотить миф в реальность — такой шанс выпадает раз в жизни!
Свободная рубаха Мойши трепыхалась на усиливающемся ветру, перекатываясь волнами по широкой груди. Он положил руку на рукоять массивного палаша в потрепанных кожаных ножнах, висевших у него на правом бедре. Из-за кушака у него торчали медные рукояти двух кинжалов. Он повернул голову к восходящему солнцу. Крохотный бриллиантик в проколотой правой ноздре сверкнул на свету.
— Этот убогий знает, о чем говорит, капитан. Насколько я понимаю, карта, которую он мне вручил, — не подделка. В этом я разбираюсь. В юности мне продавали немало фальшивок. В общем, мне повезло. Не каждому выдается случай доставить красотку, как ваша «Киоку», к земле, давно позабытой миром.
— Значит, вы думаете, что Ама-но-мори все-таки существует.
— Да, капитан, я так думаю. — Пристальный взгляд глубоко посаженных глаз скользнул по лицу Ронина. — А вы разве сами еще не чувствуете…
Мойши стукнул себя по груди.
— …вот здесь?
Бесцветные глаза Ронина оторвались наконец от перекатывающихся волн, и он принялся изучать лицо штурмана — смуглое, угловатое, с длинным носом и затененными, глубоко посаженными глазами. В этом лице чувствовалась некая скрытая сила, ассоциирующаяся у Ронина с утесом под порывами бури, избитым, но не сломленным.
Ронин кивнул и медленно проговорил:
— Конечно, дружище, вы правы. Но и вы тоже должны понять. Я очень долго искал этот остров. Эти поиски перевернули всю мою жизнь и направили ее по пути, совершенно для меня непонятному. Что-то во мне изменилось. Теперь мне уже страшно подумать о том, что когда-нибудь все это закончится.
Суровый взгляд Мойши смягчился, и он на мгновение сжал Ронину плечо.
— Это правда, капитан. Так бывает. Ты слишком долго живешь, поглощенный какой-то мыслью, и в конце концов мысль как бы сама обретает реальность и подчиняет тебя целиком. Остерегайтесь этого.
Ронин улыбнулся, потом поднял голову. Какое-то время они молчали.
— Что вы сказали, когда подошли ко мне?
Штурман отвернулся и сплюнул за борт.
— Ваш первый помощник все время торчит на носу.
— А это неправильно?
— Помощники редко выходят на нос, капитан, Разве что если надо кого-то позвать или навести порядок. Место помощника — на корме.
— Тогда что он делает впереди?
Мойши пожал массивными плечами.
— У каждого, кто выходит в море, есть на это своя причина. Все они — неудачники, капитан, вот почему они и избегают земли. На борту корабля никто не задает лишних вопросов. А что касается первого помощника…
Он снова пожал плечами.
— Наверное, ему есть чего избегать.
— Так вы не знаете людей в команде?
— Штурману редко приходится дважды встречаться с одним и тем же моряком. Команды собираются из людей со всех концов континента человека. Ничего страшного в этом нет, но меня мало интересует, с кем мне приходится плыть.
Он скрестил руки на груди.
— Здесь я знаю только одного Мойши Аннай-Нина. И он — клянусь Оруборусом — единственный человек на борту, чья личность мне интересна.
Его губы скривились в усмешке.
— Не считая вас, капитан.
— Я приму это как комплимент.
— Почему бы и нет, — сухо ответил штурман и отошел.
Ронин опять посмотрел вперед, прикрыв ладонью глаза. Солнце уже взошло. Его приплюснутый диск застыл в ослепительно белом небе, словно зажженный фонарь из рисовой бумаги. Стрелы света отлетали бликами, отражаясь от движущихся гребней волн, а выемки между волнами оставались темно-синими. Матросы вдоль правого борта принялись закидывать удочки, чтобы наловить рыбы на завтрак. От просмоленной палубы, прогретой солнцем, поднимались разнообразные запахи: резкая, горькая вонь от рыбьих потрохов, пряный запах слежавшейся соли, аромат теплого дегтя и смолы, кислый запах застаревшего пота.
Послышался хриплый крик, и несколько матросов бросили свои снасти, чтобы помочь товарищу, у которого клюнуло что-то явно большое, поскольку его едва не снесло за борт. Все вместе они потянули бечевку, ритмично напевая, чтобы двигаться в лад. Под загорелой кожей ходили мышцы. Обнаженные спины лоснились от пота.
Над правым бортом мелькнуло извивающееся серо-коричневое щупальце, а потом на палубу плюхнулась здоровенная — в два человеческих роста — бесформенная куча. Матросы, разобравшиеся наконец, что они вытянули на борт, поспешно отступили от извивающейся туши. Один из них окликнул Мойши. Он оторвался от карты и подошел к ним. После короткого спора он протолкнулся через плотное кольцо моряков и вытащив палаш, рубанул существо со всей силой. Хлынула темно-зеленая кровь. Возле его сапог дернулось щупальце. Кто-то подал штурману тряпку, и он вытер клинок, прежде чем вложить его в ножны. Осторожно и, кажется, с отвращением матросы спихнули тушу за борт, после чего с видимой неохотой вернулись к своим снастям, негромко переговариваясь между собой.
Ронин перегнулся через ограждение полуюта.
— Что это было, Мойши?
Тот бросил на него быстрый взгляд.
— Рыба-дьявол, капитан, — сказал он. — Ничего особенного. Ничего.
— И все же?
— Матросы ее не любят.
Он вернулся к своим картам.
Впереди, на носу, Ронин разглядел худощавую фигуру первого помощника — черный силуэт на фоне низкого солнца. Его изуродованное лицо скрывала милосердная тень. Ронин видел его только издали, как и большинство членов команды, но он знал, что у этого человека нет нижней челюсти, а щеки покрыты глубокими шрамами. Говорили, что он потерпел кораблекрушение в водах, буквально кишевших акулами. А когда его вытащили… Чудо, что он вообще остался жив…
Пожав плечами, Ронин отвернулся. Если первый помощник предпочитает одиночество и проводит все дни на носу, он ничего не имеет против. Этот человек делает свое дело, а на море, как сказал Мойши, лишних вопросов не задают.
Теперь мысли его обратились к Моэру. Кто она? Он прообщался с ней почти полвахты, но по-прежнему не знал о ней ничего, потому что она и сама ничего не знала.
Он подобрал ее на улицах Шаангсея, голодную и больную, и спас ее, движимый порывом, инстинктом — чем угодно. Но факт остается фактом: с того самого мгновения их судьбы соединились. Она стала хранительницей странного корня, который — по словам аптекаря, предыдущего его хранителя, — много тысячелетий тому назад послужил главной причиной для создания Дольмена. Того самого корня, который Ронин съел в сосновом лесу к северу от желтой крепости Камадо, после чего воссоединился с Боннедюком Последним и его спутником, удивительным зверем по имени Хинд.
Она последовала за ним на север от Шаангсея в погоне за Макконом, к Камадо, в лес Черного Оленя Тьмы. Она дожидалась его терпеливо, таинственно, ехала с ним через пылающий континент человека, в порт Хийян, в то время как у высоких стен Камадо бушевала битва — Кай-фен, последняя битва человечества, Немая Моэру, которая не могла говорить, но тем не менее могла складывать мысли-слова у него в голове, была явно не из Шаангсея или его окрестностей. В ее чертах не было ничего характерного для тех мест. И хотя Ронин нашел ее среди беженцев, спасавшихся от боев на севере и стекавшихся толпами в Шаангсей, она едва ли была крестьянкой, судя по нежным рукам, не привыкшим к тяжелой и грязной работе.
Моэру ничего не могла рассказать ему, потому что она потеряла память — от удара ли, от потрясения или от чего-то еще, чего Ронин не знал и узнать не мог. Она помнила только Тенчо, Кири, Мацу… и Ронина. Кто она такая, откуда она появилась, пока оставалось тайной. Но теперь, когда «Киоку» рассекала океанскую ширь в поисках острова легендарных буджунов, когда их долгие странствия близились к концу, пришло время раскрыть загадку прошлого Моэру.
А еще Ронин хотел узнать о судьбе тех, кто остался запертым в каменной цитадели Камадо: сдерживают ли люди усиливающийся натиск орд Дольмена, в которых помимо обычных людей выступали и нелюди, жуткие странные существа. Вернулась ли в крепость Кири, выполнив свою миссию в Шаангсее, где она собиралась примирить враждующих зеленых и красных и объединить их силы для последней битвы? Но самое важное: собрались ли на континенте людей все четыре Маккона? Он знал, что двое уже были вместе. Когда же сойдутся все четверо, они опять призовут Дольмена в мир людей. И тогда Камадо наверняка падет.
Бронзовый колокол возвестил середину вахты, и Ронину принесли завтрак: полоски сырой белой рыбы, очищенной и промытой, и порцию сушеных водорослей.
Повернувшись на звук, Ронин увидел Моэру. Она поднималась на полуют по кормовому трапу. На ней были темно-синие шелковые шаровары и стеганый жакет темно-зеленого цвета с вышитыми на нем изображениями прыгающих рыбок. Освещенная утренним солнцем, она подошла к Ронину, и он в который уже раз восхитился ее безупречной красотой. Высокие скулы, довольно острый подбородок, большие миндалевидные голубовато-зеленые глаза оттенка далекого тихого моря. Длинные черные волосы струились искрящейся вуалью на солоноватом ветру. Она выглядела бодрой и отдохнувшей. Сейчас она нисколько не напоминала ту изможденную, грязную женщину, которую он подобрал на изрытой колеями улице Шаангсея. Когда она подошла вплотную, Ронин увидел, что она надела цепочку с медальоном-цветком — как же он называется, этот цветок? — которую он подарил ей прошлой ночью. Изделие буджунов, снятое им с человека, умирающего в мрачном шаангсейском переулке. Потом эта цепочка едва не стоила ему жизни при столкновении с зелеными у ворот города за стенами. Ронин почему-то обрадовался тому, что она надела эту вещицу — его подарок.
— Есть хочешь?
Да, — прозвучало у него в мозгу, и он невольно вздрогнул.
Ронин окликнул матроса, который принес для нее тарелку с едой. Некоторое время он смотрел, как она ест.
— Скажи еще раз, что случилось, — вдруг сказал он.
Она подняла золотистое лицо; в глаза ей попало солнце, и они стали белыми, а потом почернели, попав в тень от волос.
Когда я позвала тебя ночью.
— А раньше ты не могла.
Ронин и сам не понял, был это вопрос или нет. Она убрала двумя пальцами прядь волос, упавших на глаза, а он подумал: Мацу… Дикий, тревожный крик в ночи.
Взгляд Моэру на мгновение сделался непроницаемым и пустым. Потом она моргнула, словно пытаясь уловить какую-то случайно промелькнувшую мысль. Она твердо стояла на палубе, не обращая внимания на качку.
Что ты сказал?
— Раньше ты не могла.
Нет. Иначе я позвала бы тебя скорее. Наверняка. — Да, наверное.
Отвернувшись от нее, он выбросил остатки пищи за борт и вперил взгляд в переливающуюся загадочную поверхность воды.
Моэру опять принялась за еду, с опаской поглядывая на Ронина.
Ветер крепчал. Боцман отдал матросам приказ лезть на ванты и полностью разворачивать паруса. Солнце скрылось за облаком, и сразу заметно похолодало. Потом белый круг появился опять, и снова стало тепло. Тени от пробегающих по небу облаков скользили по морю размытыми пятнами.
Если ты сейчас думаешь… не беспокойся, я не могу читать твои мысли.
— Но я вовсе не…
Нет. Конечно, нет.
Она доела последний кусочек рыбы.
— Ну хорошо. Да, мелькнула такая мысль.
Я видела, как Мойши убил эту тварь, которую поймали матросы.
— Рыба-дьявол.
Ронин отметил, что она поспешила сменить тему.
Он разрубил ей брюхо, ты видел? Потому что они живородящие. Он сделал так, чтобы детеныши тоже погибли.
— Откуда ты это знаешь? — с неподдельным интересом спросил он.
Я… не знаю.
— Ты когда-нибудь была на море?
Кажется, была.
— Тогда, может быть, твой народ — народ моряков.
Нет. Я думаю, нет.
Моэру отставила тарелку. Когда она наклонилась, волосы скользнули ей на глаза стремительным потоком тьмы.
— Тогда кто же ты? — нарушил Ронин затянувшееся молчание. — Постарайся не думать. Смотри на море. Что ты чувствуешь?
Моэру сделала, как он сказал. Опершись о поручень и положив подбородок на сложенные руки, она не отрываясь следила за безостановочным движением волн, бьющихся о корпус корабля. Потом она вздохнула. Трепетный красно-золотой лист в осенней буре.
Возможно, я просто крестьянка с севера, бежавшая от войны, какой ты меня в первый раз увидел.
— Теперь я знаю, что это не так.
Глаза у нее увлажнились. Моэру моргнула. Слезинка скатилась по щеке. Ронин обнял ее, и она прижалась к его крепкому телу, наконец сдавшись.
Я плыву в неизвестность, и это меня пугает. Кто я, Ронин? Что я здесь делаю? Я чувствую, что не должна оставлять тебя. Я чувствую… как будто мой корабль разбился, и я давно утонула, и труп мой уносит течением. Я словно утопленница, выброшенная на чужой берег. Я должна…
— Что?
Она вскинула голову и вытерла глаза.
Расскажи, что случилось в лесу под Камадо. Когда ты вышел оттуда, ты был такой бледный, что я испугалась. Я подумала, что ты был ранен и потерял много крови.
Ронин слабо улыбнулся.
— Ранен? Нет. Во всяком случае, не в том смысле, какой ты вкладываешь в это слово.
Ронин еще крепче прижал Моэру к себе. Тепло ее тела окутало его, словно плащ.
— Я столкнулся со сверхъестественным существом и с тех пор часто его вспоминаю.
Он покачал головой, словно теперь, вспоминая об этом, сам не верил в реальность случившегося.
— Это был человек, Моэру. Человек с головой оленя, покрытой густой черной шерстью, и с исполинскими рогами.
Он понизил голос:
— Я вынул меч, но не смог удержать его. Пальцы меня не слушались, и я выронил меч. Он подошел ко мне, человек-олень, и у меня подкосились ноги. Он занес надо мной свой меч, черный ониксовый клинок, а потом что-то произошло. Что-то странное. Он смотрел мне в лицо, и в глазах у него я увидел страх. У него были человеческие глаза, это больше всего меня поразило. Мы оба застыли, не в состоянии что-либо сделать. Мы смотрели друг другу в глаза и не могли даже пошевелиться.
Наверху качнулись ванты. Застонали паруса, поймавшие попутный ветер. Поигрывая мышцами, матросы потянули концы, чтобы закрепить поднятые паруса. Кто-то вскрикнул, и словно откуда-то издалека донесся угрюмый голос первого помощника. Ронин невольно вздрогнул от этого голоса. Впечатление было такое, словно ему на открытую рану плеснули горячим варом. Он начал смутно припоминать…
Этот Черный Олень… Почему он так тебя беспокоит?
— Я… я не знаю. Когда я смотрел на него, у меня было чувство…
Она терпеливо ждала окончания фразы.
— Что я тону.
А он? Как ты думаешь, что он чувствовал?
Ронин с любопытством взглянул на Моэру:
— Странные ты задаешь вопросы. Откуда мне знать, что он чувствовал?
Она пожала плечами.
Я подумала, может, ты знаешь.
Он покачал головой.
Что ты увидел в его глазах, Ронин?
Перед мысленным взором Ронина встал Черный Олень, необычное существо, сочетающее в себе черты человека и зверя. Он видел морду с лоснящейся шерстью, широкие зубы, неострые, но все равно устрашающие, раздувающиеся ноздри, овальные человеческие глаза… Внезапно Ронин ощутил холод в груди, услышал, как наяву, холодный стук гадальных костей Боннедюка Последнего, разбросанных по узорчатому ковру в верхней комнате дома в Городе Десяти Тысяч Дорог. Ты не боишься смерти, сказал тогда карлик, и это хорошо. И все-таки ты боишься…
— Остановись! — закричал Ронин.
Что это? Моэру схватила его за руку. Ее гибкие длинные пальцы были на удивление сильными.
Он провел ладонью по глазам.
— Ничего. Просто призрак из сна.
Ты его знаешь, Ронин.
Непрошеный страх нарастал у него в душе.
— Не говори ерунды.
Небо, потемневшее от кружащих в вышине стервятников; жесткий шорох их крыльев.
Я вижу это в твоих глазах.
Вопреки здравому смыслу он набросился на нее, хотя она была не виновата ни в чем. Если кто-то и был виноват, то только он. Просто он боялся это признать. Вонь противнее, чем гниение.
— Холод тебя побери, сука! Заткнись! Ты…
— Капитан!
Ронин повернулся и увидел Мойши, взбегающего по трапу.
— Что такое?
Моэру отстранилась, высвободившись из объятий Ронина. Глаза у нее были как камень — бесцветные и непроницаемые.
— Впередсмотрящие докладывают: паруса по левому борту, — сообщил Мойши. — Вон там, — показал он. — Как раз показались на горизонте.
— Какого типа суда? — спросил Ронин, всматриваясь в даль.
— Они еще далеко, капитан. — Карие глаза штурмана подернулись холодком. — Пока могу только сказать, что вряд ли это купцы.
— Понятно. Надо сворачивать с курса.
Мойши согласно кивнул.
— Но учтите, — продолжал Ронин. — Я не намерен терять драгоценное время. Нам необходимо как можно быстрее добраться до Ама-но-мори.
— Есть, капитан, — отозвался Мойши и тут же отдал приказ боцману на миделе. Тот передал команду первому помощнику.
Шхуна медленно накренилась, начиная поворот направо по широкой дуге. В лица им полетела водяная пыль — густая, прохладная, пропитанная запахом жизни.
Они начали уходить от настигающих их кораблей.
Волны вздымались все выше. Сейчас матросы не сходили с вантов — надо было использовать изменяющийся ветер. Океан сделался темно-зеленым, а потом, когда небо за западе затянули неровные грозовые тучи, он приобрел серый оттенок, тяжелый и мутный.
— Они нас догоняют, — заметил Мойши, стоя на полуюте рядом с Ронином и рулевым. — Паруса четырехугольные. Такая форма мне незнакома.
— Они нас видели? — спросил Ронин.
— Видели?! — переспросил штурман. — Да они, как мне кажется, нас и ищут.
— Как это может быть?
— Капитан, мое ремесло заключается в том, чтобы в целости и сохранности доводить корабли до безопасных портов, — пожал плечами штурман.
Вдалеке начался дождь. Зрелище было довольно странным: темный косой ливень ударил по поверхности моря с такой яростной силой, что казалось, это морская вода хлынула вверх.
— Лево руля! — рявкнул Мойши, и «Киоку» развернулась в восточном направлении.
Черный дождь и необычные паруса неслись следом.
Моэру отошла от перил и встала рядом с Ронином.
Кто знает о том, что ты вышел в море?
Ронин посмотрел на ванты, натягивавшие канаты. Он и сам уже думал об этом. Но пока ничего интересного не надумал.
— Насколько я знаю, только Боннедюк Последний.
Мойши, полностью сосредоточенный на рулевом и парусах, не обратил внимания на тот странный факт, что Ронин вроде бы разговаривает сам с собой. Моэру он слышать не мог.
Значит, не он один. Тот, другой, тоже знал.
Наверное, Ронин чего-то не уловил.. Он так и не понял ее замечания.
Мойши отошел от рулевого и приблизился к поручню по левому борту кормы.
— Сдается мне, капитан, что это ненастоящие корабли, — заявил он.
Ронин с Моэру подошли и встали рядом со штурманом.
— Что вы имеете в виду? — спросил Ронин.
На лице Мойши пролегли тяжелые складки.
— Да корабли, капитан. Сами посмотрите.
Все трое пристально глядели на запад. Дождь почти перестал, но пурпурный небосклон оставался темным. Там, где прошел ливень, море было серовато-белым, как крылья чайки, но с мутным багровым оттенком.
Моэру вцепилась в руку Мойши.
— Да.
Три темных сумрачных корабля с высокими носами стремительно мчались в их сторону. Они были еще далеко, но кое-какие важные детали уже можно было различить. Например, черные паруса, сшитые явно не из обычного полотна, поскольку оно отсвечивало даже в тусклом мерцании зловещих сумерек. В центре каждого паруса красовалось изображение — птица, закованная в броню, с клювом, раскрытым в усмешке. Эти странные эмблемы сверкали и трепетали, словно корчась в огне.
— Вы вниз посмотрите, — сказал Мойши.
Только теперь Ронин увидел, что днища у этих кораблей совершенно сухие, что они мчатся по морю, как бы летя над волнами. Однако при этом вода, как и положено, расходилась перед ними, а в кильватере оставалась белая пена.
— У вас, капитан, есть враги среди магов, — ровным голосом заметил Мойши. — Команде это не очень понравится.
— А это и необязательно, — отозвался Ронин. — Они должны просто сражаться, а нравится им или нет… это уже не моя проблема.
Он повернулся к штурману.
— А вы, Мойши? На чьей вы стороне?
— Как я уже говорил, капитан, я повидал немало диковинного. Пожалуй, не меньше вашего. Меня ничто уже не напугает. Ни на суше, ни на море.
Штурман хлопнул ладонью по поручню.
— У меня под ногами добрая посудина, пусть даже она не идет ни в какое сравнение с этими колдовскими кораблями. — Он пожал плечами. — Мне всю жизнь приходилось сражаться.
— Тогда мне не о чем волноваться. Распорядитесь, пусть первый помощник раздаст людям оружие и приготовится к абордажу.
— Есть, капитан. — Белые зубы по-волчьи блеснули. — Будет исполнено.
А я?
— Ты спускайся вниз.
Но я тоже хочу сражаться.
Ронин посмотрел ей в глаза.
— Тогда возьмешь у боцмана меч.
Выбора нет. Остается принять бой.
Он посмотрел в сторону нагоняющих их кораблей.
— Нам от них не уйти. Мойши это понял сразу. Они хотят нас захватить.
Его правая рука машинально легла на рукоять меча, а пальцы левой — в перчатке из шкуры Маккона — сжались в кулак. Он почувствовал, как кровь забурлила в жилах, как его руки налились силой. Он глубоко вдохнул; насыщая организм кислородом, чтобы в предстоящей битве мышцы не уставали как можно дольше. Живший в нем воин уже рвался в бой.
— А я… — хрипло выдавил он, — …я хочу их уничтожить.
* * *
Корабли были сделаны из обсидиана, грубо отесанного и искрящегося в лучах заходящего солнца, что проглядывало сквозь рваные прорехи в облаках. Отраженный свет больно резал глаза. Высокие носы, тонкие и заостренные, по-прежнему раздвигали зеленую гладь океана, не касаясь при этом воды. Теперь Ронин разглядел, что фигуры на них были вырезаны в виде гротескных физиономий с рогами и клювами, до жути напоминавших Макконов. Мачты, выделанные, казалось, из огромных рубинов, были полупрозрачными и отбрасывали на узкие палубы тонкие косые тени кровавого оттенка.
— Это корабли из другого времени, — заметил Мойши. В его голосе явственно слышалось восхищение тонкого знатока. — Я бы полжизни, наверное, отдал, лишь бы пройти на таком хоть разок.
Они уже различали движение на вражеских палубах. Сквозь брызги пенящихся волн, разбивающихся о черные корпуса, проглядывали отблески шлемов и коротких мечей. Это напоминало переливчатый блеск роящихся насекомых.
А еще они увидели, что управляли обсидиановыми кораблями вовсе не люди. У этих существ были широкие плечи без характерной покатости, бочкообразные торсы, неестественно тонкие талии и ноги со вздутыми бедрами и без икр. Их головы были посажены прямо на плечи при полном отсутствии шеи. Все — в высоких конической формы шлемах и темной броне.
Посмотри на их лица.
Ронин пригляделся. Выше носа их черепа практически не отличались от человеческих, но ниже… Ронина аж передернуло. Их черные ноздри уходили прямо в плоть, словно прорезанные смертоносным скальпелем, а еще ниже массивная кость выдавалась вперед тонким рылом, что наводило на мысль о том, будто их всех при рождении роняли и потом долго били затылком о пол. Глаза — не овальные, как у людей, а круглые, как у хищных птиц, — напоминали блестящие обсидиановые бусинки. А когда корабли подошли еще ближе, Ронин разглядел, что высокие шлемы были на самом деле не головными уборами воинов, а сверкающим оперением, покрывающим головы этих странных существ от макушки до середины спины.
Ронин оглядел палубу «Киоку». Все матросы были вооружены. Первый помощник уже расставил половину команды вдоль левого борта. Все было готово к тому, чтобы встретить идущих на абордаж.
И вот послышался грохот моря, словно яростная волна обрушилась на каменистый берег, и три обсидиановых изваяния нависли над ними, заслонив угасающее солнце. Тени от вражеских мачт перечертили «Киоку» кровавым знамением.
Воздух наполнился свистом абордажных крюков, что посыпались черным дождем, утягивая за собой толстые веревки. «Киоку» содрогнулась, словно животное, пойманное в силки, ее нос на мгновение выскочил из воды и тут же рухнул в набегающую волну. Палубу окатило морской водой, а потом на нее хлынули птицеподобные твари.
Выхватив меч, Ронин спрыгнул с высокого полуюта и врезался в самую гущу неприятеля. С высокими пронзительными криками странные воины рассыпались в стороны под его стремительным натиском.
Сначала Ронин пытался достать их ударами в корпус, но очень быстро сообразил, что они хорошо защищены своей черной броней, и сменил тактику боя. Одним движением он снес голову первого подвернувшегося противника. Брызнули осколки желтой кости, ошметки серой и розовой плоти. Перья всколыхнулись, и вверх ударил фонтан темной крови, нагнетаемый умирающим сердцем. Воздух наполнился нестерпимой вонью.
Ронин рубил и рубил, не давая себе передышки. Его длинный обоюдоострый меч сверкал платиновой косой среди копошащейся массы птицеподобных воинов. Артерии у него вздулись — он старался вдыхать поглубже, чтобы восполнить израсходованный кислород. Теперь, когда его клинок покрылся капельками крови и частицами мозга, к нему пришло ощущение завершенности. Он как будто смотрелся в бесчисленный зеркала, и сила его отражений укрывала его плащом неизбывной мощи, не давая ему уставать и делая неуязвимым.
Теперь странные воины попытались рассеяться, чтобы избежать его бешеного напора, но Ронин отрезал им путь к отступлению. А тех, кому все-таки удалось ускользнуть от него, встретили клинки матросов.
Когда схватка чуть поутихла, Ронин оглянулся и увидел Мойши. Штурман так и остался на полуюте и сейчас защищал свой участок кривым палашом. На секунду группа нападавших закрыла ему вид, но потом он разглядел рядом со штурманом и Моэру. Она прорубалась сквозь гущу врагов с мастерством и сноровкой, немало его удивившей.
Но сейчас не было времени на восторги. Над ним просвистели сразу три клинка. Легко уложив этих троих, Ронин пробился сквозь еще одну тесную группу и, оказавшись на небольшом открытом пространстве, быстро огляделся. Похоже, матросы держались неплохо, но к ним приближались еще два корабля. Их абордажные кошки уже взметнулись в воздух. Минута-другая, и воины с этих кораблей тоже вступят в битву.
Он принялся пробиваться к правому борту в надежде перерубить хотя бы несколько канатов с тем, чтобы оттянуть прибытие подкреплений. Но птицеподобные воины угадали его намерение и сомкнули ряды, преградив ему путь.
— Мойши! — крикнул Ронин сквозь шум сражения. — Канаты по правому борту!
Оставив противников на Моэру, штурман спрыгнул на главную палубу. Его массивное тело превратилось, казалось, в таран из железных мышц и несгибаемой воли.
Вложив палаш в ножны, Мойши отбрыкнулся ногой от подбежавшего было воина, проворно вскочил на ванты и пробрался над схваткой к середине корабля. Там он выхватил кинжал с медной рукоятью и принялся обрезать туго натянутые веревки. Одна за другой они падали в море, но вражеские корабли подходили все ближе, и новые кошки взметнулись над бортом. Отразив очередной удар, Ронин присел и сорвал с себя промокший от крови плащ, который уже начинал стеснять его движения. Взявшись за меч обеими руками, он ударил в стык панциря нападавшего. Тот пронзительно вскрикнул и зажал рукой бок. Хлынула кровь, и он рухнул на колени. Ронин развернулся и отсек следующему противнику его острое рыло. Его обдало фонтаном крови, словно горячим снегом.
Ронин с трудом пробивался к Мойши сквозь ряды неприятеля. Он шел напролом. Его клинок разрубил нагрудную пластину у одного из воинов с черного корабля. Ронин сорвал ее и, не прерывая движения, резко ткнул своим трофеем назад, разрубив яремную вену у противника, налетевшего сзади. Потом он уложил еще двоих. Повсюду слышались вопли и трепыхались перья. Его руки со вздувающимися буграми мышц сделались липкими. Пот смешался с кровью врагов.
Вскоре он уже был у мачты. Кучи трупов росли. Палуба под ногами становилась опасно скользкой. Рядом с собой он заметил высокую фигуру, рубившую птицеподобных воинов; увидел краем глаза, как чей-то длинный клинок сносит оперенную голову. Ронин рванулся вперед, снова вклинившись в нестройные ряды неприятеля, а потом что-то с ним произошло. Он рухнул на колени, кашляя и тряся головой. В глазах заплясали искры. Все поплыло. Ронин попытался сфокусировать взгляд, но не смог. Он видел только расплывчатые очертания какой-то неясной тени. Он ощутил во рту вкус крови и грязи. Она была теплой и шевелилась, как будто живая. Ронин сплюнул и попытался подняться, но поскользнулся на вязкой жиже, разлитой по палубе. Зрение наконец прояснилось. С палубы на него осуждающе смотрела отрубленная голова в искрящемся оперении. Кто-то бросил ее в меня, сообразил он как будто в тумане. Но кто?
Он смахнул со лба пот и кровь, стекавшие на глаза, поднял взгляд… над ним нависало перекошенное лицо старшего помощника.
У него действительно не было нижней челюсти. На загорелой коже очень четко выделялись белые шрамы, живые и даже как будто пульсирующие. Зрелище было не самым приятным — выпуклые рубцы походили на вздувшиеся у покойника вены. Они тянулись от исковерканной верхней губы через провал в переносице к островку зарубцевавшейся ткани под правым глазом.
Первый помощник рассмеялся странным шелестящим смехом и поддал ногой голову в перьях. Она полетела Ронину в грудь. И в этот момент он все понял. Он увидел яркую вспышку света, отразившегося от искусственного левого глаза. Мысли его обратились вспять — он как будто вернулся в тот день, когда две фелуки, слившись в единое целое под порывами завывающего студеного ветра, мчались по бескрайнему морю льда; когда два могучих бойца сошлись в последнем бою, один — за власть, а другой — за свободу, и жестокая эта схватка была поединком света и тьмы. Ронин тогда одолел Фрейдала, саардина по безопасности Фригольда. Все решил беспощадный удар в лицо.
Ронин был уверен, что Фрейдал мертв, что он наконец отомстил за друзей, замученных и погубленных саардином. Он перебрался на свой корабль, обрубил канаты и еще долго смотрел вслед фелуке, уносящей в ледовую даль труп — как он тогда думал — врага и застывшего как изваяние писаря, неподвижного и безмолвного.
Но оказалось, что Фрейдал выжил.
Саардин занес ногу для следующего удара, целясь в ребра Ронина с таким расчетом, чтобы сломать их, но Ронин успел увернуться.
Он вскочил на ноги и поднял выпавший меч.
— Иди сюда, — прошипел Фрейдал.
У него был изуродован рот, и слова получались тяжелыми, искаженными, как бы и нечеловеческими.
— Иди ко мне и прими свою смерть.
Он поднял клинок. Однако Ронин остался на месте. Саардин сам шагнул к нему. Со звоном скрестились мечи.
— А где Боррос? Его я тоже должен найти и уничтожить.
— Боррос мертв. Теперь он свободен от своего страха и недосягаем для твоего меча.
Фрейдал сделал выпад, но Ронин уклонился, легко парировав удар.
— И ты думаешь, я тебе поверю? Предатель! Ты осквернил Закон Фригольда. За этот проступок одно наказание — смерть.
— И ты, узнав этот мир, по-прежнему держишься за Закон Фригольда?
Сверкали мечи, слышалось горячее дыхание, мышцы работали неустанно, глаза напряженно искали слабые места в обороне противника.
— Этот мир лишь подтверждает силу Закона. Не будь ты таким идиотом, ты бы давно это понял. Здесь царят хаос, война и смерть. Люди мрут прямо на улицах, в грязи и собственных нечистотах. Мы, из Фригольда, выше всей этой скверны. Закон — вот наш господин; и лишь потому, что Закон существует, нас не касается эта грязь. Но я не надеюсь, что ты поймешь. Ты вернулся к животной жизни — а только так я могу определить существование на Поверхности, — когда был еще в Фригольде. Ты всегда был чужаком среди нас. Он опять сделал выпад.
— Ты нарушил Закон, и теперь ты умрешь.
Фрейдал нанес мощный удар, целясь Ронину в бок. При этом он крутанул клинок в попытке обойти блок, поставленный Ронином. Но тот ощутил силу натиска и вместо того, чтобы отбить удар, просто отпрянул в сторону. Противники сцепились, закрывшись мечами. Теперь их лица находились буквально в нескольких сантиметрах друг от друга.
— Ты думал, что я погиб, — прошептал Фрейдал в лицо Ронину, — но я выжил. Даже после твоего подлого удара. Я цеплялся за жизнь, я не мог умереть, не завершив свою миссию. Меня спасла сила моей правоты. Только она поддержала меня, а потом мой писец вскрыл себе вены и отдал мне свою кровь. Он понимал, в чем состоит его долг. Он питал меня своим теплом и жизнью своего тела, чтобы свершился Закон, чтобы я выжил и смог отыскать вас с Борросом и свершить правосудие.
Фрейдал вырвался, сделал обманный выпад, метнулся в противоположную сторону и добавил:
— Закон всегда торжествует. Порядок всегда победит в схватке с хаосом!
Он прорвался сквозь защиту Ронина. Острие его клинка вспороло ткань на рубахе и полоснуло по коже. Ронин поднял меч, ослабив силу удара, и не отступил.
— И ты еще называешь себя мужчиной? — вскричал Фрейдал. — Трус! Почему ты не нападаешь?
Шепот над ухом — мягкий шелест со стальной сердцевиной. Ронин явственно слышал слова Саламандры, своего наставника по практике боя: «В бою, мой мальчик, побеждает не обязательно тот, чья рука сильнее. Сначала ты оцени возможности противника. Оставайся на месте. Не нападай, но и не отступай. Представь, что ты камень, и будь скалой, о которую бьется противник, и тогда ты увидишь его слабые места. А потом, мальчик мой, когда его разочарование неизбежно обернется яростью и реакция у него замедлится, если у тебя достанет ума, ты непременно найдешь путь к победе».
Ронин был хорошим учеником, он твердо усвоил уроки сенсея. Вот почему он стоял на неверной палубе, в тени обсидиановых кораблей, странные паруса которых закрывали небо, и отражал все броски Фрейдала, не переходя в наступление. Он парировал могучие горизонтальные удары, коварные режущие косые и колющие вертикальные, беря на заметку все ложные выпады и движения. Он мастерски удерживал выверенный баланс боя, который и делал сражение на мечах столь сложным искусством, возносящим лучших своих исполнителей на высоту, недосягаемую для обычного воина. И уже очень скоро Ронин распознал правду — в этом ему помогло не только пристальное наблюдение за стилем Фрейдала, но и те истины, которые саардин изрекал с такой торжественной убежденностью. А еще он инстинктивно почувствовал, что Фрейдал — очень опасный противник. И вовсе не потому, что саардин так искусно владеет мечом. Его главная сила была в его непоколебимой вере в свою правоту, в железную непреложность Закона. Он не был наемником. Наемника, даже искусного, победить нетрудно. Фрейдал был фанатиком, слепо преданным своему делу. И именно эта слепая вера питала его силой и волей к победе. Фрейдал превратился сейчас как бы в живое олицетворение Фригольда, утратив все человеческие черты. Но Ронину это тоже придало решимости. Теперь он должен был победить. Не Фрейдала, а то бесконечное зло, которое воплощал в себе Фригольд.
Фрейдал сделал еще один ложный выпад, но вместо того, чтобы провести удар, швырнул в Ронина меч и, не прерывая движения, ударил его в горло сжатыми кулаками, одновременно врезав коленом в живот. Ронин отлетел назад, ударившись о перила вдоль борта. У него перехватило дух, из глаз брызнули слезы. Он судорожно хватал ртом воздух, пытаясь заставить легкие работать. Здоровый глаз Фрейдала недобро сверкнул. Саардин со всей силой ударил Ронина по затылку. Ронин упал на колени.
Взглянув на него, Фрейдал по-волчьи оскалился, наклонился и поднял упавший меч Ронина. Неторопливо, едва ли не с нежностью прикинул его вес и оценил балансировку. Когда Ронин поднял голову, саардин ударил его по лицу тыльной стороной ладони.
Теперь он держал меч Ронина двумя руками и медленно заносил его над головой для решающего удара. Клинок сверкнул по всей длине — стрела ослепительной молнии, устремившаяся к земле.
Ронин попытался сфокусировать взгляд, но сумел разглядеть только размытую тень, нависшую над ним, и белый отсвет, больно бьющий по глазам. Мир утратил цвета и оттенки. Остались два бесформенных черных пятна, две противостоящие друг другу воли, скрепленные белой сверкающей линией.
Его пальцы в перчатке из шкуры Маккона превратились в стальные копья, а тело как будто само устремилось вперед, без осознанного волевого усилия. Что-то темное и нехорошее как будто взорвалось внутри и утробно взревело, отозвавшись протяжным эхом в потоке ветра, пропитанного звериными запахами. В глубинах соснового бора тряхнул рогами могучий Олень, черный, величественный и пугающе первобытный.
Одновременно с движением возникло странное ощущение, как будто в нем что-то срослось, и он наконец обрел целостность. Промельк белого клинка, растопыренные пальцы, поднятые вверх, жестоко-злорадное лицо Фрейдала, его изумление, едва ли успевшее зародиться, потому что пальцы уже вонзились ему в глаза. Черное на белом; белое на черном. Свист бессильного теперь клинка, словно писк умирающего насекомого.
Фрейдал закричал. Противный, дребезжащий звук, исполненный боли и страха. Голова его дернулась. Он подался назад, инстинктивно пытаясь освободиться. Но ужасное оружие не отпускало — неумолимое, словно сталь, оно продвигалось все дальше. Кожа неведомого существа, чуждого этому миру, жгла плоть, пронзая ее насквозь. Потом пальцы согнулись, раздирая мягкую ткань. Резкий рывок — и они прошли сквозь скулу, сорвав лицо саардина, как маску.
Мир на мгновение замер, а потом на Ронина обрушились звуки, как волны огня, выражение предельной муки, свежая гробница, запечатанная последним, разбившим череп ударом. Кулаком в перчатке — в самую середину изуродованного лица. Зубы посыпались, как расколотые орехи. Бездыханное тело рухнуло. Содержимое кишечника непроизвольно изверглось. Вонь поднялась невыносимая.
Никогда еще смерть врага не приносила Ронину такого удовлетворения.
Он не сразу пришел в себя, но постепенно шум битвы прорвался к нему, возвращая Ронина к реальности, и до него наконец дошло, что Мойши выкрикивает его имя. Повернув голову, он увидел, что штурман едва удерживает напор птицеподобных воинов, которые не давали ему обрубить оставшиеся веревки, заброшенные с двух других обсидиановых кораблей. Вырвав свой меч из безжизненных пальцев злосчастного саардина, Ронин устремился штурману на помощь. Один из «пернатых» попытался преградить ему путь, но Ронин лишь усмехнулся и рубанул по панцирю странной твари с такой силой, что броня просто слетела. Мгновенно обезглавив противника, Ронин рванулся к корме, размахивая на бегу мечом.
Раскидав птицеподобных воинов, он добрался до Мойши, и они уже вместе, стоя спина к спине, принялись отбиваться от неприятеля, напирающего сплошной стеной. Быстро справившись с этой задачей, они начали судорожно обрубать туго, до звона, натянутые веревки. Матросы на обсидиановых кораблях уже подтягивали их шхуну к себе. Черные блестящие корпуса, в которых отражалась переливчатая рябь воды, приплясывали над волнами, нависая над правым бортом.
Пока Ронин с Мойши рубили веревки, Моэру, уже очистившая полуют, пробилась по кормовому трапу на главную палубу, увлекая за собой группу матросов. Они перемахнули через левый борт и запрыгнули на палубу первого обсидианового корабля.
Но тут снова нахлынули «пернатые», и Ронин, предоставив Мойши обрезать веревки, развернулся и встретил нападавших. Его меч превратился в сверкающую дугу — окровавленный серп, собирающий горячую алую жатву из плоти и кости.
И вдруг он почувствовал, как содрогнулась палуба. Воздух наполнился свистом — это за поручень правого борта зацепились новые крючья с веревками. «Киоку» угрожающе закачалась. Ронин взглянул наверх, испугавшись, что начался шторм, но увидел лишь небо, по которому плыли вполне безобидные пышные облака, гонимые слабым попутным ветром. Золотисто-лиловый мир готовился встретить закат. Море было спокойным, однако под ними оно бурлило и вздымалось волнами, словно вокруг бушевала буря.
Все сильнее раскачивал их океан, пока веревки, связывавшие «Киоку» с обсидиановыми судами, не лопнули. Как необузданный дикий скакун, шхуна высоко задрала нос над ложбинами волн.
Свободны.
Ронин, приникший к поручню вдоль правого борта, осмелился посмотреть вниз. Вода бурлила вокруг «Киоку», черная и блестящая, словно со дна поднималось морское чудовище неимоверных размеров. Глубина дышала движением и мощью.
«Киоку» рванулась вперед, подхваченная беспощадным напором очередной исполинской волны, которая, вздыбившись, со страшным ревом накрыла один из обсидиановых кораблей. Он тут же исчез под бурлящей поверхностью моря. Пенящиеся буруны потащили «Киоку» дальше, и только теперь Ронин оглядел свой корабль.
— Мойши! — заорал он. — Где Моэру?
Сражение на борту «Киоку» почти закончилось. Мойши как раз добивал последнего противника. Повернувшись к Ронину, штурман вытер пет со лба. Кровь и грязь стекали ручьями по его рукам. Промокшая рубаха прилипла к груди.
— В последний раз я ее видел, когда она увела группу матросов на вражеский корабль, капитан.
Ронин помчался по палубе, перепрыгивая через трупы, мысленно окликая Моэру, распихивая матросов, еще сражающихся с «пернатыми», не обращая внимания ни на своих, ни на врагов. В конце концов он убедился, что ее нет на борту, даже среди убитых и раненых. Тишина у него в сознании обернулась похоронным безмолвием.
Он побежал обратно к Мойши, который уже созывал матросов.
— Разворачиваем «Киоку»! — крикнул Ронин. — Она осталась на одном из тех кораблей.
Штурман окинул его мрачным и пристальным взглядом.
— Я не знаю, что нас оторвало от этих судов, капитан, но оно спасло нам жизнь.
Он повернулся и посмотрел на высокую черную воду за правым бортом.
— Взгляните туда, капитан. Видите? Мы не можем вернуться.
Четырехугольные паруса со злобно ухмыляющимися птицами быстро таяли вдали.
— Сейчас «Киоку» ведут не течения и не ветры. Какая-то сила из глубины тащит нас вперед, и, пока она нас не оставит, нам придется смириться с тем, что вы сейчас не капитан, а я не штурман.
— Мойши…
— Дружище…
Видимо, разглядев неподдельную боль на лице своего капитана, штурман положил руку ему на плечо.
— Смотрите сами. Думайте головой, не сердцем. Мы бессильны.
Жива она или погибла, утонула в бушующем море или захвачена в плен птицеобразными воинами…. теперь уже не узнать. Словно откуда-то издалека до Ронина донесся зычный голос Мойши:
— За борт, ребята! Бросайте все в море! Приступаем к очистке палуб!
Вытерев о ближайшее бездыханное тело свой окровавленный меч, Ронин вложил его в ножны. Он осторожно прошел по заваленной трупами палубе, поднялся на высокий полуют, вцепился окаменевшими пальцами в кормовой поручень и вперил невидящий взгляд в бурлящую воду. За спиной слышались всплески: «Киоку» освобождалась от мертвецов. Трупы кружились среди темных пенящихся волн и уходили под воду.
Теперь они были уже далеко — эти кошмарные обсидиановые корабли, гибнущие в неестественном шторме, — и Ронину вдруг показалось, что заходящее солнце слегка потускнело, хотя перед его оранжевым ликом не пробежало ни тучки. Он напряг слух и как будто расслышал вдали ни на что не похожий высокий вой, неровный и тонкий, все дальше и дальше, а впрочем, кто она мне… и что мне до нее?..
— Капитан, — окликнул его Мойши.
Ронин спустился по трапу и присоединился к штурману, руководящему уборкой.
«Теперь вы отмщены, друзья. Смерть Фрейдала не вернет тебя к жизни, Сталиг; и тебе, Боррос, легче не станет. И все же… — Он оторвал взгляд от серебрящейся сине-зеленой поверхности моря, чтобы украдкой взглянуть на Мойши. — Он вспомнил, как тот положил ему руку на плечо. Вспомнил тепло, исходившее от широкой ладони. — …И все же себя не обманешь. Следят ли покойные за делами живых, этого мы никогда не узнаем. Но я отомстил, потому что я должен был это сделать. Прежде всего — для себя. И почему-то мне кажется, что они здесь, где-то рядом. Что им пока еще не все равно. Что же, прощайте, друзья. Можете спать спокойно».
Но в глубине души Ронин понимал, что это только начало, и месть еще не свершилась. Ненависть, что пылает в его душе неутоленным огнем, не погаснет, пока он не встретится с Саламандрой. Потому что еще не оплачены все счета. Потому что бледное и прекрасное лицо К'рин все время стоит у него перед глазами — лицо любимой сестры, погибшей от его собственной неведающей руки, — и только кровь его бывшего наставника смоет мучительное воспоминание о той дьявольской ловушке, которую расставил ему этот изощренный охотник. Раненный в самое сердце, но не побежденный, Ронин тогда все же сумел разжать челюсти хитроумного капкана, а теперь надо было придумать, как загнать самого охотника и расплатиться сполна. За все.
С палуб убрали последние трупы. В сражении полегло почти полкоманды, но, как вроде бы между прочим заметил Мойши, «пернатые» потеряли в полтора раза больше. Теперь моряки забрасывали за борт ведра, зачерпывали морскую воду и лили ее на широкие палубы до тех пор, пока по стокам не перестала течь кровь людей и тварей с обсидианового корабля.
Черное неестественное течение, к которому вскоре присоединился и свежий попутный ветер, продолжало гнать «Киоку» почти точно на юг. Поначалу они еще как-то пытались свернуть в сторону, но даже дополнительные брам-стеньги не замедлили их стремительного движения. В конце концов Мойши сказал Ронину, пожав плечами:
— Нам остается одно: запастись терпением и ждать. Стихию нам не побороть.
И Ронин, который давно уже научился склоняться перед неодолимыми и непостижимыми силами, пусть с неохотой, но все-таки согласился со штурманом.
Он еще долго стоял неподвижно, безмолвно взывая к Моэру. Соленый ветер трепал его плащ. Потом Ронин очистил разум от всех посторонних мыслей и приготовился принять ответ.
Молчание. Полное и безысходное.
Почти всю его жизнь смерть была где-то рядом, поблизости. Она всегда забирала у Ронина самых близких, самых дорогих людей. Человек ко всему привыкает… и все же сейчас он никак не желал примириться с уходом Моэру. Ее аромат, ее голос в его сознании — они не хотели ни таять, ни расплываться неуловимыми воспоминаниями, хотя Ронин и понимал, что среди воинов с обсидиановых кораблей ей не выжить. «Пернатые» явно не намеревались брать пленных. Они напали на «Киоку» с единственной целью — перебить всех до единого на борту.
Он наконец оторвался от перил.
Самое лучшее — если бурлящее черное море забрало ее к себе.
Дни и ночи тянулись мучительно медленно или же пролетали почти незаметно — это зависело от настроения. Ронин вообще перестал заходить к себе в каюту. Теплыми ночами при свете мерцающих звезд он мерил шагами палубу, и тяжелая поступь его сапог не давала заснуть матросам в кубрике.
Днем он обычно спал, укрывшись за бизань-мачтой, пока тени от облаков и искрящийся солнечный свет медленно проплывали над ним. Иногда он вообще не ложился. В такие дни Ронин либо часами точил свой меч, либо забирался на ванты и долго всматривался в ровный горизонт. Пил он немного, ел еще меньше и не слушал Мойши, который из кожи вон лез, чтобы разговорить его.
Постепенно вода становилась прозрачнее и зеленее, а сразу после заката она отливала размытым свечением. Солнце днем припекало, ночи стали заметно теплее.
Все чаще им попадались стаи летучих рыб. Они выпрыгивали из воды, сверкая серебристыми спинами. Чаще всего они появлялись по утрам или по вечерам. Мойши сказал, что это — хороший знак. Ронин, однако, не обратил на него внимания, погруженный в свои темные, потаенные мысли.
Ровно через семь дней после первого появления летучих рыб примерно в полулиге по правому борту показался странный столб воды. Точно дрожащий, сверкающий мост, на поверхность всплыла громадная иссиня-черная туша, отличающаяся при всей своей кажущейся неуклюжести неким своеобразным изяществом. Ее здоровенный хвост взвился в воздух и завис там, трепыхаясь. Время как будто застыло. А потом море сомкнулось над этим загадочным существом, и оно скрылось из виду, взметнув серебристую водную пыль.
В тот же день они увидели птицу — первую птицу с тех пор, как «Киоку» вышла из Хийяна, города-порта на западном побережье континента человека, — первую птицу за девяносто дней. Это была довольно крупная чайка с белыми и пурпурно-серыми крыльями. Она дважды облетела вокруг брам-стеньги на грот-мачте, заложила крутой вираж и улетела на восток.
Мойши велел рулевому держать курс по ней.
Влажная темная ночь. Бегущие в небе тучи закрыли месяц и звезды. Непроглядная тьма. Впередсмотрящие не заметили ничего. И если б не чуткий нос Мойши, Ронин бы в жизни не догадался о том, что они подошли к земле.
Но уже очень скоро до корабля донеслись тоскливые крики чаек, круживших над невидимыми утесами. Земля!
Ронин стоял рядом с Мойши на палубе, объятой бархатной тьмой и жарой.
— Это Ама-но-мори?
Это были первые слова, произнесенные Ронином за много дней.
— В целом мы шли в правильном направлении, капитан. Я, как мог, постарался подправить курс, но… — Мойши пожал плечами.
— Тогда это скорее всего не то.
— Капитан, перед нами — земля, не обозначенная на картах. А что мы знаем про Ама-но-мори? Что это остров, не обозначенный на картах.
— Логика неубедительная.
И снова Мойши пожал плечами.
— К сожалению, дружище, больше нам не на что опереться.
Он дал матросам команду лечь в дрейф.
На рассвете, когда спокойное море окрасилось розовым светом и матросы убрали топсели, «Киоку» подошла к земле.
Это был холмистый участок суши изумрудно-зеленого цвета. Очевидно — сплошные джунгли, дремучие и непролазные. Слева по борту на голом мысе громоздились синие скалы, над ними с криками вились чайки. Справа тянулся широкий пляж, наплывающий им навстречу.
Как зачарованный, Ронин смотрел на открывшуюся перед ним картину, не в силах оторвать взгляд от этой раскинувшейся полумесяцем цветущей земли, поднимающейся из океанских глубин. Неужели это и есть Ама-но-мори, родина легендарных буджунов? Неужели его путешествие подошло к концу?
Берег заметно приблизился. Мойши приказал лечь в дрейф. Матросы побежали по вантам. Потом штурман велел сделать первый замер глубины.
Цвет моря постоянно менялся: вода становилась то серо-зеленой, то бело-голубой. Наверное, именно из-за этой частой смены оттенков вахтенные и не успели поднять тревогу. Но, как бы там ни было, корабль не смог лечь в дрейф; вероятно, «Киоку» попала в приливную волну. Неожиданно близко загрохотал прибой, и Мойши закричал рулевому:
— Лево руля!
Но уже было поздно что-либо менять. Рулевой резко вывернул штурвал, однако «Киоку», влекомая силой могучей стихии, так и мчалась вперед. Штурман бросился на помощь, рулевому, они вдвоем налегли на штурвал, но это им ничего не дало.
Спустя буквально мгновение «Киоку» на полном ходу налетела на зазубренный коралловый риф, верхушка которого не доходила до поверхности моря какие-то шесть футов, не больше. Шхуна взвилась на дыбы, словно раненое животное. Раздался оглушительный скрежет — это сорвало киль. Корпус пробило тут же. Корабль содрогнулся и развалился на куски с такой неожиданной быстротой, что разлетавшиеся во все стороны обломки дерева и металла насквозь пробивали тела моряков, пытавшихся спастись, спрыгнув в воду.
Последовал мощный взрыв, и бурное море поглотило всех. Волны швыряли матросов, которым посчастливилось не попасть под обломки, прямо на риф, и их тела разрывало в клочья.
Ронин упал в воду, но при этом он постарался расслабиться полностью, заставляя себя не напрягать мышцы — ни в коем случае не напрягать. Это единственный шанс уцелеть. Тело должно оставаться вялым, хотя разум вопил об обратном, пытаясь мобилизовать все силы на борьбу со стихией. Повсюду кружились обломки злосчастной шхуны, темные и зазубренные, в облаке кипящих пузырьков. Морская соль разъедала глаза, но Ронин сделал усилие над собой. Глаза надо держать открытыми, чтобы успевать уворачиваться от обломков, которые могут прижать тебя своим весом к морскому дну. И еще один важный момент — не пропустить коралловый риф. Если напорешься на него, с тебя заживо сдерет кожу. И тогда уже все. Конец.
Вдохнув побольше воздуха, Ронин нырнул, стараясь как можно глубже уйти под воду, подальше от этой ужасной круговерти.
Бесконечная синева, пестрая и мельтешащая, растворила перспективу. Стало прохладнее. Ронин сосредоточился на приливном потоке, подхватившем его. Где-то в коралловом барьере должен быть проход, и поток пронесет его через этот проход. Он понимал, что не сможет бороться с морем. Надо просто поддаться ему и плыть. Вместе с ним.
Пенящиеся пузырьки обволакивали его тело. Легкие уже начинали болеть. Ронину очень хотелось отстегнуть меч, который с каждой секундой становился все тяжелее. Потом свечение ушло, смытое другим потоком, и синева сделалась еще гуще. Над головой заплясали тени, увеличенные до гигантских размеров водяной линзой. Впереди, преграждая путь, как-то вдруг вырос багровый коралловый риф. Ронин продолжал плыть вместе с потоком, чувствуя, как его пробирает леденящий озноб. Легкие у него горели. Горло сдавило. Вот бы сейчас открыть рот и вдохнуть воздух… которого здесь нет, осадил себя Ронин, борясь с неодолимым позывом дышать. Поток, несший его на риф, увеличил скорость. Ронин мысленно застонал, глаза у него вылезали из орбит. Все быстрее, быстрее… Губы сами раскрылись, готовясь ко вдоху. Ронин стиснул зубы.
А потом перед ним — наверху — появилось мерцающее зеленое пятно. Оно расплывалось, пульсировало в такт приливу. Собрав последние силы, Ронин принялся загребать руками и ногами. И вот он вырвался на поверхность, к солнечному свету и сладкому воздуху.
Он судорожно вдохнул. В ушах зашумело. Он сглотнул и захлебнулся, когда волна накрыла его с головой.
Его закружило и потянуло вниз.
Ронин рванулся вверх. Сейчас ему было легче — все-таки в кровь поступил кислород. Вырвавшись на поверхность, он услышал оглушительный грохот и ощутил содрогание бурунов. Ронин выждал, пока не пойдет волна, взобрался на перекатывающийся гребень и отдался приливу, который понес его к берегу.
Пенящиеся буруны неустанно накатывали на берег. Наверно, с такими же звуками нарождался мир. Дикий, неистовый взрыв энергии, что захлестнула его, закрутила и напитала собой.
Изможденного и обессиленного, его выбросило на песок этим вечным соленым приливом. Над чужим берегом занималась заря. Бесчувственный и безвольный, лежал он на розоватом песке — обломок кораблекрушения, нехотя отданный морем земле, дар прохладной стихии прогретой тверди.
СЕРДЦЕ ИЗ КАМНЯ
Все утро он пролежал полутрупом на пляже. Последние языки прилива омывали его теплой пенной волной. Спутанные водоросли затянули зеленой пленкой его обнаженную спину, скрывая длинные шрамы от ран, полученных им в иной битве.
Посреди влажного мира, наполненного шумом моря жужжанием насекомых и недоуменными вскриками пикирующих чаек и бакланов.
Потом — хлюпанье башмаков по сырому песку, шаги, наискось пересекающие прибой. Грубое движение, нарушившее естественное равновесие пейзажа. На его неподвижное тело упала тень. Над ним нависла массивная фигура, тоже застывшая без движения. Затем фигура склонилась над ним, и чья-то рука сорвала с его спины уже начинавшие подсыхать водоросли.
Они сидели, скрестив ноги, посреди безбрежного пространства из розового песка, чуть выше неровной черной линии, означающей высшую точку прилива. Легкий бриз донес до них вонь гниющей рыбы. Чуть дальше по пляжу, слева, мерцало зеленовато-голубое облако переливающихся насекомых, роящихся над останками небольшой рыбешки, выброшенной приливом. Казалось, ритмичное их движение — искрящийся рой то вздымался в воздух, то опускался вниз — возвращает погибшую рыбу к подобию жизни.
Крабы-мечехвосты со сверкающими черными панцирями бесшумно ползли по пляжу вдоль линии прибоя, и их негнущиеся хвосты прочерчивали четкий след на мокром песке.
— Мне повезло, — говорил Мойши. — Полуют сработал наподобие катапульты. Меня швырнуло через риф в довольно спокойную воду лагуны, вон там.
Он посмотрел на то место, где под водой скрывался коралловый риф.
— Проклятый коралл! Если б ты вырос повыше…
— А остальные? — спросил Ронин.
— Капитан, — отозвался Мойши, пропуская горячий песок сквозь пальцы, — остальных больше нет.
Лес возник перед ними внезапно — пышный, зеленый ковер, влажный и пахнущий прелой землей и естественным разложением, — такой резкий контраст по сравнению с просоленным и бесплодным песком на пляже, раскаленном предвечерней жарой.
Он вошел в джунгли, и его поглотил влажный, прохладный мир, не похожий ни на что из того, что Ронин видел раньше. Нефритовый собор, замысловатый гобелен, сотканный из листьев, лиан и ветвей. Толстые серые стволы сменялись тонкими, устремленными вверх побегами, а те, в свою очередь, — темными скрюченными деревьями, заросшими мхом. И все это залито зеленоватым светом. Пыльные косые лучи безуспешно пытались добраться к земле сквозь плетение ветвей. Тени, затаившиеся в вышине. Вспышки ярких цветов.
Мойши прихватил с собой с берега несколько продолговатых плодов, зеленых, больших и как будто лоснящихся. Их волокнистая кожура легко снялась, стоило только надрезать ее кинжалом. Внутри оказалась округлая, тоже покрытая волоконцами коричневая масса с тремя пятнышками с одного конца. Мойши передал Ронину один плод и показал, как сделать отверстия на месте двух пятен. Молочко было густым и сладким, а когда Ронин расколол скорлупу, он обнаружил, что и белая твердая мякоть внутри имеет приятный, слегка сладковатый вкус.
Они шли на запад, вглубь холмистого острова. Сквозь густые заросли папоротников, сквозь сплетения дикорастущих цветов, в гигантских соцветиях которых жужжали огромные насекомые, сквозь небольшие россыпи камней, сплошь покрытых серой плесенью и зеленым мхом, мимо скоплений желтых, как масло, громадных грибов с коричневыми и темно-красными пятнами на шляпках, мимо изогнутых древних корней невероятно высоких деревьев. Глядя на них, Ронин подумал, что эти первобытные великаны, должно быть, появились на свет еще в эпоху первых катаклизмов, когда земная твердь в облаках пара прорвала бушующую поверхность морей, и постепенно кипящим приливам пришлось отказаться от своего безраздельного господства над планетой. Наверное, во времена своей долгой, блистательной юности эти деревья были немыми свидетелями рождения мелких тщедушных существ, которые выбрались из морских глубин, чтобы осваивать новый мир — мир воздуха и суши.
Алые и шафрановые, изумрудные и сапфировые, бирюзовые и коралловые штрихи носились в вышине, пробиваясь промельками красок сквозь многоярусный мир ветвей. Крики и трепыхание птиц с роскошным сверкающим оперением сопровождали их медленное продвижение по джунглям.
Нередко до них доносились утробный рык или гнусавое урчание какого-то крупного хищника, но сквозь густую листву ничего не было видно. Кругом так и кишела мелкая дичь: куропатки и перепелки, фазаны и кролики. Пищи здесь явно хватало.
Время как будто исчезло, отодвинулось вдаль по сужающемуся туннелю, превратившись в далекое и неестественное понятие, зато хаотичное пространство джунглей захватило их своей небывалой реальностью, медленно проникая в их тела и души, пока все, что они знали и видели до сих пор, не стало казаться невероятным горячечным бредом.
Они шли по податливой и болотистой почве, осторожно отдирая от неприкрытой одеждой кожи черно-коричневых цепких пиявок жуткого вида.
Они пробирались по каменистым участкам, где земля под ногами поднималась рядами извилистых гребней, сложенных из зазубренных обломков вулканической породы. Заросли здесь становились как будто чуть реже.
Утомившись, они останавливались на отдых под сенью какого-нибудь высоченного дерева, срывали плоды с его нижних ветвей, сидели, привалившись спиной к гладкому стволу, и смотрели, как по корням ползают, роя ходы, большие белые термиты. Потом они отправлялись дальше, вновь ощущая себя маленькими и ничтожными перед лицом шелестящей бесконечности джунглей.
По ночам, когда в просветах между сплетенными ветвями носились с пронзительным верещанием летучие мыши, они разводили небольшой костерок и жарили свежую дичь, пойманную и освежеванную заранее, еще до внезапного наступления скоротечных сумерек.
Однако здесь, в густых джунглях, куда едва проникал свет солнца, ночи и дни были практически неразличимы. Они давно потеряли счет часам, поскольку сквозь высокие своды деревьев не проглядывали ни луна, ни солнце. Они научились вести отсчет времени по животным, на которых охотились и которые непрестанно кишели вокруг, — у каждого вида были свои внутренние часы, бесперебойный механизм, останавливающийся только со смертью.
— Вы знали его, капитан, — как-то завел разговор Мойши, когда они с Ронином сидели у потрескивавшего костра. — Первого помощника.
— Да, — отозвался Ронин. — Это мой давний враг. Он убил многих моих друзей. Еще там… дома.
Он поднял глаза и принялся наблюдать за тем, как неровные отблески костра высвечивают красноватые бусинки-глазки летучих мышей, расправленные крылья которых напоминали ему паруса проклятого корабля-призрака.
— Вы ведь с севера, капитан?
Мойши доел свой кусок и швырнул косточку в темноту, притаившуюся за пределами света от костра.
— Очень настойчивый парень.
Он покачал головой.
— Вы были правы, — криво усмехнулся Ронин. — Неспроста он торчал на носу.
— Ах, дружище, у нас у всех есть свои маленькие секреты. Зловещие тайны.
Мойши разорвал кожуру какого-то пурпурного плода и поднес его к губам. По его густой бороде потек сок.
— А вы его ненавидите… свой дом, — неожиданно заметил он.
Ронин сидел, положив ладони на поднятые колени.
— Это было нехорошее место, Мойши.
Он вытер жирные губы.
— Но теперь все это в прошлом.
Штурман пристально изучал Ронина. В отсветах пламени глаза у него поменяли цвет и сделались темно-зелеными, оттенка густого мха.
— Я знаю по опыту, капитан. Такое не остается в прошлом. Дом все равно тянет нас… так или иначе.
— Наверное, только тех слабых, которые сами хотят вернуться.
Мойши пожал плечами:
— Возможно.
Он рассеянно крутил между пальцами черенок плода, ковыряя ногтем в зубах.
— Но верно и то, что с момента рождения человека могучие силы приходят в движение именно из-за его рождения. Силы эти не знают границ. Они управляют не только нами. Они влияют и на тех, кто рядом.
Он выплюнул кусочек кожуры.
— «Рядом» не только в физическом смысле.
Ронин сидел неподвижно, полузакрыв глаза, и Мойши не был уверен, что он услышал его последние слова.
А наверху, в темном сплетении ветвей, бесчисленные крылья сотрясали влажный ночной воздух.
На следующий день, ближе к вечеру, им преградили дорогу жесткие серые корни, закрученные и волокнистые, поднимавшиеся изогнутыми дугами, словно ряд миниатюрных мостиков, выросших из глинистой почвы. Перебравшись через это препятствие, Мойши вдруг остановился. Он замер на месте, ничего не говоря, и Ронин открыл было рот, чтобы спросить, что случилось, но тут он заметил движение у ног Мойши. По ногам штурмана, над замызганными грязью башмаками, ползла змея, подергивая плоской тупой головой в зеленых и желтоватых блестках.
Они оба застыли, как два изваяния. Змея, извиваясь, ползла все выше — беззвучная смерть. По ягодицам Мойши, по спине. Вот она обернулась вокруг его левой руки. Мелькнул раздвоенный язычок. Глаза сверкнули двумя обсидиановыми точками.
Правая рука Мойши метнулась к ее голове; большим и указательным пальцами он зажал ей челюсть с двух сторон. Рот у змеи широко раскрылся, блеснули длинные острые ядовитые зубы. Ее туловище извивалось, то скручиваясь кольцами, то выпрямляясь. Мойши резким движением сломал ей челюсти и лишь после этого заговорил:
— Сорвите, пожалуйста, лист, капитан, и дайте его сюда.
Опустившись на колени, Мойши положил раздавленную голову на широкий лист, поданный ему Ронином. Осторожно вытащив кинжал, он срезал верхнюю часть змеиной головы от рыльца до начала еще подергивающегося туловища. Кончиками двух пальцев штурман нажал на открытое мясо. Через полые клыки на лист потек темно-красный яд.
Выдавив последнюю каплю, Мойши отшвырнул от себя змею, отрезал от ближайшего ствола кусочек зеленого мха и дал яду впитаться в него. Потом он завернул влажный мох в лист и поднялся.
— Вот так-то, дружище. Как правило, мир не бывает ни белым, ни черным. Чаще всего — в разной степени серым.
Засунув сверток за кушак, он убрал кинжал.
— Если бы эта змея укусила меня, ее яд убил бы меня на месте. Но теперь, когда он высохнет в органической среде, он станет прекрасным противоядием. То, что при одних обстоятельствах принесло бы смерть, при других — спасет жизнь.
— А вам откуда известно об этой твари? — поинтересовался Ронин.
— Вы сами с севера, капитан. Змеи там не живут. Но я-то с юга. Моя страна расположена даже южнее, чем этот остров. .
Они пробирались сквозь густые заросли папоротника.
— Я уже, кажется, говорил, что когда-то, много тысячелетий назад, моя земля была частью континента человека, но потом, когда произошли сдвиги в земной коре, эта часть суши оторвалась.
— Как же тогда вы попали на континент человека? — спросил Ронин. — Ваш народ — народ-мореплаватель?
— Искаильтяне? — Мойши улыбнулся. — Нет, капитан, отнюдь. Мы издревле занимаемся земледелием. Но мы плюс к тому и рыбаки. У нас есть большой опыт в прибрежном мореходстве.
Он пригнулся, чтобы не удариться головой о толстую корявую ветку, усеянную красными и черными жуками.
— А еще мой народ — народ-воитель. Нам поневоле пришлось овладеть воинскими искусствами. Мы — свирепые бойцы пустыни, привыкшие к трудностям и самоотречению; гордый и одинокий народ с богатыми традициями, идущими от древних времен. Наша история, капитан, это история рабства и предельного самопознания.
— Ваша страна далеко от континента человека?
— От Хийяна? Да, далеко. К нам проще доплыть от восточного побережья континента. Существует торговый маршрут от Шаангсея. Вам знаком этот город?
Ронин улыбнулся.
— Да. Я жил там какое-то время.
— Я так и знал! — рассмеялся Мойши. — Клянусь Оруборусом, нам надо как-нибудь встретиться там и пройтись вместе по улицам этого города, полного тайн и загадок. Договорились, капитан? Поскольку вы жили там, вы должны знать, что ни одно место в мире не сравнится с Шаангсеем в плане загадочных приключений и запутаннейших интриг.
— Договорились, Мойши, — сказал Ронин. — А пока расскажите мне о своей стране.
— У меня в Искаиле остался брат, — заговорил Мойши, пожевывая только что сорванный листок мяты. — Мы с ним двойняшки. Появились на свет с промежутком в несколько мгновений, но мы совсем не похожи. Отец наш вообще сомневался, братья мы с ним или нет.
— Вы, наверное, преувеличиваете.
Мойши покачал головой. В ноздре у него сверкнул бриллиантик.
— Отец был человеком набожным, его вера в бога наших далеких предков была непоколебима. Она была его силой, краеугольным камнем всей его жизни. Мне кажется, он всегда думал, что одного из нас в чрево матери поместил бог.
— Для чего?
Мойши пожал плечами:
— Кто знает? Непостижимый он был человек, мой отец. Может быть, он мечтал о том, чтобы в его семье появился тот самый пророк, которого ждет мой народ уже столько веков.
Сплюнув темную кашицу изжеванной мяты, Мойши отправил в рот еще один лист.
— Мой отец был довольно зажиточным человеком. Когда мы родились, он уже был владельцем большого участка земли.
Сверху донесся хриплый крик, в ветвях промелькнуло что-то красновато-золотистое.
— Но не стоит предвосхищать мой рассказ, капитан, потому что это отнюдь не история о двух принцах, один из которых правильный и хороший, а второй — отъявленный злодей. Я никогда не стремился заполучить отцовские земли. И я никогда не хотел становиться воином. Мне хотелось лишь странствовать — посмотреть, что за земли лежат за бескрайним морем. Я с детства мечтал об одном: сесть на один из больших кораблей с белыми парусами и резными фигурами на носах, которые неожиданно появлялись на горизонте и приносили людей из другого мира… сесть и уплыть с ним к иной, неизвестной земле.
Но я был старшим, и как у старшего сына у меня были определенные обязательства. Мы владели обширными землями, и им требовалось уделять внимание. Мой наставник всегда выезжал со мной, куда бы я ни отправлялся по делам семьи. Но когда я поднимался на гребень холма, я каждый раз обращал взор к мерцающему морю, раскинувшемуся на солнце серебряными кружевами, и думал только о том, когда же я наконец смогу уплыть по этим подвижным волнам.
Дрейфуя в нефритовом море джунглей, Ронин слушал взволнованный голос Мойши, разглядывал медленно движущиеся навстречу исполинские деревья и полной грудью вдыхал влажный воздух, как будто пропитанный буйством жизни. Наклонившись, он поднял с земли огромного жука-рогача, иссиня-черный панцирь которого блестел в рассеянном свете, как полированный металл. Какое-то время он зачем-то нес жука с собой, а потом положил его на плоскую поверхность камня, выступающего из почвы.
— Однажды я стал свидетелем такой сцены: мой брат дрался с сыном соседа-фермера. Вы бы назвали его господином, хотя в языке моего народа это слово употребляется только в одном значении. Господином мы называем бога. Впрочем, продолжу. Мой брат не был трусом, но не был и воином, несмотря на его рост и силу. Впрочем, он был достаточно ловок, и кулаки у него были как колотушки, так что этому парню, навострившемуся на легкую победу, досталось по первое число. Брат ударил его по лицу. У того пошла кровь из носа. Он запросил пощады, а когда брат остановился, парень выхватил спрятанный нож. Если бы я не вмешался, мой брат, который совсем не умел обращаться с оружием, расстался бы с жизнью при первом же ударе. Я отшвырнул брата в сторону и схватился с тем парнем, а он был силен и неглуп. Мы подрались. Он погиб по случайности, наткнувшись на свой же нож.
В глубине нефритового океана с монотонным жужжанием мух слилось переливчатое стрекотание цикад, предвещавшее скорое наступление сумерек.
— Мой брат пожелал остаться. Я же хотел уехать. У меня в любом случае не было выбора. Отец отвез меня в Алаарат, ближайший портовый город, и сам оплатил мой проезд на первом же судне, отплывающем на континент человека.
— Как же отец мог позволить вам…
— У нас суровые законы, капитан, и особенно если речь идет об убийстве. У того фермера были обширные земли…
— Но разве нельзя было что-то придумать? Найти иные пути? Ваш брат…
— Находился за многие лиги от места драки, как думали все соседи. Отец не стал рисковать, впутывая нас обоих. Как я уже говорил, человек он был благочестивый и набожный, а наш бог не прощает проступков. Это я, а не брат, дрался с парнем, когда он погиб, и, по правде сказать, я не знаю, чья рука — моя или его — направила в него кинжал. Но для отца это уже не имело значения: мое вмешательство стало причиной смерти, и я должен был понести наказание.
Крики птиц отражались негромким эхом под сводами изумрудной галереи сплетенных ветвей, создавая как бы звуковой фон для рассказа Мойши.
— А ваш брат?
Они прошли мимо гигантского удава, скользившего по лиане, соединявшей две ветки справа, не обращая внимания на его шипение.
— Мой брат, — произнес Мойши ровным голосом, — никому не сказал ни слова.
Ночь пришла в розовато-лиловых сумеречных шорохах. Еще до того, как темная зелень превратилась в кромешную черноту, они развели костер, разбрасывающий искры во тьму, и занялись приготовлением жаркого из двух кроликов, пойманных загодя днем.
Сквозь негромкий треск пламени и шипение капающего в огонь жира уже слышались голоса ночных птиц, звучавшие глуше и менее пронзительно, чем у их дневных собратьев. Это были даже не крики, а хриплый шепот. Жужжание насекомых превратилось в зудение на тонкой высокой ноте, в которое то и дело врывалось переливчатое стрекотание цикад.
Шорох листвы в отдалении и негромкие вскрики, сопровождаемые утробным урчанием, указывали на присутствие хищных зверей, крадущихся в ночи. Неподалеку ухала сова, пристроившись на сучке среди нижних веток дерева, под которым они развели костер. В мерцающих отсветах пламени Ронин сумел разглядеть ее вращающуюся, как на шарнирах, широкую голову и мигающие круглые глаза.
Проснувшись на рассвете, они опять окунулись в нефритовую зелень. Начался дождь. Дожди здесь шли часто, не реже одного раза в день. Чистый косой ливень, пробиваясь сквозь густую листву, обращался густым влажным туманом.
Мойши раскидал белую золу остывшего костра, в которой еще светился один унылый уголек. Он зашипел и погас.
Сегодня местность пошла в гору. На пути начали попадаться широкие полосы вулканической породы, похожие на застывшие ручьи, сверкающие вкраплениями минералов. Здесь папоротники были выше — огромные шелестящие опахала, сгибающиеся под тяжестью влаги и мельтешащих насекомых.
Петлистые лианы оплетали стволы высоченных деревьев. На лианах висели коричневые длиннохвостые обезьяны с яркими любопытными глазами. Завидев пришельцев, они возбужденно заверещали, и Ронин с Мойши еще долго слышали эхо этих пронзительных криков. Постепенно возбуждение животных улеглось, но они продолжали перекликаться между собой, перепрыгивая с лианы на лиану и не отставая от путников.
После полудня они перевалили через вершину холма, на который взбирались с раннего утра, а ближе к вечеру что-то неуловимо переменилось в джунглях.
Воздух сделался гуще. Свет, до этого зыбкий и водянистый, стал насыщеннее и ярче, а лесные шорохи, с которыми Ронин и Мойши давно уже свыклись, слегка изменились.
Они устремились вперед и неожиданно для себя оказались на высоком берегу широкой мутной реки с голубовато-зеленой водой в серой ряби.
Слева послышался тяжелый всплеск. Только сейчас они разглядели длинное чешуйчатое туловище какого-то странного существа. Оно медленно погружалось в воду, пока над поверхностью не остались лишь выступающие над мордой глаза. Облик этого существа почему-то впечатался Ронину в память, было в нем что-то знакомое… и уже потом, позже, когда ему довелось снова увидеть этого зверя и рассмотреть его получше, он узнал древнего крокодила, которого описывал ему Боннедюк Последний, объясняя происхождение Хинда и гадальных костей.
Они двинулись вниз по склону, как бы погружаясь в море густого влажного воздуха. Под их ногами струйками осыпалась земля, черная и плодородная. Все было пропитано запахами жизни и разложения.
Дождь перестал, пусть даже и на время. Солнце, раздувшееся в белом небе и приглушенное дымкой, немилосердно пекло. После стольких дней, проведенных в тенистом полумраке джунглей, жара казалась просто невыносимой. Река сверкала на солнце, и Ронин с Мойши еще долго щурились, пока их глаза не привыкли к яркому свету.
Присев на корточки у самого берега, они стали пить, настороженно прислушиваясь. И как только внезапная рябь на середине реки обернулась плеском, они разом подняли головы. Из воды высунулась огромная пурпурно-серая морда, опутанная зелеными и коричневыми растениями. Пасть широко распахнулась, демонстрируя громадные тупые зубы и грязное склизкое нёбо. Послышалось фырканье, напоминавшее шипение воздуха, с силой вырвавшегося из объемистых мехов. Черные глаза безмятежно взглянули на них, а потом голова дернулась и исчезла под набегающими волнами.
— Вплавь — дело дохлое, — заметил Ронин. — Даже пытаться не стоит.
— Это верно, но перебираться придется.
От жары и яркого света смуглая кожа Мойши отливала полированной медью. Он огляделся по сторонам.
— Я, кажется, знаю, что делать. На этом берегу, я смотрю, много тонких деревьев. Вы когда-нибудь делали плот, капитан?
Они валили деревья почти весь день, а в перерывах собирали куски вьющихся лиан, которые, как и предсказывал Мойши, были гораздо крепче, чем это казалось с виду. Время от времени Ронин непроизвольно посматривал на многоярусные деревья на краю джунглей, но там не было никого, даже обезьяны и те не показывались. Может быть, они испытывали естественный страх перед речными хищниками. Но скорее всего их отпугивал шум, производимый на берегу Ронином и Мойши.
Набрав достаточно материала, они сначала обрубили верхушки стволов, чтобы приблизительно выровнять бревна по длине, после чего принялись связывать их лианами.
С усталым вздохом на землю спустились сумерки, но Ронин с Мойши продолжали работать, чтобы успеть приготовить все до темноты и уже на рассвете пуститься в путь. На том берегу, высоком, обрывистом и скалистом, опять начинались джунгли. После целого дня, проведенного на солнцепеке, Ронин поймал себя на мысли, что ему не терпится вернуться под влажную сень деревьев.
Они успели закончить плот до темноты. В последний раз проверив крепость узлов, они поднялись с берега и, расположившись на краю джунглей, развели костер. Поужинали они рыбой и печеными клубнями.
Перед сном они срубили пару тонких упругих ветвей и обожгли их концы на огне.
— Шесты, — пояснил Мойши, — чтобы справиться с течением.
На рассвете они отплыли, оттолкнувшись шестами от берега. Их подхватил бурный поток, мутная речная вода захлестывала бревна.
Нежась в прогретом воздухе, жужжали насекомые. По поверхности воды скользили черные танцоры — водяные пауки.
Два медлительных крокодила неуклюже сползли с раскаленного берега и, забравшись достаточно далеко в воду, бесшумно поплыли в сторону плота, возмутившего их спокойствие.
Их морды ушли под воду, и Ронин негромко окликнул Мойши, который перешел с левой стороны на кормовую часть. Вытащив шест из воды, Ронин положил его на плот и вынул из ножен меч.
Длинная чешуйчатая морда с разинутой пастью стремительно вырвалась из глубины. Ряды острых, как бритва, зубов, которые издали казались притупленными, с близкого расстояния производили действительно устрашающее впечатление.
— Вам надо остановить их бросок, — предупредил Ронина Мойши, — иначе они нас просто перевернут.
Исполинские челюсти щелкнули в нескольких сантиметрах от края плота, после чего, крокодил исчез. Какое-то время вода оставалась спокойной. Мойши, воспользовавшись передышкой, оттолкнулся шестом от дна.
Потом крокодил снова вынырнул на поверхность, загребая короткими, но сильными лапами.
Широко расставив ноги, чтобы не потерять равновесия на зыбкой поверхности плота, Ронин рубанул мечом наискось от правого плеча. Клинок вошел крокодилу в голову под левым глазом, разрубая чешую, плоть и кость в облаке желто-белых брызг. Огромное туловище, остановленное в броске, взлетело в воздух и тяжело плюхнулось в воду. Когда оно скрылось под водой, из раны хлынула кровь. Река под плотом вспенилась и забурлила.
А на скользкой поверхности плота осталась лежать отрубленная голова, ухмылявшаяся во всю пасть.
Они благополучно добрались до противоположного берега и направили плот к дереву, нависшему над водой. Ронин удерживал плот на месте, а Мойши забросил лиану, которую они припасли заранее, в густую листву.
Им еще пришлось совершать утомительный подъем по крутому каменистому склону. Ронин тащил с собой голову крокодила. Как бы ему ни было тяжело, он отказался бросить трофей.
Когда они снова вступили в нефритовый полумрак джунглей, Ронин попросил Мойши посидеть, а сам разжал крокодильи челюсти и принялся осторожно выковыривать острые зубы острием кинжала.
На этом берегу было тише, и они сразу же почувствовали, что им не хватает дружелюбного лопотанья обезьян и пронзительных птичьих криков. Здесь тоже слышался монотонный гул насекомых и хлопанье крыльев над головой, но эти редкие звуки только подчеркивали изменившийся характер джунглей. Они снова почувствовали себя одинокими и заброшенными, словно вышли к последнему рубежу, установленному человеку, и теперь, миновав этот запретный барьер, вышли в другой, незнакомый мир.
Ронин извлек наконец все зубы.
Бросив голову крокодила, они отправились дальше на запад, углубляясь в затерянные дебри острова.
Пошел дождь, и джунгли вокруг зашелестели от падающих капель. Потом дождь перестал ненадолго, и над деревьями снова разлился нефритовый свет, теплый и вязкий, как мед. На белом раскаленном небе, невидимом за кронами деревьев, припекало солнце.
Вскоре опять пошел дождь.
А через какое-то время Ронин услышал тихий возглас Мойши и его шепот:
— Вон там.
Перед ними, чуть в стороне от намеченного пути, стоял обелиск из резного камня высотой чуть выше человеческого роста. Он был слегка заострен и покрыт с четырех сторон странными письменами и изображениями людей в головных уборах из перьев, с лицами, повернутыми в профиль. У всех людей на рисунках были длинные крючковатые носы и высокие, чуть выступавшие лбы. Обелиск увенчивала искусная резьба, повторявшаяся со всех четырех сторон: ухмыляющийся череп.
К вечеру все сомнения рассеялись.
Ронин с Мойши уже много дней провели в джунглях, к тому же оба были искусными воинами, обученными, среди прочих премудростей, и остроте восприятия, так что, даже не будучи жителями этих мест, они научились неплохо ориентироваться в нефритовом море.
Им больше не попадались предметы, изготовленные человеческими руками, но к концу дня они все-таки были вполне уверены, что по джунглям они идут не в одиночестве. Они никого не заметили, но весь день их не покидало чувство, что в густой листве скрываются невидимые существа, которые наблюдают за ними.
Они продолжали идти вперед, сквозь нескончаемый изумрудный сон, горячий и липкий, где клейкая, насыщенная влагой жара была почти осязаемой.
Даже ночь не принесла прохлады. Спали они беспокойно, то погружаясь урывками в дрему, то неожиданно просыпаясь и прислушиваясь под учащенные удары сердца к крадущимся шагам во тьме за пределами круга света от неяркого желтоватого пламени костра.
Пару раз Ронин вставал, зажигал пучок тростника, который, как они выяснили, горел достаточно ярко, несмотря на избыточную влажность, пропитавшую этот девственный лес, и отходил метров за сто от костра. В первый раз он не заметил ничего подозрительного, но зато во второй, когда уже возвращался к Мойши, он уловил краем глаза мимолетный отблеск света, отраженного от его факела, и, стремительно развернувшись, заметил красные глаза, горевшие в ночи раскаленными угольками. Но видение это было таким скоротечным, что Ронин не смог даже определить, каково было происхождение этих вспыхнувших вдруг в темноте огоньков.
Назавтра дождь лил целый день, закрашивая окружающий мир неприглядным и бледным серо-зеленоватым оттенком. Ронин и Мойши взобрались по густо заросшему откосу в форме двойного изгиба и тут же наткнулись на четыре каменные стелы, раза в три превосходившие высотой давешний обелиск. Они тоже были покрыты резьбой сверху донизу со всех четырех сторон. Письмена были точно такие же, как на обелиске.
Они напоминали ворота, но без верхней перемычки.
Под печальный плач джунглей они прошли между стелами.
Сейчас они не слышали ничего, кроме шума дождя, волнами перекатывающегося по джунглям. Здесь, на открытом месте, где не было листьев и переплетенных лиан, чтобы задержать воду, дождь вовсю поливал рыхлую почву. Видимость сделалась очень плохой, и Ронину с Мойши приходилось двигаться с осторожностью.
Где-то через полкилометра от каменных стел джунгли закончились, причем так неожиданно, что они поняли это, лишь выйдя на край расчищенной земли.
Они замерли на месте, глядя на неимоверную ширь, развернувшуюся перед ними словно по волшебству.
Дождь почти перестал. В небе сквозь слой темных грозовых облаков засияло солнце, освещая бесконечную равнину и строения неимоверных размеров из ослепительно белого камня — высокий пирамидальный город с прямыми, как стрелы, улицами, окаймленными невысокими каменными изваяниями.
Замысловатая архитектура зданий была до жути чужой и одновременно как-то странно знакомой. Ни одно из гигантских строений не превышало размерами исполинское сооружение, расположенное в самом центре каменного города.
Это была громадная ступенчатая пирамида, возвышавшаяся надо всем. Причудливая и величественная, она сразу приковывала к себе взгляд. Пирамида имела не три, а четыре грани, что, вероятно, было типично для данной культуры. Посередине каждой грани, поднимающейся к вершине чередой выступов, шли ступени наверх. На плоской вершине стояла овальная каменная плита с черными и зелеными прожилками. Больше всего она напоминала алтарь.
— Ама-но-мори? — прошептал Мойши.
Ронин уставился на каменный овал, борясь со внезапным приступом головокружения. Ему почему-то было страшно выходить из густой тени нефритового моря джунглей — живого талисмана, укрывающего их с Мойши от этого жуткого белого города.
Который как будто застыл в настороженном ожидании.
— Город с виду заброшенный.
— Но я чувствую…
— Знаю.
— Тогда где же жители?
Исполинские стелы и здания из камня были украшены замысловатой резьбой, изображающей странные сцены с бесчисленными человеческими фигурками. Люди это или боги? Возможно, и те и другие. Вот это, наверное, люди: подавленные, разгромленные и униженные, принесенные в жертву, теснимые свирепыми, победоносными, мстительными владыками — торжествующими богами, воспетыми в камне.
Они прошли по центральной улице, широкой и совершенно ровной, между двумя одинаковыми изваяниями, представлявшими кошек с разинутой пастью и передними лапами, вытянутыми вперед. Напряженные мышцы их каменных плеч были тщательно и глубоко проработаны резцом, а могучий рельеф груди поднимался крутыми изгибами к поднятому крестцу и неподвижному хвосту.
Сразу за этими исполинскими стражами по обеим сторонам мостовой возвышались еще две громадные стелы, густо покрытые письменами, настолько сложными, что Ронин даже не смог сосчитать число граней.
Пройдя между стелами, они увидели слева огромную площадь, поднимающуюся ступенями. Лужи, оставшиеся после сильного дождя, блестели на этих ступенях в лучах заходящего солнца, вспыхивая радужными переливами.
С двух сторон площади, с северной и южной, стояли высокие сооружения без окон, с отвесными стенами на внутренней стороне и с уклоном вперед на обратной. В каждой вертикальной стене была одна-единственная дверь, выходившая на площадь.
— Странно, — заметил Мойши, остановившись перед первой ступенькой и оглядевшись по сторонам. — Этот народ не использует арку. Смотрите, Ронин… Для поддержки высоких зданий они используют перемычки.
Взгляд Ронина скользнул вдоль по улице, уходящей в западном направлении от площади. Перед огромной ступенчатой пирамидой, поднимавшейся впереди на расстоянии примерно в четверть километра, он разглядел три высоких черных силуэта — человеческие фигуры, черты которых нельзя было рассмотреть из-за рассеянного лиловато-золотистого света угасающего солнца, что опускалось за тихое море джунглей, подступавших к каменной долине. Он тихонько окликнул Мойши:
— Пойдем.
Они были в масках.
Двое мужчин и женщина. Все — в одинаковых широких накидках из пятнистых шкур, снятых с крупных зверей, головы которых и послужили материалом для масок. Треугольные уши, черные носы и длинные жесткие усы. Холодные мерцающие глаза золотистого или светло-нефритового цвета, прозрачные и безжизненные. Ронин невольно поежился. Что-то было в этих глазах, что отозвалось тревогой в сердце.
Все трое были невероятно высокими, ростом не меньше двух с половиной метров. Длинные мускулистые ноги. Несколько впалая грудь у мужчин. Кожа цвета мореного тика.
Вся одежда мужчин состояла из набедренной повязки из золотистого меха с черными пятнами и сандалий из черной кожи. Руки от запястья до локтя были унизаны обручами-браслетами различной ширины, украшенными чеканными и резными рисунками. Ронин разглядел одну странную сцену, представлявшую нескольких воинов в причудливых головных уборах и одно непонятное многоголовое существо, которое он принял за бога.
Женщина в росте не уступала мужчинам. Великолепная грива иссиня-черных волос, смотревшаяся естественным продолжением ее нелепой кошачьей маски, опускалась почти до пояса. Короткая туника из золотистого меха — от тяжелых грудей до бедер. Красивые длинные ноги безупречной формы. В отличие от мужчин, на ней не было золотых браслетов — только один узкий обруч из розово-белого гагата не более сантиметра шириной, покрытый тонкой кружевной резьбой, сквозь которую просвечивала ее темная медная кожа.
Мужчина слева шагнул вперед.
— Добро пожаловать в Ксич-Чи, великий город Чакмооля.
Из-за клыков в прорези маски его голос звучал как-то странно, словно издалека.
* * *
— Время, — сказал Кабал-Ксиу.
Из двух мужчин он был пониже ростом.
— Вот что заботит нас прежде всего.
Легкий ветерок пошевелил мех на его маске.
— Поэтому наша история записана в камне, над которым не властно течение времени.
Низкие строения с колоннами с северной и южной сторон. На востоке колышутся джунгли — непроходимый зеленый барьер. Ступени величественного акрополя, выходящего фасадом на запад. На той стороне каменной мостовой возвышается еще одна ступенчатая пирамида, примерно в три раза ниже гигантского сооружения в центре каменного города, состоящая из девяти убывающих уступов. На вершине ее — странное удлиненное сооружение на шести массивных столпах, густо покрытых резьбой, а в центре ближайшей к ним стороны — широкие ступени, уводящие вверх.
— Мы ждали… — Кабал-Ксиу сделал паузу, словно подбирая нужные слова. — Мы ждем…
Взглянув на этих троих людей, обезображенных странными масками, Ронин с некоторым беспокойством отметил, что абсурдность сложившейся ситуации никак до него не доходит. В этой троице было нечто пугающее, что не давало сосредоточиться, отгоняя все мысли, кроме тех, что как будто сами приходили в голову в ответ на реплики собеседников.
— Ждете чего? — спросил Мойши. — Конца?
Кошачья маска, покрывавшая голову Кабал-Ксиу, повернулась в его сторону. Лучи заходящего солнца сверкнули отблесками огня у него в глазах.
— О нет.
Полоска алого света скользнула по черным усам и исчезла.
— Конец уже наступил.
Солнце тихо покинуло землю; лазурное с лиловым свечение окутало город. Долина погрузилась в сумеречный свет, словно отраженный от застывшей далекой радуги.
— Сходи за тростником, Кин-Коба, — велел Кабал-Ксиу.
Поднявшись с алебастрового сиденья, женщина направилась через каменную площадь к зданию с северной стороны. Ронин наблюдал за движением ее ягодиц, за плавным покачиванием ее тугих сильных бедер.
Вскоре она вернулась с двумя тростниковыми факелами, горевшими дымным пламенем, и установила их в каменные колонны по обеим сторонам от сидевших.
— Это Чакмооль, — впервые заговорил Уксмаль-Чак, второй мужчина из странной тройки.
Он показал на низкий столик с плоским верхом, вытесанный из камня и стилизованный под кошачью спину. Камень был то ли испачкан красным, то ли имел естественный красноватый оттенок. По бокам его и на «спине» были врезаны зеленые нефритовые кружки, изображавшие пятна на шкуре. На столике стояли чашки из обожженной глины с высушенными зернами маиса и густым белым напитком, пряным и явно крепким.
— Красный Ягуар. Редкий зверь, который все еще рыщет по этой земле. Никто не может сравниться с ним в битве, ни одно существо ни в одном из миров, ибо Чакмооль не знает поражения, пока его полностью не покинет жизнь.
Когда Уксмаль-Чак говорил, его маска слегка покачивалась. На шее побрякивали бусы из нанизанных на несколько нитей зубов, когтей и резных кремней.
— Это свирепый и страшный хищник.
Глаза его были скрыты в глубокой тени.
— Многие верили, что Чакмооль — сверхъестественное существо, способное принимать человеческий облик.
— О нем сложено немало легенд, — ровным голосом заговорила Кин-Коба. — И это вполне объяснимо, ибо нечасто встречался Красный Ягуар человеку.
— И в конце концов стали его почитать богом, — добавил Кабал-Ксиу.
На темной лазури и пурпуре вечернего неба проявились скопления мерцающих звезд, напоминавших сверкание инея, разбросанного по небесной тверди дыханием космоса.
И под этим покровом извечной тьмы раскинулся огромный каменный город — неподвижное, математически выверенное пространство из плоскостей и углов, которое с наступлением темноты — с медленным поворотом небесного колеса — внезапно сделалось гармоничным, поражая человеческое воображение своим холодным и безжалостным расчетом.
Уксмаль-Чак наклонил голову.
— Скажите нам…
— Я думаю, — бесцеремонно прервал его Кабал-Ксиу, — наши гости устали после долгого перехода по джунглям.
Он протянул длинную руку.
— Кин-Коба, позаботься, пожалуйста, чтобы эти люди удобно устроились. А нам с Уксмаль-Чаком надо еще кое-что обсудить.
Через холодное, геометрически правильное пространство акрополя пролетела золотисто-зеленая птица и скрылась в чаще чернеющих джунглей.
Ночь.
Кин-Коба проводила их в узкие комнатушки в здании с северной стороны от акрополя. Единственный тусклый свет попадал сюда из душного коридора — от тростниковых свечей вдоль его голых каменных стен. В обеих каморках прямо на глинобитном полу лежали тонкие соломенные матрасы. Остальное убранство комнат состояло из неглубокой глиняной чаши с водой и ночного горшка в дальнем углу.
Стены комнатушек были покрыты резными фресками. Необычные животные и фантастические воины в головных уборах из перьев, одетые в звериные шкуры, — люди с большими крючковатыми носами и плоскими черепами, продолговатыми глазами и широкими полными губами. Сцены, исполненные в нежно-маисовых, кирпично-красных, темно-зеленых и темно-синих тонах. Похоже, яркий пурпурный цвет здесь был неизвестен. Пурпурным здесь было лишь небо.
Они встали в коридоре.
— Вам что-нибудь нужно? — спросила Кин-Коба, обращаясь к обоим сразу.
— Пока нет, — ответил Мойши.
— Тогда ладно, — сказала она на прощание.
Они замерли на месте, прислушиваясь к ее удаляющимся шагам.
Ронин подал знак Мойши, и они бесшумно последовали за ней к выходу из здания.
Остановившись в тени у выхода, они наблюдали за тем, как Кин-Коба идет через площадь.
— Хорошо, что мы вышли, — шепнул Мойши. — Мне там дышать было нечем.
— Слишком там пыльно, — заметил Ронин. — Явно уже давно там никто не спал.
Кин-Коба спустилась по ступеням и направилась по широкой белой мостовой к зданию с колоннами на вершине пирамиды с западной стороны.
— Кто эти люди? — спросил Мойши, обращаясь скорее к себе, чем к Ронину.
— Кто бы они ни были, ведут они себя странно. Им, кажется, вовсе не интересно, кто мы и как мы сюда попали.
Мойши кивнул.
— Как будто им все равно.
— А что сказал Кабал-Ксиу?
Кин-Коба добралась до подножия пирамиды и начала подниматься по каменной лестнице на ближней к ним стороне.
— «Мы ждали. Мы ждем».
— Чего ждут? Нас?
— Давай это выясним, — откликнулся Ронин.
Они выступили из тени и пошли следом за Кин-Кобой через темную площадь в сторону ожидающей пирамиды.
— Ответ может быть только один, — проговорил Уксмаль-Чак. — Надо ли напоминать тебе, «брат» мой?
Он не смог скрыть издевку в голосе.
— Не так оно все однозначно, по-моему, — заметил Кабал-Ксиу. — Ошибки быть не должно. Мы…
— Разве ты уже позабыл, что, хотя я сейчас и являюсь командующим маджапанов, когда-то, много катунов тому назад, я был, как и ты, жрецом?
— Как можно забыть о том, что выжжено у тебя в мозгу, Уксмаль-Чак? Я не испытываю симпатии к военным, но я могу понять вашу позицию.
— Мне противна твоя снисходительность, — буркнул Уксмаль-Чак, поворачиваясь к собеседнику спиной.
Между ними, скрестив руки на груди, стояла Кин-Коба и наблюдала за ними с таким выражением, с каким могла бы смотреть невозмутимая ящерица на двух дерущихся петухов — завороженно, но в то же время и отстраненно.
— Наконец-то ты высказался.
Кабал-Ксиу шагнул вперед — от жаровни, от наклонной стены с рельефными иероглифами. С обеих сторон у него за спиной к низкому сводчатому потолку, покрытому копотью от чадящих светильников, поднимались затененные арки.
Уксмаль-Чак резко развернулся, угрожающе вскинув руки. На бедре у него тяжело покачивалось какое-то короткое каменное оружие, непохожее ни на меч, ни на топор.
— Не надо меня поучать. Я изучил Книгу Балама и знаю ее не хуже тебя.
Он показал на покрытую письменами стену за горящей жаровней.
— Там сказано определенно и недвусмысленно, и никто — ни ты, ни кто-либо другой — не может исказить…
— Ты забываешь, «брат» мой, — холодно заметил Кабал-Ксиу, — что других, кроме нас с тобой, нет. Пока.
— О да. Со времен Раскола. С окончания четвертой эпохи. Да, «брат» мой, ты человек благочестивый. С каждым мгновением, с каждым ударом мое сердце болит по маджапанам, которые поклонялись нам, как богам, ибо без них возрождение…
— Прекрати святотатствовать!
Кабал-Ксиу затрясся от ярости. Он сделал еще один шаг вперед на негнущихся ногах. Уксмаль-Чак поднес левую руку к правому бедру и схватился за холодную каменную рукоять. Мышцы его напряглись.
— У вас разве нет других дел? — тихо вмешалась Кин-Коба.
На мгновение они застыли, подобно статуям. Оранжевый свет плясал по темной прохладной коже и рыжеватому меху.
Потом Уксмаль-Чак повернулся к ним спиной и вышел из здания. Его шаги, удаляющиеся вниз по ступеням, далеко разносились во влажном ночном воздухе.
Кабал-Ксиу вздохнул и заметно расслабился.
— Знаешь, возможно, он прав.
— Может быть, — отозвалась Кин-Коба.
Повернувшись к иероглифам на стене, Кабал-Ксиу заговорил, и голос его иногда звучал так, будто он читал древние письмена:
— Столько катунов прошло после гибели маджапанов, нашего возлюбленного народа, столько бесплодных катунов, и лишь пророчество Книги Балама держит нас здесь в ожидании — в ожидании катуна, отмеченного новым пришествием Ке-Ацатля.
Он подал знак, и Кин-Коба безмолвно встала рядом с ним, глядя на стену с иероглифами.
— И вот он уже наступает. Катун Ке-Ацатля возвращается в полночь мира, в час, когда воплощается первозданность и начинается эра шестая — время для возвращения маджапанов.
Ронин, застывший в тени одной из арок, знаком велел Мойши следовать за Укмаль-Чаком, а сам остался послушать.
— Он может пойти посмотреть, на месте мы или нет, — шепнул он Мойши на ухо. — Встретимся в твоей комнате попозже.
И он опять повернулся к двоим, стоявшим на свету от горящей жаровни.
— Происхождение маджапанов окутано тайной, — продолжал Кабал-Ксиу. — Они принесли с собой знание и могущество из эпохи, предшествовавшей появлению человека. Потом маджапаны жили в стране, где жара и джунгли; на земле, окруженной бездонным морем, что кишело чудовищными созданиями. От своих могучих богов получили они великие дары и знания, но они были прокляты, ибо явились на свет в конце Старых Времен, а когда подошло время пришествия человека, случились великие потрясения земли, воды и небес.
И жрецы, предсказывавшие катаклизмы, ибо тогда уже существовала великая Книга Балама, пришли к маджапанам, и собрали их на бескрайней равнине у берегов бушующего моря, и принялись уговаривать их строить корабли, говоря так: «Теперь надо вам строить крепкие корабли, дабы плыть через моря, ибо страны, где родились вы, скоро не станет. Если и суждено маджапанам выжить, это будет в иной земле».
И преисполнились маджапаны страха, ибо не были эти люди хорошими моряками и никогда не любили море, и топтались они беспорядочно на берегу, и спорили друг с другом. И тогда сказали им жрецы: «Не бойтесь вы ни высоких волн, ни чудовищ из темных глубин, ибо истинная опасность — здесь. Скоро земля наша станет черной и красной, и извергнет она ядовитый дым с серой, и прольется тогда кровь земли. И расколется твердь на части, и навечно провалится в бездонные недра, и воды сомкнутся над ней, как сцепленные руки».
Так говорили жрецы, и маджапаны послушались их и построили корабли для спасения своего. И взошли они на корабли, взяв с собой только детей и пищу, а остальное имущество бросив. Жрецы же забрали священные свитки свои и ушли, а громадные богатства маджапанов брошенными лежали.
Так маджапаны оставили обреченную землю свою, чьи недра сгорали уже в огне окончания Старых Времен, и жрецы разделили, четверть отправив на север, четверть — на юг, четверть — на восток и четверть — на запад.
Так и случилось, что маджапаны пришли на сей остров — на этот обширный кусок известняка, поднимающийся со дна моря. И здесь основали они Ксич-Чи, город своих праотцев, истинный город.
Только здесь маджапаны не смешались с нарождающейся новой расой людей, наводнивших мир. Только здесь сохранили они чистоту крови. А когда узрели они Чакмооля, они поняли сразу, что это есть воплощение Тцатлипоки.
— И теперь, — выдохнула Кин-Коба, низкий голос которой дрожал в густом воздухе, — в катун Ке-Ацатля, на рассвете эры шестой, первые из маджапанов вернулись в священный свой город, где этой ночью может случиться великое возрождение. Тцатлипоки придет, дабы снова узреть свой Ксич-Чи.
* * *
Подтеки воды, последние напоминания о ливне, при свете луны превращались в озерца платины. Игра света и тени, в переливах которой, кажется, оживали резные камни. Мистическая история, высеченная на незыблемых гранях. Когда-то великий, сейчас это город мертвых, думал Ронин, бесшумно следуя за Кин-Кобой, которая шла быстрым шагом по улицам в пляшущих зыбких бликах. Наверное, эти трое — жертвы неумолимого времени — сошли с ума от затянувшегося одиночества. И они явно не маджапаны, эти загадочные хранители Ксич-Чи. Какие они, интересно, под своими кошачьими масками, пытался представить Ронин, передвигаясь из тени в тень, вдоль грани каменной пирамиды. Похожи они или нет на фигуры с пиктограмм, запечатленных в архитектуре Ксич-Чи?
Этот город казался видением из сна. Исполинские каменные капители как будто парили в воздухе, выдаваясь из остающихся в тени стен; широкие площади с покатыми стенами зданий, увенчанными зубцами, представляли собой вереницу наклонных плоскостей; пирамиды, сложенные из бесчисленных уступов и густо покрытые резными иероглифами, казались поэтому зыбкими и неустойчивыми.
Кин-Коба скрылась в густой тени, и Ронин потерял ее из виду. Он пошел за ней осмотрительно и бесшумно. Теперь камни были его врагами, поскольку они могли выдать его гулким эхом, не будь он так осторожен. Дорожка, на которую свернула Кин-Коба, проходила мимо трех зданий, вдоль узкого прохода примерно в сотне метров от того места, где встал в тени Ронин.
Мгновение он стоял неподвижно, наблюдая и напряженно прислушиваясь к приглушенным звукам ее шагов. Его окружали безмолвные и отчего-то немного жуткие хроники маджапанов — история в камне, ждущая своего часа.
Осторожно продвигаясь по проходу, Ронин заметил движение. Теперь он засомневался, а не стоит ли вернуться в дом на площади. После недолгих раздумий он все же пошел вперед. Теперь, когда решение было принято, он ускорил шаг.
Вперед по проходу, потом резко влево, в полосу темноты. На какое-то время он как будто ослеп.
Что-то неуловимо преобразилось. Изменился характер самой темноты. Она стала вдруг гуще и как будто просторней. Ронин понял, что отошел от зданий. Однако, подняв голову, он не увидел ни звезд, ни луны.
Впереди снова раздался приглушенный звук шагов. Он двинулся вперед. Там, где сгущалась кромешная тьма, стояли деревья. Глаза Ронина постепенно привыкли к темноте, и он увидел, что идет по краю джунглей, окружающих город.
Несколько раз ему казалось, что впереди что-то мерцает — что-то похожее на отраженный свет, только невысоко, метрах в двух от земли, не больше. Кого или что он преследует? Интуиция подсказывала Ронину, что он потерял Кин-Кобу еще в темном проходе. Тогда почему он здесь?
Джунгли неохотно расступились, и Ронин, замерев в тени, увидел залитую лунным светом просеку. Ничего подозрительного он не услышал. Обычный писк ночных насекомых и тихий шелест деревьев.
Он решительно вышел на середину просеки и зашагал дальше по ней. Потом неожиданно просека сделала поворот, и в бесстрастном свете луны Ронин увидел черно-белое покосившееся сооружение, стоявшее в дальнем конце дорожки.
Оно стояло на невысоких колоннах в виде извивающейся змеи; каждый ее изгиб был как бы частью основания. Изображение змеи Ронин увидел в этом городе впервые. Центральная лестница здания обвалилась в нескольких местах.
В самом здании было двенадцать дверных проемов, и над массивными перемычками каждого виднелось резное изображение все той же змеи, то ли с перьями, то ли с крыльями, развернутыми в полете.
Одну сторону здания полностью затянули растения — неизбежное нашествие джунглей, стремящихся отвоевать пространство, когда-то отнятое у них каменным городом. Зеленый мох на ступенях напоминал запущенный разлохматившийся ковер.
Краем глаза Ронин заметил, как что-то мелькнуло во тьме, и подошел поближе. Опять сверкнуло что-то белое, и теперь он увидел, что перед зданием, в тени раскидистого дерева, стоит какая-то статуя. Когда ветер раздвинул тяжелые ветви, серебристый свет луны упал на голову изваяния.
То есть не на голову, а на верх торса. Головы у статуи не было, как будто кто-то умышленно снес ее с каменных плеч. Сама же фигура возвышалась не меньше чем на шесть с половиной метров.
Это был воин.
В панцире и сапогах, с сильными, мускулистыми руками. На поясе у него висели двое ножен: одни с оружием, другие пустые. Одна рука поднята вверх. Она тоже была испорчена и заканчивалась обломанным запястьем.
По верхушкам деревьев пронесся прохладный ветер. Тихонько попискивали ночные насекомые. И больше ни звука.
Ронин застыл перед статуей в немом изумлении. Он словно услышал какой-то темный, глубинный зов и почувствовал, как в его тело вливается неведомая сила, исходящая от самой просеки, от этих странных каменных сооружений. Что-то в нем нарождалось, зовущее к действию, неодолимое и манящее.
Потом Ронин медленно повернулся и направился в шуршащие, влажные тени джунглей.
Он поднял глаза, чтобы взглянуть на статую в последний раз.
Где-то рядом, у него над головой, развернулись громадные оперенные крылья, и что-то вспорхнуло в прохладную чистую ночь.
За пологом сплетенных ветвей и листвы — обширная геометрически правильная равнина, лежащая под перевернутой чашей черных небес. Ее освещала луна в окружении танцующих звезд. На востоке, прочертив небосвод ближе к линии горизонта, неровной дугой изогнулся широкий звездный пояс, густое скопление мерцающих точек. Далеко-далеко был сейчас благоуханный Шаангсей и желтая крепость Камадо, северная цитадель, у стен которой уже бушевал Кай-фен.
Добравшись до здания на северной стороне акрополя, Ронин прилег у себя в комнатушке и закрыл глаза, ожидая возвращения Мойши.
Охваченный непонятной яростью, он идет коридором какого-то ветхого заброшенного здания. Коридоры настолько узки и темны, что ему волей-неволей приходится напряженно всматриваться вперед, чтобы не сбиться и не заплутать. Из-за этого у него нет ни времени, ни возможности заглядывать в дверные проемы, издевательски мелькающие с двух сторон, хотя заглянуть очень хочется. Или не хочется… он и сам не поймет. Но так или иначе он шагает вперед во тьму, и ярость его нарастает, обращаясь необъяснимым и жгучим гневом. Он видит свое отражение в зеркале и, сам испугавшись, отшатывается прочь.
Во мрак дальше по коридору. Он здесь один. Больше нет никого. Двери закончились. Он переходит на бег. Все быстрее и быстрее. Вдоль сплошных стен. Грохот его башмаков разносится эхом, похожим на барабанный бой, на ритм какой-то растянутой потаенной песни. Это уже полное безрассудство, думает он в темноте. Да пошло оно все к морозу! А ярость так и пылает огнем. Он уже не владеет собой. Это как будто напор судьбы, задевшей его своим кожистым черным крылом. Все быстрее бежит он по узкому коридору.
Дальше и дальше, и все начинает сливаться. У него слегка кружится голова. Вскоре он замечает, что потолок становится ниже. Сгорбившись, как-то неловко согнувшись, он ковыляет вперед. Быстрее.
Он спотыкается, падает посреди черноты. Его руки взлетают над головой, пальцы сами цепляются непонятно за что.
Он висит в воздухе, ухватившись за балку — нижнюю кромку коридора-туннеля-воронки, загибающейся вниз и стремящейся выплюнуть его из себя. Сбросить вниз.
Разгоряченный и потный, он отчаянно пытается удержаться, а под ним уже ждет пространство, разверстое и бездонное.
Из глубины поднимаются грохот и скрежет. Где-то внизу смутно виднеется что-то вроде подмостков. Слишком далеко, чтобы спрыгнуть на них. Из-за громадного расстояния они кажутся не шире лезвия меча.
Взрывы, раскатистые и глухие, доносятся снизу, больно ударяя по ушам.
Он смотрит вниз как завороженный, не в силах оторвать взгляда.
А потом появляется некое извивающееся существо. Липкие полупрозрачные щупальца тянутся вверх. Из глубины проступает темный бесформенный силуэт, нависающий над чудовищной тварью. Сгусток тьмы, обволакивающий ее своим телом. Щупальца бьются в агонии. В клубящемся мраке видна содрогающаяся голова. Горят два глаза без век, со зрачками, похожими на зазубренные осколки обсидиана.
Чудовищное лицо начинает как будто мелькать, изменяя черты, стремительно и неуловимо. Пульсация форм — десять тысяч преобразований в единый миг, на исходе которого остается один-единственный глаз, узкий и длинный, как прорезь. Немигающий, злобный взгляд, готовый смахнуть его вниз — завороженного, смятого и беспомощного.
Жар точно крик. Его глаза выжжены. Тело бьется, поджаривается и горит, горит… И жуткая вонь…
— Я услышала, как ты кричал, — сказала она, склоняясь над ним.
Он вперил невидящий взгляд в ее неправдоподобно огромную, покрытую мехом голову, по которой метались нелепые искаженные тени в тусклом мигающем свете от тростниковых факелов, проникающем из коридора в комнату.
Приподнявшись на локте, Ронин отер пот с лица.
— Ты болен?
— Нет, — отозвался он медленно, все еще не придя в себя. — Это был сон. Просто сон.
Его голос звучал низко и хрипло.
— Сон.
— Да.
Кин-Коба опустилась на колени рядом с его соломенным тюфяком.
Взгляд Ронина упал на фреску на стене перед ним. На ней мужчины в головных уборах из перьев бежали навстречу друг другу через правильной формы прямоугольное поле, окаймленное вдоль длинных сторон наклонными каменными стойками, венчающими отвесные стены. Посередине же боковых сторон, на высоте около пяти метров от пола, торчало по резному каменному кольцу.
— Что здесь изображено?
Ее голова с шорохом повернулась.
— Маджапаны играют в священную игру с мячом. С обеих сторон игрового поля поднимались наклонные стойки в виде выпускающего когти Чакмооля.
— Изначально они были земледельцами, — тихо проговорила Кин-Коба. — Маджапаны любили землю. Они знали, как с ней обращаться, и собирали богатые урожаи маиса, бобов и фруктов. Но всегда находились какие-то племена… другие. Свирепые и могучие, с религией, воспевавшей смерть. И поэтому маджапаны были вынуждены стать воинами.
Ронин рассеянно наблюдал за тем, как тусклый свет ласкает ее обнаженное бедро.
— Но и познав боевые искусства, они не хотели воевать. И тогда жрецы изобрели игру в мяч, дабы все споры решались не в битве, а в этой священной игре. Маджапаны соорудили площадки, а враждебные племена, которые объявляли им войну, теперь были вынуждены выставлять команду из своих лучших воинов. Разрешалось набирать по девятнадцать человек с каждой стороны, и они играли в священную игру в мяч плоскими каменными лопатками на каменных площадках, используя сложные ритуальные приемы. Основная задача игры — забросить мяч через каменное кольцо на стороне противника, одновременно мешая команде соперников забросить мяч в кольцо на своей стороне.
Он еще раз взглянул на фреску.
— Значит, войн у вас не было.
— Таков обычай маджапанов.
— И все племена придерживались ваших правил.
— Все боялись…
Она вдруг умолкла, словно поняла, что сболтнула лишнего.
— Боялись чего?
Сейчас Ронин смотрел на ее лицо, наполовину закрытое тенью, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь проблеск эмоций в глазах под маской.
— Бога. Бога, которому мы когда-то поклонялись.
Ее голос звучал сурово и как-то растерянно.
— Но, — продолжала Кин-Коба уже бодрее, — это было давно, в незапамятные времена. Сейчас это уже неважно — ложный бог изгнан с этой земли много катунов тому назад.
Полуразрушенное, заросшее мхом здание. Безголовая статуя. Оперенная змея.
— Лишь Чакмооль правит теперь в Ксич-Чи. Это его жрецы изобрели священную игру в мяч…
— Получается, маджапаны избегали кровопролития, играя в эту игру, — заметил Ронин.
Ее голова дернулась, и свет упал на ее глаза, коричневатые и блестящие, как чистейшие топазы.
— Что тебя навело на такую мысль? — спросила Кин-Коба испуганно и негодующе. — По окончании игры головы игроков проигравшей команды передавались вождям их племен в качестве предостережения. Их дымящимися сердцами удобряли наши поля. Маджапаны были народом практичным.
Ронин приумолк, размышляя над услышанным.
— Ты хочешь сказать, что маджапаны никогда не проигрывали? — спросил он наконец.
— Нет, ни разу.
Ронина вдруг охватило какое-то непонятное чувство. Ему почему-то сделалось грустно. Пытаясь стряхнуть с себя это подавленное состояние, он спросил:
— А что у тебя под маской, Кин-Коба?
Она вскинула тонкие руки. Безмолвный порывистый жест, который был правдивее всяких слов.
— Желаешь ли ты обладать мной?
Странное она подобрала слово, подумал Ронин.
— Ты хочешь сказать, заняться любовью?
— Если ты хочешь именно этого.
Он протянул руку и провел кончиками пальцев от ее колена по внутренней стороне. Ее глаза сверкнули.
— Но только не в маске.
— Тогда ты ничего не получишь.
Она взяла его руку, отнимая ее от своей ноги. Он ощутил ее тепло, томное и влажное, как джунгли в разморенный полдень. Свободной рукой Кин-Коба провела по его распростертому телу.
— А ты ведь хочешь.
Она поднялась и решительным жестом стянула с него штаны. Потом присела над ним на колени, медленно опускаясь все ниже. Веки ее трепетали. Она прикрыла топазовые глаза. Охнула. Склонилась над ним, и он ощутил жар ее тяжелых грудей и подрагивание живота. Он поднес руку к ее лицу, но она с силой сжала его пальцы и прижала его ладонь себе к груди. Ее бедра сдвинулись вниз.
Тела их сплелись во влажной ночи. Он вошел в нее, вдыхая необычный пряный аромат ее тела, пытаясь представить, как она выглядит на самом деле. Их совокупление напоминало борцовскую схватку двух великих мастеров. Их тела, двигающиеся в такт в нарастающем ритме, блестели от пота и слюны, и у Ронина было такое чувство, будто он снова мчится во тьме по замкнутому переменчивому коридору-туннелю-воронке.
И в тот самый миг, когда она закричала, а тело ее содрогнулось, он почувствовал, как ее безжалостное неистовство накатывает на него зловонным приливом, как он отшатывается в испуге от своего отражения, промелькнувшего в зеркале. Ее ногти впились в его тело, ее сильные бедра крепко сжимали его, скользкое гибкое тело извивалось над ним, ее тяжелые груди покачивались, соски затвердели и заострились.
В глубине его существа, в этой взвихренной круговерти, зарождались какие-то злобные чувства, оглашающие сознание могучим ревом. Он пытался сдержать их, унять, но уже ощущал, что наслаждение, переполнившее его чресла, готово прорваться наружу.
Ее бедра вращались по кругу, ее дыхание стало неровным и чувственным. Подняв руки, он сдавил ее груди. Она застонала и буквально вдавила в него свое тело. А он взялся за маску, приподнял над ее плечами и, даже услышав низкое рычание, пронзительный крик снаружи, посмотрел наверх — за пределы пылающих самоцветов-глаз.
Пронзенный.
Мойши перебирался из тени в тень под звездным небом ночи, не отрывая взгляда от высокой фигуры Уксмаль-Чака, который направился прочь от низкой пирамиды.
Мойши почему-то решил, что он пойдет к исполинской ступенчатой пирамиде к западу от акрополя, но вместо этого Уксмаль-Чак повернул направо, на улицу, уводящую в дальний конец города.
Мерцающий и таинственный город, хранящий знание тысячелетий, широко раскинулся в ночи. Вот он стоит, расстелившийся по равнине, незыблемый, а где-то поблизости нарождается жизнь. Выжидает.
Во всем Ксич-Чи было только одно круглое здание, небольшое и сравнительно скудно украшенное. Именно туда и направлялся Уксмаль-Чак.
Подойдя поближе, Мойши увидел, что это сооружение представляет собой круглую башню высотой метров в сто, установленную на двух террасах, одна над другой. Нижняя, что пошире, вся заросла травой, верхняя была сложена из голого камня. К башне вела лестница. Входных дверей было три, и расположены они были через неравные промежутки.
Притаившись под перемычкой ближайшего портала с изображением жреца в окружении непонятных иероглифов, Мойши внимательно наблюдал за тем, как Уксмаль-Чак поднялся на два пролета вверх и встал, глядя в ночное небо, перед первым входом в башню, с левой стороны. Какое-то время он стоял неподвижно, а потом поднес к глазу что-то темное.
Мойши тоже взглянул наверх. На какое созвездие он, интересно, смотрит? На Плеяды? На Большую Медведицу? А где огромное созвездие Змеи, которое столько раз доводило его до безопасного порта из морей, не обозначенных на картах?
Уксмаль-Чак еще долго рассматривал небо, затем встрепенулся — найдя, очевидно, ответ на невысказанный вопрос среди далеких, недостижимых звезд, — на мгновение вошел в башню и тут же вышел обратно. Спустившись по лестнице, он пересек покрытую травой террасу, спустился по нижним ступеням и нырнул в тень.
Мойши вышел из своего укрытия и двинулся следом за высокой фигурой.
Уксмаль-Чак привел его к краю джунглей. Повернувшись, Мойши разглядел на западе верхушку громадной ступенчатой пирамиды. Сейчас они шли по какой-то улочке вдоль невысоких строений. Мойши не отставал от Уксмаль-Чака, держась от него на почтительном расстоянии и ориентируясь по тихому скрипу его сандалий.
Вдруг у него на пути возник темный силуэт, появившийся из густых темных зарослей. Прозрачный платиновый свет луны позволил Мойши отчетливо разглядеть темную лоснящуюся шкуру густого красного оттенка и яркие желто-зеленые глаза, холодные и твердые, как кремень, светящиеся таинственным внутренним светом. В сыром воздухе мелькнул длинный хвост.
— Чакмооль, — выдохнул Мойши. С утробным урчанием зверь бросился на него, вытянув шею и выпустив когти в прыжке. Мойши невольно вскрикнул и схватился за медную рукоять кинжала. И тут Чакмооль добрался до него.
Широко разинув пасть, ягуар откинул голову и принялся рвать тело Мойши когтями. Загнутые клыки Чакмооля влажно отсвечивали в лунном свете, обильно смоченные слюной и еще чем-то темным.
Зверь рванулся к шее Мойши. Тот увернулся. Зубы сомкнулись, противно щелкнув. Мойши силился высвободить правую руку и направить кинжал Чакмоолю в брюхо. Яростно зарычав, зверь присел на задние лапы, чтобы добраться когтями до живота Мойши.
Что-то темное промелькнуло у него за спиной, но он этого не заметил. Повалившись на белые камни Ксич-Чи, Мойши сцепился с Чакмоолем. Он напрягся, скрипнув зубами, и сумел наконец освободить правую руку. Снова к нему устремилась разверстая пасть, и он ударил зверя по зубам тяжелым медным браслетом. Чакмооль рассерженно взвыл. Повернув лезвие кинжала, Мойши направил его ягуару в сердце. Удара, однако, не получилось: что-то остановило его руку. Он бился под тяжестью хищника, голова у него кружилась от сильного звериного запаха. Он повернулся, чтобы взглянуть, что…
Чакмооль вонзился зубами ему в шею.
ИГРА БОГОВ
— Время — убийца.
Вереница масок, отраженных друг в друге.
— Время — целитель. Время — граница. Время всегда побеждает.
Каменные Чакмооли с разверстой пастью охраняют свои пределы.
— Мы склоняемся перед твоею несокрушимой мощью.
Как только замерли отголоски заклинания Кабал-Ксиу, зазвучал голос Уксмаль-Чака:
— Как было, и будет, и быть должно. Так было предсказано в Долгом Расчете в Книге Балама маджапанов. — Его слова трепетали на торжествующей ноте. — Сейчас ровно полночь. Наступает катун Ке-Ацатля. Эра шестая!
Они сняли маски.
Лицо Уксмаль-Чака было длинным и узким. Нос как слоновий хобот.
Челюсть Кабал-Ксиу похожа на звериное рыло. Безгубый рот, нос из одних ноздрей.
Глаза у Кин-Кобы — сияющие треугольники, с кошачьими зрачками-щелочками. Уши, поднятые ближе к темени, настороженно вздрагивали при каждом звуке.
Странная троица расположилась на нижней ступени огромной пирамиды в центре Ксич-Чи. У их ног, на белеющем камне, лежали Ронин и Мойши, оба в сознании, но неподвижные.
— Думайте! — в экстазе выкрикнула Кин-Коба, протянув руки вперед. — Вспоминайте! Вы чувствуете?
Она рывком развернулась навстречу ночи.
— Наше утерянное могущество возвращается! Маджапаны, породившие нас в Старое Время, на рассвете вернутся к нам вновь! Эра бесплодия сменяется эрой цветущего изобилия.
— Эти двое вернут маджапанов! — воскликнул Кабал-Ксиу. — Ибо смерть обагрит теплой кровью ступени Священной Пирамиды Тцатлипоки.
Казалось, от звука его звенящего голоса, наполняющего энергией и мощью каждое произносимое слово, закачались верхушки деревьев вдали, а каменный город дрожал, как живой.
— И жизнь возродится в Ксич-Чи!
— Начинается! — выкрикнул Кабал-Ксиу в изменчивую зыбкую ночь, забравшись в черных своих одеждах на центральную лестницу пирамиды. Уксмаль-Чак повернулся, чтобы последовать за ним, но Кин-Коба схватила его за руку и удержала рядом с собой. Ронин, который не мог повернуть головы, напрягал слух, стараясь подслушать их разговор.
— Он видел, Уксмаль-Чак. Видел забытое святилище и… статую.
— Что? — Глаза Уксмаль-Чака сверкнули. — Тот, который последовал за тобой, видел статую Атцбилана?
Бросив быстрый взгляд на Ронина, он покачал головой. Слоновий хобот качнулся из стороны в сторону.
— Не имеет значения. Направляющий Солнце изгнан из этой страны до конца времен, как и его отец, имя которого неизреченно, был изгнан из мира в эпоху Раскола.
Он положил руку на плечо Кин-Кобы.
— Долго правил Тцатлипока в Ксич-Чи, и долгим будет его правление — на вечные времена. Теперь пора совершить жертвоприношение, которое вернет Тцатлипоку в Ксич-Чи, а с Ним — и наших возлюбленных маджапанов.
Кин-Коба заглянула ему в лицо.
— И все-таки я боюсь, потому что он был в том месте и, может быть, он — тот самый…
Уксмаль-Чак ударил ее по лицу, и она отшатнулась.
— Ты с ума сошла? Да, мы такие, какие есть, но посмотри, какими жалкими и убогими стали мы за все эти катуны, когда тень Тцатлипоки не осеняла нас, ибо лишь тень Величайшего может нас возвеличить! Без него мы — ничто.
— Я — Кин-Коба, — гордо произнесла она, не обращая внимания на тонкую струйку крови, стекающую по щеке. — Тебе нет нужды напоминать мне, кто я. Но ты разве забыл, Уксмаль-Чак, о чем еще говорит предсказание Книги Балама?
Его голова дернулась, словно ее слова опалили его огнем.
— Богохульница мерзкая! — сплюнул он.
Кабал-Ксиу уже приближался к плоской вершине Пирамиды Тцатлипоки.
— Как можешь ты благоговеть перед одной частью Книги и отвергать другую? — Теперь голос Кин-Кобы звенел металлом. — Разве ты не видишь? Я сама поняла это не сразу. Ты знаешь, что собирается сделать Кабал-Ксиу. А если все, о чем сказано в Книге, правда, что будет с нами?
— Оставь при себе эти мрачные мысли, Кин-Коба. Мы изменили Книгу Балама, и ты это знаешь. — Он схватил ее за руки. — Неужели память твоя так коротка, и ты забыла уже, как мы сражались с Ним и изгнали Его из страны Ксич-Чи, дабы Тцатлипока смог воцариться здесь единовластно на вечные времена? Неужели ты забыла наших товарищей, павших в этой титанической битве?
— Нет, — печально отозвалась она. — Память об этом осталась в душе моей кровоточащей раной. Но опять наступает год Ке-Ацатля. А Он был создан в год Ке-Ацатля; Он родил Атцбилана в год Ке-Ацатля; мы разбили его в год Ке-Ацатля; и в Книге сказано, что Он вернется в год Ке-Ацатля.
Ее волосы колыхались на ветру; в глазах стояла тоска.
— Ты знаешь, что Его пришествие ознаменует конец правления Тцатлипоки в Ксич-Чи. А без Его покровительства и защиты, когда восстановится равновесие, коего мы так страшимся, мы сгинем и больше уже не вернемся сюда!
Высоко над головой раздался крик, и Ронин, подняв глаза к вершине пирамиды, увидел перед Храмом Тцатлипоки высокую фигуру Кабал-Ксиу в черном траурном облачении. Его низкий раскатистый голос плыл гулким эхом над темным пустынным городом, застывшим будто бы в ожидании:
— О, Итцамна, Властитель Небес, сын Хунаб-Ку, создатель вселенной, Тебя больше нет, ибо свергнут Ты Чаком.
О, Чак, Ты, покинувший истинных маджапанов, друг людей, предавший Тцатлипоку, велика была мощь, что тебя одолела…
Это было заклятие, призывающее скрытые силы. Кабал-Ксиу продолжал завывать, а Священная Пирамида, казалось, налилась свечением, и свечение это, подобное свету луны, что повисла платиновой слезой в блистающей звездами черной небесной реке, набухало энергией и мощью.
Ронин повернулся к лежавшему рядом Мойши.
— Мойши, ты можешь двигаться?
Штурман отрицательно покачал головой.
— Что они с нами сделали? Последнее, что я помню, это Чакмооль…
— Они знали о том, что мы придем, — тихо, одними губами проговорил Ронин. — Наверное, еще до того, как мы добрались до города. Те глаза в джунглях…
— Красные Ягуары?
С вершины Священной Пирамиды донеслось неясное потрескивание, и они разом подняли глаза. Из дверей Храма Тцатлипоки вырвались языки мерцающего бело-голубого пламени, превратившего фигуру Кабал-Ксиу в резко очерченный силуэт. Было в этом огне что-то нездешнее, странное, наводящее благоговейный ужас.
— О, одряхлевшие и уставшие божества, — нараспев продолжал жрец, — ваше время закончилось, ибо пришел катун Долгого Расчета, предсказанный Книгой Балама. Сила ваша угасла и обратилась бессилием…
Языки пламени взвились выше, текучие, серебристые и неестественные до жути. Кабал-Ксиу простер руки к застывшей в безмолвном ожидании луне.
— Время пришло. Настал катун Ке-Ацатля. Рассвет шестой эры…
Ронин моргнул: ему показалось, что высокая фигура на вершине пирамиды пульсирует и увеличивается в размерах.
— Прийди, Ксаман-Балам!
Жидкий огонь плескался у него за спиной.
Послышался скрежещущий рев, тело жреца раздулось, потеряло четкие очертания.
Платиновый свет затопил ночь.
Ронин и Мойши зажмурились, а потом, когда глаза их привыкли к свету и они снова открыли их и взглянули на вершину Священной Пирамиды, их взору предстала такая картина: четыре гигантские фигуры, минуя центральную лестницу — слишком маленькую для таких исполинов, — спускались к подножию пирамиды прямо по огромным каменным уступам ступенчатого сооружения.
— Свершилось, — выдохнула Кин-Коба, нечеловеческое лицо которой казалось еще более странным при неестественном свете. — Ксаман-Балам возродился!
Она повернулась, чтобы взглянуть на Ронина.
— Кто это? — спросил он.
— Тот, Кто Един в Четырех, — торжественно объявил Уксмаль-Чак, шагнув вверх по лестнице. — Тот, кто пережил все катаклизмы эпох. Единый, обернувшийся четырьмя — теми, кто в Старые Времена, когда случился великий потоп, держали четыре угла мироздания, уцепившись за звезды, дабы не кануть в пучину.
Все четверо были на одно лицо: продолговатые сверкающие глаза, непохожие ни на человеческие, ни на звериные; длинные носы, свисающие подобно слоновьим хоботам; узкие, заостренные черепа, блестящие в холодном свете; широкие рты с толстыми, вывороченными губами. Отличались они только цветом одежд. Один был в красном, другой — в белом, третий — в желтом, четвертый — в черном.
Одновременно открылись четыре рта и четыре одинаковых голоса, подобно зловещим раскатам грома, разнеслись по пространству:
— Вот я пришел, неудержимый: Ксиб, Сак, Кан и Эк. После долгих катунов молчания говорит Ксаман-Балам.
При звуке этих голосов Мойши содрогнулся. Четыре фигуры спустились к подножию и остановились на предпоследнем уступе.
— Настал час призвать Тцатлипоку, и когда Он придет, Он опять поведет маджапанов — из сокровенных глубин на землю Чакмооля, в Ксич-Чи, священнейший из городов.
Из храма, где возродился Ксаман-Балам, вырвалась бледно-зеленая вспышка. Вниз обрушилась волна едкой вони.
— Теперь, когда собраны все, кто потребен, наступает минута Священного Жертвоприношения. — Слаженным жестом они показали на Ронина. — Ты будешь играть против сил Тцатлипоки, как это делалось в Старые Времена, ибо без состязания, без кровопролития, освещенного божественной волей, Он не сможет прийти. Ты поднимешься на четвертую ступень.
Ронин быстро сосчитал. Всего ступеней было девять.
— Пусть пределами поля будет эта грань Священной Пирамиды…
Ронин вдруг ощутил, что к нему вернулась способность двигаться. Однако что-то связало волю. Тело не подчинялось ему. Ноги как будто сами несли его по центральной лестнице на четвертый уступ.
— Череп, — произнес Эк, черный аспект Ксаман-Балама.
Ксиб, его красный аспект, стоял прямо над Ронином, на седьмой ступени. На нем была маска, изображающая оскаленный череп.
— Ястреб.
Сак, белое воплощение Ксаман-Балама, в маске, изображающей устремленную из поднебесья вниз птицу, стоял на шестой ступени, слева от Ронина.
— Крокодил.
Кин-Коба, в маске крокодила, тоже стояла на шестой ступени, но справа.
— Обезьяна.
На пятой ступени, слева и чуть подальше, встал Кан, желтый аспект божества.
— Кремень.
На той же ступени, справа, стоял Уксмаль-Чак в высокой угловатой маске.
— Это твои соперники, — объявил черный Эк, поднимаясь на верхнюю ступень Священной Пирамиды. — Они будут пытаться столкнуть тебя с пирамиды. Если им это удастся, ты и твой спутник умрете, и кровь ваша послужит призванию Тцатлипоки. Ваши головы, ваши дымящиеся сердца вновь приведут Его в каменный город, в Его возлюбленный Ксич-Чи.
— А если я выиграю? — спросил Ронин.
Эк улыбнулся, обнажив черные острые зубы, блестящие от слюны.
— Если каким-то чудом тебе удастся добраться до вершины Священной Пирамиды, тогда ты и твой спутник уйдете отсюда живыми.
Его странные глаза напоминали яркие ядовитые соцветия.
— Но истинно говорю тебе, нет у тебя надежды. Я знаю, ты видел статую Атцбилана, Направляющего Солнце; я знаю, ты видел разрушенный храм, посвященный отцу его, имя которого неизреченно. Но они были изгнаны из Ксич-Чи и из памяти маджапанов еще в эпоху Раскола. Книга Балама была переписана заново, и теперь нам нечего страшиться. Власть Тцатлипоки в Ксич-Чи — превыше всего!
— Если это игра, — выкрикнул Ронин, — должны быть команды. Где те, кто будет играть на моей стороне?
Эк рассмеялся; глаза его сверкали, словно зажженные маяки.
— Найди их, могучий воитель!
Его низкий голос прокатился раскатами грома по узким долинам и ступенчатым холмам застывшего каменного города, геометрически правильного и пустынного.
А сверху уже приближался Кан в сморщенной коричневой маске обезьяны. Он размахивал посохом, на одном конце которого был резкий загиб, вырезанный в виде головы какого-то зверя.
Ронин стремительно выхватил меч и успел отбить удар длинного посоха. Снова и снова оружие Кана атаковало его, управляемое, казалось, движениями одних кистей. Из-за скорости вращения посох утратил четкие очертания, превратившись в смазанный вихрь ударов, готовый смести Ронина вниз.
Зеленые и голубые вспышки освещали место поединка; они исходили от храма за спиной Эка на вершине Священной Пирамиды.
Обезьяна усилила натиск. Ронин медленно отступал вдоль огромного каменного выступа. Он все еще пребывал словно в каком-то тумане, рефлексы были ослаблены, реакция — запоздалой. Даже мысли и те были нечеткими и расплывчатыми. Ему никак не удавалось сосредоточиться.
Он отступал до тех пор, пока не оказался прямо под ястребом, выжидающим на шестом уровне. В то время как обезьяна удерживала его на месте, ястреб сошел на пятую ступень.
Бросив взгляд вверх, Ронин начал понимать, что происходит. Эк не разъяснил ему правил игры, как, впрочем, и умолчал о тех силах, которые могут выступить на стороне Ронина. Теперь он сообразил, что обезьяна намеренно оттеснила его налево, чтобы дать возможность спуститься и ястребу. Он понял, что, пока он находится в зоне одного из противников, ему нужно сражаться только с ним одним, но стоит ему оказаться на границе их зон, они могут напасть на него одновременно.
Он увернулся и отпрянул от обезьяны, предоставив телу действовать самостоятельно и сосредоточившись только на том, чтобы вернуть мыслям ясность. Выйдя из зоны ястреба, он с облегчением отметил, что тот неподвижно застыл на ступени над ним.
Но обезьяна возобновила натиск, заставляя Ронина спуститься на третью ступень. Ронин попытался провести контратаку, но даже сложнейшие из приемов были бессильны против обезьяны. Вскоре он убедился, что одним мечом ему преимущества не добиться. Но, ведь есть же какой-то выход. Не может не быть. Надо подумать, в чем его сила?
Он увернулся от удара посоха, лихорадочно перебирая в уме все возможные пути.
— Теперь ты понимаешь, что поражение неизбежно. Тебе никогда не победить, — воскликнул Эк наверху, далеко-далеко, — ибо сражаешься ты не с людьми, но с последними из богов маджапанов!
Но Ронин понял только одно: сейчас меч ему не помощник. Он быстро убрал клинок в ножны. Предвкушая быструю победу, обезьяна бросилась на него. В темном, наэлектризованном воздухе просвистел посох, и Ронин ухватился за него. Несколько бесконечных мгновений они боролись, связанные друг с другом деревянным оружием. Резной конец посоха оказался у Ронина перед лицом, и он интуитивно согнул колени, копя силу для следующего движения. На могучих его руках вздыбились бугры мышц, на шее витыми канатами вздулись жилы. Скрипнув зубами, он застонал. Сила, зародившаяся где-то в ногах, волной хлынула в торс. Его тело как будто само повернулось в сторону, и, как только обезьяна начала восстанавливать равновесие, Ронин резко изменил направление приложения силы и сделал рывок в противоположном направлении.
Когда человек действует в пределах сознания, он видит лишь то, что ему хочется видеть. Но мозг сам собой отмечает все, что доступно глазу, и при обучении навыкам боя воина учат высвобождать подсознание для охвата всего поля зрения, находить неожиданные пути к победе, разгадывать загадки, неразрешимые на сознательном уровне.
Он завладел посохом.
Когда оружие оказалось у него прямо перед лицом, он сконцентрировал силу и равновесие при помощи сознания. Но подсознание, помимо воли, искало единственный верный способ выжить, и из бесчисленных образов, промелькнувших в его поле зрения, безошибочно выбрало резной конец боевого посоха. Он мимоходом отметил, что ошибался, решив, будто это какой-то зверь. Это была голова человека. Подсознание искало решение и нашло его.
Он с силой ударил резной головой прямо в центр обезьяньей маски. Она разлетелась облаком удушливой пыли, рассыпавшись ослепительными блестками во влажном ночном воздухе. Обезглавленное тело Кана рухнуло на холодный камень.
— Первая схватка закончилась, — безжизненным, механическим голосом объявил Эк. — Человек победил обезьяну.
Значит, победа возможна, подумал Ронин, заметив краем глаза какое-то движение наверху. Это ястреб спустился на четвертую ступень. Ронин поднял посох, но ястреб переломил его пополам твердой, как железо, рукой. Ронин отшвырнул обломки. Перекувырнувшись в воздухе, куски отскочили от нижней ступени и упали на каменную мостовую возле Священной Пирамиды.
К каждому противнику — свой подход. Но как его вычислить?
Ястреб добрался до третьей ступени.
Ронин победил обезьяну, но при этом спустился на одну ступень. В запасе осталось две. Если так пойдет дальше, то его все-таки вытеснят с пирамиды.
Он полностью сосредоточился на втором противнике. Оружия у ястреба не было. Но когда он поднял руки, тонкие, желтовато-коричневые и чешуйчатые, Ронин увидел, что вместо кистей у него — четырехпалые лапы с загнутыми когтями. Ястреб бросился на него.
Лапы с когтями молниеносно рванулись вперед, и Ронин метнулся в сторону, услышав, как они просвистели совсем рядом с ухом. Ястреб, мгновенно собравшись, снова выбросил лапу вперед, целясь Ронину в лицо. Ронин присел, уходя от удара, и в это мгновение вторая лапа вцепилась ему в плечо, раздирая плоть. Он застонал, пошатнулся, заступил одной ногой за край и рухнул на вторую ступень, увлекая ястреба за собой.
Он принялся лихорадочно шарить по поясу в поисках кинжала, а тем временем когти все глубже вонзались ему в плечо. Наконец ему удалось вынуть кинжал. Отраженный свет блеснул на коротком клинке, когда лезвие скользнуло по чешуйкам ястребиной лапы. Однако хватка его не ослабла. Боль сделалась невыносимой. Когти провернулись в его плоти. Тело ожгло как огнем. Задыхаясь, Ронин ударил уже острием. Пронзительный крик вырвался из-под маски ястреба, и Ронину в ноздри ударила вонь, тошнотворная и сладковатая, — мерзкий запах мумифицированных останков, пролежавших столетия в затхлых коридорах времени, запах обрушившихся цементных и глинобитных стен, перегнивших растений, зловонных пузырящихся болот…
Боль. Край второй ступени лезвием меча вонзился в спину. А ястреб давил на него всем телом. Еще немного — и Ронин свалится на первую ступень!
— Мойши! — закричал кто-то. — Мойши!
Вверх по горлу — вопль.
Вопль рвется наружу.
Шорох, стук башмаков.
Его тело балансировало на краю, а ястреб давил все сильнее.
— А-а-а!
Легкое дуновение за спиной.
Когти погружаются все глубже, и он закрывает свой разум для боли.
Ястреб вонзается в его тело.
Он падает.
Нет! Нет!
Он так и не упал на первую ступень. Спина его уперлась в твердое тело, неподвижное, как скала. Закрепившись на этой неожиданной опоре, он немного собрался с силами, ощущая гулкие удары сердца, отдающиеся в напряженных мышцах спины. Он напрягся, вытянул обе руки вперед, уронив бесполезный кинжал, и с яростным криком оторвал судорожно сжатую лапу от своего плеча.
Глубоко вдохнув, Ронин почувствовал прилив новых сил и, опустив одну руку для лучшей опоры, ударил кулаком по когтистой лапе. Пот стекал по его лицу, катился по вздымающимся бокам, по напряженным ногам — вниз. Хрустнула кость, сухожилия лопнули, ястреб издал дикий вопль… и лапа оторвалась. Зазубренные края полой кости прорвали кожу, из оторванной конечности ледяной струей брызнула черная кровь.
Маска ястреба затрепетала, словно содрогаясь от ненависти, и уцелевшая лапа отчаянно замолотила по воздуху. Потом ястреб прыгнул на Ронина.
Смертоносный серый промельк. Тяжелое дуновение забытых столетий. Без дальнейших раздумий Ронин рванулся наверх и чуть в сторону.
На третьей ступени он повернулся, тяжело дыша, и глянул вниз. Искалеченное тело ястреба рухнуло на колени, ударившись о Мойши, словно он налетел на каменную стену, а не на…
— Вторая схватка закончилась, — провозгласил Эк с вершины пирамиды. — Дом победил ястреба.
Наверху что-то зашелестело, и на четвертую ступень спрыгнула Кин-Коба в маске крокодила. Ронин повернулся к ней. Длинные челюсти раскрылись в нескольких сантиметрах от его лица. Он откатился в сторону, и Кин-Коба пошла на него, размахивая боевым топором с короткой рукоятью, который держала в правой руке.
Он снова выхватил меч и встретил ее удар. Металл со скрежетом сшибся с металлом. Она развернулась, ударила еще раз и, когда он присел, спрыгнула на третью ступень.
Поднявшись, он бросился на нее, собрав все силы. Снова с лязгом скрестились клинки, высекая сноп искр.
Из плеча, разодранного когтями ястреба, текла кровь. Какое-то время поступающий адреналин еще компенсирует потерю энергии, но уже скоро…
Он стоял на месте, отражая ее атаки, асам тем временем оценивал ее боевые приемы.
Она была настоящей воительницей. Она атаковала, широко расставив босые ноги, используя бедра и туловище для усиления рук, которые хотя и были тоньше мужских, но не уступали им в силе. Несколько раз ее смертоносные стремительные удары едва не пробили его защиту. И самое главное, что отметил Ронин — она, похоже, могла выдержать долгую схватку и при этом ни капельки не устать. Она делала обманные выпады, меняла направления атаки, тщательно рассчитывала каждый удар, превратившись в прекрасно отлаженную машину, предназначенную для единственной цели — разить насмерть. Боль и усталость уже потихонечку одолевали Ронина, в глубины сознания закралась предательская мысль о поражении.
Тряхнув головой, он рискнул бросить взгляд на Эка, стоящего на вершине. То ли ему показалось, то ли фигура в черном действительно приняла позу предельной концентрации? Теперь Ронин знал, что мысли о поражении принадлежат не ему, и, успокоившись, снова сосредоточился на поединке на третьей ступени. Он уже понял, что только мечом ему не одолеть воинственную богиню. Надо что-то придумать еще. Но что? И тут он краешком глаза заметил, что на холодной каменной ступени, примерно в метре за спиной крокодила, появилась небольшая ящерка со светлыми глазками и мелькающим в воздухе язычком. Может быть, это ему поможет…
Лязг металла действовал гипнотически, но Ронин твердо удерживал занятую позицию. Ящерка как завороженная наблюдала за схваткой. Ронин чуть отступил, и ящерка подползла поближе. Словно уступая напору крокодила, он позволил ему оттеснить себя еще дальше. На этот раз ящерица проползла еще большее расстояние и замерла в точности позади противника.
Ронин внезапно усилил натиск и оттеснил крокодила назад. Босая нога наступила на ящерицу, которая заверещала от страха и принялась бешено извиваться.
Крокодил на мгновение оступился.
Только этого Ронин и ждал.
Он нанес могучий боковой удар мечом — плашмя по лицу — и сбил ее с ног. Кин-Коба с криком полетела вниз, ее тело ударилось об одного из каменных Чакмоолей у основания Священной Пирамиды. Треск, подобный раскату грома. Откатившаяся в сторону маска…
Ронин взлетел на четвертую ступень.
— Третья схватка закончена, — провозгласил сверху Эк. — Ящерица побеждает крокодила.
Ронин тем временем забрался на пятый уровень.
Уксмаль-Чак. Теперь против него — кремень. Свет от низкой и бледной луны, посеребрившей раскачивающиеся верхушки деревьев на западе, отражался слепящим блеском от высокой металлической маски.
Ночь уже шла на убыль. Приведет ли рассвет Тцатлипоку?
Зелено-голубой излом молнии осветил Священную Пирамиду. С вершины, из недр Храма Тцатлипоки, донеслись рокочущие раскаты.
Скрестив меч с изогнутым кремневым клинком Уксмаль-Чака, Ронин почувствовал, как усиливается боль в плече. Но он заставил себя идти вперед: его железная воля превозмогала страдания.
Пришло мое время, ожесточенно подумал он и издал боевой клич своих неведомых предков — крик решимости и мощи, упорства и силы.
Уксмаль-Чак как будто пришел в замешательство от этого жуткого крика, его атака чуть сбилась. Подняв свое кремневое оружие над головой, он обрушил клинок вниз и попытался при этом на ходу изменить направление удара, уловив движение длинного меча Ронина. Но у него ничего не вышло — меч пробил защиту и, отразив вертикальный удар, вонзился в центр высокой маски.
От этого яростного удара брызнули желтые и голубые искры, а Ронин, подавшись вперед, повел меч дальше — сквозь кость, плоть, снова кость… И вдруг Уксмаль-Чак растворился в воздухе, как дым. Раздался лишь резкий хлопок, словно лопнул раскаленный камень.
Ронин запрыгнул на шестой уровень.
— О нет! — вскричал Эк, и его голос уже не звучал монотонным распевом.
А снизу донесся отчаянный крик Кин-Кобы, пытавшейся поднять свое изломанное тело по ступеням центральной лестницы Священной Пирамиды.
— Значит, это все правда. То, что записано в Долгом Расчете Книги Балама, нельзя изменить…
Понял!
— Нет! — крикнул Ронин, встав на шестой ступени. — Я, рожденный в катун Ке-Ацатля, изгнанный вместе с Отцом моим из Ксич-Чи в катун Ке-Ацатля, я вернулся в катун Ке-Ацатля, как и было предсказано в Долгом Расчете в Книги Балама.
— Что?! — Эк вскинул руки. — Что это за сумасшедшие речи? Что известно тебе об Атцбилане, воин?
— Все! — воскликнул Ронин. — Ибо я — Направляющий Солнце!
— Нет! — завопил Эк. — Не может быть!
Ронин побежал по каменному выступу на шестом уровне, не сводя глаз с Ксиба-черепа, стоявшего на седьмой ступени. Поднялся свежий бриз. Ощутив его легкое дуновение, Ронин повернулся и разглядел на востоке — с такой высоты уже виден был горизонт над верхушками бескрайних джунглей — бледные полоски розового и серого перламутра. Первые предвестники рассвета, словно нанесенные на небосвод кистью неведомого художника.
— Вернитесь! — выкрикнула Кин-Коба. — Соединитесь!
Череп приблизился.
Ронин взобрался на седьмой уровень.
— О Тцатлипока! — Эк воздел руки к темным небесам. — Повелитель луны, полярной звезды и ночных глубин, дай нам знак: истинный ли Атцбилан вернулся или это всего лишь зарвавшийся самозванец?
Он был явно напуган, и Ронин этим воспользовался.
— Это я, Эк! Кто еще, кроме истинного Направляющего Солнце, устоит в священной игре против сил Тцатлипоки?
Он сблизился с черепом, и красный аспект божества, единого в четырех лицах, выхватил черную тонкую рапиру с рукоятью из слоновой кости и гибким лезвием.
Два неравных клинка сверкнули, скрестились.
— Убей его! — всхлипнула Кин-Коба. — Он не должен добраться до девятой ступени!
Даже с переломанным позвоночником она пыталась ползти по центральной лестнице — поверженный ягуар, царственный зверь, сохраняющий достоинство и перед лицом смерти.
Ронин сжимал меч обеими руками, отражая молниеносные удары рапиры, рассекавшей со свистом воздух. Оскаленный череп в красных одеждах плел затейливый узор из последовательных приемов — выпад, уход, выпад.
Словно два демона, бились они на седьмой ступени, выкладываясь без остатка, используя все приемы из своего боевого арсенала, и их смертельный стремительный танец был так же холоден, точен и геометрически выверен, как и безмолвный каменный город, притаившийся далеко внизу. Они вертелись и проводили атаки, раскачивались и кружили, пристально следя друг за другом, выискивая то единственное мгновение колебаний, малейший трепет век, означающий ослабление концентрации, — знак, который явится предвестием гибели одного из них.
Восточный ветер усилился, порывы его раздували алые одежды черепа, развевали длинные волосы Ронина.
Снова в ночи разнеслись возбужденные крики Эка:
— Тцатлипока, услышь призывы детей Твоих, нас, служивших Тебе неустанно и верно в бесконечных катунах Времени. Этой ночью победа должна быть наша, ибо вновь пришло время Твое — время вернуться в Ксич-Чи, возлюбленный город Твой! И с приходом Твоим в город вернутся и поклоняющиеся Тебе, и будут они идти по потаенным тропам вместе с рыщущим Чакмоолем, и будут служить Тебе до скончания времен. Помоги нам сейчас одолеть Твоего врага!
Полыхнула зелено-голубая молния, и Ронину показалось, что отчаянный призыв Эка был услышан таинственным богом, потому что атака черепа неожиданно сделалась более яростной. С каждым выпадом он становился сильнее, и Ронину пришлось отступать по каменной ступени — все дальше и дальше под неудержимым напором, ошеломившим его. Оскаленный череп вырисовывался пятном тьмы на фоне перламутровой ночи, его рапира выписывала смертоносные траектории, которые ничто не могло остановить.
Отдаленный зов промелькнул искрой в сознании, когда узкое жало рапиры устремилась к нему — успокаивающий звук, напоминающий ровный шум ливня. Ронин ощутил непонятные содрогания, странные толчки в глубинах естества. Мозг как будто взорвался молниеподобными стрелами мыслей, красно-желтыми вспышками, перекрывающими друг друга. Его захлестнул поток энергии, умножающейся с каждой секундой в геометрической прогрессии.
Он даже не сделал попытки отпарировать удар. Рапира устремилась в сердце.
Словно во сне, Ронин поднимал длинный меч все выше и выше, чуть под наклоном, пока клинок не встал под нужным углом с гармоничным звенящим вздохом, подобным совершеннейшему музыкальному аккорду, возносящемуся чистым эхом в бесконечность небес.
Меч как будто сделался живым. Он, кажется, упивался смертельной схваткой. Впечатление было такое, что по клинку пробежала рябь предвкушения, когда первые лучи восходящего солнца упали на его искрящуюся поверхность расплавленным алым металлом. Ронин ощутил вибрацию неудержимой энергии. Все его тело налилось силой.
Длинный клинок плыл в розовом свете, с его мерцающего острия сорвалась стрела ослепительного света, напоенного солнечной энергией, заливающей горизонт на востоке. Стрела вошла в горло под черной оскаленной маской черепа.
— Ох!
Этот короткий жалобный вскрик, слетевший с губ бога, утонул в шуме ветра, налетевшего с востока. Маска нелепо раздулась и разлетелась, точно разбитый стеклянный кубок. Обезглавленное тело Ксиба тяжело рухнуло вниз и покатилось по каменным ступеням, переворачиваясь и кувыркаясь в вихре алых и серых тонов.
А Ронин, исполненный кипучей силы, дарованной ему солнцем, вскочил на восьмой уровень и дальше, без передышки, — на последний, девятый. На вершину Священной Пирамиды Тцатлипоки.
Перед ним возвышался Эк в черных легких и тонких одеждах, развевающихся на его худощавом теле. Он швырнул в Ронина плоский камень в форме полумесяца. Камень ударил в клинок, меч со звоном упал на камни.
Ронин, однако, не растерялся. Метнувшись вправо, он подхватил огромный зажженный светильник и бросил его в облаке голубого пламени и красных углей в лицо Эку.
Лицо вспыхнуло и загорелось с сухим необычным треском.
Ронин быстро поднял меч, вложил его в ножны и повернулся. Взгляд его скользнул мимо пылающей фигуры Эка, и тут он увидел…
Тело раскачивалось, словно, сделавшись вдруг невесомым, попало в перекрестные токи ветра.
Ронин смотрел.
Из почерневшего, дымящегося провала между широких плеч донесся противный скрежет, словно внутри конвульсивно сжались какие-то гигантские челюсти. Ни на что не похожий, нечеловеческий вопль вырвался навстречу ночи, уже отступающей перед рассветом, и самый воздух над высокой фигурой заколыхался и задрожал так, что Ронин на мгновение перестал различать происходящее.
Воздух очистился. Эк исчез.
Воссоединившись, четверо братьев из Старого Времени — четыре воплощения божества — стали едины. Перед Ронином стоял Ксаман-Балам, Рука темного Тцатлипоки, вдохновитель Раскола, инициатор кощунственного искажения священной Книги Балама, жрец ночи.
Рожденный на западе, где всегда царит тьма, предстал он в одеждах настолько темных, что они поглощали свет. Его огромная голова, посаженная на широкие могучие плечи, представляла собой морду свирепого ягуара. Атавистическое видение Чакмооля, воплощение его Господина: красная, с желтоватыми подпалинами, с острыми желтыми клыками и круглыми желтыми с черным глазами, свирепыми и немигающими.
Ронин, в котором еще пульсировала энергия, все-таки понял, что с его стороны было бы самонадеянно даже предположить, что он устоит в схватке с этим зловещим богом. Ему противостояла сейчас небывалая, ужасающая сила, и тело его содрогалось от исходящих от нее токов.
Перед ним стояла сама смерть. Жизнь отодвинулась куда-то… за пределы воображения…
Огромные звериные челюсти Ксаман-Балама открылись. Из разверстой пасти вырвался звук, который не слышал, наверное, ни один смертный. Этот кошмарный рев врезался в барабанные перепонки, словно тысячи тонких кремневых ножей.
Это был голос последнего из великих богов Ксич-Чи, и Ронин содрогнулся, ощутив свою слабость при первых же знаках силы, находящейся за пределами человеческого понимания. Но когда Ксаман-Балам шагнул к нему, он вынул меч и приготовился к схватке, заглянув внутрь себя и настроив смятенную душу на темное странствие смерти.
Ксаман-Балам приближался, воздев руки со скрюченными когтями, упирающимися в ладони. Ронин еще крепче сжал бесполезный меч, напряг мышцы для последнего — бессильного — удара и поднял клинок.
Но бог неожиданно остановился, и Ронину потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы понять, что Ксаман-Балам пренебрег его жалкой потугой на противостояние и сейчас возносит молитву.
Ронин повернулся лицом к восходящему солнцу.
С востока мчался сгусток слепящего света, словно кусок огня отделился от солнца. Извиваясь в воздухе, он приближался, вырастая в размерах.
Искрясь и пульсируя.
Теперь Ронин увидел, что это огромный змей, покрытый переливчатыми перьями всех цветов радуги. Змей направлялся прямо к вершине Священной Пирамиды Тцатлипоки. Ксаман-Балам стоял неподвижно, словно пронзенный смертельной стрелой.
Откуда-то снизу донесся голос:
— О, Ксаман-Балам, пришел наш конец! С возвращением в мир Атцбилана вернулся и его Отец, как это было предсказано в Долгом Расчете!
Это была Кин-Коба — с лицом, исполненным благоговения и боли, бледным, прекрасным и страшным.
— Кукулькан вернулся в Ксич-Чи! Мы погибли!
Огромная голова змея, точная копия полустертых каменных изображений на стенах храма с обезглавленной статуей, нависла над Ксаман-Баламом. Громадное тело искрилось, извиваясь в воздухе. Трепетание его перьев было подобно вихрю.
А потом трепещущие кольца сомкнулись и заключили темного бога в свои объятия. Ронин смотрел, как переливчатое тело змея сжимает, сдавливает Ксаман-Балама… свирепые челюсти скрежещут, и голова Чакмооля в муке откидывается назад, а ноги приподнимаются над холодными камнями его излюбленной пирамиды.
Черный бог издает вопль — пронзительный крик, вспарывающий небеса.
А Кукулькан все сильнее сжимает свои мерцающие кольца.
Время, кажется, остановилось.
А потом солнечный змей говорит:
— Спрячь меч, сын мой.
Ронин убрал меч в ножны и протянул вперед руку в перчатке из шкуры Маккона — в знаке дружбы, ладонью вверх.
Ладонь наполнилась рубиновым светом, настолько насыщенным, что ему было больно смотреть в его пылающую глубину.
А потом свет сорвался с кончиков его напряженных пальцев и, словно жгучая кислота, выплеснулся в круглые глаза бога с головой Чакмооля.
Полыхнуло жаром.
ПОЛЕТ
Белое. Голубое. Серо-белое с пятнами. Шум в ушах. Холодный воздух обдувает тело — бальзам, исцеляющий боль и страдания.
Невесомость.
Глаза закрываются. Разум парит.
Пальцы тонут в трепещущих мягких перьях. Широкие взмахи. Веера Тенчо, далеко-далеко отсюда. Крупная дрожь.
Усилием воли он открывает глаза. День. Потому что еще светло. Еще будет время поспать, когда придет ночь.
Он потянулся, глядя вниз. Разрыв в пелене облаков, мраморная прореха. Внизу плоское море уходит все дальше, опрокидываясь в перспективу, и закругляется, повторяя изгиб горизонта. Отраженный свет жаркого солнца превращается в булавочные головки ослепительной белизны, пляшущие по поверхности перекатывающейся воды. Это похоже на тигель с расплавленным золотом. Он поискал взглядом черную точку, невидимую на фоне текучего золота. Где ты теперь, Мойши?
Итак, Ронин летит на Кукулькане, Великом Пернатом Змее, удаляясь от искрошенного известняка, от шума влажных и душных лесов холмистого острова, где когда-то был каменный город Ксич-Чи, сметенный толчками могучего землетрясения. Бурлящее сине-зеленое море уже устремилось на захват новой территории, расширяя свои зыбкие, сумеречные владения.
Ксич-Чи плывет теперь по волнам.
Над головой видны перламутрово-серые переливы нижних слоев облаков, собирающихся в тесные кучи и расходящихся под воздействием ветров. Эти кажущиеся незыблемыми небесные города расступаются на пути Кукулькана, мчащегося по небу огромной искрящейся радугой.
А Ронин, опьяненный энергией жизни, которой пронизано все вокруг, завороженный стремительным полетом, держится за пульсирующие бока, за пучки ярких перьев, теплых на ощупь. Он широко раскидывает руки в радостном возбуждении, и кровь поет в его жилах, и свет пульсирует перед глазами, и он ощущает себя неотъемлемой частью этого исполина, летящего в поднебесье, которого Кин-Коба назвала перед смертью Творцом Солнца.
Когда раздавленным насекомым ползла по широкой каменной лестнице пирамиды… А небо светлело, и тускнела луна, даже днем не исчезающая с небосвода на этой широте, но земля потемнела, как ночь, окутанная клубами черного дыма, что рвались из каменной мостовой Ксич-Чи, расходящейся трещинами между зданиями.
Это крошилось само основание острова. На вершине шатающейся пирамиды Кин-Коба отвернула бледное лицо, когда заговорил Кукулькан:
— Заберись ко мне на спину, сын мой.
Ронин указал рукой вниз.
— Там мой друг. Я не могу его бросить здесь.
Великий Пернатый Змей покачал головой, не проронив больше ни слова.
Ронин побежал вниз по лестнице. При появлении Кукулькана зеленые молнии, бившие из дверей храма, иссякли.
— Пойдем! — окликнул он Мойши. — Пойдем!
Потрясенный Мойши начал подниматься к вершине.
В воздухе разлетались осколки камня, а обломки побольше медленно соскальзывали вниз, разбиваясь о стены пирамиды. Все вокруг потемнело от пыли. Воздух наполнился едким запахом серы, только что вырвавшейся из-под земли. Очередной толчок сотряс долину. Ронин поскользнулся и едва не упал. По мостовой расползались изломанные трещины. Из раскрывшихся недр исходило неяркое красное свечение.
Они бросились друг к другу и уже вместе побежали к вершине по рушащейся под ногами лестнице, перескочив на ходу через неподвижное тело Кин-Кобы. Ее топазовые глаза остекленело смотрели вниз, отвернувшись от извечного врага Тцатлипоки. В застывшем угасшем взгляде умерла даже память о темном боге, которому она так верно служила в этом таинственном городе.
Ветер усилился. Дым затянул почти всю долину.
Их уносило по воздуху, прочь от разрушенного города. Его очертания, когда-то выверенные с геометрической точностью, превратились теперь в беспорядочные изломы, рассыпавшись кучей камней, костей и пыли.
А потом показалось море.
«Моя жизнь превратилась в сон, исполненный странностей и неожиданностей», — думал Ронин, оставшись наедине с Творцом Солнца. Прошлого нет. Будущего тоже нет. Есть одно настоящее, и оно оказалось гораздо сложнее, гораздо страшней и прекрасней, чем любое видение, которое может пригрезиться человеку во сне или наяву.
Их ждал корабль. Вернее, так думал Ронин. Опустившись так низко, что переливчатые перья едва не касались гребней пенистых волн, Кукулькан сказал:
— Это не для тебя. Для другого. Ты поднимешься со мной, сын мой.
Так Ронин расстался с Мойши.
— Когда мы встретимся в следующий раз…
— Я тебя узнаю.
И Мойши спрыгнул на деревянную палубу.
Окутанные пеной коралловые рифы остались позади. Они неслись над нефритовой глубиной, где притаились неведомые, непостижимые чудеса — рожденные на заре мира, они все еще жили в своем тусклом мире извечной тени. Они летели в пространстве, минуя неукротимые бездны, провалы во тьму, все еще сотрясавшиеся от биения эпох, минуя вздыбленные моря, поглощающие корабли и острова, уходившие на дно на своих базальтовых основаниях. Мимо неизмеримо глубоких впадин, где не было жизни. Где зарождалась другая жизнь. Мимо широких плато слоистого гранита, над которыми в пронизанной солнечными бликами воде лениво и безмятежно проплывали мириады разноцветных рыб.
Они мчались все дальше, и планета медленно вращалась под ними. Ронин наконец задремал, рассудив, что скоро наступит ночь.
Но, хотя солнце и опускалось уже к горизонту, Кукулькан летел так высоко, что тьма не могла их настичь. Здесь, куда ночь не заглядывала со времен сотворения Времени, по-прежнему царил свет, изливающий жизнь и тепло.
Ронин спал, и тело его отдыхало, восстанавливая силы после ужасного испытания, закончившегося победой сил света на южной грани Священной Пирамиды с уходом из мира темных богов, поверженных в схватке. Время их истекло.
Ронину снились сны.
Ему снилась огромная кошка в образе женщины, которая что-то мурлыкала ему и убаюкивала его своим теплым и нежным телом, тяжелыми грудями, упругими бедрами, мягкими губами. Ее бедра колыхались на нем, соски касались его груди. Глаза ее напоминали светящиеся камни. Женщина-кошка, безжалостная и жестокая, она хотела не нежности — боли.
Ему снилась обезглавленная расколовшаяся статуя, сгинувшая в серой мути кипящей лагуны, обвитая водорослями и извивающимися угрями, с загадочными письменами на постаменте, уже стертыми бурлящими волнами.
Вглядываясь в исчезающую разгадку… «Скажи мне!» — выкрикнул он в белом облаке вспененных пузырей. «Скажи мне», — промурлыкала женщина-кошка, увлекая его за собой.
Ему снилась тень, выходящая из необъятного вечнозеленого леса в остриях сосновых иголок. Острый звериный запах бьет в ноздри. Низкое ржание, такое знакомое. Утробный рык. Порыв студеного ветра. Черные рога, покрытые инеем, сотрясают скопление веток, заваленных снегом. Солнце за пеленой зеленоватых туч. Свирепые человечьи глаза. Страх…
Скажи мне — два голоса одновременно.
Он делает шаг вперед.
В ослепительное великолепие тьмы.
Под ним — могучий Кукулькан, Великий Пернатый Змей. Наслаждение полетом. Он долго ждал этого дня, когда вновь ощутит у себя на спине легкое тело. На трепещущих крыльях — жар солнца. Он впивает его энергию.
— Просыпайся, — окликает он Ронина. — Просыпайся, сын мой.
Ронин открывает глаза и смотрит вниз, сквозь разрывы в мраморных облаках. Под ними кружатся чайки. А вдали проступает берег с отвесными скалами, выдающимися из нефритовых вод.
— Смотри, — шепчет Кукулькан. — Ама-но-мори.
Часть вторая ЗА ГРАНЬЮ УТРЕННИХ МИФОВ
ДОРОГА КИСОКАЙДО
В воздухе трепыхалась лавандово-ажурная стрекоза. Теплый ласковый ветерок шуршал в ее мельтешащих крылышках, распростертых сияющими веерами в лунном свете.
Она перепархивала с одной цветущей ветки на другую; ее продолговатое трубчатое тельце было прямым, как клинок. Она то зависала в воздухе, то опускалась на ветку, беспрерывно трепеща тонкими крылышками, и снова взмывала вверх. Потом она приметила раскрытый цветок с розовыми лепестками, с влажной и ароматной чашечкой посередине и устремилась к нему.
Ронин шевельнулся.
Стрекоза замерла на цветке, легонько покачивавшемся под ее незначительным весом. Даже крылья у нее не шевелились; теперь они напоминали руки, воздетые в молитвенном жесте.
Вокруг расстилалась ночь.
Далеко-далеко внизу слышался раскатистый грохот и шипение бурунов, накатывающих на каменную стену отвесного утеса. А здесь, наверху, воздух звенел стрекотанием насекомых. Где-то неподалеку ухала сова. Какое-то время Ронин стоял неподвижно. Из темноты, поодаль от края обрыва, доносилось кваканье лягушек.
Стрекоза на цветке ожила и возобновила свой пляшущий беспорядочный полет среди ароматных ветвей. Свет узенького полумесяца, висевшего низко на небе, разбрызгивался по бутонам холодным серебристым душем.
Ама-но-мори.
Это название, наверное, уже в сотый раз звучало в сознании Ронина призывным эхом.
Полет их длился, казалось, вечно, но в конце концов Кукулькан устремился вниз: из золотого царства, пронизанного солнцем, — в сумерки, сгущавшиеся по мере приближения к земле. Они спустились на вершину утеса, в объятия ночи.
Ронин скатился со спины змея, зависшего в нескольких сантиметрах от земли; его пальцы зарылись в сырую комковатую почву, и он услышал лишь отзвук голоса Кукулькана, бесшумно взмывшего в воздух, и почувствовал дуновение ветра.
— Прощай, сын мой.
Ронин еще долго смотрел, как Великий Пернатый Змей летит в сторону солнца, уже скрывшегося за горизонтом.
Ронин сидел на лугу, лицом к кленовому лесу. Ночной воздух был чистым и мягким. Завтра, с рассветом, он встанет и отправится на поиски буджунов, легендарного народа с острова Ама-но-мори, не обозначенного на картах, народа, когда-то давшего миру дор-Сефрита, великого мага, загадочный свиток которого всегда оставался при Ронине, укрытый в полой рукояти его меча, — свиток с таинственными письменами, способными переменить судьбу человечества, если только удастся их расшифровать. Но все это — завтра, а сейчас Ронин просто наслаждался изысканным вкусом победы, ибо он все же добрался до Ама-но-мори, и его долгие, изнурительные поиски близки к завершению.
Он лежал на спине, глядя в небо, на мерцающее звездное колесо. Роса, пропитавшая его рубаху, холодила кожу. Он думал о Кукулькане в его солнечном царстве вечного дня. Он вспоминал полет, вибрирующую мощь, изумрудное море, переливавшееся далеко внизу. Обдувавший лицо теплый ветер, когда весь мир расстилался под ним. Скоро. Уже очень скоро.
Он закрыл глаза.
Ронин проснулся под тихий шорох травы. Послышался переливчатый голос невидимой ночной птицы. Ответная трель. Хлопанье крыльев.
Больше никаких звуков, только негромкое стрекотание и тихое кваканье где-то поодаль.
Он поднялся, прислушиваясь к вздохам кленов, верхушки которых раскачивались от ветра. Ветер дул с моря. Что-то сверкнуло слева. Неровные отблески небольшого костра. Ронин направился в ту сторону, потягиваясь на ходу. Проходя по лугу, он дышал медленно и спокойно, выдыхал больше, чем вдыхал. Это было специальное дыхательное упражнение для включения рефлексов естественного, свободного дыхания. Его легкие наполнялись благоухающим воздухом.
Оставив позади клены, он прошел мимо ряда высоких сосен, одиноких и живописных, таких величественных в своей отчужденности, застывших на краю пологого спуска вглубь острова. Мерцающий полумесяц, казалось, плывет над их покачивающимися верхушками.
Вниз по склону, по коричневой почве и перепутанным корням, сквозь кустарник — в тростники. Справа чернел силуэт леса. Размытое пятно тьмы, увеличивающееся в размерах по мере того, как Ронин наискосок продвигался вглубь острова.
Вскоре послышался плеск воды и ритмичная песня лягушек, наполнявшая ночь. Тихий всплеск. Кваканье на мгновение прекратилось. А потом впереди неожиданно разгорелся оранжево-желтый огонь.
Ронин вошел в круг света. У костра на корточках сидела контрастная, черно-оранжевая фигура, поворачивая на огне какую-то непонятного вида еду, насаженную на зеленый прутик. Человек повернулся к Ронину. Плоский овал лица. Желтая кожа. Проницательные черные глаза. Один быстрый, оценивающий взгляд.
— Не желаешь ли присоединиться ко мне, воин?
Голос был нежным и мелодичным, хотя некоторые звуки неприятно резали ухо. Ронин вполне понимал этого человека.
— Да, я… — Меч на бедре казался невообразимо тяжелым. — Я проголодался.
— Хорошо. — Непроницаемое лицо повернулась обратно к костру. — Тогда подходи и садись.
Ронин колебался.
— Здесь всегда так встречают совсем незнакомых людей?
Человек рассмеялся серебристым смехом, слившимся с шумом плещущейся где-то справа реки.
— Неужели ты стал бы меня убивать ради пары горсточек еды, которую я тебе предложил и так? Или тебе, может быть, позарез нужны мои снасти и наживка? — Он опять рассмеялся. — Садись.
Ронин сел, скрестив ноги.
К нему повернулось лоснящееся широкоскулое лицо с плоским носом; миндалевидные глаза придавали ему веселое, как будто смеющееся выражение, даже когда черты оставались неподвижными.
— Хоши меня зовут, воин.
Человек подал Ронину кусочек горячей еды — что-то из овощей.
Ронин взял его кончиками пальцев, глядя на пар, растворяющийся в ночи. У реки безостановочно квакали лягушки.
— Меня зовут Ронин, — сказал он. — Я не отсюда, не с острова.
— Это и так понятно. По твоему лицу, — заметил Хоши.
Он снял кусок овоща с палочки, отправил его в рот и начал медленно жевать, не отрывая взгляда от лица Ронина.
— Как… как называется это место?
Вопрос, казалось, сорвался сам.
Овальное лицо склонилось набок, широкие губы слизнули золу с плоских кончиков пальцев.
— Ама-но-мори, Ронин. Плавучее Царство.
Выдох Ронина слился с шорохами ночи.
Хоши на мгновение опустил глаза и подал ему еще один кусочек горячего овоща.
— Куда держишь путь?
— Я ищу буджунов.
— Ага, — рыбак понимающе кивнул. — Мне бы следовало догадаться.
Он ткнул палочкой в белую золу посередине костра.
— Что ж, лодку я починил и на заре отправляюсь вверх по реке. Могу взять тебя с собой. Во всяком случае, часть пути я тебя подвезу.
— Часть пути — куда?
— В Эйдо, конечно.
На рассвете мир сделался нереальным, таинственным и нездешним.
Жемчужный туман превратил пейзаж в картину на тонком трепетном холсте, написанную мазками в виде сливающихся точек. Хоши уверенно правил шестом длинную узкую лодку. С обеих сторон мимо них проплывали коричневые тростники. По высоким речным берегам росли нежно-зеленые и светло-коричневые деревья, а округлые склоны и леса чуть поодаль казались серыми обрывками сна наяву.
Воздух был прохладен и влажен. Хоши сильно отталкивался от дна быстрыми, размеренными движениями. Из прогалины в бамбуковых зарослях слева вылетел журавль с голубым оперением сероватого, приглушенного оттенка. Сырое хлопанье его крыльев растревожило лягушек, они возбужденно заквакали. Впереди, выше по реке, промелькнуло что-то серебристое, и зашевелились призрачные тростники.
Хоши стоял посреди кучи наловленной рыбы, бьющейся в воде, налитой им на дно лодки.
Ронин безмолвно сидел на носу, наблюдая за проявляющимися из тумана берегами; он старался не очень задумываться над бесчисленными вопросами, которые так и вертелись на языке. Он знал, что рыбак все равно не ответит на них, потому что он не был буджуном.
К его удивлению, восходящее солнце лишь прогревало туман, но не рассеивало его, и мир продолжал безмятежно плыть в зыбкой дымке — неподвижный мир, не проявляющий почти никаких признаков жизни. Становилось все жарче. Тихо жужжали насекомые, а низко нависшие над водой кружевные ветви плакучих ив время от времени заставляли его пригибаться.
После полудня они устроили привал под сенью раскидистого клена. Усевшись на скамью у кормы, Хоши достал нож с кривым зазубренным лезвием и принялся чистить и потрошить рыбу. Ронину он дал половину. Они ели молча, наслаждаясь тишиной и спокойствием, потом запили свой скудный Обед остатками рисового вина, припасенного Хоши.
Перед самыми сумерками Хоши направил лодку к правому берегу. Когда они закрепили лодку, Хоши разделал еще одну рыбину и завернул ее для Ронина в промасленную бумагу.
— Тебе идти на восток, туда, — показал он рукой. — По Кисокайдо.
Ронин поблагодарил его и отправился в указанном направлении. Он шагал по извилистой дороге, а туман из жемчужного становился бледно-зеленоватым, и мир сиял, подобно великолепному аметисту, повернутому к свету. Лес остался позади еще днем, когда они плыли по реке, и теперь перед ним расстилались роскошные нетронутые луга. Ронин принюхался, почуяв запах животного, и огляделся. Поблизости — никого, а вглядеться подальше мешал туман.
Становилось прохладнее. Путь пошел в гору; по мере увеличения крутизны подъема дорога начала петлять. Выступы обнаженных камней попадались теперь все чаще, из чего Ронин заключил, что Кисокайдо пробита сквозь монолитный гранит.
Поднявшись по горной дороге, петляющей по крутому склону, он оказался выше слоя тумана — посреди прохладной прозрачной ночи под беспокойным, затянутым облаками небом.
Начался дождь, очищающий и пронизывающий ливень, освежающий и бодрящий, стучащий по голым камням и мягкой земле, шелестящий в кустарнике вдоль дороги.
Пройдя еще немного вперед, Ронин увидел у качающейся сосны небольшой деревянный навес с тремя стенами. Строгая и чистая красота этого странного сооружения освещалась единственным фонарем из промасленной бумаги, висевшим внутри. Потоки воды несли черную грязь вниз по склону, узкая дорога раскисла, и Ронин очень обрадовался, обнаружив укрытие.
Подойдя поближе, он рассмотрел, что фонарь подвешен не на балке под крышей, как ему показалось сначала, а закреплен на боку серой в яблоках кобылы, спящей стоя в углу. Возле нее уютно примостился человек в широкой соломенной шляпе, покрытой капельками влаги; с ее краев еще капала вода.
Ронин вошел под навес. Лошадь во сне отмахнулась хвостом от мухи, мышцы у нее на боку непроизвольно дернулись. Человек даже не пошевелился.
Ронин опустился на пол в противоположном углу, вдохнув смешанный запах кедрового дерева и влажной шерсти животного. Человеческим потом не пахло.
Он огляделся. Сооружение было великолепно в своей незатейливой простоте, так подходящей горному убежищу. Строгость прямых линий. В чем-то даже величественный аскетизм.
Здесь было теплее. Хотя одна сторона оставалась открытой, крыша и три стены надежно защищали от влажной промозглости ливня. Ронин взглянул на съежившегося человека, но широкополая шляпа полностью закрывала лицо незнакомца.
По наклонной крыше убаюкивающе барабанил дождь. Снаружи косые струи ливня, серебрившиеся на свету от фонаря, рассекали бархатную темноту.
Человек в промокшей шляпе шевельнулся, но головы не поднял.
Шум дождя.
Ронин уснул.
Ронин открыл глаза. Человек сидел рядом на корточках, глядя ему в лицо. Ронин сдержал машинальный порыв — сразу схватиться за меч, — потому что еще вчера, как только зашел под навес, он заметил у этого человека длинный меч. Сейчас он увидел, что на другом боку у незнакомца висит еще один клинок, покороче. Воин. Быть может, буджун? Одет он был в коричневый балахон, расшитый зеленым узором в виде колес со спицами. На ногах — простые сандалии. Лакированные тростниковые наколенники защищали ноги от колена до лодыжки. За спиной закреплен небольшой круглый щит, покрытый коричневым и зеленым лаком. Черные, глянцевые волосы заплетены в косу. Черты лица плоские. По бокам толстой шеи бугрятся мышцы. Под глазами — отвислые складки кожи; сами глаза — миндалевидные, но довольно необычные. У кого-то Ронин уже видел такие глаза, но он никак не мог вспомнить у кого.
— С добрым утром, незнакомец, — негромко проговорил человек. Взгляд у него остался неподвижным.
— Доброе утро.
— Прошу прощения за неучтивый вопрос: откуда вы прибыли?
Ронин молчал, разглядывая его.
Правая рука человека неторопливо потянулась к слегка изогнутой рукояти длинного меча.
— Уже много лет чужестранцы не появляются на Ама-но-мори, — еще тише произнес человек. — Еще раз прошу прощения, но я вижу, вы воин. И мне хотелось бы знать, зачем вы пожаловали сюда и как вы попали на остров.
Ронин, не отрываясь, смотрел в черные непроницаемые глаза, стараясь не опускать взгляд на руки собеседника.
— Я прибыл на Ама-но-мори в поисках буджунов, — начал он неторопливо. — Потому что знающие люди сказали мне, что в моем деле мне могут помочь только буджуны, и больше никто.
Он вздохнул.
— Я прибыл на Ама-но-мори по делу чрезвычайной важности. Я потратил немало времени, и многие люди… достойные люди… лишились жизни, чтобы я мог оказаться здесь. Меньше всего мне хотелось бы ссориться с вами.
Его руки неподвижно лежали на мускулистых бедрах.
— Как вы добрались до Ама-но-мори? — спросил человек. — Мы не видели ни одного корабля.
Ронин не стал спрашивать, кто это «мы».
— Меня привез не корабль.
Они оба не шевелились. Дождь перестал еще до рассвета, и солнце уже разбросало веселые блики по скоплениям гранита и сланца. В небе искрилась радуга. В верхушках деревьев на горных склонах заливались птицы. Вдалеке, но вполне отчетливо слышался стук копыт поднимающейся вверх по дороге лошади. Небо было белым, а кедры — невероятно зелеными.
— Кто-то едет, — заметил Ронин.
Человек неожиданно крякнул; это был необычный звук — он абсолютно не соответствовал тихому утреннему настроению природы и в то же время как-то странно с ним гармонировал.
— Можете сопровождать меня до Эйдо, если желаете.
Незнакомец поднялся и подошел к своей лошади. Пока лошадь жевала сухую пшеницу, он достал из седельной сумы какую-то квадратную дощечку.
— Вы пока тут поешьте, если хотите. Такое прекрасное утро, жалко будет его пропустить. Я порисую немного, а потом можно и отправляться.
Он потрепал лошадь по холке, вышел из-под навеса, пересек Кисокайдо, присел на корточки на солнце у противоположного края дороги и принялся рисовать черной кистью на дощечке — короткими размашистыми штрихами, уверенными и точными.
Ронин развернул промасленную бумагу. Рыба, которую дал ему Хоши, еще оставалась сочной. Ронин прожевал последний кусок и, вытерев рот, вышел на дорогу.
Воздух был прозрачным и чистым. За спиной перешептывались деревья. Цоканье лошадиных копыт стало громче. Из кустов по левую сторону дороги выскочил какой-то испуганный зверек. Он в два прыжка пересек тракт и исчез за толстыми стволами кедров, от которых исходил пряный бодрящий аромат.
Вскоре появился и всадник в плетеной шляпе и пыльном дорожном плаще. Коротко кивнув Ронину, он пришпорил коня и скрылся за правым поворотом.
Ронин подошел к своему будущему попутчику, занятому рисованием.
— Как мне вас называть?
— Меня зовут Оками, чужестранец, — отозвался тот, не отрываясь от тонкой, почти ювелирной работы.
Ронин присел на корточки рядом с ним.
— Это имя что-нибудь означает?
Оками пожал плечами.
— У буджунов все имена что-то означают. Оками на старинном наречии — «снежный волк», хотя я не знаю, почему мать назвала меня именно так. Рядом с нашей деревней оками вообще не водились.
Ронин помолчал, прислушиваясь к стрекотанию цикад и глядя на рисунок Оками, потом спросил:
— Как вы думаете, почему мы, рожденные в странах, расположенных так далеко друг от друга, без труда понимаем друг друга? Можно подумать, что…
— Потому что мы оба люди.
— А буджуны разве не другие?
— Как рассказывают наши деды, — Оками, казалось, не обращал на Ронина внимания, а говорил сам с собой, — в старые времена, тому назад не одно столетие, в мире было так много людей, что они разговаривали на множестве языков.
Он пожал плечами.
— Но это было иное время, а времена, как известно, меняются. Если у всех людей общие предки, если происхождение у них одно, то почему бы им и не общаться друг с другом без видимых трудностей, пусть даже они и родились в разных краях.
Его рука уверенно и умело двигалась над темно-красной дощечкой с приколотой к ней бумагой.
— Кто знает, возможно, причиной тому — наша общая судьба.
Гора, долина и расстилавшиеся перед ними уступы склонов, перенесенные на бумагу его искусством, казалось, оживают под тонкой кистью. Рисунок был филигранным и точным, исполненным трепетной жизни, передающей дыхание природы.
— Как вас зовут?
Ронин назвал свое имя.
Оками оторвался от рисунка у себя на коленях. Твердый, целеустремленный взгляд, умные и понимающие глаза. Высокие скулы и жесткие очертания челюсти придавали его лицу неизменно суровое выражение, но плоские черты несколько смягчали впечатление.
— Да? Правда?
В его взгляде вроде бы промелькнуло удивление. Потом он опять склонился над рисунком. Раскачивающийся на ветру кедр оживал под его искусной кистью.
— Это буджунское слово.
Теперь удивился Ронин:
— Не может быть…
— И однако же это так, чужестранец. Разве я не говорил, что происхождение у всех людей общее…
— Но я не буджун.
— На буджуна вы не похожи, но это еще ничего…
— Мой народ никогда даже не слышал об Ама-но-мори.
— Разве? Как же вы в таком случае узнали об этом острове?
Ронин задумался. Подземный Город Десяти Тысяч Дорог, где когда-то поселились представители всех стран и народов, обезлюдел в результате чародейских войн. В этом городе, однако, жили и предки Ронина, которые потом образовали Фригольд, и великий дор-Сефрит, маг из буджунов.
— Да, — признал Ронин, — это не исключено.
— Конечно, — с явным удовлетворением откликнулся Оками.
— А что означает мое имя?
— Воин, оставшийся без господина.
Ронин не смог удержаться от смеха, и ничего не понимающий Оками повернулся к нему с озадаченной улыбкой.
Они отправились в путь незадолго до полудня. Сначала они поднимались в гору, потом немного спустились по горной дороге. Справа сплошной стеной тянулись утесы, а слева обрыв постепенно уходил вниз, открывая глазу высокие сосновые рощи, а еще ниже — плоские влажные рисовые поля, мерцающие в горячей дымке.
— Да, я буджун, — сказал Оками.
— Тогда вам должно быть известно о дор-Сефрите.
— Боюсь, ничего, кроме стародавних преданий.
— Но хоть что-то вы знаете?
— Очень немногое. — Оками положил руку на гриву лошади. — А почему вас так интересует дор-Сефрит?
— У меня с собой свиток, написанный его рукой, и сейчас этот свиток может спасти мир…
— А, — неопределенно откликнулся Оками. — Когда-то буджуны были великими магами-воинами, величайшими в истории этого мира, и уже в новое время, когда все прочее чародейство исчезло, они долго еще сохраняли магические знания.
Он похлопал ладонью по шее лошади.
— Но это было давно. Мы больше не занимаемся магией.
— Но наверняка здесь найдутся люди, способные перевести записи с древнего языка.
— Не сомневаюсь, Ронин, что в Эйдо мы найдем такого человека, — улыбнулся Оками. — А пока давайте поговорим о чем-нибудь более приятном.
Вскоре они приблизились к пролому в неприветливой каменной стене, откуда открылся вид на узкое ущелье. Зеленое и тенистое, оно выходило к залитой солнцем расщелине с водопадом; в том месте, куда обрушивалась вода, плясали радужные блики.
— День выдался жаркий, — заметил Оками. — Может быть, охладимся?
— Я хотел бы добраться до Эйдо как можно скорее. Кто знает, сколько…
— Не хотите же вы въехать в столицу, смердя и воняя, как потный, немытый крестьянин. — Оками хлопнул Ронина по спине. — Пойдемте. Всякому путнику в долгом пути нужен краткий привал.
Прохлада ущелья пролилась на них успокаивающим бальзамом. Оками привязал лошадь возле пахучих кедров и тут же, лишь скинув пыльную одежду, нырнул в пенящийся водоем у подножия водопада. Ронин последовал его примеру.
Под бурлящей поверхностью ледяная вода была кристально прозрачной. Когда Ронин погрузился под воду, от него во все стороны порскнули серебристые и голубые рыбешки. Он устремился вверх, так и не добравшись до дна, и, выскочив на поверхность, тряхнул головой, чтобы вода не заливала глаза. Потом он наклонил голову и напился, смакуя каждый глоток.
Они сушились на солнце. Ронин обратил внимание на то, какое сильное и мускулистое тело было у Оками. Тело настоящего воина, закаленного и искусного.
— Можно мне посмотреть другие ваши рисунки?
— Конечно.
Набросив одежду на еще влажное тело, Оками достал из седельной сумки дощечку с рисунками.
Ронин медленно переворачивал листы, завороженный скупыми линиями, с такой восхитительной точностью передающими разнообразие пейзажей этой необычной страны и характерные черты ее обитателей.
— Все это — станции на Кисокайдо, — пояснил Оками.
У них за спиной шумела вода, стекавшая по шершавой расщелине.
Отдав Оками рисунки, Ронин принялся одеваться.
— Хотите научиться? — спросил вдруг Оками.
Ронин внимательно посмотрел ему в лицо, ожидая увидеть насмешливое выражение, но глаза у буджуна оставались серьезными.
— Да, — вырвалось у него к его собственному удивлению. — Очень хочу.
Три серые ржанки выпорхнули из своего укрытия в дальнем конце ущелья и взмыли в небо.
— Замечательно! Приступим, как только выедем на дорогу.
Он отвернулся, чтобы уложить рисунки в сумку. В это мгновение Ронин услышал тихий свист. Рука сама выхватила меч из ножен. Оками тоже, по-видимому, услышал. Он повернулся на звук, но не успел среагировать вовремя. Его левое плечо пронзила стрела.
Ронин стоял, согнув ноги, обшаривая взглядом густую листву вдоль стен ущелья. Дотянувшись до древка, Оками выдернул стрелу и отшвырнул ее в сторону, одновременно достав длинный меч.
Пятеро вооруженных мужчин спрыгнули со скал, легко приземлившись возле водоема. Сжимая обеими руками длинные, слегка изогнутые мечи, они двинулись на Оками с Ронином.
— Сопротивление бесполезно, — сказал один, по-видимому главарь. — Вы же видите, что вас меньше.
Пятерка приближалась, рассыпавшись неровным полукругом. Одеты они были так же, как Оками, — в темные балахоны и кожаные сандалии. У одного за спиной висел лук. Щитов Ронин не заметил.
— Будьте любезны, отдайте нам деньги и лошадь.
Ронин с Оками не сдвинулись с места, и тогда вожак приказал уже резче:
— Бросайте оружие.
— Если вам что-то нужно от нас, — медленно процедил Оками, — вам придется брать это самим.
— Ладно.
Вожак подал знак своим людям.
— Вы, двое, возьмете того, высокого, со странными глазами.
Они сразу же прыгнули в его сторону, подбодряя себя громким воем. Ронин развернулся к ним правым боком. В нем уже нарастало знакомое ощущение силы, вибрирующей в теле перед началом боя. Выставив перед собой клинок, он стоял, поджидая противника, подобный неподвижной скале. Сбоку на шее неистово бился пульс. Губы непроизвольно скривились в зловещей ухмылке.
— А мы займемся его приятелем! — крикнул вожак, и остальные двинулись на Оками.
Двое грабителей уже приближались к Ронину с высоко поднятыми мечами. Когда их клинки начали опускаться, он резко согнул колени и сделал ложный выпад вправо. Находившийся с той стороны противник остановил замах, чтобы отразить предполагаемый Удар, но Ронин вместо этого переместил клинок влево и, на мгновение нейтрализовав первого противника, нанес могучий горизонтальный удар второму. Меч рубанул его точно посередине груди. Клинок легко прошел сквозь одежду, кожу и плоть и раздробил грудину. Разбойник взвыл и рухнул, обливаясь кровью.
Ронин выдернул меч как раз вовремя, чтобы успеть отбить удар первого.
Краем глаза он заметил сверкнувший серебристой тенью изогнутый клинок Оками. Один из противников буджуна упал, разрубленный страшным ударом едва ли не пополам.
Сделав двойное обманное движение, противник Ронина нанес удар. Сшибшиеся на излете клинки задрожали, словно от электрического разряда. Почувствовав, как меч разбойника соскальзывает с его клинка, Ронин подобрал правую ногу для лучшей устойчивости. В это мгновение разбойник попытался достать его ударом снизу.
Ронин невольно почувствовал уважение к боевому мастерству противника, который явно был профессионалом, причем превосходящим по знаниям и навыкам большинство меченосцев Фригольда.
Мечи их скрестились, высекая голубые искры. Теперь они бились на самом краю бурлящего водоема.
Ронин опять выставил ногу, готовясь провести прием. Противник наклонил меч, предвидя выпад Ронина, но Ронин нанес не нижний, а верхний вертикальный удар, открывшись при этом на долю секунды. Грабитель, однако, не смог этим воспользоваться. У него хватило времени лишь на то, чтобы широко распахнуть в изумлении глаза, а потом череп его развалился, как расколотый орех. Рука с мечом по инерции продолжала двигаться, и Ронин отступил в сторону. Тело рухнуло в водоем. Ронин развернулся.
Оками только что — экономным обратным ударом — разделался со своим вторым противником, налетевшим со стороны незащищенной спины, и теперь схватился с вожаком. Буджун теснил его назад, пока разбойник не уперся спиной в стену ущелья. Он сделал отчаянную попытку пробить защиту Оками и достать до его шеи, однако буджун опередил его. Изогнутый клинок со страшной силой вошел вожаку в плечо — до середины груди. Грабитель дернулся, голова у него откинулась назад, глаза закатились, и конвульсирующее тело рухнуло на землю.
Повернувшись к Ронину, Оками поклонился.
— Всякому путнику в долгом пути нужен краткий привал. Похоже, мы очень правильно сделали, что дали себе отдохнуть. Я бы сказал, краткий отдых пошел нам обоим на пользу.
Вытерев клинок об одежду убитого, он неторопливо вложил меч в ножны.
— Мне не нравится.
— Почему?
— По сравнению с вашими это просто мазня неуклюжая.
Дорога Кисокайдо сделалась круче; голые камни вытеснили из пейзажа буйство нефритовой листвы. Но все же эти приглушенные серые и голубоватые тона уже не казались Ронину такими унылыми, скудными и аскетичными. Рисунки Оками научили его новому восприятию.
— Очень прошу вас, Ронин, не пытайтесь сравнивать вещи, принадлежащие к двум совершенно разным мирам.
— Но я не…
— Это всего лишь совет. Сравнивайте, пожалуйста. Но я скажу вам одно: счастливее вы от этого не станете.
— Я не доволен.
— Отлично! — Оками хлопнул в ладоши. — Художник никогда не бывает доволен…
— Но вы только что сказали…
— Счастье и удовлетворение — разные чувства.
Они сидели перед деревянным навесом белого убежища-станции, расположенного высоко в горах. Было морозно, а на дороге лежал тонкий покров хрусткого снега, переливающегося белыми и голубыми блестками. Его девственную белизну портили только следы их подошв и лошадиных копыт.
— Посмотрите, Оками…
Ронин показал на точку на листе бумаги, что лежал у него на коленях.
— И что же?
— Деревья слишком приземистые, а роща здесь слишком густая.
— Ну так исправьте их.
— Хорошо. М-м-м… Ну как? Лучше?
— Сами скажите.
Ронин помолчал, разглядывая рисунок.
— Да. Так мне нравится больше.
— Ну вот, видите? Уловили.
Ронин вдохнул острый аромат, исходивший от огня, который они разложили в каменном очаге под навесом станции.
Они сидели почти лицом к солнцу. Оно уже опускалось по небу — плоский приплюснутый красный шар, увеличенный и искаженный зависшей над горизонтом дымкой. В тускнеющем свете заснеженная вершина переливалась всеми оттенками розового и лилового. Рядом с груженой повозкой, запряженной быком, шагали две женщины и мужчина. Все — в широких плетеных шляпах и деревянных сандалиях. Они прошли вниз по горной дороге, миновали Ронина с Оками и скрылись за левым поворотом.
— Мы… те, кто умеет рисовать… мы учимся сами, — заговорил буджун, нарушая молчание. — Сначала мы изучаем то, что мы видим, и учимся воспринимать окружающий мир. Каждый — по собственному разумению. Этому вас не научит никто, поверьте.
Он подергал себя за мочку уха.
— Нет, технике научиться, конечно, можно. Я уже показал вам, как держать кисть, чтобы получились желаемые штрихи. Но…
Оками пожал плечами.
— …кто знает? Может быть, вы придумаете другие, лучшие приемы обращения с кистью.
Он посмотрел на темнеющий пик, выдающийся на фоне пейзажа из горизонтальных линий.
— Живопись, как и все великие старания, исходит из самой души человека. Поэтому каждый творит свое. Никто не научит вас тому единственному, что делает искусство неповторимым.
Рука Ронина застыла над бумагой. Он посмотрел на Оками.
— Ваши искусства — рисунки и бой.
Оками кивнул.
— Все буджуны должны научиться как тонкости и состраданию, так и жесткости, меткости и расчету. Вы, я думаю, согласитесь, что последние качества приобретаются куда проще. А для того, чтобы выучиться двум первым, надо как следует потрудиться.
По земле между ними ползли вереницей черные муравьи, тащившие кусочки пищи, превышавшие их размерами вдвое.
— У меня был выбор. Естественно, у нас у всех есть выбор, потому что буджуны уже давно поняли, что жесткая власть не обязательно порождает дисциплину. Есть вещи, которые можно принять только сердцем.
Муравьи по одному исчезали в своем муравейнике.
— Я сразу понял, что танцы — это не для меня. Театр ногаку — тоже. Признаюсь вам, что и поэтом я был довольно посредственным…
— Но живопись…
— Да, в этом деле я кое-чего достиг.
— Как и в искусстве боя.
— Верно.
— Вы раньше ездили по Кисокайдо? — спросил Ронин, отложив рисунок и расправив чистый лист бумаги.
— Да, и не раз.
— И плавали в том водоеме?
— Конечно. Он очень освежает, согласны?
Сорвав травинку, Оками засунул ее в рот.
— Мне кажется, в наши дни путешественнику не мешало бы быть поосторожнее.
Легкая улыбка заиграла на губах Оками.
— Да, несомненно, но путешественник благоразумный быстро научится избегать те места вдоль дороги, где бандиты встречаются чаще всего.
— Вроде того ущелья.
— Вы не можете не признать, — радостно заявил Оками, — что теперь мы знаем друг друга гораздо лучше.
Ронин искренне восхищался этим человеком. Каждый из них — людей, в сущности, посторонних — сумел показать своему спутнику, чего он стоит, без неловкости пытливых вопросов или прямого и бесполезного столкновения. Он вспомнил свою первую схватку на корабле Туолина по пути в Шаангсей. Там тоже хотели оценить его воинские дарования. Ронин мог это понять. Но насколько ненужными и неуклюжими казались ему теперь все «хитроумные» уловки и околичности тех людей.
— Как ваше плечо? — спросил Ронин, снова берясь за кисть.
— Кость не задета. — Оками сидел неподвижно и глубоко дышал. — А получить рану в бою — для меня не впервой.
— Я этого никогда не забуду.
Оками кивнул.
— Такое не забывается.
Постепенно сгущались сумерки.
— Я нарисую ту вершину, — показал Ронин на гору, которая стала видна с дороги сегодня и, раз появившись, больше уже не пропадала из поля зрения.
— Да. Я уверен, у вас получится.
Обмакнув кисть в тушь, Ронин принялся рисовать.
— Как она называется?
— Фудзивара. — Оками удовлетворенно вздохнул. — «Друг человека».
Какое-то время он наблюдал за движением своей кисти в руках чужестранца и думал: «Его имя ему не подходит. У меня такое чувство — а разве нас не учили, что чувствам надо доверять? — что он уже вырос из этого имени». Он снова вздохнул, переведя взгляд на расстилавшуюся перед ним суровую красоту. Домой. Он моргнул. Столько лет сохранялось у нас спокойствие, а теперь появился этот человек… и спокойствию скоро придет конец. Снова на Ама-но-мори грядут перемены. Буджун мысленно пожал плечами. А что есть жизнь? Череда перемен.
— Завтра, — проговорил он тихо, чтобы чужеземец услышал его, но не отвлекся от работы, — мы начинаем спускаться к Эйдо.
На бумаге, лежавшей у Ронина на коленях, Фудзивара рождалась заново.
САКУРА
Он ждал, стоя в воротах, выкрашенных зеленым и алым. Зажженный фонарь из промасленной бумаги, расписанный черными угловатыми буквами, легонько покачивался у него над головой.
На той стороне широкого, мощенного камнем двора стоял двухэтажный деревянный дом с алыми стенами, покатая крыша которого возвышалась над скоплением вишневых деревьев, выделяясь на этом приглушенном фоне резким пятном цвета. Справа за основным зданием, через двор, поднималась уступами пагода.
Прозрачный воздух донес до него чистый звон колоколов.
К алому зданию — по двое и по трое — шествовали мужчины в одеждах с широкими подкладными плечами и в деревянных сандалиях. За ними мелкими шажками семенили женщины в длинных платьях и стеганых халатах. Они о чем-то беседовали между собой, прикрываясь зонтами из промасленной бумаги.
На ветру слышались голоса ржанок.
На рассвете Ронин с Оками спустились с холодной горы по серпантину дороги. Небо играло переливами розового и серебристого. При первых же лучах восходящего солнца воздух наполнился трелями птиц, распевавших на разные голоса.
Перед ними раскинулся Эйдо, плоский и пестрый. Город расположился на широкой равнине, по пологим берегам двух рек: одной узкой и быстрой, как горный поток, и другой — широкой, болотистой и ленивой. Дальней границей долины служили покатые предгорья Фудзивары, плавно переходящие в крутые склоны горы, что вырисовывалась так величественно на фоне светлеющего неба.
Они долго стояли, не произнося ни слова, забыв про усталость и грязь, завороженные этим видом, открывающимся с южного конца Кисокайдо. Зрелище было действительно потрясающим.
Они направились прямо к Оками домой, в район междуречья, в его изящный домик с плоской крышей, сооруженный из дерева, бумаги и небольшого количества камня. На деревянных воротах висели фонарики.
— Сад за домом, — сказал Оками.
Две женщины, прекрасные, как распустившиеся бутоны, встретили их у двери с поклоном. Обе — в коричневых одеяниях, с черными глянцевыми волосами и очень белой кожей. Женщины тут же раздели путников, ловко стащив с них одежду, заскорузлую от пота и обесцвеченную от пыли, и провели их к двум квадратным каменным ваннам, врытым на уровне деревянного пола. Горячая вода и прикосновение женщины, растирающей его тело, напомнили Ронину об удовольствиях Тенчо.
Потом он лежал в теплой воде и наблюдал за тем, как одна из женщин обрабатывает рану Оками: сначала она тщательно ее очистила, потом умело прижгла и наложила аккуратную повязку.
Буджун что-то быстро сказал второй, очевидно, сделал какие-то распоряжения. Ронин встал и, не вылезая из ванной, дотянулся до полотенца. Женщина, занимавшаяся плечом Оками, вытерла его и набросила на него чистый халат — синий, с уже знакомым вышитым узором из зеленых колес со спицами.
Открыв соджи, Ронин вышел в сад. Женщина вопросительно взглянула на Оками, но тот сделал короткий жест, и она осталась в доме.
Ронин прошел через заросли шелестящего бамбука, прислушиваясь к отдаленному кваканью лягушек. В воздухе, подернутом от жары зыбкой дымкой, гудели насекомые. О чем-то шептались искусно рассаженные цветы — розовые и золотые, желтые и оранжевые. Ему вспомнился необычный храм в центре Шаангсея с его великолепным садом. Вспомнилась рыбка, такая ленивая и спокойная в своем водном мире. Старик, безмятежно сидевший у металлической урны. Дыхание Вечности. Здесь тоже царил абсолютный покой, проникающий сквозь кожу, проливающийся на душу упоительным бальзамом.
Он как будто вернулся домой — не туда, где родился, а туда, где начиналась история его предков.
— Сначала заглянем в Иошивару.
Оками отодвинул пустую тарелку. Их трапеза состояла из свежей сырой рыбы, сладкого риса и чая с душистыми специями.
— А что там? — спросил Ронин, допивая чай.
Оками загадочно улыбнулся.
— Не «что», а кто.
В комнату бесшумно вошли женщины и молча убрали остатки обеда. Оками поднялся из-за низкого полированного деревянного столика.
— Азуки-иро. Куншин буджунов.
— А у него разве нет резиденции?
— Есть, конечно.
Оками прошел через комнату, раздвинул бумажное соджи. В комнату косо упали лучи предвечернего солнца. Зелень сада отливала оранжевым и золотистым.
— У него великолепный замок, но он все-таки предпочитает город. Любит энергию и размах Эйдо.
Они вышли навстречу искрящемуся свету. По голубому небу неспешной чередой проплывали пышные облака, время от времени закрывая солнце, отчего на листву и дорожки ложились тени.
— Любит быть среди людей.
Громко стрекотали цикады.
— Вам, Ронин, нужно попытаться понять нас. Это непросто. Мы — очень сложный народ, у нас есть много такого, что озадачит любого, пусть даже самого, скажем, терпимого и понятливого чужеземца. Мы придерживаемся традиций, но, как мне кажется, только в определенном смысле. Мы далеко не глупцы.
Они прошли мимо высоких зарослей ароматных камелий, сверкающих на солнце огненными полосами.
— Когда-то давно, еще в древности, у нас были правители-императоры, согласно легендам, спустившиеся с самого солнца. Но со временем власть императоров ослабла, и группировки буджунов принялись, уже ничего не стесняясь, сражаться друг с другом за земли и за богатства. Именно в этих сражениях и появились сегуны. Первый из этих могущественных полководцев возвысился, разгромив дайме и сосредоточив в своих руках почти неограниченную власть. Именно он правил на Ама-но-мори, хотя номинальным правителем оставался император.
Узоры света и тени мелькали затейливой вязью на широком лице Оками, разукрашивая его кожу, словно он стал полотном для картин, которые рисовало само солнце.
— Какое-то время подобное положение было нам только на пользу. Мы нуждались тогда в железной дисциплине, навязанной нам сегунами. Мы стали сильными, неукротимыми.
Они вышли из тени и оказались на солнце. Оставшиеся позади бамбуковые заросли непрестанно шуршали, колыхаясь на легком ветру.
— Но сегуны были и первыми, кто возвел войну едва ли не в ранг религии. Так буджуны стали воинственными и неуемными. Они захотели других земель. Это было как голод. Стремление воевать. Покорить соседние народы.
Они вышли к глубокому пруду — каменному восьмиугольнику, кишащему разноцветными рыбами, большими, лоснящимися, серебристыми, голубыми и розовыми, — и присели на прохладный каменный бордюр.
— Вот почему в конечном итоге поражение сегунов было неизбежно. Как раз в те воинственные времена появились у нас и первые воины-маги. Тогда к чародейству еще относились терпимо, а буджуны на протяжении многих веков были отрезаны от остального мира и вполне, кстати, довольны жизнью. Но в конце концов чародейские войны докатились и до Ама-но-мори.
Рыбины на глубине неспешно покусывали бурые водоросли, колышущиеся вдоль каменных берегов пруда.
— Некоторые буджуны, соблазненные посулами богачей из воюющих царств, тоже приняли участие в этой всеобщей бойне. Разъяренный дор-Сефрит, величайший из буджунов, разыскал их всех и уничтожил. Но ущерб, нанесенный миру людей, был уже непоправим. Вернувшись на Ама-но-мори, дор-Сефрит поведал трагическую историю о смерти и разрушениях. Буджуны не медлили со своим решением, и дор-Сефрит сделал так, чтобы наш остров отодвинулся еще дальше от континента человека. Зачем? Чтобы больше никто из буджунов не испытал искушения разрушать. А потом дор-Сефрит оставил Ама-но-мори и ушел от нас в Город Десяти Тысяч Дорог, объяснив это тем, что у него еще остались долги перед теми людьми. Так буджуны канули в туманы легенд.
— Наверняка вы еще кое-что знаете о дор-Сефрите, — заметил Ронин, думая о Дольмене, но пока не желая высказывать свои мысли. — И, как я понимаю, немало.
— Возможно, — пожал плечами Оками. — Наверное, в Эйдо найдутся такие, кто знает больше.
Он вперил взгляд в их отражения, танцующие на воде.
— Мы — народ, который учится на своих ошибках. Так появились куншины. Куншин — это не Император Солнца и не сегун. Может быть, некий синтез того и другого. Он — правитель, но без структур государственной пирамиды, поскольку он такой же буджун, как и я, а это уже нечто такое, о чем никогда не забудешь.
— И мы найдем его в Иошиваре?
Между ними пропорхнула коричневато-оранжевая бабочка.
— Если он развлекается, то найдем.
* * *
Они прошли по совершенно прямой, как стрела, улице с двухэтажными деревянными домами, уходящими в перспективу. Их тени как будто плыли в предвечернем аметистовом тумане. Мимо стайками семенили женщины в пышных узорчатых одеждах, с хрупкими бумажными зонтиками, с белыми лицами и красными губами: они хихикали, перешептывались и украдкой, не поворачивая головы, бросали на них любопытные взгляды. В воздухе разливался аромат мускуса и цветов вишни.
— Добро пожаловать в Иошивару, — сказал Оками, пропуская Ронина в дверь. Красивые женщины, подобные только что распустившимся лилиям, наблюдали за ними с балконов на втором этаже.
Их с поклоном встретила полная женщина в халате из лилово-розового шелка с рисунком из треугольников и с затейливой блестящей прической — волосы подняты вверх и заколоты двумя длинными булавками из слоновой кости. В ее бесхитростном плоском лице не было ничего, что обращало бы на себя внимание, за исключением пытливых и умных глаз. Она улыбнулась, наклонив голову. Оками представил Ронина, и все опять обменялись поклонами.
Она протянула руку. Оками снял сандалии, Ронин — сапоги. По пружинистому татами они прошли к низкому деревянному столику, не покрытому лаком и без резьбы, расселись вокруг него на полу, скрестив ноги. Две женщины в стеганых халатах принесли дымящийся ароматный чай и рисовое печенье. Где-то, наверное на втором этаже, тихонько потренькивали колокольчики, звук которых напоминал о снежинках, сверкающих в морозном воздухе.
Слева раздвинулось соджи, и к Ронину с Оками вошли три женщины. Все, как одна, были очень юными, с изящными лицами в форме сердечка, черноволосыми и черноглазыми, с алыми округлыми губами. Они приветливо улыбались, шурша шелковыми халатами.
— Не сейчас, Дзуку, — с тоской протянул Оками.
Она кивнула и махнула рукой. Женщины скрылись.
— Тогда чем могу служить? — поинтересовалась она, как только они остались одни.
— Азуки-иро был здесь сегодня?
Дзуку улыбнулась и на мгновение накрыла руку Оками нежной ладошкой.
— Ах ты, мой сладкий. Из всех домов Иошивары ты выбрал именно этот, чтобы спросить об Азуки-иро. — Она засмеялась. — Ты хорошо знаешь куншина, Оками. Да, он здесь был, но пораньше, наверное… да, во второй половине дня. Он не сказал… подожди-ка…
Она подняла руку и позвала негромко, но отчетливо:
— Онджин!
Почти тут же открылось соджи. Женщина в шелковом пепельно-сером халате подошла к столику и опустилась на колени рядом с Дзуку. Она была хрупкого сложения, с такой нежной кожей, что она казалась прозрачной.
Дзуку взяла ее руки в ладони, нежно погладила их.
— Скажи мне, Онджин, когда сегодня куншин был с тобой, не говорил ли он, куда собирался пойти потом?
Онджин бросила быстрый взгляд на двоих мужчин, потом ее темно-карие глаза снова остановились на лице хозяйки.
— Он упомянул Камейдо, госпожа, уже… после.
— Ага. И больше ничего?
Онджин немного подумала, сморщив лоб, но даже эти морщины не портили ее потрясающую красоту.
— Нет, госпожа.
— Хорошо, — Дзуку погладила ее по щеке. — Можешь идти.
Грациозно поднявшись, Онджин удалилась легкой походкой. Когда соджи задвинулось за ней, Дзуку заметила:
— Хороша, верно?
Оками кивнул.
— Если у нас будет время, мы сегодня еще вернемся, чтобы самим убедиться.
Его глаза блестели в неярком свете.
— Я буду рада, Оками.
— Спасибо.
Женщина склонила голову.
— Ваше присутствие делает честь этому заведению.
Они снова вышли на шумную улицу. Оками свернул направо, потом еще раз направо, и они оказались на небольшой рыночной площади. Сразу за площадью начинался сад, протянувшийся примерно на две сотни метров; в основном здесь росли корявые сливы. Среди деревьев виднелись два небольших чайных домика с покатыми крышами и с открытыми стенами со стороны сада, огибавшего их домики полукругом с юга и запада. По саду были разбросаны широкие деревянные скамейки, на которых сидели люди. Большинство из них что-то писали.
— Камейдо — сад литераторов Эйдо, — пояснил Оками. — Сюда приходят поэты и драматурги, чтобы черпать вдохновение от мудрости этих древних слив и чтобы отвлечься от городской суеты.
Оками заговорил с хозяином чайного домика, но тот сам только что появился здесь, а дневная прислуга ушла на ужин. Он предложил им чаю.
Они стояли на ступеньках, попивая чай из фарфоровых чашечек. К ним подошел молодой человек, высокий и худой, с яркими черными глазами и улыбчивым чувственным ртом.
— Вы ищете Азуки-иро? — В его голосе явственно звучали металлические нотки.
Оками кивнул:
— Да.
— Вы — сасори?
Оками, казалось, слегка опешил от такой — слишком прямой — постановки вопроса.
— Вовсе нет.
— Тогда у меня нет причин говорить вам…
— Вы сами к нам подошли.
Молодой человек огляделся с несколько озадаченным видом.
— Да, подошел. Я думал, вы, может быть, захотите послушать стихотворение, которое я…
— Послушать ваше…
Но Ронин сжал руку Оками.
— Я хотел бы послушать стихотворение.
Он отпустил руку буджуна только после того, как почувствовал, что мышцы Оками расслабились под его пальцами.
— Чудесно!
Молодой человек заглянул в листок рисовой бумаги и вскинул голову:
И наступает утро.
Просыпается ворон,
еще усталый.
— Ну как?
— А я еще думал, что я как поэт никуда не гожусь, — буркнул Оками себе под нос.
— Что это означает? — спросил Ронин.
— Я сасори, — сказал молодой человек. — Скоро сасори развернут крылья и отправятся в свой ночной полет, забрав с собой то, что им принадлежит. Больше нам не придется жить на этом маленьком, скудном острове. Скоро богатств хватит на всех жителей Ама-но-мори, буджунов и иноземцев.
— Хватит! — окликнул Оками.
На этот раз Ронин даже и не попытался его остановить. Буджун схватил поэта за грудки. Листок упал на землю.
— Больше я этого слушать не буду. Если вы знаете, где сейчас куншин, вам лучше об этом сказать!
Молодой человек покосился на Ронина, и тот безучастно заметил:
— Думаю, он говорит серьезно. Лучше скажите, вам будет спокойнее.
Поэт перевел взгляд на Оками, который еще сильнее потянул за отвороты его халата. Ткань начинала трещать.
— Сегодня у Асакусы представление ногаку, — выдавил он. — Возможно, там вы его и найдете.
Большой фонарь из промасленной бумаги, качнувшийся на ветру, издал осуждающий звук. Ржанки скрылись за вишневыми деревьями. Верхушка Асакусы уже утонула в лазоревом бархате ночной темноты.
Последние посетители Камейдо скрылись за широкими деревянными дверями алого здания. Мощеный двор опустел.
Оками подошел к Ронину.
— Пора.
Они прошли через двор мимо качающихся вишен.
— Асакуса — самый известный на Ама-но-мори театр ногаку.
— Ногаку — это пьесы? — уточнил Ронин.
— Вроде того.
Они вошли внутрь. Полированная деревянная сцена занимала большую часть пространства. Перед ней, тремя ступеньками ниже, проходила полоса грубого гравия метра три шириной, за которой начинались полированные зрительские ложи с низенькими стенками.
Оками выбрал ложу у центрального прохода, поближе к сцене. Там они и уселись, скрестив ноги.
Оками перегнулся к соседней ложе, пошептался с сидевшим там человеком и сообщил:
— Сегодняшняя ногаку — Хагоромо.
— А что это значит?
— Плащ из перьев.
Театр был полон.
— Он здесь?
Оками повертел головой.
— Пока что-то не видно.
Тонкие пронзительные звуки флейты объявили о начале ногаку. Представление напоминало скорее не пьесу, а стихотворную декламацию. Ведущий актер, наряженный в затейливые парадные одежды, играл женскую роль. Еще на нем был замысловатый парик и маска тончайшей резьбы с нежными чертами небывалой красоты. Ронину сразу вспомнилась Онджин. Второй актер был без маски.
Сначала они просто сидели на полированной сцене и то ли пели, то ли декламировали на языке, непонятном Ронину, сопровождая слова только жестами рук. И все же благодаря отточенному мастерству актеров Ронин уже очень скоро начал разбираться в сюжете.
Некая богиня, потерявшая свой плащ из перьев, спускается в мир людей, чтобы вернуть пропажу. Плащ найден простым рыбаком, который не знает, что именно он нашел, но все-таки понимает, что это — единственная в своем роде, очень ценная вещь. Богиня пытается уговорить рыбака вернуть ей плащ, но ее доводы не убеждают его. Он упорно отказывается расстаться со своей добычей.
В конце концов они заключают сделку. Рыбак готов вернуть плащ из перьев, если богиня согласится станцевать для него.
Подходит кульминация ногаку, полностью основанная на движении, без слов.
Начинается танец богини. Причудливые движения, исполненные эмоций. Неземное, завораживающее искусство. Неудивительно, что все до единого зрители не могут глаз оторвать от актера. Танец продолжается, и вот уже самый воздух заряжается напряжением, порожденным красотой, непостижимой для смертных. Богиня танцует — отчаянно, исступленно. Богиня желает вернуть свой плащ.
И именно в этот момент, когда танец богини достиг предельной вершины, когда исчезли стены Асакусы, растворились границы реальности, и ощущение бесконечности вторглось в душу Ронина, он услышал, как всколыхнулась вселенская тишина:
Ронин.
Под ними неспешно текла река, широкая и голубая. Тростник по ее берегам был срезан, и жирная рыба, довольная и ленивая, апатично поклевывала водоросли, приставшие к подводным камням. В сумраке мелькали светлячки.
У дальнего берега по воде растянулось на многие метры зыбкое отражение трактира — перевернутый зеркальный образ, симметричный и точный. Сооружение из деревянных секций, укрепленное на сваях над струящейся водой.
В конце Оками пришлось буквально тащить Ронина за собой, протискиваясь сквозь толпу.
Над Эйдо все еще нависал туман, укрывая вершину Фудзивары. На промасленных соджи, отделяющих друг от друга компании, которые предпочли в этот вечер поужинать в трактире, висели красные бумажные фонари. Алый свет фонарей создавал ощущение уюта, не достижимое никакими другими средствами — слишком большим был обеденный зал.
«Жива! — думал Ронин. — Жива!»
Гул негромких разговоров и шуршание шелка сопровождало мужчин и женщин, перемещающихся по залу. Кто-то входил, кто-то, наоборот, выходил. Послышался короткий вскрик цапли, промелькнувшей белым пятном на сине-черной воде; отсветы фонарей создавали на ней причудливые искрящиеся узоры. Движение не прекращалось.
Ронин вскочил, повернулся. Но публика непрерывно ходила туда-сюда. Все вокруг шевелилось. Безбрежное море шорохов, безразличное к тому, с какой жадностью переводил он взгляд от одного лица к другому. Где-то там…
— Рисового вина?
Над ними склонилась молодая женщина. Оками бросил взгляд на Ронина.
— Да, — сказал он. — На двоих.
Ронин тревожно смотрел ей вслед. Оками о чем-то спросил его, он не услышал. В зале Асакусы, когда электризующее представление ногаку открыло его разум, он услышал, как она зовет его. Он думал, что уже никогда не услышит этого зова. Моэру… В трактир вошли трое мужчин и женщина и направились к деревянной секции на воде. Его блуждающий взгляд совершенно случайно упал на них, и его словно пронзило током.
— Ронин?
Он вскочил на ноги, глядя во все глаза на женщину, как раз усаживающуюся за столик.
— Мороз меня побери!
Он больше не сомневался. Это была Моэру. Чудом выжившая и оказавшаяся здесь, в Эйдо. Но как?
— Ронин!
На его руку легла широкая ладонь Оками. Он наклонился.
— Та женщина.
— Где?
— В розово-серебристом халате. Рядом с высоким мужчиной в синем…
— Это Никуму. А что…
— Я ее знаю, Оками.
— Знаете? Но это невоз…
Ронин исчез.
— Ронин, нет! Только не Никуму! Подождите!
В душную ночь Эйдо напоминал прозрачный самоцвет в тумане — город во мглистом свете фонарей, раскинувшийся в отдалении зыбким застывшим морем. А рядом — богато украшенные одежды. Воздух, насыщенный ароматом сжигаемого угля. Туда — к ней. Через лабиринт тел, мимо улыбающихся женщин с блестящими волосами и белыми лицами, сквозь смешавшиеся ароматы их духов, мимо мужчин с длинными косами и в халатах с широкими подкладными плечами, мимо служанок с крошечными лакированными подносами, на которых в строгом порядке расставлены чайнички с чаем и рисовым вином, тарелки с сырой рыбой и овощами, похожими на миниатюрные садики.
Низко, почти касаясь воды, взлетала белая цапля, волоча за собой длинные ноги.
— Моэру, — позвал он, подходя. — Моэру.
Сердце у него сжалось.
Птица неторопливо поднялась в туман над Эйдо. Она подняла к нему лицо, бледное и прекрасное. Глаза — цвета штормового моря. На мужчинах, в компании которых она сидела, были халаты с жесткими подкладными плечами: у двоих — темно-серые, с уже знакомым Ронину рисунком из синих колес, у третьего, которого Оками назвал Никуму, — темно-синий, с серыми колесами. Они все, как один, повернулись к нему.
Далеко-далеко в тумане белым пятном растворилась цапля.
Он смотрел на нее.
— Моэру.
Его мозг ждал ответа.
— Как вы…
Никуму поднялся. Он был высоким и крепким. На широком его лице выделялся тонкий, аскетичный нос. Его тонкие губы напряглись.
— Разве мы с вами знакомы?
В ее глазах цвета сумрачного моря — пустота: Все дальше и дальше, исчезая в тумане.
— Моэру?
— Вы что, не умеете себя вести?
— Я знаю эту женщину.
Ее бледное лицо по-прежнему обращено к нему, на губах — призрак улыбки. А какой еще призрак — быть может, он сам — уплыл в сине-зеленые глубины ее глаз?
— Совершенно очевидно, что она вас не знает, — заметил Никуму и обратился к ней: — Вам знаком этот человек, дорогая?
После недолгого колебания она отрицательно мотнула головой. Это было похоже на болезненную конвульсию, как будто кто-то дернул ее за ниточку.
— Вы, должно быть, ошиблись.
Резкий голос. Тон, означающий, что разговор окончен.
— Нет, я…
Ронин слегка наклонился к ней. Что-то неопределенное промелькнуло в ее взгляде, возможно, отражение какой-то внутренней борьбы.
Никуму сел, дернув щекой.
— Кеема, — тихо произнес он.
Один из мужчин в темно-сером поднялся и схватил Ронина за предплечье.
Ронин не отводил взгляда от глаз Моэру; в душе у него нарастало смятение.
Ничего.
— Оставьте нас, — «темно-серый» усилил нажим.
Совершенный овал ее лица.
Кеема изо всех сил сдавил руку Ронина.
Мерцание серебра вокруг ее тонкой белой шеи…
Темно-серый пихнул Ронина. Тот отступил на шаг и ударил левым локтем, одновременно перенеся упор на левую ногу. Теперь он ударил ребром правой ладони, прямой и жесткой, как доска. Треск сломанной кости. Рот, открытый в беззвучном крике. Тело, падающее спиной в реку.
Никуму поднялся. В его лице не было ни кровинки. Другой человек в темно-сером шагнул к Ронину.
А потом рядом с ними возник Оками. Он быстро заговорил, негромко и проникновенно. Он быстро увел Ронина. Мимо поворачивающихся к ним любопытных лиц, подальше от шума и суеты, навстречу вечернему туману.
— Вы с ума сошли?
— Я ее знаю.
— Что-то не верится.
— Вы должны поверить.
— Она — жена Никуму.
— Что? Не может этого быть!
— И все же, друг мой, это так.
— Ее зовут Моэру.
— Да, — озадаченно нахмурился Оками. — Верно. Он тряхнул головой.
— Жена Никуму! Но как…
— Оками, на ней серебряная сакура, которую я ей подарил…
Какое-то время они молчали. Оками сверлил пристальным взглядом лицо Ронина, пытаясь найти ответ на невысказанный вопрос. Еще даже не ясно — какой вопрос. Ронин хорошо понимал, что сейчас происходит. Именно сейчас их дружба, зародившаяся на Кисокайдо, в припорошенном снегом горном приюте, в высоком ущелье с водопадом, дружба, испытанная металлом и смертью, подвергается настоящему испытанию.
Ветер усиливался. За соджи из промасленной бумаги качался высокий бамбук. Яркие камелии ночью казались черными. Послышалось кваканье одинокой лягушки.
Оками вышел через раскрытое соджи навстречу жаркой темноте. Ронин поплелся следом. Небо было кристально чистым. Казалось, что звезды прожигают небесную твердь прямо у них над головами.
— Цветок вишни с Ама-но-мори? — спросил Ока-ми. — Как к вам попала сакура?
Ронин вздохнул, понимая, что должен сказать ему все. Ему ничего больше не оставалось.
— Когда я был в Шаангсее, — медленно начал он, — это такой большой город на континенте человека, я совершенно случайно наткнулся на одного человека. На него кто-то напал в переулке. Дело близилось к вечеру, там было темно. Я разглядел только, что их было четверо или пятеро. Против одного. Я собирался помочь ему, но не успел. Я прикончил двоих, но они все же его достали. Когда я к нему подошел, он был уже мертв. В руке он сжимал серебряную цепочку с сакурой. Не знаю почему, но я взял ее у него.
Они пошли по направлению к пруду.
— Наверняка он был буджуном, но почему он оказался так далеко от Ама-но-мори, остается тайной.
— Какое отношение это имеет к Моэру?
— Я подобрал ее в Шаангсее. Она пришла в город, больная, голодная, в толпе беженцев с севера. Ее так и оставили бы валяться на улице, если бы я не забрал ее с собой в Тенчо. Потом мы с ней вместе отправились из Шаангсея на поиски Ама-но-мори, и уже на корабле я подарил ей сакуру. Я думал, она погибла… На нас напали странные воины на необычных обсидиановых кораблях, которые плыли над волнами. Понятия не имею, как она сюда попала.
— А почему бы ей здесь и не быть? Ведь она буджунка, — сказал Оками.
Их разделял молчаливый пруд.
— Вы мне не верите?
— Зачем бы ей было покидать Ама-но-мори?
— А зачем было буджуну торчать в Шаангсее?
— Потому что…
Оками стоял спиной к свету, так что его лицо оставалось в тени.
— Ронин, Никуму — вождь сасори.
Лягушка вдруг перестала квакать, услышав приближающиеся шаги. Только цикады стрекотали во тьме.
— Кроме того, он влиятельный человек, пожалуй, самый влиятельный из членов дзеген-сору, совета куншина по важнейшим вопросам политики. Движение сасори возникло у нас недавно. Все они милитаристы — буджуны, недовольные жизнью на Ама-но-мори. Они хотят вторгнуться на континент человека.
— Значит, буджун в Шаангсее был шпионом.
Оками кивнул.
— По предложению Никуму, одобренному дзеген-сору, его заслали туда, чтобы выявить сильные и слабые стороны этого города.
— Но не все буджуны хотят войны.
— Нет, конечно. Только меньшинство. Но за последнее время сасори стали гораздо сильнее. А теперь, когда их возглавляет Никуму…
— А что по этому поводу думает куншин?
Оками только пожал плечами.
— Он ничего не предпринял, чтобы закрыть их движение.
— Оками, вы должны мне поверить. Я знаю Моэру.
— Хорошо. Я допускаю, что и ее тоже могли послать на континент человека.
— Вы не понимаете, друг мой. Что-то здесь не так.
— То есть?
— Она меня не узнала. В ее глазах не было ничего. Ничего.
Шепот бамбука. На поверхность пруда выскочила рыба, мелькнув бледным светящимся пятном.
Оками поднялся.
— Пойдемте.
В доме он приказал собрать еды и подать дорожные плащи.
— Куда мы едем?
— За город. Подальше от Эйдо. На какое-то время.
— Но свиток…
— Никуму будет искать вас, пошлет людей. Мы должны опередить их, уехать раньше.
— Но должны быть и другие…
— В Эйдо он нас найдет, — ровным голосом проговорил Оками.
— Я не стану бежать от него. Я должен вернуть Моэру.
Оками повернулся к нему:
— Вернуть? Она его жена, Ронин.
И снова — приступ отчаяния. К'рин, Мацу, а теперь… Нет! Еще не все потеряно.
— Оками, я ее знаю. Она на себя не похожа.
Оками уже надевал длинный плащ.
— Тогда вы уезжайте, а я останусь.
— Нет, не останетесь. — Глаза у Оками сверкнули, а в голосе появились жесткие, повелительные нотки. — Вы поедете со мной и будете делать все, что я вам скажу.
Он схватил Ронина за руку. Лицо его смягчилось.
— Подумайте, друг мой! Если у вас с Моэру и появится какой-то шанс, то только в том случае, если мы оба сейчас уедем.
Одна из женщин Оками набросила на Ронина плащ. Лягушка в саду опять затянула свою печальную песню.
Они направлялись на юг по широкой дороге Токайдо, гораздо более людной, чем горная Кисокайдо. Вскоре город оказался далеко позади, и его желтый свет отсвечивал туманной зарей над плоским горизонтом.
На западе уже начался дождь; здесь же воздух был влажным, тяжелым и неподвижным. В нем явственно чувствовалось напряжение. Звезды на небе быстро исчезали за пеленой набегающих черных туч. Ронин с Оками поплотнее закутались в дорожные плащи и надвинули ниже плетеные шляпы. Они шли пешком, хотя поначалу Ронин и возражал, но здравый смысл Оками все же взял верх над его нетерпением. Отправься они верхом, их было бы проще приметить. Пешими они выглядели как обычные путники на Токайдо.
Шипящий в ночи косой дождь застиг их как раз в тот момент, когда они вышли из сосновой рощи у подножия крутого холма. Хорошо еще, в этом месте вдоль Токайдо рос высокий бамбук, дававший пусть жалкую, но все же защиту от дождя. Посередине дороги возвышался огромный валун.
— Это Ниссака! — прокричал Оками сквозь шум дождя, когда они миновали камень.
Он наклонился поближе к Ронину. Края их шляп соприкоснулись.
— Говорят, у этого камня один горный разбойник напал на женщину, отвергшую его домогательства. Женщина была беременна. Она погибла, но ребенок остался жив, потому что камень вдруг возопил и призвал добрую богиню Каннон, которая вырастила ребенка.
Перед ними поднимался крутой склон холма. Дорога пошла наверх. Было очень темно, а дождь еще больше ограничивал видимость.
— Когда мальчик вырос, он разыскал разбойника и отомстил за смерть матери.
Во всем мире не было ничего, кроме дождя.
— И вы верите в эти сказки?
— Неважно, насколько правдиво то, о чем рассказывает легенда. Главное — дух предания. Это нечто такое, чем живут все буджуны.
— Вы — народ мстительный, — заметил Ронин, почти не скрывая иронии.
Оками смахнул с лица капли дождя.
— Месть и честь — разные вещи, друг мой. Потеряв честь, нельзя жить дальше.
— В чем же разница?
— В том, как ты умираешь. Нельзя омрачать правду жизни. Никогда.
Подъем был нелегким, особенно в непогоду, и оба они с облегчением вздохнули, наконец дойдя до гребня. Чуть дальше, за поворотом, в ночи показалось пятно желтого света — благословенный маяк в кромешной тьме.
На высоком, крутом склоне холма стоял небольшой постоялый двор, где их радушно приветствовали. Ронин с Оками повесили промокшие плащи сушиться перед очагом, в котором весело потрескивали кленовые поленья. Оками попросил подать им горячего чая — на балкон. Нимало не удивившись и не отпустив никаких замечаний насчет неподходящей погоды, хозяйка лишь поклонилась и повела их через теплое помещение.
Они, естественно, были одни на балконе с навесом, который тянулся вдоль заднего фасада гостиницы и выходил на поросшую густым диким лесом долину без всяких признаков цивилизации. Даже сюда долетал зычный голос хозяйки, велевшей приготовить чай.
При свете зажженных фонарей они наблюдали за серебристым дождем. Где-то вдали раздавались раскаты грома, напоминающие рокочущий голос какого-нибудь сказочного великана. Сняв намокшие шляпы, они присели за низкий столик под успокаивающий шум дождя, барабанящего по навесу. Принесли горячий, ароматный чай. За чаем Ронин рассказал Оками все, что знал о Макконе, о пришествии Дольмена и Кайфене, который уже развернулся под Камадо. Принесли еще чаю. После того как уже глубокой ночью они попросили еще, к ним вышла позевывающая хозяйка и, извинившись, сказала, что отправляется спать и что на кухне остаются две служанки — на тот случай, если гостям захочется поесть или еще попить чаю.
— Если все, о чем вы говорите, правда, тогда надо предупредить куншина, — заметил Оками, когда Ронин закончил свой рассказ. — У каждого человека есть определенные обязательства, которые надо выполнять. Несмотря ни на что. А это как раз такой случай.
— Буджуны никогда ничего не забывают.
Оками улыбнулся одними губами, но взгляд его остался серьезным.
— Никогда. Ничего.
— А как же Никуму, которому хочется завоеваний для Ама-но-мори?
В глазах Оками отразился дождь.
— Я знаю его не лучше, чем все остальные буджуны, за исключением куншина. Он человек многогранный. Много времени проводит в своем замке в Ханеде. Обладает большим умом и является, кстати, одним из первейших почитателей и покровителей ногаку, как и куншин. Когда я в первый раз услышал о том, что он возглавил сасори, я не поверил. Еще год назад все над ними смеялись.
Из дождя на свет фонаря вылетел мотылек и закружился вокруг теплой промасленной бумаги.
— А теперь?
Оками содрогнулся.
— Теперь — как в старину, — прошептал он.
Ронин наблюдал за мотыльком, порхающим над открытым верхом фонаря, где свет был ярче.
— Куншин мог бы их остановить, почему же он бездействует?
Оками пожал плечами:
— Наверное, мы видим лишь часть от целого. Никуму наверняка не какое-то чудовище… хотя, как мне кажется, за последнее время он сильно изменился.
Попав в поток горячего воздуха, мотылек угодил в огонь. Ронин не услышал даже хлопка.
Дождь продолжал барабанить по бамбуковому навесу у них над головой и по листьям кленов в долине, раскинувшейся внизу.
— Время этого мира уже истекает, Оками. Все закончится для человека, если мы не остановим Дольмена, если мы не найдем никого, кто сумел бы прочесть свиток дор-Сефрита. — Ронин показал на долину. — Ничего не останется. Сгинет вся красота, словно ее и не было никогда.
Он умолк на мгновение, потом спросил, понизив голос:
— Где Ханеда, Оками?
— На юге, — буджун даже не повернулся к нему.
У Ронина екнуло сердце: ведь они шли на юг.
— Далеко?
— День пути, — отозвался Оками. — Всего один день.
К тому времени, когда они добрались до моста Яхаги, ландшафт сильно изменился.
Они вышли к извилистой реке ранним утром. Левый, ближний, берег зарос высоким, качающимся на ветру тростником, а на болотистом правом простирались ровные, блестящие на солнце рисовые поля. На горизонте в голубой дымке вырисовывались туманные горы — суровые, непреклонные стражи.
Они прошли по длинному мосту из камня и дерева, чувствуя себя уязвимыми и не защищенными на открытом пространстве. Внизу по болоту чинно расхаживали белые цапли, взбиравшиеся иногда на небольшое скопление гранитных камней слева от моста.
Перебравшись на другой берег, они свернули налево, к отдаленному скоплению высоких криптомерий. Темный остров сплетенных деревьев на голом болоте.
Далеко на востоке маячили белые паруса рыбачьих лодок, державших курс в сторону моря. В небе над криптомериями кружила стая гусей. Вскоре они устремились к югу, перекликаясь между собой.
Они зашагали по размокшей тропинке, петлявшей между тихими, безлюдными полями. По ровной поверхности стоячей воды скользили водяные пауки, напоминавшие яркие ногти, царапавшие натянутый шелк.
Они добрались до густых бамбуковых зарослей, откуда уже была видна квадратная голубая арка, а за ней — угловатые крыши замка Никуму. Ханеда.
— Наверное, он еще в Эйдо, — сказал Ронин.
— Едва ли. В Эйдо он приезжал на ногаку.
— Он будет искать нас в городе.
— Нет, этим займутся его люди.
Оками пристально вглядывался вперед.
— Видите, вон там? — Он показал направление. — Нет, левее. Лошади. Он вернулся, и Моэру с ним. Он не стал оставлять ее в Эйдо.
Белые паруса исчезли, и теперь ничто не нарушало ровной плоскости пейзажа, кроме замка Ханеды среди криптомерий. Воздух еще оставался сырым и вязким после ночного ливня. Серые тучи плыли по небу на запад, словно потрепанные воины отступающей армии. Небо за ними было расцвечено полосами бронзово-коричневатых оттенков. Солнце уже скрылось за горизонтом. На землю стремительно опускалась ночь. В Ханеде наблюдалось какое-то движение.
— С этого места, — прошептал Оками, — и пока не доберемся до зарослей, будем пользоваться только знаками, потому что звуки по болоту разносятся очень далеко. А теперь наблюдайте за мной и делайте, как я.
Он стащил с себя плащ и вывернул его на другую сторону. Ронин увидел, что с изнанки плащ отделан черной тканью, и последовал примеру Оками. Потом они намазали грязью лица и тыльные стороны ладоней. Темнота окутала мир.
Вспугнутый ими гусь захлопал крыльями и взмыл в воздух. Хоть звук и не был таким уж громким, но, как и предупреждал Оками, в застывшей тишине болота он разнесся громоподобным рокотом.
Они замерли под сенью высокого клена. Ронин быстро огляделся и увидел, что рисовые поля заканчиваются. За ними тянулись однообразные луга, усеянные невысоким кустарником и редкими рощами кленов. Они уходили в сторону цепи высоких гор на востоке. Из-за дальнего расстояния горный кряж напоминал нарисованный задник сцены, плоский и неживой.
Послышались хлюпающие шаги на тропе через болото. Ронин затаил дыхание. Было так тихо, что он слышал удары собственного сердца, отдающиеся в ушах.
Мимо них, шагах в двенадцати, не больше, прошли четверо воинов в темно-серых одеждах с рисунком из синих колес. Вооружение их составляли мечи и длинные бамбуковые пики с металлическими наконечниками. Держались они осмотрительно и осторожно.
Звуки их шагов замерли в отдалении. Ни Ронин, ни Оками не шелохнулись. Они еще долго стояли неподвижно. Больше всего Ронину хотелось потянуться — тело уже начало затекать. Вода у его ног колыхнулась. Длинная черная змея приподняла голову над землей. В тростниках гудела мошкара, кружившая над зеркальной поверхностью болота. В небе уже поднималась луна, освещая бледным светом верхушки криптомерий. Неуверенно квакнула лягушка, потом еще одна, и еще.
В конце концов они все-таки рискнули пошевелиться и выглянули из-за клена. Прямо перед ними виднелась синяя арка, вход в Ханеду. Густая листва деревьев рассеивала свет от огней замка.
Стараясь не выходить из тростников, они начали осторожно забирать влево, чтобы приблизиться к замку сбоку. При этом они тщательно избегали смотреть на луну и на стоячую воду болота, чтобы не выдать себя отблесками на белках глаз.
Неподалеку уже показались первые криптомерии, под сенью которых ночная тьма была чернее погребального савана.
Неожиданно замолчали лягушки. Ронин с Оками застыли, припав к земле. Ронин положил подбородок на рукоять кинжала. Он вгляделся во мрак между деревьями, но не заметил ничего подозрительного. Никакого движения. Все тихо. Затаившись, они выжидали; пот выступил у них над губами, на лбу. Откуда-то из-за болота донесся крик цапли.
По сигналу Оками они нырнули в тень первых криптомерий.
Здесь свет от замковых фонарей уже достаточно отчетливо просматривался сквозь листву. Скрючившись за стволом дерева, они замерли на мгновение и уже собирались продолжить движение, как вдруг услышали негромкий, но явственный звук треснувшей на земле ветки.
Оками знаком велел Ронину двигаться вправо; сам же исчез во тьме. Ронин выставил перед собой кинжал — острием вперед.
Уловив впереди движение и разглядев человека, осматривавшего заросли, Ронин стремительно и бесшумно подался к нему. Его тело и рука действовали как единое целое. Блеснул короткий клинок, метнувшись по короткой дуге в бок человеку и пронзив ему легкое. Человек не издал ни звука. Подхватив падающее тело, Ронин отволок его в кусты и снова двинулся наискосок вперед, к замку. Навстречу Оками.
Перед ним прошли двое. Он дал им уйти, потому что не был уверен, что успеет уложить их обоих, прежде чем хоть один вскрикнет. Сейчас тишина имела первостепенное значение.
Над головой послышалось потрескивание. В кроне криптомерии, среди переплетения ветвей, зашебуршились летучие мыши. Ронин начал уже разворот, готовясь нанести удар левым локтем, но тут на него кто-то прыгнул. Сильные руки схватили его за горло, вжимая большие пальцы в гортань. Ронин ударил нападавшего в бок, под мышкой. Послышался сдавленный стон, но хватка не ослабла. Они упали на землю. Ронин просунул сведенные вместе руки между руками противника, основанием ладони двинул ему по носу и тут же нанес удар с другой стороны. Хрустнул раздробленный хрящ, из разрыва на коже хлынула кровь. Но пальцы напавшего продолжали сдавливать Ронину горло, и тот начал задыхаться.
Но теперь он оказался сверху — пусть всего лишь на мгновение, но ему хватило и этого. Резким движением он вонзил противнику в солнечное сплетение прижатые друг к другу пальцы правой руки, пропоровшие кожу и плоть, и рванул руку вверх. Нападавший испустил дух, не успев даже рта раскрыть.
Откатившись в сторону, Ронин поднялся и направился дальше. Вскоре он наткнулся на Оками, стоявшего над еще теплым трупом. Уже вместе они направились к замку.
Высокие каменные стены. Слишком высокие. Они скорчились в их густой тени.
— Вдвоем нам туда не перебраться, — прошептал Ронин.
— Это верно, но если вы прыгнете с моих плеч, то, пожалуй, достанете до верха.
Ронин хотел что-то сказать, но Оками ему не дал.
— Другого способа нет.
Спрыгнув на землю, он бесшумно скользнул в направлении главного здания замка. Путь казался свободным, но Ронин все-таки предпочитал держаться в непроглядной тени шелестящих на ночном ветру деревьев. Уже возле здания он на мгновение замешкался, а потом сжался, как пружина, и с места допрыгнул до толстой ветки. Повиснув на ней на руках, он начал раскачиваться, чтобы набрать инерцию. Извернувшись, Ронин поджал колени к груди и уселся на ветку. Тщательно выбирая путь, он добрался на ощупь до верхних ветвей криптомерии и осторожно перелез на покрытую черепицей крышу.
Он прополз несколько метров по наклонной крыше до ближайшего окна под свесом, лег на живот и насколько возможно ближе подобрался к окну. Какое-то время он вообще не шевелился, прислушиваясь. Над головой хлопали крылья летучих мышей. Изнутри не доносилось ни звука. Свет там не горел.
Свесившись с крыши, Ронин влез в окно и беззвучно забрался внутрь.
Он оказался в скудно обставленной комнате. Темное дерево. Татами на полу. Зыбкий луч лунного света освещал ширму, разрисованную в бледно-зеленых и коричневых тонах: две женщины в халатах с развернутыми веерами. Белые лица, замысловатые прически. За ширмой не было ничего, только низенький стул с перекинутым через спинку рулоном перламутрового шелка.
Ронин бесшумно пробрался к деревянной двери, прислушался, приложив к ней ухо, а потом очень медленно приоткрыл ее. Показался кусок коридора, освещенного тростниковыми факелами. Почти напротив дверного проема виднелись резные деревянные перила.
Тихонько потрескивали зажженные факелы.
Он рискнул приоткрыть дверь пошире и осторожно выбрался в коридор. Перила тянулись по всей длине коридора, который, как понял Ронин, был чем-то вроде внутреннего балкона, куда выходили двери комнат на этом этаже.
Слева располагалась широкая лестница на первый этаж. Ронин замер. До него донеслись приглушенные звуки удаляющихся шагов. Короткий звон металлических чайников, чей-то сердитый голос. Чадили, догорая, ближние к нему факелы.
Справа внутренний край балкона переходил в винтовую каменную лестницу. Сверху лился темно-желтый свет, рассеянный и какой-то рыхлый, но на вид однородный, как расплавленный металл.
Долгое время Ронин стоял неподвижно, впитывая все звуки, пока они не смешались у него в сознании в единое целое и не вошли в его плоть; теперь он сможет моментально уловить любое существенное изменение в общем звуковом фоне замка, даже если его внимание будет сосредоточено на чем-то другом.
Потом он направился в сторону падающего света.
Миновав еще две двери, непохожие на ту, из которой он вышел, Ронин добрался до лестницы и пошел по ступеням наверх, высоко поднимая ноги и стараясь ступать на пятки. Поднимался он медленно, останавливаясь через каждые два-три шага и прислушиваясь. По мере подъема свет становился ярче и плотнее, окрашивая пространство и изливаясь на Ронина желтым потоком. Ощущение было такое, что его омывают волны какого-то фантастического моря. Он остановился. Голоса. Неразборчивые. Вроде бы двое беседовали друг с другом. Он поднялся еще выше.
Наконец он вышел к нише, открывавшейся в обширное круглое помещение с высокой наклонной стеной, которая конусом уходила вверх, к ночному небу. Высота этой стены поражала воображение. За пределами ее нижней части виднелись покачивающиеся на ветру верхушки криптомерий. Темные и почему-то ужасно далекие, они, казалось, обозначают границу земных владений.
В центре комнаты располагался огромный овальный очаг из глазурованного кирпича, без следов копоти или сажи. В очаге горел огонь, от которого и исходил жидкий свет. Желтые языки пламени, пляшущие над кирпичами, поразили Ронина своим чистейшим оттенком без примеси оранжевого или голубого.
В округлой стене отворилась дверь, и Ронин распластался в тени своей ниши. В дверном проеме возникла высокая фигура. Никуму. Его кожа казалась желтой, оттенка старой слоновой кости. Его продолговатые миндалевидные глаза блеснули отраженным светом, потом опять сделались матовыми, и Ронин на мгновение мысленно вернулся в тот шаангсейский переулок, где стал свидетелем непонятного нападения и где потом забрал цепочку с серебряной сакурой с тела убитого буджуна. В его памяти всплыл еще один образ — лицо Борроса во время их первой встречи в недрах Фригольда. Эти картины, символы смерти и человеческой слабости, на миг затмили собою явь. Ронин моргнул, приходя в себя, и принялся с любопытством наблюдать за происходящим.
Никуму, одетый в длинный шелковый халат цвета ночной синевы с узором из пепельно-серых колес, прошел через комнату и встал как будто в раздумье у очага. Где, интересно, второй собеседник, подумал Ронин. Не мог же Никуму разговаривать с самим собой.
Никуму встрепенулся, выходя из задумчивости, и направился к ящичку с резной стенкой. Казалось, он не идет, а плывет над полом. Из ящичка он извлек свиток рисовой бумаги.
Ронин заметил какое-то движение у стены напротив. На каменный пол, на очаг упала длинная и худая тень. В первый момент впечатление было такое, что это тень Никуму таинственным образом отделилась от своего хозяина. Но тут в поле зрения показался и сам обладатель тени. Он стоял к Ронину спиной, так что он смог разглядеть только продолговатый и узкий череп, широкие плечи, подчеркнутые жесткими подкладными плечами халата, и узкие бедра. Его черный халат был перехвачен широким поясом с двумя мечами в ножнах, причем меч на левом бедре был таким длинным, что при ходьбе волочился по полу.
— Вряд ли вы говорили серьезно, когда заявили, что вы твердо намерены это сделать, — сказал он.
Никуму не шелохнулся; не поднимая головы, он продолжал изучать свиток. Лишь участившаяся пульсация артерии у него на шее указала на то, что он слышал слова собеседника.
— Определенные силы уже приведены в движение, и вам об этом известно, — продолжал человек в черном. — Тот, кто…
— Что вам от меня нужно? — Никуму резко развернулся лицом к собеседнику. В контрастном свете от очага, оттенявшем все линии, его черты сделались жесткими.
— Я? Чего я хочу от вас? — Человек в черном покачал головой. — Вы — буджун. Ваша душа сама знает, что надо сделать… как и ее душа. Да, она не может говорить. Но это вряд ли ее остановит. Она найдет способ, Никуму, если уже не нашла.
— И поэтому надо ее посадить под замок? А заодно — и меня?
— Он появится, Никуму, этот человек…
— Тогда я его убью!
— Глупец! Вы даже не понимаете, что эта тварь с вами сделала. Разве до вас до сих пор не дошло, что, когда он придет, вам придется убить их обоих?
— Нет! — быстро сказал Никуму, но глаза у него уже были мертвы. — Нет.
Ронин начал бесшумно спускаться по лестнице, удаляясь от желтого моря света, от возбужденного спора. Он почти ничего не понял из этого разговора, но одно было ясно: Моэру в замке, и ее держат здесь на положении пленницы.
На балконе, выходившем на первый этаж, он задержался, давая глазам привыкнуть к менее яркому свету. Услышав грохот на нижней лестнице, на противоположном конце балкона, он отступил в тень под винтовой лестницей.
На балкон поднялись двое вооруженных людей, один из них нес поднос с едой и питьем. Они направились в его сторону, и он было решил, что они собираются подниматься по винтовой лестнице, но вместо этого они повернули в сторону и открыли замок на одной из дверей в стене напротив балконных перил.
Ронин вытянул шею, стараясь рассмотреть тускло освещенную комнату с явно избыточной обстановкой. Многочисленные стулья и беспорядочно разбросанные свернутые ковры производили странное впечатление. Как будто кто-то решил впихнуть в это достаточно тесное пространство накопившийся за много лет скарб.
На стуле перед высоким, закрытым шторами окном неподвижно сидела хрупкая фигурка, едва различимая в тусклом свете мигающего масляного светильника. Полоска белого лица, словно серп молодой луны. Длинные темные волосы. Она даже не шелохнулась при появлении стражников, лишь подняла бездонные, как море, глаза.
Ронин вылетел из своего укрытия. Замахнувшись левой рукой, он ударил первого сбоку по шее. Рот у охранника непроизвольно открылся, когда перчатка из шкуры Маккона пробила мышцы и связки. Зубы сомкнулись, откусив кончик языка. Поток крови. Обмякшее тело еще не успело упасть на пол, а Ронин уже проскочил мимо, выхватив на ходу меч, и налетел на второго стражника. Поднос с едой и питьем отлетел в сторону. Охранник только и успел, что распахнуть в изумлении глаза. Отрубленная голова покатилась по полу и остановилась, наткнувшись на ногу Моэру.
Она не сказала ни слова.
Лишь подняла к Ронину тонкое изысканное лицо, но лицо оставалось бесстрастным. Она смотрела в его бесцветные глаза с каким-то отстраненным любопытством. Он опустился на колени перед ее наготой. Перед ее трепетной незащищенностью.
— Моэру, — проговорил он настойчиво. — Ты узнаешь меня? Наверняка…
По ночному небу плыла луна под аккомпанемент стрекотания цикад. Ветер стучал ветками криптомерии в закрытое окно у них за спиной.
На мгновение его охватила паника, как бывает, когда тебе к горлу подставят нож.
Потом он закрыл глаза и прислушался к пустоте.
— Моэру.
Он едва шевельнул губами.
Чернота, жемчужные разводы.
— Моэру.
Бескрайнее небо с разбросанными по нему бледно-лиловыми закатными облаками.
— Моэру.
Ломаная линия, гусиная стая над золотисто-голубым болотом. Жалобные крики — в лицо небесам, в сторону низкого горизонта.
Ветер сорвал с его губ подавляемый крик, подхватил этот крик и унес его ввысь, все дальше и дальше под куполом темных небес, а потом он оказался во мраке, за гранью заката, за последним пределом знакомого мира.
Ему осталось лишь прикосновение.
И он воспользовался тем единственным, что осталось. Следуя за свербящим покалыванием в кончиках пальцев. На ощупь — вперед, пока покалывание не ослабло. Направо. Нет. Поворот налево. Теперь сильнее. Вперед. Не идти, не бежать. Просто двигаться.
Странное покалывание поднялось вверх по рукам, пока они не онемели до плеч. Слух отключился. Плечевые суставы вибрировали. Вперед. И он вдруг услышал… Музыка. Ужасная, плавная, громкая музыка, больно бьющая по ушам. Зубы стучат. Тело колотит в ознобе. Музыка наполняет мир, его грудь разрывается от ее мощи. Голова поднимается. Глаза моргают — сами по себе. Он абсолютно неподвижен в подвижном мире. Сквозь грохот басов, мимо тяжелых струнных аккордов.
Смотрит.
Обсидиановый блеск. Черные горы вонзаются в черное небо, усыпанное черными звездами. Здесь нет горизонта.
Он видит Моэру в цепях, прикованную к черным вершинам. Не Моэру, понимает он. Ее сущность. Ее душа вопиет в муках: жестокая песнь. Музыка боли и отчаяния.
Глаза у нее расширяются в изумлении. Она видит его, зовет. Ужасная музыка нарастает, и тело его содрогается. Она бьется на грубом камне вершин.
Небо волнуется, точно море. Три черных солнца восходят тихой погребальной процессией. Утесы шевелятся, словно дышат. И здесь, где душа ее обнажена перед ним в своих невообразимых мучениях, он замечает в ее глазах проблеск узнавания. Музыка стрелами входит в него, впитывается в его тело. Мышцы его напрягаются, протестуют. Он не может заставить себя даже пошевелиться.
Она стонет. Ей больно. Кожа блестит от пота. Черные цепи крепко держат ее, распростертую в центре мира. Ее мира.
Он поднимает меч. Длинный клинок сверкает широкой дугой, и, когда меч приближается к ее белому телу, музыка затихает. Звуки ее отражаются от заточенного лезвия и уходят прочь, в черноту, взвихренным полумесяцем темной энергии. Его затуманенный разум теперь проясняется.
Он идет к ней.
К краю черных вершин, которые корчатся, извиваются, напоминая сейчас не сверкающий обсидиан, а чешуйчатую шкуру. Кошмарная тварь крепко сжимает ее, черная, страшная… Чудовище хочет смерти. Его смерти. Но Ронина ничто уже не остановит, любовь пульсирует в нем, вливает в него силу, умноженную его страхом, и он снова и снова наносит удары, и его длинный клинок поет свою неистовую песнь рядом с ее белым телом. Два пятна отражения во мраке бездны. Песнь смерти.
Вершины крошатся, содрогается воздух, поток горячей и липкой слизи — и она падает ему на руки, а меч поет гимн разрушения…
Ронин, иди…
Черные бакланы устремляются к черным солнцам. Совсем рядом взрываются черные звезды…
…уходи, сейчас же. О, Ронин…
Влага у него на щеке. Клинок, живущий своей, независимой жизнью, взывает к отмщению. Горячий ветер становится ледяным, и холод сковывает пространство, когда три черных солнца сливаются воедино, сотрясаясь от взрыва, направленного внутрь…
Сейчас же, сейчас же…
И, совершив мощный прыжок, Ронин уносит ее прочь, в зеленый туман, в свет прозрачного моря, сияющего в глубине ее глаз, в густой воздух Ханеды.
Она прерывисто дышит в его могучих руках, когда его губы ищут ее губы. Он открывает глаза и накрывает ее обнаженное тело своим черным плащом. Она отворачивается и выдыхает:
— Быстрее. Он знает, и он идет. Забери меня отсюда.
Вложив меч в ножны, он бросился к окну, прижимая ее к себе. Ставни заперты на замок. Он схватил ее за руку и потащил прочь из комнаты. На полутемный балкон. Сверху доносятся чье-то отрывистое восклицание и приглушенный рокот. Низкий голос Никуму. Мимо закрытых дверей. Грохот башмаков. В дверь, из которой он вышел в первый раз. Шум погони уже приближается.
Через тускло освещенную комнату, к распахнутому окну. Глоток свежего ночного воздуха, как пьянящий эликсир. Вытолкнуть ее на раскидистые ветви криптомерии. Потом назад — в комнату.
В дверь, сверкая глазами, ворвался Никуму с обнаженным мечом.
— Где она?
— Возможно, вы начинаете понимать. — Второй голос снаружи, с балкона.
— Кто вас звал! — зарычал Никуму.
— Вы, конечно, — спокойный и ровный ответ.
Похоже, это еще больше разъярило Никуму, и он бросился на Ронина.
— Я убью вас за это! Она моя!
Рослый Никуму занес над Ронином длинный буджунский клинок. Он был стремителен и напорист, но далеко не безрассуден. Ронин, почуяв опасность, отразил удар, одновременно забрасывая обе ноги за оконную раму. У него за спиной дерево разлетелось в щепки, и он метнулся в противоположную сторону. Другой удар пришелся поперек окна. Камень рассыпался облаком пыли в тот самый момент, когда Ронин прыгнул и, проскользив вдоль толстой ветки, спустился по корявому стволу на землю, где его ждала Моэру.
Он запрокинул голову, вглядываясь во тьму. Фигура Никуму в окне. Зыбкий двойник — его тень. Шелковый халат развевается на ветру. Казалось, там стоит не человек, а призрак.
— Я буду травить вас, как диких зверей! — истошно завопил он, широко размахнувшись мечом.
Сверху посыпались куски камня и дерева.
— Считайте, что вы уже оба покойники! Да, покойники!
Когда они бежали сквозь заросли криптомерий, до них донесся какой-то звук. Ронин так и не смог определить, что это было: взрывы дикого хохота или отголоски рыданий.
* * *
— Теперь нам некуда больше идти, — тихо сказал Оками. — Одно только место осталось…
— Да. И я даже знаю какое.
В голосе Ронина звучала усталость.
— Неужели?
Удивление на лице буджуна.
— Замок куншина.
Они сидели под навесом террасы придорожной тихой гостиницы, выстроенной на высоких пурпурных утесах, устремленных крутыми обрывами, словно в безумной попытке самоубийства, в сторону бурных волн далеко внизу. Холодный свет полумесяца превращал пену прибоя в яркие бриллиантовые блестки, а водяную пыль — в платиновые кружева.
Ветер с моря раскачивал темные сосны, напоминавшие дремлющих стражей, чуть выше по склону и справа. Слева вниз уходили утесы, заросшие густым кустарником.
Где-то проухала снежная сова.
Перед ними на вымощенной камнем террасе, покрытой татами, стоял низкий лакированный столике дымящимся чаем. Наполовину пустые чашки. Тарелочка с рисовым печеньем. Оками с лицом, выражающим полную безмятежность, сидел напротив Ронина. Моэру осталась в комнате, забывшись тяжелым сном.
— Боюсь, — заметил Оками, — наше маленькое предприятие было большой ошибкой. Теперь Никуму наш враг, а в Эйдо трудно найти более могущественного, свирепого и безжалостного противника.
— Он держал ее против воли. Если б вы видели…
— Она все же его жена, Ронин…
— Разве это лишает ее права на свою собственную жизнь? Или такие у вас обычаи — дивные традиции буджунов?
Набежавшие тучи ненадолго закрыли луну. Когда ее мраморный свет засиял опять, Оками спокойно проговорил:
— Друг мой, я понимаю…
— Прошу прощения за грубость, Оками, но должен сказать вам, что вы никогда не поймете. Мы с Моэру связаны между собой какими-то странными узами. Я сам еще не разобрался какими.
Помолчав, Ронин добавил:
— Она может со мной говорить.
Оками долго смотрел на море, потом налил еще чаю — себе и Ронину. Держа фарфоровую чашечку кончиками пальцев, он медленно отхлебнул ароматной горячей жидкости.
— Нет смысла жалобиться и стенать, когда что-то уже случилось, — произнес он негромко. — Простите меня, друг мой. Как бы там ни было, она с нами. Такова наша карма.
— Так что насчет куншина?
— Во-первых, — заговорил Оками деловитым тоном, — он единственный из буджунов на Ама-но-мори, способный отразить все возможные поползновения со стороны Никуму. А Никуму будет мстить…
— Но Никуму — его друг.
— Позвольте мне закончить, пожалуйста. Нас еще может спасти свиток дор-Сефрита, поскольку, как говорят, Азуки-иро обладает кое-какими древними знаниями, оставшимися после воинов-магов. Если это действительно настолько важно, тогда у него не останется выбора. Ему просто придется поумерить пыл Никуму. Во всяком случае, до принятия какого-либо решения.
— А потом?
Оками пожал плечами.
— Когда он увидит, что вы принесли, он, возможно, начнет понимать, что зло подобралось так близко к нему, что уже отравляет и Ама-но-мори. Сасори необходимо уничтожить. Если Никуму их нынешний вождь, значит, он умрет первым.
Оками ушел к себе в комнату, а Ронин еще долго сидел на террасе, вслушиваясь в бесконечный грохот прибоя, накатывающего на пурпурные утесы. В ветвях сосен запутался серый туман, похожий на рыхлую паутину, сотканную каким-то гигантским пауком. Звезд уже не было видно. Луна зашла еще раньше.
Он вглядывался в туман, в самые сокровенные недра своей души. И он дал клятву. Его никто не остановит. Никто. Ни Никуму. Ни Маккон. Ни даже сам Дольмен. Он завершит свою миссию, ради которой и появился здесь, поскольку у него тоже есть карма, слишком сильная, чтобы ею можно было пренебречь. Пока у него еще нет ясного представления о том, что именно он будет делать. Но это уже не имело значения. В глубине души он понимал, что судьба всего мира не будет — не может — решаться Никуму или куншином. Она не может зависеть от воли какого-то одного человека. Человеческая жизнь определяется множеством обстоятельств, то же самое происходит и с ходом истории. Сам он — воин. Боевые линии в его жизни расчерчены давно и закалены кровью, болью и утратами. Такое не забывается. Мороз его забери, Никуму! И куншина… если он примет решение выступить против него. И еще одно понял Ронин этой ночью: он приближается к водовороту событий, к которым стремился всю жизнь. То, что должно случиться, случится уже очень скоро.
А что с Моэру?
Ее прохладные пальцы легли ему на шею.
Она присела рядом с ним.
— Свободна.
Ее голос ласкал его слух.
— Ты услышала, что я думаю о тебе?
Она запрокинула голову, радостно рассмеялась.
— Это словно второе рождение.
Яркий свет переливчатой зари, уже разгорающейся за устремленной ввысь вершиной Фудзивары — тонким мазком кисти по небу, мягко оттенял ее черты. Сероватая зелень и дымка. Темная прядь упала ей на глаза, и Моэру подняла тонкую руку, чтобы убрать с лица волосы. Он остановил ее. Их пальцы сплелись.
— Как? — спросил он.
— Пойдем со мной.
Они поднялись и прошли по татами к ограждению террасы. Она замерла, положив руки на деревянные перила. Ронин встал рядом. Они соприкасались плечами и бедрами.
— Мы расстались, когда я во время атаки сошла с «Киоку». Был шторм, который не был штормом. — Она повернулась к нему; ее длинные волосы разметались по ветру. — Что это было?
— Не знаю. — Он не был уверен, что это правда. В голове все смешалось.
— Смотри, — показала она. — Заря.
Одинокие сосны, чернеющие на фоне разорванного розового горизонта. Величественная Фудзивара. Панорама Ама-но-мори.
Ее лицо было бледно-розовым в утреннем тумане. Развевающийся на ветру шелковый халат, который купил ей Оками в гостинице, резко контрастировал с ее черными волосами. Держа руку у шеи, она поглаживала миниатюрный серебряный цветок на цепочке.
— Я вернулась сюда из-за сакуры, что ты мне подарил.
Утренний ветер трепал ее волосы, и теперь Ронин видел ее как бы сквозь переменчивые кружева, закрывавшие ей щеки и полные губы.
— Я так обрадовалась, когда они появились. Волны уже отнесли «Киоку» далеко от нас. Мы сражались, но нас было мало. Моряки погибали один за другим. В конце концов я осталась одна.
В отдалении послышался крик. Они повернулись в ту сторону. Над пенящимися волнами уже появились первые чайки, низко летавшие над отливавшим медью морем в поисках пищи. Свет восходящего солнца окрасил их белое оперение в розовый.
— Эту сакуру сделал Никуму и придал ей особые свойства. Когда в совете решили заслать буджуна на континент человека, куншин настоял на том, чтобы ему дали какой-нибудь тайный знак с тем, чтобы в случае чего — если с ним что-то случится на континенте, если кто-то начнет ему противодействовать, — об этом узнали бы на Ама-но-мори. Никуму придумал сакуру. Он знал, что буджун не расстанется с ней, пока жив. Они знали, что их человек погиб, но не знали, кто завладел сакурой. Никуму решил, что тот, у кого теперь сакура, наверняка имеет отношение к смерти буджуна. Поэтому он пришел за мной.
Наблюдая за рассветом, Ронин мысленно вернулся в тот день, когда для него потемнело солнце над обсидиановым кораблем, уносившим Моэру.
— Значит, он прилетел.
Она повернулась к нему; в глазах ее промелькнул испуг.
— Да, но откуда ты знаешь?
— Я видел… кое-что, вдалеке.
— Их принесли боевые кони древнего Ама-но-мори… его и еще трех воинов.
— И они вчетвером разгромили целый корабль?
— Разве они не буджуны?
— Ты все еще носишь сакуру. Он узнает, где мы.
— Нет, когда я вернулась на Ама-но-мори, она перестала действовать как маяк.
— Почему ты ее не сняла?
— Это твой подарок.
— Ты его жена?
Она и бровью не повела.
— Я уверена, что ты знаешь. Оками наверняка сказал.
— Хочу услышать это от тебя.
— Я — жена Никуму.
— Тогда что ты делала на континенте человека?
Она повернулась спиной к свету, что разливался по склонам Фудзивары. Ее стройное тело, прижавшееся к нему, затрепетало.
— Как ты меня освободил?
Шепот, ласка, тепло. Что еще крылось за этим вопросом?
— А почему твой супруг держал тебя взаперти?
— Супруги, как и все люди, могут быть добрыми или злыми.
Ее бездонные глаза стремительным водоворотом увлекали его на дно.
— А Никуму какой?
Глаза на мгновение закрылись, преградив ему доступ к взвихренной вселенной. Когда она снова открыла глаза, они блестели от слез.
— Ни то ни другое. Все вместе.
— Загадки.
Он смотрел, как у нее по щекам медленно катятся слезы. Достаточно протянуть руку, коснуться… Только не станет он этого делать. Пока.
— Он боится.
— Чего?
Слезинка на мгновение задержалась на высокой скуле, вздрогнула и упала на татами.
— Он больше не тот Никуму. Что-то…
— Почему он стал вождем сасори?
Она покачала головой:
— Не знаю. Пока меня не было, с ним что-то произошло, что-то ужасное.
— Выходит, Оками прав — он предался злу.
— Нет-нет. — Она схватила его за руки. — Просто он изменился. Иногда… иногда он такой же, как раньше, а потом вдруг становится… как сумасшедший.
Радостные крики чаек. Нашли, наверное, пищу. Небольшими плотными стайками они скользили над самой водой и безостановочно галдели.
— Ронин, я опасаюсь, что он одержим.
— Чем?
— Сейчас при нем постоянно находится один человек…
— Да. Я видел его. Но у него нету власти Никуму.
— Ты должен кое-что сделать.
— Я? — Он чуть не рассмеялся ей в лицо. — Мороз меня побери, Моэру, этот человек жаждет моей смерти! А ты просишь меня помочь ему?!
— Только если ты можешь.
— Что за бред!
Ее лицо приблизилось к нему, на длинных ресницах застыла влага.
— Как ты меня освободил?
— Я не задумался об этом.
— Да, конечно. Если бы ты задумался, хоть на миг, у тебя ничего бы не вышло. Никуму убил бы тебя.
— Что-то злое таится в Ханеде, Моэру.
— Да, но это не Никуму. Он — человек, а не какой-нибудь монстр.
— Но то, что он сделал с тобой…
— Ронин, ты должен ему помочь!
— Но я не знаю…
— Только ты, и никто другой, смог меня освободить…
— То, о чем ты меня просишь, это — безумие…
— Только твоя сила…
— Холод его побери…
— Он сделал меня немой…
— …нет!
— …чтобы я не могла говорить с тобой.
Даже сквозь туманную пелену ливня, низвергающегося с алого неба в сполохах молний, он разглядел эту исполинскую сосну. Расположенные в несколько ярусов ветви выдавались вперед, словно руки, протянутые к небесам. Они раскачивались под порывами ветра, под струями дождя. Рядом с этим величественным и могучим деревом даже каменный замок куншина казался игрушечным.
Они стояли у рва, кутаясь в промокшие насквозь плащи. С полей их плетеных шляп ручьями лилась вода. Мост из глины и дерева протянулся дугой надо рвом, обозначавшим границу владений вождя буджунов.
У них за спиной остались размытые очертания восточных окраин Эйдо. У последнего клена, там, где дорога делала широкий поворот, под утлой защитой небольшой деревянной станции сидела старуха, которая продавала чай утомившимся путникам.
— Откуда нам знать, что он здесь? — спросил Ронин.
— Он не в Эйдо, — убежденно ответил Оками.
— А может быть, он в горах?
— Он здесь, друг мой.
Они ступили на земляной мост, раскисший от дождя. Вдалеке слышались зловещие раскаты грома. Поверхность воды под мостом покрылась рябью от дождя.
Как только они миновали мост, их встретили стражники из гвардии куншина и повели прямо в замок.
Их проводили в небольшую прихожую, где миниатюрная женщина молча показала Ронину с Оками на ванны с горячей водой и на комплекты сухой чистой одежды, после чего увела Моэру в соседнюю комнату.
Вскоре Моэру вышла к ним. Теперь все трое были одеты в халаты с вышитым рисунком из колес, символом дайме. Ронин отметил, что им дали одежду цветов Оками.
В помещение вошли двое вооруженных буджунов в расшитых золотом халатах с широкими подкладными плечами и проводили их по широкой каменной лестнице — мимо бесчисленных вооруженных буджунов, по просторному коридору, больше похожему на галерею, и наконец через высокие двойные двери темного полированного дерева. Посередине каждой из створок тускло поблескивали медные знаки-буквы, заключенные в круг.
Войдя в комнату, они снова услышали шум дождя. Ронин бросил взгляд на окна, распахнутые навстречу грозе. За ними покачивались на ветру массивные нижние ветви громадной сосны. Дождинки текли по стеклу холодными слезами, падали на татами.
Помещение средних размеров. Совсем не такой представлял себе Ронин резиденцию куншина. Стульев здесь не было — только простой табурет перед большим деревянным столом у дальней стены. В центре комнаты — несколько низеньких столиков, в кажущемся беспорядке расставленных на татами. Буджуны бесшумно вышли.
Ронин смотрел на грозу за окнами.
Они разулись.
— Кого-то он мне напоминает, — послышался низкий голос.
Ронин поднял глаза. Его взгляд уперся в лицо Азуки-иро. Он не совсем понимал, о ком говорит куншин.
— Это существенно..
Это был человек с аккуратной ладной головой, словно кто-то — какой-нибудь мастер-ваятель — усердно, с любовью лепил ее, добиваясь немыслимого совершенства. Тонкий, подтянутый. Ни грамма избыточной плоти. Лицо достаточно плоское, как у Оками. Желтоватая кожа. Продолговатые миндалевидные глаза. Широкий приплюснутый нос. Густые черные волосы, заплетенные в косу, отсвечивали глянцем. Широкая шея, массивная грудь. Осанка воина: уверенная, но без высокомерия. Под расшитым золотом халатом угадывались рельефные мышцы.
— Чужестранец? — спросил Азуки-иро.
Он на мгновение склонил голову, словно задумавшись над решением какой-то важной задачи.
— Я пока не уверен, — куншин не сводил взгляда с лица Ронина. — Где ты его нашел?
Лишь слегка изменившийся тон показал, к кому именно он обращается.
— На Кисокайдо, — отозвался Оками.
— Кто вы? — повернулся к нему Ронин. — Вы мне лгали?
Лицо Оками оставалось безмятежным. В его ясных глазах не было и намека на какой-то обман.
— Я сказал вам лишь то, что вам следовало знать. Я не обманул ничьего доверия. Я привел вас сюда, к куншину. Разве вы не для того появились на Ама-но-мори? Вы получили, чего добивались. Зачем требовать больше, чем необходимо?
— Я хочу знать правду.
— Правду запишет история, — философски заметил Азуки-иро.
Ронин отступил на шаг, выхватив меч. Короткий шорох. Змея, сбрасывающая отмершую кожу.
— Время, когда я брал только то, что мне соизволят дать, ушло навсегда. Я хочу получить ответы и получу их сейчас.
Глаза у Азуки-иро опасно сузились, мышцы напряглись.
— Стойте!
Это был голос Моэру, и на безучастном лице куншина впервые отразилось какое-то чувство: удивление.
— Моэру, — прошептал он. — Что…
— Это был Ронин.
Куншин отвел взгляд.
— Был, — произнес он.
Золотое шитье колыхнулось, и он протянул сильную руку:
— Свиток. Можно взглянуть?
Нацеленное острие меча нетерпеливо застыло. Что-то промелькнуло в глазах Оками, неясное, странное — что? Ради этого мгновения Ронин прошел долгий путь. Наверное, больше никто в этом мире не заходил так далеко. Столько раз он сражался с врагами. С врагами знакомыми и неведомыми. Потерял стольких друзей. Наблюдал за медленным проявлением предельного зла. Ощущал тьму — вторжение в мир устрашающих сил. Ради этого мгновения. И все же теперь он колебался. Здесь, в конце своих странствий, он вдруг испытал неуверенность, раньше ему не свойственную. Прямо перед острием меча — открытая ладонь Азуки-иро. Чему верить? Ронин скользнул взглядом по лицам. Посмотрел в глаза Оками. Моэру. Он ничего не увидел там. Он заранее знал, что так будет. Рефлекс. Защитный инстинкт. Но ни тот, ни другой не дадут ответа.
Глядя в глаза Азуки-иро, он медленно перевернул меч, отвинтил рукоять, извлек свиток дор-Сефрита и подал его куншину.
Азуки-иро, ни слова не говоря, подошел к окну, поближе к свету. Дождь прекратился, но с огромной сосны все еще падали капли-слезинки. Комната вдруг наполнилась звуками — где-то запел соловей.
Куншин долго изучал свиток, сосредоточенно морща лоб. Потом он вернулся туда, где его ждали Ронин, Оками и Моэру. Ронин резко выдохнул воздух. Пока Азуки-иро читал свиток, он стоял, затаив дыхание. Вот оно. Наконец — итог. Спасение для человека.
Куншин обратился ко всем:
— Воистину время пришло.
Оками с шумом вдохнул.
— Мысль дор-Сефрита дошла до нас сквозь пространство и время, минуя небытие, то есть смерть. Ибо колесо вселенской силы сделало очередной поворот, и он возвращается.
Взгляд куншина остановился на Ронине.
— Ронин, я не знаю, откуда вы появились и какой вы проделали путь. Сейчас это уже не имеет значения. Возвращение этого свитка на Ама-но-мори знаменует собой окончание цикла — для всех людей, в том числе и для буджунов. Грядет новая эра. Что она принесет, определенно никто не скажет. Но одно несомненно: мир, каким мы его знаем, больше таким не будет. Те из нас, кто сумеет выжить, увидят зарю новой эры, хотя для многих, боюсь, это будет концом.
Он пожал плечами.
— Такова наша карма. Кай-фен все-таки разразился, и никто в этом мире не останется в стороне, ибо это Последняя Битва. Смерть — это ничто для буджуна. Нас волнует лишь стиль нашей смерти. Так нас запомнит история. Нас всех. Как героев и как людей.
Азуки-иро протянул свиток Ронину, но отпустил не сразу, а задержал на пару мгновений у себя в руке.
— Теперь, Ронин, вам будет последнее поручение, и на том завершится ваше долгое путешествие. Осталось пройти только малую часть пути, но вы должны понимать, что это и самая опасная часть, ибо вам хорошо известно, что произойдет, если вас постигнет неудача.
Его черные глаза сверкнули.
— Возьмите свиток дор-Сефрита.
Рука его опустилась.
— Возьмите его и передайте тому человеку, который сумеет расшифровать его до конца. Тому единственному человеку, который способен исполнить все указания дор-Сефрита. Отдайте свиток Никуму.
БУДЖУН
Неторопливо и осторожно ночь подкрадывалась к болотам. Стая коричнево-белых гусей растянулась изломанной линией на фоне алого неба, потом исчезла из виду в той стороне, где чернела отвесная вершина далекой Фудзивары. После яростного вечернего ливня все погрузилось в безмолвие, и лишь безбрежные луга на востоке шелестели под легким ветерком.
Снова заквакали притихшие было лягушки, напуганные грозой. В высоких тростниках на краю болота мелькали светлячки.
Из-под грязной стоячей воды вынырнула саламандра и забралась на крошечный зеленый островок — лист кувшинки. Она наблюдала за беспорядочным полетом светлячков, завороженная узорами холодных мигающих огоньков.
На западе, в Ханеде, царила полная тишина.
Даже цикады хранили молчание. Из скопления криптомерий вылетел, хлопая крыльями, черный дрозд. Поднялся высоко в алое небо над рисовыми полями и направился в сторону открытых лугов.
— Я ничего не могу поделать, — сказал Азуки-иро, когда они остались одни.
— Но вы же куншин…
— Прежде всего я буджун. Это существенное обстоятельство. В другой ситуации я бы и слушать его не стал, а если бы ему достало глупости попросить меня, я бы просто его убил.
— Но он — ваш сильнейший союзник.
— Вы должны понять, Ронин. Если бы волею обстоятельств он был вынужден просить меня, он бы потерял лицо. В глазах всего Эйдо, Ама-но-мори и в моих глазах тоже.
— То есть его положение значения не имеет.
— Никакого.
— Что же тогда?
— История, — торжественно произнес Азуки-иро. — Кодекс, по которому мы живем. Эти узы ничто не нарушит. Никто против них не устоит. Мы скорее примем смерть от своей же руки, чем согласимся это потерять.
Они стояли у окна. Снова начался дождь. Капли летели куншину в лицо.
— Решение, которое сейчас принимает Никуму, он должен принять самостоятельно. Пожалуй, никто из буджунов — и я в том числе — не скажет вам, чем Никуму занимался в Ханеде в последнее время. Он обладает магическими способностями, он действительно сильный колдун. Никуму сумел спасти Моэру там, куда не добрался бы ни один человек с Ама-но-мори.
— А что вы скажете о сасори?
— Они у нас под наблюдением. Мы не боимся их злобы. Нам нечего бояться. Но участие в этом Никуму возбуждает мое любопытство.
— Почему?
— Это на него не похоже, и к тому же сасори — какое-то слишком уж неуклюжее проявление зла.
— Иронизируете?
— Ронин, вы проделали долгий путь, и все это исключительно для того, чтобы отдать свиток дор-Сефрита в нужные руки. Вы можете мне объяснить почему? Что вас заставило это сделать? Вы смогли бы отречься от обязательств, принятых вами по доброй воле? Вы не боитесь его, я уверен. И все же теперь все зависит от вас: вы вольны покинуть этот остров в любой момент. Никто вас не остановит. Буджуны не держат пленников…
— Но Никуму…
— О чем я и говорю. Кем стал Никуму?
Ронин смотрел в окно. Огромная сосна раскачивалась под последними порывами уже затихающей бури. Толстые ветки скреблись по наружной стене. В глубинах сознания возник голос Моэру: он одержим.
— Кто такой Оками?
— Один из моих дайме. — Куншин поднял руку. — Не беспокойтесь. Это я поручил ему разыскать вас.
— Откуда вы знали, что я появлюсь на острове?
Они отошли от искрящегося дождевыми каплями окна. Азуки-иро приобнял Ронина за плечи.
— Согласно преданиям буджунов, землей правит тигр.
Они присели за столиком в середине комнаты, и Азуки-иро разлил чай.
— А небом правит дракон.
— Вы знаете о Кукулькане?
— О да. Мы называем его по-другому, но все равно это он.
— Я должен идти, — сказал Ронин, глядя мимо куншина. За окно, на соловья в мокрых ветвях.
— Да, такова ваша карма. В делах подобного рода у нас не бывает выбора. В жизни есть всякие ситуации. Иногда они не зависят от нашей воли. Их надо просто принять как данность. Кто-то учится этому всю свою жизнь, а буджуны, наверное, знают это еще до рождения. Понимают уже в материнской утробе. Принимая неподвластное нам, мы живем в ладу с собой. А все остальное становится на свои места уже само по себе.
— А пришествие Дольмена вы тоже примете? — разъярился Ронин. — Вот так просто ляжете и тихо испустите дух перед лицом его мощи?
— Вы не хотите меня понять, — мягко проговорил Азуки-иро. — Мы вовсе не фаталисты. Мы всего лишь реалисты. Что есть, то есть, и мы учимся жить в этих рамках. Но это не означает, что мы не стремимся к тому, чего мы хотим, и что мы не делаем ничего для достижения своих целей.
В комнате как-то вдруг потемнело. Лицо куншина погрузилось в тень.
— Боль и страдания предков многому нас научили. В конечном итоге собственная наша магия сделалась нашим злейшим врагом. Мы больше не занимаемся чародейством.
— Но теперь все, похоже, идет к тому, что чародейство — наша единственная надежда.
Темные глаза куншина сверкнули в полумраке.
— Дольмена вызвала к жизни магия. И убьет его только магия. Это необходимо. Но это вынужденная необходимость. Просто иначе у нас ничего не получится.
Он взял чашечку с чаем.
— Но что бы здесь ни произошло, буджуны примут участие в Кай-фене. Такова наша карма.
Ронин поднялся. Куншин осторожно поставил чашку на лакированный столик.
— А зачем Моэру посылали на континент человека?
— Она отправилась на континент с неизвестной мне целью, — отозвался Азуки-иро. — Вам надо спросить у ее супруга, это он отправлял ее на континент.
На любом другом лице его массивная челюсть сразу бросалась бы в глаза. Но на этом, в сетке угловатых белых шрамов, она смотрелась вполне незаметно — просто еще один выступ рядом с провалами впалых щек.
Он походил на живого мертвеца.
Паутина шрамов оплетала шею, покрывала квадратную челюсть, проходила изломанными рубцами по высоким скулам. Впечатление было такое, что на лице у него не осталось ни одного кусочка неповрежденной кожи. Последний из этих шрамов оттягивал вниз уголок левого, землисто-зеленого глаза. Взгляд у него был тяжелый и очень холодный. Правое веко не открывалось вообще.
Он стоял в широком косом луче света, льющегося в распахнутое окно в западной стене крепости Ханеда. За белым его переплетом коричневатые воробьи гонялись друг за дружкой в переплетениях веток криптомерии. Наверху, в густых кронах, хлопали кожистые крылья летучих мышей.
— Ожидание подходит к концу.
Никуму передвинул листочек рисовой бумаги по длинному деревянному столу.
— Немного времени еще есть.
Потом добавил чуть тише:
— Должно быть.
Казалось, судорога прошла по его лицу. Он весь скривился. Другой смотрел безмятежно. Потом тряхнул головой, и шрамы заплясали на свету, словно тысячи светлячков.
— Ты разве еще не расстался с иллюзиями?
Никуму резко развернулся, опираясь о стол. Руки — вялые и безжизненные, пальцы напряжены.
— Это мучение, чистое мучение!
— Да, я знаю. Но не забывай…
— Я даже мысли не допускаю, что ты дашь мне забыть!
— Не дать забыть — это именно то, что я должен тебе дать.
— Дать мне? — прошипел Никуму. — Ты — ничто, без меня ты — пустое место!
— История мне уже вынесла свой приговор. Твоя борьба…
— Но ты этим не удовлетворился.
— Как и ты, — спокойно заметил человек со шрамами.
Лицо Никуму исказилось.
— Не припоминаю я что-то, чтобы просил тебя быть моей совестью, когда вызывал тебя…
— Хочешь сказать, что тогда между нами было какое-то взаимопонимание? Чепуха!
Его голос вдруг изменился, наполнив комнату холодом.
— Не считая призвания, все пойдет своим чередом.
— Конечно, — воскликнул Никуму, — и поэтому он поддерживает тебя в таком виде!
Он сделал яростный выпад, потянувшись скрюченными пальцами к горлу собеседника.
Ронин, затаившийся в темной нише у винтовой лестницы, напрягся. Потом вжался, ошеломленный, в холодную каменную стену, с трудом подавляя возглас изумления. Метнувшаяся вперед рука Никуму прошла сквозь тело человека со шрамами, словно он был соткан из дыма.
— Ребячество.
Другой отступил на шаг. Никуму остался на месте. Рука безвольно упала, и он вцепился в край стола, словно его не держали ноги.
— Он слишком могущественен, — прошептал Никуму, словно испуганный ребёнок.
— У него есть только то, чем ты сам наделяешь его, Никуму.
— Я не настолько силен. Ты был сильнее меня. Я вряд ли смогу победить.
Человек со шрамами отвернулся, как бы давая понять, что слова Никуму горько разочаровали его. Потом он резко поднял голову, как будто к чему-то прислушиваясь. Никуму с искаженным мукой лицом не обращал на него внимания.
Внезапно, словно приняв какое-то решение, человек со шрамами сорвался с места и прошел к стеклянному ящику в медном переплете, откуда извлек три маски, одну за другой. Ронина это удивило. То ли это действительно был бестелесный призрак, то ли выпад Никуму был просто иллюзией, игрой света.
— Пора начинать ногаку, Никуму. Пьесу ты знаешь.
Человек со шрамами надел маску, превратившись в пожилого человека вполне заурядной внешности, эдакого доброго дядюшки.
— Тоши, священник, — объявил он, передавая Никуму вторую маску.
Никуму медленно водрузил маску на голову.
— Рейшо, воин, — сказал Тоши.
Третья маска осталась на крышке стеклянного ящика, и, глядя на эту блестящую на свету личину, Ронин понял, что каким-то непостижимым образом человек со шрамами услышал его. Понял он и то, для кого предназначена эта маска.
Когда человек со шрамами увлек Никуму-Рейшо подальше от ящика, Ронин безмолвно прошел через комнату и надел маску. Тоши обернулся.
— Смотрите! — вскричал он. — Господин Рейшо, смотрите, кто к нам пришел!
Рейшо резко развернулся.
— Цукигамо!
Доносившиеся из-под маски звуки оживали богатыми обертонами. Благодаря акустике открытого помещения создавался эффект амфитеатра, и голос звучал отчетливо, без лишнего напряжения.
Теперь все трое стали участниками ногаку.
— Я предупреждал вас! — продолжал Тоши, указывая на Цукигамо. — Это он повинен в странной болезни, истощающей вас и лишающей сил!
Его тело как будто само исполняло отточенные обрядовые движения.
— Нет, — отозвался Рейшо глухим голосом. — Причина — во мне.
— Нет, господин, вы заблуждаетесь, — возразил Тоши, склоняясь перед Рейшо. — Взгляните еще раз. Это Цукигамо, огромный паук. Вы — великий воитель, но сможет ли воин, даже такой, как вы, одолеть зло, настолько могущественное?
— Не знаю, священник, но твои слова дают мне надежду. Может быть, одолев Цукигамо, я сумею тогда одолеть и себя самого.
Рейшо медленно танцевал, вынимая из ножен огромный меч. Согнув колени, он поднял клинок вертикально. Маска его разделилась на две половины. И теперь Цукигамо увидел, что это как бы половины двух разных лиц, словно маска отражала состояние человека, в душе которого происходит мучительная борьба. Борьба с самим собой.
— Достанет ли господину мудрости отложить эту битву? — льстивым голосом осведомился Тоши.
— Что ты хочешь сказать, священник? — Рейшо остановился. — Это будет последняя битва. Не на жизнь, а на смерть.
— Не на жизнь, а на смерть, господин, — согласился Тоши, пританцовывая вокруг Рейшо. — А для чего? Цукигамо могуч, а вы теперь слабы. Битва с вами сейчас отвечает единственно его целям.
— Да, возможно, ты прав.
— Конечно, господин.
Меч поднялся.
— Но я — воин Рейшо. Я — буджун. Я должен сражаться!
Цукигамо двинулся вперед, в круг яркого света от пляшущего огня.
— Ага! — вскричал Тоши, занося изогнутый клинок. — Теперь у меня хватит сил уничтожить тебя!
Клинок опускался, нацеленный Рейшо в бок.
— Я долго служил Цукигамо, и все ради этого мига. Ради мгновения могущества!
Рейшо развернулся, сверкнул его меч.
— Предатель!
Его меч пронзил сердце Тоши.
Не прерывая движения, Рейшо повернулся к своему заклятому врагу — Цукигамо — и бросился на него. Тот стремительно выхватил меч и отразил первый удар разъяренного воина.
Не произнося ни слова, лишь покрякивая и резко дыша под масками, странным образом искажающими звуки, они обменивались мощными ударами и уворачивались от выпадов друг друга.
Оба были искусными воинами, мастерами боя.
Они не разбрасывались в движениях, не передвигались по залу. Бой проходил на пятачке радиусом метра в три, не больше.
Двое великолепных бойцов, они сражались, словно зеркальные отражения, словно два воплощения одного человека. Они были равны по силам, и поединок их удивительным образом напоминал сложный танец. Ронину вспомнился финал ногаку в Асакусе. Подобно тому, как актер, исполнявший роль богини, излил на сцену свое совершенное мастерство, так и эти два воина — два актера — переполнили сцену Ханеды своим искусством.
Лязг металла стал для них музыкой, резкие вдохи и выдохи определяли ритм их затейливых движений. Напряжение мышц. Тела, блестящие от пота. Глаза, отмеряющие расстояние, мгновенно оценивающие направления ударов. Воспламененные нервы. Стремительные броски.
Воздух в комнате помутнел. Вращающиеся клинки слились в белые сверкающие круги. Казалось, что оба бойца заключены во взвихренную сферу из смертоносного стекла, в кровавое чрево схватки, из которой живым выйдет только один.
И в этой неистовой пляске клинков к Цукигамо пришло понимание. Он не сам выбирал свой путь. Выбор был определен. Если бы это зависело от него, он бы, наверное, выбрал иную дорогу. И все же никто за него не решал. Он сам пошел по пути, который теперь обернулся сценой из ногаку. Только ногаку было настоящим… и убитый актер не поднимется в конце пьесы. Надо что-то придумать, пока не пролилась кровь. Надо остановить это кошмарное представление. Где он, человек со шрамами, который почуял присутствие Ронина в Ханеде и даже выбрал для него роль в ногаку: Цукигамо, заглавный персонаж?
Действие в пьесе должно развиваться. И Цукигамо должен сделать первый шаг. Но какой?
Рейшо усилил натиск, его невидимый клинок завертелся еще стремительнее, но Цукигамо не отступил ни на шаг, уйдя в глухую, непроницаемую защиту. Он перешел в наступление, осыпав противника серией яростных ударов, завершавшихся сложными выпадами. Разглядев удивленный взгляд под застывшей маской Рейшо, он был уже близок к тому, чтобы прорвать оборону, но Рейшо успел защититься, воспользовавшись единственно возможным приемом защиты.
— Довольно!
Маска Рейшо задрожала, и Никуму резко сорвал ее и отшвырнул в сторону. Ронин тоже снял маску.
— Вы — чужеземец. Где вы могли научиться сражаться в манере буджунов? — изумился Никуму.
— На этот вопрос я вам не отвечу, Никуму, но, прежде чем мы снова накинемся друг на друга, позвольте мне кое-что вам сказать. Это важно.
Он развернул меч и открутил рукоять.
— Нет! — вскричал Никуму.
Сверкнул его длинный клинок. В это мгновение решалась судьба Ронина. Острие остановилось, подрагивая, в нескольких сантиметрах от незащищенного горла Ронина. Он не сдвинулся с места. Он смотрел прямо в горящие глаза Никуму, не обращая внимания на клинок, готовый пронзить его.
— Вы — мой враг! — В тонких губах Никуму не было ни кровинки. — Вы увели у меня жену!
— Нет, Никуму, я просто освободил ее. Она ушла из Ханеды по собственной воле…
— Это ложь!
Было видно, что Никуму едва сдерживался, чтобы не вонзить острие меча Ронину в горло.
— Вы устроили заговор против меня, вы отравили ее разум. Она любит меня!
— Она боится за вас, — бесстрастно проговорил Ронин. — Вы больше не тот, каким она знала вас раньше. В кого вы превратились, Никуму? Что с вами сделала ваша магия?
Рослый Никуму дергался перед ним, точно марионетка. Под правым глазом у него подрагивала мышца, отсчитывая секунды, подобно каким-то чудовищным часам.
— Где ты?
Его взгляд метнулся по комнате.
— Куда ты делся?
— Мы здесь одни, Никуму, — сказал Ронин. — Сейчас мы одни.
Тень пугающей усмешки на мгновение искривила губы Никуму.
— Теперь мы уже никогда не будем одни. Никогда.
— Человек со шрамами исчез.
— Не он, глупец! Разве вы ничего не чувствуете? Он здесь…
— Я вижу только вас.
Клинок по-прежнему у горла. В опасной близости. Ронин прикинул расстояние и время реакции. Никаких шансов.
— В меня вы должны заглянуть! В меня!
— Я…
— Вы сделали это с Моэру!
Напряженные мышцы, нервы на пределе. Он умрет, прежде чем сделает хоть один шаг.
— Она просила меня вам помочь.
Возможно, это именно те слова.
— Тогда помогите!
Ему показалось или острие меча действительно приблизилось к горлу? Какая мистическая борьба происходила сейчас у Никуму в душе? Остался единственный шанс, потому что напряжение стремительно нарастало. Никуму, похоже, проигрывает сражение — с самим собой, — сейчас он сдастся, и когда это произойдет, он сделает выпад, и его клинок пронзит Ронину сердце. Ставки в этой игре высоки, но теперь у него не осталось выбора. Карма.
— Я не стану вам помогать, — с чувством заговорил Ронин. — Посмотрите на себя. Какое жалкое зрелище! Вы называете себя буджуном, но это все так же фальшиво, как и маска, которую вы на себя надевали. Вы трус, Никуму! Да! Убейте меня. Вам наверняка станет легче! Фальшивый воитель, во что превратила вас ваша магия? В слабого и напуганного человечка. Вы своим чародейством призвали богов. Но оказалось, что это боги смерти, и их могущество подавило вас, превратило в ничтожество. Вы уже не человек, Никуму. И не надо ждать помощи ни от кого. Вам никто не поможет. Ни я, и никто другой. Этой ночью никто не придет вас спасти, потому что сегодня здесь будет писаться история. Последняя ее глава уже бьется в этих каменных стенах, она ищет выхода, но написать ее может только один.
Зловещим был взгляд Никуму, в темных глубинах его глаз метались черные тени, и какие-то смутные силуэты неслись по пустынному, зыбкому пейзажу — преследователь и преследуемый.
Ронин, не отрываясь, смотрел в эти опасные глаза, а руки как будто сами откручивали рукоять меча.
Он извлек свиток дор-Сефрита.
Никуму отвел взгляд и опустил глаза. Ронин вложил свиток ему в руку. Меч со звоном упал на пол. У Никуму подкосились ноги, и он тяжело опустился на колени. Ронин не шелохнулся. Наверху, над головой, послышалось хлопанье крыльев летучей мыши. Ослепленная светом, она взмыла вверх, навстречу ночной темноте.
Пот стекал по лицу Никуму, капал на каменный пол, струился по лбу, разъедал глаза. Он моргнул. Широко раскрыв рот, судорожно глотнул воздуха, потянулся дрожащими пальцами и ухватился за край стола. Пальцы соскользнули. Никуму застонал, но потом снова медленно поднял руку, словно преодолевая какое-то сопротивление, и все-таки уцепился за стол с такой силой, что у него побелели костяшки пальцев. Сейчас он был похож на утопающего, хватающегося за соломинку.
Свободной рукой Никуму развернул свиток дор-Сефрита. Рука дрожала.
Голова у него конвульсивно задергалась, но он все же заставил себя посмотреть на письмена.
Высоко над верхушками криптомерий в небе плыл полумесяц, в окно лился платиновый свет.
Губы у Никуму беззвучно зашевелились. Когда он начал читать, Ронину показалось, что свет от горящего странным пламенем очага стал тускнеть, превращая их с Никуму в застывшие тени.
А потом комната вдруг наполнилась лунным светом, холодным и ясным, позволявшим отчетливо видеть все мельчайшие детали.
Теперь Никуму читал уже вслух, произнося нараспев слова, написанные дор-Сефритом в иную эпоху, много столетий тому назад, и голос его постепенно набирал уверенность. Он поднялся.
Ронин тряхнул головой. Ему показалось, будто Никуму меняет обличие. Очертания его тела стали прозрачными, затрепетали и на мгновение расплылись. Никуму навис над Ронином, расправив широкие и острые плечи традиционной одежды буджунов.
Потом очертания резко сжались, и Ронину почудился крик. Кричал вроде бы Никуму, но звук, издаваемый им, просто не мог исходить из горла обычного, смертного человека. Тело Никуму тряслось и раскачивалось, губы кривились от боли, а побелевшие кулаки молотили воздух.
Но он продолжал читать дальше.
Из недр его груди поднялся нарастающий рев, похожий на отдаленный громовой раскат, и очертания его тела опять раздались, увеличиваясь в размерах. Снова грянул раскатистый гром над иссохшими полями, опаленными летним зноем. Он приближался предвестником животворящей влаги, пока не заполнил собой все пространство неукротимой приливной волной, поднял Ронина с Никуму на распростертых трепещущих крыльях, уничтожая силу притяжения. Они стали свободны, как два парящих орла.
Ронин покачнулся, глядя в лицо Никуму, разлетавшееся на куски, словно разбитая маска ногаку.
Перед Ронином предстал тот, другой. Он был моложе. Сильный и полный жизни. Лицо — уже без единого шрама. Ястребиный нос. Обсидиановые глаза горели неукротимой силой. Длинные, не заплетенные в косу волосы ниспадали на спину.
Он раскинул руки и всем телом подался вперед, словно желая заключить в объятия всю безбрежную ширь ночи, усыпанной блестками звезд.
Тонкие губы разверзлись:
— Свершилось!
Голос, гремящий раскатами летней грозы.
— После стольких веков я вернулся, ибо настал Кай-фен. Я здесь, потому что Дольмен уже близко.
Его взгляд остановился на Ронине.
— Вот он, воин-спаситель, надежда людей. Добро пожаловать, Ронин, в кузницу Ама-но-мори, на наковальню Ханеды — в конечную точку твоих долгих странствий.
Он воздел руки, и голубые искры излились в небо, потрескивая в ночи. Звезды погасли.
— Пришло наше время. Призвание Дольмена уже началось, но не надо страшиться, ибо надежда еще остается. Пока есть ты, славный воин, у людей есть надежда. Никуму сделал последний шаг, вступил в последнюю битву и победил. И тем самым навечно вписал свое имя в историю мира. Буджуны опять одержали победу… А теперь приготовься, Ронин. Ибо скоро и тебе предстоит сделать последний свой шаг. Потому что я здесь, я готов. Ты веришь в себя?
— Да.
— Тогда прими смерть….
Громовой раскат, заглушивший все звуки.
— Так сказал дор-Сефрит!
Все стало белым.
ОБЪЯТЫЕ СМЕРТЬЮ
В ослепительной белизне — только два элемента: его сущность и Голос.
Он знал, что вышел Наружу, еще до того, как Голос сказал ему это.
Время превратилось в красочное колесо, вертящееся далеко внизу.
Это конец.
Да — для Ронина.
А для меня?
Умирание мифа. Мысль сияла в его подсознании, словно таинственный замок, выплывающий из тумана.
И еще…
Жизнь за пределами жизни.
Он рассмеялся. Безмятежные пузырьки. Белое на белом.
Раньше я бы, наверное, не понял.
А теперь?
Скажи мне такую вещь. Ты знал Никуму. Почему он послал Моэру на континент человека?
Я его попросил.
С какой целью?
Чья именно цель тебя интересует — моя или его?
Вас обоих.
Никуму послал ее на континент для того, чтобы она подстраховала его брата, которого он, находясь под чужим влиянием, отправил в Шаангсей шпионить для сасори. Мне было нужно другое. Чтобы она кое-кого разыскала. Точно так же, как Боннедюк Последний и Хинд были посланы, чтобы найти тебя.
Кого?
Сетсору.
Черного Оленя.
Так его называют люди.
Я с ним встречался.
Да. Для меня до сих пор остается загадкой, как эта встреча вообще могла произойти на континенте человека. Хинд не подвел своего хозяина.
Он просто не мог его подвести. Для Хинда любовь к Боннедюку Последнему — превыше всего.
Да. Это так.
Ты хотел разыскать Оленя…
И тебя тоже.
Где мое тело?
Отброшено. Оно больше не твое. Ты принадлежишь жизни; оно отдано смерти.
И кем я стану теперь?
С помощью чародейства и древней медицины, с помощью сохранившихся знаний буджунских воинов-магов, с помощью средств, которые даже в мои времена почитались древними, ты, бывший когда-то Ронином, превратишься в последний миф человечества: в Воина Заката.
Глаз Времени поблек, а потом и вовсе исчез. Пропали радужные цвета.
Он брел вперед, в никуда. Ни полей и ни гор. Ни рек, ни болот. Ни долин, ни лесов. Ни пустынь, ни морей. Ни туманов, ни туч — путь свободен. Скорость стремительно нарастает. Он не шел, не бежал, не летел. В какое-то мгновение ему показалось, что он уловил под собой вибрацию мощного тела Кукулькана, Пернатого Змея, но, подумав, решил, что ошибся.
Потом, при отсутствии всяких цветов, он скорей ощутил, чем увидел, как на него надвигается неукротимое море, бездонное, холодное и таинственное. Вдруг поднялся пронзительный ветер, рассыпаясь в пространстве стоном.
Впереди — неспешное вращение вихря.
Свет и тень. Смазанные, искаженные очертания. Сильное головокружение, и вот он стоит уже в чаще леса. Корни, пни, ветви, листва — все черно-белое. Смещение перспективы, когда он ныряет в темные заросли, сквозь сплетения листьев, по гребням откосов, над зелеными кустами, под раскачивающимися ветками.
Что-то сжалось в глубине его существа, когда впереди появилось нечто — намек на форму, надвигавшуюся на него. Ему вспомнился другой день, из другой жизни. Дом, запрятанный глубоко в недрах мира. Он поднялся тогда по лестнице, привлеченный ритмичным звонким тиканьем и отчетливым постукиванием из комнаты на втором этаже, где Боннедюк Последний, скорчившись на причудливом ковре, раскидывал кости, предсказывающие будущее. Тогда ему было страшно, и теперь, когда чьи-то безжалостные ледяные пальцы снова коснулись сокровенных струн его души, его опять захватило то странное, незнакомое чувство. Смерти ты не боишься, сказал тогда Боннедюк Последний. Ты боишься другого… чего?
Оно приближалось. Или это он шел навстречу?
Деревья расступились.
Отодвинулись вдаль.
Он оказался лицом к лицу с Сетсору.
И опять — эти страшные человеческие глаза на покрытой лоснящейся черной шерстью оленьей морде. Немигающий пристальный взгляд.
Подрагивают огромные ветвистые рога.
— Где я? — воскликнул Черный Олень.
И тут же:
— Я послал за тобой корабли. О нет!
Долгий, протяжный крик.
— Останови это! Останови!
Голова его вдруг затряслась. Глаза закатились.
— Ты можешь. Ты должен!
Молчание.
Но если и был еще кто-то в их черно-белом мире, он ничем не выдал своего присутствия.
На черных звериных губах Сетсору показалась пена. Он жалобно заскулил. Его ороговевшие руки потянулись к черному ониксовому мечу, только меча почему-то не было.
— Где ты? — позвал Олень и принялся колотить себя по голове, словно на нем была маска, которую он хотел разбить.
— Хватит!
В его голосе зазвучали визгливые, истеричные нотки.
— Хватит уже надо мной издеваться!
Он попятился, отступая от стоящего перед ним существа.
— Я служил тебе верой и правдой. Я загубил столько жизней во имя твое. Что ты сделал со мной теперь? Что ты сделал со мной?
Он цеплялся ороговевшими пальцами за рога. Черные губы дрожали. Он рассмеялся, и смех его был ужасен.
— Сила. Куда она делась, вся сила? Отпусти меня. Отпусти. Забери из этого ада…
Здесь нет богов, Сетсору, раздался его голос, наполненный странной вибрацией. Олень дернулся, словно ужаленный.
И только теперь — в первый раз — всмотрелся в силуэт, застывший перед ним.
— Кто ты, при виде которого сердце мое наполняется страхом?
На этот вопрос я тебе не отвечу, потому что еще не знаю. Я только знаю, кем был когда-то, давным-давно. И все же твой страх — это и мой страх тоже.
— Правда? — Олень замер на месте, вытянув шею вперед. — Такой тусклый свет. Я плохо вижу тебя.
Он придвинулся поближе.
— Ага! Теперь знаю, я чувствую. Ты из леса. Ты меня выследил, точно зверя…
Не тебя. Другого.
— Он мне сказал, что ты умер.
Но я здесь.
— Я сказал, что ты искал меня в лесу. Что пока ты жив, мне не будет покоя. Ты будешь травить меня…
А еще он сказал, что я умер.
— Он не стал бы мне лгать.
Он уже солгал.
— Что тебе от меня надо?
Расстояние между ними заметно сократилось, хотя ни тот ни другой как будто не сдвинулись с места.
Чего надо нам друг от друга?
Голова дернулась, широкие ноздри раздулись.
— Мне вообще ничего не надо — только вернуться назад, в лес под Камадо.
Может быть. В свое время.
— Он был прав. Ты хочешь моей смерти!
Глаза налились бешенством.
Я не сделаю тебе ничего плохого. И подумай — почему?
Сетсору расхохотался:
— Не сможешь!
Они сошлись в битве, в долгом сражении без конца и без смерти. Он понял это мгновенно. Он знал, что должен разрешить эту головоломку. Разрешить во что бы то ни стало. Иначе они ввяжутся в схватку за пределами самого Времени.
Он был напуган, но подавил нарастающий страх — просто отбросил его от себя. Попытался подумать. Главное — не забывать. Если забудешь… провал… пустота… Огромная косматая голова заметалось у него перед глазами.
— Я ничего не боюсь. Я убиваю, и все!
Олень, кажется, снова впадал в истерику. Она захватила его, сдавила. Чтобы уже никогда его не отпустить. Никогда.
Плотная и глубокая темнота опустилась на мир. Ночь, которая не была ночью. Беззвездная и бесконечная. Черное покрывало. Спать. Уснуть. Саван…
Прорыв сквозь трепещущую пелену. Паруса. Наверх. Крики морских птиц. К теплому солнцу. Ушел. Ушел…
Думай!
Неба нет, горизонта нет, нет земли.
Объятые чернотой.
Они бьются друг с другом, падая и поднимаясь опять. Парализующее смятение. Паника истощает силы. Надо взять себя в руки.
Сосредоточиться. Существование сужается до…
Снова — прикосновение страха. Но это уже другой страх. Что-то крадется во тьме, приближается… И он знает, что это.
Запредельное.
То, что таится за гранью смерти.
Конец.
Нет!
Ничем не сдерживаемое смятение разлилось штормовой волной чувств, и он сразу расслабился, всем своим естеством ощущая его громогласное, оглушительное приближение. Теперь — на отмель. Стоять до конца.
В глубину.
И тут его вдруг озарило — как будто пронзило сияющей молнией. Ослепило энергией.
Ты не причинишь мне вреда, ты не сможешь, сказал он.
Глядя в глаза Сетсору.
Приближаясь.
Без воздуха.
Ты понимаешь, сказал он. Скажи мне, кто ты.
— Что ты имеешь в виду?
Ты знаешь.
Конвульсивное сжатие темноты.
— Ты сумасшедший!
Взмахи мерзостных крыльев.
Все будет кончено, если ты мне не скажешь.
Сетсору тоже почувствовал это. Теперь.
Я знаю, а значит, и ты должен знать.
— Боюсь, что…
Это все, что осталось ему. У него.
И все-таки что-то осталось.
Скажи мне.
— Я, — прохрипел Сетсору, — это ты.
Шелест ветра, и это ушло.
Внизу, далеко-далеко внизу, в самом центре мироздания, извивалось оно — безголовое существо, чье туловище бесконечно тянулось в пространстве. Оно ворочалось, корчилось и блестело, постоянно меняясь и пребывая вовеки неизменным.
Снизу до них долетел шквал соленого ветра. Начали проявляться цвета.
Тело Оленя содрогалось от рыданий. Они удерживали друг друга, обливаясь соленым потом, а потом как бы слились воедино и оказались друг в друге, связанные нерушимыми узами, и теперь он наконец ощутил в отношении Сетсору другое чувство, которое он затруднился бы определить.
Они стали одним существом.
Энергия заструилась в них, и он-они-он увидел бесконечные фанфары живого грома; услышал многоцветное небо, перетекающее из розового в ослепительно белый, из белого — в голубой, из голубого — в лиловый, из лилового — в серый, потом — в коричневый, золотой и оранжевый, потом — в цвет пламени, потом — в цвет ржавчины. Он ощущал взмахи крыльев гусей и ржанок, живыми вымпелами устремившихся на восток. Праздничными парадными знаменами. Он ощущал, как работают мышцы, которые движут этими крыльями.
Один.
Мгновенная вспышка холодного чистого серого цвета.
Зеленое полубеспамятство.
Тепло.
Словно что-то плывет через морские пещеры, у самых основ мироздания — такое знакомое… как будто когда-то, давным-давно, оно уже было здесь. Или ему тогда только казалось, что было.
Он плыл в зыбком мареве мимо отвесных базальтовых и гранитных скал в основании мира. Он рос, увеличиваясь в размерах. Отращивал голову и торс, руки и ноги, ладони и ступни. Постепенно черты его приобретали единственную выразительность, отличавшую его от других. Он протянул руку и прикоснулся к покатому склону Эгира, клубящегося, колыхавшегося, необъятного.
Рядом с ним нарастала структура мира, и он сам тоже рос, медленно вращаясь вокруг своей оси, касаясь шершавой шкуры исполинского существа. Его как бы вскрыли, разрезали вдоль по бокам, от подмышек до самых ступней, и кровь лилась из него черными вздувающимися облаками — пыль другой жизни. А потом кожа мгновенно срослась, но не по линии разрезов. Окрашенная, исполосованная рубцами, татуированная… Он превратился в живой иероглиф, заключавший в себе, может быть, и историю всего человечества.
Снова лопнула кожа, кости раскрошились, кальций и фосфор пылью просыпались в воду. Но беспокойное море, уже само по себе насыщенное этими веществами, влило их обратно в разъятое тело. Из омытых соленой водой элементов сложились новые кости необычной длины, соединенные между собой с величайшим искусством.
Он провалился в беспамятство, успев понять только, что он изменяется, обретает иную форму, что сейчас он текучий и зыбкий, как само море, которое держит его в своих темных и крепких объятиях. А дальше — пока он спал — произошли еще более основательные изменения. Но он уже этого не ощущал.
Милосердное забытье.
Его лицо разлетелось на тысячи обломков, и осколки его растворились в волнах, превратившись в податливый материал в чьих-то невидимых руках, и руки лепили единственный в мире образ — бережно и аккуратно.
Тело расширилось и удлинилось; мышцы начали приобретать упругость, растягиваясь на каркасе из новых костей. Слой за слоем нарастали они бугристыми нагорьями, формируя ландшафт нового тела.
И все это время он грезил.
Вереница сияющих образов проносилась у него в мозгу, как ревущий поток. В этом потоке смешались места, и события, и люди, которых он знал, и сцены из жизни каких-то других людей. Раздираемые в клочья, словно гонимые ветром тучи, догоняющие устремленное на запад солнце.
Плывущие вниз, к земле.
Он стоит, коленопреклоненный, на берегу древнего пруда. Напротив — через зеленую воду — другой силуэт.
Пруд безмятежен и тих. Всеобъемлющее спокойствие, трогательное до слез. Лягушка прыгает в воду, и по воде расходятся круги. Все шире и шире.
Он смотрит на воду. Он ждет, когда появится его отражение.
Теперь ничто не колеблет сверкающей глади пруда. Может быть, только намек на легкий ветерок, безмолвный и неусыпный, проплывает над тихой водой.
Он не знал, не мог знать, каким будет его отражение.
Но даже при этом…
Он пришел в себя и обнаружил, что Ханеда изменилась.
Высокая, открытая комната Никуму превратилась в беспорядочное нагромождение камней и обломков дерева. То ли небо обрушилось. То ли битва титанов случилась здесь и принесла с собой опустошение. Ярость вспорола пространство, рассыпавшись в воздухе ядовитой пылью. И ненависть такого накала, что она пульсировала в ночи. Ханеда — место великой бойни.
Он был один.
Его тяжелые шаги отзывались гремящим эхом в развалинах замка. Язычки пламени трепыхались там, куда были сброшены факелы, догоравшие среди каменной и известковой пыли.
Обнаженный, он спустился по остаткам лестницы, спрыгнув с края провала четырехметровой высоты в заросли криптомерии.
Там не было никого. Ни воробья, ни совы. В эту ночь мир опустел. Даже летучие мыши в ужасе улетели прочь.
Он прошел через безмолвную рощу, насыщенную ароматами. Через широкое болото. Стая гусей пролетела на фоне серебряного полумесяца. Казалось, мерцающий небосвод пульсирует.
Шелестел высокий тростник, бледные стебли которого были усыпаны искорками светлячков. Пронзительно стрекотали цикады.
Он побежал на восток и вскоре добрался до края лугов. Он ускорил шаги, наслаждаясь своей неиссякаемой силой, и пересек равнину, потеряв ощущение времени.
К синим склонам горы.
Фудзивара.
Когда он начал подъем, перед его мысленным взором возникла картина — тонкий рисунок кистью с великолепно построенной композицией и гармоничным сочетанием красок.
Прозрачный воздух сделался морозным. Он поднимался по склону, а звезды мерцали на небе, передавая земле свое древнее послание.
Он двигался легко, беззвучно — так пробирается в джунглях какой-нибудь зверь. Приблизившись к краю небес, он увидел, что на востоке уже исчезают и блекнут звезды. Порыв ветра. Приближается гроза.
Наконец он добрался до холодной пурпурной вершины Фудзивары, и шаги его захрустели по бледно-лавандовому снегу.
Собирался дождь. Клубящиеся тучи нависли так низко, что казалось, еще немного — и он заденет их головой.
Он воздел длинные руки, словно хотел набрать влагу горстями, и в это мгновение небо раскрылось над ним. Дождь хлестал его по лицу, по его новому телу серебристыми стрелами.
Он переживал сейчас тот самый миг, который столько раз представлял себе еще в той, иной жизни, когда он был кем-то другим.
Розовая молния расчертила небо мечущейся дугой. Он рассмеялся. В теле его забурлила мощь, и если бы у него было сердце обычного человека, оно разорвалось бы на куски под воздействием переполнявшей его неизбывной, невероятной силы. Но Ронина больше не существует, а он, стоящий на вершине Фудзивары, в самом центре страшной грозы, прямо под черно-алыми тучами, этими призрачными кораблями посреди бушующего океана небес, уже не был простым человеком.
«Я — Воин Заката, — думал он, переполняясь восторгом, любуясь своими массивными перекатывающимися под кожей мышцами, туго обтягивающими его новое тело. — Я пришел. Берегись, Дольмен».
Сквозь извилистые коридоры Времени к нему хлынула музыка из давно уничтоженной или еще даже не сформировавшейся эпохи. Высокие и низкие голоса, отражающиеся друг в друге, в сопровождении инструментов, звучанием своим созидающих вихри энергии. Музыка разворачивалась в пространстве, приноравливаясь к ритму его сердца. Грохот, как будто обрушились склоны горы.
У самого плеча полыхнула молния.
«Дор-Сефрит?» — безмолвно выкрикнул он.
Но ответом ему было только шуршание дождя, льющегося на вершину горы, да раскатистый гром. Он стоял неподвижно, подставляя лицо струям дождя. Теперь наконец он понял: отныне ему предстоит самому находить все ответы, ибо, оставшись отчасти собою прежним, Ронином-ищущим, он вобрал в себя новую сущность — Сетсору-основателя.
Что еще его ждет?
Он пожал плечами.
Он — Воин Заката.
Теперь, осознав это в полной мере, он заставил свой разум расслабиться. И как только он перестал цепляться за узы, связывавшие его с материальным миром, его мощь вырвалась на свободу, и сознание устремилось в самые недра его естества, куда боялся заглядывать Ронин, и он узрел наконец сверкающую ось своей мощи, островок спокойствия среди вихря неизбывной энергии. Он протянул руки — и руки не дрогнули.
Он прикоснулся к Вечности.
Часть третья КАЙ-ФЕН
КОНСКИЕ ШИРОТЫ
Кай-фен затянулся. Это было страшное время. Сама природа, казалось, сошла с ума. На полюсах сдвинулись льды — искристые серые ледники поползли дальше на юг. Как только три Маккона стали сильнее вследствие близящегося пришествия их господина, как только Дольмен, охваченный жаждой мести, устремился в мир, из которого однажды был изгнан, воины-нелюди с голыми черепами вместо лиц вырвались из замкнутого пространства своего обширного лагеря и под предводительством исполинских зверей с фасеточными глазами и сверкающими сине-зелеными панцирями устремились через равнину к высоким каменным стенам Камадо, последнего оплота человека.
За строем черепоголовых со скрипом катились громадные боевые машины, способные метать по шестьдесят копий зараз и легко перебрасывать их через самые высокие крепостные стены или выливать на противника здоровенные ковши с расплавленным металлом. Были у них и тараны, стенобитные орудия — высокие стойки с горизонтальным бревном, окованным с одного конца толстым железом. Их волокли на веревках взлохмаченные и грязные воины-люди из северных горных племен, завлеченных на службу к Дольмену посулами власти. И дрожала земля под их тяжестью, и мир человека содрогнулся, как колесо на разболтанной оси, словно ощущая в шагах наступающей армии поступь самой судьбы.
Четвертый Маккон вот-вот должен был появиться на континенте человека.
И объявлен был сбор всех союзников Дольмена, давно дожидавшихся этого часа — наступления Кай-фена. Вооружившись, они устремились к месту последнего сбора по промерзлой унылой земле, через бурные штормовые моря, используя для своего продвижения средства, недоступные людям и для разума человеческого непостижимые.
Эгира, плывущего в глубинах, занимали куда более важные вещи. Он знал о собрании сил Дольмена, но не сдерживал их продвижения, ибо все в мире взаимосвязано и карма всякого существа так или иначе соотносится с кармой любого другого. Его же вполне устраивала роль покровителя собственного убийцы.
Появление на пылающем в пожарищах континенте человека последних союзников Дольмена стало еще одним, предпоследним, шагом к кажущему неизбежным поражению рода людского. Угрюмыми, бесстрастными глазами смотрели они, так долго таившиеся в ожидании своего часа, на покрытую рубцами, обгоревшую, испепеленную землю, думая лишь о конечной цели своего опустошительного похода и ничего не замечая вокруг. Они шли вперед, по грудам разложившихся трупов, среди которых кишели алчные крысы и почему-то пугливые, затравленные волки. Они оставались глухи и жалобным воплям немощных стариков и детишек, каким-то чудом избежавших смерти. Они шагали вперед, к своей цели. Стервятники, сбившиеся в стаю в предвкушении богатой добычи.
Итак, союзники Дольмена стягивали свои силы к месту последней битвы, а Кири, Императрица Шаангсея, тем временем возвращалась на север, в Камадо. Она ехала в голове длинной колонны воинов, растянувшейся больше чем на километр, в сопровождении двух могущественных военачальников, предводителей двух враждующих кланов. Они даже внешне являли собой полную противоположность друг другу. Справа от Императрицы восседал, едва умещаясь в седле, Ду-Синь, тайпан шаангсейских зеленых — невероятно толстый человек с проницательным, умным взглядом и отвратительными манерами. Лу-Ву, тайпан красных, державший под своей властью северные районы Шаангсея, ехал слева. Это был малорослый мужчина, щуплый, с приплюснутым носом и длинной клочковатой бородой на сильном волевом подбородке. В первый раз за столько столетий смертельной вражды тайпаны Чин Пан и Хун Пан ехали в битву бок о бок. В первый раз красные и зеленые встали в одном строю.
Кири ударила каблуками по взмыленным бокам шафрановой лумы, словно ей не терпелось скорее вдохнуть воздух Камадо, услышать металлический лязг клинков, окунуться в кровавую бойню Кай-фена. Ду-Синь тоже пришпорил луму и поскакал вслед за императрицей, низко склонившись в седле. Турмалин у него на шее сверкнул маленьким солнцем. Лу-Ву, подав знак колонне прибавить шаг, дернул поводьями и негромко заговорил со своим скакуном, словно уговаривая его побыстрей одолеть последний перед Камадо подъем.
Когда союзники Дольмена добрались до плоскогорья, выходящего к сосновому лесу, один из них отделился от общего строя и отправился на поиски трёх Макконов.
Мимо высоких, поджарых черепоголовых воинов со смертоносными шипованными шарами, закрепленными на их узких бедрах на потертых кожаных ремнях, мимо странных созданий с удлиненными черепами, увенчанными перьями, что спускались колышущимися гребнями до середины спины, мимо приземистых воинов с близко посаженными глазами, мрачных, как сама смерть, мимо омерзительных с виду существ, похожих на исполинских насекомых.
Он нашел их в конце концов в самой чаще холодного леса — этих могущественных существ, сильнее которых был только Дольмен. Они дожидались своего собрата в окружении призрачной белизны. Это морозный ветер вздымал высоко в воздух снежные покровы.
Один из Макконов поднял зловещие оранжевые глаза и обвел взглядом качающиеся, засыпанные снегом сосны в поисках знака прихода того, с чьим появлением начнется Призвание, которое откроет Дольмену дорогу в мир человека.
— Я здесь, — объявил союзник.
В его сторону медленно повернулась омерзительная голова с крючковатым клювом. Зрачки-щели пульсировали. Огромный хвост бился из стороны в сторону. Он вдохнул их вонь.
Серый клюв открылся, и раздался пронзительный крик, отвратительный для человеческого, слуха. Но он, приученный к этим звукам, услышал:
— Да. Мы знаем. Мы привели тебя по Его воле.
— Он идет?
— А ты еще сомневаешься, недоумок? Так было обещано, и, значит, так будет. Теперь даже Время не может вмешаться.
Оранжевые глаза сверкнули.
— Сдержи свою клятву.
Тело Маккона заколыхалось, теряя четкость очертаний.
— Тебе известно, какое тебя ждет наказание в случае неудачи…
— Вам вовсе не за чем…
Крик сделался невыносимым:
— Ты будешь еще умолять о смерти!
— За столько веков все должно быть распланировано безупречно. Неудачи исключены. Я вас не подведу. А потом…
Омерзительная голова на мгновение отвернулась, и он почувствовал несказанное облегчение, словно избавился вдруг от тяжелой ноши.
— Идет наш брат. Оставь нас. Сейчас же. Ступай пока к южной опушке леса. Во время избрания Господина ты будешь командовать нашим центральным ударным отрядом. Потом с тобой свяжутся напрямую — получишь дальнейшие указания. А теперь уходи, ибо ни один смертный не должен видеть того, что сейчас произойдет.
— Но я не…
— Ступай!
И он пошел прочь, по снежному лабиринту леса. Присоединившись к своим, повел их на юг, в обширный лагерь легионов Дольмена. Властным голосом, привыкшим отдавать приказы, которые выполняются беспрекословно, он разъяснил своим воинам их диспозицию в грядущей схватке. И все это время он посмеивался в душе, держа при себе свои тайные знания.
Из соснового бора к северу от Камадо донесся вопль. Посреди леса стояли четыре Маккона. Итак, все четверо воссоединились. Чудовищные силуэты зыбились и пульсировали, словно их тела были сотканы из какой-то текучей субстанции, враждебной воздуху, который они били и рвали своими страшными изогнутыми клювами.
Снова и снова призывали они в один голос, настраиваясь на единый ритм.
Холодный огонь струился откуда-то сверху.
А тем временем в Камадо, окруженном высокими желтыми стенами, защитники города ликовали по поводу прибытия зеленых и красных и благополучного возвращения Кири. В эту серую снежную ночь, освещенную пламенем масляных ламп, мигавших в сгущающемся мраке, риккагины и тайпаны собрались, чтобы обсудить совместные действия по отражению утреннего штурма.
А чуть позже, когда низкое, неспокойное небо приобрело неестественно алый оттенок, Кири поднялась на крепостной вал. Снег, покрывающий камень, заглушал ее шаги.
Риккагин Тиен, которого она называла Туолином, встретил ее на северной стене, и они вместе присели под скошенным навесом, прислушиваясь к непрестанному шуму мокрого снега и напряженно вглядываясь в чащу леса, где разбил лагерь противник.
Кири вспомнила другую ночь, когда она сидела здесь же вместе с Ронином. Она понимала, что потеряла его навсегда, уступив его жажде поисков неведомого, что манила его за собой.
После того, как Маккон убил в Шаангсее Мацу, что-то умерло в ней. Какая-то часть ее души. Иначе и быть не могло. Без Мацу Кири осталась лишь неприкаянной половиной единого целого. Они обе осознавали опасность такой жизни, но их все же влекли ее полноценные, насыщенные и необузданные радости. Вот почему они так старались беречь друг друга. Но Маккон разрушил все это, разорвав нежное белое горло Мацу. Из-за Ронина. Потому что Маккон исступленно искал его.
Но сейчас, вглядываясь в густой лес, где притаились прислужники смерти и разрушения, она испытывала только одно желание, нестерпимое, неодолимое. Быть с ним. Она могла спать с другими мужчинами, но при этом страдать от разлуки с ним, и она знала, что ради него пошла бы на все. Ради него она предала бы и свой народ. Потому что хотела его больше всего на свете. Все остальные чувства, которые сейчас сделались для нее отвратительными, хотя все-таки и любопытными, роились в темных глубинах ее естества, но она как бы и не соприкасалась с ними и даже не хотела признавать, что они существуют. Вот почему она изо всех сил заглушала в себе страдания от утрат — от самой великой и горькой утраты. Впервые в жизни она ощутила, что она просто не выдержит и погибнет, если позволит себе глубокие чувства.
Она достала из складок одежды длинную трубку и тщательно набила ее табаком из маленького кожаного кисета.
Прикурив от масляной лампы, Кири глубоко затянулась, надолго задержала дым в легких и резко выдохнула его. Ее дыхание прошуршало в ночи, и белое облачко растворилось в сыром, морозном воздухе. Вдали послышались голоса. Она не обратила на них внимания. Может быть, это ей только почудилось…
В голову лезли странные мысли. На мгновение она призадумалась, а не сделать ли ей затяжку поглубже и больше не выдыхать. Бесконечный экстаз. Переход в никуда. Мысль была соблазнительной. Почему бы действительно не уйти — прочь от этого смутного, но настойчивого ощущения зарождения личной трагедии, куда более страшной, чем сам Кай-фен, который был ей сейчас безразличен. Безразличен, как и все внешние проявления жизни. Но она понимала — и ей было горько это осознавать, — что ее тело предаст ее. Когда клубы дыма наполнят легкие и проникнут в кровь, когда сознание угаснет, все равно возобладают рефлексы, и она выдохнет помимо воли. Организм будет стремиться выжить. Ему нет дела до страданий души.
Сидевший рядом Туолин засмотрелся на ее профиль, такой красивый и бледный в красноватом и влажном свечении снежной бури. Далеко, за пропитавшимся кровью полем, в тени соснового леса, что-то происходило. Он почувствовал содрогание земли. Но мысли его были сосредоточены только на ней. Интересно, о чем она думает?
Он давно знал Кири. Все время, что был в Шаангсее, все время, что воевал, — так давно, что уже и не помнил, как долго. Он знал ее как хозяйку Тенчо, лучшего в городе дома услады. Знал ее и как Императрицу. Но для него — как для воина — ее титул практически ничего не значил. Громкие титулы предназначаются для подставных лиц. Для него лично значение имели только дела. А слова — это для слабых, для тех, кто боится действовать.
Среди его воинов ходила такая история, которую рассказывали-пересказывали до тех пор, пока она не превратилась едва ли не в легенду: как-то раз Туолин услышал, что один из его людей похваляется своими боевыми подвигами, и тогда, не говоря ни слова, он достал меч и снес хвастуну башку. Один этот поступок, жестокий и бескомпромиссный, был гораздо красноречивее всяких высоких слов об оскорблении воинской доблести. Ни одно, пусть даже самое строгое, увещевание не сравнилось бы по силе воздействия с этим «наглядным примером».
Он молча склонился к ней, наблюдая за тем, как из черной щели между неподвижных губ выходит последняя слабая струйка дыма. Ее громадные фиолетовые глаза остекленели, словно она пристально вглядывалась внутрь себя, в тайну своей сокровенной сущности.
Он бережно распахнул ее халат и уложил ее на снег. Белые руки медленно сомкнулись, заключая его в объятия, и притянули его к нетерпеливому лону.
Приникнув жаркими губами к ее холодным губам, он набросил края ее одеяния на их движущиеся тела.
Ужасные голоса становились все громче, и деревья вокруг загорелись холодным пламенем. Пульсация тел Макконов набирала темп. В лесу грохотали взрывы, расщепляя стволы древних сосен.
Не прерывая жутких своих завываний, они уже чувствовали нарастающие толчки, сотрясающие самую середину леса. Вокруг полыхали сосны, объятые пламенем.
Они удвоили усилия.
Издалека донесся вой, который не мог издать ни человек, ни зверь.
Они стояли посреди пылающего леса, сцепившись страшными когтями. Снег шипел, попадая в холодный огонь. Слышался скрежет сдвигающихся камней. Пронзительные вопли Макконов вспарывали пространство и разносились пугающим эхом по лесу, охваченному бледным пламенем, таинственным и пугающим. Гремящее эхо заполнило мир. Сначала исчез весь воздух. Потом померкли все краски. Потом не стало и света.
Тьма чернее ночи, глубже сна, необъятнее смерти расстелилась над пламенеющим остовом сожженного леса. Она опускалась к земле, разворачивалась, растекалась. Она разбухала, поглощая все.
Дольмен.
Наверное, именно громы и молнии, взывавшие к самым глубинам его сознания, вывели его к обширному уступу на восточном склоне Фудзивары, расположенному неподалеку от снежной вершины.
На уступе стоял деревянный домик со скошенной крышей и длинной террасой, откуда открывался вид на отвесный склон и окутанную туманом долину у подножия горы.
В дальнем конце дома, лепящегося к скале, камень был стесан, чтобы освободить место для исполинской печной трубы из зеленого кирпича, покрытого глазурью. К ней был пристроен огромный кузнечный горн.
Алые искры летели во тьму под раскатистый грохот молота.
Приблизившись к дому со стороны террасы, он поднялся по широким деревянным ступеням и вошел внутрь.
Его встретили три женщины в темно-коричневых халатах. По сравнению с его могучей фигурой их изящные тела казались просто миниатюрными. Их как будто и не смущала его нагота. Они поклонились ему и проводили по темному коридору в купальню. И только когда он забрался в лохань, а женщины на мгновение повернулись к нему спиной, он заметил рисунок на их халатах — переплетенные овалы.
Они тщательно обтерли его, и он набросил поданный ими халат, сотканный из разноцветных нитей настолько искусно, что он даже не мог определить, где заканчивается один и начинается другой цвет.
Они провели его по дому с простой незатейливой обстановкой: татами на деревянном полу и небольшие лакированные столики. На стенах висели гравюры, изображавшие путников на дороге. Он заметил, что дорог было только две, и они постоянно повторялись на рисунках. Одна — высоко в горах, вторая — вьющаяся вдоль морского берега.
Они прошли в заднюю часть дома, туда, где летели искры и воздух был плотным от жара. Здесь женщины оставили его, и он, уже в одиночестве, принялся неспешно спускаться по ступеням. Над ним возвышалась труба из зеленого кирпича.
Двигались мехи.
Молот бил по наковальне, и розово-желтые искры, словно огни фейерверка, уносились в воздух.
У горна работал обнаженный по пояс человек в черных шелковых штанах. Длинные иссиня-черные волосы струились у него по спине непослушной гривой. Широкие плечи, узкая талия, на бедре — меч в ножнах…
Кузнец повернулся к нему, и оказалось, что это женщина. Обнаженные груди лоснились от пота. Взгляд темных глаз был бесхитростным и открытым. На широких губах заиграла улыбка. Она подняла над головой громадный раскаленный молот.
— Почти готово.
Мелодичный и звучный голос.
Он вздрогнул. На мгновение ему показалось, что он узнает ее…
— Ты пришел как раз вовремя. — Она показала на грубый деревянный стол справа. — Короткий уже готов.
Он подошел к столу, взял спрятанный в ножны меч и медленно обнажил его. Длинный, слегка изогнутый клинок отразил свет кузнечного горла, блеснул ослепительной вспышкой в раскаленном воздухе.
Застегнув пояс с ножнами у себя на бедрах, он расставил ноги и сделал несколько пробных стремительных выпадов в воздух. Оставшись довольным как весом, так и балансировкой оружия, он убрал меч в ножны.
Он собирался уже отойти от стола, но тут его взгляд случайно упал на какой-то странный предмет, и он с любопытством протянул руку. Это была перчатка из шкуры Маккона, на вид — пара той, которую он носил на левой руке.
— Надевай, не стесняйся, — сказала женщина-кузнец. — Ведь он оставил ее для тебя.
Они долго смотрели друг на друга.
— Знаешь, — проговорила она, — ты совсем не такой, каким я тебя представляла. Как будто незавершенный…
Она пожала плечами.
— А ты… — он натянул вторую перчатку и подошел к ней вплотную, — …мне кажется, я тебя знаю, но я…
— Вот, посмотри сюда.
Он встал у нее за спиной и принялся наблюдать за ее работой, потому что она попросила его об этом. Она взяла в руки меч, примерно на треть длиннее того, который уже был у него и который она назвала «коротким». В середине клинка металл отливал сине-зеленым, но вдоль заточенных кромок он был бледно-зеленым. Гарда была изготовлена из цельного куска резной ляпис-лазури, усиленной металлом, а рукоять — из черного металла, отделанного полированным нефритом цвета морской волны.
Она окунула клинок в бочку с водой. С шипением повалил густой пар. Перед тем, как вернуть меч на наковальню, женщина тщательно обтерла его куском замши. Из лакированного железного ящичка возле горна она извлекла какой-то инструмент, похожий на нож, и поскребла обе кромки по всей длине клинка. Потом достала длинный напильник и подточила края. Оставшись довольной работой, она понесла меч к деревянной раме, посередине которой был укреплен блестящий камень. Его выщербинки искрились на свету. Она нажала ногой на педаль, и камень быстро закрутился. Она осторожно поднесла клинок к вращающейся поверхности.
Искры разлетались горячим снегом.
Раз, другой, третий.
У него закружилась голова, и он отвернулся, подняв глаза к снежной вершине Фудзивары. Ветер разогнал тучи, и на небе опять показалась мерцающая россыпь бело-голубых звезд, до жути отчетливых и как будто живых в разреженном горном воздухе. Возможно, своим непрестанным мерцанием они передавали ему какое-то тайное послание. Но теперь он уже был уверен, что они не подскажут ему ответ, поскольку, пока в мире правит человек, загадки и тайны останутся все равно.
Через какое-то время женщина-кузнец закончила полировать края клинка на смоченном маслом камне, опять уложила меч на наковальню и аккуратно протерла его по всей длине.
Низко склонившись, она выгравировала на его поверхности свое имя, после чего отполировала его еще раз — уже последний.
Потом она повернулась и подала ему меч.
Приняв оружие, которое лежало в его руке как влитое, он поднял клинок перед собой и взглянул на свое отражение в зеркальной поверхности. Он смотрел на себя как бы в первый раз, но это и был первый раз.
Теперь глаза у него были бледно-зелеными, с золотистыми пятнышками, окаймляющими большие зрачки. Продолговатые, миндалевидной формы. Высокий прямой лоб. Шелковистые черные волосы, свободно ниспадающие на плечи. Смуглая кожа. Высокие и массивные скулы. Но черты как будто расплывались, не позволяя себя разглядеть, он понял только одно — что-то странное было в его лице, что-то неуловимое… Он резко отвернулся и встретился взглядом с темными, точно маслины, глазами женщины.
Она смотрела на него безмятежно, но, проникнув в глубину этих глаз, он обнаружил там свирепую силу, сдерживаемую до поры, и узнал эту темную, лихорадочную мощь.
Отмщение.
А что еще их объединяет?
— Кто ты? — спросил он.
— Ты доволен своим новым оружием?
— Да, очень.
— Хорошо, — она рассмеялась. Ее груди дразняще заколыхались.
Не сказав больше ни слова, она повела его в дом. Женщины в халатах сняли с нее штаны, и только сейчас он заметил, что они удерживались на талии овальной лазуритовой булавкой.
И когда она забралась в источающую пар деревянную лохань с ароматной водой, к нему вспышкой радуги вернулось воспоминание, словно летучая рыба выскочила над поверхностью бурного моря — мимолетное видение из другой жизни.
— Нет, — выдохнул он. — Этого не может быть. Не может быть.
Теперь ее тело казалось меньше, оно было светлым и плотным. Когда вода смыла пот, ее кожа порозовела, растертая грубыми губками в руках прислужниц.
— Я видел, как ты умирала… Видел твою разорванную плоть… кровь…
Протянув к нему руки, она прервала его:
— Хватит. Я — кузнец, ты — чародей.
Прислужницы сняли с него халат, и она невольно задержала дыхание при виде его странного тела. Ее темные глаза загорелись.
— Не понимаю, — он действительно растерялся. — Дор-Сефрит — чародей, а не я.
Он забрался к ней в лохань.
Она поцеловала его странные губы, вскрикнув, когда они соприкоснулись.
— Но его больше нет, — шепнула она ему в ухо.
Дыхание нежное, как заря.
Ее сильные пальцы исследовали уникальный объект — его новое тело.
Его руки скользили у нее по спине, лаская ее. Она закрыла глаза. Они снова поцеловались и погрузились в ароматную воду. Вода всколыхнулась, сильнее, сильнее…
Опустившись на колени, прислужницы в коричневых халатах вытирали выплескивающуюся на пол влагу новыми губками.
* * *
Пока он спал в ее огромной кровати и время стояло на месте, а тело его настраивалось, исцелялось, она тем временем завершала свою искусную, многотрудную работу.
И когда он проснулся, его доспехи были готовы. Он надел черный лакированный нагрудник, отделанный лазуритом и зеленым нефритом. Серебряные ножны для его длинного клинка были украшены полосками малахита. Теперь у него было два меча: короткий — на правом бедре, длинный — на левом.
Она сама возложила ему на голову высокий шлем из красного жадеита и полированной меди. И ему сразу же захотелось отправиться в путь, спуститься с горы и покинуть Ама-но-мори. Кай-фен звал его, и надо было идти, подчиняясь настойчивому призыву. А еще он понимал, что ему предстоит совершить нечто большее, нежели просто схватиться с Дольменом, что без него последние силы людей сгинут в Кай-фене… но понимал он и то, что обязан следить за каждым своим шагом и за действиями тех, кто рядом, — к этому вынуждала безграничность его теперешнего могущества, ибо вместе с обновлением к нему пришло и осознание многосложности жизни. Ведь никто — даже Воин Заката — не закаляется за счет одного события и не создается для единственной цели.
Он стоял, полностью облаченный, и ждал.
Она опустила руки.
Тряхнула головой, и черные волосы разлетелись, подобно раскрытому вееру.
Неуловимое, стремительное движение. Она сделала грозный выпад своим мечом.
Мозг еще продолжал размышлять, но нервы среагировали мгновенно и привели мышцы в движение. Мысль парила где-то на заднем плане, словно алый вымпел, трепещущий на ветру, а плечо, рука, пальцы уже превратили меч в серебристый проблеск.
В тот ослепительный миг, когда его великолепно заточенный меч вошел в ее тело, он заметил у нее за спиной игру солнечных лучей на волнующейся поверхности моря.
Хлынула кровь, ее насыщенный алый цвет явился такой же шокирующей неожиданностью, как и пятно киновари на гравюре с заснеженным зимним пейзажем.
Кровь горячим потоком выплеснулась ему в лицо, залила глаза. Он рухнул на пол, ощутив острый приступ головокружения, и погрузился в зеленые морские глубины.
Снова он оказался у самых основ мироздания. Они были громадными, эти столпы земли, но и он был таким же — огромным и беспредельным, — и плыл лениво через зыбкие арки колоссальных величественных сооружений, шаря взглядом по темным пространствам.
Он искал и нашел Эгира, его бесконечный, слегка закругленный бок с колышущейся грубой шкурой, пульсирующей дыханием жизни. Он поплыл вдоль него. Ощущение было такое, что с каждым могучим гребком он покрывал сразу несколько лиг.
Теперь он знал свой путь, хотя дороге, казалось, не будет конца. Пробираясь извилистыми путями сквозь основы мироздания, он забирался все глубже и глубже — через выступы сланца, под барьерными рифами, мимо черных бездонных впадин, сквозь загадочные Проходы, к центру мира.
А потом он увидел голову Эгира, настолько громадную, что он даже не смог разглядеть, где заканчивалась его морда. Исполненный великой печали и радостного возбуждения, он поднял клинок и нанес могучий удар в мозг Эгира.
Туловище принялось корчиться и извиваться, голова треснула, как орех. В него полетели куски — тяжелые обломки кости и плоти. Он уже больше не мог сдерживать дыхание и судорожно глотнул. Вода хлынула в легкие.
Она стояла перед ним, целая и невредимая, и улыбалась.
Он перевел взгляд на длинный сине-зеленый клинок, на капли крови на татами. По его телу ручьями стекала морская вода.
— Теперь он действительно принадлежит тебе, ибо он получил имя, — сказала она. — Душа из стали.
Он не отрывал взгляда от мерцающего клинка.
— Какое у него имя?
— Ака-и-цуши, — отозвался он, не поднимая глаз.
Она склонила голову перед мечом.
— Мне жаль твоих врагов.
* * *
— Она может нам чем-то помочь? — спросил риккагин Эрант.
— Теперь, с приходом Дольмена, нам уже вряд ли кто-либо поможет.
Туолин, не отрываясь, смотрел на догорающее холодное пламя.
— Понимаешь…
— Да, брат, я знаю, что ты вовсе не это имел в виду. От соснового леса остались только дымящиеся головешки.
— Страшные дни. Мы все не в лучшем настроении.
Отвернувшись от удручающего вида, открывающегося на севере, он провел рукой в воздухе, как бы обнимая здания Камадо с изображениями древних богов войны на колоннах во внутренних портиках.
— Они нам уже не помогут, и, боюсь, человеческое оружие бессильно против этих колдовских созданий.
Его взгляд скользнул в сторону, лишь на мгновение встретившись с пристальным взглядом брата.
— Ты видел, что эти мертвоголовые вытворяют с нашими людьми. Из их тел не течет кровь, и сила у них просто нечеловеческая. Будь у нас хоть какая-то оборона, способная их остановить…
Риккагин Эрант положил руку на жилистые плечи брата. Они оба были высокими и мускулистыми. Коротко стриженный, светловолосый Туолин был намного моложе Эранта. Риккагин Эрант уже начинал седеть; на его волевом лице с большим крючковатым носом и окладистой бородой белели рубцы, шрамы от ран, полученных им в боях. Он развернул Туолина к себе лицом, спиной к темным зданиям, к мрачным улицам Камадо с редкими точками желтого и оранжевого света.
— Туолин, пора забыть о вмешательстве богов в людские дела, равно как и о безграничных возможностях чародейства. Все это осталось в другой эпохе, когда в мире жили другие люди, совсем непохожие на нас…
— Вряд ли они так уж сильно от нас отличались, разве что им были подвластны какие-то силы, для нас недоступные…
— О нет, они отличались от нас точно так же, как мы сами — от этих мертвоголовых воинов. Они жили служением, Туолин. Вся их жизнь подчинялась какой-нибудь высшей воле. К счастью, мы не такие. На нашу долю не выпало падать ниц на твердую землю и пресмыкаться перед бездушными идолами или же бормотать заклинания с какого-то полуистлевшего свитка. Мир изменился. Наши Законы больше не поощряют распространение чародейства.
— И как же тогда быть с Дольменом?
— Он — последнее воплощение жизни, время которой давно миновало. Дольмен был создан в незапамятные времена. Сейчас он не смог бы родиться, потому что сейчас не то время. Мы легко уничтожим его и его легионы.
Но в эту странную колдовскую ночь убежденные речи Эранта звучали сбивчиво и неуверенно, и он сам это чувствовал.
Они еще долго стояли в молчании на крепостной стене, и только когда сошли вниз по лестнице, выходящей на темные улицы, Эрант тихо спросил у брата:
— Что тебя беспокоит?
Туолин вздохнул.
— Ее душа умерла. Или еще что-то другое, но очень важное. Что-то в ней надломилось.
— Что случилось?
— Убит один человек. Женщина, с которой она была очень близка.
Он отвернулся, и свет факела на мгновение высветил палочку из слоновой кости, продетую через дырочку в мочке его уха.
— Я знал их обеих… — Он с горечью рассмеялся. — Я чуть не сказал «знал хорошо», но это было бы неправдой. Просто я знал их достаточно долго. Я никогда не стремился получше узнать о характере их отношений…
— А что случилось с той, второй?
— С Мацу? — Туолин неловко пожал плечами. — Я должен был сообразить… еще в тот вечер, когда впервые привел Ронина в Тенчо. Мацу подала ему халат с необычным рисунком, а потом он выбрал Кири. Какой идиот, подумал я тогда. Но она приняла его…
— Почему?
— Я не знаю, но думаю, что Мацу подала ей знак. Их что-то связывало, всех троих, что-то странное, непонятное…
— Но ты сказал, что Мацу убили.
— И теперь мы уже ничего не узнаем. Она никогда не расскажет. — Он имел в виду Кири. — Возможно, они были сестрами.
— Какое это имеет значение?
Где-то залаяла собака. Звон кузнечного молота раскатился в густой ночной тьме гулким эхом.
— Душно… Погода какая-то неестественная.
— Ты говорил о Кири, — напомнил Эрант.
— Почему она так тебя интересует? — Туолин повернулся к брату.
Почему-то только теперь риккагин Эрант обратил внимание на его впалые щеки, на мешки под глазами. Он отметил, что правое плечо у Туолина чуть приподнято. Наверное, раны его заживают не так хорошо, как хотелось бы.
— Меня она мало интересует, но я волнуюсь за тебя и хотел бы узнать о причинах твоей меланхолии. Если ты хочешь Кири, тебе достаточно лишь попросить. Когда-то она была недоступна. Теперь она дает тебе…
— Свое тело. Но это не Кири. Осталась одна оболочка…
— Она дает тебе то, что может, — упрямо проговорил Эрант.
— Но мне этого мало, — вздохнул Туолин. — Зачем мне лишь призрак полузабытого прошлого?
Риккагин Эрант уловил в голосе брата горький оттенок и мысленно пожалел его.
— У меня нет ничего, — прошептал Туолин. — Ничего.
— Но она жива, — возразил с жаром Эрант, схватив брата за руки. — Она дышит, в ней бьется сердце, она мыслит. Все еще можно поправить. Найди способ…
Но Туолин покачал головой:
— Уже ничего не поправишь, что-то в ней умерло.
— Ты глупец, раз не видишь того, что лежит у тебя перед глазами!
Послышался звон колокола. Приглушенный топот сапог. Смена караула.
Риккагин Эрант провел рукой по волосам и сказал уже мягче:
— Туолин, я бы хотел, чтобы ты с ней поговорил…
— О чем?
— О Ронине. Ты сам мне сказал, они были близки. В последний раз его видели выходившим с восточной опушки леса, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Уже столько месяцев… Возможно, убив Оленя, он отправился за подкреплением. Может быть, она знает…
Туолин оттолкнул брата.
— Почему бы тебе самому не спросить у нее?
Его гневный голос уплыл в туманную ночь.
* * *
Она нежно поцеловала его, и он прикрыл веки, чтобы не видеть своего отражения в ее глазах. У нее были мягкие сочные губы. Он провел руками по ее гибкому телу.
И прервал поцелуй, чтобы сказать кое-что. Очень важное.
— Как я смогу от тебя уйти? Я тебя не оставлю…
Она взяла его за руку, и они вышли на длинный балкон, с которого открывался безмятежный вид на горные склоны. Долгая ночь уже рассыпалась застывшими осколками мрака, скрывающими Фудзивару. Но они все равно ощущали, как массивный ее силуэт нависает над ними.
Пространство.
Они парили, словно два вольных могучих орла в звенящем разреженном воздухе.
Ее тонкие руки странствовали по его телу, ласкали, исследовали его. Она — как восторженный ребенок. И он, вдохновленный ею, давшей познать себя.
— Это он сделал с тобой такое? — вдруг спросил он. — Дор-Сефрит?
Ему показалось или она действительно незаметно кивнула?
— Но как? Почему?
— Ты уже знаешь почему. — Она прижалась к нему. — А как…
Она пожала плечами.
— Об этом нельзя говорить.
— Но я… он видел тебя…
Она повернулась к нему.
— Я и сейчас тебя вижу. — Она провела пальцами по его руке. — Ты хочешь, чтобы я спросила, кто ты? Она покачала головой.
— Ты больше не Ронин. Ты… ты стал совершенней, полней. Но Ронин остался, его сущность не исчезла вместе с телом. Однако сейчас он — лишь часть тебя. Так и со мной. Я тоже — лишь часть…
— Но чего?
Она прильнула к нему, снова поцеловала.
Он ощутил влагу на своих щеках.
Его сильные, странные пальцы перебирали ее длинные волосы. Он заглянул ей в глаза.
— Как я смогу от тебя уйти? — повторил он. — Я тебя не оставлю.
— Скоро, — прошептала она. — Уже очень скоро.
Это звучало почти как плач.
Он прошел примерно треть круга по крепостному валу, когда вдруг увидел ее. Кутаясь в темно-фиолетовый плащ, она стояла спиной к холодному пожару в сосновом лесу, прислонившись к стылому камню.
— Туолин сказал, что ты здесь.
Она повернула голову, но взгляд остался пустым, неподвижным, бесстрастным.
— Я всегда прихожу сюда по ночам, — тихо проговорила она.
Внизу, в предрассветном городе, еще было тихо, хотя конюхи и повара уже приступили к своим утренним обязанностям. Откуда-то издалека донеслось фырканье и топот лошадиных копыт. Эти звуки напомнили ему о ее необычном скакуне, шафрановом луме. Ему давно хотелось иметь такого же. Но он даже ни разу не ездил верхом на луме.
— Он изменился. Сильно изменился. Причем за такое короткое время.
Он присел рядом с ней так близко, что ее волосы, подхваченные сырым ветром, скользнули по его лицу.
— Я его не узнаю.
Кири невесело рассмеялась, и он невольно поежился при звуках этого смеха.
— Я сама себя не узнаю. Мы все изменились. Кай-фен…
— Мой брат всю жизнь провел на войне, Кири. Кай-фен — это та же война, пусть последняя, но все равно… Не сражения его печалят.
Он помолчал и добавил:
— Он любит тебя.
— Да, я знаю, — прошептала она так тихо, что он еле услышал.
— Ты погубишь его.
— Я не какая-нибудь злодейка. — Она произнесла это так, словно пыталась сама себя убедить.
— Дело не в тебе. Обстоятельства…
Эрант умолк, потому что сам в это не верил.
— Нет, во мне! Ты должен понять. Он должен понять. Ты должен сказать ему. От меня теперь никакой пользы, и даже хуже… потому что мне все безразлично — и Кай-фен, и мой народ, и Туолин…
Он смотрел, как по ее щекам тихо катятся слезы. Говорят, слезы красят красивую женщину. Даже теперь она была прекрасна.
— Я боюсь за него, — его голос дрогнул. — Он постоянно думает о тебе. Только о тебе. А завтра утром он должен выйти на битву с ясной головой, потому что лишь ясная голова и еще его воинское мастерство помогут ему выжить. У меня никого, кроме него, не осталось…
Слишком поздно, вдруг вспомнил он и неловко запнулся.
Она смотрела в пространство и не вытирала слезы.
— Не держи его. Отпусти.
Она прикрыла глаза; слезинки сверкали в ее длинных ресницах.
— Когда-то у меня была сила, но теперь ее нет, — прошептала Кири. — Он сделает то, что должен.
— Ты катишься в пропасть и хочешь утащить его с собой?
Она резко вскочила на ноги. Он остался сидеть. Кири тряхнула головой, и ее горячие слезы упали ему на лицо.
— Чего ты от меня хочешь?
Ему вдруг до смерти надоела ее жалость к себе. Он тоже поднялся. Он весь так и кипел энергией. Казалось, еще немного — и он взорвется. Она замерла, точно лань, завороженная ярким светом факела.
— Будь женщиной, а не пугливым ребенком!. Если хочешь умереть, возьми нож и всади его себе в живот. А если все-таки хочешь жить, тогда не губи тех, кто рядом!
— Я хочу только одного: чтобы время повернуло вспять, чтобы Мацу была со мной, чтобы Ронин…
Она отвернулась. Ее сведенные пальцы, словно когти, впились в ледяной камень парапета.
Он подошел к ней сзади и заговорил, и она содрогнулась под напором его жестких слов, как под ударом хлыста:
— Ты мне противна! Какие тебе еще надобны чудеса? Он сражается за будущее всех людей, а ты молишься своим сокровенным божкам, чтобы они вернули тебе мертвую сестру!
— Она была мне не сестрой!
Кири рывком развернулась и принялась молотить кулаками ему по груди. Она была сильной, и эта внезапная вспышка ярости испугала его. Он отступил, поскольку она тоже была воительницей, к тому же теперь превратившейся в остервенелого рассвирепевшего зверя. Она лупила его, пока он не упал, а потом насела на него, продолжая наносить удары. Ее фиолетовые глаза горели гневом, безысходностью и отчаянием.
Но он уже чувствовал, что сейчас она скажет ему такое, что стоит того, чтобы стерпеть побои.
— Ублюдок! — кричала она. — Ублюдок! Она была мной! Она была мной!
Его нос хрустнул от резкого удара. Кожа на щеке лопнула — Кири всадила кулак ему в скулу. Но риккагин почти и не защищался. Она разбила ему нижнюю губу, не переставая кричать на него, а потом вдруг вся обмякла и рухнула ему на грудь, тяжело дыша и всхлипывая. Ее волосы были мокрыми от пота.
Он ничего не говорил, а просто лежал, чувствуя, как теплая струйка крови стекает по шее, пропитывает воротник рубахи, затекает под нагрудник кирасы. Он дышал ртом. Разбитые губы уже распухли.
Она села.
— Теперь ты понимаешь? — спросил он тихо.
Она сидела очень прямо, крепко зажмурив глаза.
— Что ложь, а что правда?
— Я больше не знаю, кто я.
Он выбрался из-под нее.
Она открыла глаза и тихонько ахнула, увидев, что натворила.
— Кири, где Ронин?
Она протянула руку, загребла снег и приложила к его носу. Снег сразу сделался розовым.
— Далеко. Очень далеко. Не знаю, где именно. Но в одном я уверена. — Она приложила кусочек льда к его разбитой губе. — Он вернется.
И только теперь она вытерла слезы, уже подсыхающие на щеках.
* * *
Поначалу вокруг него вился снег, переливавшийся нежным искрящимся перламутром в розовом свете зари. Но когда он спустился чуть ниже и погрузился в рыхлые облака, все утонуло в тумане, и очертания мира расплылись.
Скоро, сказала она. Уже скоро. Что крылось в этих глазах, темных, точно маслины?
Окутанный облаками, он думал об Эгире, который когда-то помог ему. Еще там, в другой жизни, когда он был Ронином. Он узнал в нем, уже после того, как убил — первая кровь, окропившая длинный сине-зеленый клинок, на котором она выгравировала его имя Ака-и-цуши, что в переводе с древнебуджунского означало «Алые Вести», — то существо, что ворочалось в темных глубинах под его разбитой фелукой на пути в Шаангеей. То существо, что спасло Ронина от колдовских воинов Дольмена, посланных Сетсору, чтобы уничтожить его, прежде чем он доберется до Ама-но-мори. Именно он, Эгир, вздыбил тогда свое исполинское тело и породил неестественное течение, оторвавшее его судно от вражеских кораблей и донесшее его до рифов Ксич-Чи.
А он убил его. Эгира.
Зачем?
Он постарался не думать об этом, попытался расслабиться и уйти в себя, к раскаленному ядру своей сущности.
Он выбрался из облаков, в которых полыхали зеленые молнии, и вышел к нижним отрогам горы, где на ветру шелестели бирюзовые сосны. Вскоре тропа стала пологой, и у него появилась возможность идти быстрее.
Даже в полном боевом облачении он легко и без видимого усилия спускался по склону горы, минуя высокие сосны, полной грудью вдыхая их пряный аромат и прислушиваясь к звукам просыпающегося мира. Стрекотание насекомых. В отдалении — крики летящих гусей.
А когда он вышел из-под сени последних величественных сосен на отрогах Фудзивары, они уже ждали его. Моэру, Оками и Азуки-иро.
Стоя внизу, они наблюдали за тем, как он спускается к ним. Он еще издали заметил, что Оками и Азуки-иро потупили взоры, но не из благоговения перед ним, а из уважения к последнему мифу своего народа, к живому его воплощению, представшему перед ними.
— Это он, — прошептал Оками. — Тот, кто остановит тьму. Воин Заката.
— Никуму все-таки сделал это, — произнес Азуки-иро. — Я знал, что так будет. Он был буджуном, и наши традиции глубоко укоренились в его душе. Карма. Теперь его имя вовеки пребудет в истории.
— Ханеды больше нет, — объявил Воин Заката. — Когда я рождался, там разразилась ужасная битва.
— И Ронин, и Никуму погребены под дымящимся пепелищем Ханеды, — тихо проговорила Моэру. — Пройдет время, и на том месте будет воздвигнут храм.
— В честь дор-Сефрита, — сказал Воин Заката.
— В честь всех буджунов, — добавил куншин.
Моэру безмолвно шагнула вперед, не отрывая взгляда от Воина Заката.
Азуки-иро обратился к Оками:
— Пойдем, друг мой, нам пора возвращаться в Эйдо. Дайме готовы, и я должен провести смотр.
Он извлек из складок одежды какой-то небольшой продолговатый предмет из слоновой кости и подал его Оками:
— Возьми мою печать. Покажешь ее начальнику порта и от моего имени передашь, чтобы он готовил корабли. Теперь, когда с нами Воин Заката, буджуны примут участие в Кай-фене.
Он обвел взглядом аметистовые склоны Фудзивары.
— Воистину, эта гора соответствует имени, данному ей. «Друг Человека».
Не говоря больше ни слова, они прошли через поляну к тому месту, где стояли, пощипывая траву, их стреноженные лошади. Усевшись в седло, они развернули своих скакунов и унеслись по широким волнующимся полям.
Едва они скрылись из виду. Воин Заката обратил пристальный испытующий взгляд на лицо Моэру, словно видел ее впервые.
Утро уже наступило, и косые лучи солнца омывали ее лицо переливами розового и красноватого. Она отвернулась, не выдержав его взгляда. Он смотрел на ее гордый профиль, на изящный изгиб ее шеи, на волосы, раздуваемые свежим восточным ветром. Высокие сосны шуршали иголками.
За плечом Моэру мелькнула стайка серых ржанок, взмывающих в белое небо. От земли поднимался туман.
— Почему ты так на меня смотришь? — спросила Моэру. — Это мне надо смотреть на тебя.
— Ты заняла важное место в жизни Ронина. С той самой минуты, как он тебя встретил. И в моей жизни ты тоже занимаешь едва ли не главное место. Я хочу знать почему.
Она взглянула в небо, на птиц, исчезающих в белой дали.
— Что произошло с Никуму?
— Он был последним из рода дор-Сефрита. И ты, наверное, знала, что он был воином-магом и практиковал колдовское искусство древних буджунов.
— До недавнего времени он практически не прибегал к чародейству.
— Да. Дор-Сефрит, разумеется, знал о Дольмене. И о том, что последняя битва, Кай-фен, неизбежна. Он не был бессмертным, но он понимал, что ради спасения буджунов, ради спасения всего человечества должен придумать какой-то способ, как обмануть смерть. Поэтому он и занимался магией, поэтому все члены его семьи знали его секреты. Отдавая себе отчет, что враги его могущественны и бессмертны, дор-Сефрит придумал один хитрый план. Я не знаю всего. Я знаю лишь то, что он мне рассказал.
Солнце взошло. Небо над ними наполнилось светом. Они неспешно направились через поляну к двум стреноженным лошадям.
— Никуму предчувствовал приближение Кай-фена и поэтому решил призвать дор-Сефрита. Однако Дольмен уже набрал силу. А Никуму этого не учел и был застигнут врасплох как раз во время совершения магического ритуала. Дольмен сумел проникнуть в него, поскольку Никуму полностью сосредоточился на призвании дор-Сефрита и не сумел ему противостоять.
Моэру непроизвольно поежилась, обхватив себя руками.
— Возникла тупиковая ситуация. Дор-Сефрит оказался заключенным в нематериальной форме…
— Тень! Я так боялась его…
— Да, и, как выяснилось, напрасно. Но ты не могла знать о Дольмене, который проник в Никуму и засел в его теле, пытаясь овладеть его разумом и навязать ему свою волю, а дор-Сефрит, хотя и мог говорить, был не в состоянии помочь Никуму.
— Но ведь Ронин помог ему?
— Вероятно. Но как бы там ни было, ты правильно сделала, что настояла на возвращении в Ханеду. Его присутствие в замке ускорило развитие событий, но, как верно заметил Азуки-иро, это была битва Никуму. Битва, которую он должен был выиграть сам. Но он отступил, возглавил движение сасори, заточил тебя в замке. Ты знаешь, это дор-Сефрит посоветовал ему отправить тебя на континент человека, чтобы найти Черного Оленя…
— Кого?
— Сетсору.
— Ах да. И мне это почти удалось, но потом пришлось ввязаться в драку с красными там, на севере. Я уложила троих, прежде чем меня сбили с ног. Потом мне заехали сапогом…
— Тебя ударили по голове…
— И я потеряла память. А Сетсору?
— Я нашел его в лесу… то есть Ронин…
— Да, ты был такой бледный… Где он сейчас?
— Он во мне, Моэру. Теперь мы с ним одно. Поэтому Никуму и заточил тебя в замке. Сначала лишил тебя голоса, а потом запер в Ханеде. Дольмен боялся, что Ронин станет… тем, кем он стал…
Он постучал себя по груди.
— А я здесь при чем? — не поняла Моэру.
— Наверное, нам еще предстоит это узнать. Нам обоим.
Они подошли к лошадям. Для него седло было маловато, и ему пришлось поджать ноги, чтобы вставить их в стремена.
— Ты оказалась права, Моэру. Никуму был непростым человеком. И к тому же отважным. Он мог убить Ронина и остаться в живых, но у него была совесть… и, может быть, только это меня и спасло. Он так яростно сражался с Дольменом… и это позволило дор-Сефриту вернуться к жизни в своем теле…
— Но что случилось с Ханедой? Она вся разрушена…
— Это мог сделать только Дольмен. Возможно, они с дор-Сефритом сражались, пока Ронин умирал.
— В таком случае…
— Да, понимаю, о чем ты. Каков исход? Дор-Сефрита больше нет.
Он поймал себя на том, что постоянно возвращается мыслями к той, другой, жизни, в которой они с Моэру были вместе. Ему хотелось спросить, любила ли она Ронина, но и этот вопрос, и ответ на него казались теперь такими же далекими и ненужными, как прошлогодний снег.
— Но это уже не имеет значения! — крикнул он ей, натягивая поводья. Его лошадь вздрогнула и встала на дыбы. — Потому что теперь есть я. Воин Заката явился на Ама-но-мори. Мы готовы к Кай-фену!
Лошади рванулись вперед.
Ветер переменился, и он уловил пряный аромат чая, который готовили в домике далеко-далеко на равнине.
В большом медном котле варился рис. Языки пламени пылко облизывали его закопченное днище. Пар поднимался вверх из открытого очага и выходил через массивный дымоход.
Повар вытер руки о засаленный фартук и отвернулся от стопки деревянных мисок, составленных рядом с наваленными дровами.
В такой ранний час в большом зале еще было пусто. Только желтый с серыми подпалинами пес, забредший с улицы, обнюхивал деревянный пол в поисках пищи.
Повар беззлобно прикрикнул на него, а потом, когда пес никак не отреагировал на предупреждение, ударил его ногой. Пес взвизгнул — башмак повара врезался ему в ребра, — и царапнул когтями по полу. Повар выругался от души и ударил еще раз. Пес выскочил на крыльцо и присел там, зализывая ушибленный бок.
В таверну вошла Кири. Повар налил ей горячего чая и отошел в уголок, чтобы прикорнуть у огня, пока народ не повалил на завтрак.
Она встала у очага, машинально прихлебывая чай. Она чувствовала тепло от огня, но как будто не видела света.
Допив чай, она взяла миску из стопки, сняла с крючка металлический черпак и положила себе порцию липкого риса. Потом присела за длинным столом, поставив миску перед собой. К еде она не прикоснулась.
Кто-то еще вошел в зал. Постоял, глядя ей в спину. Подошел и сел рядом.
Туолин налил себе чаю.
Ее сердце бешено заколотилось. Она собралась что-то сказать, но слова костью застряли в горле. Она не знала, какие нужны слова.
Он не смотрел на нее и не пытался заговорить. Они так и сидели молча, а потом начали появляться первые утренние посетители. Зал быстро наполнился воинами. Они тут же набросились на еду. За столом уже не хватало мест. Кому-то пришлось есть стоя. Повсюду слышались громкие голоса. Повар носился туда-сюда, только успевая наполнять миски. Он понимал, что день воинам предстоит долгий и первая трапеза должна быть обильной.
Кири поднялась и направилась к выходу, протискиваясь сквозь толпу.
Туолин протянул руку и прикоснулся к ее миске с остывшим рисом.
Стоя на носу «Содзу», флагманского корабля буджунов. Воин Заката пристально вглядывался в просторы переливающегося моря. Следом за кораблем по направлению к востоку тянулась сверкающая золотистая дорожка, проложенная жарким полуденным солнцем.
Он стоял лицом к западу. Там его ждал континент человека. Кай-фен.
Его кровь уже бурлила в предвкушении.
Рядом стояла Моэру в нагруднике из полированного металла, окаймленном зеленым нефритом и перламутром, и с двумя буджунскими мечами на поясе, длинным и покороче. Ее длинные черные волосы были убраны под высокий медный шлем.
Вокруг царило оживление, по всей огромной армаде буджуны поднимали паруса. Движения их были организованны и точны, как движения актеров в финале ногаку.
Азуки-иро подал знак, и Моэру пробормотала:
— Мы готовы.
Послышался крик, повторившийся бессчетное количество раз — многоголосье под стать вскрикам чаек, круживших над мачтами кораблей.
Крик обернулся ритмичным пением. Буджуны разом склонились над огромными плоскими брашпилями. Со скрипом и визгом повернулись колеса, поднимая тяжелые якорные цепи.
Воздух, насыщенный солью и фосфором, наполнился волнующей и мелодичной песней буджунов.
Вот уже вытянуты и закреплены последние якорные цепи.
Буджуны бегут по вантам.
Вода почернела в тени армады, растянувшейся далеко на запад.
Он смотрел, не отрываясь, на сотни буджунских кораблей, медленно покачивающихся на волнах, готовых отплыть от Эйдо, от берегов Ама-но-мори.
— Плыть очень долго, — сказала Моэру. — А времени мало. А что, если мы не успеем добраться до континента вовремя?
— Успеем.
Он отошел от нее; ослепительные блики солнца плясали на его черной кирасе. На высоком шлеме развевались белые перья.
Он замер у основания бушприта «Содзу».
Вынул из ножен свой сине-зеленый клинок, Ака-и-цуши.
Бледно-зеленый отсвет пробежал по клинку. Сжимая меч обеими руками, он вытянул его над морем.
Закрыл глаза.
И последнее наследие его покровителя-зверя всплыло из темных глубин, вызванное Ака-и-цуши, освобожденное усилием его мысли.
Горизонт на востоке затянули багровые тучи, там собиралась буря. Но здесь корабли тихо покачивались на воде, а солнце вовсю припекало в безоблачном небе.
Наступил полнейший штиль. В воздухе не было ни единого дуновения.
Тучи с востока понеслись в сторону кораблей.
Налетел первый порыв восточного ветра.
— Поднять все паруса! — приказал куншин.
Восточный ветер, прохладный и наэлектризованный, с каждой минутой усиливался. И всех, кто его ощущал, переполняло какое-то странное возбуждение.
Тучи уже затянули все небо. Полыхнула первая молния, грянул гром, раскатившийся эхом над морем. Ветер набросился на армаду.
Куншин подал знак, и корабли приняли на себя бурю.
Волны вздымались, в снастях завывал ветер. Казалось, еще немного — и паруса лопнут, не выдержав напряжения. Флот буджунов сорвался с места и помчался по штормовому морю со скоростью, небывалой для кораблей, сделанных человеческими руками.
Моэру стояла на носу «Содзу», завороженно глядя на сверхъестественное свечение, струившееся вдоль сине-зеленого клинка, и никто, даже Воин Заката, не сумел бы сказать, о чем она думала в эти минуты.
НЕМЕЗИДА
В оживленном лагере Дольмена был один человек, который старался держаться поближе к определенным людям — даже при том, что они явно были новичками в этом разношерстном войске. Но это были, вне всяких сомнений, вожди. И от них не воняло, как от всех остальных тамошних военачальников. Но самое главное, это были обычные люди, а не какая-нибудь странная нечисть, которой хватало в армии Дольмена.
Сам человек был худым и высоким, жилистым, с твердыми мышцами. Его лицо с длинными, отвислыми усами, всегда изможденное и угрюмое, никогда не озаряла улыбка. Он любил свой народ и болел за него душой, но при этом давно уже разочаровался в нем, и это горькое разочарование, донимавшее его денно и нощно, в конце концов сделалось невыносимым. В отчаянной попытке защититься от этой тоски, медленно убивавшей его, он обратил ее вовне и превратил любовь в лютую ненависть. Легче ему, правда, не стало, но теперь, просыпаясь по утрам, он хотя бы не думал о том, чтобы всадить себе в живот свой короткий меч.
Уже не один год По был связан с красными из северных провинций. На это его подтолкнуло презрение к жирным купцам и жадным риккагинам, которые грызлись между собой за стенами Шаангсея.
Будучи торговцем, он частенько наезжал по делам в этот самый богатый из городов на континенте человека. Его принимали в «лучших домах» Шаангсея, в городе за стенами, где селились наиболее влиятельные и богатые горожане. Он вел себя так, чтобы полностью соответствовать избранной им личине преуспевающего торговца с севера, и, хотя у него не всегда получалось сдерживать язвительные замечания, отчего он прослыл острословом и заимел репутацию нетерпимого человека, он все же ни разу не выдал своих истинных чувств и сумел приглушить снедавшую его ненависть предвкушением будущих перемен, на которые он возлагал столько надежд.
Но по мере приближения Кай-фена — а По много времени проводил на севере и поэтому знал, какова будет истинная подоплека грядущей битвы, — он не мог больше мириться с благодушием этих алчных и самодовольных людей, которые считали себя в относительной безопасности в своих шаангсейских дворцах. Все труднее становилось ему сдерживать свой бурный нрав. И поэтому, когда однажды его оскорбили — точнее из-за натянутых нервов ему показалось, что его оскорбили, — он сорвался и в свою очередь тоже оскорбил гостей, собравшихся у Ллоуэна, и все закончилось тем, что ему указали на дверь и навсегда отлучили от этого дома. Чуть поостыв, он еще несколько дней казнил себя за собственную глупость. За то, что не смог сдержаться. А потом он убил трех зеленых, которые подвернулись ему под горячую руку на северной окраине города. Вот тогда он поклялся себе, что никогда больше не позволит эмоциям взять над собой верх.
А сейчас, сидя у ароматного костра из сосновых поленьев и ковыряясь в зубах после вполне сносной трапезы, он вдруг осознал, что это уже не имеет значения. Здесь идет освободительная война, и вскоре войско повстанцев, как он решил называть его про себя, прорвет оборону Камадо. Перед его мысленным взором стоял Шаангсей — огромный, неимоверной цены самоцвет, который прямо напрашивается на то, чтобы кто-то прибрал его к рукам. По понимал, что эти чужеродные существа — нелюди — не интересуются ни серебром, ни опием, и подозревал, что им не хватит мозгов даже на то, чтобы осознать идею накопления богатства. Нет, эти мерзкие твари живут лишь для того, чтобы убивать. Насытившись кровью и грязью, они вернутся в свою запредельную преисподнюю. Он содрогнулся от омерзения. До чего же они вонючие! Потом он задумался о вещах приятных. О богатствах, которые скоро будут принадлежать ему. При таких средствах он сможет установить твердую власть в разоренном войной городе, дать новую — лучшую — жизнь своему народу. Они устремятся в Шаангсей с западных холмов, и это будет уже другой город. Новый. Где все будут гордыми и счастливыми. А первыми жертвами его справедливого правления станут жирные хонги. Ради этой великой цели он многим готов поступиться. Готов даже терпеть общество этих мерзких вонючих созданий…
Ловко лавируя между копошащимися щетинистыми телами «союзников», он уверенным шагом прошел по обширному лагерю, гудящему разноголосицей чужих языков и странных для человеческого уха говоров. Дважды он замечал в непосредственной близости черные головы полководцев с глазами насекомых, качающиеся на длинных шеях. Этих он предпочитал обходить стороной.
Вскоре он добрался до палатки толстяка. Насколько По было известно, этот человек был большим начальником и не подчинялся здесь никому, разве что только самим Макконам. Поэтому, кстати, По и заприметил его еще в тот день, когда он впервые появился в лагере верхом на странном животном, до такой степени черном, что на него было больно смотреть. Толстяк пришел из чащи соснового леса, где — а это По знал наверняка — обосновались Макконы.
Он прошел мимо охранников и, наклонившись, шагнул под полог палатки.
— Вы посылали за мной.
Трое мертвоголовых воинов, ссутулившись, вышли с другой стороны палатки.
Толстяк поднял голову от бумаг.
— Да, — сказал он. — Подойди.
Рядом с ним стоял Маккон, ворочая отвратительной головой с жутким клювом. Его толстый хвост мелькал в пропитавшемся вонью воздухе. По отвел взгляд, стараясь не выказывать удивления, хотя ему было странно, что эта тварь вышла из леса и заявилась в лагерь. Такого еще не было. Что происходит? Его мысли метались, словно всполошенные рыбешки.
— Мы хотим попросить тебя, — вкрадчиво заговорил толстяк, — чтобы ты оказал нам одну услугу.
— Как вам будет угодно, — отозвался По, не поднимая головы.
— Хорошо, — улыбнулся толстяк. — Сегодня ночью ты проникнешь в Камадо.
По опять сумел скрыть свое удивление.
— Вам, должно быть, известно, что я мастер джиндо.
— Искусства скрываться и убивать, — кивнул головой толстяк. — Да, мы знаем. Поэтому мы и выбрали тебя, По.
Маккон открыл свой кривой клюв и пронзительно взвизгнул. Его серый язык трепетал у чешуйчатого неба. По содрогнулся и прикрыл глаза. Его едва не стошнило.
— Мы хотим, чтобы один человек в Камадо был убит, — заговорил толстяк, переводивший, похоже, сказанное Макконом. — Мы хотим, чтобы это было проделано тихо, бесшумно и при загадочных обстоятельствах. Для устрашения противника.
Потом он дал По описание жертвы.
— Подобное описание подходит ко многим, господин.
По едва скрывал раздражение. Ему самому была противна эта подобострастная поза. Но он понимал, что в его кажущейся покорности кроется, быть может, единственная возможность пережить этих надутых военачальников и вонючих чужаков. Единственная возможность уцелеть.
— Как ее зовут?
Маккон снова взвыл, и от этого вопля у По на глаза навернулись слезы и стало больно ушам.
— Ее зовут, — толстяк почему-то понизил голос, — Моэру.
Они ушли, оставив его одного в Шаангсее. За палатами Тенчо, во дворце Императрицы.
В высоком сверкающем шлеме, в черных доспехах, отделанных зеленым, как море, нефритом и ляпис-лазурью, он расхаживал по дворцу, по холодным мраморным залам, слыша лишь эхо собственных шагов.
Он остановился на миг на входе в широкую галерею с колоннами из пятнистого мрамора, освещенную лампами из чеканной меди, свисавшими на длинных цепях с потолка.
Дворец был пустым.
Неподвижный и пыльный воздух, казалось, висит сложенным покрывалом, словно в ожидании возвращения здешних обитателей, которые отбыли в свою летнюю резиденцию где-нибудь на другом континенте, где всегда светит солнце и не бывает дождя.
На мгновение ему показалось, что там, на другом конце обширной галереи, кто-то есть — какой-нибудь любопытный наблюдатель… монотонный ритм примитивной музыки. Но в спертом воздухе при тусклом свете нельзя было сказать наверняка, а замеченное им мерцание было скорее всего отражением огней от его панциря.
Он тряхнул головой, словно пытаясь уловить обрывки чьих-то чужих воспоминаний. Так ничего и не вспомнив, он направился к выходу из дворца, мучаясь вопросом, что заставило его вернуться сюда, хотя сейчас ему нужно было как можно скорее мчаться на север, в Камадо.
Он вышел в сверкающий сад, спокойный и тихий в это время года. День был холодным и ярким, воздух — хрупким, как фарфор. По лазурному небу проплывали перистые облака. Красные и оранжевые деревья отливали яркими бликами латуни и меди.
Уже взявшись за поводья и приготовившись сесть в седло, он почему-то помедлил и задумчиво повернул голову в сторону спрятанного за густой листвой входа во дворец Императрицы. Теперь он уже не сомневался: что-то он там забыл.
Так и не вспомнив, что именно, он пожал плечами, вскочил на коня и, выехав через распахнутые ворота, направился по лабиринту тесных улочек и темных задворков Шаангсея — все они были непривычно тихи и пустынны — на север, вдогонку за колонной буджунов, вышедших на Камадо.
А по пустому дворцу, который он оставил за спиной, пронесся ветер, тоже как будто ищущий что-то. Или кого-то. Ветер раскачивал медные лампы, разъяренный своей неудачей — он никого не нашел. Лампы попадали на пол. Холодный огонь разбежался по мраморным плитам, и дворец содрогнулся, словно под ударом могучего кулака.
Первым во главе длинной колонны его увидел Боннедюк Последний, и именно он распорядился открыть потайные ворота Камадо.
Лицо маленького человечка озарилось довольной улыбкой, когда Воин Заката резко натянул поводья и спешился. Среди пыли и грохота шагов марширующих буджунов он сгреб Боннедюка в объятия и приподнял его над землей.
— Дружище, — повторял он снова и снова. — Дружище.
— Рад тебя видеть, — Боннедюк Последний тоже дал волю радости. — Наконец-то.
Хинд, вертевшийся у их ног — странный зверь-мутант, единственный в своем роде, — издал горлом урчание и завилял круглым хвостом.
Воин Заката нагнулся, чтобы погладить его поросшую жесткой шерстью голову, и Хинд закашлялся и ощерился, обнажив страшные зубы, а потом ткнулся носом в ногу Воина Заката.
Осадив лошадь, Моэру свесилась с седла и поцеловала маленького человечка.
Краем глаза Воин Заката заметил, что к ним бежит Кири. Потом она остановилась как вкопанная, ошеломленно глядя на них, и стала потихоньку пятиться назад. Он смотрел на ее лицо, а она, не отрываясь, смотрела ему в глаза.
— Кое-что изменилось с тех пор, как ты отправился в странствие, — заметил Боннедюк Последний. — Теперь ты уже ей не поможешь.
— Раньше я тоже не мог ей помочь. — Воин Заката отвернулся. — Проводи нас до конюшни, дружище, а потом мы спокойно поговорим. Нам надо о многом поговорить.
— Я сделаю кое-что получше, — сказал тот и повел их по узким улочкам Камадо.
Они добрались до конюшен и оставили лошадей на попечение конюхов. Но перед тем как уйти, Боннедюк Последний отвел Воина Заката в дальний конец помещения. Здесь стоял темно-красный лума Ронина.
Животное фыркнуло, когда Воин Заката погладил его по шее.
— Благодарю тебя, дружище.
Боннедюк отвернулся и захромал по проходу между стойлами — к выходу из конюшен, где ждала Моэру.
Несколько часов кряду, весь остаток дня и уже в сумерках, в то время, как за стенами крепости непрерывно возникали какие-то стычки, в Камадо шел военный совет: риккагины совещались с Воином Заката, Боннедюком Последним, тайпанами Шаангсея, куншином и его дайме.
— С каждым разом, — говорил риккагин Эрант, — противник атакует все большими силами. А мы только теряем людей.
— Как вы уже знаете, — слово взял Туолин, — мертвоголовых воинов можно убить мечом, но их число, похоже, не убывает. Теперь их возглавляют какие-то черные существа с глазами насекомых. Пока что нам не удалось ни убить, ни ранить ни одного из них. Наши люди полностью деморализованы.
— А риккагины? — спросил Воин Заката, обводя взглядом задымленную комнату. — Воины тонко чувствуют настроение своих командиров и подражают им. Смотрю я на вас и дивлюсь. Обреченные люди. Если вы подавлены и потеряли надежду, от своих солдат вы и не можете ожидать ничего иного.
Его сжатый кулак тяжело опустился на стол.
— Теперь мы вместе. Последние силы человечества. Пришли буджуны — лучшие в мире воины. Мы сильны, как никогда. Я лично не собираюсь сидеть в этих стенах и дожидаться, пока наши силы совсем иссякнут. Это не подобает воину.
Краем глаза он видел, что Азуки-иро наблюдает за ним с безмятежным видом и улыбается.
— Завтра на рассвете мы выйдем на равнину, переправимся через реку и атакуем противника. Мы все. А к концу дня мы уже будем знать, выживет человек или погибнет в грядущие времена.
Он подал знак риккагину Эранту, и тот развернул подробную карту района боевых действий. Разноцветными чернилами на ней было обозначено расположение войск Дольмена.
На какое-то время воцарилось молчание, а потом куншин склонился над картой и постучал по ней указательным пальцем.
— Здесь, — сказал он. — И здесь.
И они принялись обсуждать планы завтрашнего сражения.
— Хорошо, что ты вернулся, — заметил риккагин Эрант.
Воин Заката рассмеялся.
— Значит, я не слишком изменился?
— Нет. — Риккагин Эрант на мгновение отвел глаза но потом его ясный взгляд снова остановился на странном лице стоявшего перед ним человека. — Вовсе нет. Теперь ты не похож на обычного человека, но даже при этом…
Он сжал длинную руку того, кто когда-то был Ронином.
— …но даже при этом я не мог тебя не узнать.
Он умолк, подождав, пока по узкому темному коридору не прошли двое воинов. Они стояли в полумраке, между двух дымящих свечей.
— Что произошло? — спросил Эрант. — Или это вопрос неуместный?
— Карма, — просто ответил Воин Заката. — Я отправился навстречу судьбе и нашел ее на Ама-но-мори.
— Значит, сказочный остров все-таки существует? Выходит, буджуны и впрямь оттуда, а не из какой-нибудь дальней страны на континенте человека. Ходили слухи…
— Существует, — сказал Воин Заката. — Теперь там мой дом.
— А эта женщина-воительница, которая пришла с тобой?
— Моэру? А что?
— Кто она тебе?
— Разве это так важно?
— Для Туолина, пожалуй. Он любит Кири, а она…
— Все еще любит меня? Нет, Эрант, она любила Ронина, но даже тогда он ничего не мог ей дать.
— Может быть, тогда…
— Да. Хорошо. Я не сделаю больно Туолину…
— Они останутся в живых…
— Как, возможно, и все мы, Эрант.
Усталый ветер развевал потрепанные знамена на стенах Камадо.
Он стоял на пронизывающем холоде и разглядывал обгоревший сосновый лес, вспоминая о первой пугающей схватке с самим собой. Теперь он знал, что где-то там, в густой чаще, таится Дольмен, который все-таки выбрался в мир людей.
На рассвете они сойдутся лицом к лицу. Это будет кульминационный момент всей его жизни — последняя пылающая страница истории уходящей эпохи, в которой все они жили, радовались и страдали.
Но увидит ли кто-то из них зарю новой эпохи?
Он не мог этого знать, но он чувствовал: если не увидят они, то ее не увидит уже никто.
И пока он раздумывал о Дольмене и о предстоящем поединке, которым решится исход Кай-фена, из бурлящих глубин его мыслей неожиданно всплыл ослепительный осколок памяти Ронина.
Саламандра.
Где-то в недрах этого мира, в подземном Фригольде, живет сенсей Ронина, человек, который выставил против Ронина его родную сестру, К'рин, и Ронин в конце концов был вынужден ее убить. Мастер воинского искусства, выбравший Ронина для обучения искусству боя, положивший начало долгой и многотрудной битве Ронина за то, чтобы в конечном итоге сделаться тем, кем он стал, — Воином Заката…
Но сначала — Дольмен…
— Как ты изменился, — раздался тихий голос у него за спиной.
Он не обернулся — он узнал Кири по голосу.
— Но я все равно узнала бы тебя, даже если бы прошло десять тысяч веков.
Он все-таки повернулся, глядя на нее сверху вниз странными светло-зелеными глазами. Она невольно ахнула и отвела глаза. А потом, отняв ладонь ото рта, она медленно и неуверенно протянула руку и прикоснулась к нему.
— Его больше нет, Кири. Его тело осталось на Ама-но-мори, погребенное под руинами разрушенной крепости.
— Нет, — возразила она.
Но все уже отгорело в разбитом сердце, превратившемся в белую золу.
— Разве такое возможно? Ты, должно быть…
Ее теплая ладонь погладила странные, непривычные очертания его щеки.
— Как же тебе, должно быть, не хватает Мацу! — воскликнула Кири чуть погодя вроде бы безо всякой связи, но он хорошо понял, что она имела в виду.
Она всхлипнула, припав к его груди. Ощутив на лице нежное прикосновение ее распущенных волос, он закрыл глаза, и перед мысленным его взором встала непрошеная картина, всплывшая из глубин памяти: движения страстной, необузданной женщины, которая целовала его сочными теплыми губами, когда его меч разрубил ей грудь до самых ребер; бледный овал лица, нежного, тонкого, наполовину закрытого упавшими волосами цвета беззвездной ночи; ее алая кровь и горячие обрывки плоти, когда Маккон спокойно и целеустремленно рвал ей когтями горло; и последний бессильный выдох, слетевший вместе с пузырями крови с ее уже посиневших губ.
Сначала — Дольмен, а следующим будет Саламандра. Теперь все его существование сосредоточилось на этих двоих. Кири значила для него не больше, чем камни крепостной стены, и, как только она это поняла, она отстранилась и пошла прочь, оставив его в одиночестве — разглядывать черный дымящийся лес и замерзшие поля вокруг Камадо.
* * *
Веревку уже закрепили, и он соскользнул в холодный стремительный поток. Почти сразу же он ощутил, как крутой берег уходит у него из-под ног.
Несмотря на глубину реки и пузырящуюся вокруг него белую воду, он чувствовал себя в безопасности и, перебирая руками, начал переправляться. В плотно сжатых губах он держал тонкую тростниковую трубочку, конец которой торчал над поверхностью воды.
Он был одет во все черное. Даже ту часть лица, которую не прикрывал тугой капюшон, он тщательно зачернил углем, а потом смазал маслом, чтобы краска не смылась в воде. Выбравшись на другой берег, он встал на колени и замер, беззвучно дыша и пристально вглядываясь в темноту.
Луна скрылась за облаками. Восточный ветер шелестел листьями тополей, сосновыми иголками. Журчала вода в реке.
Нырнув в кусты, он устроился там, дожидаясь, пока не просохнет одежда.
Он стер с лица масло и снова нанес угольный порошок, так что кожа приобрела матовый черный оттенок, не отражающий света.
Потом он поднялся и направился к стенам Камадо, стараясь держаться в густой тени деревьев.
Услышав негромкие голоса, он застыл, молниеносно выхватив кинжал и слегка приподняв острие.
Голоса, донесенные ветром, приблизились. Как только два воина поравнялись с ним, он нанес два стремительных бесшумных удара. Дважды темный клинок пронзил мягкую кожу под подбородками, пробил нёбо и достал до мозга. Ни один, ни второй даже и вскрикнуть не успели.
Теперь он мог бы переодеться, забрав одежду одного из убитых, и спокойно пройти в Камадо, но такой метод был не для мастера джиндо.
Он оттащил трупы в густой кустарник и двинулся дальше, пока не подобрался к самому основанию каменных стен крепости. Достав из кармана своего облегающего одеяния несколько черных металлических предметов, он бесшумно полез вверх по стене, цепляясь за стыки между огромными камнями.
Вскоре он вошел в ритм и уже безо всякого видимого напряжения быстро взобрался наверх под покровом густой тьмы беззвездной ночи.
* * *
Он погладил Хинда по длинной жесткой спине. Окостеневшие чешуйки зашевелились от удовольствия.
— Как это здорово — снова увидеть буджунов, — сказал Боннедюк Последний.
— Ты никогда не говорил Ронину…
Маленький человечек пожал плечами:
— Теперь тебе можно сказать о многом. А раньше… Он снова пожал плечами.
— Ты мне скажешь, кто ты такой?
— Да, — отозвался Боннедюк Последний, растирая больную ногу. — Хотя я уже как-то раз говорил об этом.
— Да? И кому?
— Гфанду.
— Что?! Но почему?
— Он хотел знать. — Боннедюк Последний коснулся руки Воина Заката. — Послушай, дружище, я бросил кости, и кости сказали, что ему суждено погибнуть в Городе Десяти Тысяч Дорог. Сделать я ничего не мог. Карма. Еще одна смерть, о которой я знал и должен был молчать. Это был мой подарок ему. Он спросил у меня, и я ему рассказал…
— Думаешь, он тебе поверил?
— Не знаю. Разве это так важно?
Какое-то время они молчали. Тишину нарушало лишь потрескивание огня в очаге. Он напрягся — снова послышалось звучное тиканье, повсюду сопровождавшее маленького человечка. Он чуть было не спросил, что это за звук, но Боннедюк Последний продолжал:
— Мой народ давно исчез с лица земли. Во всяком случае, о нем давно уже нет никаких упоминаний в истории. Но меня — меня одного — оставили здесь, чтобы я смог увидеть Кай-фен и тем самым искупить грехи моего господина.
Он поднялся, подложил поленьев в огонь и пошевелил раскаленные угли кончиком меча.
— Мы с Хиндом живем Внешним временем, как ты, несомненно, уже догадался. Это было необходимо, чтобы пережить разрушительную силу тысячелетий, ибо я — из того народа, властитель которого нашел на лесной просеке колдовской корень. Тот самый корень, кусочек которого ты съел…
— Легенду о великом воителе рассказал мне старый аптекарь в Шаангсее. И он дал мне корень…
— Да. Он был буджуном…
— А сад… Тот храм в Шаангсее…
Боннедюк Последний кивнул:
— И это тоже.
«Чего-то я явно недопонимаю», — подумал Воин Заката.
Маленький человечек дохромал до своего стула и протянул руку, чтобы погладить Хинда.
— Из-за жгучего своего желания править всем миром, — продолжил рассказ Боннедюк, — он был направлен на просеку, где рос корень.
— Направлен кем?
— Богом.
— Каким богом?
— Бог только один, дружище.
В очаге затрещало полено, а потом с тихим звуком упало в золу. Оранжевые языки пламени вспыхнули с новой силой.
— Съев этот корень, он стал самым могучим воином в мире и таким образом утолил свою жажду завоеваний…
Он умолк, увидев, что Воин Заката поднял руку.
В его обновленном сознании промелькнул образ высокого широкоплечего человека со смуглой кожей и карими глазами. Почему-то ему вдруг захотелось снова увидеться с Мойши или по крайней мере узнать, что с ним и где он сейчас. Наверняка — посреди необъятных соленых морей, на высоком мостике тяжело груженного судна, с парусами, ловящими ветер. На корабле, направляющемся в какой-нибудь дальний порт, спрятанный за изгибом поросшего зеленью мыса. А его журнал, наверное, пополнился новыми записями. Почему он вспомнил о Мойши именно сейчас? В памяти всплыли слова Боннедюка. Бог только один, дружище. Его светло-зеленые глаза широко распахнулись, в зрачках заплясали золотистые искорки.
— Продолжай.
— Съев этот корень, — снова заговорил маленький человечек, — он тем самым создал условия для сотворения Дольмена. Поскольку уже ничто в мире не могло сравниться с его могуществом, а наши Законы не потерпели бы столь вопиющего нарушения равновесия.
Так появился на свет Дольмен, рожденный, чтобы вступить в битву с моим господином. Дольмен тогда одержал победу, но во время сражение он получил очень серьезные раны и был выдворен за пределы человеческого мира. И все это время, пока он пребывал в запредельных пространствах, на протяжении многих столетий он был одержим мыслью о возвращении, об отмщении всему человечеству, ибо уничтожение — его единственная страсть.
— А сейчас он выжидает в лесу на севере. И ждет он меня.
— Да, — согласился Боннедюк Последний. — А моя долгая миссия наконец завершена.
Воин Заката засунул руку в перчатке из шкуры Маккона под панцирь и извлек из складок одежды несколько небольших предметов желтоватого оттенка. Они блеснули при пляшущем свете пламени.
— Когда-то, — сказал он, — ты сделал подарок Ронину. Этот подарок, как видишь, все еще со мной. Я очень ценю ту защиту, которую он мне дает. А теперь я хочу сделать подарок тебе.
Он протянул руку вперед.
— В Хийяне ты как-то сказал Ронину, что кости уже бесполезны. Может быть, это все потому, что они принадлежат другому времени, давно прошедшей и забытой эпохе. Держи, дружище. Это — из пасти вполне современного крокодила.
В подставленную ладонь Боннедюка Последнего он высыпал крокодильи зубы, добытые Ронином в джунглях, на подступах к Ксич-Чи.
Никто не видел его; никто не услышал, как он подошел.
Он был словно ветер в ночи, задувающий через высокие крепостные стены.
Его наставники по джиндо могли бы гордиться им. На темных, промозглых улицах Камадо, где толпился народ, он стал лишь еще одной мимолетной тенью, отбрасываемой неверным светом раскачивающихся масляных фонарей.
Среди фыркающих лошадей, в толпе потных, переругивающихся друг с другом солдат, мимо стай тощих желтых собак, мимо груд грязной, свалявшейся одежды, мимо стражников, сменяющихся в карауле строго по часам, он скользил по гудящим улицам, не замечаемый никем, как будто укрытый плащом невидимости. Это искусство сливаться с толпой было душой джиндо.
Иногда он останавливаются в густой тени, прислушиваясь к обрывкам разговоров. Он пробирался к определенному строению из дерева и камня, длинная тихая терраса которого ничем не отличалась от террасы любой другой казармы в Камадо. Но он-то знал, что казарма, куда он шел, была далеко не обычной.
Он обошел строение сбоку, скользнув в кромешную тьму бокового проулка, заваленного мусором. Из-под ног во все стороны с визгом бросились крысы. Он замер, дождавшись, пока они не успокоятся, а когда снова тронулся с места, они уже не издали ни звука.
Через небольшое неосвещенное окошко он проворно забрался внутрь, в темноту здания.
Приоткрыв деревянную дверь, он увидел двух воинов в дальнем конце длинного узкого коридора, освещенного факелами из промасленного тростника, расположенными через равные промежутки. Его дверь находилась как раз посередине между двумя факелами. Даже если бы он выбирал специально, он не нашел бы лучшего места.
Он осторожно проверил дверные петли.
А потом рывком распахнул дверь. Петли даже не скрипнули. Движения его рук были неуловимы: две черные металлические звездочки просвистели в воздухе и вонзились в шеи воинов.
Человек в черном отчетливой тенью бесшумно двинулся вперед.
* * *
— Все сомнения надо было отбросить сразу.
— Чепуха.
— Нет, дружище, теперь я главный. Я чувствую себя ответственным за все человечество.
— Значит, ты не уверен в своих возможностях?
— Нет, не в моих возможностях. Я не уверен в другом: кто я.
Поддон очага покрылся белым пеплом. Поленья все выгорели, развалившись на кусочки. Среди золы все еще пританцовывали догорающие огоньки.
— Цельных личностей нет. Мы все состоим из каких-то кусков…
— Знай я, чем кончится битва в Ханеде, мне было бы легче.
— Ответ, наверное, где-то в тебе, найти его должен ты сам. Никто другой и не может об этом знать. Когда-то я просто бросал свои кости и на их гранях читал ответ. А сейчас… — Он глубоко вздохнул. — Я устал.
Только теперь, в первый раз за все время их знакомства, Воин Заката увидел, что перед ним смертный. Похоже, время, которое Боннедюку Последнему удавалось обманывать на протяжении многих веков, все же брало свое.
Он улыбнулся.
— Теперь пришел я.
Его шепот разнесся шелестом в полумраке. Тиканье сделалось громче и стало контрапунктом к мелодии их голосов.
— Ты исполнил свою задачу. Вина твоего господина искуплена…
Боннедюк Последний печально покачал головой:
— Нет. Слишком много пролито крови. Человек — это не колос, раскачивающийся под ветром, а жизнь его — не урожай под серпом колдовских созданий. Они не имеют права… Они должны поплатиться за все… Есть Законы на все времена.
— Тогда Дольмен будет разбит.
Пристальный взгляд светло-серых глаз, которые были как будто прорехами в ткани времени.
— Нежели? Что ж, виной тому, что Дольмена призвали в мир, — неуемная алчность моего господина. Возможно, так и должно быть, чтобы именно человек заплатил теперь последнюю цену.
Плечи его опустились. Жест, выражающий полную безысходность. Категоричность смертного приговора, окончательного и не подлежащего никакому обжалованию.
— Сейчас еще рано судить.
— Но уже скоро, дружище. Скоро.
Воин Заката поднялся и встал возле угасающего очага.
— Да, скоро наступит конец всем страданиям, свидетелем которых мне выпало быть.
Боннедюк тоже поднялся и проковылял к низкому стулу, где лежали его потертые кожаные сумки. Он открыл одну сумку, и внезапно тиканье сделалось громче. Он достал небольшой предмет из коричневого оникса и красного жадеита. Непонятного предназначения вещица имела форму трапеции и была застеклена с одной стороны. Внутри виднелся шар из огненного опала, вращающийся то в одну, то в другую сторону с чистым ритмичным звуком.
— Риаланн, — пояснил маленький человечек. — Вот что удерживает нас с Хиндом Снаружи, что позволяет нам пользоваться широтой эпох.
— Ронин часто задавался вопросом, что это за странное тиканье, которое сопровождает тебя повсюду. И мне тоже было интересно.
Боннедюк Последний кивнул.
— Я знаю. И показываю его тебе именно потому, что ты никогда не просил посмотреть. Кроме очень немногих, никто не должен знать о его существовании, поскольку его сила уменьшается раз за разом, когда кто-то на него смотрит.
— Убери его, — сказал Воин Заката. — Спрячь.
Он прислушивался к прихрамывающим шагам маленького человечка, удалявшимся по деревянному полу.
* * *
Туолин застонал.
Он поднял дрожащую руку. Это стоило ему неимоверных усилий.
Не могу, подумал он.
Потом он собрался и занялся дыхательными упражнениями, составлявшими самую суть его подготовки. Возвращение к основам.
Его грудь была липкой, теплой и влажной, но боль почти унялась. Зато выше, у плечевого сустава, чувствовалось невыносимое трение плоти о кость.
Реакция была полностью рефлекторной.
Его рука, налитая свинцовой тяжестью, медленно двинулась вверх. Он скрипнул зубами, заставляя мышцы работать. Боль пронзила его, но он подавил рвущийся из горла крик и лишь застонал.
На самой границе поля зрения возникла какая-то тень. Мозг машинально отметил ее.
Через какое-то время ему удалось дотянуться до шеи, и он без колебаний вырвал ту штуку, которая вонзилась в его плоть. Он чуть не лишился сознания, но тут же возобновил дыхательные упражнения, насыщая кровь кислородом, чтобы преодолеть шок и удержаться на краю беспамятства.
«Ну ты, идиот, — говорил он себе. — Поднимайся!» Его спасла только его тренировка. Именно потому, что он прошел суровую школу боевых искусств, он начал двигаться еще до того, как услышал приближающийся резкий свист. Его натренированное тело начало уворачиваться от грозившей опасности, прежде чем включился разум. Именно поэтому он еще жив, а товарищ его, один из его солдат, лежит рядом с ним мертвым.
Он посмотрел на оружие, которое держал в руке: металлическая пятиконечная звезда с зазубренными краями, — и до него вдруг дошло, какое страшное зло проникло в стены Камадо. Он снова мысленно обругал себя. Поднимайся, болван, не лежи.
Он с трудом поднялся на ноги, привалившись к стене. Он весь вспотел от напряжения.
Мастер джиндо в Камадо. Мысли у Туолина метались, когда он пытался припомнить маршрут движущейся тени, — со сверхъестественной отчетливостью, поскольку упорная сосредоточенность помогла ему заблокировать боль и шок нервной системы, в то время как организм пытался приспособиться к повреждениям плоти. Хотя он, когда падал, не видел, в каком направлении скользнул черный призрак, он знает, куда идти. В этой казарме есть только одна цель, достойная внимания: Воин Заката.
* * *
Перед дверью стояли двое охранников.
Он замер в дрожащих тенях коридора. Он почти не сомневался, куда идти. И все же он ничего не хотел оставлять на волю случая. Поэтому он решил, что один из этих двоих должен остаться в живых, хотя бы на несколько мгновений, чтобы он мог получить подтверждение.
Бесшумно и стремительно он выбросил вперед напряженную руку, сломав грудную кость стоявшему справа.
Не успел воин упасть, захлебнувшись собственной кровью, хлынувшей в легкие, мастер джиндо одним ударом сломал обе ключицы второму и удержал его, когда тот начал сползать по стене.
Он что-то спросил у него шепотом, воин ответил, а потом мастер джиндо перерезал стражнику горло спрятанным в рукаве лезвием.
Низко пригнувшись, он распахнул дверь и скользнул внутрь.
* * *
Он продвигался вперед; желудок крутило, тошнота подступала к горлу.
За ближайший угол… коридор прыгает перед глазами, будто какой-то умалишенный дергает его за ниточки. Он прислонился к стене, тяжело дыша, прижал лоб к холодному камню. Потом, собравшись с силами, заставил себя идти дальше, ведомый инстинктом воина. Облизал сухие губы. Он знал, что это значит — тело его обезвоживалось вследствие шока, потери крови и обильного потения.
Он сосредоточился на своей ненависти, холодной и действенной, в результате чего произошел выброс адреналина, подстегнувшего его слабеющий организм. Он старался не думать о негнущейся левой руке, о теплой крови, вытекающей из раны в плече.
Он остановился при виде двух распростертых тел. Дверь за ними была приоткрыта, и, хотя его напряженные нервы требовали немедленных действий, он заставил себя замереть на месте и прикрыл глаза, потому что в комнате было темнее, чем в коридоре, и надо было дождаться, пока глаза не привыкнут к смене освещения. Ломиться в комнату неподготовленным — верная смерть: за те несколько мгновений, пока его зрение будет приспосабливаться к темноте, мастер джиндо успеет прикончить его как миленького. Он был достаточно сведущ в этом тайном искусстве и знал, что нельзя недооценивать противника, который владеет им.
Он стремительно ворвался в комнату, присев и перекатившись по полу, как только пересек порог — подальше от полоски смертельно опасного света из коридора.
Комнату залил серебряный свет луны, проглянувшей ненадолго из-за плотной завесы облаков. Высокие узкие окна с открытыми ставнями, выходящие во внутренний дворик, словно мерцающие прутья какой-то жидкой решетки.
Обнажив меч, Туолин быстро окинул взглядом углы, потом — участки в тени от мебели.
И тут он увидел их.
Они сцепились в безмолвной схватке на широкой светлой кровати.
Джиндо и Моэру.
Его темный сгорбленный силуэт был сверху, а она сомкнула ноги у него на спине, словно они предавались любовным утехам. Но ее сильные бедра были напряжены, сжавшись вокруг его почек, а пятками она упиралась в его поясницу, ища точку опоры, чтобы сломать хребет.
Джиндо сжимал ей горло, нащупывая большими пальцами болевые точки под челюстью, ниже ушей.
Моэру дернула ногами, вдавливая пятки поглубже, и джиндо издал тихий стон. Он, однако, уже нашел нужные точки и нажал пальцами. Моэру захрипела, из глаз брызнули слезы и потекли по высоким скулам.
Она закашлялась, резко взмахнула левой рукой и ударила джиндо под ухо. Голова его дернулась, но глаза полыхнули зловещим огнем, и он еще сильнее надавил пальцами.
Моэру вскрикнула.
Стряхнув с себя оцепенение, Туолин метнулся к кровати и ударил джиндо рукоятью меча по ребрам. Тот издал стон, дернулся и, отпустив Моэру, бросился на Туолина — голыми руками вырвал у риккагина меч и отшвырнул его прочь, одновременно замахнувшись. Его рука прошла по невероятной траектории, неразличимой глазом.
Джиндо ударил сплеча. Туолин видел его движение, но уклониться уже не мог. Удар пришелся ему в лицо.
Резкая боль. На щеке — рваная рана. Опустив взгляд, Туолин увидел на пальцах джиндо кастет с шипами, обагренными кровью.
Риккагин шагнул влево, заходя со стороны поврежденного бока джиндо, и смахнул кровь с лица. Кость была не повреждена. Можно сказать, что Туолину повезло: если бы мастер джиндо не был ранен, он смог бы нанести удар в полную силу. Риккагин бросился вперед.
Во время схватки в темноте воин рефлекторно запоминает очертания и формы, так что, когда они изменяются, тело само двигается, а разум только потом отмечает его движения. Туолин упал на пол, в то время как в его сознании отразился стремительный миг, предшествовавший движению; память уже прокручивала в замедленном темпе все то, что до этого видели его глаза, с тем чтобы пустить в ход единственно правильный — инстинктивный — ответ.
Это было лицо джиндо. Еще одна линия, посеребренная тонкими лунными лучами. Падая на пол и перекатываясь в густую тень, Туолин услышал над собой шорох. Его мозг сохранил остаточное изображение надутых щек джиндо, готовившегося выпустить отравленный шип.
Джиндо плюнул, и риккагин услышал негромкий стук невидимой духовой трубки.
Он прыгнул на противника, скорчившись от боли в раненом плече, обхватил его руками за пояс и тут же ударил его сжатыми кулаками по ребрам. Раздался резкий хруст.
Глаза у джиндо закатились, только теперь Туолин заметил, что тот до сих пор держит в сжатых губах духовую трубку. Он отчаянно выругал себя за то, что чуть не пропустил эту уловку.
Усилив давление, он услышал в воздухе тихий свист и в то же мгновение увидел промелькнувшую руку.
Тонкие пальцы нажали на точку между ключицами джиндо. Глаза у того закатились, и губы расслабились. Сдерживаемый воздух разом вырвался у него изо рта, и духовая трубка выпала. Джиндо рухнул на пол.
* * *
— Я пока не хочу, чтобы он знал об этом.
Она закончила перевязку и пристально на него посмотрела.
— Понимаешь?
В его глазах еще отражалась боль. Раненое плечо горело огнем. Шея ныла. Он не мог двинуть левой рукой.
— Не совсем. Нет, не понимаю.
Она перевела взгляд на черное тело, распростертое на кровати. Джиндо был крепко привязан за руки и за ноги к четырем металлическим стойкам — обсидиановая звезда, чем-то похожая на его собственные метательные звездочки.
— Он приходил за мной, Туолин, разве ты этого не понял?
— Но я думал…
— Естественно. Ты решил, что он явился убить Воина Заката, а вместо него наткнулся на меня. — Она тряхнула головой, разметав темные волосы. — Ошибки не было, я уверена. Он напал на меня, Туолин. Он не искал никого другого.
Туолин повернулся к выходу.
— Мы должны сказать Воину Заката…
Она остановила его, положив ладонь на его здоровую руку.
— Знаешь, что он сделает, — тихо сказала она, — если сейчас вдруг войдет?
— А разве ты не убьешь его?
Она рассмеялась, и смех ее прозвучал холодным шепотом ночи.
— О да, риккагин. Я убью его, но не сейчас и не скоро. Не раньше, чем он расскажет мне то, что я хочу узнать.
Туолин устроил левую руку поудобнее. На повязке уже проступила кровь. Кисть онемела.
— Мне тоже хотелось бы знать, откуда нашим врагам известно о тебе, Моэру. Но он — джиндо. Он скорее умрет, но не скажет ни слова.
— И все же мне нужно узнать, кто его подослал, — проговорила она, глядя на закутанную фигуру.
— Ты ничего от него не добьешься.
Ее глаза мерцали в неярком лунном свете.
— Смотри.
Она бесшумно приблизилась к кровати и резко ударила джиндо по лицу. Еще раз. Еще.
А когда глаза его ожили и он полностью пришел в себя, она сдернула с него черную маску.
Взгляды их встретились.
— Кто послал тебя?
Она произнесла это негромко, но так, чтобы он видел, как ее губы выговаривали каждое слово.
Он смотрел на нее, не мигая.
Она опустила руку. Впечатление было такое, что она хочет только слегка надавить на его тело. Глаза у джиндо широко распахнулись. Он побледнел, от лица его разом отхлынула кровь. Через какое-то время он раскрыл рот, словно хотел закричать, но крика не последовало.
Она повторила вопрос и движение, и постепенно Туолин начал понимать, что она нашла ритм, который каким-то образом усиливал воздействие ее слов.
Воздух в комнате накалялся, несмотря на прохладную ночь. Резко запахло потом и чем-то еще.
Туолин подошел к столу и выпил холодной воды из кувшина.
Джиндо периодически терял сознание. Во время одной из таких пауз Туолин спросил:
— Это действительно необходимо? Мы теряем время. Он не заговорит.
— Похоже, ты не понимаешь.
— Какая разница, кто его подослал? Убей его, и покончим с этим.
— Он скажет.
— Не нравится мне это.
Она не сводила глаз с бледного лица на кровати.
— Ты настолько чувствительный человек, риккагин? Наверное, я тебя пугаю.
Он глухо рассмеялся.
— Или ты думаешь, я получаю от этого удовольствие?
— Нет, я… — Он подошел поближе. — Хотя, может, и так.
— А что, если так оно и есть?
— Ты всегда с ним…
Она повернулась к нему, стоя над взмокшим от пота телом.
— Послушай, я совсем не хотел…
Он запнулся, наткнувшись на ее пристальный взгляд, который как будто обшаривал его лицо.
— Ты спасла мне жизнь. Ты буджунка, великолепный воин, но я…
— Что?
— Я тебя не понимаю.
— Ты хочешь сказать, что не можешь представить себе, как добро и зло уживаются в одном человеке.
Он отступил на шаг.
— Я думаю, что ты ничего…
— О, я хорошо понимаю тебя, Туолин.
Она продолжала посматривать на лоснящееся от пота, изможденное лицо джиндо.
— Значит, себя ты считаешь добрым, не так ли?
Он вспомнил о Кири.
— Да.
— И в тебе нет никаких дурных чувств? Ненависти, например? И ты не способен убить человека?
— Я — солдат, — осторожно отозвался он. — Убивать — это моя профессия.
— Ты сам сказал, это твое ремесло. И ты сам его выбрал.
— Да. Именно так.
Джиндо застонал. Веки у него задрожали: он снова стал приходить в сознание.
Она положила ладонь на его липкую от пота грудь, проверяя одновременно дыхание и пульс.
Туолин вдруг разъярился.
— Да, в этом профессионал. Что бы ты делала, если бы я не…
— Но всему есть свой предел.
Он на мгновение задумался.
— Да.
— Глупец! Неужели ты никогда не заглядывал к себе в душу? Неужели ты всегда был настолько занят искусным, профессиональным убийством, что не сумел осознать себя целиком?
Она снова переключилась на джиндо и, удостоверившись, что он полностью пришел в сознание, возобновила воздействие на нервы, расположенные на внутренней стороне его бедер. На лбу у него опять проступил пот, а грудь начала судорожно вздыматься. Глаза у него закатились. Похоже, он снова впадал в беспамятство, но Моэру уже водила пальцами по его телу, выводя его из этого состояния. Джиндо открыл глаза. Теперь во взгляде у него впервые появился проблеск каких-то чувств.
Склонившись над дрожащим телом, она прошептала:
— Дело в том, что ты не умрешь. Потому что я не позволю тебе умереть. Теперь ты понял, что я могу это сделать. Если не скажешь, кто послал тебя, я свяжу тебе руки и ноги и переброшу обратно через реку. Что будет, когда они все узнают? Что с тобой сделает твой хозяин, когда узнает, что ты не исполнил свою задачу?
Она намеренно выдержала паузу.
— Что тебя взяли в плен?
Ее тонкие сильные пальцы нажали еще раз. Тело джиндо изогнулось, и рот беззвучно раскрылся. Он потерял сознание.
— Значит, Туолин, я злобная женщина. Зачем тогда слушать, что я говорю? А вдруг это все — ложь?
— Нет, — угрюмо выдавил он. — Я так не думаю.
Он присел на кровать и сгорбился, словно под тяжестью невыносимой усталости.
— Тогда где же правда?
Она отвела взгляд, покосившись мельком на джиндо.
— Правда в тебе самом, риккагин. Нет легких ответов. Слова мудрецов — это миф. Жизнь редко бывает настолько простой. — Она снова проверила пульс у пленника. — Верь в себя. И не бойся себя. В каждом из нас есть что-то от зверя. Прими это как должное. Потому что без этого ты не сможешь жить.
— Выходит, до сих пор я не жил… И что же я делал?
— Пытался выжить.
Она провела пальцами по груди джиндо, приводя его в чувство. Глаза у него открылись. Остекленевший взгляд постепенно обрел осмысленность. Моэру опять опустила руку, и только сейчас Туолин отчетливо рассмотрел, что именно она делает. Медленно. Бесконечно медленно.
— Говори.
Сильнее.
Джиндо обливался потом. Его рвало, но она прижала ему гортань, и его тело не позволило ему захлебнуться собственной блевотиной: джиндо уже не контролировал себя.
— Говори.
Его тело начало биться в судорогах, и Моэру усилила воздействие, поднимая болевой порог до невыносимого уровня. Веки у него затрепетали, а дыхание стало неровным. Он жадно хватал воздух, но она закрыла ему рот ладонью, заставляя дышать носом. Приток кислорода был недостаточен, чтобы поддерживать организм пленника в его теперешнем состоянии, и Моэру понимала, что долго он не протянет.
Она постепенно усилила боль, дивясь про себя его стойкости, и в то же время ее огорчало, что все это скоро закончится.
При недостатке кислорода боль стала еще сильнее, и теперь его больше всего мучил не страх смерти, а понимание того, что, если он сейчас же не потеряет сознание, мучения возобновятся.
Она довела его до предела.
— Говори…
И он сказал, уже теряя сознание.
Когда его мозг наполовину отключился, а самоконтроль ослаб на несколько драгоценных мгновений, он выдавил из себя два слова.
Она резко нажала большими пальцами, и вязким облаком хлынула кровь.
Промокшая от пота, она поднялась с кровати и помогла Туолину добраться до низкой кушетки в другом конце комнаты. Его лихорадило, плечо у него распухло. Заглянув под повязку, Моэру дала ему воды. Потом задумчиво уставилась на него.
— Кто такой Саламандра?
ЗАСТЫВШИЕ СЛЕЗЫ
— Теперь ты уверена?
— Абсолютно. Впрочем, я давно уже не сомневалась.
— И насколько давно?
— Достаточно.
— Ага. Расскажи еще раз. Все, от начала до конца.
Она повторила рассказ.
Он слушал, поглядывая на белое, искаженное мукой лицо По, ожесточившегося торговца, который настолько любил свой народ, что предал ради него все человечество. Вид у него сейчас был ужасный.
Воин Заката отвернулся. Он знал, что сделала Моэру. И он понимал ее.
— Как они обо мне узнали?
— Есть другой, более важный вопрос.
Он посмотрел на ее овальное лицо, бледное и утонченное при неровном свете лампы, на ее густые волосы, изящный изгиб шеи, полные округлые губы, ногти, покрытые алым лаком, сверкающим яркими бликами, на темную капельку крови у нее на ключице.
Что-то необъяснимое творилось у него в душе. Он знал, что Ронин любил ее, но была в их отношениях какая-то странная неопределенность, скорее недосказанность, чем недвусмысленность, переходившая в стремление к чему-то большему. Но теперь все это вышло за пределы любви, далеко за ее пределы — в область новую и таинственную. Трепетное предчувствие чего-то большего…
— Ронин знал этого человека.
— Джиндо?
— Еще одна напрасно потерянная жизнь…
— Он знал и Саламандру…
Воин Заката рассмеялся, но его взгляд остался холодным. Теперь все казалось вполне логичным. Единственное, чего он не мог понять, — почему он этого не предвидел.
— Я до сих пор не могу привыкнуть к твоему новому голосу.
Он подошел к высокому окну. На улице было темно. Только желтые точки небольших фонарей немного рассеивали кромешный мрак. Он всмотрелся в толстый слой облаков, буквально физически ощущая их давящую тяжесть.
Может быть, поговорим лучше так? — раздался ее голос у него в сознании.
По-моему, луна зашла. Это напоминает мне…
Он не закончил мысль, и она его не торопила. Или, может быть, просто она уловила тень картины, мысленный образ, который поняла лучше, чем он смел надеяться.
Она прошла через комнату, почти машинально развязала пояс своего халата, заляпанного спекшейся кровью. Она наблюдала за тем, как свет лампы дрожит на его странном лице с резкими чертами.
Она налила воды в миску, сложила чашечкой ладони.
— Знаешь, сейчас ты мне кажешься не таким чужим…
Он закрыл ставни и повернулся к ней.
Брызги воды блестели на ее длинных гибких ногах, на узкой талии, на широких бедрах, на упругих грудях..
— Я думала, что любила мужа… — Ее темные волосы с капельками влаги рассыпались по плечам. — Какое-то время я боролась со своими чувствами. Я не могла, не хотела любить Ронина. Ведь он не был буджуном, хотя и дрался, как буджун.
Она взяла с кушетки большой кусок ткани и вытерлась насухо.
— Но потом я нашла тебя.
Таким. Ее голос как ласка у него в сознании.
Она шагнула к нему. Волосы темной волной упали ей на лицо. Она подняла руку, чтобы убрать их.
Он смотрел ей в глаза, потом отвел взгляд.
— Что с Туолином?
Уронив ткань, она предстала перед ним полностью обнаженной. Потом набросила на себя чистый халат и завязала пояс.
— Я скажу Кири…
— Пусть кто-нибудь из солдат…
— Нет.
— Охрана…
— Надежная. Я хочу…
— Шип прошел мимо.
Он словно только теперь начал что-то понимать.
— Да, но сюрикен, ранивший его, был тоже отравлен. Левая рука у него уже парализована.
— Нет ничего…
— Я приведу ее.
Она прильнула губами к его губам.
* * *
Кири вздрогнула и на мгновение прекратила набивать длинную, тонкую трубку. Как наяву ей послышался крик Мацу. Она тряхнула головой. Она хорошо знала действие опия — она поэтому и курила. Мацу тоже когда-то курила, но сейчас ощущение было совсем другим. Она лихорадочно думала, продолжая машинально набивать трубку. Но что, если Мацу жива? Нет. Невозможно! Она вновь и вновь терзала себя страшными видениями: прекрасное белое тело, плавающее в дымящейся крови; голова, которая держится лишь на тонкой полоске влажной кожи; когти Маккона, раздирающие горло и вонзающиеся в мозг.
Она сглотнула комок, подступивший к горлу при воспоминании о холодной хватке смерти. Стоит лишь раз отойти… Она снова нащупала рукоятку прямого ножа в парадных ножнах, удобно упиравшихся в живот. Это холодное светлое лезвие терпеливо дожидалось того, кто возьмет его и пронзит ей внутренности.
Кири прикрыла веки, чтобы удержать слезы, и подумала, в который уже раз: «Без нее я умираю».
— Кири.
Она открыла глаза. Рядом с ней присела на корточки Моэру.
— Кири, послушай. Сколько ты выкурила?
Кири безмолвно покачала головой. Ей почудилось, что в глазах Моэру промелькнуло что-то страшное, темное.
— В Камадо проник джиндо. Его послали убить меня. Туолин сразился с ним и был ранен.
— Опасно?
— Думаю, тебе надо с ним повидаться.
Она ощутила щекой холод камня. Она закрыла глаза.
* * *
— Хорошо, — сказал он. — Я себя чувствую хорошо.
Лоб у него был сухим и горячим.
Она чувствовала, как он нежно гладит ее по лицу. Так мягко. Что-то странное было в его глазах.
— Я люблю тебя, — произнес он очень тихо.
И она не смогла больше сдерживаться. Что-то надломилось в ее душе, и по щекам покатились слезы — все муки, вся боль выходили сейчас из нее вместе с рыданиями, а Туолин обнимал ее, укачивал, поглаживал волосы. Она прижалась к нему, словно испуганный ребенок, но теперь уже не одинокий.
— Долгая была ночь, — сказал он.
* * *
— Эффект внезапности, — проговорил Ду-Синь. — Надо застать их врасплох.
— Да, — откликнулся Азуки-иро. — Все правильно. Если мы выставим сразу ударные силы, Макконам придется возглавить контратаку.
— Главное — продумать диспозицию, — заметил риккагин Эрант.
— Да. И выбрать ее самим, — согласился Лу-Ву. — Может быть, нам уже стоило бы организовать переправу и форсировать реку вот здесь… — Он ткнул пальцем в карту. — Когда они будут контратаковать, здесь им легче всего переправиться.
— Это вряд ли имеет смысл, — сказал Азуки-иро. — Мы, буджуны, будучи островным народом, имеем большой опыт сражений у воды, так что могу вам сказать, что, если мы растянем наши боевые порядки, а они навалятся на нас всем скопом, нас просто зажмут в тиски и, как следствие, будет сумятица и полный разгром.
— И что вы предлагаете? — спросил риккагин Эрант.
— Изобразить ложную переправу и дать им знать об этом, — спокойно проговорил куншин. — Они выступят, чтобы отрезать нас, а как только они дойдут до воды, мы атакуем. Пусть пехота прикроет лучников, а потом, когда противник завязнет в грязи, лучники выйдут вперед.
— Неплохой план, — заметил риккагин Эрант.
— Нам придется здорово исхитриться, — Подал голос Боннедюк Последний.
— У них превосходство в силах, — подтвердил Эрант.
— А что, если в битву вступит сам Дольмен? — спросил один из риккагинов постарше. — Есть ли у нас тогда хоть какие-то шансы?
— Дольмена предоставьте мне, — сказал Воин Заката. — В предстоящем сражении каждый должен занять свое место, иначе мы проиграем.
— Мне было бы намного спокойнее, — снова заговорил Эрант, — если бы я имел более четкое представление об их диспозиции. Сейчас ночь, а под покровом темноты многое может измениться. Но мы не можем себе позволить и дальше терять людей. Те, кто вчера ночью ушел на разведку, так и не вернулись.
После небольшой паузы Воин Заката сказал:
— Это я тоже беру на себя.
* * *
— Что ты делаешь? — воскликнула она.
— Я не закончил одно дело.
— Но тебе нельзя, ты ранен!
— Это его выбор, Кири.
Она опустилась на колени перед полулежащим Туолином.
— Что ты делаешь?
— Я солдат, — просто ответил он.
— Разве ты должен выполнять все до единого приказы?
— Никто мне не приказывал. Я сам так хочу… я должен.
Она подняла голову, сверкнув глазами.
— Что ты ему сказал?
Воин Заката бесстрастно взглянул на нее. У него за спиной стояла Моэру, прислонившись к двери, выходившей в узкий коридор казармы.
— Я сказал только, что мне нужна его помощь…
— Его помощь? — В ее голосе звучало презрение. — Как ты не понимаешь, что это убьет его?!
— Туолин сделает так, как считает нужным.
Она повернулась к Моэру:
— Моэру, прошу тебя, поговори с ними.
— Кири, решение принято, ты же видишь.
— Я вижу лишь то, что ради какой-то ночной вылазки пренебрегают человеческой жизнью… И вообще, чья это затея? Какой хитромудрый риккагин все это придумал? Пусть сам и идет!
— Никто не знает здешнюю местность лучше Туолина. Если наше предприятие будет успешным…
— Будь оно проклято, это ваше предприятие!
Туолин поднялся, поморщившись от боли, и обнял Кири.
— Дайте мне пару минут. Я поговорю с ней, — обратился он к Моэру и Воину Заката.
Они вышли в коридор. Моэру закрыла за собой дверь.
В комнате было тихо.
Через какое-то время они услышали приглушенный крик Кири: «Нет!»
Потом к ним вышел Туолин, и вместе с Воином Заката они пошли по длинному коридору прочь от безмолвной комнаты.
* * *
В тишине ночи кричал козодой.
Они припали к земле в густой тени тополей. В отдалении слышался плеск реки. Луна уже зашла, на небе, затянутом облаками, не было видно звезд. На верхушках деревьев призрачной паутиной висел туман.
Туолин молча указал влево. Сквозь длинные нижние ветви деревьев они разглядели какое-то движение — черное на черном.
Они осторожно двинулись вперед. Теперь уже явственно слышался лязг металла и резкий, гортанный шепот.
Они подобрались еще ближе, стараясь держаться в густой тени от стволов. Они оба были одеты в черное. У каждого за поясом — по паре длинных стилетов без ножен.
Теперь они отчетливо различали десятка два приземистых воинов, возившихся с громадной боевой машиной. По периметру площадки, где располагалась машина, были выставлены часовые.
Ночью похолодало. Снег покрылся твердой коркой и стал ломким. Сейчас главное было следить за тем, чтобы тонкая наледь не хрустнула под ногами.
Они пробрались сквозь густые ветви тополей, скрытые опустившимся туманом, осторожно миновали хрустящий снег и выскочили из-за деревьев, во взвихренную метель, словно пара огромных летучих мышей.
Пошел снег. Ночь стала серой.
Белые клубы пара от их дыхания поднимались в морозном воздухе.
Они схватились с противником.
«Это какие-то новые, — подумал Воин Заката, — таких я еще не видел. И я знаю, почему их выставляют на стражу ночью».
У них были совиные глаза — большие, круглые, светло-коричневые. Быстрые, не упускающие ничего. Они по-птичьи вращали головами на коротких шеях, словно глаза у них не могли двигаться в орбитах. Сросшиеся в хрящеватую массу нос и рот, хотя и не слишком похожие на клюв. Неуклюжие руки больше напоминают крылья. Пальцы длинные, тонкие, жилистые, как веревки.
Они не издали ни звука.
Их глаза горели ярким огнем.
Воин Заката пользовался перчатками из шкуры Маккона: его кулаки, как увесистые кувалды, били со страшной силой по глазницам, по суставам.
Высушенные, бесплотные, словно на протяжении многих веков они жарились на горячем ветру пустыни, эти создания были безжалостными, беспощадными воинами.
Туолин как раз пытался вытащить из-за пояса стилет, как вдруг краем глаза отметил косой удар, направленный на него. Он отвел левое плечо и всадил клинок в грудь одной из тварей. Раздался резкий хруст, неестественно отчетливый в холодном, сыром воздухе. Оружие завязло, словно угодило в стык между костями.
Туолин прикрывался предплечьями от яростных ударов. Левая рука у него онемела. Он стал искать опору для ног, нашел гребень из льда и земли, оттолкнулся и ударил носком сапога по бедру противника.
Тварь хрюкнула и отвалилась, но на ее место тут же встали двое других.
Воин Заката скрестил запястья и резко провернул руки. Сухо хрустнула шея, вывернутая под немыслимым углом.
Руки его замелькали в густом ночном тумане, сокрушая кости и хрящи.
Покончив с противником, он присел посреди кучи тел и глубоко вдохнул.
Сделав обманное движение бесполезной левой рукой, Туолин пробил защиту наступающей на него твари молниеносным ударом правой. Хрящеватый псевдоклюв треснул, его обломки вошли в широкие холодные глаза. В это же время второй противник вцепился риккагину в горло и надавил когтеобразными пальцами на гортань. В глазах у Туолина потемнело. Легкие горели от нехватки воздуха. Не сумев высвободить руки, он согнул ноги и резко рванулся вперед; его ноги описали в воздухе ювелирно отмеренную дугу и пробили кожный покров прямо под грудной клеткой птицеобразного воина. Хлынула липкая кровь. Снег превратился в розовый град, и Туолин, отвернув лицо, перекатился в сторону по мерзлой земле. Сильные руки Воина Заката подхватили его.
— Пойдем отсюда, — прошептал Туолин, жадно хватая ртом воздух. — Быстро.
Уже потом, в темноте, он сказал:
— Я слышал об этом месте. Мы как-то в дозоре убили трех красных. Я был с зелеными. Двоих они прикончили на месте, я не успел их остановить. Третий…
Слева, из ветвей деревьев, послышалось одинокое уханье снежной совы.
— Третьим я занялся сам, прежде чем дал ему умереть. Тогда мне показалось, что он просто бредил, но теперь я бы, пожалуй, поверил в его рассказ.
Снег шел сплошной пеленой; сейчас он был их союзником, потому что глушил все звуки.
— Он говорил о какой-то пещере, где рождаются всякие твари.
— Что за твари?
— Не знаю.
— А где пещера?
— Там, — Туолин показал налево. — Где-то там, за деревьями.
Он приподнялся, чтобы идти.
Воин Заката остановил его, положив ладонь ему на руку.
— Силы у тебя еще есть?
— Надо идти.
Воин Заката подал ему один из своих стилетов, но Туолин покачал головой:
— Сейчас я могу воспользоваться только одним зараз.
Они перебежали через открытое поле — под прикрытие густых деревьев. Здесь они начали передвигаться уже осторожней, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться о корни. Неподалеку журчала река. Звук становился все громче. А потом деревья неожиданно расступились, и они оказались на поросшем тростником берегу.
— Здесь неглубоко, — заметил Туолин. — Подходящее место для переправы.
Миновав тростники, они вошли в ледяную воду. Из-за черных валунов, громоздящихся у берегов реки, течение здесь замедлялось, что облегчало переход. Но посередине — там, где не было камней, — река неслась стремительным потоком, и Туолин пару раз терял равновесие.
Они благополучно добрались до противоположного берега и, поднявшись на заросший кустарником откос, поспешили к скоплению низкорослых сосен.
Там они присели и прислушались. Туолин слегка дрожал.
Сначала им показалось, что вдалеке звонит колокол, приглушенный и немного печальный. Потом стало тихо. Не было никаких звуков, кроме шороха падающего снега. Туолин украдкой потрогал левый бок, провел ладонью по ребрам. Левая половина туловища онемела.
— Сюда, — шепнул он, тронувшись с места.
Миновав деревья, они вышли к лощинам, напоминавшим зазубрины шрамов на теле земли. Теперь им приходилось передвигаться с еще большей осторожностью, поскольку они углублялись все дальше на территорию Дольмена. В глубине души Воин Заката надеялся наткнуться на тропу Макконов, потому что из его памяти еще не стерлись воспоминания о том, что один из них сделал с людьми, близкими Ронину. Но ночь была тихой, и им не встретился ни один из Макконов.
Лощины становились все более каменистыми, а когда они подошли к четвертой, почва у них под ногами полностью сменилась камнем.
Они присели на высоком краю оврага, словно еще два черных валуна, и замерли, вглядываясь сквозь снег.
Они заметили это одновременно.
Мимолетный оранжевый сполох.
Под прикрытием камней они сползли вниз, следя за тем, чтобы не пошевелить свободно лежащие камешки.
Снег пошел еще гуще. Его пелена заглушала все звуки.
Им пришлось пережить несколько беспокойных минут, когда они пересекали небольшой открытый участок, но из-за снега видимость была ограниченной, и они благополучно добрались до противоположного края и приникли к покатым бокам валунов, покрытых ледяной коркой.
Потом они медленно пробирались через лабиринт камней, пока впереди не показалась маленькая расчищенная прогалина.
Вокруг костра сидели несколько темных тварей с глазами насекомых. За кругом света от костра, чуть правее, чернел вход в пещеру, у которого топтались приземистые воины.
Они отошли немного назад, под прикрытие валунов.
— Ты не знаешь, что там внутри? — спросил Воин Заката.
Туолин мотнул головой.
— Ладно, план действий, стало быть, такой: я займусь тварями, а ты тем временем осмотришь пещеру. Другого способа я не вижу.
— Там, по-моему, нет света.
— Да. Тебе надо будет зажечь факел от костра.
Воин Заката извлек из ножен Ака-и-цуши. Длинный сине-зеленый клинок, казалось, светился в ночи, а снежинки, падая на его поверхность, тут же таяли и превращались в слезинки.
Одним мощным прыжком Воин Заката выскочил на прогалину и двумя размашистыми ударами уложил троих приземистых воинов, прежде чем они успели понять, что происходит.
Насекомоглазые военачальники разом поднялись и выхватили свое оружие — огромные зазубренные серпы, массивные, как тесаки, пурпурно-черные, с одной режущей кромкой.
Он налетел на них, и клинки скрестились, высекая звенящую музыку боя.
Туолин же, прикрытый широкой спиной Воина Заката, метнулся к костру, подхватил горящую головешку и помчался в кромешную темень туннеля.
Черные твари все-таки углядели своими нечеловеческими глазами промелькнувшую спину Туолина и двинулись в его сторону, но Воин Заката преградил им путь.
Ака-и-цуши, мелькнувший в воздухе, пропел звенящую песнь, и Воин Заката обрушил на темных тварей серию косых стремительных ударов.
Теперь он разглядел их поближе: треугольные лица, состоящие, кажется, из одних острых углов, маленькие рты, вместо носов — узкие щели на жестких лицах. Из щек торчали изогнутые рога, как у жуков-рогачей.
Меч пробил защиту одного из этих созданий и снес ему голову. Хлынула густая черная кровь, почти мгновенно застывающая на морозе.
Второй отступил и рванулся в атаку с яростью на грани отчаяния. Ему явно хотелось погнаться за Туолином, исчезнувшим в черном жерле пещеры.
Воин Заката отступил чуть в сторону, и его противник проскочил мимо, устремившись ко входу в подземелье. Ака-и-цуши сверкнул, рассекая со свистом воздух, и тварь рухнула в снег.
Воин Заката услышал крик из пещеры и помчался туда.
Впереди брезжил дрожащий зловещий свет. По длинной пещере эхом прокатился лязг металла, потом раздался короткий вскрик, который тут же захлебнулся. Он двинулся вниз. Здесь было теплее, чем снаружи. За поворотом он наткнулся на Туолина, прислонившегося к скользкой, влажной стене. У его ног лежали два бездыханных тела — двое приземистых воинов. Он молча указал вперед.
Пещера заканчивалась тупиком. Здесь они обнаружили около двух сотен сфероидов, блестящих и переливающихся разными цветами. Буквально у них на глазах по сверкающей поверхности одного из светящихся шаров пробежала зигзагом трещина.
Он разломился.
Оттуда выкарабкалось крошечное существо, покрытое слизью, которое стало расти, увеличиваясь в размерах, а когда у него на голове начали формироваться черные блестящие глаза насекомого, Воин Заката поднял меч и зарубил детеныша.
— Яйца, — прошептал он. — Чародейские яйца.
Теперь начали трескаться и другие. Их было много. Слишком много, чтобы полагаться на меч. Воин Заката выхватил у Туолина факел и поджег убитое создание. Раздался хлопок, и тело твари полыхнуло ярким пламенем. Он принялся поджигать все растрескивающиеся яйца, пока отдельные огоньки не слились воедино, залив все пространство огнем.
Из пламени начали выделяться ядовитые газы, и весь подземный зал наполнился густым маслянистым дымом.
Воин Заката швырнул факел в огонь, и, кашляя на ходу, они с Туолином выбрались на поверхность.
Они побежали прочь от прогалины. За спиной уже слышались крики погони. Преодолев расщелины, они со всех ног бросились к соснам, зная, что на этом берегу реки им негде больше укрыться.
Онемение перекинулось на бедро; Туолин споткнулся о камень, присыпанный густым снегом. Растянувшись на земле, он безуспешно попытался подняться. Воин Заката помог ему встать, и они побежали дальше. Крики погони становились все громче. Потом послышался свирепый лай собак.
Уже показались деревья, но онемение распространялось быстро, и теперь Туолин уже не чувствовал левой ступни.
Но Воин Заката этого не заметил. Сейчас его заботило другое. Сквозь туман и снегопад он вгляделся в сосны. Ему показалось… Нет, их очертания действительно изменились. Окликнув Туолина, он обнажил Ака-и-цуши. Их единственное убежище было занято противником.
Приземистые воины образовали линию обороны. Они сошлись в схватке перед покачивающимися на ветру соснами. Ака-и-цуши запел в ночи. Туолин дрался стилетом; его тело полностью сосредоточилось на схватке, а в уме он слагал стихотворение.
Он прикончил уже двоих приземистых воинов, но тут получил удар мечом в живот. Однако прежде чем упасть на холодную землю, он все же успел достать нападавшего.
Они прорвались через цепь, но теперь в воздухе засвистели черные стрелы. Преследователи смыкали кольцо. Завывание собак становилось все громче.
Воин Заката опустился на колени рядом с Туолином, приготовившись поднять его и нести.
— Подожди, — шепот Туолина прозвучал вздохом в ночи. — Друг мой, я не переживу переправы.
— Мы сделали то, ради чего пришли, — тихо проговорил Воин Заката.
— Дорогу я показал, — Туолин слабо улыбнулся.
Снег под ним почернел от крови. Воин Заката пытался удержать сложенными ладонями его внутренности, выпадавшие из рубленой раны.
— О мой Шаангсей, — произнес Туолин, еле дыша. — Никогда больше я не увижу твое алое небо.
Он помолчал, словно собираясь с силами. Надрывный лай собак слышался совсем рядом.
— Думаю, она все-таки поняла.
— Наверняка поняла.
— Я не мог оставаться в той желтой дыре. Я не хотел умирать в постели. Я воин. Теперь я счастлив.
Шорох снега, посыпающего его смертельно бледное лицо, обращенное вверх.
— Ты знаешь, я люблю ее.
— Да.
— Я ей сказал.
— Я знаю.
Стрел больше не было. Должно быть, воины подошли совсем близко.
— Это было так важно…
— А что сказала она?
— Что она меня любит.
— Она поняла, дружище. Она тоже воин.
— Она любит меня. Вот почему она крикнула «Нет!», когда я ей сказал.
Глаза у него потускнели.
— Я знаю. Тебе надо идти.
— Я тебя не оставлю.
— Нет, это я должен оставить… все.
Шорох за соснами, присыпанными снегом. Топот ног. Лай, отрывистый и настойчивый. Туолин схватил Воина Заката за руку. Он больше не чувствовал своего тела, только пальцы правой руки пока еще не потеряли чувствительность.
— А теперь послушай… послушай меня:
По тропе,
По больным, иссушенным полям
Все еще странствуют сны.
Глаза у него закрылись, как будто он заснул.
Воин Заката уже слышал дыхание собак, резкий скрежет металла, скрип кожи.
Он подхватил Туолина на руки и углубился в сосновую рощу.
Потом спустился к реке и вошел в черную кружащуюся воду. Снегопад укрыл их, а река унесла запах. Этой ночью преследователи не станут переправляться.
На том берегу Воин Заката прошел через тростники и взобрался на высокий склон.
Теперь, когда можно было уже не спешить, он подыскал тихое место подальше от стен Камадо, в стороне от поля битвы.
Место, чтобы похоронить Туолина.
Стилеты риккагина он положил ему на грудь под косым углом.
Потом его скрыла земля.
* * *
— Это красиво.
— Да.
— Ты ей, конечно, сказал.
— Я рассказал ей все.
— Хорошо. Думаю, это поможет.
Окна были открыты. В эти последние предрассветные часы в Камадо было тихо. Туман окутывал крепость, как дым.
— Думаешь, есть еще?
Он наблюдал за игрой света на ее нежном лице. Ее кожа отливала шелковым блеском.
— Пещеры? — Он пожал плечами. — Кто знает?
Снаружи проскрипели по снегу чьи-то шаги, поднялись по деревянным ступеням. Хлопнула дверь.
— Как ты думаешь, что ты найдешь в конце своих странствий?
Когда она повернула голову, в ее сине-зеленых глазах блеснул белый огонек, тут же пропавший в тени.
— Месть, — произнес Воин Заката.
— За друзей, которых уже давно нет в живых?
— За весь род людской, Моэру.
— А что будет с нами? С тобой и со мной? Ты однажды сказал, что между нами есть какая-то связь.
— Сейчас не время об этом думать.
— Это важно.
— Да, — согласился он. — Важно.
— Потому что наши с тобой сны все еще странствуют…
Даже собаки на улицах Камадо не подавали голоса, словно зная о том, что наступает последний рассвет.
* * *
На обширной равнине развеваются потрепанные знамена.
Фыркают боевые кони, беспокойно бьют копытами и раздувают ноздри, выпуская клубы пара.
Многочисленные ряды пехотинцев разворачиваются под руководством своих риккагинов. Из Камадо длинной колонной все идут и идут воины, выстраиваясь на флангах войска людей.
Уже рассвело, но вязкий свет тускл и неярок, словно бледному солнцу уже не хватает сил, чтобы светить как должно. Розовое марево, туманное и неестественное, разлилось по равнине.
Позвякивание металла о металл.
Лязг иссеченных доспехов.
Боевые штандарты буджунских дайме колышутся над сверкающими шлемами всадников.
По полю с лаем носятся собаки.
Кто-то чихает.
Раздается пронзительный звук рога, и кавалерия сдвигается с места — под небольшой уклон, через равнину, мимо тополиной рощи, к темной воде реки. Воины с любопытством косятся на боевую машину противника, выведенную из строя незадолго перед рассветом отрядом под командованием Воина Заката и риккагина Эранта.
Когда конница колышущейся волной накатила на берег, взору всадников предстала устрашающая картина: весь противоположный берег почернел от покрывшего его бесчисленного воинства Дольмена.
Сразу за кавалерией, как и было спланировано на военном совете, двинулись, держа луки на изготовку, стрелки с набитыми стрелами колчанами за спиной. Они, пригнувшись, бежали за конницей.
Риккагин Эрант, который командовал кавалерией, постепенно ускорял движение, пока всадники не перешли на галоп.
Грохот копыт вспугнул стайку дроздов, выпорхнувших из высокой травы и взмывших в затянутое тучами небо.
Равнина содрогалась в ритме движения полумиллиона копыт, из-под которых летели коричневые и белые комки земли и снега.
На другом берегу послышался крик, разнесшийся над бурным потоком. При приближении конницы вражеские воины бросились в реку, чтобы встретить атаку.
Риккагин Эрант видел, как черные насекомоглазые военачальники что-то кричали своим солдатам, опасаясь, как видно, что их боевые порядки нарушатся и превратятся в слишком изломанную линию.
В последнее мгновение риккагин Эрант взмахнул правой рукой, и по его знаку всадники как один натянули поводья и раздались от центра, растекаясь по флангам и освобождая пространство лучникам. Стрелки в первом ряду опустились на одно колено. Стрелы посыпались плотным облаком в самую гущу надвигающегося противника.
Воздух сразу же почернел от железного дождя, пролетавшего над головами разъезжавшихся в стороны всадников. Под непрерывный свист стрел посреди реки падали вражеские воины, хватаясь кто за горло, кто за грудь, многие тут же тонули, исчезая под водой.
Но теперь по спинам извивающихся в воде солдат побежали мертвоголовые воины, высокие и тощие, как скелеты, из ран которых текла не кровь, а сыпалась пыль, — существа, которые, раз лязгнув челюстью, могли запросто откусить у человека ногу.
Лучники из первой линии продолжали стрелять. Потом к ним подключились стрелки из второго и третьего рядов, и воздух над рекой опять потемнел от стрел. Но мертвоголовые не понесли никакого урона. Как по докучливым насекомым, они хлопали по стрелам, вонзавшимся в их тела, ломали древки, не обращая внимания на наконечники, остававшиеся в теле, и продолжали идти вперед бледной неуязвимой волной.
Воздух наполнился резким свистом их шипастых шаров, которые они раскручивали над головами на металлических цепях. Выбравшись из вязкого ила, они врезались в первую линию лучников, и теперь над равниной разносился лишь хруст костей.
Натянув поводья, риккагин Эрант созвал кавалерию с флангов. Конники с двух сторон атаковали мертвоголовых.
Пехотинцы уже спускались к реке, чтобы сойтись с врагом на обоих флангах.
Эрант выхватил меч, когда его конь прорвался сквозь порядки противника. Его клинок разрубил узкий череп, из которого в сырой воздух могильным дыханием вылетело облако серой пыли.
Под ударами свистящих кистеней лучники погибали десятками, но конники риккагина Эранта сомкнули ряды и устремились к центру, вынудив мертвоголовых развернуться им навстречу для отражения атаки. Оставшиеся лучники отступили, поднявшись по берегу.
Небо затянули густые тучи, словно непрошеные слезы, вдруг навернувшиеся на глаза. Они полностью закрыли и без того бледный солнечный свет. Пошел мокрый снег с градом, косой и серый.
По полю метались знамена, обозначая победы и поражения в отдельных схватках и стычках. Но яркие, заметные издали штандарты буджунов продвигались только вперед.
Вынув из ножен длинный сине-зеленый меч, Воин Заката погнал своего алого луму к реке, в самую гущу битвы, кипевшей на переправе.
Ака-и-цуши прорубал широкие просеки в рядах вражеских воинов. Казалось, он поет, наслаждаясь кровавым пиршеством. Необычный металл, закаленный с такими любовью и тщанием на заснеженных склонах Фудзивары, выглядел еще темнее в тусклом сумраке, а иссушенная плоть мертвоголовых, казалось, шипела, когда сине-зеленый клинок рассекал белые кости.
К нему устремились нечеловеческие пасти с острыми клыками, и лума отпрянул, чтобы избавить своего всадника от опасности. Посвист шипованных шаров напоминал теперь звук, который исходит от облака голодной саранчи. Враги сгрудились вокруг него, пытаясь сбить наземь.
Моэру и Боннедюк Последний уже добрались до берега и, пришпорив своих скакунов, устремились к переправе.
Мокрый снег с градом усилился. Льдинки били по доспехам и оружию воинов. Но даже теперь торжествующие крики тех, кому удалось одолеть врага, и вопли умирающих на поле брани звучали лишь приглушенным фоном для лязга металла и барабанной дроби мерзлой крупы.
Илистые и вязкие берега реки покраснели от крови, копыта и сапоги втоптали в землю тела — павших, живых и раненых, — и сейчас под ногами воинов образовалась уже похрустывающая на морозе корка без грязи и травы.
Ударные отряды, составленные из красных и зеленых, сражавшихся в этих краях и лучше знакомых с местностью, получили задание разрушить огромные боевые машины Дольмена. Хотя противник вряд ли бы воспользовался ими сейчас, когда два войска смешались в схватке, но риккагин счел необходимым подстраховаться.
Моэру чуть не лишилась головы, когда у нее над плечом скрипнули челюсти мертвоголового, но она все же успела развернуться и ткнуть мечом ему в лоб; череп разлетелся, на мгновение ослепив ее облаком из обломков кости и частиц мозга. Почувствовав острую боль в левой руке, она отпрянула в сторону, а безголовое тело еще раз — уже рефлекторно — взмахнуло шипованным шаром на длинной цепи.
Моэру спешилась, поскользнувшись на гладком куске доспеха. Дальше путь был загроможден кучами тел, а ее конь, получивший с десяток ран, истекал кровью. Она наступила на чей-то череп. Потеряв равновесие, качнулась, но тут же выпрямилась и рубанула мечом по туловищу еще одного мертвоголового. На этот раз она вовремя присела, и шар просвистел по тому месту, где еще мгновение назад была ее голова. Потом она подняла меч и добила своего коня.
Помахав рукой Боннедюку Последнему, Моэру пробилась к нему и вскочила на его коня, к нему за спину. Они двинулись вперед.
Кровь, насыщенная адреналином, клокотала в могучем теле Воина Заката, углублявшегося все дальше во вражеские боевые порядки. Его исполинский клинок напоминал стремительную косу, вертящуюся с такой скоростью, что ее очертания слились в сверкающее облако. Одним выпадом он разрубил четырех воинов и, развернувшись, обратным ударом уложил еще троих.
Из Камадо подошла свежая пехота, врезавшись клином в самую гущу мертвоголовых воинов.
Увидев Воина Заката, который сражался в центре, риккагин Эрант развернул коня и подал сигнал оставшейся коннице переместиться на правый фланг, где оборона была ослаблена. За рядами мертвоголовых воинов показались странные создания с гребнями на головах, наступавшие под предводительством насекомоглазых командиров.
Он пришпорил коня и поскакал вдоль покрытого пеной берега реки, вода из которой выплескивалась серебряной пылью под ударами снежной крупы. Он услышал звук рога, трубившего сигнал к атаке. Свесившись с седла, он рубил вражеских воинов, выбиравшихся из кипящей воды. Это были низкорослые мускулистые люди без шей и с широкими спинами, вооруженные длинными пиками из черного металла и массивными мечами с одной режущей кромкой.
Развернувшись в седле, риккагин Эрант прокричал приказ, перекрикивая шум битвы; он пытался развернуть своих людей вдоль берега, потому что, как выяснилось, оборона там была слабее, чем ему показалось сначала.
Возле уха мелькнул клинок, и на луку его седла упал наконечник пики, отрубленный вместе с куском древка. Он развернулся, выругался и обезглавил воина, пытавшегося насадить его на копье. Отсалютовав окровавленным мечом спасшему его солдату, риккагин пришпорил коня.
Приземистые воины и существа с гребнями на головах темной волной накатили на берег, и риккагин Эрант отослал двоих гонцов в тыл за подкреплениями.
Пехотинцы, отчаянно отбиваясь, мало-помалу отходили от берега под мощным напором пикинеров.
— В реку! — крикнул риккагин Эрант, и его конники бросились в порозовевшую воду в попытке обойти противника с флангов.
Он построил своих людей клином, чтобы они оттеснили плотную стену пикинеров, заставляя их наталкиваться друг на друга.
Рука у него уже устала рубить.
При виде успешных действий конницы пехотинцы под крики своих риккагинов восстановили боевые порядки и начали постепенно продвигаться вперед.
Сквозь оглушительный грохот битвы риккагин Эрант расслышал какие-то крики и увидел отряд воинов, переправлявшихся через реку прямо напротив него под предводительством человека, ехавшего на каком-то черном создании — таком черном, что на него было больно смотреть, — командующего центральными силами Дольмена.
Это был мужчина огромных размеров, с обсидиановыми глазами. Длинные черные волосы, расчесанные на прямой пробор, напоминали крылья хищной птицы. У него над головой, чуть позади, среди потока снежной крупы плескались два ярких знамени. Присмотревшись, риккагин Эрант разглядел изображение на шелке: алая ящерица, извивающаяся на черном поле, и алые языки пламени у ее ног.
Воин Заката почувствовал это раньше, чем кто бы то ни было, и весь подобрался. Где-то в недрах сумятицы лязгающего металла, плоти, крови и внутренностей. Напор неисчислимого воинства — главная его забота на протяжении всего утра — таинственным образом ослаб.
Он присмотрелся. Мертвоголовые все еще переправлялись через реку, смешиваясь с гребенчатыми воинами и пикинерами. Но теперь они передвигались не плотной стеной, а двумя линиями, и их крики разносились эхом над шумом битвы. Они о чем-то переговаривались между собой и показывали направо.
Приложив руку в перчатке из шкуры Маккона ко лбу, Воин Заката прищурился, вглядываясь в темную точку чуть дальше, вниз по реке. Теперь он различал черный силуэт, проявляющийся из снежной мглы. Он начал пробиваться влево, чтобы оказаться поближе.
Существо вошло в реку в глубоком месте с очень сильным течением, примерно в двух сотнях метров от Воина Заката, напротив каменистого мыса, выступавшего в воду на этом берегу.
Он отчетливо разглядел холодные оранжевые глаза, которые как будто пульсировали огнем, прожигающим снежную пелену, и услышал зловещий вопль, разнесшийся над бурными водами.
Маккон.
Но Воин Заката находился еще слишком далеко от того места. Хотя он и рубил, как одержимый, налево и направо, пробираясь через колышущееся море извивающихся, уворачивающихся тел, продвинулся он ненамного — настолько плотно был забит этот берег.
Маккон двинулся вперед, размахивая лапами со страшными загибающимися когтями. Его клюв то судорожно открывался — и тогда во рту виднелся короткий серый язык, — то с треском захлопывался. Его завывания отражались от воды, словно плоские камни, запущенные по поверхности.
Кири на своей желтой луме отвлеклась от побоища, быстро огляделась, натянула поводья и, пришпорив своего скакуна, устремилась вдоль берега к мысу.
Сверкающим клинком она пробивала себе путь по этой узкой полоске земли. Ее лума отшвыривала копытами мертвоголовых воинов и приземистых пикинеров.
Ее глаза горели неистовым огнем, зрачки расширились от возбуждения и страха. Взмахом меча она рассекла надвое подбиравшегося к ней противника. Ее сердце бешено колотилось. Она смотрела в злобные глаза Маккона, добравшегося уже до середины реки.
Она натянула поводья на самом краю, ее лума встала на дыбы, а в мозгу у нее пылала одна мысль. Она выкрикнула в сторону реки:
— Я — Кири, Императрица Шаангсея. Я вызываю тебя на бой. Ибо отмщение должно свершиться, и ты должен ответить на мой призыв!
Она извлекла из складок одежды короткий нож в парадных ножнах, который всегда носила на животе, и отшвырнула его через плечо. Потом соскочила с седла и, сильно оттолкнувшись, нырнула в воду.
Воин Заката, медленно, но верно пробивавшийся к Маккону, увидел Кири, услышал сквозь шум битвы ее слова и, покопавшись в обрывках памяти — не своей, а того, другого, — понял, что должно сейчас произойти.
Вода в реке, бурлившая от ледяной крупы и поднявшегося ветра, закипала перед приближающимся Макконом. Воин Заката увидел, как Кири вынырнула и поплыла к поджидавшему ее чудовищу.
В кипящую воду.
Ее голова вдруг исчезла с поверхности, словно что-то утянуло Кири на дно. Лишь на мгновение ее белый кулак задержался над бурлящей водой, а потом и он тоже исчез посреди темного пятна, расплывающегося перед Макконом.
Воин Заката издал отчаянный боевой клич и бешено завертел огромным мечом. Он уже не был собой — он превратился в машину для убийства, несущую смерть. И даже мертвоголовые воины, не знавшие страха, отступали перед его свирепым напором, пытаясь избежать гибели, несущейся к ним неудержимым приливом.
Маккон хлопнул ладонями по неспокойной поверхности воды, и она поднялась воронкообразным столбом, обдав брызгами его морду с клювом. Он запрокинул голову к вершине этого столба, и перед его нечеловеческими оранжевыми глазами возникло лицо Ламии, Кей-Иро Де, полуженщины-полузмеи, морской богини, покровительницы Шаангсея.
Она восстала из столба воды — Кей-Иро Де с чешуйчатым телом громадной змеи, увенчанным женской головой с мертвенно-бледной кожей и ниспадающими волосами-водорослями.
Потом голова Ламии повернулась, и она встретилась взглядом с Воином Заката.
Хоть это и не было для него неожиданным, он все равно застыл, потрясенный, глядя в лицо Кири, свирепое и безмятежное. У нее на губах промелькнула ленивая улыбка, и, опять повернувшись к Маккону, Кей-Иро Де обвилась кольцом вокруг его мускулистой, пульсирующей фигуры.
Все туже и туже сжималось скользкое тело, сдавливая вопящее и бьющееся в воде чудовище, сильные руки которого оказались прижатыми к телу. Он делал отчаянные попытки вцепиться клювом в туловище обвившейся вокруг него змеи.
Маккон кричал, призывая кого-то, и вот в туманной мгле, что окутывала противоположный берег, показался еще один массивный силуэт.
Смертоносным вихрем Воин Заката прорубил себе путь через боевые порядки врага; перед ним хрустели сокрушаемые кости, а за спиной оставались лишь стоны умирающих.
А тем временем кольца Ламии переместились выше, сдавив толстую шею Маккона. Глаза его вылезли из орбит, но он все-таки извернулся и вцепился клювом в ее чешуйчатую шкуру. Глаза у Кей-Иро Де сверкали, как молнии, а губы ее растянулись в полуулыбке-полуоскале. Маккон начинал задыхаться.
Воин Заката уже прорвался сквозь последнюю вражескую цепь на отмели у берега, и тут он увидел второго Маккона, входившего в воду прямо напротив него.
Маккон, сражавшийся с Кей-Иро Де, дернулся изо всех сил, но Ламия лишь еще туже сжала свои смертоносные кольца. Послышался отрывистый треск, прозвучавший отчетливо, словно громовой раскат, и голова у Маккона свесилась набок.
Ламия издала трубный вопль торжества и взмыла вверх. Из ее ран обильно текла кровь. А уже через мгновение она пропала под серыми водами реки.
Молнии вспарывали тусклые низкие облака. Ледяной снегопад приобрел серебристый, металлический оттенок. День потемнел, помрачнел, атмосфера сделалась давящей и холодной.
Странного вида воины с гребнями на головах хлынули через переправу. Их вел человек под развевающимся черным знаменем с алой ящерицей. Они устремились к месту чуть выше по течению — туда, где оборона войска людей выглядела наиболее слабой.
Оками, возглавлявший один из буджунских отрядов, в срочном порядке переговорил с тремя другими дайме — им надо было пересмотреть уже согласованную тактику.
Они начали перемещать свои отряды по равнине на подступах к берегу, чтобы взять в клещи и разгромить авангард мертвоголовых, угрожавших прорвать первую линию обороны.
Еще множество вражеских воинов дожидались своей очереди на переправе на том берегу, поскольку во всех прочих местах глубина не позволяла перейти реку вброд.
Моэру и Боннедюк Последний скакали вдоль берега, собирая и уводя силы людей к тому месту, куда военачальник под черным знаменем вел своих воинов. Уворачиваясь от удара пикой, Моэру потеряла равновесие и соскользнула с коня. Она подала Боннедюку знак, чтобы он ехал дальше без нее. Убедившись, что с ней все в порядке — она уже возглавила группу пехотинцев и бросилась вместе с ними в воду, — он ускакал.
Воин Заката подкрадывался ко второму Маккону, двигаясь по течению влево. Чудовище пока еще не замечало его, и он очень надеялся, что так оно и будет до нужного момента.
Темные очертания твари пульсировали среди тумана и розовой снежной крупы. Вонь от Маккона доносилась даже сюда, на середину реки. Воин Заката плыл без особых усилий; ему не мешали ни сильное течение, ни тяжесть доспехов и оружия.
Он осторожно направился к отмелям, пользуясь в качестве прикрытия высоким тростником, и выбрался на берег.
Передним расстилалась равнина, усеянная скарбом полумиллиона воинов.
Вражеский лагерь.
А впереди, на расстоянии в полкилометра, виднелись неясные очертания огромного соснового леса, черного и безвозвратно обугленного, — леса, где скрывался Дольмен.
Он побежал по берегу, скользя в грязи, которую тающие лед и снег смывали в серо-коричневые воды реки.
Одним броском он приблизился к Маккону.
Воспоминания о схватке Ронина в Городе Десяти Тысяч Дорог. Лицо вопящего Г'фанда, его мертвые вытаращенные глаза. Предрассветный час в Тенчо, когда Ронин ворвался в комнату Мацу… зловещие, равнодушные глаза Маккона… он смотрел Ронину в глаза, одновременно раздирая когтями горло Мацу… ее тело в брызгах крови… обрывки внутренностей…
И раскаленная добела мощь Оленя в недрах его души — первобытная, яростная, неистощимая — омыла его горячей волной, и он издал страшный вопль, и Маккон обратил к нему испытующий взгляд холодных оранжевых глаз, похожих на маяки. И он подумал еще, тот ли это Маккон… Хотя он и знал, что все они каким-то непостижимым образом связаны между собой и один представляет всех остальных, он все же надеялся, что это именно тот, который стал причиной стольких смертей и страданий.
Огромный меч просвистел в воздухе, и голова Маккона дернулась назад. Беззвучно открылся клюв. Чудовище ударило по мечу и тут же взвыло от боли и ярости. Раньше оно не боялось металла. Но это был не обычный меч, а Ака-и-цуши, и Маккон, сразу поняв, что к чему, начал остерегаться клинка, уворачиваясь от стремительных выпадов и пытаясь приблизиться, чтобы достать противника страшной когтистой лапой. Его толстый хвост бился из стороны в сторону.
Маккон сделал внезапный бросок в попытке прорваться сквозь защиту, но Воин Заката выставил меч вперед, сжимая его обеими руками, как обычно держат кинжал. Сине-зеленый клинок вошел в грудь Маккона, и Воин Заката повел его вниз, вскрывая твари живот.
А потом удар страшной силы сбил его с ног. Он увидел, как Маккон зашатался, как затряслись его массивные ноги, когда он, завывая от боли, безуспешно пытался вытащить клинок, обжигавший его шкуру и внутренности. Опустившись на колени, Маккон начал заваливаться на бок, и только теперь Воин Заката впервые увидел его кровь — вязкую, тягучую жидкость, вытекающую из рваной раны.
На него опустилась тень.
Третий Маккон.
Чудовище загадочно улыбнулось и нависло над ним, протянув когтистые лапы. Он попытался откатиться в сторону, но расставленные ноги Маккона помешали ему.
Потом до него вдруг дошло, что он не ощущает цепенящего холода, который едва не прикончил Ронина в двух предыдущих схватках с Макконом. Он вспомнил слова Боннедюка Последнего, сказанные им Ронину перед отплытием из Хийяна на поиски Ама-но-мори:
«Пока тебе еще не одолеть Маккона». Но он уже не Ронин. Снова где-то в глубинах его существа взревел Черный Олень, и вместе с этим могучим воплем пришло осознание того, что теперь они с Макконом равны.
Маккон взвыл, и Воин Заката увернулся от мощного удара когтей.
Ударом неимоверной силы он сбил Маккона на землю.
Он молотил по его лицу, а память о Мацу переполняла его, как аромат благовоний, туманной пеленой застилала ему глаза. Он не обращал внимания на приближающиеся к нему лапы даже тогда, когда они сомкнулись у него на горле.
Он продолжал бить Маккона, глядя в зловещие глаза с черными щелями зрачков. Услышав хруст сломанного клюва, он возликовал про себя и ударил еще раз.
Клюв рассыпался на куски, отлетевшие ему в лицо. Горячая кровь Мацу и обрывки ее плоти тошнотворным дождем залили Ронину глаза. Омерзительная, чудовищная голова моталась из стороны в сторону.
Но тут Маккон схватил его когтями за горло и резко сдавил. Воин Заката как раз сделал вдох, и у него в легких было еще достаточно воздуха. Он опять замахнулся и всадил сразу два кулака в рыхлую рану. Вырвав из месива плоти обломок клюва, от которого во все стороны разлетались брызги черной холодной крови, он резанул острым обломанным краем Маккону по глазам. Неровные зубцы рассекли глазные яблоки.
Он почувствовал укол когтей, погрузившихся ему в шею, и наклонился пониже, надавив всем телом и продолжая кромсать тело Маккона обломком его же клюва. Плоть отходила длинными кровоточащими полосками. Когти вонзились глубже. Маккон задергал лапами.
Не обращая внимания на отчаянные попытки чудовища разодрать ему горло, Воин Заката вонзил зазубренный осколок в правый глаз Маккона — вогнал его, словно пику, добравшись до мозга.
Огромное тело дернулось под ним, и вверх брызнула кровь, перемешанная с какими-то розовыми и тускло-желтыми ошметками. Он сглотнул и утер лицо предплечьем, не ослабляя при этом давления.
Маккон содрогнулся в последний раз, изо рта у него хлынула булькающая коричневая жидкость, и лапы отпали от шеи Воина Заката.
Стоя на коленях над телом Маккона, он напоследок еще раз ударил кулаком по его разбитой морде. Потом поднялся и подошел к тому месту, где из трупа второго Маккона, словно сверкающее надгробие, торчал его меч. Вырвав клинок из тела поверженного врага, он вложил его в ножны, развернулся и бросился в реку. Стылая вода сразу же смыла с него запекшуюся грязь. Он нырнул с головой и, отфыркиваясь, вынырнул на поверхность.
Уже собираясь вернуться на свой берег, он сквозь шум битвы услышал крик где-то выше по течению. Снегопад на мгновение ослаб, и до него отчетливо донеслись звуки, прокатившиеся, как по акустическому каналу, по поверхности реки.
Противник прорвал оборонительные порядки. Воин Заката прищурился, вглядываясь в предвечерний сумрак, и увидел развевающиеся знамена над бесчисленным войском, выстроившимся клином, которое выбиралось на берег и растеклось по полю перед высокими стенами Камадо.
Разглядев алую ящерицу на черном поле, он почувствовал, как отчаянно заколотилось сердце, и поплыл вперед, делая длинные, сильные гребки.
* * *
«Что бы ни происходило сейчас ниже по реке, где берег удерживают буджуны, — подумал риккагин Эрант, — здесь мы проигрываем». Он развернул коня, лоснящаяся шкура которого была вся покрыта пеной, кровью и грязью. Въезжая на небольшой подъем, конь наступил на нескольких раненых.
Эрант на мгновение застыл в потрясении, обводя взглядом поле боя, являвшее собой монументальную картину торжества смерти. Столько погибло людей… а ведь прошло-то всего полдня.
Равнина превратилась в шумное море из шевелящейся плоти и перемолотых костей, разлетающейся серой пыли и хлещущей крови. Казалось, самый ландшафт изменился с утра, словно сдвинулись пласты земли: там, где когда-то была необъятная ширь с небольшими перепадами высоты, теперь громоздились холмы — груды тел, кровавая жатва сегодняшней битвы. Ледяная крошка, непрестанно сыплющаяся с хмурого неба, таяла от тепла тел и, смешиваясь с кровью павших бойцов, превращала почву в отвратительную топкую жижу.
Он рубанул приземистого воина, налетевшего на него, и отсек ему руку, державшую оружие. Он резко натянул поводья коня, наступившего на упавшее тело и раздробившего копытами череп нападавшего.
Уже не в первый раз он задумался, а не послать ли гонца к буджунам за помощью. Он видел их великолепную, яростную атаку, когда они взяли в клещи мертвоголовых и буквально стерли их с лица земли. Сейчас они сражались ниже по течению, и он повернулся, высматривая, сколько воинов у него осталось — так мало, что он не может себе позволить послать даже одного гонца. Кроме того, маловероятно, что этот гонец уцелеет, пробираясь по полю битвы. Ему остается одно: держаться здесь до последнего, пока не подоспеет помощь.
«Будь проклят этот риккагин, кем бы он ни был!» — подумал риккагин Эрант. Знамена с алыми ящерицами весь день преследовали его конницу, заставляя его то и дело менять тактику, и все это время численное преимущество противника постепенно сминало его оборону.
Его переполняли бессильный гнев и тягостное ощущение собственной беспомощности, словно он угодил в громадные неподвижные тиски, из которых не может выбраться, не может вывести своих людей.
Риккагин Эрант осознавал свой долг, но теперь он уже понимал, что не в состоянии исполнить его. Сегодня на рассвете он выехал на равнину с одной только мыслью: победить. Теперь же ему казались, что победа ускользает от него, как невидимое солнце, тащившееся раненым драконом по неспокойному небосводу.
Неожиданно волна битвы вынесла к нему Моэру. Она сидела на лошади кого-то из убитых солдат. Пробравшись сквозь грязь и кровавое месиво, она подъехала к нему.
— Слишком долго он меня держит на месте, этот проклятый риккагин с ящерицами! — крикнул ей Эрант. — Моэру, ты не можешь возглавить конницу? Мне нужно пробраться к штандартам этого риккагина и убить его, пока его войска не заняли наши позиции.
Моэру кивнула и, пришпорив залитого кровью скакуна, поскакала к обложенным со всех сторон остаткам конницы риккагина Эранта. В живых не осталось уже ни одного командира.
Окликнув конников, она развернула их плотной дугой и повела во фланговую атаку на приземистых пикинеров. Копыта коней служили им тараном.
С удовлетворением отметив, что она приняла верное решение, риккагин Эрант натянул поводья. Его конь дернул головой, фыркнул и встал на дыбы. Пора, сказал он себе.
Он помчался по полю сражения, через завалы разбитых доспехов и розовых костей, к высокому частоколу пик над телами убитых воинов. Вперед, объезжая леса копий, прорубаясь сквозь мародерствующие шайки странных созданий с гребнями на головах, уворачиваясь от свистящих смертоносных шаров мертвоголовых.
Он рвался вперед в отчаянном, яростном порыве, сея вокруг себя смерть. Пробился через кордон неприятеля, перелетел через дорогу, черную от растоптанных тел. Впереди выросла стена из пик, а за ними уже — развевающиеся на ветру черные знамена с алой ящерицей, стоящей на задних лапах. Он скакал по проходу, ощетинившемуся копьями и мечами, через груды тел, корчащихся и окровавленных. Вперед, расплескивая лужи крови, по хлюпающей трясине из потрохов, сокрушая черепа и хребты, — к черным знаменам, которые были чем-то сродни стае стервятников, уже вьющихся в небе в ожидании поживы. Туда… С железной решимостью Эрант несся вперед, а приземистые воины вопили и цеплялись за него израненными, окровавленными пальцами, хватались за его сапоги, их длинные ногти царапали коню бока и холку. Они размахивали короткими мечами, скользили в трясине, образовавшейся из останков их погибших товарищей.
Меч его пел в руке, сея смерть и разрушение, вспахивая зыбучий песок битвы, а ледяная крупа била ему в глаза. Борода и брови покрылись розовым инеем. Кровь и мокроты брызгали на него со всех сторон. Летели отрубленные пальцы, руки и головы. В густой морозный воздух, медленно кружась, взлетало оружие, обозначая беспощадную мясорубку его продвижения вперед. А черные с алым знамена по-прежнему победоносно реяли перед ним, словно насмехаясь. Уже совсем близко, на расстоянии в несколько десятков рядов. Он все же добрался. Почти добрался.
Наконец во вражеских порядках открылась брешь, и риккагин Эрант тут же направил туда коня.
Боннедюк Последний, бившийся на участке неподалеку от знамен с алой ящерицей, увидел, как риккагин прорвался, пробив оборону противника. Он пришпорил луму и, низко склонившись в седле, тоже принялся пробиваться к черным знаменам.
Теперь, подъехав поближе, он разглядел, как риккагин Эрант приближается к огромному воину, восседавшему на необычном звере с черной, как ночь, шкурой. Боннедюк предпринял яростную атаку и тоже прорвался сквозь ряды противника, но тут его взгляд упал на Саламандру.
Он ахнул, и с его губ сорвалось имя, унесенное прочь грохотом битвы.
Он шепнул что-то луме, подгоняя вперед, мимо корчащихся, извивающихся тел, и, поднявшись на пригорок, оказался совсем рядом со знаменами с ящерицей. Теперь он разглядел этого могучего военачальника. Надменное лицо, холодные обсидиановые глаза, развевающиеся крыльями волосы, слои жира, наращенные как будто специально, чтобы изменить форму характерных высоких скул.
«Так вот что произошло, — подумал Боннедюк Последний. — Хорошо, что его здесь нет и он не видит этот страшный позор».
Мысль промелькнула и тут же исчезла. Он снова принялся за рутинную, однообразную работу: разил врагов, заставляя луму помогать ему — пробиваться вперед, лягаться передними ногами, крушить шлемы и доспехи, ломать древки пик. А сам он рубил, не зная устали, налево и направо.
Через осклизлый гребень — в последнюю впадину. Над головой у него извивались алые ящерицы в окружении языков пламени.
Он увидел, как Саламандра поднял голову и повернулся на крики своей охраны, предупреждавшие о стремительном приближении риккагина Эранта. Придержав пику одного из охранников, он — этаким небрежным жестом — извлек из складок своего черного одеяния две толстые палочки из полированного дерева, соединенные короткой цепью из черного металла.
Риккагин Эрант, издав боевой клич, высоко поднял меч и снес голову приземистому воину, который попытался встать у него на пути.
Боннедюк Последний пришпорил луму и устремился вперед, выкрикивая предостережения атакующему риккагину. Но даже если бы тот и услышал его в грохоте битвы, все равно было уже слишком поздно.
Саламандра развернул коня и, сделав обманное движение левой рукой, метнул оружие.
Риккагин Эрант успел заметить только неясный промельк. Он попытался пригнуться, но расстояние было слишком коротким, чтобы успеть среагировать вовремя. Тяжелое дерево ударило его в ключицу, а мгновение спустя металлическая цепь хлестнула ему по плечу. Силой двойного удара его выбросило из седла. Он упал на бок, а нога осталась в стремени.
Испуганный скакун рванулся вперед, волоча за собой риккагина, прямо на линию пик, над которыми реяли знамена с ящерицами. Хрустнула кость. Нога высвободилась из стремени, и Эрант остался лежать как мертвый, поверх кучи окровавленных трупов, над которыми вились мухи.
Саламандра уже отвернулся от него, направляя пехоту в небольшую брешь, образовавшуюся в оборонительных порядках войска людей.
Боннедюк Последний погнал луму через неглубокую лощину, промчался мимо изуродованного бездыханного тела риккагина Эранта.
Он направлялся прямо к Саламандре.
Грохот копыт его собственного скакуна отдавался эхом у него в ушах. Он вспомнил о Хинде, который остался за стенами Камадо — в безопасности; Хинд не желал расставаться с ним, но он все-таки подчинился, зная, в чем состоит его долг. Еще он подумал о волшебном устройстве, тикающем в его потертой кожаной котомке в одной из казарм Камадо. Он специально оставил Риаланн там, вполне отдавая себе отчет, чем все это может закончиться. Только теперь он наконец осознал в полной мере смысл своих долгих безрадостных поисков через века и эпохи, за пределами самого Времени.
Он размахивал иззубренным, почерневшим от крови мечом, к клинку которого прилипли осколки белых костей.
— Токаге! — крикнул он. — А вот и я! Не меня ли ты все утро искал?
Медленно, бесконечно медленно в его сторону повернулась громадная голова с обвислыми складками жира, скрывающими черты лица. Черные, ониксовые глаза, тусклые, словно гранит, уставились на него, и толстые губы слегка искривились.
— Глупость ты совершил, заявившись сюда, — вымолвил Саламандра, и голос его монотонным звуком разнесся над шумом бушующей схватки. — Но я знал, что ты придешь.
Боннедюк натянул поводья. Недовольный лума взвился на дыбы, пританцовывая на раздробленных черепах убитых, — он хотел мчаться дальше.
— Представить себе не могу, как тебе удалось избежать смерти, — проговорил маленький человечек.
Лицо Саламандры не выражало ни гнева, ни удивления.
— А ты думал, что я ей поддамся? Мне казалось, ты знаешь меня получше. — Он весело хохотнул, а потом вдруг умолк, склонив голову, будто прислушиваясь к этому давно забытому, непривычному звуку.
Его беспокойно окликнул кто-то из охранников.
— Встать по периметру, — приказал он негромко. — И смотрите мне, чтобы никто не пробился.
Воины разъехались, окружив Саламандру и Боннедюка плотным кольцом. Рядом со своим господином остались лишь два знаменосца с черными штандартами, плещущимися на ветру, точно огромные крылья ночной хищной птицы.
— Нет-нет, — сказал он Боннедюку Последнему. — Странно, что ты не догадался. А я-то считал тебя человеком умным… Выжили только мы. А как? Почему? Подумай! Я, как и ты, заключил договор.
— С этой тварью. И с помощью его могущества ты промчался через столетия, как зверь, в которого ты превратился. Сколько жизней…
— Безжалостный ветер задувает свечи. Все они ничего собой не представляли. — Он натянул поводья, чтобы успокоить свое черное чудовище, волновавшееся из-за запаха свежей крови. — Нет, я, пожалуй, поправлюсь: они кое-что собой представляли, но по сравнению со мной это было почти ничего, ибо себя я ценю превыше всех прочих…
— Если бы здесь был дор-Сефрит…
На лицо Саламандры на миг набежала тень.
— Но его здесь нет. Его уничтожили. Да, — подтвердил он, заметив выражение лица Боннедюка Последнего. — Это все же свершилось. Он ушел навсегда. Как он и предрекал, Дольмен уничтожил его, напав в самый неподходящий момент, когда он занимался другими делами. Эта схватка немного отсрочила пришествие Дольмена, но, по-моему, оно того стоило. Больше не будет никаких козней…
Черный зверь поднялся на дыбы, бешено закатив глаза.
— Теперь остались только ты и я. Поскольку ты последний из своего племени и ты один можешь сказать Ронину…
Боннедюк Последний пришпорил луму, возликовав в глубине души, но стараясь при этом сохранить каменное выражение лица. Дольмен не мог не знать о появлении Воина Заката и о том, кем он был раньше, но предпочел не сообщать об этом своим подручным.
— Конец близок, Токаге! — воскликнул он, приближаясь к черному исполину.
Сейчас с ним не было Риаланна, и защиты от него не дождаться, но Боннедюк оставался спокоен. Когда-то ему вручили этот священный дар, от которого он не мог отказаться, как не мог отказаться и от мучительных поисков сквозь века — не мог после того позора, который навлек его господин на его народ.
— Ты произнес мое старое имя! — прошипел Саламандра, и его лицо в первый раз исказилось от гнева. — На колени, ничтожный, ибо лишь на коленях дозволено произносить его!
Он взмахнул рукой.
Боннедюк Последний все же успел их заметить.
Сюрикены. Черные металлические звезды.
Его ноги уже освободились от плена стремян.
Он соскользнул с седла.
Ни на что другое времени не оставалось.
Он услышал жужжание, словно мимо пролетел рой рассерженных пчел. Два сюрикена вонзились в голову лумы; скакун опустился на колени и завалился на бок, и Боннедюку пришлось откатиться по грязи в сторону, чтобы его не раздавило.
По липкой, скользкой земле, ощетинившейся разбросанным оружием. Под раскатистый хохот Токаге, под эхо из коридоров Времени, грохочущее у него в голове, под смех, прокатившийся по долгим эпохам, когда он влачил свое жалкое существование, насмехаясь над всеми людьми, добрыми и достойными, кровь которых он пролил. Токаге! Кости, которые он поломал, слезы, смерти, причиной которых он стал. Невыразимая мука.
Боннедюк Последний поднялся, вскарабкавшись на груду тел, мертвых и умирающих. Нога у него болела, но разум сам по себе отключился от давно знакомой, ставшей привычной телесной боли. Теперь он настроился только на скорбь своего давно мертвого народа. Народа, который не успокоился в вечности. Который взывает о мщении. Народа, опозоренного историей. Опозоренного Токаге, его властелином.
— Я многому научился в течение веков, — сказал Токаге, обращаясь как будто к себе самому. — Я больше не зверь, что бы ты ни говорил. Я хочу, чтобы ты это понял перед тем, как я тебя убью. Пришел день зла, наступил новый цикл. Я знал это. Все очень просто. Кто одержит победу…
Боннедюк Последний пошел вперед, не обращая внимания на долетающие до него слова; адреналин растекался по телу, бурлил в руке, крепко сжимавшей меч. Он слышал лишь крики своего опозоренного народа, взывающего к нему сквозь неисчислимые века. Он чувствовал только их муку. Он хотел одного: покончить с этим…
— Я не стал бы заключать с ним союз, — продолжал Токаге, повернув на мгновение массивную голову, чтобы взглянуть через реку на черный, обугленный лес. — Я не люблю его, эту мерзкую тварь. Ни один человек не способен его полюбить. Он — это уничтожение всего и вся. Но разве у меня был выбор? Либо это, либо смерть…
Боннедюк Последний буквально физически ощущал устремленные на него взоры своих соплеменников, и их сила передавалась ему, кипела в его крови, и впервые за столько веков он почувствовал, что значит жить. По-настоящему жить. Нет ощущения лучше, полнее…
«Теперь я то, что я есть», — сказал он себе.
— На моем месте ты поступил бы так же, я знаю, — задумчиво проговорил Токаге. — Тебе легко обвинять меня. Ты не смотрел в лицо смерти. Не ощущал ее хладных объятий, ты не чувствовал, как уходит сознание, как убывает воля…
Черный скакун снова взвился на дыбы при виде приближающегося Боннедюка Последнего.
— Я не мог так просто расстаться с жизнью! — Глаза Токаге сузились в хитрые щелки. — А потом я начал понимать, что это не так уж и плохо, потому что я обнаружил, что с каждым днем становлюсь все сильнее, и я принялся тайно вытягивать из него силы, и скоро, уже очень скоро даже он не сможет остановить меня. И тогда я освобожусь от него. И уничтожу его!
Где-то в глубине души Боннедюка Последнего еще теплились остатки сочувствия к этому загнанному, человеку, подгоняемому призраком власти, который не дает ему покоя. Наверное, это лишь отголоски прежних времен, какие-то старые ассоциации, сказал он себе. Потом пропало и это. Все затопила алая буря его последнего броска к отмщению.
Исполняя приказ Саламандры, приземистые воины, подгоняемые насекомоглазыми риккагинами, хлынули в расширяющуюся брешь в оборонительных порядках войска людей. Выставив пики сплошными рядами, они продвигались вперед, пресекая все попытки контратаковать.
Через удерживаемый ими проход по равнине к высоким стенам Камадо пошли гребенчатые воины. Вопя и беснуясь.
Моэру, увидев, что ее пехоту оттесняют, собрала вокруг себя немногих оставшихся конников и поскакала во весь опор вниз по реке — искать буджунов.
Они сражались длинными клинками, в древней манере, как их учили много веков назад. Их броски и уходы были настолько стремительны, что один начинал проводить прием, не дожидаясь, пока второй закончит движение. Это было как непрерывный поток точно направленной энергии.
— Я — самый лучший, малыш. Никто даже близко со мной не сравнится, — назидательно проговорил Токаге. — За исключением твоей судьбы. Тебя ждет почетная смерть, смерть воина.
— Время для болтовни миновало, — отозвался Боннедюк Последний. — Твои дела говорят сами за себя. Тебе нечего сказать в свое оправдание. Ничто не искупит твоей вины.
— Моей вины? Я делал лишь то, что был вынужден делать… чтобы выжить…
— Ты пресмыкался, как животное…
— И я жил, глупец!
— Уцелеть — это еще не все. Жизнь должна иметь смысл.
— Значение имеет лишь то, что сейчас я здесь. И я уничтожу тебя!
Она обнаружила Оками на мутных речных отмелях. Он получил три ранения, но продолжал сражаться. Он собрал под своим началом отряды буджунов, и они продвигались вверх по течению, пытаясь ликвидировать вражеский прорыв.
По илистым берегам и через равнину шли плотным строем буджуны, собирая кровавую жатву, сметая все, что стояло у них на пути.
Они сблизились. Мелькнул тонкий круглый клинок, выброшенный с внутренней стороны запястья Боннедюка. Этот шестой палец был направлен в шею противника, но Токаге отбил его при помощи токко — короткого металлического оружия с загнутыми трезубцами с обоих концов.
Токаге крутанул запястьем, и тонкий клинок сломался. Токаге тут же перевернул токко, протащив его по груди Боннедюка.
Боннедюк Последний не издал ни звука, хотя из груди его рвался стон боли. Он потянулся вверх, стащил Токаге с высокого седла.
В трясину страшного поля битвы.
— Почувствуй, Токаге, каково находиться внизу, в этом болоте смерти.
Токаге пошатнулся, поскользнувшись на полузарытом в землю округлом шлеме.
Боннедюк Последний сделал выпад тонким стилетом.
И в то же мгновение он разгадал хитрость противника.
Он не стал обращать внимания на клинок, появившийся в кулаке Токаге, полностью сосредоточившись на том, что собирался сделать.
Холодный металл ожег его огнем, пробив панцирь на плече.
Усилием воли он приглушил охватившую его боль, сжав восприятие в черную точку. Рука Токаге уже опускалась.
Его стилет пронзил правый глаз Токаге в то самое мгновение, когда он сам ощутил удар безжалостного клинка.
По телу его разлилось странное тепло. Он довел удар до конца, и у него появилось какое-то время на то, чтобы вспомнить ощущение, которого он не испытывал на протяжении многих веков. Большего он не желал.
А потом клинок Токаге, неумолимо врубившийся в тело, рассек ему позвоночник.
Он упал, истекая кровью, перемешивающейся с выпавшими внутренностями и раздробленными костями воинов, тела которых покрывали землю под ним.
Глаза его смотрели вверх. Огромные черные с алым знамена закрыли подернутое дымкой небо. Он смутно чувствовал покалывание льдинок на обращенном к небу лице. Почему-то именно это незатейливое ощущение вызвало у него прилив чувств, и он безотчетно заплакал.
Знамена медленно опускались на него, как саван.
Воин Заката взобрался на высокий берег и раскидал вражеских воинов, которые попытались встать у него на пути, с той же легкостью, с какой стряхнул с себя капли воды.
Поймав за поводья луму Кири, он вскочил в седло и ударил каблуками по покрытым пеной бокам.
В россыпи серебристых льдинок он мчался вдоль берега вверх по течению, к тому месту, где неприятель прорвал оборону и хлынул по равнине в сторону Камадо.
Выхватив Ака-и-цуши, он с воплем ворвался на поле битвы. Его путь по колышущейся равнине был залит кровью и усеян костями. Лума на всем скаку перепрыгивал через груды тел павших солдат, преодолевал валы из лошадиных трупов и брошенных пик. Тела с застывшими в предсмертных судорогах мышцами как будто цеплялись за него, а их ноги изодранными знаменами бились о бока скакуна. Воин Заката рубил окоченевшие конечности, раскидывая их в стороны, как огромные застывшие слезы.
Впереди сквозь льдистую пелену уже вырисовывались развевающиеся штандарты Саламандры. Он преодолел последний неровный частокол из раскачивающихся пик.
А потом он увидел огромный силуэт в черных доспехах. На его глазах Саламандра перегнулся набок и вытер меч об одежду какого-то воина, умершего стоя, поскольку ему некуда было падать.
Наверное, Саламандра услышал топот лумы Воина Заката. Его огромная голова повернулась и безжалостные обсидиановые глаза остановились на приближающемся всаднике.
Не тратя времени на то, чтобы как следует приглядеться к нему, Саламандра развернул коня, созвал охрану и поскакал по равнине к берегу под сенью развевающихся черных знамен.
Преодолев последнюю высотку, Воин Заката помчался по неглубокой лощине к тому месту, где недавно стоял Саламандра. Он не заметил риккагина Эранта, лежавшего на куче трупов, но зато сразу увидел неподвижное тело Боннедюка Последнего. Как бы ему ни хотелось догнать Саламандру, он понимал, что сейчас это невозможно.
Натянув поводья, он соскочил на землю. Погрузившись почти по колено в густую склизкую жижу, он поднял маленькое тельце на руки.
— О друг мой, что он с тобой сделал?
Ответа он не получил. Сердце бешено билось в груди, разрываясь от боли. Раньше ему казалось, что его больше ничто не коснется. Но теперь он понял, что это не так. Когда он был Ронином, он сознательно оградил себя от всякой боли после того, как убил К'рин. И именно поэтому он не увидел, что Мацу любила его. Больше того: он не сумел распознать и своей любви к ней, пока не стало уже слишком поздно. Жить — это значит чувствовать. Вот почему он заплакал над Боннедюком Последним.
Маленький человечек открыл глаза. Он знал, что жизнь покидает его, но все равно был безумно рад увидеть над собой это чужое, свирепое, устрашающее лицо. Он ощутил необыкновенную силу крепко державших его рук, и на него снизошел покой. И только тогда он почувствовал, что на его лицо падают слезы, смешиваясь с колючим снегом.
— Не оплакивай меня, друг, на это сейчас нет времени.
Он прикрыл глаза, прислушиваясь к резким звукам своего дыхания. Легкие начинали отекать.
— Мне многое нужно сказать тебе перед смертью, так что слушай внимательно. Я знаю твоего старого недруга, Саламандру: когда мне дали Риаланн и отправили в долгое странствие по векам и эпохам, я был уверен, что моего народа больше не существует. Что я остался один…
Он закашлялся, и Воин Заката вытер розовую слюну с его пересохших губ.
— Это Токаге, мой господин, чья ненасытная жажда власти и послужила причиной создания Дольмена. Да. Это правда.
Его голос звучал резко и настойчиво.
— Все эти века я считал его погибшим, уничтоженным тем существом, рождению которого он способствовал. Но я ошибался. Он был слишком умен для того, чтобы умереть. Он заключил соглашение с Дольменом, который стал его хозяином, сделал его бессмертным, дал ему огромную силу.
Голова Боннедюка повисла, а веки затрепетали, словно он изо всех сил боролся со смертью за еще несколько мгновений жизни. «Время, — подумал он, — ты всегда было моим врагом».
— Друг мой, у тебя есть шанс. Я знаю. Ему не сказали, кем ты теперь стал. Дольмен скрыл это от него. Он все еще называет тебя Ронином. Он считает, что сможет справиться с этим кошмаром, но пока еще не понял, что он выпустил на свободу. Он не в состоянии этого понять.
Он закашлялся и подумал: «Надо продержаться еще немного».
Он приник к Воину Заката, словно дитя к материнской груди.
— Рик… риккагин Эрант… Ты его видел?
— Нет.
— Токаге сбил его с лошади где-то неподалеку. Разыщи его. Я не думаю, что он умер. Он пытался убить Токаге. Такой герой.
— Я найду его.
— А Моэру?
— Где-то сражается.
— Нет-нет, она должна быть рядом с тобой…
Боннедюк разволновался.
— Успокойся, дружище.
— Токаге мне сказал. Дольмен напал на дор-Сефрита, когда он был чем-то занят. Он так объяснил…
— Это значит…
— Что Дольмен напал на него в процессе видоизменения…
— Моего.
— Да.
— Я все понимаю, но…
Тело Боннедюка Последнего содрогнулось в конвульсиях и затрепетало, словно в нем происходила какая-то титаническая борьба. Изможденное, смертельно бледное лицо. Воин Заката был весь в крови — в крови своего старого друга. Боннедюк сказал почти все. Осталось сказать лишь одно.
— Токаге — отец дор-Сефрита.
Его голос звучал сухим хрипом.
— Дольмен убил его сына. К.. как пожелал Токаге.
Воин Заката стоял на коленях в стылой трясине, держа на руках мертвое тело. Он очень медленно поднялся на ноги.
Сквозь шум битвы до него донесся какой-то крик, и он резко развернулся в ту сторону.
К нему скакала Моэру. Улыбка исчезла с ее лица, когда она увидела, чье тело он держит в руках. Осадив коня, она похлопала его по лоснящейся шкуре. Она была вся в крови и грязи. Потемневший, замызганный панцирь. Промокшие наголенники. Волосы выбились из-под помятого шлема.
— Оками тоже, — сказала она.
Он кивнул.
— Здесь где-то поблизости Эрант. Он ранен. Можешь кого-нибудь послать?
— Теперь, наверное, смогу.
Она показала вниз по течению, в сторону моря, до которого было много километров.
— Смотри!
В ее голосе звучало волнение.
Он вгляделся сквозь снежную пелену. Вверх по реке плыл целый флот из кораблей необычной формы. На мачтах их развевались флаги. У всех одинаковые: черные полосы на бордовом поле.
— Это Мойши! — восторженно закричала она. — Его народ тоже пришел на Кай-фен!
Воин Заката вдруг ощутил неимоверную тяжесть маленького тельца, которое он прижимал к груди. «Но для кого-то уже слишком поздно», — подумал он.
ДАЙ-САН
Теперь он предоставил все им.
Люди сражались с людьми. Но для него это уже не имело значения.
Для него — Саламандра и Дольмен.
Для него мир перестал вращаться вокруг своей оси. Времена года замерзли, солнце стало невидимым, луна исчезла. Ибо он подошел к тому, что было единственной целью всей его жизни.
Все остальное теперь позади. Как сон.
Он устремился вслед за черными развевающимися знаменами с пляшущей в языках пламени алой ящерицей, держащей во рту свой хвост. Он вспомнил слова из древнего предания этого мира: «И Саламандра, восставшая из огня, избегнет смерти и станет править в союзе со Злом».
Он мчался по равнине, заваленной горами трупов, подгоняя своего скакуна, так что даже могучий лума начал выбиваться из сил. Он несся, не разбирая дороги, расшвыривая и живых, и мертвых; лума его перепрыгивал через кучи тел, черных от облепивших их мух; стороной объезжал схватки, в которых летели головы, вспарывались животы и рекой текла кровь; мимо участков, где шла настоящая резня, где воины не уступали друг другу ни пяди. И в конце концов лума рухнул, покатившись вместе со всадником вниз по прибрежному склону, скользкому от грязи, крови и вывалившихся внутренностей.
Сильно оттолкнувшись ногами, он прыгнул в плескавшуюся воду — вперед, а не на глубину.
Он вынырнул на поверхность, преодолев под водой примерно треть ширины реки, тряхнул головой и быстро поплыл к тому берегу.
Выбравшись из воды, он принялся карабкаться вверх по крутому берегу, подзывая своего скакуна. Услышав стук копыт, он выскочил на твердую землю, чтобы встретить луму.
Одним прыжком он взлетел на алого скакуна, который взвился на дыбы и зафыркал. Он успокоил его тихими, ласковыми словами, и лума устремился вслед за быстро удаляющимися знаменами — по широкому полю, прочь от обугленного леса. Все быстрей и быстрей, пока бег его не превратился почти в полет. И они оба — и скакун, и всадник — радовались налетавшему на них ветру и колючему снегу.
* * *
Найди ее. Приведи.
Хинд, оставшийся за желтыми стенами Камадо, узнал о гибели Боннедюка Последнего. Но ощущал он не столько скорбь, сколько тепло их многолетней дружбы. Он знал о страшных мучениях маленького человека и теперь радовался тому, что боль наконец ушла, отпала, словно отмершая кожа змеи.
Найди ее. Приведи.
Он рыскал по узким пустынным улицам — мимо всех этих темных, мертвых богов, подпертых колоннами, словно распятых. Он пытался найти решение поставленной перед ним задачи.
Найди ее. Приведи.
Последняя мысль, застрявшая у него в мозгу перед тем, как ниточка мысленной связи была обрезана смертью Боннедюка Последнего. Знамя, реющее на небосводе его рассудка.
Он явно имел в виду Моэру. Сомнений быть не может.
* * *
Он резко осадил луму и пристально всмотрелся вперед.
Шесть всадников, в том числе двое знаменосцев. А между ними на угольно-черном скакуне восседал…
Он дернул поводья. Лума поднялся на дыбы. Он выругал себя за глупость, пришпоривая луму и направляя его через бесплодную равнину к опушке черного леса.
На этом дьявольском создании ехал не Саламандра, хотя силуэт незнакомого всадника был таким же громадным и на нем были черные одежды. Переменившийся ветер — теперь он дул со стороны ехавших впереди — донес до него ужасную вонь, исходившую от существа на черном чудовище.
Запах гнили и разложения.
Теперь группа всадников осталась у него за спиной, но четвертый Маккон ударил огромными бесформенными кулаками по дымящимся бокам своего скакуна и, оставив знаменосцев и охранников, устремился вслед за Воином Заката.
Они оба заметили некую странную незавершенность в тот самый миг, когда Воин Заката въехал в Камадо, но они промолчали. Им нечего было сказать, даже если бы они могли это сделать… а они не могли. Сказать такое мог бы только дор-Сефрит. Но его уже нет в живых.
Боги давно покинули мир, мудрецы канули в небытие, а призраки магов смотрят свои бесконечные сны.
«Теперь мы остались одни, и только нам принимать решения, — подумал Хинд. — Если мы умрем, мы примем смерть от своей руки. А если мы уцелеем, значит, мы заслужили то, что унаследуем. Этот мир с днем и ночью. Может быть, даже звезды».
Он бежал по усеянным отбросами улицам, размахивая круглым хвостом, и крысы с визгом разбегались, уступая ему дорогу.
Через высокие ворота — на широкое поле.
Теперь он знал, что делать. Интересно, а Воин Заката смог бы сказать о себе то же самое?
* * *
Оставив тяжело дышавшего луму на опушке мертвого леса, он вошел туда пешком.
До пожара, вызванного появлением Дольмена, лес был густым. Но даже сейчас нелегко было пробираться через мертвую чащу. Как ни странно, сверхъестественный огонь уничтожил только листву, не затронув ни ветвей, ни стволов, и теперь лес превратился в запутанный лабиринт.
Продвигаясь по воображаемой тропе, которая вела прямо на север, он не обращал внимания на приглушенные звуки, доносящиеся сзади. Иногда ему приходилось выбирать окольные пути. Он не пользовался мечом, чтобы прорубить себе дорогу, поскольку был полон решимости не давать своим врагам никаких преимуществ и не хотел предупреждать их о своем приближении. Если бы он принялся прорубаться через ломкие ветви, его бы услышали за километр. Время от времени какая-то мысль пыталась пробиться в его сознание, или, скорее, не мысль, а размытое ощущение. Но его разум был слишком сосредоточен, и облачко интуиции отлетело в сторону, как будто подхваченное внезапным порывом ветра.
Через какое-то время он вышел на просеку. Снег прекратился, но здесь, в лесу, было темно и без снега. Здесь не было солнца, а только гнетущий, холодный день, больше похожий на вечные сумерки. Он поднял глаза к фиолетовому небу, наблюдая за тем, как над миром растекаются тяжелые янтарные облака. Ему вспомнился Кукулькан, повелитель света, парящий в своих владениях высоко над миром, охваченным разрушением… Он резко развернулся еще до того, как услышал шум сзади, и выхватил Ака-и-цуши.
Между деревьями плавал зеленый туман. Его бледные и как будто светящиеся клубы заливали небольшую прогалину. За туманом смутно вырисовывается темный массивный силуэт. Оранжевые глаза, словно сияющие маяки.
Четвертый Маккон.
Изорванная и грязная одежда Саламандры распахнулась и упала на землю. Зловоние Маккона заполнило просеку. За спиной у него бился длинный и сильный хвост, освобождаясь от остатков черного одеяния. Из кривого клюва вырвался вой.
Этот Маккон был выше ростом, чем его собратья, и, возможно, был старше их. Его очертания пульсировали в тумане, местами теряя четкость.
Он надвигался, раскинув руки, и его движения сопровождались звуком, напоминающим скрежет серпа, срезающего спелую пшеницу. И теперь Воин Заката разглядел, что лапы у этого Маккона не чешуйчатые и шестипалые, а прозрачные, словно сделанные из чего-то похожего на ограненный кварц, под твердой блестящей поверхностью которого по всей длине скрюченных пальцев переливались тусклые красные и яркие пурпурные огоньки, увеличенные, как под лупой.
Желтовато-серый клюв судорожно открылся, и в нем замелькал твердый треугольный язык. Маккон бросился на Воина Заката всем своим громадным телом, и тот развернулся на левой ноге, встретив нападавшего левым боком и плашмя ударив мечом по плечам твари.
Когда Маккон проскочил мимо него, он услышал какие-то ритмичные звуки, исходившие из огромного туловища. Они повторялись снова и снова, и теперь ему стало казаться, что это искаженная человеческая речь, словно чудовище много лет учило одну фразу, а теперь пыталось выдавить ее голосовыми связками, не приспособленными для произнесения этих звуков.
— Я хочу их, — твердил Маккон.
Воин Заката увернулся от очередной атаки, но на этот раз Маккон был к этому готов и гораздо стремительней, чем можно было ожидать от такого массивного существа, сделал обманное движение и прорвал его защиту. Воин Заката ощутил жгучую боль в левой руке. В его жилы как будто ввели жидкий лед.
Кварцевая рука схватила его, и прозрачные когти вонзились в предплечье как раз над тем местом, где заканчивалась перчатка из шкуры Маккона. Огоньки из-под прозрачной кожи устремились в его плоть через кончики полых когтей. Он дернулся, но вырваться не смог. Замахнулся мечом, но положение было не самым удобным, к тому же у него почти не было опоры. Клинок лишь скользнул по пульсирующей шкуре. Ужасный клюв раскрылся, и из пасти Маккона вырвался страшный вой.
— Я хочу их.
Он опять попытался вырвать руку, чувствуя, как обжигающий лед вливается в него. По телу распространялась боль. Перед глазами все поплыло. Закружились деревья… Ноги вдруг обессилели, и он опустился на колени, выронив бесполезный меч.
— Я хочу их.
Другой лапой Маккон провел по перчатке Воина Заката и попытался стянуть ее с руки. Воин Заката сжал кулак, и тут еще одно воспоминание ярким пятном всплыло в его сознании. Зеленый дом дор-Сефрита из покрытого глазурью кирпича в Городе Десяти Тысяч Дорог. В комнате на втором этаже — пустой стеклянный ящик с двумя отпечатками, напоминавшими человеческую руку. Крупнее. А сколько пальцев? Конечно! Перчатки были изготовлены магом. Не с этим ли Макконом бился дор-Сефрит? Не он ли отсек у него обе лапы? Он заглянул в лихорадочно сверкающие глаза и все понял.
Ледяная тьма грозила полностью затопить его, и он мысленно отругал себя за беспечность. Похоже, он влип серьезно. Схватка близится к концу, не успев толком начаться. Он направил все мысли внутрь — в себя. Мир перевернулся.
Он ударил каблуками по земле, чтобы набрать инерцию. Подался вперед и перекатился. Свободен.
Он понял свою ошибку: он ожесточенно сражался, пытался вырваться из яростной хватки Маккона, накапливал силы, чтобы перетянуть его, упирался ногами в снег и лед, наращивал усилие, скрипя зубами, не обращая внимания на растекающуюся в сознании тьму, и поэтому Маккон одолевал его. Но теперь он изменил направление усилия, используя силу Маккона против него же, поддавшись ему, врезавшись в его туловище, а потом перепрыгнул через пошатнувшегося Маккона. На миг — долгий, мучительный миг — кипящее янтарное небо перевернулось и оказалось у него под ногами. Ветер свистел у него в волосах, а кучи снега превратились в белый барьер у него над головой.
Из-за рывка рука чуть не выскочила из сустава, но когти отпустили его. Теперь огоньки, изливающиеся из них, летели в воздух. Воин Заката перекатился по мерзлой земле. Его шлем отлетел в сугроб.
Но Маккон быстро пришел в себя, и, как только Воин Заката выпрямился, прозрачные когти опять потянулись к нему. Он ощутил сырое, зловонное дыхание чудовища, душившее его тошнотворными нутряными запахами, и ударил сжатым кулаком по черепу твари. Маккон зашатался и завалился на бок, опасно размахивая длинными руками, но снова сделал обманное движение и, пробив защиту Воина Заката, попал лапой ему по щеке. Лицо мгновенно онемело. Ему показалось, будто у него разлетелась скула. Зрение в одном глазу вдруг помутилось, и он потерял глубину восприятия. Что-то холодное и липкое обвилось вокруг шеи. Хвост Маккона… И тут же к его глазам устремились сверкающие когти. Маккон все-таки зацепил его. Воин Заката выбросил вверх кулак в перчатке, ударив снизу по мерзкому клюву. Клюв разломился, тварь взвыла от боли и ярости, однако, петля из хвоста сжимала горло все туже, не выпуская воздух из легких, и, как только организм израсходовал весь кислород, началось отравление углекислым газом. Он сам себя убивал.
Воин Заката с трудом дотянулся до короткого меча. Девственно-чистый клинок зашелестел в воздухе, словно рассказывая о тайнах войны, смерти и разрушения, и он, не глядя, ткнул мечом вверх, в разорванную пасть. Он искал рану на уже поврежденной шкуре, нащупывал ее клинком. Но Маккон извернулся, не позволив кончику меча добраться до уязвимой точки у него на нёбе. Липкая черная кровь чудовища стекала на Воина Заката тошнотворной волной, а прозрачные когти искали точку опоры у него на руке, раздирая плоть. Время свелось к веренице мучительно кратких мгновений, в течение которых Воин Заката наносил удары мечом, а Маккон впрыскивал в его вены свой леденящий яд. Лохмотья плоти и зловонное дыхание.
Лед превратился в алый поток, уносящий из него силу. Капли сверкающей смерти вливались в его кровь. Но Воин Заката не обращал внимания на усиливающуюся боль. Наконец зрение полностью восстановилось. Он еще на сантиметр сдвинулся влево, резко выпрямил ногу и ударил под нужным углом Маккону под подбородок, вложив в удар всю свою силу. Чудовище взвыло. Хвост его развернулся как плеть, но смертоносные когти не отпустили его руки. Воин Заката всадил меч Маккону в пасть, ощутив, как клинок пронзает нёбо и рассекает мозг твари. Маккон дернулся над ним в последней попытке опередить сверкающий меч, но Воин Заката продолжал давить, прилагая неимоверные усилия, пока мышцы не запросили пощады, не выдерживая напряжения. Опрокинув громадную тушу на спину, он уселся на Маккона верхом и обеими руками вонзил клинок в голову своего врага, пробив затылок яростным ударом. Кончик меча зарылся в белый иней.
Огромное тело судорожно содрогнулось. Воин Заката выдернул короткий меч. Искромсанная морда уткнулась в снег.
Он вытер меч снегом, вложил его в ножны и подобрал Ака-и-цуши и откатившийся в сторону шлем. Переложил длинный меч в левую руку и надел шлем на голову.
Янтарное небо уже темнело, хотя до захода солнца оставалось еще много времени. День умер, и мир погрузился в вечные сумерки.
Покинув прогалину, на которой осталось лежать, истекая черной жижей, распростертое тело поверженного Маккона, он направился на север, вглубь запутанного, обугленного лабиринта.
Здесь не пели птицы, среди ветвей не жужжали насекомые; здесь не было ни кустов, ни лишайников — ничего, кроме нескончаемых стволов, напоминавших могильные столбы, наспех врытые в промерзшую, заснеженную землю.
Дорога вдруг круто пошла в гору. Теперь повсюду среди деревьев громоздились серые валуны, а деревья с упрямой яростью тянулись к небу, словно презирая смертоносную силу огня, лишившего их листвы.
Он начал подниматься на высокий хребет, пробираясь сквозь снег и лед, цепляясь за почерневшие ветви и подтягиваясь на них, чтобы идти быстрее.
Хребет извилистой линией уходил вверх, словно загибаясь дугой к краю света. Приблизившись к перевалу, Воин Заката увидел алую ткань, раздуваемую сырым ветром — знамена проклятых.
Его ребристый панцирь блеснул бирюзово-зеленым светом, когда он поднес руку к высокому шлему и аккуратно опустил забрало. И мир вдруг сузился, ограниченный черной решеткой, этим прибежищем мести смерти. Багряные знамена манили его к себе.
Он поднялся на самый верх, где его уже ждал огромный воин в броне из резного обсидиана. Он стоял поперек гребня, широко расставив ноги. На нагруднике у него тускло отсвечивала алая ящерица, похожая на большой, неправильной формы рубин. За спиной у него развевался алый плащ.
Выступавшие на лице складки жира надежно скрывали высокие скулы, которые Ронин счел бы чужими на этом знакомом лице. Складки кожи искусно маскировали форму продолговатых миндалевидных глаз с ярким обсидиановым блеском, но сейчас под слоями жира и плоти Воин Заката разглядел характерное для буджунов строение костей лица. А где правый глаз Саламандры? На его месте зияла дыра, кое-как прикрытая повязкой. Не прощальный ли это подарок от Боннедюка?
— Ты нашел меня, Ронин. Как это глупо с твоей стороны.
Мечи скрестились и разошлись со звоном. Они стояли лицом друг к другу.
— Вижу, твои новые друзья дали тебе другой меч, — заметил Саламандра, — но он тебе не поможет. Ты никогда и ни в чем не мог сравниться со мной.
Они испытующе разглядывали друг друга.
— Ты до сих пор убежден, что наказание за твое предательство слишком сурово? Верность — тяжелый урок, но, усвоив его, можно надеяться на спасение.
— Фрейдал мертв. — Голос Воина Заката был приглушен закрытым шлемом, и Саламандра не уловил в нем новых, непривычных ноток.
— Что ж, от своего ученика меньшего я и не ждал. Его смерть была медленной и мучительной? Должна бы. Он был садистом.
Воин Заката рассмеялся.
— Что тебя забавляет?
— К'рин.
Он сумел произнести это имя недрогнувшим голосом.
— Ты пренебрег мной! — воскликнул Саламандра. — Я тебя сделал. Только благодаря мне ты стал тем, что ты есть. Я один знал, каким ты сможешь стать. Ты был глиной в моих руках. Ты не имел права уходить!
Полетели сине-белые искры, эхом раскатился лязг металла. Воин Заката молчал. За него говорил Ака-и-цуши.
— Теперь во мне его сила, — сказал Саламандра. — Что тебе принесет твоя месть? Ничего, кроме смерти!
Их мечи снова скрестились; нанося косые удары, они передвигались по неровному гребню извилистого хребта — белого шрама на сером с коричневым теле земли.
— Меня тебе не одурачить новым оружием и доспехами! Мне сказали, чего можно ждать от тебя.
Его смех прокатился по лесу, резкий и искаженный густым, вязким воздухом. Исковерканные деревья, словно расколотые зеркала, отражали фрагменты бесформенных образов.
Воин Заката налетел на Саламандру с серией коротких рубящих ударов, но тот отбил все, не сходя с места, и стремительно контратаковал. Его клинок превратился в сверкающую молнию, и теперь Воину Заката пришлось отбивать все направленные на него удары.
Они бросались друг на друга, наносили удары, делали обманные выпады и движения. Саламандра переместился вправо, замахнувшись мечом по пологой дуге, и, когда меч дошел до высшей точки траектории и начал опускаться. Воин Заката сдвинулся, чтобы отразить атаку. Но в последний момент Саламандра метнулся в другую сторону и ударил Воина Заката коленом по бедру, прямо под нижний край ребристого панциря.
Нога Саламандры мелькнула в воздухе, и Воин Заката получил удар в подбородок. Он пошатнулся, уже предчувствуя неминуемый смертоносный удар, нацеленный в незащищенную шею. Он знал, что за этим последует, он явственно услышал тихий посвист клинка, готового снести ему голову. Он качнулся, оставшись на месте, поднял левую руку и почти безучастно дождался, пока меч Саламандры не ударит по перчатке из шкуры Маккона. Не причинив ни малейшего вреда, лезвие соскользнуло по сверкающим чешуйкам.
Он заглянул в застывшие глубины глаз Саламандры и только теперь увидел первый проблеск эмоций, давно неведомых этому человеку. Лишь мгновение трепетал этот едва теплящийся огонек. Потом он исчез, вытесненный ровным блеском черных зрачков.
— Если хочешь чародейства, — прошипел Саламандра, — будет тебе чародейство.
Промелькнул алый вихрь, и Саламандра исчез. На его месте стоял его тезка, тускло-красный гигантский ящер с трепещущим раздвоенным языком, который высовывался из безгубого рта на клинообразной голове.
Раскрыв пасть, ящер с шипением прыгнул на Воина Заката, попытавшись вцепиться ему в лицо. С его зубов капал темный яд. Но Воин Заката нанес боковой удар, и Ака-и-цуши легко рассек ящеру брюхо, словно оно было из рисовой бумаги. Его обдало теплым облаком зловония.
Ящер бесследно исчез.
— Ты разделался с моим слугой, — сказал Саламандра, возвращаясь на прежнее место в окружении алого и ониксового света. — Но все-таки я тебя задержал, и скоро здесь будет Маккон.
Воин Заката ударил вниз, поперек, наискось, пробивая защиту Саламандры.
— Последний Маккон мертв.
И снова в глазах Саламандры блеснул тот же чуждый огонек.
— Не верю. Ты не мог его убить.
— Это тот, что с прозрачными когтями? Я его убил. Он остался лежать там, в лесу. Еще одна пожива для стервятников.
— Выходит, я тебя недооценил?
Пока они говорили. Саламандра извлек из складок развевающейся одежды черный металлический веер с кисточками на конце. На его рукояти Воин Заката увидел заостренный дзитте и настроился на решительный поединок, поскольку память Ронина ему подсказала, что никто во Фригольде не мог устоять против Саламандры, когда он решал воспользоваться гунсеном. В давние времена учеников бросало в дрожь при одном только виде этого оружия, потому что все знали, что Саламандра раскрывал его лишь в тех случаях, когда хотел убить.
Раскрытый гунсен трепетал в душном воздухе, словно крылья смертельно ядовитого насекомого. В неверном свете черный металл казался матовым, а заостренный дзитте представлял постоянную угрозу даже в качестве оружия обороны.
Воин Заката атаковал коротким мечом, нанося удар снизу, от бедра, а гунсен продолжал выписывать в воздухе узоры, которые редко кому удавалось увидеть. Дзитте зацепился за его меч рядом с узкой гардой. Саламандра провернул кисть, а другой рукой сделал стремительное, неуловимое движение.
За мгновение до этого Воин Заката успел разглядеть проблеск бледного света на одном из заостренных кончиков. Он пригнулся. Расстояние между ними работало сейчас и за, и против него. У него не было времени на то, чтобы уйти от удара, но и оружие противника не могло набрать нужной скорости.
Сюрикен в форме звезды вонзился в его панцирь, в сочленение между правым плечом и рукой. В то же мгновение Саламандра вывернул, гунсен и выдернул у Воина Заката короткий меч. Гунсен мелькнул, устремившись вверх, врезался в высокий шлем и сорвал забрало, хотя Воин Заката и успел ударить по гунсену перчаткой и даже погнул одну из его металлических пластин. Он заглянул в ониксовые глаза и увидел наконец всплеск эмоций на жирном лице, ибо перед Саламандрой предстал не Ронин, а какой-то другой, незнакомый ему человек с внушающим ужас лицом — человек, в горящих глазах которого Саламандра увидел то, чего и представить себе не мог: свою смерть.
Он отпрянул, как ужаленный, и призвал своего хозяина. Он молил о спасении. Но кошмар преследовал его. Воин Заката нанес страшный удар ногой, разбив обсидиановый доспех Саламандры.
— Почему он мне ничего не сказал? — заскулил Саламандра.
— Обманщик сам был обманут. — Воин Заката нанес удар ребром ладони.
— Кто ты?
— Тот, кто пришел, чтобы убить тебя.
— Скажи!
— Я друг Боннедюка Последнего. Это все, что тебе нужно знать. Время все же настигло тебя, холод тебя побери! Они настигли тебя — все, кого ты убил, кого уничтожили под твоими проклятыми знаменами, за твое «священное» дело.
— Силы! — вскричал Саламандра. — Дай мне еще силы!
Он взывал к клубящимся янтарным тучам.
— Это конец, — произнес Воин Заката, и эти два слова прокатились грохочущей эпитафией по искореженному, кошмарному лесу.
Ака-и-цуши поднялся и опустился на огромную голову, и сила удара сложилась не только из мощи мускулов, но и из устремления воли. За Ронина. За Оленя. За весь народ Боннедюка Последнего. За К'рин.
Череп раскололся.
Но это был уже не Саламандра или Токаге. Жир потек тонкими струйками воска по стремительно усыхающим мышцам. Руки и ноги взорвались, словно их наполняла бурлящая, рвущаяся наружу жидкость. Жирное туловище развалилось на части, принимая иные очертания, разбухающие, пугающие, хотя они еще только начинали формироваться.
Воин Заката сделал шаг назад, ощущая пронзительный холод, поднимающийся от лодыжек. Он знал: наконец наступила великая битва, ибо у него на глазах на этом одиноком гребне посреди обугленного колдовского леса возникал образ страха и уничтожения.
ДОЛЬМЕН
В почерневший лес вошла странная пара: женщина-буджунка и четвероногое существо, которое было не просто животным.
Хинд был встревожен. Он не знал, куда ведет ее. Но его влекла некая сила; некий первобытный инстинкт заставил его переправиться через реку, подойти к лесу. Он знал, что скрывалось в обугленной чаще. Они все это знали. Но это их не волновало.
Что-то было не так, и его это будоражило, как собаку, принюхивающуюся к свежей, сочной косточке. Но он никак не мог сообразить, что именно его беспокоит.
А потом вдруг мелькнула мысль: дор-Сефрит умер, Боннедюк Последний умер. У них явно был план… но какой?
Обойдя стороной огромную изуродованную тушу со странными прозрачными лапами и с разодранной почерневшей мордой, они принялись взбираться по первым пологим склонам широко раскинувшегося хребта.
* * *
ПОДОЙДИ.
Эхо.
ПОДОЙДИ, ЧЕЛОВЕК-ВОЛНА.
Эхо сливается с эхом.
СМЕРТЬ УЖЕ ЖДЕТ. ВОИН БЕЗ ИМЕНИ.
Слова как удар клинка.
ТВОЕГО НАСТАВНИКА БОЛЬШЕ НЕТ. Я УБИЛ ЕГО.
Голос громом раскатывается в мозгу.
У ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕТ СИЛЫ. НИЧИРЕН УМЕР.
ДОР-СЕФРИТ УМЕР. ТЕПЕРЬ ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ. СКОРО
ВСЕ ЛЮДИ УМРУТ. МЫ ПОДХОДИМ К СТЕНАМ КАМАДО.
Начинаются галлюцинации.
ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ДОЛЬМЕН.
Вспышки боли.
ПОЙДЕМ СО МНОЙ — В ГЛУБИНУ.
Искореженный лес растворяется в колышущейся трясине из медных водорослей, лохматые ветви просеивают пурпурный свет, разливающийся над ним расходящейся рябью бликов и тьмы, черно-белые полосы завораживающе трепещут и навсегда уносятся вдаль, повторяясь бесконечно в этом закрученном мире-ракушке.
Наружу.
Время растворилось в горячечном сновидении, зацепилось за край восходящего солнца, застыло, остановилось. Пригвождено и беспомощно.
Рядом нет никого.
Он один в пасти уничтожения.
И перед ним — Дольмен, который растет, извивается и сияет. Он ужасен. Это — сумасшествие, воплощение страха, месть самой жизни.
Какой он, Дольмен? Непонятно.
У него множество щупалец, широкий хвост, огромные круглые глаза без век с двойными зрачками, пульсирующая щелеобразная пасть…
Или же у него исполинский клюв и вся в складках кожа… Есть ли у него рога? У него нет зубов, но зияющая пасть смотрится омерзительней во сто крат, чем если бы в ней были клыки.
Он почувствовал, как что-то странное нарастает у него в душе. Решил, что это панический страх, и загнал его внутрь, подальше, в немереные глубины своей новой сущности.
Он не знал, как с этим сражаться. Он замахнулся мечом, Ака-и-цуши, но чужеродная атмосфера — тягучая, вязкая — растворила силу удара.
Оно притянуло его к себе:
И ЭТО ТО, ЧЕГО Я БОЯЛСЯ?
Ураган, пронесшийся по сознанию, потрясающий его вселенную.
Он замер, ошеломленный.
Он почувствовал, как его затягивает в эти пульсирующие объятия, как смерть обволакивает его.
Сознание исчезло. Он был бессилен.
Очень скоро от него останется лишь пустая оболочка, покачивающаяся на волнах, — еще один обломок кораблекрушения в мертвом море.
* * *
Они поднялись на гребень длинного извилистого хребта, и там им послышался голос.
Зов.
Шел снег, и неестественный свет, разливавшийся в разреженном воздухе, придавал его хлопьям розовый оттенок, словно некий огромный раненый зверь орошал их своей кровью.
Они задыхались в клубах тумана.
У хребта не было обратного склона.
Не было ничего, кроме тумана. Зеленый и непроницаемый, он наползал на реальность мира, словно поедая его заживо, и старая плоть распадалась, растворялась в накатывающем приливе.
Здесь, мысленно произнес Хинд.
Моэру с Хиндом переглянулись.
Небывалая тишина.
Они смотрели друг другу в глаза. Они напрягали волю, видя лишь то, что хотели видеть.
Хинд всполошился.
— Что происходит? — шепотом спросила Моэру.
Что-то странное. Ты боишься?
— Да.
Даже он не знал, что это.
А потом им послышался зов.
Вдруг не стало воздуха.
Моэру повернулась в сторону тумана, быстро шагнула в него — с сумрачной отмели в темноту чернее ночи.
Было ли это игрой клубящегося тумана или действительно две фигуры канули в этот непроницаемый мрак? Хинд наконец понял, что произошло, и, не оглядываясь, побежал вниз по склону, к широкой реке — туда, где бушевал Кай-фен.
Оно подошло к нему, крича посреди одинокого ветра, трепавшего тонкие сосны на последнем холме его души.
Щупальца страшной твари, если это были щупальца, обвились вокруг его тела, раздирали его плоть, впивались в кости, перемалывая их в муку.
Но он держался на последних обломках своего существования, зная, что у него есть ключ.
Но какой?
У меня нет имени.
Спокойствие вливалось в душу, по мере того как смерть забиралась все выше.
И он впустил яркую искру, живительный дождь в сердцевину его естества, потому что ему уже нечего было терять и ему ничего больше не оставалось — только это. Что бы оно ни несло в себе…
Спасение.
Он воззвал к силе. Он наконец понял, что он теперь чародей. Понял и принял это. Карма. И кое-что еще. Он принял правду о себе, открыв все шлюзы. Поначалу он хотел призвать женщину-кузнеца, ибо открылось ему, что у него нет якоря, а значит — и прочности, и именно поэтому он не в силах противиться разрушению, растворению в Дольмене. Ему нужно что-то, за что можно уцепиться. Ему нужна она… Он направил свой разум на покрытые снегом склоны Фудзивары, но перед мысленным взором предстала такая картина: остывший горн, пустой дом… Значит, ответ — не в ней. Тогда в чем же?
Он звал, и зов его был криком чаек с бескрайнего берега; он перестал тонуть, перестал прятаться от себя. Он почувствовал, что она уже близко, последняя треть его сущности, обретя которую, он обретет целостность — последнее творение дор-Сефрита, завершению которого помешало яростное нападение Дольмена на Ханеду.
Они не сольются…
Но почему?
Он погрузился в себя, не обращая внимания на уничтожение, охватившее его существо.
И нашел ее в себе — женщину-кузнеца.
А потом она вошла в него. Его закружил вихрь сияющих искр — красных, зеленых и голубых, — и он прикасался к ним, то к одной, то к другой, в изумлении и восторге, смеясь и крича, и все его существо осветилось осознанием того, что он обрел наконец целостность, что именно этого и боялся Дольмен. Больше не было владык и могущественных покровителей, — поэтому и умер Эгир, — больше не было мудрецов. Детство закончилось.
Ронин, Сетсору, а теперь и Воин Заката гладили грани последней трети его сущности. Красная, зеленая, голубая. Крин, Моэру и Мацу. Любовь, сила и вера. Слияние всех его свойств, всей его мощи: Дай-Сан.
Энергия струилась в теле, как могучий поток воды, бесконечной, бездонной, не имеющей возраста. Он подумал о последней уловке дор-Сефрита. Маг, понимающий неминуемость своего поражения, выбросил на игровой стол свою последнюю карту: он создал женщину-кузнеца, воспользовавшись сущностью Мацу, взятой из погруженного в сон рассудка Воина Заката. В качестве вехи. Подсказки. И Воин Заката все понял как надо. Теперь его вселенная сделалась бесконечной, ибо высветился источник его неубывающей мощи — он сам.
Его огромные пальцы, защищенные перчаткой из шкуры Маккона, сомкнулись на рукояти Ака-и-цуши, и он вогнал его сияющее острие прямо в сердце Дольмена. Его могучий напор безжалостной плетью хлестнул по твари, уже почти поглотившей его. Стрелы сине-зеленого огня, горячее солнечного ядра, расплескались разорванной лентой вдоль лавандовых кромок его сокрушающего клинка, прокатившись по всей длине — от гарды до обоюдоострого острия, — и вырвались наружу, сжигая все на своем пути. Послышалось тихое жужжанье, которое становилось все громче одновременно с нарастанием тепла, пока не заполнило весь его мир, сравнившись по силе звучания с отчаянным биением его сердца. Радостное возбуждение переросло в экстаз.
Наверно, Дольмен закричал, осознав приближение смерти.
А потом на него вдруг нахлынула штормовая волна — жизненная сила Дольмена, рвущаяся бурлящим потоком из ран, нанесенных необузданной яростью Ака-и-цуши. Теперь он вобрал в себя всю ужасную историю этого существа. Перед мысленным взором мелькали устрашающие картины разрушения и мучений, одна омерзительнее другой. Привкус неизмеримого отчаяния.
Воздух зыбился и колыхался, пока он рубил мечом. Потом атмосфера вскипела мириадами лопающихся пузырьков. Горизонт вздыбился, и послышалось смутное, хриплое шипение пара под немыслимым давлением. Оглушительный невыносимый вой, а потом…
Беззвучный шрам на материи вселенной.
* * *
Когда Мойши увидел за рекой эту высокую сияющую фигуру, он не знал, что и подумать.
День близился к вечеру. Последний бледный луч солнца пропал в пелене мокрого алого снега.
Даже при том, что народ Мойши сразу включился в сражение, войско людей все равно было вынуждено отойти под жестким напором противника к стенам Камадо. Поражение казалось неминуемым, поскольку осада крепости означала голодную смерть для всех, кто в ней укроется.
Но потом ход битвы вдруг переломился, причем случилось это настолько быстро, что никто не мог точно сказать, когда именно все началось. Черные насекомоглазые риккагины, столь умело управлявшие силами неприятеля, неожиданно стали терять контроль. Впечатление было такое, что они лишились рассудка, потому что вдруг начали направлять своих воинов так, что те наталкивались друг на друга, сминая ряды. Пикинеры гибли целыми отрядами, попадая в ловушки.
Вперед вышли буджуны, которые вернулись с участка, где уничтожили остатки воинства мертвоголовых. Теперь они принялись за насекомоглазых риккагинов и перебили их всех до единого. Остальные солдаты из войска людей, весь день опасавшиеся вмешательства Макконов и Дольмена, увидели, что эти ужасные порождения колдовства больше не наступают, и, избавившись от суеверных страхов, яростно обрушились на врага.
Буджуны и воины из народа Мойши возглавляли контратаку, и теперь на поле боя остались лишь отдельные островки сопротивления, где противника быстро уничтожали. Все чародейские создания были словно поражены гнилью.
Поле брани являло собой удручающую картину: холмистое пространство, заваленное трупами, безбрежное болото из пролитой крови и выпущенных внутренностей, расколотых черепов и переломанных костей.
Мойши смертельно устал, его тошнило от битв и сражений. Усталость не только охватила мышцы, но и проникла в душу. Его одежда под доспехами вся напиталась кровью и сделалась неимоверно тяжелой. В местах, где кровь уже подсохла, ткань была жесткой, как панцирь.
Его взгляд скользнул по обширной равнине смерти и упал на бурлящую реку, которая пенилась и переливалась, и там он увидел всплеск, словно фонтан жидкого света.
Высокий воин выбрался из воды и поднялся по ближайшему берегу, заваленному телами и горами оружия. И еще до того, как Мойши разглядел его странно преображенное лицо, он понял, что он сейчас видит — последнюю живую легенду чародейской эпохи. Единственный миф, перешагнувший барьеры времени и вошедший в последние дни этого, быть может, последнего года, когда далекий прекрасный Шаангсей еще пронизан зимним холодом и искрящийся снег еще окутывает сады и покрывает плоские крыши купеческих контор, но кубару, спящие в гавани на покачивающихся на воде суденышках, уже грезят о приближении весны.
Сверхъестественная фигура остановилась и воздела к небу огромный сине-зеленый меч. Последний луч солнца, прорвавшийся сквозь прорехи в облаках, плывущих над краем горизонта на западе, упал на длинный клинок. Меч вспыхнул сияющим светом. Он горел и горел, пока не стало казаться, что он сам протянулся вверх, в самое сердце небес.
И Мойши, вложив в ножны свой меч, покрытый засохшей коркой из крови и мозгов, выбежал на поле мертвых, из-под высоких стен Камадо, за которыми уже зажигались костры — память о павших, очищение от воспоминаний о Кай-фене, праздник дня человека, — из-под тени крепости, навстречу свету новой эпохи.
Навстречу Дай-Сану.




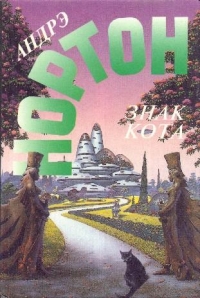

Комментарии к книге «Дай-сан», Эрик ван Ластбадер
Всего 0 комментариев