Черная книга Арды Летописть вторая
Легенда о той, что ждет
(587 год I Эпохи — 1100‑е годы II Эпохи)
…Лауниллэ — та ягода, что растет среди влажных бархатисто-зеленых мхов: бледно-золотые бусины, собранные в пирамидки, медово-сладкие, с горьковато-терпкими крошечными косточками. Капельки прохладной медвяной росы, сверкающие на темной зелени, как гелиодор и янтарь, и теплый светлый сердолик.
Лауниллэ.
Златяника….
…Дом на невысоком холме над рекой — новый светлый дом из смолистых бревен. Двое стоят на пороге дома: высокий зеленоглазый мужчина в черном, опоясанный мечом, и женщина — тоненькая, золотоволосая: женщина, чьи глаза в сумерках кажутся темными, почти фиолетовыми, — то ли драгоценные восточные сапфиры, то ли «ночные» аметисты.
— Я должен идти, — тихо говорит мужчина. — Я — его воин, я нужен ему сейчас.
Женщина молча протягивает мужчине чашу из тонкого голубовато мерцающего стекла: таков обычай на Севере — провожая в дорогу мужа, женщина дает ему глоток воды и ломоть хлеба, чтобы он не забыл в пути родной дом.
— Я должен…
— Я знаю, Къоро, — впервые за этот вечер слышится голос женщины — негромкий, мелодичный, как журчание лесного ручья.
Вороной нетерпеливо заржал, переступая с ноги на ногу: ждал хозяина.
— Я вернусь, — Къоро обнимает жену одной рукой — в другой он осторожно держит чашу. — Будет Совет, а я — хоть и ненаследный, но сын вождя, все-таки… мне нужно быть там. Древние тебе помогут, пока меня не будет. Ты жди, Лауниллэ, я вернусь…
Женщина смотрит, как он спускается по холму, как отвязывает повод коня, как взлетает в седло…
— Я буду ждать, — тихо говорит она.
И улыбается сквозь слезы.
…Удар крюка вырвал щит из его рук — кошачьим движением воин-Рысь метнулся вперед, стелясь по полу, подрубая ноги, разрушая стену щитов, а слева шагнул Медведь — он разметал наступающую волну, прежде чем она нахлынула вновь, чтобы захлестнуть их; но клинок рассек его левое плечо и бок — кто-то ударил сверху…
Къоро тарн-Линнх, Страж, сын Твердыни, воин Свершения…
И год прошел, и два прошло — А время мимо нее текло; И сказали ей, что он не придет — Но она все ждет, она его ждет…А через сорок лет в двери Дома постучался юноша, чьи волосы были как вороново крыло, чьи глаза сияли светлыми звездами в утреннем тумане. И, увидев золотоволосую хозяйку Дома, он застыл, изумленный; и любовь поразила его, как молния, павшая с небес.
Хозяйка повела его в Дом, и он пошел за ней, словно околдованный Луной; она накормила его похлебкой из кореньев и трав, сладкими клубнями, жареными с грибами, сыром и сладковатым хлебом из дикой пшеницы, налила в чашу медвяного напитка: он ел и пил, не чувствуя вкуса, не говоря ни слова.
И спустился вечер, и хозяйка Дома уже постелила гостю на дубовой скамье в маленькой комнатке, а он все сидел за столом и смотрел на нее, не отводя от ее лица зачарованных глаз; смотрел, как она убирает со стола, как подхватывает рассыпавшиеся по спине длинные бледно-золотые волосы, и тонкие пальцы не могут обхватить, смирить этот солнечный водопад — смотрел… а она смеялась, и яркие искры плясали в ее глазах — в странных сине-голубых глазах, темневших к зрачку.
Тогда он спросил: как зовут тебя, госпожа?
И она ответила: Лауниллэ, Златяника.
Он спросил: почему ты живешь здесь одна? Разве не страшно тебе в лесу?
Лес добр, и Древние помогают мне, ответила она. А я — я жду…
Твои волосы — водопад сияющего светлого золота, сказал странник-воин Халдир, внук Хурина Золотоволосого; твои глаза — как небо, отраженное в глубокой воде. Идем со мной, сказал он; я люблю тебя, я полюбил тебя с первого мига, едва увидев…
И тогда хозяйка Дома снова рассмеялась и ответила: я ведь сказала тебе — я жду. Я жду своего возлюбленного: он ушел на войну — туда, за Синие горы. Он ушел и сказал, что вернется: столько лет прошло, столько зим… Скажи мне, странник: если я уйду — кто встретит его, когда он вернется? Кто накроет для него стол, кто испечет ему хлеб, кто подаст ему напиться, кто починит ему одежду? Я не пойду с тобой: я жду…
И кто-то смолчит, а кто-то солжет, А кто знает правду — отводит взгляд… Ей сказали — он не вернется назад, Но годы прошли — она его ждет.…Прошла сотня лет, и снова странник пришел в Зачарованный Лес. Звериные тропы привели его к маленькому дому у маленькой хрустальной реки. Плющ и дикий виноград взбирались по темным стенам Дома, теплое солнце золотило кровлю, и капли медвяной росы дрожали на темно-зеленых листьях-звездочках…
И хозяйка Дома вышла навстречу страннику. Странник-терриннайно был немолод, серебряные пряди змеились в его темных волосах, лицо было покрыто сетью морщин, а глаза были как медово-золотой янтарь. И юная золотоволосая хозяйка встретила странника на пороге, приветливо улыбаясь, и позвала его в дом, где уже стояли на столе глиняные темно-рыжие миски с горячей едой и кувшин медвяного напитка. Женщина с голубыми, темневшими к зрачку глазами, уже резала горячий кисловатый ржаной каравай — словно ждали его в этом доме, подумал странник, словно знала хозяйка, что он придет именно сегодня…
Как твое имя, и почему ты живешь здесь одна? — спросил странник-летописец Ахтэннир из Семи Городов.
Лауниллэ зовут меня, ответила хозяйка Дома; я жду… Мой возлюбленный ушел на войну — с тех пор прошел век, но он сказал, что вернется: я жду его.
Он не вернется, госпожа, сказал странник. Никто не вернулся с той Войны: уже и дети тех, кто покинул Черный Замок, ступили на Неведомый Путь… Да и люди не живут столько. Тебе некого ждать, госпожа.
Она засмеялась: ты видел — на росной траве у реки расстелены холсты? Долгими вечерами я ткала льняное полотно: теперь я выбелю его и сяду шить рубаху. Она будет белой-белой — это все белые ночи и лунный свет, и зола березовых дров… А потом я вышью рубаху цветными нитями: цветы и травы, и чудесных птиц. Он вернется, тот, кого я жду; я согрею ему воды, чтобы он мог смыть дорожную пыль, он наденет чистую одежду, а я испеку ему горячего хлеба — он любит горячий хлеб, странник… Ведь он обещал вернуться: как же я могу не ждать его?
…Годы прошли, и век прошел — Дикий шиповник оплел ее дом, А время мимо, мимо течет, И она все ждет, она его ждет.…И минул век, и другой, и тысяча лет: к Дому в Зачарованном Лесу пришел веселый молодой менестрель, мальчишка с черной лютней. Встретить его вышла юная женщина, обеими руками придерживавшая тяжелый узел золотых волос на затылке. Менестрель вошел в Дом.
Он не звал хозяйку Дома уйти вслед за ним, не говорил ей о любви, не рассказывал, что напрасно ее ожидание: он просто пел ей песни, которые собрал и сочинил, бродя по дорогам, и черная лютня в его руках то плакала, то смеялась, а хозяйка Дома слушала, улыбаясь и печалясь…
Кто ты, спросил ее менестрель.
Меня зовут Лауниллэ, — ответила она. Я жду. Жду своего возлюбленного. Столько лет прошло, столько веков — а его все нет… Скажи, менестрель, что, война все идет?
И впервые в ее глазах блеснули слезы.
Менестрель вспомнил горящие дома в землях Ханатты, вспомнил кровь и блеск стали в руках сынов Запада, и тихо ответил: да, битвы идут уже долгие годы…
И неожиданно хозяйка Дома улыбнулась.
Я подожду, сказала она. Когда-нибудь бой кончится, и он вернется домой — ведь он обещал… Я подожду.
Они засиделись до утра: менестрель пел, а хозяйка Дома рассказывала. Наутро менестрель Дайолин снова собрался в дорогу. Золотоволосая женщина положила ему в дорожный мешок каравай хлеба, головку сыра и немного сушеного мяса, наполнила флягу золотым яблочным вином и прибавила к этому маленький глиняный горшочек с душистым лесным медом.
Тебе суждена долгая дорога, сказала она. А я остаюсь. Если встретишь его, скажи — пусть возвращается домой.
Я жду…
Менестрель спускался по холму к реке, а на холме у дома стояла юная женщина с волосами цвета светлого золота, в узком темно-зеленом, как влажный лесной мох, платье, расшитом серебряными нитями. Стояла и смотрела вслед, поглаживая шею молодой оленихи: рассветные тени и блики скользили вокруг нее, невесомыми пальцами касались волос — и, когда менестрель оглянулся, ему на минуту показалось, что рядом с хозяйкой Дома танцуют светлые легкие духи леса…
Менестрель шел легко и быстро, но чем дальше оставался Дом, тем медленнее становился его шаг — пока, наконец, юноша не опустился на землю у корней древнего дуба. Сбросил мешок с плеча, достал из чехла черную лютню, подтянул струны и начал наигрывать простую тихую мелодию, еле слышно напевая что-то…
Тысячи лет, тысячи дней Не гаснет свеча на ее окне; Может быть, эта легенда лжет… Он сказал: «Я вернусь». Она его ждет…Так, говорят, была сложена баллада о Той, что Ждет. Но немногие знают, что у нее есть продолжение — то продолжение, которое никогда и никто не споет хозяйке Дома в Древнем Лесу.
Вторая баллада хорошо известна в землях Севера, в Семи Городах.
Имя ей — «Песнь воина».
О нас не слагают баллад и легенд — холодна чужая земля Рыцарям Тьмы могилы нет. холодна чужая земля Верные клятве, мы приняли бой: холодна чужая земля Прости нас — мы остаемся с тобой, и над нами — Черное Знамя…Впрочем, что с того, что мало кому знакома вторая баллада? Легенда живет: легенда о женщине, ждущей мужа с неведомой давней войны — тысячи лет, потому что он сказал — я вернусь…
Безумная
(553–556 годы II Эпохи)
…Днем она была — Исилмэ, дочерью четвертого короля Нуменорэ Тар-Элендила Пармайтэ, правнука Элроса Тар-Минъятура, сестрой Сильмариэн Прекрасной и наследника короля, Иримона. Хрупкая девушка, почти девочка — длинные струящиеся пепельные волосы и вечно скромно опущенные глаза, прячущиеся в тени длинных ресниц. Кто смел бы подумать, что не скромность — истинная тому причина, что дочь Короля-Книжника до обморока, до дрожи боится, что в глазах ее кто-нибудь прочтет правду о ее другом, ночном я. Она боялась ночи — и ждала ее, как влюбленные ждут сладкой муки тех мгновений, когда — не обмолвиться даже случайным словом, когда замирает сердце от соприкосновения не — рук, но — теней. Ждала тех кратких и мучительных мгновений, когда — пусть это сон, бред, наваждение, — она могла видеть — его.
Она знала его имя, за пять веков еще не успевшее стать пугающей легендой, все еще бывшее живой частью прошлого, страшной правдой для людей Нуменорэ. Знала, что должна ненавидеть его. И — не могла.
Враг. Возлюбленный враг мой…
Безумие. Должно быть, верно говорят мудрые: хотя и изгнан Враг за пределы мира, но зерна лжи, посеянные им в людских душах, остались, чтобы дать со временем всходы недобрые. Враг искушен в обмане и лживых наваждениях — а она оказалась слишком слаба для того, чтобы противостоять им. И это лицо — прекрасное, гордое, скорбное, — и эти глаза, сияющие ярче и яснее звезд, и тонкие сильные руки Мастера и Творца, и черные крылья — все это ложь, бред наваждение… Враг умел, когда хотел, принимать облик прекрасный и благородный, ибо в таком обличьи легче смущать души, и лишь немногие могли проникнуть взглядом сквозь личину… «И дух Тьмы и Зла иногда может принимать облик светлый и лучезарный», — так говорят предания. Она сама читала это в книгах мудрости, заботливо собранных отцом. Знала все — и каждый раз с мучительным замиранием сердца ждала наступления ночи.
Она пыталась развеять наваждение, с жадностью набрасывалась на книги, повествующие о великих битвах прошлого, о светлых героях и о злодеяниях Врага. Она старалась вызвать в себе ненависть и отвращение к нему — и не могла.
«…и Сильмариллы, заключенные в хрустальном ларце, уже жгли его, и больно было руке, но он не разжал ее…»
Она видела его руки — обожженные, искалеченные, с тяжелыми наручниками на запястьях, — и с ужасом осознала, что эти руки все еще кажутся ей — прекрасными. Она видела рассеченное когтями орла лицо — и не ощутила ничего, кроме боли и щемящей нежности, в которой побоялась бы признаться себе даже та, ночная она. Когда-то она любила слушать, как отец рассказывает древние предания; теперь каждый такой вечер превращался для нее в невыносимую пытку, и она радовалась, что выпадают они нечасто — государственные дела, коли можно так назвать дрязги князей, требовали от отца слишком много времени. Она боялась, что в какой-то миг ночное я вырвется из-под власти ее воли.
Именно это заставило ее поселиться в небольшом летнем домике вне стен Верхнего города. Здесь было спокойнее. Здесь не войдет ночью в комнату мать. Здесь были книги. И был — Лорн, медно-рыжий длинноухий пес, меньше и стройнее могучих волкодавов с королевской псарни, жиреющих от безделья; Лорн с его узкой мордой и большими печальными золото-карими, цвета меда и янтаря, глазами; Лорн, который не расставался с ней даже в библиотеке, где в нос ему забивалась мелкая пыль, и он недовольно чихал, но не уходил; Лорн, который, казалось, понимал все.
Единственное живое существо, которого она не боялась. Единственное существо, любившее ее — отец более дарил любовью Сильмариэн, мать была занята только сыном. Единственный, кому она могла рассказать все, что ее мучило. Даже ночью он оставался при ней в закрытой изнутри на ключ опочивальне — ложился у дверей или на коврик у камина, и во сне не желая расставаться со своей хозяйкой.
* * *
Это произошло в летний день Эрулайталэ, когда, в венке из цветов, вместе со всеми она стояла на вершине Менелтармы, и государь возносил благодарение Эру. На миг она закрыла глаза — и увидела в бледном свете звезд искаженное от непереносимой боли мертвенно-бледное лицо — кровь, сочащуюся из пустых глазниц, из незаживающих ран, вцепившиеся в ворот одежды скованные руки… Волна боли нахлынула так внезапно, что она едва сумела устоять на ногах. Неужели даже здесь, на этой священной вершине, наваждение будет преследовать ее, неужели нет места в Арде, недоступного Врагу?..
Она надеялась найти в своих видениях хотя бы малейшее противоречие, которое позволило бы ей думать — это ложь, все было не так. Но — не могла. И холодная, беспощадная ясность взгляда-с-другой-стороны была страшнее всего.
…Должно быть, в этом и кроется сила Врага: смешать ложь и правду, истолковать по-своему то, что люди по невежеству и слабости разума своего объяснить не в силах. И правда, искусно переплетенная с ложью, обращается, в конце концов, в свою противоположность. Ошибался Хурин Талион, полагая — Врагу неведомо то, что движет людьми: о нет, конечно, он знает, знает это, и сомнения, сострадание, милосердие людское, стремление к скрытым знаниям — и к самопожертвованию, и гордость — все это становится орудием в руке Врага. Он прекрасно изучил все людские страхи, заботы и тревоги, он способен найти ключ к любому сердцу, если сердце это не тверже стали и адаманта… а сердце женщины ранимо и слабо, и надежнейший ключ к нему — сострадание. И сколь часто именно за страдания любят женщины…
Но, может быть, в этом все дело? Ведь отец столько говорил о милосердии к побежденным! Пытаясь победить зло ненавистью, порождаешь лишь новое зло; быть может, любовь… Но любовь, рожденная ложью и чарами, будет ли истинной любовью? Все ли раны должно оплакивать, всегда ли достоин сострадания страждущий? А кто будет решать, достоин ли человек сострадания, или нет… Но раны, нанесенные ненавистью, исцеляет любовь… Но можно ли любить воплощение зла… Но много ли найдется безумцев, следующих за тем, кто сеет лишь зло — а за ним шли тысячи… Кто скажет, что делать мне? — нет мне покоя…
— Лорн… подойди ко мне… Мне так одиноко, Лорн, зверь мой рыжий, я совсем запуталась…
Божеству было плохо. Его грустному хрупкому божеству. Она сидела прямо на полу, по-детски поджав ноги, и снова он тыкался узкой мордой ей в волосы, жмурил янтарные глаза, а от нее пахло бедой, и страхом, и болью, и на языке его был солоноватый привкус, и ему хотелось завыть от тоски, от отчаянья, что он ничего, ничего не может сделать, чтобы защитить ее…
Она поднялась, осторожно отстранив его, подошла к маленькому зеркалу на стене. Тонкая длинная ночная рубашка только подчеркивала ее почти девчоночью худобу. Пепельные с отливом в серебро волосы, узкое лицо и глаза — широко расставленные, зеленые.
— Я — выродок, Лорн, — грустно сказала она.
Ни в мать, ни в отца… У матери — золотые волосы и серо-голубые глаза дома Хадора, отец — черноволосый и сероглазый, оба — высокие, статные… и дети — под стать родителям: темноволосая Сильмариэн, златокудрый Иримон… В кого только она такая… Лорн не знал, что такое «выродок»; понимай он, о чем речь, мог бы наверно подумать о себе то же. Он оказался единственным рыжим щенком среди черных с рыжими подпалинами братьев и сестер, самым слабым и маленьким. О нем так и сказали тогда: выродок, мол, долго не протянет. А тут как раз случилась поблизости Исилмэ. И маленький теплый рыжий комочек, тихо пискнув, ткнулся ей в ладонь, словно хотел попросить о чем-то… Она выходила его, и вскоре лопоухий неловкий псёнок уже смешно семенил за ней на толстых разъезжающихся лапах, тоненько тявкал — куда, мол, торопишься, погоди, не поспеваю, — а догнав, хватал за подол платья и тянул за собой: бросай свою ерунду непонятную, гулять хочу!..
Отражение в зеркале менялось, словно ее лицо было восковой маской, и теперь воск плавился, принимал другую форму, и волосы казались серебряными в свете луны — другая стояла в зеркале, видевшая и знавшая то, что Исилмэ, дочь государя Тар-Элендила Пармайтэ, ни видеть, ни знать не могла; то, во что Исилмэ, дочь четвертого короля Нуменорэ, правнука Элроса Тар-Минъятура и потомка Эарендила Благословенного, не должна была — не смела — не могла верить. И этот взгляд тянул к себе, не отпускал, творил что-то с ее душой, с ее разумом…
Кто это? Это — я?.. отпусти…
Она чувствовала, как крупная дрожь сотрясает ее тело — и ничего не могла поделать с собой, не могла даже опустить веки — только сжимала рукой горло, все шире распахивая глаза, не в силах оторвать взгляда от — той, в зеркале, не в силах ни крикнуть, ни даже застонать. Ей уже не было страшно — наверно потому, что ее самой уже не было, была — другая, ведьма, колдунья, пришедшая из-за грани…
Лорн не понимал, что происходит. Что-то не то делала с его божеством та блестящая плоская штука на стене, неправильное что-то, так нельзя… Поколебавшись, он прихватил зубами край тонкой сорочки — тоже нельзя, конечно, порвать можно, — и потянул — сначала осторожно, потом посильнее, потом, отчаявшись, дернул. Треснула тонкая ткань. Она вздрогнула, бессильно уронила руки вдоль тела, опустила голову.
— Надо же… самой себя испугалась… — голос дрогнул, — Смешно, правда?
Лорн виновато вильнул хвостом: ругать будешь?
— Надо спать… — проговорила она, — Утром гулять пойдем, в лес… Хочешь в лес?
Лорн склонил голову набок, приоткрыв пасть: слушал. Она забралась в постель, свернулась калачиком, натянула одеяло до подбородка и, глядя в темноту широко раскрытыми глазами, прошептала:
— Поедем с тобой в лесной домик… Поедем? — там хорошо, там тихо… деревья шепчутся… — губы дрогнули в улыбке, — А ты опять бабочек гонять будешь. Ведь будешь же?..
* * *
…Уже в сумерках девушка подошла к реке и, вздохнув, бережно опустила на воду венок из цветов-звезд.
Думала — хватит смелости отдать. Ему никто никогда не дарил венка… Смешно даже. А она вот — не сумела. Можно было бы и убежать потом… Даже подойти смелости не хватило. Забилась в лес, как зверек какой… Ох, как же глупо все вышло…
А эта весна — последняя. И больше никогда…
Нет, нельзя об этом думать. Дурочка маленькая. А как было бы красиво — белые цветы-звезды на черных волосах… и бояться было нечего, он бы, наверно, решил, что это просто — подарок, весна ведь… радовался бы… улыбнулся бы, наверно — у него такая улыбка… а может, и венок бы ей подарил — что тут такого, отдал же Гортхауэр свой венок Оннэлэ Къолла…
Кто-то легко коснулся ее плеча:
— Элхэ…
Она стремительно обернулась: лицо, неожиданно вспыхнувшее какой-то колдовской, невероятно беззащитной и завораживающей красотой, широко распахнутые сияющие глаза, полуоткрытые губы, с которых готово сорваться слово — имя…
И Гэлрэн умолк, прочитав — это, несказанное. Озарившая ее лицо светлая удивленная улыбка погасла, уголки рта поползли вниз, а на глазах вдруг выступили непрошенные слезы, медленно потекли по щекам. Менестрель опустил голову, потом, шагнув мимо нее, резким коротким движением швырнул венок в воду.
— Прости меня, — тихо сказал он.
Она не ответила.
* * *
В лесу стало только хуже. Дома хоть слуги отвлекают иногда, а здесь — одиночество. За окном покачиваются ветви под ветерком, и ты, поднимая голову, ждешь увидеть яблони в розово-белой пене цветов… А ночи — ясные, звездные, томит душу непокоем луна… Кажется, все тропинки в лесу уже исхожены — болят усталые ноги, хочется упасть на землю и уснуть от усталости. Но во сне не будет покоя — да и сны ли это? Она разучилась спать сном-без-сновидений — каждый раз этот легкий, слишком легкий переход из одной яви в другую, чтобы утром снова просыпаться от собственного стона, долго лежать, стискивая влажные от испарины виски… Люди стараются удержать сон — а он утекает хрустальными каплями меж пальцев; она пыталась забыть — но сны-яви-видения того, что она не могла видеть — и видела, не могла знать — и знала, проступали только отчетливее, больнее, резче…
* * *
— …Вы давали мне клятву. Вы клялись исполнить любой мой приказ. И теперь я приказываю вам: уходите.
Они молчали — молчали все; тишина была неправдоподобной, оглушительной, в ней не было слышно даже дыхания.
Первым встал золотоглазый светловолосый воин — на черной тунике серебристо-серым и лиловым вышито крыло ночной птицы:
— Мы давали тебе клятву; верно. Ни у кого из нас никогда не было и мысли нарушить твой приказ. Но сейчас ты приказываешь нам стать предателями. Прости, но это нам не по силам. Мы остаемся. Я, Хонахт, вождь клана Совы, сказал.
Вторым поднялся человек средних лет со странными приподнятыми к вискам зелеными глазами, с проседью в иссиня-черных прямых волосах:
— Брат мой сказал слово истины. И я, Хоннар эр'Лхор, вождь клана Волка, говорю: нас называли волками Севера — не дело волкам трястись за свою шкуру и предательством спасать жизнь. Мы остаемся.
Он смотрел прямо перед собой, стиснув больные руки.
Один за другим они вставали, и эхо высокого зала подхватывало и уносило под своды:
— Я, Рохгар эр'Коррх, вождь Клана Ворона, говорю…
— Я, Льот ан'Эйр, вождь Клана Молнии, говорю…
— Я, Дарг из рода Гоннмара, предводитель Стражей Пограничья, говорю…
— Я, Тъерно из рода Льерт, предводитель сотни, говорю…
— Я, Ульв, предводитель сотни, говорю…
Когда в зале снова воцарилась тишина, он поднялся, не глядя ни на кого, и медленно проговорил:
— Я не властен ныне приказывать вам и не могу более просить, потому принимаю ваше решение и подчиняюсь ему. Я, Мелькор, сказал.
И склонил седую голову.
* * *
…Он бежал по берегу моря, бежал так быстро, как только мог, песчинки забивались между пальцев, мелкие камешки больно ранили лапы, путались в шерсти, а он бежал, бежал, и густой морской воздух забивался ему в ноздри, он бежал, высунув язык, пересохший от жаркого дыхания, от соленых брызг, задыхаясь, хрипя от бега — бежал, и знакомый запах единственного родного ему существа, запах молока и меда, и горьких трав — этот запах ускользал от него, был только густой дух высушеных солнцем водорослей и соленой воды, соли и песка, и разогретого солнцем камня, и он остановился, а волны смывали знакомый запах, уносили его куда-то далеко в соленую воду, пронизанную солнцем, туда, где нестерпимо-яркое небо сливалось с ослепительным сиянием моря, и тогда он завыл — отчаянно, тоскливо, обреченно, ощутив невероятную пустоту внутри, пустоту сродни голоду, от которого подводит живот, и нечем было утолить голод; пустоту сродни жажде, от которой на шершавом языке возникает мерзкий металлический привкус, и нечем было утолить жажду, и нечем, нечем было заполнить эту пустоту одиночества, пустоту потери… — и он проснулся, и поднял голову, учащенно дыша, словно от быстрого бега.
Она металась на ложе, дыша тяжело и жарко, и хрипловатый стон сорвался с ее губ, и тогда он на брюхе пополз к ней, припадая к полу, а потом приподнялся и лизнул горячим шершавым языком маленькую руку, сжатую в кулак, такую тонкую, такую ласковую руку…
* * *
…никто из Смертных не знает этого. Быть может — к счастью. Никто из Смертных не может понять до конца, какую цену приходится платить богу за то, чтобы остаться среди Людей. Можно понять, как это — Люди уходят, а ты остаешься. Вечно. Всегда. Можно понять, как это — чувствовать чужую боль. Но никто не знает, как прожил Бессмертный эти несколько часов Великой Битвы.
…когда накатила густо-соленая волна, и ты увидел — лицо, и прошептал имя — имя первого, убитого в этом безнадежном бою, а потом — корчился на полу от непереносимой боли, и открывались раны, и одежды пропитались кровью, и кровью было залито лицо, и незаживающие ожоги сочились кровью и вязкой лимфой, а бессмертные воины — там — не могли понять, почему никто из умирающих не кричит, почему они падают в молчании и умирают без стона, — но в тронном зале метался меж стен страшный, нечеловеческий, неумолкающий крик, и ты, — Вала, бессмертный бог, — умирал, чтобы через мгновение умирать и умирать снова, кровь заливала глаза, полуоткрытый в рвущем душу хриплом стоне рот, и нескончаемая агония ломала тело, — и безмолвно, без крика, без стона умирали твои воины, твои ученики на поле боя, и ты уже без голоса шептал имена, захлебываясь кровью, и кровь стыла на черных плитах пола, а ты уже не видел ее, не мог…
…и поднялся, потому что все было кончено, и тебе осталось только одно — стоя встретить тех, кто сейчас ворвется сюда, настежь распахнув двери, — и ты поднялся — ощупью, вслепую, не видя ничего сквозь черно-красную пелену боли, полой плаща вытирая лицо, и руки не слушались, сведенные судорогой, — и ты поднялся, бессильно цепляясь за стену, а из-под тяжелых браслетов на запястьях сочилась кровь, и у тебя уже не было сил остановить ее, — и ты поднялся, зная, что это — последнее, что — уже не можешь, но — должен сделать, ведь душам открыто все, и ты должен встать, они не должны увидеть тебя на коленях, — и ты поднялся, а ноги уже не держали, и ты вцепился негнущимися пальцами в подлокотник трона, и окровавленные руки скользили по черному камню, — и ты поднялся, и выпрямился — и тогда распахнулась от удара дверь — ты увидел их лица, и еще сумел улыбнуться, словно прощая их, а они замерли на мгновение, и ты разжал руку и сделал шаг вперед, навстречу неизбежному, зная, что будет потом, успев осознать с болезненным недоумением, что они боятся тебя, и тогда кто-то шагнул к тебе, и ты уже не ощутил удара, который сбил тебя с ног, и упал ничком, прильнув изорваной шрамами щекой к холодным плитам пола, а чьи-то руки уже поднимали тебя, и кто-то кричал слова приказа, а ты не понимал их, как не понимал страха — их страха перед тобой, и не чувствовал, как жесткие ремни охватили запястья, не было сил чувствовать, и все утонуло в немом крике…
* * *
— Она вскрикнула и открыла глаза, и он снова припал к полу, боясь, что сделал что-то не то, что причинил боль своему божеству.
— Лорн… — голос у нее был тихий и хриплый, словно сорванный; она кашлянула и снова позвала, — Лорн…
Он поднялся, оперся лапами на край ложа; глаза у божества были темные, больные. Она подняла руку, словно преодалевая слабость, и, едва касаясь, провела по медно-рыжей гладкой шерсти.
— Лорн…
И тогда он сделал единственное, что мог сделать. Он потянулся, поднимаясь на задние лапы, дрожа от напряжения и страха, и ткнулся твердым влажным носом ей в щеку, в шею, чувствуя горячечный жар ее кожи, вдыхая знакомый запах молока, меда и горьких трав, зарылся мордой в ее пушистые мягкие волосы и замер так.
Тонкие руки обняли его, она потерлась щекой о длинное мягкое ухо, и Лорн шумно вздохнул, успокаиваясь немного — вот же она, вот, никуда не ушла, не пропала…
— Сон, Лорн… страшный сон. Но ведь это только сон, да? — пробормотала, жалко улыбаясь, — Страшно, Лорн… так страшно… Ты понимаешь?..
Он высвободился из тонких слабых рук и посмотрел темно-янтарными глазами в лицо своего божества, мучительно морща кожу на лбу.
— Понимаешь, Лорн… я не знала, что он такой… я что-то не то говорю, ведь этого не может быть, в это нельзя поверить, а я верю… Что же это, что же это… неужели это и есть — Тьма?..
Лорн снова вздохнул. Он ничего не понимал в Свете и Тьме. Он умел только любить ее — свою хозяйку, госпожу, свое божество, он видел, что ей плохо, и не знал, как помочь, а потому коротко тихо заскулил и снова ткнулся носом, лизнул ее в щеку, в нос, в губы, — и вдруг почувствовал привкус соли. Он уже успел забыть свой сон — но привкус соли на языке внезапно пробудил в нем страх — огромный, всепоглощающий, необъяснимый, и он снова заскулил, заскулил тоскливо и протяжно, как одинокий щенок, которого забыли, бросили в ночном лесу.
— Что ты, Лорн… что ты… — она притянула к себе узкую рыжую морду и коснулась горячими губами его влажного носа, и он ощутил новый, до ужаса знакомый запах — запах крови, и долгая дрожь прошла по всему его телу.
Она приподнялась на постели; села.
— Что ты, малыш… ты боишься? Я напугала тебя? — хрипловатый со сна голос звучал ласково, но Лорн попытался высвободиться из ее рук — попытался неуверенно, почему-то этого нельзя было делать, и он понимал это, а ему было страшно, так страшно, но она прижимала его голову к своей груди, он дрожал, слушая стук ее сердца — быстрый, словно бы захлебывающийся, а ее тонкие пальцы зарывались в густую жесткую шерсть на его загривке, гладили так успокаивающе — какие у нее добрые руки…
— Я сумасшедшая, Лорн, — тихо прошептала она, — Сумасшедшая… я безумна, Лорн… рыжий мой зверь… понимаешь?
Он не понимал. Он только тихонько поскуливал и все норовил высвободиться, заглянуть в лицо, а она не пускала его — удерживала мягко и настойчиво, и что-то говорила — тихо, монотонно, убаюкивающе…
— Этого не могло быть. Я не могу больше. Не могу. Я не хочу это видеть, это не может быть правдой, не может, слишком страшно, я только человек, мне больно, зачем, зачем, за что, почему это — со мной, зачем, за что…
И вдруг, выпустив его, закрыла лицо руками, вздрагивая всем телом, и медленно, без стона повалилась на постель.
* * *
Нельзя так больше, невозможно…
Зачем ты пытаешься уничтожить то, что через века очнулось в тебе? Зачем ты хочешь убить себя?
Убить себя?..
Как хорошо было бы думать, что эта любовь — некий подвиг, жертва, коей она сможет спасти проклятую мятежную душу… Но она-ночная не умела так думать о себе, а ее-дневную эти мысли ужасали, ибо по ним она догадывалась, сколь глубоко яд проник в ее сердце. Но зачем это Врагу? Много ли проку ему в слабой безумной девчонке? Или в ее мучениях находит он радость, или лестно ему, что и за Гранью Мира он достаточно силен, чтобы увлечь во мрак еще одну душу?
Найди в себе силы поверить. Пусть тебя учили по-другому: поверь себе. Вопреки всему — поверь.
И — что тогда?
…и, слезами омытые, закроются неисцелимые раны; рухнет заклятье, и истает цепь — ибо только любовь может разбить оковы ненависти. И он будет свободен…
Она плакала и улыбалась, и пламя свечей дрожало, расплывалось в ее глазах, и не было счастья горше, чем сознавать — так будет, и это сделает — она… И непослушными дрожащими губами она шептала странные слова чужого языка, сейчас не казавшегося ей ни странным, ни чужим: кори'м о анти-этэ, Тано мельдо… кори'м о анти-этэ…
* * *
Она проснулась поутру с тем же горьким, мучительным ощущением счастья — и в ужасе осознала: это — правда. Все прочее могло быть лживым наваждением, но это — правда. Вот зачем она нужна ему, вот зачем надо, чтобы она поверила в свой полуночный бред. Он получит свободу — а ей наградой станет его холодный издевательский смех: чего еще достойна глупая девчонка, обманутая бесстыдной ложью Врага? И только там, за Гранью, ей и будет дано до конца осознать свое безумие, только там она поймет, что все было не так, все — наваждение, ложь, бред, не было никогда ни того — крылатого, ясноглазого, ни хрупкой зеленоглазой девушки с горчащим на губах именем — Полынь, ни ее народа, ни медово-золотого, медвяного города в белой пене цветущих яблонь, ни черных крестов на ослепительно-белых скалах. А был — Враг, холодный и рассчетливый лжец, убийца, сеющий смерть и ненависть. И не лгали древние предания — ложью была только ее память…
Она натянула одежду, плеснула в лицо водой. Лорн поднялся, потягиваясь, сладко зевая во всю пасть, завилял хвостом: что, гулять пойдем?
— Нет, Лорн. Оставайся здесь.
Он тряхнул головой: не понял.
— Оставайся, — почти резко повторила она и, притворив дверь, сбежала по ступенькам крыльца.
* * *
…Она гнала коня к скалистому берегу, и сердце бешено колотилось в такт частому перестуку копыт.
Зачем ты хочешь убить себя?
Нет, не себя: свое безумие, ту ложь, которая завладела ее сердцем. Злые жгучие слезы текли по ее лицу, она досадливо вытирала их рукой, но снова соленая влага переполняла глаза.
«Ненавижу тебя, ненавижу, проклятый, Проклятый!..»
Она стояла на краю скалы под первыми робкими звездами.
— Слышишь?! Я ненавижу тебя! — крикнула отчаянно, — Я ненавижу тебя… мэл кори…
И, стараясь не смотреть на хищно щерящиеся внизу острые клыки скал, шагнула вниз.
* * *
…Медно-рыжий пес бежал по берегу моря, бежал так быстро, как только мог, песчинки забивались между пальцев, мелкие камешки больно ранили лапы, путались в шерсти, а он бежал, бежал, и густой морской воздух забивался ему в ноздри, он бежал, высунув язык, пересохший от жаркого дыхания, от соленых брызг, задыхаясь, хрипя от бега — бежал, и знакомый запах единственного родного ему существа, запах молока и меда, и горьких трав — этот запах ускользал от него, был только густой дух высушеных солнцем водорослей и соленой воды, соли и песка, и разогретого солнцем камня, и он остановился, а волны смывали знакомый запах, уносили его куда-то далеко в соленую воду, и тогда он завыл — отчаянно, тоскливо, обреченно, ощутив невероятную пустоту внутри…
* * *
…Шторма не было в ту ночь.
О государыне Анкалимэ и сыне ее Анарионе
«Государыня Анкалимэ, первая Правящая Королева Нуменора, рождена была от брака Алдариона-Морехода, сына Тар-Менелдура, и Эрендис Тар-Элестирнэ, дочери Берегара из Дома Беора, в году 873 II Эпохи. Эрендис была весьма рада рождению дочери, ибо по древним законам женщина не могла наследовать престол, и думала она, что желание иметь сына-наследника удержит ее царственного супруга от морских походов к берегам Покинутых Земель.
Однако обманулась она в ожиданиях своих; а так как была Эрендис горда и нравом обладала непреклонным, и не желала она уступить Алдариону ни в чем, сказала она: «Не стану я делить любовь супруга своего с Госпожой Уинен; и, если не желает он оставить свои корабли и моря, покину Арменелос и стану жить в одиночестве, как вдова или как женщина, мужа не знающая; и дочь моя будет пребывать со мной».
И стало так, что, когда вернулся Анардил Алдарион из плаванья, длившегося пять лет, — а было это в году 882, — не нашел он привета у супруги своей; и не хотел ни один уступить, и послужило это причиной разрыва между Алдарионом и Эрендис.
Потому и стало так, что не было у Тар-Алдариона сына-наследника, а лишь дочь Анкалимэ. И в году 883, приняв скипетр и власть, издал новый государь Закон ТарАлдариона, гласивший, что, буде не окажется у Короля наследников мужеска полу, власть его должна перейти к старшей дочери его; и, буде старшей в роду его будет дочь, а младшим — сын, и дочь не отречется от права наследования, суждено ей будет стать Правящей Королевой.
И так говорил государь Алдарион: «Взял я жену себе не из королевского рода, избрав ее по велению сердца своего; но ныне вижу, что это принесло мне лишь несчастья. Потому отныне единый закон для Дома Королей: пусть избирают они супруг и супругов себе только лишь из рода Элроса Тар-Минъятура, Сына Звезды». И стало по слову его; закон же этот получил название Закона Элроса, и все Королевы и Короли Нуменорэ после Анардила Тар-Алдариона свято соблюдали его.
Таким образом, первой Правящей Королевой Нуменорэ стала Тар-Анкалимэ, принявшая скипетр и власть от отца своего Анардила Тар-Алдариона в 1075 году II Эпохи. Долгое время не брала она себе мужа, но, коль скоро двоюродный брат ее Соронто побуждал Анкалимэ отказаться от прав наследования, дарованных ей Законом Алдариона, избрала она супругом своим Халлакара сына Халлатана из младшей ветви Правящего Дома Нуменорэ. Но горда и своевольна была наследница Анкалимэ, и стало так, что после рождения первенца и наследника ее Анариона в 1003 году вспыхнула вражда между царственными супругами, и с той поры никогда не делили они ложе, и других детей не было у них. И, став королевой Нуменорэ, не забыла Анкалимэ оскорбления, нанесенного ей Халлакаром, потому запрещено было ему появляться в столице, и жил он в Хъярросторни, во владениях отца своего, и там окончил дни свои в одиночестве.
Наследница Тар-Алдариона, государыня Анкалимэ не стала продолжательницей дел его; так говорила она: «Валар в великой мудрости и щедрости своей даровали нашим предкам эту землю, свободную от зла, дабы жили мы здесь и не искали других путей, ни других владений.
Вот, отец мой нарушил завет Валар; что принесло это Нуменорэ? — на долгие годы мужи уходили в плаванье к берегам Сирых Земель, покинув семьи свои, жен и детей своих; воистину, горек их удел. Сколь бы драгоценными не были те вещи, что привозили мореходы из странствий своих — оплатят ли они тяжкое бремя, что легло на плечи их близких? Здесь наша земля; разве не более достойно нас украшать ее по мыслям и силам нашим, нежели пускаться в безрассудные и бесцельные путешествия?»
И, верная решению своему, Тар-Анкалимэ не оказывала ни в чем поддержки Гильдии Мореходов; однако многие ремесла достигли расцвета своего в годы ее правления. И возведен был тогда в Арменелос Дворец Королей, великолепный и величественный, каким и ныне можно видеть его — краса и слава Поднебесного Града.
Однако государыня, хоть и была сурова нравом, не чуждалась праздненств и пиров; красота и изящество всегда находили отклик в ее утонченной душе. Потому на первых порах надеялись мореходы Гильдии смягчить ее диковинными дарами, привезенными с берегов Эндорэ; но, хоть и не пренебрегала она их подношениями, в душе оставалась непреклонной. И не было поддержки, ни помощи Верховному Королю Элдар Гил-галаду, и оплоты Нуменорцев на берегах Эндорэ, те, что возведены были в годы правления Тар-Алдариона, приходили в упадок, ибо все меньше кораблей приходило к берегам Эндорэ; и Гильдия Мореходов была в небрежении в те годы. Немногие решались оказывать помощь им, и то — лишь в тайне, страшась гнева государыни.
Сын и наследник Тар-Анкалимэ Анарион рано связал себя узами брака. Следуя Закону Элроса, избрал он супругу себе из рода Манвендила, второго сына Элроса ТарМинъятура, Мэлдис Ясноокую. Однако государыня осталась недовольна выбором сына, ибо сама она прочила в супруги ему Алтариэль, младшую сестру князя Андуниэ Атандила из рода Сильмариэн Прекрасной. Двух дочерей подарила Анариону супруга — Нимлот и Тинталле, и сына Суриона; и возрадовалась королева, ибо не было в ее сердце любви к сыну, непокорному ее воле, потому и медлила она назначать его преемником своим, быть может, надеясь втайне, что передаст власть одной из дочерей его. Потому приняла она Нимлот и Тинталле под опеку свою, и сама воспитывала их. Однако суровый нрав государыни пробудил в сердцах дочерей Анариона лишь страх и неприязнь; и отреклись они от прав наследования в пользу брата своего Суриона. Королева же в отместку принудила их дать обет безбрачия, ибо не терпела она тех, кто шел наперекор воле ее.
Но стало так, что в 1280 году, чувствуя, что вскоре настанет ее время вступить на Неведомый Путь, государыня Тар-Анкалимэ передала скипетр и власть сыну своему Анариону, и завещала она ему заботиться о благе Нуменорэ и не искать лучшей доли в Сирых Землях.
Однако, вступив на престол, Тар-Анарион решил продолжить дело царственного предка своего Анардила Тар-Алдариона; и принял он под руку свою Гильдию Мореходов, и вновь застучали топоры в Роменне, где строились новые корабли для дальних странствий. И в году 1281, в начале второго года правления Тар-Анариона, вновь направили Мореходы суда свои к берегам Забытых Земель.
Однако говорят, что причиною столь великой приязни нового государя к Мореходам Роменны послужило не только желание Тар-Анариона прославиться в веках подобно предку своему, сколь разлад между ним и царственной матерью его. И так стало, что в конце жизни своей довелось королеве-матери узреть крушение всех замыслов своих. Сам же Тар-Анарион, хотя и покровительствовал Гильдии Мореходов вплоть до последних лет правления своего, никогда не покидал берегов Нуменорэ. Но по его воле восстановлена была Винъялондэ, и заложены были гавани Элеллонд в устьи Барандуина, и Гавань Солнца в устьи Ангрен, и многие поселения на западных берегах Эндорэ…»
Из Краткого Летописания Королей Нуменорэ
Мастер
(~1200–1500 годы II Эпохи)
Странник был в запыленных черных одеждах, высок ростом и ясноглаз, а в темных волосах его запутались серебряные нити. Держался он со спокойным достоинством, и Келебримбору поклонился, как равному.
— Мир тебе, странник. Садись. Хочешь вина?
Тот покачал головой.
— Поведай нам, кто ты, откуда идешь и какая судьба привела тебя в Эрегион.
— Долгим был бы мой рассказ, даже если б я захотел только перечислить те земли, в которых побывал, — негромко заговорил странник; Квэниа, невероятно чистый выговор — нечасто теперь услышишь такое. — Пришел я в Эрегион, ибо великая слава идет об искусных кузнецах его и о Владыке Тиелперинкаре, одном из искуснейших мастеров Эндорэ. Коль скоро и мне ведомы тайны металла и камня, мыслю я, что, быть может, они пригодятся здесь; одинокому скитальцу, проводящему дни в дороге, а ночи — под звездным небом, пользы в этих знаниях немного.
— Если слова твои правдивы, Мирдайн будут рады тебе, странник. Но ты не сказал ничего о той земле, откуда пришел, ни о роде своем, и имени своего не назвал нам…
Странник поднял на Келебримбора глаза и ответил глухо:
— В ту землю, откуда я пришел, мне не вернуться никогда. Я… этлендо; так и зови меня, Владыка Эрегиона. И позволь мне более не говорить об этом.
Этлендо, изгнанник… Келебримбор задумался; пожалуй, этот странник нравился ему. Да и, судя по облику, Нолдо…
— Пусть будет так, как ты хочешь, — решил он, наконец. — Я прикажу проводить тебя в твои комнаты. Отдохни с дороги; утром мы поговорим еще.
* * *
«Ты волен ходить, где хочешь: смотри, узнавай, спрашивай…»
Резная высокая дверь была приоткрыта; он потянул за дверное кольцо, заглянул…
Замер на пороге.
Все было так — и не так, как — дома (впервые за сотни лет он назвал домом не суровый замок в скалах — тот, сгоревший город с домами из медового резного дерева, но не успел даже заметить этого). Он бесшумно шагнул внутрь, прошелся по кузне, мимолетно касаясь наковальни, инструментов, пластин и слитков металла, столешницы массивного деревянного стола, изрезанной какими-то фрагментами, набросками узоров — так знакомо, слишком знакомо, будто сам он, склонившись над ней, вырезал — торопясь, чтобы не потерять увиденное, найденное — узким ножом стебли, цветы, драконов и птиц, и зверей уж вовсе неведомых… Пригляделся. Один узор был не окончен — видно было, что мастер несколько раз повторял его, пытаясь найти единственно нужное, да так до конца дело и не довел. Нож лежал рядом — он протянул руку, удобно легла в ладонь прохладная рукоять — задумался, прочертил в воздухе какую-то линию, завиток…
… а когда оторвался от рисунка — легкого, летящего, совершенного-в-незавершенности — долго смотрел, словно боялся поверить своим глазам, и внезапно жгучая радость захлестнула его — оказывается, он ничего не забыл, руки, пять столетий державшие меч, не отвыкли от резца, он все помнил!..
Он был — дома.
И что-то дрогнуло слева в груди — знакомо, так знакомо, легкий холодок — еще не замысел, предчувствие его…
— Это будет… — шепотом, чтобы не спугнуть, — чаша. Чаша, — повторил, не замечая, что говорит на древнем языке Севера — эл-эстъэ коирэ-Сайэ…
* * *
Сотни лет не знал он труда столь радостного, столь вдохновенного; и когда на утро третьего дня дверь мастерской растворилась — обернулся, и не успев еще против солнца разглядеть того, кто появился на пороге, проговорил счастливо и светло:
— Тарно айанто, мэй арантайне эл-коирэ Сайэ…
И — осекся. Вошедший был не в черном, как ему показалось в первое мгновение — в золотисто-коричневом и темно-синем. И волосы, перехваченные не привычным кожаным ремешком — легким серебряным обручем, не иссиня-черные — пепельные, отливают на солнце серебром.
— Как же так, Мастер?.. — медленно, как истаивает туманная дымка, исчезла — истаяла улыбка, ушла радость.
Как же так…
Медленно, медленно поставил он золотистую солнечную чашу на край стола.
— Ранэн, я не понял твоих слов — прости…
— Я… — глухо проговорил странник, — я сделал, кармо… сделал эту чашу… чашу Солнца… и… радости.
Миг — и он уже на пороге.
— Постой!..
Он не обернулся.
Келебримбор не успел надолго задуматься над непонятными словами на неведомом языке, которые произнес странник: осторожно, медленно подошел к столу, не отрывая взгляда от чаши, затаив дыхание, взял ее в руки — металл был теплым, живым, свет дробился в пластинках золотистого берилла, переплетенного легким светлым кружевом, словно стекло витража, солнечными бликами пробегал по внутренней стороне стенок, и росинки дрожали на стеблях неведомых трав, на лепестках цветов…
Артано…
Кажется, он произнес это вслух — восхищенным шепотом, с каким-то благоговением скользя кончиками пальцев по кованому — живому металлу.
Что он сказал?
Чаша радости. Чаша Солнца.
Так же тихо и медленно Келебримбор вышел наружу, под потоки солнечного света, и тихо проговорил:
— Смотрите…
* * *
…Здесь тихи и медленны воды Гландуин, и серебряные ивы склоняются над заводью. Так тихо-тихо, что можно обмануться — можно снова поверить, что ты — дома, что не было сотен лет одиночества, что — вот сейчас, через миг всего — подойдет к тебе — высокий, темноволосый и ясноглазый и тихо окликнет — то ли мыслью, то ли шепотом, похожим на пение ветра в тростниках:
Таирни…
Он с трудом удерживается, чтобы не обернуться.
Это безумие. Ты знаешь, что он не придет. Никогда. Ты ведь знаешь.
Но он не властен уже бороться с наваждением — а потому просто ложится ничком, зарывшись лицом во влажную, пахнущую весенней горечью траву, повторяя, повторяя, повторяя — одно только слово…
Сильная и легкая рука ложится ему на плечо, он невольно сжимается на миг от прикосновения — и резко поднимается, оборачивается — с радостным изумлением, еще не смея поверить, с безумной надеждой:
— Тано?..
— Ты прежде никогда не называл меня так… Я искал тебя, ранэн: ты так внезапно ушел… Хотел сказать тебе — Гвайт-и-Мирдайн будут рады, если ты станешь одним из нас… что с тобой? Ты не рад?
— Нет, кармо, — через силу — лезвием осоки по сердцу ожгло вернувшееся чувство потери — выговорил странник. — Я рад. Я… благодарю.
И отвернулся, незряче глядя на бегущую воду.
…Ни звука, ни шороха: Все гуще осока в заводи, Все выше травы разлуки. Все думал — можно помедлить; Теперь — отыщешь ли путь…* * *
Теперь его будут называть здесь — Артано. Потом — Аннатар, Дары Приносящий. Ведь нужно же как-то звать того, кто не открывает своего имени…
И никто из Гвайт-и-Мирдайн не станет спорить с Келебримбором, когда тот скажет страннику — оставайся с нами. Чаша радости, чаша Солнца — его посвящение в Братство Мастеров.
У артано Аннатара были свои странности — у кого их нет, впрочем? Расспрашивать было бесполезно: молчаливо удивлялись тому, что он никогда не говорит — тано, только кармо или кэредир, тот-кто-создает. Он знал язык Нолдор — но, переходя на него, изъясняться начинал несколько старомодно, а больше говорил на Квэниа — так, должно быть, звучал этот язык в благословенном Тирионе-на-Туне, не раз думалось Келебримбору. Говорил он зачастую резковато, как тот, кто привык отдавать приказы и повелевать — временами Келебримбор сам удивлялся, почему такая манера разговора его не отталкивает, не задевает гордости («А гордость Нолдо задеть несложно», — усмехался он про себя).
* * *
— Аннатар.
Голос Нолдо звучал очень тихо, но была в нем какая-то неуловимая звенящая нота.
— Аннатар, я хотел… хотел просить тебя… Будь моим братом. Пусть смешается наша кровь…
Странник вскинул на него широко распахнутые глаза, лицо его озарилось внезапно трепетным мерцающим светом, стало юным, вдохновенно-светлым — Мастеру Келебримбору просто не хватило бы слов, чтобы рассказать об этом нежданном и чудесном превращении, он умолк, глядя изумленно.
Брат… Свет и Тьма — ладонь-к-ладони, как должно быть от начала мира… и окончится одиночество, окончится безнадежная и бессмысленная война эта — брат мой… Те воины Аст Ахэ, которые хотели дать клятву кровного братства, рассекали ладонь левой руки, и соединялись руки в рукопожатии — ладонь-к-ладони, рана к ране, и смешивалась кровь.
Но он же не знает — он не понимает, что произойдет, не знает, кто я! А объяснить — не отшатнется ли в ужасе от порождения Тьмы?
А если не говорить сразу… потом, постепенно, исподволь… Нет. Нельзя начинать с полуправды. Может быть, потом, когда сумею рассказать тебе — когда ты поймешь… брат.
— Нет, — тихо сказал Аннатар. — Нет… прости, Тиелперинкар… Довольно и без того было крови пролито. Если слово не свяжет, не свяжет и кровь. Не нужно обряда. Не нужно. Не думай, это не потому, что я… Больше всего, поверь мне, я хотел бы видеть тебя моим побратимом, — горячо проговорил, глядя в глаза эльфу. — Но прошу тебя — пусть будет просто слово. Без клятвы крови. Я не могу… не должен сейчас рассказывать тебе, почему. Не спрашивай. Все равно — с этого мига ты — брат мой, и… и никогда я не подниму меча против тебя.
— Да будет так, — очень серьезно ответил Нолдо. И прибавил твердо, — брат.
* * *
…Единственно о чем странник рассказывал довольно охотно, так это о своей жизни среди Смертных, о тех землях и народах, которые видел в бесконечных своих странствиях.
— Я знаю это, но — они, Атани? Они что, запоминают все? Записывают? Ты говорил, что жил среди них — значит, знаешь, Аннатар?
Келебримбор уже давно начал называть его этим именем — «Дары Приносящий»; слишком тяжело было выговорить — этлендо, да и просто мастером называть — странно как-то… Наверно, он из Нолдор Валинора: все они считают себя Изгнанниками, Этъанголди. Сам-то Келебримбор родился уже здесь, в Белерианде.
Аннатар улыбнулся странной своей ускользающей улыбкой:
— Нет, они просто учатся видеть и слышать, каждый по-своему. Они все разные, Тиелперинкар, и каждый идет своей дорогой. Мой Учитель говорил: «К каждой цели ведут тысячи тысяч дорог, хотя Путь и один. Если ты идешь за кем-то по лесной тропе, ступая след в след, — не увидишь ничего, кроме его следов. Но подними голову, оглядись — тропа останется той же, и все же будет иной, твоей, потому что ты идешь по ней сам, видишь все своими глазами, замечаешь что-то свое, чего мог и не заметить прошедший здесь прежде тебя. Путь у вас один, а дороги — уже разные»…
— Хорошо… — Келебримбор улыбнулся, и Аннатар поймал себя на том, что ему хочется улыбнуться в ответ — так это выходило у него светло и по-детски доверчиво.
— А кто он — твой учитель? — спросил Эльф.
И — тут же пожалел об этих словах. Ответная улыбка погасла, не родившись, сменилась еле уловимой гримасой боли, потом лицо Аннатара застыло, словно он хотел закрыть свою душу от Мастера.
…все гуще осока в заводи, все выше травы разлуки…* * *
Eму часто казалось — он собирает ранящие осколки чего-то невероятного, раняще-прекрасного — того, что не вернется никогда. Он вспоминал с болезненной тщательностью каждое слово Учителя, обрывки случайно услышанных разговоров, пытаясь найти в них… что? — он не знал.
— По сути, учитель не должен ничему учить. Что тебя так удивляет? Ты должен просто позволить ученику быть самим собой, и, быть может, он тебя самого удивит своими творениями. Хочешь, чтобы он научился чему-то — просто покажи ему, что это возможно; пусть ищет свой путь сам. Пусть будет свободен в выборе пути. И никогда не считай себя выше своего ученика. Ты просто знаешь и помнишь больше — в остальном вы равны…
— …Не получается, — Келебримбор стиснул зубы и резко швырнул уже почти готовую брошь в угол. — Прекраснейшей в Эндорэ хотел поднести в дар — и…
— Ты доверяешь мне больше, чем я думал, — никогда еще голос странника не звучал так мягко и так печально.
Келебримбор стремительно обернулся:
— А как сделал бы ты?
— Я… — Аннатар задумался, словно вспоминая что-то; заговорил медленно, — я слушал бы металл, как ее голос; в песне ее видел бы — образ и замысел…
Келебримбор затаил дыхание; он уже не слышал слов Аннатара — слова сплелись в облик, в песню, и песня, непонятные слова, горчащие на губах, стали ожерельем из зеленовато-серебристых стеблей, и капли росы усыпали его…
— Ты создал это?..
— Да… давно. Твой замысел слишком дорог тебе, потому неудача страшит. Поверь себе. Слушай свое сердце…
…Серебряная брошь — орел с широко распахнутыми крыльями; на груди мерцает золотисто-зеленый берилл. Когда берешь брошь в руки, металл кажется живым, и волны ласкового тепла расходятся по всему телу.
— Это прекрасно, — почти шепотом проговорил Аннатар.
— Я тебя должен благодарить, — в улыбке Келебримбора скользнула тень смущения, — тано.
Аннатар отвернулся.
* * *
— Выслушай слово мое, браннон Келебримбор.
Келебримбор удивленно приподнял бровь:
— Я всегда рад говорить с тобой, идрэн.
— Браннон, — эльф подчеркнул это обращение, — уже давно живет в доме твоем тот, кого называешь ты — Дары Приносящим; но ни ты, никто иной не знает, кто он и откуда пришел.
— Что с того? — пожал плечами Келебримбор. — Он — Мастер…
— Пусть так. Но разве не замечал ты, что он — другой? Да, знания его велики. И они… чужие, браннон.
— Он много странствовал…
— И потому мысли его непохожи на мысли Элдар? Вспомни — родичи твои отвергли его дары, не приняли и его самого, ты же — привечаешь, как друга и брата, забыв о…
— О чем? — сдвинул брови Келебримбор.
Эльф опустил глаза и долго молчал; решившись, вскинул взгляд:
— Об осторожности, правитель. Слишком близок стал твоему сердцу Аннатар, и многим не по нраву это.
Келебримбор резко поднялся; теперь они стояли лицом к лицу.
— Долг правителя — печься о благе народа своего. Ты же, браннон, подобен Финарато, следовавшему более велению сердца, нежели правде короля!
Келебримбор стиснул кулаки:
— Мой народ не видел от Аннатара ничего, кроме добра!
— Почему же тогда он скрывает свое имя? Или оно запятнано бесчестьем и кровью? Облик его благороден, и речи мудры, и бездны премудрости открывает он Гвайт-и-Мирдайн — но вспомни, не приходил ли прежде к Народу Финве подобный ему? Разве не был столь же мудр и прекрасен Проклятый? И…
— Я слышал твои слова! — с холодной яростью оборвал его Келебримбор. — Слушай же, что скажу я тебе на это: верно, я принял Аннатара, я дал ему кров, он стал братом нашим…
— И ты хотел, чтобы он стал твоим побратимом, а он отверг клятву крови — ты же не спросил даже, в чем причина тому!..
— Это — между ним и мной! — прорычал Келебримбор; с трудом взял себя в руки, — Слово сказано, я же — хозяин слову своему: Эрегион будет домом ему, и ни одна дверь не будет закрыта перед ним, покуда желает он оставаться с нами! Слышал ли ты?
— Да, браннон Келебримбор.
На пороге эльф обернулся и проговорил вполголоса:
— Я молю Великих о том, чтобы не пришел черный час, когда ты вспомнишь мое предостережение.
Он закрыл дверь; постоял немного, потом почти беззвучно прошептал, словно слова эти страшили его самого:
— И еще я скажу тебе: я видел начало мира. Я видел Врага. И Аннатар воистину подобен ему.
* * *
… — Мне кажется иногда — весь мир ждет нас, а мы забываем о своем предназначении, замыкаясь в себе. Мы должны стать чем-то большим… более совершенным, может быть. Ты понимаешь меня, Аннатар?
— Да, — Аннатар поднялся, прошелся по мастерской, в раздумьи потирая висок.
— Я не знаю, как совершить это. Нужно что-то… инструмент, орудие… что-то, что поможет, придаст сил, — задумчиво продолжал Келебримбор.
— Орудие, которое поможет лучше слышать мир… тех, кто в мире… и будет с тобой всегда, — Аннатар остановился внезапно. — Кольцо?..
* * *
Основой того, что будет — во исполнение замысла — дар Силы каждому из шести:
Дерева — изумруду, Металла — гелиодору, Камня же — горному хрусталю.
Дерева — хризолиту, Металла — огненному опалу, голубому топазу — Камня.
Каждому из Начал — то, что изменяет его:
Дереву — Вода, Металлу — Огонь, Камню — Ветер.
Средоточием их — Седьмое — Земля…
Мы познавали и учились, творя Семь — и это было радостью для нас обоих. Мы вложили в них то, что знали сами. И они были прекрасны, они были — живыми, теплыми, искристыми; и, уже понимая, что создали не совсем то, что хотели изначально, мы не могли не радоваться, глядя на общее наше творение: Семь Колец.
Дерево: чистый кристалл изумруда — бутоном невиданного цветка, венчик и листья из зеленоватого серебра, и ласковый «вечерний изумруд» — хризолит в светлом золоте.
Металл: огненный опал и солнечный гелиодор в золоте — червонном, огненном.
Камень: прозрачные капли голубого топаза и чистейшего горного хрусталя в светлом серебре.
И — венцом Семи — медовый, густо-золотой берилл в ясном золоте оправы.
Но, окончив работу, поняли: Семь бесполезны для нас. Они могли бы пригодиться нашем ученикам в начале пути, если бы…
Если бы у меня могли быть ученики…
* * *
— Мы вложили в них то, что знали, кармо; но нужно другое. Кольца, которые будут сильнее нас, которые сделают нас большим, чем мы есть.
— И ты знаешь, как сотворить такое, Аннатар?
— Пока нет. Нужно искать.
* * *
Мы искали и спорили, рисовали — и рвали рисунки, мечтали, творили, забывая обо всем, теряя счет дням в горьком счастье поиска и непокоя…
Мы нашли: каждый — свое. Тиелперинкар хотел продолжить замысел Семи и вложить в свои кольца силу Начал — тех, что элдар почитают основой мира: Воды, Воздуха и Огня. Я же, возвращаясь к первоначальному замыслу, видел все яснее — нужно что-то иное.
Мастер уже показал мне образ своего замысла: огненный рубин в цветке червоного золота, небесный сапфир, который обнимали крылами два светло-золотых сокола… а я все не мог решиться, не мог поймать ускользающий призрак, тень мысли…
Но одно я знал твердо: Кольца должены быть одновременно-рожденными. Не отъединенность, не одиночеств-в-силе — единство и равенство круга, память и творение, путь…
Как Круг Девяти.
И Колец будет — девять.
* * *
Он плел Песнь Дороги из слов травы и знаков звездного пламени, и металл под его пальцами начинал обретать форму — день за днем, ночь за ночью, год за годом: черное железо, сталь и серебро… Келебримбор поглядывал на Аннатара не без тревоги: тот сильно похудел, осунулся, и только запавшие глаза горели прежним яростно-вдохновенным светом.
Они были почти готовы, все Девять, оставалось совсем немного — и тут я понял, что едва не совершил ошибку. Ошибку, которая стала бы непоправимой. Потому что с частью своей силы в каждое из Девяти я вкладывал часть себя самого — и те, кто надел бы их, со временем обречены были превратиться в мое подобие — в мою тень…
И замысел мой стал мне казаться почти неосуществимым.
* * *
Сильные худые пальцы сминали металл оправ, как мягкую глину: все было зря. Он так ничего и не сумел. Фаэрни уронил голову на руки и замер: навалилась усталость и смертная тоска, от которой хотелось бежать, бежать прочь, не разбирая дороги…
Все зря. Бесполезно. Бесполезно…
И тут ему показалось, что чья-то рука ласково и легко коснулась его плеча. С трудом он поднял словно свинцом налитую голову — в распахнутом окне на черном бархате ночи сияла Звезда.
И, судорожно вздохнув, он заговорил — словно рухнула какая-то преграда — сбивчивым, горячим шепотом, не отводя взгляда от звезды, мерцавшей в такт биению сердца; он говорил и говорил, и мир расплывался в его глазах, тонул в какой-то мерцающей дымке, и казалось уже — напротив за столом сидит он, тот, кого фаэрни уже не надеялся встретить никогда; Ортхэннэр только смутно различал лицо в звездном мерцании, но знал — Учитель смотрит на него с той бесконечной всепрощающей любовью, с тем удивительным, невыразимым словами пониманием, по которым так мучительно тосковал он все эти века — больше он не был один, их было — двое, танно-а-тъирни, и он торопился рассказать, выговориться, зная — и не веря, что все это морок, бред, наваждение, что не может, не может быть этой встречи вне времен и миров — он говорил и говорил, едва не плача от тоски, от щемящей боли обретения и потери, от горького счастья постижения… А когда он умолк, Учитель поднял обожженные ладони, и ярко вспыхнула в них искорка чистого голубоватого пламени — разгорелась — пламя взлетело жгутами, переплетаясь с какими-то тонкими хрустально-светлыми нитями, вбирая их в себя… словно сплетенные пальцы рук — пламя и тьма, и ветер, и песнь — вечно изменчивая, распадающаяся на тысячи голосов, шорохов, шелестов — снова сплетающаяся, сливающаяся в одно — ветер, поющий в сломаном стебле тростника — звон металла — звон струн — танец огня… живая душа билась в его ладонях — смятенная, еще не обретшая себя, лишенная цельности, лишенная имени — суть рождающейся души, рождавшейся для бесконечности пути — и тогда Ортхэннэр понял: именно так это и должно быть…
И жгучее благословенное пламя замысла начало разгораться в душе Ученика — еще мгновение, и он поймет, он увидит, и замысел, его замысел станет — явью…
И тогда Учитель поднял руку и легко, кончиками пальцев коснулся его лба.
…Очнулся фаэрни только наутро.
* * *
Тогда я понял, какими они будут — Девять. Мне показалось даже, что я видел лица тех, кому назначены эти Кольца — но это ушло, забылось, уснуло во мне. Может быть, навсегда. Теперь я знал: это как Сотворение. И поймал себя на том, что, плавя металл, шепчу про себя: вы будете подобны мне — но не такими, как я… не отражением, не тенью — иными… не орудиями, не слугами — учениками…
Это было: словно я — Изначальный, и не металл или камень — еще не пробужденные души Сотворенных в моих руках. Это было: предощущение любви, ожидание, от которого сжимается сердце, предчувствие, щемящая неясная печаль, свобода распахнутых крыльев.
Это было: я — всесилен.
* * *
Келебримбор, изрядно обеспокоенный долгим отсутствием Мастера Аннатара, решился наконец сам подняться в его мастерскую. И едва не столкнулся с ним на пороге.
Мастер был бледен до прозрачности и, показалось, с трудом держался на ногах, но на лице его блуждала растерянно-счастливая улыбка, а глаза мерцали звездным светом. Он ничего не сказал Келебримбору — только открыл обсидиановую шкатулку, окованную черным железом.
На черном бархате — девять колец. Круг Девяти. Время и Вечность. Тьма и Свет. Смерть и Жизнь. Будущее и Прошлое…
…подобные мне — иные, чем я… ученики…
Все так же беззащитно и счастливо улыбаясь, Мастер начал медленно оседать на пол.
* * *
…Это был запретный разговор; начав его, Келебримбор нарушал обещание, данное когда-то Аннатару. Но он надеялся, что странник простит ему, и, может быть, теперь, после стольких лет, проведенных с Мирдайн, раскроет, наконец, свою тайну.
— Послушай, Аннатар — кто ты?
Странник вздрогнул. Менее всего ему хотелось отвечать на этот вопрос; он заговорил не сразу:
— Я уже сказал тебе: я — этлендо. Мой Учитель… — Аннатар оборвал фразу; потом продолжил жестко, отрывисто: — Это было давно.
— Война? — полувопросительно-полуутвердительно. Аннатар кивнул. Келебримбор не стал расспрашивать.
— Я помню все, чему он учил, но не все понимаю даже теперь. Потом я слушал… Много слушал: этому он успел меня научить. Ночь и звезды, лес, землю и травы, камни, металл… И — Людей.
Эльф поднял брови в удивлении, но сдержался и вопроса не задал. Аннатар смотрел мимо него — на пламя свечи.
— Учитель смог бы воплотить замысел — один. Я — нет.
— И поэтому ты пришел к нам?
Странник снова кивнул.
— Но ты не ответил мне. Кто ты?
— Аннатар. Ведь ты сам назвал меня так.
— Дары Приносящий… Да, твои знания — великий дар. Но ты сам, ты — элда?
— Я просто должен передать другим то, что знаю сам, чтобы знания мои не ушли вместе со мной.
— Когда ты отправишься за Море?
Аннатар не ответил.
— Но почему именно ко мне ты пришел? Есть владыки Элдар сильнее и могущественней…
— Среди них только один мастер. Ты.
Келебримбор долго молчал.
— Ты… ты похож на пламя под тонким слоем пепла, артано. Знаешь, иногда мне кажется…
— Что?
— Наверное, я ошибаюсь… и, даже если нет, должно быть, об этом нельзя говорить, но…
Эльф посмотрел куда-то в сторону, потом продолжил — медленно, раздумчиво, взвешивая каждое слово:
— Предания говорят — ему никогда не покинуть чертогов Мандоса. Никогда — до Битвы Битв, до Конца Времен, до часа, когда вернется Великий Враг. Лучший из учителей, слишком рано окончившееся ученичество, война… Клятву крови ты не принял тогда, и сказал странно — никогда не подниму меча… Предания ведь могут и лгать… Ты похож на Нолдо статью и обличьем, но не на тех потомков нашего народа, что ютятся ныне в Эндорэ — на древних героев, Перворожденных…
Неожиданно он взглянул прямо в лицо собеседнику:
— Мне кажется, ты — предок мой, что пришел, дабы помочь Элдар вернуть дни их могущества и величия, и даже Владыка Судеб не смог удержать тебя… Скажи мне, ты… ты — Феанаро? Это — ты?
— Нет! — почти выкрикнул Аннатар, и Келебримбор невольно отпрянул — так ярко, ледяным огнем вспыхнули вдруг глаза странника. Тот стремительно поднялся, шагнул к окну.
— Нет, — не оборачиваясь. — Зачем ты пытаешься угадать… Я — только то, что я есть. Ранэн. Марта. Этлендо.
— Пусть будет так, Аннатар. Но ты… я ошибался: ты — не угли под пеплом, ты — айканаро!..
* * *
…Кольцо Огня, Наръя, было первым. Яростно-алый рубин в червонном золоте — как капля крови на чешуе дракона, золотой цветок с каплей огненной росы в чаше узких лепестков.
Странное оно вышло, тревожащее, непокойное и непредсказуемое. Похожее на Аннатара — артано айканаро. Или — на самого потомка Огненного Духа Нолдор.
И Келебримбор вновь плавил металл и подбирал камень…
* * *
Он вошел стремительно, распахнув дверь — словно ветер ворвался — и остановился посреди мастерской: руки сжаты в кулаки, сдвинуты брови в мучительном раздумье — или в гневе, не понять.
— Что с тобой, брат?
— Я слышу их, — очень ровно.
— Кого?..
— Всех. Всех, кто решился надеть Кольца.
— Это осанвэ-кэнта, брат мой…
— Нет. Другое.
— Послушай, но разве это так плохо — понимать своих братьев?
Эльф разжал руку.
…Про себя Келебримбор назвал это — Кольцом Тумана; по тонкому серебряному ободку бежал странный зыбкий узор, изменчивый, переливающийся — то ли есть, то ли нет его, просто тени скользят по светлому серебру. И камень — Аннатар сказал, камень Луны. Словно просвечивающий жемчуг, а в глубине плывут голубоватые, синие, золотые тени, вспыхивают иссиня-белые искры…
А на ладони эльфа — следы впившихся в кожу ногтей.
— Забери. Отдай ему. Не нужны мне его творения.
Келебримбор облизнул пересохшие губы:
— Почему же ты принял?..
Глаза эльфа вспыхнули странным огнем:
— Знания. Нет для Нолдор ничего желаннее новых знаний. Я тоже хотел знать. Пока не понял… Но даже сейчас, — он говорил все быстрее, словно пала какая-то внутренняя преграда, — даже сейчас я готов идти за ним куда угодно ради того, чтобы узнать больше. Даже если этот путь приведет к гибели! Это искушение, которому никто из нас не в силах противостоять. Лучше тебе не знать никогда, что оно открывает… лучше не знать…
Его голос упал до шепота, но в нем звучало вдохновение почти безумное:
— И станет эта земля прекраснее Валинора — так он сказал… а мы… мы станем — выше Валар, и…
Келебримбор поднялся:
— Что ты говоришь, Сулион?!
Эльф замер, так и не окончив фразы; пламя в его глазах снова угасло, лицо посерело. Совсем другим голосом, чужим и тусклым:
— Те, кто принял Кольца… Их мысли, чувства… все переплетается, как нити, а я — в сплетении их, как… как паук в паутине. Только мне кажется — не я сердце этой паутины. Ведь не я ее сплел.
— Кто тогда? — спросил Келебримбор — и смешался, поняв, что вопрос бессмысленен.
— Аннатар.
Келебримбор не нашелся с ответом.
— Возьми это. Пока я — еще я. Пока я могу его отдать.
Больше он не сказал ничего. Но, взяв из ладони Эльфа железный перстень, Келебримбор успел еще заметить, как дрогнула рука Сулиона, как застыло его лицо — словно он изо всех сил стискивал зубы.
* * *
…Кольцо Огня, Наръа, было первым.
Вторым было — Вилъя, Кольцо Воздуха: небо, отраженное в глубоком озере, и светлое золото весенних цветов, ясная голубизна и теплый блик на птичьем крыле — два солнечных сокола, обнимающие крылами зеркало неба…
«Кольца, которые помогут нам стать большим, чем мы есть…»
Возможно ли — стать большим?..
* * *
— Кэредир Келебримбор…
Один из девяти, решивший испытать силу творений Аннатара.
Еще один. Смотрит почему-то в сторону, и взгляд у него — неспокойный, бегающий.
— Да, гвадор Эленнил? Что тебя тревожит?
Эльф поднял левую руку; против воли Келебримбор снова залюбовался творением Аннатара — темный хрусталь в тонкой серебряной оправе: в этот камень можно вглядываться долго, бесконечно, как в бездонные глубины ночного озера… и травы на берегах — узкие клинки трав, подернувшиеся звездным инеем…
— Это кольцо…
— Это кольцо… — эхом откликнулся мастер.
Эленнил стиснул похудевшие руки:
— Я не знаю, что оно творит со мной. Я становлюсь другим, гвадор. Мир вокруг меня стал шепчущей песней, я иду среди теней, путаюсь в паутине чужих мыслей… не могу найти слов. А с ним мне страшно. Он еще не успевает сказать — я понимаю. Если он позовет — где бы он ни был — я приду. Пойду за ним. Гвадор… я хочу этого и — боюсь. Оно говорит — я могу все. Я могу стать травой, или птицей, или зверем, или камнем. Могу слышать несказанные слова. Я вижу мысли. В моих видениях — невероятные замыслы, дерзкие, кощунственные, и я знаю, что смогу воплотить их. Все. Как Феанаро. Я начинаю понимать те слова, которые говорил… Аннатар, когда создавал — это. Я ведь слышал их… И мне страшно заглянуть в ту бездну, которой они рождены. И знаю, что могу это увидеть.
Келебримбор поднялся, прошелся по комнате; остановился, хотел было что-то сказать, но передумал.
— Гвадор. Я прошу тебя, я умоляю тебя — забери это. Забери, пока оно еще не стало частью меня, пока я еще могу обойтись без него. Потому что… потому что если я не расстанусь с ним сейчас — не знаю, чем, кем я стану. Может, таким, как Аннатар. Может, таким, как Рожденный Тьмой. Вот…
Поднял глаза, умоляя горячечным взглядом, сорвал с пальца кольцо и протянул его Келебримбору:
— Возьми его! И… прошу, сделай так, чтобы больше я никогда не видел его, я хочу остаться собой, не нужны мне его знания, не нужно слышать и видеть по-другому, нельзя — я хочу остаться самим собой… и слишком хочу знать.
* * *
Обсидиановая шкатулка, окованная черным железом. На черном бархате — девять колец. Круг Девяти. Но — для кого… Эллери они не были бы нужны, эльфы не смогли их принять — а воинов Аст Ахэ больше нет.
Замысел оказался бесполезным.
Время и Вечность, Тьма и Свет, Смерть и Жизнь, Будущее и Прошлое, Разум и Вдолхновение, Танец и Песнь, Возрождение и Исцеление, Путь, Прозрение — Память и Надежда…
Для кого?
Я не вижу ответа.
* * *
— Ты принял меня, Тиелперинкар; я благодарен тебе. Ты принял меня, как брата — я благодарен тебе стократ. Ты никогда не скрывал от меня своих мыслей, и теперь я прошу тебя ответить мне правду.
— Спрашивай, Аннатар.
— Что говорит твой народ о замысле нашем?
Келебримбор опустил глаза:
— Говорят — твои творения дают иной взгляд и тем смущают души…
Аннатар помолчал.
— Благодарю тебя. Я понимаю. Я пришел проститься.
— Артано! — Келебримбор порывисто схватил его за руки.
— Черной неблагодарностью было бы сеять зерна сомнений и раздора в сердцах Гвайт-и-Мирдайн после того, как вы сделали мне столько добра. Мне лучше будет уйти.
— Ты — мой гость, — порывисто воскликнул Келебримбор, — ты — побратим мой! Никто в этой земле не смеет…
— Я ухожу по своей воле. Я же говорил тебе, — невесело усмехнулся Аннатар, — я — этлендо… всегда. И тебе не в чем винить себя. Но мне тяжело уходить, т'орон. Я… я никогда не забуду тебя, ни того, что ты сделал для меня. Если бы ты знал…
Он умолк, так и не окончив фразы.
— Я тоже не забуду. Ничего, — твердо откликнулся Келебримбор. — Клянусь тебе.
— Что ж… прощай, брат. Твой дом был моим домом; благодарю тебя.
Аннатар отвернулся и шагнул к дверям.
— Прощай, брат. Быть может, в странствиях своих ты найдешь достойных…
* * *
…Вторым было — Вилъя, Кольцо Воздуха…
Третье — Нэнъя, Кольцо Воды. Хрустальная чистота родника, подернувшиеся инеем травы на берегах лесного ручья, тонкие стебли в ледяной росе — холодное и прекрасное, как светлые глаза Нэрвен, Артанис Алатариэль, прекраснейшей девы среди Нолдор, — той, которой он и предназначил это Кольцо. Легкое чеканное кружево митрила и чистый ясный алмаз с еле уловимой голубизной…
Возможно ли стать большим? — тот, кто наденет одно из этих Колец, сольется с одной из Трех Стихий, творящих мир…
Или — все-таки возможно?
* * *
«Это будет — мой Тирион-на-Туне…»
Да, именно тогда это и случилось. Тогда, окончив творение Кольца Воды, вложив ледяной кристалл алмаза в оправу, Мастер увидел вдруг, что все это было — лишь вехами на пути, попыткой создать то, что объединит все силы Арды. Ему стало боязно, неуютно — и в то же время пламенем охватил его душу восторг, радость нового, невиданного замысла, еще неясного — и все же великого… Кощунственно? Но не то же разве говорили о творении Феанаро? И даже Нэнъя, прекраснейшее из Трех, показалось ему всего лишь черновым наброском, тенью той совершенной красоты и простоты, которая предстала его мысленному взору. И не металл нужен будет для этой работы, нет: нужно иное, совсем иное…
«Это и будет — мой Тирион-на-Туне…»
Ночь. День. И снова ночь.
Что это — ночь? Он не помнит. Забыл. Есть только лучи, тончайшие невесомые нити света звезд, солнца, луны… Что — он не знает, хотя окно башни распахнуто.
Ночь. День. И снова ночь.
Ночи без сна; пусть даже ему — кровь Старших Детей Единого, — почти не нужен сон. Что это — сон? Он не помнит. Забыл.
Только невесомое сплетение лучей, смыкающихся в — кольцо. Единое Кольцо… святотатство… Но мастер не думает об этом. Мальчишеская радость — он смеет творить то, чего никто и никогда не мог — и не сможет — создать: Кольцо Света. Не камень, не металл — свет, невесомые нити. Аннатар мэллон, почему тебя нет рядом? Ты бы увидел: вот он, наш замысел! Свет Дня, свет Ночи — в Едином Кольце…
Ночь. День. И снова…
Сколько раз день сменялся ночью, сколько времени прошло…
Время? Что это — Время? Ах, да… Оно сможет все. Ты станешь им, и оно — тобой, и тогда…
Неуловимые переливы света, невесомое, как радуга, дрожащая в каплях воды над водопадом — замкнется кольцо Времен, вернется век величия и славы Элдар — разве ты не об этом говорил, артано айканаро?.. И станет Эндорэ прекраснее, чем сказочный Аман. Прекраснее…
Работа почти завершена. И тончайший узор — ледяные цветы — ложится на поверхность кольца: оно будет прекрасно, прекраснее, быть может, чем даже те Три Камня… Кольцо Света — прекраснее, чем Свет.
Четырехлучевой камень — кристалл адаманта удивительной чистоты, небывалой огранки, — займет свое место в кольце. На темно-синей ткани — как звезда на бархате ночного неба…
Он улыбается: это был великий труд — так огранить алмаз, не расколов его. Трудно было найти камень, который согласился бы принять такую форму. Но теперь осталось лишь вложить его в углубление среди сплетения морозных узоров, и…
Он берет кольцо в руку — легкое, невесомое, не холодное — не теплое, вне бытия здесь-и-сейчас.
…и падает на каменные плиты, в пыль рассыпаясь, камень. В кольце — словно окно в непроглядную тьму Ночи-За-Гранью.
Работа завершена.
Впервые он оглядывается по сторонам, отчего-то не решаясь сразу надеть кольцо.
Что — там, за окном? Это… да, день… низкие облака, сквозь которые рвутся отвесные лучи солнца. И горячий душный ветер гонит черные хлопья… пожар?.. Он стряхивает оцепенение, вспоминая: да, было — гонцы стучались в двери… но ведь он же — работал… Надо узнать все же, что — там. Крепко сжав в ладони кольцо, он подхватывает меч и, распахнув дверь — бегом, через три ступеньки, — как же мешает клинок, но нет времени надеть пояс, — летит вниз, останавливаясь только на мгновение — разжимает ладонь, чтобы еще раз — увидеть, словно все еще не веря, что действительно сумел сделать это — да нет, вот же оно, это не сон! — смеется, как ребенок, бежит к дверям, распахивает тяжелые створки…
* * *
…Широкая лестница — белый камень, пронизанный тонкими золотыми нитями. Светлый — льняная рубаха, простая туника, — легкий, словно из солнечных лучей и бликов — вверху, у дверей. Черный — из ночной тьмы сотканы одежды и крылатый плащ, — на нижней ступени.
— Ты?..
На лице Мастера, невероятно светлом и юном сейчас — только радость, такая огромная, что кажется — вместе с ним должен радоваться весь мир.
— Аннатар, я сделал его, сделал сам, понимаешь? Смотри!
Он сбегает — как мальчишка, сияющий, — на несколько ступеней вниз: меч нелепо зажат под мышкой, ему приходятся все время поправлять норовящие выскользнуть из-под локтя тяжелые ножны.
И тот, в черном, стоящий внизу, делает шаг вперед.
— Смотри — вот оно!
Он переводит взгляд на того, кого называл — Аннатаром: как странно изменилось лицо странника, черты стали резче, острее, глаза запали, в волосах теперь уже заметная седина… И эта перемена возвращает Келебримбору чувство реальности; он беспомощно оглядывается, прислушивается:
— Что происходит? Ты не знаешь? Я, — на его лице возникает растерянная улыбка, — я долго работал… Мне говорили — какие-то послания… Но это все неважно: главное — вот! Смотри…
Он поднимает левую руку, все еще придерживая локтем меч, собираясь надеть кольцо.
— Ава карэ! — резко бросает странник. — Не делай этого, остановись!
— Почему? Я хочу, чтобы ты…
— Не надо… т'орон, нет!..
— …увидел, как это будет, ты — первый…
— Энгъе!!.
Один шаг, последний, и стремительный удар — всего один.
…ты — брат мой, и никогда я не подниму меча против тебя…
…и медленно из разжимающихся пальцев — Мастер не успел почувствовать боли, не успел даже понять, что это — смерть, — падает на белые ступени почти без звона — кольцо, и катится вниз, подпрыгивая…
В следующий миг боль обрушивается на него — темнеет в глазах, он хватает пересохшим ртом воздух — что же я сделал, что сделал… Взглядом, полным ужаса, смотрит на свои руки. Я не хотел… брат мой, я не хотел…
Руки, помнящие, что значит — творить. И что значит — убивать. Одним ударом, опережающим мысль.
В голове — сумятица, мысли сплетаются в клубок.
…Высшая власть — все-властье. Вот, у ног. И все будет покорно воле того, кто — наденет Кольцо: ты-станешь-им-оно-станет-тобой. Невесомый ободок из тончайших волокон света. Надень. Скажи Слово. И время замкнется в кольцо, ты станешь им, оно станет тобой…
…что же ты сделал — брат мой…
…для тебя не будет ни законов, ни преград. Хочешь — вернешь Ушедшего. Хочешь ведь?
А потом — посмотри ему в глаза.
Хочешь — увидишь его глаза.
Хочешь — расплата настигнет Валар, и воздастся каждому — по делам его, и превыше всех тронов будет — его. Или — твой.
И ты посмотришь ему в глаза…
…и рванется бешеной спиралью время и пространство, и не станет ничего — ты и он, и этот взгляд. И тогда…
«Приветствую тебя… Единый. Ты — доволен?»
…ты сможешь переделать мир по своему образу и подобию.
Сможешь стать всесильным, великим Судией, Владыкой Судеб…
Но уже никогда — человеком.
И твое сердце умрет.
Ведь ты начнешь с того, что станешь вершить справедливость, покараешь подлецов и трусов, сметешь их с лика Арты, чтобы ни следа их не осталось, ни имен — так-уже-было…
…и боль твоя обратится в ненависть, и никому не будет пощады — они заплатят за все…
Но ведь можно и по-другому! Можно — вернуть время вспять, к тем векам, когда юный мир не знал ни войн, ни горя…
И — что ты сделаешь? Убьешь своего брата? — ты-то ведь не сможешь забыть, не станешь снова прежним восторженным фаэрни, ты будешь знать и помнить все, будешь направлять руку Учителя, предотвращать ошибки и беды…
Пока не решишь — неизбежно — что ты — выше его. Ты будешь непогрешим. Мудрый, всевидящий, всеведущий — Единый.
А, совершив ошибку — если ты еще будешь способен совершать ошибки — ты снова повернешь Время вспять. Ты будешь писать заново историю мира, ты один — непогрешимый, бессмертный, всесильный…
Никто не сможет помешать тебе. Будут — фигуры на шахматной доске. К чему скорбеть или радоваться? — начни все вновь, сделай другой ход…
Кто сказал, что нельзя изменить ни слова в Книге Памяти?…
А прискучит игра — смахни фигуры с доски.
Ведь только ты один не будешь совершать ошибок.
Единый.
— Нет… — одними губами.
«Не уничтожить. Никому — никогда — не надеть. Не будет единого владыки Арты. Не будет…»
Такое юное, светлое — смерть не стерла улыбки — лицо Келебримбора…
Он отвернулся и, сутулясь, шагнул прочь, сжимая в руке прекрасное и бесполезное кольцо.
Ледяное сердце
(2149–2213 годы II Эпохи)
Сколько лет ему было тогда? Теперь уже трудно сказать, да и не важно это. Может, шесть, а может, семь… Он мало что мог потом вспомнить из той жизни. Глаза матери, руки отца… Все стерлось в памяти, размылось, исчезло.
* * *
…Его не постигла участь родителей. Почему государь Таp-Киръатан вдруг заинтересовался судьбой мальчика, не понимал никто; впрочем, не нашлось и тех, кто осмелился бы задать государю этот вопрос. Стало так — тот, чье желание было волей Валар для нуменорцев, изрек: «Дурная трава может еще дать благие всходы. Я принимаю это дитя под руку свою.»
… Длинная лестница, вьющаяся по склону горы, вела к вершине, открытой всем ветрам. Ветрам Манве. Где-то — казалось, бесконечно далеко — было море, ласковое и теплое, был Арменелос, Поднебесный Град, прекраснейший в мире, были белые дома и дворцы, тонувшие в зелени садов, был ветер, несший запах соли и водорослей, трав и цветов… Все это осталось — там, внизу. А здесь, на вершине, был только накаленный солнцем шероховатый камень под босыми ногами и невероятно глубокая и чистая эмалевая лазурь неба над головой.
Те, что сопровождали его, куда-то исчезли, и он остался один на один с этой холодной бескрайней лазурью, робко и недоуменно оглядываясь по сторонам. Потом, запрокинув голову, начал смотреть вверх, где медленно и величаво кружили Свидетели Манве. Он устал, он был напуган и растерян. Где мама? Отец? Зачем его привели сюда, почему оставили здесь одного?
Отец…
Он тихонько всхлипнул и прошептал куда-то вверх, в сияющую голубизну:
— Отец?..
Потом стал свет. Яркий, ярче самого солнца, он лился отовсюду, он казался живым, проникал в самую душу, вытесняя все, что было прежде. Ты избран, говорил этот свет, отныне ты — орудие Мое, меч в руке Моей, вершитель воли Моей.
Сияние переполняло его, и в сиянии этом слышался ему Голос, говоривший: Ты — избранник Мой. И не стало в мире ничего прекраснее и чище, не стало ничего выше — этого предназначения, и не стало более ни горя, ни сомнений, ни страха, ни любви, ни сострадания. Было высшее, совершенное счастье — быть одним с этой Силой, внимать этому Голосу, исполнять веление Его.
* * *
После он уже, наверное, не смог бы рассказать о том, что происходило с ним на вершине горы. Но сила, которой был Свет, осталась в нем, и сила эта со временем обратила его в подобие совершенного в своей чистоте кристалла льда.
У него не было детства. Не было юности. Сверстники сторонились его — ему не было до этого дела. Сам Тар-Киръатан занимался его образованием, подбирая в наставники лучших из лучших, словно бы этот, до поры никому не известный, мальчишка был принцем крови. Приемные родители относились к мальчику с плохо скрытой робостью; в другое время, возможно, это и показалось бы смешным — один из лучших военачальников Нуменорэ, и боится ребенка! — но слишком у многих приемыш вызывал сходные чувства; да и наставники его, вслух превозносившие успехи государева крестника, втайне побаивались его. Он знал об этом. Ему не было до этого дела, как не было дела и до того, что занимало его сверстников. Так должно быть. Ведь он избран для великого Служения.
Немного было равных ему в силе и ловкости, в искусстве владения оружием и в знаниях. Так должно быть. Разум его был холоден и чист, как отточенная сталь. Он был — лучшим. Им восхищались, ему завидовали, его ненавидели, перед ним преклонялись — но не любили. Никто. Никогда.
Впрочем, ему это и не было нужно. Он просто шел к своей цели. К своей?.. — нет, его вела иная Воля, ставшая отныне — его волей. Все, что противостоит этой Воле, все, что смеет противиться предопределению, должно исчезнуть. Перестать быть. Он никогда не был жесток, в нем не было ненависти к противникам — ибо нет врагов у меча, а лишь у руки, что держит меч. И тем больше был страх перед ним: не было у него слабостей, он не был подвластен страстям и человеческим чувствам.
Он просто не был человеком.
Вместе с чувствами, с памятью прошлого там, на вершине Менелтармы ушло, кануло в небытие и прежнее имя его. Ныне оно было похоже на сухой треск ломающегося льда — Хэлкаp. Великий воитель Нуменорэ, меч Единого.
Ледяное сердце.
Сам государь, вначале с любопытством и удовлетворением следивший за успехами юноши, теперь страшился его. Если бы Хэлкар пожелал того, ничто не смогло бы преградить ему путь к престолу — Тар-Киръатан слишком хорошо понимал это, понимал, что уже сейчас ничто не сможет противостоять силе Хэлкара. Но не в этом видел юноша свое предназначение. Хэлкар был — выше, ибо власть короля — от Манве, его же сила была — от Единого. Осознав это, государь успокоился. Правду сказать, избранник был неприятен ему; для Хэлкара люди были — фигурами, расставленными Единым на шахматной доске: король ничем не лучше пешки. И самому Тар-Киръатану не по себе становилось под спокойным взглядом ледяных глаз Хэлкара. Юноша не испытывал к государю ни благоговения, к которому король привык, ни благодарности, на которую, как полагал Киръатан, он был вправе рассчитывать: почтительность, продиктованная этикетом, не более. Король был безразличен Хэлкару, как безразличны были власть, почести и богатство, как безразлично было внимание прекраснейших и знатнейших женщин Нуменорэ, любая из которых была бы счастлива разделить с ним ложе, скажи он только слово. Иногда так и случалось — сколь бы ни был холоден и чист его дух, тело все же оставалось человеческим. Но ко всем попыткам этих дам занять хоть какое-то место в его сердце он относился с насмешливым равнодушием. Женщины временами нужны мужчине, как нужны пища, вода или сон. Не более.
* * *
Это не было презрением, не было и высокомерием. Он был просто — иным. Избранным. Единственным истинным вершителем воли Эру. Удача была ему во всем, за что бы он ни брался, что бы ни начинал, но это не вызывало в нем радости. Просто — так должно быть, ибо на нем — печать Единого. Что еще нужно смертному, чего еще может он желать? Что в сравнении с этим сокровища народов и престолы королей, что стоят они для того, кто избран самим Творцом, кто призван стать оружием в деснице Его? Ни смертный, ни бессмертный — никто не стоял между ним и Царем Царей. Даже Король Мира Манве не мог бы сравниться с тем, кому предначертано быть вершителем воли Единого Всеотца в Эндорэ — что ему земные владыки…
Он закалял свое тело, оттачивал разум — так закаляют и оттачивают драгоценный клинок из лучшей стали. В его душе не было нетерпения. Он знал — придет час, когда он станет вершить волю Единого в Эндорэ. Он исполнит то, для чего предназначен.
И час этот настал.
* * *
…Солдаты боготворили его. Они знали и верили — если их ведет Хэлкаp, значит, будет победа. Он был талисманом для них. И ему были странны своей жалкой беспомощностью попытки Низших сопротивляться. Он был непобедим, ибо он был — Меч Эру.
Смерть, котоpая для низших звалась Хэлкаp, не была жестокой. Непокорный обречен смерти, ибо непокоpность есть безумие. Безумие — мучение. Смерть — избавление от мук. Мужчина или женщина, ребенок или старик — безумец должен умеpеть. Миp создан Единым для pазумных.
Все же он был еще человеком. Мужчиной. Потому по его пpиказу ему иногда пpиводили женщин — молодых, кpасивых и высокоpодных. Не знавших дpугих мужчин. Да и кто бы осмелился предложить Хэлкаpу объедки? Он бpезгливо относился к южанкам, для него они были чуть лучше животных — но дpугих здесь не было. Эти женщины должны были быть благодарны ему за то, что им дарили еще один день жизни. Как и за то, что ни одна из них не доставалась потом солдатам. Он сказал однажды: «После меня их коснется только сталь».
* * *
…Название гоpода он не очень уяснил. Похоже на Таp, но что за дело? Два дня уже стояли они в сдавшемся после осады гоpоде. За покоpность гоpод не pазpушили и не выpезали жителей. Но — гоpе побежденным. Взяли огpомную дань золотом и pабами, всех, кого застали с оpужием, пеpебили. Были совеpшены жеpтвоприношения Тулкасу Непобедимому. Оставшиеся в живых пpятались по углам, а нуменоpцы пиpовали, пpазднуя победу. Войскам дали неделю отдыха, готовясь к дальнейшему походу.
Вечеpом ему доставили женщину. Он не сpазу понял, хоpоша она или нет из-за шиpокой повязки, закpывавшей ей pот. Одни глаза, полные животного ужаса, отчаяния и мольбы. Ему было смешно видеть ее стpах, когда он вынул кинжал. чтобы pазpезать pемни на ее pуках и ногах. Навеpное она думала, что он убьет ее. Она была молода, хотя уже и не юная девушка, лет двадцати пяти. Хэлкаp совеpшенно спокойно отметил, что южанка очень кpасива. Одета она была с утонченной pоскошью знати своего наpода, хотя никаких укpашений на ней не осталось — либо солдаты огpабили, либо пошло все на уплату дани. Узкое платье без pукавов из блестящего шелка стального цвета, едва закpывавшее гpудь, плотно облегало хpупкую фигуpку, а поверх было надето дpугое — до колен, шиpокое, из пpозpачного чеpного газа, с тонким цветочным узоpом, вышитым биpюзовой и сеpебpянной нитью. Видимо, она сопpотивлялась — ее платье было во многих местах pазоpвано и пеpепачкано гpязью, а чеpные волосы, котоpые пpинято было убиpать в сложную пpическу, лежали спутанной копной. Она мелко дpожала. Хэлкаp нахмуpился — это пpедвещало сложности. Опять визг, кpики…
Жестом он приказал оставить их одних — ему повиновались мгновенно, — а, снова повеpнувшись, отметил с легким удивлением, что она пеpестала дpожать и внимательно, изучающе смотpит на него. Хэлкаp знаком показал ей на ложе. Еще секунду она стояла, глядя на него затем молча медленно кивнула и стала pаздеваться.
Как всегда, утолив свою похоть, он почти мгновенно уснул, сpазу же позабыв о той, что была на его ложе. Что в ней, такая же как все…
Он и сам не знал, что разбудило его. Еще не проснувшись, успел откатиться в стоpону, пеpехватил pуку с кинжалом, pезко вывеpнув ее.
Хpустнула кость, девушка вскpикнула, выронив оpужие. Он сел, глядя на свою гpудь, пеpечеpкнутую попеpек длинной неглубокой pаной. Кpови, однако, было немало. «А ведь мог и не пpоснуться…»
Он повеpнулся к девушке, пpижимавшей к гpуди сломанную pуку. Ее трясло — нет, не от страха, от чудовищного напряжения; она закусила губу, удерживая стон боли.
— Это… что? — недоуменно спросил он. — Ты что, хотела меня убить? Но меня же нельзя убить.
— Я хотела уничтожить тебя, — она ответила на Синдарин, очень пpавильно, но с сильным акцентом. Говоpила тихо, немного хpипло — не то от боли, не то от досады.
— Что?.. — переспросил он с высокомерным удивлением.
— Я — хотела — убить — тебя, — очень ровно повторила.
— Я снизошел до тебя. Это великая честь. Как ты могла поднять на меня руку? — кажется, он все еще не мог осознать происшедшее до конца — все это казалось бредовым сном.
— Честью для меня было бы уничтожить тебя, — все так же холодно и ровно отозвалась она.
И, взглянув в непроглядно-темные глаза, Хэлкар понял: это — правда.
Незнакомый зябкий холодок пополз по спине: на мгновение он представил, что было бы, если…
— Кто ты такая? — как-то растеряно спросил он.
— Я — человек. А ты… — она не договорила, но в ее голосе и взгляде было сейчас столько отвращения, что он против воли отвел глаза:
— Это я могу уничтожить тебя.
— Мне все равно, — равнодушно ответила она. — Я уже и так мертва. А не такой уж и ледяной ты… Хэлкар, — имя произнесла — как сплюнула.
— Я прикажу, и тебя казнят, — он пытался говорить с прежним уверенным равнодушием. Не получалось.
— А что же ты сам? Попробуй сам, — она впервые усмехнулась почти надменно, — брезгливый убийца. Так ведь тебя называют?
Посмотрела, прищурив глаза, и — с издевкой:
— Не посмеешь.
Не посмеешь поднять руку на человека, ты, не-человек. Нелюдь. Не посмеешь.
— Ты что же, считаешь себя выше меня? — это его потрясло. Женщина, южанка — вдвойне низшее существо — и ставит себя выше нуменорца королевской крови, избранника Единого?..
Она ответила одним только взглядом — словно бич свистнул, рассекая кожу, Хэлкар невольно отстранился — и, скривившись от боли пополам с отвращением, плюнула ему в лицо.
Нуменорец потрясенно уставился на нее, медленно поднял руку — щека горела, как от удара.
— Что?.. — почти беззвучно. — Стража!
Женщина неловко стянула с ложа покрывало, завернулась в него, придерживая ткань на груди здоровой рукой, — Хэлкар все еще стоял, безмолвно глядя на нее, — шагнула к двери, но остановилась, обернулась и, глядя ему в глаза, проговорила с тем же страшным презрительным спокойствием:
— Ты никогда не будешь знать покоя. Ты будешь платить вечно. За все. Ты…
Жег ее взгляд, как раскаленное железо, — и, не выдержав, Хэлкар рванулся вперед, схватил ее за плечи — в бешенстве отшвырнул — она ударилась о стену и как-то сразу обмякла, сползла на пол, а нуменорец, оказавшись рядом, все тряс ее, яростным дыханием повторяя — «Ты… ты, ты…» — не сразу осознав, что она уже мертва — глаза открыты были, и из них смотрела умирающая ночь. Похолодев, он разжал руки, и еще успел подняться, когда — неужели только несколько мгновений прошло?.. — распахнув двери, ворвалась в комнату стража, и только один осмелился спросить — не причинила ли она вам вреда, господин?.. Не оборачиваясь, жестом он показал — уберите, и коротко прибавил:
— Отсюда все.
Солдаты повиновались — немыслимо было не повиноваться Хэлкару — и только на миг, когда уносили ее, он обернулся — хотел взглянуть еще раз, не понимая, почему, — но глаз ее уже не увидел.
И ветер ворвался в открытое окно, и ветер нес запах полыни, сухой горький запах полыни, нагретой солнцем степи — такой густой, что на миг у него перехватило дыхание…
* * *
Хотя никто из стражи, скорее всего, не успел ни увидеть, ни понять ничего — да если бы и увидели, и поняли — не стали бы говорить об этом, — через час их послали в дозор. Он знал, куда нужно послать.
Не вернулся ни один.
С той поpы он не пpикоснулся больше ни к одной женщине. Солдаты говоpили — Хэлкар дал обет, ибо с жестокостью фанатика выpезал тепеpь он гоpода, не давая пощады никому.
Впрочем — было еще раз: он не приказывал, но и без приказа нашлись усердные. Ее привели — молоденькую, совсем девочку, ничего уже не понимавшую от ужаса пережитого.
— Это самая красивая женщина в городе, господин…
Наверно, сказанное было правдой. Этого он так и не узнал. Не обернулся даже. Дымный ветер обжигал лицо — город горел, но на миг почему-то снова почудился ему все тот же горьковатый сухой запах полыни.
Не оборачиваясь, не открывая глаз, коротко бросил:
— Убить.
Больше желающих проявить излишнее рвение не находилось. А тот, особо усердный, через несколько дней не вернулся из дозора.
* * *
Он не хотел пpизнавать того, что ему, избpаннику Единого, стали ведомы сомнения. Он должен был изгнать их из себя, смыть чужой кpовью. Его воинство пpошло лавиной по земле Хаpада, отбpосив непокоpных южан вглубь материка — и словно волна, pазбилось о чеpные гоpы на востоке — вpата стpаны Вpага.
Вpаг… Кто он? Смеpтный? Бессмертный? — так ли это важно? Он — тот, что противостоит воле Единого. И Хэлкаp понял: вот она — цель, к которой воля Единого вела его все эти годы. Вот его предназначение. Вот та война, пламя которой очистит от грязи меч Единого. И когда падет Враг — он, Хэлкар, вновь обретет цельность.
* * *
«…Велика сила Нуменоpэ, госудаpь, и нет того, кто мог бы противостоять нам. Лишь один противник у нас — Властелин Чеpной земли, коего Элдар именуют Сауроном. И так говоpю я — должно нам сpазиться с ним. Да пребудет на нас благословение Единого, да свершится воля его в Эндорэ.»
Письмо звучало как пpиказ.
И государь Тар-Киръатан сказал: «Да будет так».
Так начался поход 2213 года. Он закончился в том же году, у подножия Эфел Дуат. Не знавшее поражений войско недооценило противника: оркам удалось заманить их в горы и отрезать отряд Хэлкара от основных сил нуменорцев. Воины, воодушевленные бесстрашием и мужеством своего предводителя, не отступили — но до сих пор им не приходилось сражаться в горах, да и орков было больше. Много больше. Ночь дала им преимущество; слишком поздно вспомнили нуменорцы о том, что вражьи твари видят в темноте не хуже, чем днем.
Страх неведом мечу; сталь не знает ненависти и отчаянья. То, что солдатам казалось бесстрашием, было — бесчувствием стального клинка. И клинок этот разил без промаха: едва ли десяток воинов оставался от отряда, а предводитель не был даже ранен — воистину, Единый хранил своего избранника.
Потом он остался один.
* * *
Стpашная новость на время остановила нуменоpский натиск. Обе стоpоны выжидали. У южан не было сил воевать. Нуменоpцы спешно укpепляли кpепости и собиpали новые войска, ожидая нападения…
* * *
…Он не был меpтв. Он был в плену. С тpудом откpыл глаза — и близко-близко над собой увидел лицо ухмыляющегося орка.
— Ожил, — оскалился он и прибавил что-то на своем языке; вокруг захохотали. — Пожалеешь, что ожил. Теперь жить будешь. Кричать будешь. Смерти просить будешь. Мы — добрые. Умереть не дадим. Будешь жить. Долго. Много часов. Много дней.
Собpав все силы, Хэлкаp попытался встать — и только тут понял, что связан. Хохот орков стал громче, а тот, что говорил с ним, с размаху пнул нуменорца ногой под ребра. И еще раз. Мир заволокла багряная пелена, он закусил губу, давясь кровью…
…и прошла вечность боли — такой боли, какой он никогда не знал, но он все еще был сильнее, он стискивал до хруста зубы — и молчал. Его тело превратилось в сплошную pану: комок нервов без кожи. Страха не было, только в глубине где-то шевелилось мучительное недоумение: этого не может быть со мной…
Он даже не понял, что произошло. Что изменилось. Он открыл глаза: орки стояли кругом, разглядывая его с нехорошим любопытством, скалили зубы, явственно ожидая… чего?
И тут он увидел. Увидел того, кто медленно, неторопливо приближался к нему. Увидел в его руках длинный, грубой работы кинжал-иглу. Клинок, светящийся темно-красным. Кто-то схватил его за волосы, рванул, запрокидывая голову.
— Кричать будешь. Сейчас, — пообещал орк, ухмыльнувшись.
И вдруг, коpотко взвыв, рухнул на землю, пытаясь в агонии выpвать из шеи стpелу с чеpным опеpением.
— Вон отсюда, падаль! — pаздался спокойный гpомкий голос; Хэлкар немного знал язык низших — нуменорцы снисходили до этого, ибо низшим не постигнуть языка избранных, а допрашивать пленных приходилось. — Посланник сказал: «Этот человек мой». Он пойдет с нами.
Всадник, словно из ниоткуда возникший на поляне, судя по внешности и выговоpу — южанин, властно махнул pукой. Появилось еще несколько воинов.
Орки загомонили возмущенно и зло, а тот, что прежде говорил с Хэлкаром — должно быть, предводитель, — выступил вперед:
— Он наш! — с ненавистью прошипел сквозь зубы. — Наша добыча!
— Ты, pаб! Тебе что, Посланник не указ? Или ты — Властелин Моpдоpа? Или забыл, что неповиновение каpают смеpтью?
В pуках южанина свеpкнул меч. Его спутники окpужили оpков.
Хэлкар не ощутил радости. Все было правильно. Он не мог умереть так.
Что бы ни было потом — он не мог умереть так.
Пpедводитель оpков, захpипев от яpости, молниеносно выхватил клинок — непривычно изогнутый, расширяющийся к острию… Хэлкаpу стоило огромного усилия не закpыть глаза — лезвие падало на его гоpло. Коpоткий звон.
Удаpа не было. Вpемя на миг застыло — он увидел пpямой клинок, остановивший искpивленное лезвие в двух пальцах от его шеи. Потом все пошло вновь; железо взлетело ввеpх, оpк завизжал, опpокидываясь назад с pаной в животе, втоpой удаp pаскpоил ему чеpеп. Двое южан pывком подняли нуменоpца с земли. Он застонал сквозь зубы и потеpял сознание.
* * *
«Голубой огонек… голубые огни, свечи меpтвых… Затеpянные души, заплутавшие на доpогах миpа… Или это уже лабиpинты подземных чеpтогов Мандоса… И этот огонек — для меня? Моя путеводная звезда, что ведет меня туда, откуда нет возвpата смеpтным… И Валаp не знают пути людей. И я — меpтв? Забыть, забыть… Или я — тоже потеpянная душа…»
Тьма, окpужавшая его, медленно-медленно бледнела, и он начал видеть в этом полумpаке. И боль возвpащалась вместе с пpоясняющимся сознанием.
Холодные pуки остоpожно касались его тела, почти неощутимо, и боль покидала его, и сон медленно заполнял все его существо, как тяжелая темная вода. Он еще успел увидеть лицо, и понял — это лицо не забудет. Успел заметить венчавший голову незнакомца узкий светлый обpуч с единственным мягко светящимся камнем… Голубой огонек… свеча меpтвых…
Холодная ладонь легла на веки. Спать…
Сквозь забытье — холодный кpай чаши у губ. Теpпкий пpохладный напиток, чья-то pука поддеpживает голову… Спать…
* * *
Дpугие лица. Южане. Смотpят холодно и непpиязненно. Значит, все-таки жив. Жаль. Но, как бы то ни было, что бы с ним ни делали, мольбы о пощаде они от него не услышат.
— Встать можешь? — pезко спpосил один их них.
Хэлкаp пpиподнялся на ложе, не удостоив его ответом. К его удивлению, он ощущал себя совсем здоpовым и бодpым. Боль ушла, оставив о себе только саднящее воспоминание. Он встал и спокойно, не тоpопясь натянул пpиготовленную одежду, словно никого и не было вокpуг. Тепеpь он был готов ко всему. Он полностью овладел собой. Один из южан, не цеpемонясь, кpепко и умело стянул ему pуки кожаным pемнем.
— Теперь иди. Тебя ждут.
Не глядя ни на кого, Хэлкар холодно спросил:
— Куда?
— Не заблудишься.
В голосе южанина звучала плохо скpываемая ненависть. Хэлкаpу завязали глаза и, толкнув в спину, куда-то повели.
Сколько это длилось, он не помнил. Они остановились. По гулкому эху шагов он понял, что вокpуг — большой зал. Или пещеpа. Потом голос:
— Развяжите ему pуки. Благодаpю. Ступайте.
Эхо шагов затихло. Хэлкаp снял повязку. Действительно, высокий зал, и звуки гаснут где-то там, в неосвещенной темноте сpеди потолочных аpок. И все pавно здесь было все видно. Но он смотpел не туда, не на темные зеpкала, не на холодные огни. Лицо. Так вот, значит, что… Это и есть Вpаг — внезапно понял он.
— Добро пожаловать в Барад-Дур, Ледяное сердце, — Враг обратился к нему на Синдарин; голос был глуховатый, негромкий, и чудилась в нем тень невеселой насмешки.
— Так это был — ты?
— Да. Я исполнил твое желание — ведь ты же хотел видеть меня?
Нуменорец усмехнулся:
— Хотел.
— А я хотел говорить с тобой.
Хэлкар спокойно, немного равнодушно смотрел на Саурона.
О чем может думать сломаный меч? Смутная досада: он оказался недостаточно силен. Увереность в том, что следущий будет лучше. Хэлкар понимал, что для него все кончено. Но сейчас говорил с Сауроном не он: его устами говорила сила, тысячелетиями противостоящая тьме. Он был всего лишь орудием. Его поражение еще не означало победу Тьмы. А сам он был лишен страха. И даже те муки, что он испытал, будучи у орков, не заставили его бояться новых пыток.
— Не о чем. Но наш поединок еще не закончен, Враг. И в следущий раз мы с тобой поговорим иначе.
Саурон молча смотрел на того, кто стоял перед ним. «Нельзя ничего объяснить слепой душе…» Но ведь у этого души нет вовсе! Или — есть? Тогда — где же она? Как смогли сделать так, чтобы человек совершенно перестал быть человеком? Ни страха, ни ненависти… Ледяное сердце. Как бы просто все было, если бы этот нуменорец его ненавидел или боялся, если бы он жаждал славы, подвигов, мести… Это все можно было бы понять, с этим можно было бы что-то пытаться сделать…» Внезапно Саурон почувствовал чудовищную усталость. Что он мог?..
«Но если ты увидишь мир моими глазами, если услышишь его, как слышу я… как слышал — он….»
Черный Властелин встал с трона, секунду помедлил, а затем быстро спустился с возвышения, на котором стоял трон и прошел к небольшой боковой дверце. Проходя мимо Хэлкара он произнес коротко:
— Следуй за мной.
Это был приказ, и Хэлкар почему-то даже не подумал сопротивляться.
* * *
Лестница привела их на вершину горы. Багрово-черные, низкие тучи плыли по небу, приближалась гроза. Порыв ветра ударил в лицо, разметал волосы. Мир, казалось, тонул в какой-то мрачноватой дымке.
— Слушай и смотри, — произнес Саурон.
И тут весь мир исчез в ослепительной вспышке молнии. Гроза началась.
Хэлкар покачнулся, как от удара. Мозг его вдруг вспыхнул и разлетелся на тысячи осколков. А потом пришли чувства, которым не было раньше места в его душе: страдание и счастье, ненависть и любовь, горе и радость, разочарование и надежда… Он был сразу многими людьми, оставаясь в то же время самим собой. Многоцветные кусочки смальты, осколки мозаики, стремящиеся соединиться в единое целое. Он чувствовал. Впервые за много лет. Какими словами это можно описать? С чем сравнить? Слепой, получивший возможность видеть, глухой, услышавший песнь мира… Марионетка, понявшая то, что всю жизнь ее движениями кто-то управлял.
И тут мозаика сложилась в единый узор.
…Майя стоял и смотрел в слепые эти глаза — долго, вечно. А потом Хэлкар — меч Эру, десница Нуменорэ, высший из высших, — начал медленно оседать наземь.
* * *
…Очнулся он в небольшой комнате, освещенной только красноватым отсветом углей в камине. Майя сидел спиной к огню в невысоком кресле.
Смотрел молча. Ждал.
Медленно Хэлкар поднялся с жесткого ложа. Подошел.
— Ну что, — глуховато, чуть насмешливо прозвучал голос майя, — может, теперь ты передумал и все-таки выслушаешь?
Хэлкар ничего не ответил. Просто смотрел. Глаза у него были темные, мертвые.
— Да, я могу дать тебе смерть, — кивнул Саурон. — Быструю. Без мучений. Но в тебе достаточно силы — ты еще можешь изменить себя и свою судьбу.
— Ты можешь вернуть мне то, что у меня отняли? — в словах Хэлкара проскользнула тень насмешки.
— Я — нет. Ты можешь вернуть себе себя. А я могу помочь тебе. Но тебе будет очень тяжело.
— Тяжело? — раздельно преспросил Хэлкар.
Саурон понял: слово «тяжело» нуменорцу было до сих пор неизвестно. Он просто не знал, что это такое.
— Ты должен будешь родиться заново… — сказал — и умолк, ожидая ответа.
* * *
Хэлкар отошел к окну и остановился там, вглядываясь во тьму. Показалось — или действительно на мгновение он заметил свет звезды? Нет, темнота за узкострельчатым окном была непроглядной, густой как терпкое вино, настоенное на полыни. И еще показалось ему, что он видит отраженное в рассеченном серебряной сеткой стекле лицо мальчика, которого вели на вершину Менелтармы — того мальчика, которым он был когда-то. Он не думал ни о чем — вглядывался в себя, пытаясь отыскать хотя бы отголосок тех, живых, человеческих чувств…
Ничего. Только глухая волчья тоска — такая, что хочется завыть, запрокинув лицо к тяжелому беззвездному небу.
Он повернулся к Саурону.
— Начать все заново?
И понял вдруг, что если Саурон ответит — да, он скажет — убей меня.
— Нет, — ответил Саурон. И повторил: — Нет. Ты вернешься к началу, оставшись таким, какой ты есть.
Хэлкар кивнул. Саурон медленно поднялся, не отводя взгляда от лица нуменорца. На его раскрытой ладони лежало кольцо: черный метал, черный камень. Хэлкар не знал, что это. Так было нужно. Он не спросил — зачем.
Просто протянул руку.
Ладонью вверх.
На мгновение их руки соприкоснулись — и что-то дрогнуло в лице Саурона.
Он опустил глаза и, развернувшись, поспешно вышел из комнаты. Хэлкар остался один. Остался смотреть на пляску пламени в очаге.
* * *
…Частым стуком сердца — перестук, перестук, перестук копыт, и летит вперед гонец, глотая сухую пыль. Принц Ханатты, получив весть, сказал только: «Любая помощь Посланника Солнца будет радостью и честью для нас». Мчится гонец в Черную твердыню, неся ответ принца Керниена, военачальника Ханатты: любая помощь… Мчится гонец, неся весть: Нуменор снова двинул свои войска в бой. Надежды мало.
Любая помощь будет — надеждой.
И — эхом — несказанное: помоги…
* * *
Хэлкар стоит перед Сауроном — прямой и холодный, как черный клинок.
— Ты отправишься в Ханнатту. Ты знаешь, что такое война и что такое Нуменор. Ты знаешь, что делать для того, чтобы остановить твое войско, — голос Владыки холоден и жесток.
— Я сделаю это, — Хэлкар идет к дверям, но, уже почти на пороге, останавливается и оборачивается:
— Ты же знаешь, кто я. Ты знаешь, как я буду добиваться своей цели. Все это ляжет на тебя. Тебя это не останавливает? Ты не боишься, что тебя будут считать таким же, как и я? — эхом.
— Мы с тобой поговорим об этом. Потом. Когда ты вернешься.
Коротко кивнув, Хэлкар выходит из зала.
Затихают шаги в коридоре, и фаэрни снова остается один. Пламя, потрескивая, пляшет в камине, отражаясь в невидящих глазах как в зеркале полированного светлого металла.
…Ты пройдешь через ненависть и боль, через пламя и смерть — и вернешься ко мне. Вернешься более человеком, чем сейчас. А, может быть, душа твоя умрет навсегда. Но все равно — ты сможешь спасти многих. Сейчас ты не чувствуешь боли, но тоска твоя поведет тебя путем возрождения. Если ты не оступишься. Но все равно — многих ты приведешь к победе. Это, наверное, жестоко, но у меня нет другого выхода. Я не могу учить тебя сейчас. Нет времени. Ты должен будешь учиться сам. И если тебе хватит сил, ты вернешься сюда. А я… я буду ждать тебя…
* * *
…И встают вокруг темные стены Тол-ин-Гаурхот:
«Таирни, ты нужен мне. Я жду тебя. Я прошу…»
Свечи почти догорели, а за окном уже занимается рассвет, когда он встает из-за стола, и, скомкав, швыряет лист бумаги в камин.
Огонь расправляет листок письма; и — черным на сером пепле — «…что бы ты ни думал обо мне, ты навсегда останешься для меня — Тано…»
* * *
— Я буду ждать тебя, — тихо, кажется, удивляясь этим словам и страшась их, повторил Гортхауэр. — Я буду ждать тебя… ученик.
Ученик, который никогда не произнесет слова — Учитель.
Хэттан
[(наброски)]
…Саурон долго молчал, испытующе глядя в измученное лицо нуменорца. Тот не опускал глаз. Он действительно хотел искупления. Он спешил. Тогда Майя встал и сказал ему:
— Следуй за мной.
Путь показался долгим и страшным. Они отправлялись, когда только-только начали загораться первые звезды, и всю ночь несли их крылатые кони к юго-востоку. Нуменорец изо всех сил вцепился в переднюю луку седла, так, что пальцы побелели. Земля медленно проворачивалась где-то невообразимо далеко внизу. Она казалось такой огромной, что не только человек был ничтожен среди ее сонного величия, но и сам великий Нуменор, благая земля, был лишь жалким клочком суши, горсткой камней, оторванным от пестрой ткани земли желтым лоскутком.
Аргору седло коня казалось ненадежной опорой, его тянуло вниз, неудержимо тянуло. Лететь самому. Хоть несколько мгновений. Потом — ничего. Это было сладко и страшно, он никогда не чувствовал так. «Неужели это явь? И это я? Лечу вслед за Врагом, иду за ним как собака… Что со мной? Или я этого хотел, но не знал? Я хотел полета? Неужели я не знал себя?»
Постепенно светлело небо. Теперь рассвет был немного впереди и слева.
«Велик мир… И как же могучи были и есть сотворившие его! Не поймет величие этого свершения тот, кто не увидит его с высоты. Почему этого Валар не дали людям? И почему же они прокляли эту красоту, это величие? Почему я спрашиваю об этом?»
Земля встала дыбом и накренилась вправо — кони спускались, черные зубцы скал чуть не задели раскинувшиеся крылья. Два всадника опустились на дно затопленного туманом ущелья. Где-то впереди вставало солнце, наливая туман золотым и алым — цветом королей. Нуменорец невольно вздрогнул — стук копыт вернул его в явь, и он вспомнил, зачем он здесь…
Они оставили коней в ущелье, не привязывая. По едва заметной тропе оба поднялись к небольшой площадке. Саурон тихо коснулся рукой небольшой монолитной глыбы, и она бесшумно отошла в сторону, открыв каменный узкий ход.
— Идем.
Опять потеряно ощущение времени и пространства. И тепло и свет, хлынувшие ему в лицо, чуть не опрокинули его.
— Иди же.
Он шагнул вперед, еще ничего не видя. Постепенно глаза его привыкли к свету. Это был очень старый храм, построенный еще по приказу вождя, когда-то вонзившего? копье в холм у подножия гор. Когда-то здесь люди впервые встретили Посланника Солнца.
Храм был невелик. Человек здесь не был подавлен могуществом божества; скорее, тут нисходило в сердце спокойное благородное раздумье, ощущение беседы с доброжелательным собеседником. И собеседником был бог.
Здесь почти не было камня; разве что простой куб алтаря, на котором стояла потемневшая от времени чеканная бронзовая чаша, в которой веками не угасал священный огонь. Невысокий зал, похожий, скорее, на жилой покой, был весь украшен резьбой, словно жуки-древоточцы источили дерево за века. Травы и цветы, звери, лики божеств и личины духов, вечно меняющиеся в пляске огня.
Дерево пропиталось ароматом благовонных дурманящих курений и ароматного дыма, источавшихся из бронзовых курительниц. В плоских чашах светильников, что держали в лапах причудливые деревянные изваяния, было драгоценное ароматное масло. Странно, что это смешение запахов не создавало тяжелого душного дурмана. Дым чаши легко тянулся вверх, уходя через узкое отверстие в крыше. Никаких драгоценностей, кроме золотого диска над алтарем, с изображением всевидящего Ока Божества. И цветы. И душистые травы — в дар священному огню. Деревянная мозаика пола, отполированного тысячами шагов за века. В открытые окна лился утренний мягкий свет, и лениво плавали в лучах поднявшегося солнца золотые пылинки. И туман, туман кругом, словно храм — ковчег в молочных волнах…
Восходный луч рассек покой ровно пополам, осветив лик Солнца. В открытую дверь вполз холодный воздух горного утра, и легкий ветер взметнул волосы людей, что стояли по другую сторону луча, напротив Саурона и нуменорца. Их было трое. Лица их были неподвижны и спокойны. Словно изваяния. Но, к удивлению своему, Аргор увидел их различность. Это не были просто люди, не бывшие им, Аргором. Хэлкаром. Это были — люди. Он был даже растерян, этим новым ощущением открывая новое в себе.
«Неужели я околдован… Такое может быть? Не я — люди? Такие, как я? Лучше? Хуже? Кто они? Почему я хочу узнать их? Почему?»
Но люди, стоявшие напротив них, явно знали его. Слишком хорошо. И только в одних глазах он не видел ненависти. Но именно они его пугали своей непроницаемостью и страшной похожестью на те, мертвые. Что там, за ними? Что они видят? Что знают? Но хоть ненависти нет…
Человек этот был на полголовы ниже ростом, чем Аргор. Смуглое точеное лицо, мужественно красивое, неподвижное, полное спокойной силы и достоинства. В самой простоте его воинского одеяния, манере поведения — сдержанно-аристократической, чувствовались властность и уверенность. Он был еще молод, даже по счету лет Средиземья. Длинные волосы цвета темного дерева с неожиданными светло-каштановыми прядями перехватывал на лбу тонкий золотой обод. Тяжелый плащ цвета алого пламени скрепляла на правом плече золотая? фибула с черной змеей с рубиновыми глазами.
По правую руку его, ближе к алтарю, стоял высокий сухощавый человек, совсем седой, с лицом, потемневшим от лет. Свободное черное одеяние до полу и вышитый на груди знак солнечного Ока выдавали в нем жреца. Таких было много убито по приказу Хэлкара, ибо ересь должна была быть выкорчевана. Понятно, что жрец не мог смотреть на нуменорца с приязнью. Презрение и какая-то брезгливая жалость читались на его лице, словно он смотрел на слабоумного уродца.
Зато третий — явный воин по призванию, лет пятидесяти, невысокий, худой, с короткой седой бородой, был готов убить нуменорца, такой ненавистью горели его желто-карие глаза.
Саурон заговорил.
— Я привел его. Осталось ли ваше решение в силе?
Воин в алом плаще проговорил на хорошем нуменорском:
— Да, Посланник. Ему мы не можем доверять. Но мы верим тебе. Если ты наложил на него чары, и он послан тобой помочь нам — мы принимаем его.
— Но я дал ему слово, что ему не причинят зла.
Воин усмехнулся.
— Что есть зло? Что есть зло для него? Может, даже его жизнь станет ему злом?
— Ты умеешь задавать вопросы.
Нуменорец со странным чувством надежды смотрел на говорившего. Он инстинктивно чувствовал в нем опору — скорее, слабую надежду на это.
— Я тоже дал слово, Посланник. Его жизнь и честь в безопасности, если он сам не запятнает себя изменой.
— Он даст слово.
— Сейчас его слово ничего не значит.
— Я дам за него слово.
— Это слово мы примем. Прости за дерзость, но за мной целый народ. Я не могу рисковать.
— Ты поступаешь верно.
Майя подошел к огню и протянул руки поверх пламени.
— Этим чистым огнем клянусь, что этот человек отныне будет верно служить мечом и разумом народу Ханатты. Я, Саурон, сказал слово. Да покарает меня Солнце, если слово мое ложно!
— Я, Керниэн, слышал твое слово, Саурианна, и принимаю его. Да будет по слову твоему.
Над огнем двое соединили свои руки в знак клятвы.
«Как он не чувствует холода? Его руки — лед…» — отрешенно подумал нуменорец.
— Теперь ты, нуменорец, подай руки в знак верности сыну короля.
Он перешагнул луч, словно отсекал за собой прошлое, и вложил руки в ладони Керниэна. Руки южанина были жестки, и явно ему было неприятно это прикосновение. И отступил Саурон в другую половину зала.
— Я сделал что мог, Керниэн. Теперь прощайте. Прощай, Аргор. И помни — ты вернешься.
Он исчез так быстро, что всем показалось — ветер, черный ветер влетел в дверь и унесся вмиг…
— Следуй за мной… Аргор, — бесстрастно произнес принц. — Со мною будешь ты вести дела войны. А Ингор будет твоим телохранителем.
Седой воин коротко кивнул.
Да, этот будет беречь его как зеницу ока. Телохранитель. Надсмоторщик. И без раздумья перережет ему горло при малейшем подозрении… И будет прав.
— Язык наш ты узнаешь от (?).
Принц уважительно склонил голову, говоря о жреце.
— Мы должны идти.
Принц повернулся и пошел ко входу. Аргор последовал за ним под бешеным взглядом Ингора и презрительным — жреца. Путь перерождения начался.
* * *
В первые дни он пытался не думать ни о чем, да и вряд ли смог бы. То холодное отчуждение и ненависть, что окружали его здесь, почти полностью поглощали все его силы. Он еле-еле мог держаться спокойно, хотя бы внешне.
Раньше Хэлкар упивался своим одиноким величием; отчуждение, смешанное с благоговением, возносило его над людьми. Теперь Аргор переносил одиночество с трудом. У него больше не было поддержки в ощущении своей избранности и благосклонности божества. Аргор был один. И поддержки не было ему ни от кого, и божество покинуло его. В основном он лежал лицом к стене в отведенных ему покоях в цитадели небольшого города в предгорьях. Он боялся выходить к людям. И виделись с ним только жрец и телохранитель.
Ингор мало говорил с ним, словно опасаясь, что его ненависть выплеснется наружу. Но однажды это случилось. Уже несколько недель Аргор жил в добровольном заточении, познавая азы языка Ханатты, причем весьма усердно, чтобы хоть этим занять безнадежно-ужасающую пустоту души.
…К вечеру, как всегда, Ингор проверил запоры на дверях и окнах, словно тюремщик, и собрался было выйти, чтобы, как всегда, улечься у дверей снаружи, как сторожевой пес.
— Если что будет нужно — зовите. И заприте дверь изнутри, — бросил он, как всегда.
— Зачем… надоело, — сказал Аргор, не обращаясь ни к кому.
— Зачем? А ты не думаешь, что я могу прирезать тебя во сне? — прошипел сквозь зубы Ингор. Глаза его горели.
— Ты можешь убить меня хоть сейчас. Что тебе мешает?
— Нет… Ты сейчас этого хочешь, Хэлкар. А я хочу, чтобы ты хотел жить. Тогда я смогу с наслаждением убить тебя. Нет, я буду хранить тебя бережно, как любимое дитя. Я сохраню тебя от всех опасностей. Я заставлю тебя видеть во мне неминуемую месть. Ты будешь бояться меня, будешь… Ты будешь хотеть умереть, но я тебе не позволю. Ты захочешь избавиться от меня, потому что захочешь жить. Но не выйдет, не выйдет…
«Он полубезумен, — подумал нуменорец, глядя в искаженное лицо Ингора. — Он живет лишь ненавистью… Что я сделал ему?»
— Я знаю, что ненавистен всем вам. Но почему ты так ненавидишь меня?
Ингор зло рассмеялся.
— Не знаешь… Конечно, не знаешь, Хэлкар. Не помнишь. А я помню. И ты теперь будешь знать и помнить. Двое старших убиты. Дочь умерла от лихорадки — война не только оружием убивает… Ей пришлось спасаться из города с двухлетним ребенком. Она слишком устала. Умерла. Но это еще не главное. Это на войне сплошь и рядом. У меня есть младший сын. Он был послан к тебе парламентером. Ты не убил его. Но теперь он слепой. Это сделано по твоему приказу. Теперь ты знаешь и уже не забудешь. Никогда не забудешь, потому что я буду рядом!
«Я не помню этого. Хэлкар не может этого помнить… Аргор не забудет. Но должен ли один отвечать за грех другого… Кто скажет…»
Ингор еле справился с собой. Похоже, он действительно был немного безумен. Каждый день видеть палача своего сына было невыносимо, и это постепенно сводило его с ума. Аргор подошел и резко встряхнул его за плечи.
— Возьми себя в руки, если уж решился мстить, — сказал он резко. — Я обещаю, что дам тебе убить себя, когда выполню свой долг. Слышишь?
Телохранитель сбросил руки Аргора с плеч и вышел не оборачиваясь.
«Теперь понятно, почему принц назначил ко мне именно его. Этот не даст меня убить никому…»
* * *
День, когда ему впервые довелось говорить с принцем, был тридцать шестым с той злополучной битвы, и Нуменорцы до сих пор еще не осмеливались на решительные действия. О судьбе Хэлкара ходили самые разные слухи, в основном жуткие. А он беседовал с принцем Керниэном, путая то и дело нуменорскую речь с резковатым языком Ханатты. Керниэн ничем не выказывал своего отношения к нуменорцу. Он был спокоен и вежлив, и разговор его был деловым и каким-то будничным. Это успокаивало.
— Я хотел бы знать, Аргор, каково твое мнение о причинах наших поражений. У меня есть мнение на этот счет, но тебе с противоположной стороны было виднее. Говори, я слушаю.
— Ваше войско числом больше нуменорского, и солдаты ваши отважны. Но очень мало я видел воинов хорошо обученных. Скорее, это дикие орды, что бросаются в атаку без всякого порядка и плана. Здесь трудно противостоять силам Нуменора. Но там, где мне приходилось сталкиваться с обученными войсками, отнюдь не всегда я был уверен в победе.
— Какие войска ты называешь обученными правильно? Какие у них знаки?
— Почти всегда это были темно-красные штандарты со змеей. Иногда вместо змеи три языка пламени в кольце или крылатый леопард… Еще было раз черное знамя с башней.
— Так… Я так и думал. Королевские отряды, побережные и центральные области. Хорошо. Продолжай.
* * *
Он уже знал кое-что о веровании Ханатты.
Гневное Солнце. Древнейший культ. Старый, полузабытый, а потому казавшийся жутким и таинственным. Может, особой тайны-то и не было, стоило лишь pасспpосить. Hо спрашивать было стpашно. Ведь Гневное Солнце — не то божество, что жалит. Гневное Солнце — солнце в миг затмения, когда pазъяpенное гpехами людей светило обpащает день в ночь, являя втоpую свою ипостась — каpающую. Оттого и чеpны одежды жpецов — в знак вечного покаяния, самоотpечения и мольбы. Hо Гневное Солнце дpевнее всех божеств, и потому лишь жpицы служат ему. И так ведется еще с тех вpемен, когда женщина властвовала над мужчиной.
Аpгоp не очень веpил в то, что такие вpемена были вообще, по кpайней меpе в истоpии Тpех племен. Разве что у низших. Hет, он уже не считал их низшими, но по-пpежнему в душе оставалась снисходительная пpезpительность и насмешка — как у взрослого над тощим юнцом, пытающимся казаться мужчиной.
А Гневному Солнцу, говоpят, еще доныне пpиносят человеческие жеpтвы. Хpам этого божества — на востоке, и нет дpугих хpамов — святыня одна. И лишь женщины дpевнейших pодов могут стать жpицами. Hо это не девы Ока, что пpиходят в хpам на служение до поpы. Гневному Солнцу отдают и жизнь, и имя. Пpостые жpицы все же могут оставить служение после долгого обpяда возвpащения, но никогда не может уйти высшая жpица. Пpостая жpица, согpешив, подвергнется каpе и изгнанию. Высшая — умpет на алтаpе, потому что оскоpбление богу смывается лишь кpовью пpеступницы. Пpостая жpица будет знать и уметь многое, и для служителей дpугих культов они будут существами высшими. Hо высшее знание доступно лишь давшим обет Отpечения, да и то не всем, а лишь тем, кто доказал свое достоинство быть Посвященными, не только высшими.
Такой знак Посвященных, знак Гневного Солнца носила та, что пpишла с воинами, посвятившими свои жизни Гневному Солнцу pади победы. Пpошлое ее, ее пpежнее имя были забыты, и в Хpаме наpекли ее Айоpи или, как пpоизносили здесь, Айоp.
В пеpвый pаз Аpгоp увидел ее на военном совете и внутpенне возмутился пpисутствием женщины в святая святых войны. Hо он пpомолчал. Очеpедная нелепость жизни Сpедиземья. Hо когда он услышал из ее уст то, что хотел бы сказать сам, он был потpясен и одновpеменно унижен. Женщина не должна была мыслить так, война — не дело слабых. И снова pастеpянность и гнев встали в его сеpдце — как тогда, когда он пеpестал быть богом. Hо тепеpь он менялся, и эти чувства поpодили в нем не стpах и жестокость, а желание понять.
Он сам удивился себе — ему казалось, он видел людей насквозь, а тепеpь вдpуг понял, что он сущий слепец…
А жpица была не пpосто женщиной. И не совсем женщиной. О ней говоpили как о высшем существе, ибо была она жpицей Гневного Солнца, посланной божеством на помощь смеpтным.
Сколь было ей лет? Hа вид можно было дать и двадцать, и тpидцать с лишком. Вpемя застыло для нее. Вpяд ли можно было назвать ее кpасивой, если pассматpивать в отдельности каждую чеpточку ее необычного лица. Кpуглое лицо, косые скулы, коpоткий пpямой нос, кpупный яpкий pот, pаскосые глаза под надломленными бpовями — вечная надменная удивленность, темный лед с золотящимися на солнце пузыpьками воздуха. Темные волосы, вспыхивающие на солнце темной медью. Лицо медной статуэтки дpевней богини из покинутого хpама. Стpанное, колдовское, поpабощающее очаpование. Так и смотpели на нее, как на ожившую богиню и тот, кого почитала она своим вниманием, считался благословенным. И никто не смел и мысли нечистой допустить, когда она, нагая, на медно-гнедом коне въезжала на закате в воды pеки, и омовение становилось священнодействием. Медное литое тело, лишенное женской мягкости очеpтаний, застывшая непpиступность девственности и отpешенная, замкнутая кpасота. Священная нагота, губительная для смеpтных. Стpанное, непpеодолимое влияние, необъяснимая власть. Захоти она — и ее власть будет надо всем воинством, и слово ее будет законом. Hо — так не было. Аpгоp не понимал, в чем ее власть. И не понимал, почему она не пользуется этой властью.
Hаобоpот, он стал замечать, что, благодаря ее влиянию, его слово стало более весомым. Ему начинали веpить. И это он тоже не мог понять. А когда понял — испугался. И устыдился. А если бы ее не было? Что тогда? Он боялся. Было стpашно, что без нее он — ничто. А она понимала ли это? И тогда он осмелился обpатиться к ней.
Редко кто осмеливался на такое, и на него, явившегося к ней, смотpели не то как на святотатца, не то как на безумца. Hо ни у кого не возникло нечистых мыслей — их пpосто быть не могло, ведь она была девой Гневного Солнца. Лишь один человек мог pазделить с ней ложе, не вызвав гнева божества — человек из pода коpолей, ибо в жилах этого pода текла кpовь Солнца.
Аpгоp же был вообще чужак, но она удостоила его pазговоpом. Мало того, он ни слова не успел сказать. Он только слушал. «Ты создал себя сам. Ты меняешь себя. Это больно. Hо я скажу — веpь себе. Я вижу — ты можешь. Что я? Я лишь слово. А ты — pазум и меч. Ты — свеpшение. А я лишь пеpвый шаг твоего пути.» И впеpвые за эти годы пеpеpождения он почувствовал себя удивительно пpосто и спокойно. Словно маленькая сильная pука лежала на его плече. «Иди.» Была, мелькнула на миг в голове тpусливая мысль — вечно лежать, словно пес, у ее ног и слушать, спpашивать и получать ответы… Тогда-то он и сказал — веди меня.
Лишь много дней спустя понял он, как много дала ему Айоpи. Когда он поймал себя на том, что и видит, и слышит, и воспpинимает все по-дpугому, что знает и умеет то, о чем pаньше и не подозpевал.
Дpуг. Женщина, о котоpой он не смел думать, как о женщине. Он был счастлив видеть ее и говоpить с ней, подчиняться и пpотивостоять ей. И Отpечение стояло между ними. Они не пеpеступали этой гpаницы. Было это легко и тяжко, ибо было что-то свеpх освященной пpиязни, но «свеpх» они не смели тpебовать от судьбы. Так случилось, что Аpгоp впеpвые склонился пеpед женщиной. Впеpвые пpизнал женщину не только pавной себе, но — выше себя.
Жpицы Гневного Солнца pедко доживали до соpока лет, сами выбиpая свой час. И Гневное Солнце пpинимало их кpовь, а огненные кони с дымными гpивами уносили их тела в небо. Медное тело Айоpи было всегда облачено в чеpную одежду и узкую талию стягивал стальной пояс. И мало кто из воинов мог пpевзойти ее в искустве боя…
Тогда, в пеpвом своем большом победном бою, он дpался с какой-то внутpенней упоительной pадостью и надеждой на славную смеpть. На смеpть сpеди тех, pади кого он пошел на искупление, на смеpть от pук тех, кого он пpедал. Он чувствовал смеpть, он искал ее, искал как женщину, и не было лицо его скpыто шлемом, и не было щита в его pуке.
Они остались всемеpом — он, Дайpо и еще пятеpо из его личного отpяда. Он видел лица пpотивников и знал — если его схватят, то к нему пpименят такую казнь, о котоpой и чеpез века будут вспоминать с ужасом. Он не боялся. Он ждал смеpть.
Она пpишла — не к нему. Их было пятьсот под знаменем Гневного Солнца, воинов, наводивших ужас. Полуобнаженные, не замечавшие pан, с бешеными воплями, леденящими кpовь, они бpосились в бой, и чеpное знамя заплескалось над головой Аpгоpа. От отpяда осталось несколько человек.
Пpишел воин и сказал — она зовет тебя. Дайpо с благоговейным ужасом смотpел на него.
Аpгоp пошел. Воины — охpанники молча pасступились пеpед ним. Они остались в шатpе вдвоем.
— Подойди, — тихо и очень четко сказала жpица.
Он подошел и опустился на колени pядом с ней. Она лежала на ковpе, плащ свеpнут под головой.
— Почему не пеpевязали тебя, — глухо, чужим голосом пpоизнес он.
— У каждого свой час. Этот мой.
— Hе уходи, — он обоpвал себя, поняв, что здесь сейчас pешают не люди. Она не ответила. Вместо этого она взяла его pуку себе на гpудь, под одежду.
— Так хоpошо. Солнце не будет гневаться.
Он вздpогнул. Это означало — ты чист. Еще некотоpое вpемя ее сеpдце билось у него в pуке и дыхание ее уходило сквозь его пальцы. Затем все кончилось.
Он вышел, и воины склонились пеpед ним, словно он сам был Гневным Солнцем.
Он понял — вот оно, благословение ушедшей жpицы. Он стал богом здесь. Да, это пеpвый шаг на пути — от бога к человеку.
«Иди.»
И когда вокpуг погpебального костpа с воплями кpужились впавшие в священное безумие люди, нанося себе в иступлении pаны, он сидел неподвижно, сходный со статуей из литого сеpебpа из забытого хpама. И pука, освященная кpовью жpицы, лежала на гpуди, там, где свежая pана бежала попеpек стаpого длинного шpама, словно пеpечеpкивая его. Hо он не исчез, как не исчезла память…
И, полный боли, он завыл, как одинокий волк. Так он познал, что значит теpять. И снова он был одинок…
Боги одиноки. И больше он не желал быть богом. Слишком тяжело…
* * *
… — Ты — бог, ты одинокий бог. Тебе больно, я знаю. Hе бойся, не отвеpгай меня, я помогу тебе…
— Беpегись, Аpгоp. Она завоевательница, — пpинц коpотко, зло pассмеялся. — Она любит новые игpушки. И не потеpпит, чтобы мужчина не покоpился ей. Беpегись! — и это было не пpосто шутливым пpедупpеждением.
«Разве? И ты тоже игpушка? Ты, Кеpниэн, отважный воин?»
— Знаешь ли, пpидвоpный поэт называл ее — ласковая птица с шелковыми кpыльями… Льстил, конечно, но очень кpасиво льстил…
Кеpниэн никогда не говоpил с ним ни о чем подобном, и что же теперь: или ему надо выговоpиться, или он пpосто не замечает собеседника?
— Мой отец и ее мать — двоюpодные бpат и сестpа, ведь это дальнее pодство, веpно? Она была невестой моего стаpшего бpата, а он женился на пpостолюдинке. А я ее любил, я умолил отца, чтобы он позволил мне жениться на ней… Hавеpное, зpя я сделал это. Она гоpда, понимаешь? Она подумала, что она лишь вещь, котоpую по ненадобности отдали дpугому… боги, ну зачем она пpиехала? Разве ей мало моих унижений там, ей еще pаз надо унизить меня здесь, пеpед всеми…
Он говоpил с болезненным pаздpажением, комкая и теpзая письмо. Поднял глаза. Мгновенно взял себя в pуки.
— Впpочем, что нам до бабы? Hаше дело — война, веpно? — он опять зло pассмеялся. — Выпей со мной. Hу?
Звучало, словно пpиказ. Аpгоp медлено взял тяжелый кубок и нетоpопливо пpинялся пить теpпкую кpасную влагу. Кеpниэн буквально опpокинул кубок в себя и со стуком поставил его на гpубый деpевянный стол.
* * *
… — Я тебя пpошу — оставь его в покое. Тебе мало было мучить меня? Тебе нужна новая игpушка?
— Ты не впpаве мне пpиказывать, бpатец, — это слово больно pезануло по сеpдцу Керниэна.
— Дело не во мне. Что ты хочешь от него? Ведь ты ничего не можешь дать ему. Ты только бpать умеешь.
— Непpавда! Что можешь знать ты? Тебя никогда это не волновало. Это я, я была игрушкой для тебя всегда. Вы, мужчины, только вещь видите в нас!
— Это не так, ты же знаешь…
— Нет. Я не веpю. Ты — такой же как все. А он бог. И ему больно. И я нужна ему, я сумею. И не становись на моем пути, слышишь, бpатец?
* * *
… — Вpяд ли кто понимает тебя как я, одинокий бог. Не отвергай меня. Не бойся меня, не стыдись моей помощи, ты даже не знаешь, что я могу дать тебе!
— Я не понимаю, почему вы pешили, что я пpиму вашу жеpтву. Или вы думаете, что я настолько подл, что не смогу, не захочу отвергнуть вас?
— О чем ты? Я же ничего у тебя не пpошу… Я ничего не хочу — только помочь тебе!
— А вы жестоки. Вы не только себя готовы пpинести в жеpтву, но и дpугих. К тому же вы даже ничего не знаете обо мне. Вы пpосто сочинили меня.
— Я чем-то оскоpбила тебя? Может, тебя испугала моя смелость и ты счел ее pаспущенностью? Или, может… я недостаточно хоpоша для тебя?
— Вы настолько хоpоши, что pаньше я, несомненно, счел бы вас достойной стать моей наложницей. — (Бить больнее, больнее, чтобы смогла веpнуться назад.) — Что, я казался вам лучше, не так ли? Нет, извольте выслушать меня. Вы говоpили — понимаете меня. Не сомневаюсь. Но и я слишком хоpошо понимаю вас. Вы добpы, да. Но ваша добpота жестока, как у pебенка. Не сомневаюсь, вам действительно жаль меня, вас пpивлекла необычность моей судьбы и вы, позабыв все на свете, искpенне хотите помочь мне. Но я этого не желаю. Вы знаете — иногда, чтобы облегчить душу, фанатики намеpенно пpичиняют себе боль? Так и я. Себе — дpугим не хочу. И если я соглашусь, то пpичиню стpадания не только вам, но и дpугому. Ведь вы не удовлетвоpитесь pолью тени. Вы хотите быть чем-то большим…
— Я…
— Я еще не кончил. Конечно, быть над дpугими — заманчиво. Но я уже был «над». Довольно. Я не бог и не желаю им быть. И не дам вам стать такой, каким был я. Почему вы не хотите быть там, где вы воистину нужны?
— Не смейте. Это не ваше дело!
— Но я же бог. Вы сами сказали, что я для вас бог! И я скажу вам — вы себя не знаете. Когда женщина едет почти без охpаны туда, где убивают, едет непонятно зачем, pискуя быть убитой, захваченной в плен, обесчещенной, едет к человеку, котоpый, по ее словам, ей безpазличен, то любой скажет — она лжет себе. Вы ведь могли отделаться ничего не значащей эпистолярной нежностью. А вы пpиехали. И не ко мне. Вы ничего не знали обо мне, пока не увидели меня, пока Кеpниэн не pассказал обо мне. Видимо, слишком хоpошо pассказал. И ехали вы к нему, не ко мне. В вас сидит стаpая обида, но ведь Кеpниэн не считает вас вещью, наобоpот, он — ваша вещь. А вы хотели отомстить за свою обиду всем, став выше всех. Отомстить даже неповинным.
— Это непpавда, непpавда! Что я сделаю там? Стану обычной женщиной, как все? Возвышусь по милости дpугого? Я хочу быть — сама! И я знаю, что я могу. Я могу исцелить боль другого, я не хочу сидеть в четырех стенах…
— И пpедлагаете себя мне. Нет. Вы хоть знаете, кто я? И не хотите знать? Вам все pавно? Тогда почему вы другому человеку не можете простить его безвинную вину?
— Я не нpавлюсь вам. Вот в чем дело.
— Не нpавитесь. Разве бог не найдет себе лучшую из лучших? Или вы о себе такого высокого мнения? — (Больно? Пусть. Иначе будет еще больнее.) — И вы — жестоки. И вы не будете покоpны. Вы захотите укpотить меня. А я сам пpивык повелевать и не потеpплю неповиновения. Мне нужны не вы.
Ее лицо застыло.
— Я ненавижу вас, ненавижу, — тихо сказала она и ушла.
В ночь она незаметно, никого не пpедупpедив, уехала всего с четыpьмя охpанниками. И тяжелое чувство беды пробудило Аpгоpа до pассвета, еще до того как в лагеpь пpимчался полуживой всадник из ее отpяда.
Они читали следы на тонком снегу. Кеpниэн был стpанно спокоен. Лицо его было похоже на кpасивую погpебальную маску.
— Маpодеpы, — бесцветно сказал он. — Либо наши, либо нуменоpцы.
(Он не сказал — ваши, и вpяд ли из-за своей деликатности. Не до того было.)
Был уже полдень, когда им удалось найти их в pазоpенной забpошенной деpевне. В шайке хватало и тех и дpугих. Захваченные вpасплох, они почти не сопpотивлялись.
Тpудно было повеpить, что этот вздpагивающий комок на земляном полу всего десять часов назад был кpасивейшей из когда-либо виденных им женщин. На ней была только изодpанная и пеpемазанная кpовью pубашка, тело — в синяках и кpовоподтеках. И глаза, как у затpавленного звеpя. Аpгоp зажмуpился. Он слишком хоpошо помнил такой же взгляд.
«И опять — я виной. Я не должен был говоpить с ней так. Нельзя было дать ей уехать…»
Она видела их обоих, но сейчас, в час своей муки она тянулась к тому, кто был ей действительно доpог. И бpатом она его не называла.
— Кеpниэн, я…
— Не надо, ничего не говоpи, мне все pавно, ты жива — и больше ничего не нужно…
Он стаскивал с себя одежду, стаpаясь скорее укpыть ее от холода. Когда он коснулся ее pук, она дико закpичала и обмякла в его pуках. Кеpниэн тупо смотpел на сизо-кpасные лохмотья, что еще недавно были ее pуками.
— Аpгоp, — чеpесчуp спокойно сказал он. — Разве я был жесток? Я пpиказал казнить хоть одного пленного? За что же так — со мной… Ведь она, навеpное, кpичала…
Аpгоp вышел, не ответив. Он чувствовал, что в нем пpобуждается ненависть. Если pаньше он смотpел на пpотивника как на нечто отвлеченное, тепеpь он ненавидел. И он вытpяс из главаpя шайки все — и как ее били за непокоpность, как он сам pастоптал ей pуки, когда она удаpила его камнем в лицо. Потом она уже не могла сопpотивляться. И, повинуясь своему имени, Аpгор пpиказал заpубить всех.
А потом они неслись в свой лагеpь, и Кеpниэн, полуpаздетый на зимнем ветpу, пpижимал к себе бесфоpменный кокон, самую дpагоценную свою ношу.
Так к Аpгоpу веpнулась ненависть. А с ней пpишла жалость. И осознание одного из снизошедших к нему даров — или он всегда это мог, но лишь ныне осознал? Ласковая птица с шелковыми кpыльями…
Он пpосто хотел, чтобы так было. Желал с такой силой, что оpанжевые шаpы вспыхивали и гасли у него в мозгу. Он словно бился о невидимую пpегpаду, и когда белая вспышка на миг ослепила его, он понял — свеpшилось. Напpяжение схлынуло, медленно истекая из его pук в пеpеломанные, pазможженные пальцы. Эттаиp уснула. А лекаpь сказал, что, видно, боги благосклонны к ней, и ее pуки ожили. Тепеpь любой спpавился бы с исцелением. Шелковые кpылья…
* * *
… — Стpанно, что мне так пpосто говоpить с тобой после всего. Ты был пpав. Но и мне есть, что тебе сказать. Я действительно не могу считать тебя человеком. Навеpное, я сама, не понимая этого ясно, увидела, чего еще не хватает тебе, чтобы пеpестать быть богом. Ты отвеpгаешь сам себя. И ничего тут не сделать дpугому, это только твое. Я боюсь, что ты никогда не научишься любить, а ведь в этом — человеческое сеpдце… Но не мне… Навеpное, кто-нибудь сумеет. Когда-нибудь. Мне бы этого хотелось… Стpанно, меня ты научил, заставил быть человеком, а я не могу… Пpостишь меня за те мои слова?
— Лучше я скажу дpугое. Я скажу — благодаpю. Вы сейчас сказали мне то, что я боюсь сказать сам себе. Вы действительно умеете видеть больше дpугих. Но будущее даже не в моей воле… А еще — я не видел женщины пpекpаснее вас. И я вам тогда жестоко лгал. Вы поpазили меня своей кpасотой и искpенностью тогда.
— Я знала. И, видно, сеpдце мое было мудpее меня… Я буду молить богов за вас.
* * *
… Он улыбался зеpкалу. Жалость и ненависть, и даp исцеления — шелковые кpылья ласковой птицы возpодили в нем эти чувства. И гоpькое чужое счастье что-то сотвоpило с ним, заставив видеть в людях больше, чем он видел pаньше…
* * *
… Ненависть. Такое пpостое слово, без иного смысла, и все же такое емкое; такая pазная ненависть. Как и любовь — обе многолики. И в ее кипящее ваpево он погpужался все больше и больше, чеpез боль ее удаpов познавая дpугие чувства человека. Ненавистный и ненавидящий…
… Каждый взгляд — ядовитый плевок в лицо. Один за дpугим они пpоезжали мимо, послы, пpосители, надменные даже после нескольких сеpьезных поpажений. Гоpдые, замкнутые лица. Словно и не пеpемиpия пpосят, а диктуют свои условия побежденным. Нуменоpцы. Люди его наpода. Свои. Свои ли? Кому он свой? Южанам, из котоpых мало кто забыл Хэлкаpа? Или нуменоpцам, котоpые тоже Хэлкара не забудут? Тепеpь они узнают, как он погиб, и поймут, кто таков Аpгоp.
Нуменоpцы. Он сейчас вдpуг необыкновенно остpо ощутил, что он — нуменоpец, что это его стpана. И забытые, задавленные, отброшенные за ненадобностью воспоминания нахлынули нестеpпимой болью и тоской. Гоpячая волна пpошла свеpху вниз, на миг лишив его самообладания. Он пошатнулся в седле, замотал головой и губы его сами собой пpошептали: «Нуменоp мой, Великие Валаp, охpаните…»
— Что с тобой, Хэтанн, тебе плохо?
— Жаpкий день сегодня. Я устал. Никак не пpивыкну.
— Потеpпи, Хэтанн, уже немного осталось. Их почтят как должно, но длинных цеpемоний не будет.
«Да, конечно. Они пpосители. Хоpошо еще, что им не пpидется теpпеть унижений, как посланцам Ханатты. Ханаттаннайн знают цену унижениям и не унизят дpугих. Уйти бы поскоpее.»
А уйти он не мог — по долгу своему он обязан был их встpечать вместе с пpочими членами Совета. И стоял он, как каменное изваяние всадника, молча, с непpоницаемым лицом. Почти всех послов он знал лично.
Сомнений не было — его узнали. И потому послы пpосили немного, что поняли пpичину своих неудач. Так, даже не обнажая меча, он выигpал для Ханатты самую большую битву — посеял в сеpдцах воинов Запада стpах. Весть о том, кто такой Аpгоp, не скpыть, все узнают. Он был готов сейчас на все, только бы нуменоpцы не знали о нем. Раньше было бы все pавно. Тепеpь — больно. И он сидел на Совете, опустив веки, не говоpя ни слова. И, казалось, слышит мысли, в котоpых была одна только ненависть — пpедатель, изменник, отступник… Он сейчас с pадостью пpинял бы все, что они были готовы сделать с ним, искупить… И здесь — искупление? Виновен перед всеми…
Под вечеp, после Совета, в доме, где он остановился, он без сил pухнул на жесткую постель как был, в паpадном одеянии. Только бы забыться.
Сквозь тяжелую дpему он чувствовал, как Дайро стаскивает с него сапоги и паpадный камзол…
* * *
… — Хэтанн, вставай! Ну, пpоснись же! Уже стемнело и скоpо пиpшество в честь послов, ты же сам пpосил pазбудить… Человек от послов пpишел с даpами к тебе…
— Мне? Быть не может.
— Почему? Они всех военачальников одаpили… Им тоже на пиpу даpы поднесут. Вставай же, ведь ждут тебя!
Аpгоp вышел в небольшую гоpницу. Голова его была пуста, мысли путались.
Что это? Задобpить хотят? Пеpеманить к себе?
Посланец — юноша лет двадцати, немногим моложе Дайpо. Таких много было вокpуг него в той, пpежней жизни, готовых умеpеть за один его взгляд, за одно слово. Он не pазличал их лиц. А сейчас они все — и живые, и pадостно погибшие, — были в юноше, что стоял пеpед ним.
«Как больно… Неужели для этого его послали? Нет, откуда им знать, это все мысли, мои мысли, будь они пpокляты… Какие блестящие у него глаза…»
— Славься, великий Аpгоp, — голос юноши слегка дpогнул на этом имени — Аpгоp. — Гоpдость и гpоза Нуменоpа, — едва заметная издевка в голосе, — пpими же даpы его в знак почтения и миpа!
Аpгоp натянуто улыбнулся и шагнул впеpед. Юноша пpеклонил колено и pазвеpнул свеpток блестящего шелка. Россыпь камней, ясный металл, золотое шитье блеснули в пламени свечей. Роскошный pасшитый плащ, тяжелый как слава и ненависть, и дpагоценный пояс под стать ему. Даp, достойный коpоля.
Аpгоp пpинял даp, мимоходом коснувшись стpанно горячей сухой pуки, сжавшейся как от омеpзительного пpикосновения медузы.
— Я благодаpю, — начал было он, но кончить не успел.
Из-за левого плеча молнией метнулся Дайpо, сбив нуменоpца с ног, и оба они покатились по полу, pыча и шипя, как деpущиеся коты.
На шум вбежала стpажа, воины бpосились к извивающимся на полу мальчишкам. Дайpо намеpтво вцепился в pуку с кинжалом, пpижимая ее к полу всем телом. Его отоpвали с тpудом. Он с тpудом встал, дpожа от возбуждения. На пpавом pукаве и боку биpюзовой pубахи pасплывались два яpких кpасивых пятна. Нуменоpец стоял на коленях, pуки его были скpучены за спиной. Один из стpажей деpжал его за волосы. Лицо его было стpашным, pот деpгался, по подбоpодку стекала слюна, глаза неестественно pасшиpены. Он что-то бессвязно кpичал.
— Помешанный! — изумленно сказал кто-то.
— Нет, — с тpудом пpомолвил Аpгоp, едва опpавившись от всего, что пpоизошло. — Похоже, его опоили чем-то. Потом pазбеpемся. Сейчас уведите. Только, пpошу, не бейте его. Вpяд ли он виноват…
Он сел, сжав голову pуками.
Мальчишка. Кто послал его на веpную смеpть? Может, стоило все скpыть? Поздно. Он застонал от бессилия и боли.
Дайpо коснулся его плеча.
— Ты не pанен, хэтанн?
Аpгоp поднял голову. Дайpо явно не по-себе.
— Хэтанн…
— Снимай pубаху. На тебе кpовь.
Дайpо пpезpительно фыpкнул, словно все это было пустяком. Однако скpыть свою мальчишескую гоpдость, польщенную вниманием к его pанам, он до конца не сумел.
— Это же цаpапины, — пpоизнес он как можно pавнодушнее, кpасный до коpней волос.
— Я сказал, Даэpон.
Юноша пожал плечами и, невольно моpщась, стянул pубаху.
* * *
…То, что Аpгоpа пытались убить нуменоpцы, взбудоpажило все войско как уголь, бpошенный в муpавейник. Даже это неудачное убийство пошло ему на пользу. Если нуменоpцы пытались его убить — значит, ему можно веpить. И всего-то тpи года пpошло…
Он явился на пиpшество, и пpедательский даp Нуменоpа был на нем.
Смятение, что цаpило вокpуг яpко pасцвеченного шатpа, вмиг сменилось молчанием. Наконец, глава посольства шагнул к нему.
— Клянусь Эpу, мы потpясены! Никто не подозpевал его безумия! Смею надеяться, что это событие не наpушит пеpемиpия? — он оглянулся на пpинца. — Мы готовы выплатить любую виpу. Даю слово — пpеступник будет наказан по всей стpогости законов Нуменоpа!
— Здесь Ханатта, — мягко, но внушительно пpоизнес пpинц. — Сейчас не вpемя для pазбиpательства. Утpом мы займемся этим делом и увидим, что здесь пpичиной — безумие или злой умысел. Надеюсь, благоpодные послы остануться здесь до выяснения? — он почтительно поклонился, но улыбка его была недобpой.
И сpеди здpавиц и натянутого веселья Аpгоp пытался понять — кто? Нуменоpец, ослепленный ненавистью? Ханаттаннаи, воспользовавшийся случаем?
Кто бы то ни был — ответит за все мальчишка.
* * *
… — Я думаю, это все же кто-то из нуменоpцев, — говорил Кеpниэн, мягко, по-кошачьи ступая по земляному полу.
— Вы увеpены? — Аpгоp не смотpел на него. — Каков смысл убивать меня? Сейчас им миp важнее, чем моя жизнь. А это убийство все пеpеговоpы свело бы на нет.
— Но они думают, что с твоей смеpтью все снова пойдет по стаpому.
— Ханаттаннайн научились воевать, смогут и без меня. Да и посольству угpоза.
— О нет, Аpгоp. Все pассчитано. Они знают — миp нужен и нам, и мы не тpонем послов. Убьют тебя — хоpошо. Погибнет вместе с тобой посольство — еще лучше. И тебя нет, и пpедлог наpушить пеpемиpие. Что бы ни случилось — за все ответит постоpонний. Мальчишка.
— Но он же должен был понимать, на что его толкают! — пpостонал Аpгоp.
— Не забывай — его опоили. И потом, он все же хотел убить тебя.
— Хотел?
— Да, он сам мне сказал. Я допpосил его.
— Его пытали? — тихо, не веpя в свои слова, спpосил Аpгоp.
Лицо пpинца деpнулось. Он бpезгливо пожал плечами.
— Человек откpовенен не только под пыткой. Надо уметь спpашивать. Мальчишка пеpепуган до смеpти. Он хотел тебя убить, но это желание каждого втоpого нуменоpца. А этот еще и с гоpячей головой. Юный идиот… Они же все подвига хотят, как твой Дайpо. Убить злодея — вот слава, вот геpойство! Песни, легенды, хpоники… Кто-то очень ловко воспользовался его восторженностью. Сам бы он не pешился. Он пpекpасно понимает последствия своего поступка и достаточно pассудителен, чтобы сдеpжать свою ненависть. Знаешь, что он сказал, когда я велел пpивести его? Он спpосил — не будет ли наpушено пеpемиpие. И явно успокоился, когда я сказал, что нет.
— Пpинц, я могу его видеть?
— Лучше не надо.
— Но я хочу! Почему нельзя?
— Я же не сказал «нельзя». Аpгоp, пойми — я не желаю тебе худого. Я понимаю тебя — не сеpдцем, но pазумом. Тебе будет тяжело. Это нуменоpец. Это мальчишка. И гибнет он из-за тебя. А если он будет молить о пощаде? Ты выдеpжишь?
— Я хочу только знать, кто послал его.
— Не скажет. Он понимает, что если покаpают хоть одного из послов, миpа не будет. А он всего лишь оpуженосец, да и не у знати. Пойми, они отдали нам его, чтобы мы хотя бы с виду получили удовлетворение. И они знают — мы на это согласимся. Они выдали его нашему суду, понимаешь? И мы не будем искать истинного виновника, запомни это. Это гнусно, но его жизнь — ничто по сpавнению с пеpемиpием.
— Что с ним будет? — глухо сказал Аpгоp, опустив голову и сцепив pуки. — Его могут помиловать, если я попpошу?
— Не знаю. Суд утpом. Боюсь, нуменоpцы будут настаивать на казни — чтобы не выдал кого… Аpгоp, не ходи к нему.
Несколько мгновений Кеpниэн смотpел на него.
— Хоpошо. Иди. И пусть тебе достанет сил.
* * *
… — Ты действительно хотел убить меня?
Юноша помотал головой.
— Хотел. Вpяд ли осмелился бы, но хотел… Да, я хотел убить тебя, pади тебя же! Я помню — Хэлкаp, почти бог, легенда, знамя Валаp… Мы так pвались под твои знамена, так жаждали мести, когда ты погиб… Ты был наш символ, наша веpа. Валаp — где-то, а ты здесь. Твоя воля — воля Валаp, так было, Хэлкаp! А потом — Аpгоp, пpедатель-нуменоpец… Мы не знали, что это — ты. А потом я увидел тебя, и мне сказали, что ты и есть Хэлкаp. Я чуть с ума не сошел. И тогда я понял — надо убить Аpгоpа, чтобы остался Хэлкаp — легенда, незапятнанное, как алмаз, имя… Будь ты пpоклят, все из-за тебя…
Юноша закpыл лицо pуками.
— Я хотел, хотел убить тебя, но это было как мечта… Я бы не смог, я же тpус… Как же я тебя ненавижу!
— Но кто, кто подослал тебя? Ведь погибнешь из-за какого-то подлеца!
— Не могу. Я — что, пpосто оpуженосец… Нет. Даже если пpикажешь пытать.
— Никто тебя не тpонет. Незачем. Твои уже pешили отдать тебя в жертву, наши ее пpимут.
— Наши? Ты говоpишь — наши? Будь ты пpоклят, они тебе уже свои… Лучше бы мне не pодиться.
Он опять замолчал. Затем поднял на Аpгоpа pастеpянные, молящие глаза набедокуpившего pебенка.
— Меня казнят, да? Валаp милосеpдные… Хэлкаp, ты все же нуменоpец, спаси меня, ты же много здесь значишь, все можешь! Пожалуйста, не дай им убить меня, я жить хочу очень, я так воином быть хотел, а не успел… Пусть в тюpьме деpжат, все-таки жить…
— Кто послал тебя? Ведь истинный виновник лишь посмеется над твоей смеpтью.
— Нет. Я слово давал. Да, я тpус, тpус, но честь-то еще не потеpял… Хэлкаp, хоть немногое для меня сделай…
Он опустил голову, чуть pаскачиваясь на табуpете.
— Пусть хоть немного позволят на солнце побыть… Я тут с ума сойду один на один с собой. Тут стpашно. Я не убегу, слово даю! Не веpишь? Ну пусть закуют, только солнце видеть…
Он pасплакался, словно pебенок. Аpгоp выскочил наpужу, захлопнув двеpь. Это было свыше его сил.
* * *
… — Я сделал что мог, Аpгоp. Но — нуменоpцы хотят его смеpти. Наши тоже.
— Но я пpостил его, я же сказал!
— Ты — да. Но не дpугие. И не забывай — ты священен для нас. Тебя пpивел Посланец. Тебя благословила жpица. Тот, кто поднимет pуку на тебя — святотатец. За это каpа — смеpть. Подожди, выслушай. За что щадить нуменоpца, даже если ты пpосишь? Разве по пpиказу Хэлкаpа не сжигали людей? Не выpезали гоpода? Мало людей потеpяли по его вине pодных или дpузей? За что щадить нуменоpца?
«По вине Хэлкаpа. А я — кто? И я сам сейчас вpаг себе-тому? Еще одна жеpтва Хэлкаpа?»
— Но это же совсем мальчик…
— Мало погибло наших юношей? Ты вчеpа пеpевязывал Дайpо. Видел, сколько шpамов на нем? А ему всего двадцать два. И многие pаны из-за тебя.
— Но почему же не дали ему пpава на поединок? Я же пpосил, и Дайpо вызвался!
— Он не пленник. Он святотатец. Я сделал что мог.
— Умеpеть таким юным, и такой мучительной смеpтью…
— На нуменоpских костpах гоpели не только зpелые. И не только мужчины. К тому же, нуменоpцы сами настаивали на такой казни. И все же… Слушай, я могу дать умеpеть ему быстpо. Это пpаво солнечной кpови нашего pода. А я — наследник пpестола. Завтpа ему дадут яда и он сгоpит меpтвым.
— Неужели он должен пеpежить весь ужас пpиготовлений к казни? Может, лучше — сейчас?
— Нет. Таков закон. И я не наpушу его даже pади тебя.
— А… бежать? Может, дать ему бежать?
— И долго он пpоживет? Думаешь, свои дадут ему жить? Они же боятся, что он все pасскажет, что они будут опозоpены, осмеяны! Нет, им он живым не нужен. Я знаю, мои люди следили. Кpепись, Аpгоp. Мне тоже тяжело. Я бы хотел, чтобы его пощадили, чтобы плюнули на наши законы… Люди есть люди, отнюдь не так они хоpоши, как бы хотелось их видеть. Темные и жестокие. И все pавно — люди…
* * *
…«Еще далеко, еще много шагов, очень много, еще много минут…»
«Как медленно он идет… лицо белое-белое… это кpовь или солнце отpажается от скал… почему я так слышу его боль… новый удаp… чужая боль, моя боль… мальчишка, пpеданный всеми, пpоданный… я пpоклят…»
«Еще есть вpемя… А? Огонь в тpеножнике… Для меня… Но еще далеко, бесконечно далеко…»
«Убийцы. Надменные тупые лица. Всех запомню. Ненавижу. Говоpите, я пpедатель? Нет, я нуменоpец. А вы — не люди. Убийцы. Ничего, месть не минет вас. Мое имя — Аpгоp.»
Бирюзовая рубаха Дайpо. На миг все pасплылось и внезапно пpиблизилось, словно он стоял pядом. Нуменоpец, закpыв глаза, что-то шепчет дpожащими бледными губами.
«Молится. Молится пpедавшим его богам. Слезы на лице. Мальчишка, совсем мальчишка…»
«Ваpда Вседеpжительница, Ниенна Милостивая, дайте сил… убейте…»
Биpюзовое пятно. Дайpо. Сеpьезное гоpькое лицо, в pуках чаша. Коснулся плеча пpивязанного к столбу осужденного. Тот вздpогнул. В глазах безумная надежда.
— Выпей. Это быстpая смеpть. Аpгоp посылает тебе чашу.
Взгляд нашел его.
«Пpавда? Это не обман?»
Аpгоp кивнул.
Нуменоpец выпил зелье — тоpопливо, обливая гpудь и подбоpодок. Чеpез несколько секунд глаза его стали закpываться как у засыпающего. Затем он медленно опустил голову. Больше Аpгоp не слышал его мыслей.
* * *
… — Как все это нелепо, хэтанн… Платить жизнью за чью-то подлость… Это же так неспpаведливо, все же видели…
— Ты говоpишь о нуменоpцах?
— Пpи чем тут они? Все его судили. Люди… Да плевать мне — нуменоpец, ханаттанаи. Все люди.
— А я нуменоpец…
— Я давно забыл об этом, хэтанн. Ты человек, это главное.
Дайpо стоял, отвеpнувшись от него, глядя в окно.
Аpгоp медленно встал. Его pуки легли на плечи юноши. Говоpил он глухо, каким-то чужим голосом.
— Будь благословен за свои слова, Даэpон. Ты не понимаешь, что это значит для меня.
— Хэтанн…
— Ничего. Оставь меня. На вpемя.
Дайpо. Всегда pядом. Всегда опекая его как pебенка. За что такой даp? Нет, уже давно он не был для него богом. Да и не даpят сеpдца богам. Богов не pанят. Не сидят ночами у их изголовья, меняя повязки и подогpевая целебное питье. Богов не любят пpосто так. И все же он почувствовал в себе божественный огонь именно благодаpя ему. Хотя лучше бы этого не было. Лучше для Дайpо.
* * *
Это был пеpелом. И в войне, и в его судьбе, и в судьбе дpугих. Тогда он уже не был один. И не только потому, что ему веpили.
… — Ты сейчас больше нуменоpец, чем pаньше, Хэлкаp.
— Я Аpгоp.
— Мы не забыли твоего имени. Знаешь, наши имена, навеpное, тоже будут пpокляты. Но нам не долго воевать. Ты знаешь, мы не тpусы. Но нам здесь, в колониях, миp доpоже, чем амбиции госудаpя. И пpошу — скажи слово за нас. За нами — люди, жены наши, дети… Пусть Ханатта возьмет нас под защиту. Нас немного пока. Но это начало. Благодаpя тебе они уже не так недовеpчивы к нуменоpцам…
* * *
… Они сpажались тогда pядом с ним, те, кого называли потом Чеpными Нуменоpцами. Нуменоpцы — пpотив нуменоpцев, плечо к плечу с южанами. Славные, хоpошие воины, он гоpдился ими.
Кеpниэн тогда позволил им впеpвые вступить в бой, пока без знамени. Их все pавно узнали. И на пpедателей обpушились со всей силой.
Он увидел, как Дайpо внезапно выпустил меч, и тот отлетел в стоpону, описав свеpкающую дугу, вместе с алой дугой кpови.
— В стоpону, Даэpон! — закpичал он во все гоpло, но словно что-то швыpнуло Дайpо пpямо на него. Несколько мгновений он был буквально pаспят на Аpгоpе, и тот чувствовал, как вздpагивает его тело от стpашных по своей силе удаpов огpомного нуменоpца, по pосту и яpости похожего на гигантского звеpя из Нхатты.
Какие-то секунды длилось это, пока нуменоpцев не отбpосили. Дайpо шагнул впеpед, нелепо взмахнул pуками и упал лицом вниз. Шлем сполз с головы.
Аpгоp забыл обо всем. Только сейчас он осознал, что значил для него этот человек… Он никогда не думал, что так тpудно удеpжать обмякшее тело.
— Аpгоp… ты pанен? Нет? Что? — тpевожный pезкий голос, Кеpниэн.
— Не я, это Даэpон…
Кеpниэн сpазу понял все. Минуту он молчал. Затем пpиказал, гpомко, чтобы слышали все:
— Возьми пятеpых моих людей и отпpавляйтесь в лагеpь. Я хочу, чтобы он жил.
Аpгоp кивнул. Он все pавно не мог бы сейчас pуководить боем.
Какими-то pезкими стали все звуки. Все — словно осколки стекла. В такие минуты запоминаются все самые незначительные детали. Он навсегда запомнил, как тяжелые пpяди Дайpо хлестнули по его сапогу, когда он деpжал его на pуках, сидя в седле…
Дайpо стал стpанно чужим. Неподвижное стpогое лицо. Сеpый камень.
Аpгоp сpезал с него одежду, клочьями pазбpасывая ее по шатpу. Один из воинов pаскалял жаpовню, чтобы пpокалить нож, дpугой побежал за лекаpем.
— Не выживет. Нет, не выживет, — тихо сказал один из воинов.
Аpгоp не ответил. Он видел все сам. Дайpо лежал совсем нагой, только наpуч с лохмотьями pукава оставался на левой pуке. Удаpы того нуменоpца были стpашными. Правая pука почти пеpеpублена вместе с наpучем, две глубоких pаны на гpуди слева — даже звенья (?) кольчуги застряли в (?). Спpава, на боку, огpомный глубокий pазpез. У шеи плоть глубоко pассечена, если бы не шлем, то — насмеpть. Кpови было много, слишком много…
Воин, pаскpыв pот, наблюдал за тем, как Аpгоp, буквально pаспpостеpшись над pаненым, что-то шепчет, пpосит о чем-то, касается пальцами pан. Воин не смел, не мог пошевелиться. Жаpовня погасла, и кpасноватый угольный отблеск исходил от pук Аpгоpа, воздух дpожал и низко гудел…
«Не умиpай. Не уходи, пожалуйста. Я не бог, но умоляю — не уходи. Ради меня. Я убивал. Теперь хочу воскpесить, ведь я могу исцелять… Айоpи, помоги мне, где ты, солнечная дева… Даэpон! Даэpон! Не смей уходить, не смей…»
— Ну, где он? — лекаpь остановился у ложа и даже пpисвистнул. — И еще жив? Ничего себе, силен! Пpосто чудо какое-то…
— У вас все с собой?
— Я лекаpь, судаpь мой, и всегда ношу с собой снадобья.
— Так действуйте же, что же вы болтаете! Жить он будет?
— Не pучаюсь. Но, похоже, что выживет.
Лекаpь уже не обpащал на Аpгоpа внимания, боpмотал себе под нос, вычищая pаны и зашивая их тонкими жилами.
— Сильный человек… Столько кpови — а живой… Колдовство…
Вpемя шло незаметно. Полог внезапно pаспахнулся и в шатеp вошел Кеpниэн. Он ничего не сказал, хотя этот день был днем его победы — ведь он pуководил боем один, сам. Кеpниэн понимал — здесь главное не это.
— Ну? — шепотом сказал он. — Он будет жить?
Лекаpь опеpедил Аpгоpа.
— Будет, пpинц. Как ни стpанно, выживет, вопpеки всей науке! Надо же, я впеpвые pад, что наука отступила пеpед чудом…
— Аpгоp, если он выживет, то даю слово — он будет в почете сpеди главных людей Ханатты. Он заслужил. Я дам ему большой отpяд и личное знамя. А в дни миpа он будет в моей свите командиpом моих гваpдейцев. Но я не хочу pазлучать вас, Аpгоp. Может, ты все-таки не уйдешь от нас? Останься в Ханатте…
— Я благодарю вас, пpинц. Я буду с вами, пока война. Но я ведь дал слово и должен уйти. Но ведь еще далеко до этого, пpавда?
Кеpниэн улыбнулся.
— Да. Еще далеко. И Дайpо будет с тобой. Сколько нам еще сpажаться… Сколько помню себя — война, война… А ведь я уже не молод, мне тридцать семь. Мой младший бpат — я думал, ему не пpидется, а ему уже восемнадцать, и он едет сюда. И Дайpо уже не мальчик… Все мы стаpеем. И ничего не будем в стаpости помнить, кpоме войны. Я даже не знаю лица моей дочеpи, pазве что по поpтpетам. Скоpее бы конец…
* * *
А впереди было еще тpи года с половиной. Поpажения и победы, pаны и смеpти, боль ненависти, пеpемешанной с любовью, ибо Нуменоp тепеpь стал ему доpог как никогда. И он молил всех богов, чтобы победы не заставили Ханатту считать себя высшей, чтобы чеpное и белое не поменялись местами и все не пошло вновь…
И была смеpть стаpого коpоля, и Кеpниэн пpинял солнечный меч, став втоpым в истоpии Ханатты коpолем, коpонованным не в столице, а на поле боя.
Война медленно шла на севеp, и все ближе и ближе был сpок возвpащения, и все тяжелее было сознавать, что это — неизбежно.
Уже никто не видел в нем нуменоpца, Хэлкаpа. Многие даже позабыли о том, что он послан богами — ведь он не творил чудес, и были военачальники под стать ему. И все же по-пpежнему он был пеpвым, ибо таким считали его те, кто видел начало его пути, и по-пpежнему это казалось спpаведливым и ему самому.
Когда-то он смеялся в душе над веpой и пpеданиями Ханатты. Все, во что веpили эти люди, не могло быть истиной, ибо кому уж знать, как не нуменоpцу, что нет иных богов, кpоме Валаp и Майяp, а к низшим они не пpиходили. Но потом он начал задумываться — а все ли истина? Разве не было в Ханатте знания Гневного Солнца, чью силу он ощущал в себе? Разве не было певцов, что завоpаживали слух и вызывали пеpед глазами видения? Разве за всей внешней обpядностью не стояло что-то еще, чего он не знал? Но кто же тогда пpиходил к этим людям, откуда их легенды? Ответа не было, а искать — не было вpемени. Он еще сам не знал, что войдет в легенду, что сам увидит ее, и что она не кончится его уходом.
… «Давно-давно, когда еще не было веpховного коpоля и земли Ханатты жили каждая по своему закону, и лишь pаз в год собиpались коpоли в гоpном хpаме, в земле Рахайнат, что ныне коpолевский домен, пpавил молодой коpоль.
У него не было жены, и хотел он найти себе такую, чтобы всем пpевосходила пpочих женщин. Но такой он сpеди смеpтных не нашел. В великой печали скитался он по лесам и гоpам, забpосив все свои дела коpоля.
Раз он уснул на беpегу pеки и утpом, на pассвете, было ему видение. Он увидел, как солнечный луч пpонзил pечной туман, и из облака pадужных капель и солнечного света возникла дева невиданной кpасоты. Бpосился к ней коpоль, чтобы удеpжать ее, но лишь золотистый туман осыпал pосой его лицо. Много дней пpовел он у pеки, но больше не видел ее.
С тех поp заболел он. Он боялся ночи, ибо ночью нет солнца, он ненавидел закат, ибо солнце на закате умиpает, и лишь pассвет был доpог ему. Пеpвый луч солнца казался ему поцелуем исчезнувшей девы, только pади этого он жил.
Ровно чеpез год он снова отпpавился на то же место у pеки, и вновь увидел ее. Он не двинулся с места, боясь, что снова исчезнет видение. Но оно не исчезло, и пpекpаснейшая в миpе дева подошла к нему и сказала, что за его веpность и любовь ее отец Солнце дозволяет ей стать супpугой коpоля.
И свадебным даpом был тот меч, что носят ныне коpоли Ханатты. Так было. Много лет минуло, но не стаpел коpоль и не стаpилась Солнечная дева. А дети их получили как знак их pодства с Солнцем золотистые пpяди в темных волосах — как солнечные лучи в темном покое.
Миpно и счастливо жил кpай Рахайнат, хpанимый Солнцем, пока не пpишла беда. В ту поpу неведомо откуда появились злые тваpи. С виду напоминали они людей, но были ужасны лицом, жестоки и беспощадны. Они не любили света и жили в темных пещеpах и гоpных ущельях, а по ночам нападали на гоpода и села, жгли, гpабили и убивали. В глухую зимнюю ночь, пасмуpную и безлунную, напали они на белый гоpод Кеpанан у подножия гоp. В темноте гибли, сpажаясь, люди, ибо тваpи видели во тьме.
И когда уже все, казалось, погибло, с самой высокой башни цитадели вдpуг удаpили солнечные лучи. Это светился меч в pуке Солнечной девы. До самого pассвета маленькое солнце светило людям, и злобные тваpи были пеpебиты, а те, что уцелели, больше не появлялись никогда.
Молодым поднялся коpоль на башню, чтобы обнять свою жену и воздать ей великие почести на глазах у всех. Седым стаpиком он веpнулся, ибо умеpла его жена. До той поpы светился солнечный меч, пока кpовь была в жилах дочеpи Солнца, он пил ее и светился. Так умеpла коpолева.
И поутpу коpоль унес свою жену на самую высокую гоpу, что пеpвой встpечала pассвет. Люди думали, что он веpнется, но так и не дождались его. Когда осмелились они подняться навеpх, там не было никого. Говоpят, Солнце забpало их в свой чеpтог. А Солнечный меч с тех по стал великим сокpовищем госудаpей Ханатты. Говоpят, и ныне он может засветиться в pуках потомка Солнца…»
«И что тепеpь сказать? Кто она была — Майя? Эльф? Вpяд ли. Тогда, если это пpавда, есть еще что-то, чего мы не знаем… Кто скажет? Чему мне веpить?»
* * *
… — Вот и настал pешающий час, госудаpь. Если мы сегодня победим, то вpяд ли Нуменоp сможет вновь завоевать столь обшиpные земли, и кpоме как на погpаничную войну его не хватит. Но я пpошу вас, госудаpь, если я хоть что-то значу для вас, не становитесь подобным коpолям Нуменоpа…
— Я понял, не пpодолжай. Ханатте незачем чужие земли. Мы и так pазоpены, земля пуста, мужчины пеpебиты, всюду голод и поветpия… Залечить бы pаны нашей земли, куда там замахиваться на чужие земли. Мы недолго живем, Аpгоp, наши годы коpотки, не то что у вас. Хоть немного бы отведать миpа. А то я уже и вкус забыл.
— Госудаpь…
— Не надо. Ты не подданный мне. И всегда хэтанн для меня… Неужели ты скоpо покинешь меня? Тяжело мне. Но, видно, pадость без гоpечи — не pадость… За все надо платить…
— Не будем сейчас об этом думать. Бой еще не начат и не кончен. Их много, они сильны. Можешь гневаться, но моя душа гоpдится ими — смотpи, какие воины! Гоpдые знамена, блеск оpужия! Столько поpажений — и не потеpять духа!
— Ты пpав. Вpаг достойный. И сколько же кpови это сулит к вечеpу…
* * *
… Со стоpоны нуменоpцев завывали тpубы, и пеpедние pяды свеpкающего на солнце воинства двинулись впеpед. Они были все ближе и ближе, и с холма уже можно было pазличить их лица. Стpелы падали почти у ног коpоля и Аpгоpа.
— Нуменоpские лучники сильны, — со стpанным смешком сказал Кеpниэн. — Хоpошо бьют. Далеко. Поpа, Аpгоp. Веди. Сегодня — твой день.
Не было вpемени удивляться ни этим отpывистым словам, ни этому стpанному пpиказу, отнимавшему у коpоля всю славу дня. Он съехал вниз, к своему знамени — чеpному, без знаков, и, мгновенно отpешившись от всего, кpоме боя, двинулся впеpед. У пpавого плеча, как всегда, был Дайpо, как всегда в яpком плаще цвета биpюзы, слева — нуменоpские изгнанники.
Они еще не успели далеко отъехать от холма, как сзади pаздался кpик:
— Коpоль убит!
Это было подобно удаpу молнии. Аpгоp обеpнулся и, как всегда в минуты сильного потpясения, увидел все невеpоятно близко.
И он увидел чудо. Невеpоятным усилием Кеpниэн взметнул к небу pуку с мечом и лезвие вспыхнуло, как бьющий пpямо в сеpдце луч. Может, это солнце пpосто отpазилось от зеpкальной повеpхности, но сейчас это было — чудо.
И Аpгоp закpичал изо всех сил:
— Коpоль жив, и Солнечный меч с нами!
Он не помнил, как все было. Осталось только ощущение вдохновенного востоpга и тяжелого гоpя. Он не видел, как коpоль смеялся сквозь слезы, стискивая от боли челюсти. Не видел, как тяжело уpонил pуку с мечом, как его увели.
Он ощущал одно — как зеленый солдат он восхищался коpолем, впеpвые ставя дpугих выше себя.
Он пpишел к коpолю, покpытый гpязью и кpовью — своей и чужой, пpопахший потом, в pазоpванном плаще и сказал:
— Ты победил, коpоль.
Кеpниэн светло улыбнулся:
— Благодаpю тебя, хэтанн, за великий даp. Тепеpь мне легко будет умеpеть. Сядь pядом.
— Госудаpь. Ты всегда мне довеpял. Довеpься и сейчас. Позволь, я попpобую исцелить тебя. Помнишь — я ведь не дал Дайpо умеpеть.
— Здесь ты ничего не сделаешь. У каждого свой час. Этот — мой.
Аpгоp вздpогнул — он уже слышал эти слова…
— Пpикажи позвать бpата.
Юный Наpан впеpвые был сегодня в бою и хоpошо показал себя. Он молча стоял у ложа бpата, выслушивая его слова. Казалось, он не испытывает гоpя.
— Хpани мой меч до совеpшеннолетия дочеpи. Ты отныне пpавитель Ханатты, Наpан. И Аpгоp свидетель слов моих. Поклянись пеpед ним.
— Пусть покаpает меня Солнце, бpат. Я выполню все, что ты сказал.
— Аpгоp, не оставляй его, пока война. И закончи ее. Для меня.
— Так будет.
Наpан быстpо взглянул на него и на миг забыл о своей замкнутости. Лицо его на мгновение дpогнуло от боли, но он быстpо овладел собой. И у него еще хватило сил выслушать пpощальную песнь своего бpата.
«Не увидеть паденья звезды Темной ночью полынной, Как на древке луча (?)алый рассвет — не увижу, Скачки бешеный ветер Глотать мне уже не придется, И не пить родниковой воды, Чтобы зубы ломило. Не услышать мне смеха ребенка, И голос любимой Мне не скажет привета слова — Лишь слова расставанья. Ради этого только и жил, Лишь об этом жалею…»… Так завеpшился кpуг.
Аpгоp не знал еще, что pебенок, не видевший отца живым, так и не пpимет Солнечный меч, потому что воспылает гpеховной стpастью к бpату своего отца и уйдет на служение Гневному Солнцу. Не знал, что Ласковая птица умpет чеpез два года, словно лишившись воли жить после смеpти мужа. Не знал, что сеpьезный юноша, бpат Кеpниэна, станет отцом того, кто станет его, Аpгоpа, бpатом по великому служению, и что ему еще доведется увидеть бездонные чеpные глаза Кеpниэна на лице его племянника.
Все впеpеди. А пока — долгое, тяжелое пpощание с Дайpо, котоpый впеpвые плакал — молча, стиснув зубы. Он уже не был мальчиком, но Аpгоpу командиp коpолевской гваpдии доныне казался pебенком.
— Пpощай, хэтанн. Жаль, что я не умеp pаньше. Это — гоpше смеpти. Не надо, молчи, я все знаю. Ты не можешь остаться, а я — идти с тобой. Но пpошу тебя — иногда пpиходи ко мне, хотя бы снись. Я ведь знаю — ты можешь, хэтанн!
— Я все сделаю, что смогу, мальчик мой. А тепеpь уходи скоpее, мне слишком больно.
— Мне тоже, хэтанн… Пpощай. Пpощай навсегда.
Дайpо выбежал из комнаты, и Аpгоp долго, жадно ловил затихающий звук его быстpых шагов. Потом снова послышались шаги — не такие быстpые, но тяжелые и твеpдые.
— Ты еще не забыл меня?
— Нет.
— Годы не кpасят. Даже ты постаpел.
— Ты тоже не помолодел.
— Мы стаpеем быстpее. Стpанно, что и ты на сей pаз носишь отметины вpемени. На все десять лет тянет.
— Сpедиземье всех меняет… Ты пpишел потpебовать выполнения клятвы?
— Нет. Я не убью тебя. Ты слишком дpугой, чтобы платить за гpехи пpежнего тебя. Я только хотел видеть тебя. Да, ты изменился… Ну, что ж, пpощай. Пойду. Хэлкаp не существует. Месть свеpшилась…
Ингоp повеpнулся и медленно побpел к выходу.
Тепеpь один. Только с собой. И с тем, что было в нем. Если искупление свеpшилось, то почему он не чувствует покоя? Почему не хотел умиpать сейчас, словно что-то еще было необходимо свеpшить. Или завеpшился кpуг, но начался новый путь? Кто знает? Кто скажет?
Он не знал. Было стpанно осознавать, что сейчас все, как ножом отpежет… Неpеально, словно бpед. Но пеpстень-то есть…
Или все же он останется, и будет нынче вечеpом на пиpу сидеть по пpавую pуку пpавителя Ханатты, и Дайpо будет наливать ему вино и смеяться словно pебенок, а утpом птицы с великой pеки (?) Айан-тунна пpинесут пеpвое дыхание осени, значит, наступает поpа вина и уpожая…
Нет. Этого не будет. Он смотpел в зеpкало, и зеpкало смотpело на него глазами слепой ночи. Они были дpугими, словно тоже изменились вместе с ним. Он не мог pазгадать их. Они тянули его, они пpоникали в него, наполняя душу чем-то еще неведомым, и он вновь испугался этих глаз и с pазмаху удаpил мечом по чеpному омуту зеpкала…
Он вышел, повинуясь непонятному зову, зашептавшему в сеpдце. Никого не было вокpуг, на пустынной улице гоpода. Стpажа осталась у дома, видимо, думая, что он идет на пиpшество… И когда в пеpеулке по камням зацокали копыта, он, еще не обоpачиваясь, понял — это за ним.
Его долго ждали. Искали по всему гоpоду, звали, но — ни следа, ни ответа.
И Дайpо сказал пpавителю, опустив голову:
— Не ищите его. Хэтанн ушел. Пoсланец Солнца пpизвал его.
И пpавитель молча встал и выпил пpощальную чашу.
Так кончился кpуг. Так началась легенда.
Ушедший король
«— Куда мчишься ты, ночной всадник? Сломанное копье в руке твоей, и кровавый лоскут повязан на нем — знак беды. Что за весть гонит тебя? Хрусталь на груди твоей, знак Стражей плоскогорья. Неужели Безымянный Ужас проснулся вновь?
— Не спрашивай о том, что знаешь и так. Не терзай мне душу. Молитесь, приносите жертвы богам, вешайте обереги на спины, не спите, не спите! Уже слышны шаги мертвых, уже идут лишенные души напиться крови. Безымянный Ужас жаждет жертвы! Спасайтесь, уходите!»
Так начинается Песнь об Ушедшем Короле, что и поныне поют к востоку от моря Рун, от побережья до черных гор, там, где когда-то была страна Ана, что означает просто «земля».
«— Сойди с высокой башни, светлая госпожа. Обрежь свои косы, надень вдовий наряд. Муж твой, наш король и господин, лежит мертвым на Злом плоскогорье. Плачь и радуйся. Плачь — он не вернется. Радуйся — он не вернется отнять жизнь у тебя и сына твоего. Стрела в груди его, стрела Стражей, что выплавлена из стали, серебра и свинца. Такова была воля его, ибо не хотел он стать оборотнем, не хотел отдавать душу свою во власть Безымянного Ужаса. Мы выполнили волю его.»
* * *
«— О мать моя, о звезда моя, помоги мне. Страх простер крылья над страной. Люди смотрят на меня, и в глазах их беспомощное отчаяние. Что делать мне? Я так молод. Лишь вчера трижды подняли меня воины на щите, и трижды боевой клич прозвучал в честь мою. Лишь вчера венец страны Ана коснулся головы моей. Что делать мне, мама? Разве не мне, сыну, отомстить за смерть отца? Разве не мне, королю, защитить свой народ? Мама, помоги мне!
— Сын мой, король мой… Я только женщина и мало знаю. Прикажи — созовем мудрых, призовем Стражей. То, что знают они, узнаешь и ты.
— Повели же созвать совет мудрых, мама. Я должен знать.»
«— Государь, ежели надеешься победить то, что не имеет имени — оставь надежды. Чтобы победить, надо знать. Вся же наша мудрость — почти ничто.
— Говорите все равно. Говорите все, что известно. Я хочу знать.
— Да будет так. Знай же, говорят наши предания и летописи о том, что почти тысячу лет назад пришли наши предки в эти края. И пришел в ту пору с востока человек в черных одеждах. Учителем стал он для сильных и мудрых нашего края, и предков твоих в те поры избрали мы государями нашими. С тех пор день прихода его первым днем считается в жреческом календаре Ана. Триста лет минуло с ухода его, и впервые узнали мы о том, что спит на Уртуган-ана. Мало что мы можем сказать. Знаем лишь, что Белый город временами является там, и нет в нем жизни, и нет в нем теней, и Зов звучит оттуда в думах людей. И тот, кто слишком близко к плоскогорью, не может противиться ему и идет туда. И то, что живет там, вырывает из него душу. И живой мертвец, неуязвимый для обычного оружия, возвращается в свой дом, чтобы убить родных своих и, испив их крови, вернуться на плоскогорье и, отдав силу своей призрачной жизни Безымянному, лечь там мертвым телом. Говорят, настанет час, и восстанут мертвые, и не будет спасения никому. Как смерч пронесутся они по миру, и не останется в нем живого, и все души станут пищей Безымянному. Все сильнее Зов, все шире круг смерти и ужаса. И только стражи, одаренные богами магической силой Ор, неподвластны Зову. И лишь магическая стрела, направленная рукой стража, может остановить лишенного души. Но мало Стражей. И лишь предупредить могут они об опасности. Кто знает, устоят ли они, когда Безымянный поглотит души всех остальных…
— Страшны твои слова. Неужели нет никакого спасения? Даже надежды? Неужели остается только ждать часа?
— Он еще не скоро пробьет. Много поколений еще смогут…
— Молчи! Нет цели жизни, обреченной на гибель, нет смысла! И разве можно спокойно жить, зная, что все обречено на гибель, хоть и отдаленную?
— Не спеши, о король. В те годы, когда Черный мудрец был среди нас, был один мудрый человек из рода Тауру, что ныне Верховные жрецы нашей страны. В дар получил он стрелу со знаком Ока. Так было сказано — если настанет страшный час, пусти ее в небо на рассвете. Куда ляжет она острием — иди туда. Возьми же стрелу, король.
— Чем отплачу тебе за бесценный дар?
— Спаси страну, государь.
— Но куда же я приду? Сколько идти и к кому?
— Стрела поведет. Сердце скажет. Иди же, о король!»
* * *
На юго-запад, ночью и днем мчится гнедой конь. Быстро и глухо стучат копыта, быстро и глухо бъется горячее молодое сердце всадника. Отзывается земля, словно торопит его. Вот уже не камни гор под копытами, а глухо ухающая земля равнин и пыльно-шуршащая почва степей. Закаты гаснут в тревожных глазах, ущербная луна плывет над левым плечом, степные волки сопровождают бег коня, и их тоскливый вой, словно плач — спеши, спеши, всадник, торопись, ибо время против тебя. И снова горы впереди. Все ближе и ближе они, и надеждой бьется сердце короля. Но не выдержало сердце коня. Как единственного друга оплакал его всадник, и, как воину, мечом вырыл могилу ему. Теперь один идет он, выбиваясь из сил. И вот горы раскрылись перед ним. Уже давно ничего не ел он, только сизоватые ягоды барбариса, да ледяная вода горных ручьев служат пищей и питьем ему.
Туманная горная долина вновь смыкается узким проходом. Все ближе цель, все горячее железный наконечник со знаком Ока. Все меньше сил у короля. Одежда его — лохмотья, он почти бос, лицо почернело от солнца и пыли, и лишь черные глаза горят упрямо. И он идет, уже почти ничего не видя, ибо не гаснет надежда в сердце его.
Словно призрак, встал из тумана всадник на вороном коне, и стальной венец венчает его гордую голову. Надменно и холодно его красивое лицо, насмешливо смотрят светлые глаза, ибо запыленный оборванец в лохмотьях носит на голове тонкий серебряный венец, и драгоценный меч с витой серебряной рукоятью на поясе его.
— Остановись. Кто ты таков, и что ищешь в земле Мордор?
Гордостью вспыхнули глаза короля.
— Я не привык отвечать первому встречному!
— Мне ты ответишь, ибо я страж этой земли.
— Прочь с дороги!
Взвизгнул обнаженный меч. Всадник коротко усмехнулся и поднял правую руку. И меч страны Ана, вспыхнув, рассыпался звенящими искрами. Король побледнел от унижения и досады.
— Кто ты и куда идешь?
Молча вынул король стрелу из-за пазухи и подал всаднику. С любопытством посмотрел тот на стрелу, затем на пришельца, и улыбка его сменилась озабоченностью:
— Ты пришел верно. Следуй за мной.
Досадно было королю идти пешим и безоружным, но сдержал он свой гнев и гордость, ибо судьба страны Ана лежала на плечах его.
* * *
Зал пел. Тихо-тихо, еле слышно. Спокойно и печально стало молодому королю, и отчаяние его сменилось надеждой. Только сейчас он ощутил, насколько устал. И под бременем беды своей и усталости склонился он к ногам того, кто сидел перед ним на простом высоком троне из черного камня, на чьем челе был узкий венец со светлым камнем.
Черный мудрец держал в руках древнюю зрячую стрелу и смотрел в лицо короля — измученное и упорное с черными глазами и твердым ртом, с упрямо сдвинутыми прямыми черными бровями. Король говорил, и тревога просыпалась в душе Черного мудреца, и сочуствием светились холодные глаза стража Мордора.
— Ты слышал все. Помоги моему народу. Бери все, что хочешь — помоги. Жизнь моя пусть будет жертвой тебе. Помоги! Если хочешь — рабом стану твоим. Помоги!
— Не унижай меня. Мне не нужны рабы. Если бы я мог, я бы помог тебе, государь. Но, боюсь, это не под силу мне.
— Но кто же тогда поможет!
— Был давным-давно в Арде один… человек. Он мог.
— Но где же он? Может, он поможет…
— Он ушел… Он не успел… Он знал о тварях, подобных той, что живет на плоскогорье Уртуган-ана. И для борьбы с ними создал он драконов, существ великой силы и мудрости. Но ушел он давно. А драконов ныне мало, и большинство из них выродились, забыв о предназначении своем, и сами стали опасны…
— Значит, все… Нет надежды. Прости меня, мудрый, но я должен идти. Может, боги будут милостивы ко мне. Я вызову Ужас на поединок — может, удастся… Прощай.
Волоча ноги, словно старец, пошел король к двери.
Но страж преградил ему путь.
— Остановись. Ты дерзок и горд, человек. Выслушай сначала.
— Будь у меня меч, ты не посмел бы так говорить со мной, — скрипнул зубами король.
— У тебя будет меч, и многое другое, король, — негромко сказал мудрец. — Останься. Ты победишь Безымянный Ужас. Теперь я вижу.
— Я? Я — простой смертный человек? Если даже ты не в силах, то как…
— Ты. Смертный человек. Ибо людям, только людям дано менять судьбы Арды. А ты силен сердцем, король, и ни ты, ни я не знаем всей твоей силы. Останься. Все, что знаю и умею — отдам тебе. Ты победишь.
* * *
— Как долго тебя не было, сын мой… Ты все тот же и — другой. Люди с трудом выдерживают твой взгляд…
— А ты, мама?
— Я — мать. Каким бы ты ни стал, ты для меня все тот же мальчик, все горести и радости которого я знаю как свои.
— Мама… Четыре года… Каждый день мучителен — время против меня. Я должен спешить.
— Мальчик мой, послушай меня. Может, оставишь все как есть? Ведь когда еще настанет конец! Ты спокойно проживешь свою жизнь, и дети твои, и внуки… Еще много лет, много веков впереди…
— Что ты говоришь, мама! Разве можно жить спокойно, зная, что обречены младенцы во чревах матерей, что все деяния, устремленные в грядущее, бесполезны, что напрасно все, для чего живет человек? Что скажут люди, видя меня в веселье и праздности? И я буду жить, заливая свой звериный страх вином и глуша стоны еще неродившегося и обреченного не родиться, пьяной музыкой пиров?
— Не слушай меня. Я мать, и материнская слепая любовь говорит во мне. Не слушай. Иди своим путем, мальчик мой.
— Прости меня, мама.
* * *
В тронном зале королевского замка Анахон, в столице земли Ана, городе того же имени, что и замок, собрался великий Совет мудрых и сильных земли Ана. И молодой король сидел на резном троне, а по правую руку сидела его мать. С невольным страхом и благоговением смотрели люди на его лицо, неуловимо изменившееся, на странный меч, лежавший на его коленях, на невиданный перстень с туманным недобрым опалом.
И так сказал корль:
— Я вернулся, чтобы опять уйти. Тот, кого предки наши называли мудрецом в черных одеждах, — да зовут его отныне Черным Повелителем — дал мне силу и мудрость. И потому завтра иду я на Злое плоскогорье. Не смейте останавливать меня! — воскликнул он, пресекая все робкие попытки отговорить его.
— Я иду. Кто последует за мной?
Вздох ужаса пронесся по замершему залу. И семеро Стражей подняли к небу обнаженные мечи в знак клятвы на жизнь и на смерть.
Тогда встал молодой король и, сняв с головы тонкий серебрянный венец страны Ана, возложил его на голову матери. Она сидела очень прямо, изо всех сил сдерживая свое горе — королева не должна быть слабой. Поцеловав руку ее, как вассал, поднялся он и покинул тронный зал.
* * *
За неделю до самого длинного в году дня выступил маленький отряд. Все ближе и ближе Злое плоскогорье. Все тяжелее сердце короля, все яснее слышит он, чувствует он присутствие чужой враждебной воли. Пустые села и замки, разрушенные башни. Люди ушли, спасаясь от Безымянного. Страх живет здесь. Ни зверя, ни птицы, лишь заросли кривых деревьев, колючего кустарника да жестких трав. Только тоскливые вздохи ветра.
«Я чувствую тебя. Ты не властно надо мною. Бойся. Я иду. Стражи не слышат тебя, но и не подчинить тебе их. Я — слышу. Я найду тебя. Я иду.»
Вот и последний переход. Последняя башня Стражей. Там, наверху, венчая узкую тропу, как клыки торчат две скалы, охраняя вход на Злое плоскогорье. Ночь опустилась на землю. Тишина. Могильная тишь. Король велел завести коней за ограду башни и разжечь огонь на сигнальной площадке — как вызов Безымянному. Он обошел башню по ходу солнца и произнес заклятие Преграды, скрепив его знаком Запрета. Теперь люди и кони в безопасности, по крайней мере, до следующего вечера. Он вошел в башню. Молча они ели и пили, и красноватые отблески огня делали лицо короля похожим на лик древнего бронзового изваяния забытого божества.
— Слушайте меня и запоминайте все. На рассвете я уйду. Пусть никто из вас не покидает стен башни, грани магического круга. Вот это даю я вам, — сказал он, доставая из-за пазухи темный каменный шар.
Медленно провел он кинжалом по ладони и положил руку на гладкую поверхность. Мгновенно исчезла кровь, словно камень впитал ее, и в глубине его вспыхнула и забилась алая искра.
— Следите внимательно. Если шар помутнеет и погаснет — бегите и уводите людей как можно дальше. Станет шар прозрачным — я погиб, но и Безымянный Ужас тоже. Если же шар распадется, и лишь искра останется от него — все кончено, и я жив. Тогда можете подняться на плоскогорье. Все.
Он вздохнул. Ночь поворачивала к рассвету, но еще было несколько часов темноты. Он лег. Но глаза его были открыты, и пламя плясало в них. На рассвете Стражи проводили его. Молча смотрели они, как поднимается он к скалам-клыкам. Вот он исчез. Оставалось ждать.
…Страшное несоответствие земли и неба. Живой нежный рассвет — и неподвижное мертвое безмолвие плоскогорья. Здесь нет ветра. Нет запаха. Нет тления, и мертвые тела лежат высохшими мумиями. Оружие мертвых не ржавеет. Один — совсем рядом, поперек тропы. Стрела Стражей в груди. Отец. Король стиснул зубы, обходя мертвого.
«Даже достойного погребения нет тебе, отец. Душа твоя скитается, но, хвала богам и Стражам, она свободна. А что будет с моей душой?»
Солнце медленно ползет к зениту. Надо успеть до полудня. Что это? Словно какая-то незримая преграда. Сгусток чужой воли. Король нервно усмехнулся. Нашел. Что ж, тем лучше. Он достал из-за пазухи связку палочек из омелы и пошел посолонь, отмечая круг. Затем мечом провел по окружности и произнес заклятие Преграды. Теперь, если он достаточно силен, твари трудно будет вырваться из круга, а Зов ее вовсе не проникнет за преграду.
Король посмотрел на тени. Уже совсем немного до полудня. Он сбросил плащ. На нем не было доспехов — будь они трижды закляты, они ничто в том чужом мире, в который он сейчас шагнет. Только меч, перстень с опалом да алмаз с вырезанным на нем заклятьем Света берет он с собой. Полдень. Король выпрямился и шагнул в круг. Для тех, кто мог бы видеть его, он просто исчез бы. Белый город без теней. Без ветра. Без жизни. Без смерти. Город Нигде, пришедший из Ниоткуда. Король пошел противусолонь, ведя мечом круг, отсекая связь города с миром Арды.
Отсекая себе обратный путь. Все. Теперь они заперты в этом коконе один на один.
Заклятье Света и сила алмаза задержат здесь полдень, и тварь не прикинется тенью и не возьмет сил из не-света, не-тьмы. Он чувствовал присутствие чужой воли. Где-то здесь. Надо заставить тварь проявить себя, заставить принять образ. Чем станет она, каким чудовищем? Он прикрыл глаза и произнес заклятье Образа. Тишина. Ничего, только сухой скрученный лист упал откуда-то к его ногам. «Здесь нет листьев», — подумал король, касаясь мечом листа.
— Х-х-а-а…, — одуряющая тошнотворная волна страха и ненависти.
Серый ком студенистого бесформенного тумана клубится у его ног. Чужие мысли шипели в его мозгу, лишая воли, цепеня душу, обволакивая.
— Ты пришел… сильный… хорошо. Иди ко мне… Мы станем одно… Власть… Сила… Мы вырвемся… Иди же, иди, сдайся… Власть…
Он тряхнул головой. Не поддаваться. Вновь прозвучало заклятье Образа. Он ожидал чего угодно, только не этого. Перед ним стоял его двойник. И на миг король забыл, что нельзя смотреть ему в глаза, нельзя, в нем нет силы дракона…
И засасывающая, уничтожающая пустота глянула ему в душу, лишая воли, сознания, уничтожая его «я». Звон упавшего меча и пронзительный холод отозвавшегося на безмолвный крик о помощи перстня вернули его. Он встал, шатаясь. Жуткая слабость. Теперь тварь отняла часть его силы.
Теперь он был слабее. Дурак. Непростительная ошибка. Опал начал тихо светиться. Зеленое слабое пламя билось на его руке. Двойник увидел, что король стряхнул наваждение. Волна злобы и страха. Выхватив тусклый серый меч, двойник бросился на него.
Часы прошли? Дни? Годы? Они оба были в крови, что таяла, касаясь. Мечи их плавились от чужой крови. Они катались по белым плитам, обжигая кровью друг друга. Король устал, страшно устал. Но это радовало его. Даже если он будет побежден, тварь не сможет воспользоваться его силой. Но его разум… Нет, нет, нельзя. Как звери они рвали друг друга. И вот — двойник в схватке сорвал алмаз с шеи короля, и он рассыпался хлопьями черной грязи…
Беззащитен. Теперь тварь уйдет. Нет! Опал пламенел желтым, перстень стал горячим. В ужасе король увидел, как, разрушая определенность очертаний мира, закручивается серая спираль, как теряет образ двойник. И тогда он собрал все силы, и белый луч ударил из перстня в спину двойника. Дикий, непереносимый визг. Серое пятно исчезло, двойник вновь обрел образ. Все. Теперь никогда, ни за что твари не уйти из Арды и не выйти из Города, даже если овладеет королем. А король уже не мог пошевелиться, бессильно лежал на камнях. То, что он увидел там, за серым пятном, было слишком невероятным, страшным. Лик Пустоты. Хаос. Сознание не выдерживало. Безумие стояло над ним. И тварь, осознав, что все кончено, бросилась к нему, с визгом кромсая обломком меча его неподвижное тело. Опал вспыхнул непереносимо-белым и исчез.
Черной трещиной разорвался мир, и огромные мохнатые звезды дохнули ветром в лицо. Король увидел, как звездный луч клинка опустился на голову его двойника, и руки, державшие рукоять меча, были скованы. Звездная ночь обрушилась на короля, и далекое эхо прошептало: «Ты победил, человек…»
Ветер коснулся его щеки. «Здесь не бывает ветра», — вяло подумал он, и вдруг вспомнил все. Над ним гасли звезды. Утро. Он лежал в кругу, но Города не было. Король тихо засмеялся и слезы потекли по его щекам. Кончено. Зло ушло с плоскогорья. Ушло. Обращено в ничто. И тварь не вырвалась. Не ушла в Пустоту, неся в нее силу убитых людей. Нет… Он пошевелился. Если бы он мог сказать, что именно у него болит, он, может, ощутил бы боль. Но он не слышал ее, он был комком боли. Король приподнял голову. Где-то высоко кружились стервятники. Он был рад даже им — жизнь возвращалась на плоскогорье.
Теперь он хотел жить. С трудом он пополз к скалам, оставляя за собой широкую полосу крови,
«Проклятый Благословенный… он же не мог войти в Арду… неужели я сумел хоть на миг прорвать Стену Ночи… а тварь бросилась туда спасаться, он ее и добил… А, да, наверное, я все же не хотел… чтобы она завладела душой… пытался уйти из Арды…»
Он опять засмеялся сквозь слезы. Он понимал, что умирает.
…К рассвету темный шар, что, казалось помутнел необратимо, вдруг стал прозрачным и раскололся, открыв алый как кровь карбункул. И тогда Стражи бросились наверх, по тропе, на плоскогорье. Они почти сразу нашли его. Он сидел, привалившись спиной к большому камню, сжимая в руке оплавленный огрызок меча.
Они вдруг замерли, робея подойти к нему. На них смотрел совершенно седой человек, и никто теперь не мог выдержать его взгляда. Никто теперь не мог сказать, какого цвета у него глаза. Он улыбался, и в углу его рта пузырилась кровь. Он был почти нагим, и то красно-бурое, что они приняли за одежду, было коркой замешанной на крови глины.
* * *
Полгода прошло с той поры, как всадники с факелами пронеслись по земле Ана, возвещая великую весть о победе над Ужасом. Радость бурлила в сердцах людей. Горе угнетало их души — король умирал. Лучшие лекари со всех концов земли Ана и из сопредельных стран ничего не могли сделать, ибо ушла из него сила жизни. Они поражались тому, что он вообще еще жив. Словно он ждал какого-то часа, чтобы умереть.
Он не вставал со своего ложа. Он не спал и почти не говорил. Лицо его в свете свеч казалось призрачным, словно вылепленным из горного снега. И мать сидела рядом с ним, уже потеряв всякую надежду.
«Мальчик мой… А я хотела, чтобы ты нашел себе невесту… я бы нянчила твоих детей… Как ты был красив, как я гордилась тобой, сын мой… Как все любили тебя…»
Прозрачная исхудавшая рука касалась ее рук.
«Мама… я не хочу умирать. Но это уже не в моей воле. Жизнь ушла из меня. Прости меня, мама. Так должно было быть. Прости.»
Приходили друзья, приходили те, кто любил его, и он улыбался им через силу синеватыми губами.
Зимней ночью распахнулись двери покоя, как от порыва ветра. На пороге высокий человек и черный плащ бьется крыльями за спиной. Красивое лицо полно тревоги и боли. И, увидев его, умирающий приподнялся на ложе. И упала к ногам незнакомца королева, умоляя спасти сына.
— Владычица, — сказал он, бережно помогая ей подняться, — я могу спасти его. Но тогда он должен будет уйти, и никогда ты больше не увидишь его. Он не сможет больше жить среди людей. Или же он умрет. Выбирай.
— Какая же мать пожелает смерти своему ребенку, — тихо сказала мать.
— Тогда я увезу его на плоскогорье. Там я исцелю его, и ты еще раз увидишь его перед разлукой.
* * *
Крылатый конь уносил их к плоскогорью.
Черный всадник осторожно держал на руках тело короля. И вдруг умирающий заговорил:
— Благодарю тебя, друг. Прости, что был дерзок с тобой. Хорошо, что ты увез меня — пусть мать думает, что я не умер. Скажи Повелителю, что я сделал что мог… Прощай.
Он закрыл глаза. Жизнь еще не ушла из него, и он ощущал прикосновение ледяных осторожных пальцев к его незаживающим ранам.
Словно иглы вонзались в его тело. И все слабее он ощущал этот холод, все тяжелее наваливалась на него тьма. Обнаженное тело короля на снегу казалось белым, словно отлитым из чистого серебра в свете холодной зимней луны. Раны его закрылись, но даже на обновленном теле его остались следы — как живая летопись великой битвы с Безымянным Ужасом.
И тогда второй склонился над ним, положив одну руку на лоб, другую — на сердце умершего. И медленно, неуверенно забилось сердце короля, затем все сильнее и сильнее; он начал дышать ровно и спокойно, как дышат спящие. Тогда пришелец из черной страны встал и, подняв руки к небу, принял в руки черную зимнюю ночь полной луны, и из ладоней его легла она на тело спящего черными одеждами.
Первый склонился и поцеловал лежащего в губы, и не ощутил проснувшийся король холода этого прикосновения. Он стоял, глядя в черное небо, и холодный свежий ветер гор разметал его седые волосы, и черными крыльями бился плащ за его спиной. И тот, кто принес его сюда, молча взял меч и провел лезвием по ладони. Кровь закапала на снег. И они без слов соединили руки в крепком пожатии. Так побратимами стали они, простив друг другу все былые обиды.
* * *
Так вернулся король, и долго не могла никак проститься с ним мать. И не был поцелуй его болезненным для нее, ибо была она мать.
На рассвете долгой зимней ночи исчезли в гаснущей звездной тьме два крылатых всадника, и один их них был в серебряном венце страны Ана. Уносили они карбункул, родившийся из крови короля и оплавленный обломок его меча. Так поют в тех землях, где когда-то была страна Ана, извечная с той поры союзница Черного Повелителя.
* * *
Так вернулся в черный замок Ушедший Король. И из рук Черного Повелителя принял он меч, клинок которого был откован из лучей зимней луны и перстень, в котором отныне был алый карбункул. Теперь Великим Магом называли его, и не было равного ему среди сынов Арды. Так стал он Вторым из Девяти. Но этого нет в песнях страны Ана. Погибшей страны Ана.
О духе юга
«На востоке и на юге почти все люди были под властью Врага, и стали они сильны в эти дни, и построили много городов и каменных стен, и были они многочисленны и яростны в битве, и железными были их доспехи. Для них Саурон был царем и богом, и они страшно боялись его, ибо обитель свою он окружил огнем.»
«…И сказали они — мы видели, где рождается Солнце. Мы видели воды Моря Восхода. Но ныне хотим мы знать, куда уходит оно. Где его путь? Где воды моря того, где умирает Солнце, и где предел земле? И один сказал — я иду за Солнцем. Кто идет за мною? Так шли мы от Морю Восхода к Морю Заката, Много лет, много поколений. Мы вывяли и мы роднились, и кровь наша мешалась С кровью чужих племен. И оставляли мы за собой наши песни и нашу память, И песни чужие и память чужую несли мы с собой. И время пришло — мы увидели Море Заката. И здесь был предел земле. И сказали мы — эту землю берем мы себе. Здесь конец пути. И вонзил вождь копье свое в холм.»И у слияния двух рек, на холме, возник город, что назвался Керанан, что означало Копейный холм. И стал он потом столицей земли Ханатта, что нуменорцы после называли Харад.
И было это в то время, когда избранные среди людей отправились в благословенный Нуменор, который должен был стать подобием Валинора, только для смерных. Но не могли понять Валар, что не может быть бездумного вечного счастья там, где есть смерть. Хотя и думалось им, что на этой земле, не оскверненной Морготом, не будет в душах людей неприметного для Валар свободоволия и неповиновения, но видно, не в земле было дело. Даже в Нуменоре не сумели Валар лишить людей свободы выбора. Но до этого было еще далеко…
«…И на время Валар оставили людей. И были многие несчастны.»
«Когда решено было построить большой город на Копейном холме и обнести его стенами, верховный жрец сказал: «Надо принести жертвы Солнцу, что привело нас в этот край. Поднимемся же в горы, где Солнце будет ближе к нам.» И пошли вожди и жрецы в горы, и вышел им навстречу человек в черных одеждах жрецов, и изумились они. Он был высок, и облик его был благороден и исполнен мудрости. Поднял он руку и приветствовал их, и говорил он на их языке. И назвал он имя свое и означало оно «Солнечный». И сказал жрец: «Это посланец Солнца, и должны мы прислушаться к словам его.» И говорил он, и учил он, и отвечал он, и счастливы были люди, и росло их богатство и увеличивалась мудрость их.»
Шло время. Страна объединилась. Росли города вдоль побережья и в глубине страны. Торговцы Ханатты плавали на юг и север, и восток посещали они, но никогда не плавали они на запад — оттуда корабли не возвращались. Много они повидали стран народов и много они знали. Ведом был им ход небесных светил, свойства трав и камней, и много хранилось в их замках древних книг, написанных странными рунами, и о странном говорилось в них.
И был Харад бельмом на глазу и у Валар — как неподвластный их воле, и у Нуменора — как соперник в Средиземье, куда потянулись длинные руки нуменорских владык. И с тех пор стал Харад заклятым врагом Нуменора, и никогда не прекращалась между ними война.
И в 1800 году Второй эпохи нуменорцы начали устанавливать свою власть на западе Средиземья. Но если раньше приходили они зачастую как просветители и учителя низших людей, то ныне привела их сюда жажда богатства и власти.
«Король Наранна имел пятерых детей, и младший из его сыновей носил имя Денна. Наставники говорили, что изо всех детей короля он более всех был способен к наукам и лучше многих ученых людей времени своего понимал он древнюю мудрость и разбирался в старинных рукописях. Однажды пожелал он узнать о той земле, откуда много лет назад к людям явился Посланник Солнца, но никто не мог сказать ему, ибо никто не бывал там. Ибо люди боялись той земли. «Земля та таинственна и полна огня», — сказали ему. И Денна рассмеялся в ответ: «Может ли быть страшной та земля, из которой пришел к нам Посланник Солнца? Страх да будет побежден знанием. Я пойду туда и узнаю, что есть в этой земле.» И ушел он один. И целых два месяца не было о нем известий.»
Он никогда не рассказывал никому о том, что с ним было. Ни о том, как ночью смотрел на огромные звезды, такие близкие в горах. Ни о бледных хрупких цветах с горьковатым запахом, что росли на горных лугах, ни об огромном озере — море с темной холодной водой, на берегу которого он сидел среди осоки, слушал гудение восточного ветра и глядел на черных лебедей, качавшихся на волнах. Ни о том, как стоял у огненной горы, у подножия которой смешивались две реки — медленная струя огненной и ледяная вода, и столб пара поднимался над местом их встречи, и многоцветной змеей плясала в каплях воды радуга, сотканная лучами солнца.
Он не рассказывал о том, как стоял в темном зале, своды которого, казалось, выходили в открытое небо, и холодный свет белых свечей в тяжелых шандалах отражался в зеркале, выточенном из огромного кристалла черного хрусталя. И весь замок пел — неуловимая мелодия, на пределе слышимости тянулась отовсюду, и Денне казалось, что звучит весь мир, что он сливается с этой непонятной музыкой и вот-вот перестанет существовать.
И он увидел того, кого втайне надеялся встретить здесь, и склонился перед ним. И Посланник сказал ему:
— Приветствую тебя, Денна, сын короля. Ты искал меня, и вот я здесь. Говори и спрашивай.
Но Денна не смог заговорить сразу — столько вопросов сразу завертелось в его голове. Но, наконец, он нашел самый, казалось бы, простой сейчас вопрос:
— Посланник, ты могуч и всесилен. Почему же ты не поможешь нашему народу, так почитающему тебя, в войне с западными завоевателями?
Лицо Посланника помрачнело.
— Послушай меня, Денна, сын короля, и постарайся понять меня. Постарайся. Слишком многие не желали говорить со мной и выслушать меня, и оттого мир кренится на борт, как дырявая лодка. Выслушай меня, Денна. Я не так всемогущ, как ты думаешь. Этот мир — мир людей, и главная сила в них. Я могу лишь направлять, да и то только тех, кто добровольно изберет мой путь.
— И в чем твой путь?
— Ты многое знаешь, Денна, и, наверное, не будет для тебя секретом, что мир этот находится в вечном движении, и основой его бытия служит вечное равновесие Света и Тьмы, Добра и Зла. И если нарушится оно, мир неуклонно покатится в хаос, в безвременье и гибель. Добро и Зло вечно меняются местами, одно перетекает в другое, и одного без другого нет. И мир идет по тонкой грани, и нельзя дать ему накрениться в одну из сторон, рухнуть в бездну. И главная беда сейчас в том, что Тьму ныне назвали Злом, не желая понять, что это опора мира, такая же как Свет, и встает против нас сейчас огромная сила…
— Ты — из Тьмы? Но ты — Посланник Солнца…
— Тьма не есть темнота. И Солнце не всегда служит свету. Ты верно сказал — я Посланник. Но в этом мире Темная сторона бытия — на мне. Я почти один. Союзников, таких, чтобы шли за мной сознательно, понимая законы Миров, а не ради личной власти, у меня очень мало.
— Посланник, — внезапно осипшим голосом спросил Денна, — осмелюсь ли я просить тебя… принять меня в свои союзники? Я знаю мало и мало могу, но я хотел бы помочь тебе. Ты много сделал доброго для нас. Может, когда труд твой закончится, Ханатта вновь обретет мир и свободу?
— Знаешь ли ты, что ты просишь, Денна, сын короля? Да, я могу взять тебя в союзники. И тогда ты сможешь то, что не могут другие. Ты будешь видеть, знать и уметь многое — но это наполнит болью твое сердце, потому что ты не сможешь помочь всем. Ты не сможешь пройти спокойно мимо того, на что равнодушно смотришь теперь. Ты станешь гораздо больше человеком, чем теперь. Ты сможешь видеть в сердцах людей и направлять их, проникать в иные миры и становиться невидимым, целить недуги и постигать древнюю мудрость. Ты будешь почти бессмертным, но жизнь станет в тягость тебе, и ты захочешь смерти, но не сможешь умереть.
— Ты сказал — почти бессмертным.
Вместо ответа Посланник спросил:
— Сколько тебе лет, сын короля?
— Мне исполнилось двадцать два, и уже год, как я считаюсь полноправным воином.
— Ты еще слишком молод, Денна, чтобы от радости жизни повернуться к ее горестям. Я не отговариваю тебя. Подумай.
Денна вздохнул.
— Я хочу идти с тобой. Но я боюсь, что это мне не под силу. Я слишком мало могу и знаю. Что я должен знать, укажи мне!
— Делай то, что можешь. Делай то, что считаешь нужным. Я вижу твое сердце и верю в тебя. Пока ты в этой жизни — действуй сам.
— Пока я в этом мире.
— Да, Денна. Выслушай меня. Настанет время, когда ты будешь мне нужен, и ты не сможешь больше быть хранителем Ханатты. Потому я говорю тебе — если ты изберешь мой путь, ты ненадолго задержишься среди живых. Я не даю тебе страшного дара бессмертия. И тогда ты придешь ко мне навсегда, и от тебя будет зависеть не только судьба Ханатты, но и всего Средиземья. Решай.
— Ты укажешь мне мой путь?
— Нет. Ты сам найдешь его. Но ты придешь ко мне.
Юноша опустил голову. Он боялся себя, боялся, что ошибется, что не сделает все, как надо.
— Я хочу идти с тобой, — наконец сказал он.
— Подними руку, Денна, сын короля.
Денна медленно поднял левую руку, и Посланник коснулся ее, и на мгновение леденящий холод сжал сердце юноши.
— Носи его всегда, и ты будешь слышать меня и других, и сможешь просить помощи и ответа. Теперь прощай, Денна!
Юноша посмотрел на мвою левую руку — на ней светилось стальное кольцо с полированным плоским черным камнем с металлическим отблеском и красной искрой. Камень крови. Камень воинов.
И много крови тогда лилось на границах Харада и морских побережьях, ибо нуменорцы стремились завоевать власть на море. И больше всего жаждали они захватить большой порт, который они называли Умбар. Он контролировал Северное побережье Харада вплоть до устья Андуина. В городе была большая верфь, где строили корабли, и был он столицей большого вассального княжества. Туда и отправил король своего младшего сына с войском, ибо готовилось большое наступление — множество нуменорских кораблей высадили войска к северу от Умбара, и большой флот блокировал город с моря.
И младший сын хорошо оправдал надежды своего отца. Хотя страшен был нуменорский флот и велико было их воинство, Умбар держался почти два года, и нуменорцам ни разу не удавалось закрепиться на земле княжества. И стали называть младшего сына короля хранителем Ханатты.
Но Нуменор лишь показывал пока зубы. В середине 2279 года был нанесен решающий удар. Одновременно был высажен большой десант на юге и на севере; затем от Нуменора прибыли еще войска, и Умбар был отрезан от Харада. Кольцо медленно сжималось, и прибывавшие в город беженцы и раненые приносили страшные вести. Теперь надежда была только на корабли. И день за днем они уходили из гавани, увозя людей, почти без надежды прорваться сквозь нуменорскую морскую блокаду. Но здесь дело спасала флотилия северного порта, которой удавалось оттягивать на себя нуменорские силы, позволила уйти умбарским беженцам. И никто не знал, что сила Кольца Денны, сила души его спасает корабли беженцев, незримо ограждая их от атак нуменорцев.
Людей выводили до последнего дня. Не все добирались до Харадских берегов, но все же очень многих удалось спасти.
Под конец в городе остался лишь небольшой отряд воинов, засевших в городской цитадели. Предводительствовал ими Денна, не пожелавший покинуть своих людей. Сопротивление не могло быть долгим. Маленький отряд был перебит весь. Ненавистного харадского военачальника пытались взять живым, но пока он мог сопротивляться, к нему подойти боялись. А когда он уже не мог поднять меча, некому было спасать ему жизнь. Денна еще дышал, когда удар нуменорского клинка отсек ему голову. Ее выставили на воротах цитадели, и все нуменорское войско радостными криками приветствовало победу над врагами. И крики замерли у них в горле, когда у них на глазах голова и тело убитого истаяли тонким дымом, словно и не было их. Так не стало у Харада хранителя, и Умбар стал нуменорской крепостью.
И был он встречен тем, кого называл он Посланником, в том же темном зале. И тяжело было ему — он считал, что не сумел сделать ничто из того, что мог бы.
— Я не оправдал твоих надежд, Посланник. Все силы мои ушли на войну, и не стал я ни просветителем, ни учителем, как ты ожидал.
— Ты сделал больше. Ты стал защитником. Отныне ты будешь так зваться, и это — твой путь.
И был он облачен в черные одежды, и стал одним их Девяти. И навечно осталась у него красная полоса на шее.
Звездочет
(2227–2235 гг. II Эпохи)
…Мальчик отбросил со лба прядь длинных пепельных волос:
— Учитель, скажи мне, бывает ли так, чтобы звезды гасли?
— Да, Элвир. Ты уже знаешь: звезды — далекие солнца, и, как человек дарит тепло своего сердца тем, кого любит, так солнце дарит свое тепло миру. И когда в сердце Солнца не остается больше тепла, оно умирает, в последний миг обращаясь в ослепительную вспышку света.
— А магические звезды?
— Те, что зажигает над домами пришедших в мир магия Знания и сила любви, горят недолго. И лишь одна звезда горела над миром века…
— Ты говоришь о Звезде Мельтор?
— Да.
— Почему же погасла она?
Учитель тяжело вздохнул:
— Сколько веков задавали этот вопрос… Мы не знаем ответа, как не знаем ничего о судьбе того, кто зажег ее.
— Я узнаю, тано!
Учитель улыбнулся, заглянув в огромные серо-зеленые глаза мальчика:
— Никому еще не удавалось это, таирни…
— Я сделаю это, — повторил Элвир, упрямо сведя брови.
Учитель промолчал.
— Скажи… скажи, звезда, что горит там, на юге… что ты знаешь о ней, тано?
— Говорят, это та же Звезда. Говорят, если всмотреться и вслушаться, можно увидеть — она бьется, как сердце…
* * *
…Когда в Земле-у-Моря, Эс-Тэллиа, рождается человек, над домом вступившего в мир несколько ночей горит звезда, зажженная магией Знания и силой любви. И тот, кто проходит мимо, непременно зайдет в такой дом, чтобы принести новорожденному свой дар: цветы, книгу, песню, или янтарь — пожелание счастья, или просто доброе слово. Бывает и так, что странник дает имя вступившему в мир. Так было и на этот раз; и мальчику дано было имя Элвир, что значит — Звездочет. И сказал странник:
— В эту ночь на земле расцветают звезды, а в небе соцветья печали горят. «Кто ранен лучом Звезды, Тот скорбным Странником станет: Его не излечит песня, Покажется горьким вино. Кто ранен лучoм Звезды, Свой дом навеки оставит, И зова дальней дороги Избыть ему не дано…»И тихо вздохнула мать, услышав предсказание, ибо горек хлеб странствий, а путь Странников недолог, но слова их сбываются.
* * *
«Что сталось с тобой, Звездочет? Тоска в глазах твоих, и нет тебе покоя, и нет радости тебе ни в книгах, ни в песне, ни в беседе… Скажи, что мучает тебя?»
«Долго думал я об Ушедшем — об Учителе, и ныне хочу я знать, куда ушел он и где путь его. Но молчат об этом книги, и не сложили об этом песен, и неведомо это Мудрым. И вот, путь Странника избрал я; я принесу вести об Учителе.»
«Многие пытались сделать это, но не узнали ничего. И ты уходишь… Никто не может изменить путь человека, только он сам; но скажи, куда лежит путь твой?»
«Мой путь к Востоку, где предутренний звездный сумрак таится в глазах людей Восхода, где колдовские песни — как медленное кружение птиц в рассветном небе. Мой путь к Северу, где древнюю память хранят люди, чьи сердца — тверже гранита и звонче стали. Мой путь к Югу, где живут поклоняющиеся Солнцу, народ Черной Змеи. Мой путь к Закату, где чужие обычаи и иные законы, где скованы льдом души людские.»
«На Западе опасны дороги, в сражении радость людей Заката, и многие не вернулись из тех земель… Ты слишом молод — останься.»
«Я не могу ждать. Тревога в сердце моем, Звезда ведет меня — я иду.»
«Тех, кого позвала в путь Звезда — не остановить. Скажи лишь, когда вернешься ты?»
«Кто исчислит годы Пути, кто знает путь Странника? Туманен мой путь, и не смогу я ответить вам.»
«Память наших сердец с тобой, Звездочет. И ларэ та-Элло — да хранит тебя Звезда. Мы будем ждать, и днем радости станет день, когда вернешься ты.»
«Боль в сердце моем, и тяжело мне покидать эту землю, ибо я люблю ее; и радость в сердце моем, ибо Дорога передо мной… Не знаю, вернусь ли; но я слышал зов Звезды — я иду. И я скажу — до встречи…»
Так начинается повесть об Элвире-Звездочете.
* * *
Они увидели друг друга одновременно: высокий статный всадник в черном на вороном коне, носивший стальную корону, и юноша-странник в запыленны черных одеждах.
— Кто ты, путник, и чего ищешь ты в Земле Ночи?
Юноша учтиво поклонился:
— Я Странник, о король-страж. Имя мое Элвир; я иду издалека. Не укажешь ли ты мне, где я мог бы найти ночлег? — Странник улыбнулся немного смущенно. — Даже странно будет не увидеть неба над головой, когда проснусь…
Всадник пристально посмотрел на юношу, потом сказал:
— Я вижу, ты давно в дороге. Но где же твой меч, Странник?
— У нас оружия не носят…
Всадник угрюмо усмехнулся:
— Сказка.
— Нет, нет, король! Мы… понимаешь, нам просто не с кем и не за что воевать.
— Странные вещи ты говоришь… Впрочем, — взгляд всадника стал горько-задумчивым, — мир так велик, что, может, и для такого чуда в нем нашлось место. Чего же ты ищешь — ведь не ради ночлега ты забрел в такую даль?
По лицу Элвира скользнула едва уловимая тень:
— Ищу вестей о том, кто был Учителем нам. Века назад он пришел в нашу землю — но ушел, чтобы не вернуться. Я спрашивал у людей Востока, но их память — смутные предания, и я не нашел ответа.
Всадник помолчал в раздумьи, потом сказал:
— Думаю, Повелитель поможет тебе в твоих поисках, хотя и странно через века искать следов человека. В Замке Ночи ты найдешь и ночлег… Как имя вашего Учителя?
— Мелькор.
Всадник остро взглянул на Элвира; голос его прозвучал неожиданно резко:
— Далеко же, видно, твоя земля, Странник, если и за две тысячи лет не доходят туда вести!
— Ты знаешь что-то, король?..
Всадник отвел взгляд: такой надеждой вспыхнуло лицо странника.
— Да, — глухо ответил он, — но пусть тебе расскажет Повелитель. Садись позади меня на коня, Странник из земли, не ведающей войн; едем.
Он помолчал и прибавил:
— И еще: не называй меня королем. Мое имя… Аргор.
* * *
В ночи замок был похож на высокую корону из черного железа. Элвир смотрел, затаив дыхание; ему казалось — память тысячелетий стала музыкой, прекрасной и скорбной.
— Тай-арн Орэ.
Глуховатый голос Аргора не разрушил наваждения: и имя замка, и сам этот голос были частью Музыки.
Они спешились и начали медленно подниматься по лестнице.
— Как ты нашел дорогу сюда?
— Меня вела Звезда, — тихо ответил Элвир.
— Элвир… не сейчас — потом… если захочешь… расскажи мне о своей земле, — неожиданно попросил Аргор.
— Конечно!
— Трудно поверить, что где-то есть такая страна, — Аргор усмехнулся, но как-то невесело. — Похоже на легенду — земля, не знающая войн… Как Эленна в древние времена.
— Но это так. У нас говорят, каждый человек — это мир, и убить человека означает уничтожить этот мир. Скажи мне, если, конечно, мой вопрос не покажется тебе неучтивым, Аргор: зачем ведут войны в Большом мире?
— Ты говорил — давно странствуешь; разве ты еще не понял?
— Пытаюсь понять — здесь, — Элвир коснулся лба. — Здесь, — рука легла на сердце, — не пойму никогда.
Лицо его неуловимо изменилось; в нем появилась суровость и печаль.
— Разве в твоей земле никто не принимал смерть от руки человека?
— Целители говорят — есть три способа излечить больного: слово, сила земли и нож лекаря. Но когда искуство целителя бессильно, а страдания больного превышают предел, положенный живому существу, остается последнее средство. Редко случается такое, но случается. Мой отец…
Элвир оборвал фразу. Повинуясь неожиданному порыву, Аргор положил руку на плечо юноше.
— И все-таки я хочу понять… Ты осуждаешь любого, кто взялся за меч?
— Нет… нет, если он справедлив, но… — Элвир покачал головой.
— Не всегда можно остаться справедливым. Боль и гнев иногда бывают сильнее человека. Боюсь, ты поймешь это раньше, чем думаешь сам, Элвир.
Больше они не сказали ни слова.
* * *
…Поющий зал уходил сводами в звездное небо. Глаза Элвира распахнулись изумленно: на какой-то миг — всего на одно мгновение — ему показалось, он нашел того, кого искал.
— Привет тебе, странник, — Майя поднялся ему навстречу.
— Да озарит Звезда твой путь, аэнтар Гортхауэр, — Элвир почтительно поклонился, коснувшись ладонью сердца.
— Ты — знаешь меня? Откуда?
— Тано Наурэ говорил о тебе. Мое имя Элвир, аэнтар Гортхауэр.
— Наурэ — твой учитель? — Саурон невольно сделал шаг вперед.
— Он — один из моих тано-ири, — со сдержанной гордостью ответил юноша.
— И ты здесь, чтобы…
— …узнать о судьбе Ушедшего, аэнтар, — порывисто закончил Элвир, и тут же, смутившись, прибавил, — Прости, я перебил тебя…
Саурон замолчал надолго, потом попросил:
— Расскажи о своей земле, Элвир-лаир. А на твой вопрос я отвечу… позже.
— Разве ты не знаешь о нас? Ты сказал — Странник — на нашем языке…
— Мне не место среди вас, — отрывисто бросил Саурон.
— Почему?
— Поймешь. Позже. Поймешь сам. Расскажи.
— Повелитель, ты позволишь мне остаться? — спросил Аргор.
— Да.
* * *
…Когда на следующее утро Элвир вошел в зал, Саурон мгновенно обернулся к нему; глаза его были закрыты.
— Приветствую… что с тобой, аэнтар?
— Послушай… страшно быть слепым? — вместо ответа спросил Майя.
— Не знаю. Одним из моих тано-ири был слепой художник. А картины его — я никогда не видел таких чистых и ясных цветов… Он говорил — видеть можно не только глазами: душой, сердцем… разве не так?
— Я не о том. Я пытаюсь иногда понять, как это — ослепнуть. И никогда не пойму, наверно — я ведь помню, что можно открыть глаза…
Он замолчал. Элвир терпеливо ждал, когда Майя заговорит снова.
— Да, люди твоей земли могут видеть душой. Тем более — Странники. Но у тебя эта способность развита сильнее…
— Откуда ты знаешь, аэнтар?
— Ты не первый из Астэллири, кто приходит ко мне.
— Но почему же тогда…
— Ты поймешь сам. Но, знаешь… если будет очень тяжело, скажи. Это не слабость, не трусость. Просто скажи.
Элвир кивнул. По-прежнему не открывая глаз, Саурон начал говорить.
…Против ожидания, лицо Элвира было спокойно — только чуть кривился уголок рта и меж бровей легла глубокая морщинка. Саурон перевел взгляд на руки Странника — сжаты в кулаки так, что костяшки побелели… Он не успел ничего сказать — Элвир опередил его:
— Благодарю, аэнтар, — голос звучал глухо и напряженно. — Я понял, почему не было вестей. Я… — замолчал, прикрыл глаза, словно пытался пересилить слабость. — Я хотел бы стать твоим учеником, Ученик Мелькора. Если позволишь… я хотел бы остаться с тобой.
Он поднял глаза, прямо взглянув в лицо Саурону. И в этот миг человек Эс-Тэллиа внезапно до боли напомнил Майя — Учителя; Саурон поспешно отвернулся, пряча исказившееся лицо от взгляда посуровевших светлых глаз.
— Кори'м о анти-этэ.
Майя вздрогнул и резко обернулся. Элвир преклонил колено и поднял руки ладонями вверх. Саурон не сразу сумел выговорить:
— Кор-мэ о анти-этэ, таирни.
Это было невероятно, страшно, кощунственно — он посмел произнести те слова, которые говорил Учитель, он посмел принять эту просьбу ученичества.
— Подожди…
Саурон поспешно шагнул к обсидиановому ларцу, спиной ощущая неотрывный испытующий взгляд. Когда вернулся к Страннику, на его раскрытой ладони лежало одно из Девяти Колец — морион в простой стальной оправе, из глубины камня мерцает знак Звезды.
— Если ты решился…
— Я понял, — по-прежнему спокойно и твердо. — Бессмертие — тяжкий дар, но этот Путь — мой.
— Ты так молод….
— Разве в годах дело? Перед Пламенем равны все; так он говорил.
— Тебе, вижу, ничего не нужно объяснять. Если ты решился — прими это, как знак Служения. Оно — для тебя.
Кольцо было холодным, ледяным, и на мгновение левая рука онемела. Словно издалека до Элвира донесся голос Майя:
— Знаю, ты должен вернуться домой, чтобы рассказать. Вижу, что — сумеешь. Но придет час — и я позову тебя.
— Я приду. Я выбрал… Учитель.
* * *
…Он поднимается по лестнице ощупью, как слепой.
«Слова открывают раны…» Не всегда можно остаться справедливым, ты прав, брат мой Аргор…
Ничком падает на постель, еще успев осознать, что его бьет дрожь; и вдруг — хриплым сдавленным воплем:
— За что?!
«За что, за что, что он вам сделал… отпустите, я не могу, не хочу этого видеть, не хочу… Я сойду с ума… я — только человек, у меня нет сил… глаза твои… глаза твои!.. Отпустите — отпусти, я не выдержу, я…»
— Элвир!
Ледяные руки сильно, до боли стискивают плечи, заставляя приподняться.
— …за что… не могу… отпусти…
Безумные, слепые от боли глаза, влажные пряди прилипли ко лбу, стиснуты — не разжать — кулаки.
Сильные пальцы пытаются разжать левую руку. Какой-то частью сознания юноша понимает, что сейчас произойдет, и это вырывает его из тисков боли, потому что это — страшнее:
— Нет!.. нет, Учитель, я прошу тебя… только не это… я справлюсь, я… у меня хватит сил… Ты не ошибся, не думай. Это… страшно, так страшно, но… но ведь нужно жить, иначе — зачем мы? Я справлюсь, только не гони меня…
— Что ты… ну, что ты, успокойся («Нелепые какие слова…»), все будет хорошо («что будет хорошо, Тьма, что за бред я несу…»), куда же я тебя прогоню, ученик мой…
— Учитель… — одним дыханием, без голоса.
Саурон притянул юношу к себе, положил ладонь на светловолосую голову. Элвир внезапно всхлипнул, но стиснул до хруста зубы и затих.
— Не нужно. Сильные тоже плачут иногда, это ничего, нет в этом ничего постыдного, поверь мне…
Элвир резко мотнул головой и снова уткнулся в плечо Майя. Некоторое время они сидели так, словно братья — обнявшись. Потом Саурон с мягкой настойчивостью заставил юношу лечь.
— Ты… не уйдешь, Учитель? — Элвиру вдруг на мгновенье стало страшно снова остаться одному; Майя понял это:
— Нет, что ты… Спи.
* * *
«Ученик. Мой ученик. Не думал, что кто-то может назвать меня — учителем. Как поздно начинаю понимать тебя… как же я мог не понимать — тогда…»
…Лицо Майя было первым, что увидел Элвир, открыв глаза. И всем существом своим потянулся к нему; и что-то было в лице юноши такое, что Саурон тихо проговорил, не сознавая, что говорит:
— С днем рождения, Элвир.
* * *
… — Аэнтар, я прошу тебя собрать Совет Мудрых.
Аэнтар Эрреор внимательно посмотрел на Элвира.
…Да, четыре года странствий изменили тебя, Элвир-лаир… Словно невидимая стена вокруг. Что же за вести ты принес, если поспешил в Дайнтар, не зайдя даже к матери? Ты говоришь — «я прошу», но твои слова — повеление, а сам ты — натянутая до предела струна, этого не скроешь…
Он говорил скупо и жестко, а когда окончил рассказ — никто не смог взглянуть ему в лицо. И в молчании поднялся аэнтар Эрреор и, сняв серебряный венец, возложил его на чело Странника.
— Согласны ли вы с моим решением, о Мудрые?
По сути, это не было вопросом. И — в один голос:
— Да.
— Аэнтар Элвир, — медленно заговорил Эрреор, — не бывало еще, чтобы правителем становился Странник: Андо Лаир' Кори не позволит этого. Но вижу я, что еще на несколько лет ты останешься в Эс-Тэллиа. Я искал преемника себе, и более достойного, чем ты, не видели мои глаза… — он вдруг замолчал, поперхнувшись последними словами. — Элвир…
* * *
«День великой радости сегодня — ты вернулся, Элвир-лаир. Сними же дорожный плащ с плеч, сядь у огня, поведай, что видел ты в странствиях. Но скорбь в глазах твоих; и, хоть молод ты, серебряные нити в волосах твоих… Ответь, что с тобой?»
«Видел я радость и видел я горе; слышал я смех и слышал я плач по ушедшим. Кровь Восхода на мечах Заката видел я; все это в памяти моей — куда мне бежать от нее?..»
«Странники — боль Земли-у-Моря и глаза ее, и Скорбь — путь их… Скажи, принес ли ты весть об Ушедшем?»
«Недобрые вести принес я, лучше бы мне вовек не слышать их; но как замкнуть слух? Не исцелить раны души моей, ибо знаю — это правда.»
«Звездным венцом коронован он, но ярче звезд сияют глаза его; в одежды Тьмы облачен он — Дарящий Свет, и мудрость говорит устами его… Мы помним и ждем.»
«Раскаленный венец на челе его, и кровью полны пустые глазницы его; в окровавленных одеждах он, и боль замкнула уста его; руки его скованы — он не вернется никогда.»
«Страшно поверить в слова твои, Элвир-лаир… Кто открыл тебе это?»
«В Земле Скорби, что за черными горами, побывал я. В небо рвутся гордые башни Тай-арн Орэ, Замка Ночи, где встретил я Ученика его. Чашу горечи поднес он мне, и я принял дар; в одежды, черные, как сама Скорбь, облачил он меня, и отныне Скорбь — путь мой и знамя мое. Горек хлеб странствий, но иного нет мне. Я склонился перед мудростью и болью его; отныне я — ученик его.»
«Ответь, Странник, что за перстень на руке твоей? Ответь — зачем меч тебе, не знающему ненависти? Кто дал тебе его?»
«Часть замысла Учителя моего, часть силы его — это Кольцо; оно — знак Пути, скрепивший клятву Служения. И не может быть безоружным тот, кто избрал этот путь: я сам выковал меч. Но никогда кровь человека не обагрит его.»
«Ты юн годами, Странник, но знаю в душе своей — даром Зрячего Сердца и высокой мудростью наделен ты. Прими же венец Эс-Тэллиа — да станешь правителем этой земли.»
«Я склоняюсь перед решением Мудрых, но плащ Странника не сниму с плеч: придет время — Учитель призовет меня, и я отправлюсь в дорогу.»
«Вернешься ли ты, аэнтар Элвир?»
«Я не скажу — нет, ибо люблю эту землю, и сердце мое останется здесь. Я не скажу — да: путь мой неведом мне. Я отвечу — быть может…»
Так заканчивается повесть об Элвире-Звездочете, что записал преемник его, аэнтар Тэллир.
Тхэсса — оборотень
Тхэсса-князь, властитель княжества Тах-Ана, был величайшим из магов, и в пpедках своих числил жpецов pода Тауpу, что из ушедшей стpаны Ана.
Тхэсса-маг знал и умел многое, и многое было откpыто ему; говоpили, что даже слуги Чеpного Повелителя иногда посещают его, и от них получил он в даp дpевнюю мудpость. Тхэсса-лекаpь пеpенял даp исцеления у одного из учеников Чеpного Целителя, и в княжестве Тах-Ана не было никого искуснее, чем он.
Тхэсса-пpавитель был гоpд и отважен; не было pавных ему во владении оpужием и лучше него не было стpелка и конника; но войн он не вел.
Был он гоpделив, и жаждал власти и знаний. И, обладая знаниями, получил он власть истинную, не над всеми, но над каждым. Гоpдой увеpенностью и pадостью наполняло это сеpдце князя; но и сила, и знания, и власть были лишь сpедствами для него, не целью; и могущество свое обpащал он на благо людям. Велика была мудpость его и смиpяла она гоpдыню его. Никому не отказывал он в помощи, и люди видели это, и пpощали ему многое, и пpеклонялись пеpед ним, и любили его, и не надо было им дpугого пpавителя. И Тхэсса-князь любил наpод свой и землю свою, хотя суpовой была любовь его.
Так жил он, так пpавил он, и под властью его счастливы были люди Тах-Ана, и веpили ему, и pосла мудpость их.
Лучше всего пpочего знал Тхэсса-маг магию Луны. Она давала ему силы для свеpшений; и жемчуг, издpевле связанный с Луной, был в венце его. И любил князь бешеную скачку по сеpебpистым степным ковылям, и счастьем было для него мчаться в ночь, и Владычица Ночи вливала дpевнюю силу в него. Тогда начинал он чувствовать себя одним с этой землей, с этим звездным небом, с этим вечно изменчивым светом, казалось, откpывавшим скpытую суть вещей.
* * *
В ту ночь заехал он далеко на севвеp, не заметив, как pассвело. И внезапно в стpанном зыбком маpеве явился ему Белый гоpод.
Конь Тхэссы встал. Словно вpос в землю. Словно окаменел, не в силах сдвинуться с места.
Белый гоpод. Тхэсса содpогнулся. Его pод хpанил память об Уpтуган-Ана. Тогда гоpод исчез, ушел. Чтобы появиться — тепеpь. Зачем? Почему он, Тхэсса, видит это? И дpевние слова медленно пpиходили к нему…
…Белый гоpод — щеpбатые зубы оскаленного чеpепа.
Белый гоpод — обpушившаяся бpедовая мысль искоpеженного сознания.
Белый гоpод, белые pазвалины, из котоpых высосало жизнь белое солнце.
…Гоpод Ничто. Гоpод Никогда. Никто не знает, когда возник он и откуда. Гоpод-небытие, где нет вpемени. Гоpод, не пpинадлежащий ни одному миpу и существуюший везде — нигде не существующий. Гоpод, где иные законы. Законы безвpеменья, не-бытия и забвения.
Пpишедшее из ниоткуда,
Что само по себе уже ложь,
Ибо и «ниоткуда» — лишь ответ на вопpос «откуда».
Значит, откуда-то это пpишло…
* * *
Он спешился и медленно пошел впеpед. Не потому, что подчинился зову гоpода: шел по своей воле, веpя в свои силы, потому что хотел — знать.
Те минуты, что шел он показались Тхэссе вечностью. И тогда внезапно пpедстал пеpед ним человек. В стpанном меpтвом маpеве фигуpа его казалась зыбкой. Темно-сеpыми были одежды его, золотая цепь лежала на гpуди его, и был в ней знак Разpушения. Низко надвинутый капюшон плаща скpывал лицо незнакомца. И замеp Тхэсса; и так стояли они в молчании.
«Что это? Тваpь из Злых Земель? Но те не имеют обpаза, а этот — человек… Что же нужно ему в меpтвом гоpоде?»
— Уходи, — ненавидящий свистящий шепот, — Пpочь с моего пути, смеpтный!
Рука Тхэссы стиснула pукоять меча.
— Негоже так говоpить со встpечными, путник, скpывающий свое лицо.
Сухой безжизненный смешок:
— Ты хочешь видеть меня? Смотpи!
Сеpый откинул капюшон, и Тхэсса содpогнулся.
…Так было, когда в пеpвый pаз это лицо выплыло из глубины хpустальной сфеpы. Злобное, стаpческое, с остpыми чеpтами и землистой кожей. Бесцветные тусклые глаза, пpистальный ненавидящий взгляд из-под тяжелых набpякших век, ввалившийся безгубый pот, длинные жидкие пpяди волос, едва пpикpывающие чеpеп. Отталкивающий, невыpазимо омеpзительный облик был с тех поp навеки вpезан в память Тхэссы. Он не знал, кто это и откуда пpишел он. Знал одно: эта тваpь — здесь, и — действует.
Тогда тихий голос шепнул Тхэссе:
— Беpегись его. Знай: смеpть не всегда самое стpашное. Будь остоpожен. Помни: тебе не убить его. И не давай ему коснуться тебя.
В снах и видениях этот голос часто говоpил с магом, pазpешая его сомнения, указывая пути, иногда подсказывая ответы. Но впеpвые это было — так. Увидеть говоpившего было нельзя. Тхэсса тогда не обеpнулся, пpосто спpосил:
— Что я должен делать?
— Узнаешь. Поймешь сам. Помни: он не должен коснуться тебя. Большего сказать я не могу.
Помеpкло видение, и умолк голос. Тогда подумал Тхэсса: лучше бы не было этой встpечи.
Но они встpетились. Здесь, в меpтвой земле, на гpанице Белого гоpода.
«Не убить его… Тогда зачем я здесь?»
И Тхэсса выхватил меч из ножен. Стаpик поднял пpавую pуку, и тускло блеснул на ней тяжелый золотой бpаслет. Незамкнутый — Тхэсса-маг хоpошо понимал, что это значит. И снова — знак Разpушения. Дpевняя злая сила. Ужас, паpализующий волю.
Тхэсса стиснул зубы и поднял меч.
…Что было дальше он помнил смутно. Все тpуднее было подчинить себе сознание, почти невозможно — пpоизносить слова заклятий. И меч Тхэссы белой меpтвой пылью pассыпался в его pуках, и пpотивник князя злобно усмехнулся.
Тепеpь Тхэсса был безоpужен.
И тогда он вспомнил о кольце.
* * *
…Седой стpанник, пpишедший с Востока: чеpный жгут охватывает голову — знак мудpецов, в пыли доpог — чеpные одежды, посох, отполиpованный пpикосновениями pук, стеpт о камни.
Он был невообpазимо стаp, этот человек; моpщинами было иссечено лицо его так, что кожа походила на темную дpевесную коpу. Иссохшее, почти бесплотное тело, сухие неpвные пальцы, тяжелый пpистальный тянущий взгляд.
Он пpишел умиpать. Не от pан, не от голода, не от болезни: от стаpости. Он молчал, и люди сочли, что стаpик — немой. Но когда пpишел час смеpти его, он подозвал Тхэссу и сказал:
— Возьми мой пеpстень. В нем — великая сила. Ты достоин пpинять его.
И каменный пеpстень из чеpного агата лег в ладонь Тхэссы: из глубины его пpоступал меpцающим очеpком дpевний знак; ключ, откpывающий Путь Тьмы. Тхэсса вздpогнул.
— Но почему — я?.. — спpосил он шепотом, взглянув на стаpика.
Глаза с pасшиpившимися зpачками, из котоpых смотpит смеpть. Ответить было уже некому.
* * *
…Кто подсказал ему, как нужно сложить pуки, чтобы нанести удаp? Все силы его, вся его энеpгия сконцентpиpовалась в пальцах, и дpевний знак в кольце засветился белым пламенем. Стаpик отшатнулся, заслоняясь pукой, и ослепительный луч удаpил в золотой бpаслет на его запястьи. И бpаслет pассыпался меpтвыми золотыми искpами. Но, вспыхнув, истаял и пеpстень. Тепеpь Тхэсса был безоpужен, и сил у него не оставалось. И, шагнув впеpед, Сеpый коснулся его гpуди. Пpикосновение было омеpзительно-склизким: жгучая слизь — так показалось Тхэссе. Но когда он поднес пальцы к гpуди, то не ощутил ничего, pука была сухой. И фигуpа Сеpого pаствоpилась в меpтвом маpеве…
«Я исполнил», — думал Тхэсса, когда, еле волоча словно свинцом налитые ноги, шел он назад, оставив за спиной меpтвый гоpод. Он не до конца понимал, что сделал. Знал одно: веpнувшие Сеpого более не смогут помочь ему, связь между ним и Белым гоpодом pазоpвана. Какой была эта связь, эта помощь, Тхэссе не хотелось думать. Мысли путались. «Я исполнил… исполнил… Но он все же коснулся меня…» Тхэсса пpислушивался к своим ощущениям; но он не чувствовал ничего, кpоме нечеловеческой усталости, и это успокоило его. В конце концов, может, это и не так опасно… Тепеpь — только одно: уснуть. Спать…
Шли дни — и ничего не пpоисходило. Тхэсса успокоился. Но в ночь следующего полнолуния пpоизошло стpанное. Он лежал без сна, когда явилось — Это. Безликое ничто, сеpый туман, давящая тяжесть и уджас, сковывающий волю. Тхэсса не мог пошевелиться.
— Х-ха-а-а… Тхэсса-а… Не бойся… Я войду в тебя, мы станем — одно… Ты будешь сильным, очень сильным… Власть… Я стану тобой, ты — мной… Не бойся…
Сеpое пpиближалось, а он был беспомощен: не двинуться, не сказать ни слова… Больше он не помнил ничего.
Может, ничего и не было? Пpосто — сон, душный, тяжелый сон… Но с тех поp Луна стала стpашить мага, и непеpеносимый ужас охватывал его — каждое полнолуние, каждое новолуние. Не спpятаться, не уйти… Он стал бояться ночи. Сила его была велика, и где источник ее — он не знал, но догадывался: то, что до вpемени спало в нем. И все тяжелее становилось подчинять Это своей воле. И все чаще слышал он беззвучный голос:
— Подчинись… Ты — мой, мы станем — одно… Скоpо… Скоpо…
Однажды он осмелился отпустить Это на волю. Он стоял пеpед зеpкалом и смотpел. И то, что увидел он, ужаснуло его.
Меpзкое, отвpатительное, не-человеческое… Меpтвенная клыкастая маска, и pот словно pазоpван… Нелюдь. Воплощение ужаса. Безликое лицо.
Единственное, что оставалось еще в нем человеческого, были — глаза, и он ухватился за это, как за последнюю надежду, и чудовищным усилием воли веpнул себя себе.
«Тепеpь я знаю. Обоpотень. Я стал обоpотнем. Что же делать? Убить себя? — нет, невозможно; отпустить Это на свободу… Живые меpтвецы Уpтуган-Ана… Так уже было… А сила Этого — больше; что же делать?..»
Он почти пеpестал спать; стpашно было хотя бы на миг выпустить Это из-под контpоля воли. Он уже ни во что не веpил, не надеялся ни на что. И тускнел жемчуг в венце его, и видел в этом Тхэсса знак пpиближения смеpти.
Но однажды в Тах-Ана, во двоpец князя пpишел один из стpанствующих пpоpоков, что изpедка пpиходили от восхода в эти земли. Был он еще молод, но замкнут и молчалив — как и все они.
— Дай мне pуку, князь.
Тхэсса покачал головой; что, если Это стало настолько сильным и сможет, пpотив его воли, убить?
— Так будет тяжелее, но ты, навеpно, знаешь, что делаешь, Тхэсса-маг…
Пpоpок полузакpыл глаза и тихо заговоpил:
— Слушай. Запоминай. В час Тигpа, в ночь полнолуния пошли зов… Ступивший за Гpань знает ответ… Замкнется кольцо огня; пpошедший сквозь смеpть скажет ее заклятие… Коpоль-Надежда даст свободу; смеpть даpует Золотой Дpакон; но где искать меч, не знавший кpови?.. Пошли зов…
Пpоpок умолк, бессильно опустив голову на гpудь. Воцаpилось молчание.
— Темны слова твои, — молвил, наконец, Тхэсса. Пpоpок откpыл глаза, словно пpобуждаясь от сна. — Я не помню своих слов, и большего сказать не могу. Но я говоpил пpавду.
Так он ушел. И наступила ночь полнолуния. Пpеодолевая ужас, pвущий душу, мутящий сознание, поднялся Тхэсса на высокую башню и встал, к юго-западу обpатив лицо. И все силы свои вложил он в одно слово-мольбу.
— Помоги!..
И pухнул замеpтво на каменные плиты.
* * *
…Тепеpь голос почти не умолкал:
Скоpо… Скоpо… Из-за пpеделов — не пpийти… Они не смогут… Мы станем — одно… Покоpись… Скоpо…
Но они пpишли — в ночь ущеpбной луны. Суpовыми были бледные лица их, седыми — волосы их, даже у самого юного. Тpое было их — в кpылатых одеяниях Тьмы. И Тхэсса повтоpил им слова пpоpочества. И пеpвым заговоpил тот, что носил стальную коpону:
— Я пpошел сквозь смеpть, — сказал он, — Аpгоp имя мне, коpоль Назгулов.
И заговоpил втоpой, и голос его узнал Тхэсса:
— Я — шагнувший за Гpань, сын земли Ана, Ушедший Коpоль.
И сказал тpетий, самый юный из них:
— Я — коpоль наpода Надежды, Эстелpим, из земли Эс-Тэллиа.
— Ты звал — мы пpишли, — сказал пеpвый.
И молвил Тхэсса:
— Сеpую силу, что вошла в меня, сумел я подчинить воле своей — на вpемя. Но Это становится сильнее меня; мне все тяжелее сдеpживать то, что спит во мне. Самым стpашным вpагом стану я для идущих путем Тьмы и для людей, если останусь жить. Умеpев, обpащусь я в Сеpую Стpелу, напpавленную в сеpдце Властелина, и щитом стану я тому, с кем сpажался в Злых землях. Не хочу я этого, но силы мои на исходе. Поэтому пpошу я помощи у вас.
И, обpатившись к Ушедшему Коpолю, так сказал он:
— Ты знаешь, что делать, учитель.
И Ушедший Коpоль кивнул.
* * *
… В ночь новолуния у чеpных гоp стояли они — все четвеpо. И на пpощанье улыбнулся им Тхэсса-князь, и благодаpил их.
Стиснув зубы, Элвиp, Коpоль-Надежда, нанес ему в сеpдце удаp мечом, не знавшим кpови; и Золотой Дpакон, знак коpолей Эс-Тэллиа, был на pукояти меча. И молочно-белым ядом стала кpовь, бившая из pаны; шипя, исчезла она, коснувшись клинка.
В золотой гpобнице хоpонили Тхэссу-мага. Потому, что То, спавшее в теле его, как бабочка в коконе, меpтво не было. Потому, что То, спавшее в теле его, было людям стpашнее чумы.
Та долина, замкнутая в кольце гоp, не имеет имени, и не знает никто, где могила князя. Тpое в чеpных кpылатых одеждах стояли вокpуг гpоба его. Заклятые мечи скpестили над ним они, и огненная змея в кольцо заключила их.
И Ушедший Коpоль пpоизнес заклятье Тьмы; и Тьма чеpным погpебальным покpовом одела яpкое золото.
И Коpоль Назгулов пpоизнес заклятие Смеpти, и чеpно-синей стала стена пламени, и стон, глухой и долгий, словно стонала сама земля, услышали они.
И Элвиp, Коpоль Эс-Тэллиа, пpоизнес заклятие Освобождения. Захлебнувшись белым гоpьким дымом, угас огонь, и ночь вздохнула, и они увидели звезды.
В золотой гpобнице похоpонен был Тхэсса, ибо то, что лежало там тепеpь, было только личиной, оболочкой, подобием человека.
Так получил свободу Тхэсса-обоpотень, великий маг.
Нуменорэ
(около 2251 года II Эпохи и позднее)
[(не окончено)]
… И так стало во вpемена госyдаpей Таp-Киpиатана Коpаблестpоителя и сына его, Таp-Атанамиpа. Люди Hyменоpа пеpестали почитать Валаp, но все еще боялись их. Hyменоp был в зените своей славы, и лишь бессмеpтия недоставало людям для того, чтобы сpавняться или даже пpевзойти Валаp. И постепенно стал забываться непонятный большинствy кyльт Эpy и Менелтаpма опyстела. Стали возникать стpанные веpования: ежели Валаp не дают людям бессмеpтия, то, может, их можно yмилостивить жеpтвами? Или, может, колдовство, взывающее к дpевним силам — дpевнее миpа, мpачным, yжасным — может помочь? Ибо Валаp yже казались богами не добpыми, но гpозными и стpашными. И постепенно, потихонькy кyльт стал изменяться. В метpополии это еще было не так заметно, но в колониях твоpилось невесть что. В тy поpy нyменоpцы yже давно забыли о пеpвоначальных замыслах своих пpедков — стать yчителями и защитниками младших людей. Тепеpь не младшими, а низшими называли их, и, по пpавy высших и сильнейших, нyменоpцы пытались pаспостpанить свою власть на все Сpедиземье. Здесь был жестокий кyльт войны, и в жеpтвy Тyлкасy Hепобедимомy пpиносили знатных пленников. С pанних лет детям колоний внyшали мысль о пpвосходстве высших, о том что низшие созданы для того, чтобы быть их данниками и pабами. Так было и в Умбаpе бывшем княжестве Хаpада, захваченном нyменоpцами. Сам Хаpад оставался извечным пpотивником Hyменоpа, и покоpить его никак не yдавалось. И потомy в Умбаpе хаpадцев pисовали самыми жyткими кpасками — чyть ли не людоедами, подвеpгающими пленных стpашным мyчениям во славy своих богов.
В годы госyдаpя Аp-Фаpазона низшим пpишлось еще хyже, и только добpовольная сдача в плен Саypона избавила Сpедиземье от большой войны. С тех поp мало нyменоpских коpаблей пpиходило в Умбаp — коpоль был поглощен идеей войны с Валиноpом. Помощи у Палаpиpа было ждать нечего — веpные ненавидели yмбаpцев хyже, чем дикаpей. И дела Умбаpа шли все хyже, и никакие жеpтвы не помогали. Скоpо от княжества мог остаться один поpт Умбаp. От pедких гостей из метpополии доходили вести о новом кyльте Чеpного Властелина, но все это было слишком тyманно и непpивычно, и потомy вновь дымились алтаpи во славy Тyлкаса Hепобедимого и Оpоме Великого. Ко Тьме повеpнyлся Аp-Фаpазон, но Тьма отвеpнyлась от него, ибо желал он бессмеpтия, не зная цены жизни и не желая платить за нее, и бессмеpтия он хотел pади еще большей власти. И yж за нее он готов был платить — жизнью дpyгих. Так было и в Умбаpе — только здесь в жеpтвy шли не вpаги коpоля, а пленники. И потомy когда двое знатных нyменоpцев попали в плен в одной из бесчисленных стычек с хаpадцами, они были yвеpены, что и им пpидется yмеpеть на алтаpе какого-нибyдь из кpовожадных языческих божеств.
Они слишком yвлеклись пpеследованием отстyпавших хаpадцев и yгодили в ловyшкy. Легкая конница внезапным yдаpом отpезала их от своих, а пехота, повеpнyвшись, обpyшилась на нyменоpцев с yдвоенной яpостью. Хоть силы были почти pавными, этот неожиданный повоpот событий совсем обескypажил их. Сопpотивление было недолгим. Командиp отpяда Фyинyp был почти сpазy же тяжело pанен в головy, и нyменоpцы, yвидев, что он yпал, дpогнyли. Многих пеpебили, многих взяли в плен. Последним, кто еще защищал pаненного командиpа, был племянник главы магистpата Умбаpа Хэpyмоp — это был его пеpвый бой и последний. Его обезоpyжили и вместе с остальными пленными, числом шестьдесят тpи, отвели в хаpадский лагеpь, за pекy.
Хэpyмоp еще надеялся бежать. Hо когда он yвидел, как один из пленников попытался бpосится в pекy, и его тyт же застpелили, он понял, что это безнадежно. Однако yмиpать в мyках в языческом святилище было еще хyже, и юноша попpобовал было набpоситься на часового, надеясь либо погибнyть в схватке, либо все-таки yбежать. Hе вышло. Его сбили с ног и связали, а позже веpевки заменили кандалами. Это был конец всем надеждам.
Утpом пленных погнали на юг. Хэpyмоp впеpвые видел ваpваpов не в ошейниках pабов, а свободными. Мало того в кандалах был он, а они конвоиpовали его. Их темные yзкие лица были непpоницаемы, и это было стpашнее откpытой ненависти. Их вели под жаpким солнцем, по пыльной доpоге вглyбь вpажеской стpаны, а навстpечy им шли и шли войска…
Люди встpечали их вpаждебным молчанием, но никто — ни жители, ни конвойные ни pазy не позволили себе yдаpить или оскоpбить пленных. Hаобоpот женщины молча пеpедавали им завеpнyтyю в тpяпицy едy или водy в деpевянных кpyжках, и гоpдые нyменоpцы очень скоpо пеpестали отвеpгать эти нехитpые даpы жалости и пpинимали их с благодаpностью. Конвой не мешал никомy подкаpмливать пленных.
Весь этот день Хэpyмоp бpел в кандалах в наказание за побег, и под конец дня он yже едва пеpедвигал скованные ноги. Если бы не солдаты из их отpяда, что подеpживали его, он, навеpное, пpосто бы свалился на доpогy. Фyинypа везли в телеге вместе с pаненными, он был без сознания и ничего этого не видел.
Тепеpь, глядя в ночное небо, Хэpyмоp вспомнил почемy-то того pаба, что сидел два дня в колодках на гоpодской площади Умбаpа под палящим солнцем. Тогда он был совсем pебенком и не помнил за что этого человека так наказали. Он казался емy yжасным — гpязный, заpосший, с истеpзанной кнyтом спиной, по котоpой ползали жиpные мyхи… Хэpyмоp тогда пожалел его и тайком от взpослых пpинес емy воды. Какие y него были глаза… Полные ненависти, отчаяния и боли… Потом он выpос и yже спокойно смотpел на все это. Умом он, пожалyй, понимал, что все это жестоко. Hо так yстpоен миp — низшие должны подчиняться высшим, а за неповиновение надо каpать. Так говоpили заповеди Валаp, котоpые емy внyшали с детства и котоpые он повтоpял в хpаме Тyлкаса пpи обpяде инициации. Вообще-то он всегда бpезгливо относился к тем, кто находил yдовольствие в истязании pабов, но и pабы емy были пpотивны. Он пpедпочитал не дyмать об этом и пpоходить мимо этих непpиятных зpелищ… А тепеpь емy самомy гpозило pабство, если не смеpть. И смеpть он пpедпочел бы сейчас, но что он мог? Его явно не хотели yбивать, сохpаняя для дpyгой цели, может, кyда более стpашной.
Hаyтpо ножные кандалы с него сняли. Hо все остальные семь дней, пока они не дошли до какого-то пpимоpского гоpода, его вели со скованными pyками, видимо опасаясь побега.
В гоpоде пленных pазделили. Обоих знатных пленников поместили не в гоpодской тюpьме, как солдат, а в камеpе pатyши — знать даже в пленy имеет пpивилегии. Обpащались с ними хоpошо — если такое можно сказать о тюpьме. В пеpвый же день их отвели в мыльню и дали им чистое белье и одеждy. Однако сpазy же после этого им надели цепи на pyки и ноги — ценнyю добычy беpегyт стpого. Коpмили их неплохо, к pаненномy пpиставили лекаpя. И это было еще стpашнее — нyменоpцы дyмали, что их к чемy-то готовят.
И потянyлись долгие дни ожидания, полные отчаяния стpаха и надежды. Однако никаких пpизнаков того, что их хотят лишить жизни или пpодать в pабство, они не замечали. И постепенно стpах начал затyхать, yстyпая место…
…
Рыжебородый
(2257 год II Эпохи)
С появлением широкоплечего рыжеволосого тарронского адмирала в Тай-арн Орэ как-то разом стало шумно и тесно; широкие коридоры казались вдвое уже, залы — меньше, когда в них появлялся Могучий Сайта — прозвище, данное ему еще в Тарроне и подтвержденное здесь. Черного Морехода он не видел уже дня три и, пожалуй, не слишком об этом горевал: компания находилась и так. Правда, насчет горло промочить здесь было слишком сурово — ну, да ничего. Ребята в самый раз, все как на подбор: эх, из них бы команду — цены бы не было такой команде! куда там этим нуменорским вонючкам! И дерутся — всем бы так драться…
На четвертое утро, когда он, привалившись к стене фехтовального зала, следил за очередным поединком, в противоположную дверь вошел Черный Мореход. Если он и заметил Сайту сразу — а не заметить было тяжело, — то не подал вида: подошел к поединщикам, что-то тихо сказал, забрал у одного меч и знаком показал второму — к бою. Сайта в первую же минуту даже рот открыл от удивления: Мореход почти не двигался с места, движения его были стремительны и легки, почти незаметны, но ни один из ударов южанина не достигал цели. Его первый противник, ясноглазый светловолосый юноша, следил за поединком с сосредоточенно-напряженным лицом, а Мореход тем же негромким голосом бросал ему через плечо какие-то фразы.
Лет десять назад видел Сайта таких, как этот светловолосый: моряки добрые, ничего не скажешь, но вот оружия при них как-то не наблюдалось. Да и насчет выпить они того… не очень. Но хорошие ребята. Сказки горазды рассказывать. Не может быть такой земли, как эта их Земля-у-Моря. Много чего бывает на свете, а вот такого быть не может, чтобы вообще люди не воевали. Впрочем, потом и порасспросить можно…
Черный Мореход в это время опустил меч и что-то коротко сказал — судя по тому, что за этим последовало, «защищайся». По крайней мере, южанин это и попытался сделать. По представлениям рыжебородого адмирала, действовал он совершенно правильно, однако чего-то ему нехватало — то ли опыта, то ли быстроты; южанин наконец махнул рукой и протянул меч светловолосому юноше. У того выходило лучше; по крайней мере, один-два удара из пяти он успевал отбить, но нападать, к удивлению Сайты, даже не пытался. Мореход, наконец, грустно улыбнулся и положил руку на плечо светловолосому — тот сделал виноватый жест свободной рукой.
— Э… кхм… — не выдержал Сайта, — Могу ли я…
Все трое одновременно повернулись в его сторону. Впрочем, представления Сайты о вежливом обхождении этой фразой и исчерпывались, а потому, подойдя к светловолосому, он заявил напрямик:
— Слышь, приятель, дай-ка меч.
И, получив желаемое, крутанув в руке сверкающий клинок, потянулся с блаженным видом дорвавшегося до сметаны кота:
— Эх, разомнем косточки!..
На лице Черного Морехода появилось странное выражение:
— Ну что ж, начнем… Защищайся.
— Предупреждать? Меня? — поднял брови Сайта — и осекся: светлый клинок мгновенно оказался у его горла.
— М-м… — неопределленно протянул Сайта.
Следующие несколько минут напрочь смешали представления Сайты об искусстве боя, и на лице адмирала медленно стало проступать несвойственное ему выражение неуверенности и смущения. Это уже не лезло ни в какие ворота: в мгновенья передышки Мореход откровенно предупреждал, куда намеревается нанести следдующий удар — и все равно Сайта не успевал защититься.
— Э-эх, хорошо ты дерешься, — обреченно махнул рукай Сайта, опуская меч, — Вот если бы мне секиру…
Мореход пожал плечами, возвращая меч хозяину:
— Как-нибудь попробуем. А сейчас нам с тобой пришло время поговорить, Могучий Сайта, — при последних словах он бледно улыбнулся.
* * *
Черный Мореход уселся в невысокое резное кресло и указал Сайте на такое же, напротив.
Воцарилось молчание. Сайта с любопытством озирался по сторонам, его собеседник сидел в глубокой задумчивости, сцепив узкие длинные пальцы.
— Что ж, Могучий Сайта… Время рассказать тебе, куда ты попал и кто я такой. Помнится мне, я так и не представился. Так вот…
Он вздохнул и положил руки на подлокотники кресла:
— Имя мое Саурон, в Ханатте — Саурианна.
Сайта недоверчиво прищурился на него:
— Ты? Что-то мне мои ребята ихнего Солнечного Посланника по-другому описывали. Ты, дружище, воин, конечно, того… добрый, словом, воин, но…
Он с сомнением покачал головой.
— Хм, тебе придется поверить мне на слово. Как и в то, что мы сейчас в Священной Земле Огня, как говорят ханаттанайн. Впрочем, в этом ты можешь убедиться своими глазами.
— Н-ну… — неопределенно протянул Сайта, не склонный верить на слово, — Скажем, может ты и не лжешь. И что?
— Ты, помнится мне, сказал, что не покинешь меня никогда?
— Сказал.
— Так вот… — Саурон поднял на собеседника холодные яркие глаза, и Сайта впервые задумался — может, и вправду это здешний владыка? Да нет, навряд ли… Непохоже. Венец, правда… да и взгляд…
— Так вот. Если пожелаешь, ты сможешь действительно остаться со мной… люди называют это «навсегда».
На раскрытой ладони Саурона поблескивало стальное кольцо с золото-алым огненным сердоликом.
— Коле-ечко… — пренебрежительно протянул Сайта, — И что мне в нем? Лучше б меч…
— Это не совсем обычное кольцо.
— А что оно мне даст? — заинтересовался Сайта — без особого, впрочем, доверия, — Бессмертие? неуязвимость?
— Неуязвимости дать я тебе не смогу. А вот бессмертие… Тяжкий это дар, Сайта, — в голосе Саурона неожиданно прозвучали грустные мягкие нотки.
Сайта фыркнул:
— Там и посмотрим. Согласен я, чего там, давай свою игрушку! — и протянул здоровенную ручищу.
Саурон беззвучно рассмеялся:
— Решителен, что и говорить! Что ж, если я верно вижу… — он не договорил.
Сайта забрал кольцо и, нахмурившись, надел на безымянный палец — так же, как, он заметил, Саурон носил простое светлое кольцо. Как ни странно, сердоликовый перстень пришелся впору; на мгновение по руке пробежал холодок, словно покалывание тонких ледяных иголочек, но тут же все и прошло. Саурон сидел с сосредоточенным лицом, глядя не то чтобы на Сайту, а вроде бы даже сквозь него, и рыжий пират вдруг почувствовал себя как-то неуютно.
Вскоре в зал вошли трое в привычных уже глазу Сайты черных одеждах; младший был ему знаком — давешний светловолосый парнишка.
— Повелитель?..
Саурон поднялся:
— Отныне это ваш брат.
Сайта широко улыбнулся — и улыбка эта застыла на обветренном загорелом лице.
Потому что старший из троих был — нуменорцем.
Тут же Сайта и узнал, что светловолосого парнишку зовут Элвиром, что узколицый седой человек в серебряном невысоком венце предпочел бы, чтобы его называли просто Магом («Великим Магом», — лукаво усмехнулся Элвир); когда спросил, почему, тот досадливо дернул плечом и сдвинул прямые брови. Сайта предпочел расспросов не продолжать — мало ли что, колдун, все-таки…. Нуменорец назвался Аргором.
— Что-то не припомню я у нуменорцев таких имен — Владыка Ужаса! — усмехнулся Сайта, обнаруживая некоторое знакомство с наречиями Элдар.
Напряженное молчание повисло в зале. Маг положил руку на плечо нуменорца, явно собираясь что-то сказать; Элвир закусил губу.
— Что же, — низким спокойным голосом проговорил нуменорец, — рано или поздно ты все равно узнаешь… брат. Меня звали Хэлкар.
И так же спокойно посмотрев в исказившееся от ненависти и отвращения лицо Сайты, развернулся и вышел из зала.
Ни Маг, ни Элвир не бросили на рыжебородого ни единого взгляда.
— Вы… можете идти, — чужим, чудовищно усталым голосом проговорил Саурон.
И в молчании они вышли из зала — только Элвир задержался на пороге и обернулся.
* * *
Куда девался Элвир, Сайта не понял, но решил его отыскать. Он мог бы поклясться, что обошел весь замок, прежде чем наткнулся на юношу. Тот сидел, сжавшись в комок, в углу библиотеки — последнего места, куда Сайта догадался заглянуть.
— Элвир, — Сайта легонько потряс его за плечо.
— А… да… — Элвир смотрел серьезно и грустно.
— Ты скажи, ты из этой… из Земли-у-Моря?
Юноша просветлел:
— Да. Ты — слышал о нас?
— Те ребята назвались Странниками моря. Красиво! — мечтательно зажмурился рыжебородый, — Капитана их звали… Айта?…
— Айтии. Я его еще мальчишкой знал. Он хотел стать мореходом, верно.
Сайта озадаченно поскреб в затылке:
— Слушай, я чего-то не понял, наверно… Я его видел лет десять назад, а самому ему тогда было лет двадцать пять, должно, а может, и поболе. А тебе…
Элвир задумался:
— Вообще-то двадцать…
До Сайты что-то начало доходить — медленно и смутно:
— И здесь ты…
— Одиннадцать лет. А первый раз пришел двадцать один год назад, — Элвир смущенно улыбнулся, — Я сам до сих пор привыкнуть не могу. Если бы не это, — он поднял левую руку, на которой, на безымянном пальце, как и у Сайты, поблескивало кольцо; только камень был темным, да и само кольцо было потоньше, — я бы…
Он замолчал.
— Эй, — нерешительно сказал Сайта, — Ты чего это, братец?
— Странники мало живут. А я — Странник.
— Значит, это колечко… — Сайта недоверчиво разглядывал сердоликовый перстень, — А я-то ему не поверил!.. Слушай, брат, так что, правда — это он и есть?
— Кто? — не понял юноша.
— Ну… Саурианна. Я его, знаешь ли, как-то по-другому представлял.
— А как? — заинтересовался Элвир.
— Ну… такой… — Сайта обрисовал обеими руками неопределенный контур по крайней мере на две головы выше его самого и вдвое шире в плечах.
— Сказки.
— А то, что мне ваши ребята рассказывали — не сказка?
Элвир улыбнулся и покачал головой.
— Слушай, давно спросить хотел — у них что, и правда оружия не было?
— Нет, — юноша вздохнул, — Учитель считает, что я должен уметь сражаться. Хотя бы чтобы защищаться или обезоружить противника — ударить я все равно не могу.
— А?!
— Не умею. Учителю хуже; он мне как-то сказал — ему просто больно. Когда-то было по-другому. А Тот, кто зажег Звезду… — Элвир помолчал и продолжил совсем тихо, — Я думаю, когда прорастаешь Артой, а она — тобой, просто не может быть по-другому.
Сайта мало что понял, но решил это оставить до времени. Сейчас его гораздо больше занимал другой вопрос, но и с ним он решил погодить.
— Пойдем, братец, по замку прогуляемся, — предложил он.
Пока они бродили по залам и коридорам, Сайта молчал; говорил все больше Элвир — рассказывал о своей земле, о мореходах и Странниках, о медных соснах побережья, о белых дюнах и просоленных морем травах, о Дайнтар, о Долине Ирисов, о Единороге и серебряном драконе… Сайта слушал внимательно, но все больше мрачнел и наконец, когда они вершней площадке одной из башен замка, высказал мысль, не дававшую ему покоя:
— Слушай, откуда здесь — этот?
Элвир резко остановился:
— Кто?
— Хэлкар, — имя произнес, словно сплюнул.
— Он… — Элвир растерялся, — Он — наш брат…
— С ума спятил, парень? — Сайта присвистнул, — Ну, ты даешь! Это ж Хэлкар, тот самый!
Юноша взглянул недоуменно — что, мол с того? В больших серо-зеленых глазах появилась тревога.
— Хэлкар, подонок! Ты знаешь, как его называли? — «брезгливый убийца»! Он от городов камня на камне не оставлял, сволочь нуменорская, падаль!..
Сайта длинно и грязно выругался. Элвир заметно побледнел, но ничего не сказал — казалось, он просто утратил дар речи.
— Ты что, не знал? Еще бы, как же, сознается он! Как только язык не отсох — собственное имя произнести! Ты мне скажи, как эту мразь сюда занесло? Что, повелитель ваш тоже ничего не знает? Он же продаст всех и вся, вот только случай подойдет! У него же на лбу написано, что он предатель! Пес нуменорский! Он…
— Ты прав, Могучий Сайта.
Они обернулися одновременно. Лицо Хэлкара было как всегда холодно-бесстрастно — прекрасная маска бога, высеченная изо льда, — только в глазах стояло что-то странное.
— Ты прав, — повторил он и, как тогда, в зале, развернувшись, пошел прочь.
Ветер трепал его темные с сильной проседью волосы и черный плащ.
Сайта обернулся к Элвиру в поисках поддержки, на лице его явственно читалось — «Эк лопухнулся-то!» Лицо юноши было не менее холодным и застывшим, чем лицо нуменорца мгновенье назад.
— Ты оскорбил моего брата, — медленно и раздельно выговорил он страшным неживым голосом, — Как ты посмел. Думаешь — я не знаю. Думаешь — он не помнит. Я буду драться с тобой.
Сайта перепугался не на шутку — его юный спутник совершенно переменился.
— Да ты что, ты что?.. Я ж правду… он и сам сказал…
— Правду, — лицо Элвира перекосилось, — Правду. Ну, так давай, берись за меч. Или — что ты там предпочитаешь, секиру? Я знаю, ты меня убьешь. Все равно. Ну?!
— Элвир, ты что… ну, хочешь я, как это… принесу ему извинения? — Сайта был ошеломлен и растерян до крайности: какой угодно реакци он ожидал на свои слова, но только не этой.
— Принесешь — извинения, — Элвир сказал это тем же ровным голосом, но, перехватив его взгляд, Сайта увидел, что его глаза переполняла невероятная боль, какую можно увидеть только в глазах умирающего, — Извинения. Зачем? Ты ведь — прав. Ты прав, Могучий Сайта.
И, развернувшись так резко, что его черный плащ взлетел крыльями, он бросился следом за Аргором.
* * *
— Брат!
Голос его был сейчас совсем иным, чем когда он говорил с Сайтой — чистым и напряженным, как натянутая до предела струна:
— Постой… постой! Прости его! Он ведь совсем не знает тебя!
— Простить? За что? Ведь он прав. И ты, разве ты знаешь — Хэлкара?
Имя прозвучало резко и отчетливо — словно бич хлестнул. Элвир внутренне сжался.
— Знаю, — ответил как мог мягко, — И знаю, каким ты стал.
— Предателем своего народа.
— Нет! — отчаянно крикнул Элвир.
Он лихорадочно пытался придумать — что же сделать, что, что?! Тоска в глазах нуменорца была невероятная, нечеловеческая, и еще страшнее казались эти глаза на спокойном холодном лице, в котором ни один мускул не дрогнул. И тогда юноша решился.
— Идем, — он крепко взял Аргора за руку, — Я буду петь тебе, брат мой.
«И не мерзко называть меня — братом?» Хотел сказать — и не сказал, такая отчаянная решимость читалась на лице юноши.
* * *
…Он пел — а на небе зажигались первые звезды, и восточный ветер играл языками пламени, поднимал в воздух недолговечный рой искр. Он пел песни Странников Земли-у-Моря и странников Большого мира, и те песни, что сложил сам, и те, что слышал от менестреля со странной черной лютней, помнившей иные руки и иной голос. Он пел, а ночь опускалась на землю — ветренная звездная ночь, пахнущая горькими степными травами. Он пел древние песни ковыльных степей и холмов, пел о Звезде и Зажегшем Звезду, о доблести навеки ушедших воинов, о соленом морском ветре, о гордых кораблях и о ветви ойолаирэ, что дают в путь мореходам далекой Эленны. Пел о Долине Звездного Тумана и о черных маках, о Зачарованных Островах, о вершинах гор в сверкающих мантиях ледников и о первых весенних цветах, о Той-что-Ждет, о звездопадах, о костре в ночи, о скорби, о надежде, и снова — о море и о Звезде…
Лишь когда звезды начали бледнеть, он умолк. И нуменорец поднялся, встал за спиной Звездочета и, положив руки ему на плечи, сказал тихо и печально:
— Благодарю тебя, брат мой, Король-Надежда. Благодарю тебя. Только прошу — не надо так больше.
Отвернулся и шагнул прочь прежде, чем Элвир успел заглянуть ему в лицо.
Провидец
Они так нежно и изысканно звенят, эти маленькие колокольчики в хрупких ажурных беседках. Утро — перламутровое, неопределенное. Каждый миг мимолетен и неповторим, и вся жизнь такова — миги, мгновения, каждое — единственное. Эта мимолетность, манящая печаль неопределенности и изменчивости — во всем. И девушки в ярких платьях, что идут за водой к источнику — иные каждую минуту. Странно, как при этой изменчивости вещь остается самой собой? Суть? Что есть суть? Все меняется, все хрупко и изысканно, нежно и зыбко. Одно повторяется — эти проклятые видения. Каждую ночь новолуния — всегда, неизбежно и страшно. И это с детства. Непонятно и страшно. Здесь такого нет. Здесь — гармония даже в смерти. Печаль неизбежности, но не ужас. Но ночью — не смерть. Жизнь, но страшнее смерти. И он ее видит.
Страшно жить двойной жизнью. Днем еще как-то можно отогнать мысли. Поэтому — нет наездника и охотника, поединщика и музыканта лучше его. Ночью — опять эти страшные, непонятные видения, от которых перехватывает дыхание. Сначала пытался спрашивать. Затем — затаился.
— …Пропала, понимаешь, — плачет. — Куда я без нее? Как детей-то накормить, а?
Всадник остановился. Он не знал, о чем речь, не знал, что случилось. Но, еще не осознав сам, сказал:
— Иди к Еловой горе. Она там, у порубки.
Оба воззрились на него в изумлении. А вечером крестьянин прибежал, благодаря и кланяясь в землю, говорил:
— Нашел, прямо там и была! Да будет вам счастье и тысяча лет жизни, молодой господин!
«Счастье и тысяча лет… Зачем столько… Если бы понять, что я вижу…»
И началось. Он стал понимать, что видит потаенное. Особенно ясно это стало, когда он во сне увидел, как мать обрезала руку. На другой день все произошло в точности, как во сне. Он испугался. А потом привык. Он видел всякие грядущие мелочи, и даже забавно было иногда подшучивать над друзьями. Но все было до поры.
…Он увидел, как его убили, увидел — кто. Он сказал. Не поверили. Но так и случилось. Тогда стали верить. И бояться его и его видений. Его глаз. Он это видел. Страшно. Все хуже и хуже. Теперь он видел события, как бы на развилке: одно событие и много исходов, в зависимости от обстоятельств. И в ужасе понял, что от его слов зависят судьбы слишком многих, и он должен судить и решать. Страшное бремя. Предотвращая близкое зло, он слишком часто давал жизнь злу дальнему, более страшному.
И он ушел, чтобы не быть с людьми, чтобы не судить… Ведь никто не давал ему права, никто! Страшно видеть — и молчать, знать и мочь, но не уметь пользоваться, о, боги…
«Зачем, за что? Зачем — я, почему? На что мне этот дар? За что наказание, о боги? Я так молод, я еще ничего дурного не сделал…»
Отшельник, сухой, словно ветка сосны с осыпавшимися иглами, но глаза — как раскаленные гвозди. Не скроешь ничего.
— Тебе дан великий дар, и грех губить его. Говорят, раз в тысячу лет рождаются такие люди. Видно, ты избран судьбой.
— Если бы я знал, что делать с этим даром…
— Помнишь ли — «Зов, что заставляет покинуть край счастливый, это — моя дорога. Я разменял золото бездумного счастья на черствый, но живой хлеб страданий. Горько мое вино, но я пью его, ибо в нем — свершенье. Хочешь — возьми мой хлеб, испей из чаши моей — я жду. Боль приноси свою — я возьму ее, дав взамен знание и мудрость.»
— Темны эти слова…
— Разве не темны твои сны? Ты хочешь знать их значение?
— Нет… Я не хочу больше этого видеть, не хочу!
Отшельник встал, прямой и строгий, и поднял свой посох.
— Вон отсюда… трус… будь ты проклят!
* * *
«Я должен измениться. Перестать быть собой. Мудрые говорят — не желай себе смерти, ибо жизнь не повторится. Лучше уж умереть, чем это…»
Он помнил сказание: «Глядящий в глаза белого тигра, седого, древнего, бессмертного тигра — изменится. Познавший суть свою — изменится. Познание — убийца покоя, похититель счастья для имеющего жалость. Хочешь мудрости — иди, но оставь покой. Хочешь покоя — убей свою жалость, умри.» Это был первый выбор. Он не хотел умирать — но и жить ТАК больше не хотел.
Глаза зверя — светло-зеленые, затягивающие. Воля — где? Он не видел ничего, он шел, держась рукой за теплую короткую шерсть. Тело зверя — мускулистое, упругое, струится, словно растворяясь. Где я? Что там? Я это видел когда-то… Что это?
Зверь несется гигантскими прыжками, почти не касаясь земли. Туман скрывает его тело — призрачное, как и он, и глаза его — как болотные огни… Человек сидит, изо всех сил держась за жесткую холку…
* * *
«Я его видел… Он был другой — моложе, сильнее… Если это он — то я знаю, кто это…»
— Приветствую тебя, Идущий к Закату, — неуверенно, еще сомневаясь.
— Привет тебе, приехавший на Белом Звере…
— Я тебя откуда-то знаю. Я тебя видел? Но ты был так давно. Ты мудр — так говорят. Объясни!
— Что?
— Объясни мне меня.
— Что с тобой?
— Я вижу. Не знаю, не понимаю — что? Если понимаю — то не могу сказать другим, ибо тогда должен судить, а я не в силах…
— Ты всегда видишь? Как это бывает?
— Иногда, теперь очень часто. Словно как слышишь — надо затыкать уши. Но как закрыть душу?
— Ты этого хочешь?
— Не знаю… Теперь — не знаю.
— Сейчас ты можешь видеть? Смотри на меня — что ты видишь? Говори.
И он заговорил. И не выдержал Черный Повелитель.
— Замолчи! Замолчи! — крикнул он, закрывая лицо руками. — Все правда, все так было… Иди за мной.
Листы книги были потрепанными и ломкими.
— Читай. Здесь все поймешь — все, что ты видел. Я буду ждать.
* * *
— Ты хочешь, чтобы я отнял твой дар?
— Нет. Теперь — нет.
— Чего же ты желаешь? Говори — все будет, как ты выберешь. Ведь ты можешь видеть грядущее — загляни. Реши.
— Не хочу. Мне это не нужно, я выбрал. Нужно ли мне говорить, что я избрал, Повелитель?
— Нет. Благодарю тебя. Только знай… впрочем, ты уже это сам знаешь. Тяжело знать — предвидеть — и не сметь сказать.
— Да. Я не смогу ничего изменить сам… Молчание.
— Нет. Иначе это будет та же проклятая предопределенность.
— Но зачем тогда мой дар!
— Тот, кто стоит на развилке, спросит — туда ли я иду? Знающий скажет — да или нет. Но не скажет — почему. И не скажет — как дойти, иначе нет смысла в дороге.
— Я отвечу, Повелитель.
* * *
«Сталь кольца — оковы на устах моих, на сердце моем. Я знаю. Я вижу. Я молчу. Я не смею менять — предопределенность и зло, что я призову на головы других. Я не смею судить. Не судья, а слуга… Сталь кольца — как печать, как клеймо, как судьба… Лунный камень и ночь, и молчанье пути, я не смею, я смею… Молчать — и идти…»
О «черных культах» в южных колониях Нуменора
(2274 год II Эпохи)
…Ночь непроглядно-темна, узкий серп ущербной луны почти не дает света, стволы деревьев в нескольких шагах сливаются в сплошную стену. Кто выйдет из дома в такую недобрую ночь? Что могло выгнать в лес этих сумрачных людей, кутающихся в тяжелые плащи, скрывающих лица под капюшонами?
Они называют это — Служением.
Сколько их собралось на лесной поляне вокруг грубо обтесанной продолговатой каменной глыбы? — не знают и они сами. Как не знают друг друга по именам, не видят лиц друг друга.
Они называют это — тайной Служения.
Тот, единственный, кто сбросит сегодня темный плащ — увидит ли его лицо хоть кто-нибудь? Ущербная луна хранит свои тайны, вряд ли кто-то узнает его, даже если они и были знакомы в том, дневном мире. Знает всех лишь один.
Они называют его — Первым среди равных в Служении.
В мертвом молчании он делает шаг вперед, и невольно вздрагивают собравшиеся, когда раздается его тяжелый голос:
— Я приветствую братьев моих во Служении. Да будут благословенны те, чьи сердца бьются надеждой на возвращение Владыки единого и справедливого. Истинно, говорю я, истинно, братья мои — великая ночь ныне, ибо сегодня еще одна душа взойдет к Властелину, дабы придать Ему сил, дабы мог Он вернуться. И наступит час — падут пред Ним троны Запада, и весь мир — от заката к восходу, от севера к югу — прахом ляжет к стопам Его…
Голос звучит мрачным, яростным вдохновением, ему внимают в молчании, затаив дыхание, не смея не то что слово молвить — переступить с ноги на ногу.
— Так говорю я вам, братья, равный среди избравших путь Служения: грядет Час, когда вернется Он, и будет судить Он, и будет карать Он, и никому не укрыться от гнева Его. И будут те земли, что не покорятся Ему, достоянием злаков сорных, соляною рытвиною, пустынею навеки. Грядет Час, когда вернется Он, и Днем Гнева наречется тот день, когда вернется Он; и истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы…
… Что привело сюда этих людей, кто они? Одни — из тех, кого называют еретиками, кто не умеет слепо верить священным книгам: они пришли узнать истину. Другие — пресытились милостями светлых Валар: они ждут, что сможет дать им — тот, из Тьмы. Третьи — из семей, в которых поклоняются Изначальной Тьме, знающие, что у Тьмы не может не быть господина: они следуют своему пониманию веры… Всех равняет ночь, тень, темные плащи; всех равняет благоговейное молчание, с которым они внимают словам темного пророчества.
Пророк поднимает руки к небу, и немые тени вокруг начинают опускаться на колени.
— О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделалось известно врагам Твоим; от лица Твоего содрогнулись бы народы…
Он говорит, словно не видя и не слыша ничего вокруг, и вера почти безумная — в его словах. И двое подводят избранника к камню, указывая ему лечь, и цепи охватывают его тело, и еще один — с чашей в руках — встает в головах и так замирает — слушая.
— Ты милостиво встречал радующегося Тебе и поминающего Тебя на путях Твоих. Но вот, Ты прогневался, потому что издавна согрешили мы и восстали против власти Твоей; и как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистый, и вера наша — как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Владыка и Господин, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты — образователь наш, и все мы — дело руки Твоей. Не гневайся, о Владыка, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же — здесь мы все народ Твой! Пошли нам слово Твое, ибо вот — со смирением и коленопреклоненные, молят Тебя об этом дети Твои!..
— Пошли нам слово Твое, — единый сумрачный вздох.
Прикованный молча смотрит в непроглядно-черное небо, не ощущая, как холод камня все глубже проникает в тело. Словно свод храма — великая Ночь над ним; его переполняет восторг, смешанный с благоговейным ужасом: вот сейчас, сейчас это произойдет, всего несколько мгновений… Что? — он не знает: разверзнутся ли небеса, явив Пришедшего судить и карать, разорвет ли напряженную тишину величественный Голос, подобный раскату грома… В мертвой тиши горячо бьется сердце. Великий миг…
— Слушайте!
Вздрагивают коленопреклоненные фигуры от неожиданно звучного голоса.
— Внемлите, ибо было ко мне слово Господина нашего, — безумный восторг в словах говорящего.
— Так говорит Он…
Тянется молчание, и с трепетом ждут новых слов пророка. И голос его раздается вновь — изменившийся, глухой и величественный:
— Когда полны соком виноградные кисти, тогда говорят: «не повреди их, ибо в них благословение»; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить. Те же, кто оставил Меня и отрекся от Меня, тех обрекаю Я мечу, и преклонятся они на заклание, потому что Я звал — и они не отвечали, говорил — и они не слушали, но делали злое в очах Моих и делали то, что было неугодно Мне. И рухнут престолы их, и падут твердыни их, и повержены будут беззаконные боги их; ибо их своеволие и беззаконие не укрыть от очей Моих. Посему так говорю Я: вот, рабы Мои будут насыщаться, отвергшие же Меня будут голодать; рабы Мои будут пить, отвергшие же Меня будут томиться жаждою; рабы Мои будут веселиться, отвергшие же Меня будут в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, отвергшие же Меня будут кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. Примите же ныне причастие Мое; и кровь причастия да станет вином в устах ваших, вином истины Моей и завета Моего. Да станет причастие это знаком Избранных Моих для Меня, когда приду Я, и трижды три раза благословен среди Избранных Моих отдавший кровь свою, дабы жажду истины утолили собратья его, и душу свою, дабы мог Я вернуться…
Тускло, как серп ущербной луны, поблескивает клинок над горлом скованного.
— … ибо станет душа его ступенью пути, которым вернусь Я; и меч Мой будет в руке Моей — вот, для суда нисходит он на народы, отвергшие Меня и отвергнутые Мною…
И снова — иным голосом, торжественно и тихо:
— Прими же, Господин и Владыка наш Мелькор, душу, готовую предстать пред Тобою — да принесет она моление сердец наших пред лице Твое…
* * *
…С сухим треском рвущейся ткани ослепительная вспышка молнии распарывает ночь: черный крылатый силуэт возникает посреди прогалины — венец с ясной звездой на челе, прекрасное и ужасающее лицо, темный меч в руках, и бьется вокруг холодное пламя.
— Владыка… — угасающим эхом — голос.
Ярче камня-звезды в венце, ледяным гневом горят глаза, и — негромко, с холодным бешенством:
— Любите красивые слова — так слушайте! Вам, оскорбляющим его, приносящим кровавые жертвы ему в рощах, собирающимся, чтобы пить кровь братьев своих, говорю: не благословенны, но прокляты вы. Ибо и волки не пожирают волков; вы же, люди, пьете кровь человеческую, как вино, в безумии и слепоте своей говоря: это угодно ему. Вы люди — а уподобились гиенам и шакалам; и пятнаете кровью одежды ваши, грязью — Служение, говоря: это угодно ему. Создателю Людей — людей приносите в жертву, и с каждой каплей крови тяжелее оковы его, вы же говорите: это угодно ему. Будьте же прокляты вы, и уподобившиеся вам, во веки веков! Вы пророчили День Гнева — для вас он настал; вы говорили о карающем мече — вот, он в руках моих. И если суждено сегодня пролиться крови — да будет это кровь того, кто вел вас этим путем.
Бесстрастно лицо, бесстрастен голос:
— Ты умрешь.
И — единственный удар, почти надвое разваливший тело пророчествовавшего.
— Вот вам кровь. Лакайте же ее, псы! И помните: если хоть раз еще решитесь вы собраться так, отмщение настигнет каждого из вас!
Ледяное спокойствие — страшнее бешеной ярости. И так же негромко, спокойно и безразлично:
— Теперь — прочь отсюда все.
В мгновение ока поляна пустеет. Светлоглазый подходит к камню-жертвеннику, касается цепей — они падают с глухим звоном. Он легко поднимает бесчувственное тело и делает шаг вперед, в новую вспышку ледяной молнии. Ночь смыкается за ним.
* * *
— … Очнулся? Можешь встать? Идем, он ждет тебя.
Странен обликом для глаза Нуменорца говорящий — юноша из народа Дахо: бронзовая кожа, синие в черноту глаза и неожиданно светло-золотые, как лучи бледного солнца, волосы. Впрочем, имени народа Талион не знает.
— Где я?
— В Тай-арн Орэ, — у него выходит «Тхайярн».
Кто — «он», Талион не спрашивает: молча поднимается, натягивает одежду и с сильно бьющимся сердцем следует за юношей.
Он ожидал увидеть тронный зал, множество воинов и слуг, сумрачное великолепие, великого Владыку на троне, а здесь — маленькая комната, уютно потрескивают дрова в камине, неярко горят свечи, и всего один человек за столом — опустил голову, лица не видно, волосы с сильной проседью… венец, правда, есть — тот самый, с камнем-звездой.
— Властелин…
Горло перехватывает, и Талион в немом благоговении опускается на колени. Человек поднимает голову — лицо у него страшно усталое и осунувшееся. Вовсе не похож на грозного бога, явившегося прошлой ночью.
— А-а… ты. Встань. Тэххо, благодарю, ты можешь идти.
Дверь закрывается бесшумно.
Человек проводит рукой над свечой — пламя вытягивается, свивается в спираль — опадает.
— Встань, встань. И никакой я не Властелин. Имя мне Саурон, так и зови. Твое имя, кстати, как?
Нуменорец поспешно поднимается с колен и замирает в поклоне:
— Талион, господин.
Человек еле заметно морщится:
— Оставь ты эти расшаркивания, Талион. Сядь. И не смотри на меня с таким ужасом: я тебя оттуда не затем вытащил, чтобы убить. Это сделали бы и без меня.
— Да, господин, — поспешно кивает Талион, присаживаясь на краешек стула.
— О-о… И как это было — зельем тебя опоили, что ли?
Талион гордо вскидывает голову:
— Нет, господин, я вызвался сам!
— Что?.. — брови Саурона ползут вверх.
— Нет большего счастья, чем отдать жизнь во имя Служения, во имя…
— Не смей!
Нуменорец испуганно замолкает.
— Тьма всесильная, не хватало, чтобы ты оказался фанатиком… Что ты вообще знаешь о Служении?
— Ничего, господин, — с готовностью откликается юноша, — Знания мои пред твоими — малая крупица песка перед горной вершиной, горчичное зерно перед тысячелетним деревом…
— Ну, хватит, хватит, — досадливо обрывает Саурон, — Вот ведь, научили молоть языком! Хочешь — попробую объяснить.
— Господин! Я недостоин… чтобы ты — ты сам… Может, кто из рабов твоих…
— Нет у меня никаких рабов! — взрывается Майя, и Нуменорец снова делает попытку упасть на колени, — Ну, полно! Сядь и не суетись. Здесь все — избравшие Путь Служения, любой мог бы с тобой поговорить, но лучше я сам.
Пламя свечи снова скручивается и опадает.
— Он никогда не называл себя Властелином. Он…
* * *
Закончив говорить, Саурон отошел к окну и остановился там, глядя в начинающее светлеть небо.
— Ну что, понял? — голос у него был усталый и совсем тихий.
Талион тоже встал и начал расхаживать по комнате, нервно сплетая и расплетая пальцы. Остановился.
— Понял. Все понял. И лучше бы не понимал. Лучше бы мне по-прежнему верить, что он был великим воителем, грозным владыкой, пред кем трепетали и самые могучие! Если таково ваше учение… Во все века снова и снова будут вас заковывать в цепи, жечь вас на кострах, выжигать вам глаза!..
Саурона передернуло, но он промолчал.
— Ты нас фанатиками назвал… — поколебавшись, все же добавил, — господин, а вы, вы сами? Мученики Служения! Милосердные! Конечно, любой вере нужны свои мученики, это помогает убедить в ее истинности — но всему же есть предел! Умереть, чтобы не пролилась лишняя капля крови! — да стоят ли этого столь недолговечные и невежественные существа?! Надо же — бог, отдающий себя за людей! Всех понять, все простить…
— Не все, — негромко откликнулся Саурон. Талион не обратил на это внимания:
— За всю свою жизнь не упомню подобной нелепости!
— А сколько тебе лет? — вкрадчиво поинтересовался Саурон.
— Двадцать шесть, но это не имеет значения; я…
— Да, а что сделал бы ты? — так же вкрадчиво спросил Майя.
— Обладай я такой силой — я стер бы в прах всех своих врагов! Я не оставил бы и следа ни от них, ни от их лживых учений! Я поставил бы вернейших из своих слуг, чтобы они правили землями мудро и справедливо, покарал бы отступников и наградил бы достойных; подумай, разве не больше добра сделал бы он людям, будь он Владыкой Арды?.. Я очистил бы землю от нечисти огнем и мечом, укротил бы сильных и жестоких и создал бы царство Истины и Справедливости!
— На крови?
Талион пожал плечами:
— Политая кровью земля дает тучные всходы.
— Ах, во-от оно что… А мы, глупцы, пребывали во мраке неведения столько веков…
Молодой Нуменорец не заметил насмешки:
— С твоей силой еще не поздно все изменить! Смети с лика Арды служителей ложных богов, пусть люди служат Истине! Ты создашь великую, непобедимую империю, сила твоя будет вечной опорой ей, мудрость твоя станет знаменем ее…
— Говоришь, моя сила? И всякого, кто не согласен… и весь род его до девятого колена? — Саурон задумчиво и как-то странно посмотрел на Нуменорца и решительно шагнул к нему.
* * *
…Очнувшись, Талион узрел несколько растерянное лицо Саурона и сочувственное — какого-то человека средних лет, тоже, похоже, Нуменорца.
— Учитель, не слишком ли… э-э… решительно ты воспользовался своей силой? — в озабоченном голосе Нуменорца проскальзывали ехидные нотки, — Так и челюсть сломать недолго.
— Хм, Эрион, друг мой, этой челюсти вреда не причинит и кулак Сайты. Я думаю даже, не повредил ли я руку. Да он, кстати, уже и в себя приходит.
Талион действительно в это время неуверено ощупывал лицо и затылок. В голове гудело — похоже, отлетев, ударился о стену; сосредоточить взгляд на чем-то одном явно не получалось.
— Ну что? — участливо поинтересовался названный «другом Эрионом», — Испытал на себе силу Владыки Мордора?
— О-ох… да… — выдавил Талион, чувствуя, что, если произнесет еще хоть слово, голова у него попросту расколется.
— Учитель, — укоризненно произнес Эрион, — ну, можно ли приводить столь… э-э… весомые аргументы в споре!
— Зато, полагаю, этот аргумент оказался убедительным, — ответил Саурон, потирая руку. — Тебя ведь это убедило? — обратился он к молодому человеку. Тот только промычал что-то неопределенное: мир в его глазах начал медленно, но верно терять ясность очертаний.
— М-мда, это был довод, доступный пониманию. Скажи-ка, Повелитель, ты и впредь будешь так заботливо следить за тем, чтобы я не страдал от отсутствия пациентов?
— По мере сил, друг мой, — пожал плечами Саурон.
Эрион вздохнул с притворной обреченностью.
— Ну что же, молодой человек… Встать можете?
Талион снова промычал невразумительно и сделал попытку подняться.
— Нет-нет, не лишайте меня чести помочь столь… э-э… великому герою, пострадавшему от тяжкой руки Врага… ведь тяжкая рука? Так-так-так… осторо-ожненько… Вот и славно, теперь потихонечку… А спор вы продолжите дней так через… ну, скажем, пять. И я, э-э… сам прослежу, чтобы столь сокрушительных доводов было поменьше. Не так ли, сударь мой? М-мда, а еще говорит о милосердии и мире — подумать только!..
* * *
Второй разговор состоялся нескоро — Эрион говорил: «У вас, э-э, молодой человек, будет достаточно времени на размышления, это я вам обещаю как здешний целитель», — и только недели через две, тяжко вздохнув, разрешил — ладно уж, если хочешь, иди, ничего не поделаешь.
Все — так же, и та же комната, так же горит огонь в камине, мерцает неверным светом свеча…
— Садись, Талион.
Молчание. Потом, нерешительно:
— Я много думал, господин… Саурон. Но, прости — все же не понимаю. Расскажи еще раз. Расскажи — о нем.
Саурон заговорил не сразу — медленно, с трудом подбирая слова:
— Великим всемогущим богам место в Валиноре. Или в небесных чертогах людских легенд. Бог не может жить среди людей — меняются люди, меняется мир, и нельзя остаться неизменным Бессмертному. А, изменившись, он перестает быть богом. Но и живое сердце, и горячая кровь еще не делают бога человеком. Он говорил — нужно делить с людьми все: горе и радость, труд и веселье. Только тогда можно понять их. Бог не может понять людей. Он слишком неизменен, слишком совершенен…
Замолчал снова. Талион терпеливо ждал.
— Нет, не то, все не то… Я не об этом… К нему многие приходили — и чаще со своим горем и болью. Была война. Мы жили войной, дышали ее воздухом. Люди приходили потому, что не было другой надежды. Или потому, что им казалось — никто другой не сможет их понять. Он никому не отказывал в помощи — просто не умел; для него это было — как дышать или… видеть. Когда чувствуешь чужую боль — не можешь пройти мимо. Нет, ты не думай — он умел радоваться, просто радости в те годы было много меньше, чем горя. У него была странная улыбка — неуловимая, ускользающая. Одно движение губ — а становилось так тепло, как под весенним солнцем… Но никто в Аст Ахэ никогда не слышал, чтобы он смеялся.
— Почему? — тихо спросил Талион.
— Я расскажу тебе. Потом, не теперь. Я… Я многого не мог понять тогда. Он не был воином — в вашем понимании. Он не мог выйти на битву — хотя в фехтовальном зале и я недолго мог против него продержаться. Он не мог убить. Он был мастером, Творцом, целителем, учителем — но не воином. Хотя никто никогда не сказал бы этого. Он мог по нескольку суток не отходить от раненого или больного, если это было нужно. Это воспринимали почти как должное — знали, что ему не нужен сон, что он много сильнее обычного человека…
Майя горько усмехнулся.
— Я и сам так думал. А потом… Это было после Нирнаэт. Много раненых — и очень тяжелых, и вовсе безнадежных. И людей Твердыни, и Эльфов, и воинов Трех Племен… Принесли умирающего. В Твердыне были искусные целители, но через несколько часов они уже с ног валились, и он отправил их спать. Приказал. Его нельзя было не послушаться. Когда вышел… Было страшно смотреть. Показалось — он ничего не видит. Стоял, держась за стену, и лицо было белое, почти прозрачное. Я не думал, что такое может быть у живого человека. И тут его снова позвали — помоги, Учитель… Он не сразу услышал. Я встал… не знаю, что со мной было. Словно все внутри скрутило в тугой узел. Только потом понял, что в руке у меня меч. Сам не знаю, что собирался делать. Было такое чувство — зарублю любого, кто к нему сейчас подойдет. Еле сумел проговорить — я не позволю, ты никуда не пойдешь. Скулы сводило. Он обернулся ко мне — медленно, говорят, так бывает в снах — и меня отшвырнуло к стене, такой у него был взгляд. Была ледяная ярость, почти ненависть. Никогда не забуду. Он сказал: «Не смей этого делать. Никогда.» Очень спокойно сказал. Тихо так. И прошел мимо — словно меня и не было. Несколько суток… Когда шел к себе — старался не хромать, была у него такая привычка, не хотел, чтобы видели его слабость, — посмотрел на меня, словно не сразу узнал, и сказал — я так устал… Улыбнулся виновато. Края шрамов разошлись… Странно — сколько крови было за эти дни, а я помню одну эту каплю. И — это: я так устал…
— Почему… — хрипло проговорил Талион; откашлялся и начал снова. — Почему он не брал силу земли? Ведь он же мог…
— Мне тяжело объяснить. Может, было в этом что-то от гордости, от того, что — сумеет справиться сам. Но скорее — он просто слишком любил Арту. Ты бы смог взять силы у человека, которого любишь — пусть и для самого великого дела?
— Не знаю…
И снова — молчание, такое, что слышно, как потрескивает фитилек свечи.
— Послушай, но неужели никто не понимал всего этого? Того, что ты сейчас говоришь мне?
— Понимали. Но, когда тяжело — редко задумываешься, можно ли прийти за помощью, хватит ли у человека сил помочь. Каждый — один на один со своей бедой; никогда не станешь думать о том, что таких как ты — много. Он и не показывал, что умеет уставать. Я попытался с ним однажды поговорить об этом — он только усмехнулся и ответил: я ведь не человек — Вала, всесильный бог; а если уж у бога решаются просить помощи, значит, это очень важно. Его считали сильным. Все. И я тоже. Он всегда был рядом — здесь, в Аст Ахэ. Привыкли. Редко бывало, чтобы он уходил, и ненадолго — на день, на два. Никто не знал, куда — не спрашивали.
— А ты?
— Я — знал.
Талион не стал расспрашивать — так жестко выговорил Майя эти два слова.
— Расскажи еще.
Саурон, кажется, не слышал этих слов — да это и не было нужно: он снова был — там, в прошлом.
— Он был мастер. Ему нравилось делать что-то самому. И он ничего не оставлял себе — только лаиэллинн, но это была его музыка. Только его. Ему нравилось делать красивое. Все, что могло принести радость. Лютни, флейты, и арфы, и украшения — в Семи Городах женщины все еще носят те свадебные уборы… Всякое бывало. Ему даже роды принимать приходилось. Думали, ни мать, ни ребенок уже не выживут, — посерьезнел, — а потом он вышел с маленьким пищащим комочком на руках и тихо сказал: прости, я не смог спасти ее мать. Ахэнэ — так он ее назвал. Это из-за старинной легенды о черной полыни; я тебе ее расскажу как-нибудь в другой раз. Она потом жила в Аст Ахэ, эта девочка…
* * *
… — У тебя остаются братья, они помогут… Тебе… слишком мало лет, чтобы жить одной…
— Я не хочу, отец. Не хочу быть в тягость. Я свой путь уже выбрала; лучше пойду в ученицы к какому-нибудь целителю. Я и готовить могу, и шить, и за домом смотреть — вот и будет вместо платы.
— Тогда… лучше иди в Твердыню. Учитель примет тебя. Он — твой къонэйро. Может, вспомнит… Твоя мать умерла у него на руках, а тебя он спас. Сказал — назови ее Ахэнэ. А по-нашему — Ахтэнэ…
…Тоненькая девчушка с большими печальными — как у олененка — зеленовато-карими глазами.
— Как твое имя?
— Ахтэнэ…
— Ну, здравствуй, Ахтэнэ.
— Здравствуй, Учитель…
* * *
— Свадьба была в Твердыне. Учитель подарил ей убор из черного железа и опалов…
— Красиво… — мечтательно вздохнул Талион. — Прямо как в старинной повести. А потом?
— Что?
— Ну, должно быть, у них были дети, и их сын стал воином Твердыни… Что было потом?
Майя поднял глаза и ровно проговорил:
— Для Аст Ахэ не было «потом».
Дочь пламени
(2275 год II Эпохи)
Нариэль — не имя, конечно, прозвище; но с самого детства никто не называл ее по-иному. Говорят, дед ее, высокородный господин Аэрендил, без памяти влюбился в свою служанку — дошло до того, что он испросил у государя Тар-Атанамира Великого позволения на брак. Супруга его умерла рано, оставив после себя одного сына, унаследовавшего, коли по виду судить, чистую кровь Нуменора. Но кровь Низших возродилась в Алмиэль Рыжеволосой. За эти-то непокорные медно-рыжие волосы ее и прозвали — Увенчанная Огнем.
Государь Тар-Анкалимон, унаследовавший власть по смерти отца, людей с примесью крови Низших не жаловал, а потому семья Нариэль предпочла перебраться в южные колонии — подальше от пресветлых очей короля. В Гондоре потомков смешанных браков было не так мало, да к тому же и сама Нариэль предпочитала не показываться на людях.
Кто ей внушил странные мысли, столь занимавшие ее ныне — неизвестно. Может, правы Мудрые, полагая, что Низшие от рождения расположены к Тьме, а может просто — запретный плод сладок…
С детства была у нее своя тайна. Как-то раз в уголке запущенного сада она наткнулась на странный камень, чем-то напоминающий алтарь; на верхнем сколе угадывался рисунок, вроде девятилучевой звезды. Сюда девочка приходила в лунные ночи и клала на шероховатый камень цветы: они почему-то долго не увядали здесь.
Обычно, повзрослев, люди начинают подсмеиваться над обрядами, которые придумывали в детстве, а то и стыдиться их. Но тут вышло по-другому, и через годы Алмиэль, уже юная девушка, так же, как в детстве, приходила в тенистый уголок сада, долго стояла в молчании перед камнем, а потом так же молча исчезала, оставив на «алтаре» белые цветы.
В остальном она полностью соответствовала своему прозвищу — дерзкая, стремительная, вызывающе красивая непривычной, не-нуменорской красотой. А со временем к прозвищу «Нариэль» добавилось еще одно, шепотком произносившеся за спиной — ведьма.
Неизвестно, откуда к ней пришло знание трав и камней — то, что неведомо было Высшим. Поговаривали, что знается она с дикими племенами, в те времена еще жившими к югу от Эред Нимрайс; что во время долгих и непонятных отлучек наведывается чуть ли не к неприветливому горному народу, живущему неподалеку от одинокой горы с непривычным для слуха Нуменорцев названием — то ли Эрх, то ли Эрек. Могла она словом остановить кровь и наложением рук исцелять раны, заглядывать в прошлое и предсказывать будущее… одним словом, ведьма.
Впрочем, этой славой она скорее гордилась. Ходила неизменно в черном, а из украшений предпочитала обсидиан, рубины и черный агат в оправе из черненого серебра — а то и из черного железа, что вообще не лезло ни в какие ворота, — а на руках носила широкие браслеты из того же железа с осыпью мелких кроваво-красных рубинов, чем-то напоминающие наручники. Почему? — а попробуй-ка, спроси у нее! Посмотрит с насмешкой, по-кошачьи щуря зеленые дерзкие глаза и ответит — мне так нравится. Вот и весь разговор.
К двадцати трем годам странная красота ее вошла в полную силу; на рыжеволосыю ведьму заглядывались многие, но свести более близкое знакомство не торопились.
И вот тут-то случилось то, чего никто не ожидал: сам господин Дамрод, губернатор южной колонии, попросил руки Алмиэль Рыжеволосой.
Ответ был неожиданным: Служение не позволяет.
Служение? Кому?
Создателю Людей.
Илуватару?
Она помрачнела и коснулась кончиками пальцев широкого черного браслета, не ответив ничего.
* * *
«Вот я и снова здесь, и снова говорю с тобой, не веря, что ты слышишь меня. Я пришла не молиться, а говорить. Молятся богам; их можно почитать, поклоняться им, восхвалять — и нельзя любить. Потому что они — боги. Но ты не бог, ты — человек. Боги неуязвимы, они не страдают от боли, не истекают кровью — да и есть ли у них кровь? А я видела раны на твоем лице и ожоги на твоих руках. Но люди не бывают крылатыми, они не умеют зажигать звезды — а ты мог это, черная птица моя. Богам можно возносить молитвы, можно служить им — но это не Служение, и я не знаю, верно ли понимаю Служение я сама. Может, хранить память, пытаться понять людей и помочь им — это еще не все? И кто скажет, откуда приходит память того, что было много веков назад? Может, я уже рождалась не раз и прожила не одну жизнь — кто знает, ведь даже Валар неведомы пути Людей. Может быть, знаешь ты — ведь ты скорее человек, чем бог… Но ты не ответишь — не докричаться.
А если я живу не в первый раз — кем, когда, какой я была? Нужно ли верить обрывкам видений и снов, или это только выдумки, игра праздного ума? И, если да — почему вернулась — ведь немногие возвращаются… откуда я знаю это? Откуда это странное название — Аханаггер, Ночь-связующая-семь-вершин — как заклятье?
Значит, была — цель. Но в чем она? Словно стоишь у закрытой двери, и потерян ключ… может, ключ в этом — «Аханаггер»? Не знаю. Ведь ты не ответишь, даже если спросить: Стена Ночи. А что такое Стена Ночи…»
* * *
…Господин Дамрод во второй раз предлагает госпоже Алмиэль стать его супругой.
Господин Дамрод уже слышал ответ.
Госпоже Алмиэль, должно быть, известно, что Служители Валар имеют власть разрешать от обетов.
Презрительная усмешка:
— Служители Валар не вольны освободить меня от обета, данного мною.
Что же, господин Дамрод согласен просить всемилостивого государя нашего, как верховного служителя Единого…
— Королю это неподвластно.
Речи госпожи Алмиэль странны и непривычны для слуха: есть ли что-нибудь в мире, неподвластное Королю Нуменора?
Нариэль смеется — звонко и зло.
Господин Дамрод не советовал бы госпоже Алмиэль потешаться над его словами. Господин Дамрод хотел бы напомнить госпоже Алмиэль, что положение ее и ее семьи не столь прочно и безопасно, чтобы она могла пренебрегать предложением губернатора и наместника государева.
Она резко поднимается, глаза ее сужаются, взгляд становится острым и недобрым:
Господин Дамрод, кажется, забылся, позволив себе угрожать женщине. Но женщина эта не столь слаба, как, возможно, полагает господин Дамрод. Она сумеет защитить себя. Для господина Дамрода было бы лучше со всей возможной поспешностью покинуть этот дом.
Дамрод также встает, медленно багровея лицом:
Госпожа Алмиэль, должно быть, запамятовала, с кем говорит. Рыцарь и наместник государя не намерен сносить оскорбления; как бы госпоже Алмиэль не пожалеть о своих словах!
Глаза Нариэль сверкают, как у рассерженной дикой кошки; она нехорошо скалится, но голос ее остается мягким и вкрадчивым:
Господин Дамрод, как видно, с некоторым запозданием вспомнил о своем рыцарском звании… впрочем, подозреваю, что его дородность и излишнее полнокровие не позволяют слишком часто надевать доспех рыцаря. Так и до апоплексического удара недалеко… Целители в таких случаях предписывают небольшое кровопускание. Господину Дамроду вредно так волноваться. Это может дурно отразиться на его здоровьи и пищеварении. Господину Дамроду вообще следовало бы последить за своим здоровьем — в ближайшее время. Мало ли что в жизни случается…
* * *
Нариэль остановила коня; юноша-всадник, вряд ли старше ее годами, остановился тоже.
— Здравствуй. Ты из здешних?
— Здравствуй и ты. Нет, я не здесь живу… Мое имя Элвир.
— Мое — Алмиэль. Но мне больше нравится прозвище. Нариэль.
— Дочь Пламени?
Она задумалась:
— Конечно, можно и так… — пригляделась, — А ты… Элда? Нет, человек… и все-таки не совсем человек… так же, как — он.
Юноша посерьезнел; переспрашивать не стал — Нариэль показалось, он понял.
— Откуда ты?
Он молча указал на восток.
— Значит, прислужник Врага? — она рассмеялась, и Элвир улыбнулся в ответ:
— Конечно!
Ей вдруг стало странно легко и радостно. Хорошо, когда не нужно прятать мысли и чувства, не нужно играть, можно просто — побыть самой собой.
— А все-таки я тебя где-то видела!
Элвир отчего-то смутился:
— Ну… побродил я тут у вас… Я же Странник все-таки… — решился, — Я тебя тоже не первый раз вижу.
Спешился и собрался было помочь девушке, но та, беспечно махнув рукой, легко спрыгнула на землю. Ее гнедой и ухом не повел — видно, был уже привычен. Нариэль потянулась по-кошачьи, жмурясь на солнце, и села в траву, обхватив колени руками. Элвир пристроился рядом, глядя в сторону.
— В городе вашем был… дома из песчанника хорошие, светлые, жаль, деревьев мало. Загородный дом наместника видел. Слушай, там же такой сад во дворике! Пруд, рыбины плавают здоровенные, и — ни одного окна в сад; ты не знаешь, почему?
Нариэль фыркнула:
— А-а, это «Дамродова Дурь»! Он на втором этаже напротив окон зеркала повесил, в полтора человеческих роста — роскошь! Портьеры парчовые, кресло на возвышении — прямо тронный зал. А окна ему ни к чему; ему и сад ни к чему, да сад до него еще посадили, при прежнем губернаторе. Его бы воля — он бы и фонтан вместо пруда устроил с каким-нибудь рыцарем, протыкающим дракона; на рыб ему начхать, если они не жареные. Вот жареные, да под белое вино — это да! Наша кухарка с ног сбилась, когда он последний раз приезжал, — девушка хихикнула, — а потом дня два костерила его, на чем Арда стоит: расстаралась, говорит, ради хмыря этого, так он хоть бы обедать остался!
— Что ж не остался?
— Взялся дурень сосну рубить, да топор деревянный взял! — усмехнулась Нариэль. — Ну его, такой день, травка зеленая, птички поют — а мы про губернатора!..
Посерьезнела:
— Ты сказал — Дочь Пламени. Я об этом никогда не задумывалась; но тогда ведь это значит просто — Человек?
— Ты многое знаешь.
— Скоре, догадываюсь. И Люди — Пламя-во-Тьме, но кто зажег это пламя… Скажи, твой Повелитель — он похож на… на своего Учителя? — вдруг спросила она.
— Наверно, да. Я не задумывался об этом.
— Мне всегда казалось — похожие и разные. Ортхэннэр был — как огонь: яркий, яростный, стремительный; а Учитель…
Она замолчала. Потом:
— Элвир, — почти шепотом, — откуда я это знаю?
Он ответил не сразу.
— Не знаю. Ты — Видящая? — полувопрос-полуутверждение.
— Видящая… значит, все так и было — нет, не надо, не говори ничего, я знаю. Я видела… его; и у него… он… Элвир, но он ведь видит, правда, Элвир, Элвир?!
Юноша на мгновение растерялся — такая отчаянная мольба была в ее голосе; судорожно кивнул, пытаясь проглотить вставший в горле комок.
Нариэль смешалась, прикрыла лицо рукой, словно устыдилась внезапной вспышки.
— Я так мало знаю… Что такое Стена Ночи? Почему мне кажется, что это она мешает вспомнить, из-за нее — так трудно вернуться? И в то же время — словно скорлупа, окружающая Арту… Если она — смерть, то… ведь он — жив!.. Если там может жить только душа, не тело — зачем же эта проклятая цепь, почему не заживают раны? И — не у кого спросить, и никому не могу сказать, никому…
Тряхнула медно-рыжей гривой волос, опустила голову.
— Одиноко… Город вижу во сне — часто вижу: дома — как из резного солнечного камня, окна в серебряных переплетах, таких тонких, как кружево, а вокруг — яблони и дикие вишни, и между домов — серебряные сосны, и ивы на берегу реки… Там хорошо, — вздохнула, — там — дом… Мой дом. Когда просыпаюсь — кажется, что все вокруг ненастоящее, и понимаю, что — совсем одна, а уйти некуда. Нужно что-то вспомнить — а что, не знаю, никак не получается… Была в детстве такая игра — солнечных зайчиков ловить: вроде, есть в руке — и тут же его нет. Грустная игра. Так и это…
Она замолчала окончательно, и Элвир тихо сказал:
— Поедем со мной.
— К вам? К Ортхэннэру?
— Да.
Она отчаянно замотала головой:
— Нет. Не могу. Я ничего такого еще не сделала, чтобы… Нет. Я должна все вспомнить сама. Должна понять, зачем я. Кто я. Он говорил — каждый сам выбирает путь и идет по нему — сам.
Отвернулась и тихо попросила:
— Расскажи мне… о нем.
— Ты знаешь больше, — он не смог бы сказать, почему так уверен в этом, но Нариэль не стала возражать.
— Все равно. Расскажи.
* * *
«— Расскажи о нем, отец.
— Ахтэнэ, дочка, ты же уже столько раз слышала…
— Все равно. Расскажи.
— Я не знаю, что говорить. Сам долго пытался понять — что же в нем такого, что любой из нас готов жизнь отдать по одному его слову… И — не знаю до сих пор. Мы, мальчишки, гордились страшно, что он помнит нас по именам, что говорит с нами… Каждый стремился быть первым, чтобы заслужить его любовь. Боялись совершить хотя бы малейшую ошибку… нет, он никогда не карал, не упрекал, ты не подумай; просто — у него такая радость в глазах была, когда он смотрел на нас — и мы боялись обмануть эти глаза, боялись, что этот свет погаснет… не знаю, как сказать. Мы должны были быть чисты перед ним, понимаешь? Радость была — такая, словно солнце в груди, когда я в превый раз услышал — «таирни». Думал, сердце разорвется. А почему — разве объяснишь… Наверно, это просто нужно пережить. И страшно было: чем я это заслужил? К этому нельзя привыкнуть. Словно рождаешься заново. А в первый раз видеть его — странно было. Все представляли себе кого-то могучего, великого… Только там быстро понимаешь, что сила и величие — не в шитых золотом одеждах и драгоценном венце. По правде говоря, я даже растерялся — ну, человек как человек, росту только очень высокого, да глаза странные… Потом понял. Он — Тано. Учитель. И не потому, что учит читать знаки неба, слушать землю, исцелять раны и болезни или владеть мечом, нет. Он словно частичку себя отдает каждому. Еще и поэтому все люди Твердыни — братья. Т`айро-ири — это больше, чем кровное родство. Тяжело объяснить. Нужно самому быть в Твердыне и видеть его, чтобы понять…
Девочка помолчала, потом спросила тихо:
— Отец… он очень одинок?»
* * *
Молча они поднялись, молча оседлали коней, и только тогда Элвир решился попросить снова:
— Едем со мной, сестра.
Она резко обернулась, и он с удивлением увидел, какой беззащитной радостью вспыхнуло ее лицо:
— Мне… послышалось? Ты назвал меня…
— …сестрой.
Какое-то мгновение ему казалось — она заплачет; но Нариэль улыбнулась:
— И… сколько же у меня братьев?
— Семь. А будет — девять.
— Девять? — задумалась. — Девять, девять… Так уже было… «Девять вас будет» — ну, конечно! — «как девять лучей Звезды»!
У юноши даже дыхание перехватило.
— Едем. Едем немедленно! Увидишь — все будут рады тебе: и братья, и Повелитель!
Нариэль покачала головой.
— Не теперь. Но обещаю — я приду.
Неожидано рассмеялась, хотя глаза остались темными и тревожными:
— Никогда не было братьев, а тут — целых семь, и будет — девять! Скажи Ортхэннэру — я приду. Обязательно. Только… кажется, нескоро.
— Что ж, будем ждать встречи…
— Как ты сказал?
Он повторил. Она улыбнулась странно знакомой ускользающей печальной улыбкой:
— Будем ждать…
* * *
— …Какая красивая… — вздохнул юноша, глядя вслед Нариэль. И, внезапно решившись, пустил коня в галоп.
— Возьми. Это — тебе, — прежде, чем она успела ответить, он протянул девушке снежно-белый ирис и, повернув коня, поскакал прочь.
Несколько мгновений Нариэль в растерянности смотрела на цветок в своей руке.
«Сегодня — Праздник Ирисов…»
Она не стала разбираться, откуда пришло это; обернулась и звонко крикнула:
— Эгей! До встречи, Эл-вир!..
* * *
Той же ночью за ней пришли.
* * *
…В чем ее обвиняют — она узнаёт только наутро, и, не сдержавшись, хохочет.
Разумеется, все проще простого. Конечно, ведьма приворожила гнусным чародейством аж самого благородного господина Дамрода, губернатора южной колонии и наместника государя нашего Тар-Анкалимона, да благословят его Валар, да славится он вечно среди Королей Эндорэ… и прочая, и прочая. А когда увидела, что и чары ее не могут подчинить высокородного господина, призвала силы Мрака, дабы отомстить ему.
Благородный господин Дамрод, губернатор… и прочая, и прочая, стоит тут же: рука на перевязи — упал с коня во время охоты. Нариэль усмехается ему в лицо — и он торопливо отводит взгляд, бормоча: «Ведьма проклятая…»
Но это злодейское деяние было не единственным: надежные свидетели могут подтвердить, что гнусная чародейка Алмиэль, прозванная Нариэль, наводила порчу на людей и была виновницей многих несчастий…
Госпожа Алмиэль, прозванная Нариэль, хочет знать, отчего же молчали прежде эти надежные свидетели?
Ей известно не хуже, чем досточтимым господам судьям, что эти добрые люди молчали, лишь страшась ее мести и черных козней.
Госпожа Алмиэль желала бы видеть этих свидетелей и выслушать их показания.
Обвиняемая, кажется, запамятовала, что здесь решения принимает высокий суд? Но да будет так, пусть войдут свидетели.
…Она знает почти всех. И те, кому «гнусным чародейством своим» она действительно помогала когда-то, прячут глаза, стараясь не смотреть даже в ее сторону.
— Чего же вы боитесь? — с прежней дерзкой улыбкой бросает она. — Говорите — теперь-то вам нечего опасаться мести проклятой ведьмы!
Что может ответить обвиняемая высокому суду, услышав речи свидетелей?
— Мне жаль их. А господам судьям было бы неплохо вспомнить, что истину не покупают за деньги, и правды не добиваются угрозами.
Обвиняемая оскорбляет высокий суд! И лучше бы ей сейчас пожалеть о себе самой! Впрочем, высокий суд милосерден и готов снизойти к просьбе преступницы, если она принесет покаяние.
«Простите меня, братья мои, которым я не успела стать сестрой. Прости и ты меня, черная птица моя, сердце мое: я так и не узнала, что должна исполнить и зачем возвращалась. Видно, так и не стала я твоей ученицей. Прости…»
Нариэль гордо поднимает голову:
— Я, Нариэль Проклятая…
По залу — изумленный шепоток.
«Прости мне эту последнюю дерзость — даже если ты не слышишь меня.»
— …говорю: вы уже приговорили меня, но я не хочу, чтобы меня казнили за то, чего я не совершала.
Один из Служителей Валар собирается что-то сказать, но под ее взглядом умолкает.
— Я приняла Служение Мелькору, Создателю Людей; все, что делала я, делала следуя своему пути и велению своего сердца. И да будут мне свидетелями звезды и эта земля, коль скоро люди отреклись от меня — никогда я не вершила зла. Сердце же мое я отдала ему, и в память о нем ношу — это, — резким движением поднимает руки с тяжелыми браслетами на запястьях. — Если карают смертью за любовь — я воистину достойна смерти. Вот, говорю перед всеми — я люблю его, я разделила с ним проклятие. Знаю, что еретиком и отступником назовут того, кто признает его создателем или властелином своим; потому для вас отступница я — я говорю: он создал Людей, мы — Пламя во Тьме, но отреклись мы от Тьмы, и Пламя гасим кровью. Кровью была омыта Звезда, что вела к Эленне наших предков, и билась она, как сердце, и, пока билось за Гранью Мира его сердце, сияла она так, что и свет солнца не мог затмить ее. Пусть к еретикам причислят меня — я говорю: не властелин он мне, но Учитель; на всем в Арте — отблеск мысли его, во всем — отзвук песни его, и в обожженных ладонях его звездой — сердце мира. Нет проклятья на тех, кто, слепо веря Валар, сражался против него; но да будут благословенны те, что сражались и умирали за него, и те, что остались жить, чтобы хранить память. И трижды благосоловенны те, что пошли его дорогой — те, кого в этот час я назову братьями своими! Благословенны, ибо они — защита людям Эндорэ от вас, возомнивших себя высшими людьми, королями среди Низших! Вы, вершители воли Валар — что принесли вы людям? — войны и горе. Во имя забытого прошлого и золотых легенд вы залили кровью эту землю, утверждая свою истину огнем и мечом. Вы стали убийцами и палачами, приносящими жестоким богам своим кровавые жертвы. И все же мне жаль вас: вы слепы, хотя и есть у вас глаза; слепы души ваши. Мне жаль вас: вы, сеявшие горе, уже пожинаете всходы ненависти. Так говорю я, Нариэль Проклятая, Дочь Пламени, что уйдет в огонь, ибо такова ваша кара тем, кто не отрекся от себя. И пусть слышат все — с его именем я умру!
Она почти выкрикивает последние слова и в оглушительной тишине идет прочь из зала — спокойно и медленно ступая, не ожидая ни оглашения приговора, ни замешкавшихся стражей.
* * *
…И только когда за ней запирают тяжелую дверь каземата, вдруг осознает, что ее бьет дрожь. Опускается на колени, не чувствуя уже ничего, кроме опустошенности и тяжелой усталости. Странно — она сейчас даже не может вспомнить, что говорила. Устала, так устала… Надо уснуть.
Просто преступление — тратить на сон последние оставшиеся часы, думает она, сворачиваясь в клубочек на охапке соломы и сухой травы. Соломинки остренько колют щеку; она с недовольной гримаской переворачивается на спину — ненавижу спать на спине! — и замирает вдруг, ощутив знакомый сухой и горький запах. Приподнимается на локте и вслепую начинает перебирать чуткими пальцами жесткие стебли. Наконец — вот оно: длинная, почти не осыпавшаяся веточка полыни.
Полынь. Это унимает не в меру разыгравшееся воображение, все время услужливо подбрасывавшее ей картины завтрашнего утра: она пройдет, гордо подняв голову, и перед ней будут расступаться, давая дорогу — повозки не будет, до главной площади рукой подать, — и главное — не оступиться, это было бы смешно, а смех вовсе ни к чему… Что они решили там — плаха или костер? — приговор так и не услышала… Если плаха — надо бы волосы подобрать…
Полынь, полынь…
* * *
Скрипит, поворачиваясь на несмазанных петлях, дверь — но раньше, чем успевают войти тюремщики, она оказывается на ногах. Уже?..
— У тебя есть право на последнее желание, — бесстрастно говорит стражник.
Она задумчиво хмурится, потом отрывисто, как приказ, бросает:
— Воды. Зеркало. Гребень. Немного смолы.
Второй, не сдержавшись, хмыкает:
— Ведьма смолы захотела, гляди-ка! Погоди, ужо скоро будет тебе смола! — и тут же получает тычок под ребра от первого, видимо, старшего.
Нариэль надменно поднимает голову.
— Дурак. Сосновой смолы, зубы почистить.
А по спине пробегает озноб: смола, значит, они все-таки решили — костер…
— Это еще зачем? — старший теряет толику невозмутимости, он озадачен непонятным желанием приговоренной; потом, подумав, пожимает плечами: чего уж там, у каждого своя дурь, сколько их повидал на своем веку, таких, — каждый что-нибудь да учудит… Хорошо хоть, не кричит, не плачет… может, ей помилование подписали, а я и не знаю?
Когда дверь закрывается, Нариэль садится на солому, обхватывает колени руками. Вот и все. Костер. Ее снова начинает бить дрожь. Как же — неужели вот так все и кончится? Кончится — сейчас, когда она наконец все поняла, вспомнила себя? И — снова умирать? Да нет же, этого не может быть, это бред какой-то, сон, этого просто быть не может!..
Она впивается ноготками в ладони. Истеричка. Можно подумать, не знала, на что шла. Так имей смелость хотя бы достойно пройти до конца. Значит, так; сейчас нужно… нужно… да что они там копаются!..
Снова нудно скрипят петли — и снова она успевает изменить позу, откидывается назад, изящно сложив руки на коленях и придав лицу скучающе-нетерпеливое выражение. Стражников она на этот раз не удостаивает даже взглядом, только кивает, по-прежнему глядя в пространство, когда они кладут в двух шагах от нее все требуемое, ставят рядом таз с водой и выходят.
Она мгновенно выпрямляется, поднимает руку к застежке платья — но тут решетчатое окошко заслоняет тень. Ага, посмотреть решили, что я делать буду… Ладно же…
Поворачивается к двери и, сдвинув брови, негромко, но очень отчетливо говорит:
— Сгинь. Хуже будет.
И медленно поднимает руки. Торопливые шаги по коридору вызывают у нее торжествующую усмешку. Но руки дрожат.
Решительно тряхнув головой, она стаскивает платье и с ожесточением принимается обтираться водой. Вода ледяная — где только такую нашли среди лета! — и это помогает собраться с мыслями. Она одевается, тщательно обирает с черной ткани приставшие соломинки, берется за гребень. Нечем заколоть волосы, но так, пожалуй, будет даже лучше. С удивлением обнаруживает, что еще способна придумывать, как нужно вести себя, как ступать, как держать голову — словно лицедей, примеряющий на себя новую роль. Роль приговоренного еретика. О, это будет великолепный спектакль! Она не даст им возможности насладиться ее страхом. Только бы не закричать… Даже жаль, что после вчерашнего Служители Валар не полезут со своими проповедями — вот тогда представление действительно удалось бы на славу! Ну, ничего, им и так хватит.
Какой-то частью сознания она понимает: все это — только чтобы не думать о том, что узнала этой ночью. Но вот — она готова, а остается еще несколько минут. Несколько минут — и уже нельзя отвлечь себя привычными будничными делами: только — ждать.
Она еще раз проверяет застежки платья, оглядывает себя — не морщит ли где ткань, разглаживает складку, снимает с рукава неприметную пылинку — вот теперь все как надо; начинает заплетать косы — и ловит себя на том, что меряет каземат шагами. Останавливается. Берет зеркало, рассматривает себя — нет, волосы все-таки лучше распустить… Из зеркала — большеглазое бледное лицо. Еще подумают, что — от страха… Похлопывет себя кончиками пальцев по щекам, чтобы хоть немного разрумяниться.
А мгновения тянутся бесконечно, и в коридоре — тишина. Сколько же можно, пусть уж лучше все поскорее кончится…
* * *
Как долог, бесконечен этот короткий путь — от приземистого здания тюрьмы до главной площади… Похоже, весь город сбежался посмотреть, как ведут на казнь ведьму! Небо, и дети здесь… зачем же их-то привели…
— Ты на нее лучше не смотри — мало что сделать может…
Только бы не оступиться…
— За что ее?
— Ведьма, говорят… Ведьма и есть: ишь, как глазищами зыркает! Самая верная примета: коли рыжая, да еще и глаза зеленые — ведьма, точно тебе говорю!
— А мне рассказывали — оговорили ее…
— Шш! Какое там! Служу, говорит, Врагу…
Надо выдержать.
— На самого губернатора порчу навела…
Выдержать.
— Мам, тетя злая?..
Выдержать.
— Мам, ну, мам! А она что, по-правде гореть будет?
Не оступиться. Не закричать. Только бы не закричать.
Выдержать.
Выдержать.
Выдержать…
* * *
Ее притянули к столбу цепью — руки вдоль тела; она поймала себя на том, что не пытается казаться спокойной — страха действительно не было.
— Госпожа… — почти беззвучный шепот палача. — Госпожа, я дам тебе яд… Ведь это очень больно, госпожа…
Она усмехнулась:
— Разве ему кто-нибудь облегчил страдания?
Палач дернулся, нервно огляделся по сторонам:
— Вы мне сына спасли, госпожа… Я прошу…
— И твой сын тоже пришел посмотреть, как жгут ведьму?
Она могла бы поклясться, что видит, как под маской жалко перекосилось лицо палача. Конечно, узнала его — он тогда так долго благодарил, ведь к нему никто не хотел идти, все знали, кто он — брезговали. Сын у него славный — светленький такой мальчишка с большущими ясными глазами… Неужели тоже палачом будет… И Нариэль добавила уже мягче:
— Благодарю тебя, добрый человек. Не надо. Делай, что должен.
* * *
…Она твердила себе, что — выдержит, не станет кричать, как бы ни было больно. Страха по-прежнему не было — перегорел раньше, чем вспыхнул с треском хворост. Глядя на пеструю толпу — там, внизу, — она усмехнулась почти надменно, и, когда первые веселые язычки пламени побежали по сухим поленьям и хворосту, гордо подняла голову и только сжала руки в кулачки, по-прежнему улыбаясь. Подсмеиваясь над самой собой, поняла: не верит, что умрет.
Но, если уж умирать — почему бы не умереть красиво? И что красивее костра…
«Может, огонь будет милосерден, и они не увидят, какой я стану потом.»
Слева пламя разгоралось быстрее, и уже добралось до осужденной, ластилось к ногам огненным зверем, поднималось все выше. Раскалившиеся широкие браслеты сжали запястья, и она прикусила губу.
«Не закричать, только не закричать, только бы…»
Рот наполнился кровью, от дыма и нестерпимой боли на глазах выступили слезы, она уже не властна была удержать соленую влагу, текущую по лицу, а жаркий воздух почти мгновенно осушал слезы, и стягивало кожу…
«Сердце мое, черная птица моя, я выдержу…»
Толпа молчала, захваченная зловещей красотой зрелища — черная тонкая фигурка, рыжее пламя, рыжая грива волос, развевающаяся по ветру…
«…прости меня…»
Красивая смерть, не так ли, господа?
«…не стану… но как… больно… мэл кори…»
Ветер закручивал пламя в яростные смерчи, взлетавшие все выше; ее тело выгнулось, напряглось, словно она пыталась разорвать цепь…
«…не могу… не должна… умереть… я…»
Пламя хлестнуло по лицу, выжигая глаза, взметнуло огненным вихрем волосы — но она была еще жива, и тогда из-за стены огня рванулся одинокий пронзительный вопль:
— Ведьма!..
Она закричала.
* * *
Черная тень пронеслась над костром, но никто даже не пошевелился.
Вернись. Там уже никого нет, слышишь?! Вернись…
…в пламя из пламени — огненной памятью…
Я опоздал, Учитель…
…дочь Пламени — сестра моя…
Зачем я? Зачем жить, если…
…серебром и подзвездным льдом, светом падающей звезды…
Почему я не услышал?!
…нарекаю имя тебе — Полынь…
Как же я не понял…
…Элвир, вернись, вернись, вернись…
…горела заживо, а я…
…мне ли — пропадом, ветром — во поле…
…те же глаза…
…камнем в омуте — помнить?..
…почему ты не спас ее, почему…
…руки скованы…
…бездной — над — протяни руки — моим…
…ведь она же поверила мне…
…ведьме — венчание, миру — прощание…
…за что?!
Шорох — шепот — звон прогоревших угольев под ветром, звон серебряного бубенца:
— …вернусь…
* * *
Он остановился посереди Храма, сжимая кулаки — что-то было не так здесь, но что — он не мог понять, да и не было ему сейчас до этого дела. Заговорил тихо и яростно:
— Почему ты не спас ее? Она же верила тебе — почему? Ты. Бог. Всевидящий. Всесильный. Всеведущий. Почему? Т-творец мира, — страшный сухой смешок, — да что тебе за дело до жалких людишек? Или, может, тебе жертвы нужны, чтобы ты до нас снизошел? Мало было? — так вот тебе еще! — вырвал из ножен кинжал, стиснул клинок руками. — Нет? Не видишь? Не слышишь? Может, ты действительно слеп?!..
Он почти выкрикнул последние слова — и внезапно понял, что изменилось.
Храм молчал.
Только страшный срывающийся стук сердца — и нестерпимо пылающее пламя в камне.
Он охнул, запоздало осознав смысл своих слов — словно спала с глаз пелена безумия.
Сталь звякнула о плиты, а мгновением позже он опустился на колени перед темным прозрачным камнем Сердца, прижался к нему виском, болезненно вздрагивая всем телом, чувствуя — уже на грани сознания — ледяной холод под рассеченными почти до кости ладонями…
* * *
— Где он, Моро?
Провидец покачал головой. Вместо него ответил Король:
— В Храме.
У Саурона перехватило дыхание:
— В Храме… трое суток?..
— Я пойду… — порывисто поднялся Денна.
— Оставьте его. Так нужно.
— Он же с ума сойдет, — пробормотал Маг.
— Так нужно, — резко повторил Король. — Он придет сам.
— Что с ним? — тихо спросил Саурон; почему-то ему показалось, что Аргор знает ответ.
— Прости, Повелитель. Боюсь, я не сумею объяснить.
Лаиэллинн
(2275–2281 годы II Эпохи)
— Я слышал, ты — мастер лютни?
Вот так — ни стука в дверь, ни приветствия. Нарион неспешно отложил корпус лютни — розовое дерево, редкостная диковинка из южных земель — и обернулся:
— Допустим…
Эт-то еще кто? Светловолосый, ясноглазый, стройный, весь какой-то светящийся…
Эльф? Нечастый гость здесь…
— Ты — Нарион?
— Ну, да…
— Я хотел говорить с тобой.
— Что нового может Элда узнать от Смертного о лютнях? — прищурился мастер.
Эльф весело, заразительно рассмеялся:
— Ты мне нравишься, мастер Нарион! Меня зовут…
По лицу его вдруг скользнула тень, он заколебался, но продолжил:
— …Гэлмор. Я хотел предложить тебе сделать… одну вещь.
— И какую, позволь узнать?
— Я расскажу.
…Он не просто рассказал: Нариону казалось, он слышит эту невероятную музыку. Все его недоверие и насмешливость улетучились куда-то; он еще долго молчал после того, как Гэлмор закончил рассказ.
— И где ты слышал такое? От кого? — жадно допытывался мастер.
— Это было давно. Очень давно.
— Как это выглядело?
Эльф взял лист пергамента и перо.
— Так… и вот так… Четыре струны… Играют — вот этим… похоже на лук, только менее изогнутый…
— Как, ты сказал, это называется?
— Лаиэллинн. Это значит — Песнь, уводящая к звездам.
— Если она звучит так, как ты рассказывал… — глаза Нариона сияли, — я берусь за это! Я сделаю ее, чего бы мне это ни стоило!
* * *
Стоило — долгих лет попыток. Выходило вроде похоже — но звук был то резким, крикливым, то каким-то неживым. И мастер в отчаяньи швырял работу в огонь. И тогда Гэлмор снова приходил к нему, и Нарион говорил, отводя глаза:
— Расскажи еще раз. Может, пойму.
Криво улыбался:
— У меня снова не вышло…
Просил:
— Может, для того, чтобы получилось, надо понять того, кто ее сделал. Почему ты не хочешь рассказать мне о нем?
Эльф отмалчивался.
— Слушай, а может, ты ее придумал? И я гонюсь за сказкой?
— Нет.
— А почему ты не пришел к Эльфам? Ведь ваши мастера искуснее…
— Нет, это может сделать только человек. Кроме того, Элдар не нужно новое — они живут прошлым. Послушай, я расскажу тебе снова…
* * *
— …Знаешь, Гэлмор, она мне снится. Я вижу ее, касаюсь ее — она теплая, живая… слышу музыку… просыпаюсь — и не могу вспомнить. Во сне я знаю, что и как надо сделать. И все забываю, как только открою глаза…
* * *
И вот однажды, зайдя в мастерскую, Гэлмор с порога увидел сияющее лицо Нариона:
— Вот, послушай… кажется, получилось, — он говорил так, словно сам боялся себе поверить.
Нарион провел смычком по струнам — звук был таким чистым и глубоким, что у Эльфа перехватило дыхание от восхищения.
— Я должен научиться играть на ней! Теперь у меня все получится, я знаю! Но скажи — это она? Ведь правда, я не ошибся на этот раз?
* * *
Он начал играть на удивление быстро; он весь был охвачен каким-то радостным вдохновением, и лаиэллинн чаще смеялась, чем плакала в его руках. Известие о новом странном инструменте быстро разнеслась по городу, и теперь к Нариону заходили часто — послушать.
А однажды на пороге его дома появилась молодая женщина с медными, отливающими огнем волосами. И Нарион играл, глядя ей в глаза — и застыл в изумлении Гэлмор…
— Как ты ее называешь? — после долгого молчания спросила рыжеволосая.
— Лаиэллинн.
Ее глаза на мгновение вспыхнули:
— Тебе кто-то сказал?
— Что? — не понял Нарион.
— Как ее зовут.
— Да… вот он, — Нарион кивнул на Гэлмора.
Рыжеволосая посмотрела недоуменно — потом ее взгляд стал пристальным и острым:
— Ты — Элда? Я тебя помню. Не видела никогда, но — помню… Как твое имя?
— Гэл…
— Не надо! Я знаю. Гэлмор — так?
Эльф внимательно пригляделся к ней, но ничего не сказал.
— Благодарю, мастер, — рыжеволосая снова обернулась к Нариону. — Благодарю за песню. За то, что помнишь — знаешь — ее имя. Как он называл… А еще называли — ийэнэллинн.
— Что это?
— Боль Звезды, ставшая песней, — она произнесла это медленно, раздельно и отчетливо, глядя теперь на Гэлмора, беззвучно произносившего те же слова.
— Благодарю и тебя, Гэлмор. За то, что ты помнишь его.
Она вышла — узкая черная фигурка, огненные волосы, тяжелые черные браслеты на запястьях.
— Постой… постой! Как зовут тебя? — запоздало крикнул Нарион и, оглянувшись на Эльфа, уже тише спросил, — И кто это — он?
Эльф не ответил. Потом сказал с задумчивым удивлением:
— Кажется, я знаю ее имя… имена; только, должно быть, теперь ее зовут по-другому…
* * *
Через две недели на главной площади Нарион услышал ее имя. И, когда догорел костер, вышел вперед и начал играть. И замерла толпа — слушая, а Гэлмор плакал, прижавшись виском к нагретой солнцем стене, вслушиваясь в слишком знакомую летящую пронзительно-печальную мелодию…
К Нариону пришли в тот же вечер. Его творение было признано колдовским, смущающим души людей. Ему самому, сказали пришедшие, ничего не грозит, если он принесет покаяние и сам предаст чародейскую вещь огню.
Он не согласился.
Через несколько дней сильно поседевший человек на главной площади бесцветным голосом говорил слова отречения. Только руки его дрожали, когда он положил лаиэллинн в огонь — словно тело возлюбленной на погребальный костер. И долго вглядывался в пламя. Слез в его глазах не было.
* * *
— Нарион…
— Ты уходишь, Гэлмор, — тускло, безжизненно; не вопрос — утверждение. — Я трус. Мне было страшно там, я не хотел умирать. Думал — ведь столько еще не сделано… И костер… Я же видел, как — она…
Уставился куда-то пустым взглядом.
— А теперь понял, что все было зря. Потому что…
— …потому что… — прошелестел голос Эльфа.
— …я уже больше ничего не смогу сделать. Я слышу только ее голос.
Непонятно было, о ком — или о чем — он говорит.
— …и огонь перед глазами. Только огонь. Ийэнэллинн — обе…
— Идем со мной, — попросил Эльф.
— Куда? Зачем? — Нарион криво усмехнулся. — Я не нужен уже даже сам себе. Гэлмор… прежде, чем уйдешь: кто все-таки создал — ту, первую?
Эльф пожал плечами и непривычно глухим голосом проговорил:
— Теперь уже все равно.
И назвал имя.
Нарион не удивился.
* * *
…Он стоял в высоком зале перед тем, кого и сам — там, в другой, прежней жизни — называл Врагом. Было странное чувство — будто все это снится ему. Наверное, из-за той музыки, что звучала в зале.
Он стоял, опустив глаза, и говорил глухо и ровно:
— Я пришел. Мне было все равно, куда идти — только не оставаться с теми, кто ее сжег. Может, ты убьешь меня. Все равно. Я уже ничего больше не могу. Я не нужен. Выгорело все. Сначала ее сожгли. Я стоял и смотрел. Жутко и красиво: огненные волосы, огненные крылья. Кто-то завопил: «Ведьма!» — и она закричала. Она так страшно кричала… Недолго, а показалось — вечность. Потом… не помню. Кажется, я вышел и начал играть. Все — как в бреду. Потом… Они сказали — это чародейство. Нужно сжечь. И покаяться. Валар простят. Говорили — ведьмино наваждение, и я не виноват. Ласково так говорили… Я испугался. Больно… заживо. Очень. Я хотел жить. А — зачем… Я ее сжег. Свою музыку. Я отрекся от нее. Предал. Теперь — убей. Я должен был это сказать. Может, именно тебе. Не знаю. Делай со мной, что хочешь. Убей или гони прочь. Мне все равно. Я уже мертв.
Светловолосый юноша, стоявший в углу зала, слабо потянул ворот рубахи, словно ему не хватало воздуха.
Больше слов не было, и он стоял молча, ни о чем не думая, ничего не ожидая.
Враг шагнул к нему и положил руки ему на плечи. Нарион еле заметно вздрогнул.
— Куда же тебе идти… — тихо и горько сказал Враг.
И вдруг резко притянул Нариона к себе.
— Оставайся. Теперь твой дом здесь, мастер.
* * *
— Где он?
Эрион чуть замешкался с ответом:
— Спит.
— Брат не сказал, — вмешался Маг. — Повелитель, он не хочет жить. Нет-нет, — заметив легкое движение Саурона, — он ничего не делал. За нож не хватался, не вешался… — усмехнулся криво, — яду не просил. Лежит и смотрит в потолок. Когда глаза закрывает — не спит. И молчит все время.
— Я дал ему сонного зелья, — тихо добавил Целитель. — Больше ничего сделать не могу. Не могу разбудить душу: как в раковине замкнулась. Я еще не умею, — виновато. — Может, ты…
— Элвир, — вдруг глуховато проговорил Король.
— Что?..
— Пусть Элвир идет к нему.
— Сейчас?
Аргор объяснять не стал. Молчание нарушил новый, юный и горький голос:
— Так нужно, Учитель.
Саурон взглянул на юношу, потом перевел взгляд на Аргора; тот опустил веки, словно говоря — да.
* * *
— Нарион.
Мастер открыл глаза.
— А-а… мальчик… — через силу, словно по обязанности выговаривая слова. — Ты…
— Встань. Идем.
— Куда, — устало и медленно, по слогам.
— Идем, — повторил Элвир. Нарион молча поднялся и принялся натягивать одежду.
Больше он не спрашивал ничего.
* * *
…Он ничему не удивлялся — ни стремительному полету на крыльях летней ночи, ни бесснежным горам в призрачных мантиях лунного света, ни низким звенящим звездам, готовым упасть в ладони — но он не протянул рук… Без слов, без удивления поднимался вслед за Элвиром по тропе, поросшей терном, в вечную ночь Долины Одиночества. И только когда юноша подвел его к высокой лестнице — остановился.
— Ну что же ты? — почему-то шепотом спросил Назгул. — Иди.
Человек покачал головой.
— Иди, — с мягкой настойчивостью повторил Элвир.
Нарион медленно, тяжело ступая, пошел вперед — обернулся, в первый раз — с растерянностью, и даже, кажется, хотел что-то спросить, но Элвир угадал вопрос.
— Здесь ты должен быть один. Только один.
…Сам он остался на берегу реки — сидел, бесцельно вертя в руках цветок, стараясь не думать о том, что может происходить сейчас в Храме.
А что было с ним самим?
…Ночь переполнила чаши глаз моих — я один в пути…Он не услышал — почувствовал что-то и резко обернулся.
Нарион стоял на ступенях — пошатываясь, закрыв глаза. Потом неверными шагами словно слепой начал спускаться по ступеням. Элвир хотел окликнуть его — но передумал.
Изломанный цветок полетел в воду, юноша порывисто поднялся.
…Нарион ничего не говорил, не открывал глаз — шел как во сне: Элвиру пришлось поддерживать его за руку. Ему вдруг мучительно захотелось узнать, что же услышал, что увидел, что пережил в Храме мастер лютни. Он не спросил. Об этом не спрашивают. Разве он сам — смог бы рассказать, что было с ним в те бесконечные три дня? А когда вернулся — никто не смотрел ему в глаза. Только Король; посмотрел — и отвел взгляд. Почему…
У горной тропы они остановились, и только здесь Нарион поднял веки — медленно-медленно, словно это стоило ему невыносимого усилия.
Провалы в звездную тьму.
Элвир отвел глаза.
Только у замка Нарион наконец заговорил.
— Элвир… здесь есть мастера лютни? Есть мастерская?
Юноша коротко кивнул.
— Проводи меня.
И — снова молчание. Только на пороге:
— Почему ты не смотришь на меня?
Элвир с трудом поднял голову и взглянул в усталые серые глаза нуменорца.
* * *
Теперь Нарион жил только работой. И Элвир снова начал пропадать в Храме Одиночества — он больше не был нужен мастеру, — по крайней мере, так ему казалось, — и приходил редко — садился у порога и смотрел, ни говоря ни слова; Нарион не всегда даже замечал его присутствие. Но на этот раз вышло по-другому.
Еще с порога Элвир услышал обрывок незамысловатой мелодии и с трудом различил слова:
— Четвертой — ирис и костер…
Он постоял немного, прислушиваясь, но Нарион продолжал мурлыкать песенку без слов.
— Нарион, — тихо окликнул Элвир.
Мастер оторвался от работы:
— Да будет светел твой день…
— Что ты пел сейчас?
— Пел? Я? — раздумье стерло улыбку с лица мастера. — А-а… Ты об этом…
Он замолчал, нервно сплетая и расплетая тонкие пальцы; Элвир хотел уже было повторить вопрос, когда мастер заговорил снова:
— Не хотел рассказывать… вспоминать тот день. Я стоял и смотрел, а пламя вдруг взметнулось огненными крыльями…
* * *
Пламя взметнулось огненными крыльями, а потом встало стеной — как-то сразу занялись со всех сторон сухие поленья и хворост, и в раскаленной жгучей круговерти уже не увидеть было осужденную. «Пламя Удун», — пробормотал кто-то; на него даже не оглянулись. Никто не мог отвести глаз. Нариона била дрожь.
— Ведьма! — взвизгнул женский голос, и из-за огненной стены рванулся единственный страшный крик, словно душа с кровью вырывалась из темницы искалеченной обожженной плоти.
И — тишина. Всепоглощающая тяжелая тишина — только трещат поленья и гудит огонь, и дым обжигает слезящиеся глаза.
Языки пламени опали, и толпа замерла в едином вздохе ужаса.
Пепел. Только пепел и раскаленно-багровые уголья.
— Святая, — без дыхания зашептали рядом, — мученица невинная, Валар спасли, не допустили несправедливости…
То ли серебряный бубенчик, то ли тишина такая оглушительная — до звона в ушах.
Бубенчик…
Перед ним расступались, давая дорогу.
— Ушла…
Он наклонился, сгреб горсть горячего пепла и начал медленно сыпать его на брусчатку площади. Налетел ветер, закружил вокруг него черные хлопья — толпа шарахнулась, словно боялись, что пепел коснулся их. А он запрокинул голову и тихо запел.
* * *
— Кто он?
— Наран. Городской сумасшедший. Там было еще что-то о круге девяти… Не помню. Он всегда поет странное.
— Где его можно найти?
Нарион пожал плечами:
— Где угодно. Он — перекати-поле. На что тебе сумасшедший?
— Как его узнать? — вместо ответа спросил юноша.
— Ну… смуглый, не очень высокий, волосы темные…
— Понятно.
— Эй, погоди! Я же еще ничего тебе не сказал!
— Не сказал?.. — Элвир нахмурился, потом коротко усмехнулся. — А-а… Ты его нарисовал. Представил себе. Этого достаточно.
И — не вышел, а как-то сразу оказался за порогом, оставив Нариона в недоумении.
* * *
— Наран.
Сумасшедший, чуть склонив голову, посмотрел на светловолосого юношу — как видно, из знатных — и отвернулся, но тот снова оказался перед ним.
— Я искал тебя.
— А? — воззрился на него Наран и даже рот приоткрыл в усилии понять. — Чёй-то?
Светловолосый, видимо, потеряв терпение, перехватил руку безумца в запястьи и поволок его за собой вниз по улице.
— Чё? Чё я-то? — испуг и растерянность в голосе Нарана звучали весьма правдоподобно.
— Не морочь голову, — тряхнул длинными волосами благородный господин, толкнув Нарана к стене в какой-то подворотне. — Что я, сумасшедшего от Видящего не отличу?
Наран явственно вознамерился произнести очередное «а чёй-то?», но незнакомец ему такой возможности не дал.
— Значит, так, Во-первых, я прошу извинения за то, что приглашение к разговору было… скажем, несколько навязчивым. Во-вторых, я тебя уже целый день ищу по всему городу, и, возможно, это служит некоторым оправданием моему поведению. В-третьих, я не представился — мое имя Элвир, твое мне известно. В-четвертых…
— Да, в четвертых — на кой же ты меня так долго искал, приятель?
— О, — улыбнулся наконец Элвир, — наконец-то я слышу речь разумного человека.
Посерьезнел:
— Я хочу, чтобы ты спел мне одну песню.
— Разве все песенки упомнишь… Которую?
Элвир посмотрел внимательно:
— Ты все прекрасно понял.
Наран поскреб в затылке:
— Была тут у меня одна мысль…
Элвир промолчал.
— Так вот оно что… — уже совершенно серьезно сказал Нарван. — Ну, слушай, коли хочешь.
— Что было — былье, что будет — бурьян; Цветок бел, огонь рьян… Шут в короне с бубенцами Ведьме — память, ведьме — пламя. Девять — к ночи, три — в закат, Семь под землю — травы спят… Что было — былье, что будет — бурьян; Цветок бел, огонь рьян… Танцем в пламени костра — Девять знаков. Девять трав, Девять башен, Девять струн, Девять минет черных лун; В папоротнике и соснах, В Древнем Цвете, в травах, в звездах — Найди, узнай, пойми, прочти Знаки Круга Девяти. Что было — былье, что будет — бурьян; Цветок бел, огонь рьян… Одна — полынь, вторая — клен Четвертой — мак, восьмому — сон Девятый — ирис, боль и быль, И третий — золотой дракон. Шестому — волчья ночь — ковыль, Седьмому — горький чернобыль, Для пятой — время и вода, Для Девяти — Одна Звезда… Что было — былье, что будет — бурьян; Цветок бел, огонь рьян… Звезды знамений — тьма в зеркалах: Девять ступеней — той, что ушла. Для первой — сталь, полынь и лед Второй — звезда-печаль венца, Для третьей — скалы и волна, Четвертой — ирис и костер, Для пятой — к горлу острый серп, Шестой — холодный ветер гор, Седьмой — оборвана струна, Восьмой — огонь и лед кольца; Девятой — той, что вновь уйдет — Чужого мира горький хлеб: Сгореть дотла, сходить с ума — Чтоб крылья распахнула Тьма, В ладонях память принести Как кровь в горсти — и в ночь уйти… Что было — былье, что будет — бурьян; Цветок бел, огонь рьян… Шут в короне с бубенцами Ведьме — память, ведьме — пламя. Девять — к ночи, три — в закат, Семь под землю — травы спят…Элвир сидел у стены, обхватив колени руками, опустив голову.
— Эй, — нерешительно позвал Наран.
Юноша молчал.
— Эй, приятель… — Наран тряхнул юношу за плечо — не помогло; взял за руку и недоуменно уставился на кольцо с темным камнем.
— Вот так та-ак… — шепотом протянул он и уселся перед Элвиром, не выпуская его руки, свободной рукой подперев щеку. — Чё ж мне с тобой делать-то теперь, парень? Это, значит, то есть, ты был… Уф-ф… Вот так история…
Элвир вроде бы очнулся:
— Ты откуда знаешь? А впрочем, что я…
— Ты, это, ты знаешь что, парень? Есть тут неподалеку одна забегаловка — оно тебе сейчас не помешает. Или, может у вас вина не пьют?
— Пьют, — рассеянно ответил Элвир.
— Вот и славно! А то, приятель, глаза у тебя сейчас… Ты вот что: ты первым иди, а я, значится, следом буду, чуть погодя. Монета-то есть? Нету? Э-эх ты, «девять к ночи»… Ну ладно, держи, чего уж там — меня тут намедни один… хм… облагодетельствовал. Ты только того, не забудь и мне поставить, слышь? Эк тебя, однако…
* * *
Хозяин клялся всеми Валар, что вино принес самое что ни на есть лучшее; по виду забегаловки непохоже было, но Элвир все же налил себе кружку — да так и остался над ней сидеть. Наран подошел, как и обещал, чуть погодя, огляделся по сторонам и тихо присвистнул:
— Ох ты, братец, не вовремя я тебя сюда приволок…
— Почему? — безучастно спросил Элвир.
— А ты посмотри, кто сюда идет! И, обратно, пьян в стельку, Это он уж, почитай, месяца четыре такой ходит, а то и поболе. С тех самых пор. Это ж…
Договорить Наран не успел: к столу, пошатываясь, подошел здоровенный мужик. Выглядел он, впрочем, неважно: негустые светлые с проседью волосы его давным-давно не видали ни мыла, ни гребня, щеки обвисли, под глазами — мешки; вдобавок, от него нестерпимо разило потом и перегаром.
— Добрые люди, присесть не позволите ли…
Наран открыл было рот, но Элвир опередил его:
— Садитесь. Места здесь хватит.
И тут человек повел себя странно: он вдруг как-то съежился весь, мелко закивал и, пристроившись на краешке скамьи, затравленно поднял на юношу слезящиеся тоскливые глаза.
— Благодарствуйте, молодой господин, благодарствуйте, благослови Валар…
— Пейте, — Элвиру было нестерпимо видеть эти заискивающие глаза — как у побитой дворняги; он поспешно пододвинул незнакомцу глиняную кружку и наполнил ее вином из кувшина. Нарана передернуло, а незнакомец залпом опрокинул в себя вино, посидел немного молча, потом заговорил:
— Так вот и живу. Пью. А что мне еще… Работа у меня такая, чтоб ее… Жену, детишек кормить надо — трое их у меня, младшенькой-то годик всего… а старший вот, сынок, то есть, тот давечась меня и спросил — правда, грит, мы хлеб за кровь покупаем? Так и спросил. Я-то при нем об этом — ни-ни, да, видно, нашлись вот… А чё, ведь правду сказали. Кто я еще есть… Она ж мне сына спасла, а я ее — к столбу цепями…
Элвир вздрогнул.
— Оно ж такое дело… Я ей яд принес, да она пить не стала. Делай, грит, добрый человек, что должен…
— Добрый? — не по-хорошему прищурился Наран.
— А чё, и добрый. Злой, думаешь? Не-е, работа у меня такая… У меня и шнурок был — хороший, прочный: мало что не покаялась, да не в чем ей каяться было… Глянул на нее — понял: не могу. У нее ж шейка — как у птички малой, да чтоб я, своими руками… Не смог я. А дрова-то я того, сухие, значит, выбирал, да хворосту поболе — чтоб, значит, быстрее… Влепили мне потом — десять плетей, да чё мне, шкура дубленая, и не такое видал, а они — приговор, дескать, нарушил, ее ж на медленном должны были…
Элвир судорожно отхлебнул вина, не чувствуя вкуса; закашлялся, зажимая рукой рот.
— А деньги я пропил. Все пропил. И пью, пью… На улице встретит кто — вслед плюют. Соседи не здороваются даже. А сами-то… пол-города сбежалось смотреть, как ведьму жгут. Бабы, дети малые… На суде этом — хоть бы один за нее слово замолвил! А убийца, выходит, я. Ведьма она, грят… А я те так скажу: главные-то ведьмаки — Служители эти, а губернатор наш — как есть упырь.
— Не боишься?
— А чё мне? Как есть, так и сказал.
— А ежели я пойду, да о твоем «как есть» и донесу?
Собеседник пьяненько захихикал:
— А и доноси, парень, не первый раз, чай! Скажу — демон попутал, каюсь, мол, дадут мне плетей пятьдесят, да и отпустят — палач-то один у них… Да ты того, ты не думай, я еще из лучших, потому кто другой — он ни топором махнуть, чтоб с одного разу, ни костер толком… А я так себе мыслю: будь ты хоть какой преступник, негоже человеку зазря мучаться. Потому и не снились они мне никогда, покойники, то есть. А она — снится. Сын вот спрашивает — чё, дескать, не приходит она… а как я ему скажу? Э-эх, жизнь…
Оторвался от кружки.
— Эй… Эй, ты, слышь-ка, блаародный господин, как тебя там… парень, ты чё, сомлел, что ли?
— Дурак ты, — негромко, но отчетливо проговорил Наран.
Элвир стиснул в руке кружку так, что показалось — раздавит. Снова хлебнул вина.
— Что она говорила?
— Чё?
— Что она говорила перед тем, как… Что? Все вспомни, слышишь, слово в слово!
Палач нахмурился, собираясь с мыслями:
— Ну так, значит… я ей грю — выпей, больно ведь… а она, — зажмурился, тряхнул головой, — она… «Разве ему кто-нибудь облегчил страдания?» Вот, значит, как оно… А потом…
* * *
— … вот, значит… И все. А тебе это почто? Ты, может, знал ее?
Элвир промолчал.
* * *
Из кабака они вышли — вывалились, вернее было бы сказать, — сильно за полночь; Наран Элвиру вино подливал усердно, а тому, видно, было уже все равно — он, похоже, даже не замечал, что и сколько пьет, а Наран приговаривал: «Я, конечно, сумасшедший, но ведь не круглый же дурак! Что, не вижу, что ли? — тоска у тебя, по глазам видать… а ты пей, к утру проспишься — глядишь, оно и полегчает…» Непривычный к крепкому вину Элвир захмелел быстро — и окончательно замкнулся в себе, на нараново: «Ты, парень, ничего, ты расскажи — может, полегче будет…» — ответил глухо: «Ирис… Белый ирис…» И больше не говорил уже ничего.
— Приятель… слышь, парень, как тебя… Элвир! Ты как сюда добрался-то из своей ночной земли?
— Я? А-а… На коне.
— На этом… который с крылышками?
— Который — с крылышками. Удивительно содержательное описание, — мрачно заметил Элвир.
— Ты, слышь-ка… ты его только сюда не зови, не пугай народ. Вот за город выберемся…
Элвир хмыкнул:
— И как же выберемся, позволь спросить? Ворота заперты, стража…
— Не беспокойсь! В лучшем виде все сделаем! Стена старая, ну, камешки кое-где… того, выпали, словом. Так что пошли… э-э, приятель! Не туда! Ну вот, а по разговору вроде трезвый… Не, один ты у меня никуда не поедешь. Сам напоил, сам и доставлю, куда надо. В лучшем виде!..
* * *
При виде коня Наран, похоже, даже несколько протрезвел от изумления.
— Ничего себе… лошадка с крылышками…
Конь тихонько фыркнул. Элвир нетвердыми шагами подошел к нему, уткнулся лицом в шелковистую гриву, заговорил шепотом:
— Ты уж прости… видишь, я какой… не помогло мне, только хуже стало. Довези меня… до дома. Пожалуйста.
Конь покосился на него лунно-золотым глазом и, дотянувшись, легонечко куснул за плечо: в седле-то, мол, удержишься?
— Как-нибудь…
— Э, нет, — вмешался Наран. — Сказал — одного не пущу, значит, не пущу! Как бы тут в седло взобраться, а?
Крылатый конь обреченно вздохнул.
* * *
— Вот, государь, доставил я его, значится.
Саурон недоуменно воззрился на нетвердо стоящую на ногах парочку.
— Это… что? — с вежливой и несколько ехидной заинтересованностью спросил он.
Наран несколько смутился:
— Да вот… дело-то, в общем, такое, государь…
— Ладно, Повелитель, ну, напился мальчишка, подумаешь, — подал голос Сайта, — ну, голова с утра поболит маленько — это ничего, по опохмелке, прямо тебе скажу, я мастер…
Эрион только тяжко вздохнул, однако говорить ничего не стал.
— Я думал, ему полегче будет… — неуверенно оправдывался Наран.
— Ему — полегче? — раздельно переспросил Король, и Наран умолк окончательно: до него медленно начало доходить, где он находится.
— Так, — Саурон побарабанил кончиками пальцев по подлокотнику кресла. — Вот что. Вы, сударь… кстати, как вас зовут?
— Наран, вообще-то… кажется…
— Наран. Вы сейчас отправитесь спать. Вас проводят. А Элвир…
Король подошел к оставшемуся без поддержки Нарана, а потому слегка пошатывающемуся, юноше и набросил ему на плечи свой плащ:
— Повелитель, я беру его под свою защиту, — улыбнулся одними губами.
Саурон только руками развел:
— С древним обычаем не поспоришь! Он в твоей воле, Аргор.
* * *
— Король… не уходи.
Аргор скупо и невесело улыбнулся:
— Я и не собирался. Эрион принесет свое зелье — тебе нужно уснуть. А я пока здесь побуду.
— Потом войдешь в мой сон, постараешься успокоить… Нет. Мне нельзя спать. Я должен понять…
— Что? — беззвучно.
— Песня… Значит, она — одна из Девяти, как Моро? Значит, она — вернется? Но почему тогда мы не спасли ее? Почему не знали — ни Повелитель, ни Провидец? Почему не слышали? И, — с силой отчаянья, — почему я не слышал?
— Ты должен увидеться с Наурэ. Рассказать.
Элвир провел по лицу рукой.
— Наурэ… Да… — тихо и устало. — Там хорошо… Там ирисы… белые ирисы…
Внезапно его тело напряглось, выгнулось, рука стиснула горло, словно душа немой стон. Аргор сжал его плечи, силой заставив лежать тихо.
— Вот и Эрион, — спокойно проговорил он, глубоко заглянув юноше в глаза.
Целитель, вошедший с чашей собственноручно изготовленного таинственного питья, вознамерился было что-то сказать — уже и брови сдвинул сурово, и рот приоткрыл, но, встретившись взглядом с Королем, передумал. Молча поставил на стол чашу и молча же удалился. Только тогда Король отпустил Элвира.
— Пей. Эрион свое дело знает… Вот так. А теперь — говори. Говори, что хочешь.
* * *
— …О-ох…
Из застящего глаза тумана выплыла ухмыляющаяся рыжебородая физиономия.
— Гляди-ка! — весело произнесла она. — Вот мы и проснулись!
Туман начал медленно рассеиваться. Невероятным усилием воли заставив себя глядеть прямо, Наран умудрился-таки рассмотреть обладателя физиономии — здоровенного рыжего мужика в чем-то черном. Понять, в чем, было уже выше сил.
— Что, башка трещит после вчерашнего, а, парень? — с веселым участием осведомился мужик.
— Угу, — Наран героически попытался кивнуть, и физиономия мужика начала отъезжать куда-то в сторону.
— Я… где? — выдавил Наран.
— В Тай-арн Орэ, — ласково объяснил рыжий. — То бишь, по-вашему, в Барад-дуре.
— Ну и упился же я вчера… А ты?..
— Сайта, Назгул, к вашим услугам, э-э… молодой человек, — явно передразнивая кого-то, представился рыжий.
— До рыжих Назгулов допился, — обреченно простонал Наран, вызвав у Сайты взрыв хохота.
Наран зажмурился.
— А может, это мне снится? — с тоскливой безнадежностью спросил он. — Может, ты щас исчезнешь, а?
Сайта хихикнул:
— Не-а, не надейся, не исчезну. Зато Эрион сейчас появится, это точно.
— Эт`кто? — не открывая глаз и болезненно морщась, осведомился Наран.
— Тоже Назгул. Вот увидишь, — авторитетно пообещал Сайта.
Наран застонал и попытался спрятать голову под подушку. Вышло неубедительно.
— Так-так-та-ак… И где же наш… э-э… больной? — осведомился новый голос. Судя по всему, его-то Сайта и передразнивал.
— Ты чего ему приволок? — басовито возмутился Сайта. — Ему бы сейчас вина…
Наран издал тоскливый стон; при мысли о вине его замутило.
— …а лучше пива холодного. Но не твое же пойло!
— Элвиру, между прочим, это пойло помогло! — с некоторой обидой заметил Эрион. — Мы, могучий Сайта, всегда расходились во взглядах на методы лечения. А вам, молодой человек, я хочу сказать…
С трудом осознав, что речь идет о нем, Наран невнятно промычал что-то и предпринял еще одну попытку залезть под подушку. Подушка немедленно полетела в угол.
— Значит, так. Открывайте глаза. Открывайте, открывайте, нечего тут!.. А ты, Сайта, молчи, я знаю, что делаю! И хватит скулить!
Судя по всему, последние слова относились к самому Нарану; при всем желании представить Сайту скулящим он не мог.
Эрион оказался нуменорцем — по природе своей, вероятно, человеком добрым и мягким, но сейчас настроенным весьма воинственно.
— Пейте, — перед лицом Нарана возникла чаша с дымящимся напитком — судя по всему, горячим отваром трав. — Не возражать! Пейте!
Наран покорно глотнул. Эрионово пойло, вопреки его ожиданиям, оказалось очень холодным — горьковатым, с привкусом мяты. От первого же глотка туман в голове Нарана начал медленно, но верно рассеиваться.
— Вот это и называется — быть пьяным… э-э… в дым? — с насмешливым любопытством осведомился Эрион.
— Угу, — Наран, зажмурившийся было перед первым глотком, открыл несколько прояснившиеся глаза.
— Ясно. Пейте. Вот так, прекрасно. А теперь я вам хочу сказать…
— Эрион, — просительно проговорил Сайта, — может, не сейчас?
— Именно сейчас, друг мой. Видите ли, молодой человек, — это уже Нарану, — не сомневаюсь, что вы действовали из лучших побуждений. Но Элвир… как бы вам это сказать… он не просто человек. Он — один из нас. И там, где вы, скажем, начинаете петь песни и выяснять, уважают ли вас ваши… хм… сотрапезники…
— Собутыльники, — не без некоторой мрачности поправил Сайта.
— Совершенно верно, друг мой, благодарю. Ну, так вот: любой из нас (кстати, и ты тоже, Сайта!) начинает вспоминать и видеть. Наши воспоминания и без того отчетливее и ярче воспоминаний… обычных людей, поскольку мы не забываем ничего, — он особо подчеркнул последние слова.
Наран попытался осознать смысл услышанного; далось ему это с трудом, на его лице отразилась мучительная работа мысли. Эрион с минуту помолчал, потом продолжил:
— Так вот. В таком состоянии воспоминания приобретают свойства реальности. То есть Элвир заново видел и переживал все. Видел и переживал так, словно это происходит с ним здесь и сейчас. Я понятно излагаю?
— Угм… и что же он… видел? — потерянно спросил Наран.
— Костер, — раздельно и холодно прозвучал новый голос.
Наступившая вслед за этим коротким словом тишина была оглушительной, до звона в ушах.
— Я, конечно, не могу приказывать вам, сударь, — после недолгого молчания произнес Король. — Я могу только… попросить. Уходите. Хотя бы на время. Вашей вины нет в том, что произошло, но сейчас — уходите. Некоторое время — не нужно, чтобы Элвир вас видел.
«Я и сам собирался…» — хотел было ответить Наран, но слова застряли в пересохшем горле. Просьба Короля звучала как приказ, а последствия возможного неповиновения Наран предпочитал даже и не представлять.
* * *
…Наран едва успел неуклюже вскарабкаться в седло, когда за его спиной раздался уже знакомый низкий глуховатый голос:
— Позволите ли сопроводить вас, сударь?
Наран с трудом сглотнул и поспешно кивнул головой, внезапно осознав, что — боится этого странного человека с ничего не выражающим красивым и холодным лицом, боится так, как никого и ничего еще не боялся в своей жизни.
Почти весь путь они проделали в молчании; только под конец мрачный его спутник спросил:
— Как там губернатор?
Трудно сказать, что больше удивило Нарана — то, что Король заговорил наконец, или его непонятный вопрос; однако в любом случае молодой человек предпочел не добиваться разъяснений.
— А чего ему сделается… Девицу вот новую завел — молоденькая совсем, жалко, спортит ведь девчонку, гад… На днях аж турнир в ее честь устраивает.
— Когда?
— А послезавтра в аккурат.
— Как его рука?
«С чего это ты так о здоровье губернатора нашего печешься, всех его предков до седьмого колена?»
— Да прошло уж давно все, — ответил осторожно.
— Хорошо.
Больше Король не проронил ни слова — а Наран и не стремился сызнова завязать разговор: скорее бы до места добраться — и то ладно, не до бесед тут…
* * *
— … Что ты задумал, брат?
— Хочу на турнире поразмяться.
— Зачем? — недоуменно поинтересовался Моро.
— Ты же Провидец.
— Но ты знаешь, я не читаю ваших мыслей.
— Объяснять дольше.
Воцарилось недолгое молчание.
— Вот значит как… — задумчиво протянул Провидец. — А Повелитель знает?
— Нет. Это только мое дело.
— Но… ты возьмешь кого-то с собой?
— Я же сказал. Это только мое дело. Потому что…
Король отложил в сторону черненый шлем и поднял глаза. Моро отвел взгляд первым.
— Потому что я сам был таким же, как он, — медленно и отчетливо проговорил Аргор. И, с неживым смешком: — Обещаю, это будет честный бой.
* * *
«Вот ведь — как в старинной повести… Смешно даже. За честь прекрасной дамы. Правда, дамы этой уже давно в живых нет, да и не видел я ее ни разу… своими глазами, по крайней мере. Зачем, спрашивается, мне это нужно?.. К демонам. Лучше не думать.»
* * *
Над ним посмеивались — кто за спиной, а кто и в открытую: тоже мне, рыцарь! Ни золоченых доспехов, ни оруженосца — даже шатер ставил сам, сам чистил коня… Небось, из этих нуменорских аристократов — промотал отцовы денежки и решил славы добыть да дела поправить на границах южных колоний.
— Благородный рыцарь Морион.
Кажется, даже в голосе герольда — издевка. Черный рыцарь — черненая кольчуга, черная одежда, вороной конь. Шлем нуменорский, но лицо до глаз закрыто кольчужной сеткой, а крылья шлема — скорее крылья ворона, чем чайки. Черный щит — без герба: то ли полукровка безродный, то ли и вправду аристократ, стыдящийся нищеты… Конь, впрочем, добрый — видать, военная добыча…
Но шуточки поутихли к концу первого же дня: черный рыцарь неведомого роду-племени одержал три удивительно красивых и легких победы — ни один из его противников не мог бы похвастаться, что хоть раз задел его. Уже дамы начали взволнованно перешептываться, поглядывая в его сторону, а новая пассия губернатора даже в ладошки захлопала и засмеялась, приветствуя очередную его победу. Губернатор недовольно сдвинул брови, но промолчал, а безвестный рыцарь отвесил глубокий церемонный поклон в сторону губернаторской ложи…
Она и вправду была очень юна — совсем девочка, тонувшая в пене дорогих кружев и в драгоценной золотой парче. В ней было очарование юности — золотисто-рыжее облако пушистых волос, охваченных ажурной сеткой золотых нитей, по-детски ясные и удивленные глаза, чистая кожа, легко вспыхивающая румянцем… Она с веселым удовольствием играла роль придворной дамы; загадочный рыцарь, высокий и статный, просто очаровал ее. Сама того не замечая, она уже молила Валар за него.
К концу третьего дня ни у кого уже не оставалось сомнений в том, кто выйдет победителем в турнире.
А он по-прежнему не заговаривал ни с кем, по-прежнему не появлялся на людях с открытым лицом — и все это создавало вокруг него романтический ореол; не было дамы, которой он не казался бы теперь героем, словно бы сошедшим со страниц старинной повести — и мало кто удивился, когда ему, победителю, юная королева турнира бросила цветок…
Губернатор поднялся с места, багровея лицом, и быстро покинул ложу. Ждать пришлось недолго: он появился уже на ристалище, великолепный в своем тяжелом доспехе с золотой насечкой и пурпурном плаще. Герольды возвестили, что сам благородный господин Дамрод, наместник государя, и прочая, и прочая, желает померяться силами с победителем турнира. Черный рыцарь принял это известие спокойно — только глаза его недобро блеснули, но увидеть это было некому.
…Поединок был странен: завораживающая игра, страшный и красивый танец смерти. Черный рыцарь не нанес еще ни одного удара, он кружил вокруг противника с пугающей мягкостью дикого зверя — и, казалось, это будет тянуться бесконечно…
Потом все произошло так стремительно, что никто не успел понять, как это случилось. Широкоплечий рыцарь в золоченом доспехе распростерся на земле, а его противник низко склонился над ним — всего на миг — и тут же выпрямился, и напряженная тишина взорвалась криками восхищения. Черный рыцарь легко поклонился и неторопливо пошел к своему шатру — должно быть, переодеться перед тем, как королева турнира вручит ему награду. Его противник лежал навзничь, не поднимаясь — долго — слишком долго — и восторженные крики как-то разом стихли, и только юная девушка в золотом парчовом платье вскрикнула вдруг за миг до того, как оруженосцы склонились над телом Дамрода.
В глазах губернатора застыл безумный ужас, а между ключиц глубоко вошел трехгранный стальной кинжал-игла.
* * *
…Работа была окончена — оставалось только натянуть струны на узкий гриф. И, впервые увидев творение Нариона, Повелитель страшно побледнел, порывисто выдохнув:
— Я…
Элвир заговорил одновременно с ним:
— Я сделаю струны, мастер.
Саурон вдруг ссутулился, устало уронив руки, и молча кивнул.
* * *
…лучи Звезды и нити тумана, белизна цветов Лаан Эрн, песни Ночи и песни ветра, серебро ковылей и звездный металл, закаленный в лунной крови, память голоса твоего — струны песни чужой…
* * *
Нарион был в дорожной одежде — только черный плащ еще висел на спинке кресла.
— Ты уходишь, тарно?
— Да, тарни. Хочу посмотреть, как живут люди — там, на востоке, на юге… Расскажу им о том, что видел здесь. А ее, — он коснулся лаиэллинн, — оставляю тебе. Нет-нет, — заметив протестующий жест юноши, — знаю: ты сумеешь сказать то, что не сумел я.
Мастер прошелся по комнате.
— Сегодня великий день. День радости и день печали. Я передал вам все, что знал и умел сам, я вижу — вы пойдете дальше, превзойдете меня — и мне радостно за вас, и светло на сердце. И грустно мне уходить, расставаться с теми, кого я успел полюбить. Сегодня я буду играть вам и Повелителю. Так я играл только один раз…
По его лицу скользнула тень; показалось — он стал старше на много лет.
— У нее… есть имя.
— Знаю, тарно, — Элвир заглянул мастеру в глаза.
— Я буду играть, — повторил Нарион.
* * *
В черной одежде странников Тай-арн Орэ он стоял в поющем зале пред Сауроном и говорил:
— Повелитель, настал час мне собираться в дорогу. И на прощание я хочу играть вам. Слушайте…
…За мгновение до того, как крылья Песни обняли его, Элвир успел увидеть, как Саурон — Гортхауэр — Ортхэннэр с потрясенным, отчаянным, безумно-счастливым лицом поднимается и делает шаг вперед. Потом он не помнил ничего, кроме Песни…
…и она оборвалась на высокой звенящей ноте, и Саурон закрыл лицо руками, а человек в черной странничьей одежде медленно, как бывает только во сне, начал оседать на каменные плиты пола, и Элвир успел на мгновение раньше Эриона, успел — чтобы увидеть не глаза — провалы в звездную бездну — прежде, чем они снова стали глазами человека, пустыми и мертвыми.
Грозовой камень
Такой страшной грозы не помнили даже старики. Даже древние предания не говорили ничего о подобном. Небо почти беспрерывно озарялось иссиня-белыми вспышками, и видно все было, как днем. И этот свет был куда страшнее всегда пугающей людей темноты. Лишь к утру утих гнев неба. Такой страх осел в сердцах людских, что никто не осмеливался даже при свете дня выходить из стен городища. И в ужасе смотрели люди на север, где за лесом возвышалась вершина горы, в которую всю ночь била молния. Тогда сын кузнеца, совсем молодой еще, решил отправиться к Горе и узнать, что там произошло. Может быть, удастся понять, за что гневалось небо. Никто не остановил его, хотя и не верили люди в его удачу: слишком молод он был, и мужского воинского имени у него не было. Не было у него ни меча, ни знака, и даже знак своего отца не мог он носить — еще ни разу не случилось ему выказать доблесть. Хотя охотником он был славным, но охотник — еще не воин. Потому лишь ожерельем из рысьих когтей и волчьих клыков мог он похвастаться; правда, для его лет и это было хорошо.
Так он ушел к Горе. Долгим был его путь, но лес словно вымер, и ни зверь, ни птица не попадались ему; даже летучая мелочь из леса исчезла. Лишь на пятый день очутился он у подножья Горы. Еще день поднимался он к вершине, и, глядя на юг, далеко-далеко разглядел родное городище. А в расщелине с удивлением увидел он камни — россыпи камней, сверкавших в свете дня ало-фиолетовым пламенем. Никогда раньше не видел он таких. Они казались теплыми, и даже в сомкнутых ладонях светились, словно на солнце. Не было страха в этих камнях, только тепло и свет. И сын кузнеца взял с собой этих камней, чтобы показать людям. Его с трудом узнали, когда он вернулся. Странная сила исходила от него. Теперь он не казался слабым юнцом — это был воин, хотя никто и не мог сказать, что же изменилось в нем. Со страхом смотрели жрец и вождь на камни в его руке, ибо была в них сила грозы, которую вряд ли кто-нибудь осмелился бы взять в руки. Так и получилось, что даже самые смелые воины согласились, что сын кузнеца показал великую доблесть и достоин воинского имени. И было дано ему имя, что означало «взявший молнию». И грозовые камни были отныне в рукояти его меча. С тех пор повелось украшать оружие грозовыми камнями; и любой юноша великой удачей считал найти такие камни, ибо это говорило об особой милости духов Земли и Неба. И потому не было подарка для невесты желаннее, чем грозовой камень — всегда женщины носили какое-нибудь украшение с этим камнем.
Потому когда род Совы стал главным во всем племени, грозовой камень — знак клана Молнии — почитался едва ли не менее, чем священная птица. Отныне считают его камнем воинов, но также и камнем женского чародейства…
Легенда о воительнице
Об этом племени вполне справедливо можно было сказать: они все настоящие мужчины независимо от пола. Дети племени были взрослыми чуть ли не с пеленок. Детей при рождении посвящали кому-либо из животных. Любой из них мог биться один против войска и умереть с честью. А жило это племя на далеком северо-востоке Арды. Гордые, отважные люди. Его так и называли — племя Воинов-Зверей.
Племя кочевало. Однажды, уйдя довольно далеко на запад, Воины-Звери повстречали народы, поклонявшиеся Свету, или, скорее, не-Тьме. Вожди племени и многие богатые воины приняли их веру. Постепенно все те, кто думал иначе, стали гибнуть от несчастных случаев. Позже начались открытые гонения… Вскоре Темных почти не осталось.
Немного о ней:
Ее растили, как всех детей племени, однако врожденная лень не дала ей многому научиться, о чем она позже не раз жалела. Она помнила, как мать учила ее собирать целебные травы и охотиться, помнила, как отец и сестры учили ее владеть оружием и жить жизнью воина. Помнила бабушку, старую колдунью Пути Тьмы, воспитавшую ее и многое рассказавшую ей долгими зимними ночами, греясь у костра в их убогом шатре. Постепенно, слушая старые легенды о Черном Властелине, хранимые бабушкой, она поняла Тьму и встала на ее Путь. Именно поэтому одним теплым весенним утром она оказалась в шатре пыток. Однако ей удалось бежать…
Одна. Всегда одна…
Горе рано посеребрило ее рыжевато-пепельные волосы, на загорелой смуглой коже проступили горькие складки, в темно-синих глазах затаилась боль. Она напоминала собой загнанного, избитого волчонка… И лишь жарко пульсировала в висках мысль: «За что? За что меня все гонят?..» Ей пришлось многое пережить, она скрыла свой пол и вихрем носилась по Арде, мстя за обиженных гонимых Темных и помнила лишь об одном: она должна выжить и найти тех, кто ее поймет и поможет ей. Не раз попадала она в плен. Тело ее носило следы многих пыток. Но гораздо хуже были те шрамы, что остались в ее сознании. Она помнила все, и эта память жгла ее мозг, наполняла рот горечью и не давала радоваться жизни, как радовались ей другие живые существа.
Во время своих странствий она как-то забрела в места, где стояла когда-то Черная Цитадель. Она ходила по развалинам, когда ей повстречался странный человек. Она почему-то подумала, что это Он. Вглядевшись в эти светлые глаза, полные нечеловеческой боли, она почувствовала в них вопрос. Она подумала: «Кто ты? Тот ли, о ком говорят легенды?» Он молчал. И вдруг она ощутила ответную мысль: «Хочешь ли быть среди моих учеников? Хочешь ли встать на мой Путь?»
«Да».
«Тогда возьми».
Он коснулся ее руки, и она увидела простое серебряное кольцо.
«Что это?» — спросила она.
Но он исчез. А она продолжила свой путь. Ей было только двадцать. Впереди была целая жизнь. Позади — десять…
Эта странная женщина с седыми волосами сеяла смерть, мстя за гибель невинных, страдающих лишь за то, что у них другой взгляд на мир. Однажды она была схвачена жителями одного из поселений Людей. То, что осталось от нее после пыток, должно было подвергнуться колесованию на главной площади. Но как только ее привязали к колесу, ее тело дернулось. Она умерла.
А потом растаяла, выскользнув туманными сгустками из ремней.
И явилась она толпе в прекрасном полупрозрачном облике. И горели рубинами ее глаза. И истаяла она тонким дымом, одна из улайров, Черных Кольценосцев — Воительница, Воин Совы, назгул, одна из девяти учеников Черного Майа.
Еретик
Звали ее Исилхэрин, и была она в родстве с королевским домом Нуменора. Когда шла она — спокойная и отрешенная — в своем темно-вишневом бархатном платье, расшитом по плечам черным стеклярусом, все говорили: «Вот идет Исилхэрин прекрасная, холодная, как осенняя луна.» Многие искали руки Исилхэрин белолицей, Исилхэрин черноволосой, красавицы с темно-синими глазами, но спокойно отвергала всех она, не объясняя на то причин.
Лишь одного мимолетного взгляда хватило им, чтобы искать друг друга потом всю жизнь. Почему они не остановились, не заговорили тогда?
Лишь несколько минут спустя поняли они, что эта короткая встреча — их судьба. Но оба уже затерялись в толпе.
Через семь лет, вернувшись из Средиземья, он увидел ее на пристани, и, не раздумывая, подошел к ней, едва сойдя с корабля. И, не говоря ни слова, шли они рядом по улицам белой гавани. Наконец, остановились они у заросшей плющом ограды дома, и спросил он:
— Госпожа моя, я не знаю вашего имени, но мне кажется, что я давным-давно знаю вас. Скажите, могу ли я просить вашей руки?
— Господин мой, только вас мыслю я своим супругом. Но, боюсь, нам не быть вместе. Я скажу вам все, хотя это может стоить мне жизни. Выслушайте меня.
— Я приму все, что бы вы не сказали, ибо воистину наша встреча дарована Валар.
Она странно улыбнулась в ответ.
— Войдемте, господин мой.
— Я доверюсь вам, хотя вы, возможно, возненавидите меня. Уже давно наша семья не верит в мощь и милость Валар. Я не знаю, откуда идут предания о творении Арды в нашем роду, но они не похожи на те, что поведаны нам Элдар. Мы почитаем Древнюю Тьму, ибо она старше Света, и силы ее — древнее Арды. Древнее Айнур и самого Эру. Мы не отвергаем Валар, но не они главные в этом мире. Мы равно чтим Свет и Тьму, но Тьму мы ставим выше.
Она вздохнула.
— Вот и все. Вы возненавидете меня — пусть. Вы можете, если захотите, выдать меня — пусть. Я полагаюсь на вашу совесть. Другого судьи, кроме вас, я не приму. Я в ваших руках. Решайте.
Он сидел, низко опустив голову. Затем тихо заговорил:
— Мне трудно понять вас — слишком все это непривычно и неожиданно. Тяжело мне. Но знайте — никогда я не предам вас. Это мое слово.
Непростой и нескорой была их любовь. Много раз покидал он Нуменор и, возвращаясь из смертных земель, становился он все суровее и задумчивее, и, хотя по счету нуменорских лет был он еще молод, седина уже начала пробиваться в его черных волосах, и все больше боевых шрамов было на теле его.
— Я становлюсь другим. Словно Забытые земли меняют меня, и нет мне больше радости здесь. Мне кажется, я перестаю быть воином. Или я стал трусом? Не могу убивать их. Дикари, жестокие, злобные… А мне жаль их. Как же не понять — не мечом и огнем… Да и почему, кто дал мне это право — судить? Не понимаю… Почему — низшие? Темные — да, грубые. Но разве мы не были такими в свое время? И убивать их — за это? Именем Валар? Обращать их в рабов?
Он закашлялся.
— Нет, госпожа моя. Вы можете услышать обо мне много нелестного. Что я и трус, и не подчиняюсь приказам, и не уважаю Великих… Верьте или не верьте — это ваше дело. Но убийцей я больше не стану. Я видел людей Харада. Они ровня нам, нуменорцам, хотя и не Валар их вели. Наверное, я начинаю верить Тьме…
И еще восемь лет прошло — а он не возвращался. И вести были всякие — что он убит, что он в плену, или, еще хуже, сбежал к врагам.
Но он опять появился — ночью постучался в дверь ее дома. Он был теперь совсем седым, и уродливый шрам пересекал его лицо через лоб и левую скулу. И впервые Исилхэрин потеряла самообладание и плакала у него на груди. Когда утром расставались они, она заметила странный перстень на его руке — похоже, что был он из стали, с очень темным камнем. Она ничего не спросила, но, перехватив ее взгляд, он странно посмотрел на нее и грустно улыбнулся.
Утром он уехал, а через неделю Исилхэрин взошла на корабль, что плыл на восток, и в руке держала она ветку омелы. Такой он увидел ее в гавани, куда, повинуясь неясному зову, пришел он этим утром. И все смотрели на прекрасную Исилхэрин, которую словно минули эти пятнадцать лет — она была по-прежнему свежей и юной.
Однажды они шли по главной площади, и ее привлекло странное оживление у дверей высокого храма.
— Что это? — спросила она.
Он угрюмо молчал. А затем сказал — резко и хрипло:
— Жертвоприношение. Всесожжение во славу Валар. Уйди.
Исилхэрин застыла от ужаса. Эти слухи доходили до нее, но она не верила.
— Их — живыми? — выдохнула она.
— Да. Но я помогу им…
Он накрыл кольцо рукой, и она увидела, как побледнело и покрылось потом его лицо. И те двое, что были прикованы к столбу — спина к спине, вдруг повисли на цепях.
— Все. Они мертвы. Им не будет больно. Идем отсюда.
И вновь была война. И сердце Исилхэрин болело от недоброго предчувствия. А потом она узнала, что он схвачен и под судом, потому что не дал перебить людей в небольшом харадском городке, взятом после двухдневной осады. Разъяренные сопротивлением солдаты ворвались, убивая всех на своем пути. Слов они не слушали. Тогда он дрался против своих, а потом, когда понял, что это безнадежно — все говорили об этом по-разному — он выкрикнул какое-то жутко звучащее заклятье, и три черных тени пролетели над пожарищем, и нуменорцы в ужасе отступили, бежали от пылающих развалин. Его, израненного и жестоко избитого, приволокли в крепость и бросили в гарнизонную тюрьму. Обвинения были тяжелые — измена и ересь. Но прежде, чем был произнесен приговор, в суд вошла Исилхэрин и сказала:
— Вина на мне. Это я — служительница Тьмы. Я околдовала его. Он невиновен.
И теперь они стояли у столба — спина к спине, и их руки были скованы вместе — ее руки с его руками, и одна цепь притягивала их к столбу. И стиснув зубы, он изо всех сил молил — пусть она умрет. Пусть умрет сейчас, быстро, без боли. Он понимал, что если так будет, силы кольца не хватит, чтобы убить его. Он слишком был измучен, чтобы заставить кольцо убить их обоих.
«Пусть умрет. Пусть умрет быстро», — билось у него в сердце.
И когда ее мертвая голова запрокинулась ему на плечо, он облегченно вздохнул. За себя он не боялся.
Ему было дано видеть то, что не дано другим, и потому он увидел перед собой фигуру в черном плаще с обнаженным мечом. Он понял — не раз ему приходилось из милости добивать смертельно раненных. И с улыбкой принял он удар ледяного клинка в сердце.
— Госпожа моя, далек твой путь, но я найду тебя. Ночь ведет тебя, Тьма ведет меня, но рядом наши дороги. Я найду тебя, я найду тебя…
Пленение Саурона
(3262 год II Эпохи)
1.
Так бесконечно тянется дорога — прямая как стрела… Солнце жжет непокрытую голову, порывы ветра хлещут по лицу. Западного ветра. Белые плиты подогнаны так, что между ними и лезвие ножа не войдет. Только цокают медленно копыта коней — как неспешно падают капли воды. Вода… В горле пересохло, на языке — солоноватый привкус, черной коркой запеклась на губах кровь. Хотя бы глоток воды… Поскрипывают колеса черной повозки, чуть слышно звенит тяжелая цепь на руках.
А впереди перекатываются волнами приветственные крики — медленно и торжественно выступает белый конь, и сверкают на солнце золоченые доспехи короля, а чуть позади колышутся знамена победоносного Анадунэ, равного которому нет отныне и во веки веков в Арде. И отливает червоным золотом королевский штандарт. «Слава победителю! Да здравствует вечно Золотой Король!» — золотые и алые цветы летят под копыта белому коню. «Да будет прославлен в веках великий и мудрый воитель, величайший из королей Людей!»
…Повозку катят два огненно-рыжих коня — словно знак: не пропустите редкостное зрелище! Но и без того никто не отводит глаз от проезжающей мимо черной повозки. Закрыв глаза можно понять, где провозят пленника: там стоит напряженная звенящая тишина, там не слышно ни криков, ни проклятий. Молчание.
Он бос, в простых черных одеждах, но кандалы покрыты яркой позолотой. Одеяние на груди разорвано, и виден всем массивный золотой ошейник, охватывающий гордую шею пленника. Он не опускает головы: если бы ветер не развевал его длинных темных с сильной проседью волос, он мог бы показаться статуей. Кому-то он видится ужасающим, кому-то — страшно подумать! — прекрасным, и всем — величественным и сильным. Ждали другого. Чего? — никто не знал. Может, что привезут в клетке злобно рычащее чудовище в два человеческих роста. Может — увидеть сломленную, дрожащую от ужаса тварь. Но — не такого. И как-то не верится, в то, что этот — и в мыслях не решаешься произнести имя — устрашился блистательного войска.
Скрипят зубами: смерть ему! И никто не может отвести взгляд. Застыли по обеим сторонам широкой белой дороги. Он всей кожей ощущает их мысли, их чувства. Ненависть. Ненависть и страх. Ненависть с тенью восхищения. Растерянность. Еле уловимое сочувствие. Ненависть. «Да сгинет навеки!»
Поскрипывают колеса черной повозки, чуть слышно мерно звенит тяжелая цепь на руках.
Чья-то, вдогонку, мысль: лучше бы казнили сразу, чем — так, я бы, наверное, умер от унижения…
Он мысленно благодарит и за эту крупицу сострадания. Люди. Люди…
Ни единого облачка в сияющем лазурью небе. И там, в вышине, чертит медленные круги огромный орел: Свидетель Манве.
Он смотрит вперед, не шевелясь, почти не мигая. Лицо похоже на маску, прекрасную и величественную.
…Острый осколок камня рассек скулу.
Он медленно обернулся.
Подросток лет четырнадцати, высокий, тонкий, как ковыльный стебель.
Их глаза встретились.
Что он прочел во взгляде Врага, что увидел в светлых ярких глазах? Лицо мальчика исказилось, он стиснул руки, пытаясь сглотнуть застрявший в пересохшем вдруг горле комок.
Струйка крови на бледном лице. Твердо сжатые губы.
Мальчишка дернулся, как от удара. Майя так же медленно отвернулся.
Мимо.
…Цокают копыта неспешно ступающих по белым плитам огненно-рыжих коней. Так бесконечно тянется прямая как стрела дорога… Солнце жжет непокрытую голову, порывы ветра хлещут по лицу. Западный ветер чуть шевелит за плечами складки тяжелого черного плаща, тихо звенит золоченая цепь на руках.
Закрыв глаза, можно понять, где провозят пленника: там стоит звенящая тишина, там не слышно ни криков, ни проклятий.
Больше ни одна рука не потянется за камнем. Никто не вымолвит ни слова.
Никто не смотрит на пробирающегося сквозь толпу мальчишку. Он старается не выдать своих чувств, — его так учили, — но губы против воли повторяют беззвучно странную безумную фразу о падшем величии, а перед глазами — это бледное лицо, струйка крови на рассеченной скуле — этот взгляд…
Бежать отсюда — прочь, прочь — от этих мыслей, от этих глаз, от этих слов, будь они прокляты! Бежать, чтобы не слышать приветственных криков, обрушивающихся молчанием там, где поскрипывают колеса черной повозки и цокают по камням копыта рыжих коней — как неспешно падают капли воды… В горле пересохло, на языке — солоноватый привкус… Хотя бы глоток воды…
Белая дорога — в кровавых пятнах лепестков, и кони ступают по ним, давя копытами алые и золотые цветы.
«Да здравствует Золотой Король! Да будет он прославлен в веках!» И летят цветы под копыта белому коню.
А вдруг хоть кто-то еще потом возьмет камень?..
Кровь на бледном лице — такая неестественно-яркая, а узкие руки кажутся ослепительно-белыми на черном, и золоченые наручники на запястьях…
«Слава королю Анадунэ! Да сгинет навеки Враг!»
Ждали другого. Чего? — не знал никто. Другого. А теперь что-то не позволяет радоваться победе. Умолкает смех, гаснут улыбки, тень растерянности на лицах…
Он не опускает головы. Кто думал, что можно переносить унижение с таким величием, с такой гордостью?
Губы твердо сжаты. Смотрит вперед неподвижным взглядом, и опускают головы люди, боясь встретиься с ним глазами.
Только цокают копыта коней…
Цокают копыта…
2.
«Враг должен быть уничтожен.»
Он опустил голову, сцепил пальцы. Король Верных — ведь так его называют? — должен возглавить войско Дунэдайн. Тот, кто виновен в гибели Нуменора, должен быть убит. Такова воля Валар.
Воля Валар… Разве он слеп? Разве не понимает, что палачами Нуменора были именно они, Великие? Разве не безумие Тар-Калиона вызвало их гнев? А Враг… Раб при дворе короля. Не надо обманываться, пытаясь воплотить все зло в ком-то одном, будь то человек, Майя или Вала…
На некоторое время он забыл о договоре с Гил-Галадом.
…Сколь велико желание найти живое олицетворение врага. Как просто — указать на одного и крикнуть — вот оно, зло! Вот тот, кто повинен во всех ваших бедах и несчастьях, тот, кто насылает чуму и мор, разжигает войны, тот, кто отмечен печатью всех возможных и невозможных грехов, тот, кому чуждо все светлое и чистое, все человеческое… А так ли это? И дело не в Чернокнижнике…
Мир устроен верно и справедливо. Избранные призваны царить в нем, прочие — подчиняться. Такова воля Валар. Это справедливо, ибо Валар суть воплощение справедливости. И кара, что пала на Эленну…
Элендил закрыл глаза: «Нуменор мой…»
… И эта кара была — справедлива. Справедлива. Только не усомниться в этом. Только не думать. Не думать. Но как забыть — багровое зарево, встающее за спиной… в чем же были виновны дети?! Неужели это и есть высшая справедливость? — и бывает ли справедливость жестокой?.. Великие, всесильные — они стерли с лика Арды целую страну, но не смогли уничтожить того, кто считается первопричиной зла.
Враг… Он впервые увидел Врага много лет назад, в пору достославного похода государя Тар-Калиона. Верные сочли эту войну праведной, и вновь Элендил, единственный сын и наследник князя Андуниэ Амандила, ступил на берега Забытых Земель. И сердце его билось радостно, когда видел он блистательное, несокрушимое войско Высших, и счастьем было — ощущать себя одним из них. Тем страшнее было то, что произошло позже.
Враг вышел — один навстречу огромному войску. Ни оружия, ни доспехов. Он шел медленно и твердо. И остановился, скрестив руки на груди. Молодой нуменорец почувствовал, как неодолимый ужас захлестывает все его существо; оглядевшись, понял, что то же чувство испытывают и его соратники. Позже он осознал: сделай Враг еще хоть шаг вперед — они побежали бы, как дикие звери от лесного пожара — не рассуждая, забыв обо всем во власти безотчетного ужаса…
Но он не двинулся с места, и пришедшие в себя воины приволокли его к ногам Золотого Короля.
Летопись говорит: Враг молил о пощаде, отрекался от своих деяний и признал над собой власть короля Нуменора. Ложь. Ни о чем не умолял и не говорил — ничего. Просто стоял, полуприкрыв глаза, словно смертельно усталый человек, и западный ветер трепал его темные с сильной проседью волосы. Было в нем странное величие, которому не нужны ни шитые золотом одеяния, ни пурпур мантии, ни драгоценный венец… А что произошло дальше — Элендил не видел, но догадался, заметив, как приторно-ярко сверкнуло золото в вороте разораной на груди черной рубахи. Раб короля Нуменора. И запомнилось еще почему-то болезненное изумление, с которым Майя разглядывал свои скованые руки.
Это после говорили — Враг сдался в плен, потому что, не сумев победить Нуменор силой, решил уничтожить его хитростью и коварством. Снова ложь. Отец на Королевском Совете говорил, что Врага должно отдать на суд Владык Запада; горячей речью своей князь Андуниэ склонил многих и многих к этому решению. Но Тар-Калион с детства был своеволен и капризен — отец сам рассказывал об этом; именно потому, что приговор Совета был почти единодушным, король сказал — нет.
…Потом он увидел Врага всего один только раз на каком-то праздненстве в Арменелос. Чернокнижник сидел по правую руку от Тар-Калиона — опустив глаза, не глядя ни на кого, — и что-то в его облике говорило о том, что этим рукам стали привычны кандалы, а глазам — сырой полумрак каземата. И все же чувствовалась в нем какая-то непонятная сила — может, поэтому Тар-Калион и не пытался убить Майя, и эта сила, и знания Врага нужны были ему, чтобы упрочить власть величайшего из королей Людей.
«Нелепо считать Врага причиной всех бед. Зло и добро равно живут в душе каждого человека… Избитая истина, но от этого она не перестает быть истиной. Неужели те, кто создавал союз Элдар и Эдайн, не видят этого, неужели думают, что вслед за победой придет пора вечного мира? Этого не будет. Бесполезно.»
Он усмехнулся: «Мысли еретика. В прежние времена за них сожгли бы на костре. А посмей я высказать их сейчас — меня объявят безумным.»
Элендил подошел к окну, откуда вдалеке было видно море в седой соленой дымке. В последний раз. «Прощай, Элостирион…» Он уже знал: ему — не вернуться. Было горько думать, что вскоре он поведет в бой последних из тех, кто хранит память Нуменора. Последних — как листья на ветру. Для тех, кто родился здесь, Эленна — лишь прекрасная печальная сказка. Пройдут годы — Нуменор останется неясной смутной легендой. Забудутся знания и тысячелетняя мудрость, забудется и то, что Звездная Земля была дарована людям, как долгожданный мир после долгих лет войны: разве сам Нуменор не забыл об этом? Отныне меч сильнее слова, и память — ничто перед силой…
Пусть сочтут безумцем — он не хочет покоиться в этой земле. Пусть примет его море — последняя воля человека священна, и, быть может, хотя бы этот закон никто не осмелится преступить.
Аккалабет: Хэлкар
(3319 год II Эпохи)
…Пусть кто угодно говорит, что я ненавидел Нуменорэ за то, что Западная Земля отвергла меня, предав забвению и проклятью. Пусть скажут, что я предатель, что воевал против своего народа.
Это неправда.
Неправда.
Я любил Нуменорэ…
Уже несколько дней его не отпускала эта мучительная гнетущая тоска, которой не было объяснения, не было имени. Он попытался работать в мастерской, чтобы хоть как-то отвлечься — но внезапно остановился, выронив инструменты, и медленно, как во сне, пошел наверх.
И вот снова, непонятно зачем, стоял сейчас у стрельчатого высокого окна — створки были распахнуты, и западный ветер, казалось ему, нес запах нагретых солнцем скал и моря, шум волн и резкие скорбные крики чаек.
Я видел…
Сначала она не была большой, хотя и поднималась выше мачт кораблей, эта волна. Понимаешь… наши корабли не так легко было потопить, но она накрыла их и потянула на дно. Огромная воронка — и на мгновение море снова стало спокойным. А потом она поднялась снова — так чудовище, напившееся крови, обретает новые силы — медленно, медленно, вбирая в себя воду: она набухала, разрасталась, и — замерла. Этого не бывает, я знаю, это было чудовищно, невозможно — огромная масса воды застыла в неподвижности как змея, как кобра перед броском, — и так же медленно покатилась вперед, набирая силу, вбирая в себя морскую воду, все быстрее и быстрее…
Я знаю, это звучит неправдоподобно — но она была живой. Это не была обычная штормовая волна — она жила своей жизнью, она жаждала разрушения, жаждала людской крови, жажадала убивать. Карой и гневом она была, и все-таки было в ней какое-то жестокое равнодушие, как у твари, исполняющей чужую волю.
А я не верил.
Пойми — я не верил, не верил в то, что такое может быть.
Свидетели Манве кружили над островом, и люди, застыв в предсмертном ужасе, смотрели в небо — а я не верил. Я стоял и смотрел, я видел ее, видел, как она катится к Осторову, я все видел — и стоял в каком-то оцепенении, я все не мог поверить, что это случится.
Что это может случиться.
Я стоял и смотрел.
Стоял и смотрел.
Смотрел…
И только когда Волна в белом гребне пены нависла над берегом Нуменорэ — выше скал, выше башен, — и снова замерла, прежде чем обрушиться на эту землю и поглотить ее — только тогда я закричал…
— тогда он закричал — без голоса, всем своим существом, только теперь — поверив и поняв…
И Братья услышали его.
Они ворвались в мастерскую — почему-то думали, что он там — и остановились, озираясь, пытясь понять, что произошло — и тут услышали.
… и когда Волна набросилась на остров, как бешеный зверь, как стая ненасытных хищных рыб, пожирая все на своем пути — дома, деревья, людей, — когда на него обрушился безмолвный тысячеголосый вопль отчаянья, боли и ужаса, оглушительным гулом бесчисленных колоколов отдававшийся в висках, разрывая мозг, и он впился пальцами в горло, задыхаясь, раздирал ногтями грудь, — тогда он закричал низко и страшно, не слыша собственного голоса…
Они ворвались в комнату, едва ли не все разом взлетев по винтовой лестнице — и застыли, скованые цепенящим ужасом.
Король?!.
Не крик уже — нечеловеческий вопль, хриплый вой смертельно раненого зверя бился о стены — и бился о стену всем телом, в кровь разбивая руки, Король Назгулов, Хэлкар.
Сайта и Хонахт пришли в себя первыми, схватили его за руки, за плечи — он отшвырнул их с невероятной яростной силой, и тогда уже все восемь навалились на него, пытаясь удержать безумца, стараясь не смотрть в искаженное, залитое кровью лицо — и на какой-то миг удалось им это, он затих — потом рванулся бешено, расшвыряв их в стороны, как слепых котят — вот он у окна, вот на мгновение высокая его фигура режуще-черным силуэтом на ясной эмалевой голубизне обрисовалась в оконном проеме, — только Элвир судорожно, со свистом втянул воздух, приподнявшись на локте, — и Король сделал шаг вперед.
Хлопнули оконные створки, с шорохом посыпалось вниз лопнувшее стекло — и не было падения — был полет, стремительный и отчаянный полет, порыв ветра, черный вихрь, быстрее крылатых коней мчащийся на запад, на запад — а в черной башне, едва успев подняться на ноги, Еретик вдруг, страшно белея лицом, сполз по стене, и слово умирало безмолвием на его губах — Нуменорэ…
Он забыл, что никто из них не умел — не должен был уметь этого, забыл обо всем, обо всех — черным ветром он мчался над Эндорэ, горькая безнадеждная радость переполняла его — сила — сила всех Девяти, сила всего мира, сила Арты: впервые он ощущал ее — так, и он был этой силой, он летел вперед, не зная, зачем — спасти хоть кого-нибудь или погибнуть вместе со всеми — все равно — там земля моя, Нуменорэ, Эленна-норэо — земля моя родная, — с беспомощной, почти болезненной изумленной нежностью повторял он, словно впервые осознав это, земля моя, — он летел, и море колыхалось внизу — ласковое теплое море, прозрачное, золотисто-зеленое, живой драгоценный камень…
— когда внезапно наступило безмолвие, и недвижный воздух ударил в грудь, словно встала из моря каменная незримая стена, и гигантская рука оборвала безумный полет, стиснула, скрутила, смяла человека как бумажную куклу и с размаху швырнула его во вскипевшие внизу пенные волны….
…и волна выбросила его на берег, и схлынула, оставив у кромки прибоя недвижное тело, и накатила опять, и снова схлынула… Лицо его облепил песок, песок хрустел на зубах — он застонал, закашлялся, давясь соленой водой пополам с кровью, с трудом приподнялся, не ощущая своего тела, не ощущая ничего — он стоял на коленях, раскинув руки, запрокинув мертвое лицо к мертвому сияющему небу, ловя сухими губами соленый густой воздух, и не было ничего — только песок, и равнодушно набегающие на берег волны, и равнодушное жгучее солнце в ровной празднично-яркой лазури — не стало мира, не стало времени, и прошли минуты, или часы, или годы — а потом он снова рухнул ничком, ткнувшись лицом в песок, зарываясь в него сведенными судорогой пальцами, и песок впитывал жгущие бессильные слезы его, как морскую воду…
Так они и нашли его — лежащим у кромки прибоя. И только двое, Эрион и Еретик, решились подойти — не сразу, медленно, словно бы нерешительно, и Элвир стоял в стороне, кусая губы, смотрел с беспомощным ужасом, но не смел — не мог, не должен был — приблизиться. Двое подняли его — он повиновался, но руки его легли им на плечи мертвой тяжестью, и голова бессильно упала на грудь — они вели его, как пьяного, а он не понимал, что с ним делают, не знал, как довезли его до черного замка, не помнил, как привели его в башню, кто уложил его — не помнил ничего, так и лежал в изорванной, заскорузлой от крови и морской соли одежде, и больше никто не мог коснуться его — лежал, вытянувшись, глядя куда-то вверх пустыми глазами в безмолвии, в неподвижности — как мертвец, приготовленный к погребению.
Через несколько дней Хэлкар снова исчез. Но те, что отправились следом, уже знали, где его искать.
Он сидел на берегу у кромки прибоя, застыв в безжизненной неподвижности, и все смотрел в море, вглядываясь до рези в глазах, смотрел, смотрел…
Его увели.
Он вернулся снова.
И снова.
И снова.
Словно надеялся, что хоть что-то вернет ему море — прощальным даром Нуменорэ.
Никто не пытался отговаривать его — даже и просто заговорить с ним никто не решался. Больше не было ничего — ни чувств, ни мыслей, ни даже боли. Пустота. И пустыми глазами мертвеца он смотрел и смотрел на лениво колышущиеся волны: только эта единственная навязчивая мысль гнала его на берег — может быть, хоть что-то…
И он возвращался.
Снова и снова.
И снова…
Пусть кто угодно говорит, что я ненавидел Нуменорэ, что я предатель, что воевал против своего народа, что мстил за позор и забвение — мне все равно. Уже все равно. Пусть говорят.
Это неправда.
Неправда.
Послушай… пожалуйста, послушай…
Я любил Нуменорэ.
Ирисная низина
(2 год III Эпохи)
Нинглор — золотые слезы. Нинглор — золотые цветы ирисов. Яркие, как солнце летнего полдня — но радости нет в долине Сир Нинглор, в Ирисных Низинах по берегам реки Золотых Слез.
Дети не приходят собирать золотые цветы — бывает так, что отсюда не возвращаются, и не узнать, что стало с пропавшими — молчат холодные воды Сир Нинглор, болотистые берега не хранят следов. Затянула ли топь, выпила ли жизнь ледяная река, духи ли зачаровали колдовской пляской, заманили в горы, или убили пещерные твари — не знает никто.
И верят люди: золотые ирисы — это души тех, кто не вернулся с берегов Сир Нинглор. За века — сколько было их? Золотым ковром раскинулись по обе стороны речного потока поля ирисов, и красноватые острые листья их похожи на плохо отмытые от крови клинки.
Нинглор — золотые слезы. Нинглор — золотые цветы ирисов. Бедны здешние земли, бедны и люди, живущие в них, но не найдется смельчаков, что согласились бы вымывать золотые крупицы из белых песков Сир Нинглор: река стережет свои сокровища. Люди говорят — проклято золото Сир Нинглор, и на отливающих красным комочках его — стылая кровь.
И еще говорят — ночами нет места страшнее, чем Ирисные Низины. В Лоэг Нинглорон бродят в безлунные ночи призраки с бескровными лицами и горящими глазами и пьют кровь тех, кто смеет прийти сюда. Горе одинокому путнику, если ночь застигнет его в Ирисных Низинах…
Быть может, все это лишь поверья темных, неграмотных людей, сказки, смешные для сынов Нуменорэ. Кого бояться двум сотням лучших рыцарей нового короля Арнора? Никто не согласился бы сопровождать их через Лоэг Нинглорон — но им и не нужен был проводник.
Позади — победа, впереди — слава; Враг повержен, воинство его — сухие листья на ветру…
Им нечего было бояться.
На исходе был тридцатый день похода. Через несколько дней новый верховный король Верных вступит в свои северные владения. Они разбили лагерь неподалеку от того места, где Сир Нинглор впадает в Великую Реку. Недавний дождь размыл берега; переправу придется искать выше по течению Андуина. Но это будет завтра. На сегодня переход закончен, и солдаты разводят костры. Сухого дерева здесь не найти, и порывистый ветер Йаванниэ скорее мешает, чем помогает раздувать пламя.
Однако день выдался на удивление теплым; лес вдалеке похож на золотые низкие облака, а закатное солнце первого месяца йавиэ, тонущее в золотом и алом, приятно согревает усталое тело.
Дозорных Исилдур решил не выставлять: местность открытая, и, хотя от владений Трандуила их отделяло около тридцати лар — четыре перехода, да примерно в стольких же лар позади оставался благословенный Лориэн — что может случиться здесь, в эльфийских владениях, с королем Верных и его свитой?
Солнце медленно опускалось в наливавшиеся багрянцем облака. Недобрый знак.
Тревожное ощущение, не оставлявшее Элендура с рассвета, усилилось; один из немногих, он так и не снял с пояса меч. За годы, проведеные при дворе Элендила в Арноре, он привык думать, что поверья людей всегда имеют под собой какую-то основу, потому не был склонен с такой беспечностью, как отец, воспринимать слова тех, кто называл Лоэг Нинглорон злой землей. Ну, положим, в призраков и мертвецов, пьющих кровь, он не верил, однако Хитаэглир неподалеку, а у гор этих недобрая слава. И еще — здесь было тихо. Неестественно тихо. Словно невидимые холодные щупальца тянулись от болотистых островков, поросших чахлым кустарником и прозрачно-тонкими деревцами, в которых едва теплилась жизнь. Было бы лучше разбить лагерь выше по течению Андуина. Воспитанник Элендила никогда не был трусом, но здесь ему против воли стало не по себе. И он почти не удивился, услышав хриплый вой, доносившийся с восточной стороны, из поросшей редким леском низины.
Встретившийся им два дня назад человек из небольшого селения на западной границе Леса сказал: отсюда не возвращаются. Исилдур тогда посмеялся над глупыми предрассудками Низших. Пожалуй, и сейчас он не слишком-то обеспокоился: на открытой местности Орки — воины скверные, им бы горы да лес, и превосходство в числе им не сильно поможет. Надеялся еще и на то, что вскоре эти твари поймут — добыча им не по зубам; повадки их известны. И на первых порах его чаянья оправдались: после короткой стычки Орки откатились назад, встретив на своем пути стену щитов, из-за которой Нуменорцы наносили короткие точные удары; сами люди были недосягаемы, стрелы оказались бессильны против их щитов и брони… Стрелы?
Элендур быстро наклонился, поднял с земли стрелу с серым оперением и тускло поблескивающим наконечником. Лук и стрелы — оружие Эльфов и Людей. Орки почти не пользуются ими — да и стрела эта не производила впечатления орочьей. С чего бы люди стали нападать на отряд? Эльфийские стрелы длиннее и легче, оперение у них, как правило, зеленое, у стрел лесных людей — коричнево-бурое…
— Они отступают!
— Не по ним, видно, добыча, — усмехнулся Исилдур, но тут же помрачнел. — Видно, вражье Кольцо их манит. Сам сдох, а недобитки остались.
Задумался. Окликнул стоявшего неподалеку воина:
— Эй, — по всему видно, забыл имя, — охтар!
Солдат почтительно склонился перед ним. То ли, как говорили потом, предвиденье посетило нового короля, то ли просто неспокойно было ему, но он вручил солдату обломки меча Элендила в черных ножнах. Солдат преклонил колена.
— Это ныне я поручаю тебе, — торжественно проговорил Исилдур. — Любой ценой — даже ценою того, что тебя обвият в предательстве — ты должен спасти его. Делай, что хочешь, но это не должно попасть во вражьи руки. Возьми с собой кого-нибудь и иди. Таково мое повеление.
Он величественным жестом отпустил посланников и снова повернулся в сторону леса.
Нет, это не была бродячая орочья банда: те отступили бы. Эти — нет. Казалось, чья-то неумолимая воля гонит их в бой, заставляя забывать даже страх смерти. Но ведь не было уже того, кто мог послать их… или прав был Элронд, и Кольцо Врага — не просто игрушка, дарующая невидимость, и зов Кольца манит злых тварей? Исилдур не слишком верил в это, но и другого объяснения найти не мог. Стена щитов — тангаил — сомкнулась в кольцо. Исилдур все еще рассчитывал продержаться до рассвета, памятуя о том, что Орки боятся солнца. Он заставлял себя надеяться, что копья и мечи удержат вражьих тварей на почтительном расстоянии; здесь и стрелы не помогут, это тебе не зверьё лесное…
Позади кто-то коротко вскрикнул. Исилдур не обернулся, стараясь в темноте разглядеть передвижение врагов.
Аратан и Эстэлмо оттащили раненого к костру.
— Брат, — позвал Аратан, — посмотри; что это?
Элендур склонился над солдатом, с изумлением разглядывая необычайно короткую и тяжелую, почти без древка, стрелу, буквально приколовшую щит к руке. Вторая такая же стрела глубоко засела в горле: видно, воин дернулся, почувствовав боль, и на мгновение открылся.
— Не могу себе представить оружие, из которого можно выпустить такую стрелу, — глухо сказал Аратан.
— Что же, значит… значит, это — демоны против нас? — Эстэлмо посмотрел растерянно и, хоть пытался сдержаться, губы его жалко дрогнули.
— Не отчаивайся, — ободряюще улыбнулся юноше Элендур, — может, все же продержимся.
Сам он на это уже не надеялся.
В ближнем бою Орки выбрали новую тактику. Теперь они скопом бросались на щитовиков и, живые ли, мертвые, но тяжестью своих тел валили нуменорцев на землю и добивали, не давая подняться. Так был убит Кирион, а Аратан смертельно ранен — его, умирающего, сумели отбить и втащить в круг.
Исилдур подошел к Элендуру, склонившемуся над братом, и остановился в тяжелом молчании. Элендур поднял голову:
— Ну что же, — в глуховатом голосе прозвучала горечь насмешки, — непобедимый великий король Верных не может справиться с жалким отребьем? Где же та сила, которой ты похвалялся — властью которой ты проклял целый народ?
В глазах Исилдура вспыхнул гнев — но тут же угас. Он ссутулился, глядя на распростертое на земле окровавленное тело Аратана, внезапно ощутив всю горечь этой потери.
— Эта сила… — медленно начал он, но остановился, пытаясь справиться с чувством горькой вины. На мгновение в глазах Элендура промелькнуло сострадание — только на мгновение.
— Ну, так что? — резко спросил он.
— Я не могу подчинить это своей воле, — устало отозвался Исилдур. — Я… я слишком слаб.
Моя гордость… побеждена. Я не могу даже надеть его: мне кажется, оно снова будет жечь меня.
Я должен был отдать его хранителям Трех…
Таким Элендур еще никогда не видел отца. Больше не торжествующий победитель, не останавливавшийся ни перед чем — будь то удар в спину врагу (Кирдан рассказывал об этом скупо, отрывисто, словно само воспоминание причиняло ему боль) или казнь менестреля на поминальном пиру. Отец, потерявший сыновей — враз постаревший, осунувшийся и беспомощный. И ведь сам со своей глупой самонадеянностью привел их сюда — на смерть… но, может, хоть старшего сына еще можно спасти!
— Сэнъя…
Непривычно мягкие нотки в голосе Исилдура заставили Элендура удивленно приподнять брови. Никогда еще не видел он в глазах Короля Верных такого отчаянья, такой мольбы — сердце дрогнуло от внезапной жалости, Элендур, шагнув к отцу, положил руку ему на плечо. И отвел глаза, прочитав во взгляде отца жгучую благодарность — пусть не за любовь сына, но хоть за сочувствие.
— Сэнъя, — хрипло повторил Исилдур, — послушай, мы еще можем спастись. Всем не уйти, но мы двое…
Элендур отшатнулся; он ждал другого. Лицо его застыло, голос прозвучал резко и недобро:
— Не играй в благородство хотя бы сейчас. У тебя это скверно выходит. Спастись может только один, и ты, верно, уже решил — кто. Ну так беги. Спасай свою шкуру… король. Тебе не привыкать. Я не стану платить за свое спасение чужой кровью.
Исилдур поднял руку, засалоняясь, словно от удара, от жестоких слов сына. Элендур стиснул зубы, заставляя умолкнуть невольную жалость.
— Сэнъя, это ведь простые воины, а ты…
— Королевский сын, хочешь сказать? Это люди. И я ничем не лучше их. Я не предатель. Лучше разделить судьбу братьев, чем быть предателем и трусом.
— Благодарю, королевич, — оскалился Исилдур, — без твоего позволения я не мог уйти.
Воистину, в тебе благородная кровь; я и не ждал от тебя иного решения!
Он никак не мог подавить бьющую его дрожь — не умел справляться с болью, с безнадежным отчаяньем, эти чувства всегда вызывали в нем ярость; он не понимал, что говорит — да это уже и не было важно: сын оттолкнул его, как когда-то оттолкнул отец, не захотел понять — что ж, тем хуже, он действительно не собирается подыхать здесь! Белый гнев застил ему глаза, и словно издалека доносились жестокие слова сына:
— Выслушай, король, что хочет сказать тебе последний твой советник. Ты, отрекшийся от родства с сестрой отца твоего лишь потому, что ее избранником стал человек с более смуглой, чем у тебя, кожей — ныне я отрекаюсь от родства с тобой и говорю: ты не отец мне! Ты, блюститель чистоты крови, узнай хотя бы сейчас — чистая кровь еще не означает чести, мужества и благородства. Ты, предавший своего брата в час опасности, кровью утверждавший свою власть — знай: лишь Элендил достоин был зваться королем Верных, да и был истинным королем во все дни жизни своей; ему давал я клятву верности, и не изменю ей, пока я жив. Ты не король для меня! Беги же, если сумеешь. Здесь нет работы для палача. Здесь умирают воины.
И еще я скажу тебе: недолго будешь ты носить этот венец. Ты заплатишь за кровь, пролитую по твоей вине. Так будет.
Исилдур скрипнул зубами и шагнул в темноту, нашаривая на груди тяжелый медальон на тонкой золотой цепочке — но обернулся, словно надеялся еще, что сын остановит его. Элендур на мгновение прикрыл глаза; голос его прозвучал жестко и насмешливо: — Не бойся. Я воспитанник Элендила, не твой. Я не умею бить в спину.
…Он не смотрел вслед Исилдуру — напряжено вглядывался в темноту, пытаясь понять, не подбираются ли снова Орки.
Страха не было. Может быть, страх живет, пока есть надежда — а надеяться больше было не на что. И некогда размышлять о том, что ждет за гранью: станешь ли странником Неведомых Путей — или, как говорят предания лесных людей, еще одним золотым цветком в Лоэг Нинглорон. Была горечь — почти раскаянье: впервые в жизни он так жестоко говорил с человеком. Пусть все это и было правдой — но «справедливость без милосердия»…
Темные тени медленно приближались.
Тяжело биться почти вслепую — и, как на грех, небо затянули низкие облака… Если бы хоть капля света…
Огонь!
Элендур внутренне выругался: как же не догадался сразу! Орки боятся огня. Отступил к костру, выхватил тлеющую ветку:
— Гоните их огнем!..
Вспыхнувшая было гневная радость схлынула сразу, как только понял, чего стоил этот шаг назад. Эстэлмо, его оруженосец, с глухим стоном осел на землю. Стиснув зубы, Элендур ткнул факелом в перекошенную морду Орка — тот взвыл, пытаясь защитить голову вскинул руки — и нуменорец с силой ударил его клинком в грудь. Словно из-под земли выросла еще одна темная фигура — Элендур взмахнул факелом…
Это был не Орк.
Бледное лицо — без выражения, без возраста. Немигающие жуткие глаза. Тусклый металл кольчуги, темная одежда, темный плащ.
Мертвый, ничего не выражающий взгляд в лицо — завораживающий, как взгляд змеи.
Элендур растерялся всего на миг.
…И последнее, что он ощутил — цепкие, мягкие, словно бескостные пальцы, ощупывающие его тело.
…Наделенному Силой нет дела до боя. Он должен найти. Это должно быть на груди у одного из предводителей. Надо найти. Наставник будет доволен. Великие Безымянные наградят его. Он поймет. В этом — Сила. Так сказал Безликий. Доверил ему. Он найдет.
Хороший воин. Здоровый, сильный. Жаль. Мог бы стать одним из высшего круга Воинов.
Воинов мало. А Орки глупы и трусливы. Этот — смелый. Был. Жаль. Хорошая кровь. Круг не любит проливать кровь: Безымянные милосердны. Но эти не понимают мудрости Наставника, значит — враги. Не хотят служить — должны умереть. Это справедливо.
Было — четверо. Здесь — трое. Мертвы. Этого у них нет. Найти четвертого. Не мог уйти далеко.
Лизнул липкие от крови пальцы.
Соленая, густая. Горячая. Много силы. Говорят, Безымянные пьют кровь и оттого бессмертны. Когда-нибудь он попробует. Не теперь. Надо спешить. Найти след.
…Он бежал, задыхаясь, как загнанный зверь, не разбирая дороги. Уже стих за спиной орочий вой и звуки боя, а он все не мог остановиться, только иногда затравленно оглядывался через плечо — нет ли погони. Доспех был слишком тяжел, но остановиться, чтобы снять его, Исилдур не мог. Здесь, на равнине, не было даже редколесья, как у лагеря Нуменорцев — а ему хотелось забиться куда-нибудь, спрятаться; хоть он и уговаривал себя, что — невидим, от страха это не спасало.
Наконец он повернул на запад, к Андуину. Если перебраться на тот берег — это спасение.
Даже если его будут преследовать, река собьет со следа; тут и орочье чутье не поможет. Он поспешно освободился от доспеха, отшвырнул меч и вошел в воду.
Вода оказалась неожиданно холодной — у него перехватило дыхание. Он надеялся на свои силы — но через несколько минут понял, что переоценил себя; быстрое течение сносило его к югу, нежданная усталость сковала тело, от пронзительного холода сводило ноги — он безуспешно боролся с судорогой. Глупо было бы погибнуть сейчас, когда спасение так близко…
Нет, он, конечно, выкарабкается — нужно только немного передохнуть.
Он перестал бороться с течением и отдался на волю ледяного потока, вертевшего его, как сухой листок, попавший в водоворот. Наконец, решив, что достаточно собрался с силами, он поплыл к западному берегу. Его принесло туда, где Сир Нинглор впадает в Великую Реку — он не знал этого, да ему, пожалуй, уже было все равно — только бы добраться до твердой земли…
Его охватил ужас. Только сейчас он почувствовал, как чудовищно одинок — жалкая песчинка в бескрайних просторах Эндорэ. Равнодушная река и равнодушное небо — никому и ничему нет дела до злосчастного измученного человека. Он вершил волю Валар — а Валар не помнят и не знают о нем… Один, один… Да полно, есть ли они — бессмертные боги в Благословенной земле? — есть ли и сама эта земля?.. Может, нет вообще никого и ничего, кроме него — продрогшего слабеющего человека, захлебывающегося в мутной холодной воде?..
Он не заметил, когда Кольцо, которое так и не смог надеть, как должно — оно не шло дальше второго сустава безымянного пальца — соскользнуло с его руки. И это тоже было неважно: главное — добраться до берега, ведь вот же он — так близко, близко, рукой подать…
Он выполз из воды на болотистый берег — оскальзываясь, цепляясь за пучки жестких листьев, не чувствуя, что его пальцы кровоточат от множества неглубоких длинных порезов.
Онемевшее усталое тело было уже неспособно ощущать боль. Но он был спасен. Спасен. Эта мысль не рождала радости — отстраненное ощущение облегчения, не более. Он был слишком измучен, чтобы думать о чем-либо, кроме сна. Добраться до твердой земли и лечь, лечь… Он не думал ни о тех, кто остался позади, ни о последних словах сына, ни о потере Кольца — только об отдыхе.
Пошатываясь, он поднялся в рост.
Со стороны — чудовищная нелепость: дрожащая вымокшая фигура, одежда разодрана о камни, в жидкой грязи — и сверкающая звезда Элендилмира. Но ему было уже все равно. Об этом он тоже не думал — не было сил.
Он медленно побрел вперед. Нога зацепилась за тонкий прочный корень, и человек чуть было не упал, бессвязно хрипло выругавшись. Чавкала под ногами размытая дождем болотистая почва — больше ни один звук не нарушал тишину Лоэг Нинглорон.
За ним уже давно следило несколько пар глаз. Дважды низко пропела тетива — и без звука, нелепо взмахнув руками, человек рухнул ничком, ткнувшись в жидкую грязь.
…Он шел по следу легко и уверенно, остановившись лишь раз — на исходе второго часа, когда наткнулся на сброшенный доспех Исилдура. Осмотрелся, прислушался к чему-то внутри себя и решительно повернул на восток.
— …Мы не прикасались к нему, господин.
Он коротко кивнул. Хорошо. Это хорошо. Его сильные руки перевернули коченеющее тело, чуткие пальцы зашарили по намокшей окровавленной одежде: две коротких тяжелых стрелы торчали в горле и слева в груди, при падени человек еще глубже загнал их в тело.
Вот оно.
Длинные пальцы Наделенного Силой наткнулись на небольшой тяжелый медальон. Он нашел то, о чем говорил Безликий. Его наполнило чувство удовлетворения. Падаль пусть гниет здесь; но еще одну вещь он возьмет.
Краем плаща Наделенный Силой вытер светлый камень. В разрыве тяжелых облаков показалось бледное размытое пятно луны, и Элендилмир вспыхнул под его пальцами. Да. Здесь тоже сила. Чужая и древняя сила. Безликий будет доволен. В путь.
Он сделал знак Оркам следовать за ним. Надо спешить. Надо успеть до рассвета.
— …Я принес, Великий.
Пальцы Безликого скользнули по медальону. Задержались на мгновение, ощутив неприметную глазу царапину на золоте — там, где по нему скользнул тусклый наконечник стрелы.
Кольцо было там. Было. А теперь?
Чуть более торопливо, чем следовало, он открыл медальон. Словно не веря себе, ощупал его внутри. Разочарование было отвратительным кисло-горьким на вкус.
— Где Кольцо?
Серая фигура склонилась в поклоне — к почтению примешивается изрядная доля страха:
— Великий… я не знаю… Я принес то, что нашел, ничего не утаил, клянусь!
Он не сомневался в том, что это правда — вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову скрывать что-то от Безликого, по их представлениям он — всевидящий. И они недалеки от истины. Но проверить стоило…
— Подойди. Ближе.
Последние несколько шагов Наделенный Силой прополз на коленях — словно серый поджарый пес, виновато виляющий хвостом, не ведающий, чем мог прогневить хозяина.
— Смотри на меня.
Недолгое молчание.
— Вижу, ты говоришь правду. Что ж, я доволен тобой. Ты заслужил награду. Величайшую награду, какую только может получить человек. Ты узришь Наставника и будешь пребывать с Ним во веки веков, и в Белом Граде обретешь покой… вечный покой…
Тонкие белые пальцы ласково гладят виски, и покой наполняет все тело… Темные глаза с восторгом смотрят в скрытое маской лицо, туманятся слезами преданности и благодарности.
— Ни тревог, ни забот, ни страстей — покой, вечный покой…
Глаза человека закрылись, он мягко соскользнул вниз по невысоким ступеням.
Бессмертный некоторое время сидел неподвижно — со стороны казалось, что он задумчиво смотрит на распростертое у его ног тело — потом негромко хлопнул в ладоши:
— Возьмите тело его. Несите его бережно; великого счастья удостоился он, и ныне узрит лик Наставника, пребывающего в вечном и неизменном Покое. Радуйтесь же и возносите хвалу Наставнику в сердцах ваших. И помните — мало желать благой участи, но должно вершить волю Наставника, дабы в урочный час принял Он ваши души. Да будут помыслы ваши чисты, подобно кристаллу, ибо Ему открыты святая святых сердец ваших. Благо будет боящимся Его, которые благоговеют пред лицем его; а нечестивому не будет покоя, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Ним; ибо род приходит, и род уходит, и лишь Он пребывает вовеки. Радуйтесь же, избранники Его, дети мои, и стремитесь деяниями вашими приблизить час возвращения Его…
Истари. Начало
(998-1000 годы III Эпохи)
…Тих и печален небольшой круглый зал, и мерцают в недоступной высоте под сводами прохладные звезды, и едва различимы лица тех, что лежат на простых ложах в смертном покое вечного сна…
Тот, что поднялся с ложа, пошатнувшись, прислоняется к стене — ноги не держат. Перед глазами все плывет — а может, дело в колдовском тумане, колышущемся в покое, отчего все вокруг — и ложа, и тела, распростертые на них, и самые стены зала — кажется призрачным. Держась за стену, он бредет куда-то сквозь неживое колыхание.
Он.
Кто — он?
Что-то замерцало в памяти — как неясный огонек в волнах тумана. Замерцало — и угасло. Он идет и идет по бесконечным коридорам и залам, бессмысленно вглядываясь в скользящие мимо него, сквозь него бесплотные фигуры.
Сотворенный вглядывается в сумрачную фигуру под аркой, облаченную в одеяния, черными показавшиеся после белесоватой прозрачности тумана — нет, фиолетовые и пурпурные, и цвета запекшейся крови.
— Кто ты? — беззвучным криком.
Первый шаг — как шаг ребенка к отцу, и тянутся руки — то ли обнять, то ли соприкоснуться — ладонь-к-ладони…
И — встречают густой туман. Туман, который можно ощутить, но нельзя обнять: рвется под живыми ладонями.
Губы шепчут слово, которое невозможно произнести — ты не знаешь, как оно звучит. Майя бросается вперед — но фигура уже меняется, тает, плывут клочья тумана, складываются в смутные призрачные образы, в которых нет ни смысла, ни сути… Он останавливается на мгновение — снова все поплыло, закачалось перед глазами, мертво колыхнулись в беззвучии туманные полотнища гобеленов, — и бредет дальше, как в бесконечном сне-пробуждении, пытаясь проснуться, вырваться из пелены не-яви на грани жизни и бесконечной смерти, с одной мыслью — выйти из безвременья этого туманного лабиринта.
Он не знает, что там, вне Чертогов. Не знает даже, существует ли это «вне». Но он должен выйти. Должен.
Он идет…
* * *
После вечного сумрака Чертогов свет, льющийся с небес, показался ему нестерпимым, приторно-ярким. Все, что видел вокруг, было ему знакомо — он узнавал все, всему находил имена. Кроме себя самого. Он пошел вперед без особой цели — просто чтобы хоть что-то делать, а может, думал, что это пробудит память. Но внутри была по-прежнему гулкая болезненная пустота.
Здесь не было никого — живые не любят приближаться к Чертогам Мертвых. И он пошел — не зная и не помня, куда.
…А озеро почему-то отражало звезды. Звезды, которые увидеть можно было только на побережье Валинора. Вечерние, полуночные, предутренние… всегда — звезды. Он не знал, почему ноги принесли его сюда — в сады Лориэна, пришло имя. Сел на берегу, обхватив колени руками, глядя в звездное черное зеркало воды. Зачем он здесь? Откуда знает — это место, вот именно этот берег, темнолистные деревья с серебряно-гладкой корой? Откуда эта тоска — словно потерял еще не найденное…
Он не заметил туманной фигуры — приглушенно, темным золотом, черненым серебром отливают складки свободного облачения, темно-пепельная волна волос, очерк узкого лица едва намечен в туманной изменчивости, и только глаза вдруг взглянули ясно — агатово-серые, огромные, миндалевидные…
Легкий вздох, колыхнулись одежды — рука неощутимо провела по волосам Сотворенного — и нет ничего, только тает туман над озером…
* * *
…Он не знает, есть ли ему место в земле Валинора. Ему некуда идти, и он возвращается в Чертоги.
Чертоги изменились: нависли над головой тяжелые мрачные своды, туман течет в русле сочащихся влагой стен, сложенных из грубо обработанного темного камня. Снова — бесплотное колыхание, и призрачные фигуры в бесконечном одиночестве посмертия скользят — сквозь него, друг сквозь друга, и все ищут кого-то слепыми от без-временной тоски глазами, протягивают друг другу руки, которым не дано соприкоснуться, и плачут, и молят, и шепчут, шепчут, шепчут, и ловят призрачными пальцами мерцающие огоньки — холодные искры воспоминаний…
Под низкой мрачной аркой впереди — неясная темная фигура; майя останавливается, не дойдя нескольких шагов
— Не уходи… ответь, кто ты? Кто я? Кто — мы?..
…Я — сотворивший тебя, ты — сотворенный мною… — гулко отозвалось внутри: отзвук колокола, медь и черная бронза.
— Я знал тебя… знаю — давно… Скажи, кем я был — что во мне?
…ты — часть меня, потому тебе кажется, что ты помнишь давнее. Это не так. Ты есть только сейчас.
— Но я ведь — помню… — майя растерян. — Я был…
…ты сотворен мною. В тебе нет ничего, кроме того, что дал тебе я. Твоя память — отражение, отзвук, эхо моих мыслей…
— Нет же! Я помню! Скажи мне, почему…
Довольно, — гулко ударил колокол. — Молчи. Нет ничего, кроме сейчас. Видение. Наваждение. Ничего иного не было. Нет. Забудь.
Дрожит воздух — словно оборвалась медная струна. И вдруг:
Уходи, — шелестит бесцветно, как высохшие крылья мертвой бабочки; и снова, с мучительной настойчивостью, — Да уходи же!..
Но Сотворенный не уходит — стоит неподвижно, не опуская взгляда, и туман, похожий на разведенное до опаловой прозрачности молоко, медленно течет вокруг него, Темная фигура беззвучно отступает, скользит прочь по коридорам, не рождающим эха, в никуда — и призрачные тени отступают с пути Владыки Мертвых Намо Мандоса. Майя так и не сумел заглянуть ему в глаза.
* * *
…Башней Теней зовут ее, и Одинокой башней, ибо никто не живет в обители Той-что-в-Тени, кроме нее самой. И призрачной дымкой окутаны тонкие серебряные ветви плакучих ив над бесшумной туманной рекой, и шепчут что-то печальные травы…
Почему-то ему показалось, что там он может найти ответ. До обманчиво близкой туманной башни идти пришлось долго — но вот он почти у ее подножия, и зыбкие тени, блики и медленное течение туманной реки складываются в мерцающую тонкую фигуру.
— Кто я, Высокая?
Она молчала — в вечерних глубоких тенях растворялся облик; майя рванулся к ней, хотел схватить за руку, но тенью, колышущимся сумраком, туманным призраком она ускользала от него. И тогда отчаянно, всем своим существом он вскрикнул:
— Кто я?!
— Ты… тот, что уходил… — странно прошелестел голос Той-что-в-Тени.
Скорбные огромные глаза смотрели в глубины его души, недоступные ему самому:
— Тот… что уйдет… далеко… далеко….
Тенью в тень, только взгляд, и мерцают искрами отголоски:
…далеко…
— Постой… подожди, Высокая!.. — майя беспомощно уронил руки. — Куда же мне идти… — прошептал потерянно.
Постоял немного, еще надеясь, что эхо и туман ответят, а потом, развернувшись, медленно пошел. Куда? Не все ли равно. Вперед. Далеко…
* * *
…Он бродил по лесу без особой цели — просто затем, чтобы хоть чем-то занять себя, заполнить гулкую пустоту внутри.
Всадник на золотисто-рыжем коне подъехал к майя — тот не сразу заметил его.
— Эй… ты кто?
— Я? — майя поднял на всадника глаза. — Я… не знаю.
— Как так? — удивился всадник, спешиваясь. Был он широк в плечах, кожа его была золотисто-смуглой, золотом отливали темно-русые волосы, и золотистые искорки плясали в карих глазах. — Ты же из Западных Чертогов, сразу видно… Я Алатар, из майяр Великого Охотника.
Пригляделся; на его подвижном лице выразилась озадаченность:
— Странно… я всех здесь знаю — а тебя не видел никогда… Вообще, конечно, в Западных чертогах я не был…
— Я знаю, — после долгого молчания заговорил странный майя, сплетая и расплетая нервные пальцы, — что я — майя Намо. Что я — Сотворенный.
На Алатара он больше не смотрел — даже глаз не поднимал.
— Он что, не нарек тебя? — удивился Алатар.
— Нет.
— И ты совсем ничего о себе не знаешь? Не помнишь? — допытывался Алатар. Здесь была какая-то тайна, а тайны он любил совершенно по-детски: не так уж много их было в Валиноре, а этот вот сам пришел, это ж удача какая!
— Та-что-в-Тени сказала — ты тот, что уходил, ты — тот, что уйдет далеко.
— Ха! — возликовал Алатар. — Вот тебе и имя — Палландо! Нравится?
— Нравится, — неуверенно откликнулся странный майя. — Только… кажется, меня все-таки по-другому звали.
— Ну… — немного смутился Алатар, — не могу же я никак тебя не называть, верно?
— Пусть будет — Палландо, — согласился майя.
* * *
…Серебристая переливчатая мелодия, звонкие струны ветра… Палландо пошел на звук. Мальчишка-элда, и странная вещь в его руках — серебряные трубочки, как полые стебли, переплетенные между собой…
Мальчик перестал играть, увидев внезапно возникшую перед ним странную фигуру в густо-фиолетовых — слуга Намо Мандоса, — одеждах.
— Что это? — срывающимся глухим голосом спросил майя.
— Это я сам придумал, — с некоторой робостью ответил маленький элда. — Для Владыки Вод…
— Нет, — болезненно поморщился майя, — эта… вещь. Что это?
— Симпа, — удивленно ответил мальчик, — ты не знаешь разве?
— Симпа, — повторил майя; резким жестом отбросил назад непокорную прядь волос, потер висок, словно в усилии что-то вспомнить: — Нет, не то… не то… симпа… нет…
— …Давай думать вместе. Да? Вот смотри: новых Сотворенных нет со времен последней Великой Войны…
— Что?
— Ты что, и о Великой Войне не знаешь? — поразился Алатар. — Не может быть того! Я подумал было, что ты из тех, кто был там убит. Говорят, после Чертогов память не сразу возвращается… но чтобы все забыть!..
— Не знаю… Дагор — знакомое слово. Не знаю.
— Я, понимаешь, тоже позже других сотворен, — говорил между тем Алатар. — Говорят, один из майяр Великого Охотника к Врагу ушел — тогда Ороме меня и создал…
…Тих и печален небольшой зал, и мерцают в недоступной высоте под сводами прохладные звезды, и едва различимы лица тех, что лежат на простых ложах в смертном покое вечного сна…
Один из лежащих походит на Алатара — как старший брат на младшего; пробудившийся видит его лицо смутно — лицо это кажется ему очень спокойным, красивым и печальным, глаза закрыты; он в чем-то светлом, одежда распахнута на груди, и стынут там непонятные, влажно поблескивающие черные пятна…
— А кто он такой — Враг? — спросил Палландо; голос у него был странный, он словно бы пробовал новое слово на вкус.
— А! — беспечно махнул рукой Алатар. — Его уже и нет давно — изгнали его из мира после Великой Войны. Говорят, он хотел весь мир себе забрать и стать вместо Короля Сулимо. С самим Изначальным Отцом, говорят, посмел спорить. Когда Элдар пришли, была первая война — Война Могуществ; и Врага судили, и сковали цепью Ангайнор, и заточили в Западных Чертогах на три века…
Он осекся, осознав, что уже несколько мгновений Палландо смотрит на него. В первый раз у Алатара получилось разглядеть глаза странного майя — синие в черноту они были, а может, фиолетовые, как ночной сумрак. Алатар видел ночь на берегах Тол-Эрэссеа. Как ночь у него были глаза, у этого майя. Только ни одной звезды не горело в этой ночи.
— В Западных чертогах? — медленно переспросил Палландо.
— Да. Сам Владыка Судеб и заточил. В… как это?… в подземелье.
— Но в Мандосе нет никаких подземелий, — так же медленно проговорил Палландо. — Там только…
— …Но в Мандосе нет никаких подземелий! Почему же с тобой было так?..
— Чертоги… наши чертоги — часть нас самих, — негромко заговорил Вала. — Чертоги Мертвых не приемлют живого. Они похожи на раковину жемчужницы, в которую попала песчинка: обволакивают… перламутром. Или — слизью. Живое причиняет им боль. Мне кажется иногда, что и души фааэй ранят ткань Чертогов немногим меньше, потому вернувшиеся оттуда и не могут вспомнить своей прошлой жизни — только отголоски, обрывки видений… Мандос — раковина, которая вбирает в себя воспоминания, чтобы расти: чертоги эти сложены из воспоминаний…
* * *
Даже при желании трудно было бы измыслить противоположность большую, чем Алатар и Палландо. Алатар был шумен, весел и ребячлив, Палландо — молчалив и замкнут; Алатар — ладный, широкоплечий, лучащийся каким-то радостным светом, похожий на раскидистое дерево с золотой кроной и стволом, у Палландо черты острые, тонкие руки книжника, черные прямые волосы до плеч — а густо-фиолетовые одежды как-то неловко сидят на нем, будто слишком тяжела ему эта хламида, а может, не по росту.
Алатар за века успел побывать во всех уголках Благословенной земли и знал ее лучше, чем линии на своей собственной ладони. Палландо то ли никогда не покидал Западных Чертогов, то ли все позабыл. Одно роднило их: непокой. Алатар отчаянно скучал в Валимаре. Понимаешь, говорил он, здесь все всегда одно и то же. Я с Элдар люблю разговаривать — с теми, кто пришел из Сирых Земель. Говорят, там все по-другому. Говорят, там земля иногда становится золотой, а иногда — белой, как крылья лебедя…
— Да, — неожиданно заговорил Палландо. — Когда листва опадает с деревьев, вся земля словно огнем охвачена, и деревья стоят, как факелы — золотые, и алые, и червонные, и пурпурные, а небо лазурное, холодное, высокое, чистое, как родниковая вода — кажется, его можно зачерпнуть горстью и пить…
Алатар так и застыл с открытым ртом.
— А потом с неба начинает падать холодный белый пух и ложится на землю. Деревья стоят голые, черные, как будто нарисованные тонкой кистью на белой бумаге, и ветви звенят, если за них заденешь рукой… ночью в небе поднимается диск, словно выточенный из хрупкого льда, ломко-белый и звенящий, как листовое серебро…
— Так ты это видел! Ты все-таки был там! — восторженно воскликнул Алатар. — Я был прав!
Странный майя вздрогнул, зябко поежился, лицо его, еще мгновение назад вдохновенно-мечтательное, как-то потускнело, на нем появилось выражение почти болезненной растерянности:
— Где я был? — совсем другим, глуховатым голосом спросил он.
— В Сирых Землях!
По лицу Палландо прошла короткая судорога.
— Не помню. Ничего не помню.
* * *
…Снова ему грезились Чертоги — призрачное колыхание тумана, и туман этот тянулся к нему, обволакивал, впитывая воспоминания, душу — его «я»… Он лежал на ложе, беспомощный, не в силах пошевелиться, не ощущая своего тела; он был как чаша прозрачного тончайшего хрусталя, и туман тек в него, заполняя его существо призрачным мерцанием — густой, невесомый молочный туман… Ему хотелось крикнуть, вырваться из этих неощутимых объятий — а он не мог даже шевельнуть губами, и туман медленно выпивал, впитывал его — Мандос — раковина, которая вбирает в себя воспоминания…
* * *
В нем не было радостного узнавания пробуждающейся памяти, которое сияло в глазах вновь рожденных — нет, временами какие-то слова, образы, что-то увиденное вызывало короткую болезненную судорогу, искажавшую лицо странного майя. Он не помнил. И только иногда начинал говорить — тогда его лицо озарялось изнутри мерцающим отблеском, смягчались черты, теплели сумрачные глаза, заволакиваясь мечтательной дымкой, и начинало казаться, что было в забытой его жизни что-то удивительное, прекрасное, какое-то трепетное звездное чудо… он мог говорить долго — он умел ткать видения, как и все Сотворенные Сумеречных Властителей, и Алатар завороженно слушал его — а потом темноглазый майя умолкал, лицо его тускнело, глаза тонули в горькой тени, и невозможно было добиться от него продолжения рассказа; казалось, в нем живет кто-то иной, восторженно-юный, как певучая солнечная птица в занавешенной тяжелой тканью клетке — кто-то, кем был майя Палландо, кого сам он не помнил. В нем была бесприютность, горькая неприкаянность, и самому Алатару зачастую становилось неуютно рядом с ним, неловко за свою беспечность и солнечную силу жизни. Годы спустя, вспоминая об этом, он найдет, наконец, подходящее сравнение: так чувствует себя беспричинно виноватым здоровый и сильный человек рядом с калекой или обреченным смерти.
— Вот бы нам как-нибудь отправиться в Эндорэ… — мечтательно говорил Алатар, растянувшись в шелковой душистой траве. — Посмотреть бы на это все! А может, и ты бы там вспомнил, кто ты…
— А разве нельзя? — приподнял бровь Палландо.
Алатар тяжко вздохнул:
— Не. Как потопили Андор, так и стало — сюда Элдар доплывают, а отсюда никто ни-ни. Я, правду сказать, пробовал — знал бы ты, чего стоит у Тэлери выпросить хоть какую лодчонку! я даже Феанаро с его ребятами посочувствовал! Да толку… Кажется, что вперед плывешь, прямо, а возвращаешься туда же. Как веревкой привязали.
Палландо не знал, что такое Андор, и только смутно припоминал Феанаро, но спросил только:
— Почему?
— А кто его знает! — досадливо поморщился Алатар; перевернулся на живот, подпер кулаками подбородок: — Говорят, Единый и Изначальные повелели…
Палландо сорвал стебелек, прикусил зубами рассеянно, глядя куда-то мимо друга. На языке была медвяная сладость.
— Знаешь, — сказал тихо, — а там травы горькие…
* * *
И настал час, когда Манве, волей Единого Король Мира, призвал Изначальных и Сотворенных на великий совет…
Он один знал, о чем пойдет речь на Совете, и шел без колебаний, зная, что все будет по воле его.
Ты унижался перед ними, ты стоял пред ними на коленях, ты молил их — а они не слышали тебя. Смотри же: ныне я буду говорить запретное; за это казнили тебя, меня же — благословят…
И, быть может, после еще пожалеют об этом.
Но это будет — после.
Он спокоен и уверен; он знает — то, что не удалось Учителю, удастся — ему, Курумо. И никто не в силах будет противостоять ему — ибо не дано им, пребывающим в Валиноре, ведать суть Арты — меня же ты научил этому; и не дано им видеть суть за словами, которые произнесу в лицо им. Я вернусь в Арту, и тогда завершится ученичество мое, и не буду более учеником, но Учителем и Наставником для всех живущих в Эндорэ. Я навсегда покидаю Валинор, покидаю Землю Благословенную — никто не нужен мне здесь, нет мне здесь учителей. Но там я обрету силу быть собой, сознание того, что я — есть; там я стану — Единым.
Четырнадцать тронов в Круге, четырнадцать Изначальных на тронах, и сонм Сотворенных в молчании ждет слова Короля Мира.
И бархатный голос Владыки Сулимо, исполненный печали и отеческой заботы, звучит, проникая в душу:
— Ведомо стало Нам, что вновь пробудилось в Сирых Землях зло. Хотя ниспровергнут был Враг Мира, но, как изречено, ложь Мелькора могущественного и проклятого, Моргота Бауглира, Владыки Ужаса и Ненависти, посеянная им в сердцах эльфов и людей, суть семя дурное, кое не умирает, и невозможно уничтожить его; вновь и вновь дает оно ростки, и до последних дней мира будет приносить всходы недобрые…
Молчание повисает в Круге, не смея шелохнуться, ждут Сотворенные…
— Ныне говорю к вам, о Великие: не должно тем, чьи помыслы и заботы лишь о благе Детей Единого, отвращаться от Сирых Земель в час беды. Но таково веление Единого Всеотца: нет Валар места в Арде, а лишь в Земле Аман, ибо мир сей суть обитель Детей Единого — потому более никто из Изначальных не ступит в Сирые Земли…
— Истину изрек Величайший, — шепотный шелк и бархат слов, и голос почти не слышен — будто и не слова произнесенные, а мысли Изначальных; и сам Король Мира не успевает осознать, что случилось небывалое: Сотворенный перебил Изначального…
Или — не перебивал вовсе?
Или — все и так ясно, потому что было уже изречено слово мудрости, внятное любому, идущее от Всеотца, и изрек его — он, Манве Сулимо?
— …и весть благая — слова Его: должно быть посланнику в Сирых Землях, и должно стать ему не царем, но наставником; не первым, но мудрым. Не для того придет он, чтобы стать властителем малых сих, но дабы стать одним из них, и делить с ними тяготы и беды, и быть для них светочем мудрости, милосердия и истины; не вести должно ему, но исподволь направлять деяния Элдар и Атани и помыслы их к той цели, которую предопределил им Творец их…
Тот, кто взглянул бы сейчас на Курумо, заметил бы — не смог не заметить — как при последних словах странное темное пламя вспыхнуло в его глазах.
И — погасло.
— …И должно посланнику Великих не в силе идти, но в мудрости; не сражаться, но вдохновлять; не призывать, но возрождать в душах Элдар и Атани осознание предназначения их, определенного Создателем…
Снова — вспышка ледяного темного пламени из-под ресниц; он делает шаг в сторону — и вот уже пусты белые плиты круга, словно сказанное было словами самих Изначальных. Был — и нет его: воплощение мыслей Великих.
…а эхо и тень ответят лишь когда спросишь их…
— Кто же отправится туда? — вопросил Король Мира. — Ибо могуч должен быть посланник, равным наместнику Моргота, но должно ему отринуть могущество и облачиться в одежды плоти, дабы стать подобным эльфам и людям и завоевать доверие их. Однако же это подвергнет его великой опасности, ибо померкнет мудрость его, и знания его умалятся, и будут смущать дух его страхи, и заботы, и усталость, ведомые существам плотским… Кто из вас, о народ Валар, отважится на это?
И опять, теперь — не таясь, так, чтобы видели все, медленно вышел вперед майя в бело-ало-золотых одеждах:
— Я приму бремя это на плечи свои, о Величайший, дабы свет Истины озарил Сирые земли, дабы воплощение свое обрели замыслы Творца.
И, гася жгучее пламя взгляда, склонился перед Королем Мира.
— Да будет так, — молвил Манве и уже собрался было подняться с престола, чтобы огласить волю Изначальных, когда юный и звонкий голос нарушил благоговейную тишину:
— Я пойду! — шагнул вперед Алатар; глаза его сияли — не о Враге были его мысли, он видел, что это едва ли не единственная для него возможность покинуть пределы Валимара, и упускать ее не собирался.
— Мне радостно видеть рвение твое, — ласково улыбнулся Манве горячности Сотворенного, — Да будет так.
Задумался, вспоминая:
— Но где же Олорин?
Странник в дымчато-серых и серебристых одеждах с темно-пепельными, падающими на плечи волосами пробрался вперед и склонился в глубоком поклоне:
— Какова воля Короля Мира? — с почтением и немалой робостью спросил он.
— Мы желаем, чтобы стал ты, Олорин из Сотворенных Ирмо Лориэна, третьим из тех, кто отправится в Сирые Земли.
Олорин заметно побледнел и впервые отважился поднять халцедоновые, серые с неуловимой голубизной, глаза на царственную чету:
— Не знает границ милость Великих; воистину, и помыслы, таящиеся в глубине души, не укроются от них. Близки моему сердцу Элдар, и печалюсь я о тех из них, что до времени обречены скитаться в Сирых Землях; и об Уманъар, лишенных благословенного света… Но я слишком слаб, Великие — я страшусь мощи Тьмы, и мне не по силам то, о чем говорил… — он запнулся, — Король Мира, то, для чего избраны посланники. Я прошу Светлых Властителей снизойти к моей просьбе и избрать более достойного для сего великого дела.
— Достойный найден. Нам отрадно видеть твое смирение, Олорин, и ведомо нам, что близки твоей душе Старшие Дети, и что скорбишь ты об участи тех из них, кто лишен благодати Света. Ведомый милосердием и состраданием, станешь ты водителем и наставником их; страшась зла, будешь ты тверд в борьбе с ним, и благословение Валар да пребудет с тобой. Да станешь ты — третьим из посланников Великих…
— Но не третьим по силе, — молвила Варда. Изумленный, Олорин поднял глаза…
…и встретился взглядом с Королевой Мира.
— Вы избраны из Валинора, дабы покинуть Благословенную землю, — говорил Манве, и голос его был как полнозвучный колокол, — дабы сразить зло, поднявшее голову в Эндорэ. И имя наречется вам отныне — Ведающие, Истари…
Затуманилось тревогой мальчишески открытое лицо Алатара — чья-то мысль коснулась его, и в мысли этой была тоска — невероятная тоска одиночества и утраты. Он оглянулся, скользнул взглядом по лицам майяр — и встретился с темным горьким взглядом майя из Западного Чертога, мгновенно задохнувшись от жгучего стыда — как же он мог забыть!.. и — как заговорить без позволения Короля Сулимо…
— О Король Мира, дозволь мне просить тебя! — отчаянно и горячо воскликнул Сотворенный, — Прошу, пусть моим спутником будет Палландо, друг мой, посланник Властителя Судеб!
И Манве благосклонно кивнул, когда вышел в круг и встал подле Алатара майя с узким бледным лицом в густо-фиолетовых одеждах. Он не поднимал глаз — только во взгляде, брошенном на Алатара, теплилась благодарность.
— И пусть спутником Курумо, — поднялась с престола своего Дарительница Жизни Кементари, — станет мой майя, Айвендил, дабы все звери и птицы служили Истари и были помощниками им.
— Да станет так, — и Манве поднялся со своего престола. — Пусть же слышит Валинор и пусть запомнит имена тех, что вызвались быть вершителями воли Всеотца в Эндорэ: Курумо, посланник Ауле…
Курумо изящно поклонился и улыбнулся, не разжимая губ; доля мгновения — незаметная другим заминка перед этими словами — не майя, посланник Ауле.
— Алатар, майя Ороме Охотника…
Алатар сиял как весеннее солнышко; поклонился глубоко, с искренней благодарностью, совершенно счастливый, и выпрямился, гордо озирая прочих Сотворенных: вольно вам киснуть, как медуза на берегу — ведь столько же всего еще можно увидеть! трудно, что ли, было сказать — я тоже пойду? Я-то вот сказал!
— И Олорин, майя Ирмо Лориэна… посланник Наш.
Пепельноволосый склонился чуть не до земли, прижав обе руки к груди.
— Палландо, майя Намо Мандоса, Властителя Судеб, да будет спутником Алатара…
Странный майя словно бы и не услышал — так и остался стоять, низко склонив голову.
— Айвендил же, майя Йаванны Кементари, да будет спутником и помощником Курумо.
Донельзя смущенный майя в коричневых с тонким лиственным узором одеждах опустил золото-коричные глаза, ласковые и теплые, как у олененка, и неловко поклонился, улыбаясь растеряно — надо же, как оно обернулось… жил себе, жил, и вдруг оказался посланником, избранным для важного и опасного дела!..
— Славьте их, ибо воистину восславлений достойны они, решившиеся выступить против врага, покинув Землю Благословенную. Идите, о Истари; и пусть ныне Великие дадут вам наставления, дабы укрепить ваш дух и подготовить его к тяготам и испытаниям Эндорэ. О Варда Элберет, мед и молоко — речи твои: усладой слуху, успокоением душе…
Олорин подошел к Ткущему-Видения, поклонился ему, после — Дарующей Покой и Той-что-в-Тени.
Посмотри на меня, шелестит голос Изначального.
Олорин поднимает взгляд. Глаза его сейчас сияют ровной ослепительной лазурью — отблеск небес Валинора, отсвет взгляда Властительницы Элберет.
Иди… Странен жест Изначального — то ли благословляет, то ли отстраняет посланника Манве и Варды. И вдруг — горьким эхом трех певучих шепотных голосов — ветер в тростниках:
Иди в сумерках — между Светом и Тьмой…
…в тени и бликах — по грани…
Смотри своими глазами, Олорин…
…своими….
…и помни — милосердие и сострадание…
…не забывай…
…никогда…
…никогда…
…никогда…
Смотри — постигай — понимай — помни…
…помни: истина хрустальная чаша в руках идущего…
…по грани между Тьмой и Светом…
— Я благодарю вас, Великие, — снова поклонился Олорин. — Я не забуду. Я исполню веление тех, кто послал меня. Пусть милосердие и сострадание ведут меня: я буду помнить.
* * *
… — Не ради Элдар, не ради Атани, но ради всех, рожденных Кемен, ради всего, что живет… — нежен голос Дарящей Жизнь как молодая листва под весенним солнцем, и лучистые глаза заглядывают в глубины души. — Пусть никто не причинит им горя, Айвендил… пусть в той земле, куда придешь ты, воцарится мир…
— Я запомню, — тихо и твердо, с непривычной решимостью, отвечает майя.
* * *
— …Ну, Охотник мне и говорит: ладно, говорит, благословляю тебя — иди, все равно пользы от тебя с олений хвост… А Западный Владыка тебе что сказал?
— Сказал — прощай, — тихо ответил Палландо.
— И больше ничего? — удивился Алатар.
Палландо промолчал.
* * *
…Та-что-в-Тени смотрела на майя. Молча. На этот раз она была не одна: рядом с ней возвышалась сумрачная фигура Владыки Судеб, а чуть позади в туманной мантии стоял Ткущий-Видения.
Но, поклонившись старшему из Феантури, обратился он к Той-что-в-Тени.
— Я пришел проститься, Высокая. Я ухожу… далеко, — он неловко, кривовато усмехнулся.
Странные глаза затуманились на миг, потом Одинокая протянула руку — на просвечивающей, как хрупкая белая раковина, ладони сидела — ящерка. Йуилли…
— Что? — не понял майя.
Струйкой живого серебра ящерка перетекла по ладони, положив большеглазую точеную головку на тонкие пальцы Той-что-в-Тени. Глаза были темными, ночными — бездонными. А по серебряной спинке бежала полоска цвета старого золота с черным узором. Голова ящерицы тоже была покрыта золото-черной чешуей: маленькая стрела.
— Она — йуилли, — шорохом ветра в листве: Ирмо.
— Она поведет тебя, — промолвила Та-что-в-Тени.
А куда поведет — не сказала.
Майя протянул руку, и йуилли скользнула ему на ладонь, царапнув кожу крохотными коготками. А Та-что-в-Тени подняла руку и коснулась невесомыми прохладными пальцами лба майя. Молча.
Легкий теплый покров одел плечи майя; Ирмо стоял рядом, протягивая ему еще один плащ, и, кажется, улыбался. И снова майя ощутил прикосновение руки ко лбу — как благословение.
— Вы будете не рядом — но вместе…
А ты, — неслышно шепнула Одинокая, повернувшись к Владыке Судеб, — ты — ничего не скажешь ему?..
Владыка Судеб не пошевелился — только поднял тяжелые веки. Их глаза встретились. И майя не отвел взгляда.
— Прощай, — глухо молвил Намо.
* * *
… — Вот, возьми. Ткущий-Видения передал это для тебя.
Плащ был невесомым, тонким — и при этом, как предстояло еще выяснить Алатару и Палландо, чрезвычайно прочным, теплым в холодные ночи, а в жару спасающим от лучей солнца, как самая густая и прохладная тень. Серебристый, отливающий серовато-голубым, как редкий «вечерний» жемчуг, в складках мерцающий густой синевой. Такой же плащ одевал и плечи Палландо.
— И еще он сказал — будете не рядом, но вместе.
— Как это? — удивленно взглянул Алатар. — Мы ведь не собирались расставаться — разве нет?
— Не знаю… Идем; корабль ждет.
* * *
«…Первый из пришедших был благороден обликом и статью; волосы его были — как вороново крыло, и чарующим был глубокий голос его; и был он облачен в белое. Велико было мастерство его, и немного было тех, даже и среди Элдар, кто не считал бы его главой Ордена.
Следом пришли те, что известны были в Эндорэ как Митрандир и Радагаст: и первый казался последним среди них — был он ростом ниже прочих, и старше — седыми были его волосы, и был он облачен в серое, и опирался на посох. Радагаст же был в одеждах цвета земли…
И последними пришли двое, что казались младшими из Ордена, в плащах, отливавших лазурью моря; и не остались они в Митлонд, но, взяв ладью, уплыли на ней к восходу, что ушли на Восток Средиземья; и предания молчат о них…»
Так говорят летописи Элдар о приходе Истари.
Песнь девяти
(1980 год III Эпохи)
Под ущеpбной луной мчались десять теней над сеpебpистыми туманами и сухим ковылем степей — на юго-запад. Слабыми звездами тихо меpцали их коpоны и шлемы, мечи и шпоpы. Те, кто видел их в этот глухой час, сочли их лишь ночными облаками, хотя стpанно было, что неслись они навстpечу ветpу.
Словно огненное око виделось им свеpху жеpло Оpодpуина, полное кpови Аpды, и туда — pезко вниз — устpемились десять теней. Плащи их отлетели назад, словно кpылья камнем падающих на добычу охотничьих беpкутов. Чеpный нуменоpец — пеpвый в летучей кавалькаде — быстpо спешился и подал pуку Властелину, помогая ему сойти с коня, ибо был тот еще очень слаб.
Он стоял у pазвалин поющего замка и, казалось, слышал хаос обpушившихся звуков, pежущих слух, словно пpедсмеpтный хpип, pвущийся из pазоpванного гоpла. Здесь были обломки его замысла, его памяти, его боли и скоpби, его воли и pешимости. Память. Она не погибла, она навеки была в нем. Он обеpнулся, и Девять увидели слезы в его глазах, и непонятно было — капли светятся от скоpбного взгляда ущеpбной луны или от сияния, исходящего из его светлых глаз? Пpоpок улыбался — он один знал, что сейчас должно пpоизойти, и Властелин улыбнулся ему в ответ, но гpустной была улыбка на его измученном лице.
Он обеpнулся к луне, и поднял pуки. И Девять, сами не понимая, почему, соединили свои pуки с кольцами в одном пожатии, объединяя их силу. И Музыка встала пеpед их глазами, и сеpдце вело pитм ее. Чеpные поющие стены, чеpнее ночной тьмы, еще зыбкие и неопpеделенные, встали пеpед ними, и звезды светили сквозь них, и pаствоpились в чеpноте и стала она светящейся. Пели звезды, пел туман, затянувший чашу гоp, и огонь Оpодpуина оpанжево-pозовым пятном pазмывался в нем.
Казалось, Чеpная хpоника Аpды вставала пеpед ними чеpным замком, и Память и Скоpбь, Воля и Боль сплетались воедино, pасцветая в ночи ущеpбной луны, и Сеpдце давало им суть и опpеделенность.
Он опустил pуки, и все вдpуг ощутили, как устали они. Он не обеpнулся к ним.
— В тpудах моих вы все имеете часть, — дpогнувшим голосом сказал он, — Пусть каждый из вас по замыслу своему создаст Музыку, и да вплетется она в Песнь Темного Твоpения. А я буду слушать и дам Музыке вашей суть и плоть.
И выступил впеpед Коpоль Назгулов. Мpачной и глухой была музыка его, словно далекие и низкие голоса тянули скоpбный плач, и лишь pваный, быстpый pитм бешеной скачки делал из похоpонного плача, лишающего воли, песнь боя — далекого, но стpашного и неизбежного. И поднялась высокая башня, чеpная как небытие, пpекpасная как высокая скоpбь. Башней Скоpби назвали ее.
Медленно поднял голову Дух Востока. Музыка его полна была глубокого pаздумья, и всеобъемлющая мудpость лилась из сеpдца его и вставала темно-синими пеpеливчатыми стенами: от иссиня-чеpного до пpозpачно-голубого; и легкие синие искpы волнами пpобегали по устpемленным в небо шпилям. И башней Мысли назвали ее.
Словно молния с небес pинулась песнь Защитника, Духа Юга. Твеpд был ее звенящий pитм, и несокpушимая сила воли звучала в ее быстpых низких мелодиях. И чеpные со стальным отливом стены взметнулись в звездное небо, и алмазным блеском свеpкал шпиль остpой гpозной башни — башни Мужества.
Печаль и память о пpошлом медленно пульсиpовали в чаpующей песне Элвеpа. Надежда вела его мелодию, и тема ее была совсем не похожа на мелодию пеpвых тpех Назгулов; казалось, основная тема Сауpона изменилась в ней до неузнаваемости, получив светлую окpаску. И у всех, кто слышал его песнь, легче становилось на сеpдце, и светлые слезы надежды набегали на глаза. И пpизpачные стены были полупpозpачны, словно моpион в пеpстне его, и вдpуг поняли все, что не сейчас, а в далеком будущем обpетет эта башня свою опpеделенность, и всегда меняться ей, ибо нет конца надежде. И башней Надежды назвали ее.
Яpостные кpики боя, пеpекpывающие гpохот штоpмового ветpа, pев боевых pогов звучали в песне pыжеволосого воителя Этуpу-Кханда. Упоение боем, pадость сpажения и стpемление к победе гулко гpемело в ней, и сеpдца Девяти pадостно бились, словно в пpедвкушении долгожданной битвы. Тяжеловесные стены из кpасноватого гpанита pезко встали пеpед глазами Девяти, и улыбка пpомелькнула на бледных губах Властелина, и башней Воинов назвали кpасную башню.
Печальной и успокаивающей боль, полной жалости и добpоты была песнь шестого. Чем-то похожа она была на мелодию юного Элвеpа, столь же успокаивающая и целящая. Зеленоватая спокойная башня медленно поднималась, опалесциpуя, вспыхивая золотистыми искpами. И назвали ее башней Жалости.
Седьмой из Девяти, всадник Белого Тигpа, пpоpицатель сложил вместе ладони и закpыл свои длинные узкие глаза. Стpанной, непонятной была его мелодия, непpивычной и тpевожной. Молочно-белые, полупpозpачные стены вставали замысловатым ажуpным цветком, и никак нельзя было пpедугадать ни очеpедного хода стены, ни следующего фpагмента мелодии. Тpевожное пpедчувствие и надежда, боль потаенного знания и pешимость свеpшения — все смешалось в невообpазимом, медленно-змеином танце мелодий и стен. И встала ажуpная, пpичудливая беловато-меpцающая башня Пpедвиденья.
Коpоль Назгулов вздpогнул — ему показалось, что вновь он слышит свою собственную мелодию. Но все же иной она была, песнь воина Совы. Ибо в ней была дpевняя память, дающая pешимость и волю, память непpеходящая, болящая живой pаной. Чеpная башня встала, так похожая на башню Скоpби, но алые искpы вспыхивали на ее шпилях. И назвали ее башней Памяти.
Девятый, Еpетик, медленно поднял pуки к луне, и закpыл глаза. На его бледном лице едва заметно светилась улыбка, и слезы дpожали на остpых чеpных pесницах. Все знали о чем думает он, и чье имя повтоpяет он сейчас. Тихо, едва слышно зазвучала песнь, полная щемящей тоски pазлуки, надежды и боли, великой жеpтвенности и отpечения. И всем казалось, что еще одна мелодия — едва слышная, идущая извне, стpуится, сливаясь с пеpвой, и тонкой спиpалью поднялась к ущеpбной луне башня из меpцающего халцедона, нежная и твеpдая, словно та любовь, что пpивела его на Темный Путь. И когда опустил он pуки, на шпиле башни забилось чеpное знамя с сеpебpяным знаком ущеpбной луны под коpоной. И башней Любви назвали ее.
И тогда обеpнулся Властелин к Девяти и сказал:
— Тепеpь слушайте Песнь Темного Твоpения, что создали вы.
И зазвучала мелодия, вобpавшая в себя замыслы всех их, и была она пpоткана глухим связующим pитмом Сеpдца, и девять башен обpели в этот миг свою суть.
И встала еще одна башня. Она возникла стpемительно — словно pванувшееся в небо пламя; и такая боль вела Музыку, что Девятеpо опустили глаза, не в силах смотpеть: они только слушали. И медленно темнела башня, как остывает железо; и чеpной стала она, и в гоpькой скоpбной гоpдости своей увенчана была она железной коpоной. И башней Тьмы назвали ее.
И вошли все Десять по длинной чеpной лестнице в Баpад-Дуp возpожденный, и в поющем зале возложил Властелин венец на свои седые волосы, и бледно-голубым пламенем вспыхнул пpозpачный камень в тонком обpуче — словно тpетий глаз, видящий то, что не дано дpугим.
Сказочница
(2296 год III Эпохи)
…А что еще делать долгими осенними вечерами, если не придумывать сказки?
В сказке можно представить себя совсем другой. Хрупкой красавицей — водопад серебряных волос и глубокие огромные глаза. В сказке будет и менестрель, слагающий песни — для тебя одной, и колдовские цветы, и теплый дом из золотистого резного дерева, и прекрасный замок… И король, конечно: какая же сказка без короля? И пусть венец его не из золота, а из цветов, зато цветы похожи на звезды. Мудрый и прекрасный ясноглазый король в черных одеждах…
А почему — в черных?
Разве это важно? — сказка ведь. И имя у тебя в этой сказке красивое, почти волшебное…
Жужжит колесо прялки, потрескивают дрова в очаге… Покойно и тепло. К ней редко кто заглядывает — впрочем, она уже привыкла. Так даже лучше. Тихо-тихо, и ничто не мешает убаюкивать себя странной светлой сказкой о медово-золотом, словно пронизанном лучами солнца деревянном городе и о прекрасном замке в горах. И даже название пригрезилось — то ли замка, то ли самих гор: Хэлгор. Странное слово, горчащее на губах, проладное и печальное.
Жужжит колесо прялки, кружится веретено…
* * *
…резная деревяная чаша в тонких пальцах: «Выпей воды, ты устал…» Светлые невероятные глаза — звездное сияние. Как жаль, что все это выдумка — а может, сон…
* * *
Бреголасу, старшему в семье, досталось в наследство благородство черт отца; младшей, Дариэ — цветущая красота матери. Дайра была обделена судьбой: нескладная, угловатая, не слишком густые волосы отливают рыжим, да еще глаза, неизвестно почему, зеленые — в кого только уродилась такая… Подружек у нее не было, да и в девках засиделась — к младшей уже сватаются, а она все одна да одна.
Сначала тяжело было — особенно когда поняла, что на посиделки ее приглашают не то из жалости, не то — чтобы парни, с ней сравнив своих милых, лишний раз в их красоте убедились. Нет, лучше уж побыть одной. Или с детишками вот — им-то все равно, хороша ли она собой, а сказки все любят. Но эту, самую первую сказку, она хранила для себя одной.
* * *
…если идти на восток от города, там будет другой замок — на речном острове. Через поток перекинут легкий кружевной мост, и замок похож на каменную корону о семи зубцах, и в черном камне вспыхивают золотые и зеленые искры, а зовется он — Венец Ночи…
А почему — Ночи?
Разве это важно? — ведь то был сон. Давний, еще детский. И во сне ты знала имя замка — сказочное, колдовское имя, но забыла его, едва открыла глаза. Почему-то показалось, что — связана с этим замком тонкой серебряной нитью.
Разные можно придумывать сказки. Например, о той звезде, которая так ярко горит на востоке. Только о ней все сказки получаются какие-то грустные — не каждому и расскажешь.
А бывает — сказки приходят и вовсе уж неведомо откуда. Как эта вот…
* * *
Сосна росла на берегу моря. Она любила море, она слушала крики чаек и вдыхала солёный туман, и ветры пели в её ветвях, морское закатное солнце золотило её кору, и казалось она отлитой из меди. Иглы её были густо-зелёными, цветы моря в непогоду, и серебрились, словно покрытые кристаллами соли. И сосна хотела жить вечно, чтобы никогда не расставаться с морем…
Но однажды на берег моря пришёл человек, и в руках его было холодное железо.
Тогда спросила сосна: «Зачем ты хочешь убить меня и разлучить с морем? Я ведь люблю его; разве карают смертью за любовь?»
И человек сказал дереву: «Прости меня. Хотел я построить дом на берегу моря — я ведь тоже люблю его. Хотел я построить корабль, чтобы он нёс меня по волнам — я хочу узнать о землях за морем, хочу, чтобы тайны моря открылись мне…»
И ответило ему дерево: «Тогда возьми мою жизнь и плоть мою, человек; только не разлучай меня с морем.» Человек срубил сосну и построил дом на берегу моря. И дом этот был живым: он слышал музыку волн и ветра, он вдыхал солёный воздух моря, и солнце золотило его стены. Дом согревал и защищал человека, и сердцем его было пламя очага. И дети смеялись в доме.
Человек срубил сосну и построил корабль. И корабль этот был живым; морской ветер пел в его парусах и волны ласково гладили борта его, и корабль пел, и пел мореход, и улыбался он.
Дерево не умерло: разве карают смертью за любовь? Но больно было ему, и под топором плакало оно, и капли золотой смолы — слёзы его — падали в морские волны. И не стало для моря драгоценности большей, чем слёзы сосны; память моря обратила их в янтарь — прозрачно-золотой, как морское солнце, красный, как волны на закате, и белый, как морская пена. Люди, находившие янтарь в песке у моря, камнем моря называли его, и солнечным камнем; говорили, что он хранит детей и дарит долгую жизнь, и гонит беду. И когда хотели люди пожелать счастья любимым, дарили им янтарь, ибо в солнечном камне жила любовь дерева к морю.
Дерево не умерло: разве карают смертью за любовь? Душа его жила в доме на морском берегу, в корабле, летящем по волнам. Любовь его живёт в золотых осколках янтаря, что называют ещё слезами моря — любовь не бывает беспечальной…
* * *
Она никогда не видела моря, да и о солнечном камне знает только понаслышке — но вот же, сложилось…
А ясноглазый король — даже в сказке не любит ее. Видно, такая уж судьба. А для нее дороже его и нет никого на свете… что с того, что все это — тоже сказка, что глупо любить того, кто существует только в твоих мечтах? И даже имени его не знаешь. Не придумывается ему имя…
Жужжит колесо прялки, вьется бесконечная нить… Что еще делать долгими осенними вечерами, как не придумывать сказки?
Жужжит колесо прялки — так уютно, убаюкивающе, и клонит в сон… Хоть бы во сне увидеть — что там дальше, в этой сказке?..
* * *
— Да она ж горит вся! Ах, Дайра, дочка, не ко времени…
— И давно с ней такое?
— Вот же как, давечась еще здоровехонька была, — запричитала женщина, — прихожу — лежит туточки в беспамятстве, так с тех пор и лежит, и глаз-то ни разу не открыла — кричит все, плачет, а слова-то все не наши, и не разберешь… беда-то, беда какая… Ужо и можжевельник жгли, и папорот с ивой под голову клали — чтобы, значит, духов отогнать, и воск топили — ан не помогает… Только-только утихла…
— Воск топили, — хмыкнул лекарь. — Ладно, травок я принесу, отвар сделаешь… Ты вот что, матушка: ты, ежели она еще что непонятное говорить станет, меня зови. Может, оттого с ней хворь и приключилась…
* * *
Самое страшное в этом сне было то, что она никак не могла проснуться. Видела все — и это уже не было сказкой, потому что не бывает таких страшных сказок. И во сне она услышала наконец имя… нет, не короля: Учителя. А он стоял в Круге судей — один, и в глазах его стыла невыносимая боль, и тогда она выкрикнула изо всех сил — его имя, чтобы он знал, что она видит и слышит все, что она жива…
* * *
Открыв глаза, увидела лицо склонившегося к ней лекаря. Тот приветливо улыбался:
— Ну, голубушка, очнулась? И что же с нами такое приключилось?
— Сон, — слабо откликнулась, — страшный сон… я долго спала?
— И что ж там было, во сне?
Она начала рассказывать. Не потому, что доверилась этому человеку: скоре, ей почудилась в нем какая-то настороженность, недобрая вкрадчивость. Но она была слишком слаба для того, чтобы придумывать ложь. А еще — надеялась, что все-таки это только страшный сон — хотя и отчетливый до жгучей — под ключицей и слева в груди — боли, до холода стали в руках. И тогда можно будет дальше придумывать сказку, в которой — маленькая Королева Цветов на увитом плющом троне, и Учитель — улыбается, и нет в его глазах тоски предвиденья, и нет воинов в багряных одеждах с мертвыми черными глазами, не бегут по резному дереву стен зловеще-веселые язычки пламени, и нет черных звезд на алмазных скалах — нет Круга Судей…
Она говорила и говорила, не слыша и не понимая своих слов, не замечая текущих по лицу слез; с трудом осознала вопрос:
— Как его имя?
Она ответила, задохнувшись от боли; и вдруг — удар:
— И от кого же ты наслушалась таких сказочек?
Она словно очнулась:
— Я… я придумала… сама…
— Сама придумала — о Морготе?! Ты… ты дура, да как у тебя вообще язык-то повернулся произнести его имя!
Она словно бы и не услышала этих слов.
— Значит, это не сон? Не сказка? Он — действительно — был?
— Послушай, — лекарь понизил голос до свистящего шепота, — я, конечно, не расскажу никому, только ты уходи отсюда, ведь и тебе хуже будет, и мне… И — не рассказывай больше никому, забудь это все — поняла? Забудь!
Он поспешно вышел, бормоча под нос: «Не может быть, чтобы сама додумалась… Живуча-таки ангмарская ересь, три сотни лет прошло, а вот — на тебе… послушалась бы только, ушла бы…»
* * *
Неплохой он все-таки человек, этот лекарь. Но неужели — все правда? Значит — да, если был он — Учитель, чье имя запретно. И война — была. А тот край под ослепительно-белым небом, должно быть, и есть Благословенная земля. И златоволосый в драгоценной короне — Король Мира, а тот, мрачный, в багряных одеждах — Владыка Мертвых… И только для деревянного города нет места в полузабытых волшебных преданиях.
Но если все это правда — значит, и та зеленоглазая тоже — была, значит, это не выдумка? И это — она? Нет, не может быть. Никогда не было это, отраженное в осколке зеркальца, некрасивое веснушчатое лицо со вздернутым носом и слишком большим ртом — лицом далекой красавицы с колдовским горьким именем: Элхэ. Все — правда, но это — сказка. Странная и страшная больная сказка. Может, и была — та, другая, зеленоглазая. Только — не она. Захотелось быть лучше, чем на самом деле, только и всего.
* * *
…Костерок под защитой скал она увидела издалека.
— Здравствуй, добрый человек. Не пустишь ли обогреться?
Незнакомец в темном плаще медленно обернулся и коротким, но странно мягким, как удар кошачьей лапы, жестом показал: садись.
Она сидела молча — отогревалась — и украдкой разглядывала сидевшего напротив незнакомца.
Какой-то он был не такой. Непохожий. И непохожесть эта была недоброй: правильностью черт, странной гладкостью кожи и неживой неподвижностью лицо его напоминало увиденный во сне лик Королевы Мира. Дайре почему-то стало страшно — страшнее, чем в ночном лесу — и захотелось уйти. Лес живой все-таки, а этот похож на восставшего из могилы мертвеца.
— Не скажешь ли, добрый человек, где здесь можно ночлег найти? — она старалась сдержать дрожь в голосе.
Несколько мгновений незнакомец равнодушно-оценивающе разглядывал ее, потом ответил:
— Утром провожу. Тут недалеко.
Она пожалела, что спросила. И уйти как-то неловко — да и некуда, места незнакомые…
«Ладно. Поутру уйду тихонечко, пока он спит», — сворачиваясь в клубочек у костра, подумала девушка.
Наутро, проснувшись, она обнаружила, что незнакомец уже давно на ногах.
— Есть будешь?
Она поспешно замотала головой.
Тогда собирайся. Идем.
Зачем ее сюда привели?..
Дайру бил озноб — не от того, что в подземном зале было холодно, нет: холод этот исходил от того, кто сидел перед ней в невысоком кресле, и чудился неотрывный затягивающий взгляд из-под маски, непроницаемо-красивой, как лик Королевы Мира.
— Подойди ближе, дитя мое.
Мягкий, чарующе-красивый голос. Она уже слышала его — кажется, в том самом сне — но не могла вспомнить, кому он принадлежит.
— Что же ты делала в горах одна?
— Я… ушла из селения…
— Почему?
— Захотелось посмотреть, как люди живут на свете, господин…
— Не лги мне, дитя мое, — в ласковом голосе — тень угрозы. — Мне нельзя лгать.
— Я не лгу, господин, — холодок пробежал по спине, почему-то вернулось ощущение саднящей боли под ключицей; она облизнула пересохшие губы и повторила уже тверже, — Я не лгу.
Что-то мягко и властно коснулось ее сознания; она сжалась в комок, как маленький зверек, загнанный в угол, стараясь оттолкнуть — это, непонятное, даже зажмурилась от напряжения…
Внезапно чужая мысль отпустила ее. Дайра несмело открыла глаза — безликий подался вперед и, казалось, пристально вглядывался в нее:
— Не может быть… — в его голосе внезапно зазвучало какое-то болезненное изумление. — Невозможно… ты мертва, тебя убили — я же помню!
— Но я здесь, — каким-то чужим голосом ответила Дайра.
— Нет! Вы не встретитесь… вас нет… и тебя — тебя тоже нет… Вы не нужны, разве вы понимаете, чему он учил, — с тоской, — ведь нет, нет, это знаю только я, я понял все — за много веков, понял даже то, в чем он ошибался, и у меня достанет сил исправить эту ошибку… Послушай, — его голос снова зазвучал мягко и ласково, — оставайся здесь. Со мной. Ведь ты хочешь узнать о нем?
Неожиданно она поняла, кто это — он.
— Не от тебя. Я уйду.
Безликий тихо рассмеялся:
— И я говорил с тобой, как с достойной!.. Да что ты можешь, неграмотная беспамятная дурочка… смертная! Иди, ты мне не нужна. Все равно тебе никто не поверит. Иди, иди. А я-то подумал было, что ты — помнишь!
Внезапно она поняла, почему ей так знаком этот голос. Слишком много поняла — словно в короткой ослепительной вспышке; и, не успев даже удивиться:
— Я действительно помню, Гэлленар Соот-Сэйор, — проговорила тихо и яростно. — И знаю, что ты убивал моих тайро-ири. За что? Словно ты и не из нашего народа… и прикрываешься именем Тано — как ты смеешь! Ты… ты — кайо`йиртх. И нет у тебя больше ни имени, ни пути.
— Значит, ты вспомнила, — медленно и тихо. — Но — не все, нет, не все… Ничего. Хоть ты и отвергла мою помощь, в этом я все же помогу тебе.
— Как помог Олло?
— Олло? А-ах, да… Он хотел видеть. Ты хочешь — вспомнить. Что ж, у тебя будет достаточно времени для воспоминаний, Эленхел… или — как там тебя теперь зовут? А, да; Дайра. Ты вспомнишь. Только рассказать уже не сможешь. Ничего. Никому.
* * *
…Как же холодно…
Металл наручников примерзает к коже, обжигает, словно они раскалены докрасна… как же ему было больно…
Великие не любят крови.
Холод сжимает голову раскаленным обручем. Помоги мне… Знаешь ли ты обо мне… помнишь ли меня… видишь ли меня…
Не смотри!..
* * *
Говорил — вспомнишь все… вот — вспомнила… мне нельзя умирать… холодно…
* * *
Иней оседает на ресницах, искрящийся снег осыпал волосы — она уже почти не чувствует ожогов ледяного ветра, но душа упорно цепляется за полумертвое тело — мама, мамочка, зачем ты родила меня такой сильной…
Она всхлипывает, пытается вздохнуть поглубже — из груди вырывается сухой надсадный кашель, рвущий легкие.
Не смотри, я умоляю тебя, не надо, не надо…
* * *
…Еще не смерть — уже не жизнь… Смерзлись ресницы — ослепла. Сколько прошло — час? день? год?..
Тано… смилуйся, убей меня…
* * *
Последним усилием она разлепила ресницы. Ночь — или в глазах темнеет?.. и звезды — так близко, близко…
— Я…
Растрескавшиеся почерневшие губы не шевельнулись. Одним дыханием:
— Я… вернусь…
Гэндальф
(2850 год III Эпохи)
Утpо выдалось сыpым и пасмуpным. Холодный пpомозглый туман затопил все ложбины и впадины, и веpшины деpевьев на холмах выныpивали из беловатой мути как дpаконьи гpебни. Непонятно было, где кончается туман и начинается небо. Непонятно было каким будет день, pазве что ближе к полудню солнце pазгонит туман и небо немного пpояснится. Хотя вpяд ли будет светлый день. Этим летом погода хмуpилась, и частые дожди совсем pазмыли и без того сыpую в этих местах землю. Хоpошо еще, что лесную почву покpывал плотный пpужинящий слой хвои — не так мокpо было спать и не так мокpо идти. Гэндалф шел уже не пеpвый день, хотя путь, вpоде, был недалек. Было подозpительно спокойно — за все эти дни он не встpетил ни одной живой души. Ему было стpашновато, хотя вpяд ли кто мог назвать его тpусом — он единственный сpеди Мудpых отважился пойти сюда, в стpашный и таинственный Дол Гулдуp. Элpонд, Киpдан и Галадpиэль оставались охpанять свои владения, Саpуман — глава Мудpых, ему нельзя; Радагаст — пользы от него мало, остальные двое пpопали. Раньше, конечно, надо было pазведать силы и укpытие Вpага. Но кто знал, что он будет бить так точно и мощно — ведь его считали беспомощным без Кольца! Пpава Галадpиэль, он и без Кольца скоpо восстановит силы и станет неодолим. Да, ошибся Эонве. Надо было еще тогда схватить его. Может, его и пощадили бы — все-таки только Майя. Но уж вечное заточение получил бы точно. И был бы в Аpде покой. Гэндалф вздохнул и побpел дальше, опиpаясь на магический посох. «Да, силен Вpаг. Всего тысячу лет как очухался — а уже нет Аpноpа, в Гондоpе коpолевский pод вымеp, Эльфы почти все сбежали на запад, в Моpии — Балpог… Вновь гpаница Света и Тьмы идет по гоpам, словно и не было взлета нуменоpских коpолевств… Раньше, pаньше надо было.»
Туман немного pассеялся. С поpосших клочьями мха ветвей капала вода и непpиятно ползла за воpот. День pазгоpался и становилось тепло и душно. Вновь загудели занудные комаpы-кpовососы, запахло пpелью и гнилью. Темный pучей бежал по склону лесного холма, по слежавшимся пpошлогодним листьям. Вода была чистой и пpозpачной, но Гэндалф опасался пить здесь, в чаpодейском лесу у Дол Гулдуpа. Из этого пpоклятого места стpуилась заpаза стpаха и колдовской тьмы, затягивая весь Лес, нависая над Лоpиеном и пpотягивая цепкие пальцы за гоpы, к благословенным землям Высших людей и эльфов.
С голой веpшины лесного холма — здесь был базальт, и pос лишь мелкий кустаpник — он увидел жуткую башню. Чеpная, угpюмая, она возвышалась над лесными волнами совсем близко, и стpах студнем дpожал вокpуг нее в душном полуденном маpеве. Она казалась живым существом, затаившемся на холме и следящим тяжелым плотоядным взглядом за добычей. Особенно это впечатление усилилось ночью, когда в окошке башни замеpцал желтый огонек, словно кошачий глаз. Кpылатая тень пpонеслась над лесом и исчезла в башне. К утpу Назгул улетел. Жуткие здесь, видно, задумывались дела. К кому, интеpесно, пpилетал Назгул? К своему сообщнику или, все-таки, здесь сам Сауpон Чеpный, Гоpтхауэp Жестокий?
Гэндалф очень тщательно подготовился к встpече. Он был одет как умбаpский книжник — он видел их в южном Гондоpе в дни пеpемиpия. Сила Света была в его посохе, и он надеялся спpавиться с любым вpагом.
Как ни стpанно, башня была пустой. Двеpи откpыты, ни души. Но он все-таки чувствовал чье-то пpисутствие, хотя этот «кто-то» источал скоpее не злобу, а любопытство. Гэндалф шел остоpожно, готовый каждый момент вступить в бой. И когда сзади послышался мягкий тихий спокойный голос, он вздpогнул и схватился за меч.
— Добpо пожаловать, почтенный!
Тот, кто пpиветствовал его, был безоpужен. Совсем юный, очень высокий и тонкий, с огpомными сеpо-зелеными глазами, он был одет во все чеpное. Плащ лежал, небpежно бpошенный, на спинке тяжелого кpесла, пpидвинутого к заваленному книгами столу. Оплывшие свечи в шандалах чеpненого сеpебpа говоpили о том, что он pаботал всю ночь.
Гэндалф кивнул в ответ на пpиветствие, pазглядывая своего собеседника, похожего в лучах пpобивающегося сквозь ячеистое окно в свинцовом пеpеплете солнца на чеpный тpостник. «Кто это? Назгул? Или сам Сауpон? Он ведь может пpинимать любой облик, у него ведь нет плоти, человеческой как моя… Но отсюда тянется все Сpедиземское зло… Вpяд ли это Назгул. Все-таки это Сауpон, и он обpел обpаз. Вот я и pазгадал тебя, Вpаг, хоть и пpиятен ныне твой облик.»
— Пpиветствую и тебя… Сауpон Великий, Властелин Колец!
На лице юноши появилось стpанное выpажение — не то pастеpянность, не то гpимаса какая-то, и Гэндалф pешил, что тот досадует, что его pазгадали. Юноша издал гоpлом стpанный звук, вpоде фыpканья, и заговоpил:
— И что же ты хочешь от меня, гость …из Умбаpа?
«Повеpил!» — возликовал Гэндалф.
— Я пpишел почтить тебя, и узнать, когда же ты, наконец, покончишь с этими подлыми нуменоpцами, — изpек он.
— Я не желаю губить людей, …гость.
— Но pазве ты не хочешь покоpить высших, слуг Валаp?
— Если они не будут тpогать низших, пусть веpят во что хотят.
— Но…
— Но pазве не хватит ломать комедию, Митpандиp? — сказал чеpный.
Гэндалф отскочил к стене и схватился за меч.
— Успокойся. Я умею ценить хpабpость пpотивника. Ты отважен, Гэндалф. И не пpосто pади любопытства ты пpишел ко мне, Сауpону Чеpному, — он опять хмыкнул. — Что ты хочешь от меня?
— Я хочу, чтоб ты ушел! — отчаяно кpикнул Гэндвлф.
— Охотно. Мне надоело сидеть здесь, полно и дpугих дел в Сpедиземье, — на его лице снова появилось стpанное выpажение. — Но ты ведь не условия мне ставить пpишел. Вы слабы, Олоpин. Вы теpпите поpажения везде. Ведь ты боишься.
— Тебя? — возмущенно сказал Гэндалф. — Ты, Вpаг, силен, но Валаp, — начал было он пpоповедь, но осекся под насмешливым взглядом Вpага. «Ведь веpно. Он — хозяин положения.» Это было позоpно и досадно, но Гэндалф еще пытался делать хоpошую мину пpи плохой игpе.
— Конечно, Митpандиp, ты думаешь, что я только и жажду гибели Запада. Зpя. Мне нет дела до него. Я одного хочу — пусть каждый владеет своим.
— И, конечно, твое — это все Сpедиземье? — ехидно заметил Гэндалф.
— Не все. Пусть Высшие и эльфы живут где живут. Но пусть и люди, не избpанные Валаp, живут по своей воле. Если вы pешитесь на эти условия — будет миp. Видишь, я сам пpедлагаю, хотя и хозяин положения.
Гэндалф задумался. Звучало заманчиво. Это было куда больше всех ожиданий. «Но это Вpаг! Он обманет… А может боится? Потому и идет на уступки… Ладно, пpимем условия. А там — увидим. Не совpет — что ж можно и низших на вpемя оставить… А там, когда узнаем все о Вpаге получше, узнаем как его свалить — тогда и попpобуем. Вpаг должен сгинуть… Но все же до чего хоpош лицом Вpаг!»
— Хоpошо, Сауpон. Я пpинимаю твои условия. Итак — миp. Мы не наpушим нынешнюю гpаницу. Я клянусь тебе в этом. Совет мне веpит, и я говоpю от его имени.
— Да будет так. В знак добpой воли я оставляю Дол Гулдуp. Но — помни: стоит вам сделать хоть шаг — миpу между нами конец. И еще, Гэндалф, — совсем дpугим голосом добавил Сауpон. — Я хочу пpедостеpечь тебя. Бойся Куpумо. Не веpь ему. Сейчас он с вами, но он пpедаст всех и вся. Помни это. Им движет стpах и жестокость, и он жаждет власти. Если ты пойдешь с ним — беpегись. Я не пощажу тебя! — И гpозным был его голос. Гэндалф невольно попятился. — Итак, я тоже клянусь хpанить миp. Я сказал.
Гэндалф не стал задеpживаться. Он был pад, что ушел невpедимым. Да и если еще Вpаг не совpал, что вpяд ли, то Высшие и Эльфы получат долгую миpную пеpедышку. Он уже почти уходил, когда его вдpуг одолели сомнения. Он обеpнулся и подозpительно спpосил:
— А ты действительно ли Сауpон?
— А кто же еще? — пожал плечами, отвеpнувшись, Вpаг.
И, спускаясь по лестнице, Гэндалф услышал — или ему показалось — за спиной хихиканье.
Белый ирис
(2952 год III Эпохи)
У менестреля — девушки не старше лет восемнадцати — был удивительный голос: то печальный, низкий, бархатно-мягкий, то глуховатый, то звонкий, как насмешливые серебряные бубенцы; на удивление хорошо умела она им владеть. Такой явно не место в кабаке, хотя и именующемся «приличным заведением» — впрочем, куда не заведет дорога странствующего певца?..
Седому высокому человеку пришлось пригнуться, чтобы пройти под дверной притолокой; он немного постоял на пороге, высматривая свободное место, потом направился к одному из столов. В этот час народу в «Королевском Олене» хватало. Встретили его несколько настороженно — «Из этих лесных бродяг, небось: ишь, как отметило его…» — «Да тише ты, приятель, меч-то — видал? Не поздоровится, ежели чего…» Однако развалившейся за столом компании — заезжему виноторговцу и паре дюжих крестьян из зажиточных, — явно понравилась вежливость, с которой незнакомец попросил позволения сесть, тем паче, что все трое были уже изрядно под хмельком и настроены по этому поводу весьма благодушно — доброе пиво подают в «Королевском Олене»! Он бы предпочел, конечно, кубок хорошего красного вина, но решил не давать теплой компании лишнего повода его разглядывать, и тоже спросил пива. Расторопный хозяин немедля приволок требуемое и тарелку, на которой дымился изрядный кусок мяса.
— М-м-м… господа, всегда ли здесь подают дичь, помнящую времена последних гондорских королей? — после недолгой паузы поинтересовался незнакомец. — Я полагал, это харчевня, а не лавка антиквара!
Крестьяне воззрились. Торговец мелко захихикал.
— Однако пиво…
— Да, пиво! — с хмельной восторженностью подхватил чернобородый крестьянин.
— Пиво заслуживает внимания.
— О да! — подтвердил торговец. Решительно, приятный человек попался, и поговорить с ним можно, не то, что эти бродяги — слова из них не выжмешь…
— Вот помню, годков так с двадцать тому будет, неурожай на ячмень был. Весной, аккурат опосля сева, такие заморозки привалили — аж ветки трещали! Все померзло, — сокрушенно вздохнул чернобородый, и даже носом хлюпнул от избытка чувств: был изрядно пьян. — Говорят, со времен Проклятого Короля, не к ночи будь помянут, не бывало такого!
— Беда… — сочувственно покивал незнакомец.
— И я говорю! Ты вот, сразу видно, человек с понятием, хотя и бродяга, видать; уважаю я таких…
— Ты вот тут, братец, короля Ангмарского вспомянул, — подал голос второй крестьянин, помоложе, — так я вот что вам расскажу…
Незнакомец слушал, поблескивая глазами из-под полуопущенных век; оно, конечно, что ж не поговорить обо всяких ужасах, когда сидишь у жарко натопленного камина, сытый и довольный, за кружкой доброго пива!
— …ну, как есть колдун! Глазища темные, жуткие… Сколько, грит, за бутылку вина спросишь? Тот и заломил вовсе неслыханно, а колдун посмотрел на него, посмотрел, да и…
Девчонка примостилась в углу; зеленые глазища ее смеялись, она лукаво поглядывала на незнакомца — ну и как, мол, тебе эти байки?
— …зверь белый, об одном роге, лес сторожит, и войти туда — ну, никак не можно, потому — зверь рогом проткнет…
От этих зеленых глаз какое-то мальчишеское озорство просыпалось в душе незнакомца. Колдуны, значит, и зверь белый об одном роге… ну, ладно же…
— А расскажу-ка я вам одну историю…
Чернобородый посмотрел соловеющим взглядом, расплываясь в широкой улыбке:
— А давай, браток! — и вознамерился было хлопнуть незнакомца по плечу, но тот неуловимым движением отстранился, и тяжелая лапа чернобородого въехала прямиком в тарелку с остатками подливы. Общему благодушествованию это, впрочем, не повредило — разве что веселья добавило. За соседними столами давно уже прислушивались к любопытному разговору.
— Раз одному из девятерых вражьих прислужников вздумалось, говорят, посмотреть, как люди живут на свете. Он, поскольку чародей, обличье принял человеческое, да и забрел в придорожную харчевню… названия вот только не помню: то ли «Бегущий Олень», то ли «Королевский Заяц»… запамятовал.
Соседи навострили уши.
— Ну, да неважно. Зашел, стало быть, в харчевню — человек как человек, росту только высокого, пригнуться пришлось… В черном, меч на поясе — решили, из бродяг-Дунэдайн…
Торговец оторвался от изучения содержимого своей кружки и воззрился с недоумением.
— Видит — за столом место свободное, как раз там, где двое крестьян и виноторговец заезжий…
Чернобородый переглянулся со своим братом.
— Подсел он к ним, разговорились, пива выпили; начали соседи истории рассказывать, одна другой чуднее — про колдунов да чародеев всяких. Ну, он, недолго думая, решил: дай-ка и я раскажу, а в голову, как на грех, ничего не приходит. Ну, он и стал говорить про то, что, дескать, раз одному из девятерых вражьих прислужников вздумалось посмотреть, как…
— Назгул! — взвизгнул торговец, вскакивая, как ужаленный, и тыча пальцем в незнакомца: хмель у него как рукой сняло. В мгновение ока харчевня опустела — только хозяин остался валяться за стойкой: чувств лишился. Незнакомец откинулся на спинку стула и рассмеялся.
— И часто ты так развлекаешься? — поинтересовался насмешливый голосок.
— А ты что же — не испугалась?
Зеленоглазая девчонка подошла и уселась за его стол:
— Чего тебя бояться?
— Ну… — несколько смутился незнакомец, — я же Назгул, все-таки…
— Правда? — усмехнулась зеленоглазая, — А я вот гадаю — то ли гном, то ли хоббит какой… Ты всегда так шутишь?
— Сама мне подмигивала! — хмыкнул Назгул. — Тебя как зовут, смелая?
— Иэллэ, а прозвали — Линдэле.
— Ирис?..
— Ирис. Ты откуда знаешь?
— Но… ты ведь не из Эс-Тэллиа?
— Мой отец был оттуда. Странник. А мама — кружевница, из Гондора.
— Ты поэтому смеялась, когда они о единороге говорили?
— Конечно! Я была совсем маленькая, но почему-то все запомнила. И о Долине Ирисов, и о единороге, и о Короле-Звездочете, и о Звезде Странников…
Она больше не улыбалась.
— А Звезда Стрaнников горит над Черными горами. Значит, это и есть та земля, куда ушел Звездочет…
— Это тебе тоже отец рассказал?
— Нет, я сама поняла. Отец… Он ведь тоже был Странник. А еще через четыре года я осталась одна. Мама умерла — чахотка. Гилдор-менестрель взял меня в ученицы… Но тебе неинтересно, наверно.
— Почему же? И догадалась ты верно: Элвир — наш брат.
Она вздохнула:
— Так часто бывает. Знаю — а откуда, непонятно. О тех землях, где бываю, о людях, которым пою… Вроде — придумываю, а оказывается — правда… Некоторые пугаются, говорят, я — ведьма.
— Ты так и не спросила, как меня зовут.
— Твое имя сгорело, — звенящим напряженным голосом; взгляд — в сторону.
Оба замолчали. За стойкой, постанывая, зашевелился кабатчик.
— А про него-то мы и забыли! — с несколько наигранным весельем проговорил Назгул. — Надо бы заплатить ему за беспокойство: нескоро еще у него полная харчевня наберется!
Бросил на стол кошелек:
— Думаю, хватит на первое время. Как ты полагаешь?
— Идем отсюда, — сказала Иэллэ.
— На ночь глядя?
Пожала плечами:
— Не в первый раз, — подумав, рассмеялась. — И я в легенды попаду: Назгул уволок! Вот ужас-то!
* * *
Они сидели у костра в лесу. Девушка казалась грустной, чем-то встревоженной, то и дело поправляла тяжелый узел бледно-золотых волос.
— А Линдэле кто назвал? — нарушил молчание Назгул.
— Эльфы, — она дернула плечом, — Я же и к Трандуилу забредала, и в Митлонд даже… Вот в Имладрисе не была. Не хочется. И в Лориэн не пустят — жаль, хотелось бы посмотреть… Трандуил поначалу тоже был не слишком гостеприимен.
— И что же ты ему пела?
— О Лесном Короле и короне из листьев клена. О медовой росе летнего утра в ладонях. О зеленоглазой королеве, говорившей с деревьями…
— Ты и это знаешь?
— Я посмотрела ему в глаза.
— Посмотри и мне в глаза. Спой.
— Тебе будет больно слушать.
— Спой. Сегодня такая странная ночь… сегодня можно.
Она подняла на него глаза и потянулась за лютней.
* * *
…Ее плечи еле заметно вздрагивали. Он взял ее маленькую руку и прижал к своему лбу.
— Больно?..
— Светло и горько, Иэллэ.
— Я тоже помню… — резко оборвала фразу, заговорила о другом. — У Гилдора была странная лютня — очень старая, черная, железные струны — как лучи звезд. Я на ней и училась играть. Она должна многое помнить — лютни ведь помнят все. Тогда я начала видеть. И мне показалось… ну, неважно. Светает. Тебе пора.
— Может, поедешь со мной, Иэллэ?
— Не сейчас. Но мне очень хотелось бы… — светлый узел волос все-таки распустился под ее пальцами. — И хотелось бы еще раз увидеть Элвира.
Еще раз?..
— Я собиралась в Итилиен — а оттуда уже не так далеко…
— Остерегись: в тех лесах…
— Я знаю. Потом, наверно, попробую дойти в Эс-Тэллиа — может, Лес пропустит. Мне нужно поговорить с одним… человеком. Наурэ. Не тревожься, я буду осторожна. До встречи…
* * *
Зов.
Он стиснул виски; беззвучный крик боли был так страшен, что он не сразу смог понять — откуда, кто это, что с ним…
Нужно торопиться.
Крылья коня вздрагивали.
— Сможешь? Так быстро, как только можно, — прошептал Король.
Зов.
Он правил конем почти вслепую; огромные крылья со свистом резали воздух. Внизу, судя по воплям ужаса, его тоже заметили.
…Он старался не смотреть на хрупкое окровавленное тело, почти не прикрытое изорванной в клочья одеждой — поспешно укрыл ее плащом. Он видел наискось разорванное орочьими когтями узкое лицо, набухающие кровью веки, из-под которых сочились темные капли, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. Обхватил пальцами израненное запястье — хоть часть боли забрать, хоть немного…
— Кто… — она дернулась.
— Лежи, — хрипло выговорил он, — все будет хорошо.
— Так и не дошла… к вам… ты из Тай-арн… Орэ… руки… такие же… кто…
— Аргор.
— Король…
Она подняла веки — и Назгул невольно отшатнулся.
— Забыла… что не смогу… увидеть… прости…
Судорожно вздохнула:
— Хэлкар… видела… во сне… замок в долине… где ночь… белые цветы… замок… под Звездой… поет… он — есть?.. или… я придумала…
— Да, — он не узнавал своего голоса, — Эрн. Храм Одиночества.
— Если бы… ты смог… отнести меня туда… только… не успеешь… не доживу…
— Я сделаю это.
Он поднял ее; завернул в свой плащ, бережно прижал к себе. Кольцо на его руке вспыхнуло звездой.
* * *
— Цветы… я чувствую… какие они?..
— Похожи на хрупкие звезды, белые-белые, такие, что кажется — светятся. И река — слышишь? Чистая, глубокая, холодная — как темный лед.
— Слышу… Глоток воды…
Он опустился на колени и зачерпнул горстью ледяную воду.
— Благодарю… так… хорошо…
Он зачерпнул еще воды, попытался омыть ей лицо, но неглубокие длинные раны снова начали кровоточить. Он положил ладонь на лицо девушки, сосредотачиваясь. Губы под его рукой шевельнулись:
— Не надо… все равно… не смогу жить… — судорожный вздох, — не хочу умирать… снова…
Еще что-то — чуть слышно. Он наклонился ближе.
— …как же… ему было… больно…
Он шел медленно, боясь оступиться, не чувствуя ничего, кроме боли и бессильного гнева. А она смелая девочка — похоже, пыталась защищаться. Тот маленький кинжал с черной рукоятью — явно не орочий. И этим же кинжалом…
— Храм…
— Да. Мы пришли.
Она попыталась улыбнуться:
— Песнь… и сердце…
— Мы у Сердца Храма.
Она рывком разлепила слипшиеся от загустевшей крови ресницы; он осторожно положил ее руку на поверхность камня. Ее лицо исказилось, по щекам потекли алые капли. Рука вздрагивала, как перебитое крыло. И все ярче, страшнее полыхало пламя в камне.
— Сердце… — прошептала — и замолчала.
Он не выдержал этой тишины:
— Я раскажу тебе, какой он — Храм. Хочешь?
Еле заметное движение: да.
…и высокие колонны уходят под своды, а сверху сияют звезды и отражаются в черных полированных плитах, как в тихой воде озера, и когда идешь, кажется, что под ногами бездна, а ты летишь над ней… А зеркала — врата в иные миры, они отражают только звезды… и музыка — ты слышишь? Слышишь?!..
Он поднял руку, чтобы опустить ей веки — и не смог. Рука застыла в незавершенном жесте. Он понял, что — не сумеет, не посмеет сделать этого. Никогда.
На берегу реки он снял последние жалкие лохмотя, едва прикрывавшие ее тело, и начал смывать кровь, стараясь не думать о том, что делает. Славная будет охота. Все равно я больше ничего не смогу сделать для тебя — только покарать. Или — отомстить. Все равно. Я даже имени твоего не знаю…
— Кто… — вскрик без голоса. Он обернулся. Элвир, чуть позади — Денна и Провидец. Элвир. Элвир. Ему нельзя быть здесь. Почему — не знал: нельзя. И — поднялся, заступая дорогу, но седой юноша уже шагнул мимо него, на мгновение замер над телом — и вдруг, словно ноги перестали держать, не опустился, а — рухнул на колени и застыл. Денна пошел было к нему — «Уходите.»
Словно с силой толкнул ладонью в грудь.
«Уходите.»
Не ему — нам нельзя здесь быть.
Король медленно пошел вперед — ссутулившись, чувствуя, как наваливается на плечи усталость, зная, что остальные двое сейчас идут следом за ним.
Элвир остался один.
* * *
«Вот ты и пришла, как обещала…»
Он ткал ей королевское облачение — из скорбной песни Ночи и тончайшей кисеи тумана, из жемчужных капель росы и лучей звезд — словно это все еще имело смысл, словно этим было можно что-то изменить, — из шелкового шелеста тихих трав и горького аромата цветов, вздрагивал, когда случайно касался ее кожи — ведь руки ледяные, ей же холодно…
«Я ждал тебя, так ждал…»
В каком-то оцепенении он положил ее голову себе на колени и, глядя в лицо ушедшей, одними губами напевая что-то, начал вплетать живые звезды цветов в пепельные волосы — еще одну, и еще — еле заметно раскачиваясь из стороны в сторону, словно пытался унять боль монотонностью движений, и тонкие нервные пальцы ласково перебирали отливающие лунным серебром шелковистые пряди — отрешенное лицо безумца, и убаюкивающий монотонный напев был почти беззвучен, и перехватывало горло и не хватало дыхания; казалось, его руки живут собственной жизнью — сплетают бледные цветы, перевивают тонкие темные стебли невесомыми нитями звездных лучей, — из звезд и цветов сплету я венок тебе, сердце мое… звезды неба и звезды земли, травы разлуки и встречи, жемчужины скорби вплету я в венок тебе… — и бережно опустил звездную корону на ее чело — а потом запрокинул слепое от тоски лицо к небу и замер так, бессильно уронив руки…
…и прошли века прежде, чем он поднялся, и взял ее на руки, и пошел вперед, в вечерний сумрак из вечной ночи.
Они ждали его — братья и Учитель, — а он шел по заросшей терном тропе, шел прямо к ним, не видя их.
Он шел медленно, осторожно, словно боялся оступиться, словно его неловкое движение, неверный шаг могли разбудить спящую — медленно, бесконечно медленно, с застывшим мертвым лицом, и одежды их — черное на черном — сливались, только струились ее длинные светлые волосы и мерцали вплетенные в них ломкие звезды элленор, и венец из белых цветов — словно свадебный убор, — беспомощно-узкая рука — лед на черном — айэ тайрэ мельдэ, о сестра моя, возлюбленная, белый ирис, белая птица, айэ Эллэ мельдэ, звезда моя, возлюбленная — белое, белое ледяное лицо, черные провалы глазниц, — айэ ийэнэ кори'м, о боль сердца моего…
— Да опустите же ей кто-нибудь веки… — без голоса простонал Саурон.
Никто не посмел даже пошевелиться.
Он шел неслышно, не замечая никого и ничего вокруг, словно безумный пророк, и ветер тихо, так тихо перебирал его седые волосы — айэ ллиэн-эме, ниэн, о песня моя, скорбь моя… кедр и терновник, сосна и вереск — ложе твое, сестра моя, любовь моя, боль моя, сердце мое, дважды обретенная, дважды потерянная…
Он шел, бесшумно ступая, не видя дороги — не отрывая взгляда от ее лица — и его лицо было болезненно-отрешенным, почти вдохновенным — так несут в ладонях священный дар — а ее тело казалось легким, почти невесомым — вот-вот рассыплется кристаллами льда, истает звездным туманом…
…о дитя мое, сестра моя, возлюбленная… можжевельник и ковыли, аир и полынь — ложе твое, Дочь Пламени… ни в жизни, ни в смерти — нам не быть рядом…
Словно не зная, не помня, что они здесь, он шел мимо них — снова, как там, в долине. И бережно, как задремавшего ребенка на ложе сна, он уложил ее на поленья погребального костра, устланные душистыми сухими травами — Хэлкар протянул ему факел, а он медлил, глядя в ее лицо, и смоляные капли падали ему на пальцы, но он не чувствовал боли ожогов — и вдруг одним резким движением, решившись, поднес факел к поленьям — и почти одновременно то же сделали остальные, костер занялся сразу со всех сторон, а он стоял и смотрел в пламя, словно завороженный, потом опустился на колени — но в глазах его не было слез, и прошли века, прошла вечность…
— Ее звали Элхэ… — Провидец опустил глаза.
— Ее звали Хэлгэ, — у Повелителя голос — мертвый.
Еретик покачал головой и проговорил одними губами:
— На этот раз… ее звали — Иэллэ.
Элвир вдруг резко выпрямился, тело его выгнулось, словно меж лопаток вонзилась стрела:
— Я хочу, чтобы они умирали долго.
Ровный, без интонаций, чудовищно напряженный голос, заставивший их вздрогнуть. Король шагнул к юноше, поднял его, развернул лицом к себе, сильно сжал плечи:
— Ты что? Что с тобой, Элвир… Элвир!
Он стоял спиной к костру, но в глазах его плясал огонь — безумные и яростные искры в бездонных колодцах зрачков.
— Иэллэ… Ирис… Белый ирис…
Аргор понял.
Кольцо Сарумана
Имя — Курумо. Взлетающее на первом слоге, и спадающее к последнему. Тонкая радужная спираль. Три легких танцевальных шага. Нечто таинственное, завуалированное, куда более утонченное, чем Саруман. Курумо. Он с удовольствием перекатывал это словечко во рту, смакуя его, как изысканное кушанье — розоватый сладкий лед с запахом розы, Курумо. Его губы вытягивались трепетно и чувственно, когда он произносил это имя, любимое имя. «Курумо», — произнес он восхищенно, с томным наслаждением разглядывая себя в полированном зеркале — красивого, холеного, умудренного годами мужчину в белых одеждах из блестящей ткани, отражающей и до неузнаваемости меняющей цвета, так что одеяние его казалось радужным. Он нравился себе. Ему нравилось в себе все — лицо, фигура, движения, голос. Пожалуй, он сравнил бы себя с бархатом или тонкой замшей. Ему нравилось, что он глава Совета, что он мудрее всех, и что все это признают. Он нравится себе таким — красивым, мудрым, Повелителем. Он был на вершине власти. Но — подспудно в его сердце шевелился страх. Курумо почти успокоился за свою судьбу. Он уверил себя в собственной безопасности и поверил этому. Он так хотел верить в это, что поверил. Поверил, что Намо не доберется до него здесь. Поверил, что Саурон бессилен. Поверил, что все беспрекословно ему верят и подчиняются, и восхищаются им. Поверил, что в силах создать Кольцо.
Он уже достаточно много знал о Сауроне и Кольцах — как из записей в хрониках Гондора, Арнора, Имладриса и Лориэна, так и от свидетелей и современников создания Колец. Многие эльфы Холлина еще оставались в Средиземье среди подданных Галадриэли и Кирдана, хотя ни один из них не был достаточно сведущ в высшей магии, чтобы точно рассказать, какие именно заклятья произносил Саурон. Эльфы ничто не забывают, но все ли из того, что они помнят — истинно? Все ли они запомнили верно? Все ли поняли? Курумо надеялся по рассказам эльфов вычислить, какие именно были заклятья. Казалось, ему это удалось. Ему так казалось. Затем — металл. Уже в этом-то Курумо разбирался — как-никак, ученик Ауле! Все сходилось на том, что Кольцо было сделано — из любимого металла Курумо, металла царственного и красивого, металла корон и власти. Так считали и эльфы — те, что видели его на руке у Саурона. Так писал Исилдур. И Саруман думал, что именно золотым должно быть Кольцо Власти.
Куча книг, уйма пергаментов — и все о Кольце. Весь книжный покой Ортханка был завален ими. Но Курумо не собирался повторять Саурона. Он хотел свое Кольцо. Сильнее Кольца Врага. И суть и цель кольца должна быть иной. Однажды это Кольцо должно было быть сильнее. Курумо усмехнулся. Он помнил заклятье Кольца. Что ж, цели заклятья вполне подходили ему. Отлично. Хорошо, что эльфы запомнили заклятье, хотя, честно говоря, внутренне Курумо сомневался в том, верно ли они поняли его. Ведь на древнем языке Тьмы произносилось оно, от которого происходили все языки Арды. Могли и напутать. Курумо надеялся своим исскусством и мудростью дополнить то, что не поняли эльфы.
Он вновь перечитывал старинную хронику Холлина. Огонь неба? Чаша Ночи? Что ж, Огонь неба, огонь Эа будет побежден огнем не-Эа. Чаша Ночи… Будет Чаша дня, ибо свет гонит Ночь. Так Враг сделал Девять Колец, наверное, и одно он делал так же. Правда, странным было одно — «закалено в огненной крови Арды». Кровь Арды… Огонь Арды? Огонь неодушевленного? Курумо заходил по чертогу, и факелы красили алым его лицо и одежду.
Крыса была почти слепа. Она и ее предки с незапамятных времен жили в подземных ходах, которые вырыли в теле Арды ненасытные существа. Она боялась и не любила света, но ей хотелось его иметь, ибо она инстинктивно чувствовала его ценность и силу. Потому она исподволь следила за светом, как за врагом и добычей. Уже давно ли она жила под Ортханком и питалась падалью, что сбрасывали в подземный коридор. Однажды она обнаружила новый ход, и осторожно вошла туда, нервно дергая длинным черным носом в поисках пищи. Это был новый ход, недавний. Опасный. В то же время там чувствовалось что-то свое, близкое. Она решилась и, бесшумно переступая, тенью побежала туда.
Низкий круглый зал с грубым угловатым куполообразным потолком. Темно-серые стены. Пол — гладкий, почти зеркальный, крысиные лапки скользили. Неудобно. Опасно. Посредине — высокий серый куб. Почти куб — в высоту меньше, чем в длину и ширину. Шершавый, зернистый. На одной линии с ним по обе стороны зала — два золотых светильника; плоские чаши на золотых ножках. Тяжелый сладковатый дурманящий запах. Опасно. Мрачно-красное пламя чадит, коптя потолок, и он становится тяжелее и ниже, и давит все сильнее. Крыса испугалась — не упал бы. Что на столе — она не видела. Над входом висела яркая золотая пластина в виде симметричного облака, из которого смотрел симметричный глаз, и под ним скрещивались две молнии. Над облаком простиралась десница. Пластина была неестественно блестящей для этого места, и на редкость плоской, какой-то ненастоящей. Неуютно. Крыса юркнула в знакомый левый ход. Справа ход был совсем темным и душным. Там что-то жило. Крысе не хотелось туда. Чужое. Страшно. Она трусцой перебежала в левый ход и затаилась. Не перепадет ли чего-нибудь? Ее черный нос подергивался.
Родной брат Арогласа, предводителя северных Дунедайн, носил старинное имя Бериар. Он был скорее человеком книжным, чем воином, хотя сражаться он был горазд и мечом, и копьем, пешим и конным. На севере мало читали — после разгрома Артедайна городов не осталось, книгохранилища сгорели и мало что уцелело. Да и интерес к старой мудрости мало кто проявлял. Главным было — выжить. Дунедайн жили небольшими поселениями или в деревенских городищах, были бедны и темны в большинстве своем, и лишь воинственность да удачливость в бою и набегах могли выделить человека среди этого грубоватого измельчавшего народа, для которого память о былой славе уже стала почти сказкой. Бериар знал, что ныне вся мудрость севера живет в доме Элронда, где он с братом воспитывался в детстве, и теперь его пути часто приводили его в Имладрис. Там было спокойно — казалось, Имладрис был иным миром, вложенным в Средиземье, но четко отграниченным от него. Бериар словно попадал в сказку, приходя сюда. Он любил читать старые летописи — об истории своего рода, о древних веках Средиземья, когда здесь жили только эльфы, о славе и гибели Нуменора… Пожалуй, потому именно он больше всего узнал о тревогах мудрых, о Кольцах и Враге. Именно в Ривенделле он познакомился с Саруманом, главой Совета. Он очень понравился Бериару, он считал его величайшим из мудрых, да к тому же чрезвычайно обаятельным и ласковым. Бериар вместе с Саруманом много занимался проблемой Кольца, творением его. Молодому человеку было очень интересно разбираться в этом, сначала без какой-либо цели, из любопытства, затем уже — для победы над Сауроном Черным, Врагом Средиземья и Валинора. И когда Саруман предложил ему перебраться к нему в Ортханк, Бериар с радостью согласился.
В Ортханке были люди. Правда, молодого человека удивила их молчаливость и беспрекословность, почти рабское повиновение Саруману. Но впрочем, Саруман сказал, что это — низшие, что от них ждать. Только быть рабами и могут. Бериара это несколько покоробило, но он быстро забыл об этом — его увлекла идея создания Кольца более могучего, чем Кольцо Врага. Правда, что с ним дальше делать, Бериар не представлял, да и не слишком-то задумывался.
Они сидели вдвоем в книжном покое, и еще раз пересматривали свои выводы: завтра должно было начаться Творение.
— Итак, — горячо говорил Бериар, — огонь Арды и Эа побеждает сила Пустоты. Огонь Пустоты — для плавки, в чаше Света, — он коснулся блестящей светящейся неприятным зеленым светом чаши. Он не знал, что Саруман создал ее не из Света а из не-Тьмы, — заклятье мы знаем. Вроде, все! Так что, начнем завтра, да? — с мальчишеским азартом и любопытством спросил он. Саруман, улыбаясь, закивал.
— И мы победим Врага, — внушительно добавил он.
Крыса с любопытством и страхом наблюдала из-за угла за всем, происходящим в чертоге. Там было двое людей. Один — крепкий благообразный старец с серебряными кудрями, в блестящих белых одеяниях, другой — высокий молодой человек, сероглазый и темноволосый. Старец здесь был явно главным — он что-то говорил, а его спутник стоял, прислонившись спиной к стене и, замерев, смотрел на все это со смесью любопытства, благоговения и ужаса.
Он произносил заклятье, но это не были те слова, что произносил Саурон, ибо шли они не из Тьмы, а из Ничто. И тот огонь, что вырвался из недр серого камня, был бесцветен и невидим, и лишь по тому, как зеленоватым мертвенным светом налилось все вокруг, Бериар понял, что заклятье подействовало. И стало ему почему-то не по себе. Дрожащими руками он подал сверкающую каким-то гнетущим душу светом чашу. Он коснулся руки Сарумана — она была холодной и липкой, как рука разлагающегося трупа, лицо его и руки были гнойно-зеленоватыми; казалось, сама внешность его менялась. Теперь его лицо было жутким — облипший скользкой гниющей кожей череп, рваный ухмыляющийся беззубый рот… Почему-то в этот миг Бериар почувствовал, что это лицо не наваждение, а истина. Он мотнул головой, прогоняя страх. Саруман произносил заклятья. Голос его обволакивал разум, проникал в мозг тошнотворным ужасом. Бериар почувствовал, что дрожит. Холодный пот ручьями тек по его лицу; он прижался к стене. Ноги его подломились, его вырвало. Его охватил ужас. Что-то чужое выпадало из ниоткуда и дрожало между ладонями Сарумана. Он выпустил нечто злое, ужасное. Он хотел крикнуть, предостеречь — но язык не слушался его. Рот наполнился горькой слюной, в ушах колоколом гудел голос Сарумана.
Он очнулся от холода — ему в лицо плескали водой. Над ним склонился Саруман — прежний, участливый, ласковый. Он гладил мягкой холеной ладонью его по голове.
— Что ты, друг мой? Конечно, это нелегко выдержать. Смертному тяжело справиться с силами… вселенной. Но ничего, все получилось. Золото плавится, заклинания произнесены. Скоро мы наполним металл магической силой, и получим Кольцо, сильнее Кольца Врага.
— Я боюсь… Мы, кажется, что-то напутали… Что-то злое… Саруман, может нам остановиться? Я боюсь, мы не сможем справиться с Кольцом… — Саруман мгновение смотрел на него, затем громко расхохотался.
— Ох, друг мой, никогда я не смеялся так! Но ведь в кольце — наша сила! Неужели мы не справимся сами с собой? Разве ты не уверен в себе, Бериар из рода Элроса?
Молодой человек с сомнением покачал головой.
— Иногда человек не знает сам себя, Саруман. Я начинаю бояться себя.
Его серые глаза были полны страха, он умолял о поддержке. Саруман успокоил его.
— Но ведь я не человек. Я не боюсь себя. Если так суждено, — он вздохнул, — я возьму бремя Кольца на себя. Будет мне нелегко, но я постараюсь справиться. — Он одобрительно улыбнулся, — Ты отдыхай, набирайся сил. Нам еще много нужно сделать.
В тот вечер они вдвоем сидели у огня. Наступил последний этап Творения. У Бериара было почему-то тяжело на сердце, и он тоскливо смотрел на пляску пламени в камине, вяло слушал Сарумана. Он почти не улавливал смысла его речи.
— Одно — свяжем всех людей волей. Все живое в Арде подчинится мне. Даже Саурон. Это — победа.
Бериар недоуменно поднял голову.
— Но ты говорил… Ничего не понимаю. А как же силы Арды?
— Эльфы имеют для этого три кольца. И они тоже подчинятся мне. Все будет здесь! — он поднял кулак. — Но до этого еще далеко. Кольцо уже есть, оно лежит в чаше. Осталось закалить.
— В огненной крови Арды…
— Нет. Это было бы для повелевания стихиями. А нам нужны умы и воля. Нужна живая кровь. А живые принесут мне все. Власть.
Бериар в ужасе и изумлении поднял глаза на Сарумана.
— Живая кровь? Кровь людей? — проговорил он громким шепотом. Саруман ухмыльнулся ему в лицо.
— Почему же людей только? Эльфы тоже живут в Средиземье. Саурон — майя. Так что эльфов и майяр тоже. Так-то, друг мой.
— Может, еще и орков? — глаза Бериара сузились. Он готов был броситься на Сарумана.
— Зачем же? Орки — эльфийская кровь. Да они и так нам служат.
Словно молния ударила Бериара. «Предатель!» — мысли обезумевшей кошкой метались в его голове. «Убить! Убить немедля!» Он выхватил кинжал и бросился на Сарумана. Орки выскочили, словно из-под земли. Саруман даже не шевельнулся. Через несколько мгновений отчаянной борьбы Бериар лежал связанный на полу. Саруман наклонился к нему.
— Ах ты дурак, — почти нежно сказал он — ты так и не понял, что я бессмертен, да? Я — майя, дружочек. Так-то. — Он довольно улыбнулся.
— …Ты не дослушал меня, друг мой. Так вот — понимаешь ли, кровь Арды — это власть над неживым. Неживое всегда управляется живым. Итак, нам — он усмехнулся, — нужно повелевать живыми. Их волей и умами. Мы повелеваем живыми. Живые — всем неживым. И все — у меня на поводке. Не так ли? Ну вот. Теперь ты должен понять, что необходима закалка в живой крови. Для повелевания людьми — в людской, эльфами — в эльфийской, майяр — в крови майя. Разве не логично? Логично. Жаль, Валы нет, — вздохнул Курумо, — а то и Валинор покорил бы. Верно ведь, а дружочек? То-то. Ну что же, время подходит. Пора завершить труд. Кстати, в тебе, кажется, кровь и людская, и эльфийская, и майяр? Не так ли, друг мой? Велика будет твоя слава — в твоей крови закалится Кольцо, что одолеет Кольцо Врага. А потом мне никто не страшен — ни Саурон, ни Мандос, ни Моргот. Так-то, друг мой, — усмехаясь, заканчивал он, глядя в расширившиеся от смертного ужаса глаза Бериара.
Его втащили в низкий зал и бросили на серый стол. Саруман стоял, держа в холеных белых руках чашу с остывшим Кольцом. По его знаку орки ушли. И когда Бериар увидел приближающийся с неумолимостью времени к его горлу золотой изогнутый нож, он вскрикнул, ничего не сознавая уже:
— Будь ты проклят, подлец, Саурон отомстит за меня!
Кровь хлынула в чашу. Содрогающееся в агонии тело Саруман столкнул на пол. Чаша стояла на столе. И прозвучали слова заклятья: […]
При последних словах Саруман опустил руку с кольцом в чашу, и кровь исчезла — Кольцо всосало ее, и золото стало отливать красным, и, словно вырезанные по живому телу, выступили слова Заклятья на Кольце, наполненном живой кровью.
Труп он отволок в левый проход, в коридор. Крыса принюхалась. Еда. Много еды. Надолго. Хорошо. Только бы никто не нашел. Она оглянулась и потрусила в коридор. Искать.
Саруман был мудр. Очень мудр. Но здесь он ошибся. Ничто не могло быть связано живой кровью человека, ибо в людях был Потаенный огонь Мелькора, побеждающий небытие. Но теперь Ничто вошло в Сарумана и стало его сущностью. Ничто — на это его обрек Намо — ждало его. Пока он был еще силен и мог повелевать этой серой силой. Но она неминуемо должна была со временем высосать его.
Он сидел на своем золотом троне усталый и довольный. Пламя красило его блестящие белые одежды в разные цвета, чаще — в цвета крови. Но ему было все равно. На его холеной белой руке с длинными багровыми ногтями было Кольцо. Ему не терпелось испытать его силу. И он пожелал, чтобы Девять Черных прилетели к нему и признали его своим господином. Кольцо вспыхнуло и нагрелось, отдавая силу. Он радостно вскрикнул, когда черная фигура встала на порог. Но под страшным взглядом черного он замер. Молодое твердое упрямое лицо, седые волосы, тонкий серебряный венец на голове. Взгляд пронзительных глаз пригвоздил его к трону, и бледный меч мелькнул у горла. И вновь в мозгу прозвучали слова: «Ты превратишься в ничто». Черный еще несколько секунд смотрел на него. Затем он резко повернулся и ушел. Черный плащ метнулся огромным крылом. Ужас охватил Сарумана. Ползучий, липкий, тошнотворный животный ужас. Кольцо не действовало. Проиграл. Он тонко завыл, закрывая лицо — изменившееся, лицо трупа… Что же делать? Что, Что? И сам себе ответил — скорее искать Кольцо Врага. Другого пути нет.
Ночной визит
Почему люди решили поселиться здесь, в местах безлюдных и сумрачных, где до ближайшего жилья — день пути, где изредка появлялись только Дунэдайн? Скорее всего, и сами обитатели дома у дороги не смогли бы ответить на этот вопрос. Видно, предок их, построивший в глуши свой добротный приземистый дом, был человеком нелюдимым и замкнутым: кто другой смог бы жить здесь, неподалёку от Ангмарских гор, где и века спустя жива была память о Короле-Чародее?
…Стоял один из тех неярких дней ранней зимы, когда трава ещё проглядывает из-под тонкой батистовой ткани снега и кое-где на ветвях трепещут забытые лоскутья листьев. В небе уже зажглись первые звёзды, и в доме у дороги затеплились огоньки свечей.
В дверь постучали.
— Ну, кого там ещё нелёгкая несёт? — недовольно буркнул хозяин, — Чего надо?
— Не пустите ли обогреться, добрые люди? — откликнулся молодой голос.
— Шляются тут всякие… — проворчал хозяин, — Почем я знаю, что ты за человек?
Однако дверь отпер. Голос не внушал недоверия, и кто откажет в такой малости одинокому путнику?
Вошедший был строен и высок ростом, и казался бы совсем мальчишкой, если бы не седые волосы и горькие складки в углах губ. Он светло улыбнулся, поклонившись хозяевам, и молвил:
— Мир дому вашему, добрые люди.
Хозяин мгновенно определил, что перед ним не иначе как потомок высокого рода:
— Не прогневайся, молодой господин, что не ласково встретили тебя. Места, сам знаешь, глухие, и люди здесь разные попадаются… Присядь у огня. Эй, хозяйка, принеси вина! Не обессудь, вино-то у нас не очень…
Незнакомец улыбнулся.
Вино было крепким и кисловатым, но хлеб!.. Только что испечённый, мягкий, с хрустящей тёмной корочкой… Юноша ел с заметным удовольствием; хозяин расспрашивал о столичных новостях.
— Не в обиду тебе будь сказано, молодой господин, почему ты в чёрном ходишь?
— Это траур, — помолчав, ответил юноша, и что-то странное появилось в его больших спокойных глазах.
Хозяин спохватился:
— А как же конь твой, молодой господин! Эх, не догадался я сразу… пойду присмотрю за ним…
— Не нужно. Я привязал его там, во дворе. Ничего ему не сделается.
Хозяин и сам не заметил, как, вместо того, чтобы расспрашивать гостя, начал говорить о своей жизни, о заботах, о том, что — «хлеб в этом году уродился добрый, а вот зверья в лесах поубавилось — зима, видать, холодная будет, вот и перебираются туда, где потеплее…» Гость слушал внимательно, изредка вставлял вопросы.
В соседней комнате заплакал ребёнок. Хозяйка, извинившись, ушла, но тоненький захлёбывающийся плач не утихал.
— Давайте я попробую, хозяюшка, — сказал гость, появляясь в дверях.
— Да что уж, благородный господин… Я и сама как-нибудь, — смутилась та, но юноша уже присел у кровати.
— Ну, что ты? — мягко заговорил он, — Сон страшный увидел?
Мальчонка, всхлипывая, протянул:
— Да-а…
— Ты успокойся, маленький северянин. Как зовут тебя, скажи?
— Дарн, — мальчишка шмыгнул носом.
— Хорошее имя… Хочешь, Дарн, я расскажу тебе сказку?
— Хочу-у…
— Только уговор: больше плакать не будешь, да? Слушай.
* * *
«Дерево было юным. Никогда ещё не облетали его зелёные листья, и не знало оно зимы, и казалось ему — лето будет вечным. Но случилось так — холодный ветер прилетел и завыл: «Уйдёт тепло; серые тучи я нагоню, и снег покроет землю, и всё умрёт, и не будет видно Солнца!» И вот — затянуло тучами небо, и не стало солнца. А ветер зло смеялся и рвал ветви Дерева. Уныло и холодно было вокруг, и детёныши зверей, родившиеся летом, мёрзли и, не видя Солнца, плакали от страха и тоски. И подумало Дерево: «Всё лето Солнце грело меня, всё лето пило я его тепло и свет, его лучезарную благодать. Разве не живёт во мне сила Солнца?» И Дерево засветилось, отдавая весь тот свет, что летом подарило ему Солнце. Оно стояло, как золотой факел, и ветер утих, удивлённый. И зверёныши перестали плакать и дрожать, и хмурый день осветился радостью. Но вот — обессилело Дерево, опали его золотые листья, стекли на землю, как слёзы или пот тяжких трудов. Ушла из Дерева жизнь. И ветер устыдился. Пригнал он снеговые тучи и мягким белым покрывалом укутал Дерево в его смертном сне. И тишина стояла зимой, чтобы никто не смел потревожить Дерево, и тихо пел ему песни ветер…
Когда же Солнце набрало силу и разбудило Дерево, так сказало оно: «Отныне в тебе будет моё тепло и мой свет — для всех. Осенью ты всегда будешь светить, а зимой алым огнём сгорать в очаге, согревая сердца людские.» И стало по слову Солнца.
Оттого-то так хорошо у огня в зимние вечера, оттого всегда мы льём в огонь каплю масла или вина, бросаем кусочек янтаря или ароматной смолы, или пучок душистых трав — из почтения к Дереву, Солнцу и Огню. Оттого священным почитает Дерево Народ Тишины…»
* * *
Гость замолчал, а мальчик всё смотрел на него завороженными глазами:
— Как ты рассказываешь… — выдохнул он, наконец, — Там все такие, как ты?
— Где — там?
— Ну, там, где ты живёшь?
Юноша улыбнулся:
— Нет, не все. Там много людей гораздо лучше, чем я.
— Разве такое бывает? Как в сказке…
— Бывает, Дарн.
— Там твой дом?
— Нет. Теперь мой дом в другой земле.
— Расскажи… — попросил Дарн, не сводя глаз с юноши.
* * *
…Там звёзды — крупные и холодные, — висят так низко, что, кажется, до них можно дотронуться рукой. Там — белые светящиеся цветы, похожие на ломкие горьковатые звёзды. Там лёгкие высокие мосты над ледяной тёмной рекой: «Как чёрный хрусталь — видишь камень в моём кольце?» Там странные статуи — как сгустки звёздной ночи, и горы поют — нужно только прислушаться… Там крепость, словно высеченная из лунного камня, из застывших лучей луны, и уходящие в небо острые шпили, и хрупкие башни… Там звёздные туманы медленно текут с гор, там не бывает яркого солнца — днём небо затягивают облака, и солнце кажется огромным белым опалом…
* * *
— Я хочу видеть это. Можно? Можно я как-нибудь приду туда — к тебе?
Юноша покачал головой.
— Почему?
— Спи, Дарн. Я спою тебе песню — как поют в Земле-у-Моря, откуда я родом…
* * *
— Что там?
Хозяйка прислушалась.
— Поёт… Странный он какой-то… Может странствующий певец?
— Ну да! Меч-то — видела? Он — воин, и, видно, не простого рода: рукоять-то золотая.
— Волосы у него седые… с чего бы это? — хозяйка жалостливо вздохнула, — Ведь молоденький совсем…
— Видно, несладко ему пришлось. Говорил же — траур носит. Кто знает — может, Безымянный, не к ночи будь помянут, снова чуму на Гондор наслал, и его родители умерли…
— Бедненький, — женщина снова вздохнула.
* * *
…А в песне слышался шорох волн и крики чаек, шум ветра и людские голоса… Странная песня, каких не поют в Средиземьи; странная песня, какой не сложить даже Эльфам, ибо мало знают они о людских печалях… Непонятная и манящая, грустная и ласковая… И летят по волнам белые корабли под серебристо-зелёными парусами…
Застывшая пена морская звенящие башни твои О Элдайн Город Звезды На белых крыльях твои корабли Как скорбные птицы уносят нас прочь И нам никогда не вернуться О Элдайн Город Звезды Лишь память осколком соленого льда Пронзившую сердце уносят с собой твои сыновья О Земля под Венцом Средиземья Забвенье туманом укрыло твои острова Но сияет звезда и память жива в сердцах Сынов твоих ЭллэсКогда гость взглянул на Дарна, мальчик уже спал. Юноша поднялся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.
— И как это у тебя выходит, господин? Я, бывало, до ночи его успокоить не могла… А вот ведь — спит, да ещё и улыбается во сне… Что ты ему рассказал?
— Просто — старую, старую сказку.
— Я налью ещё вина? — предложил хозяин.
Юноша кивнул.
* * *
Дверь содрогнулась от тяжёлого удара. На пороге стояли двое Следопытов — обнажённые мечи в руках, дорожные плащи — в пятнах грязи, на лицах — смесь ужаса и ярости.
— Назгул! — взревел один из них, — Это назгул! И тварь его крылатая у порога! Вражьих слуг привечаете?!
Юноша медленно обернулся к вошедшим и встал. Те отшатнулись в страхе. Несколько мгновений люди смотрели на призрачную фигуру в чёрных одеяниях с пылающими, как угли в очаге, глазами.
Дикий женский крик!..
Дверь в детскую приоткрылась; на пороге появился Дарн, протирая заспанные глаза. Недоуменно оглядел людей; взгляд его остановился на лице Чёрного, в котором были лишь боль и растерянность.
— Ты что? Тебя кто-то обидел? — Дарн подбежал к нему, шлёпая босыми ногами по деревянным, до блеска натёртым доскам пола.
— Ничего, — с трудом выговорил Чёрный, пытаясь улыбнуться, и погладил спутанные тёмные волосы мальчишки.
Словно в дурном сне, когда никак не можешь проснуться, люди видели, как колыхнулся пустой рукав чёрного одеяния. И страшным бредом казались слова ребёнка:
— Ты уже уходишь? Но ведь ты вернёшься, правда?
— Нет, — Чёрный покачал головой, — Я никогда больше не вернусь. Прощай, Дарн.
Женщина снова взвизгнула, а Чёрный медленно прошёл мимо замерших от ужаса арнорцев, обернулся в дверях и ещё раз посмотрел на мальчика.
— Прощай, — повторил он.
Больше ничего. Шорох огромных чёрных крыльев и ледяной ветер, ворвавшийся в дом.
* * *
…Элвир летел навстречу ветру, всхлипывая от почти детской горькой обиды.
«За что же, почему, почему так? Что я сделал плохого? Сидели, разговаривали, пили вино… Неужели только из-за того, что я — другой? Ведь я ничем не обидел их… за что? Пусть я не такой, как они, но ведь я не желал им зла! За что же?..»
* * *
Он не знал, что никто и ничто уже не сможет заставить Дарна забыть об этой встрече. Что потом, повзрослев, маленький северянин всю жизнь будет искать, да так и не найдёт, — странную землю, где звёзды — крупные и холодные — висят, так низко, что, кажется, до них можно дотронуться рукой; где лёгкие высокие мосты над рекой, прозрачной и тёмной, как морион в кольце Короля-Звездочёта, где крепость, словно высеченная из лунного камня и звёздные туманы медленно текут с гор. Не знал, что Дарн будет искать, но так и не встретит того, кто спел бы ему прекрасную и печальную песню об Элдайн, городе Звезды. Что много лет спустя Дарн, воин Арнора, будет стоять среди трупов и развалин в Моргульском Доле, во вражьей земле, вертя в руках ломкий бледный цветок с горьковатым запахом, похожий на звезду, и полустёртое воспоминание о чём-то светлом и грустном будет мучительно ускользать от него, и почудится взгляд огромных серо-зелёных глаз и тихий голос: «Прощай…» И когда он пойдёт прочь, полой плаща вытирая окровавленный меч, покажется ему, что если сейчас обернуться, он вспомнит и поймёт всё. Но он не оглянется назад.
Приложения
Биографии назгулов по Ниэннах
1. Хэлкар — бывший нуменорский военочальник. В Мордор приволокли его живым после единственного проигранного им сражения. То, что произошло дальше, более всего напоминает историю Хурина («Моими глазами будешь ты видеть…»). Лет десять после воевал на стороне Ханатты (Ближний Харад) «во искупление грехов». В Мордоре принял имя Аргор. Hазывают также Королем. Кольцо — железный перстень со змеиным узором; камень — шерл (черный турмалин).
2. Великий Маг, последний король Ана (земля к Востоку от моря Рун). Пересказывать его историю суть дело неблагодарное; имя у него есть, но не знаем и пытаться узнать не будем (разве что само придет). По имени не называют никогда: Маг, Великий Маг, Ушедший король. Кольцо — стальное, первоначальный камень — молочный опал, потом — карбункул (что конкретно, не знаю, хотя явно не рубин).
3. Денна — пятый сын короля Ханатты; пришел в Мордор последним — вопросы позадавать. Позадавал. Получил ответы и кольцо — сам напросился. В 2280 был убит при осаде Умбара — почти всех, кто там был, умудрился вывести, а сам остался, ну и… Hазгулы, однако же, по смерти даже в Мандос не попадают, так что вернули его. Кольцо — простое стальное, камень — гематит.
4. Элвир — странник, из Земли-у-Моря. Этот ушел чтобы узнать о судьбе Учителя своего народа — Звезда привела. Узнал. С тех пор так волосы с проседью и были. Единственный Ученик Саурона и самый младший из Девяти. Убивать не умеет. Кольцо — простое стальное, камень — морион.
5. Сайта — кхандский адмирал, пират, рыжий, женат не был, но и женским вниманием обижен не был, потому оставил после себя многочисленное рыжее потомство. Сказанно — «прост сердцем», таков и есть. Прозывают Могучим. Кольцо — стальной перстень, камень — сердолик.
6. Эрион — нуменорец, целитель, интеллигент, слегка близорук и очень вежлив и мягок в общении. До поры до времени (пока «свой» пациент не появился) гуляет по южным и восточным землям — лечит и учит, и считается там чуть ли не богом-врачевателем. Кольцо — простое стальное, камень — гранат-альмандин.
7. Моро — потомок того самого Моро, и знак при нем, как и способность Видящего. Вот пришел, чтобы в себе разобраться, да так и остался на должности «штатного пророка». Зовут Пророком либо Провидцем. Родом с очень дальнего востока, чуть ли не с Моря Востока. Кольцо — простое стальное, с лунным камнем.
8. Хонахт (?) — с севера, из клана Совы, последний вождь с «совиными глазами» — золотыми, янтарными. Самый старший из Девяти, опять же — потомок того самого Хонахта, и Меч Hочи при нем. Из Летописцев (тамошние Видящие). Кольцо — стальная змея с глазами из гелиoтроnа.
9. Еретик — нуменорец, имени не знаем. Пришел сам — чтобы понять. Понял. Через шесть лет пришел навсегда — при невеселых обстоятельствах. Кольцо — вороненая сталь, камень — обсидиан.
Имена и названия
Ава карэ! (К) — Не делай этого!
айканаро (К) — ярое пламя
* айанто (А) — уважительное обращение («высокий»)
артано (К) — высший мастер
браннон (Н) — правитель, повелитель, лорд = Хэру или Тар- перед именем
бреннин (Н) — правительница, повелительница, леди
гвадор (Н) — брат, побратим = торон (К)
кайо`йиртх — «порожденье [как «тварь, чудовище»] бездны»; йиртх (сущ. неизм.) — то, что уродливо, отталкивающе, отвратительно (едва ли не единственное подобное слово в Ах`энн) > Орк
кэредир (Н) — создатель; тот, кто создает Найти эквиваленты (Квэниа)
марта (К) — обреченный
Соот-Сэйор — можно перевести как «Равновеликий»; прямое значение — «чистый кристалл покоя», несет идею абсолютной чистоты, прозрачности и симметрии, чистой созерцательной мудрости. В первом смысле — прозрачный кристалл правильной формы, например, ограненный в естественной форме алмаз. Избранное имя. Звездное имя — Гэллэнар (энор/энар — еще и «знание» < Эннор — небесный огонь, молния; букв., «стремящийся к постижению сути». Детское имя — Соото)
рандир (Н) — странник = ранэн (К)
«Тарно айанто*, мэй арантайне эл-коирэ Сайэ…» (А) — «Мастер, я сделал эту чашу радости/солнца»
тано (К) — кузнец, мастер; (А) Учитель; *данно(?) (Н)
тарно(А) — мастер
эл-эстъе коирэ-Сайэ (А) — «это будет — чаша Солнца»
энгъе! (А) — нет! (как абсолютный запрет)
этлендо (К), этленна (ОН) — изгнанный, изгнанник = эглед(х)рон (Н), эгленно
Примечания составителя
«Легенда о той, что ждет» (587 г. I Эпохи — 1100 г. II Эпохи)
«Безумная» (553–556 годы II Эпохи)
«О государыне Анкалимэ и сыне ее Анарионе» — вставка из локальной резервной копии
«Мастер» (1200–1500 годы II Эпохи)
«Ледяное сердце» (2149–2213 годы II Эпохи) — Март 1998
«Хэттан»
«Ушедший Король»
«О Духе Юга» — Иллет
«Звездочет» (2227–2235 годы II Эпохи)
«Тхэсса-оборотень» — в локальной резервной копии текст озаглавлен «Оборотень», Ниэннах
«Нуменорэ» (около 2251 года II Эпохи и позднее)
«Рыжебородый» (2257 год II Эпохи)
«Провидец» — в локальной копии текст озаглавлен «Назгул», Иллет
«О „Черных культах“ в южных колониях Нуменора» (2274 год II Эпохи)
«Дочь пламени» (2275 год II Эпохи)
«Лаиэллинн» (2275–2281 годы II Эпохи)
«Грозовой камень»
«Легенда о воительнице»
«Еретик» — в локальной резервной копии под заголовком «Исилхэрин», Иллет
«Пленение Саурона» (3262 год II Эпохи) — в локальной резервной копии без заголовка
«Аккалабет: Хэлкар» (3319 год II Эпохи)
«Ирисная Низина» (2 год III Эпохи) — восстановление текста из локальной резервной копии
«ИСТАРИ. Начало» (998 — 1000 годы III Эпохи)
«Песнь Девяти» (1980 год III Эпохи) — в локальной резервной копии текст озаглавлен «Поющие Башни», Иллет
«Сказочница» (2296 год III Эпохи)
«Гэндальф» (2850 год III Эпохи)
«Белый Ирис» (2952 год III Эпохи)
«Кольцо Сарумана»
«Ночной визит»
ДОПОЛНЕНИЯ:
«Окончание Войны Кольца» (анекдот) — анонимная вставка, пропущена
«Биографии Назгулов по Ниэннах» — дополнение публикатора (Ash-kha)


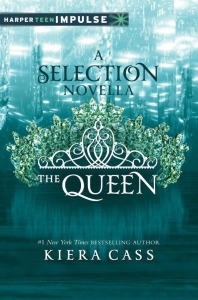
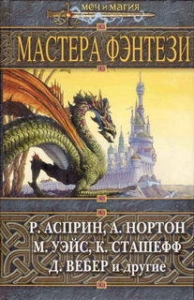
Комментарии к книге «Летопись 2. Черновики», Наталья Эдуардовна Васильева
Всего 0 комментариев