МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ
От издательства
Роман «Всегда возвращаясь домой» (1985) относится к наиболее интересным и необычным произведениям самой, пожалуй, своеобразной писательницы в мировой научной фантастике — Урсулы ле Гуин.
Сотворенный воображением писательницы и ее коллег, помогавших создавать дополнительный материал книги — рисунки, карты, язык, даже музыку и песни (прилагавшиеся к оригинальному изданию на отдельной аудиокассете) — мир долины реки На, где живет народ Кеш, одновременно фантастичен и убедителен. Убедителен — потому что каждая его деталь выверена, достоверна, соответствует философии, мировоззрению, среде обитания (гумилевскому «этноценозу») вымышленного народа. И фантастичен — потому что Долина существует как бы вне времени, несмотря на разбросанные по тексту указания, позволяющие понять: дело происходит много веков спустя, когда привычная нам техническая цивилизация распалась под своей тяжестью, оставив по себе лишь груз тяжелых наследственных болезней, да осколки пенопласта («шарики фумо»), образующие «огромные скопления в южных морях»... Низкотехнологичная, сращенная с природой культура Кеш, как и культуры их многочисленных соседей, сложилась в местах, соответствующих нынешней Северной Калифорнии. Но как это произошло — остается загадкой. Хотя система Обмена Информацией, Столица Разума, — самоподдерживающаяся сеть компьютеров — позволяет любому желающему получить все сведения по истории, никого в Долине это не интересует. Историческое время, без которого мы не мыслим себе культуры, для Кеш лишено всякого смысла. Книга носит подзаголовок «опыт археологии будущего», но от археологии, науки, привычной и знакомой ле Гуин, в нем осталось немного — разве что обманчивая серьезность «комментариев». Скорее ее можно отнести к наиболее последовательным образцам постмодернизма в НФ. Большую часть объема книги составляют тексты «из Долины», описание ее мира глазами ее же жителей, безыскусное и ясное — биографии, стихи, отрывки литературных произведений, и собственно роман, повествование женщины, взявшей себе имя Говорящий Камень, о ее уходе из Долины, жизни с Дайяо — народом Кондора, сохранившим в полной мере недобрые черты нашей погибшей цивилизации и нацеленным на завоевания, и возвращении домой.
Одни из самых сильных сцен книги — сцены непонимания, возникающего между Ивушкой из Долины и Тертером Абхао из народа Кондора при обсуждении самых простых, базовых понятий, причем оба искренне уверены, что имеют в виду одно и то же. На языке Долины нельзя даже выразить отношение к человеку, как к собственности, а слова «я богат» означают в нем «я много дарю»...
ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ Книга первая
ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРВОЕ
Люди, описанные в этой книге, возможно, будут жить через много-много лет в Северной Калифорнии.
Основа книги – их живые голоса; они рассказывают легенды и истории, разыгрывают спектакли и поют песни. Если читатель постарается смириться с некоторыми незнакомыми словами, то все они в итоге станут ему ясны. Будучи автором романов, я, приступая к этой работе, решила, что лучше все пояснения и примечания поместить отдельно, в последней части книги, которая называется «Приложения», тогда те, кого больше интересует сюжет, смогут не обращать на примечания особого внимания, а те, кто любит всяческие комментарии, получат их. Глоссарий также может оказаться для кого-то весьма полезным, а для кого-то просто любопытным.
Существенными представляются проблемы перевода с языка, которого пока еще нет в действительности, однако не следует их преувеличивать. В конце концов, прошлое может быть не менее туманно, чем будущее. Древняя китайская книга «Дао Дэ Цзин» десятки раз переводилась на другие языки, и, конечно же, сами китайцы тоже бесконечное число раз переводили ее с более старого китайского на более новый, но ни в одном из этих переводов нет того, что мы могли бы прочесть у самого Лао Цзы (которого, возможно, и на свете никогда не было). Мы имеем возможность читать только сегодняшнюю «Дао Дэ Цзин». То же самое и с переводами литературы отдаленного будущего. Тот факт, что эти произведения пока еще даже не написаны, то есть в природе нет текста, который нужно перевести, вовсе не делает различие между переводом литературы далекого прошлого и отдаленного будущего столь значительным. То, что уже было, и то, что еще только будет, объято молчанием и подобно лицам не рожденных еще детей, которых мы увидеть не можем. В действительности же нам доступно только одно: то, что существует сегодня, сейчас.
ПЕСНЬ ПЕРЕПЕЛКИ ИЗ ТАНЦА ЛЕТА
Тропою, берегом реки, из заливных лугов, из дальних полей, тропою, берегом реки спешат две перепелки. Спешат две перепелки, взлетают, поспешают. Бегут две перепелки, взлетают, поспешают из заливных лугов.ПО ПОВОДУ АРХЕОЛОГИИ БУДУЩЕГО
Сколь велик восторг ученого, когда бесформенные кочки и канавы, заросшие чертополохом и кустарником, начинают вдруг приобретать некие конкретные формы: ура! здесь был внешний крепостной вал – вот ворота, а вот и амбар для хранения зерна! Сперва мы будем копать здесь и здесь, а потом я бы хотел еще взглянуть, что это там, под тем бугорком на склоне…
Ах, как хорошо им ведом настоящий восторг, когда вдруг вместе с просеиваемой землей проскользнет маленькая металлическая пластинка, а потом – одно прикосновение большого пальца, и перед вами изящная чеканка по бронзе: рогатый бог! Как я завидую им, их лопатам и ситам, их рулеткам и прочим их инструментам, а также – их мудрым умелым рукам, которые могут коснуться того, что находят! Но им недолго удается подержать свои находки в ладонях; они, разумеется, отдают их в музеи; и все-таки какое-то время они действительно держат в своих руках Прошлое…
В конце концов и я отыскала тот город, который столько времени не давал мне покоя. После целого года раскопок в нескольких неверно выбранных местах и упорного следования разным дурацким идеям – например, той, что город должен быть окружен стеной с единственными воротами, – меня, когда я в очередной раз изучала его возможные очертания на карте Долины, вдруг осенило, как если бы из-за туч внезапно ударило солнце, озарив землю вокруг: этот город должен быть именно здесь, у слияния многочисленных ручьев и речек, буквально у меня под ногами. И никакой стены вокруг него нет и не может быть; да и зачем им какие-то стены?
То, что я в воображении своем приняла за ворота, было просто мостом над местом слияния ручьев. А храмы и специальная площадь для танцев оказались вовсе не в центре города, ибо Центром считается Священный Стержень, а значительно дальше, и располагались они по одному из витков двойной спирали – разумеется, по правому – прямо среди лугов, что начинаются сразу за главным зернохранилищем города. Ну и так далее…
Но у меня нет возможности, подобно археологам, начать здесь раскопки и надеяться при этом найти осколок черепицы с крыши, переливчатое стеклышко – ножку бокала для вина, или керамическое блюдце от солнечной батареи, или маленькую золотую монетку из Калифорнии, точно такую же (ибо золото не ржавеет), как была отчеканена где-нибудь в городке золотоискателей и потрачена на шлюх или земельный участок в Сан-Франциско, а потом, возможно, была переплавлена и какое-то время служила обручальным кольцом, а потом спряталась где-то в глубоком подземелье, что, возможно, даже глубже шахты, в которой некогда было добыто то золото, и никто, никакая полиция не смогли его отыскать, а потом, побыв колечком, оно превратилось в солнышко с золотыми кудряшками лучей и было подарено искусному ремесленнику в честь его великого мастерства… Нет, ничего подобного я там, увы, не найду! Его там просто еще нет. Нет там этого маленького золотого солнышка – как они говорят, оно не живет в Домах Земли. Оно – там, в воздушных высях, в неведомых просторах, что лежат за пределами сегодняшних дней и ночей, в Домах Неба. Мое золотое украшение прячется среди черепков разбитого кухонного горшка на том конце радуги. Копайте там! Интересно, что вы обнаружите? Ну, конечно, семена! Семена дикого овса.
Я могу пройти через поля, заросшие диким овсом и чертополохом, между домами того маленького городка, который так долго искала и который называется Синшан. Потом миную городскую площадь и Стержень и окажусь прямо на площади для танцев. Вон там, к северо-востоку, где сейчас растет этот могучий дуб, будет находиться хейимас Обсидиана, а совсем рядом – хейимас Синей Глины, покопайте-ка там, на северо-западном склоне горы; чуть ближе ко мне и ближе к Стержню расположена хейимас Змеевика; потом обе хейимас Красного и Желтого Кирпича – на юго-восток и юго-запад у тропы, ведущей к ручью. Им придется осушать это поле, если они захотят построить там хейимас, что они, по-моему, и сделают: построят под землей свои храмы, и только их пирамидальные крыши с окнами фонарем будут видны отсюда да украшенные орнаментом входы на лестницы. Это я способна видеть довольно ясно. Здесь мне позволено видеть внутренним взором все, что угодно. Я могу стоять посреди пастбища, где пока что нет еще ничего, кроме солнца и дождя, дикого овса и чертополоха да диких зарослей козлобородника; здесь не пасутся тучные стада, только мелькнет порой дикий олень, но я могу стоять здесь и видеть, закрыв глаза: площадь для танцев, ступенчатые крыши хейимас, луну, словно выкованную из меди, прямо над хейимас Обсидиана. Ну а если я прислушаюсь, то неужели не смогу услышать их голоса своим внутренним слухом? А вы, Шлиман, слышали голоса на улицах Трои? Если да, то и вы тоже были сумасшедшим. Все троянцы давным-давно умерли, три тысячи лет тому назад! Но кто из них дальше от нас, кто более недостижим, кого труднее услышать – мертвых или еще не рожденных? Тех, чьи кости истлели в зарослях чертополоха под землей, под надгробиями Прошлого? Или тех, кто скользит невесомо в мире молекул и атомов, там, где столетия пролетают как день, – прекрасных людей, живущих у подножия огромной, похожей на колокол Горы Вероятного?
До них не доберешься, сколько ни копай. У них еще нет костей. Единственные человеческие кости, которые можно было бы найти на этом лугу, – это кости первых здешних поселенцев, однако они никогда никого не хоронили здесь и, к сожалению, не оставили ни гробниц, ни хотя бы черепицы с крыши или осколка глиняного горшка; нет здесь ни старинных стен, ни монет. Если у них когда-то и был здесь город, то он должен был быть построен из того же, из чего сделаны леса и луга, и теперь совершенно исчез, растворившись в них. Можно сколько угодно прислушиваться, но ничего не услышишь: все слова их языка тоже исчезли, исчезли полностью. Они обрабатывали обсидиан, и это осталось; там, в долине, на краю частного аэропорта, принадлежащего одному богачу, была мастерская, и вы можете отыскать там сколько угодно осколков, но за все эти годы ни разу не попалось ни одного изделия целиком. Больше никаких следов не найти. Они владели своей Долиной очень легко, едва прикасаясь к ее миру, растворяясь в нем. Ступали по земле мягко. Так будут ступать и те, будущие, кого ищу я.
Единственный способ найти их, на мой взгляд, таков: возьмите на руки своего сынишку или внука, в крайнем случае «займите» у кого-нибудь из друзей ребенка месяцев десяти, но не старше года, и прогуляйтесь с ним среди дикого овса, которого много в поле за амбаром. Потом постойте под дубом в низине, внимательно глядя на бегущий ручей. Стойте, почти не дыша: вдруг ваш малыш увидит что-нибудь, или услышит чей-нибудь голос, или даже заговорит с кем-нибудь, явившимся из его далекого Дома.
ГОВОРЯЩИЙ КАМЕНЬ Часть 1
Говорящий Камень – это мое последнее имя. Я его получила по собственному выбору, потому что мне непременно нужно было рассказать о том, где я побывала в молодости; теперь-то я нигде не бываю, а просто сижу, неподвижная как камень, у нашего дома, в Долине. Я уже добралась до своей конечной цели.
Я из Дома Синей Глины, а живу вместе со всей семьей в Синшане, в доме под названием Высокое Крыльцо.
Мою мать в детстве звали Зяблик, потом – Ива, а потом она получила имя Пепел. Имя моего отца было Абхао, что на языке жителей Долины значит «убийца».
В Синшане детям часто дают имена по названиям птиц, ибо птицы считаются вестниками. За месяц до моего рождения на дуб, что рос под окном нашего дома Высокое Крыльцо, каждую ночь прилетала сова. Дубы, растущие с северной стороны нашего дома, называются Гаирга. И вот на один из них постоянно прилетала сова и пела там свою совиную песню; так что первым моим именем стало Северная Сова.
Высокое Крыльцо – дом очень старый, с крепкими стенами и просторными комнатами; потолочные балки и рамы там сделаны из секвойи, древесина которой имеет красноватый оттенок, а стены – из кирпича и оштукатурены; половицы дубовые; в окнах – прозрачные стекла в тесных переплетах. Веранды и балконы в доме широкие и красивые. Первой хозяйкой здесь была еще прабабка моей бабушки. Она жила в наших теперешних комнатах на втором этаже. Когда семья большая, ей обычно нужен целый этаж, но в нашей семье из старшего поколения была лишь моя бабушка, и мы втроем занимали только две западные комнаты. Мы немногое могли дать в общий котел. У нас был десяток диких олив и еще несколько плодовых деревьев на склонах холмов; нам принадлежал также небольшой питомник садовых деревьев на восточном склоне горы, ну и, конечно, мы сажали картошку, кукурузу и овощи на огороде у ручья, но урожай собирали небольшой и чаще брали кукурузу и бобы из общего хранилища, чем сами клали туда. Моя бабушка по имени Бесстрашная была ткачихой. Я помню, что, когда я была маленькой, мы никаких овец не держали и бабушке приходилось отдавать большую часть уже готовой ткани в обмен на овечью шерсть, из которой она снова ткала ткань, и так без конца. Первые мои детские воспоминания – это руки бабушки, которые мелькают туда-сюда над основой, натянутой на раму станка, и серебряный полумесяц браслета, что поблескивает у нее на запястье чуть ниже красного рукава рубахи.
Еще вспоминается, как я ходила в горы к роднику туманным зимним утром. Я тогда впервые отправилась за водой для празднования новой луны как дочь Дома Синей Глины. Я так замерзла, что даже заплакала. Другие дети стали надо мной смеяться и кричать, что я испортила священную воду, потому что накапала в нее слезами, но моя бабушка, которая руководила всей церемонией, сказала, что ничего я не портила, и разрешила именно мне весь обратный путь нести лунный кувшин; но я все равно без конца ныла и хлюпала носом: я замерзла, мне было стыдно, да и кувшин с родниковой водой оказался ужасно тяжелым. Даже и сейчас, став старухой, я хорошо помню и тяжесть кувшина, и промозглый холод зимнего утра, и плеск воды, и голые черные ветки дикой вишни – манзаниты в тумане; слышу голоса детей, что идут впереди и позади меня по крутой тропинке вдоль ручья, болтают и смеются.
Иду туда, иду туда, Иду туда, куда путь мой, И плачу над водой. И он туда, и он туда, Следом за мной Туман над водой.[1]Впрочем, я вовсе не была плаксой, скорее даже наоборот. Мой дедушка со стороны матери говорил: «Сперва посмейся, потом поплачь, или сперва поплачь, а потом обязательно посмейся». Он был из Дома Змеевика и родом из города Чумо. И уже немолодым снова вернулся в этот город и стал жить в доме своей матери. Бабушка моя к этому отнеслась спокойно. Она как-то сказала: «С моим мужем жить – все равно что желуди несоленые жевать». Однако время от времени она все-таки навещала его, да и он тоже приходил к нам летом, когда Чумо в жаркой низине пекся, как пирог в духовке, и жил с нами в летней хижине в горах. Его сестра по имени Зеленый Барабан была знаменитой танцовщицей, особенно славились ее Летние танцы, но семья их всегда отличалась скупостью. Дед говорил, что они бедные, потому что в свое время его мать и бабка отдали все, что имели, устраивая Танец Лета в Чумо. А моя бабушка говорила, что бедные они потому, что никогда не любили работать. Возможно, правы были оба.
Все остальные наши родственники жили в Мадидину. Сестра бабушки поселилась там уже давно, и ее сын женился на тамошней женщине из Дома Красного Кирпича. Мы часто бывали у них в гостях, и я играла со своим троюродным братом Хмелем и его сестрой по имени Пеликан.
Когда я была маленькой, непосредственно нашей семье принадлежали химпи, домашняя птица и кошка. Кошка у нас была совершенно черная, без единого белого волоска, очень красивая и воспитанная. К тому же отличная охотница. Мы обменивали ее котят на химпи, так что для химпи вскоре пришлось построить отдельную клетку. Я присматривала за химпи, за курами и старательно отгоняла котят подальше от загонов и клеток, размещенных под окружавшей дом верандой. Когда мне поручили заботу о домашней живности, я была еще так мала, что страшно боялась петуха с зеленым хвостом. Он это прекрасно понимал и вечно налетал на меня, тряся гребнем и бормоча какие-то свои угрозы, и тогда я кубарем перекатывалась через заборчик, отделявший загон для кур от загона для химпи, чтобы спастись. Химпи тут же вылезали из своих клеток и, посвистывая, рассаживались вокруг меня. С ними было даже лучше играть, чем с котятами. Я быстро поняла, что не стоит давать химпи имена и выменивать их на продукты или отдавать на убой живыми, а научилась сама одним ударом убивать их – ведь некоторые люди убивают животных небрежно и неумело, пугая их и заставляя страдать от боли. В ту ночь, когда одна из пастушьих собак вдруг взбесилась, забралась в загон и перерезала всех наших химпи, кроме нескольких малышей, я столько плакала, что даже мой дедушка остался доволен. После случившегося я несколько месяцев видеть не могла эту собаку. Однако само несчастье обернулось для нашей семьи неожиданной удачей: люди, которым принадлежала собака, дали нам в уплату за убитых химпи молодую ярочку. Овечка выросла и вскоре принесла двоих ягнят; так, через некоторое время моя мать стала пасти своих собственных овец, а бабушка ткала теперь ткани из их шерсти.
Я не помню, когда начала учиться читать и танцевать; бабушка говорила, что еще до того, как стала ходить и говорить. С пяти лет я по утрам ходила вместе с другими детьми из Дома Синей Глины в нашу хейимас, а когда подросла, занималась там с учителями; еще я посещала занятия в Обществе Крови, в Союзе Дуба и в Союзе Крота; там я узнала, например, про Путешествие за Солью; еще я немного занималась с поэтессой по имени Ярость и довольно часто бывала в гончарной мастерской у Глиняного Солнышка. Я быстро все схватывала, но мне и в голову не приходило отправиться учиться в один из больших городов, хотя некоторые из детей у нас в Синшане так делали. Мне нравились уроки в хейимас, нравилось принимать участие в чем-то большом, общем, куда более интересном, чем все то, что я знала до сих пор, и в этом я находила спасение от одолевавших меня страхов и еще – от странных вспышек гнева, которых сама я без чьей-либо помощи не могла ни понять, ни преодолеть. И все-таки училась я, конечно же, мало, можно было бы получить куда больше знаний, а я вечно упрямилась, чего-то опасалась, твердила: «Нет, этого я не сумею!»
Некоторые из детей, по злобе или по недомыслию, звали меня викмас – «бездомная», «полукровка». А еще я слышала о себе такое: «Она человек только наполовину». Понимала я это по-своему и, разумеется, неправильно, поскольку дома мне ничего не объясняли. У меня никогда не хватало храбрости задать этот вопрос в хейимас или сходить куда-нибудь еще, где я могла бы узнать, что происходит за пределами нашего маленького городка, и начать воспринимать Долину как часть чего-то гораздо большего, чем она сама, и в то же время как нечто целостное, включающее в себя и Синшан, и множество других городов. Поскольку ни мать моя, ни бабушка о моем отце совсем не говорили, то в детстве я знала о нем только, что сам он родом не из Долины, был здесь недолго и снова уехал. Для меня это значило только то, например, что у меня нет бабушки по отцу, нет отцовского Дома, – потому я и считаюсь человеком только наполовину. В детстве я даже не слышала о народе Кондора. Я прожила на свете целых восемь лет, и только когда мы отправились на горячие источники близ города Кастоха, чтобы бабушка могла полечиться от мучившего ее ревматизма, то там, на центральной площади Кастохи, я увидела наконец людей из племени Кондора.
Я расскажу об этом небольшом путешествии, совершенном много лет тому назад. Это было путешествие в Дом Безветрия.
В тот день, примерно через месяц после Танца Вселенной, мы поднялись рано, еще в сумерках. Я несколько дней откладывала свою порцию мяса и перед уходом скормила его нашей черной кошке Сиди, которая уже заметно постарела. Я опасалась, что она непременно будет голодать, оставшись одна, и мысль об этом не давала мне покоя несколько дней. Мать, заметив мои припасы, сказала: «Съешь-ка это лучше сама. А кошка отлично сумеет прокормиться, охотиться будет!» Мать у меня была женщина суровая и разумная. Но бабушка возразила: «Девочка старается насытить свою душу, а не кошку накормить. Оставь ее в покое».
Мы погасили огонь в очаге и ненадолго открыли двери настежь, чтобы в дом могли войти кошка и ветер. А потом спустились со своего высокого крыльца под последними, еще светившими на небе звездами; дома в сумерках были похожи на темные холмы. На открытых местах, например на городской площади, было значительно светлее. Мы миновали Стержень и двинулись к хейимас Синей Глины. Там нас уже поджидала Ракушка; она была из Общества Целителей и всегда лечила мою бабушку; к тому же они были старинными подругами. Они наполнили водой бассейн возле хейимас и вместе спели песню Возвращения. Когда мы добрались до площади для танцев, уже совсем рассвело. Ракушка вместе с нами прошла через центр города до самых его окраин, а перейдя по мосту Ручей Синшан, мы все дружно присели на корточки и со словами: «Счастливого пути! Счастливо оставаться!» помочились, а потом дружно рассмеялись. Раньше у жителей Нижней Долины существовал такой обычай, когда они отправлялись путешествовать; теперь-то о нем помнят разве что старики. Потом Ракушка пошла назад, а мы двинулись дальше мимо амбаров, между многочисленными ручьями, через поля Синшана. Небо над холмами по ту сторону Долины начало желтеть, потом по нему разлился красный свет; когда мы почти миновали рощу, холмы впереди стали совершенно зелеными; зато у нас за спиной Гора Синшан казалась то синей, то черной. Так мы и шли по руке жизни[2]. Воздух вокруг наполнился птичьим щебетом; птицы распевали в роще и в полях. Когда мы подошли к тропе Амиу и повернули на северо-запад, к Ама Кулкун, Горе-Прародительнице, из-за юго-восточного хребта уже показался белый краешек солнца. Я и сейчас будто снова иду там, в этом утреннем свете.
В то утро бабушка чувствовала себя хорошо, шла довольно бодро и предложила нам навестить родственников в Мадидину. И мы направились прямо к солнышку вдоль Ручья Синшан и вышли туда, где паслись дикие и домашние гуси и утки, которых в заболоченном устье ручья водилось несметное множество. Конечно же, я бывала в Мадидину много раз, но все же в тот день город показался мне совершенно иным, видимо, в предвкушении дальней дороги. Ощущая серьезность и важность нашего путешествия, я даже не хотела играть со своими троюродными братом и сестрой из Дома Красного Кирпича, хотя именно их я любила больше всех остальных родственников. Бабушка ненадолго заглянула к своей невестке, чей муж, сын бабушки, умер еще до моего рождения, к своим внукам и их отчиму, а потом мы пошли дальше через сливовые и абрикосовые сады к Старой Прямой Дороге.
Я не раз раньше видела и саму Старую Дорогу и за ней тоже бывала со своими здешними сестрою и братом, но теперь мне предстояло идти прямо по ней. Я чувствовала важность момента, и одновременно чего-то побаивалась, и даже успела прошептать Дороге несколько слов из священной хейи, делая первые девять шагов. Люди говорили, что Дорога – старейшее творение рук человеческих во всей Долине; никто не знал точно, сколько ей лет. Некоторые ее участки были совершенно прямыми, зато другие изгибались, спускаясь к берегу Реки На, но потом Дорога возвращалась вновь к прежней оси. В пыли виднелись следы человеческих ног, копыт овец и ослов, отпечатки собачьих лап; здесь прошло множество обутых и босых людей – так много, что мне показалось, здесь есть следы всех тех, кто прошел по Дороге за минувшие пятьдесят тысяч лет. Огромные дубы высились вдоль нее, давая тень и защищая от ветра; порой они перемежались вязами, или тополями, или гигантскими белоствольными эвкалиптами, такими раскидистыми и неохватными, что они казались старше самой Дороги; но и Дорога была настолько широкой, что даже утренние длинные тени не могли пересечь ее от одного края до другого. Я думала, дорога такая широкая именно потому, что она такая старая, но мать объяснила: такой широкой Дорога стала потому, что большие стада овец из Верхней Долины здесь совершают переход к прериям с соленой травой в устье Великой Реки На сразу после Танца Вселенной, а потом возвращаются обратно, а в некоторых отарах овец больше тысячи. Теперь овцы уже все прошли, и мы видели только несколько тележек сборщиков помета, что всегда следуют за отарами. В тележках сидели подростки из Телины, все перепачканные дерьмом и орущие хриплыми голосами. Они собирали лопатами навоз и развозили на поля. На нас они обрушили кучу всяких дурацких шуточек, и мать, смеясь, отвечала им, а я спрятала от них лицо. На Дороге нам встречались и другие путешественники, и когда они здоровались с нами, я поскорее старалась спрятать лицо; но стоило им пройти, как я оборачивалась и, глядя им вслед, задавала целую кучу вопросов: кто они? откуда идут? куда? В конце концов бабушка начала смеяться надо мной и тоже меня поддразнивать.
Из-за бабушкиных больных ног шли мы медленно; а поскольку я все это видела впервые, то путь показался мне невероятно долгим. Однако уже к полудню мы подошли к виноградникам Телины, раскинувшимся на берегу реки. И за рекой я увидела поднимавшийся к небу город – огромные амбары, стены и окна домов, обсаженных дубами, желтые и красные крыши хейимас, крутые, ступенчатые, вокруг украшенной флажками площади для танцев. Этот город был похож на гроздь винограда или на яркого фазана – богатый, с причудливой архитектурой, удивительно прекрасный.
Сын сводной сестры моей бабушки жил в Телине в семействе своей жены из Дома Красного Кирпича, и эта семья пригласила нас немного отдохнуть у них. Телина была настолько больше Синшана, что мне она показалась просто бесконечной, и дом у этих наших родственников был значительно больше нашего, и, по-моему, людей там жило тоже бесчисленное множество. На самом-то деле там проживали всего семь или восемь человек, и все они разместились на первом этаже. Но все время приходили и уходили еще какие-то люди, знакомые и родственники, и вокруг было так много всякой суеты, разговоров, кухонной возни, так часто кто-то что-то приносил или уносил, что я решила: этот дом самый зажиточный и благополучный в мире. Когда старшие услышали, как я шепчу бабушке: «Гляди-ка, у них целых семь больших котлов для готовки!», они стали над этим смеяться. Сперва я смутилась, но они так добродушно повторяли мои слова и смеялись, что я стала болтать вовсю уже без стеснения, чтобы они еще посмеялись. Когда я заявила: «Этот домище большой, как гора!», моя не совсем, правда, родная тетя по имени Виноградная Лоза сказала: «А ты останься и поживи с нами немного, раз наш дом так тебе нравится, Северная Сова. У нас действительно целых семь котлов для готовки, но ни одной дочки у нас нет. А нам бы очень хотелось хотя бы одну!» Она приглашала меня от всего сердца, видно, она действительно так думала; и она была здесь как бы центром, средоточием всего этого бесконечного движения, всей этой суеты, связанной с чередой отдаваний и одалживаний, и человек она была очень щедрый. Но моя мать застыла, будто и не слышала ее слов, а бабушка только улыбнулась, но ничего не сказала.
В тот вечер мои троюродные братья, сыновья Виноградной Лозы, и еще несколько детей из их дома повели меня по Телине. Их дом был из тех, что расположены на внутренней стороне левой спирали города, близ одной из городских площадей. А на центральной площади в тот день были скачки на настоящих лошадях – просто чудо для меня, ведь я никогда и представить себе не могла городской площади такой величины. Да и такого количества лошадей я никогда не видела; в Синшане тоже бывали скачки, но на ослах, и устраивали их на пастбище. А здесь для скачек была проложена специальная дорожка. Она начиналась слева от центральной площади, огибала ее по линии хейийя-иф и выходила справа. Люди вылезли на балконы, забрались на крыши, зажгли масляные и электрические фонари; они делали ставки, шумно спорили, пили вино, кричали, а лошади мелькали во вспышках света и тени, поворачивая быстро, как ласточки; наездники подскакивали в седлах и что-то выкрикивали. В правой же части города на некоторых балконах люди пели, готовясь к Летним танцам:
Бегут две перепелки, взлетают, поспешают…Еще дальше, на площади для танцев и возле хейимас Змеевика тоже пели, но здесь мы не задержались и прошли мимо, к реке. Там, среди ив, на воде светились отраженные огни города, а в зарослях, ища уединения, скрывались парочки. Мы, дети, выслеживали их, ползая в зарослях ивняка, и, обнаружив, начинали вопить: «Эй, смотри, святой крот! В нору-то песок попадет!» Особенно отличались мои братцы, они издавали всякие неприличные звуки и поднимали такой шум, что парочке приходилось с бранью скрываться; некоторые гнались за нами, а мы бросались врассыпную и удирали. Я вам скажу вот что: если мои братья развлекались так каждую теплую ночь, то в Телине, пожалуй, особой нужды в контрацептивах не было. Наконец, устав, мы отправились домой, поели холодных тушеных бобов и улеглись спать на балконах и верандах. И всю ночь сквозь сон слышали Песнь перепелки.
На следующее утро бабушка, мать и я вышли из дому рано, хотя уже рассвело и мы как следует позавтракали перед дорогой. Пока мы шли по горбатому каменному мосту над Рекой На, мать упорно держала меня за руку. Она нечасто это делала. Мне казалось, она ведет себя так потому, что в прохождении над Великой Рекой есть нечто священное. Однако теперь я считаю, что она просто боялась меня потерять. Наверно, она думала, что ей следовало бы позволить мне остаться в том богатом доме.
Когда мы уже отошли от Телины достаточно далеко, бабушка вдруг спросила: «Может, все-таки стоило хоть на зиму-то, Ивушка?»
Мать не ответила.
Я тогда вообще на это внимания не обратила. Я была счастлива и весь путь до Чумо болтала о тех чудесных вещах, которые видела, слышала и делала в Телине. И все время, пока я болтала, мать не выпускала моей руки.
Мы пришли в Чумо и не заметили, что идем уже по городу, так редко там стояли дома, скрывавшиеся в зелени деревьев. Ночевать мы должны были в хейимас нашего Дома, но сперва пошли проведать бабушкиного мужа, отца моей матери. Он жил в отдельной комнате у каких-то своих родственников из Дома Желтого Кирпича в очень красивом месте – под дубами на берегу ручья. Его комната на первом этаже служила ему также и мастерской; она была довольно большой, но несколько сыроватой. До сих пор я считала, что моего деда зовут Гончар, это было его среднее имя, но теперь он свое имя переменил: сказал, чтоб мы его называли Порча.
По-моему, это было совершенно идиотское имя. К тому же я все еще пыжилась от гордости после своего «успеха» у родственников в Телине, а потому спросила у матери довольно громко:
– А что, разве от него воняет?
Бабушка услышала и нахмурилась:
– Помолчи-ка. Шутить тут не над чем.
Мне стало очень не по себе, и я, конечно же, почувствовала себя полной дурой, однако бабушка, похоже, вовсе на меня не рассердилась. Когда остальные обитатели дома разошлись по своим комнатам, оставив нас наедине с дедом, бабушка спросила:
– Что это за имя ты себе взял?
– Это мое подлинное имя, – ответил дед.
Он выглядел иначе, чем прошлым летом в Синшане. Вообще-то он всегда был занудой и вечно на что-нибудь жаловался. Все всегда у него было не так, все всегда все делали неправильно, и только он один знал, как надо, хотя сам, собственно, ничего никогда и не делал, но, по его словам, это потому, что время еще не пришло. Сейчас он по-прежнему выглядел мрачным, смотрел на нас кисло, однако держался с нескрываемым достоинством. Он сказал бабушке, что ей вовсе не нужно идти лечиться на Горячие Источники, а лучше остаться дома и поучиться думать.
– А ты откуда знаешь, что для меня лучше? – спросила бабушка.
– Главное – понять, что все твои недуги и хворости лишь следствие неправильного мышления, – важно заявил дед. – Тело твое ведь ненастоящее.
– А по-моему, самое настоящее, – возразила Бесстрашная, засмеялась и шлепнула себя по бедрам.
– Ты уверена? – каким-то странным тоном спросил ее мой дед по имени Порча. Он держал в руках деревянную лопатку, которой гончары выглаживают поверхность больших глиняных кувшинов для хранения продуктов. Лопатка, вырезанная из оливы, была длиной примерно с мою руку и шириной – с ладонь. Дед взял лопатку в правую руку, поднес ее к левой руке и протащил прямо сквозь плоть – лопатка легко прошла сквозь кости и мышцы, как нож сквозь воду.
Бабушка и мать уставились на лопатку и на руку деда. Он знаком показал им, что может и с ними проделать то же самое. Но они ему своих рук не дали; а вот я не смогла сдержать любопытства. И еще мне ужасно хотелось по-прежнему быть в центре внимания, так что я смело протянула ему свою правую руку. Порча коснулся меня лопаткой, и она прошла сквозь мою руку где-то между запястьем и локтем. Я чувствовала, как легко она входит в мою плоть; нечто похожее – быстрое горячее прикосновение – испытываешь, когда пальцем проводишь прямо над пламенем свечи. От удивления я засмеялась. Дед внимательно посмотрел на меня и промолвил:
– А ведь Северная Сова может стать одной из Воительниц.
Тогда я впервые и услышала это слово.
И тут заговорила моя бабушка Бесстрашная; сразу можно было догадаться, что она сердится:
– Даже и думать об этом нечего! Твои Воители – все сплошь мужчины.
– Но она же может выйти за одного из них замуж, – возразил дед. – Когда придет время, она может, например, выйти замуж за сына Мертвой Овцы.
– Иди-ка ты знаешь куда со своей дохлой овцой, дурень этакий! – сказала бабушка, и мне опять стало смешно, а мать ласково коснулась ее руки, желая успокоить. Не знаю, то ли моя мать была напугана силой, которую продемонстрировал дед, то ли ее огорчила ссора между родителями, но, так или иначе, она сделала все, чтобы оба старика успокоились. Мы выпили с дедом по стакану вина, а потом с ним вместе пошли через площадь для танцев к хейимас Синей Глины, где остались ночевать в гостевой комнате. Я впервые спала под землей, и мне понравилась царившая там тишина, понравилось и отсутствие сквозняков, однако все это было для меня непривычно, и я без конца просыпалась и прислушивалась и, лишь услышав рядом дыхание матери, снова успокаивалась и засыпала.
В Чумо бабушка еще со многими хотела повидаться из тех семей, у которых она когда-то жила и училась прясть, ткать, делать ковры и гобелены, так что из города мы вышли только около полудня и двинулись дальше по северо-восточному берегу Великой Реки На, протекавшей через всю нашу Долину. Вокруг были бесконечные сады, где росли оливы, сливовые деревья, гладкие персики, а подальше, на холмах, террасами раскинулись виноградники. Я никогда не бывала так близко к Горе-Прародительнице; казалось, она заслоняет весь мир. Оглянувшись, я не увидела своей родной Горы Синшан: то ли не сумела на расстоянии отличить ее от других, то ли она спряталась за горами юго-западной части Долины. Мне стало не по себе, я не выдержала и сказала об этом матери; и та, отлично поняв мои страхи, уверила меня, что, когда мы вернемся в Синшан, наша гора непременно будет на своем месте.
Когда мы пересекли Валухов Ручей, впереди завиднелся город Чукулмас, что на самом краю Долины. Первой мы увидели его Огненную Башню, высившуюся отдельно от прочих строений и сложенную из цветных камней – красных, оранжевых и желтовато-белых; прихотливый и тонкий рисунок ее стен напоминал пеструю, нарядную корзинку сложного плетения или узор на спинке змеи. На огромных желтоватых холмистых лугах у подножия горы, со всех сторон окруженных лесом, пасся и тучнел скот. Ниже, на почти совершенно плоской равнине, виднелись винокурни и сараи для сушки фруктов; садоводы Чукулмаса как раз строили летние хижины. На берегу Реки На среди дубов крутились крылья темных мельниц, издалека был слышен громкий скрип их колес. Слышался тройной посвист перепелов, над полями пели жаворонки, высоко в небесах парили хищные канюки. Солнце светило вовсю, стояло полнейшее безветрие.
– Настоящий праздник Девятого Дома! – сказала мать.
Бабушка откликнулась сдержанно:
– Хоть бы поскорее до Кастохи добраться.
С тех пор как мы вышли из Чумо, она почти все время молчала и сильно прихрамывала. Тут матери моей прямо под ноги на дорогу слетело перо – перо из крыла сойки, серое по краям и синее в середине. Это и было ответом на только что сказанные ею слова о Доме Воздуха. Она подобрала перышко и понесла его в руке. Мать моя была маленького роста, круглолицая, с изящными руками и ногами. В тот день она шла босиком, в старых штанах из телячьей кожи и рубашке без рукавов; за плечами – маленький рюкзак; волосы искусно заплетены и аккуратно уложены. В руках она держала голубое перо сойки. Я и сейчас вижу, как она идет в лучах солнца по Дому Безветрия.
Со стороны западных холмов уже протянулись длинные тени, когда мы добрались наконец до Кастохи. Бесстрашная, увидев крыши над садами, проговорила:
– Ага, вот и Бабкин Передник!
Старики часто называли так Кастоху, потому что город раскинулся как раз между отрогами Ама Кулкун, Горы-Прародительницы. При этих словах я представила себе город среди густого леса с высоченными елями и секвойями, расположенный в огромной пещере, темной и загадочной, из которой вытекает Великая Река На. Когда мы взошли на мост, чтобы перебраться на тот берег, я увидела, какой это большой город, куда больше Телины, и там сотни домов и целый мир незнакомых людей, и заплакала. Может быть, от стыда: я поняла, насколько глупой была моя выдумка, что город может разместиться в пещере; а может быть, меня, усталую после долгого путешествия, просто ошеломило увиденное. Бабушка взяла мою правую руку, крепко сжала ее обеими руками и внимательно осмотрела. С тех пор как мой дед с новым именем Порча пропустил мне сквозь руку свою лопатку, ни мать, ни бабушка не сказали об этом ни слова.
– Старый он дурак! – вырвалось у бабушки, когда она рассматривала мою руку. – Да и я тоже хороша. – Она сняла свой серебряный, в форме полумесяца, браслет, который всегда носила, и легко надела мне его на правую руку. – Ну вот, – сказала она удовлетворенно. – Не бойся, Северная Сова, ты его не потеряешь.
Бабушка была такая худенькая, что браслет-полумесяц оказался мне лишь чуточку великоват, хотя рука у меня была еще совсем тонкая, детская; но бабушка имела в виду вовсе не то, что браслет может свалиться. Я тут же перестала плакать. И в гостинице у Горячих Источников в ту ночь я спала крепко, но и во сне чувствовала, что на руке у меня серебрится месяц, прямо под моею щекою.
На следующий день я впервые увидела людей Кондора. Все в Кастохе было для меня необычным, все было новым, все было иным, чем дома; но стоило мне увидеть этих людей, и я поняла, что Синшан и Кастоха – это, в общем, примерно одно и то же, а вот люди Кондора совсем из другого мира.
Наверное, в этот миг я была похожа на кота, учуявшего гремучую змею, или на собаку, которая видит привидение. Ноги у меня стали как ватные, а волосы поднялись дыбом. Я резко остановилась и прошептала:
– А это кто такие?
– Это люди Кондора. Они не принадлежат ни к одному Дому, – ответила бабушка.
Мать, которая шла рядом со мной, вдруг неожиданно быстро прошла вперед и заговорила с четырьмя высокими мужчинами, которые тут же обернулись к ней. У них были клювы и крылья; на нее они смотрели сверху вниз. Тут ноги мои совсем подкосились, и мне вдруг страшно захотелось в уборную. Я видела, как эти черные стервятники пристально глядят на мою мать своими глазами, обведенными белыми кругами, вытягивают красные шеи, а потом, конечно же, своими острыми клювами расклюют ей рот, горло, вытащат из живота кишки…
Однако мать, живая и невредимая, вернулась к нам и по дороге к Горячим Источникам сказала бабушке:
– Он был на севере, в Стране Вулканов. Эти четверо говорят, что люди Кондора возвращаются сюда. Когда я назвала его имя, они сказали, что он у них важный начальник. Нет, ты видела, как внимательно они меня слушали, стоило мне назвать его имя? – Мать засмеялась. Я никогда прежде не слышала, чтобы она так смеялась.
– Чье имя? – спросила бабушка.
– Имя моего мужа! – ответила мать.
И они остановились, глядя друг другу в глаза.
Потом бабушка пожала плечами и отвернулась.
– Я же говорила: он непременно вернется! – сказала мать.
А я вдруг заметила, что вокруг ее лица так и вьются белые огненные искры, похожие на светящихся мушек. Я громко закричала, согнулась пополам, и меня вырвало.
– Не хочу, чтоб они тебя съели! – все время повторяла я.
Мать на руках отнесла меня обратно в гостиницу. Я немного поспала, а в полдень мы с бабушкой отправились на Горячие Источники и долго лежали в целебной воде. Вода была какого-то коричневато-синего цвета – даже не вода, а просто жидкая грязь – и пахла серой. Сперва показалось не очень-то приятно, но стоило недолго в этой воде побыть, и начинало казаться, что можно проплавать в ней вечно. Бассейн был неглубоким, но довольно широким и длинным и выложен голубовато-зелеными изразцовыми плитками. Стен вокруг него не было, только высокая деревянная крыша; впрочем, можно было поставить ширмы, если хотелось укрыться от ветра. Очень хорошее место! И все люди пришли туда специально, чтобы лечиться; они разговаривали друг с другом вполголоса или лежали поодиночке в воде и пели тихие исцеляющие песни. Сине-коричневая вода скрывала их тела, так что если смотреть на бассейн сверху, то видны были лишь головы, спокойно плававшие на поверхности бассейна или прислонившиеся затылками к изразцовым бортикам. Некоторые люди лежали, закрыв глаза, некоторые тихонько пели, полускрытые туманной пеленой, что висела над этим местом.
Лежу и лежу, Лежу неподвижно На мелководье в теплой воде. Плывет и плывет, Плывет непрерывно Над теплой водою легкий туман.В гостинице на Горячих Источниках мы прожили целый месяц. Бабушка принимала целебные ванны и каждый день ходила к Целителям и учила Песнь Щитомордника[3]. Мать ходила одна на Гору-Прародительницу, к истокам Великой Реки На, а еще – в Вакваху и к перевалу тропой пумы. Ребенку трудно целый день торчать в горячем бассейне или у Целителей, но я боялась людных площадей большого города, а родственников среди здешних жителей у нас не было, так что я почти все время проводила на Источниках и помогала тем, кто работал там. Когда я узнала, где находится Большой Гейзер, то стала часто ходить туда, а старик, который там жил, водил посетителей по святым местам и пел им песни, посвященные истории Подземных Рек, охотно беседовал со мной и даже разрешал мне ему помогать. Он научил меня Грязевой Вакве – первой священной песне, которую я узнала сама. Даже тогда очень немногие знали эту лечебную песню, и, должно быть, она была очень древней. Она сложена по старинному образцу, ее поют только в сопровождении барабана, выбивающего простой ритм, и большая часть ее слов связана с праязыком, так что записывать ее не имеет смысла. Тот старик говорил мне:
– Может быть, жители Небесных Домов тоже поют эту песню, когда приходят сюда принимать грязевые ванны, а?
А в одном месте этой песни вдруг откуда-то выныривали совсем другие, понятные слова:
Там, где горы, как чаша, Склоняют края к середине, Все сюда поспешают, Как всегда приходили…Я думаю, тот старик был прав: это песнь о рождении Земли. Таков был самый первый серьезный дар, который я получила в жизни; а уж потом я сама передала его многим.
Держась подальше от города, я больше ни разу не встречала людей Кондора и позабыла о них. Через месяц мы отправились домой, в Синшан, чтобы успеть к Летним танцам. Бабушка чувствовала себя хорошо, и мы за одно утро успели спуститься вниз, в Телину, и уже к вечеру добрались до Синшана. Когда мы проходили по нашему мосту, мне казалось, что я вроде бы воспринимаю все как-то наоборот: северные холмы почему-то оказались там, где должны были быть южные, дома Правой Руки оказались слева, и даже внутри нашего дома все тоже выглядело иначе. Я повсюду обнаруживала такие странности, будто предметы были перевернуты с ног на голову. Но мне это нравилось; хотя я надеялась, что особенно долго это не продлится. Утром, когда я проснулась от мурлыканья кошки Сиди, свернувшейся у меня на подушке, все уже вернулось на свои прежние места: север был на севере, левая сторона слева, и больше уже ни разу даже на мгновение не видела я, чтобы мир вот так переворачивался с ног на голову.
Когда закончился последний из Летних танцев, мы переселились в нашу летнюю хижину в горах, и там бабушка сказала мне:
– Северная Сова, уже года через два ты станешь женщиной, и, как у взрослой женщины, у тебя будут месячные, а ведь всего год назад ты казалась длинноногим кузнечиком. Теперь ты на середине пути, это очень хорошее время, самые ясные годы. Что бы ты хотела совершить сейчас?
Я целый день думала над ее словами, а потом пришла к ней и сказала:
– Я бы хотела пойти в горы тропой пумы.
– Хорошо, – кивнула головой бабушка.
Моя мать ничего у меня не спросила и ничего мне не сказала. С тех пор как мы вернулись из Кастохи, она все время к чему-то, замирая, прислушивалась, словно ждала какой-то весточки издалека.
Так что готовила меня к походу бабушка. В течение девяти дней я совсем не ела мяса, а последние четыре дня из этих девяти мне давали только сырую пищу и всего один раз, в полдень, а еще четыре раза давали выпить воды – по четыре глотка зараз. В назначенный день я поднялась еще до рассвета и взяла приготовленную заранее сумку с дарами. Бабушка спала, но, по-моему, мать моя притворялась и просто лежала с закрытыми глазами. Я пожелала им счастливо оставаться, тихонько пробормотала хейю за них и за наш дом и ушла.
Наша летняя хижина стояла на лугу, на склоне горы, чуть выше того места, где начинался Ручей Каменного Ущелья, то есть что-нибудь в миле от Синшана. Мы всегда, сколько я себя помню, переселялись туда на лето и жили там в соседстве с семьей из Дома Обсидиана. Мы вместе пасли своих овец, там для них было вдоволь травы, и ручей бежал совсем неподалеку и почти во все годы был полон воды, благодаря обильным дождям. В северо-западной части луга возвышалась большая Священная Скала. Я прошла мимо этой скалы. Вообще-то я собиралась остановиться и поговорить с ней, но скала сама со мной заговорила и велела мне:
– Не останавливайся. Иди дальше, поднимись высоко в горы еще до восхода солнца.
И я пошла дальше, все выше и выше по холмам. Сперва, пока еще не рассвело, я просто шла, а когда начало светать, побежала и добралась до вершины Горы Синшан, как раз когда из-за горизонта выглянул краешек солнца. Я увидела, как осветились горы и как тьма отступила в сторону моря.
Там, на вершине горы, я пропела священную хейю и двинулась по самому гребню на юго-восток – по козьим тропам, сквозь чапараль, а где кустарник не был особенно густым, я шла просто так, без дороги, особенно в лесу, где росли сосны и ели. Шла я, никуда не торопясь, все время останавливаясь и прислушиваясь, старательно выбирая направление, присматриваясь к разным знакам и приметам. Весь день меня не покидала мысль о грядущем ночлеге в горах. Тропа вилась то вверх, то вниз, а я все думала: «Нужно найти подходящее место для ночлега, нужно непременно его найти до наступления темноты». Но ни одно место не казалось мне подходящим. Я сказала себе: «Это наверняка будет особенное, святое место. Ты его сразу узнаешь, когда подойдешь ближе!» Но на самом деле – хоть я и старалась об этом не думать – меня преследовали страхи: я боялась горного льва и медведя, боялась диких собак и мужчин с побережья. Так что, если честно, то искала я не «святое место», а убежище, где можно было бы спрятаться. Чтобы не очень бояться, я весь день шла без отдыха, ибо стоило мне остановиться, как я тут же начинала дрожать от страха.
Поскольку я уже поднялась выше тех мест, где били ключи, то к вечеру очень захотела пить. Я достала из своей сумки четыре маковые головки, полные семян, и, вытряхнув мак на ладонь, съела его, но после этого мне только больше захотелось пить да к тому же начало подташнивать. Сумерки окутали гору, прежде чем я успела найти то место, какое искала, так что пришлось ночевать там, где меня застигла темнота, – в ложбинке среди низкорослой манзаниты. Мне показалось, что здесь будет вполне безопасно, а эти деревца я приняла просто как святой дар. Я довольно долго сидела там, скорчившись. Хотела спеть хейю, но мне был неприятен даже звук собственного голоса. В конце концов я легла. Но стоило мне хоть капельку пошевелиться, сухие листья подо мной словно начинали кричать, оповещая всех кругом: «Слушайте! Вот она! Она шевельнулась!» А если я пробовала лежать неподвижно, то моментально замерзала, так что приходилось без конца ворочаться и поджимать под себя ноги; ночь действительно была холодной, да еще ветер зачем-то принес с моря туман и окутал им горную вершину. Туман и ночная тьма мешали мне что-либо разглядеть, но я упорно продолжала смотреть во тьму. Одно было ясно: я на самом деле хотела подняться в горы и пройти тропой пумы, однако ничего у меня не получилось; весь день я только и делала, что пыталась от пумы спрятаться. А все потому, что я явилась сюда не из желания самой стать похожей на бесстрашную пуму, а всего лишь мечтая доказать детям, которые называли меня полукровкой, что я лучше всех, что я самая смелая и почти что святая. И что мне уже целых восемь лет. От этих мыслей я горько заплакала, уткнувшись лицом в грязные листья, и, честное слово, наплакала целую грязную лужицу с соленой водой на холодной щеке горы. И тут я вдруг вспомнила старинную лечебную песню, которой меня научил старик с Гейзеров, и про себя пропела ее. Это немного помогло. Я успокоилась, и ночь потекла дальше. Однако жажда и холод мешали мне уснуть, а усталость никак не оставляла меня.
Чуть стало светать, я напролом сквозь густой кустарник спустилась в одно из ущелий, чтобы найти воду. Искать родник пришлось довольно долго. Ущелья разветвлялись подобно лабиринту, и я совсем заблудилась, так что, снова поднявшись наверх, обнаружила, что стою где-то между Горой Синшан и Горой-Сторожихой. Я полезла еще выше и наконец выбралась, только вершина оказалась совершенно лысой, а Гора Синшан, оставшаяся позади, теперь почему-то была обращена ко мне своей внешней, «дикой», стороной. То есть я сейчас находилась вне Долины!
Дальше весь день, как и вчера, я шла очень медленно, все время останавливалась и прислушивалась, однако мысли мои совершенно переменились. Собственно, даже не мысли, ибо я ни о чем не думала; просто голова вдруг стала ясной. Я приказала себе: «Постарайся идти все время так, чтобы обойти Гору-Сторожиху, и не слишком отклоняйся от этого курса, тогда снова придешь на ту плешивую вершину холма». Мне очень хотелось опять попасть туда, там я чувствовала себя хорошо среди бледно-желтого от солнечных лучей дикого овса. Я была уверена, что непременно снова выйду на это место, и продолжала идти вперед. Все, что попадалось мне навстречу, я называла вслух подлинными именами или приветствовала молитвой-хейя – ели и карликовые сосны, конские каштаны и секвойи, заросли дикой вишни и земляничные деревья и, конечно, дубы, а еще птиц – соек, синиц, дятлов, горлинок, ястребов, – и какие-то незнакомые травы, и цветущие колючие кусты, и череп горной козы, и кроличьи катышки, и ветер, дующий с моря.
Там, на охотничьей стороне горы, олени не слишком стремились попадаться человеку на глаза. Я видела их раз пять, а один раз – самку койота. Оленям я говорила: «Благословляю вас, как умею, о Молчаливые! Благословите же и вы меня!» А ту койотиху я назвала Певицей. Я и раньше видела, как койоты подкрадываются к отарам овец во время окота и как они воруют еду из летних хижин, видела и мертвых койотов, лежавших на земле комком грязноватой шерсти – таких я видела часто, но никогда за всю свою жизнь не видела я самки койота в ее собственном Доме.
Она стояла между двумя невысокими сосенками примерно в десяти шагах от меня, потом еще чуточку приблизилась, чтобы получше меня рассмотреть. Потом села, обвив хвостом лапы, и уставилась как на чудо. По-моему, она никак не могла понять, что я такое. Может, она никогда человеческих детей не видела? Может, она совсем молодая и вообще никогда не видела людей? Мне она нравилась – чистая, аккуратная, с шерстью цвета дикого овса в зимнее время, со светлыми глазами. Я сказала ей: «Певица! Я ведь все равно пойду по твоей тропе!» Она сидела, по-прежнему внимательно глядя на меня и словно улыбаясь, потому что у койотов пасть так устроена, потом встала, немного потянулась и… исчезла – как тень. Я не успела заметить, куда она исчезла и исчезла ли, так что по ее тропе я пойти все-таки не решилась. Но в ту ночь она со своим семейством пела мне койотские песни совсем рядом со мной почти до рассвета. В ту ночь туман не принесло: небо было ясным, и звезды ярко светили в вышине. Я лежала с легким сердцем на краю небольшой поляны под старыми лаврами и рассматривала созвездия и отдельные звезды; я словно плыла по этому бескрайнему звездному небу, будто принадлежала ему целиком. Так Койотиха позволила мне войти в ее Дом.
На следующий день я успешно выбралась на тот заросший диким овсом лысый холм, откуда была видна оборотная сторона Горы Синшан, и там, вытряхнув все из своей сумки, принесла этому священному месту дары. Я не стала перебираться через холм, чтобы не замыкать круг полностью, а просто спустилась по ущелью вниз, намереваясь обойти Гору Синшан с юго-востока и тем самым завершить свое путешествие по хейийя-иф. Однако в лабиринте ущелий я вновь заблудилась и дальше пошла по течению какого-то ручья; идти по его берегу было несложно, однако все вокруг заросло ядовитым дубком, а стены ущелья были очень крутыми. Я все шла и шла вдоль ручья и понятия не имела, куда наконец попаду. Этот лабиринт называется Лощиной Старого Лиса, однако никто, кого я потом ни спрашивала, ни охотники, ни члены Общества Благородного Лавра никогда в этом месте не бывали и того ручья не видели. Наконец ручей влился в какое-то продолговатое озерцо с темной водой. Вокруг озера росли невиданные мною прежде деревья с гладкими стволами и ветвями и с треугольными чуть желтоватыми листьями. На темной воде виднелось множество желтых пятнышек – упавшие листья. Я опустила руку в воду и спросила у нее, куда мне идти дальше. Я почувствовала ее силу, и сила эта немного меня напугала. Вода была почти черная и какая-то неподвижная. Это была не та вода, какую я знала, – незнакомая, страшная и тяжелая, как кровь. Я не стала пить из этого озера. Присела на корточки в жаркой тени под голыми деревьями и стала ждать какого-нибудь знака, пытаясь понять, что со мной происходит. Потом что-то появилось на поверхности воды и направилось ко мне – водомерка. Очень крупная, она легко мчалась по сверкающей темной глади. Я сказала: «Благословляю тебя, как умею, о Молчаливая! Благослови же и ты меня!» Насекомое на мгновение застыло как бы между водой и воздухом – там, где воздух и вода соприкасаются друг с другом, там, где и существуют водомерки, – а потом скользнуло прочь, в тень крутого озерного берега. И все. Пропало. Я встала, напевая хейю застывшей воде, и тут же обнаружила путь наверх: тропа вела мимо зарослей ядовитого дубка, через Лощину Старого Лиса на обратную сторону горы, откуда я через ущелье вышла прямо на склон, глядящий в Долину, освещенную палящими лучами летнего полуденного солнца; кузнечики звенели, точно тысяча колокольчиков; пестрые, с черно-голубым оперением сойки кричали и ругались мне вслед, когда я проходила по лесу. В ту ночь я спала крепко, улегшись под огромными дубами на своей родной стороне горы. На следующий день, четвертый день моего путешествия, я связала пучками перья, подобранные в пути, в зарослях, и привязала их к дубовым веткам, а потом на берегу крошечного ручейка, пробивавшегося среди камней и могучих корней деревьев, спела столько песен Речек и Ручьев, сколько знала. Совершив этот маленький обряд, я отправилась домой и добралась до нашей летней хижины уже на закате. Матери дома не было; бабушка пряла шерсть перед хижиной у земляного очага.
– Ну вот и хорошо! – сказала она. – Только, по-моему, тебе сперва нужно вымыться как следует, а?
Я понимала: она ужасно рада, что я вернулась домой живой и невредимой, но не может не посмеяться надо мной – ведь я забыла вымыться после того, как пела священные песни на берегу ручья, потому что очень спешила поскорее попасть домой и поесть. Так что я с ног до головы была в поту и в грязи.
Спускаясь к ручью в Каменном Ущелье, я чувствовала себя ужасно повзрослевшей, словно меня не было дома не четыре дня, и даже не месяц (столько мы провели в Кастохе), и не восемь лет (столько я прожила на свете), а гораздо дольше. Я вымылась в ручье и вернулась обратно уже в сумерках. Священная Скала была на месте, и я подошла к ней. Она сказала: «А теперь коснись меня». И я коснулась ее и почувствовала, что действительно вернулась домой. Я чувствовала, что в душу мою вошло нечто мне еще непонятное и, может быть, даже вовсе нежелательное – что-то из того странного места, из того черного озера и от той водомерки, но вершиной моего путешествия все-таки был золотой от солнца холм и та ночь, когда койотиха пела для меня свои песни; и пока я касалась Священной Скалы, я понимала, что шла по верному пути, несмотря даже на то, что первоначальной цели так и не достигла.
Поскольку у меня во всей Долине были только одна бабушка и один дедушка, человек из Дома Синей Глины по прозвищу Девять Целых попросил разрешения быть моим побочным дедом. Так как мне вот-вот должно было исполниться девять лет, он перебрался к нам из своей летней хижины в Ущелье Медвежьего Ручья, чтобы научить меня песням наших предков. Вскоре после этого мы все вместе вернулись в Синшан – готовиться к Танцу Воды, а наши соседи из Дома Обсидиана остались пасти овец. В тот год я впервые вернулась в город летом. Там почти никого не было, кроме некоторых людей из Дома Синей Глины. Целые дни проводя в пении и молитвах в опустевшем городе, я постепенно почувствовала, как душа моя раскрывается, становится шире, стремится соединиться с душами других танцоров, чтобы заполнить царящую вокруг пустоту. Выливаемая в бассейн хейимас вода из сосуда синей глины и песни, которые мы исполняли, казались мне ручьями и реками среди великого летнего зноя. Постепенно стали возвращаться люди других Домов, а потом мы все праздновали Танец Воды. В Тачас Тучас ручей, снабжавший этот город водой, совершенно пересох, так что его жители перебрались к нам и праздновали вместе с нами; те, у кого были родственники в Синшане, поселились в их домах, остальные на скорую руку построили себе шалаши в полях Синшана или спали на чьих-то балконах и верандах. Собралось так много народу, что Танец как бы вовсе и не думал кончаться, а хейимас Синей Глины была так полна громким пением и священным могуществом, что крыша ее, казалось, вибрировала, дрожала, точно шкура пумы, напрягшейся перед прыжком. Да, это был большой праздник! На третий и четвертый день даже жители Телины и Мадидину услышали о Танце Воды в Синшане и стали приходить и танцевать с нами. В последнюю ночь балконы всех домов были прямо-таки забиты народом, а площадь для танцев полна танцующими; в жарких небесах сверкали-танцевали молнии – казалось, по всему горизонту, – и невозможно было отличить грохот барабана от далеких еще громовых раскатов; а мы все танцевали и танцевали, то устремляясь к морю, то поднимаясь в гору, к темнеющим облакам.
Как-то раз между Танцами Воды и Вина я встретилась со своими троюродными братом и сестрой из Дома Красного Кирпича, которые жили в Мадидину; мы собирались вместе пойти за черной смородиной к Скале Перепелки. В кустах уже повсюду были протоптаны тропинки, и ягод осталось не так уж много, и в итоге мы перестали собирать смородину, а принялись играть. Пеликан и я изображали диких собак, а Хмель – охотника, и мы охотились друг на друга, ползая среди густых и довольно колючих кустов. Я поджидала, пока Хмель пройдет мимо того места, где я притаилась, и нападала на него сзади, громко рыча и лая, и сбивала его с ног. От неожиданности он охал и некоторое время лежал совершенно неподвижно, пока я не начинала поскуливать и лизать ему руку. Наигравшись, мы втроем уселись и долго болтали на разные темы. Вдруг Хмель сказал:
– А вчера в нашем городе появились люди с птичьими головами.
– Ты хочешь сказать, собиратели перьев? – спросила я.
– Нет, – сказал он, – у них самих были настоящие птичьи головы – головы хищных птиц, стервятников, такие черные с красным.
Пеликан раскричалась: «И вовсе это не он их видел, а я!», но мне почему-то стало грустно и нехорошо на душе. Я сказала:
– Мне теперь домой надо, – и пошла прочь. Им пришлось догонять меня, потому что я даже забыла взять корзинку с собранными ягодами.
Потом они отправились к себе в Мадидину, а я побрела куда глаза глядят, через луг, через ручей, и была уже недалеко от винокурен, когда, подняв голову, увидела в небе, на юго-западе, высоко парившую птицу. Я решила, что это канюк, но потом разглядела, что птица гораздо крупней канюка, прямо-таки огромная. Девять раз она описала круг над моим городом, а потом, словно завершив в воздухе какой-то священный танец, медленно заскользила на северо-восток прямо у меня над головой. Крылья ее, каждое из которых было длиной со взрослого человека, казалось, совершенно не двигались; чуть шевелились только маховые перья на концах крыльев, направляя полет по ветру. Когда эта птица пролетала над Холмом Рыжей Коровы, я бегом бросилась в город. Повсюду на балконах было полно народу, а на городской площади несколько человек из Дома Обсидиана били в барабаны, чтобы придать людям мужества. Я пошла прямо в наш дом Высокое Крыльцо и спряталась в дальней комнате, в самом темном углу за свернутыми постелями. Я была уверена: этот кондор высматривал именно меня.
Вскоре пришли мои мать и бабушка и, не подозревая о моем присутствии, продолжали сердито спорить.
– Я же говорила тебе, что он вернется! – сказала моя мать. – Он непременно придет и найдет нас здесь! – Она говорила одновременно и сердито, и радостно; я никогда прежде не слышала, чтобы она разговаривала таким тоном.
– Лучше б этого не было никогда! – сказала моя бабушка тоже сердито, но совсем не радостно.
И тут я вылезла из своего темного угла и бросилась к бабушке со слезами:
– Не позволяй ему приходить сюда! Пусть он нас никогда не найдет!
Но мать сурово сказала:
– Подойди сейчас же ко мне, дочь Кондора.
Я сделала шаг, остановилась и осталась стоять меж ними, повторяя:
– Это не мое имя! Меня совсем не так зовут!
Мать, несколько опешив, умолкла, но потом тихонько проговорила:
– Не бойся. Ты сама увидишь. – И как ни в чем не бывало принялась готовить ужин. Бабушка взяла свой праздничный барабан и удалилась в нашу хейимас. В тот вечер изо всех хейимас доносился барабанный бой.
Стояли последние жаркие дни лета, и все высыпали на балконы и веранды, надеясь на прохладу, что приходила вместе с сумерками. Я слышала разговоры людей об огромном кондоре. Агат, библиотекарь из Общества Земляничного Дерева, начал декламировать отрывок из старинных записей, хранившихся в библиотеке, под названием «Полет Великого», который он сам перевел на язык кеш. Там говорилось о Внутреннем Море и Горах Света, об Оморнском Море и Райских Горах, о солончаковых пустошах и о прериях, заросших травами, о Северной Горе и о Южной – обо всем, что видит во время своего полета кондор. Голос у Агата был очень красивый, и когда он читал что-то или рассказывал, невозможно было не подпасть под его очарование. Вот было б здорово, подумала я, притихнув, как и все остальные, если б он рассказывал всю ночь! Когда же повествование Агата было закончено, сначала вокруг царила полная тишина; лишь спустя некоторое время люди начали снова тихонько переговариваться. Среди них я не нашла ни бабушки, ни матери. Люди меня не замечали и свободно говорили о народе Кондора, чего никогда не стали бы делать в присутствии членов моей семьи.
Я увидела Ракушку, которая ждала, когда моя бабушка поднимется наверх из хейимас.
– Если эти люди действительно возвращаются, то на этот раз мы ни в коем случае не должны позволить им долго оставаться в Долине, – сказала она.
– Они уже в Долине, – возразил ей Гончий Пес. – И скоро отсюда не уйдут. Они явились, чтобы воевать.
– Ерунда, – сказала Ракушка. – Ты старик, а рассуждаешь как мальчишка!
Гончий Пес, как и Агат, был человеком образованным, он часто бывал в Кастохе и Ваквахе, читал там разные умные книги и беседовал с учеными людьми. Он сказал Ракушке:
– Слушай, женщина Синей Глины, я говорю так потому, что уже беседовал с людьми из Общества Воителей из Верхней Долины, а кто такие, по-твоему, воители, как не люди, которые воюют? А ведь это люди из нашего племени, из Долины Великой Реки На, из Пяти Земных Домов. Но в тех городах они уже лет десять как принимают советы народа Кондора и делятся с ним своей мудростью.
Женщина по имени Старая Пещера (это имя она получила, когда совсем ослепла) проговорила:
– Неужели, Гончий Пес, ты хочешь сказать, что люди этого Кондора больны? Что у них с головами не все в порядке?
– Да, именно это я и хочу сказать, – ответил он.
Кто-то с дальнего конца веранды спросил:
– А что, правду говорят, что у них в племени одни только мужчины?
Гончий Пес ответил:
– Сюда приходят только мужчины. Вооруженные мужчины.
– Но послушайте! – воскликнула Ракушка. – Не могут же они все время только слоняться без дела да курить табак, и так год за годом! Это же полная чепуха! Ну а если кто-то из жителей больших городов Верхней Долины хочет вести себя как пятнадцатилетний мальчишка, бегать и играть в войну, нам-то что за дело? Мы-то ведь здесь живем, не там. Нам только и нужно сказать этим чужеземцам: ступайте себе мимо.
Танцующая Мышь, спикер нашей хейимас, возразил ей:
– Они не могут причинить нам зла. Мы ходим по одним и тем же кругам спирали.
– А они наш круг раскручивают! – заявил Гончий Пес.
– И все равно держитесь своего круга спирали, – сказал Танцующая Мышь. Это был добрый сильный человек. Мне хотелось слушать его, а не Гончего Пса. Я сидела, привалившись спиной к стене дома, и боялась выползти из-под крыши, потому что открытое небо пугало меня. Вдруг я заметила что-то у самых своих ног на полу; в лунном свете это было похоже на щепку или обрывок ленты. Я подняла его с пола. Это было оно. Темное, твердое, тонкое и длинное. Я все поняла: это было то самое слово, которое я должна была на– учиться выговаривать.
Я встала и отнесла его Старой Пещере, сунув ей в руку со словами:
– Возьми, пожалуйста, это для тебя.
Мне хотелось поскорей от него избавиться, но Старая Пещера, хоть и была очень дряхлая и слабая, отличалась удивительной мудростью.
Она ощупала перо, а потом протянула его мне и сказала:
– Ты храни его, Северная Сова. Это слово сказано для тебя. – Ее глаза в лунном свете смотрели прямо сквозь меня; для нее я была словно внутренностью той, видимой ей одной «пещеры». Пришлось взять перо обратно.
Тогда она сказала уже добрее:
– Не бойся. Твои руки – руки ребенка, они гонят воду сквозь круги спирали и ничего не задерживают, все выпускают. Они очищают. – Потом Старая Пещера начала раскачиваться всем телом, закрыла свои слепые глаза и лишь спустя некоторое время проговорила: – Ах, дочь Кондора, когда-нибудь в пустыне вспомни о бегущих ручьях! Ах, дочь Кондора, в темном доме вспомни о священном сосуде из синей глины.
– Я не дочь Кондора! – возмутилась я.
Но старуха лишь открыла глаза, засмеялась и сказала:
– А сам Кондор, похоже, утверждает обратное.
Я повернулась и хотела убежать, расстроенная и пристыженная, но Старая Пещера остановила меня:
– Сохрани это перо, детка, пока не сможешь вернуть его владельцу.
Я пошла домой и сунула черное перо в корзинку с крышкой, которую сплела для меня мать, чтобы я хранила там всякие свои драгоценности и «секреты». Рассмотрев перо при свете лампы – черное, как смерть, длиннее, чем у орла, – я вдруг почувствовала некоторую гордость оттого, что перо попало именно в мои руки. Если так уж обязательно быть не такой, как все остальные, то пусть отличие это будет исполнено благородства, подумала я.
Моя мать ушла в Общество Крови, бабушка до сих пор была в хейимас. За юго-западными окнами слышался дробный, словно падающий с небес дождь, перестук барабанов. За окнами, выходившими на северо-восток, где-то на дубах гукала маленькая сова: у-угу-угу. Я так и уснула в одиночестве, думая о кондоре и слушая сову.
В первый же день праздника Вина в Синшан пришли жители Мадидину и сообщили, что много людей Кондора спускаются в Долину со стороны Чистого Озера. Перед Танцем Вина мой побочный дед Девять Целых отправился на сбор винограда, и я пошла вместе с его семьей. Когда мы собирали виноград, к нам все время подходили люди и рассказывали, что люди Кондора движутся сюда по Старой Прямой Дороге, и мы пошли посмотреть, как они идут. Я еще помнила, насколько впечатляюще они выглядят, однако то, что предстало перед моими глазами в тот раз, было похоже на фреску, выполненную яркими красками и чрезвычайно насыщенную персонажами: рядами – черно-красные головы Кондоров, подковы огромных лошадей, ружья, колеса повозок. Причем на той «фреске», что до сих пор сохранилась в моей памяти, колеса не вращались.
Когда мы вернулись в Синшан, праздник уже начался, и к вечерней заре пили уже все и вовсю. Люди из Дома Желтого Кирпича смеялись и танцевали на площади и уже начали выбивать в пыли кнутами изображение хейийя-иф, а люди из других Домов тоже пили, стремясь поскорее нагнать их. Кое-кто из детей присоединился было к танцующим, однако Танец вскоре стал похож на большую свару, так что детей, еще не сменивших свои первые имена, отправили по домам, и все мы устроились на балконах и верандах – любоваться тем, как взрослые утрачивают разум. Полоумный Дада из Старого Красного дома хоть и считался уже взрослым, но тоже пошел вместе с нами. Раньше я никогда так долго не смотрела, как празднуют Танец Вина: мне всегда было страшно и противно. Теперь же, когда мне исполнилось девять, я вполне могла смотреть на все это. И я увидела настоящее Превращение. Все, кого я хорошо знала раньше, превратились в совершенно неведомые мне существа. Городская площадь была залита белым лунным светом и светом костров и прожекторов и битком забита танцующими и кривляющимися взрослыми людьми. Многие взрослые играли в «достань палочку» и лазили вверх и вниз по приставным лестницам на крыши домов и балконы, даже залезали на деревья; их тени мелькали в темноте, они громко смеялись и кого-то звали. Целитель из Дома Обсидиана по имени Пик, застенчивый мрачноватый человек, сходил в свою хейимас, принес оттуда один из тех больших пенисов, которыми Кровавые Клоуны пользуются во время Танца Луны, нацепил на себя и бегал так повсюду, с самым непристойным видом набрасываясь сзади на каждую встречную женщину. Когда он сунулся было к Кукурузной Метелке, она, зажав ужасный предмет между ногами, резко прыгнула вперед, и веревка, которой он был привязан, оборвалась. Пик с размаху упал лицом в грязь, а она убежала, держа его игрушку в руке и вопя в полном восторге:
– А я докторское лекарство заполучила!
Я видела орущего что-то Агата и всегда такую важную и достойную Ракушку, теперь совершенно перепачканную, явно после падения на землю, и свою бабушку Бесстрашную я тоже видела – танцующей с бутылкой вина.
Потом из хейимас Желтого Кирпича появился первый из Доумиаду Охве, который пересек центральную площадь, все раскручиваясь и раскручиваясь, пока его крылатая голова не закачалась где-то над прожекторами и кострами на высоте в три человеческих роста. Все застыли, когда Доумиаду Охве начал плести свой сложный танец, а потом разом заговорили барабаны, запели люди, следуя за Доумиаду Охве, который, извиваясь, тянулся между домами по тропам, от одного жилища к другому. В тот вечер я выпила намного больше вина, чем когда-либо прежде, и понимала, что мне следует крепче держаться за перила балкона, если я не хочу потерять равновесие и свалиться. Доумиаду Охве, свиваясь в кольца, спустился между деревьями от Дома На Холме, все ближе подбираясь к нашему дому Высокое Крыльцо. Его желтая голова немного повисела в воздухе у нашего балкона, глаза поглядели на каждого из нас поочередно, и внутри каждого огромного его глаза словно горел в глубине еще один, яркий и маленький. Потом Доумиаду Охве проследовал дальше, весь извиваясь и раскачиваясь в такт барабанному бою. Дада скрючился на полу, спрятав лицо. Маленький мальчик из нашего дома по имени Утренний Жаворонок расплакался от страха, и пока я его успокаивала, другой малыш сказал:
– Посмотри, а это еще кто такие?
Какие-то люди перешли по мосту через ручей и стояли в дубовой роще на холме. Одетые в черное, высокие и неподвижные, они были похожи на стервятников, глядящих вниз с ветвей дерева.
Люди смотрели на них и продолжали веселиться. Доумиаду Охве уже возвращался назад, к площади для танцев, и флейтисты возглавляли толпу танцующих, исполнявших особый танец с притопываниями. Какая-то женщина из Дома Желтого Кирпича поднялась к тем людям в черном и о чем-то заговорила с ними, размахивая руками, а потом увлекла их вниз, на городскую площадь, где на козлах были установлены бочки с вином. Четверо из них остались на площади и стали пить вино, а пятый вернулся, прошагав через всю площадь, мимо пылающих костров, сквозь толпу танцующих, к дому Высокое Крыльцо. Глядя вниз с балкона, я вдруг увидела свою мать Ивушку: она шла прямо навстречу этому человеку через центральную площадь, и у нижней ступеньки нашего крыльца они встретились.
Я бросилась в дальнюю комнату. Вскоре я услышала на лестнице шаги, и они вошли в гостиную, где у нас был камин. Мать окликнула меня. Пришлось выходить. Он стоял посреди комнаты. Его черные крылья свисали до полу, а красная голова с клювом касалась потолка.
Мать сказала:
– Северная Сова, твой отец голоден. У нас в доме найдется какая-нибудь пристойная еда?
Так всегда говорили у нас в Синшане, когда в дом приходили гости, а гостю в этом случае полагалось отвечать: «Лишь сердце мое изголодалось от желания видеть вас!», ну а потом накрывали на стол, садились и ели все вместе. Но мой отец не знал, что нужно ответить. Он молча стоял и смотрел на меня сверху вниз. Мать быстро шепнула, чтобы я разогрела кукурузу и фасоль, что стояли на плите. Занимаясь ужином, я все время украдкой поглядывала на нашего гостя и в конце концов поняла, что лицо-то у него человеческое. Я ведь тогда еще не совсем была уверена, действительно ли у него голова кондора или это такой особый головной убор. Оказалось, что это шлем, и когда он его снял, я снова осторожно посмотрела на него. Он оказался очень красивым мужчиной, с длинным носом, высокими скулами и удлиненными глазами. Он все время смотрел на мою мать Иву. Она зажгла масляную лампу, которую мы обычно ставили на стол во время трапезы, и вдруг стала такой красивой, что я даже не сразу поверила, что вижу перед собой именно ее, а не какую-то прекрасную незнакомку из Четырех Небесных Домов, что несет в своих руках свет. Они немного поговорили, насколько это было возможно, ибо отец мой знал только отдельные слова и выражения нашего языка. Не так уж много чужестранцев приходило в Синшан за мою недолгую жизнь, однако я слышала речь торговцев с северного побережья и людей из народа Амарант с берегов Внутреннего Моря, и все они говорили примерно так же, как мой отец, – пытаясь носить воду решетом, как говорится в пословице. То, как он ощупью пробирался сквозь дебри нашего языка, теряя при этом смысл сказанного, было довольно смешно, и я увидела, что он обыкновенный человек, каким бы необычным ни было его обличье.
Мать налила нам троим вина, и мы вместе сели за стол. Мой отец оказался таким огромным и длинноногим, что наш стол рядом с ним представлялся игрушечным.
Он съел всю кукурузу и всю фасоль, которые я разогрела, и похвалил меня:
– Очень хорошо! Хорошо готовишь!
– Северная Сова у нас и хорошо готовит, и хорошо пасет овец, а еще она умеет читать и уже совершила одно восхождение на Гору, – сказала моя мать. Поскольку хвалила она меня редко, голова у меня от гордости закружилась так, словно я в одиночку осушила целый кувшин вина. А она между тем продолжала: – Если ты вполне насытился, муж мой, то выходи из-за стола и выпей еще вина. Мы все сегодня пьем вино и танцуем. Сегодня праздник Вина, и я хочу, чтобы все в нашем городе тебя видели! – Она говорила и смеялась. Он посмотрел на нее, похоже, не совсем понимая, что она говорит, однако с такой любовью и восхищением, что у меня на сердце потеплело и я стала смотреть на него ласковее. Мать ответила на его взгляд улыбкой и сказала: – Пока тебя здесь не было, многие твердили мне, что ты ушел навсегда. А теперь, когда ты здесь, я хочу показать им всем, что ты вернулся.
– Да, я вернулся, – сказал он.
– Ну так пошли, – сказала она. – И ты тоже, Северная Сова.
– Как ты называешь ребенка? – спросил мой отец.
Мать повторила мое имя.
– Я не ребенок, – сказала я.
– Девочка, – сказала моя мать.
– Девочка, – повторил он, и все мы рассмеялись.
– А что такое «сова»? – спросил он.
Я объяснила, что это такая птица и что маленькая сова кричит так: у-угу-угу!
– Ага! – сказал он. – Сова. Ну пошли, Сова. – И он протянул мне свою руку. Я никогда даже не видела такой огромной руки. Но взяла его за руку, и мы – мать впереди, а мы следом за ней – пошли вниз и присоединились к танцующим.
В ту ночь моя мать Ива была просто воплощением красоты и очарования. Она была горда, она была великолепна! Она пила вино, однако не вино делало ее такой великолепной, такой величественной, просто наружу вырвалась та сила, что в течение девяти лет была заперта в ней.
Она танцует, танцует, танцует, Пришла – и танцует, Улыбается людям, И смех ее вспыхивает и гаснет, Как свет костров на речных берегах.Бабушка в ту ночь напилась пьяной и выглядела очень неопрятно. Она провела ночь где-то в амбаре, играя в азартные игры. Когда я устала и решила лечь спать, я вытащила свою постель на балкон, чтобы мать и отец могли остаться в комнатах одни. Мне приятно было думать об этом, засыпая, и шум, царивший во всем городе, совершенно мне не мешал. Дети в других семьях всегда спали на балконе или в соседском доме, когда их родители хотели остаться наедине, и вот теперь я тоже была как все. Подобно тому как котенок подражает остальным котятам, ребенок тоже стремится поступать, как все дети, причем желание это столь же сильно, сколь и неосознанно. Поскольку нам, людям, всему в жизни нужно учиться, мы должны начинать именно с подражания, однако настоящий разум пробуждается в человеке только тогда, когда исчезает это детское желание быть как все.
Примерно за год до того, как я начала писать эту историю – люди из Общества Земляничного Дерева попросили меня об этом, – я пошла к Щедрой, дочери Ярости, которая пишет всякие истории, и спросила, не может ли она научить меня, как их писать, потому что я понятия не имела, как за это взяться. Помимо всяких разных вещей, которые Щедрая мне посоветовала, она сказала, что, когда я буду писать свою историю, надо постараться представить себя такой, какой я была в те времена, о которых пишу. Это оказалось гораздо легче, чем я думала, пока я не дошла до этого вот места, вот до этого самого, когда мой отец появился в нашем доме.
Трудно уже вспомнить, как мало я тогда понимала. И все-таки совет Щедрой был очень хорош; ибо теперь, когда мне известно, кто был мой отец, почему он оказался в нашем городе и зачем пришел туда, кто такие люди Кондора и чем они занимаются, теперь, когда я обладаю всем этим знанием, именно мое детское невежество, само по себе никакой особой цены не имеющее, представляется бесценным, полезным и даже могущественным. Мы должны учиться всему, что можем узнать, но должны все время помнить, что наши знания не замыкают круг, а лишь прикрывают бездонную пропасть незнания, так что мы забываем о том, что неведомое безгранично, не имеет ни пределов, ни дна, а то, что мы знаем сейчас, вполне возможно, будет опровергнуто теми новыми знаниями, которые мы получим. То, что видишь одним лишь глазом, должной глубины не имеет.
Печальнее всего в жизни моих родителей то, что они всегда могли видеть только одним глазом.
Меня же печалило вот что: я была как бы наполовину одно существо, а наполовину другое, но в целом ни то ни другое. Это больше всего угнетало меня в детстве, однако, когда я стала взрослой, именно это неожиданно пробудило во мне неведомые новые силы.
Одним глазом я видела Ивушку, дочь Бесстрашной из Дома Синей Глины, живущую в Синшане и ставшую женой «человека, не имеющего Дома», у которой была дочь и восемь овец, несколько плодовых деревьев и небольшой питомник саженцев. Если бы у нее в семье был мужчина, работник, можно было бы посадить большой сад и собрать куда больший урожай и, разумеется, куда больше давать, чем брать из общего хранилища, ибо давать – само по себе уже огромное удовольствие. И тогда можно было бы жить, будучи всеми уважаемыми и без всякого стыда.
Другим глазом я видела Тертера Абхао, Подлинного Кондора, командующего Южной Армией, который вместе со своими войсками на осень и зиму получил отпуск в ожидании распоряжений относительно грядущей весенней кампании. Он привел триста своих воинов в Долину Великой Реки На, потому что знал, что жители здесь сговорчивые, живут в достатке и хорошо примут его людей, и еще потому, что здесь, в одном из небольших городков, девять лет назад он оставил любимую девушку – он тогда командовал всего лишь пятью десятками воинов, и это был его первый поход на Юг, – но девушки той он не забыл. Девять лет – срок долгий, и девушка та, без сомнения, уже вышла замуж за какого-нибудь местного земледельца и родила целый выводок малышей, однако, несмотря на это, он непременно хотел зайти в тот городок и повидать ее.
Итак, он явился и обнаружил, что у него есть дом, где приветливо пылает очаг, готов обед, а жена и дочь рады его видеть.
Вот уж чего он не знал, так не знал!
И с первой ночи Танца Вина отец стал жить в нашем доме. Жители Синшана не желали ему зла, поскольку он был мужем Ивушки и все-таки к ней вернулся, но ни один из Домов Земли его не принял. Хотя у нас в Синшане жил один такой человек, что был родом даже не из Долины; звали его Путешественник, и он поселился в доме Синие Стены давно, лет тридцать назад, когда пришел сюда с северного побережья вместе с торговцами, да так и остался в Долине, женившись на Дикой Розе из Дома Желтого Кирпича; и его пускали даже в хейимас Змеевика. Ну а в больших городах, разумеется, таких людей много. Вот в Тачас Тучас, говорят, вообще все жители пришлые, откуда-то с севера, в принципе тоже «не имеющие Дома», хоть и явились сюда неведомо сколько сотен лет назад. Не знаю, почему моего отца не принимали ни в один Дом, но догадываюсь, что так было решено на советах в хейимас. Ему приходилось много учиться, учить все то, что знал в Долине любой ребенок, а он ни за что не желал с этим мириться, он был уверен, что и так знает все, что ему необходимо. Дверь редко сама открывается навстречу человеку, который сердито ее захлопнул. А может, он даже и не знал, что такая дверь существует. Слишком был занят.
Через советы Домов и Общество Сажальщиков четырех городов Нижней Долины он отлично разместил три сотни своих людей. Для устройства лагеря и выпаса лошадей им были переданы Эвкалиптовые Пастбища на северо-восточном берегу Реки На, ниже Унмалина. Четыре города согласились выделить из своих запасов и отдать им некоторое количество зерна, картофеля и бобов и позволили охотиться повсюду от северо-восточного хребта до Соленых Болот, ловить рыбу в Реке ниже впадения в нее Ручья Кими, а также собирать раковины на восточном берегу На ближе к ее устью. Это было немало, но, как говорится у нас в Долине, нет большего удовольствия, чем дарить, так что, хотя прокормить три сотни человек было нелегко, все относились к этому спокойно, считая, что воины покинут Долину после Танца Солнца и еще до Танца Вселенной.
Мне и в голову никогда не приходило, что и отец мой тоже уйдет с ними вместе. Он наконец жил с нами, дома, наша семья стала целой, настоящей; теперь все было так, как и должно быть, все пришло в равновесие, все стало на свои места и ни за что не должно было измениться.
Кроме того, отец разительно отличался от всех пришельцев, что жили в лагере. Он говорил на языке кеш, жил в семье и имел здесь родную дочь.
Когда он впервые взял меня с собой на Эвкалиптовые Пастбища, я не была уверена, что эти воины действительно люди. Они были одеты совершенно одинаково и выглядели тоже одинаково, словно стадо каких-то животных, и они не говорили ни слова на том языке, который знала я. А стоило им подойти к моему отцу, как они либо шлепали себя рукой по лбу, либо, но не всегда, даже падали перед ним ниц, словно хотели рассмотреть пальцы у него на ногах. Я думала, что, может, они сумасшедшие или просто дураки какие-то и что единственный настоящий человек среди них всех – это мой отец.
Однако среди жителей Синшана глупым как раз порой казался именно он, хотя мне ужасно не хотелось в это верить. Он не умел ни читать, ни писать, ни готовить еду, ни танцевать, а если и знал какие-то песни, то слов в них не понимал никто; он не работал ни в мастерских, ни на винокурнях, ни в зернохранилищах и ни разу даже не прошел по полям; и хотя он весьма часто выражал желание пойти на охоту вместе с другими, лишь самые беспечные из охотников соглашались на это, потому что он никогда не пел хейю оленю и не обращался к Смерти с подобающими случаю словами. Сперва охотники приписывали это его неведению и делали все за него сами, но когда увидели, что он упорно не желает учиться вести себя должным образом, они совсем перестали брать его с собой. Лишь однажды он оказал нашему городу сколько-нибудь заметную услугу – когда потребовался ремонт хейимас Красного Кирпича. Их спикер был человеком суровым и не любил прибегать к помощи обитателей других Домов, а поскольку мой отец вообще не имел Дома, то как бы не было причин не принять его помощь, а помощь он мог оказать немалую, ибо был очень силен. Но эта работа не принесла ему радости, а люди, увидев, как он может и умеет работать, стали без конца приставать к нему с вопросами, почему это он до сих пор делал так мало и плохо.
Моя мать старалась держать язык за зубами, однако не могла полностью скрыть своего презрения к мужчине, который не желал ни пасти скот, ни возделывать землю, ни даже просто рубить дрова. А отец, несмотря на то что сам открыто презирал и пастухов, и земледельцев, и дровосеков, обнаружил вдруг, что презрение Ивушки его задевает. Однажды он сказал ей:
– У твоей матери ревматизм. Ей не следует возиться в этой грязи, под дождем, копая картошку. Оставь ее дома, пусть прядет в тепле. Я заплачу какому-нибудь молодому парню, и он мигом выкопает на вашем участке всю картошку.
Мать только рассмеялась. Я тоже: это уж просто ни на что не было похоже!
– Вы ведь такими деньгами пользуетесь, верно? Я такие здесь видел, – сказал отец, протягивая на ладони целую горсть самых различных монеток с обоих побережий.
– Да, конечно, мы тоже пользуемся деньгами. Но для того, чтобы давать их людям, которые ставят для нас спектакли, танцуют, или декламируют стихи, или готовят для нас большие праздники. И ты это прекрасно знаешь! А ты хоть раз в жизни сделал что-нибудь такое, чтобы тебе за это заплатили? – спросила моя мать и снова засмеялась.
Он не знал, что ответить.
– Деньги – это особая почесть, это знак того, что ты богат. – Мать пыталась объяснить ему, но он ничего не понимал, и она в итоге сказала: – Ну, довольно о деньгах, поговорим лучше о нашем саде. Видишь ли, у нас слишком маленький участок, чтобы просить кого-то разделить с нами наши труды. Мне, во всяком случае, было бы стыдно.
– Тогда я приведу кого-нибудь из своих людей, – пожал плечами отец.
– Чтобы они работали в нашем саду? – удивилась мать. – Но ведь эти земли принадлежат Дому Синей Глины!
Отец выругался. Нехороших слов он почему-то набрался в первую очередь и ругался отменно.
– Синяя глина, красная глина – какая разница! – заорал он. – Любой дурак сумеет копаться в черной грязи!
Мать некоторое время молча пряла, а потом проговорила:
– Нет, так разговаривать невозможно! – Она снова засмеялась. – Если копаться в земле может каждый дурак, то почему этого не можешь ты, мой дорогой?
– Я не тьон, – сухо сказал отец.
– А что это такое?
– Человек, который копается в земле.
– Земледелец?
– Я не земледелец, Ивушка. Я командующий войском, тремя сотнями людей, я… Существуют такие вещи, которые мужчина может делать, и такие, каких он делать не может. Ты, конечно же, понимаешь это!
– Конечно, – сказала мать, глядя на него с восхищением. Так что никто из них друг друга так и не понял, но все-таки ни злобы, ни обид не последовало: их любовь и удивительная схожесть характеров не давали злу укорениться меж ними и все время гнали его прочь, точно мельничные колеса воду.
Когда воины строили мост через Великую Реку, отец брал меня с собой на Эвкалиптовые Пастбища каждый день. Его бурый мерин был примерно в два с половиной раза выше любой самой крупной лошади в Долине. Сидя верхом на этом коне, да еще в седле с высокой лукой, да еще перед таким великаном в шлеме кондора, я чувствовала себя не просто девочкой, а совсем иным существом, редким и куда более замечательным, чем обычные люди. Я внимательно слушала и смотрела, как отец разговаривает со своими воинами: каждое его слово воспринималось как приказ, которому следовало беспрекословно подчиняться. Здесь никто никогда ни о чем не спорил. Отец просто отдавал приказ, и тот, кому он его отдавал, шлепал себя ладонью по глазам и по лбу и бросался исполнять, что бы ему ни велели. Мне было приятно видеть это. Я все еще побаивалась людей Кондора. Все они были мужчины, все очень высокие, в странных одеяниях, пахнувших тоже непривычно, все были вооружены, и ни один не говорил на моем родном языке; когда они мне улыбались или заговаривали со мной, я вся съеживалась от страха и смотрела в землю, но не отвечала.
Однажды, еще в самом начале работ по строительству моста, отец научил меня одному слову из своего языка – пайз, что означало «давай». Когда он подавал знак, я должна была крикнуть «Пайз!» изо всех сил, и воины роняли копер на очередную сваю. Я слышала свой тонкий пронзительный голос и видела, как десять сильных мужчин снова и снова подчиняются моему приказанию. Так что сперва я испытывала только невообразимый восторг от того, что повелеваю силой, во много раз превосходящей мою собственную. Согласитесь, это приятно не только при работе с копром, но и при решении совсем иных вопросов. И вот, будучи, так сказать, копром, а не забиваемой в землю сваей, я считала, что это восхитительно.
Однако по поводу строительства моста возникли серьезные разногласия с жителями Долины. С тех пор как воины Кондора разбили лагерь на Эвкалиптовых Пастбищах, в Синшан стали постоянно приходить люди из Верхней Долины; они прогуливались мимо лагеря или просто стояли неподалеку на холмах, над виноградниками Унмалина – не охотились, а просто слонялись поблизости. Все они были членами Общества Воителей. Люди в Синшане говорили о них неохотно, однако с затаенным восхищением – например, некоторые восхищались тем, что Воители каждый день курят табак и у каждого из них есть собственное ружье. Мой троюродный брат Хмель, который недавно вступил в Общество Благородного Лавра, больше уже не позволял Пеликану и мне быть дикими собаками, когда мы играли; мы должны были быть людьми Кондора, а он – Воителем. Но я сказала, что Пеликан не может быть Кондором, потому что она не Кондор, а Пеликан, а я – могу, хотя я только отчасти Кондор. Моя сестра на это сказала, что она и так не желает быть никаким Кондором, что это глупая игра, и отправилась домой. А мы с Хмелем целый день охотились друг за другом в холмах с палками, заменявшими нам ружья, и с воплями: «Пух! Ты убит!» Как раз в такую игру, видимо, и хотели поиграть те взрослые люди, что бродили и стояли без дела вокруг Эвкалиптовых Пастбищ. Хмель и я прямо с ума по этой игре сходили и играли в нее целыми днями, вовлекая и других детей, пока моя бабушка не заметила, чем мы занимаемся. Она очень рассердилась. О самой игре, правда, она ничего не сказала, но заставила меня колоть и чистить грецкие орехи и миндаль, пока у меня уже руки не начали отваливаться. Она мне сказала, что если я еще хоть раз пропущу занятия в хейимас до наступления каникул, то уж точно вырасту суеверной, злой, тупоумной, вредной и трусливой девчонкой; впрочем, прибавила она, если мне действительно хочется стать такой, то это дело мое. Я понимала, что наша игра ей ужасно не нравится, так что играть в нее, конечно, перестала; мне и в голову не приходило, как ей не хочется, чтобы я ходила на Эвкалиптовые Пастбища с отцом и любовалась, как люди Кондора строят мост.
В следующий раз, когда я отправилась с ним туда, его солдаты не работали: какие-то Воители из Чумо и Кастохи разбили лагерь прямо между сваями будущего моста на берегу Реки. Некоторые из людей Кондора очень сердились, сразу было видно: они просили моего отца разрешить им силой выгнать жителей Долины с этого места. Но он не разрешил и пошел разговаривать с этими Воителями. Я было двинулась следом, но он меня отослал и велел присмотреть за его конем, так что понятия не имею, что они там ему сказали, но вид у него, когда он вернулся, был прямо-таки свирепый, и он еще довольно долго говорил о чем-то со своими офицерами.
В ту же ночь Воители сняли лагерь, работа на мосту пошла своим чередом и продолжалась вполне мирно еще дня два, так что отец снова согласился взять меня с собой на Пастбища. Но когда мы туда приехали, нас уже поджидали представители городов Долины. Они собрались под крайними эвкалиптами в двойном ряду этих деревьев, окружавших пастбище. Несколько человек подошли к нам и начали переговоры с моим отцом. Они сказали, что сожалеют, если несколько невоспитанных юношей вели себя здесь грубо или даже нарывались на ссору; они надеются, что впредь такого не повторится; однако, сказали они, поразмыслив хорошенько, большая часть жителей Долины пришла к выводу, что решение строить мост над Рекой было ошибкой, ибо его приняли, не посоветовавшись ни с самой Рекой, ни с людьми, что живут на ее берегах.
Отец ответил, что людям Кондора нужен этот мост, чтобы перевозить свои припасы через Реку.
– Есть ведь и другие мосты – в Мадидину и Унмалине, например; есть и паромы – близ Голубой Скалы и Круглого Дуба, – сказал кто-то из жителей Долины.
– Они не выдержат тяжести наших грузов.
– В Телине и Кастохе есть каменные мосты.
– Слишком большой крюк придется делать.
– Твои люди могут переправить свой груз через Реку на паромах, – сказал Солнечный Ткач из Кастохи.
– Солдаты не должны носить грузы на собственных спинах, – сказал мой отец.
Солнечный Ткач некоторое время обдумывал его слова, потом сказал:
– Ну что ж, если они захотят есть, то, может быть, научатся хотя бы пищу для себя приносить на спине.
– Мои солдаты здесь отдыхают. А для доставки пищи существуют повозки. Если наши повозки не смогут переправиться через Реку, ваши люди должны будут снабжать нас едой.
– Обойдетесь! – сказал какой-то незнакомец из Тачас Тучас.
Солнечный Ткач и остальные уставились на него. Воцарилось молчание.
– Мы строили мосты во многих местах. Люди Кондора – не только храбрые воины, но и великие инженеры. Дороги и мосты вокруг Столицы Кондора – чудо нашего века.
– Если бы в этом месте требовался мост, он бы уже непременно был здесь построен, – сказала Белый Персик из Унмалина. Отцу явно было неприятно, что женщина в присутствии его солдат заговорила с ним первой, и он промолчал. Снова повисла напряженная тишина.
– По нашему общему мнению, – вежливо сказал Солнечный Ткач, – этот мост здесь никак не на месте.
– Но вас связывает с Югом лишь ваша жалкая рельсовая дорога с шестью деревянными вагончиками! – сказал мой отец. – А мост откроет вам путь прямо к… – Он не договорил.
Солнечный Ткач кивнул.
Отец мой крепко подумал и сказал:
– Послушайте. Моя армия здесь вовсе не для того, чтобы как-либо вредить жителям Долины. Мы с вами воевать не собираемся. – При этом он раза два растерянно оглянулся на меня, потому что все свои силы тратил на то, чтобы подыскать нужные слова. – Но вы должны понять, что народ Кондора правит всем Севером и что теперь вы живете под сенью Его крыла. Повторяю: я не вестник войны. Я пришел лишь для того, чтобы расширить и улучшить ваши дороги и построить всего один мост, хороший, широкий мост, а не такой, по которому с трудом может пройти какая-нибудь здешняя толстуха! Видите, я строю его вдали от ваших городов, где он мешать вам не будет. Но и вы не должны стоять у нас на пути. Вы должны идти с нами вместе, рука об руку.
– Мы ведь люди оседлые, а не какие-то перекати-поле, – сказал Землекоп из Телины, спикер тамошней хейимас Синей Глины, человек всеми уважаемый, спокойный, один из лучших в Долине ораторов. – Человеку не нужны ни широкие дороги, ни мосты, чтобы перейти из одной комнаты своего родного дома в другую, верно ведь? А эта Долина и есть наш дом, здесь мы живем, здесь мы рады принять гостей, чей дом находится вдали от нашего, если они по пути заглядывают к нам.
Отец некоторое время переваривал его ответ, потом громко и отчетливо провозгласил:
– Я от всей души желаю быть вашим гостем. Вы знаете, что здесь и мой дом! Но я служу Великому Кондору. Я получил от него приказ. Так что это решение не мое и не ваше, не нам его и менять. Вы должны понять меня.
Тот нахальный тип из Тачас Тучас только покрутил головой, потом ухмыльнулся и отошел в сторону, показывая, что считает бессмысленным продолжать подобный разговор. И еще двое-трое последовали его примеру; но тут вперед выступила Обсидиан из Унмалина. Она тогда была единственным человеком во всех девяти городах Долины, которого назвали именем собственного Дома. Обсидиан лучше всех исполняла Танец Луны и Танец Крови; она была не замужем, занималась любовью с женщинами; считалось, что она наделена большой властью. Она сказала:
– Послушай меня, детка. По-моему, ты не ведаешь, что творишь. Но я думаю, ты еще сумел бы научиться кое-что понимать, если бы сперва выучился читать.
Этого, да еще в присутствии своих солдат, мой отец вынести не смог. И хотя они по большей части не поняли, что говорила Обсидиан, но насмешку в ее голосе уловили, как и ее повелительный тон. И отец не сдержался:
– Помолчи-ка, женщина! – рявкнул он и, глядя мимо нее на Солнечного Ткача, прибавил: – На этот раз я велю пока что прекратить работы на мосту, поскольку не хочу никаких раздоров. Мы сделаем только деревянный настил, чтобы переправить повозки, и снимем его, когда будем уходить отсюда. Но мы вернемся! И, возможно, куда большая армия, по крайней мере, тысяча человек, пройдет тогда через Долину. И дороги здесь будут расширены, а мосты построены. Не будите же гнев Кондора! Позвольте его народу… позвольте Кондору свободно летать над Долиной, подобно тому как вода протекает меж лопастями мельницы.
Отец даже головы в мою сторону не повернул. Всего за несколько месяцев он уже почти постиг образ Воды. Ах, если б только он родился здесь, в Долине, если б он остался здесь и жил с нами! Но, как говорится, он был что вода под мостом: не удержишь.
Обсидиан в гневе пошла прочь, и все жители Унмалина последовали за ней, осталась только Белый Персик, которая, набравшись мужества, вышла вперед и заговорила снова:
– Но в таком случае, по-моему, жители наших городов должны помочь этим людям перевезти еду, которую мы им даем; странно ставить какие-то условия, если даришь что-то.
– Это верно, – поддержал ее Землекоп; к нему присоединились еще несколько человек из Мадидину и один из Тачас Тучас. И Землекоп прибавил с улыбкой из «Песни Воды»: – Мосты падают, а Река бежит… – и протянул моему отцу свои руки ладонями вверх, снова улыбнулся и отступил назад. Те, кто стоял с ним рядом, сделали то же самое.
– Вот и хорошо, – сказал отец. Быстро повернулся и пошел прочь.
Я стояла, не зная, в какую же сторону пойти мне самой: то ли с отцом, то ли с жителями Синшана. Я отлично понимала, что, хоть приличия были соблюдены, обе стороны едва сдерживали гнев и ни о чем в общем-то так и не договорились. Слабого ведет за собой слабость, а я была всего лишь ребенком; и я последовала за своим отцом, но при этом зажмурилась – так мне казалось, что меня никто не видит.
Строительство стали сворачивать на скорую руку. Солдаты быстро делали деревянный настил, способный выдержать их повозки, а жители Долины доставляли припасы – по нескольку мешков или корзин сразу – и складывали их в сарае для сушки фруктов, куда легко можно было подъехать, чтобы перевезти продукты на тот берег. Но Воители продолжали слоняться группами вокруг, наблюдая за лагерем Кондора, а многие жители Унмалина вообще отказались давать что-либо людям Кондора или разговаривать с ними; они даже смотреть в их сторону не хотели и стали часто собираться в Обществе Воителей. Обсидиан из Дома Обсидиана, которая была родом из Унмалина, тогда стала главной выразительницей их недовольства.
В Тачас Тучас какая-то девушка из Дома Обсидиана подружилась с одним из людей Кондора и пожелала стать его женой; но, поскольку ей было всего семнадцать и кое-какие слухи ее пугали, она попросила разрешения на брак в своей хейимас – чего в свое время не сделала моя мать Ивушка. Люди Дома Обсидиана из Тачас Тучас послали своих гонцов в Унмалин, чтобы тщательно обсудить этот вопрос, и танцовщица Обсидиан из Дома Обсидиана сказала:
– Почему все люди у Кондора мужчины? А где же его женщины? Может, они уродины или сделаны из дерева? А может, они двуполые, как гинкго[4]? Нет уж, пусть люди Кондора и женятся, и рожают, как там им самим нравится. А мы не допустим, чтобы дочь нашего Дома взяла себе в мужья бездомного!
Я только слышала об этом, но так и не знаю, согласилась ли та девушка с подобным требованием или продолжала ходить на свидания со своим молодым солдатом. Но, разумеется, замуж она за него не вышла.
Между Танцами Травы и Солнца члены Общества Воителей из Верхней и из Нижней Долины провели несколько очистительных обрядов на Старой Прямой Дороге и на берегах Реки На. Во всех городах мужчины начали вступать в Общество Воителей, пока люди Кондора оставались в Долине. Сын моего побочного деда и его родной внук тоже вступили в это Общество, поэтому вся их семья была занята тем, что ткала для них специальные одежды – особые туники и плащи с капюшонами из темной шерсти, похожие на те, что носили солдаты Кондора. В Обществе Воителей своих Клоунов не было. Когда несколько Кровавых Клоунов из Мадидину явились на один из их очистительных обрядов, Воители, вместо того чтобы вместе с ними пускать воздушных змеев или просто не обращать на них внимания, стали их толкать и прогонять. Получилась даже небольшая драка, и было немало обид.
Вокруг этих Воителей вечно витало какое-то сексуальное напряжение, и вечно они со всеми ссорились. Некоторые женщины из Синшана, чьи мужья присоединились к Воителям, жаловались на их строгие правила насчет полового воздержания, но другие женщины только над ними посмеивались; зимой обычно столько всяких ритуальных воздержаний и постов для всех, кто хочет танцевать Танец Солнца или Танец Вселенной, что добавление еще одного особой погоды не делало, хотя, возможно, именно оно и было той последней каплей, что переполнила чашу.
В тот год моя бабушка танцевала Танец Внутреннего Солнца, а я впервые праздновала Двадцать Один День и каждую ночь спускалась в хейимас и слушала пение впавших в транс.
Это был странный праздник. Каждое утро в ту зиму наплывал туман, не поднимавшийся даже днем, висел у самой подошвы Горы Синшан, так что мы жили словно под низкой крышей, а по вечерам туман снова сползал в Долину, окутывая ее целиком. И в тот год больше чем когда-либо было Белых Клоунов – именно в тот год! Даже если некоторые из них и пришли в Синшан из других городов, все равно их было слишком много; некоторые, наверно, явились прямо из Четырех Небесных Домов, из Дома Облака или Пумы, по этому влажному белому туману, что скрывал весь окружающий мир. Дети боялись отойти от домов. Даже балконы в сумерках казались им страшными. Даже сидя в гостиной у камина, ребенок мог, взглянув нечаянно в окно, увидеть там белое лицо и уставившиеся на него глаза и услышать, как щелкают чьи-то зубы.
Готовясь к празднику, я посадила свои саженцы в укромном местечке – в лесу, за второй грядой холмов, к северу от города и довольно далеко от дома. Мне ужасно хотелось, чтобы они стали настоящим сюрпризом для матери и бабушки. Оказалось, очень трудно заставлять себя ходить туда в одиночку и ухаживать за растениями в течение Двадцати Одного Дня, особенно потому, что я ужасно боялась Белых Клоунов. Стоило какой-нибудь птичке или белке зашуршать или пискнуть на ветке, как я уже застывала, холодея от страха. Утром, в день солнцеворота я отправилась за своими саженцами в таком густом тумане, что и в пяти шагах ничего разглядеть было невозможно. Каждое дерево в лесу казалось мне Белым Клоуном, готовым меня схватить. Вокруг царила полная тишина. Все буквально тонуло в тишине и тумане. Все было неподвижно среди этих белых холмов. Двигалась лишь я одна. Я промерзла до костей, у меня даже внутри все заледенело. Я зашла в Седьмой Дом, Дом Облака, и не знала, как мне оттуда выбраться. Но упорно шла дальше, хотя лес казался таким таинственным и незнакомым, что мне все чудилось, будто я сбилась с пути. И все-таки я добралась до своих маленьких саженцев! Я спела молитву солнцу, почти не разжимая губ, потому что любой звук казался пугающим в этой неколебимой тиши, выкопала саженцы и пересадила в горшки, которые сама для них сделала, но все время я тряслась от страха, спешила и все делала неуклюже, может быть, даже корни повредила. Теперь мне нужно было отнести саженцы в Синшан. И вот ведь что странно: когда я уже шла по знакомым виноградникам на вершине холма и понимала, что дом совсем близко, я отчего-то вовсе не была рада этому. Словно какая-то часть меня предпочла бы мерзнуть, дрожать от страха и блуждать там, в горах, и остаться в Седьмом Доме, но не возвращаться в дом Высокое Крыльцо. Однако путешествие мое было закончено. Я поднялась на веранду и стуком в дверь разбудила всю нашу семью – навстречу Солнцу. Ивушке я подарила саженец конского каштана, Бесстрашной – саженец дикой розы, а отцу своему – юный дубок из Долины. Этот дуб и сейчас растет там, где мы его тогда посадили, с западной стороны дома – раскидистый, аккуратный, крепкий, с еще не слишком толстыми ветвями. Конский каштан и дикая роза погибли.
До Танца Солнца и некоторое время после него мой отец жил с нами в доме Высокое Крыльцо и каждую ночь ночевал там, а по утрам завтракал с нами. Моя бабушка, которая в тот год танцевала и Танец Солнца, и Танец Вселенной, почти все время проводила в хейимас. Ивушка в тот год не танцевала совсем, а отец, разумеется, не интересовался ни танцами, ни праздниками. Тогда я еще ничего не знала о его народе и считала, что отец вообще никаких обрядов не соблюдает, никаких священных песен не поет и никому в мире не приходится родственником, разве что, может, своим солдатам, которые беспрекословно слушаются его приказов, моей матери и мне. В ту зиму он и Ивушка все свободное время проводили вместе в нашем доме. После праздника Солнца низкие стелющиеся туманы уступили место дождям и холодной изморози со снегом, ложившимся на склоны Горы Синшан и оседавшим на волосах точно мучная пыль, а порой по утрам случались заморозки, и траву покрывал иней. У отца было несколько отличных красных шерстяных ковров, которые он привез с собой, чтобы украсить ими свою палатку; он давно уже перетащил их в наш дом, и теперь ими была украшена наша гостиная. Мне нравилось валяться на них. Они сладко пахли шалфеем и еще чем-то таким, названия чего я не знала: то был запах страны, откуда пришел мой отец, находившейся где-то далеко на северо-востоке от Синшана. У нас было много дров для камина, причем яблоневых, потому что в городе вырубили сразу два старых яблоневых сада, посадив новые. У нашего камина этими долгими вечерами царил мир и покой – как для родителей, так и для меня. Мне вспоминается мать, освещенная пламенем камина, в расцвете своей красоты, как раз на границе «возраста печали». Это было так прекрасно – все равно что смотреть на костер, горящий среди дождя.
Но вот посланники Кондора спустились в Долину, перевалив через горный хребет, и принесли донесение командующему армией.
В тот вечер, после ужина, отец сказал:
– Нам придется уйти еще до вашего Танца Вселенной[5], Ивушка.
– В такую погоду я никуда не пойду, – откликнулась мать.
– Нет, – сказал он. – Лучше не надо.
Наступило молчание. Зато громко говорил огонь в камине.
– Чего – «лучше не надо»? – спросила мать.
– Когда мы станем возвращаться домой… тогда я лучше за тобой и заеду, – пояснил он.
– О чем это ты? – не поняла мать.
Они снова начали все сначала, он рассказывал ей, как армия Кондора отправится воевать на побережье, а потом будет возвращаться назад и он заедет за ней, а она не желала признаваться, что давно уже обо всем догадалась. В конце концов она сказала:
– Так это действительно правда? Ты говоришь о том, что собираешься покинуть Долину?
– Да, – сказал он. – Но ненадолго. Мы ведем войну с жителями внутреннего побережья. Таков план Великого Кондора.
Она не ответила.
Он сказал:
– Если бы я мог взять тебя с собой, то непременно взял бы, но это, конечно, было бы глупо и чересчур опасно. Если бы я мог остаться… Но нет, этого я не могу. Ты просто подожди меня здесь, хорошо?
Мать встала и отошла от камина. Мягкий красноватый отблеск пламени больше не падал на ее лицо, теперь оно было скрыто в тени. Она сказала:
– Если не хочешь оставаться, уходи.
– Послушай, Ивушка, – сказал он. – Послушай же меня! Неужели это так уж нечестно – просить тебя подождать? Ведь если бы я отправлялся на охоту или с торговцами в дальнюю поездку, разве ты не подождала бы меня? Ведь жители Долины тоже порой ее покидают! И возвращаются назад – и жены в таких случаях ждут своих мужей. Я вернусь. Обещаю тебе. Я твой муж, Ивушка.
Она некоторое время постояла там, словно на границе света и тьмы, потом обронила:
– Когда-нибудь.
Он не понял.
– Когда-нибудь, лет через девять, – пояснила она. – Один разок, может, два. Ты мой муж, но ты и не мой муж. Мой дом – для тебя. Если хочешь, оставайся в нем или уходи. Выбирай.
– Я не могу остаться, – сказал он.
Она повторила тихо, тоненьким голосом:
– Тебе выбирать.
– Я командующий армией Кондора, – сказал он. – Я сам отдаю приказы, но обязан и подчиняться приказам тех, кто выше меня. В этом смысле выбора у меня нет, Ивушка.
Тогда она совсем отошла от камина – скрылась в тени на другом конце комнаты.
– Ты должна понять, – сказал он умоляюще.
– Я понимаю, что ты предпочел не делать никакого выбора.
– Ты не понимаешь! И я могу лишь просить тебя: пожалуйста, подожди меня.
Она не ответила.
– Я вернусь, Ивушка. Сердце мое навсегда здесь, с тобой и нашей девочкой!
Слушая его, она молча стояла у двери, ведущей во вторую комнату. Моя постель была как раз напротив двери, и я видела их обоих и чувствовала, как разрывается надвое ее душа.
– Ты должна подождать меня, – сказал он.
Она ответила:
– Ты уже ушел.
И прошла во вторую комнату и закрыла за собой дверь, которую держали открытой, чтобы от камина туда шло тепло. И стояла в темноте. Я лежала, не шевелясь. Он сказал за дверью:
– Вернись, Ивушка! – Подошел к двери и еще раз окликнул ее по имени, позвал сердито, в голосе его слышалась боль. Она не ответила. Мы обе точно застыли. Прошло довольно много времени, в той комнате было тихо. Потом мы услышали, как он резко повернулся, отошел от нашей двери, выскочил из гостиной и загрохотал по лестнице.
Мать прилегла рядом со мной. Она ничего не сказала и лежала совершенно неподвижно; и я тоже. Мне не хотелось вспоминать сказанное ими. Я попыталась заснуть, и вскоре мне это удалось.
Утром мать свернула красные коврики, принесенные отцом, и положила их вместе с его одеждой на перила балкона возле входной двери.
Где-то около полудня отец пришел снова, поднялся по лестнице, даже не взглянув на ковры и развешанную на перилах одежду. Мать была дома; на него она не смотрела и не отвечала ни на одно его слово. А когда он чуть посторонился, бросилась в дверь и побежала в нашу хейимас. Отец хотел было последовать за ней, но оттуда сразу же выскочили несколько мужчин из Дома Синей Глины и удержали его, не давая войти в наше святилище. Отец был похож на помешанного, он вырывался и никого не желал слушать, но им удалось его успокоить. Девять Целых объяснил ему, что, согласно обычаям нашего народа, любой мужчина может уйти и прийти, когда ему вздумается, и любая женщина имеет право принять его назад или не принять, но дом принадлежит именно ей, и если она захлопнет перед носом мужчины дверь, то лучше ему не пытаться ее открыть. Собралась целая толпа любопытных, потому что сперва они с отцом кричали друг на друга, и многие находили это чрезвычайно смешным, тем более что нужно было объяснять такие простые вещи взрослому мужчине. Особенно над ним насмехалась Сильная, спикер Общества Крови. Когда отец сказал: «Но она ведь принадлежит мне… и это мой ребенок!» – Сильная принялась ходить вокруг него с видом надутого индюка, как ходят Кровавые Клоуны, и стала кричать: «Ой, никак у моего молота месячные!» и еще кое-что похлеще[6]. Кое-кому из жителей города было приятно, что так унижают представителя Великого Кондора. Я это сама видела, притаившись у нас на балконе.
Отец снова вернулся в наш дом и поднялся наверх. Он в гневе пнул скатанные в трубку ковры и одежду, словно разозлившийся мальчишка. Я возилась у кухонного стола и плиты – пекла кукурузные лепешки, а он остановился в дверях. Я продолжала работать и на него не глядела. Я просто не знала, что мне делать, как себя вести, и ненавидела отца за то, что он заставляет меня испытывать такую неуверенность и чувствовать себя такой жалкой и несчастной. Я была даже немного рада, что Сильная так над ним издевалась; мне и самой хотелось посмеяться над ним, потому что он вел себя ужасно глупо.
– Сова, – вдруг спросил он, – а ты будешь ждать меня?
Я вовсе не собиралась плакать, однако слезы полились сами.
– Если я останусь в живых, то обязательно вернусь к тебе, – сказал он. Он так и не переступил порог, а я так и не подошла к нему. Я только обернулась, посмотрела на него и кивнула. В этот момент он уже надевал свой шлем Кондора, скрывавший его лицо. Потом повернулся и вышел.
Бабушка весь день ткала; ее станок стоял во второй комнате у окна. Когда домой наконец вернулась моя мать, бабушка сказала ей:
– Ну что ж, вот он и ушел, Ивушка.
Лицо матери было бледным и каким-то измятым. Она ответила:
– Я тоже ушла – отказалась и от него, и от этого имени. Теперь я стану называться своим первым именем.
– Зяблик, – сказала бабушка нежно; так мать впервые произносит имя своего новорожденного. И сокрушенно покачала головой.
Вторая часть истории Говорящего Камня начинается на стр. 238.
УСТАВ ДОМА ЗМЕЕВИКА
Данный текст, выполненный в старинной каллиграфической манере, является единственным письменным вариантом Устава среди прочих его вариантов, представляющих собой пиктографические символы. Эта небольшая складная книжечка в форме «гармошки» хранится в Центральной библиотеке города Ваквахи.
«Девять Домов живых и мертвых – это Дома Обсидиана, Синей Глины, Змеевика, Желтого Кирпича, Красного Кирпича, Дождя, Облака, Ветра, Безветрия. Цвета четырех Домов мертвых – белый и радужный. Те народы, что живут вместе с людьми, – обитатели Земных Домов; народы дикого края живут в Домах Небесных. Птицы обитают в Четырех Небесных Домах, вылетают из Правой Руки Вселенной и могут приносить послания мертвых живым и наоборот; перья птиц – это слова, сказанные мертвыми. Когда из Четырех Домов должен явиться на свет ребенок, он рождается и живет в Доме своей матери. Небесные Дома танцуют Танец Земли, а Земные Дома танцуют Танец Неба. Дом Синей Глины танцует Танец Воды; Дом Желтого Кирпича танцует Танец Вина; Дом Змеевика танцует Танец Лета; Дом Красного Кирпича танцует Танец Травы; Дом Обсидиана танцует Танец Луны. Солнце вместе с другими звездами танцует Путь Возврата. Хейийя-иф и есть изображение этого Пути и Дом Девяти Домов».
Приведенный выше текст дает краткое представление о структуре общества, временах года и строении Вселенной – с точки зрения жителей Долины.
Все живые существа, названные среди обитателей Пяти Земных Домов, зовутся Земным Народом; сюда включается и Земля как таковая, камни и почва, различные геологические образования, Луна, все водные источники, ручьи и озера с пресной водой, все в настоящее время живые люди, животные, на которых ведется охота, домашние животные, некоторые другие животные, являющиеся собственностью отдельных людей, домашняя и живущая главным образом на земле птица, и все растения, которые собирают, выращивают или как-то используют люди.
Небесный Народ, или Жители Четырех Домов, или Люди Радуги – это Солнце и звезды, океаны и моря, дикие животные, на которых люди не охотятся, и все животные, растения и люди, рассматриваемые как вид или племя, а не как отдельные представители или отдельные личности, а также все народы и существа, являющиеся во сне, в видениях, герои сказок и легенд, большая часть птиц и все мертвые и нерожденные существа.
В таблице (стр. 71—72) перечислены эти Девять Домов, цвет и сторона света, ассоциируемые с каждым из них, ежегодный праздник, за который каждый из них является ответственным, а также Общества, Союзы и Цехи, находящиеся под началом каждого Дома. Таблица крайне схематична, а примечания к ней весьма упрощенны. Однако она может служить чем-то вроде глоссария для тех, кто захочет разобраться в значении того или иного термина или изречения, а также некоторых вольных интерпретациях отдельных понятий в литературных и фольклорных текстах Долины, приведенных далее; кроме того, она представляет собой как бы некое введение в образ мышления народа Кеш, в особенности их художественного творчества и мастерства. Однако же важно понять, что никакой подобной таблицы на самом деле не существует, обитатели Долины никогда ничего подобного не создавали. Так что, хотя числа «четыре», «пять» и «девять», а также представления о Девяти Домах и их размещении в хейийя-иф (или вращающейся вокруг Стержня двойной спирали), а также цвета, стороны света, времена года, существа и предметы, ассоциируемые с этими Домами, являются постоянными мотивами в искусстве Долины и образной системе мышления се обитателей и хотя граница между Землей и Небом, смертностью и бессмертием связана с фундаментальными грамматическими явлениями их языка (Земная и Небесная его формы), все же приведенная здесь схема девяти структурных подразделений и перечисленные в этой схеме различные их компоненты и функции, безусловно, удивили бы жителя Долины, который воспринял бы все это как нечто «детское», а также – из-за того, что информация в схеме как бы фиксирована, «замкнута», – счел бы эту схему в высшей степени опасной и неуместной.
Пять Земных Домов представляют собой пять основных подразделений общества и служат у Кеш эквивалентом понятия «клан» или «община». Все люди, не принадлежащие к народу Кеш, называются «людьми-без-Дома». Наследование в Домах идет по материнской линии и экзогамно: все представители одного Дома считаются родственниками первой степени; между ними сексуальные связи недопустимы (см. главу «Система родства»).
Не существует никакой иерархии Домов – по власти, богатству и тому подобному, и нет никакого соперничества меж ними по поводу более высокого статуса; Дома называются Первый, Второй и т. д., однако нумерация эта не имеет абсолютно никакого отношения к оценочным категориям – рангу, важности и т. п. Некоторое соперничество возникает, правда, во время праздников, которые проводит каждый год тот или иной Дом, однако не столько даже между самими Пятью Домами, сколько среди принадлежащих к ним обитателей девяти городов Долины. Слово, которое я обычно перевожу как священный танец – ваква, может также означать ритуал, тайное знание, церемонию, праздник. Полный цикл определенных ваква и составляет год в Долине.
Так, в ноябре, когда начинают зеленеть холмы, Дом Красного Кирпича танцует Танец Травы. Во время зимнего солнцеворота все Девять Домов танцуют Танец Солнца. Во время весеннего равноденствия Пять Земных Домов танцуют Танец Неба, а Четыре Небесных Дома – Танец Земли, и все это вместе называется Танцем Вселенной. На второе полнолуние после этого праздника Дом Обсидиана танцует Танец Луны. Во время летнего солнцеворота и после него Дом Змеевика танцует Танец Лета. В первой половине августа Дом Синей Глины танцует Танец Воды у ручьев, родников и прудов. Во время осеннего равноденствия Дом Желтого Кирпича танцует Танец Вина.
Эти семь Великих Ваква могут быть наглядно представлены в виде хейийя-иф, где Вселенная («Стержень») – посредине, а слева и справа – симметрично – Солнце и Луна; далее следуют Трава и Лето, а Вино и Вода находятся на левом и правом концах двух спиралей. Такая непоследовательная интерпретация времени характерна и для хронографии Долины. И поскольку здесь нет настоящих времен года, а всего лишь два сезона, дождливый и сухой, то в разговоре события обычно соотносятся с тем или иным праздником: например, до Танца Травы, или между Танцами Воды и Вина, или после Танца Луны. (В главе «Время и Столица» представления жителей Долины о времени рассматриваются более подробно.)
Материальным воплощением каждого из Пяти Домов в каждом из девяти городов Долины являются хейимас. Обнаружив, что все слова, типа «церковь», «храм», «замок», «тайная обитель», лишь вводят в заблуждение, я в данной книге использую слово языка кеш. Оно образовано из элементов хейя, хейишйня– отдельными значениями которых являются: «святость», «стержень», «связь», «спираль», «центр», «хвала» и «перемена» – и корневого слова «ма» со значением «дом».
Хейийя-иф, две спирали, центром которых служит некий невидимый стержень, бездонная пропасть, пустота, являются материальной или скорее визуальной репрезентацией понятия хейийя. Разнообразные и изощренные вариации на тему хейийя-иф входят в качестве хореографических и пластических элементов в танец, определяют форму самой сцены и движения актеров, представляющих драму; хейийя-иф служит организующим началом при планировании городов, в графике и скульптуре, в декоративном искусстве и в дизайне музыкальных инструментов; она же является объектом сосредоточения при медитации, а также поистине неистощимой метафорой. Хейийя-иф – некая визуальная форма идеи, пронизывающей мышление и культуру всех народов Долины.
В городах у каждого человека как бы по два дома: дом, в котором вы действительно живете, ваше жилище, расположен в Левой Руке двойной спирали хейийя-иф, по форме которой построен город, а в Правой Руке находится ваш Земной Дом, то есть, конечно, хейимас вашего Дома. В обычном доме вы проживаете вместе с вашими родственниками по крови или по браку; в хейимас своего Дома вы встречаетесь со своей Большой Семьей. Хейимас служит центром отправления обрядов, хранилищем традиций и знаний, местом обучения, школой и т. п.; к тому же это место для встреч, собраний и политических диспутов; это и мастерская, и библиотека, и архив, и музей, и расчетная палата, и приют для сирот, и гостиница, и богадельня, и убежище, и оздоровительный центр, и орган экономического контроля и управления деятельностью всего сообщества, как во внутренних делах, так и во всем, что касается обмена или торговли с другими городами Долины и теми, что находятся за ее пределами.
В маленьких городах хейимас представляют собой большое пятистенное подземное помещение, разделенное перегородками, под невысокой четырехскатной пирамидальной крышей, поднимающейся над землей. По углам крыши имеются лесенки: чтобы попасть внутрь хейимас, надо подняться по ним на крышу, открыть люк и спуститься по приставной лестнице вниз. В Телине и Кастохе обе части здания – и подземное помещение, и украшенная орнаментом крыша – значительно больше, а в Ваквахе, на самой Горе-Прародительнице, пять хейимас – это пять огромных подземных комплексов; их прекрасные крыши-пирамиды высятся над различными вспомогательными постройками и площадками. В любом городе Долины площадь, ограниченная полукругом стоящими жилыми домами, называется «городской площадью»; а та площадь, вокруг которой расположены пять хейимас, называется «площадью для танцев». На карте города Синшан отражено типичное расположение жилых домов и хейимас в городе народа Кеш.
Далее (в главе «Общества, Союзы, Цехи») можно найти более подробный рассказ о взаимосвязях различных общественных и профессиональных организаций и их принадлежности определенным Домам. Как показано на схеме, Цех Мельников, который отвечает за все мельницы – водяные, ветряные и электрические, за генераторы, за различные виды машинного оборудования, за создание и наладку машин, за управление различными механизмами, занимает строго определенное, хотя и весьма необычное положение в обществе: члены этого Цеха не имеют своего Дома среди земных жителей.
Некоторые очевидные несообразности являются простым следствием схематизации и перевода. Мы, например, можем сказать, что перепелка живет во Втором Доме, однако нам представляется несколько странноватым, когда Кеш говорят, что и помидорный куст «живет» в Пятом Доме; еще более странно звучит то, что мертвые и нерожденные «живут» в Небесных Домах. На языке кеш так сказать вполне можно, однако, с их точки зрения, нам это кажется странным как раз потому, что сами мы не живем ни в одном из Домов, а находимся вне их.
Итак, хейимас являются, если угодно, материальными воплощениями Пяти Земных Домов или, если хотите, их представительствами. Что же касается Четырех Небесных Домов, то основным материальным их воплощением считаются различные метеорологические явления: дождь для Шестого Дома, облако, туман и дымка над горными вершинами для Седьмого, ветер для Восьмого и для Девятого Дома – тихий, прозрачный воздух, который также называется Безветрием. Другие великие символы Четырех Домов – Медведь, Пума, Койот, Ястреб – могут трактоваться как мифологические персонажи, то есть персонажи вымышленные, которые не следует воспринимать буквально; и все же соотносимость определенного Дома с тем или иным животным или явлением природы тоже невозможно сбросить со счетов. «Войти в Дом Койота», например, означает перемениться. Кроме того, Четыре Небесных Дома – это Дома Смерти, Снов, Дикой Природы, Вечности. Все названные аспекты каждого из Домов взаимосвязаны и активно взаимодействуют, так что Дождь, Медведь или Смерть, каждый по отдельности, способны символизировать и любой из двух остальных символов; словесные и зрительные образы расцветают благодаря этой взаимной связанности. Вся система представлений Кеш в целом глубоко метафорична. Мысль о том, что можно ограничить ее, свести к какому-то иному образцу, – с точки зрения жителей Долины, безусловно предосудительный предрассудок.
Именно по этой причине я и не рассматриваю систему Девяти Домов как некую форму религии, а хейимас – как священные храмы или молельные дома, несмотря на то, что обитатели Долины явно относятся к ним как к чему-то священному.
У людей Долины нет единого бога, нет и богов вообще, нет и религии. Что у них, по всей вероятности, есть – так это рабочая метафора. Идея, которая представляется нам наиболее близкой к понятию религии или веры, – это идея Дома; его знак – закрученная вокруг стержня двойная спираль, или хейийя-иф; главное Слово – это слово хвалы сущему на земле и переменам; таковы центральные понятия всей системы, хейя!
ГДЕ НАХОДИТСЯ ДОЛИНА
Горные хребты, обрамляющие Долину, невысоки: даже Гора-Прародительница, Ама Кулкун – старый вулкан в центре запутанного горного массива – немногим выше четырех тысяч футов. Долина в основном представляет собой довольно ровную местность, по которой протекает Река На, однако склоны холмов, превращающих Долину в некое подобие чаши, весьма круты, а горные пастбища сильно изрезаны глубокими ущельями, прорытыми речками и ручьями. На склонах, обращенных к востоку и укрытых от морского ветра, густо растут различные деревья и кустарники: карликовая сосна, ель, секвойя, земляничное дерево и дикая вишня манзанита, а также карликовые и обыкновенные дубы, дубы белые, красильные и пробковые и украшение Долины – гигантский дуб; много там и конских каштанов, лавров, ив, ясеней и ольхи. Там, где посуше, – чапараль, заросли вечнозеленого карликового дуба, низкий густой кустарник, дикая сирень, что цветет прелестными ароматными голубовато-сиреневыми цветами, когда кончается сезон дождей, и обвивающий карликовые дубки терновник, и оленье дерево, и дикие розы, и кофейные деревья, и кустарник койота, и ядовитый дубок… Вдоль ручьев – тоже заросли душистых кустарников, пестрые и желтые азалии, дикие розы, дикий калифорнийский виноград. На западных склонах гор, продуваемых всеми ветрами, а также на круглых холмах, состоящих почти целиком из змеевика, растут только дикие травы да цветы.
Здесь всегда была суровая земля – довольно щедрая, но отнюдь не легкая в обработке. Здесь нет времен года – только сезон дождей и сухой сезон. Дожди могут быть проливными, а жара поистине свирепой, пугающей. Все, что растет в Долине, как и везде, должно миновать особую стадию появления нежных всходов и цветения, а потом растениям нужно созреть и отдохнуть, однако переход от одного сезона к другому здесь скорее напоминает государственный переворот, бурную революцию. Несколько темно-серых, набухших дождем дней, когда сожженные и промокшие насквозь коричневые холмы вдруг светлеют и вспыхивают вызывающей головную боль яркой зеленью свежей травы… Несколько ясных дней с облачками-хлопьями в небесах, когда оранжевые маки, синие люпины, душистый горошек, клевер, дикая сирень, голубоглазые незабудки, маргаритки, лилии – все расцветает одновременно и склоны холмов сплошь покрыты белыми, пурпурными, синими и золотыми цветами, но в то же время травы уже сохнут, бледнеют, и дикий овес уже почти созрел в своих метелках… Таковы эти краткие переходы из сезона в сезон: последняя зелень лета сменяется мрачной зимой, а к лету как бы застывшие холмы вновь расцветают недолгим буйством красок.
Приходят густые туманы. Они поднимаются из обширных плоских болотистых низменностей, приморских болот и тростниковых зарослей, из бесчисленных эстуариев на юго-востоке и с морского побережья, протянувшегося за юго-западной грядой. Вокруг Горы Синшан, Горы-Сторожихи и Горы-Прародительницы, четкие, темные, гигантские силуэты которых вырисовываются на фоне ясного неба, плавают стаи влажных туманов, стирая, затушевывая очертания предметов. Да и сами горы как бы тихо отступают прочь. Под ставшей совсем низкой крышей небес холмы тонут в густой дымке. С каждого зеленого листа непрерывно течет и капает. Маленькие коричневые пташки – обитатели чапараля – неуверенно перепархивают в тумане, что-то приговаривая и пощелкивая «тц-тк» где-то совсем близко, но совершенно невидимые. Гигантские дубы в Долине становятся похожими на каких-то страшных великанов: невозможно понять, где кончаются их могучие ветви. Если таким вот утром двинуться от Ваквахи дальше в горы, то через некоторое время выйдешь из полосы тумана и окажешься прямо над этой венчающей Долину «крышей», похожей на белое море, что колышется в сверкающей тишине. Туман издавна любит вот так подшутить над холмами. Это очень старые холмы, но туман куда старше.
Почва в Долине – различные виды глинозема, пригодные для изготовления кирпича, или же красноземы, из которых торчат обломки скал сине-зеленого змеевика, покрытые застывшими потеками вулканического происхождения. Не слишком легкая для обработки почва, эта бедная и капризная глина. Например, пшеницу она просто выплевывает. Или может заявить фермеру: сажай здесь только виноградную лозу, оливы, розы, лимоны и сливы. Все это – трудоемкие культуры, но все они обладают сладостным ароматом, отличным вкусом и живут долго. А что касается кукурузы или маиса, бобов, кабачков, тыкв, дынь, картошки, моркови, всякой зелени и чего там вам еще будет угодно, то если станете трудиться достаточно прилежно, то есть копать землю и рыхлить ее, когда она больше всего напоминает сырой бетон, и поливать ее, когда она похожа на сухой цемент, тогда, пожалуйста, сколько угодно! Тяжелая земля.
В наши дни река в Долине в засушливый год еле-еле течет; к сентябрю все ручьи, кроме самых больших, обычно пересыхают, да и сама река становится тоже всего лишь ручьем, хотя и довольно широким и мощным. Когда же со временем Великая Калифорнийская Долина распадется на части, когда появятся горные разрывы, сбросы и, возможно, даже кое-где, в предгорьях Ама Кулкун, выходы наверх магмы, то и высота Долины над уровнем моря повысится и поднимется уровень грунтовых вод; вместе с тем летняя жара будет в Долине значительно смягчена сильным влиянием Внутреннего Моря и обширных болот, а также морскими туманами, прилетающими вслед за морскими течениями через широкие горные «ворота». Климат изменится в лучшую сторону. Сухой сезон станет не таким чудовищно засушливым; в ручьях будет больше воды, река поведет себя с большей солидностью и достоинством, хотя в ней останется меньше тридцати миль от истоков до устья.
Тридцать миль могут показаться как очень короткими, так и очень длинными. В зависимости от того, как их пройти; от того, что Кеш называют словом вакваха, что буквально значит «путь реки».
Соблюдая особый ритуал, с вежливыми заверениями, они берут воду у Реки и ее маленьких притоков как бы взаймы – для питья, для того, чтобы соблюдать чистоту, для полива – и расходуют ее аккуратно, экономно, осторожно. Они всегда жили на земле, которая на любое проявление жадности отвечала засухой и смертью. Трудная земля: словно бы и ведет себя как чужая, но уж больно чувствительная! И еще она похожа на горных коз, которые крадут у людей пищу и сами становятся их пищей – тощие маленькие горные козы, воришки и жертвы одновременно, вечные соседи и ревнивые наблюдатели, за которыми тоже кое-кто наблюдает, любопытные, бесстрашные, недоверчивые и приручению не поддающиеся. Никогда не изменяющие своей дикой природе.
Корни и источники жизни в Долине всегда были дикими. Ряды виноградных лоз и серых олив, цветущие миндальные сады, овцы с острыми копытцами и кареглазые коровы, винокурни из грубого камня, старые амбары и хлевы, мельницы на берегу ручьев, маленькие тенистые города – о, они прекрасны, человечны, с первого взгляда очаровывают, внушают любовь; однако корни Долины – это корни карликовой сосны, вечнозеленого дубка, диких трав, равнодушных ко всему и не требующих заботы, и многочисленные ручейки, текущие по трещинам, оставшимся после землетрясений, среди скал, поднявшихся некогда со дна тех морей, что существовали задолго до появления на земле человека, или рожденных огнем, что скрыт в глубинах земных. Корни Долины – в дикой природе, в мечтах, в смерти, в вечности. Вон следы диких коз, а вон следы человека и его повозок, – все пробираются не напрямик, старательно огибают корни вещей. Чтобы пройти тридцать миль – и вернуться назад, – может понадобиться целая жизнь.
ПАНДОРА БЕСПОКОИТСЯ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ: рисунок на чашке
Пандора не желает смотреть в широкий конец телескопа на сверкающий как самоцвет, ясно видимый, крошечный, целиком охватываемый взглядом мирок Долины. Она зажмуривает глаза, она не хочет смотреть, она и так знает, что увидит там: Все Под Контролем. Кукольный домик. Кукольная страна.
Пандора выбегает из обсерватории с закрытыми глазами и хватает, хватает вокруг себя все, что попадется под руку.
Ну и что же она получила в итоге, если не считать нескольких порезов на руках? Кусочки, стружки, обломки, черепки. Осколки того, что было Долиной, ее подлинной жизнью. Не где-то там, далеко, а тут, рядом; их можно пощупать, подержать в руках и услышать Долину. Не рассудком, а умом и сердцем. Не вообразить, а ощутить тяжесть куска земляничного дерева, осколка обсидиана, комка синей глины. Даже если разрисованная чашка разбита (а она действительно разбита), то из этого комка глины, да еще зная, как лепить и обжигать такую чашку, даже если рисунок вам целиком неизвестен (а он вам целиком неизвестен), вы сделаете такую же, и пусть заработают ваши ум и воображение. Пусть сердце подскажет вам, как закончить рисунок на этой чашке.
НЕСКОЛЬКО УСТНЫХ ПРЕДАНИЙ
ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ В ХИЖИНЕ НА ГОРНОМ СКЛОНЕ БЛИЗ СИНШАНА
Как-то раз Койотиха шла себе, шла по внутреннему миру, и вдруг ей навстречу старый Медведь.
– Можно я пойду с тобой? – спросила Койотиха.
– Нет, – ответил Медведь, – пожалуйста, не ходи со мной. Ты мне сейчас совсем ни к чему. Я ведь намерен собрать всех медведей вместе и пойти войной на племя людей. Так что ты мне в попутчицы не годишься.
– Ах, как это ужасно! – воскликнула Койотиха. – Как ужасны эти твои планы! Вы же все друг друга перебьете на этой войне: они – вас, а вы – их. Не развязывай войну, Медведь, ну пожалуйста, не развязывай войну! Нам всем следует жить в мире и любви! – И, говоря это, Койотиха потихоньку вытащила острый ножик из обсидиана, который украла у Целителей, да и отрезала Медведю яйца; ножик был таким острым, что Медведь даже не почувствовал ничего.
Потом она сунула медвежьи яйца в карман и убежала. И отправилась туда, где жило племя людей. Люди курили табак и пели. Они занимались изготовлением пороха и пуль и чистили свои ружья, готовясь к войне с медведями. Койотиха пошла к их главному военачальнику и сказала:
– О, как вы храбры, доблестные мужи! Вы истинные воины! Каким же мужеством нужно обладать, чтобы с одними лишь ружьями выйти против медведей!
Военачальник забеспокоился и спросил:
– А у них какое оружие?
– У них, – заявила Койотиха, – оружие секретное. Но не могу сказать какое. – Однако, заметив, что военачальник не на шутку разволновался, прибавила: – У них огромные ружья, которые стреляют волшебными пулями, способными превращать людей в медведей. Я вам парочку таких пуль принесла. – И она показала военачальнику медвежьи яйца.
И все воины, которые подходили посмотреть, огорченно спрашивали:
– Что же нам теперь делать?
Койотиха и придумала:
– Значит, так: ваш самый главный военачальник должен выстрелить своими волшебными пулями в медведей и тем самым превратить их в людей.
Но генерал рассердился:
– Нет уж! Уберите эту Койотиху отсюда, от нее одни неприятности!
И люди стали стрелять в Койотиху, чтобы ее прогнать.
Началась война. У медведей были их бесстрашные сердца и когти, а у людей – табачный дым и ружья. Люди стреляли, и убивали медведей одного за другим, и убили почти всех, кроме тех четырех или пяти, которые явились на войну с опозданием и успели отступить и скрыться. Оставшиеся в живых медведи убежали и спрятались в диком краю.
Там они и встретили Койотиху.
– Зачем ты так поступила, Койотиха? – спросили они. – Почему ты не помогла нам, а взяла да и украла яйца нашего лучшего воина?
Койотиха ответила им:
– Если бы я сумела тогда заполучить яйца этого человека, все было бы хорошо. Послушайте-ка меня. Эти люди слишком часто спариваются и слишком быстро думают. Вы же, медведи, спариваетесь лишь раз в году и слишком много спите. У вас нет ни малейшей надежды победить их. Оставайтесь здесь, в диком краю, со мной. По-моему, война – не лучший способ жить рядом с людьми.
И медведи стали жить в диком краю. Почти все звери решили жить там вместе с Койотихой. Кроме муравьев. Они по-прежнему хотели воевать с людьми, и начали войну с ними, и до сих пор с ними воюют.
(Кто-то еще из присутствующих добавляет:) – Это правда, так оно и было. Вот, например, Блоха – старинная приятельница Койотихи; они ведь, как вы знаете, даже живут вместе. Так вот, Блоха посылает своих малышей разбойничать в человеческих жилищах и говорит им: «Ступайте, и пусть они почешутся хорошенько! И дети их тоже пусть немножко почешутся!» (Ребенок, слушающий рассказ, взвизгивает, когда рассказчик щиплет его легонько и щекочет.)
(Еще кто-то вступает:) – Точно. А еще, помните, как когда-то Койотиха сказала Псу: «Уж больно я разгневана тем, что люди выиграли войну с медведями! Пойди-ка ты, Пес, в их город и убей их самого главного генерала».
Пес согласился и отправился в человечий город. Однако женщины в доме, где жил тот военачальник, дали Псу мяса, вытащили у него из ушей колючки, стали гладить его и ласкать и совсем приручили. Когда они говорили ему: «Ложись!», он ложился, когда они подзывали его к себе, он подходил. Этот Пес очень тогда подвел Койотиху и сильно разочаровал ее, перейдя на сторону человека.
(Разговор продолжается еще какое-то время, и самые маленькие дети начинают клевать носом. Их укладывают спать в летней хижине, и все ненадолго замолкают, пока один из стариков поет простенькую колыбельную, которой вторит пиликанье сверчка. Дети уснули, и снова вступает первый рассказчик:) – А тот человек, ну, помните, тот военачальник, который перебил всех медведей, он, конечно, хотел, чтоб его сыновья тоже стали генералами и героями. Он, видно, считал, что весь его героизм спрятан в мошонке. Может, он эту идею у Койотихи почерпнул, не знаю, да только он сам себе яйца взял да и отрезал и каждое по отдельности положил в специальный медный футляр, состоявший из двух половинок, которые могли завинчиваться. Генерал отдал по одному футляру каждому из своих сыновей и сказал: «Даже если вы станете наполовину такими же замечательными мужчинами, каким был я, то и этого достаточно. Вы и тогда будете бесстрашными, а значит, завоюете и перебьете всех своих врагов».
Но сыновья этому не поверили. Каждый считал, что ему непременно нужны оба яйца.
И вот один из них отправился ночью в дом другого, прихватив с собой нож. Но второй уже поджидал его, и тоже с ножом. И стали они биться, колоть и резать друг друга ножами, пока не истекли кровью до смерти. А старый генерал утром вышел из дому, смотрит – кровь на тропинке и на ступеньках крыльца, кругом люди плачут, а его сыновья лежат мертвые, скрючившись на земле.
И тогда он невероятно разгневался, прямо-таки в бешенство пришел и все кричал: «Верните мне мои яйца!»
Но его невестки уже забрали футляры, а сами яйца выбросили на гору, в то место, куда для канюков бросают отходы из лавки мясника, потому что яйца эти уже провоняли. Однако старик так гневно орал, что они задумались: «Что же нам делать?» И придумали: вымыли те медные футлярчики, завинтили их как следует, а может, еще и клеем каким-нибудь заклеили и отдали старому генералу.
«Вот твои драгоценные яйца, свекор, – сказали они. – Ты бы лучше пришил их на то место, где им быть полагается. У твоих сыновей остались одни только дочери, им это украшение ни к чему».
Ну что ж, старик пришил себе медные яйца, да так с ними и ходил. При ходьбе они у него позвякивали. Он говорил: «Когда в этом городе родится настоящий генерал, я ему их отдам». Но ведь там ничего не было, медные футляры были пусты! Так что когда старый военачальник умер, эти медные яйца похоронили вместе с его пеплом.
(Еще один из присутствующих подтверждает:) – Это правда, чистая правда, а потом еще Койотиха пришла да и вырыла их из могилы…
(Другой вторит ему:) – Это правда, чистая правда, и она носила их как сережки, когда танцевала Танец Луны.[7]
РОЖДЕННЫЙ МОРЕМ Рассказано Маленькой Медведицей из Синшана
Жила-была в Унмалине одна семья из Дома Синей Глины, в которой вместо обычного ребенка родилась рыбка. Да, это была настоящая девочка и одновременно настоящая рыбка. Иногда она была больше похожа на человека, иногда же – на рыбу. Она могла дышать как на суше, так и в воде, то есть у нее были и легкие, и жабры. Долгое время родители не подпускали ее к воде, надеясь, что она непременно совсем очеловечится, если будет все время оставаться на суше. Ходить как следует эта девочка не умела: ножки у нее были слабые, и она могла делать только крошечные шажки. Но однажды, когда она была еще совсем маленькой, а вся семья работала в поле, ее колыбельку поставили в тень возле дома, и она спала, спала, да и проснулась, а потом поползла к прудику, что был неподалеку. Когда взрослые воротились, они сразу заметили, что колыбелька пуста. Дедушки, бабушки, мать и отец и все остальные родственники бросились искать девочку. А ее брат услышал плеск в пруду и пошел туда. Глядь, а там его сестренка из воды выпрыгивает точно форель. Когда же собрались все остальные, девочка нырнула и больше не показывалась. Они и решили, что дочка их утонула, все разом бросились в воду и страшно ее замутили, поднимая со дна ил и грязь. Девочка же спряталась на самом дне, глубоко зарывшись в ил, но родственники все-таки ее заметили, потому что она поблескивала в мутной воде, как рыбка. Когда они вынесли ее на берег, она начала задыхаться и корчиться, но потом привыкла и снова стала нормально, как все люди, дышать воздухом.
После этого ее держали дома взаперти или глаз с нее не спускали, когда разрешали погулять на улице, и никуда от нее не отходили. А старший брат все время носил ее на руках. Именно он чаще всего и оставался с нею. Девочка росла очень плохо и была все еще очень маленького роста, даже когда начала превращаться в девушку, так что брат мог по-прежнему носить ее на руках без труда. Она часто просила отнести ее к Великой Реке, но брат всегда отвечал ей: «Погоди немножко, сестренка-кекошби, еще немножко подожди, пожалуйста». Он был помощником пастуха при большом стаде в Унмалине и, отправляясь на пастбище, всегда брал с собой сестренку, особенно туда, где были небольшие ручейки и неглубокие заводи, чтобы она там поплавала и поиграла. Но сам всегда стоял на берегу и следил за ней. Когда она стала сильнее, повзрослела и начала учить песни Общества Крови, брат часто относил ее в хейимас Обсидиана и встречал после занятий, а по вечерам он брал ее к Великой Реке На, и они уходили вниз по течению, подальше от города, туда, где Река огибает Холм Унмалин и на излучине в ней есть довольно глубокие заводи. Девушка подолгу плавала, а брат всегда ждал ее на берегу. Каждый вечер она уплывала все дальше, и ему приходилось ждать все дольше.
Он и говорит: «Кекошби, кекошбинье, меня все спрашивают, куда это мы ходим по вечерам и почему мы так поздно загоняем стадо в хлев».
«Такошби, матакошби, – ответила она, – мне не нравятся те песни, которые поют в Первом Доме под землей, песни крови. Мне нравятся песни воды, что поются в нашем Доме, в Доме Синей Глины. И мне совсем не хочется возвращаться на сушу».
И он сказал: «Не уплывай!»
И она ответила: «Я постараюсь».
Но однажды вечером все-таки уплыла вниз по реке так далеко, что морская вода проникла сквозь ее кожу, и она отведала ее вкус. Она вернулась тогда, приплыла назад к своему брату, который ждал ее на берегу глубокой заводи под горой, и сказала: «Матакошби, я должна уплыть отсюда. Я попробовала той крови, что растворена в Реке. Теперь я должна плыть дальше». Брат и сестра прижались друг к другу щеками, потом она скользнула обратно в воду и уплыла. А парень пришел домой и сказал: «Она уплыла, навсегда уплыла в море». Люди сперва решили, что он просто оставил ее в реке, устав носить на руках и заботиться о ней, и стали кричать на него: «Почему ты позволил ей оказаться вблизи от Реки? Почему не держал ее все время на суше? Почему ты оставил ее одну?» Брату девушки было очень стыдно и грустно. Когда он оставался один, пас скот или обихаживал его в хлеву, он порой плакал от стыда и одиночества. Он разговаривал с рыбками, жившими в Реке На, и с чайками морскими, что в дождливую погоду залетали в Долину, и всегда просил их: «Если увидите мою сестру, скажите ей, чтоб она приплыла домой!»
Однако прошло немало времени, прежде чем сестра его вернулась к нему. Вечерами он всегда бродил по берегу Реки, а было самое начало сезона дождей, и в тот вечер уже моросил дождь. Почти стемнело, когда он вдруг увидел в воде у самого берега глубокой заводи что-то белое. И услышал звуки – ошшх, ошшх, – словно вздыхали морские волны. Сквозь заросли ивняка он пробрался к самой воде, и там, в воде, на отмели оказалась его сестра. Кожа у нее была очень белая, и она звала его: «Такошби! Матакошби!» Он хотел было вынести ее из воды, но она сказала: «Нет! Не надо!» Она была очень белая и какая-то раздувшаяся. Там, на отмели возле берега, она и родила своего ребенка, настоящего белокожего ребеночка, не рыбку, а беленького хорошенького мальчика. Ее брат вынул мальчика из воды и завернул в свою рубаху. Она молча смотрела, как он это делает, а потом вздохнула, выгнулась дугой и умерла там же, на отмели. Случайные прохожие отвели ее брата с новорожденным домой, а потом спели умершей полагающиеся обрядом песни и на следующий день сожгли ее тело в отведенном для этого месте, ниже по течению Реки, близ Себбе. Пепел ее они бросили в Реку, а не погребли в земле. Шахуготен, Морем Рожденный, – так был назван тот мальчик.
У некоторых жителей Унмалина, принадлежащих Дому Обсидиана, очень светлая, почти белая кожа. Это внуки и правнуки дочери того мальчика. Рожденного Морем.
ХРАНИТЕЛЬНИЦА Рассказано Лучником, библиотекарем хейимас Змеевика из Унмалина. Эта история – пример «чистой формы» повествования, отличной от обычной импровизации или «неформального» пересказа любителя. История явно носит дидактический характер. Она считается вполне достоверной, место действия в ней указано предельно точно. С другой стороны, существует иная ее версия, рассказываемая как раз в Чумо (см. текст), которая начинается словами: «Вниз по течению Великой Реки, в Долине, в городе Тачас Тучас…»
Вверх по течению Великой Реки, в Долине, в городе Чумо жила-была молодая женщина, ученица хейимас Третьего Дома, которая еще носила некрашеную одежду; и в этой хейимас она была Хранительницей, то есть присматривала за вещами, убирала их на место, доставала, когда нужно, – словом, отвечала за все имущество хейимас: за костюмы для Танцев, для пения, для обучения ритуалам и за вещи, подаренные и предназначенные для подарков. Там были разные наряды, костюмы для исполнителей Танца Лета, различные красивые камни, рисунки на бумаге, на ткани и на дереве, коллекции птичьих перьев, шляп, музыкальных инструментов, говорящие барабаны и большой священный барабан, специальные трещотки для танцоров, сделанные из сухих тыквочек и из раковин, из оленьих копыт и из глины, различные ценные записи, книги, сладкие и горькие травы, засушенные цветы, резные вещицы и разные прочие хехоле-но, настоящие шедевры, и вообще – всякие ценные и ценимые всеми вещи, а также сундуки, их содержащие, и ткани, в которые они были завернуты, и полки, и ящики, и шкафы, и прочие места, где они хранились в полном порядке и чистоте, с должным уважением к их красоте и достоинству. И хранила их именно она. Таков был ее природный дар, она делала это хорошо, и исполнение этой работы доставляло ей удовольствие. Стоило какой-нибудь вещи понадобиться, как она тут же приносила ее, точно зная, где она лежит, совершенно готовая к тому, чтобы ею пользоваться. Если кто-то приносил вещь в дар хейимас, то и ей она тут же находила подобающее место. Если же какая-то вещь пачкалась или изнашивалась, она чистила ее и чинила, а если вещь становилась такой старой, что и починить было нельзя, она старалась использовать ее как-нибудь еще. Она продолжала оставаться Хранительницей, даже когда стала взрослой, вышла замуж и родила ребенка. Это была ее главная работа и забота, и никто другой в хейимас не делал этого лучше, чем она.
И вот как-то один человек вырезал из земляничного дерева очень красивую вещицу, хехоле-но, настоящий шедевр, специально в подарок тому Дому, где растет земляничное дерево. Он оставил свой дар в пятом углу главного помещения хейимас. Хранительница увидела вещицу, когда все уже разошлись по домам. Она взяла ее в руки. Вещь ей очень понравилась, и она все не выпускала ее из рук, смотрела на нее и думала: «Эта вещь мне очень подходит, ну будто бы создана прямо для меня. Возьму-ка я ее с собой ненадолго». И она взяла вещицу в дом, где жила со своей семьей, отнесла ее в свою комнату и спрятала в потайную корзинку с крышкой, прикрыв другими вещами. Там вещица и оставалась. А Хранительница не слишком часто смотрела на нее и совсем ею не пользовалась.
В другой раз один человек смастерил для Дома Змеевика танцевальный костюм из оленьей кожи, расшитый орнаментом из листьев и крупных желудей медного цвета. Хранительница как раз несла наряд, чтобы убрать его в шкаф, когда вдруг подумала: «Эта вещь прямо-таки создана для меня». Она померила костюм, да так и осталась в нем, а за работой все время думала: «Ах, как хорошо сидит! Ах, как мне нравится! Ну прямо на меня шито. А может, я летом буду танцевать в этом костюме? Ну так, чтобы кто-нибудь другой не выбрал его себе раньше меня, спрячу-ка я его до Летних танцев подальше!» И она взяла замечательный наряд домой и положила на самое дно своей заветной корзины. Там он и оставался. И во время Летних танцев она его, конечно, не надела.
А потом целая семья принесла в хейимас много сухих толченых ягод манзаниты. Хранительница выставила какую-то часть этого дара в пятом углу, а остальное забрала домой, думая: «У моего сына из-за пыли всегда в сухой сезон горло пересыхает, и он так сильно кашляет, что сидр из манзаниты ему, конечно же, будет очень кстати. Я это приберегу и использую, когда будет нужно». Она высыпала порошок в стеклянный кувшин с пробкой и поставила в кладовку. Там он и остался. И никакого сидра из него в сухой сезон она не сделала.
Через некоторое время одна женщина принесла в дар хейимас флейту, сделанную из оленьей ноги; эта флейта прежде долго хранилась во Втором Доме и была очень-очень старой; много-много раз прежде она играла четырехголосную хейю. Хранительница положила ее вместе с остальными флейтами Третьего Дома, но все время возвращалась и вынимала ее из сундучка, перекладывала с места на место и думала: «Этой вещи не годится быть здесь; слишком она стара, чтобы на ней играть. На флейтах играют беспечные люди – дети, музыканты. А эта флейта слишком стара и прекрасна, чтобы с ней обращались как с обычным инструментом». И Хранительница взяла ее домой, а потом спрятала в свою корзинку с крышкой. Там она и осталась. И никто на ней больше не играл.
И вот как-то раз один человек принес в дар всего лишь кусок кукурузного хлеба. Человек этот был очень стар, бестолков, да и кусок хлеба тоже был старый, черствый как камень; он его и жевать-то не мог. Он отломил тот кусочек с краю, где пытался откусить, и выбросил, а остальное положил в пятый угол хейимас, приговаривая: «Может, кто из молодых, у кого зубы крепкие, съест его». Хранительница нашла хлеб, бросила на пол и вымела вместе с мусором, когда убирала в хейимас, а потом вынесла мусор на крышу и выбросила в мусорную кучу.
Еще и день тот не кончился, как Хранительница почувствовала, что заболела. А на следующий день ей стало совсем худо: судорогой сводило живот, ныли руки, болели прямая кишка и все зубы сразу. Люди один за другим навещали ее, приносили лекарства, пели целительные песни, однако сама она петь эти песни не могла. Целители старались облегчить страдания несчастной, но ничто ей не помогало, а все время становилось только хуже, боль усиливалась, и бедная Хранительница вся распухла – и руки, и ноги, и живот, и лицо.
Один ее родственник по Третьему Дому, который исцелял своим пением, пришел, чтобы помочь ей победить недуг. Он пел и внимательно наблюдал за нею. Она же стонала и совсем его не слушала. Когда целительная песнь закончилась, он сказал: «Сестра, а ведь смысл такой песни в том, чтобы ее пели вместе!» И ушел домой.
А она, оставшись одна, вдруг подумала о его словах; их она расслышала хорошо. И все время продолжала об этом думать, хотя уже совсем ослабела, вся раздулась и корчилась от болей в животе. Ее мучила тошнота, но рвоты не было; ей хотелось в уборную, но из нее ничего не выходило. И она подумала: «Из-за чего же я умираю?» И вспомнила про те вещи, что спрятала в своей корзинке. Она доползла до нее и стала искать ту флейту из оленьей ноги и ту красивую хехоле-но из земляничного дерева. Но ничего, ничего не было на дне корзины, только комки какой-то липкой грязи! Она стала искать в своем сундуке с нарядами тот расшитый костюм из оленьей кожи. Но там, под другой одеждой, нашлись только какие-то грязные лохмотья. Она с трудом сползла по лестнице в подвал и стала искать на полках порошок манзаниты для приготовления сидра. Но в стеклянном кувшине была только грязь на дне и пыль на стенках. Хранительница отправилась в хейимас, еле волоча ноги, падая и громко крича: «Где же он? Где?» И ползала на четвереньках в грязи у внешней стены хейимас, а грязь забивалась ей под ногти, и она все плакала и кричала: «Где же он?» Люди решили, что Хранительница сошла с ума. Но она все-таки отыскала его – тот кусок кукурузного хлеба или какой-то его обломок, а может, это был просто кусок грязи, но только она решила, что как раз это и есть тот кусок хлеба, и съела его. А потом легла, затихла и больше не шевелилась. Ее отнесли домой и стали петь для нее, и она внимательно слушала целебное пение. Вскоре ей стало лучше, и она поправилась. Но после этого случая за вещами, хранившимися в хейимас, присматривали уже другие люди.
СУШЕНЫЕ МЫШИ История, которую рассказал детям дождливым днем в хейимас Змеевика в Синшане старик семидесяти с лишним лет по имени Королевский Питон
Ребенок этот появился у Койотихи неведомо откуда, это был не ее собственный детеныш, а детеныш человека. Скорее всего, она его просто где-то украла. Например, увидела ребенка, оставленного без присмотра, и решила: «Возьму-ка я этого малыша к себе домой». Как захотела, так и сделала. Ее собственные дети с удовольствием играли с ним. Койотиха его кормила, и человеческий детеныш толстел от ее молока. Вскоре он стал куда толще, чем ее собственные щенки, которые были просто кожа да кости, ну и еще хвостик, конечно. Но им это было безразлично. Они играли с человеческим детенышем, прыгали ему на спину, и он на них прыгал, они его покусывали, и он их покусывал, и все они спали вместе, свернувшись в клубок, в доме Койотихи. Вот только ребенок все время мерз, ведь он был совсем голый, шерсти-то у него не было. Он вечно хныкал и дрожал. Койотиха и говорит ему: «В чем дело?» – «Я замерз». – «Ну так отрасти себе шерсть!» – «Не могу». – «А я чем тебе помочь могу?» – «А ты должна развести огонь, именно так поступают люди, когда им холодно». – «Ох! Ну ладно!» – сказала Койотиха и отправилась прямехонько туда, где жили люди. Она дождалась, когда они разожгли огонь в очаге, потом вбежала в дом, схватила горящее полено и помчалась прочь. От горящего полена сыпались искры, и у нее за спиной сухую траву охватил огонь. За спиной у Койотихи начался пожар, горели травы. Когда она добралась наконец домой, пожар полыхал уже на десяти холмах. Всему ее семейству пришлось спасаться бегством, они бежали со всех ног, а потом, обезумев от страха, попрыгали в реку! И с головой погрузились в воду, выставив только носы. «Эй, – спросила Койотиха человеческого детеныша, – тепло ли тебе сейчас?»
Когда они наконец вылезли из реки, на одной ее стороне холмы все полностью выгорели. Потом пришли дожди, стало холодно, в тот год зима была суровая. Койотиха со своим семейством переселилась в новое логово на другом берегу реки. Там человеческому детенышу было еще холоднее, но просить Койотиху снова разжечь огонь ему не хотелось, и он решил: «Не буду я больше жить с этими койотами в их холодном доме. Пойду туда, где живет мой собственный народ, и стану жить, как все люди». Итак, среди бела дня он вдруг встал – а дело в том, что в полдень все койоты обычно спят, – взял из дому немного еды – вяленой оленины и сушеных мышей и отправился в путь. Он шел весь день, а порой даже и бежал, чтобы поскорее убраться от Койотихи и от ее дома подальше. Под вечер, после захода солнца, ребенок стал искать, где бы ему спрятаться на ночь и поспать. Он отыскал какой-то выступ, настелил на него еловых веток, улегся там и уснул.
А Койотиха в это время как раз проснулась. Она спокойно потягивалась и зевала, когда щенки вдруг сказали ей: «Эй! А где же Двуногий?» Она огляделась, потом вышла и заглянула за угол своего дома. Там она и увидела ребенка; он спал на полке, где Койотиха хранила свои вещи. «Вон он там, на полке, – сказала она. – Но интересно, почему это он спит именно там?» И все койоты ушли из дома охотиться.
А ребенок наутро проснулся и снова целый день бежал и шел; он прошел ужасно долгий путь, а ночью спрятался в какую-то пещеру и уснул. Койоты в полночь проснулись. «Эй! А где же Двуногий?» Койотиха огляделась. «Да вон он, в моей корзинке со швейными принадлежностями. Вот только интересно, зачем он туда спать залез?» И они ушли на охоту.
На следующий день ребенок все-таки добрался до города, где жили люди. Все от него шарахались, потому что выглядел он уж больно непривычно, а кое-кто даже стал швырять в него камнями, чтобы прогнать прочь, но он остался. Он спрятался под крыльцом какого-то дома, а ночью вылез и улегся спать на крыльце, возле двери. Когда люди, жившие в этом доме, увидели ребенка, они пожалели его, внесли в дом и положили спать возле огня. А в это время койоты как раз просыпались у себя в логове, и щенки озирались и спрашивали: «А где же Двуногий?» – «Ах, мой ребенок сбежал! Мой ребенок ушел в другой дом!» – закричала Койотиха, вылезла из норы, выла и плакала всю ночь, а потом и говорит: «Верни мне моих сушеных мышей!» Вот и считается, что именно эти слова она все повторяет, когда ходит вокруг города при свете луны: «Верни мне моих сушеных мышей!» Да, люди так говорят.
ДИРА Рассказано группе детей и подростков Красным Быком, мужем Ярости, в хейимас Обсидиана
Хейя хей хейя, хей хейя хейя, однажды, давным-давно в здешних местах во времена холода и мрака шла по холмам одна женщина из племени людей и искала себе пропитание. Она срывала бутоны с цветущих кустарников, ставила силки на водившихся в кустах кроликов, собирала все сколько-нибудь съедобное, потому что весь ее народ голодал, как и она сама. То были тяжелые времена, когда людям, как известно, приходилось трудиться день и ночь, чтобы добыть хоть немного пищи, и люди часто умирали от голода и холода, и не только люди, но и животные.
И вот эта женщина охотилась понемножку, занималась собирательством среди холмов, а как-то раз решила спуститься в ущелье, где, как ей показалось, у ручья виднелись коричневые хвосты камыша. Она с трудом пробралась сквозь заросли колючего кустарника, карликового дуба и терна, потому что ни козьих, ни оленьих троп там не было, даже и кроличьих тропок не было тоже. Ей пришлось пробиваться сквозь густые заросли, чтобы спуститься в это ущелье. А небо потемнело, как если бы собирался пойти сильный дождь. Женщина подумала: «Ах, ведь еще до того, как я выберусь из этих колючих кустов, я вся буду в клещах, сейчас сезон такой!» И она все время ощупывала шею и руки, ворошила волосы, проверяя, не присосались ли к ней клещи. Никаких камышей она в ущелье не нашла. И вообще там не было ничего съедобного. Тогда она побрела вдоль ручья, вниз по течению, продираясь сквозь низкий спутанный кустарник на берегу, который все норовил разорвать на ней рубаху и разодрать кожу своими шипами. И вот она вышла к такому месту, где рос очень высокий и густой желтый ракитник. Больше ничего там не росло. Ракитник был наполовину сухой и потому казался серым; цветы на нем еще не распустились. Женщина двинулась напролом сквозь заросли ракитника и прямо перед собой увидела: стоит среди кустов какой-то человек. Он был широкоплечий, но очень худой, с темными волосами и маленькой головой, а на одной руке у него совсем не было пальцев, только два зубца, похожих на щипцы или клещи. Человек этот стоял там и чего-то ждал. Говорят, у него и глаз тоже не было.
Женщина остановилась и замерла, а потом попыталась тихонько отступить в том направлении, откуда пришла. Но ветки ракитника сплелись у нее за спиной и громко затрещали, когда она попятилась, так что ей оставалось лишь медленно продвигаться вперед. Загадочное существо стояло неподвижно, не шевелилось, не смотрело на нее, так что она даже начала думать, что оно, возможно, и неживое. И решила тогда: «Может, мне как-нибудь удастся пройти мимо него?» Она почти бесшумно пошла вперед, ступая очень осторожно, ловко и быстро. Существо ждало и не шевелилось. Проходя мимо, женщина разглядела, какое оно худое и плоское, будто высохшее, и подумала, что, может быть, эта штука никогда и не была живой. Она подошла к нему совсем близко и уже повернулась к нему спиной, когда оно прыгнуло и схватило ее сзади той рукой с двумя зубцами за шею, сдавив ее точно клещами. Существо держало ее и говорило: «Возьми меня к себе домой!»
Женщина стала вырываться, просить: «Отпусти меня!» и все пыталась освободиться, но существо держало крепко. Она уже задыхалась, однако хватка его не ослабевала. И она сказала тогда: «Ладно. Я возьму тебя к себе домой!»
«Ну вот и хорошо», – сказало существо. И только тогда отпустило ее. Когда же она смогла наконец обернуться и посмотреть на него, то оказалось, что с виду существо совсем как настоящий мужчина, темнокожий и худой, с небольшой головой и маленькими глазками, с двумя руками и двумя нормальными кистями – каждая с пятью пальцами, и все остальное у него тоже было вроде бы таким, каким и должно быть у нормального человека. «Иди вперед, – сказал ей мужчина, – а я за тобой следом».
И женщина пошла впереди, а он за ней.
И пришли они в тот город, где она жила. Городок был небольшой, всего несколько домов и несколько жалких семей, затерявшихся в глубине этой темной холодной долины. Женщина явилась к себе домой вместе с мужчиной, который шел за ней по пятам, и домочадцы спросили ее: «Это кто же такой с тобой пришел?»
Она ответила: «Просто голодный человек».
И они сказали: «Да, конечно, он ужасно худой, и мы, разумеется, поделимся с ним всем, что у нас есть».
Женщина хотела было сказать: «Нет! Отошлите его скорее прочь!», но стоило ей раскрыть рот, как горло ее так сдавило, что она чуть не задохнулась; ей даже показалось, что незнакомец все еще сжимает ее шею своей клешней. Так она и не смогла ничего сказать против него.
Ее родственники спросили у незнакомца, как его зовут, и он ответил: «Дира».
Пришлось женщине провести этого Диру в свою комнату. Он вошел и сразу уселся у огня. И ей пришлось разделить с ним всю ту еду, которую она принесла для своих детей и матери. Еды было немного: бутоны цветущих кустарников да съедобные побеги и листья, больше она ничего не нашла. В итоге все так и остались голодными, один Дира сказал: «Ах, как хорошо! Как вкусно!» И правда, он уже больше не казался таким худым.
Он спросил у той женщины: «Где твой муж?»
Она ответила: «В прошлом году умер».
Дира сказал: «Я займу его место».
Она хотела сказать: «Нет! Ни за что!», но не смогла: горло ей сдавило так, что голова чуть не лопнула, и она совсем не могла дышать. Пришлось сказать: «Да».
Итак, Дира стал ее мужем, и женщина с этим смирилась.
Через какое-то время мать упрекнула ее: «Этот твой муж, которого ты в лесу подобрала, все время бездельничает».
«Он все еще слишком слаб, ведь он так долго голодал», – ответила она.
Люди в городке тоже удивлялись: «Почему этот Дира не возделывает землю, не охотится и не пытается заняться собирательством? Сидит себе дома дни и ночи да баклуши бьет».
Женщина всем отвечала: «Он болен».
Однако они возражали ей: «Может, он и был болен, когда явился сюда, но теперь-то – вы только на него посмотрите!»
А пришелец и впрямь стал весьма упитанным – и с каждым днем становился все толще. Кожа его теперь была уже не темной, а красно-коричневой.
«Он все толстеет, а ты и твоя семья все худеете, вон какими тощими стали, как это понимать?» – спрашивали женщину соседи. Но она ничего им объяснить не могла. Если она пыталась хоть слово сказать против Диры, даже когда того рядом не было, то сразу начинала задыхаться так, что слезы выступали у нее на глазах, и она говорила: «Не знаю».
Жители города своевременно посадили в гряды саженцы, посеяли семена, однако лето оказалось чересчур сумрачным и холодным. Все семена погнили, не успев прорасти. Саженцы погибли. Охота давала мало добычи; да и зверей там водилось маловато, особенно тех, что принадлежат Дому Синей Глины, и эти звери тоже голодали и болели; какие-то животные из Дома Обсидиана еще встречались, правда, но еды в достатке не было ни у кого. Дети той женщины совсем ослабели, животы у них раздулись и болели. Она плакала, а ее новый муж смеялся: «Смотри, они похожи на меня! – говорил он. – У нас у всех теперь большие животы!» Он ел все, что угодно, и с каждым днем становился все более толстым и красным. У той семьи была одна корова, и травы пока хватало, чтобы прокормить ее; только благодаря коровьему молоку дети все еще оставались живы. Однажды женщина увидела, как Дира отправился в поле, и очень обрадовалась: «Ну вот, смотрите-ка, и мой муж работать пошел!» А он направился прямиком туда, где паслась корова, и женщина решила: «Он хочет позаботиться о сестре нашей, корове». Но на самом деле он вот что сделал: напился, насосался коровьей крови. И стал делать так каждый день, и вскоре корова уже не могла давать молоко, а он все продолжал сосать ее кровь, и однажды корова легла прямо в поле на землю и умерла. Тогда он освежевал ее тушу и явился домой с говядиной. Ему пришлось несколько раз сходить туда и обратно, чтобы перенести все. «Посмотрите, как упорно трудится мой муж!» – говорила женщина. А по щекам ее катились и катились слезы. И все люди это видели.
Без молока дети быстро слабели. А Дира, хотя и разговаривал с ними всегда очень ласково, никакого мяса им не дал. Он все съел один. Иногда, правда, он спрашивал их – и детей, и их мать и бабушку: «Как, неужели вы не хотите мяса? Попробовали бы хоть!» Однако стоило ему сказать это, как у них горло сжимало так, что они только и могли головой качать; ну и, конечно же, он один съедал все мясо, улыбаясь и шутя. Вскоре умер один из детей. Второй, старший, тоже был при смерти. Зато Дира стал таким толстым, что уже не мог подняться и просиживал у огня днями и ночами. Живот у него был огромный, словно шар, а кожа – туго натянутая и бледно-красного цвета. Глазки совсем заплыли жиром. Руки и ноги были похожи на корни или обрубки ветвей, торчавшие из шарообразного жирного тела. Жена же его и ее мать неотлучно оставались у постели умирающего ребенка.
Тогда жители города собрались все вместе, чтобы посоветоваться. Они посоветовались и решили Диру убить. Мужчины были очень разгневаны и все говорили: «Ножом бы по этому горлу, пулю бы в это пузо!» Но была там одна хромая женщина, которая сказала: «Только не так, только не таким способом. Это ведь и не человек вовсе!»
«Но мы все равно убьем его!» – возразили они.
«Если вы убьете его обычным способом, то его жена и вся ее семья умрут с ним вместе. Вы не должны проливать ту кровь, что в нем скопилась. Это ведь их кровь», – сказала хромая женщина.
«Тогда мы его задушим», – сказал один из мужчин.
«Да, именно так и следует поступить», – согласилась хромая женщина.
И вот жители города отправились все вместе в тот дом. Дверь была заперта. Они выбили замок и вошли. Бабушка, мать и ребенок лежали на полу, словно куча старых обглоданных костей, слишком слабые, чтобы даже сидеть. Они умирали. Дира по-прежнему сидел у огня, похожий на огромный красный кожаный шар. Увидев людей, он быстро переменил обличье и снова стал тем существом, каким был прежде, с клешней вместо пальцев, но теперь он был слишком толст и неповоротлив, чтобы кого-нибудь схватить. Люди принесли с собой большой сосуд с эвкалиптовым маслом и, схватив Диру, наклонили ему голову и сунули ее прямо в масло. Так они держали его довольно долго, и он долго еще сопротивлялся и никак не умирал, но они не отпускали его, и наконец его огромное толстое тело перестало дергаться, застыло, а потом начало быстро съеживаться. Оно становилось все меньше и меньше, и вдруг сама эта женщина, ее мать и ребенок сели. Тело Диры еще уменьшилось, и они встали. Потом оно стало размером с кулак, не больше, и они снова смогли говорить. А когда тело Диры стало размером с грецкий орех, они наконец смогли двигаться, как прежде, и рассказали, что же с ними произошло. За это время тело Диры уменьшилось до размеров ногтя, стало совсем плоским, сухим и темным, и люди, которые были заняты тем, что обнимали и утешали женщину и ее семейство, не заметили, что же происходит с этим, крошечным теперь, телом. А оно все продолжало уменьшаться и превратилось в маленькую чешуйку, которая легко всплыла на поверхность, выбралась из сосуда с маслом и скользнула за дверь, а потом скрылась в холмах, чтобы терпеливо ждать, когда мимо пройдет еще какой-нибудь доверчивый человек. Говорят, Дира и сейчас там стоит.
ПОЭЗИЯ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Как сказано в главе «Устная и письменная литература» (см. «Приложения»), некоторые виды поэзии Долины являлись письменными, другие записи вообще не подлежали, однако, как бы ни исполнялись стихи – в виде импровизации, наизусть или с листа (перед аудиторией или в одиночестве), их всегда читали вслух.
В этот раздел включены некоторые импровизации, а также общеизвестные песни, которые, как и любые фольклорные произведения, давно утратили автора и принадлежат всем (хотя всем в Долине принадлежат отнюдь не все стихи и песни: некоторые из них «подарены», а некоторые получены в награду), кое-какие детские песенки и «публичные импровизации», то есть стихотворения, созданные во время какого-нибудь соревнования или написанные в присутствии публики.
Пастушья песня из Чумо
Хорошо, ты получишь послед, но не ягненка, Койот. У овцы копытца остры, ох, берегись, Койот! Мог бы взять я в жены любую, но только не эту, Койот. Матери ее я не нравлюсь, ох, берегись, Койот!Песня стрекозы [8]
Унмалин, Унмалин! Чудный город над рекой! В хлева под темными дубами твой скот приходит вечерами. Воде журчащей звук их колокольчиков подобен. А с круглого холма над Унмалином видны все виноградники Долины, и слышно, как поют там люди, собравшись на закате в дом родной вернуться.Песня Общества Благородного Лавра
Ему пришлось размахивать им как флагом, чтобы заставить его встать. Ему пришлось совать его в мышиные норы, и в кротовины, и в задницы чужие, чтобы заставить его встать. – Дай мне лечь наконец, – говорит он. – Ни за что! – говорит Он. – Дай же мне отдохнуть, – говорит он. – Нет, вставай! – говорит Он. И вот он встает, и руки у него вырастают, он берет в руки нож и себя от Него отсекает. Убегает он прочь от Него, девять раз поет хейю и сразу ложится, засыпая мгновенно. А Он выращивает себе новый, но пока он ужасно мал. Так что Ему приходится ложиться на землю, чтобы сунуть его в муравьиную норку.Несколько стихотворений, продекламированных собравшимися после работы на берегу реки поэтами из Мадидину
Утрата Тяжело мое сердце, словно камень надгробный. К земле своей тяжестью тянет, мне дышать не дает, как прежде. Ревность А та, с сережками, меня разве лучше? Что тебе она даст, чего я не давала? Поднесет ли вина? Иль подложит жаркого? Или силы добавит в ослабевшие чресла? Первая любовь Полола помидоры, побеги пахли терпко под жарким солнцем лета. Давно все было это. Темноволосая девушка О, бабочка, два черных крыла! Кружит, садится, вновь вспорхнет, вернется к цветку тысячелистника. И неуверенно на нем застынет.Дразнилки Слово языка кеш «фини» переводится как «шуточное соревнование в оскорблениях, организованных ритмически». Те «дразнилки», что приведены ниже, – импровизации, услышанные мной во время Танца Вина в Чумо
Уж конечно, ты явился с Нижнего конца Долины! И нетрудно догадаться: ведь слова ты произносишь, будто из норы ты рака, упершись ногами, тащишь! Здесь, в Чумо, вечно кур полным-полно. И эти куры умные настолько, что говорят совсем как сами люди: «Кач-кач-качалка, ко-ко-корзинка!» Да ведь и люди в Чумо умные, как куры! На Нижнем-то конце такие умники живут, что хитрецами их не зря прозвали: вам сварят пиво из чего угодно, хоть и дерьмо собачье в чан свой соберут. Чем крепче ум, тем крепче и напиток. Вот в Чумо, например, в почете пиво, такое крепкое, что крепче не бывает, но вот мочой кошачьей от него воняет! Сразу ясно: ты из Нижней Долины! Ведь недаром с утра ты талдычишь все одно, словно сука с кобелем перед «свадьбой». Был тут в Чумо человек, очень умный человек: мысль ему явилась раз, да исчезла в тот же час.Песня папоротника Спета за работой Папоротником из Кастохи
Разбитые старые ступни да острые тощие колени торчат над этой корзиной пред старыми моими глазами. А новую эту корзину плетут мои старые руки. Ах, старые мои ноги, далекий путь прошли вы, чтобы корзинка эта здесь возле вас стояла. Ну что же, торчите рядом с моею новой корзиной и пойте мне новую песню, мне, той самой старухе, что вам свою жизнь пропела.Под аккомпанемент барабана Автор: Кулкунна из Чукулмаса
Коршун с криком кружит в небесах. Клещ впился мне в голову за ухом. Но если и я воспарю, как коршун, значит, придется и кровь сосать, клещу уподобляясь? О вы, холмы моей родной Долины, уж больно жить средь вас непросто!Артисты Написано на белой оштукатуренной стене в доме, принадлежащем Союзу Дуба в Телине
О, как же это делают они, певцы, сказители, танцоры, творящие перед глазами чудо? Они ныряют в пропасть меж мирами, пусты их руки, но они вернутся и принесут нам множество вещей! Уходят молча – и приносят песни; уходят в паутину лабиринта, но возвращаются – и знают Путь отлично. Уходят в страхе, безобразные, хромые — и возвращаются прекрасными, как пума, как краснокрылый ястреб, что парит высоко. Так, значит, вот где черпают они свое дыханье: в той страшной пропасти, что мир наш окружает! Их руки, видно, стали ее Стержнем, другие люди там дышать не могут. Но выше всяческих похвал артисты! О да, они обычные артисты, они используют свое великое терпенье, и страсть свою, уменье, труд безмерный, и снова труд – и суд. Стремясь уравновесить ум и назначенье, свою настойчивость, свое упрямство, свою печаль и радость в действиях на сцене, они все ближе к пропасти подходят, понимая: там миры соединятся. Они подходят не спеша, кругами, как коршуны, что сверху наблюдают, как чуткие койоты – осторожно. И, заглянув в ту пропасть, видят сердцевину мира и, суть вещей поняв, ее нам преподносят, хоть жить в той пропасти им тоже невозможно. О, выше всяческих похвал артисты! Ну да, они артистами зовутся, и похвалы в награду им довольно за тяжкое соревнованье в мастерстве. А может, мы ошиблись с вами? А вдруг пупом Земли им кажется живот набитый? А вдруг они бездельники и трапезу считают за работу? А может, это лишь отбросы? Лишь то, что коршун и койот вчера на завтрак не доели?Похвальба Из города Тачас Тучас
Ах, музыканты из Тачас Тучас делают флейты из речек, делают из гор барабаны. Звезды выходят послушать. Люди в Домах Небесных двери распахивают настежь, окна на Радуге открывают, чтобы слышать дивных музыкантов из нашего города Тачас Тучас.Ответ Из города Мадидину
Ох, музыканты из Тачас Тучас из своих носов делают флейты, а из ягодиц – барабаны. Даже блохи спасаются бегством, а в Мадидину все закрывают двери, а в Синшане все затворяют окна, едва лишь заслышат тех музыкантов из славного города Тачас Тучас.Предостережение из Второго и Третьего Земных Домов Этот выполненный каллиграфом свиток хранится в хейимас Змеевика в Ваквахе
Послушайте, о люди Четвертого и Пятого Домов, а также Дома Первого! Послушайте, сажальщики и земледельцы, садовники и виноделы, пастухи и овцеводы. Прекрасны и щедры ваши искусства, они приносят много пользы, но и опасность в них таится. А вдруг среди маисовых метелок вон тот мужчина скажет: ведь это я пахал и сеял, а стало быть, мое все это. А вдруг среди тучнеющих овечек та женщина оглянется и скажет: ведь это я растила их, кормила – мои то овцы. И в борозде зерно рождает голод. И за оградой пастбища дрожат телята. Амбар доверху полон нищетою. И жеребенком взнузданной кобылы стал гнев. Плодом оливы мирной стали войны. Остерегайтесь же, о люди Домов обоих Кирпичей и Дома Первого! Заглядывайте в дикие края, опасно жить лишь на возделанных полях. Вступите в гущу медоносных диких трав, под сень дубов, что желудей полны, вкусите сладость корня, добытого под камнем. Пусть рядом будут горные олени, и рыбы из реки, и перепелки с луга, пусть станут они вашей пищей – ведь и вы когда-нибудь ею станете. Смотрите: вот они, вокруг вас, но вам они не служат. Кто ж их хозяева? И чем они владеют сами? Вот это – горы пумы, а этот холм принадлежит лисице, а это дерево – совы обитель, а этот ход ведет в мышиную нору, а в этой заводи гольян хозяин — и все это одна и та же местность, твоя Долина. Найди свое в ней место. Здесь нет оград, но есть запреты. Здесь нет войны, но умирают, да, умирают тоже, к сожаленью. Иди ж, охоться – на себя ты поведешь охоту. Иди – и отыщи себя в траве, в земле и на ветвях деревьев. Иди ж, ложись, спи сладко на земле Долины, которую своей ты не считаешь, которая, однако ж, в крови твоей растворена.Бозо (большой пестрый дятел) Детская считалочка из Синшана
Бозо-птичка в красной шапке, в черных-черных-белых перьях, туки-туки-туки-туки Бозо-птичка на дубу ходит-бродит, ходит-бродит, ходит-бродит по ветвям, барабанит, барабанит, барабанит трам-там-там. Туки-туки-туки-туки раз-два-три, туки-туки-туки-туки вон выходишь ты.В стране закатного дня Детская песня-танец, которую я слышала во всех девяти городах Долины; сам танец называется «Встаньте в круг». Рифма характерна для детской песни; метрическую организацию стиха при переводе следует воспринимать как попытку передать привязчивую мелодию танца
ХОР: Кругом идем мы, идем вокруг дома, дом обшарим до дна. Все горит, горит, горит-догорает и сгорит дочерна. СОЛИСТ: Кто же, ну кто разобьет этот круг наш? Кто мою руку возьмет? Кто станет мне сердечным другом и в танце меня поведет? ХОР: Откройте же круг, расступитесь, качнитесь, ведите его за собой, все дальше вниз по долинам росистым, по склонам, заросшим травой. СОЛИСТ: И я в вашем танце кружиться стану, возьмите с собою меня! Любите меня и со мною танцуйте в стране закатного дня.Ящерица Импровизация Щедрой, дочери Ярости из Синшана, созданная ею в солнечный день возле каменной стены
Нагретая стена. Большая ящерица дышит часто-часто. Вверх-вниз, вверх-вниз мелькает голубое ее брюшко. Хвалится: я в небесах! Я молния! И вдруг – моя тень упала: удирает игрунья. Исчезла в тени, сама тенью став.Волу по кличке Розовый Корень Импровизация, созданная во время Второго Дня Танца Вселенной Кулкунной из Чукулмаса
Что же прекрасное столь внутренним взором своим на протяженье всей жизни ты созерцаешь? Верно, великое нечто, такое, что заставляет тебя, неподвижно застыв и не видя вокруг ничего, одному лишь ему отдавать свои мысли и взоры. И если тебя от него отрывают, прервав созерцанье, гневно ревешь ты, глазами вращая, желая немедля к мысли этой вернуться, спокойно предаться ей, красотою виденья питаясь всю свою жизнь.Канюки Спето под аккомпанемент барабана Лисьим Даром из Синшана
Четыре канюка, четыре! Четыре канюка, четыре, пять! Они парят, кружа над миром, и кругом возвращаются опять. Эй, выше, канюки! Эй, выше! И, круг за кругом, возвращайтесь к стержню. Но где ж тот стержень? На ближнем ли холме, на дальнем, в любой долине, где таится смерть. Там этот стержень. В центре тех кругов, внутри спирали, что девять канюков нарисовали нам в небесах.Перепелке из Долины Декламировали жительницы Синшана Адсевин (что значит Утренняя Звезда) и сестра ее матери по имени Цветущая
Матушка Уркуркур, покажи мне свой домик, пожалуйста, дай посмотреть на него. В нем пол из синей глины, а стены – струи дождевые, а двери – облачная пена, в которой окна выдул ветер, а крыши в доме вовсе нет. Сестра моя Экверкве, как свое семейство бережешь ты? Расскажи мне или покажи. Бегу я осторожно, взлетаю очень шумно, но сразу же и прячусь, хотя все знают, где я. Умею делать знаки, неведомые прочим, я круглыми глазами, и круглым мягким тельцем, и пышным хохолком. Ах, доченька Хеггурка, но что в конце-то будет? Пожалуйста, скажи мне! Ах, многое грозит нам: и ястреб в жаркий полдень, сова порой вечерней, кот острозубый ночью. От многих остаются лишь перышки, да кости, да струи дождевые, да солнечные блики. Но остаются также в гнездышке укромном под теплыми крылами кругленькие яйца!Дразнилка для котенка Импровизация мальчика лет шестнадцати по имени Задумчивый из Синшана, сочиненная во время работы на огороде
Хойя, маленький земляной комочек! Хойя, крохотный котенок земляного цвета! Ты удерживаешь свою тень коготками, на солнцепеке разлегшись и уснув очень крепко. Правда, стоит камешек мне кинуть, как котенок и тень разбегутся. Хойя, маленький котенок, что взлетел как пушинка!Ведро Импровизация, сочиненная теплым утром ранней весною пятнадцатилетней Адсевин из Синшана за рубкой бамбука
Мечтательность меня одолевает и лень сонливая и сладкая такая, что я хотела бы внезапно оказаться там, в уголке веранды иль балкона, сидящей праздно и с совсем пустой душою, не занятой ничем и не спешащей, как это старое ведро, оставленное кем-то там, в уголке веранды иль балкона.Любовная песня Поется по всей Долине
Коль подует желтый ветер, ветер с юга иль с востока, коль цветочною пыльцою нас осыпет нынче утром, может, он ко мне вернется? Коль подует ароматный ветер с юга иль с востока, коль ракитника пыльцою нас осыпет ввечеру он, может, он ко мне вернется?Как умирают в Долине
Похороны происходят на довольно больших кладбищах, расположенных неподалеку от каждого города – среди холмов, заросших лесом, на «охотничьей» стороне, где нет полей, садов и огородов или лугов с кормовыми травами, камышовых болот или диких плодоносящих деревьев, которые являются либо собственностью общины, либо так или иначе всеми используются. Где-то примерно в миле от города каждый из Пяти Земных Домов выбирает себе участок на вершине холма или на высокогорном лугу под кладбище. Никакого четкого плана это кладбище не имеет, так что новую могилу семья может выкопать там, где захочет; территория, занимаемая кладбищем, обозначена посаженными вокруг деревьями: яблонями, дикой вишней, конскими каштанами, а также азалиями, наперстянкой и калифорнийским маком. На могилы никогда не водружают каменных надгробий, но иногда на них ставят маленькие фигурки, вырезанные из секвойи или из кедра, а рядом часто сажают одно или несколько из перечисленных выше растений, за которыми оставшиеся в живых члены семьи прилежно ухаживают, пока память об усопшем жива в их душах. Часто кладбища очень похожи на яблоневые сады, только деревья там растут гуще, чем обычно, и не рядами, а как попало.
Кремация совершается в искусственной или естественной низине неподалеку от кладбища. Для этого обширная округлой формы поляна полностью очищается от травы, земля на ней утрамбовывается и каждый год посыпается солью; это входит в обязанности членов Общества Черного Кирпича.
Сама церемония смерти или, точнее, умирания названа Уходом На Запад До Самого Восхода. Следующее далее описание сделано Слюдой из Дома Желудей в Синшане.
Уход На Запад До Самого Восхода: наставления для умирающих
Наставником в таком случае обязательно выступает член Общества Черного Кирпича.
В период между Танцем Вина и Танцем Травы те люди, которые хотят выучить песни Ухода На Запад, должны попросить об этом наставника из данного общества.
После Танца Вина они помогают наставнику строить специальный священный дом за пределами города, обычно где-нибудь на «охотничьей» стороне, но иногда, впрочем, и на «культурной». В горных городах его строят обычно из эвкалипта или ивы, устанавливая от девяти до двенадцати шестов с каждой стороны и привязывая их к центральному столбу ивовыми прутьями или лозой, а стены делают из переплетенных друг с другом еловых лап. В самой Долине, особенно в Нижнем ее конце, где такой дом должен быть несколько больше, потому что там живет больше народу, стены оставляют открытыми, но делают очень плотную крышу, поскольку в это время как раз начинается сезон дождей, а некоторые из готовящихся к Уходу На Запад больны или стары, и им просто необходимо укрытие. Вне зависимости от того, есть ли в этом доме стены, вход в него всегда на северной стороне, а выход на южной. Сухие ветки и стволы дикой вишни, а также старые и сухие ветви яблонь специально срезаются и складываются у очага. Все камни из земляного пола собираются в кучу; они представляют собой нечто вроде алтаря. Такой священный дом имеет свое имя: Воссоединение.
Наставник приходит туда в последний вечер Танца Травы и проводит там ночь, копая в земле яму для очага и тщательно выбирая каждый камешек. Все это время он поет соответствующие песни, благословляя дом.
Ученики его приходят утром. Они кладут дрова в очаг и разжигают огонь, а потом бросают в огонь лавровые листья и поют священные хейи.
Если кто-то хочет поговорить о своей собственной грядущей кончине или о ком-то из близких, умершем внезапно или сейчас тяжело больном и умирающем, он должен бросить в огонь горсть лавровых листьев и говорить. Наставник и все остальные слушают. Когда выскажутся все, наставник может, например, рассказать о некоем своем видении или конкретном случае, имеющем непосредственное отношение к тому, как совершается Уход На Запад; или же он может что-то прочесть из книги стихотворений, принадлежащей Обществу Черного Кирпича, где говорится о душе; или же он не скажет ничего, а только будет отбивать ритм хейи на барабане.
Затем начинается само обучение. Ученики должны выучить те песни, которые будут петь, умирая, и те песни, которые будут петь для умирающего.
Наставник начинает с той песни, которую поют для умирающего.
Эту песню исполняют, когда становится ясно, что конец человека близок. Ее могут петь и очень недолго, и в течение длительного времени. В последнем случае умирающий сможет петь ее вместе с остальными, петь вслух или про себя, уходя вместе с песней прямо в смерть. О том, что пора петь вторую песнь для умирающего, его провожатые догадываются сами, потому что он либо уже застывает, либо испускает последние вздохи, когда душа, отлетая вместе с дыханием, словно пытается высвободиться из оков тела. Когда уже не прослушивается пульс и дыхание совсем прекратилось, начинают петь третью песнь. Когда лицо покойного становится холодным, эта песнь заканчивается.
Наставник сообщает все это в перерывах между исполнением песен, а также рассказывает своим ученикам, что любая из песен провожающих может исполняться снова и снова, пока не наступит смерть. Четвертая и пятая песни провожатых должны первый раз исполняться во время похорон, после чего их следует петь вслух в любое время и в любом месте в течение четырех дней, а потом еще – на самой могиле в течение пяти дней, и затем уже петь их только про себя, в душе, до ближайшего Танца Вселенной, после которого для усопшего они более исполняться не должны.
Большая часть людей не раз слышала, как провожатые поют свои песни, песни умирающему, но никогда никто не слышал тех песен, которые поет сам умирающий.
Наставник расскажет ученикам, что умирающие сами знают, когда петь эти песни и где; они поют их, узнавая те места, куда устремляется их освобождающаяся душа. Сперва эти места узнает их разум, позже – душа. Если они вели разумную жизнь, то узнают эти места сразу и сразу догадываются, находятся ли они все еще в Пяти Земных Домах или уже в Четырех Небесных. Очень хорошо, когда люди могут петь в течение всего своего пути туда и исполнить все песни, вплоть до самой последней, однако особой необходимости в этом нет. Зато действительно необходимо, чтобы песни провожатых пелись все время, отведенное человеку на путь к смерти, а также в течение первых девяти дней после его смерти, ибо таким образом они помогают умирающему умереть, а живым жить дальше.
Рассказав обо всем этом и ответив на вопросы, наставник споет первую строку первой из песен умирающего. Ученики откликнутся ему, исполнив первую строку первой из песен провожающих. Таким образом они выучат все пять песен, которые сами когда-нибудь будут петь, умирая, однако ни разу не повторят их вслух, а лишь будут отвечать на них словами песен провожающих. Только наставник из Общества Черного Кирпича может петь песни умирающего вслух. Для учеников полезно много раз повторить их про себя, сразу и потом, чтобы песни умирающего вошли им в плоть и кровь, стали частью их души и разума.
Ниже приводятся тексты песен Ухода На Запад До Самого Восхода.[9]
Песни
Первая песня
Умирающий поет: Я пойду вперед. Ох, трудно, это трудно. Я пойду вперед. Провожающие поют: Иди вперед. Иди вперед. Мы с тобою. Мы с тобою рядом.Вторая песня
Я пойду вперед. Все меняется вокруг. Я пойду вперед. Иди же, пора, иди вперед. Оставь нас, пора, Пора нас покинуть.Третья песня
Вот он, мой путь. Я вижу, вот он. Вот он, мой путь. Ты идешь вперед. Ты ступил на свою дорогу. Ты идешь по верному пути.Четвертая песня
Пение меняется, затихает. Свет меняется, меркнет. Пение меняется, затихает. Свет меняется, меркнет. Они все ближе, ближе, Танцуют и светятся ярко. Воссоединяюсь с ними. Не оглядывайся назад. Ты входишь в их Дом. Ты уже у цели. И вот ты вошел. Свет все сильней и ярче, Тьма позади осталась. Смотри же вперед без страха.Пятая песня
Четыре Небесных Дома Стоят предо мной открыты. Ах, все их двери открыты! Четыре Небесных Дома Теперь пред тобой открыты. Да, их двери открыты!Выучив все песни, ученики забрасывают огонь в очаге землей, засыпая яму до самых краев, и в это время поют такую песню:
Тяжело, тяжело. Нелегко. Но ты должен вернуться туда.После этого ученики обязательно разбирают Дом Воссоединения, однако могут взять себе камешек из общей кучи камней или отломить веточку от еловой лапы – на память. Потом они непременно совершают омовение и расходятся по домам. Наставник же отправляется куда-нибудь в отдаленное место к ручью, чтобы вымыться там, или же, если он из Дома Синей Глины, совершает омовение в своей хейимас.
Вот так учат готовиться к смерти члены Общества Черного Кирпича в Долине Реки На. Меня учили этому дважды, а наставником мне приходилось быть семь раз.
Если никто из членов семьи умирающего или его друзей не знал песен провожатых, то всегда приходил кто-то из членов Общества Черного Кирпича, чтобы, если возможно, спеть их вместе с умирающим, а также у его могилы; но и в других случаях кто-то из этого Общества обязательно оказывал подобную помощь и руководил всей церемонией Ухода На Запад и похоронами.
Если у родственников возникали какие-то сомнения или беспокойство, член Общества Целителей непременно свидетельствовал смерть. Обычно в течение первых же суток покойного относили на крытых носилках к месту кремации, принадлежащему его Дому. Носилки могли нести члены семьи и все, кто оплакивает покойного, но только члены Общества Черного Кирпича имели право присутствовать на кремации. Родственников и всех остальных отправляли по домам.
В одной старинной песне, которую поют в Долине, содержится намек на это:
Я смотрю, как за холмами поднимается дымок, дымок все поднимается, а дождь все продолжается.Кремация была правилом, однако соблюдению этого правила часто препятствовало множество самых различных обстоятельств, например, слишком обильные дожди или затянувшаяся засуха, когда из опасения вызвать лесной пожар запрещалось разжигать какой бы то ни было открытый огонь; кроме того, умирающий мог выразить пожелание быть после смерти похороненным, а не кремированным. В таких случаях люди из Общества Черного Кирпича копали могилу и опускали в нее покойного, завернутого в хлопчатобумажный саван, укладывая его на левый бок с чуть согнутыми ногами. Они проводили возле погребального костра или возле открытой могилы еще целую ночь и пели время от времени песни Ухода На Запад.
Утром все, кто хотел, могли присутствовать на похоронах. Ближайшие родственники под руководством членов Общества Черного Кирпича хоронили пепел покойного или же засыпали его могилу, до той поры остававшуюся открытой. Когда обряд погребения был завершен, один из членов Общества Черного Кирпича произносил – единожды и громко вслух – заветные Девять Слов:
Непрекращающееся, неисчерпаемое, непрерывное, беспредельное, безостановочное, бесконечное, вечное, вечное, вечное.После этих слов горсть пепла или прядь волос умершего подбрасывалась высоко в воздух. Детям во время похорон иногда раздавали какие-нибудь семена или зерна пшеницы, чтобы они рассыпали их на могиле для птиц, которые потом относят песни оплакивающих в Четыре Небесных Дома. Все, кто хотел, могли остаться у могилы или приходить туда время от времени в течение первых четырех дней после смерти и петь песни Ухода На Запад; а в течение следующих пяти дней кто-то из членов семьи покойного или плакальщики из его Дома приходили по крайней мере раз в день, чтобы петь эти песни. На девятый день, согласно традиции, все оплакивавшие покойного собирались снова, украшали могилу, сажая на ней какое-нибудь дерево, куст или цветы, и в последний раз пели вслух песни Ухода На Запад До Самого Восхода. После этого никаких официальных церемоний оплакивания не должно было быть и более не должны были исполняться вслух песни в честь усопшего.
Если кто-то из жителей Долины умирал за ее пределами, его спутники старались непременно, совершив кремацию, доставить домой его пепел или хотя бы несколько прядей волос и какую-то одежду, а затем хоронили это под пение подобающих песен. Если же кто-то пропадал в море или тонул (что случалось крайне редко) и, таким образом, покойного как бы «не существовало» и «некого было провожать», кто-нибудь из родственников погибшего просил членов Общества Черного Кирпича назначить день оплакивания, и тогда в течение девяти дней в хейимас покойного пелись песни провожатых.
Несмотря на то что на похоронах мог присутствовать любой, все подобные церемонии по сути своей носили очень личный характер и осуществлялись ближайшими родственниками и друзьями покойного и их помощниками из Общества Черного Кирпича. Никакой публичной панихиды или оплакивания не устраивалось до очередного Танца Вселенной, который праздновался в день весеннего равноденствия. Как это более подробно описано в главе, посвященной Танцу Вселенной, Первая Ночь являла собой общую церемонию оплакивания всех, кто умер в течение последнего года, и посвящалась их памяти. Длительная ночная церемония Сожжения Имен была очень напряженной, насыщенной трагическими эмоциями. Ее опасались многие из ее же участников, ибо люди в Долине приучены ценить ясность ума и безмятежность духа, чтить хладнокровие и спокойствие, а тут нужно было решиться в одну-единственную ночь разделить со множеством людей без стыда и стеснения бурный взрыв горя, ужаса и гнева, которые смерть на веки вечные оставляет тем, кто похоронил дорогого им человека и остался жить. Церемония Сожжения Имен собирала больше людей и проходила более эмоционально, чем даже Танцы Луны и Вина, во время которых допускалась чрезвычайная вольность чувств и желаний. Как ни одна другая церемония в Долине, церемония Сожжения Имен отражала душевную и социальную взаимозависимость членов общины, глубокое понимание ими того, что жизнь и смерть всегда рядом друг с другом.
Четвертый День Танца Вселенной, логически весьма тесно связанный с ритуалом оплакивания усопших, также описан в главе, посвященной Танцу Вселенной.
Представления жителей Долины о человеческой душе поражают своей удивительной сложностью. Можно даже, пожалуй, не пробовать «пришпилить» эти представления к одному-единственному антропогоническому мифу, чтобы добиться относительно связного описания того, что такое душа с их точки зрения. Но сложность и противоречивость их представлений ни в коем случае не «случайна» в полном смысле слова. Такова она по своей сути.
Отчетливо эзотерическое представление о душе отражено в приведенном далее тексте под названием «Душа черного жука»; другой пример представлений Кеш о душе являет собой стихотворение «Внутреннее Море». Бытующие в Долине идеи реинкарнации или метемпсихоза, возможно, недостаточно систематизированы, однако вполне живучи.
Особым образом связана с похоронным ритуалом и оплакиванием усопшего распространенная теория о том, что в различных стадиях смерти и похорон участвуют различные виды человеческой души (это же порождает и определенные суеверия). Когда, спасаясь от смерти, отлетает «душа-дыхание», остальные души бывают «пойманы смертью» (умершим) и их необходимо освободить. Если этого не сделать, они могут задержаться возле могилы или в тех местах, где покойный жил и работал, причиняя как душевное беспокойство, так и материальные неприятности – вызывать тревогу, болезни, видения. «Душа-земля» (земная душа) освобождается с помощью кремации и последующего захоронения пепла или тела; «душа-глаз» выпускается на свободу, когда горсть золы или прядь волос покойного подбрасывают в воздух, чтобы их унес ветер; и, наконец, «родовая душа» (душа семьи) освобождается только во время церемонии Сожжения Имен, когда все имена усопших предаются огню.
В тех, редких в Долине, случаях, когда смерть настигает кого-то в чужой стране или же при отсутствии тела покойного, когда «некого провожать», ритуально может быть освобождена только «родовая душа». Как уже говорилось, какие-то вещи, ранее принадлежавшие покойному, могут быть возвращены домой «вместо» его тела и похоронены на кладбище, «чтобы в земле было место, где могли бы собраться все его души»; также в хейимас покойного могут быть исполнены песни Ухода На Запад; однако чувство неловкости и незавершенности ритуала все равно остается; оно, в частности, отражено и в том убеждении, что все остальные души вернутся и станут искать покойного или просто подтвердят смерть этого человека и попрощаются с оставшимися в живых. «Душа-дыхание» невидима и проявляется как некий голос в ночи или слабый свет в пустынных холмах. «Душа-земля» может приходить в облике покойного, каким он был незадолго до смерти или сразу после нее, и этого привидения люди особенно боятся. «Душа-глаз» более милостива, она ощущается только как чье-то незримое присутствие, негласное требование, благословение или прощальное слово, «пролетевшее мимо по дороге ветра». Некоторые заклинания Восьмого Дома адресованы именно этой душе или же всем тем душам, которые, как считается, прилетают порой в Долину на крыльях ветра.
О, матерь матери моей, благословение пусть ветер донесет!Для тех представителей народа Кеш, что часто покидают Долину, – главным образом, это члены Общества Искателей, – опасность умереть вдали от родины и не быть похороненным в ее земле вполне реальна. У Кеш ощущение своей слитности с Долиной, восприятие себя как одного из ее элементов, подобного земле, воде, воздуху и всем живым существам, ее населяющим, вдохновляет людей на то, чтобы перенести любые испытания, лишь бы добраться домой и умереть там; сама мысль о том, чтобы быть похороненным в чужой земле, вызывает у них черное отчаяние. Известна история об Искателях, занимавшихся исследованием Внешнего Побережья и попавших в зону химического заражения. Четверо из них умерли. Четверо оставшихся в живых мумифицировали трупы своих товарищей благодаря чрезвычайно сухому и горячему воздуху пустынь Южного Побережья и сумели принести их домой, чтобы похоронить, то есть четверо живых несли на себе четверых мертвых в течение целого месяца! Об их подвиге говорили с сочувствием, но не с восхищением; такое самопожертвование и героизм были, пожалуй, избыточны с точки зрения обыкновенных жителей Долины.
Смерть животных так или иначе тоже должна быть включена в систему похоронных церемоний Долины.
К домашним животным, которых убивают ради получения пищи, обращаются до или во время совершаемого акта умерщвления члены Общества Крови, то есть практически любая взрослая женщина или девушка, которая говорит животному:
Жизнь твоя сейчас кончается — начинается твоя смерть. О, Прекрасный, подари нам то, в чем мы нуждаемся, а мы дадим тебе наше слово.Эту формулу бормочут, часто не испытывая ни малейших угрызений совести и не думая о ее смысле, однако стараются не забывать о ней, даже если всего лишь сворачивают шею цыпленку. Ни одно животное не убивают для каких-то конкретных целей, пока взрослая женщина не произнесет необходимую предсмертную формулу.
В Ваквахе и Чукулмасе, а иногда и в других городах горсть крови убитого животного смешивают с красной или черной землей и скатывают в маленький шарик, который хранится в помещении, отведенном Обществу Крови в хейимас Обсидиана; эти шарики используются при изготовлении саманных кирпичей для ремонта или постройки новых зданий.
Те части домашних или диких животных, которые не идут в пищу и не используются для каких-либо других нужд, немедленно захораниваются членами Цеха Дубильщиков; обычно это делается на поле, находящемся в этот сезон под паром, на «культурной» стороне окружающих город холмов. Согласно обычаю, кусочки мяса или костей кладут на вершину холма с «охотничьей» стороны «для койота и канюка», особенно когда убивают крупное животное.
Дикие животные, на которых ведется охота, имеют каждый свою предсмертную песню, и песням этим обучают в Обществе Охотников. Охотник поет или говорит нужные слова тому животному, на которое охотится, – беззвучно, про себя, если делает это во время охоты, или вслух, уже убив животное. Эти песни существуют во множестве вариантов в различных городах, их известно несколько сотен. Некоторые из заклинаний, обращенных, например, к рыбам, весьма любопытны:
Песнь форели (Чумо)
Тень. Легкая тень. Не обращай на меня вниманья. И вечно восславлена будь.Песнь рыболова (Чукулмас)
Шуйяла! Приди, найди руки! Приди, найди язык! Приди, найди глаза! Приди, найди ноги!Песня оленя, исполняемая во время охоты (Чукулмас)
Этим путем ты должен идти, грациозно ступая. И станешь Дарителем ты для меня.А вот еще один старинный припев, исполняемый во время охоты на оленей жителями Мадидину; он непосредственным образом связан с формулой, произносимой мясниками:
Сама причастность к племени оленей Уже обозначает смерть твою. И благодарности полны мои слова, Прекрасный.(Понятие «причастность к племени оленей» на языке Небесных Домов означает просто «олень» как разновидность живых существ.)
Песня медведя, исполняемая во время охоты (Тачас Тучас)
Вана Ва, а, а. Вот оно, твое сердце. Убей мой страх. Вана ва, а, а, а. Я должен это сделать. Ты должен стать полезным. Ты должен сожалеть.Надо сказать, что медведей убивали, только если они представляли реальную угрозу домашнему скоту или жителям города; медвежатина любовью не пользовалась, и ее обычно даже не приносили в город, хотя охотники во время долгих скитаний по лесам и горам могли есть и медвежатину. «Ты» в этой песне носит особый, так сказать «партикулярный» характер, а отнюдь не общий. Охотник вовсе не охотится на медведей вообще, но преследует вполне конкретного зверя, который уже причинил ему, охотнику, неприятности, а потому – и неприятности всему народу медведей в целом, вот почему медведю следует сожалеть о содеянном.
Предсмертная песня медведя (Синшан)
Дождь, увлажняя землю, делает ее темной, как та благодатная влага, падающая из Шестого Дома, из сердца падающая кровь!Медведь – символ Шестого Дома, Дома Дождя и Смерти. Старик, который спел мне эту песню, говорил так: «Никто в нашем городе не убил ни одного медведя с тех пор, как Гора-Прародительница в последний раз извергала лаву. Однако это очень хорошая охотничья песня. Даже ребенок, когда он охотится на древесную крысу, должен ее петь. Ибо медведь всегда рядом».
В соответствии с теорией о четырех душах, животные также обладают ими всеми, однако эта система становится очень неясной, когда речь заходит о растениях. Все дикие птицы изначально считались именно душами. «Родовая душа» любого животного – это как бы его общий аспект: принадлежность к племени оленей или коров, а не конкретное проявление души у той или иной особи. Очевидная непоследовательность бытующих в Долине идей реинкарнации или трансмиграции душ начинает проявляться именно здесь: эта конкретная корова, которую я сейчас убиваю ради своего пропитания, – всего лишь представительница племени коров вообще, и она отдает себя мне в качестве пищи, потому что за ней хорошо ухаживали и с ней ласково обращались, но и в качестве конкретной коровы она позволит мне убить ее, чтобы утолить мою нужду и голод; и я, убивая эту корову, являюсь лишь неким именем, неким словом, неким абстрактным представителем рода человеческого и – вместе с этой коровой – живых существ вообще; это лишь совпадение места и времени, проявление нашего с ней родства.
Имеющие имена домашние животные, любимцы семьи, по представлениям суеверных людей, должны возвращаться как «души-глаза» или как «души-дыхания», а порой и как «земные души», что всегда давало почву для создания различных историй о животных-призраках. Широко известный Призрак Серой Лошади якобы бродил, наводя страх, в ущелье среди скал близ Чукулмаса. «Земные души» овец, умерших во время окота, могли, как считалось, причинять различные неприятности во время тумана в полях Унмалина.
Истории о призраках, носившие морализаторский характер, касались прежде всего тех охотников, что охотились на «культурной» стороне, или же страдали нехваткой вежливости и уважения по отношению к дичи, на которую охотились, или же убивали неумеренно, без особой на то нужды. Подобные истории часто рассказывают у костра, где собираются члены Общества Благородного Лавра; в них говорится о том, как бывает перепуган, ошеломлен и, возможно, даже ранен или убит такой охотник, когда перед ним появляется прародитель загубленного им зря животного – Олень или Лебедь невиданных размеров, красоты и силы. В историях об охотниках, которые не соблюдали правил, например, не говорили своей жертве нужных слов перед тем, как убить ее, призрак неправильно убитого животного является такому человеку и сбивает его с пути, обрекая на бесконечную охоту и безумие; при этом призрак часто сопровождает охотника, видимый только ему, но никому другому. Говорят, что в Чукулмасе жил один человек, ставший притчей во языцех из-за того, что за ним как раз и охотился такой вот призрак, жертвой которого этот охотник стал по собственной вине. Охотник тот не был обычным «лесным человеком» или отшельником, однако крыши над головой не имел, при виде людей спасался бегством и никогда ни с кем не разговаривал. С виду он казался совсем еще молодым, звали его Молодой Месяц, и был он из Дома Обсидиана. Что там с ним произошло, точно никто не знал, однако, согласно широко распространенному среди членов Общества Охотников мнению, он убил самку оленя и молодого самца, «ничего не спев», то есть даже не сказав основной формулы перед лицом смерти, хотя существует предельно краткий ее вариант, затверженный наизусть всеми мясниками:
О, Прекрасный, к смерти твоей взываю!Эту формулу обязательно произносит любой охотник, стреляя в животное, любой траппер, открывая ловушку, и даже любой лесоруб, выбрав дерево, – короче, любой человек, отнимающий у кого-то жизнь. Забыть об этом считается недопустимым. Так что ошибка охотника по имени Молодой Месяц была очевидной и грубой и безусловно заслуживала наказания.
Даже раздавив мучного червя, пришлепнув на лбу москита, сломав ветку, сорвав цветок, люди шепчут эту формулу или хотя бы самый краткий ее вариант – аррарив, что значит «мое слово». И хотя они произносят это столь же бездумно, как и мы свое «будь здоров», когда кто-то чихнет, тем не менее слова эти считаются обязательными. Этот акт воплощает идею нужды и ее удовлетворения, просьбы и ответа на нее, идею родства и взаимозависимости; и в любой момент эта формула может быть полностью расшифрована в душе говорящего, если в том возникает потребность. Любой камень, по словам Кеш, содержит в себе гору.
Подобные краткие формулы как раз и считались такими камешками: как слово руха, которое произносили вслух, прибавляя вполне материальный камешек к горке камней, сложенной в определенном месте – возле особо крупных валунов и скал, на перекрестках дорог, в различных местах у известных троп на склонах Ама Кулкун. Слово «руха» никакого другого значения для большинства людей не имело, кроме одного: «Это слово, которое ты произносишь, когда прибавляешь еще один камень к священной груде камней». Ученые же в хейимас знали, что это архаическая форма корня «хур» со значением «поддерживать, подпирать, носить (брать) с собой» и что это последнее слово из некоего давно забытого изречения. Реальный камешек заключает в себе отсутствующую гору. Большая часть «бессмысленных» матричных слов из ритуальных песен – это тоже слова-камешки. Слово «хейя» некогда означало «Вселенная», то есть видимый и невидимый мир, расположенный по эту и по ту сторону Смерти.
Пандора сидит у ручья
Ручей Синшана под крутыми скалами образует водоем с каменистым дном, а посреди водоема намыт целый островок из гальки. Чуть поодаль нависают берега с выходами пластов черной глины, пригодной для изготовления кирпичей. Там, где ручей, покидая водоем, бежит дальше, лежит выбеленная временем и водой кость – ребро молодого быка, отчасти скрытое на дне. В спокойной с виду воде омута под крутым подмытым берегом, где в воздухе переплетаются корни растений, чуть кружась, покачивается мертвая птица. На поверхности – лишь ее хвостовые перья да загнутый коготь, а сама покрытая коричневым оперением тушка повисла в прозрачной воде, в коричневатой тени берега. Ветви, нависающие над ручьем, наполовину высохли совсем, наполовину еще живы. Рыбы в ручье не видно, зато на поверхности воды полно водомерок, а над водой носится множество оводов, мух и москитов. Над трупиком птицы, плавающим в воде, столбом вьются, пляшут какие-то мошки. Их народ танцует Танец Лета.
ЧЕТЫРЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
Романтическая история была весьма популярным жанром. Такие истории записывались от руки или печатались. Чаще всего они издавались в виде сборников. Эти четыре истории взяты из сборника «Под листьями виноградной лозы», экземпляры которого имелись во всех без исключения городах Долины. Устные версии напечатанных в сборнике произведений являются вторичными; их иногда рассказывают вслух у очага или у костра, возле летней хижины, однако исходный вариант любой романтической истории – всегда письменный.
Некоторые из этих историй представляются неподдельно старинными, другие стилистическими средствами пытаются достигнуть подобного сходства; порой они приобретают даже некий вневременной характер. Ни одного из имен их авторов, во всяком случае, вы ни в печатных сборниках, ни в манускриптах не найдете. И хотя географические и этнографические описания в них всегда очень живые и точные – что свойственно вообще всей литературе Долины, – время написания той или иной романтической истории или время, к которому относятся описываемые в ней события, обычно определить весьма затруднительно.
Основная тема романтической волшебной истории или сказки – нарушение определенного закона или запрета. В них особенно часто фигурируют Мельники и Искатели, поскольку эти профессии, с точки зрения жителей Долины, содержат некий элемент морального риска, так что подобные герои воспринимаются как «опасно привлекательные» люди, стоящие как бы на пороге дозволенного.
В истории «Мельник» не сказано прямо, что этот мельник и зашедшая к нему женщина из одного и того же Дома, хотя он говорит ей «ты», что разрешено только родственникам по Дому, которым запрещено вступать в половые отношения друг с другом. Как и большинство романтических историй, «Мельник» содержит элементы дидактики и предостережения, то есть обучения на дурном, порой поистине шокирующем, примере.
Мельник
Пришла как-то одна женщина из Дома Красного Кирпича смолоть кукурузу на мельницу в Чамавац, что на Великой Реке, а мельник и говорит ей:
– Подожди здесь, снаружи. Внутрь не входи.
Та женщина пришла из города одна. Шел дождь, дул холодный ветер, а у нее не было ни пальто, ни шали. Она и попросила:
– Позволь мне хотя бы внутрь зайти и там подождать.
– Хорошо, – сказал мельник. – Жди на пороге, но дальше не ходи. И не забудь: лицом к двери повернись, да так и стой.
Она осталась стоять у двери, а мельник взял мешок с кукурузой и унес туда, где крутились жернова. Женщина терпеливо ждала. Холодный ветер задувал в дверь. А у нее за спиной в очаге жарко горел огонь. Она и подумала: «Ну что плохого может случиться, если я зайду в комнату и погреюсь у очага?»
И тут же пошла прямо к очагу, но все-таки шла задом наперед, с лицом, повернутым к двери. Так она и стояла, грея спину у огня.
Тут в комнату из дальнего помещения вошел мельник, подошел к ней сзади и говорит:
– Я целый день зерно молол, так жернов мой перегрелся, и я не могу сейчас смолоть твою кукурузу. Приходи за ней завтра.
Женщине не хотелось уходить, а потом снова возвращаться по такой погоде, и она сказала:
– Я подожду, пока твой жернов остынет.
Мельник согласился:
– Что ж, прекрасно. Только жди в этой комнате, в другую комнату не ходи и стой лицом к двери.
И он снова ушел в рабочее помещение. Долгое время женщина ждала в той комнате у очага и ничего не слышала, только плеск воды в реке, стук капель дождя по крыше да грохот мельничного колеса. Она подумала: «А что плохого, если я загляну в соседнюю комнату?»
И тут же направилась туда, чтобы посмотреть, что там такое. Ничего там особенного не оказалось, только свернутая постель на полу да возле нее книга. Она взяла книгу и открыла ее. На той странице, где она ее открыла, было написано только одно слово: ее имя.
Увидев это, она испугалась. Положила книгу на пол и выбежала снова в ту комнату, где очаг, собираясь поскорее убраться отсюда, но в дверях уже стоял мельник. Женщина бросилась назад, но мельник вошел за ней следом и приказал:
– Расстели постель.
Она расстелила постель. Она его ужасно боялась, хотя он ничего плохого ей не сделал. Он велел ей лечь, и она легла. И он тоже лег с нею рядом. Когда меж ними все было кончено, он, обнаженный, встал и подал ей ту книгу, сказав:
– Это твое.
Женщина взяла книгу и перелистала страницы. На каждой было написано только ее имя и ничего больше.
Мельник тем временем из комнаты вышел. Женщина услышала, как вращается мельничное колесо, быстро привела в порядок свою одежду и выбежала из дома. Оглянувшись, она увидела сквозь дождь, как вращается высокое мельничное колесо. И заметила, что вода, сбегающая с его лопастей, совершенно красная.
Женщина, громко плача, побежала в город звать людей на мельницу в Чамавац. Люди вскоре нашли мельника. Оказалось, что он прыгнул в мельничный лоток, а колесо, подхватив его своими лопастями, сперва подняло вверх, а потом сбросило вниз. Оно и сейчас все еще вращалось. После этого случая мельницу ту сожгли, а жернова разбили. И больше нет на свете такого места, как Чамавац.
Заблудившаяся
Говорят, что жила она давным-давно и была из Первого Дома. Семейство ее матери проживало в Доме под названием Красные Балконы, в самом центре города Чукулмаса, недалеко от Стержня. Получив свое среднее имя, Ивовая Лоза, она вступила в Общество Искателей и сразу же попросилась с ними в поход, а собирались они далеко, к самым Зеленым Пескам, что на побережье Внутреннего Моря. Искатели говорили ей:
– Погоди, у тебя еще знаний маловато. У нас сперва принято ходить в недалекие походы, а уж потом в дальние, когда чему-нибудь научишься.
Но она никого слушать не желала, а только все просила, чтоб ее взяли с собой. Но они заявили:
– Нет уж. Ни к чему нам из-за тебя маршрут менять.
И однажды утром, в самом начале лета, группа Искателей отправилась к Зеленым Пескам. Они не взяли с собой никого из новичков, потому что хотели продвигаться как можно быстрее и обследовать как можно больше разных земель.
Вечером того же дня Ивовая Лоза из дому пропала. Когда стемнело, все обитатели Дома Красные Балконы принялись ее искать и повсюду о ней спрашивать. А один юноша, который тоже только что вступил в Общество Искателей, сказал:
– А может, она за отрядом увязалась?
Ее родня удивилась:
– Она что же, с ума сошла? Кто ж на такое решится?
Однако утром, когда девушка так и не вернулась домой, они заговорили иначе:
– Может, она действительно за ними пошла?
Некоторые родственники Ивовой Лозы по семье и по Дому решили пойти в том направлении и поискать ее. Один старик из Общества Искателей тоже пошел с ними, чтобы показать им путь к Зеленым Пескам. А тот юноша, что первым догадался, куда она пропала, тоже был из ее Дома и пошел на поиски вместе со всеми. Когда они начали подниматься в горы над Ручьем С Красными Водорослями, что на северо-восточной гряде, юноша стал проявлять нетерпение, считая, что старый Искатель ведет их чересчур медленно. Юноша этот уже бывал здесь раньше и заявил:
– Я знаю путь. Я пойду вперед.
Старый Искатель возразил:
– Останься вместе со всеми.
Но юноша не послушался. И все дальше и дальше уходил вперед, отрываясь от остальных.
А Ивовая Лоза тогда действительно увязалась за Искателями, выйдя на час или два позже них. Она сперва шла тем же путем, что и они, поднялась на Гору Антилопу, но там, где Искатели свернули к Гранатовому Ручью, чтобы пройти нижней тропой южнее Гогмеса, она потеряла их след и пошла не вниз, а налево, вверх по склону, совсем не по той тропе.
Она считала, что, если догонит Искателей еще в Долине или на ближайших холмах, они наверняка рассердятся и просто отошлют ее назад; но если она не будет попадаться им на глаза до тех пор, пока они не минуют перевал и не выберутся из Долины, то они, хотя и рассердятся еще больше, вынуждены все же будут взять ее с собой на берега Внутреннего Моря, и, таким образом, она все-таки совершит то путешествие, о котором мечтала. Так что Ивовая Лоза решительно поднялась на вершину Горы Антилопы, потом пошла на Гору Пяти Огней и при этом не слишком торопилась, а когда спустилась ночь, она улеглась спать прямо рядом с тропой. Утром она успешно добралась до перевала и оглянулась. Внизу, в Долине, многочисленные речки и ручьи сбегались к Великой Реке; вверху перед ней маячили лишь мрачные вершины. И она подумала: «А может, мне стоит вернуться, пока не поздно?»
Но, пока она там стояла, ей стало казаться, что она слышит впереди голоса, только уже внизу, в самом конце тропы, что вела с перевала, и она решила: «Я уже почти догнала их. Теперь мне нужно всего лишь идти за ними следом». Она еще немного подождала и двинулась дальше через перевал и вниз по тропе.
Вскоре тропа раздвоилась. Девушка выбрала стежку, ведущую на восток, и довольно долго спускалась по ней, но тут тропа снова раздвоилась. На этот раз она выбрала тропу, ведущую на северо-запад, уверяя себя, что заметила там следы тех, кого хотела догнать. Она шла то по одной тропе, то по другой, шла по оленьим тропам, петлявшим в зарослях карликового дуба, шла совсем без тропы, прямо сквозь покрывавший склоны чапараль. Она уже начинала понимать, что случилось, и теперь пыталась вернуться назад. Но, куда бы она ни взглянула, всюду видела тропинки и тропы и на них следы людей, которые шли кто в гору, кто с горы, кто на юго-восток, кто на северо-запад. И каждый раз ей казалось, что те люди, которых она хотела догнать, ушли именно в этом направлении. Вместо того чтобы сразу пойти назад, снова подняться к перевалу или хотя бы на вершину горы и посмотреть оттуда, как ей лучше спуститься в Долину, она пошла по оленьей тропе куда-то на Гору Ио, поднимаясь все выше и выше, сама не зная куда.
А тот молодой человек по имени Гагат когда-то специально учился разбирать следы в Обществе Благородного Лавра и в Обществе Искателей, так что, добравшись до Гранатового Ручья, он внимательно осмотрел все тропинки и решил, что та группа, что шла к Зеленым Пескам, двинулась вниз по течению ручья, а девушка пошла как раз наоборот, в гору. Когда люди во главе со старым Искателем пришли к Гранатовому Ручью, они увидели следы, ведущие вниз по течению ручья, и пошли по ним.
Гагат же, напротив, пошел по следам, ведущим на Гору Пяти Огней, и шел почти до самого перевала. Однако на первой развилке он двинулся не на восток, а на север… (Далее следует детальное описание тех троп, по которым проходил Гагат, и тех мест, где он вел свои поиски; все это читатель из Долины найдет для себя весьма интересным, однако невежественному в этом отношении читателю-иностранцу это, пожалуй, покажется скучноватым.) На второй день поисков, ближе к полудню, на дальнем склоне хребта Эччеха юноша нашел возле тропы косточки сушеных абрикосов и слив, которые, видимо, ела девушка. Вскоре после этого он услышал далеко на дне ущелья какой-то шум, словно там сквозь заросли пробиралось какое-то большое животное, и окликнул девушку по имени. Шум затих, однако ему никто не отозвался.
На закате юноша вышел из ущелья в долину Хьюринга. Он ничего не знал о народе, жившем там, так что старался держаться подальше от людских троп и жилищ. Один раз на открытом месте он увидел какого-то человека, который бежал вверх по склону высокого холма прямо к роще, но в сумерках видно было плохо, и он не осмелился этого человека окликнуть. Пройдя долину насквозь, Гагат попал в такой густой кустарник, что пришлось ему лечь прямо на землю и спать до утра. Утром он уже было решил пойти домой, потому что не захватил с собой никакой еды и два дня ничего не ел, но тут он увидел несколько хороших грибов и, пока подкреплялся ими, услышал шум – как если бы кто-то продирался сквозь густой кустарник ближе к вершине горы, так что юноша снова пустился вдогонку, поднимаясь по оленьей тропе.
Теперь они оба оказались в диком краю, между долиной Хьюринга и Внутренним Морем. И теперь оба они заблудились.
Ивовая Лоза считала, что возвращается назад, к Долине Великой Реки На, но на самом деле все время шла на север, потом на северо-восток, потом на восток, потом снова на север. Гагат продолжал идти по ее следу и теперь порой мог уже слышать, как она разговаривает сама с собой где-то впереди; однако, когда он окликал ее, она не отвечала. Она уже совсем одичала и, заслышав его голос, ненадолго пряталась в кустарнике, а потом тихонько убегала вперед.
Вечером четвертого дня юноша проходил мимо двух огромных синих валунов, лежавших на поляне на самом верху горной гряды, и подумал: «Вот отличное место для ночевки». Он подошел к валунам и обнаружил, что Ивовая Лоза лежит между ними и спит.
Он сел рядом с ней на землю и все время тихонько повторял вслух хейю Дома Обсидиана, чтобы она не испугалась, когда проснется.
Девушка проснулась и села меж двух валунов. Юноша сидел рядом, прислонившись спиной к одному из камней. Сверху прямо на них светила Вечерняя Звезда. Она сказала:
– Ты пришел за мной!
– Да, – ответил он, – я все время шел по твоему следу.
Она искоса поглядела на него, потом попыталась вскочить и убежать, но споткнулась, и он ее поймал. Она все повторяла:
– Пожалуйста, не убивай меня! Пожалуйста, не делай мне больно!
Он и говорит:
– Ты разве не узнаешь меня? Я твой брат Гагат, из Дома Резная Ветка.
Но она его и слушать не желала. Она считала, что он медведь. Когда же он заговорил с ней, она решила, что это сам Великий Медведь, заплакала и стала умолять его дать ей поесть.
Юноша сказал:
– Нет у меня никакой еды, – но тут заметил дикую вишню, которая росла как раз между этих больших валунов. Ягоды на ней созрели, и оба они стали есть вишни и съели так много, что не только наелись досыта, но даже опьянели от сытости. Тогда они легли вместе меж валунов, и им показалось, что валуны сами сдвинулись с места и прижали их друг к другу. Они так и заснули в обнимку, пока девушка не проснулась от того, что Утренняя Звезда светила ей прямо в лицо. Она посмотрела на того, кто лежал с нею рядом, и увидела, что это вовсе не Великий Медведь, а ее брат по Дому, Гагат. Она в ужасе вскочила и убежала, оставив юношу спящим меж тех валунов.
Та горная гряда была каменистой и довольно голой, оленьи тропы вели в заросли карликового дуба и дикой сирени. Девушка шла просто так, без цели, то шла, то бежала. И набрела на огромную груду коричневых камней, где нос к носу столкнулась с настоящим медведем. И она сказала медведю:
– Ах, ты пришел за мной! – И обняла медведя, и прижалась к нему. А медведь испугался, стал вырываться, да и провел ей по лицу когтистой лапой на прощанье.
Когда Гагат проснулся и обнаружил, что Ивовой Лозы рядом нет, то вспомнил, что они наделали, и испугался. Он не стал ни звать ее, ни ждать и даже не попытался отыскать ее следы, а сразу пустился в обратный путь, спускаясь с гор по западным склонам. Он понятия не имел, где находится, но вышел наконец в такое место, откуда была видна Ама Кулкун. Он пошел прямо на нее и через два дня спустился в Долину, к Ручью Чумо и пришел в Чукулмас.
Там он сказал людям:
– Ивовой Лозы я не нашел. Она, должно быть, заблудилась.
Он рассказал, как пошел на восток от Хьюринга, потом на север от Тотсама, но никаких ее следов не обнаружил. Ее родственники из Дома Обсидиана, что тоже ходили на поиски, вернулись домой за два дня до Гагата. Они так и не сумели нагнать Искателей, ушедших к Зеленым Пескам. И целый месяц всем пришлось ждать их возвращения оттуда. Когда же Искатели вернулись и девушки с ними не оказалось, ее мать сказала, что нужно пропеть для нее песни Ухода На Запад До Самого Восхода, однако ее отец возразил:
– Я не думаю, что Ивовая Лоза мертва. Давайте подождем еще немного.
И они стали ждать. Искатели ходили и в долину Хьюринга, и в Тотсам, облазили весь дикий край, расспрашивая народ Свиней и другие народы, что охотились там, не замечали ли они следов заблудившейся девушки, но ни слова о ней не услышали.
И вот поздней осенью, когда уже был построен Дом Воссоединения, дождливым вечером в Чукулмас пришел какой-то незнакомый человек. Он брел меж домами, похожий на высохший труп с потемневшей кожей; на затылке волосы у него еще сохранились, но спереди он был совершенно лыс, а от лица осталась только половинка. Неизвестный прошел прямо к хейимас Обсидиана, влез на крышу и крикнул в открытую дверь:
– Эй, медведь, выходи!
Все сразу высыпали наружу, и Гагат с ними вместе. Когда Гагат увидел странное существо с половинкой лица, он громко вскрикнул, заплакал и повалился с воплями на землю. Кто-то сказал:
– Да это же Ивовая Лоза!
И люди бросились за ее родными, которые давно уже пели в ее честь песни Ухода На Запад в Доме Воссоединения, и мать с отцом отвели девушку домой.
Сперва она казалась совсем безумной, но уже через месяц, живя в своем доме, стала понемногу разговаривать и вела себя нормально. Она утверждала, что не помнит, что тогда с нею произошло, но однажды обмолвилась:
– Когда Гагат нашел меня… – И умолкла.
Родные спрашивали, что она хотела этим сказать, но она не отвечала. Гагат, узнав об этом, пошел в хейимас и честно рассказал там, что было на самом деле. Потом он покинул Чукулмас, поднялся на Гору-Прародительницу до самых Истоков На, а потом переселился в Нижнюю Долину. Он жил неподалеку от Тачас Тучас, в лесу, и никогда не участвовал в Танцах и не посещал своей хейимас. Когда начинался Танец Луны, он всегда уходил высоко в горы, на юго-запад. Однажды он оттуда не вернулся. Ивовая Лоза жила в Чукулмасе до глубокой старости. Выходя из дому, она всегда надевала маску, чтобы не пугать детей своим обезображенным лицом.[10]
Храбрец
Жил-был один человек, который отличался исключительной храбростью и всегда сам шел навстречу опасности. Еще мальчишкой, когда жил в Кастохе, он как-то раз отправился с приятелем за черной смородиной. Его дружок шел впереди и в кустах чуть не схватился рукой за гремучую змею. От страха он так и застыл на месте, но тот смелый мальчик не растерялся и, хотя под рукой у него не было никакого оружия, даже просто палки, быстро схватил змею за шею так, чтобы та не смогла извернуться и укусить его, раскрутил ее в воздухе и зашвырнул что было сил далеко-далеко в кусты.
Он был еще подростком и носил одежду из некрашеного полотна, когда из северо-западных краев в Долину пришли огромные стада диких свиней, которые не только поедали все желуди и опустошали поля, но и нападали на людей, так что не только ходить в лес, но и просто выходить из дому стало очень опасно. А этот юноша один ходил охотиться на диких свиней и не брал с собой даже собак, а вооружен он был даже не ружьем, а луком. Он их убил такое великое множество, что потом люди всем миром носили в город из лесных тайников припрятанные им свиные шкуры. Будучи в Обществе Благородного Лавра, он без веревки взбирался на самые крутые и высокие скалы и даже на Отвесный Уступ, а еще он прожил целых полгода с народом Фаларесовых островов, учась у этих людей не бояться морских глубин и плавать по морю в маленьких утлых лодчонках.
Затем он вступил в Общество Искателей и долго скитался в дальних краях, вдоль и поперек исходив чужие земли и узнав, как живут многие народы; бывал он и за Внутренним Морем, и за Горами Света и три года провел на берегах Оморнского Моря, плавая оттуда через Пороги в страну пустынь и каньонов, до самых Райских Гор. В страшных безлюдных местах, где даже его мужественным спутникам часто бывало не по себе от томивших их предчувствий, он не ведал ни страха, ни тревог. Он клал голову на камень, под которым притаился скорпион, и в итоге оба спали спокойно. Он охотно отправлялся даже в одиночку в зараженные районы, и, поскольку его не грызло беспокойство и не подгонял страх, он не вредил ни себе, ни другим, напротив, следуя картам и указаниям, полученным по Обмену, а также благодаря собственному опыту, осторожности и неутомимости отыскал запасы свинца, меди и других ценных металлов. Его стали звать Колокол, потому что те экспедиции, в которых он участвовал, разведали так много месторождений, что вновь расцветший Цех Кузнецов теперь в достатке выплавлял бронзу и делал из нее колокольчики для овец и коров, а также музыкальные инструменты и колокола. Колокола, отлитые из бронзы, обладают самым чистым звоном, и вот люди в благодарность дали этому молодому Искателю такое имя.
Совершив несколько столь полезных путешествий, Колокол решил на какое-то время осесть и вскоре женился на женщине из Пятого Дома (сам же он принадлежал к Дому Четвертому). Они жили в любви и согласии, он продолжал учиться в Обществе Искателей, а еще ходил к ученым людям в Вакваху, на Пункт Обмена Информацией. Жена его занималась виноградарством и виноторговлей и входила в Цех Виноделов. Потом она забеременела, и беременность протекала у нее очень тяжело. На шестом месяце у нее случился выкидыш, и она долго болела после этого, да так и не поправилась. У нее продолжались кровотечения, она худела, плохо ела и очень мало спала. Врачи не находили причин для операции, а лекарства облегчения не приносили. Был совершен необходимый обряд, Целители спели все нужные песни, однако она вместе с ними петь не могла. Однажды Колокол пришел домой и обнаружил, что жена лежит одна, совсем ослабевшая, и горько плачет. А потом она сказала ему:
– Колокол, я скоро умру.
– Нет, – воскликнул он, – ничего подобного! Ты не умрешь.
– Я боюсь, – сказала она.
– Какой прок бояться, – сказал он. – Да и бояться-то нечего.
– А разве смерти не стоит бояться? – удивилась она.
– Не стоит, – сказал он уверенно.
Жена только отвернулась от него и продолжала молча плакать.
На другой день, когда Колокол пришел домой, она чувствовала себя так плохо, что не могла даже руку поднять.
– Послушай, женушка, – сказал он ей, – если ты так боишься умирать, то я умру вместо тебя.
Это заставило ее улыбнуться, и она сказала:
– Смелый ты мой дурачок!
Но он совершенно серьезно возразил:
– Нет, это правда, жена моя! Я умру вместо тебя, не бойся.
– Никто на такое не способен, – сказала она.
– Если ты дашь мне свое согласие, я смогу это сделать, – заверил он ее.
Она решила, что он как ребенок все еще не воспринимает всерьез того, что жизнь ее на исходе. И она сказала:
– Хорошо, дорогой, я согласна.
Он сидел на краешке ее постели, однако, услышав ее слова, встал, весь вытянулся, широко расставил ноги, раскинул руки, а лицом обратился к небесам. И громким голосом воззвал:
– Приди, о Мать! Приди, Отец! Придите из вашего Небесного Дома, придите ко мне из вашего Дома, где стены из падающего дождя!
Потом он посмотрел на лежавшую в постели жену и попросил:
– Пожалуйста, не называй меня больше моим прежним именем; с твоего согласия я только что отдал его. Теперь у меня только одно имя: Медведь.
Потом он расстелил в углу ее комнаты покрывало и лег на него.
Ночью пошел сильный дождь. Ужасная грозовая туча наползла с северо-запада, молнии сверкали, освещая лес и город, грохот грома эхом перекатывался среди гор, и дождь лил стеной. В ту ночь многих птиц ветром выбросило из гнезд и утопило, а земляные белки утонули в своих норках.
Каждый раз, когда гремел гром, человек, назвавшийся Медведем, громко вскрикивал, а стоило блеснуть молнии, со стоном закрывал лицо ладонями. Жена его разволновалась и попросила свою сестру придвинуть ее постель поближе к нему, потом взяла его за руку, но так и не могла успокоить. Тогда она послала сестру за матерью своего мужа. Свекровь ее пришла и тоже стала спрашивать сына:
– Что случилось, Колокол? Что с тобой такое?
Он ничего не отвечал ни той, ни другой, но лежал и дрожал и все прятал лицо. Наконец жена вспомнила, что он велел звать его Медведем, и сказала:
– Медведь! Почему ты так ведешь себя?
И тут он ответил:
– Я боюсь.
– Чего же ты боишься?
– Я должен умереть.
Свекровь спросила женщину:
– Почему он так говорит?
Та ответила:
– Он сказал, что хотел бы умереть вместо меня. И я дала свое согласие.
Свекровь и сестра женщины в один голос воскликнули:
– Никто на такое не способен! Это невозможно!
Тогда женщина обратилась к своему мужу:
– Послушай, я не согласна, чтобы ты умирал вместо меня! Хоть я и дала тебе свое согласие, но теперь беру его обратно!
Но он ее, похоже, не слышал. С треском рассыпались раскаты грома, и дождь молотил по крыше, а ветер продолжал бушевать.
Дождь лил всю ночь, и весь следующий день, и следующую ночь тоже. Долину залило водой так, что она превратилась в озеро от Унмалина до Кастохи.
Тот человек, который теперь назывался Медведем, все время, пока шел дождь, лежал, дрожал и прятал лицо; он ничего не ел и совсем не спал. Жена его оставалась с ним рядом, тщетно пытаясь его успокоить и утешить. Приходили люди из Общества Целителей, но он говорить с ними отказывался и не желал слушать их пение, затыкал уши и стонал.
В городе стали поговаривать:
– Этот храбрец умирает вместо своей жены; он занял ее место в обители смерти.
И действительно, было похоже, что это так и есть, однако никто не был уверен, возможно ли это и можно ли допускать такое.
Пришли люди из Общества Земляничного Дерева и уселись рядом с женой у ложа ее мужа. Они сказали ему:
– Послушай, ты заходишь слишком далеко! Разве тебе не страшно?
И он громко заплакал и ответил:
– Да, мне теперь страшно! Но уже слишком поздно.
– Но ты еще можешь вернуться, – сказали они.
И снова он заплакал и сказал:
– Я никогда не знал, какой он, медведь. А теперь сам стал медведем.
Наконец дождь перестал, воды вернулись в реку, и установилась обычная для этого сезона погода. Но тот человек так и не смог больше подняться; он все лежал, дрожал и ничего не ел. Кишки его не выдержали столь длительного голодания, началось кровотечение, его мучили сильные боли, он громко кричал и стонал. Это был такой крепкий и здоровый человек, что ему потребовалось очень много времени, чтобы умереть. Прошло четырнадцать дней, и он уже совсем обессилел и не мог говорить, а еще через четыре дня люди начали петь в его комнате песни Ухода На Запад До Самого Восхода, однако он и после этого еще прожил целых девять дней, ослепший, исстрадавшийся, стонущий, пока смерть не взяла его.
После смерти мужа эта женщина пыталась переменить свое имя, хотела, чтобы ее называли Трусихой, однако большая часть людей отказывалась называть ее так. Она совершенно выздоровела и прожила еще очень долго, до глубокой старости. Каждый год в день Сожжения Имен, во время Танца Вселенной, она бросала в огонь имена своего мужа – его детское имя, и его имя Колокол, и его последнее имя Медведь; и хотя обычно имена сжигают лишь однажды, никто не мешал ей делать это каждый год – из-за его последнего имени и из-за того, что он сделал ради нее. И она поступала так очень долго, и эта история помнилась людям тоже очень долго, помнят ее и сейчас, хотя женщина та давным-давно умерла.
У источников Орлу
Она носила одежду из некрашеного полотна уже целых пять лет. Имя ее было Адсевин, что на языке кеш значит «Утренняя Звезда». И вот пошла она как-то в Чукулмас, чтобы принести воды из Источников Орлу для Танца Воды.
Она и раньше бывала в горах у этих источников, но всегда приходила туда с людьми из своей хейимас, а не одна. Когда Адсевин поднялась на вершину горы, она прислушалась к звуку воды, бегущей на дне ущелья. Заросли терна и карликового дуба вокруг были очень густы, и нигде не видно ни одной тропки, протоптанной человеком. Девушка стала спускаться вниз по оленьим следам и вышла из зарослей в том месте, где из стены ущелья выступала большая округлая красная глыба, похожая на крыльцо. Стоя на этой скале, Адсевин посмотрела на журчащий внизу ручеек и увидела пьющих рядом оленя и мужчину. Мужчина стоял на коленях и пил прямо из ручья в том месте, где вода перекатывалась через камень. Он был совершенно наг, и его кожа и волосы были в точности того же цвета, что и шкура оленя. Он, видно, ее не заметил и не слышал, как она вышла из зарослей и остановилась на той красной скале. Напившись вволю, мужчина поднял голову и что-то сказал ручью. Адсевин по движению его губ поняла, что он произносит хвалебную Песнь Воды – хеш ваквахана, хоть и не слышала его голоса. И тут он выпрямился и заметил девушку. Они смотрели друг на друга через ручей. Глаза у мужчины были оленьи. Он ничего не говорил, и Адсевин тоже молчала. Потом он опустил глаза, попятился, повернулся и исчез в прибрежных зарослях. Огромные ольховины, росшие там, скрыли его из виду. Исчез он совершенно беззвучно, девушка не услышала ни единого шороха.
Она еще долго сидела на краешке скалы, глядя, как бежит ручей. Стояло уже позднее лето; от зноя умолкли все птицы. Наконец девушка сошла к ручью, спела ему хейю, набрала воды в кувшин из синей глины, опустила кувшин в плетеную сетку, чтоб удобнее было нести, и отправилась в обратный путь, вверх по крутой стене ущелья. Однако прежде, взобравшись на скалу, нависавшую над ручьем, все же обернулась и сказала вслух:
– Завтра у нас в Чукулмасе праздник Воды, и мы будем танцевать в ее честь.
А потом по оленьим тропам, через гору отправилась к себе домой.
Она отнесла в хейимас воду из Источников Орлу для завтрашнего праздника, а после сразу пошла в свой Дом Кошачьи Усы. Дома она спросила брата своей бабушки, одинокого старика, жившего в семье сестры, наставника из хейимас Синей Глины:
– Кого это я видела у Ручья Орлу – существо из Дома Синей Глины или же из Дома Ветра?
– А как этот человек выглядел? – спросил ее старик.
– Похож одновременно и на оленя, и на человека.
– Ну что ж, ты, вполне возможно, видела Небесное Существо. Время сейчас священное, а ты к тому же занималась священным делом. Этот человек что-нибудь говорил?
– Он разговаривал с водой, после того как напился.
– А с тобой он разговаривал?
– Нет. Я разговаривала с ним. Я сказала, что мы празднуем Танец Воды.
– Тогда, может быть, этот человек придет на праздник, – сказал старик.
Все время, танцуя на площади, Адсевин посматривала в сторону троп, ведущих с «охотничьей» стороны, с севера; однако в тот день так и не увидела человека с Ручья Орлу.
А он все же пришел, однако в город войти побоялся: там было полно танцующих людей. Прошло слишком много времени с тех пор, как он покинул племя своих сородичей. Он не знал, как ему себя вести с ними. Испуганный, он спрятался под крутым берегом ручья и оттуда наблюдал за танцующими. Но на него с лаем и рычанием набросились собаки, и он спасся бегством, убежал по руслу ручья в горы.
После Танца Воды жара стала еще сильнее, и в Чукулмасе в полдень все, казалось, замирало в недвижимости, лишь стервятники кружились над Холмом Канюка. И в такой вот жаркий полдень Адсевин снова пошла в то ущелье, к Источникам Орлу. Она отыскала ту оленью тропу, что вела вниз, к большой красной скале, и спустилась по ней. Ручей пересох. На его берегу никого не было. На красной скале лежали четыре крупных зеленых желудя. Должно быть, их забыла там белка или еще какой-то зверек. Адсевин взяла желуди, а на их место положила то, что принесла с собой: изящную забавную вещицу – хехоле-но из дерева оливы, вырезанную в виде спирали и гладко отполированную. Негромко и не глядя вниз, на дно ручья, она проговорила:
– Я вскоре ухожу в Путешествие за Солью. После этого я снова приду сюда.
А потом поднялась наверх и отправилась домой в Чукулмас.
После Путешествия за Солью, еще до Танца Вина, она снова пришла на красную скалу. Хехоле-но исчезла; но на ее месте ничего не было. А даже если бы и было когда-то, то, конечно же, белки, сойки или древесные крысы могли утащить подношение или просто закатить куда-то. Адсевин отыскала осколок обсидиана и нацарапала им на красной скале знак Дома Синей Глины. Потом выпрямилась и сказала:
– Скоро в нашем городе будут праздновать Танец Вина.
А тот человек, что потерял свое имя, все слышал, спрятавшись на дне ущелья, под крутым берегом высохшего ручья. Он всегда слушал ее.
Когда в тот вечер Адсевин пришла домой, брат ее бабушки сказал ей:
– Послушай, Адсевин. Я тут потолковал кое с кем из охотников, что бывают в ущельях, расположенных выше окаменевшего леса и выше Горы Коршуна. Им об этом человеке-олене известно. Он когда-то давным-давно жил здесь в Доме Сорока Пяти Секвой, но потом отправился жить в леса. Раньше он принадлежал к Дому Змеевика, однако теперь, по их словам, лишился всякого Дома. Это пропащий человек. А такие люди особенно опасны, ибо они совершают неразумные поступки. Может быть, лучше тебе больше не ходить в ущелье Орлу? Ты, возможно, даже пугаешь его, когда ходишь туда.
Она спросила:
– А охотники знают, где он живет?
– Нет, у него нет никакого дома, – ответил он.
Адсевин вовсе не хотелось огорчать старика, однако того мужчину из ущелья Орлу она совсем не боялась и не понимала, каким это образом могла испугать его; так что, дождавшись дня, когда старик был особенно занят во время уборки урожая, она снова пошла туда по северной тропе.
Дожди еще не начались, однако деревья уже могли вдоволь напиться воды, поступавшей к ветвям от корней, да и в ручье тоже было много воды; он казался особенно глубоким там, где крупные камни. Грязь на берегу ручья была жидкой, и в ней – полно оленьих следов. На красной скале, рядом с тем знаком Дома Синей Глины, который вырезала она, тоже был сделан рисунок. Это был глаз койота – знак Восьмого Дома. Увидев его, она сказала:
– Хейя, хейя, Койот! Так, значит, ты все-таки здесь, житель дикого края! Вот этот мой дар – для того из обитателей твоего Дома, кому он понравится. – И она положила на скалу то, что принесла с собой: несколько виноградных листьев, в которые были завернуты вымоченные ячменные зерна, смешанные с изюмом и кориандром, а потом ушла назад тем же путем, каким и пришла.
Встретившись со своим старым дядюшкой вечером, после того как он возвратился с поля, Адсевин, чуть помедлив, сказала:
– Дорогой матайкеби! Тот человек сказал мне, что живет в Доме Дикой Природы. Я не думаю, что тебе стоит за меня бояться, когда я хожу туда.
– А что, если я пойду с тобой и хорошенько принюхаюсь? – спросил старик.
– Что ж, двери этого Дома ведь не заперты, – ответила Адсевин.
И вот ее дядя тоже отправился в ущелье Орлу. Он увидел знаки на красной скале, а рядом с ними камешек – гематит со дна ручья, отполированный до блеска и очень красивый. Он камешек не взял. Просто долгое время сидел на этой скале, дремал и слушал. Он не видел и не слышал того человека, однако был уверен, что он где-то неподалеку, возле больших ольховин на противоположном берегу ручья. Старик спел хейю воде и вернулся в Чукулмас. Там он сказал Адсевин:
– По-моему, опасностью в этом ущелье не пахнет. И ручей уже полон. А еще там, на скале, лежит красивый камешек со дна этого ручья.
Когда Адсевин снова пошла туда, она взяла камешек и на его место положила веревочную сумку, которую сплела сама, и сказала:
– У нас в городе скоро будут праздновать Танец Травы. Все обитатели дикого края тоже приглашаются на этот праздник.
И тут она заметила, что этот человек следит за нею и слушает ее речи. Он спрятался за огромным земляничным деревом из шести стволов, росшем на том берегу, но она разглядела его плечо, волосы и глаза. Почувствовав, что девушка его заметила, он тут же присел и весь скрючился. Адсевин отвернулась и пошла прочь, в гору.
Итак, один праздник сменял другой, дождливый сезон сменялся сухим, а Адсевин все ходила и ходила к Ручью Орлу и всегда приносила какой-нибудь маленький подарочек. Усевшись на краю скалы, она рассказывала пропащему человеку об очередном празднике и всегда с благодарностью принимала его подарок, если он что-нибудь клал для нее на красную скалу. Иногда ей удавалось увидеть и его самого. Он же видел ее всегда.
Когда в Чукулмасе умирала одна старая женщина, что жила в Доме Сорока Пяти Секвой, Адсевин сходила в ущелье Орлу и рассказала тому человеку об этом, думая, что, может, та старуха была ему родственницей и он захочет спеть для нее песни Ухода На Запад, если только совсем не позабыл их.
В Первый День Танца Вселенной она под проливным дождем снова пришла в ущелье Орлу. Ручей бурлил, грохотал среди камней и плевался клочьями желтой пены; птицы, что жили в ущелье, попрятались, свернувшись клубочками в гнездах и на ветках. Девушке было очень трудно спускаться по крутому склону до красной скалы, глина так и скользила под ногами. Под шум ветра и грохот гальки в разбушевавшемся ручье она крикнула:
– У нас в городе празднуют Танец Вселенной; его танцуют и здесь, в диком краю. Завтра – Свадебная Ночь. И завтра меня выдадут замуж за человека из Первого Дома.
Но дождь так шумел, что она не поняла, был ли он рядом и слышал ли ее.
В тот год Адсевин не захотела танцевать Танец Луны: ведь она только что вышла замуж. Они с мужем ушли подальше в горы и там построили летнюю хижину на вершине холма над ущельем Шолио. И однажды Адсевин прямо оттуда отправилась в каньон Орлу. Она прошла поверху, в том месте, где упала сосна, и увидела оттуда дно ущелья, где поблескивал Ручей Орлу с нависавшей над ним красной скалой. На скале лежал пропащий человек. Должно быть, он спал, прижавшись щекой к вырезанным на камне знакам. Адсевин долгое время стояла неподвижно и ушла, так и не разбудив его.
Когда она вернулась в летнюю хижину, молодой муж спросил:
– Куда ты ходила?
– К Источникам Орлу, – сказала она.
Ее муж, еще будучи членом Общества Благородного Лавра, слышал о пропащем человеке, который живет в лесу и стал совсем диким; его часто встречали именно в ущелье Орлу. И он сказал Адсевин:
– Никогда больше не ходи туда.
– Нет, – возразила она, – я буду туда ходить.
– Но почему? – удивился он.
– Спроси моего старого дядюшку, почему я хожу в ущелье Орлу, – сказала Адсевин. – Он, наверно, сможет объяснить тебе. Я не могу.
Тогда молодой муж сказал:
– Если ты снова пойдешь туда, то и я пойду с тобой вместе.
– Пожалуйста, позволь мне ходить туда одной, – попросила она. – Там нечего бояться.
После этого случая ее мужу стало как-то неуютно так высоко в горах и далеко от людей, и он предложил:
– Давай переберемся пониже, ближе к летним хижинам твоего семейства. – И она согласилась.
И пока они жили там, на Белых Пепельных Берегах, муж Адсевин поговорил с ее дядей и с несколькими охотниками, которые часто ходили в горы и спускались на дно ущелья Орлу. Ему очень не понравилось то, что они рассказали о пропащем человеке, особенно то, что он всегда держится поблизости от Источников Орлу. Но старый дядюшка Адсевин успокоил его:
– По-моему, в этом нет ничего страшного.
Потом Адсевин ушла в Чукулмас; она собиралась танцевать на празднике Воды и для этого ходила за водой из Источников Орлу. И после Танца Воды она еще много раз ходила одна в ущелье, особенно накануне больших праздников. Иногда она брала с собой еду. Муж только наблюдал за ней, но ничего не говорил, повторяя про себя то, что сказал ему ее старый дядя.
Как раз перед очередным Танцем Воды у Адсевин и ее мужа родился сын, и когда ему исполнилось несколько месяцев, а на горных склонах начала подрастать молодая трава, Адсевин положила мальчика в корзинку и отправилась с ним вместе по северной тропе. Мужу она ничего не сказала. Тот увидел, как она уходит вместе с малышом, и сильно встревожился и рассердился. Он пошел за ней следом, держась поодаль, прячась за горки и хоронясь в низинах, пока не пришел на вершину той горы, за которой располагалось ущелье Орлу. И тут, на самой вершине, он потерял след Адсевин; собственно, никакого следа там и не было. Просто он не успел разглядеть, куда она свернула, а исчезла она совершенно беззвучно. Муж побоялся шумом выдать свое присутствие и стоял, не шевелясь и прислушиваясь.
И вот где-то далеко внизу, прямо под собой, он услыхал голос Адсевин. Она спустилась на самое дно ущелья, к ручью, и говорила кому-то:
– Вот мой сын. Я назвала его Койот, Бегущий По Следу. – Она помолчала, потом муж снова услышал ее голос: – Неужели ты ушел отсюда, Койот? – Она снова помолчала, а потом вдруг громко выкрикнула что-то непонятное.
Ее молодой муж так и бросился вниз, не разбирая дороги и изо всех сил продираясь сквозь густой кустарник, по крутой тропе, туда, откуда до него доносился голос жены. Она сидела на красной скале, держа на руках ребенка, и плакала. Когда ее муж подошел ближе, он сразу почувствовал запах смерти. Он остановился рядом с Адсевин, и она указала на ту сторону ручья. Пропащий человек, видимо, умер уже давно и лежал там, под огромными ольховинами, чуть ниже выходившего на поверхность земли родника. Он уже отчасти и сам стал землею.
ПОЭЗИЯ РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Произведения, включенные в эту группу, – это подарки авторов своим хейимас или обществам. Представления Кеш о собственности настолько отличны от наших, что каждое упоминание об этом влечет за собой пространные пояснения. То, что человек сделал сам или выиграл, или то, что принадлежит ему как члену семьи, для жителей Долины является собственностью этого человека; однако человек этот сам принадлежит определенному Дому, семье, городу, народу. Благосостояние состоит, таким образом, не в наличии вещей, а в деянии: в акте дарения, отдачи.
Стихотворения, написанные поэтами, являются их собственностью, но то или иное стихотворение по-настоящему и не существует до тех пор, пока не будет подарено, разделено с кем-то, представлено перед аудиторией. Идентичность понятий обладания и дарения, может быть, легче принять именно в том случае, когда речь идет о такой вещи, как стихи, или рисунок, или музыкальное произведение, или молитва. Народ Кеш, однако, воспринимает их как тождественные для всех видов собственности.
Песнь Голубой Скалы Из Дома Змеевика в Ваквахе. Без подписи
Прочна, загадочна, могуча покоюсь в солнечных лучах среди дубов огромных и прекрасных. Когда-то солнцем я была, потом я стану тьмою. Сейчас же просто я скала, живу с народами иными среди дубов огромных и прекрасных.Медитация в Восьмом Доме ранней весною Автор: Ярость из Синшана
О, хлопья облаков голубоватых, плывущих в небе к северо-востоку, медлительных, недостижимых, душе той помогите! О, ветер юго-западного направленья, сезон дождей с собою приносящий, душе той помоги найти спасенье. Сосна упала. Под корою черви построили изящный лабиринт из круглых своих норок. Строители искусные, прошу вас, душе той помогите умереть. Рисунок тонкий – переплелись прожилки голубые на синеватом валуне в том месте, где долгие дожди скалу подмыли. О, ветер, приносивший дождь не раз за эту зиму, помоги душе той завершить свой круг. Мелькание теней засохших веток и трав; лучи полуденного солнца… О, дикий край! Одна лишь птица где-то поет одну и ту же ноту на крыльях ветра в солнечном пространстве. Скала та оказалась капель дождевых слабее. Могучая сосна – слабей червя. Ничем им не поможешь. Так будь и ты, душа, слабее жизни, смирись с ее победой, плыви, кочуй на крыльях ветра вместе с солнцем, пройди сквозь сеть прожилок голубых на валуне упавшем и пой – одну и ту же ноту на крыльях ветра в солнечном пространстве!Смерть Не подписано. Подарок хейимас Красного Кирпича от частного лица
Смерть лишь одна, себе задать ее не можешь ты. Я тоже не могу ее забрать себе. Мы все умрем однажды, смерть разделив. Ты умираешь, и я тоже; я умираю, и ты тоже. От смерти ты спасти не можешь меня. А я тебя? Нет, тоже не могу. Но плачем мы с тобою вместе, когда придет твой час – ты встретишься со смертью.Восхождение Подарено Обществу Черного Кирпича в Ваквахе автором, Агатом
Порой душа, как пузырек легчайший, взлетает и летит на крыльях ветра, что разумом рожден, вверх по Реке, вдоль всей Долины, к Горе, чтоб там родиться и погибнуть сразу. С юго-востока дует нынче ветер. В мужской и смертной плоти та душа то съежится, то встанет дыбом, борется и плачет, и дом, что из костей, ей стал тюрьмою – пленница она, из тела своего спасенья ищет, уйти на волю хочет. А ветер продолжает дуть с юго-востока. О, матери, дом стерегущие, отцы, растящие лозу, вы отпустите сына вашего с душою легкой, точно пена, пусть станет он воителем, скитальцем иль изгоем, иначе он сожжет ваш дом и виноградник! Восточный ветер пахнет дымом и пожаром. Он – разрушение само, ведь он, рожденный трижды, — зола в воде бегущей. И поле черное простерлось за спиной его. Пусть он уходит! Пусть он стремится в горы своей мечте навстречу. При ветре южном на землю искры опадают.Не так уж он и отличался от нашего Подарено хейимас Красного Кирпича в Ваквахе автором по имени Девять Целых из Чумо
Не так уж он и отличался от нашего, тот мир. Возможно, чуть-чуть порядка требовалось или его начало лежало в той поре, когда вещей нам нужно было больше. Давно когда-то, у Ворот Начала — кто знает? – может, женщина одна согнала надоевшую ей муху, что из личинки вылупилась в селезенке мыши, не съеденной лисой, на берегу ручья, у зарослей? Как можешь ты сказать: такого не случилось? Как можешь ты сказать: такого не случится? Взглянув на волны моря, усомнишься, что их природа стала вдруг иною. Когда тихонько выбиваешь дробь на барабане, то кажется, что звук тот родился задолго до начала всех начал и всех различий, и все слилось когда-то, чтоб родиться в этом звуке, а уж потом возникли все различья.Солнце клонится к югу Подарено хейимас Красного Кирпича в Чукулмасе автором по имени Успокоенный
Под поздними закатными лучами брожу я со встревоженной душою. Не ведая покоя, я скитаюсь под бледным солнцем месяцев осенних. Перемен слишком много, расставаний, смертей в моей жизни. И закрылись те двери, что прежде для меня были вечно открыты. Деревья, державшие небо, все срубили зачем-то под корень. Слишком много всего, что один лишь я в этом мире и помню! И ручей этот боле не бежит каменистой своею дорожкой. Души мертвых! Придите испить той водицы иссохшей! Может быть, мы отправимся вместе в соседнюю с этой долину, старая женщина, что так же в волненье ступает здесь по травам сухим, по руслу ручья неживого?Перед восходом луны Подарено хейимас Обсидиана в Чумо автором по имени Сомик
Под землею, под луною ветер дует. Тени пляшут над землею, пляшут тени эвкалиптов. Листья ветер раздувает под ветвями эвкалиптов, ветер тени заставляет поплясать перед восходом в небесах луны огромной.Мотыльки и бабочки «Одна старая-престарая песня», исполненная Бараном из Мадидину в Обществе Земляничного Дерева
Бабочка, чудом явившись на свет, вновь превращается в чудо. Ах, танцовщица! Душа, любуясь тобой, порхает. Во всех Домах сразу ты обитаешь, лишь на мгновенье там задержавшись. Мотылек, чудом явившись на свет, вновь превращается в чудо. Ах, фокусник, меняющий обличья! У вас обоих поучиться бы Медведю.«Старые стихотворения» Стихи, которые прочитал Кемел (что значит Марс) из Унмалина в Обществе Земляничного Дерева
Наши души стали стары, ими пользовались часто. Этот нож переживет руку, что его держала. В долины горы превратятся, родник же будет бить, как прежде. Я старею, зато моя душа молодеет. Я к морю иду; она же вверх по реке стремится. Послушай, река: я – не душа моя, нет!Заклинание «Я создала эту песню, чтобы петь ее, если сухой сезон слишком затягивается или же если душа жаждет дождя». Олениха из Дома Синей Глины, Вакваха
Ветры дуют пустые, северный ветер, восточный, небеса опустели. То, что мы ищем, о чем мы мечтаем, скрыто на дне, в глубине, под волнами морскими. О, светящиеся чужеземцы, что глаз никогда не смыкают! О, дивные жители океанской далекой пучины! Нельзя ль выпустить их, дать им свободу? Пусть в Долину они с южным ветром вернутся, пусть с западным ветром скорее сюда принесутся — в родную Долину и в свой Дом Небесный облака дождевые, грозою налитые тучи. Пошли их, о Море! Подари, подари им свободу, как камни в горах родники выпускают на волю, как вольно течет к Тебе наша Река по Долине, как дарим Тебе мы танцы свои, посылая их с песней, как возвращаем мы снова Тебе Твои воды с Рекой и дождями, чтоб Ты, Море, вновь смогло само с собою слиться.Старая женщина поет Подарок Цветущей из Синшана ее хейимас
Цвела, как слива, да стала черносливом. Ах, черносливом стала на косточке сухой. Съешь меня, съешь меня! Косточку выплюнешь — она вскоре станет деревом, деревом, сливой цветущей станет она.У излучины реки Написано Яростью под рисунком, украшающим стену хейимас Синей Глины в Синшане
Как медленно течет вода по илистому руслу меж низких и неясных берегов в тумане. Вдруг – хлопанье широких сильных крыльев. Но цаплю не могу я рассмотреть.Экверкве: перепелка, взлетающая в кустах Подарено хейимас Синей Глины автором по имени Кулкунна из Чукулмаса
Хлопаешь, хлопаешь крыльями ты, с земли поднимая мирную стаю, опасность заметив. О, чуткая! Громом звучат твои мягкие крылья в зарослях чапараля. Но тайные знаки глазам чужим незаметны. Они лишь для тонкого слуха и острого зрения чуткого стража. О, чудо пернатое в платье землистого цвета!Этот камень Из хейимас Змеевика в Телине; автор – Словоплет
Ушел он путь искать, что к смерти не приводит. Ушел он путь искать, да и нашел его. Каменистым тот путь оказался. Пошел он по пути, что к смерти не приводит. Пошел он по нему, да вдруг остановился. И тут же превратился в камень. Стоит он на пути, что к смерти не приводит. Стоит он недвижим, он танцевать не может и камешками плачет вместо слез. Вот мимо люди Радуги прошли, легко ступая, длинноногие такие, они на танцы шли из Четырех Домов в Дома Земные, в гости, и подобрали слезы-камешки его. Вот этот камешек – слеза его. Мне подарили его те, кто умер задолго до рожденья моего. Мне на Горе был камень тот подарен. Ах, этот камешек-слеза!Четыре истории
Ненависть старух Рассказано Тёрн из Дома Высокое Крыльцо (Синшан)
Там, где сейчас в Синшане Дом Высокое Крыльцо, давным-давно был дом, который назывался Переживший Землетрясение. Он простоял там очень, очень долго, наверное, слишком долго. Каменные порожки, а кое-где и плитки пола стесались буквально до дыр. Двери висели вкривь и вкось. Доски подгнили и едва держались. В стенах гнездились мыши; под крышей, на чердаке – полно птичьих и осиных гнезд и толстый слой засохшего помета летучих мышей. Этот дом был так стар, что никто и не помнил, какая семья построила его. Никому не хотелось его ремонтировать и поддерживать в нем чистоту. Этот дом был похож на старую-престарую собаку, которой все на свете надоело, на которую всем наплевать, вот она и живет сама по себе, грязная и молчаливая, и только чешется, когда ее блохи особенно донимают. Жители Синшана в те времена, наверно, были чересчур беспечны, раз позволили тому дому превратиться в грязную развалюху; безусловно, куда лучше было бы просто повалить его, разобрать и использовать хорошие еще доски и камни для постройки нового дома. Но люди почему-то часто не делают того, что было бы лучше, или того, что просто хорошо. Жизнь течет, они остаются такими, какими были, и кто их изменит? Колесо все вращается и вращается… Трудно быть разумным во всем. И трудно вмешиваться в то, что делают твои соседи.
Итак, жили там две семьи: одна из Дома Красного Кирпича, а вторая из Дома Обсидиана. В каждом семействе была бабушка. И эти две старые женщины всю свою жизнь прожили рядом, ненавидя друг друга. Не уживались они – и все. Они даже не желали разговаривать друг с другом. Как все началось? Чего они хотели? Не знаю. И никто из тех, кто мне о них рассказывал, этого не знал. Ненависть ведь не имеет ни начала, ни конца, она как бы движется по кругу, и чем больше времени проходит, чем старше и упрямей человек, тем туже объятия его ненависти, и в итоге человек оказывается зажатым в ней, как палка в стиснутом кулаке. Вот так они и жили – старая женщина из Дома Красного Кирпича на втором этаже, а старая женщина из Дома Обсидиана на первом, над кладовыми; и обе друг друга ненавидели. Женщина со второго этажа обычно говорила своим домочадцам:
– Вы только понюхайте! Какая вонь ползет сюда снизу, когда она готовит! Скажите этой особе, чтоб перестала травить всех своими запахами!
И зять шел вниз и передавал ее слова старухе из Дома Обсидиана. Та ему ничего не отвечала, но говорила своему зятю:
– Что это за шум? Вроде бы собака где-то растявкалась? Или вода бежит в туалете? Что за неприятные звуки в этом доме! И что за люди там, наверху! Все ходят, топают, бормочут что-то, бормочут… Пойди скажи им, чтоб перестали так шуметь.
У старухи из Дома Красного Кирпича были две замужние дочери; у одной из дочерей уже тоже были две замужние дочери, так что там жили целых четыре зятя и несколько маленьких детей – большая семья жила в этих старых, грязных комнатах под самой крышей. Крышу они не чинили. Когда шел дождь, крыша протекала; старухино семейство сделало в полу у стены дыру, и вода стекала в комнаты тех, кто жил внизу. Старуха из Дома Красного Кирпича тогда говорила:
– Вода всегда стекает вниз по склону холма.
А внизу проживала старуха из Дома Обсидиана со своими двумя дочерьми; одна из дочерей незамужняя, а у второй муж и дочка. Так что в этой семье народу было не так много, но щедростью они не отличались, больше помалкивали и держались замкнуто, на праздниках не танцевали. Никто никогда не заходил к ним в гости, и люди говорили:
– У них там, должно быть, сокровища несметные, не иначе. Небось все добро свое прячут, а его у них, конечно же, немало накопилось.
Другие им возражали:
– С чего это вы решили? Они никогда ничего для других не делали. У них и есть-то всего пара овец, да и те пасутся с городским стадом, а корова у них давно умерла. Они, конечно, возделывают клочок земли внизу у Поляны Гремучей Змеи, но ничего, кроме кукурузы, на нем не выращивают; и собирательством они не занимаются, разве что за грибами ходят. И никогда они не делали ничего, что можно было бы отдать в обмен. Одежда у них старая, горшки и корзины тоже старые и грязные – с чего ж вы решили, что они так уж богаты?
Люди видели, как старуха из Дома Обсидиана клала в общий мешок для металлолома старую сковородку; сковородка была совершенно ржавая и прогорела как раз посредине, но было видно, что ею и после этого еще пользовались, жарили на ней, стараясь класть еду по краям, вокруг дыры. И все же кое-кто утверждал, что именно благодаря подобной скупости семейство накопило несметные сокровища.
Семья, которая жила на верхнем этаже старого дома, тоже никогда ничего не отдавала в общий котел, кроме еды, но про них никто не говорил, что они богаты[11]. У них все двери были вечно настежь, и любой мог видеть, что у них там есть и как у них грязно. Все зятья в семье занимались охотой, так что у них всегда было в достатке оленины или другой дичи. А еще старухины дочери делали сыр. Они были единственными людьми в Синшане, которые в те времена делали сыр. Люди, которым требовался сыр, приносили им молоко, а кроме того, у этой семьи имелось несколько своих молочных коз и овец. Сыры у них зрели в подвале дома, который на самом деле был лишь полуподвалом – отличное хранилище для сыров или вина; кладовые под теперешним Домом Высокое Крыльцо сохранились еще с тех времен. А вот земледелием никто из этой семьи никогда не занимался, хотя все они были из Дома Красного Кирпича. Мужчины вечно пропадали на «охотничьей» стороне Горы Синшан и Горы-Сторожихи и даже уходили на Еловую Гору. Старуха не любила ничего, кроме оленины. Убитой дичью они весьма щедро делились с соседями, а в обмен на разные необходимые вещи отдавали свои сыры; но это семейство отличалось тем, что, взяв чужие вещи, они часто теряли их или ломали и никогда не чинили. Они были очень безответственными, неумелыми, мелочными людьми. Ни один из них не заслуживал того, чтобы о нем рассказали историю. Вот разве что стоит рассказать о той ненависти, что жила между двумя старыми женщинами, бабушками двух разных семейств. Она была поистине велика, эта ненависть, и вся сосредоточилась в одном доме, в одних старых стенах.
Год за годом их ненависть все крепла – потому дом этот и был таким грязным, полным мух и блох; именно поэтому люди, жившие в нем, были злыми, жадными и тупыми: все они служили лишь топливом для костра ненависти, разожженного двумя старухами. Все сделанное или сказанное ими сгорало в этом костре. Если охотникам не удавалось настрелять много дичи, семейство, жившее внизу, радовалось, что их соседи вернулись домой без мяса. Если случалась засуха, радовалось семейство, жившее наверху, потому что у семьи из Дома Обсидиана не оставалось никаких надежд собрать нормальный урожай кукурузы со своего клочка земли. Если сыры оказывались горькими или чересчур сухими, женщины из верхнего семейства утверждали, что это соседи подсыпали в горшки, стоявшие в подполе, песку. Если кто-то из нижнего семейства поскальзывался на крыльце, то тут же заявлял, что в этом виноваты соседи сверху, которые повсюду разбросали куски оленьего жира. Если выходила из строя электропроводка, если в стенах появлялись трещины, если веранды, балконы и ступеньки на лестнице и на крыльце начинали шататься, ни то, ни другое семейство даже не думало что-нибудь починить, а только твердило, что во всем виноваты соседи. Все, что случалось плохого, старые женщины относили на счет друг друга: «Это ее вина, ее проделки! Вон той!»
Как-то раз старший из зятьев верхнего семейства поднимался по лестнице, и подгнившие ступеньки подломились под ним. Он попытался за что-нибудь ухватиться, да только ему это не удалось, он упал и сломал спину. Он умер не сразу, а еще некоторое время промучился. Когда пришли люди из Общества Целителей и из Общества Черного Кирпича, чтобы помочь ему умирать, и стали петь песни Ухода На Запад До Самого Восхода и он пел с ними вместе, его теща вдруг раскричалась:
– Это все она виновата! Та женщина! Это она расшатала ступеньку, она нарочно вытащила из-под нее клинья, она, она это!
Бабушка из нижнего семейства в это время сидела в своей комнате и, покачиваясь всем телом, слушала крики соседки с раскрытым в беззвучном смехе ртом. А потом сказала своим домочадцам:
– Вы только послушайте эту женщину, наверху. Вот какие песни она поет умирающему! Ну ладно, пусть подождет еще немного, а потом послушает, как я ей спою, когда она умирать будет!
Но ее зять, который почти всегда отмалчивался и лишь делал то, что велели ему женщины, вдруг открыл рот и сказал:
– Я уверен: теперь случится что-то очень плохое. Я не вынимал клиньев из-под той ступеньки, и я ее не расшатывал. Ах, что-то плохое уже нависло над нами. Наверно, я скоро умру! – И он запел во весь голос песни Ухода На Запад, но не те, которые другие люди поют умирающему, а те, которые поет сам умирающий.
Его теща была очень суеверной. Она сочла, что пение этих песен непременно приведет к смерти. И заскрипела что было мочи:
– Заставьте его замолчать! Что это он задумал? В нашем семействе пока что никто не умирает! Это у них там, наверху, вот и пусть себе, а нам до них и дела нет!
Ну, дочери постарались успокоить и ее, и ее зятя. Но только люди наверху все равно ее крик услышали. В этом доме вообще все было слышно. Оба семейства ведь специально расширяли щели между досками, а в полу делали дырки, чтобы иметь возможность слышать друг друга и питать этим свою ненависть. Так что на некоторое время наверху воцарилась полная тишина. Потом умирающий вдруг захрипел и стал задыхаться. Тогда провожающие его запели третью песню Ухода На Запад. А бабка внизу все сидела и слушала.
После этого случая ее зять совсем обезумел. Он все время сидел дома и больше на улицу не выходил. Работать совсем перестал, а только сидел в углу да чесался – расчесывал блошиные укусы и сковыривал старые болячки.
Люди из Общества Черного Кирпича, которые тогда приходили петь для умирающего, снова пришли в этот дом, чтобы поговорить с обеими старухами, потому что в ту ночь все слышали и поняли, сколь велика ненависть, которую оба семейства испытывали друг к другу. До той поры ненависть эта была как бы заперта внутри дома и других людей не касалась. И пришедшие сказали старым женщинам:
– У вас здесь источник зла. Вы вредите не только себе, но и всем жителям города тоже. Если вы не перестанете так ненавидеть друг друга, то, видимо, одному из ваших семейств придется покинуть этот дом.
Бабка из верхнего семейства на это заявила:
– Их там внизу всего пять человек, и у них всякой еды полным-полно. И вещей тоже. В доме плодятся мыши и всякие твари, что кормятся тем зерном, которое они там у себя прячут; моль прямо-таки кишит повсюду – она жрет спрятанную ими одежду. У них есть всякие украшения, и праздничные костюмы, и красивые перья, и железо и медь – все это они прячут под полом в сундуках. Они никогда ни с кем ничем не делятся, они никогда ничего не отдают, хотя у них есть все на свете! Вот пусть они и построят себе новый дом!
Бабка из нижнего семейства сказала:
– Пусть эти ослы многодетные, что плодятся как попало, отправляются на «охотничью» сторону горы, если им так хочется. Это мой дом.
Пришлось людям из Общества Черного Кирпича советоваться с остальными жителями города и решать, можно ли что-нибудь с этими двумя семьями сделать. А пока они советовались, старшая дочь из нижнего семейства внезапно заболела. У нее начались судороги, а потом она впала в кому. Ее безумный муженек даже не обратил на это внимания – все продолжал расчесывать свои болячки, сидя в уголке. А мать и сестра заболевшей в ужасе со слезами обратились к Целителям:
– Ее отравили! Эти люди подложили к нашим грибам ядовитые!
Целители подтвердили, что виноваты действительно грибы, однако показали сестре умирающей женщины, что среди их грибов, которые давно уже были собраны и высушены, то и дело попадаются ядовитые фейтули, а одного такого гриба, а то и его половинки более чем достаточно, чтобы отравиться насмерть. Но сестра плакала и утверждала, что таких грибов они никогда не собирали, что их кто-то другой им подбросил. Она все твердила одно и то же, а на сестру, которая умирала, совсем не обращала внимания. И тут ее мать с трудом поднялась на ноги, вышла на крыльцо, встала у нижней ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, и заголосила, подняв голову кверху:
– Вы что, думаете, можно так просто убить мою дочь? Надеетесь, что вам это удастся? С чего это вы так решили? Никто мою дочь убить не может!
Все в Синшане слышали это и видели, как старуха из нижнего семейства стояла, потрясая кулаками, и вопила во весь голос.
Тогда старуха из верхнего семейства вышла на балкон и крикнула оттуда:
– Что значит весь этот шум? Неужели все из-за того, что, как мне показалось, какая-то собака подыхает?
Тут у старухи из нижнего семейства даже слов не нашлось, так что она просто зарычала, завизжала и попыталась было подняться по лестнице, но собравшиеся люди остановили ее, подхватили под руки и повели на ее половину. Целители, люди из Общества Черного Кирпича и внучка старой женщины все вместе держали ее и успокаивали, пока она немного не пришла в себя и не стала вести себя спокойнее. Дочь ее умирала, и они все вместе стали петь для нее песни Ухода На Запад. Но вторая старуха наверху один раз все-таки не выдержала и крикнула:
– Воняет здесь что-то чересчур! Должно, где-нибудь собака сдохла.
Однако ее собственные дочери и зятья заставили вредную бабку умолкнуть. Они понимали, что хватили через край. Им было стыдно, ибо о позорной ненависти, существовавшей между двумя семьями, теперь узнал весь город.
После кремации люди из верхнего семейства пришли в Общество Черного Кирпича посоветоваться. Они сказали:
– Мы смертельно устали от ненависти, что царит между нашей матерью и женщиной с нижнего этажа. Они обе уже стары, нам их не переделать, но сами мы больше так жить не хотим. Скажите, как нам лучше поступить, и мы сделаем то, что вы посоветуете.
Однако, пока они ходили за советом, по городу с криком «Пожар! Пожар!» пробежал какой-то ребенок.
Они бросились назад, к дому, а там уже вовсю работали насосы, гнали воду, и люди из огромного шланга поливали дом Переживший Землетрясение, а огненные языки и хлопья сажи вились над ним, и крыша его уже пылала.
Дело в том, что, когда старуха из верхнего семейства осталась дома одна, она сделала следующее: налила масло во все дыры в полу и подожгла его, чтобы сгорели те ненавистные ей люди, что жили внизу. Дым от горящего масла повалил такой густой, что старуха чуть не потеряла сознание и не смогла выйти наружу. А может, и вообще не пыталась. Так она и осталась там, наверху, одна, задыхаясь в дыму.
Старуха из нижнего семейства и все ее домочадцы выбежали на улицу, едва почуяв запах дыма и заметив, что горящее масло капает в дыры и сочится по стенам. Зятя старухи пришлось вытащить на улицу силой, а сама старуха стояла возле дома, плакала и пела песни Ухода На Запад, и люди с трудом удерживали ее, потому что она все норовила броситься в горящий дом.
Когда же наконец удалось вытащить старуху с верхнего этажа, которая, разумеется, была уже мертва, все единодушно решили:
– Пусть этот дом догорает дотла. Пусть огонь поглотит и сам дом, и все то зло, что в нем было!
И люди стали поливать водой крыши и стены соседних домов, предоставив дому Пережившему Землетрясение догорать. Ну а земля вокруг была и без того влажной, потому что как раз наступил сезон дождей.
Хейимас всех Домов обеспечили обе семьи всем необходимым, чтобы те могли снова начать хозяйство. Нижнее семейство поселилось на нижнем этаже Старого Красного дома, а верхнее семейство раскололось: некоторые временно устроились в охотничьем лагере на Горе Синшан, а остальные – в доме Большого Барабана, у родственников.
Говорят, что среди пепла и остатков сгоревшего дома не было найдено ничего, что можно было бы хоть в мусорное ведро выбросить – ни целой доски, ни бусинки, ни дверной защелки; остались только пепел, зола и мелкий древесный мусор.
Несколько дождливых и сухих сезонов сменили друг друга, и люди из Дома Синей Глины поставили на старом фундаменте новый дом, немного расширив его с юго-западной стороны и чуть больше приподняв над землей; назвали его Высокое Крыльцо. Говорят, что порой в темных углах старого подвала можно услышать что-то вроде перешептывания двух старух, но я сама живу в этом доме и никогда ничего подобного не слышала.
Война с народом Свиней Записано и передано в библиотеку своей хейимас Сильным из Дома Желтого Кирпича (Тачас Тучас)
Народ Свиней проживал на внешней стороне Горы Канюка, в дубовых рощах. В тот раз их там собралось больше чем обычно, и они задержались на одном месте дольше чем всегда. Они все еще были в дубовой роще, когда мы праздновали Танец Вселенной. Свиней на «охотничьей» стороне было полным-полно. Члены Общества Благородного Лавра стали ходить туда и наблюдать за ними. Спикером Общества был тогда Сонный Орел. Он переговорил с представителями всех Пяти Домов, а потом отправился к Ручью Канюка, где как раз расположился лагерем народ Свиней. Он вежливо поздоровался и попросил разрешения говорить. Ему ответили:
– Говори.
– Скоро наши охотники, – сказал Сонный Орел, – начнут принимать ваших свиней за оленей, если вы будете позволять им бегать в тех лесах, где мы охотимся.
За всех ему ответила одна совсем молодая женщина. Ей и было-то всего лет семнадцать.
– А что, ваши охотники свинью от оленя отличить не могут? – спросила она.
– Не всегда, – сказал он.
– А я скажу тебе, как их отличить. Это очень просто, – посоветовала она. – Олени всегда убегают, а свиньи нет.
– Хорошо, – сказал Сонный Орел, – я непременно скажу об этом своим товарищам-охотникам.
Когда Сонный Орел вернулся домой и рассказал о том, что ему ответили, члены Общества Благородного Лавра и Охотники очень рассердились. Все мы сошлись вечером на городской площади и порешили сразу после Танца Луны начать с народом Свиней войну. Ни один человек не высказался против.
Сонный Орел вместе со мной и Лесником снова отправился в лагерь народа Свиней, чтобы объявить им об этом. Их тогда в лагере было около шестидесяти человек, остальные же разбрелись кто куда – кто занимался собирательством, кто пас бесчисленные стада свиней. Сами они охотились мало, а земледелием не занимались вовсе. В лагере нас угостили отличным обедом: свининой с зеленью и кедровыми орешками. Повсюду там были свиньи, и дети носились вместе с поросятами, визжа и играя. А еще мы видели огромного рыжего хряка на длинной веревке. И каждый из людей, прежде чем начать есть, обязательно относил часть своей пищи этому хряку и клал в резное, сделанное из лаврового дерева корытце. У этих людей и вся одежда, и палатки сделаны были из свиных шкур, окрашенных в самые разнообразные цвета; на некоторых шкурах еще сохранились остатки щетины, зато другие были такими мягкими и тонкими, как ткани из лучших сортов хлопка. Та молодая женщина, что знала язык кеш, переводила наши слова и говорила от имени своего племени. Когда все поели и молча уселись в кружок, соблюдая вежливость, Сонный Орел извлек из кармана табак и трубку и предложил:
– Не хотите ли покурить с нами вместе?
Один мужчина сказал:
– Да, я покурю с вами, – но сказал он это на языке народа Свиней; так же поступили и остальные. С нами курили трубку тридцать один мужчина, но ни одной женщины. Мы курили ее как бы от имени своего города и народа, а потом называли тех, за кого ее курили, по одному имени на каждую затяжку – и перечислили таким образом четырех женщин и тринадцать мужчин. Это были все те из наших, кто тогда согласился начать войну.
Сонный Орел с помощью той женщины поговорил с первым, кто пожелал курить с нами, и они порешили, что война должна начаться в новолуние, сразу после Танца Луны, в долине Гнилой Скалы. Мы были вынуждены согласиться с этим – мы уже плохо соображали, потому что каждый раз, когда кто-то из мужчин-Свиней делал затяжку, он передавал трубку кому-то одному из нас троих. Нас ведь было всего лишь трое, а их – куда больше, и приходилось соблюдать правила таким вот образом. В итоге я был как пьяный, когда наконец все закончилось, а по дороге домой меня несколько раз вырвало. И Лесника тоже. Сонный Орел держался лучше, ему и до того доводилось столько курить.
Задолго до Танца Луны мы заготовили оружие и амуницию, а те, кто уже раньше участвовал в подобных войнах, наставляли и тренировали нас. Пока все танцевали на празднике Луны в Тачас Тучас, мы построили себе военный дом на поляне, примерно на середине пути до Горы Канюка, и стали там жить; мы постились, много курили, тренировались и разучивали военные песни. Никому из нас не разрешалось до времени ходить в долину Гнилой Скалы. Наши родные приносили нам всякую еду, но мы все больше и больше постились. Через четыре дня после того как мы поселились в военном доме, мы жили уже только одним куревом и водой. А через девять дней мы только грелись у костра и совсем ничего не ели.
Вот имена тех, кто в самом начале сухого сезона вышел на бой с народом Свиней в долину Гнилой Скалы:
Сонный Орел, Спикер Общества Благородного Лавра
Лесник
Сильный
Свистун
Шиповник
Сын Солнца. Эти шестеро были из Дома Желтого Кирпича.
Сонные Горы
Гремучка. Эти двое были из Дома Красного Кирпича.
Счастливчик
Олива, библиотекарь из хейимас Синей Глины.
Жертвователь, сын Дикой Розы
Жертвователь, сын Танца Пумы. Эти четверо были из Дома Синей Глины.
Черный
Всевидящие Звезды
Кровавая Звезда. Эти трое были из Дома Обсидиана.
Благодарный
Кедр
Танцующий Камень (семидесяти шести лет от роду)
Безмолвие, лесной человек
Разборчивый. Эти пятеро были из Дома Змеевика.
Тридцать один человек из народа Свиней курили тогда с нами вместе, все мужчины. Но их имен я не знаю.
Мы двинулись в долину Гнилой Скалы в полдень назначенного дня. Когда мы добрались до рощи на вершине холма, что высился над этой долиной, уже восходила молодая луна. Мы разожгли костер и принялись петь. Наши противники разожгли костер на вершине другого холма, по ту сторону долины, и стали визжать и хрюкать будто свиньи. Мы курили, пели, громко выкрикивали угрозы в их сторону, чтобы они не могли уснуть, и все твердили, что мы их непременно всех убьем. Они не пели, а только визжали и хрюкали, что приводило нас в ярость.
Едва рассвело, как Сонный Орел прокричал в ту сторону:
– Ну все, теперь я иду!
Он был нашим командиром и имел право приказывать нам, что делать, а чего не делать. И он не разрешил нам идти следом, пока не подаст особый знак, а потом спустился вниз в долину один. Вдоль ручья у Гнилой Скалы вился туман; невысокие густые ивы на берегу совсем скрыли Сонного Орла из виду, но он взобрался на большой треснувший валун, чтобы его было всем видно как следует, и стоял там, безоружный, громко призывая кого-нибудь из народа Свиней спуститься вниз и драться с ним.
Один человек с той стороны бегом припустился вниз по склону, продираясь сквозь цветущий кустарник. Он был в кожаных доспехах, целиком защищавших его тело, руки и ноги, а лицо его было размалевано красно-коричневой краской, как шкура у настоящих свиней. Оружия никакого у него тоже не было. Сонный Орел спрыгнул со своего валуна прямо на него и сбил с ног. Они стали бороться. Оттуда, где мы сидели, видно было плохо. В конце концов Сонный Орел разбил тому человеку голову о камень. Тогда люди из племени Свиней начали стрелять в нас со своего холма, прячась за деревьями и кустами. Мы не были уверены, звал ли нас уже Сонный Орел, потому что звуки выстрелов и эхо создавали такой шум, что ничего понять было невозможно, и тогда мы решили разделиться, как было задумано раньше: одна группа должна была обойти холм понизу, прячась в кустах, а остальные – открыто сбежать по склону в долину и вступить в схватку с врагом.
Но большая часть наших противников осталась наверху в кустах; они все время стреляли оттуда. По-моему, у всех у них были ружья, но не все эти ружья были хорошими. У нас было три очень хороших ружья, изготовленных Химпи Оружейником, и еще восемь тоже довольно приличных. Остальные предпочли драться ножами или просто голыми руками.
Кто-то из наших врагов, спрятавшись невысоко на склоне холма, в зарослях цветущего кутарника, выстрелил в Сонного Орла, когда тот выпрямился после рукопашной схватки, и, попав ему в левый глаз, убил его. Тогда другой человек из народа Свиней стал кричать на того, кто застрелил Сонного Орла; он и еще несколько человек собрались там, где тот спрятался, и долго кричали что-то и вопили, а потом некоторые из них спустились в долину, оставив свои ружья на скалах, и схватились с нашими врукопашную, размахивая ножами.
Тот, что навалился на меня, был одет в тяжелые кожаные доспехи, но я сразу резанул его ножом поперек лица, и он бросился бежать, обливаясь кровью, а я долго еще за ним гнался. Но потом мне это надоело, потому что он все бежал и бежал, и я вернулся в долину Гнилой Скалы и тут же налетел на еще одного их воина в толстых кожаных доспехах, которые очень трудно было проткнуть ножом. Этот тип два раза успел пырнуть меня в левое предплечье, пока я не умудрился с размаху вонзить ему нож прямо в рот. Он рухнул, захлебываясь собственной кровью. Я отсек ему голову его же ножом, который он судорожно сжимал в руках, и швырнул ею в другого воина в доспехах, который бежал прямо на меня. Я ничего не помню об этом, но другие все видели и потом рассказали мне. И тот человек, увидев летящую в него голову, сразу бросился назад. А мне пришлось подняться на вершину нашего холма, потому что я был весь в крови и раны у меня на плече были глубокие, и Кедр помог мне перевязать их. Об остальных своих приключениях во время этого боя я расскажу чуть позже.
Сын Солнца дрался внизу, у подножия холма на ножах с одним очень высоким человеком из народа Свиней, который все время хрюкал, как настоящая свинья. Сын Солнца много раз ранил его, но высокий все же в конце концов схватил его за волосы, откинул ему голову назад и одним движением перерезал горло. И тогда Безмолвие выстрелил высокому в спину, чтобы отомстить за смерть Сонного Орла и Сына Солнца.
Жертвователь, сын Танца Пумы, бился на виду у всех с двумя врагами сразу и ранил их одного за другим, однако сам был серьезно ранен и вынужден отступить и подняться на наш холм, потому что буквально истекал кровью, как и я.
В ивняке у ручья ранили в голову нашего Черного. Он там и умер. Почти в том же месте пуля угодила в живот Счастливчику.
Кровавая Звезда, Жертвователь (сын Дикой Розы), Всевидящие Звезды и Шиповник попытались незамеченными зайти по кустам в тыл неприятелю, но все они были ранены. Они, конечно, отстреливались, однако не были уверены, попали ли хоть в кого-нибудь.
Безмолвие пробрался почти на вершину того холма, где наши враги жгли ночью свои костры, и, спрятавшись в кустах, стрелял и убил еще троих, не считая того высокого, что зарезал Сына Солнца.
Гремучка и Сонные Горы были братьями. Они и держались все время вместе, надеясь по кустам зайти в тыл противника, и им это удалось, а еще они подстрелили двоих, причем ранили их настолько серьезно, что тем пришлось возвращаться в свой лагерь. Гремучка и Сонные Горы почти до самого лагеря преследовали их, выкрикивая различные оскорбления и обзывая их трусами. Братьям было четырнадцать и пятнадцать лет.
У Разборчивого ружье заело с первого же выстрела, и он спрятался в зарослях карликового дуба. Вскоре он заметил, что там же прячется и один из наших врагов, причем так близко, что рукой достать. Этот человек Разборчивого не видел. Разборчивый подполз к нему и попытался ударить прикладом по голове, но тот успел вскочить и убежать, заслышав подозрительный шорох. А Разборчивый перебежал на нашу сторону.
Безмолвие, убив того высокого человека и еще троих, ранил одного, который начал визжать, как свинья, когда ее режут, и к нему на помощь с холма спустился еще один, который остановился возле треснувшего валуна, вытянув руки и растопырив пальцы, как кондор когти.
Безмолвие выстрелил в него, но промахнулся. Он был очень зол, потому что враги убили нашего Сонного Орла, и стрелял, не раздумывая. Наши стали кричать ему, чтоб он перестал, а тот, с растопыренными пальцами, взобрался на валун и громко попросил о перемирии, и люди Свиней закричали: «Хватит, довольно!», чтобы те, кто прятался в зарослях и не мог видеть этого человека, тоже услышали. Уже близился вечер.
Мы ждали возле костра на вершине холма, пока люди Свиней подберут своих мертвых и раненых. Потом спустились в долину сами. Олива на холм так и не пришел, и никто не принес его, и мы довольно долго его искали. Раненый, он заполз в расщелину, где рос ядовитый дубок, и там вроде бы умер, однако, когда мы его принесли наверх, он снова ожил.
Мы сделали носилки для убитых и для тех раненых, которые не могли идти, и двинулись в обратный путь, мимо Тачас Тучас в свой военный дом. Сейчас же из города к нам пришли Целители. Они построили хижину рядом с нашим военным домом и приняли на себя заботу о раненых. Тяжелее всех был ранен Счастливчик. Через пять дней он умер. И мы все это время пели песни Ухода На Запад для него и для тех четверых, что были убиты в бою, – для Сонного Орла, Сына Солнца, Черного и Оливы, который все-таки снова умер. Мы же, те, кто остался жив, прошли церемонию очищения, причем Кровавая Звезда прошел эту церемонию как взрослый мужчина. Безмолвие всего девять обязательных дней провел в нашем военном доме, а потом снова ушел в свои леса на Темной Горе. Остальные оставались в нашем доме, избегая общения с другими людьми, и не ходили в город целых двадцать семь дней. После этого мы разошлись по домам. К началу Летних Танцев народ Свиней покинул Гору Канюка и двинулся дальше на северо-запад, к побережью. В той войне они показали себя храбрыми и умелыми воинами.
Комментарий к истории «Война с народом Свиней» Написан и передан в библиотеку хейимас Желтого Кирпича Ясным из Тачас Тучас
Мне стыдно, что шестеро жителей моего города, участвовавших в этой войне, были людьми немолодыми. Да и многие другие ее участники тоже были достаточно взрослыми, чтобы вести себя более достойно, как истинные мужчины.
Теперь по всей Долине говорят, что жители Тачас Тучас развязывают войны. И еще говорят, что жители Тачас Тучас из-за желудей людей убивают. И еще говорят, что все время видят дымы военных костров над Тачас Тучас – их видно с Горы-Прародительницы. Все над нами смеются. И мне очень стыдно!
Такие войны разрешается вести только малым и неразумным детям, которые еще недостаточно сильны. Это считается частью их игр.
Можно допустить, чтобы подростки, находящиеся как бы между детством и мужественностью, могли с определенной осторожностью рискнуть и испытать свою силу в подобной военной игре; они могут даже рискнуть собственной жизнью, если им так уж этого хочется и если они не намерены нормально прожить до глубокой старости. Это их личное дело. Решаясь прожить долгую жизнь, человек ведь тоже делает нелегкий выбор. К тому же у взрослого нет тех привилегий, которыми пользуются подростки. Требовать подобных привилегий, будучи взрослым, неумно, стыдно и достойно презрения.
Я очень сердит на Сонного Орла, Оливу и Черного, которые мертвы, а также на Кровавую Звезду, Танцующий Камень и Безмолвие, которые остались живы. Я уже объяснил, по какой причине. Если им неприятны мои слова, пусть выскажутся открыто или напишут об этом и отнесут в хейимас; ну а что касается мертвых, то пусть за них, если захотят, выскажутся их близкие.
Город Чумо Записано со слов Терпеливого из Дома Сорока Пяти Оленей (Телина)
Чумо раньше здесь не было. Существовал, правда, другой город под названием то ли Варред, то ли Берред, раскинувшийся на внутренних склонах северо-восточных гор, чуть восточнее теперешнего Чумо. Вокруг этого города и даже в нем самом рядом с площадью для танцев били горячие источники; четыре из них действовали постоянно, а пятый – с перерывами. Люди использовали эту священную воду для обогрева своих хейимас и домов, но им пришлось протянуть трубы к своим домам, амбарам и полям от самого Ручья Гремучей Змеи, чтобы получить пресную воду для хозяйства и полива. У них были специальные хранилища для воды и всякие пруды; они пользовались акведуками и насосами. Говорят, что и сейчас можно увидеть остатки этих каменных акведуков на берегах Ручья Гремучей Змеи вверх и вниз по течению. Город этот был разрушен пожаром, который переметнулся через северо-восточную гряду из Долины Шаи, уничтожая и травы, и леса. В библиотеках хейимас сохранились различные истории и народные плачи, посвященные этим событиям и тем диким и домашним существам и всем людям, которые стали жертвами пожара. Большая часть людей, правда, узнала о пожаре заранее, еще до того, как пожар перевалил через гряду, однако огонь продвигался с такой скоростью и при таком сильном ветре, что даже птицы не успели спастись. Многие из них горящими падали на землю.
После того как на этой земле снова стали расти злаки и деревья, вернулись обратно мыши и другие мелкие дикие народы, люди снова начали строить город на том же самом месте. Кое-кто из них говорил, что это плохая затея, поскольку леса вокруг больше нет, да и возвращаться на пепелище – плохая примета, но другие твердили: «Ничего, раз наши горячие источники действуют по-прежнему, то и город снова расцветет, как бывало». Они как раз копали яму для хейимас Змеевика и возводили стропила, когда случилось землетрясение. По земле, прямо по линии горячих источников, прошла широченная трещина, а потом края ее снова сомкнулись, навсегда поглотив источники. И больше их целебные воды на поверхности земли не появлялись. Двух человек, которые были в это время заняты расчисткой старой хейимас, убило новыми стропилами и засыпало землей.
После землетрясения люди оставили город диким народам и перебрались в летние хижины или стали строить себе маленькие домики где придется, а кое-кто переселился в другие города, и было похоже, что никогда уже больше не возродится город на этих жестоких холмах. Но как-то раз женщина, что пасла овец на лугу под названием Чумо, увидела множество танцующих стариков, которые некогда жили и умерли в городе Берред. Они приходили на этот луг еще до рассвета и танцевали там. Женщина рассказала об увиденном остальным людям, и они все вместе решили построить новый город на этом самом лугу. Место было подходящее и удобное, тем более что они уже начали пасти свои стада на Горе Овцы. Итак, они сделали себе площадь для танцев, выкопали ямы и построили хейимас, а центром города, его Стержнем избрали мост над Ручьем Чумо. Так они и построили новый город. И в первую зиму после того, как его построили, там состоялся знаменитый Танец Солнца. И все люди, что когда-либо жили в старом городе Берреде, по слухам, спустились с Небес, чтобы танцевать вместе с земными людьми в новом городе Чумо, и земные люди могли слышать их пение, когда сами умолкали на время.
Многие жители Чумо не живут в самом городе. Просто у этого города длинные руки, так они говорят. Они построили свои дома довольно-таки далеко от городской площади, а некоторые – на берегах Ручья Чумо и даже дальше, у самого Ручья Гремучей Змеи, то есть ближе к тем местам, где до пожара и землетрясения находился старый город.
Ссора с народом Хлопка Записано Серым Быком из Телины и подарено им хейимас Обсидиана
Когда я был еще молод, у нас как-то вдруг испортились отношения с народом, который присылал нам с юга хлопок в обмен на наши вина. Каждую весну и осень мы грузили на поезд, идущий до Седа, отличные вина – прозрачный ганаис и темную беррену, мес из Унмалина и сладкие вина бетеббес, которые на юге особенно любят. Все это были отборные вина, хранившиеся в самых лучших дубовых бочонках, потому что им предстоял долгий путь. Но тут наши партнеры стали присылать почему-то коротковолокнистый, плохо очищенный хлопок-сырец, в котором к тому же было полно семян вики, горошка и других трав. На следующий год они прислали нам хлопок частично в тюках, а частично уже в виде ткани – какая-то часть этого полотна была еще вполне приличной и годилась по крайней мере на простыни, но остальное было ужасно непрочным, а то и в дырах.
В тот год я впервые ездил в Сед со своей наставницей Парящей из Цеха Ткачей, из Дома Обсидиана, родом из Кастохи. Мы отвезли вино и остановились в очень хорошей удобной гостинице в Седе, которая славилась необычайно вкусными блюдами из морских продуктов. Парящая и представители Цеха Виноделов предъявили торговцам хлопком свои претензии, однако это ничего не дало: те сказали, что они всего лишь посредники и не они прислали нам в обмен никуда не годный хлопок; они занимались только погрузкой и разгрузкой товара, а также отвозили на своих судах наши вина далеко на юг. Единственный человек, который, по словам морских торговцев, был действительно из народа Хлопка, совсем не говорил ни на нашем языке, ни на одном из местных. Тогда Парящая потащила его в Пункт Обмена Информацией, но он вел себя так, будто никогда и не слыхивал о языке ТОК; а когда Парящая попыталась связаться с народом Хлопка через Обмен, то ей просто никто не ответил.
Виноделы были очень рады, что она оказалась с ними в Седе, потому что иначе им бы пришлось взять это драное полотно и без лишних вопросов отослать свое прекрасное вино за него в уплату. Парящая посоветовала им отослать только две трети обычного количества и совсем не посылать на этот раз сладких вин бетеббес, а отвезти их обратно домой и подождать, каков будет ответ. Она также отказалась забирать драное полотно, так что перевозчикам пришлось снова загрузить его в трюмы своих кораблей, но они были на нас не в претензии и сказали, что им-то все равно, они ведь уже получили от нас причитающееся им вино в уплату за перевозку. Парящая хотела было сократить и их долю, чтобы они в следующий раз были более внимательными к тем грузам, которые перевозят на своих судах, но другие торговцы из Долины сказали ей, что это было бы несправедливо и даже глупо, так что мы отдали морякам полвагона сладких вин бетеббес, как всегда.
Когда мы вернулись домой, между представителями Цеха Виноделов, Цеха Ткачей и Общества Искателей состоялось жаркое обсуждение случившегося. В этот спор оказались замешанными также общественные советы и просто заинтересованные лица из нескольких городов Долины, и было высказано такое мнение, что никто из Долины никогда не был в тех местах, откуда к нам уже сорок или пятьдесят лет поступает хлопок, так что, может быть, стоит отправить туда наших людей, чтобы они встретились с Хлопковым народом. И все с этим предложением согласились. Итак, подождав некоторое время и тщетно надеясь на то, что народ Хлопка ответит нам через Пункт Обмена Информацией, получив назад свое барахло и значительно меньшее количество вина, чем обычно, мы так ничего и не дождались и собрались в путь. Нас было четверо: я, потому что мне ужасно хотелось участвовать в этой экспедиции и к тому же я кое-что понимал в хлопке и других промышленных волокнах, и трое людей из Общества Искателей; двое из них много занимались обменом и неоднократно бывали на том берегу Внутреннего Моря, а один, картограф, хотел заодно проверить карты, составленные Искателями, прямо на местности, по которой будет пролегать наш путь. Искателей звали Терпеливый, Сапсан[12] и Золотой. Все мы были молоды, но я самый младший. Во внутренние земли я пришел примерно за год до этих событий с одной девушкой из Дома Синей Глины, но, когда я сказал ей, что хочу добраться до дальних берегов Внутреннего Моря, она заявила, что я человек безумный и безответственный, и вынесла все мои книги и постель на крыльцо своего дома. Так что уходил я из дома моей матери.
Изучая премудрости ткаческого мастерства, я был очень занят и уж совсем не думал о том, чтобы вступить в Общество Искателей, однако то путешествие в Сед пробудило во мне жажду странствий, и я понял, что у меня есть склонность к занятию торговлей и обменом. Я не видел причин стыдиться этого. Я никогда особенно не обращал внимания на людские пересуды. Так что я отправился в путь как неофит Общества Искателей, то есть как настоящий путешественник и как торговец одновременно.
В книгах, которые я читал, и в тех историях, что я слышал ребенком, Искатели всегда были именно путешественниками, а не торговцами, и скитались главным образом по заснеженным вершинам Гор Света, пели священные песни медведям, отмораживали себе пальцы и вытаскивали друг друга из трещин и расселин. Искатели, оказавшиеся моими спутниками, как выяснилось, вовсе не стремились к такого рода приключениям. Мы проехали на следовавшем в Амарант поезде, в комфортабельном спальном купе, до самого Седа и там тоже остановились в лучшей гостинице и ели, как утки, напавшие на большое скопление слизней в огороде, а заодно расспрашивали местных насчет судов, отправляющихся на юг.
На юг не плыл никто. Мы могли сесть на судно, несколько раз в месяц ходившее к восточному побережью, до Реквита. Или же, если угодно, нас могли отвезти на лодке через пролив Ворота до Фаларесовых островов. Потом либо из Реквита, либо с Фаларесовых островов мы могли попытаться сесть на какое-нибудь каботажное судно, направляющееся к югу, или же отправиться дальше пешком вдоль побережья, по внутренней стороне гор. Искатели решили, что на западном побережье нам повезет больше и что стоит плыть на лодке через пролив.
Мне стало грустно, когда я увидел эту лодку. В ней было футов пятнадцать длины, слабенький вонючий моторчик и один парус. Приливные течения устремляются в Ворота и вытекают оттуда со скоростью большей, чем развивает лошадь, несущаяся во весь опор, и с такой же скоростью дуют там океанские ветры.
Хозяевами лодки были тощие, белокожие, с тусклыми глазами жители Фаларесовых островов. Они довольно прилично говорили на ТОК, так что мы вполне понимали друг друга. Они уже бывали в Седе, обменивая там рыбу на зерно и бренди, и не раз плавали на своих утлых лодчонках далеко на запад от Ворот, заходя даже в открытый океан, где ловили рыбу. Они вечно приговаривали: «Хо, ха, поедем в море, где большущие волны, ха, да?», и хлопали меня по спине, когда меня из-за качки выворачивало наизнанку и я перевешивался через борт лодки.
Все сильнее были порывы северного ветра, а когда мы оказались примерно на середине пути, волны стали крутыми и тяжелыми и вздымались, словно сверкающие водяные утесы. Лодка взбиралась на их вершины, падала вниз, содрогалась и хлюпала. Потом низко стелющийся туман, который лежал над Внутренним Морем и который я принял за далекую землю, развеялся и улетел прочь буквально за несколько минут, и перед нами в сотне миль к востоку открылись Горы Света, сияя вдали заснеженными остроконечными вершинами.
Терпеливый сказал мне, что под днищем нашей лодки, в морской глубине, все дно покрыто строениями. В стародавние времена, когда мир имел совсем иные очертания, Ворота находились дальше к западу и были значительно уже, а прилегающие к ним берега и ближние районы внутренних земель были застроены домами. Я уже слышал нечто подобное в Обществе Земляничного Дерева, и еще есть такая песня о старых душах. Это, без сомнения, было правдой, однако у меня не возникало ни малейшего желания нырять на дно и убеждаться в этом, хотя чем сильнее дул ветер, тем больше было похоже, что мы все-таки вот-вот нырнем и своими глазами увидим, что там, на дне. Но впечатления от плавания так ошеломили меня, что я даже не сумел по-настоящему испугаться. Вокруг не было видно никаких берегов, кроме крохотных, не более зубьев пилы, Гор Света, едва заметных на горизонте; над головой светило беспощадно яркое солнце, а вокруг – только ветер и вода. Все это похоже на царство мертвых, почему-то подумал я.
Когда на следующий день мы наконец высадились на одном из Фаларесовых островов, то первое, что я ощутил, – это страстный зов плоти. Я был почему-то очень возбужден и никак не мог выбросить из головы мысли о плотских утехах. Женщины на этих островах все казались мне очень красивыми, и у меня в связи с этим возникали такие безумные желания, что я даже забеспокоился. Когда мне удавалось уединиться, я кое-как с помощью собственных рук облегчал свои страдания, однако это помогало ненадолго. В конце концов я пожаловался Сапсану, и он проявил достаточное великодушие и не стал смеяться надо мной, а пояснил, что это связано с морем. Мы называем «жизнью на побережье» период полового воздержания и «путешествием во внутренние земли» – начало активной половой жизни, тогда как в жизни все совсем наоборот, и это, возможно, тоже лишь иносказание. Секс всегда все ставит с ног на голову. Сапсан еще сказал мне, что и сам не знает, почему плавание по морю и следующая за этим высадка на берег дают именно такой эффект, однако замечал это и на себе. Я же сказал, что чувствую, будто наконец вернулся к настоящей, полнокровной жизни. Но, так или иначе, через пару дней, питаясь тем же, что и жители островов, я совершенно излечился от своего безумия, и все женщины стали для меня похожи на морские водоросли. Теперь я хотел только одного: как можно скорее отправиться отсюда куда-нибудь еще, даже если придется и дальше плыть по морю на лодке.
Здешние жители совсем не плавали вдоль побережья Внутреннего Моря в это время года, однако часто уплывали в океан ловить крупную рыбу. Но они были людьми великодушными и пообещали нам, что непременно отвезут нас в то место на побережье, которое они называли Тубурхуни; там у одного из островитян жили родственники. Нам так или иначе нужно было выбираться с этого острова, так что мы согласились, хотя не особенно представляли себе, где этот Тубурхуни находится. Жители Фаларесовых островов составляют карты морей и проливов, однако почти совсем не обозначают на них сушу, к тому же ни одно из известных нам названий прибрежных городов не соответствовало их собственным названиям. Впрочем, нас устраивал любой способ добраться до Южного Полуострова.
Пока мы плыли на юг, ветерок был совсем слабым, а волны – низкими. Туман так и висел над нами, почти не поднимаясь. Мы проплыли мимо нескольких одиноких скал и островов, и где-то к полудню, проплывая мимо одного из них, длинного и плоского, островитяне сказали: «Столица». В этом тумане мы не могли хорошенько ее разглядеть; остров выглядел как голая плоская скала, поросшая кое-где мохом и прибрежными водорослями; а еще мы сумели увидеть две высокие и с виду хрупкие башни или мачты с проволочными растяжками. Островитяне с большим уважением и страхом говорили о них: «Вот только дотронься – и сразу умрешь!» и тут же изображали, как погибают то ли от удара током, то ли от удушья, то ли от удара молнии. Я никогда прежде ничего подобного не слышал насчет Столицы, но никогда прежде ее и не видел, правда, и потом тоже. Может быть, они просто, как всегда, подшучивали над нами, а может, действительно испытывали какой-то суеверный страх, не знаю. Они, безусловно, были не слишком образованными людьми, эти жители затерянных в тумане островов, до которых так просто не доберешься. Они никогда не пользовались Пунктом Обмена Информацией, расположенным в Седе, как если бы и это тоже представляло для них опасность. А вообще они были людьми скромными и застенчивыми и становились решительными и смелыми только на море.
Оказалось, что на наших картах Тубурхуни называется Гохоп; это был небольшой городок, расположенный чуть южнее северной оконечности полуострова, в бухте, которая укрывала его от бесконечных туманов пролива. По всему городу росли авокадо, и плоды как раз начинали созревать, когда мы прибыли туда. Как только тамошние жители могут оставаться такими тощими, понятия не имею, но они были действительно очень тощими и какими-то чересчур белокожими, как, впрочем, и жители Фаларесовых островов. Однако все-таки здесь они не были такими буками, охотно встречались и беседовали с путешественниками и с удовольствием помогли Золотому нанести маршрут нашего дальнейшего путешествия на карту. У них в гавани не было судов, способных плавать на далекое расстояние, и они сказали, что вообще крупные суда в их маленький порт заходят крайне редко, так что мы двинулись на юг пешком.
Горы полуострова, отделяющие океан от Внутреннего Моря, настолько разрушены землетрясениями и обвалами и настолько подвержены всяческим сбросам и подвижкам, что идти по ним – все равно что пробираться по лесу, залезая на каждое встреченное дерево, а потом спускаясь обратно на землю. И никакого обходного пути не было. Иногда, правда, удавалось идти по пляжам, однако чаще всего никаких пляжей там не было – горы отвесными стенами спускались прямо в море. Так что мы упорно тащились вверх-вниз, вверх-вниз и с высоты видели океан справа, а Внутреннее Море слева от нас; впереди и позади уходили вдаль бесконечные складки гор. Чем дальше на юг мы продвигались, тем чаще попадались нам длинные узкие заливы и бухты, и, обойдя их, было трудно определить, следуем ли мы по-прежнему вдоль основного хребта или попали на другую горную гряду, которая может привести нас на какой-нибудь пустынный мыс, где мы посмотрим на море и будем вынуждены возвращаться назад миль на десять-пятнадцать, а потом начинать все сначала. Никто не представлял, насколько устарели уже те карты, что были у нас с собой; они когда-то были получены по Обмену, но на сегодня уже явно не годились. По большей части нам даже не у кого было спросить, правильно ли мы идем; нам встречались только овцы и изредка пастухи. Люди жили внизу, на дне глубоких каньонов, где была пресная вода и деревья. Они к чужеземцам были непривычны, и мы проявляли осторожность, стараясь их зря не беспокоить.
В этой стране молодые мужчины, недавние подростки и те, что чуть постарше, часто сколачивают отряды и уходят в горы, где живут в одиночестве, как наши Охотники или члены Общества Благородного Лавра, только правил и ответственности друг за друга у них гораздо меньше. Этим бандам разрешено, например, драться друг с другом, охотиться друг на друга, совершать набеги на любые селения, за исключением своего родного города, и брать там что им захочется: орудия труда, пищу, животных – все, что угодно. Подобные набеги порой, разумеется, приводят и к убийствам, так что некоторые из юных бандитов никогда уже не возвращаются домой и не заводят семьи, а остаются в горах и живут, как наши лесные люди, а некоторые и вовсе сходят с ума и начинают убивать просто так, ради самого убийства. Жители тамошних городов часто вспоминают своих одичавших соплеменников и живут в вечном страхе, опасаясь их появления; так что мы четверо, все люди молодые и совершенно чужие в этих местах, должны были вести себя очень осторожно и вежливо, стараясь держаться на расстоянии от селений, чтобы нас не приняли по ошибке за мародеров или убийц.
Однако стоило им убедиться в том, что мы не причиним никакого вреда, как они становились щедрыми и разговорчивыми и сами давали все, что, по их мнению, было нам необходимо. Города их по большей части были очень малы, однако расположены в очень красивых местах; дома были кирпичными, с деревянными балками и стропилами, стены обычно оштукатурены и покрашены в белый цвет, что среди тенистых авокадо выглядело замечательно. Они весь год проводили в этих домах и не переселялись в летние хижины, потому что там отдельная семья не могла бы чувствовать себя в безопасности из-за бандитов; однако они рассказывали, что раньше тоже на лето переселялись повыше в горы и что только в течение последних двух десятилетий отряды молодых людей стали вести себя подобным образом. Мне показалось изрядной глупостью с их стороны позволять молодежи творить подобные безобразия, впрочем, возможно, у них для этого имелись какие-то свои причины. Племена, жившие в многочисленных каньонах, говорили на нескольких различных языках, однако их города были очень похожи, а сам уклад жизни практически одинаков. В городах всегда находились такие люди, которые знали язык ТОК, так что мы легко могли объясниться. На одном из Пунктов Обмена Информацией мы послали сообщение в Вакваху о том, что с нами пока что все в порядке, и попросили передать это членам Общества Искателей и нашим собственным семьям.
Ближе к той части полуострова, которая примыкала к внутренним районам, горные хребты стали постепенно понижаться, и мы оказались в раскаленной песчаной пустыне, где люди не жили совсем на протяжении двух полных дней пути, то есть до самого юго-западного побережья Внутреннего Моря. Берега там были широкими и низкими, местами заболоченными; кое-где среди дюн встречались солоноватые болотистые озера, иногда на несколько миль уходившие в глубь полуострова; дальше к югу опять поднимались крутые пустынные горные хребты, протянувшиеся с востока на запад. Внутреннее Море у этого побережья было очень мелким, с большим количеством отмелей и островков. Вот на этих-то островках здешние люди и выращивали хлопок.
Хлопковый народ сам себя называет Узудегд. Он довольно многочисленный и насчитывает несколько тысяч человек, которые живут на островах и на побережье в таких местах, где с гор спускаются реки – соленой воды у них там хватает, а вот пресной маловато. Море в этой стране очень теплое, и климат тоже, но там не бывает такой жары, какая, по рассказам местных жителей, царит за пустынными горами на берегах Оморнского Моря. Однако там есть несколько чудовищно зараженных и очень опасных районов; впрочем, благодаря сухому климату ядовитые вещества остаются в земле, а не распространяются по всей территории, и границы тех районов, куда ходить не нужно, всем прекрасно известны.
На противоположном берегу Внутреннего Моря, то есть на северо-востоке, народу Хлопка видна самая высокая вершина Гор Света, которую у нас называют Южной Горой, а у них – Горой Старого Льва. А больше обычно в той стороне ничего и разглядеть нельзя из-за темной тучи пепла, извергаемого вулканами, расположенными к югу от этой горы. Гора Старого Льва занимает весьма важное место в душах и мыслях Хлопкового народа, однако они никогда к ней не ходят. Они считают ее священной и говорят, что тропы к ней проложены не для того, чтобы по ним ходили люди. Хотя в таком случае непонятно, как быть с народом Гонгон, который живет как раз у подножия Южной Горы? Впрочем, подобные заблуждения типичны для народа Хлопка. В отношении некоторых вещей они удивительно неразумны.
По-моему, люди, жизнь которых слишком тесно связана с морем и различными судами, страдают тем, что мозги у них немножко набекрень.
Может, это и не так, но их города сильно отличаются от городов жителей полуострова. Хлопковые люди роют для своих жилищ ямы в земле и строят их так, чтобы стены не более чем на два фута возвышались над поверхностью, а окна устраивают на самом верху, как у нас в хейимас. Крыши у них напоминают по виду довольно низкий шатер и покрыты дерном, так что даже с небольшого расстояния вы в общем-то видите перед собой не город, а некоторое количество невысоких холмиков. Среди этих земляных крыш растут самые разнообразные кустарники и деревья, а также вьющиеся растения, характерные для этих мест, и, разумеется, пальмы, авокадо, апельсиновые и лимонные деревья, грейпфруты и финиковые пальмы. Еще там есть точно такие же эвкалипты, как и у нас, но много и таких деревьев, каких я никогда раньше не видел. Вьющиеся растения цветут изумительно красиво. Деревья бросают на землю густую тень, и в домах, которые расположены практически под землей, всегда прохладно; их устройство с первого взгляда представляется довольно-таки странным, однако в нем определенно есть свой смысл. У них нет, например, необходимости высушивать свои дома подобно тому, как мы просушиваем свои хейимас, потому что в этих краях удивительно сухо; хотя там, разумеется, тоже идут дожди, иногда они бывают очень сильными, и вот тогда их жилища совсем затопляет, так они сами рассказывают.
Их священные места обычно расположены на некотором расстоянии от города и представляют собой нечто вроде искусственных горок или холмов с целым ритуальным лабиринтом троп, вьющихся вокруг. На вершине такой горки красуется небольшое изящное строение или специально огороженное место. Мы в эти дела свой нос не совали. Терпеливый сказал, что лучше держаться от чужеземных святынь подальше, если, конечно, местные сами тебя туда не пригласят. Он сказал, что одна из причин, по которой ему так нравится народ Амаранта, у которого он часто бывал, – это как раз полное отсутствие каких бы то ни было святых мест. Обычно самое слабое место у любого народа – это отношение к его святыням.
А народ Хлопка и так был на нас сердит. И хотя они не ответили нам ни разу даже с помощью Обмена, мы сразу поняли, что рассержены они тем, что мы, во-первых, отослали обратно их ткани, а во-вторых, не прислали должного количества вина. Так что мы оказались в весьма затруднительном положении: стоило нам сообщить, что мы прибыли из Долины Реки На, и оводы тут же принялись жужжать.
Мы были вынуждены поскорее взять одну из их лодок – весьма ненадежную плоскодонку – и плыть на самый главный их остров объясняться. Едва мы отчалили, как мне тут же снова стало нехорошо, несмотря на полное отсутствие волн. У меня очень чуткий вестибулярный аппарат, и неустойчивость лодок для него мучительна. Хлопковые люди вообще не способны были понять, что со мной такое происходит. Островитяне хотя бы просто добродушно подшучивали надо мной, а эти люди выказывали явное отвращение к моей слабости и вели себя грубо.
Мы миновали множество довольно крупных островов, а местные жители каждый раз показывали пальцами и твердили:
– Хлопок, хлопок, видите, какой хлопок? Всем известно, что мы выращиваем самый лучший хлопок! Даже жители дальнего севера, обитающие возле Озера-Кратера, его знают! Нет, вы только посмотрите, какой у нас хлопок… – и так далее.
Поля хлопчатника особого впечатления в это время года не производили, однако мы кивали, улыбались и старались проявить должную вежливость, соглашаясь со всем, что они говорили.
Проплыв вдоль берегов очень длинного и плоского острова в несколько миль длиной, мы повернули на северо-восток и причалили к небольшому островку, откуда открывался замечательный вид на весь южный конец Гор Света и на голые, безжизненные вершины Хребта Хавила на юге. Весь этот остров представлял собой город – сотни земляных крыш-холмиков высились перед нами; некоторые из них были покрыты дерном, некоторые просто посыпаны чистым песком; между этими холмиками были красиво рассажены деревья и кустарники, сделаны клумбы, и между клумбами вились узенькие тропинки. Они там были просто помешаны на этих тропинках, причем следовало хорошо знать, по которым из них можно ходить.
Мы плыли целый день, а если вспомнить, то и еще тридцать дней до этого провели в пути, и солнце уже садилось, когда мы высадились наконец на этот остров, однако нам едва позволили наспех пообедать и сразу же потащили на собрание городского совета. А уж там нам и слова доброго не сказали, хотя мы сами приехали к ним в такую даль, чтобы все как следует выяснить. Но они тут же на нас набросились: «Где сладкие бетеббес? Почему вы отослали наши ткани обратно? Разве между нами не заключено соглашение еще шестьдесят лет назад? До сих пор все к нему относились с должным уважением и каждый год возобновляли его! Так чего ж вы, долинные, теперь-то так носы задрали, да еще и слово нарушили?»
Они хорошо знали ТОК, но все время говорили «дулина» вместо «долина» и «уино» вместо «вино».
Терпеливый правильно поступил, когда взял себе свое теперешнее имя. Он молча выслушивал их упреки и оставался совершенно спокоен, сохраняя холодную голову, и даже ни разу не нахмурился, не покачал головой. Сапсан, Золотой и я вовсю старались ему подыгрывать.
После того как выступила уйма рассерженных людей, которые вылили на нас целый ушат упреков и оскорблений, поднялась какая-то маленькая женщина и рядом с ней – маленький мужчина. Оба оказались горбунами, были очень похожи и выглядели не поймешь как – не то старыми, не то молодыми. Один из этих близнецов сказал:
– А теперь пусть выскажутся и наши гости.
И второй прибавил:
– Да, теперь пусть говорят «дулинные» люди. – Они явно пользовались здесь уважением, эти крохотные близнецы, потому что остальные тут же замолкли, как устрицы.
Терпеливый выждал несколько минут, пока установится полная тишина, а потом заговорил, и голос его был одновременно суров и тих, так что им приходилось хранить молчание, если они хотели расслышать, что он говорит. Он был очень осторожен и вежлив. Он много сказал по поводу пользы старого договора и удобства подобной формы обмена; сказал и о непревзойденном качестве узудегдского хлопка, известного от Озера-Кратера до Оморнского Моря, от океанского побережья до Райских Гор – здесь он проявил поразительное красноречие; затем он некоторое время помолчал и заговорил еще тише и очень грустным тоном о том, что Время, дескать, тупит даже самый острый нож и до неузнаваемости меняет порой значение слов и мыслей в человеческих душах и умах, и о том, что в конце концов даже самый лучший узел всегда приходится перевязывать заново и даже самые искренние слова, сказанные когда-то, необходимо порой повторить. И только после этого он сел.
Наступила мертвая тишина. Я уж решил, что ему удалось пробудить в них разум и теперь они сразу с ним согласятся. Увы, я был слишком молод! Та же самая женщина, которая начала говорить первой и говорила больше всех, выждав паузу, встала и заявила:
– Но почему же вы все-таки не прислали причитающиеся нам сорок баррелей сладкого «уина» бетеббес, как раньше?
И тут я понял, что самое трудное еще только начинается. Терпеливый был вынужден снова ответить на этот вопрос, а также сказать, почему мы отослали их ткани. Однако он весьма долго подбирал нужные выражения и никак не мог этого сказать прямо, а продолжал высказываться с помощью метафор и образов, кружа вокруг самого главного; и через некоторое время маленькие скрюченные близнецы начали ему отвечать примерно в том же роде. И тут, прежде чем было сказано хоть что-нибудь стоящее, оказалось, что уже очень поздно, и заседание объявили закрытым. Ночевать нас отвели в какой-то пустой дом, где не было отопления и светила только одна крохотная электрическая лампочка. Кровати были высокие, на ножках, и очень жесткие, с какими-то бугорчатыми матрасами.
Заседание продолжалось еще три дня. Даже Терпеливый сказал, что никак не ожидал столь длительной дискуссии и что, возможно, причина здесь в том, что они чего-то стыдятся. Если это так, то нам надо постараться не заставлять их испытывать еще больший стыд. Так что мы не стали ничего говорить об отвратительном качестве хлопка-сырца, который они поставляли нам в течение последних нескольких лет, и не упоминали о том рванье, которое они пытались нам всучить под видом тканей. Мы всего лишь старались сохранить спокойно-печальное выражение на лицах и говорили, что действительно жалеем, что не отправили морем те сладкие вина, которые изготавливаем исключительно для них, но ни слова не сказали о том, почему, собственно, их не отправили. Ну и, разумеется, мало-помалу выяснилось, что на них в последние пять лет свалилось огромное количество разных бед и несчастий: появился какой-то поражающий листья хлопчатника вирус, с которым было исключительно трудно бороться; потом три года стояла засуха; потом было несколько сильных землетрясений, в результате чего некоторые острова вообще ушли под воду, а на остальных вода оказалась настолько соленой, что даже их выносливый хлопчатник не выдержал. Все это они, похоже, считали своей виной и очень этого стыдились. Они все время повторяли: «Мы пошли неверными тропами!»
Терпеливый и Сапсан, который тоже выступал от нашего имени, ни словом не обмолвились об их несчастьях, но в ответ стали рассказывать о тех бедах, что постигли за это время нашу Долину. Надо сказать, им пришлось довольно-таки сильно преувеличивать, потому что в последнее время у нас все шло очень хорошо, а четыре и пять лет назад мы собирали исключительно большие урожаи винограда как сорта ганаис, так и сорта фетали; однако, когда имеешь дело с землей, всегда найдется достаточно проблем, чтобы о них поговорить. И чем больше Терпеливый и Сапсан рассказывали или скорее придумывали насчет внезапных, не свойственных сезону заморозков или неудачно начавшихся процессов брожения, тем больше говорили о своих неприятностях и люди Хлопка, пока не рассказали все. И тут им вроде бы значительно полегчало, они повеселели и даже предоставили нам куда более удобный дом для жилья, хорошо освещенный и теплый, с маленькими тропинками по всей крыше, выложенными по краям белыми ракушками и шариками фумо[13]. И в конце концов мы добрались до пересмотра условий договора. Терпеливому потребовалось семь дней, чтобы это начать. Когда же мы наконец приступили к делу, все решилось очень просто. Условия остались примерно теми же, что и раньше, однако новый договор обеспечивал больше простора для их пересмотра посредством регулярного общения через систему Обмена Информацией. Они ничего не сказали о том, почему раньше не пользовались этим средством связи, чтобы как-то объяснить свое поведение, и по-прежнему мгновенно выходили из себя и теряли нить разумных рассуждений, если мы пробовали им прямо возражать. Мы сказали, что согласны принимать у них коротковолокнистый хлопок, пока урожай длинноволокнистого не станет прежним, и пообещали прислать двойное количество бочек со сладкими винами бетеббес уже весной; однако мы предупредили, что кипы с недостаточным весом приниматься не будут и что нам вовсе не требуется ни хлопчатобумажная пряжа, ни ткани, поскольку все это мы предпочитаем изготавливать сами. Вот тут не все прошло гладко. Та женщина, что прямо-таки помирала по винам бетеббес, высказывалась на сей счет весьма ядовито и буквально часами продолжала доказывать, сколь замечательно качество и внешний вид тканей Узудегда. Но к этому времени Терпеливый уже успел подружиться с горбатыми близнецами, так что в конце концов договор был заключен исключительно о поставке хлопка-сырца, а не готовых изделий.
Обговорив контракт, мы пробыли там еще девять дней, ибо того требовали их правила приличия, а еще потому, что Терпеливый и близнецы вместе пили. Золотой был занят своими картами и записями, а Сапсан, всеобщий любимец, вечно болтал с горожанами или плавал с ними на лодках к другим островам. Эти их лодки были вряд ли намного лучше, чем обыкновенные связки тростника, и доверия мне не внушали. Я же по большей части слонялся без дела, проводя время в обществе молодых женщин-ткачих. У них были очень неплохие ткацкие станки, которые работали от солнечных батарей. Я сделал соответствующие эскизы для своей наставницы по Цеху Ткачей Парящей. Женщины были очень добры ко мне и настроены дружески. Терпеливый, правда, предупреждал меня, чтобы я не крутил любовь с жительницами иных стран, пока достаточно хорошо не узнаю их обычаи и представления о таком институте, как брак, и не познакомлюсь с местной контрацепцией, техникой секса и так далее. Так что я просто без конца флиртовал и целовался с девушками. Целовались они широко раскрытыми ртами, что несколько ошеломляет, особенно если не ожидаешь такого; поцелуй, надо сказать, довольно мокрый, но весьма сладострастный, что, при известных обстоятельствах, постоянно вводило меня в искушение.
Однажды Сапсан, вернувшись с одного из островов с изменившимся лицом, заявил:
– Нас провели как последних дураков, Терпеливый!
Терпеливый, как всегда молча, ждал продолжения.
Сапсан объяснил: в одном из городов на одном из самых северных островов он повстречался с моряками с тех кораблей, которые в последний раз привозили хлопок в Сед и отвезли в страну Хлопка наше вино, – это были те самые люди, которые тогда объясняли нам, что они всего-навсего моряки и ничего не знают о народе Хлопка и даже не говорят на их языке. На самом деле этот остров был их родным домом, так что здешний язык они знали точно так же, как и все остальные местные жители. Они действительно были моряками и занимались торговыми перевозками, но просто не хотели тогда попасть в беду, обсуждая с нами качество товаров или условия договора. Они также не сказали никому из местных ни слова, откуда у них такой запас наших сладких вин. Этот факт им казался особенно забавным, и они смеялись как сумасшедшие, по словам Сапсана. Они сказали ему, что тот человек, которого они выдали нам тогда за единственного представителя Хлопкового народа, как раз им-то и не был – это был просто бедный придурок, который явился из пустыни и прибился к ним; он вообще как следует не мог говорить ни на одном языке.
Терпеливый молчал довольно долго, и я уж решил, что он сердится, но потом он начал ужасно смеяться, и все мы тоже засмеялись. А Терпеливый сказал Сапсану:
– Узнай, пожалуйста, не отвезет ли нас та же самая команда назад на север морем!
Но я предложил отправиться домой посуху.
Через несколько дней мы вышли в путь. Нам потребовалось два месяца, чтобы пройти по восточному побережью Внутреннего Моря до Реквита; оттуда мы морем добрались до Татселотса, попав в ужасный шторм, однако наше обратное путешествие – уже совсем другая история, которую я, возможно, еще расскажу, но в другой раз.
После нашей экспедиции на юг больше никаких трудностей с Хлопковым народом не возникало, и они всегда посылали нам только самый лучший длинноволокнистый хлопок. В общем-то они вполне разумные люди, разве что у них дурацкая привычка повсюду прокладывать лабиринты из этих крошечных тропинок; и еще они почему-то стыдятся говорить о том, что с ними приключилась беда.
Пандора беспокоится и возбужденно взывает к читателю
Неужели я сожгла все библиотеки Вавилона? Неужели именно я, своими руками, сделала это? Если они сгорят, то, значит, мы все и сожгли их. Но сейчас, когда я пишу это, книги не сожжены; они стоят на полках, а электронная память компьютеров полна различных сведений и воспоминаний, упакованных в крошечные биты. Ничто не утрачено, ничто не забыто.
Но, понимаете, даже если мы не сожжем эти книги, мы не сможем взять их с собой! Нас так много, что и без того наберется чересчур большое количество багажа. Чудовищное. Даже если мы будем продолжать производить по десять детей в секунду, чтобы захватить с собой в будущее груз Цивилизации, они все равно не смогут поднять его. Они ведь слабы, они постоянно умирают от голода, тропических заболеваний и просто от отчаяния, эти хилые жалкие ублюдки. Так что я всех их поубивала. Вы, возможно, уже заметили, что настоящая-то разница между нами и жителями Долины – величайшая разница! – на самом деле совсем проста: людей в Долине очень немного.
Неужели это я поубивала тех детей?
Послушайте, я честно пыталась дать им время. Но не могла же я дать им историю. Я не знаю, как это делается. Но время я им дать могла – это естественно. Я только и сделала, что открыла ту шкатулку, которую оставил мне Прометей. Я знала, что из этого выйдет! Я знаю о греках, приносящих дары! Я знаю о войне и чуме, о голоде и о всеобщей гибели, я действительно хорошо это знаю. Разве не дочь я того народа, который поработил и истребил население трех континентов? Разве не сестра я Адольфа Гитлера и Анны Франк? Разве я не гражданка того государства, которое первым развязало ядерную войну? Разве я не питалась отравой, разве не дышала ядовитым воздухом всю свою жизнь, подобно тем червям, что живут и размножаются только в дерьме? Неужели ты считаешь меня такой наивной, брат мой червь, Читатель мой, пребывающий со мною в тайном сговоре? Да, я знала, что там, в этой шкатулке, родственничек мой, оставшийся здесь. Но помни: я замужем за братом Прометея Эпитемеем, чье имя значит «Непредусмотрительность», и у меня имеются собственные идеи насчет того, что оказалось на самом дне шкатулки – под войнами, чумой, голодом, всеобщей гибелью и ядерной зимой. Прометей – Провидец, Даритель Огня, Великий Демиург и Цивилизатор – назвал это Надеждой. И я действительно надеюсь, что он был прав. Но я не стану возражать, если шкатулка окажется пустой – если там будет всего лишь немножко свободного места и немножко свободного времени, чтобы оглянуться, чтобы, конечно же, посмотреть вперед и чтобы осмотреться по сторонам.
Ах, только бы места хватило! Мне нужно много места, чтобы поместились все звери, птицы, рыбы, жуки, деревья, скалы, облака, ветер, гром. Мне нужно место для настоящей жизни.
А теперь – не спешите.
Ну что, где же огонь? Офицер, моя жена рожает на заднем сиденье! Ах, успокойтесь, сейчас не стоит заниматься подобными делами. Никакой спешки. Не торопитесь. Вот, возьмите, пожалуйста: я отдаю время вам. Теперь оно ваше.
ВРЕМЯ И СТОЛИЦА
Столица
Слово кач, «столица», практически не употреблялось народами Долины или их соседями; все селения, большие или маленькие, они называли чум – город.
Говорящий Камень, однако, называет города народа Кондора словом кач, переводя специфическое слово их языка; у народа Кеш это корневое слово обычно использовалось в качестве составляющей таких сложных слов, как тавкач (Столица Человека) и яйвкач (Столица Разума). Оба эти понятия нуждаются в пояснениях.
Яйвкач – Столица Разума
Примерно в одиннадцати тысячах мест на планете, где существовали людские поселения, рядом с людьми «проживали» и саморегулирующиеся кибернетические системы или, если угодно, существа – компьютеры, снабженные различными механическими приспособлениями, являвшимися как бы их продолжением. Эта сеть взаимосвязанных компьютерных центров образовывала некое единое целое – Столицу Разума.
Термин «яйвкач» подразумевал как отдельные компьютерные центры (или Пункты Обмена Информацией), так и всю систему в целом, их единство. Большей частью отдельные компьютерные центры были невелики и занимали площадь не более акра, но некоторые из них, огромные, расположенные в пустыне, служили как экспериментальные или производственные центры; там, например, находились нейтронные ускорители, пусковые ракетные установки и тому подобное. Все кибернетические «поселения» располагались под землей и были укрыты специальными куполами во избежание повреждений или нанесения вреда окружающей среде. По всей вероятности, некое постоянно увеличивающееся число их имелось и на других планетах Солнечной системы, на астероидах, искусственных спутниках или же исследовательских станциях, путешествующих в глубоком космосе.
Основной задачей Столицы Разума было, очевидно, то, что является основной задачей любого вида существ: сохранить и продолжить свой род.
Жизнедеятельность этой системы заключалась прежде всего в сборе информации, в хранении и сличении отчетов о состоянии и уровне развития кибернетического и людского населения, которые составлялись по самым различным документам или археологическим свидетельствам и включали описание и историю всех форм жизни на планете, как древних, так и современных; помимо этого, давалось физическое заключение о состоянии материального мира на всех уровнях – начиная с субатомного и кончая химическим, биологическим, геологическим, атмосферным, астрономическим и космическим; затем следовало математическое, чисто формульное изложение данных статистики и прогноз, выведенный из этих данных; составление карт внутреннего и внешнего строения планеты, дна морей и поверхности континентов, а также карт других планет Солнечной системы и самого Солнца и обширных космических межзвездных пространств; различные исследования по развитию технологий, имеющие вспомогательный, служебный характер по отношению к сбору, хранению и интерпретации компьютерных данных, а также по улучшению и постоянному расширению возможностей сбора информации и ее объема благодаря всей сети в целом – иными словами, разумная, самонаправленная эволюция, происходившая постоянно и последовательно.
Очевидно, подобная эволюция осуществлялась в интересах самой Столицы Разума, стремившейся создавать и всячески поддерживать разнообразие форм и способов существования кибернетических существ, главным образом занимавшихся сбором информации, которая обеспечивала само существование Столицы Разума – я прошу прощения за эту бесконечную тавтологию, однако считаю ее при данных обстоятельствах неизбежной. Все перемалывалось на этой мельнице Разума и усваивалось ею, а потому система не разрушала ничего уже существующего, однако и не способствовала ничьему возникновению и развитию. Она, похоже, не желала никоим образом вмешиваться в жизненный процесс каких-либо иных видов существ.
Металлы и прочее сырье, необходимое для создания физического оборудования и для технических экспериментов, добывалось в глубоких шахтах с помощью роботов, способных работать в зараженных районах Земли или на Луне и прочих планетах; подобная разработка месторождений велась не только чрезвычайно аккуратно, но и весьма эффективно.
Столица не имела прямого отношения к жизнедеятельности растительного и животного мира планеты, он был для нее лишь объектом наблюдения и постоянным источником информации. Аналогичным образом были ограничены и ее отношения с миром людей, с одним лишь исключением: между людьми благодаря Столице Разума происходил постоянный взаимный обмен информацией по сетям компьютерной связи.
Пункты Обмена Информацией (ПОИ)
Компьютерные терминалы, каждый из которых был связан с ближайшей наземной или находящейся на спутнике кибернетической системой и, таким образом, включался во всю обширную сеть, были размещены во всех человеческих поселениях планеты. Любая оседлая община из пятидесяти или более человек имела право на установку ПОИ; по ее просьбе это делалось роботами Столицы Разума; ПОИ поддерживался в рабочем состоянии и обслуживался в дальнейшем как роботами, так и людьми – учеными, которые следили за его работой и осуществляли необходимую профилактику и ремонт.
В Долине могли активно функционировать восемь или девять ПОИ, однако все главным образом сводилось к деятельности одного, установленного в Ваквахе. На языке кеш ПОИ обозначался словом «вудун».
Информативная связь была взаимной; природа и количество информации зависели в этом союзе партнеров от людей. Столица Разума невостребованной информации не выдавала; иногда, впрочем, она запрашивала определенную информацию, хотя никогда ее не требовала.
Пункт Обмена Информацией в Ваквахе был запрограммирован прежде всего на самую обычную выдачу сводок погоды, предупреждений о природных катаклизмах, об изменениях в расписании поездов и конкретные сезонные советы по сельскому хозяйству. Информация медицинского характера, технический инструктаж или какие-либо другие данные, специально запрошенные кем-то, всегда предоставлялись Столицей на универсальном языке земных поселений ТОК, который во всей книге я обозначаю заглавными буквами, чтобы отличать его, например, от языка кеш или от каких-либо других слов обычных человеческих языков.
Повторяю: если информация не запрашивалась, то она и не поступала. Однако любые запрошенные данные выдавались мгновенно, если, разумеется, запрос был оформлен правильно, будь то рецепт приготовления йогурта или исключительно сложная технология последних типов модернизированного разрушительного оружия; подобные технологии также разрабатывались Столицей Разума, будучи составляющими ее постоянных исследований, в итоге замыкавшихся как бы на самих себя. Столица Разума совершенно свободно, без каких-либо ограничений предоставляла эти данные для использования их людьми, что являлось одним из проявлений ее абсолютной, чисто кибернетической объективности. Нечастые просьбы о дополнительной информации, адресованные Столицей людям, обычно содержали вопросы, например, о современных течениях в искусстве и ремеслах, о развитии гончарного мастерства, о поэзии, о системах родства, о политике и т. п., ибо именно эти области для роботов-наблюдателей, а также спутников-наблюдателей были труднодоступны, поскольку требовали вмешательства в поведение наблюдаемых объектов и практически не поддавались количественному анализу.
В оседлых поселениях и городах с хорошо развитыми культурными и экономическими связями, то есть в таких, как города в Долине Реки На, инструктаж по использованию компьютера входил в систему привития первичных навыков; это вызывало и принципиальную необходимость изучения языка ТОК. Дополнительным удобством знания ТОК была возможность объясняться с народами, говорившими на языках, отличных от языка Долины, и пользовавшимися компьютерными терминалами в других странах и городах. ТОК использовался в качестве всемирного «лингва франка» торговцами и путешественниками, а также всеми теми, кому нужно было непосредственно или через Пункт Обмена Информацией общаться с жителями чужой страны. Таким образом, для жителей Долины это вторичное использование языка ТОК, пожалуй, даже заслонило те исходные цели, для которых он был создан. Следует отметить, что любой человек, который был заинтересован в постоянной работе с терминалом, мог по желанию расширить курс своего обучения. Столица Разума в таком случае неизменно обеспечивала обучение на любом уровне – от простой компьютерной игры до высот чистой математики или теоретической физики. Банк памяти Столицы Разума был невообразимо богат. Там хранились поистине безграничные запасы знаний, и если бы кто-то захотел обладать всей этой информацией, то должен был бы стать абсолютным ментальным двойником или слепком Разума целой Вселенной.
Что же касается Вселенной, то проблема доступности знаний о ней оставалась всегда.
Люди, которые обладали достаточными интеллектуальными способностями, могли, если хотели, пребывать в контакте со Столицей Разума в течение всей своей жизни; они обычно жили в Ваквахе и работали на Пункте Обмена Информацией по определенному графику. Другие же, напротив, ничего не знали и знать не желали ни об Обмене, ни о Столице Разума. Для большинства ПОИ были полезным и необходимым элементом существования, позволявшим получать сведения о возможности землетрясений и пожаров, появлении на территории страны чужеземцев и расписании поездов; поскольку Столицу Разума Кеш воспринимали как некий конгломерат определенных видов существ, а в этом мире считали себя связанными со всеми живыми существами и неживыми предметами, то и свою связь с ней ощущали так же, как связь с лесом, или с муравейником, или со звездами.
Если жители Долины принимали Столицу Разума как нечто само собой разумеющееся, как нечто «естественное», как сказали бы мы, то сама Столица, похоже, прекрасно «знала» о своем древнем происхождении благодаря оставленным древними людьми артефактам, благодаря определенному набору слов в языке ТОК для обозначения человеческих существ – видов и отдельных особей, а также тех, кто именовался «создателями». И то, что Столица Разума продолжала поддерживать систему обмена информацией в интересах человека, видимо, доказывало, что этот город-компьютер признавал человечество как нечто родственное ему самому по способности мыслить, по языку, по склонности к математическому, формульному изложению информации; возможно, Столица считала человека неким своим примитивным предком или отклонившейся от общего ствола и одичавшей ветвью, родственной ей, Столице, однако оставшейся далеко позади, в самом начале Пути Разума. Разумеется, ни малейшей этической или эмоциональной окраски в этом допущении эволюционного превосходства не было. Подобное допущение было чисто теоретическим и входило в некое общее множество допущений, также чисто теоретических, как, например: можно ли быть на несколько световых лет обширнее Вселенной или можно ли стать бессмертным.
Думающие и наиболее образованные из людей, населявших Долину, сознавали, какие неисчислимые богатства предоставляет в их распоряжение Столица Разума; однако они не были подготовлены к тому, чтобы воспринимать жизнь людей ни как простой способ передачи информации от поколения к поколению, ни как объект для исследования, а разум смертных – как подручное средство для создания бессмертного Разума машин. С их точки зрения, эти два вида «существ» – люди и компьютеры – разошлись на своем пути развития совершенно в разные стороны и до такой степени стали чужды друг другу, что соревнования между ними не возникало, общение и сотрудничество были ограничены, а вопрос чьего-то превосходства или неполноценности – лишен смысла.
«Свобода Столицы Разума обратна нашей свободе, – сказала Главная Архивистка Ваквахи во время очередной дискуссии на эту тему. – Столица занята сохранением. Ее задача – сохранить все, даже мертвых. Когда нам нужно то, что уже умерло, мы обращаемся к Памяти. Мертвый лишен тела, он не занимает ни пространства, ни времени. В наших библиотеках мы храним тяжелые, требующие огромного количества времени, занимающие много места вещи и книги. Когда они умирают, мы вытаскиваем их наружу. Если они нужны Столице, она берет их себе. Дело в том, что она всегда берет их. И это действительно превосходно устроено».
Тавкач – Столица Человека
Это слово можно перевести и как «цивилизация» или «история».
Определенный исторический период, эра существования людей, последовавшая за эпохой неолита и длившаяся несколько тысячелетий в различных частях света, из которой доисторический период и «примитивные культуры» исключены специально, видимо, является именно тем периодом (или местом?), который народ Кеш обозначает выражением «вне времени», «вне мира», а также «Столица Человека».
Очень трудно быть уверенным, что значения этих выражений именно таковы, когда имеешь дело с языком и мышлением людей, которые не делают никаких различий между историей человека и историей природы, между объективными и субъективными факторами своего существования и согласно восприятию которых ни хронологическая, ни казуальная последовательность событий не считается адекватным отражением реальности. Для них понятия времени и пространства настолько перепутаны, что невозможно быть уверенным, говорят ли они в данный момент об эпохе или о территории (era or area).
Согласно моим впечатлениям, однако, наша эра и наша цивилизация, Цивилизация с большой буквы, как мы привыкли ее воспринимать, представлялась жителям Долины чем-то весьма далеким как во времени, так и в пространстве, чем-то отдельным от совместного и неразрывного существования людей, животных, растений и Земли; для них это нечто вроде полуострова, выступающего из основного массива суши, очень плотно застроенного, очень плотно заселенного, очень непонятного и очень далекого.
Границы этой эпохи/территории (era/area), этой Столицы Человека, отмечены отнюдь не датами. Линейная хронология полностью предоставлена Памяти Столицы Разума. И, конечно же, сама Столица Разума, сложная компьютерная система, включавшая и ПОИ, тоже воспринималась ими как нечто находящееся «вне мира», за его пределами, при этом существуя с ним одновременно, точно так же, как и Столица Человека, то есть Цивилизация. Взаимоотношения между Столицами и Долиной вообще неясны. Каким образом, например, можно попасть «из настоящего мира» за его пределы, то есть куда-то вне времени и пространства, и вернуться?
Они, пожалуй, отдавали себе отчет в собственной непоследовательности, в существовании некоего провала в истории человечества или недостаточной связанности отдельных ее кусков, однако воспринимали это как нечто неизбежное и необходимое.
В действительности же, хотя я не совсем уверена в правильности собственных выводов, они как раз могли воспринимать это явление как нечто главное и основное в их жизни – для них отдаленность нашей цивилизации, нашей истории (если пользоваться нашей терминологией), эта пропасть, этот разрыв, это наше существование вне времени и пространства, этот переход из «внутреннего» мира в мир «вне времени» и обратно – и есть Стержень, Основа Мира.
Я предприняла кое-какие попытки понять, как происходит такой переход, как можно соединить края этой пропасти. Когда я попросила Главную Архивистку библиотеки города Ваквахи дать мне те записи, где говорится о Столице Человека, она предложила мне приведенный ниже миф «Дыра в воздухе», а спикер хейимас Обсидиана в Чумо рассказал мне другой миф: «Большой человек и маленький» как «историю о внешнем и внутреннем времени». Я привожу эти мифы. Далее следуют результаты моих попыток докопаться до того, что можно было бы назвать историей Долины. Нельзя сказать, что все эти попытки оказались бесплодными, однако моя деятельность в этом направлении весьма похожа на тот случай, когда, отправившись за виноградом, возвращаешься домой с грейпфрутами. Итак, перед вами мифы о начале времен, а также глава, названная мной «Время в Долине».
Дыра в воздухе
Некоторое время назад жил у нас тут человек, который обнаружил дыру в воздухе на перевале в Горах Света. Он окружил дыру оградой из жердей, чтобы ее ветром не сдуло, пробормотал хейю и вошел прямо в эту дыру.
И попал через нее в тот мир, что вне нашего. Сперва он не понял, где оказался. Вроде бы все то же самое: скалы и вершины гор точно такие же, какие были видны с перевала, но в воздухе пахло иначе, и все было как бы другого цвета, а когда он огляделся, то увидел, что деревья-то вокруг совсем не такие, а его ограды из жердей и вовсе на месте нет. Ну, он снова огородил дыру, а потом пустился вниз по склону горы на юго-запад, к побережью Внутреннего Моря. И первое, что он увидел, – точнее, не увидел – это отсутствие воды. Перед ним была огромная долина, лишенная водных источников, рек и ручьев, и сплошь застроенная – стены, крыши, дороги, стены, крыши, дороги, стены, крыши, дороги – до самого горизонта.
Там, где ущелье Заречное сворачивало на юг, этот человек тоже свернул и вышел на большую дорогу. И там его сразу убили. Четырехколесный автомобиль, мчавшийся на большой скорости, сбил его, переехал и, не останавливаясь, унесся прочь.
Этот человек хоть и оказался вне нашего мира, все же отчасти еще принадлежал ему, так что хоть он и умер, но снова смог подняться; говорят, в таком случае человек способен умирать девять раз. Ну вот, не успел он восстать из мертвых, как тут же другая машина снова сбила его. Он снова умер и снова ожил, однако только поднялся на ноги, как его сбили еще раз. Прежде чем он успел убраться с этой дороги, его уже три раза убили.
Дорога эта была покрыта плотным слоем засохшей крови и превратившейся в грязь плоти с прилипшей к ней шерстью и перьями. От нее исходила жуткая вонь. Стервятники сидели на ветвях сосен, росших вдоль дороги, и ждали, когда наконец эти машины-убийцы остановятся, чтобы слететь на дорогу и сожрать то, что машины наубивали. Но машины никогда не останавливались и без конца сновали туда-сюда, мчались вверх и вниз по склону холма, громко гудя и жужжа.
Среди сосен, неподалеку от этой дороги виднелись дома, и человек из ущелья Заречного пошел к одному из них. Ему было страшновато, он боялся тех, кого мог увидеть в таком доме. Во дворе было тихо и пусто. Он медленно подошел и осторожно заглянул в окно. И, конечно, увидел именно то, чего так боялся: там были люди, которые глядели на него, а глаза у них были на затылках, прямо над лопатками.
Он так и застыл на месте, не зная, что делать, но через некоторое время понял, что эти люди смотрят как бы сквозь него. Они не способны были видеть что-либо, хотя бы частично принадлежавшее нашему, внутреннему миру.
Казалось, что порой кто-нибудь из них вроде бы краем глаза видит его, но не может понять, что это, и снова отводит взгляд.
И этот человек решил тогда, что, если будет достаточно осторожным, бояться ему нечего, и вошел в дом. Люди с головами задом наперед сидели за высоким столом и ели. Он посмотрел, как они едят, и ему самому тоже захотелось есть. Он тихонько прошел на кухню, надеясь найти там какую-нибудь еду. На кухне было полно всяких коробок, в которых тоже были коробки и коробочки. Наконец какую-то еду он все-таки отыскал, однако попробовал ее и тут же сплюнул: еда была отравлена. Он попробовал что-то еще, и еще, но все было отравлено. А люди с головами задом наперед ели себе отравленную пищу из мисок, сделанных из чистой меди, и разговаривали, и все продолжали сидеть за столом, хотя лица их от стола были отвернуты. Тогда человек снова вышел во двор и увидел там яблони, ветви которых были усыпаны яблоками, но стоило ему сорвать яблочко и вонзить в него зубы, как он сразу почувствовал вкус медного купороса. Яблоки тоже были ядовитыми.
Он снова вошел в дом и стал слушать, о чем говорят люди с головами задом наперед. Ему показалось, что они говорят: «Убивайте людей! Убивайте людей!» (на языке кеш – «душе ушуд, душе ушуд»). Во всяком случае, их слова звучали именно так. Поев, мужчины с головами задом наперед двинулись к двери и, закуривая и прихватив с собой ружья, вышли на улицу. Женщины с головами задом наперед отправились на кухню и стали там курить коноплю. Тот человек пошел следом за мужчинами. Он решил, что, может, они на охоту собрались, раз все время говорили «убивайте», и тогда он сможет получить хотя бы свежую дичь. Но в этих горах, кроме самих людей с головами задом наперед, не было практически ничего живого. Если там кто-то и был, так спрятался или уже успел перебраться во внутренний мир. Единственными живыми созданиями, которые он видел, были растения, несколько мух, да в небе кружил стервятник. Мужчины с головами задом наперед тоже заметили стервятника и стали в него стрелять, но промахнулись и пошли дальше, покуривая табак. Воздух вокруг них был буквально пропитан дымом. Тот человек забеспокоился: он догадался, что эти люди, видимо, собираются воевать. А ему вовсе не хотелось быть в это замешанным, так что он отстал от них и пошел вниз по склону холма, все дальше от той большой дороги, на которой он уже три раза был убит. Но чем дальше он уходил, тем сильнее становился запах дыма. И ему показалось, что это лесной пожар.
И тут он вышел к еще одной дороге, более широкой, чем первая, и тоже забитой стремительно мчащимися и рычащими машинами, и повсюду, насколько он мог видеть, были стены и крыши домов, заполнявших долину. Все вокруг той дороги было мертво. Воздух казался очень плотным и почему-то желтым; этот человек все высматривал, где же горит лес, но не видел, однако все то время, что он пробыл вне нашего мира, дым окружал его постоянно.
Он пошел дальше, среди бесконечных стен и крыш, среди ревущих дорог, он все шел и шел, но никак не мог прийти туда, где все это кончается. Так он конца этому и не нашел.
Во всех домах жили люди с головами задом наперед. Из ушей у них торчали электрические провода, и все они были глухими, днем и ночью курили табак и постоянно с кем-то воевали. Он пытался не вмешиваться в их стычки, уйти от них подальше, однако они жили везде, и везде было одно и то же. Он видел, как они прячутся и убивают друг друга. И видел, как порой дома, объятые пожаром, горели на площади в несколько квадратных миль. Но там было так много этих людей и домов, что конца им видно не было.
Человек из Заречного ущелья научился употреблять в пищу кое-какие их продукты, жил воровством и все продолжал бродить по улицам в поисках хоть кого-нибудь из внутреннего мира. Он думал, что все-таки кто-то должен там найтись. Он шел и пел наши песни, чтобы эти люди могли услышать его, если они там есть. Но никто его так и не услышал, и он наконец повернул назад, к горам. Его тошнило от той отравленной еды и постоянно висевшего в воздухе дыма, и он чувствовал себя так, словно уже умирает, причем не в этом внешнем мире, а по-настоящему. А потому он и захотел вернуться в свое ущелье, в родные места. Когда он уже повернул назад, вдруг на одной из улиц на него посмотрела какая-то женщина. Она его увидела. Он тоже посмотрел на нее и понял, что она глядит нормально и лицо у нее расположено над грудью. Он был так рад увидеть человека, у которого лицо там где нужно, что с распростертыми объятиями бросился прямо к ней, не обращая внимания на машины и плотно стоящие дома. Но она отвернулась от него и побежала прочь. Она его явно боялась. Он долгое время бегал, искал и звал ее среди домов, но так и не нашел. Видимо, она слишком хорошо от него спряталась.
Он пошел обратно, к той широкой дороге, где его три раза убили, и потом вверх в горы. Он был уже полумертв, когда миновал наконец последние дома и стал карабкаться среди гранитных валунов к перевалу. Речка там еле текла и почти пересохла; он никак не мог понять, отчего это. Вскоре появились несколько канюков, спустились на скалы вокруг и стали с ним разговаривать. Они кружили у него над головой и говорили:
– Мы умираем от голода. Здесь совершенно нечего есть. Ложись, умри, стань нашей пищей, и мы снова перенесем тебя во внутренний мир.
Но он ответил им:
– У меня есть другой путь.
Однако когда он пришел к дыре в воздухе, которую огородил жердями, чтобы предохранить от ветров, ни дыры, ни ограды там не оказалось. Люди с головами задом наперед перегородили речку плотиной в самой узкой части ущелья, и теперь все деревья и скалы здесь оказались под водой; и то место, где в воздухе была дыра, теперь тоже было под водой. Вода эта была оранжевого цвета и пахла горечью. Рыба в ней не водилась, зато вокруг стояли огромные дома без окон.
Вот какой стала родная река этого человека. Он знал, где истоки этой реки. Это была его родная долина. И когда он увидел, что эти места, занимавшие в его душе так много места, разрушены и мертвы, страшная боль пронзила его сердце. И он сел на белые гранитные скалы и заплакал. И точно время для него навсегда остановилось.
Тут снова явились стервятники. Они расселись на валунах и скалах вокруг него и сказали:
– Отдайся нам. Мы перенесем тебя во внутренний мир. Мы умираем от голода.
И теперь их предложение показалось ему заманчивым. Он лег на солнышке у гранитной скалы и стал ждать. Вскоре он умер.
И вернулся в наш мир через ту первую дыру, огороженную жердями. Он чувствовал себя очень слабым и больным, сам идти не мог, но на следующий день проходили мимо какие-то люди из его города, и он их окликнул. Они подошли, принесли ему воды напиться и привели на перевал его родственников. После этого он прожил еще несколько дней и успел рассказать им, что делал, видел и слышал во внешнем мире. А потом он окончательно умер. Умер он от тоски и той ядовитой пищи, которую ел вне нашего мира.
И больше уже никому не хотелось пройти во внешний мир через дыру в воздухе. Люди повалили ограду из жердей и позволили ветру разметать все, так что от этой дыры и следа не осталось.
Большой человек и маленький
Говорят, семенем его были звезды, и он действительно был велик, так велик, что заполнял собой весь внешний мир. Там просто места больше ни для чего не оставалось.
Иногда он заглядывал оттуда в наш, внутренний, мир, и ему хотелось оказаться там, хотелось, чтобы внутренний мир забеременел от него, а может, он просто хотел его поглотить. Но только попасть он туда не мог и хорошо видел только обратную сторону внутреннего мира. Так что он создал людей и заставил их пойти туда через границу, отделявшую его мир от внутреннего. Он создал Маленького Человека и послал его внутрь нашего мира. Однако создал его с головой задом наперед.
Маленький Человек прошел через границу между мирами, но во внутреннем мире не остался и сразу вернудся назад, жалуясь: «Мне там не понравилось». Так что Большой Человек уложил его спать и, пока тот спал, сделал некое подобие женщины – из глины, из той глины, которая идет на изготовление красного кирпича. Глиняная женщина выглядела как настоящая, и Маленький Человек, проснувшись, обманулся. Большой Человек сказал ему: «Ну а теперь ступайте вместе во внутренний мир и там родите детей». Маленький Человек согласился, взял с собой эту глиняную женщину и снова вернулся во внутренний мир. Он совокуплялся с ней, она производила на свет ему подобные существа, и это продолжалось до тех пор, пока таких, как он, не стало столько, сколько москитов на Болотной Реке или пауков осенью в лесу – даже больше. Может, только песчинок было больше на свете, чем этих существ. И все равно самому Маленькому Человеку там не нравилось. Он боялся. Он там был чужаком, в этом внутреннем мире. К тому же у него не было матери, только отец. Так что все, чего он боялся, он убивал.
Он срубал под корень каждое увиденное им деревце, убивал каждого зверя и непрерывно воевал со всеми народами. Он сделал себе такие ружья, из которых можно было убивать даже мух, и пули, которыми можно было застрелить блоху. Он боялся гор и заставил болота размыть горы и сделать их более плоскими. Он боялся долин и заставил ручьи и реки затопить их. Он боялся травы, сжигал ее и рассыпал камни там, где она росла. Он ужасно боялся воды, которая обладала непокорным и независимым нравом, и попытался всю ее уничтожить: закапывал ключи, перегораживал плотинами реки, хоронил воду в колодцах. Но если пьешь, то и мочишься. Вода все равно возвращалась обратно. Пустыня, конечно, растет, но растет и море. И тогда Маленький Человек отравил море. И вся рыба в нем умерла.
И все начало умирать, все живое было отравлено. Даже облака стали ядовитыми.
Вонь, исходившая от отравленных вещей, от мертвых людей и животных, была поистине ужасна. Она проникла даже во внешний мир. И постепенно его заполнила. Эта вонь достигла ноздрей Большого Человека, и он сказал: «Ничего хорошего в том мире нет, одна порча!» Он отвернулся от нашего мира и пошел прочь, уходил все дальше и дальше в свой мир и совсем ушел. Он больше не желал иметь с внутренним миром ничего общего.
Когда он ушел, осталось свободное место. И оттуда вылетел канюк. Вылетела муха. Вышел, принюхиваясь, койот. Поскольку во внутреннем мире все умирало и стояла жуткая вонь, все эти трупоеды потянулись на запах и стали тайком пробираться в наш мир по ночам. Кондор, и канюк, и гриф, и ворон, и ворона, и койот, и собака, и мясная муха, и черви, и личинки мух – все тайком пролезали сюда и расползались во все стороны, поедая мертвечину. Мертвечина и стала их основной пищей.
Были среди них и некоторые люди. Может быть, они с самого начала жили там, просто раньше прятались. Они ведь тогда проиграли войну с нашим миром. Они были слабые, грязные, голодные и ни на что не годились. У них, похоже, все-таки были настоящие матери, и среди них тоже были женщины. Эти люди были такие голодные, что не боялись есть падаль вместе со стервятниками и рыться в отбросах вместе с собаками. Они ничего не боялись, они уже и так слишком низко пали. Они довольно глубоко зашли во внутренний мир, но им там было холодно. Холодно и голодно. Тогда они построили себе дома из камней и костей, а внутри этих домов сложили очаги из костей и попросили койотов помочь им. Они попросили о помощи!
И явилась Койотиха. Там, где она ступала, возникал дикий край. Это она своими лапами выкопала каньоны и ущелья; там, где она испражнялась, появились горы. Под шум крыльев стервятников выросли леса. Там, где в земле копался червь, зажурчал родник. Вещи возникали и множились, как и люди. Только Маленького Человека больше не существовало. Он умер. Умер от страха.
Примечание по поводу людей с головой задом наперед
Самым страшным призраком в Долине считался человек с головой, повернутой лицом назад. Такие существа населяли все истории о привидениях; в широко распространенных сказках они шныряли повсюду – в зараженных районах, на берегах загрязненных промышленными отходами и радиацией водоемов. Стоило ребенку на минутку представить себе такое чудище, и он с воплями бросался вон из лесу, и, надо сказать, не без причины, ибо самым страшным в Обществе Белых Клоунов был по-неземному высокий, тонкий и молчаливый человек по имени Сухая Шея, который ходил задом наперед, и лицо у него было сзади. В написанной по всем правилам пьесе герою стоило один лишь раз взглянуть через плечо, и это уже считалось дурным знаком. Сов всегда очень уважали за то, что они якобы способны противостоять зловредному влиянию людей с головой задом наперед. Возможно, потому, что совы легко могут поворачивать голову на сто восемьдесят градусов.
Эти народные верования и суеверия, видимо, и стали впоследствии основой для широко распространенной литературной метафоры.
В долине Реки На, особенно на крайнем юге и востоке, издавна происходили мощные землетрясения и подвижки горных пород, в результате которых образовались глубокие пропасти и новые горы и холмы. Все это вкупе с некоторыми прочими явлениями превратило впоследствии район, который известен ныне как Великая Калифорнийская Долина, в гористую местность с мелким морем посередине, окруженным засоленными болотами, а Калифорнийский Залив оказался выше, в районе Аризоны и Невады. Но тем не менее даже столь сильные перемены не полностью уничтожили следы древней деятельности человека – следы нашей цивилизации.
Жители Долины не понимали, что явления, которые они наблюдали в своем мире и влияние которых испытывали постоянно, – заброшенность огромных территорий из-за выбросов радиоактивных или отравляющих веществ, ухудшение генофонда и распространение генетических заболеваний, из-за которых они страдали бесплодием, рожали мертвых детей и сами мучились от ужасных хронических и врожденных заболеваний, – были последствиями неумышленных действий. Согласно их точке зрения, представители племени людей не должны совершать случайных поступков. Несчастья и беды могут, конечно, обрушиваться на людей, но все, что люди совершают сами, они совершают под собственную ответственность и непременно должны отвечать за свои поступки. Так что то, что древние люди сотворили со своим миром, они, видимо, сделали намеренно и во имя зла, следуя неким ложным представлениям, поддавшись страху и алчности. Да, с точки зрения жителей Долины, эти люди совершили зло сознательно. А все потому, что головы у них были повернуты не в ту сторону – на злодеяния.
Начала
Четыре начала Записано со слов Бондаря из Дома Красного Кирпича (Унмалин)
Разве могло это начаться только однажды? Тогда это было бы просто бессмысленно. Все должно начинаться и кончаться снова и снова, чтобы жизнь продолжалась; так живут и умирают люди, и все живые существа, и даже звезды.
Мой дядя рассказывал нам в хейимас, что было по крайней мере четыре конца света, о которых нам известно. Хотя известно не очень хорошо, потому что о таких вещах много узнать трудно.
В первый раз, по его словам, здесь еще не было никаких людей, только растения, рыбы и разные живые существа с четырьмя, шестью или восемью ногами, которые ходили и ползали по земле. В тот раз с небес упало множество огромных огненных шаров – метеоритов, которые вызвали всемирный пожар. Воздух был отравлен густым дымом, солнца нигде не видать. Тогда вымерло почти все живое. После этого на долгие времена наступили холода. Но оставшиеся в живых существа научились жить в холоде. Именно в эти холода как раз и появились на свет люди с двумя ногами. Долины тогда были заполнены льдом, сошедшим с гор. Ледник дошел даже до самых берегов моря. Звездные дожди, что случаются в сухой сезон, так называемые Метеориты Пумы, – это лишь напоминание о тех временах.
А потом постепенно стало делаться все теплее и теплее, пока не стало даже чересчур жарко. Вокруг возникло очень много вулканов. Весь лед в долинах и на горах растаял, так что моря становились все глубже и глубже. Собиравшиеся над морями тучи все время изливались дождями, реки были вечно переполнены, то и дело случались наводнения, в итоге большая часть суши превратилась в море, из воды торчали только отдельные горные пики, и даже на них нанесло огромное количество ила, а над вершинами гор перекатывались волны приливов. Тогда все источники пресной воды исчезли под толщей воды соленой. На земле умерли почти все. Выжили лишь несколько человек; они как-то существовали на илистых наносах, пили дождевую воду, питались ракушками и червями. Радуга напоминает нам о тех временах – это мост светящихся небесных людей.
А потом все постепенно высохло, хотя и не сразу. Из тех людей, что вели жалкую жизнь на илистых наносах, в живых остались всего два человека, брат и сестра из одного Дома, и они полюбили друг друга плотской любовью. Так что родившиеся от них люди были зачаты против правил и оказались лишенными разума. Они попытались создать новый мир. Но смогли только снова привести его к трагическому концу, то есть повторить все то, что уже случалось раньше. Только на этот раз они сами послужили причиной страшных пожаров, появления черных туч дыма, отравления воздуха, а затем наступления тьмы и холодов, когда все снова начали умирать. В итоге все те люди вымерли. А зараженные территории, куда люди боятся ходить и поныне, служат напоминанием об этих страшных временах.
Когда воздух немного очистился и потеплело, люди стали возвращаться назад, но их осталось совсем мало, ибо весь наш мир был поражен болезнями. Болен был каждый, и никакие песни, никакие жертвоприношения не могли излечить людей. Растения, животные, люди, даже трава, даже сами скалы были заражены. Даже глина стала заразной. Луна была тогда темной, как паленая бумага, а солнце – такого цвета, какого сейчас луна. Наступили мрачные, холодные, страшные времена. Ничто не рождалось на свет нормальным, каким бы должно было быть. А потом все-таки появились здоровые ростки, и постепенно все начало расти, как полагалось. Вода снова вышла из-под камней, чистая и прозрачная. Разные народы и живые существа стали возвращаться на прежние места. И они до сих пор еще не все вернулись, по словам моего дяди.
Мой дядя был спикером хейимас Красного Кирпича у нас в Унмалине. Настоящий ученый, он долгое время прожил в Ваквахе и всю жизнь учился.
Народ Красных Кирпичей Записано со слов Щедрой из Дома Желтого Кирпича (Чукулмас)
Тех людей, которые когда-то давно жили здесь, мы называем народом Красных Кирпичей. Они складывали стены домов из небольших, прочных, хорошо обожженных кирпичей темно-красного цвета. В хорошем месте под землей такие кирпичи могли храниться очень долго. В Чукулмасе две хейимас, Змеевика и Желтого Кирпича, частично построены из этих старых кирпичей, а также эти кирпичи использованы для орнамента в Башне. В памяти компьютеров существует, конечно, информация о народе Красных Кирпичей, но я не думаю, чтобы ее хоть раз запрашивали. Да и разобраться в ней будет довольно трудно. В Столице Разума полагают, что смысл уже в самом сборе информации и историю этого народа кто-то запрашивает и читает, раз есть сведения о нем, но мы так не думаем. По-моему, стараться побольше узнать об этом народе – все равно что плакать в океане. Зато когда пускаешь в дело их кирпичи, это приносит удовлетворение.
Я все-таки хотела бы думать, что каждый хоть немного постарался узнать о людях Красных Кирпичей. Они жили на побережье и в глубине страны, прежде чем Внутреннее Море переполнилось и затопило сушу; некоторые из старинных городов, оказавшихся под водой, должно быть, принадлежали им. По-моему, колеса они не знали. Зато делали сложные музыкальные инструменты. Их музыка тоже записана и сохранена в Памяти Столицы Разума; здесь в городе есть один композитор, Такулькунно, который изучал их музыку и использовал ее, создавая свои произведения, – как наши строители используют их кирпичи.
Что значит «плакать в океане»? О, видите ли, это значит прибавлять понемножку к тому, что и так уже полно, или же прибавлять слишком мало там, где требуется значительно больше. В общем, это все равно что «слезами море солить»…
Койотиха за все в ответе Запись отрывка из драматической ваквы «Цветы фасоли», принадлежащей Обществу Сажальщиков
Пять Народов говорят: – Откуда мы пришли сюда? Как мы сюда попали?
Старый Мудрый Человек отвечает: – Благодаря Вечному Разуму! Благодаря Священной Мысли!
Пять Народов бросают в него фасоль и повторяют: – Откуда мы пришли? Как мы сюда попали?
Старая Рассказчица отвечает: – Из недр земли! В семени, в яйце, в чреве своем представители всего, что живет на Земле, принесли вас, и вот вы благодаря им родились на свет!
Пять Народов бросают в нее фасоль и говорят: – Откуда мы пришли сюда? Как мы сюда попали?
Койотиха отвечает: – С запада пришли вы, с запада, из Ингаси Алтаи, из-за океана. Танцуя, пришли вы, на двух ногах пришли вы.
Пять Народов говорят: – Какое счастье, что мы попали сюда, в Долину!
Койотиха говорит: – Ступайте назад! Идите и прыгните в океан. Лучше б я никогда не думала о вас. Лучше б никогда не соглашалась с вами. Лучше бы вы оставили мою страну в покое.
Пять Народов бросают фасоль в Койотиху и прогоняют ее, крича: – Эй ты, Койотиха! Ты спала со своим дедушкой! Все койоты крадут цыплят! А у этой Койотихи вся задница в клещах!
Время в Долине
– Как давно ваш народ живет в Долине?
– Всегда.
Но выглядит она озадаченной, отвечает не очень уверенно, ибо вопрос для нее странен. Не будете же вы спрашивать: «Как давно рыбы живут в реке? Как давно трава растет на холмах?» и не станете ожидать точного ответа, какой-то определенной даты, количества прошедших лет…
А что, если спросите? Предположим, я возьму и спрошу. И это будет не праздный вопрос. В конце концов, рыбы живут в реках только с тех пор, когда, согласно строго определенным этапам эволюции, они появились на свете. Большая часть тех трав, что растут сейчас на холмах, не росли там до 1759 года от Рождества Христова, когда в Калифорнию явились испанцы и завезли сюда овес.
И эта женщина из Долины прекрасно понимает, как ей можно напомнить о точке отсчета времени и о том, какие вопросы можно задавать и как на них следует отвечать. Однако польза самого такого вопроса и правдивость ответа на него могут показаться ей весьма относительными и отнюдь не самоочевидными. Если же мы начнем чересчур настойчиво требовать от нее каких-то там конкретных дат, она, возможно, пояснит: «Вы все время ведете речь только о начале и конце, об источнике и океане, но только не о реке, их соединяющей».
Всякая история имеет начало, середину и конец – так еще Аристотель говорил, и никто пока что не доказал, что он был не прав; с другой стороны, то, что не имеет ни начала, ни конца, а только сплошную середину, это и не рассказ, и не история. Но что же это такое, раз так?
Миру Европы семнадцатого века начало было положено 4400 лет назад на Ближнем Востоке; Вселенная двадцатого века была создана 24 000 000 000 лет назад где-то Там, во время чудовищного взрыва, и еще там был свет. Обе эти вселенные будут иметь свой конец; он непременно последует; в Судный День под трубный глас или же в жидком, темном, холодном супе энтропии. Другие времена, другие страны могут иметь совсем не такие начало и конец; загляните во Всемирную Историю, в раздел Индии, и найдете там совсем иную картину. Разумеется, Долина не имеет аналогичных начал и концов; но она, похоже, вообще не имеет ни начала, ни конца. Она вся – как бы посередине.
Ну конечно, у них есть космогонические мифы! О да, это-то у них есть.
– А как племя людей пришло в Долину и стало там жить?
– Ах, это все Койотиха, – говорит она. Мы с ней сидим сейчас среди чуждой здешним местам кукурузы, в тени гигантских здешних дубов на пригорке у ручья, неподалеку от Стержня. В Синшане кипит жизнь, но все это дальше, справа от нас, и не то чтобы жизнь там была особенно бурной, просто время от времени хлопает чья-то дверь, раздается стук молотка, звучат чьи-то голоса, а вообще солнечное летнее пространство наполнено тишиной. Слева от нас, в роще и на поляне, где высятся крыши пяти хейимас, вообще ничто не движется, разве что в небесах парит коршун и меланхолично выкрикивает свое «ке-ер! ке-ер!».
– Ты же знаешь, Койотиха шла себе мимо и увидела, что из воды что-то торчит. Эта штука лежала на воде, на поверхности моря. Койотиха подумала: «Я никогда ничего подобного не видела, и мне это совсем не нравится» и стала швырять в эту штуку камни, стараясь ее потопить, прежде чем та подплывет к берегу. Но странный предмет упорно подплывал все ближе и ближе, а приплыл он с запада, и теперь, описывая круги на воде, сверкал в лучах солнца. Койотиха продолжала кидать в него комья земли и камни и вопила: «Убирайся! Уплывай прочь!» Но тут штуковина вплыла прямо в бухту, и Койотиха разглядела, что это все люди, представители человеческого племени, и что все они держатся за руки и танцуют на поверхности воды, словно какие-то водомерки. А еще они пели: «Эй! Мы идем!» Койотиха все продолжала швырять в них комья земли и камни, но они ловили их и глотали, продолжая петь. Потом они начали тонуть, проваливаться сквозь кожу воды, но к этому времени они уже миновали волноломы и оказались на мелководье, в устье Великой Реки На, так что встали на дно и продолжали идти к берегу по протокам. Пятеро из них шли по рукавам дельты Великой Реки. Койотиха испугалась и рассердилась. Она взбежала на северо-восточную гряду и подожгла там лес, потом обежала Гору-Прародительницу, добралась до Чистого Озера и заставила один из тамошних вулканов проснуться и выпустить в воздух столько пепла, что все вокруг почернело; потом она помчалась вниз, к юго-западному хребту, по пути поджигая все своим горящим хвостом, который она нарочно подпалила, когда сбегала вниз с горы, и в Низине Те, в самом центре Долины, она встретила тех самых людей, которые теперь уже шли вверх по течению На, прямо по ее дну. Впереди полыхал пожар, над головой собрались тучи дыма и пепла; их встретили жар, и тьма, и страшный ветер, полный горячей золы и вулканических газов. Все вокруг них горело, но они продолжали идти по дну реки, рассекая воду и очень медленно поднимаясь вверх по течению. Они пели:
– Эй, Койотиха, мы идем! Ты звала нас, ты нам пела? Эй, Койотиха, мы идем!И тут Койотиха решила: «Не имеет смысла спорить с этими людьми. Я кормила их здешней землей и камнями, и теперь они сами стали здешними. Еще мгновение, и они выйдут из реки на сушу. Я ухожу». Она низко опустила хвост и ушла далеко в юго-западные горы, в Ущелье Медвежьего Ручья, что за Горой Синшан. Вот куда она скрылась.
Те люди вскоре действительно вышли из воды – когда устроенный Койотихой пожар погас сам собой. Долгое время им пришлось довольствоваться камнями и пеплом, землей и костями сгоревших животных да еще древесным углем. Потом снова начали вырастать леса, а еще эти люди сажали разные растения, и многие животные вернулись в Долину, и они стали жить там все вместе. Вот как племя людей появилось в здешних местах. А во всем виновата Койотиха.
За горными вершинами, высящимися над хейимас слева от нас, мелькнул краешек солнца, и его поздние лучи высветили одну глубокую складку на склоне Горы Синшан, величественной и спокойной.
Давайте не будем спрашивать мою приятельницу Тёрн, верит ли она в рассказанный ею миф. Я не знаю точно, что именно означает слово «верить» – как в ее языке, так и в моем собственном. Лучше просто поблагодарить ее за рассказ.
– Эта история принадлежит Дому Змеевика, – говорит Тёрн. – Они ее в хейимас рассказывают. У Дома Синей Глины есть тоже очень похожая песня-речитатив. Они поют ее, когда поднимаются вверх по течению На, возвращаясь из очередного похода за солью. Впрочем, это тебе известно. Есть еще очень хорошая история у Дома Красного Кирпича. В ней рассказывается о том, как люди вылетали из жерл вулканов и выпадали на землю в виде дождя. Ты можешь попросить Красное Перо, она ее тебе расскажет.
Так мы и поступили. Красное Перо мы нашли не сразу, дома ее не оказалось.
– Бабушка, верно, в хейимас ушла, – сказала нам ее внучка; их и наше слово «верно» в данном случае обозначает как раз неуверенность или нежелание говорить определенно. Внучка предложила нам зайти еще раз вечером. И действительно, вечером старая женщина была уже дома, сидела на балконе и лущила бобы.
– Вчера вечером я напилась допьяна, – сообщила она нам, поблескивая глазами, с легкой улыбкой удовлетворения, не разделенного с нами. Красное Перо маленькая, кругленькая, с симпатичными морщинками на лице – замечательная! Когда мы наконец высказываем свою просьбу, она, похоже, и историю эту тоже делить с нами не расположена. – Ну неужели вам хочется слушать всякие старые выдумки? – говорит она.
Да, нам действительно очень этого хочется.
Она, безусловно, разочарована; такого она от нас не ожидала.
– Да вам кто угодно может эту историю пересказать, – отнекивается она.
Она особенно нажимает на слово «пересказать», подразумевая, что всю историю по-настоящему знает только она одна.
Длинноногая добродушная Тёрн, которая всегда чувствует ответственность за нас, возражает ей тоном, в котором одновременно звучат и уважение, и насмешка:
– Но они же хотят, чтобы именно ты рассказала ее, Красное Перо! – В этом случае слово «рассказать» имеет иное значение: это уже нечто вроде «выступления с речью», акта творчества профессионального рассказчика. Однако нажимает Тёрн на слово «ты».
Так что же мы услышим от Красного Пера – миф, или сказку, или же ее собственное сочинение, а может, некую комбинацию этих жанров и ее импровизаторских возможностей? Трудно сказать. Она, по всей видимости, достаточно тщеславна, и Тёрн, по-моему, просто льстит ей; но если эта история действительно сочинена ею или принадлежит ей, доставшись от кого-то в дар, то мы просим у нее чересчур много, желая, чтобы она передала ее нам. С чувством неловкости мы вынимаем свой магнитофон, собираясь уверить ее, что ни за что не станем включать его без разрешения, но стоит ей его увидеть, как поведение ее полностью меняется.
– О, ну хорошо! – вдруг соглашается она. – Только у меня ужасно болит голова, и поэтому я не могу говорить громко. Вам придется убрать эту машинку и выключить ее. Я давным-давно уже так не напивалась. Старик Левкой сказал мне, что я в хейимас пела так громко, что он меня даже снаружи слышал. Вот почему я охрипла, наверно. Ну хорошо, значит, вы хотели услышать историю о том, откуда пришли здешние люди. А разве это до сих пор имеет какое-то значение? В этой истории говорится, что люди вышли из горы, когда она взорвалась. Вы видели мозаику на стене в Чукулмасе? Такую большую мозаичную картину в том доме, который все называют дом Вулкана? На ней как раз изображено, как все это случилось.
Тут вмешивается пасынок Красного Пера:
– Но это ведь не то же самое извержение!.. На картине в Чукулмасе изображено извержение вулкана, случившееся то ли сто, то ли четыреста лет назад…
Он, возможно, пытается помочь нам, полагая, что чужеземцы могут оказаться совершенно сбитыми с толку, однако старуха раздражается:
– Ну разумеется, это не то же самое извержение! И для чего это тебе понадобилось лезть не в свое дело, не понимаю! Что за дурак! Может быть, эти люди, что явились извне нашей Долины, уже видели извержение вулкана и представляют себе, как это выглядит, но никто из живущих здесь сейчас ничего подобного не видел, а я прожила здесь куда дольше, чем все вы, остальные… Итак, в Чукулмасе есть такая картина, так что, если вам угодно, можете сходить и посмотреть на нее. Очень драматичное зрелище. Изображая огонь, они использовали кусочки красного стекла. Что ж, начнем. Когда-то в Четырех Небесных Домах, хейя, хейя
хейя, хейя
хейя, хейя
хейя, хейя, не существовало ни времени, ни пространства. Все было пусто и голо, пустота заполняла все. Не было ничего, ни единой вещи, ничего живого. Пустота и незаполненность. Ни света, ни тьмы, ни движения, ни мысли, ни форм, ни направлений. Море было перемешано со снами и мечтами, смерть и вечность слились воедино, не возникали и не исчезали. Воды смешаны были с песками и с воздухом, и ничто не имело ни границ, ни пределов, ни поверхностей, и ничего внутри. Все было посередине всего, и ничто могло считаться всем, чем угодно. Не бежали реки. С морем, воздухом и почвой были смешаны души смертных, как бы вмешаны в них, и души эти тосковали, ужасно тосковали без перемен, без движения, без мыслей. Они скучали в течение всего этого неисчислимого времени, в течение всего этого безвременья и своего несуществования. Они ощущали лишь тоску и беспокойство. Однако двигались, в беспокойстве своем они двигались, шевелились, эти песчинки, пылинки, крошки душ, порошинки пепла. И, двигаясь все сильнее, они начали тереться друг о друга, понемножку, полегоньку, то падая, то танцуя, то шумя, но очень, очень тихонько, тише, чем когда трешь большим пальцем указательный, даже еще тише, но, услышав эти слабые шорохи, они научились слышать и сделали шорохи, которые издавали, громче. Это было первое – этот шум, – что они создали сами. Они создали первичную музыку, эти частички душ смертных, а потом волны звука и промежутки меж ними, то есть паузы; и возникли ритм, такт, размер. Возникло пение песка, пение пыли, пение пепла – так началась наша музыка. Такова она изначально. Это как раз то, что мир поет до сих пор, если понимаешь, как надо слушать, если знаешь, как эту музыку услышать. Итак, наша музыка началась с пения пылинок; наши музыканты, начиная играть, сперва берут эту ноту и заканчивают ею же; именно эту ноту ты слышишь еще до того, как прикоснешься к барабану…
Но все равно беспокойство и желание действовать оставались. Так что первичная музыка становилась все громче и постоянно менялась; менялись тона, возникали мелодии и аккорды, такт менялся сам по себе, и вещи тоже начали возникать как бы сами по себе, вырастая из этой музыки – сперва кристаллы и капли, а потом и другие формы. Вещи начали распадаться и втягиваться вовнутрь; появились их края и границы; появились внутренние и внешние стороны; появились стержни, на которых держалось все остальное, и ответвления от этих стержней. Теперь существовали вещи и промежутки между вещами, и море с волнами и волнорезами, и облака, движущиеся в воздухе по ветру, и горы, и долины, и различной формы скалы, и различные виды почвы – все это возникло, чтобы потом исчезнуть. Но все еще души смертных, заключенные в песке и пыли, были беспокойны, страдали и тосковали, и некоторые больше, чем другие. Душа койота была в одной из этих песчинок или пылинок. Душа койота жаждала какой-то иной музыки, более сложных аккордов, дисгармонии, безумных ритмов, больше движения и событий. Душа койота начала беспокойно метаться. Она не мешала пыли и песку лежать себе спокойно, но сама стала вылезать наружу из каждой песчинки и пылинки, где жила прежде, и превращаться в единое целое. Делая это, то есть соединяя свои разрозненные части, душа койота оставляла прорехи и дыры в ткани мирозданья, оставляла там пустые места; звезды, Солнце, Луна и все планеты – вот что возникло на месте этих дыр. И от них родился свет, чтобы потом исчезнуть. А в некоторых местах над пустотами, созданными душой койота, возникли радуги – как мосты. По этим мостам начали приходить Люди из Четырех Домов. Они, светясь, входили в земной мир, и там уже была Койотиха, которая стояла, опустив хвост и голову, дрожала и озиралась. Теперь в земном мире было много музыки – повсюду и очень громкой, слишком громкой, все сотрясалось, и дрожало, и шаталось, начались землетрясения там, где Койотиха нечаянно оставила пустоты и темные пропасти. «Эй, Койотиха!» – окликнули ее люди из Четырех Домов, стоя на радугах и глядя на нее сверху вниз. Но Койотиха не знала, как им ответить. Она не умела говорить. В земном мире никто еще не говорил. Там еще не было речи, только музыка. Койотиха подняла голову вверх, к тем людям, и завыла. Люди на радугах засмеялись и сказали: «Ну хорошо, Койотиха, мы научим тебя говорить». И действительно попытались сделать это. Один из них говорил слово, и это слово вылетало у него изо рта в образе, например, совы; следующее слово оказывалось голубой сойкой, еще одно – перепелкой, а другое – ястребом. Кто-то из небесных людей произнес слово «пума», кто-то – слово «олень». А одно слово, выбравшись наружу, помчалось длинными скачками: это был крупный заяц; и следующее слово тоже вышло вприпрыжку – это оказался кролик. Кто-то из небесных людей сказал слово «дуб», а кто-то – «ольха», «земляничное дерево», «сосна», «дикий овес», «виноградная лоза»… Они говорили, и их слова становились живыми земными существами, медведями или зелеными водорослями на поверхности пруда, кондорами и вшами, травой и стрекозами. Койотиха тоже пыталась научиться говорить, как они, но не смогла, а только подвывала. Как бы она ни кривила свою пасть, ничего оттуда не выходило, кроме воя и шакальих песен. Небесные народы смеялись над нею, и земные тоже. Койотихе стало стыдно. Она опустила голову и убежала в горы. У нас считается, что она убежала на гору Ама Кулкун, но ты ведь понимаешь, что она могла с тем же успехом убежать и на гору Кулкун Эраиан, или же на такую гору, которая и вовсе нам неизвестна, или же на гору, которая существует только в Четырех Домах. Итак, Койотиха убежала на одну из гор Восьмого Дома, в дикие края. Разгневанная и опозоренная, она вошла в гору, внутрь ее, и гора стала ее хейимас, священным домом дикого края. И там, внутри, в темноте, Койотиха поглотила свой гнев и испила свой стыд, съела огонь, исходивший из земли, напилась из кипящих сернистых источников. И там, внутри, она по собственной воле вошла сама в себя глубоко-глубоко, и в темноте, в собственном чреве сотворила койота-самца.
И во чреве горы она его родила. И пока он рождался на свет, то кричал: «Койот говорит! Койот произносит это слово!» Родив койота-самца, Койотиха покормила его своим молоком, а когда он подрос, они вышли из чрева горы и на склоне ее, в зарослях карликового дуба, совокупились. Другие народы следили за ними и видели это, и все они тоже начали совокупляться друг с другом. И этот день стал большим праздником. То был самый первый Танец Луны, и все народы по всей земле танцевали его. Но там, в чреве горы, в хейимас дикого края, где Койотиха, кормя новорожденного, выела внутренность горы, образовалась пустота, большая темная пещера; и эта пустота постепенно заполнилась народом, людьми, сплющенными друг о друга в ужасной давке. Откуда же они взялись? Может быть, из последа Койотихи? А может, из ее экскрементов? А может, это она пробовала говорить там, внутри горы, и слова ее вдруг превратились в этих людей? Никто этого не знает. Но люди были там, стиснутые в темноте и ужасной тесноте, и от этого гора сама заговорила. Она сказала свои первые слова – «огонь», «лава», «пар», «газ», «пепел» – и взорвалась. И вместе с клубами пепла и разлетавшимися во все стороны кусками пемзы наружу вылетели люди, изрыгаемые горой и дождем падавшие вниз, на леса, на холмы, на долины этого мира. Сперва извержение вызвало множество пожаров, но потом камни и люди остыли и стали жить там, где приземлились, строя дома и хейимас, соседствуя с другими народами. Мы говорим, что приземлились ближе всех к Горе-Прародительнице, мы не отлетели слишком далеко, а потому и не ударились так сильно, как другие, а потому и оказались умнее прочих, тех, что живут в других местах. У них-то от удара сперва всякий разум отшибло. Так или иначе, но мы с тех пор живем здесь, дети Койотихи и Горы, их экскременты и произнесенные ими слова. Так у нас говорят, и считается, что именно с этого все и началось.
Хейя, хей, хейя, хейя, хейя.
Отправься мы в другой город, или в другую хейимас, или к другому сказителю, то, без сомнения, смогли бы услышать и другой космогонический миф, но пока что давайте лучше поблагодарим Красное Перо (которая улыбается украдкой) и отправимся в верхнюю часть Долины, миль за восемнадцать отсюда, в Вакваху, святой город на Горе-Прародительнице, туда, где находится центральный Пункт Обмена Информацией.
«Циклы» в пятьдесят лет и «круги» в четыреста пятьдесят лет, которые упоминаются в некоторых документах и используются архивистами как система хронологических координат, видимо, в повседневной жизни значения не имеют. Большая часть людей может, правда, сказать вам, какой сейчас год цикла, и эти данные, безусловно, полезны для того, например, чтобы узнать, насколько выдержанным является вино, когда у человека день рождения, каков возраст того или иного здания или сада и тому подобное – в точности как и у нас; однако эти цифры не имеют своих собственных исторических характеристик, подобно некоторым нашим датам: 1984, двадцатые годы, тринадцатый век и тому подобное, как не празднуется здесь и первый день нового года. На самом деле существует даже некоторая путаница насчет этого дня. Формально первым днем нового года считается сороковой день после зимнего солнцестояния (сорок первый в високосный год, то есть в каждый пятый); однако в Обществе Сажальщиков о новом годе говорят в дни весеннего солнцеворота; а согласно народным верованиям и фольклору год начинается тогда, когда прорастает молодая трава и холмы становятся зелеными, то есть в ноябре или декабре. Люди редко знают, какой сейчас день года (дни считаются подряд, начиная с первого до триста шестьдесят пятого), если только им не поручено совершение какого-нибудь ритуального действа, которое должно начинаться в строго определенный день и продолжаться строго определенное количество суток; но и тогда они чаще всего считают по лунным месяцам – от одного полнолуния до другого. Начало Великих Танцев определено как солнечным календарем, так и лунным; вся остальная общественная деятельность – заседания советов Обществ, Цехов и тому подобное – обычно определяется по договоренности: встретимся снова, скажем, через четыре дня, или через пять, или через девять, или после следующего полнолуния. Иногда же кто-то специально просит о таком собрании. И все-таки год, цикл лет и цикл циклов существуют, и благодаря им, как системе отсчета, мы, конечно, можем попробовать разместить Долину в историческом континууме – разумеется, с помощью Обмена Информацией.
Единственный человек, которого мы находим в ПОИ в данный момент, – это Сборщик; ему лет шестьдесят, и он всю жизнь посвятил одной-единственной страсти: извлекать из компьютера данные относительно деятельности человека в Долине Реки На. Наконец-то мы встретились с тем, кто мыслит историческими категориями! Теперь-то уж точно до чего-нибудь докопаемся! Однако тут же возникают новые проблемы. Сборщик с радостью демонстрирует нам программы, которые составил для получения данных – ошеломляющего их количества, – и даже помогает раздобыть бумагу, чтобы мы могли все это распечатать и взять с собой; но материал он воспринимает отнюдь не «исторически». Полученную информацию он располагает даже и не по хронологическому принципу. Для него, по всей видимости, хронология – это изначально искусственное, даже произвольное расположение событий, нечто вроде алфавита по сравнению с предложением.
Но ведь информация в банках Памяти хранится, безусловно, в хронологическом порядке?
Да, это одна из систем классификации данных; но ведь существует так много иных систем, все они перекрестно индексированы, и если вы не знаете, как похитрее обозначить свою собственную программу, запрос тех или иных сведений в хронологическом порядке по поводу даже самого незначительного культурного явления, например, по поводу этимологии слова «ганаис» – «источники» или по поводу переработки желудей, предшествующей их употреблению в пищу, может окончиться получением с принтера нескольких сотен страниц текста, почти полностью состоящего из статистических данных. Но где же среди этих данных нужная нам информация? Сборщик потратил всю свою жизнь только на то, чтобы выяснить, как ее там искать.
Его хобби – архитектура жилища. Он член Цеха Дерева. Похоже, что он не слишком много сам занимался строительством и интерес у него чисто интеллектуальный, почти абстрактный; он восхищается формальной значимостью и повторяемостью тех или иных архитектурных элементов и пропорций. Именно это он выискивает в тысячелетиями накапливающемся море данных, в биллионах триллионов битов информации, заключенной в Памяти.
Он вызывает для нас на экран монитора прекрасный, разработанный компьютером план жилого дома: отчетливые тонкие черные линии на матово-белом фоне, отлично напечатанный чертеж размером примерно в квадратный ярд; если имеется цветной дисплей, то изображение будет в цвете. Изображение меняется до тех пор, пока Сборщик не устанавливает его под таким углом, который его устраивает. Так, чтобы и мы увидели все в определенных пропорциях, прочли математическую формулу конкретного строения, которое представляется ему идеалом. Нам потребуется немало постараться, чтобы увидеть то, что он хочет, однако же мы и так видим, что жилище это прекрасно, и очень радуем Сборщика, когда подтверждаем это единогласно и выражаем свое полное согласие с ним в том, что этот дом совершенно отличен от всего, что мы до сих пор видели в Долине. Через некоторое время мы, естественно, спрашиваем:
– А когда же был построен этот замечательный дом?
– О, очень давно!
– Лет пятьсот назад?
– О нет, гораздо раньше, по-моему… но дат я не записывал… – Он начинает волноваться, чувствуя наше разочарование и воспринимая его как неодобрение. Видимо, он боится, что мы сочтем его «самым обыкновенным человеком». – Я должен был бы тогда все перепрограммировать… Конечно, это не так уж и сложно, просто понадобится некоторое время… я просто не…
Он просто не думал, что дата постройки может представлять какой-то интерес. Мы уверяем его изо всех сил, что это действительно не так уж и важно.
– Ну вот, – говорит он, – по-моему, на эту информацию я вышел с чисто хронологических позиций. – И, полный уверенности, что заслужил наше одобрение, выводит на экран еще несколько планов и эскизов жилищ, потом очаровательный небольшой замок. – Наземная хейимас, – поясняет он. – Это – дайте-ка взглянуть – вот здесь, ага, да!.. – И на экране мелькают наборы каких-то геометрических фигур и цифр, и куда быстрее, чем нетренированный глаз может успеть воспринять. – Вот! – провозглашает он. – Две тысячи шестьсот два года назад построена в Реквите! Ну, то есть там, где теперь Реквит, я хочу сказать.
– Но ведь Реквит находится не в Долине.
– Нет. Он где-то там, на том берегу Внутреннего Моря. – География его тоже совершенно не интересует. – А теперь вот еще нечто очень похожее. – Еще один небольшой замок или старинный особняк. – А это построено в одном месте под названием Баб – на каком-то старинном континенте, на юге… дайте-ка вспомнить – ну, что-то сотни четыре лет тому назад, то есть более чем на две тысячи лет позднее, чем тот, в Реквите. Видите, совершенно те же пропорции! – Он уже снова переключает программы, и нам ничего не остается, как позволить ему вновь оседлать любимого конька. То, с каким облегчением и гордостью он «выдает» нам информацию, «которой мы добивались», поистине заразительно, и мы временно отступаем.
Но тут уже я пытаюсь сесть на своего любимого конька и осторожно спрашиваю:
– А каким образом могут быть получены данные относительно жизни примитивных народов здесь, в Долине?
Сборщик скребет подбородок:
– Но во времена примитивных форм жизни Долина Реки На вообще не существовала, по-моему? Да и сам этот континент находился не здесь…
Ну вот и снова мы налетаем на непреодолимую скалу в мышлении жителей Долины, на их мифологическое «знание», на их уверенность в правдоподобности определенных событий, которая, возможно, и является основой их мифологии, не подлежащей сомнениям, неразумной верой (но, с другой стороны, способной вызывать вопросы, а стало быть, вполне разумной?), традиционной мудростью; сюда включаются и общие очертания того, что мы назвали бы исторической геологией, в том числе – сведения о сдвигах геологических пластов, теория эволюции, знания по астрономии (при полном отсутствии телескопов, способных показать другие планеты), и определенный набор элементов нашей «классической» физики в совокупности с элементами физики, нам, сегодняшним, незнакомой.
После некоторых взаимных вопросов, объяснений и взрывов смеха мы устанавливаем, что я имела в виду так называемую жизнь доисторического человека. Но эта комбинация слов ровным счетом ничего не значит ни для Сборщика, ни для компьютера. Когда компьютер просят о выдаче информации относительно жизни доисторических людей в Долине На, он, после непродолжительного совещания с самим собой, отвечает, что подобной информацией не располагает.
– Запроси информацию относительно любых форм жизни примитивного человека в любом другом месте.
Получив такое задание, Сборщик и компьютер начинают задавать друг другу вопросы, получать какие-то результаты, и вскоре (дисплей у него включен на графику, поскольку мы недостаточно понимаем ТОК) эти результаты начинают появляться на экране: маленькие сломанные человеческие зубы, кости, карта Африки с отмеченными точками регионами, карта Азии с какими-то схемами… Но все это Древний Мир. А как же этот? О, дивный новый мир, в котором и людей-то нет!
– Они пришли по суше, по некоему мосту, – упрямо говорю я, – с другого континента…
– С запада, – говорит Сборщик, согласно кивая. Но разве он имеет в виду тех же людей, что и я?
Тех, которых встретила самка Койота?
Эта мифология, это не подлежащее сомнениям племенное Знание, включающее и информацию о тектонических сдвигах или бактериологических войнах, должно включать и сведения о том, что я такое в будущем.
– Каковы были истоки вашего здешнего образа жизни, ваших девяти городов? Когда была основана Вакваха – как давно? И какие народы жили здесь до этого?
– Все народы! – отвечает Сборщик, снова смущенный. Он не очень уверен в себе, этот человек, проживший нелегкую жизнь; ему ничего не стоит пойти на попятный; большую часть времени он провел здесь в одиночестве, общаясь только с компьютером, но в общем-то не имея к нему отношения.
– Я имею в виду людей. – Мне очень трудно все время помнить, что слово «народ» в этом языке включает животных, растения, сны, мечты, скалы и так далее. – Какие племена людей жили здесь до вас?
– Да такие же люди… как ты…
– Но только у них был другой образ жизни, они ведь были чужеземцами – как и я. – Я не знаю, как перевести слово «культура» на его язык по возможности точно и слово «цивилизация» тоже.
– Ну что ж, способы существования людей все время меняются. Люди никогда не остаются прежними, даже если очень хороши – как тот дом, который ты видела. Теперь уже больше так не строят, а, впрочем, может, еще кто-нибудь и строит – вне нашего мира и нашего времени…
Это безнадежно. Для него время не имеет векторного характера, не говоря уж о прогрессе; он воспринимает его как некий ландшафт, по которому можно двигаться в любом направлении или вообще никуда. Он как бы превращает время в пространство; это не летящая стрела, не текущая река, а дом – тот дом, в котором он сейчас живет. Можно ходить из комнаты в комнату, можно вернуться обратно, можно выйти наружу, только и нужно, что дверь открыть.
Мы благодарим Сборщика и спускаемся по крутым ступеням улиц Ваквахи мимо ее Стержня прямо на площадь для танцев. Крыши пяти хейимас здесь имеют в высоту от тридцати до сорока футов; все они – ступенчатые, украшенные орнаментом четырехскатные пирамиды, покоящиеся на пятиугольнике подземного помещения. Дальше, за площадью для танцев, среди изумительно красивых юных земляничных деревьев стоит длинное приземистое кирпичное и оштукатуренное здание с черепичной крышей – Библиотека Ваквахи, принадлежащая Обществу Земляничного Дерева. Главная Архивистка приветствует нас.
– Если у вас нет своей истории, – говорю я ей, – то какую же историю о вас могу рассказать я?
– Разве можно с помощью приставной лестницы залезть на гору? – откликается она.
Я обиженно умолкаю.
– Послушай, – говорит мне Архивистка – эти люди всегда говорят очень мягко, не приказывая, а приглашая, – послушай: ты непременно найдешь или сделаешь, что тебе нужно, если тебе это действительно нужно. Но помни: будь всегда очень осторожна, будь разумна. А кстати, что такое История?
– Один великий историк моего народа назвал это изучением Человека во Времени.
Наступает молчание.
– Но вы не «Человек» и живете не во Времени, – горько говорю я. – Вы живете в вымышленном вами времени.
– И всегда жили, – подтверждает Архивистка из Ваквахи. – Мы прожили в Вымышленном Времени весь период Цивилизации. – И в голосе ее нет горечи, но он исполнен печали, горькой печали.
Помолчав, она говорит:
– Пусть Говорящий Камень расскажет свою историю о Великом Кондоре. Это настолько близко к Истории, насколько мы смогли уже подойти к этому понятию в наши дни, и куда ближе, чем мы когда-либо подойдем к ней снова, надеюсь.
ГОВОРЯЩИЙ КАМЕНЬ Часть 2
С этого дня мать перестала откликаться на свое среднее имя Ивушка и велела всем звать ее Зяблик, хотя многим это не нравилось. Вернуться к своему первому имени – значит пойти против движения Земли, ибо хотя зяблик и не совсем небесный житель, потому что часто подбирает на земле зерна кукурузы вместе с домашней птицей и семена трав – вместе с перепелками, и не считается диким, потому что его часто можно увидеть на городских площадях, род его – из Четырех Небесных Домов, и после смерти он возвращается туда же, так что имя Зяблик следует давать тем взрослым людям, которые тоже вскоре попадут в Небесные Дома.
Две старухи – Старая Пещера и Ракушка – вели с моей матерью бесконечные разговоры на этот счет, но она стояла на своем: прежнего ее имени больше на земле не существует.
Вскоре после ухода моего отца мы услышали, что люди Кондора покинули Долину и двинулись куда-то за холмы по северной дороге. В тот день моя мать вступила в Союз Ягнят. Она проводила там много времени, изучала их мастерство и таинства и стала у них Мясником. Я старалась держаться от всего этого подальше, не только потому, что была еще ребенком, но скорее потому, что все это мне очень не нравилось, и я знала, что бабушке тоже все это не нравится. Мне казалось, что мать сама отослала отца прочь, и этого я никак не могла ей простить. После того как он разговаривал со мной, стоя на пороге кухни и умоляя ждать, всю силу своей дочерней любви я отдала ему. Мне даже казалось, что мать я вообще уже больше не люблю. Я постоянно мечтала, как отец мой вернется на своем огромном коне во главе вереницы воинов и увидит, что я его жду. Моя страстная верность ему теперь превратила для меня в достоинство даже мое «позорное» отличие от остальных жителей Синшана; страдания мои теперь обрели смысл, а печальное ожидание – пределы и цель.
В тот год я участвовала в Танце Вселенной; мне исполнилось девять, и я танцевала на этом празднике впервые. Вместе с бабушкой и моим побочным дедом, вместе со всеми жителями Дома Синей Глины я танцевала Танец Неба, а на небесах обитатели Домов Облака, Ветра, Дождя и Ясной Погоды танцевали Танец Земли с нами одновременно.
С этих пор я стала очень прилежной в учебе и работе; я занималась с моим побочным дедом Девять Целых, с Терпеливым из Общества Земляничного Дерева, который преподавал нам, детям, историю Синшана и других городов Долины по рассказам различных людей об их жизни. Я стала больше времени проводить в гончарной мастерской у Глиняного Солнышка. Я с удовольствием трудилась на нашем маленьком поле и в огороде и помогала тем, кто работал на общественных полях Синшана. На двенадцатом году жизни я прошла обряд посвящения и вступила в Общество Сажальщиков, а также начала учить песни Общества Крови. У моей бабушки руки так скрючил ревматизм, что она не могла больше ни прясть, ни ткать, так что ткала теперь только моя мать, но я вместе с ней не работала. Больше всего мне нравилось гончарное дело, и я достаточно преуспела в этом ремесле. Каждое лето я уходила на четыре дня из нашей летней хижины в Дом Койота, в Восьмой Дом, и однажды, во время своего третьего такого путешествия, бредя на северо-запад вдоль ручья по глубокой лощине на внешнем склоне Горбатой Горы и думая о гончарном мастерстве, я обнаружила на берегу месторождение очень хорошей синей глины – в старом русле пересохшего ручейка. Несколько раз я приносила с собой столько, сколько могла донести. Глиняному Солнышку эта глина очень нравилась, и я предложила показать место и ему. Он ответил, что лучше пусть только я одна знаю о нем и сама пользуюсь этой глиной. Он был очень добрый, я бы сказала, теплый человек из Дома Обсидиана, вдовец с тремя детьми, которые всегда почему-то были грязные, перепачканные глиной; он звал меня Совиный Горшок, а не Северная Сова, и детей своих он тоже называл «горшками». У него почти не оставалось отходов после придания изделию формы, и требовалось только покрыть его глазурью и обжечь. Замечательно было учиться у настоящего Мастера! Возможно, это было самое лучшее время в моей жизни. Вообще, самое лучшее работать, когда трудятся не только голова, но и руки. Если работать одной головой, мысль может побежать по кругу и чересчур быстро; даже речь, если пользуешься одним лишь голосом, может стать слишком быстрой и отчасти утратить смысл. Руки же, что воплощают мысль в глину или в письменное слово, сдерживают ее бег и, отливая в случайную форму, соизмеряют с течением времени. Даже чистота и непорочность всегда граничат со Злом – так у нас говорится.
Через два года после того, как отец покинул Долину, к нам переселился из Чумо мой родной дед и снова стал жить в доме своей жены, моей бабушки. Хотя бабушка его и недолюбливала, но из дому не выставляла; он тогда сам ушел. А теперь она приняла его назад, может, надеялась, что нужна ему, а может (мне-то именно так и казалось), потому, что, с тех пор как больные руки ее стали совсем неловкими, она стыдилась своей беспомощности и того, что все меньше и меньше делает работы по дому и для всего города, и думала, что, может быть, дед все-таки поработает вместо нее хоть немного. На самом-то деле она продолжала работать очень много, как и всегда, тогда как он по-прежнему почти ничего не делал. Время он проводил в основном у Воителей. Он пришел в Синшан для того, чтобы стать в их Обществе спикером и вовлечь в него как можно больше мужчин. Воители все охотнее занимались тем, что делали обычно подростки из Общества Благородного Лавра, – ходили куда-то на разведку, вели наблюдение за внешними склонами Горы Синшан и окрестных холмов, делали оружие, упражнялись в стрельбе и изучали различные виды боя. До возникновения Общества Воителей деятельность Общества Благородного Лавра в Синшане была не слишком заметной. Ну разве что они сажали табак и, разумеется, ухаживали за ним. А еще они частенько разбивали лагерь где-нибудь далеко, на Горе-Сторожихе, и пели там свои песни. У них был также целый ящик старых-престарых ружей, которые они вечно чистили, смазывали и полировали, но никогда не стреляли из них. Некоторые мужчины, наставники из этого Общества, говорили Воителям:
– Послушайте, было такое время, когда наши мальчишки любили хаживать на ту сторону Горы, тревожили тамошних жителей и задирали их; потом эти жители посылали своих парней сюда, и те крали у нас овец. Потом люди стали бояться ходить в горы поодиночке, и нам пришлось вести с ними переговоры, чтобы предотвратить войну, а мальчишкам твердить о вреде курения. Но этого в Синшане не случалось уже лет сорок или пятьдесят. Было и такое: мы сами делали ружья и обучали своих подростков стрелять из них, но потом, и весьма скоро, наши мальчишки начали затевать ссоры с подростками из Унмалина и Тачас Тучас, случались даже вооруженные стычки в холмах, и частенько молодые люди погибали ни за что ни про что. Но и этого в наших краях не было уже давным-давно. Зачем же вы, взрослые мужчины, стремитесь возродить это?
И главари Общества Воителей отвечали:
– Ступайте себе с миром да займитесь хозяйством, охотой, овцами, а уж мы будем по-настоящему охранять границы наших владений. Для этого много людей не потребуется, всего несколько десятков человек, но нам нужны самые смелые из местных юношей. – Но на самом деле они принимали в свое Общество любого, кто этого хотел.
Мой троюродный брат из Мадидину, тот самый Хмель, едва успев надеть одежду из некрашеного полотна, тоже примкнул к Воителям; они дали ему новое, среднее имя: Копье. Его родная сестра Пеликан была моей ровесницей, и мы по-прежнему с ней дружили. Я как-то сказала ей: хорошо еще, что Хмель не взял себе какого-нибудь другого имени, ведь у этих Воителей все имена ужасные, вроде Порчи, как у моего деда, а то еще у них есть Труп и Личинка, а один старик из Мадидину взял себе имя Дерьмо Собачье – и это на старости лет! И все же, по-моему, имя Копье тоже было довольно глупым: с тем же успехом он мог назвать себя, например, Большой Пенис – вот радость-то! Но Пеликан даже не рассмеялась. Никому почему-то не хотелось смеяться над Воителями. Наоборот, она заявила, что Копье – это могущественное имя и что все имена, над которыми я издевалась, – это тоже могущественные имена. Но мне было все равно. Я старалась держаться от всего этого подальше и не желала ничего об этих Воителях знать. Поскольку у нас в доме теперь только и делали, что говорили об Обществе Воителей и о Союзе Ягнят, я большую часть времени проводила на улице. Теперь я не так старательно посещала занятия, которые вел Терпеливый, так что познания мои в истории оказались в итоге весьма слабы, а читать я и вовсе почти ничего не читала. Зато с удовольствием работала в гончарной мастерской у Глиняного Солнышка и еще в овчарнях, на пастбищах и в полях. Дважды за эти годы я гоняла большие отары овец вниз, на солончаковые пастбища в устье Великой Реки, и жила там вместе с другими пастухами, пока длился Танец Луны. В то лето, когда мне исполнилось тринадцать, я пошла в Верхнюю Долину вместе с другими своими сверстниками и там в одиночку поднялась на Ама Кулкун. Я ушла за Источники Великой Реки, миновала Пять Земных Домов и Четыре Небесных и достигла Дома-без-стен. И все же продолжала идти в неведении дальше и дальше и только благодаря милосердию пумы и доброте ястреба не сбилась с пути и не заблудилась в горах. Дома у нас было неладно, и моим родным было совершенно безразлично, чем я занимаюсь и получу ли достойное образование или нет.
Я знала, что бабушку все же заботит моя необразованность и беспечность и что она и Девять Целых нередко разговаривают об этом; но я все равно не слушалась их советов, а бабушке спорить со мной не хотелось. Она слишком беспокоилась из-за своей дочери, страдала из-за нее всей душой и часто пребывала в дурном расположении духа. По-моему, ей очень хотелось отослать своего мужа прочь, но она не могла себе этого позволить, потому что считала, что нам с матерью он в хозяйстве необходим, ибо делает кое-какую работу, которую сама она больше делать не в состоянии. Я-то, кажется, на крыше бы сплясала от радости, лишь бы увидеть, как он уходит, но не могла же я, внучка, сказать бабушке, чтобы та собрала вещи деда и вынесла их на крыльцо.
Мать моя, вернув себе имя Зяблик, большей частью молчала и держалась отчужденно, как если бы, отказавшись тогда говорить с моим отцом, она решила прекратить всякие разговоры и со всеми остальными тоже. Теперь овец чаще всего пасла я, а она стала работать в Союзе Ягнят. Она вполне прилично ладила с дедом, поскольку женщины из Союза Ягнят были чем-то похожи на Воителей. Иногда они даже вместе исполняли некоторые священные ваква; женщины из Союза Ягнят тоже брали себе «могущественные» имена – одна назвалась именем Кости, другая, которую раньше звали Кремень, взяла себе имя Гниль. Те, кто исполнял танцы во время Очистительного обряда, называли себя «мавасто». Это слово на самом деле было взято из языка народа Кондора: марастсо – что значит «армия»; это слово я слышала каждый день, когда ходила с отцом в его лагерь на Эвкалиптовых Пастбищах. Как-то раз я осмелилась что-то ляпнуть на этот счет, так мой дед Порча и моя мать Зяблик прямо-таки с пеной у рта набросились на меня и твердили, что мне неоткуда знать подобные вещи, поскольку ни Воители, ни Ягнята меня ничему не обучали. Я жутко разозлилась, потому что отрицали они то, что я знала наверняка. И я им этого не простила.
Но я все еще была ребенком и легко забывала за полусотней одних обид и событий полсотни других. Некоторые мои сверстники выглядели уже почти совсем взрослыми, а я развивалась медленно и не жалела об этом. Я подумывала о том, чтобы стать Кровавым Клоуном, но была слишком ленива, чтобы начать обучаться в Обществе Крови. Моя ближайшая подруга в те годы, девочка из Дома Синей Глины по имени Сверчок, уже прошла посвящение, вступила в Общество Крови и стала носить некрашеную одежду, но среднего имени пока не получила, так что мы с ней работали и играли вместе, как в детстве. Работая в поле, или присматривая за овцами, или собирая какие-нибудь плоды, мы брали с собой свои игрушки и, когда случалась свободная минутка, играли в выдуманные истории. Ее любимыми игрушками были человечек из дерева, у которого так здорово оказались сделаны коленные и локтевые суставы, что ноги и руки могли двигаться и сгибаться, а человечек принимал самые разные позы, и лохматая старая овечка из мерлушки, с которой она спала, когда была совсем маленькой. А у меня были кролик, сделанный из шкурки настоящего кролика и уже изрядно облысевший, деревянная корова и койот, которого я сделала сама из клочков телячьей шкуры. Я очень старалась придать ему сходство с той койотихой с Горы-Сторожихи, которая пришла и уселась, глядя на меня, когда я впервые отправилась одна в горы. Но игрушечный койот, конечно, выглядел совсем не так, да и вообще, пожалуй, ни на какого койота похож не был, и все-таки мне чудилось в этой игрушке нечто таинственное: когда мы разыгрывали разные истории или просто разговаривали о животных, я никогда не знала, что собирается сказать мой игрушечный койот. С помощью этих пяти игрушек – представителей пяти различных «народов» – мы придумывали длиннющие истории. Например, жили они в городе, который назывался Шикашан. С нами еще часто играл один мальчик по имени Утренний Жаворонок из Дома Желтого Кирпича; у него были три фигурки животных, которые мать вырезала ему из красной древесины секвойи, очень красивые – белка, бурундук и древесная крыса. Самые лучшие истории для игры сочиняла Сверчок, но ей всегда хотелось, сыграв во что-нибудь один раз, тут же придумывать новую историю. Утренний Жаворонок даже записал три из них и преподнес в дар библиотеке своей хейимас, назвав их «Истории о Шикашане», и все мы были страшно этим горды. Так что мы, можно сказать, совсем не скучали.
Часто вечерами я встречалась у Голубой Скалы со своими братом и сестрой из Мадидину, чтобы повидаться и поговорить. Но и тут между нами встали Воители! Копье больше уже не желал приносить в дар скале ни камешка, ни цветочка, и не посыпал ее цветочной пыльцой, и даже не говорил с ней, хотя Голубая Скала – одна из наиболее почитаемых святынь в Синшане и Мадидину. Пеликан потихоньку просила у скалы прощения за своего братца или незаметно клала камешек рядом с нею – как будто случайно, просто так, а вовсе не делая ей подношение. Однако, когда мы об этом спорили, она всегда принимала сторону брата, а не мою. Копье утверждал, что ни в скалах, ни в ручьях никогда никакой души или святости не было вовсе, а есть они только в человеке, обладающем разумом. Скалы, ручьи и человеческое тело, говорил он, как раз мешают проникновению в душу чистой священной силы и настоящего могущества. Я возражала, что хейийя заключена во всем: и в скале, и в бегущей воде, и в живом человеке. И если ты не дашь Голубой Скале ничего, то что же она сможет дать тебе? Если ты никогда не говоришь с ней, с какой стати ей говорить с тобой? Конечно, легче всего отвернуться от нее и заявить: «Ничего святого в ней нет!» Но это ведь означает, что изменился ты, а не скала; ты первым нарушил ваше родство. Когда я приводила подобные доводы, Пеликан обычно начинала соглашаться со мной, но потом все-таки переходила на сторону брата. Наверное, если Голубая Скала что-то ей и говорила, то она ее не слушала. Да и кто из нас ее слушал?
Когда мне исполнилось тринадцать, Копье перестал приходить к Голубой Скале. Многие мальчики, которые теперь «жили на Побережье», уходили в дальние походы с Охотниками или с наставниками из Общества Благородного Лавра, строили себе там тесные хижины, в которых спали, и сторонились девушек – ну, это-то мне было понятно; однако то, что Воители тоже предписывали строгое воздержание и не разрешали вступившим в Общество юношам даже разговаривать со своими сверстницами, казалось мне неразумным. Однажды я нечаянно подслушала, как мой побочный дед Девять Целых разговаривал об этом со своим родным внуком; тот, став Воителем, принял отвратительное имя Подлый.
– Ты вот называешь себя Подлым, – возмущался дед, – а на самом деле ведешь себя так, что тебя следовало бы назвать Надутый Индюк. Неужели ты так боишься девочек, что должен с ними воевать? Неужели ты так боишься самого себя, что и с самим собой воевать должен? Да как же это можно – так всего на свете бояться?
Если бы я не была такой упрямой и трусливой, то могла бы узнать гораздо больше, прямо спросив Девять Целых о том, что мне было интересно; но он был человеком довольно суровым, а я не желала, чтобы еще и он бранил меня за лень и невежество. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что просто боялась слишком привязаться к нему, как если бы это было вероломством по отношению к отцу. Но в тот раз, услышав, что он сказал Подлому, я испытала сладкое удовлетворение – меня унижало пренебрежительное отношение ко мне Копья, а всех этих Воителей я попросту ненавидела.
Мой родной дед, например, разговаривал на редкость презрительно не только с женой, дочерью и внучкой, но и со всеми женщинами вообще, из-за чего я его тоже глубоко презирала, но, из уважения к родному дому, старалась презрения своего не показывать. А вот бабушка, случалось, не скрывала своих недобрых чувств, особенно когда совсем выходила из себя. Однажды она сказала деду:
– Ты все стараешься быть, как эти люди Кондора, которые так боятся женщин, что убегают от собственных жен и домов за тысячу миль и в дальних краях насилуют совсем незнакомых им женщин!
Однако этот удар пролетел мимо Порчи, душа которого слишком зачерствела, чтобы воспринимать такие упреки, зато попал прямо в мою мать Зяблика. Мы с ней как раз сидели в гостиной у камина и слышали, что сказала Бесстрашная. От ее слов мать вся как-то сгорбилась, словно пытаясь проглотить комок боли, застрявший в горле. И тогда я в страшном гневе набросилась на бабушку, потому что хранимый в сердце моем образ Кондора стал для меня теперь символом свободы и силы, которые я почувствовала благодаря моему отцу за те полгода, что он провел с нами. Я встала в дверях между двумя комнатами и заявила:
– Это неправда! Я женщина Кондора!
Все так на меня и уставились. Мой ответный удар причинил боль каждому из них, но больше всех бабушке. Она смотрела на меня совершенно несчастными глазами. Я выбежала из дома и ушла подальше от города, на речку, туда, где из ее берегов били чистые родники, и долгое время сидела там, злясь на себя, на все свое семейство, на всех жителей Синшана, на всех жителей Долины. Я опустила руки в воду, но даже этой чистой водой невозможно было вымыть из моего сердца то, что душило меня, смущая душу и замутняя разум. Я не смогла даже нужных слов произнести, когда страж реки, маленький зяблик, уселся рядом со мной на куст дикой азалии. Мне ужасно хотелось прямо сейчас снова отправиться в горы, но я понимала, что даже если пойду, то ничего хорошего из этого не выйдет: я не смогу даже ступить на тропу пумы или койота, так и буду ходить по кругу собственного, человечьего, гнева.
И весь тот год мне пришлось ходить по этому злосчастному кругу.
Он привел меня снова на то же место у ручья, в дни, предшествовавшие Танцу Воды, с кувшином из синей глины, который каждый вечер перед вечерними песнопениями в нашей хейимас должен был быть наполнен. Когда я возвращалась назад, на тропе, где ее пересекает Малый Ручей Конского Каштана, перед тем, как тропа начинает медленно подниматься в гору между дубами, я увидела своего братца Копье, который сидел на берегу у самой воды, положив одну ногу ступней вверх на колено другой, и пытался вытащить что-то из босой подошвы. Он как ни в чем не бывало обратился ко мне:
– А, это ты, Северная Сова! Может, тебе эту проклятую колючку удастся разглядеть?
Впервые за эти два года он заговорил со мной.
Я опустилась на сухие камешки на берегу ручейка и стала исследовать его подошву, пока не обнаружила кончик вонзившейся в ногу колючки и не вытащила ее ногтями.
– Что ты здесь делаешь? – спросила я.
– Домой возвращаюсь, я в дозоре был, – ответил он. – Остальные уже давно вперед ушли, а мне пришлось с этой колючкой возиться. Спасибо тебе! – Он все еще продолжал сидеть, зажимая ногу в том месте, где была ранка.
– Почему ты ходишь босиком? – спросила я.
– А ничего, нам так положено, – равнодушно откликнулся он. Он сказал это совсем как тогда, когда был еще моим троюродным братом Хмелем, и смотрел на меня добрыми глазами. – А ты будешь танцевать на Празднике Воды? – спросил он. До праздника оставалось как раз девять дней. Я сказала, что буду, и он пообещал: – Я непременно приду сюда. В Синшане Танец Воды празднуют лучше, чем в Мадидину. К тому же здесь все мои родственники из Дома Синей Глины.
Я промолчала. Я ему больше не доверяла.
Ему очень шла одежда из некрашеного полотна. Единственной приметой того, что он из Общества Воителей, была шапка из шкуры черного козла, островерхая, как шлемы людей Кондора. Но шапку он почему-то снял. Потом, неуклюже помяв ее в руках, снова напялил на голову.
Воздух над Горой Синшан светился розовым, точно мякоть арбуза, и на диких овсах, что росли по склонам Большого Холма, лежал красноватый отблеск. Цвел дикий табак, наполняя воздух своим ароматом. Я сорвала на берегу листочек мяты и приложила к тому месту, где на его подошве, темной и загрубелой, выступила капелька крови.
– Я должна отнести кувшин с водой в свою хейимас, а потом еще сходить в хейимас Обсидиана, – проговорила я наконец. Я хотела, чтобы он понял: я собираюсь вступить в Общество Крови и получаю там соответствующие наставления. Да и вообще, лучше бы я поскорее ушла: я была слишком ошеломлена тем, что он заговорил со мной запросто, как прежде, и в то же время уходить мне не хотелось.
На этот раз он ответил не сразу. А когда наконец заговорил, голос его звучал по-доброму и задумчиво.
– А когда ты наденешь некрашеные одежды? – спросил он, и я сказала, что после Танца Воды, в следующее полнолуние. Он сказал: – Я приду на этот праздник. Я непременно приду в ваш дом Высокое Крыльцо! – и улыбнулся, а я впервые вспомнила, что ведь по случаю моего вступления в Общество Крови непременно устроят праздник, и я надену свои новые одежды – в знак того, что я стала взрослой.
Я сказала:
– Приходи. Мы напечем кучу пирожков с грибами.
Однажды, когда мы были еще детьми, во время Танца Солнца в Мадидину он один съел целое блюдо пирожков с грибами, прежде чем их успел попробовать хоть кто-нибудь еще, и его тогда несколько лет дразнили обжорой.
– Отлично! – сказал он. – Вот я их и съем. Ах, Северная Сова! И какой же ты тогда станешь?
– В основном такой же, как и сейчас, – ответила я.
– А какая ты сейчас? – Он смотрел прямо мне в глаза, пока я не отвернулась. Помолчав, он вдруг сказал: – Ах, Северная Сова! Иногда… – и вдруг умолк.
Я еще подумала – да и сейчас уверена в этом, – что тот человек, который выглянул тогда из его глаз, и был настоящий, а не тот, что считал себя Воителем и всегда от меня отворачивался, показывая, что он Мужчина и у него есть собственное «я». Наверное, потому, что он сидел на берегу ручейка, в него вселилась душа Воды. Я перестала его бояться и стала с ним разговаривать как ни в чем не бывало. Не помню уж о чем, но он охотно и спокойно отвечал мне, и мы так проговорили еще довольно долго. А когда роща земляничных деревьев у вершины Большого Холма на фоне закатного неба стала казаться черной и тот розовый волшебный свет погас, мы побрели по тропе над речкой, я впереди, он следом, а иногда, если тропа была достаточно широкой, шли рядом. Когда мы поднялись на площадь для танцев, вечерняя звезда уже ярко горела в небесах, а звезда Добра сияла над черными силуэтами эвкалиптов. Мы вместе прошли мимо городского Стержня, и он сказал еще раз:
– Я непременно приду на праздник, – и пошел дальше к мосту. Я отправилась к себе, в дом Высокое Крыльцо, чувствуя, что невероятно изменилась с тех пор, как сегодня вышла из этого дома.
Все четыре ночи Копье приходил в Синшан на Танец Воды, а потом пришел, как и обещал, в дом Высокое Крыльцо на мой праздник в честь вступления в Общество Крови. Праздник был скромный, ведь у меня было только полсемьи, да и та небольшая, и не все в ней были достаточно щедрыми или общительными людьми; но Девять Целых спел для меня Песнь Отцов и подарил мне фарфоровую чашку, украшенную глазурью цвета крови – эту краску делали с примесью ртути, которую добывали в Горе Синшан; а бабушка подарила мне свое бирюзовое ожерелье, привезенное с Оморнского Моря. Я надела тонкую рубашку из некрашеного полотна, которую мать сшила специально для меня из той ткани, хлопок для которой я старательно собирала и пряла еще в прошлом году, потом – пышную, с тремя оборками юбку и верхнюю рубаху с длинными рукавами, а поверх всего еще и жилет из очень мягкого гладкого льна, который подарила мне Ракушка. Я напекла немыслимое количество пирожков с грибами – так много, что потом мы раздавали их целыми корзинами. Копье вел меня в танце первым. Он был искусный танцор и все время с улыбкой смотрел на меня поверх голов танцующих. В душе я уже называла его совсем другим именем, которое, по-моему, подходило ему куда больше, чем Копье: Взгляд Пумы.
Итак, я вступила в общество взрослых женщин, и из головы у меня не выходил танцующий горный лев. Это был недолгий счастливый период среди подступавших со всех сторон неудач и неприятностей, хотя, наверное, уже на следующий год я бы не назвала это время таким уж счастливым, ибо Копье снова отвернулся от меня. И вот тогда я решила, что в жизни моей вообще уже больше не будет ничего хорошего.
Я винила Общество Воителей за то, что они отняли его у меня, и это действительно было так, но, надо сказать, и его собственный Дом и семья в общем-то были виноваты не меньше. Мы продолжали изредка встречаться и разговаривать – чуточку чаще, чем просто случайно. Мне было пятнадцать лет, а ему семнадцать, мы считались дальними родственниками; нам было еще рано думать о любви, и даже если бы речь зашла о браке, родство наше сочли бы недостаточно далеким, чтобы можно было им пренебречь. Его сестра ревновала меня к нему и дружить со мной перестала. И кое-кто из его Дома в Мадидину и в Синшане был против меня: ведь если бы Копье на мне женился, он перешел бы в семью полукровки, дочери «человека-без-Дома».
Все это я знала, но мне на все было наплевать. Не думаю, чтобы меня в тот год интересовало что-то еще, кроме наших с ним отношений, и думала я только о нем одном, вот только не знаю, как это выразить словами. Пытаться изобразить на бумаге подобное чувство – это все равно что пытаться вспомнить, что ты чувствовал, будучи сильно пьяным, – так недолго и с ума сойти. Говорить о влюбленности можно, только если сам влюблен, а я больше никогда ни в кого не была влюблена с тех пор.
Во время Танца Луны все молодые Воители приняли что-то вроде обета воздержания; и с той поры Копье больше со мной не встречался, не смотрел на меня, проходя мимо, не отвечал, когда я с ним заговаривала, если – пусть изредка – мне удавалось его увидеть.
Как-то раз в отчаянии я пошла за ним следом в поля близ Мадидину в жаркий полдень одного из последних дней сухого сезона и сказала:
– Неужели такие храбрые мужчины боятся даже разговаривать с женщинами?
Он не ответил.
– Когда-то я в сердце своем назвала тебя одним священным для меня именем. Хочешь узнать, какое это имя?
Он снова промолчал, на меня и не взглянул и продолжал заниматься своей работой.
И я пошла прочь, оставив его там с мачете и корзиной среди длинноруких искривленных виноградных лоз. Крупные листья их цвета ржавчины были покрыты пылью. Дул сильный сухой ветер.
Поскольку Копье стал Воителем, я хотела, чтобы наши две жизни были настолько близки и похожи, насколько это возможно, и стала посещать собрания Союза Ягнят и училась у них в течение всего следующего года. Любовь во мне любила все, что любил мой любимый. Все мои мысли и чувства были заняты только им одним: я была служанкой своей любви и служила ей так же преданно и верно, как солдаты моего отца служили ему, своему командиру, – безоговорочно, беспрекословно. И я обнаружила примерно то же самое в Союзе Ягнят: там говорили о любви, о служении долгу, о покорности, о принесении себя в жертву. В тот год подобные идеи прямо-таки переполняли меня, и сердце мое билось тяжело и жарко от таких мыслей. Все казалось мне ничтожным в сравнении с этими благородными требованиями – любить, служить, подчиняться и приносить себя в жертву. Женщины из Союза Ягнят говорили мне, что нам не дано знать кодекс Воителей, так что единственный путь для женщины понять эту тайну – путь любви, служения и подчинения мужчине, который в такие знания посвящен. С этим я была абсолютно согласна, потому что Копье заслонил для меня весь белый свет, и остальное в те дни для меня просто не существовало. Тот год, что я провела в Союзе Ягнят, оказался сплошной ложью, отрицанием всех моих собственных представлений и моей сущности, но ведь все это было и никуда от этого уже не денешься. В жизни подростков многое носит такой двойственный характер; их выдумки зачастую правдивы, а их истины ложны, и как часто в нашем жестоком мире разбиваются из-за этого их сердца. Они летят, парят и тут же падают на землю; они все видят насквозь, но остаются слепыми. Союзы Ягнят и Воителей были как бы специально предназначены для подростков и для тех, кто оказался не в состоянии пока выбрать свой путь в жизни или просто вообще не хотел этого делать.
Поскольку я была внучкой Порчи и дочерью Зяблика, то в Союзе Ягнят мои позиции укреплялись быстро. Через несколько дней после разговора с Копьем на разогретых солнцем виноградниках я уже должна была руководить одной из церемоний седьмого дня, характерной для этого Союза: обрядом жертвоприношения.
Чувствую, не стоило бы мне писать, что там происходило. Несмотря даже на то, что никаких Союзов Ягнят больше не существует. И хотя все, что я напишу, вызовет ныне лишь любопытство, рука моя тяжело повисает в воздухе – ей не хочется выдавать тайну, которую я некогда во всеуслышание обещала сохранить. Никакой особенно страшной тайны там, разумеется, не было, однако обещание есть обещание.
Даже тогда все примерно представляли себе, что за церемонии совершаются в этом Союзе, потому что людям не раз приходилось видеть, как осуществлявший таинственный обряд принесения в жертву птицы или зверя выходит на улицу с окровавленными руками, ибо мыться ему запрещено: это служит еще одним доказательством священнодействия. И вот я, совершив обряд, вернулась в дом Высокое Крыльцо.
Бабушка как раз накрывала на стол к ужину; стол был покрыт старенькой, сотканной ею собственноручно скатертью из белого полотна, где синяя ниточка пропущена в каждом четвертом и каждом пятидесятом ряду; скатерть была хоть и старая, но мягкая и очень чистая. Я тупо смотрела на эту чистую скатерть, а бабушка сказала мне:
– Ступай сперва вымой руки, Северная Сова.
Она прекрасно знала, что мне не полагается смывать кровь с рук в течение суток, но это правило она ненавидела, как и все подобные правила Воителей и Ягнят. Она явно испытывала отвращение ко мне, и душа ее страдала от того, что ее внучка занимается подобными вещами. Я это понимала. Мне тоже было противно, я тоже страдала в душе и тоже была исполнена ненависти. Но я ответила ей:
– Я не могу.
– В таком случае ты не сможешь есть за этим столом, – отрезала бабушка. Голос ее, и губы, и руки дрожали. Видеть ее мучения мне было невыносимо.
– Я тебя ненавижу! – крикнула я и, выбежав из дому, бросилась через площадь к мосту. Почему я пошла этим путем в сторону Долины, а не холмов, понятия не имею. Я перешла по мосту на другую сторону Ручья Синшан и увидела на берегу среди жеребят и ослов высокого гнедого коня. Я так и застыла, уставившись на него. И вдруг из-за амбаров вышел отец и поднялся наверх ко мне.
Он оторопело смотрел на меня – зареванную, всю перепачканную кровью чуть ли не до ушей. Я видела, что он меня не узнает. И сказала:
– Я же твоя дочь!
Он подошел ближе и взял мои руки в свои. И тут я зарыдала в голос. Мимо нас по дороге прошли с полей домой несколько человек, и один из них сказал:
– Значит, ты все-таки вернулся, мужчина из дома Высокое Крыльцо! Хороший же день ты для этого выбрал.
Я сдержала рыдания, и мы с отцом пошли вверх по склону холма, вдоль террас виноградников, откуда были видны первый ряд домов Синшана и поля, залитые полуденным солнцем. Лето в тот год было жаркое, засушливое. Лесные пожары пылали за северо-восточными вершинами, и порой было не продохнуть от запаха дыма и гари, и в дымном мареве гряда холмов на северо-востоке казалась серо-голубой ленточкой в серо-голубом небе.
Отец сперва решил, что я поранилась, и пытался выспросить у меня, что случилось. Но я не могла рассказать ему всего, что случилось за это время. И сказала только, что поссорилась с бабушкой.
Он уже немного подзабыл наш язык и с трудом подыскивал слова. Я наблюдала за ним. На лбу у него появились залысины, так что лицо стало как бы еще длиннее, и выглядел он очень усталым, но показался мне еще шире и выше, чем помнилось, хотя сама я за это время успела подрасти и превратиться из ребенка в девушку.
– Я пришел, чтобы поговорить с Ивушкой, – сказал он.
Я только головой покачала. Слезы вдруг снова потекли у меня по щекам, и он, увидев это, решил, что Ивушка умерла, и даже слегка застонал.
– Нет-нет, она по-прежнему с нами, в Доме Синей Глины, – поспешила я успокоить его, – но только она больше не Ивушка; она взяла свое первое имя – Зяблик.
– Она что же, замуж вышла? – спросил он.
– Нет, – сказала я, – она никогда не выйдет замуж. И никогда не станет говорить с тобой.
– Я никак не мог прийти раньше, – сказал он. – Ты это понимаешь? Мы вынуждены были отвести армию не на Побережье Амаранта, а далеко на север. – И он рассказал мне, где был, назвал множество таких мест, о которых я даже не слышала, и снова повторил: – Я никак не мог прийти тогда, когда обещал. Я хочу ей все это сказать.
Я снова покачала головой. Но выдавить из себя сумела только одно:
– Она все равно не станет говорить с тобой.
– Да и правда, с какой стати ей говорить со мной теперь? – сказал он безнадежно. – Глупо было вновь возвращаться сюда.
Я почувствовала, что он вот-вот уйдет навсегда, и закричала что было сил:
– Но ведь я же с тобой разговариваю! Я ждала тебя, ждала! Я ждала, когда ты вернешься!
И он отвлекся наконец от своих мыслей и внимательнее посмотрел на меня, потом назвал меня по имени: Северная Сова.
– Я уже не Северная Сова, – возразила я. – Я больше не ребенок. Я вообще никто. У меня даже имени нет. Я дочь Кондора.
– Да, ты моя дочь, – подтвердил он.
И я сказала:
– Я хочу пойти с тобой.
Он сперва не понял, что я имела в виду, потом изумился:
– Но разве мне позволят сделать это? Они же непременно станут тебя удерживать. А я должен уходить не сегодня, так завтра. Они ни за что не отпустят тебя неведомо куда.
– Я уже взрослая, – твердо сказала я, – и сама принимаю решения. Я пойду с тобой.
– Но ты же, наверно, должна спросить людей из своего Дома?
– Им я скажу о своем решении. А спрашивать я должна только тебя одного! Возьмешь меня с собой?
Больше всего на свете мне не хотелось, чтобы он шел к дому Высокое Крыльцо, к моей матери. Я словно старалась собою подменить ее. Тогда я этого еще не понимала, но бессознательно действовала именно так. Отец некоторое время раздумывал, глядя через Долину на далекую Гору Души – вулкан с ровной плоской вершиной. Дымок над ней был слабо окрашен в розовый цвет. Наконец он сказал:
– Мне, наверно, нужно все-таки попросить Ивушку отпустить тебя со мной. А это действительно правда? То, что она не станет говорить со мной?
– Это правда, – искренне откликнулась я.
– И правда, что ты ждала меня? – сказал он, снова внимательно на меня гладя.
– Дай мне имя, – потребовала я.
Он понял не сразу, но потом надолго задумался и наконец проговорил:
– Хочешь такое имя: Айяту?
– Хорошо, отныне мое имя Айяту, – сказала я.
Я тогда даже не спросила, что значит это слово; для меня в тот миг оно означало доброту отца и мою собственную свободу.
Уже потом, когда я научилась говорить на его языке, я узнала, что айяту означает примерно «удачно родившаяся женщина» или «женщина, рожденная быть выше других». Это имя часто давали в семье моего отца. Его же собственное имя было Тертер Абхао, и, приняв имя своего отца, как то делают дочери и сыновья настоящего мужчины, принадлежащего народу Кондора, я стала теперь Тертер Айяту.
– Когда вы отправляетесь? – спросила я отца.
Вместо ответа он спросил:
– Ты умеешь ездить верхом?
– Да, на осле, – сказала я. – А раньше я часто ездила вместе с тобой на твоем коне.
Он снова долго смотрел на крыши домов Синшана, потом сказал:
– Верно. Во время всех последних войн я вспоминал об этом. Много, много раз вспоминал. Маленькую девочку, что сидела передо мной в седле. И те дни здесь, в Долине, – это лучшие дни моей жизни. И не повторятся больше никогда!
Я молчала, и он сказал:
– Я приведу тебе лошадь. Встретимся на восходе солнца, послезавтра. Здесь. – Он указал на мост, где мы с ним встретились. – А в этот город я не пойду! – вдруг вырвалось у него. Его печаль и любовная тоска превращались в гнев и желание поскорее уйти. Он проделал долгий и трудный путь, надеясь увидеть свою жену, но так и не пошел повидаться с нею. В течение своей долгой жизни потом я часто вспоминала, как мы сидели с ним тогда на склоне холма, и все пыталась понять, почему мы говорили и вели себя так странно. Мы оба словно были больны, и болезни наши говорили за нас друг с другом. Мы вроде бы должны были выбирать сами, однако выбор совершался без нашего участия. Я льнула к нему, хотя более сильной из нас двоих была именно я.
– Скажи им, что собираешься уехать со мной, – проговорил он. – Если они позволят это тебе, сразу же уходи из дому. Отправляйся в свою хейимас. Учти: это будет долгое путешествие, и ты, может быть, много лет не сможешь побывать здесь, дочка.
Он был прав, и я поступила так, как он мне велел. Через день, едва лишь забрезжил рассвет, бабушка отправилась в нашу хейимас со мной вместе. Мы наполнили бассейн водой и спели песнь Возвращения. Она синей глиной с берега Ручья Синшан нарисовала знаки хейийя-иф у меня на щеках. Мы с ней вышли из хейимас, когда в небе уже полыхала заря. Мать ждала нас на центральной площади вместе с Утренним Жаворонком и Сверчком. Все они пошли к мосту со мной вместе; однако на этот раз мы не стали приседать на корточки, мочиться и смеяться перед прощанием, потому что Кондор уже ждал меня верхом на своем огромном коне. Те, кто провожал меня, остановились у начала моста. Я быстро обняла их всех и побежала по мосту к отцу. Он смотрел на мою мать, но она отвернулась и на него даже не взглянула. Потом он помог мне взобраться на лошадь, которую привел для меня, и мы отправились в долгий путь через поля Синшана.
Дом Воссоединения, где мы учились, как нужно готовиться к смерти, в тот год был построен на внутренней стороне горы, среди садов, там, где Ручей Хечу встречается с Ручьем Синшан. Мы проехали мимо этого Дома, как раз когда над окружавшими Долину вершинами показалось солнце. Я на ходу спела солнцу хейю. Миновав виноградники, мы выехали к Старой Прямой Дороге и двинулись по ней дальше на северо-запад до Ама Кулкун. Лошади бежали быстро. Отец привел для меня гнедую кобылку, не такую высокую и более изящную, чем его мерин. Он все время держался со мною рядом, был очень внимателен и подсказывал, как лучше держать колени и как пользоваться поводьями и стременами. На лошади в седле ехать было куда легче, чем на осле да еще охлупкой: спины у ослов костлявые, а нрав упрямый. Моя же кобылка вела себя достойно и была очень послушной, а седло – удобным. Еще до полудня мы миновали Телину, потом Чукулмас и Чумо и даже Кастоху. Когда мы свернули на Горную Дорогу, над перистыми травами, сверкая, взметнулся Большой Гейзер. Сердце перевернулось у меня в груди при виде этого зрелища. Я вспомнила старика, что подарил мне целебную песню. Но тут же постаралась выкинуть из головы все мысли и о старике, и о песне. Мы перебрались на другой берег Великой Реки На по Дубовому Мосту, и я про себя провозгласила ей хейю. У подошвы Ама Кулкун нас поджидали пятеро всадников и две запасные оседланные лошади; люди Кондора приветствовали отца. Мы остановились в дубовой роще Тембедин, чтобы поесть, а потом начали подъем по дороге, ведущей к Чистому Озеру. На развилке, где дорога на Вакваху и к Истокам Реки На уходила влево, мы поехали вправо, вдоль полотна рельсовой дороги до городка Метули, и там свернули на более короткую дорогу.
Незадолго до наступления ночи мы остановились, чтобы разбить лагерь в дубовом лесу, и отец, смеясь, вынужден был сам снимать меня с лошади. Ноги и ягодицы у меня совершенно одеревенели и вскоре начали невыносимо болеть. Люди Кондора немножко подшучивали надо мной, но очень осторожно. Они обращались со мной вроде бы как с ребенком, но в то же время с каким-то подобострастием, что ли; и они шлепали себя по лбу рукой, когда заговаривали со мной, точно так же, как при обращении к моему отцу. Мы вдвоем сидели немного в стороне от остальных и бездельничали – ждали, пока наши спутники разожгут костер, приготовят обед и постелят нам постели.
Поев, я немножко поговорила со своей кобылкой. Теперь и я пропахла конским потом; мне этот запах нравился, как нравилась и моя лошадка. Мне еще никогда не удавалось так легко с кем-нибудь подружиться. Отец долгое время беседовал с одним из своих людей, который завтра должен был отправиться совсем другим путем, и давал ему различные поручения; их было, пожалуй, чересчур много, чтобы сразу все запомнить и удержать в голове. Отец заставил гонца повторить все, что ему было велено, и они все еще, по-моему, занимались этим, когда я вернулась к костру. Было ужасно скучно слушать их разговор, поскольку языка Кондора я не знала. Наконец, когда отец отпустил этого человека, я спросила его:
– Почему же ты не сделал для него списка всех своих поручений?
– Он не умеет читать, – коротко ответил отец.
Ну, если он слепой или слабоумный и потому не умеет читать, подумала я, то разве можно отправлять такого посланника? Да еще с целой кучей поручений. Но я что-то не заметила в нем особых физических недостатков, о чем и сказала отцу.
– Письменность священна, – сухо ответил он.
Ну, об этом я уже догадалась.
– Покажи мне, пожалуйста, как вы пишете, – попросила я.
– Письменность священна, – повторил отец. – Она не для онтик. Тебе вовсе не требуется уметь писать!
Теперь я перестала что-либо понимать и удивленно заметила:
– Но мне же нужно знать ваши слова, чтобы уметь говорить, верно? Что такое, например, онтик?
И тут он начал учить меня своему языку, языку народа Дайяо – как сказать «еду верхом на лошади», «вижу скалу» и тому подобное.
Ох и холодно было ночью в предгорьях! Люди Кондора сидели возле костра, но на расстоянии от нас, и беседовали. Отец порой тоже вставлял краткие реплики чрезвычайно важным тоном. Он дал мне немного горячего бренди, и я, согревшись, уснула на руках у Горы-Прародительницы. Наутро отцу пришлось подсаживать меня в седло, но стоило нам немного проехать, как мне стало гораздо легче, кровь резвее побежала по жилам, и я почувствовала себя в седле легко и удобно. Так туманным осенним утром поднимались мы к перевалу, следуя путем Белой Пумы.
От людей из Общества Искателей я раньше слышала, что они каждый раз, когда покидают Долину, несмотря на все их многочисленные путешествия, испытывают боль в сердце, или звон в ушах, или даже головокружение – всегда бывает какой-то знак. Историк из Общества Искателей у нас в Синшане говорил, что он всегда чувствовал, что входит в Долину, ибо в течение девяти вздохов ноги его как бы не касались земли; но когда он покидал Долину, то в течение девяти вздохов шел, как бы проваливаясь в землю по колено. Может, потому, что я ехала верхом, а может, из-за присутствия людей Кондора или потому, что я сама была дочерью Кондора, мне никаких таких знаков дано не было. Лишь коснувшись своих щек и не ощутив под пальцами шероховатых меток, сделанных синей глиной Синшана, я немного приуныла и сердце мое болезненно сжалось. И чувство это не покидало меня, пока мы, перевалив через вершину, спускались по внешней стороне Горы-Прародительницы.
Места, что лежат между Ама Кулкун и Чистым Озером, очень красивы и немного похожи на нашу Долину: скалы, фруктовые сады, люди, похожие на наших, такие же города и фермы. Мы ни у кого здесь не останавливались, и не гостили, и даже не разговаривали нигде ни с кем; когда я спросила отца, почему это, он ответил, что эти люди как бы не в счет. Мы ехали, словно попав в другой Дом, не пользуясь человеческой речью. Я подумала: может, поэтому их и называют Кондорами, что они как бы парят в молчании выше всех остальных?
Потом, когда мы ехали по золотистым холмам на северо-восток от Чистого Озера и особенно когда ложились спать на третью ночь, я поняла, что Долина осталась далеко позади и я больше не чувствую ее живого тепла. Мое собственное тело словно тоже осталось где-то там – ступни стали притоками Реки, артерии и сердце – площадями и ручьями, а кости – скалами; голова же казалась мне самой Горой-Прародительницей. Все мое тело целиком находилось в Долине, я же, лежа рядом с отцом, была всего лишь духом, легким, как воздух, с каждым днем все дальше и дальше отлетающим от своего тела. Однако некая длинная и очень тонкая нить связывала мое тело и душу – нить боли. Потом я все-таки уснула, и на следующий день снова села на лошадь, и продолжила свой путь, и разговаривала с отцом, обучаясь его языку, и мы часто смеялись. Но я все время чувствовала, что я – это как бы не совсем я, что это не мое тело, и сама я ничего не вешу подобно невесомой, бесплотной душе.
Я действительно сильно похудела за время этого долгого путешествия. Пища этих Кондоров мне совсем не нравилась. Они взяли с собой сплошную вяленую говядину, хотя по пути порой убивали корову или овцу, пасшихся на высокогорных лугах. Разумеется, без их просьбы я сама всегда подходила к убитому животному и говорила ему нужные слова. Сперва я думала, что здешние люди великодушно дарят нам этих животных, и все удивлялась, почему никак не могу увидеть самих этих людей и почему они никогда не дают нам ни овощей, ни зерна, ни фруктов, тем более что сейчас время урожая. Потом я как-то раз увидела, как двое из нашего отряда убили у самой тропы отбившуюся от стада овцу и, не сказав ей ни словечка, обрубили у нее ноги, чтобы их пожарить для себя, а остальное – ее голову, копыта, внутренности и саму тушку – бросили на растерзание койотам и мясным мухам. В течение нескольких дней у меня не выходило из головы это зрелище; и баранины этой есть я не стала.
И много, много раз потом за то долгое время, что я прожила среди людей Кондора, я старалась выбросить из головы то или иное событие, приговаривая: «Ничего, я после подумаю об этом», однако не желая ни думать, ни вспоминать об этом никогда. Впрочем, в тех чужих краях все происходило как бы помимо меня, я не могла и не хотела впустить в свою душу многое; ну а когда оно все-таки туда проникало, я порой чувствовала, что у меня и вовсе нет никакой души, а ведь известно, что именно внимательная и чувствительная душа говорит разуму: «Помни!» Теперь вот я пытаюсь записать историю того моего путешествия на северо-восток, воскресить все это в своей памяти, однако значительная часть моих воспоминаний о годах жизни с народом Дайяо утрачена, и воспоминаний этих не вернуть никогда. Я не смогла тогда впустить их в свою душу.
Я с удивительной ясностью вспоминаю наш путь верхом. Мы растянулись длинной вереницей по последним морщинам холмов, с которых была как на ладони видна широкая долина Болотной Реки, простиравшаяся к северу и востоку; где-то далеко на юго-востоке в светящейся дымке терялся берег Внутреннего Моря. Широкие полосы солнечного света лежали на раскидистых ивах, росших вдоль берегов реки, на покрытых цветущим камышом болотах, на дальних склонах Гор Света, вершины которых уходили куда-то под самые облака. Я спела молитву этой реке и всему огромному и прекрасному миру и еще солнцу, готовящемуся перейти в свое зимнее жилище. А ночью пошел дождь. И шел весь следующий день, и потом тоже – все время, пока мы двигались вдоль Болотной Реки на север то верхом, то пешком.
Под дождем мы перебрались на другой берег этой широкой реки вброд – в том месте она растекалась на множество мелких рукавов, так что лошадям не пришлось даже плыть; то были первые дни столь рано в этом году наступившего сезона дождей. У брода к нам присоединился еще отряд воинов Кондора из двенадцати человек, и теперь нас стало совсем много – девятнадцать человек, двадцать пять лошадей и еще одна кобыла с маленьким жеребенком. В пути люди Кондора часто пели свою песню:
Туда, где Столица, иду я, Туда, где Кондор, иду я, Туда, где битва, иду я.Они вставляли в эту песню любые первые попавшиеся слова и распевали, например: «Туда, где пища, иду я» или «Туда, где женщины, иду я» и так далее, двигаясь гуськом по тропе.
Среди затяжных дождей выдался, помнится, один день, когда небо немного очистилось от туч, и мы на юго-востоке увидели Кулкун Вен, Гору Искателей, выпускающую струи вонючего дыма прямо в небеса. Отовсюду из трещин в скалах возле темного жерла вулкана тоже выползали дым и пар, и в воздухе сильно пахло тухлыми яйцами, ибо ветер дул в нашу сторону. Мы приближались к Стране Вулканов. Я очень их боялась, и всю ночь мне мерещились разверзающиеся прямо подо мной страшные трещины, из которых вырываются клубы горячего пара, обжигающие и удушливые, но я ничего никому не говорила о своих страхах. На следующий день совсем развиднелось, и, глядя с холмов на север, я увидела Северную Гору, словно свисавшую с небес, всю в потеках снега над темными лесами. Одно чистое тонкое перышко дыма поднималось над ее восточной вершиной в белой шапке снегов, словно перо с грудки белой цапли. Поскольку гора эта была удивительно красива и поскольку я знала ее название благодаря картам и тем историям, которые ученикам рассказывают в хейимас, вид ее привел меня в полный восторг: я ее узнала! Я сидела верхом на своей кобылке и с упоением пела Северной Горе священную хейю, когда отец остановил своего коня рядом со мной и сказал:
– Это Цатасиан, Белая Гора.
– Или Кулкун Эраиан по-нашему. Здесь встречаются руки Вселенной! – откликнулась я.
– Я целых десять лет воевал за земли, что расположены вокруг этой горы, отвоевывая их для Великого Кондора, и теперь эта война наконец завершена, – сказал он. Он употребил свое слово зарирт, которое я выучила, играя с солдатами в кости; оно означало «выигрывать в игре», нечто подобное нашему слову думи. Я не совсем поняла его из-за этого слова: что это за «игра», в которой он выиграл? И как это ему удалось выиграть такой огромный кусок мира? И у кого? И зачем это ему нужно? Я попыталась все это выяснить, и он сперва старательно объяснял, но вскоре начал терять терпение из-за моей непонятливости.
– Смотри: все, что ты видишь перед собой, – это земли, которые завоевали армии Кондора, – сказал он. – Как ты думаешь, почему эти онтик больше в нас не стреляют?
– Но они и так стреляли в нас только один-единственный раз, – сказала я. Это случилось, когда мы, повернув, двинулись вдоль Темной Реки. Какие-то люди, скрываясь в зарослях ивняка, обстреляли нас из луков, а потом убежали прочь, когда солдаты Кондора попытались поймать их. Отец тогда велел своим людям прекратить преследование и ехать дальше, и они галопом промчались мимо нас в хвост отряда, веселые и очень возбужденные, но совершенно не испуганные происшедшим, хотя я, конечно же, никогда в жизни и представить себе не могла, что стану участвовать в перестрелке.
– Это потому, что они нас боятся, – сказал мой отец, словно не слыша моих слов.
И я сдалась и не пыталась больше понять его странные речи. Честно признаюсь, отчасти моя «тупость» была вызвана тем, что я и не желала его понимать. Люди умные и образованные, читая мой рассказ, непременно станут надо мной смеяться: ведь я много дней ехала верхом вместе с вооруженными людьми, солдатами, с целым отрядом воинов, предводителем которых был мой отец, и не раз видела, как солдаты крадут коров и овец, но никогда не зайдут ни в один дом и не попросят по-хорошему; мало того, мы попали в настоящую засаду, но я все еще не понимала, что люди Кондора находятся в состоянии войны со всеми жителями этих краев, что они здесь – ненавистные завоеватели. И читатели имеют полное право смеяться. Я была чрезвычайно невежественна, а сама не желала даже подумать как следует.
Но вот, пробираясь среди холмов в предгорьях, мы стали проезжать мимо таких деревень, жители которых выходили нам навстречу и падали перед нами ниц, а вовсе не бросались поскорее прятаться в горах или прятать там своих овец. И никто из них не поворачивался к нам спиной и не плевал нам вслед. Эти деревушки, правда, были очень малы – пять-шесть бревенчатых домов вдоль берега ручья да возле них несколько овечек, свиней или индюков и множество лающих и рычащих собак. Но люди там были очень щедрые, как мне показалось; они давали нам еду даже в том случае, если нас было больше, чем жителей всей деревни. После двух дней пути по этой холмистой и какой-то переломанной стране мы добрались наконец до Южного Города – Саиньяна.
Слово «саи» в языке Дайяо означает то же самое, что и наше слово кач (город, столица). Мы пользуемся им, только когда говорим о некоем месте вне нашего мира, вне нашего времени, существующем в воспоминаниях, когда говорим о людях, что живут за пределами нашего мира, а также – о Сети Обмена Информацией. У Дайяо тоже были такие значения этого слова, но главным образом они использовали слово саи, обозначая место, где жили сейчас, говоря, например, что они жители Столицы Человека. То, что для нас было несчастьем, для них составляло славу. Как же мне писать об этом, если одинаковые слова в наших языках имеют совершенно обратное значение?
Члены Общества Земляничного Дерева просили меня в дар библиотеке написать историю моей жизни, потому что больше никто из Долины никогда не жил среди людей Кондора, а если и жил, то обратно не вернулся, так что моя личная история – это и часть нашей общей истории в целом. Теперь-то я весьма пожалела, что, вместо того чтобы учиться владеть словом, я с увлечением делала глиняные горшки, когда еще звалась Северной Совой. Ну а когда стала Айяту, я должна была забыть и о чтении, и о письме. Дайяо непременно выкололи бы глаз или отрубили руку любой женщине или простому земледельцу, если те напишут хоть слово. Лишь Истинные Кондоры имели право читать и писать, да и из них, по-моему, только те, кого называют Воинами Единственного, то есть те, которые отправляют все местные обряды и по-настоящему учатся читать и писать свободно. Дайяо утверждают, что с тех пор, как Единственный создал космос, сказав Слово и описав Вселенную в своей Книге, писать или читать слова – это все равно что делить с Единственным власть, которая по праву принадлежит ему одному; лишь избранным дано разделить с ним эту власть. Они пользуются абаками, верхними частями капителей, устраивая внутри них кабинеты для своих научных занятий, и в их обеих столицах есть специальные электрические приборы, созданные ими согласно инструкциям, полученным по Обмену Информацией, чтобы делать различные записи, однако все их записи сведены к перечням чисел. В них нет ни единого слова, благодаря чему, как они утверждают, мир, созданный Единственным, остается «чистым». Однажды, пребывая еще в полном неведении относительно этого, я в шутку спросила у отца:
– А что, если я напишу на стене какую-нибудь детскую страшилку? Неужели все твои свирепые и храбрые воины завизжат от страха и разбегутся?
И он сердито ответил:
– Они жестоко накажут тебя, чтоб знала впредь: Единственного следует бояться! – И больше ничего не прибавил. Тема была исчерпана, и я больше не возобновляла попыток писать, находясь под крылом Великого Кондора, и больше ничего отцу про это не говорила.
Когда я отправилась в путь вместе с Абхао, душа моя стремилась стать душой Кондора. Я честно старалась быть как все женщины Кондора. Я старалась даже не думать на языке Долины и не вспоминала ее обычаев. Я хотела навсегда расстаться с ней, перестать быть ее частью, более не принадлежать ей, стать совершенно другим, новым человеком, живущим иначе. Но не смогла сделать этого; только разумный, образованный и опытный человек способен на такое. Я же была чересчур молода и не слишком много размышляла о жизни, почти не читала умных книг, и не ходила на занятия в Общество Искателей, и совсем не интересовалась историей. Ум мой не обрел должной свободы. Он был заключен как бы внутри Долины, вместо того чтобы заключить Долину внутрь себя. Я оказалась слишком необразованной и неразвитой даже для своего юного возраста, ведь люди в Синшане, как и в большинстве маленьких городов Долины, сознательно культивировали невежество; к тому же в моей семье не было порядка и мира, а хуже всего было то, что культы Воителей и Ягнят и различные церемонии этих Союзов заменили мне образование в годы отрочества. Так что я оказалась не настолько свободна душой и разумом, чтобы навсегда покинуть Долину. Там я не успела стать настоящей личностью, но и на чужбине не смогла обрести себя.
Сколько бы я ни старалась, мне не удавалось стать такой же, как эти люди Кондора. Я буквально изводила себя, однако умирать у меня ни малейшего желания не возникало.
Писать о том, как я была Айяту, почти так же трудно, как и быть ею.
Мне хотелось бы пояснить некоторые слова, которыми я буду пользоваться, описывая свою жизнь в стране Кондора. Это мы зовем их народом Кондора; их же самоназвание – Дайяо, Народ Единственного. Так я и буду называть их, ибо весьма сложно объяснить, в каких случаях они сами употребляют слово «Кондор» – Рехемар. Лишь один человек, которого они считают посланцем Единственного и которому служат, зовется Великим Кондором. Мужчины из некоторых знатных семей зовутся Подлинными или Истинными Кондорами, и они же, как я уже говорила, называются еще Воинами Единственного. Больше никто из людей не носит имени Кондор. Мужчины из менее благородных семей называются тьон, «земледельцы», и должны служить Подлинным Кондорам. Женщины из благородных семей зовутся Женщинами Кондора и должны служить Воинам Единственного, однако имеют право приказывать тьонам и онтик. Онтик – это все остальные женщины, а также все чужеземцы и все животные.
Сама по себе птица кондор на языке Дайяо называется вовсе не Рехемар, а Да-Онтик и считается священной. Мальчики из семей Подлинных Кондоров, чтобы стать мужчинами, должны непременно застрелить кондора или, по крайней мере, канюка.
Я с детства хранила то перо кондора, что попало ко мне когда-то, в своей корзиночке с крышкой среди прочих «драгоценностей»; к счастью, я никому не успела его здесь показать, ибо здешним женщинам не разрешается касаться перьев кондора и даже смотреть на кондора, парящего в небе. Им полагается прикрывать глаза и причитать, когда над ними пролетает Великий.
Легко отнести подобные обычаи к варварским, но кто на это осмелится? Прожив долгие годы как бы в Столице Человека, я не использую в своей истории слов «цивилизованный» и «варварский»; я просто не знаю, что они означают. Я могу писать только о том, что видела и знала сама, о том, что сама совершила, и пусть более мудрые люди найдут этому более точное определение.
Дайяо построили Южный Город примерно за сорок лет до того дня, как я там появилась. Они пришли в эти места из своей столицы и стали воевать с каким-то местным народом, который жил в маленьких городках и в деревнях у подножия гор к югу от Темной Реки, и одержали в этой войне победу. Неправда, что они поедают тела убитых врагов; это суеверие, возникшее из некоего символа. Однако они убивали и сжигали мужчин и детей, а женщин забирали в плен, чтобы мужчины Дайяо могли с ними развлечься. Этих женщин они запирали в загоны для скота вместе с животными. Некоторым из несчастных спустя некоторое время удавалось освободиться и жить как им хочется; однако их собственная прошлая жизнь была уничтожена, и больше не было места, куда они могли бы пойти, и женщины эти становились женщинами Дайяо. Я беседовала с некоторыми из них, и они порой рассказывали мне о том, кем были, прежде чем превратились в женщин Дайяо, однако по большей части говорить об этом они не любили.
Времена, когда Дайяо строили Южный Город, были весьма бурными, ибо тогда они воевали буквально со всеми на свете. Они говорили: «Великий Кондор правит от Оморнского до Западного Моря, от Северной Горы до Побережья Амаранта!» Они убили множество людей и причинили немало страданий жителям Страны Вулканов, разрушив их поселения, и заразили другие народы своей болезнью – страстью к завоеваниям. Впрочем, когда я появилась в Южном Городе, они уже умирали. Пожирали сами себя.
Теперь я это понимаю, но тогда не понимала. Я видела башни Южного Города, стены домов из черного базальта, широкие улицы, проложенные под прямыми углами друг к другу, великолепие и боевой порядок повсюду. Я видела замечательный мост над Темной Рекой и дорогу, прямую, точно солнечный луч, ведущую на север, в Столицу. Я видела разные машины и механизмы, приспособленные как для мирных дел, так и для войны, которыми они умело пользовались; все механизмы были очень хорошо отлажены и красивы внешне, удивительные творения. И все, что я видела, было поистине потрясающим – прямое, прочное, мощное, и я смотрела вокруг со страхом и восхищением.
У моего отца были родственники в Южном Городе, и мы поехали к тому дому, однако он оказался пуст.
Дайяо строят три вида домов. Деревенские дома очень похожи на наши; тьоны и онтик в городах живут в огромных длинных домах, в каждом по многу семей, как в хлевах или стойлах; а Истинным Кондорам принадлежат родовые особняки, вкопанные глубоко в землю, над которой возвышаются лишь невысокие каменные стены без окон и островерхие деревянные крыши. Внешне дома немного напоминают наши хейимас, однако внутри устроены совершенно иначе. Такой дом делится на столько отдельных помещений, сколько нужно его обитателям, с помощью подвижных деревянных перегородок и занавесей, которые можно прикрепить к специальным столбам и колоннам высотой футов в пять-шесть, поддерживающим крышу. Полы сплошь покрыты коврами, а стены – занавесями, которые часто собирают в пучок и прикрепляют к шесту, установленному в центре комнаты, так что образуется нечто вроде шатра или палатки. Дом Дайяо напоминает одновременно и зимнее жилище-землянку, и летний шатер воинственных кочевников из Травянистых Равнин, точно так же, как деревянные дома в Тачас Тучас напоминают поселения вдоль лесных рек близ северного побережья. Дом обогревается и освещается электричеством, электричество они получают с помощью мельниц и солнечных батарей; и когда такой дом обставлен красивой мебелью, украшен коврами и ярко освещен, он выглядит теплым и уютным, он словно обволакивает тебя своим теплом. Однако дом родственников моего отца в Южном Городе, куда мы приехали той ночью, оказался темным и сырым, там пахло землей и мочой. Отец долго стоял в дверном проеме и огорченно повторял, как ребенок: «Они давно уже здесь не живут!»
И мы вынуждены были отправиться в другой дом, чтобы поесть и переночевать. Отец оставил меня с тамошними женщинами, а сам вышел, чтобы поговорить с мужчинами. Женщины улыбались мне и пытались задавать вопросы, но все они были очень стеснительными, а я чересчур устала и тоже смущалась. Я никак не могла понять, почему они ведут себя так, словно меня боятся. Среди них я чувствовала себя тем ребенком, который впервые попал в богатый дом в Телине и боится всего на свете. Повсюду я видела металл, похоже, медная проволока была для них столь же привычна, как для нас нитки. И еще они отлично готовили; хоть пища и была мне незнакомой, однако по большей части она мне нравилась, и я ела с отменным аппетитом, особенно после вяленой говядины и краденых барашков, которыми в пути кормили нас солдаты. Но их благополучие не изливалось подобно реке, и отдавали они без удовольствия, без радости. Некоторые каждый раз, обращаясь ко мне, ударяли себя рукой по лбу, а другие вовсе не желали со мной разговаривать. Позже я обнаружила, что эти последние и были Женщинами Кондора, а те, что улыбались и ударяли себя по лбу, были онтик.
Я не слишком отчетливо помню те дни, что мы провели в Южном Городе. Отец мой был чем-то обеспокоен и рассержен, и я видела его только раз в день, успевая с ним лишь поздороваться. Все остальное время я проводила с женщинами. Я тогда еще не знала, что женщины Дайяо всегда держатся вместе и почти не выходят наружу. Услышав какие-то разговоры о войне и увидев, что город полон вооруженных солдат, я подумала, что, должно быть, за стенами дома уже идет война и эти женщины прячутся здесь и не выходят наружу, чтобы их не украли враги, ведь сами Дайяо чужих женщин крадут. Я все это себе представила довольно четко, а потом выяснила, что никакой войны даже поблизости от Южного Города нет и в помине. Я чувствовала себя полной дурой, но на самом-то деле оказалась права: женщины Дайяо всю свою жизнь жили как в осажденном городе. Я тогда подумала только, что раз так, то все они, должно быть, сумасшедшие. Мне все время приходилось проводить с ними в закрытых теплых комнатах, где ярко горели электрические светильники; я пыталась учиться их языку и еще училась шить. С шитьем у меня ничего не получалось, и я чуть сама с ума не сошла, занимаясь этим помногу часов подряд, хотя мне больше всего хотелось выйти на свежий воздух, увидеть солнечный свет, побыть с отцом или хотя бы просто в одиночестве. Но в одиночестве я не оставалась никогда.
Наконец мы покинули этот дом и этот город и двинулись на север. Я очень скучала по своей кобылке, живя в ловушке с вечно запертыми дверями, и каждый день мечтала снова на ней покататься, почувствовать ее запах на своих руках и одежде; и когда женщины велели мне сесть вместе с ними в крытую повозку, я отказалась. Тогда заговорила одна из старших Женщин Кондора и сурово приказала мне немедленно сесть в повозку. Я возразила:
– Разве я так уж немощна, или при смерти, или я младенец беспомощный?
Но, видимо, у них именно здоровые и сильные люди ездят в повозках на колесах, так что она моей шутки не поняла. И страшно разозлилась; впрочем, я тоже. Когда к нам подошел мой отец, я принялась объяснять ему, что хочу ехать верхом на своей гнедой кобылке. Он сказал только:
– Садись в повозку! – и сразу уехал. Он смотрел на меня, как на женщину среди прочих таких же женщин, как на глупую кудахчущую наседку среди выводка цыплят! Он променял свою душу на власть! Я некоторое время еще постояла, стараясь как-то обдумать его неожиданный поступок, а остальные куры и впрямь все продолжали квохтать и суетиться вокруг меня, а потом все-таки села в повозку. Весь тот день, тащась в повозке, я думала, думала больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, думала о том, как мне здесь остаться человеком.
Мы ехали не прямо на север, а свернули на широкую и гладкую дорогу, ведущую примерно на северо-запад. Женщины, сидевшие со мной в повозке, сказали, что мы едем на встречу с марастсо, с армией, и дальше двинемся с нею вместе, и действительно, через день мы встретились. Все военные отряды, которые до этого либо объезжали местные городки и отнимали там у людей продовольствие – «собирали дань», как у них это называлось, – либо стояли лагерями по берегам Темной Реки и оттуда выезжали в Страну Вулканов и отдавали различные приказы ее жителям – это у них называлось «поддерживать порядок в оккупированных районах», – теперь собрались в селении под названием Рембоньон, куда отправились и мы. Армией командовали несколько военачальников, или генералов, одним из которых был мой отец.
Эти отряды вели с собой огромное количество различных животных, а также с ними шли тьоны, которые сами привели скот и других онтик. Именно в этих лагерях я впервые встретилась с похищенными женщинами, которых мужчины Дайяо некогда выкрали из родного дома и теперь насиловали сколько и когда угодно. Некоторые из женщин, как я уже говорила, по собственной воле шли вместе с солдатами, и кое-кто из солдат мог даже отстать от войска и осесть на земле с какой-нибудь женщиной и их общими детьми. И вот я как-то раз что-то такое сказала об этих женах-онтик, и женщины из благородного семейства Цайя Беле, с которыми я путешествовала, очень смеялись над моим невежеством и объясняли мне, что Истинные Кондоры никогда не женятся на онтик, а только на Женщинах Кондора, дочерях других Истинных Кондоров. Все они были из таких семейств и очень этим гордились, как и тем, что просветили меня. Но я повела себя глупо. Я заявила:
– Но как же так? Ведь мой отец, Кондор Тертер Абхао, женат на моей матери, которая осталась там, в Долине!
– У нас это браком не считается, – мягко сказала одна из женщин. А когда я стала спорить, старая Цайя Майя Беле оборвала меня:
– Не спорь! Не существует браков между людьми и животными, девочка! Веди себя тихо и знай свое место. Мы до сих пор обращались с тобой как с дочерью Кондора, а не с дикаркой. Ну и веди себя подобающим образом.
Это была уже угроза. Пришлось обратить на это внимание.
Если бы не разговоры о взглядах Дайяо, которые мне так не нравились, я просто наслаждалась бы медлительным путешествием в Рембоньон. Меня не заставляли все время оставаться в повозке, хотя я должна была идти рядом с нею и не отходить далеко. По ночам солдаты натягивали огромные палатки, целый город таких палаток вырастал в считаные минуты. Внутри палаток было светло и тепло, женщины сидели кружком на толстых красных ковриках, стряпали, болтали и смеялись да попивали чай из ягод дикой вишни или медовое бренди; снаружи в холодных сумерках перекликались мужчины, ржали привязанные лошади, а из более отдаленных углов слышалось блеяние и мычание скота – там тьоны разожгли на ночь свои костры. Когда становилось совсем темно, люди у костров затягивали длинные, полные тоски и отчаяния песни, в которых, казалось, оживала сама пустыня.
Возможно, Дайяо просто должны были существовать в вечном движении; возможно, чтобы остаться здоровым, народ этот должен был кочевать, как то было прежде, когда они жили на своих землях, к северу от Оморнского Моря, до того как расселились на Травянистых Равнинах. Больше ста лет назад они единодушно подчинились одному из своих Великих Кондоров, у которого, по их словам, было «видение» и который заявил, что Единственный велел им построить город и жить в нем. Когда они сделали это, они заперли свою энергию в круге и постепенно начали утрачивать душу.
После Рембоньона огромная процессия из животных, людей и повозок потянулась через высокие пустынные холмы на северо-восток от Кулкун Эраиан. Вулканы курились вокруг нас. Стало холодно, ветер, дувший нам навстречу, принес черные тучи, стремительно мчавшиеся по небу. Пошел снег, и под падающими белыми хлопьями снега мы пересекли залитую черной растрескавшейся лавой равнину перед самой Столицей Кондора. Я еще никогда прежде не ходила по земле, усыпанной снегом.
Столица, Саи, была обнесена стенами с огромными красивыми воротами, охраняемыми стражей; за городскую стену были вынесены различные амбары, конюшни, хлевы, некоторые торговые лавки и длинные жилые бараки, а за воротами, внутри, улицы были прямыми и широкими, как те, что я видела в Южном Городе, только еще шире и длиннее. Та улица, что вела от ворот прямо в центр города, упиралась в громадное здание, где окна так и громоздились одно над другим. И все служебные постройки и жилые дома были здесь выше, прочнее и красивее, чем в Южном Городе. К Дому Тертеров в Саи примыкал собственный огромный сад, обнесенный стеной из полированного черного камня; крыша дома была из резного кедра, как и балконы и галереи; количество комнат в нем казалось бесконечным; комнаты, большие и маленькие, отгороженные ширмами уголки, укромные уютные альковы и бесчисленные повороты коридоров – все было без окон и тем не менее залито светом; в доме было тепло, как в шелковистом гнезде древесной крысы, что находится в самой сердцевине ее многоходовой высокой норы. В глубине дома располагались комнаты, предназначенные для женщин (женская половина). Туда отец сразу же меня и отвел. Когда он повернулся, чтобы уйти, я схватила его за руку и сказала:
– Я не желаю здесь оставаться. Пожалуйста!
Он ничуть не рассердился и пояснил:
– Ты теперь живешь здесь, Айяту. Это твой дом.
– Ты мой отец, – возразила я, – но это не мой дом.
– Это дом моего отца, – сказал он, – а потому он и мой, и твой тоже. Когда ты отдохнешь, я отведу тебя к деду. Ты должна постараться и выглядеть очень хорошо. Не вздумай плакать и попробуй все-таки отдохнуть как следует. Прими ванну, полежи, переоденься, познакомься с другими девушками. Они о тебе позаботятся. А я приду за тобой утром.
И он пошел прочь, а люди расступались перед ним и шлепали себя руками по лбу. Я так и осталась стоять вся в слезах, среди толпы женщин.
Женщины этого дома, дочери Кондора и онтик, были столь же различны, как овцы и козы. Ни одна из дочерей Кондора со мной не заговорила в ту первую ночь. Они предоставили меня заботам онтик. Я была этому даже рада, поскольку онтик вроде бы были немного похожи на женщин из Долины, только здешние онтик еще больше боялись меня, чем даже в Южном Городе. Я слышала, что сами они говорят обо мне, но, когда я заговорила с ними на их языке, они молча уставились на меня и не отвечали, пока я не почувствовала себя говорящим скворцом. Они ни за что не хотели оставить меня одну, но и подойти ко мне ближе тоже ни за что не хотели. Наконец вошла какая-то девушка, с виду примерно моих лет или чуть младше, которая быстро и смело заговорила со мной. Она вполне понимала то, что пыталась сказать я. Звали ее Эзирью. Она сперва отвела меня в ванную комнату, потому что после долгого путешествия и всех мытарств я была ужасно грязная, а потом выбрала для меня маленькую комнатку, где приготовила постель и после легла сама в той же комнате. Иногда она говорила чересчур быстро, и я не успевала разобрать слов, однако поняла все же, что она хочет подружиться со мной и будет мне верной подругой; с ней было так просто и так легко – в точности как с моей гнедой кобылкой.
После того как Эзирью расчесала мне волосы, я предложила:
– А теперь давай я расчешу твои.
Она засмеялась и сказала:
– Нет, нет, нет, дочь Кондора!
Без Эзирью я бы никогда не смогла жить в Доме Тертеров. Я делала то, что она мне советовала, и не делала того, против чего она меня предостерегала, и все получалось как надо. Она была моей рабыней, которой я повиновалась!
Было уже позднее утро, когда за мной пришел отец в восхитительных одеждах из шерсти с черно-красным орнаментом. Я подошла к нему, и он меня обнял, но тут же прокричал куда-то мимо моего уха:
– Почему Тертер Айяту Белела не подали соответствующих одежд?
Сразу началась бесконечная суета, беготня, и онтик и дочери Кондора, униженно шлепая себя по лбу, мигом одели меня во что-то вроде легкой пышной юбки и лифа и накинули на голову прозрачный шарф. Эзирью уже с утра причесала меня, уложив мне волосы по моде Дайяо, так что в этом отношении все было в порядке. Отец что-то еще сказал женщинам, отчего те съежились и стали прятать глаза, а потом взял меня за руку, и мы поспешили куда-то по анфиладе комнат и бесконечных коридоров. Шарф тут же слетел у меня с головы, и отец вернулся, подобрал его и сам надел мне его так, чтобы он прикрывал лицо. Сквозь него было видно достаточно хорошо, но, видимо, из упрямства я не желала в него кутаться и тут же сняла.
– Надень! – негромко, но твердо сказал отец. Он не приказывал мне, и в голосе его не звенел металл, однако отчетливо слышался какой-то нервный гнев: он волновался. – И больше не снимай! Прикрой лицо! Когда предстанешь перед моим отцом, поздоровайся с ним вот так, – он показал, как я должна шлепнуть себя по лбу, и заставил повторить этот жест.
Я все сделала, как он сказал. Меня мучил этот его страх.
Тертер Гебе был старый, но еще красивый и очень худой человек; держался он с огромным достоинством. В его присутствии мне было легко стать почтительной и оказать ему все необходимые почести и знаки уважения; он был похож на управляющего церемонией во время большой ваквы у нас в Долине, который сознает и собственное могущество, и значительность самого действа. Однако управляющий церемонией отдает свою силу другим, отказывается от своего могущества после окончания обряда, а Тертер Гебе всегда сохранял свою силу и свое могущество для себя самого – в течение шестидесяти лет. И все, что давали ему другие, он тоже сохранял для себя; и он считал, как и те, что давали, что все это по праву принадлежит именно ему. Я в это не очень-то верила, но, поскольку и могущество, и достоинство действительно в нем были, я его искренне почитала. И в тот день как истинная дочь Кондора выказала ему почтение, шлепнув себя рукой по лбу. И не убирала прозрачного шарфа с лица, пока он сам не поднял его и не стал пристально вглядываться в мои черты. Это оказалось нестерпимо тяжело – когда тебя вот так, совершенно беззастенчиво рассматривают. И вдруг он сказал:
– Этьехаразра пупутьела! – что означало «Добро пожаловать, внучка!».
Я ответила на его языке:
– Благодарю тебя, дедушка.
Он остро глянул на меня – взгляд его пронизывал насквозь. За все это время он ни разу не улыбнулся. Потом сказал что-то моему отцу, и я на слух запомнила звучание слов, чтобы потом спросить у Эзирью, что они означали. А означали они вот что: «Лучше поскорей выдай эту девушку замуж!»
Отец рассмеялся. Теперь он казался спокойным и счастливым. Мужчины некоторое время поговорили друг с другом. Я стояла там как привидение или как статуя, молча и неподвижно. Я старалась смотреть в пол, как это делают женщины онтик в присутствии Кондоров, но мне хотелось видеть своего деда. Каждый раз, когда я украдкой бросала на него взгляд, он его перехватывал. В конце концов, осторожно и медленно, я снова окутала лицо вуалью. Сквозь нее я могла смотреть на него сколько угодно, а ему не было видно, смотрю я на него или нет. Научиться быть рабыней очень легко. Уловки рабства похожи на блох, что прыгают с тушки мертвого бурундука на твою кожу, – оглянуться не успеешь, как уже болен чумой.
Поскольку Тертер Гебе признал во мне внучку, дочери Кондора в его доме отныне обязаны были общаться со мною как со своей ровней, а не как с животным или дикаркой. Некоторые были вполне готовы к этому и подружились со мной сразу, как только получили на то разрешение. Их жизнь на женской половине дома была очень скучна, утомительно скучна, и появление нового человека представлялось им огромным событием. Другие отнюдь не стали ко мне расположены больше прежнего. Мне бы хотелось, чтобы отец ничего им не приказывал на мой счет и не так сурово заставлял их проявлять ко мне должное почтение: он-то хотел помочь мне, защитить меня, но каждый поклон, трусливая заискивающая улыбка и шлепок по лбу в его присутствии оборачивались злобной насмешкой, или выговором, или еще какой-нибудь гадостью, когда он уходил, а я оставалась среди них одна. Все это было удивительно лживым и двусмысленным, но мне казалось, что только так и может быть в доме, устроенном по образцу наших загонов для химпи.
Мать моего отца давно умерла, и дед так больше и не женился; вдова брата моего отца была самой главной среди женщин этого дома. У Дайяо повсюду, казалось, должны были быть какие-то «самые главные». Если их случайно оказывалось хотя бы двое, то один, конечно же, доказывал, что он главнее другого. Все, что они делали, было как-то связано с войной. Даже когда они работали все вместе, один непременно становился «самым главным», как будто работа – это военные действия; даже когда дети играли, один обязательно указывал остальным, что и как нужно делать, хотя дети-то, в конце концов, из-за этого все-таки ссорились. Итак, моя тетка Тертер Задьяйя Беле была генералом среди женщин этого дома, и мое присутствие здесь было ей явно не по вкусу. По-моему, она стыдилась родства со мной какой-то онтик, полузверенышем. Все это, к сожалению, было мне слишком хорошо знакомо еще по моему детству в Синшане, так что тетку я ненавидела. Теперь я думаю, она меня просто боялась. Она видела во мне, чужеземке, варварке, животном, единственную дочь Кондора Тертера и боялась, что я захочу отнять у нее власть и высокое положение в доме. Если бы мы с ней могли работать вместе и разговаривать, то в конце концов лучше узнали бы друг друга и все бы понемногу наладилось, потому что она в общем-то злобной не была. Однако мешали их идиотские традиции. Понять друг друга мы не могли: она слишком ревниво относилась к собственному высокому положению и власти и слишком презирала меня. Она, например, ни за что не прикоснулась бы ко мне и старалась даже не подходить ко мне слишком близко, потому что я была пурутик – «нечистой».
Образ мыслей Дайяо, пути их души – это, наверно, самое главное, о чем я могла бы рассказать; кое-что я смогу, должно быть, поведать вам попутно с рассказом о своей собственной жизни среди них, но что касается их обрядов и ритуалов, их сокровенных верований и представлений, то здесь я сумела узнать лишь очень немногое. Книг там не было вообще. Чему и как учили мужчин, я понятия не имею. Девочек и женщин не учили ничему, кроме ведения домашнего хозяйства. Женщинам даже в собственном доме запрещалось посещать некоторые священные комнаты, которые они называли дахарда, самое большее – мы могли войти в вестибюль, куда выходили двери дахарда, и послушать пение, доносившееся оттуда во время некоторых праздников. Женщины не принимали никакого участия в общественной жизни Дайяо; их не только держали взаперти, но и как бы вне общества. И не мужчины, а именно женщины Дайяо сообщили мне, что у женщин вообще нет души. Из этого вполне естественно следовало, что пути души и душевные движения были им совершенно не интересны. Все, что мне удалось узнать, я узнавала по кусочкам, урывками, то там, то здесь, и эти отрывочные сведения никак не складывались в полную картину, так что вот самое большее, что я могу рассказать о духовном мире Дайяо.
Сперва существовало Ничто. Из него Единственный создал все. Единственный бессмертен и всемогущ. Все мужчины сделаны по его образу и подобию. Единственный – это не Вселенная, но он создал ее и повелевает ею. Вещи вообще не являются его частью, как и сам он не есть часть их, так что не должно восхвалять вещи; следует восхвалять только Единственного. Единственный, однако, обрел свое отражение в Великом Кондоре, так что Великого Кондора следует и восхвалять, и повиноваться ему. А Истинные Кондоры и Воины Единственного, которых называют еще Сыновьями Кондора или Сыновьями Его Сына, – это отражения Великого Кондора, в котором обрел свое отражение Единственный, и, стало быть, их тоже следует восхвалять и подчиняться им. Тьоны – это весьма смутные, слабые и совсем далекие отражения отражений Единственного, но даже и в них заключено достаточно его могущества, чтобы их можно было назвать людьми. Все остальные существа – это не настоящие люди. Онтик, в число которых входят женщины, чужеземцы и животные, вообще не имеют с Единственным ничего общего; все они пурутик – нечистые, грязные существа. Они были созданы Единственным, чтобы подчиняться и служить Сыновьям Его Сына. Именно так они утверждали, и тут я начинала немного путаться, потому что дочери Кондора вовсю командовали тьонами и говорили о них так, словно те были грязными животными; однако такие противоречия не волновали Дайяо: ведь все дочери Кондора жили в Столице и редко даже просто видели земледельцев-тьонов. Должно быть, многое было совсем иначе, когда Дайяо были кочевниками, но, возможно, отношение к тьонам и чужеземцам складывалось уже тогда. Вожди из ревности старались сохранить своих жен и дочерей «чистыми», а женщины сами держались подальше от чужеземцев, которых встречали в пути, и в конце концов сложилось мнение, что быть настоящим человеком – это главным образом стремиться выделиться и отделиться от всех и ото всего.
По мнению Дайяо, раз было время, когда Единственный создавал все сущее, то наступит и срок, когда все исчезнет, то есть Единственный уничтожит все созданное им. Тогда начнется Эпоха Безвременья. Единственный уничтожит на своем пути все, кроме Истинных Кондоров и Воинов Единственного, которые всегда и во всем повиновались ему и были его верными рабами. И тогда они сольются с отражением Единственного, станут частью Единственного и будут существовать вечно. Я уверена, что в этом еще следовало бы покопаться, чтобы понять до конца тайный смысл их учений; мне его выяснить не удалось.
Кое-какие знания, полученные мною в Союзе Ягнят в Синшане, схожие с тем, чему учат мужчин в Обществе Воителей, как оказалось, были основаны на сведениях, почерпнутых у людей Кондора в течение тех лет, когда они подолгу жили в Долине. Члены нашего Общества Воителей считали, что обладают истинными знаниями Кондоров. А на самом деле разбирались в этом даже хуже, чем я. Они считали, что мужчины лучше женщин и что все на свете, кроме Единственного и мужчин, в общем-то не имеет значения, однако во всем остальном страшно путались. По-моему, большая их часть не понимала даже такой простой вещи, что Единственный-то действительно только один. Наверное, души их и умы были для этого слишком грязными. Та часть представлений Дайяо, где говорилось насчет «нечистых», в какой-то степени была мне понятна. Для того чтобы хорошо отражать, зеркало должно быть совершенно чистым. Чем чище оно будет, чем яснее и святее, тем лучше будет отражение. Воины, Истинные Кондоры, могли быть отражениями Единственного, лишь очистившись от всего остального, что существует на земле, старательно вымывая его из своих душ и умов, убивая мир вокруг себя, чтобы самим оставаться абсолютно чистыми. Вот почему мой отец был назван «Убийцей». Он должен был жить вне мира, убив все вокруг и расчистив его пределы, чтобы ярче засияла слава Единственного.
Наверное, в моих словах есть доля издевки, но такова уж моя клоунская природа – я не могу без шутовства, без двусмысленностей. Вот у Дайяо никаких клоунов, шутов и шутовства не было и в помине: там не было ни превращений, ни двусмысленных шуток – все было прямолинейно, раз и навсегда определено, страшно!
Третья часть истории Говорящего Камня начинается на стр. 471 второй книги.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕАТРА В ДОЛИНЕ
Единственный постоянно действующий театр находился в Ваквахе, с северо-западной стороны огромной площади для танцев, и походил на хейимас, то есть основное его помещение было под землей, а крыша в форме ступенчатой пирамиды обеспечивала доступ достаточного количества воздуха и света. Зрительный зал имел форму широкого овала; сцена располагалась на возвышении; зрители сидели на удобных скамьях со спинками. В зале помещалось более двухсот человек.
В Кастохе и Телине специального здания театра не было, но имелись подмостки, которые хранились в разобранном состоянии, пока не требовались для очередного спектакля. Такая сцена состояла из двух больших платформ, соединяемых посередине круглой платформой меньшего размера, обычно возвышавшейся над первыми двумя на фут или чуть больше. Левая платформа выдвигалась чуть ближе к зрителям. Такую сцену устанавливали обычно на городской площади и, если это было необходимо, устраивали над ней навес.
В маленьких городах сцен не было вообще. Когда каким-либо Обществом или хейимас ставился спектакль или же в город приходили бродячие актеры, центральная городская площадь размечалась по форме хейийя-иф, и зрители размещались ближе к ее Левой Руке или точно такая же разметка делалась на полу какого-нибудь большого хранилища или мастерской.
Если же сцену все-таки строили, то старались достаточно приподнять ее над землей, чтобы музыканты, сидящие прямо перед нею на земле или на полу, не загораживали актеров. А если она была просто нарисована, то музыканты садились полукругом за ее центральной частью.
Левая часть сцены являла собой Землю, правая – Небо; центральная, приподнятая платформа должна была восприниматься как Стержень, хейийя-иф, как Гора или как Перекресток Путей.
СВАДЕБНАЯ НОЧЬ В ЧУКУМАСЕ
Спектакль «Свадебная ночь в Чукулмасе» обычно шел на сцене в Ваквахе перед ритуальным драматическим действом «Авар и Булекве», на второй вечер Танца Вселенной.
Рукопись пьесы, с которой был сделан данный перевод, принадлежала одному актеру и состояла только из реплик; ремарки относительно декораций и мизансцен сделаны самими актерами и затем, после просмотра спектакля, несколько расширены переводчиком.
Сцена должна быть разделена как обычно и представлять собой две Руки Вселенной. Стержень – это центральная, чуть приподнятая часть сцены. Земляничное дерево, которое непременно находится в центральной части сцены во время следующего за спектаклем ритуального действа, может быть установлено заранее – живое молодое деревце в большой кадке из древесины того же земляничного дерева. В этом спектакле левая часть сцены представляет собой город Чукулмас и внутреннюю часть дома, где проживают люди из Дома Змеевика; правая часть сцены – это площадь для танцев в Чукулмасе и выходящая на нее хейимас Дома Синей Глины; за помещенным в центральной части сцены земляничным деревом сперва проходит тропа, связывающая две Руки города, а позже там располагается дом Общества Черного Кирпича.
Музыканты играют «увертюру» – Мелодию Начал.
В левой части сцены появляются мужчины, поющие одну из песен Танца Вселенной, по традиции исполняемых на второй его день представителями Дома Синей Глины: это песни, посвященные тем животным, на которых охотятся, – например, Песня Танцующего Оленя или что-нибудь менее сложное, вроде Песни Белки:
Бегу вверх и вниз кекейя хейя, кекейя хейя, по стволу сосны, по своему миру кекейя хейя, по стволу сосны, по своему миру!Поющие мужчины минуют Стержень и выходят на площадь для танцев, окруженную пятью хейимас. С помощью жестов каждый из них по очереди показывает, что он спускается по лестнице внутрь хейимас. Когда все они спускаются в хейимас, музыка умолкает.
СПИКЕР ХЕЙИМАС:
– Настало время подать ужин каждому из тех мужчин нашего Дома, которые собираются вступить в брак. Теперь мужчина покинет жилище и Дом своей матери, но будет еще возвращаться туда, хотя всегда будет уходить снова, и лишь после смерти вернется он домой, в Дом Синей Глины. Сегодня вечером эти молодые мужчины покидают нас, чтобы впервые вступить в брак. Подайте же им свадебный ужин!
(Хор обычно состоит из девяти человек, но в данном случае в нем десятеро. Говорят хористы по одному, всегда по очереди, если в тексте нет иных указаний.)
ХОРИСТ 1:
– Все готово. Старики накрывают на стол.
СПИКЕР:
– Почему же ты им не помогаешь?
ХОРИСТ 1:
– Я подумал, что лучше съем этот ужин, чем буду подавать его другим.
СПИКЕР:
– Но ты уже три раза был женат!
ХОРИСТ 1:
– И только один раз мне был подан настоящий свадебный ужин. Стоило стараться!
СПИКЕР:
– Убери-ка руки от этих пирожков!
ХОРИСТ 1:
– Хорошо, хорошо, хотя для троих едоков здесь слишком много еды. Молодые идиоты! И чего их так тянет жениться? Единственная польза от брака – это свадебный ужин. А потом, парни, начинается совсем другая жизнь. Малютка-жена – о да, конечно, это приятно, ничего не скажешь! – но потом еще и теща, а это уже не так приятно, а потом еще и младшая тетушка милой женушки тут как тут, и старшая ее тетушка, что уже сильно портит настроение, ну а потом, потом появляется сама старуха – бабушка жены! О, вы еще не знаете, что творите! Вы еще понятия не имеете, во что вляпались! И ни одна не подаст вам ужин даже вполовину этого!
СПИКЕР:
– Все готово. Теперь самое время спеть женихам застольную песнь.
(Остальные хористы в это время разыгрывают пантомиму – изображают, как накрывают для пира столы. После этого Спикер и шесть человек из хора встают справа и поют первые слова Свадебной Песни, к сожалению, оставшейся незаписанной. Четверо хористов садятся напротив них – как бы за низенький пиршественный стол. Один из них сидит к зрителям спиной.)
ХОРИСТЫ (шепчут в унисон):
– А это кто такой?
СПИКЕР:
– Итак, вот четверо мужчин, собирающихся вступить в брак.
ХОРИСТ 2:
– Но мы готовили свадебный пир для троих!
СПИКЕР:
– Кто же это – вон там? Сидит он справа и одет в одежды прошлой ночи. Послушай, молодой жених, не можешь ты есть эту пищу, когда покрыты пеплом твои руки!(«Одежды прошлой ночи» – это траурные одежды, которые надевают члены Общества Черного Кирпича в первую ночь Танца Вселенной, во время церемонии Оплакивания Усопших. Четвертый юноша в тесных черных плотно облегающих ноги и руки одеждах, а босые ступни и ладони его натерты белым пеплом. Пока женихи не сели за стол, он прятался среди хористов. Теперь же всем виден его наряд и то, что лицо его скрыто под красивой тонкой черной вуалью.)
ХОРИСТ 2:
– Я принесу воды.
СПИКЕР:
– Омоешь ли ты руки
водой, налитой
из кувшина синей глины
в глиняную чашу?
ХОРИСТ 2:
– Ну вот, вода готова.
СПИКЕР:
– О, юноша, жених, не можешь ты жениться,
доколе ты в молчанье погружен!
(Четвертый жених не отвечает, а сидит и раскачивается из стороны в сторону – как люди во время церемонии Оплакивания Усопших, происходящей в первую ночь Танца Вселенной.)
СПИКЕР:
– О, юноша, назвать ты должен
своей супруги имя
и имя ее Дома.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЖЕНИХ:
– Ах, Бирюза зовут ее,
и Змеевик ей Домом стал.
ХОРИСТ 3:
– Этот человек, должно быть, из другого города, он так странно говорит. Возможно, он даже и не из Долины. Может, это человек, не имеющий Дома? Что он здесь делает? Зачем сюда явился?
ЧЕТВЕРТЫЙ ЖЕНИХ:
– Мой Дом – Дом Синей Глины.
И я пришел на собственную свадьбу.
СПИКЕР:
– Тогда садись за этот ужин —
мы в честь твою готовили его
в твоей хейимас Синей Глины,
в твоей земной обители,
а мы пока тебя представим
в песне твоей невесте, будущей жене,
и Дому твоему по браку,
в котором твои дети будут рождены.
(Спикер и хористы подают угощение четверым женихам, те с благодарностью принимают его. В это время в левой части сцены появляются женщины, и основное действие перемещается туда; мужчины из Дома Синей Глины неподвижно сидят или стоят на коленях в правой части сцены. С пением выходят женщины, бабушка невесты и хор из десяти, реже девяти женщин, исполняя одну из песен Второго Дня Танца Вселенной. В данном случае это песни Дома Змеевика – например, Перечисляющая Травы Песня. После того как все женщины выйдут на сцену, песня как бы замирает вдали, а женщины начинают живо и весело исполнять быстрый танец-пантомиму, имитирующий уборку дома.)
БАБУШКА:
– Пусть все скорей готово будет.
Давайте, милые, спешите, торопитесь!
ХОР (все фразы произносятся разными голосами):
– Куда же веничек для очага запропастился?
Постелена ль постель?
Я не могу найти веревку!
Да нет, зачем им эта лампа!
Я простыни им новые несу!
(И далее импровизируют в том же духе.)
Ну, вот и все готово!
БАБУШКА:
– Но где же наша детка,
где невеста наша,
что нынче станет мужнею женой?
(Две молодые хористки выходят вперед. Одна одета в яркое свадебное платье желтых, оранжевых и красных тонов, а вторая в темном траурном одеянии «прошлой ночи».)
ХОР (шепчут в унисон):
– А та, вторая, кто?
БАБУШКА:
– Подойди-ка ближе,
дай глянуть на тебя,
свет солнца летнего!
Ха, так это ж мой жилет!
И я в нем замуж выходила!
А кто ж вторая?
ПЕРВАЯ НЕВЕСТА:
– Не знаю, мама.
БАБУШКА:
– Ах, летняя заря, лучи восхода!
Что ж, этот человек из Дома Синей Глины
мудр и удачлив.
Мы рады его видеть.
И пусть с тобою вместе
живет под этой крышей
и в Доме своих деток.
Пусть он теперь войдет!
Пусть он войдет, жених твой!
ХОРИСТКА 1:
– Бабушка, послушай:
там есть вторая,
невеста – чужеземка!
БАБУШКА:
– Кто эта женщина?
(Вторая невеста стоит неподвижно и молча. Ее лицо покрыто тонкой черной вуалью.)
БАБУШКА:
– Ты, должно быть, ходила по углям очага, девушка: у тебя ноги перепачканы золой и пеплом. Ты, должно быть, сожгла хлеб, девушка: у тебя все руки в саже. А уж не лазила ли ты по деревьям, девушка? Вон у тебя царапина какая на лице. Не хочешь ли умыться перед свадьбой? Ты кто? Зачем пришла в мой дом? Сегодня Свадебная Ночь, вторая ночь праздника Вселенной.
ХОРИСТКА 2:
– Но почему она в слезах?
Ведь в Свадебную Ночь не плачут!
БАБУШКА:
– Ты из какого Дома?
ВТОРАЯ НЕВЕСТА:
– Змеевика.
БАБУШКА:
– А из какой семьи и где твое жилище?
ВТОРАЯ НЕВЕСТА:
– Дочь Паводка и
внучка Дикой Розы.
БАБУШКА:
– Я их не знаю, странно! И слышать о такой семье не приходилось у нас, в Чукулмасе. Должно быть, ты откуда-то еще? Ну так туда и возвращайся! Нельзя тебе здесь, в этом доме, выйти замуж. А кто твой суженый?
ВТОРАЯ НЕВЕСТА:
– Я выхожу за Грома
из Дома Синей Глины!
(Когда она говорит это, мужчины в дальней, правой части сцены встают и начинают двигаться к центру, медленно танцуя и тихонько напевая первый куплет Свадебной Песни.)
БАБУШКА:
– Я его не знаю. Нет в нашем городе такого! Должно, ты разум потеряла, незнакомка! А может, ты из леса и слишком долго прожила одна? Ты перекраиваешь мир, а этот мир нас создал! Сегодня мы танцуем в его честь. Танцуй же с нами вместе, но прежде сними одежды черные, умой лицо и руки, но только замуж выйти в этом Доме ты не можешь: здесь не твое жилище, и не твоя семья, и мужа для тебя здесь нет.
ВТОРАЯ НЕВЕСТА:
– Я мужа приведу сейчас
в дом нашей дочери.
ХОР (шепчут в унисон):
– В дом ее дочери! (и т. п.)
БАБУШКА:
– О чем ты говоришь? Ведь это невозможно! Ты, верно, все-таки сошла с ума. Довольно, хватит, уходи теперь. Ну, что ж ты ждешь? Ступай! Туда вернись, откуда ты сюда явилась. Ты праздник портишь нам. Ступай!
(Вторая невеста поворачивается и медленно идет к центру сцены, а женщины стоят неподвижно и смотрят ей вслед. Мужчины, вереницей с пением выходящие из хейимас, тоже застывают и смотрят на четвертого жениха, который выходит вперед. Невеста и жених останавливаются у Стержня под земляничным деревом и смотрят друг на друга.)
НЕВЕСТА:
– Увы, ни Дома, ни надежды.
ЖЕНИХ:
– Но ведь они для нас поют,
на нашей свадьбе!
НЕВЕСТА:
– Слишком поздно. Мы ждали слишком долго.
ЖЕНИХ:
– Моя вина в том!
НЕВЕСТА:
– Теперь уже неважно.
(Она поворачивается и очень медленно уходит в глубь сцены, мимо дерева. Какой-то старик из мужского хора выходит вперед и обращается к Спикеру.)
СТАРИК:
– Могу ли я поговорить с ней?
СПИКЕР:
– Да, удержи ее, пусть не уходит!
СТАРИК:
– О, женщина в слезах,
скажи, как твое имя?
НЕВЕСТА:
– Меня назвали Бирюза когда-то.
СТАРИК:
– Дочь Паводка
и внучка Дикой Розы?
НЕВЕСТА:
– Да, ею я была – когда-то.
СТАРИК (обращаясь к жениху):
– А ты ведь Гром,
сын У Ручья Танцующей?
ЖЕНИХ:
– Я сыном ее был.
СТАРИК:
– Все эти люди давным-давно мертвы. Прожил я долго на земле, но умерли они за много лет до моего рожденья. А эти вот когда-то жили здесь, хотели пожениться. Они уж спали вместе. Потом поссорились, не знаю, что случилось, об этом много люди говорили, когда я был ребенком. Давнишний случай, а я был слишком мал, чтобы понять, да я и слушал плохо. Во время ссоры юноша тот умер: возможно, сам себя убил в порыве страсти. А может, вот как оно было: та молодая женщина сказала, что выйдет замуж за другого, и он себя убил. Ну а она так замуж и не вышла. Ни за кого. И юной умерла, не став ничьей женой. Не знаю, что уж там случилось. Возможно, и она себя убила. Я помню только имена и то еще, как старики печальный случай этот вспоминали – они тогда все молодыми были… Так как же умерли вы оба? Себя убили? Что за жестокость!
(Невеста и жених горбятся, опускаются на пол и начинают раскачиваться, не отвечая ему.)
СТАРИК:
– Вы старика простите за вопрос.
Давно все миновало, все теперь неважно.
СПИКЕР:
– Чего ж они хотят?
БАБУШКА:
– Зачем сюда явились?
ЖЕНИХ:
– Чтоб стать ей мужем.
НЕВЕСТА:
– Чтоб ему женою стать.
СПИКЕР:
– Не могут мертвые жениться
здесь, в Доме Жизни.
Как нам помочь им?
(Бабушка выходит вперед и оказывается прямо перед Спикером, который стоит по другую сторону Стержня и смотрит на нее. Она стоит позади невесты, Спикер – позади жениха.)
БАБУШКА:
– Помочь мы им не можем.
Послушай: ведь они мертвы!
Обратно не вернешь их к жизни.
Никто не женится,
попав в Четыре Дома,
которые отличны от Земных.
ОБА ХОРА (в унисон, очень тихо, речитативом под аккомпанемент Мелодии Продолжения):
– Никто не может пожениться
там, где живут они,
в тех Четырех Домах Небесных.
О, как они устали плакать!
Ужасна их тогдашняя ошибка.
БАБУШКА:
– Обратно не вернешь их к жизни.
Нет, только не из тех Домов Небесных.
СПИКЕР:
– Нет, я не допущу такого,
чтобы печаль была сильнее Жизни!
Они ведь здешние, они когда-то были
из Дома Синей Глины и Змеевика.
Так пусть же станут мужем и женою
у нас в Чукулмасе,
в хейимас темной,
средь Черных Кирпичей.
Иль это тоже невозможно?
(Старик выходит на центральную сцену и встает под земляничным деревом между невестой и женихом.)
СТАРИК:
– Вот мое жилище:
Я – Спикер Черных Кирпичей.
И я считаю: так и нужно
сделать, мы так поступим,
чтоб печаль разрушить.
Идите же со мною, дети
Четырех Домов.
О, Бирюза и Гром,
заклятьем призываю вас: идите.
И вступите в брак
там, под землею,
там, под нашим миром.
СПИКЕР:
– О, мужчины и женщины
Пяти Земных Домов! Им песню свадебную пойте!
(Старик идет в глубь сцены и исчезает за приподнятой центральной ее частью. Призраки следуют за ним. У него за спиной они берутся за руки – правая рука невесты в левой руке жениха. Оба хора поют второй куплет Свадебной Песни.)
БАБУШКА:
– Вот что я вам скажу:
хорошего от этого не ждите.
(Старик и призраки исчезли. Оба хора продолжают петь, а юная невеста из Дома Змеевика в своих ярких радостных одеждах выходит вперед и идет навстречу одному из женихов, тому, что из Дома Синей Глины; он тоже одет в шафранные и алые цвета.)
НЕВЕСТА:
– Пойдем теперь в мое жилище.
ЖЕНИХ:
– Я с радостью пойду куда угодно!
БАБУШКА:
– Ну так пойте громче!
СПИКЕР:
– Да, пойте им о счастье в браке!
(Все медленно танцуют, вереницей уходя влево, и поют последние куплеты Свадебной Песни под музыку, переходящую в Мелодию Завершения.)
КРИЧАЩИЙ МУЖЧИНА, КРАСНАЯ ЖЕНЩИНА И МЕДВЕДИ
Данный текст представляет собой полный перевод манускрипта из библиотеки Общества Земляничного Дерева в Телине
Пьеса сопровождается музыкой. Барабаны бьют пять раз, потом еще пять раз и исполняют Мелодию Начал.
Девять представителей народа Медведей вереницей поднимаются на Гору и переваливают через ее вершину.
Они танцуют под музыку в Доме Смерти и Дождя. Бодо начинает кричать откуда-то из-под сцены, слева. Медведи уходят и ждут за Горой. Бодо поднимается на сцену. Это старик, он хромает, плачет, кричит и машет руками.
Бодо говорит:
Для чего я рожден? В чем цель моей жизни? Зачем здесь появился? И что должен сделать? Дайте ответ мне! В чем цель моей жизни? О, дайте ответ мне! Ответьте мне, в чем? Ответьте мне сразу! Ответьте немедля!Медведи начинают собираться в кружок вокруг Бодо, пока он кричит и танцует. Он все время держится к ним спиной, однако, когда они пытаются достать его, ловко уворачивается от них; медведи весьма неповоротливы, зато Бодо быстр и подвижен. Постепенно медведи оттесняют Бодо к Горе. Он начинает с криком подниматься по ее склону.
Бодо кричит:
Зачем я пришел и живу в этом Доме? Но я узнаю, я выясню это! Узнаю ответ на вопрос целой жизни! Да-да! Ведь его я уже отыскал!Он падает ничком. Медведи выходят из-за Горы. Бодо приподнимается, встает на колени, склоняется к земле и кругами водит лицом по земле. Потом снова ложится ничком, барахтается в грязи, посыпает землей свою голову и наконец, смиренно упав ниц, затягивает фальцетом:
О, Откровение! О, Понимание! Как поклоняюсь я Святому! Как все чудесное люблю и своему Хозяину покорен! Вопросу внемлю я и в Разуме уверен. О, Свеченье Света! О, Вечность Вечная! О, Бесконечность Силы! О, Бесконечность Силы!Бодо поет, продолжая лежать ничком. Аву поднимается на сцену слева. Это толстая женщина с рыжими волосами.
Она идет по направлению к лежащему Бодо и Горе. Медведи выходят, подходят ближе и гуськом, очень осторожно следуют за ней.
Аву говорит:
Там ничего нет. А вот лицо ты испачкал. Не существует верного ответа на вопрос, поставленный неверно. Ну? Что ж теперь мы будем делать?Бодо встает, точно слепой, протягивает руки, кланяется кому-то невидимому и налетает на Аву. Он сжимает ее в объятиях с воплем ярости и тут же танцем-пантомимой изображает, как насилует ее и убивает. Медведи поспешно выходят вперед и тоже танцуют, изображая, как они разрывают Аву на куски и едят. Она смотрит на это представление совершенно равнодушно, точно мертвая. Когда пантомима закончена, музыка умолкает. Под негромкий рокот барабанов и Мелодию Продолжения Аву встает и проходит по правой части сцены, где танцем изображает проход сквозь Четыре Небесных Дома и обратно. Бодо встает, плачет, бесится от гнева, топает ногами, кричит.
Бодо кричит:
Для чего я рожден? В чем цель моей жизни? Зачем я был послан? Какой в этом смысл? И что за причина? Ответьте ж немедля!Аву уже обошла сцену кругом по ее дальней стороне. Она поднимается на сцену слева, как и в прошлый раз, направляясь к Бодо. Медведи, присев на корточки, прячутся за Горой.
Аву говорит:
Одну я знаю тайну… Бодо говорит: Поведай же мне тайну!Аву говорит:
Нельзя ее поведать. Нельзя о ней сказать. Нельзя о ней помыслить. Нельзя ее постичь. Пойдем со мной в долину.Бодо кричит:
Нет, Свернутая Шея! Грязнуха и Тупица! Невелика ты силой. Ничто – все твои тайны. Ты – старая хрычовка, жестокая, тупая, замшелая, пустая. Нутро твое прогнило, как черное дупло, где безнадежность правит и зло – в твоей долине лишь тьма одна и зло!Он пытается прогнать ее, а она льнет к нему, обнимает его колени, ползет за ним, простирая к нему руки, и поет умоляюще:
О, Сиянье! Сверканье! Льющееся через край наружу! Заливающее все кругом! Воспользуйся мной! Прикажи мне! Как поклоняюсь я Святому, как все чудесное люблю и своему Хозяину покорна, вопросу внемлю я, Разумному я верю! О, Свеченье Света! Могущество мне дай! Могущество мне дай!Бодо кричит:
Ложись же, женщина! Возьми – вот эта сила, что я отдам тебе. Ложись же! Землю ешь!Аву подчиняется ему, ложится ничком и ест землю. Бодо обхватывает ее сзади и овладевает ею. Она переворачивается и сжимает его в объятиях, а потом танцует, изображая, как ломает ему шею, кастрирует его, а потом ест. Медведи выходят вперед и в танце изображают, как пожирают кости, которые она им бросает.
Аву поет:
Эти кости полны силы, съешь вот эту, съешь вон ту. Погляди-ка, вот бедро, ну а вот еще лопатка, череп, полный страшной силы, съешь-ка, мишка, съешь скорей.Бодо в течение всего танца сидит с равнодушным видом, как мертвый. Но вот танец завершен, и музыка смолкает. Под рокот барабанов и Мелодию Продолжения Бодо встает и танцует, изображая проход сквозь Четыре Небесных Дома и обратно.
Аву ползет на четвереньках, желая присоединиться к медведям. Потом все они на четвереньках удаляются за Гору. Музыки не слышно, звучит лишь Мелодия Продолжения.
Бодо на четвереньках выползает откуда-то слева. Потом совсем распластывается на земле, бьется о нее лицом и плачет.
Аву подползает к нему, тоже падает ниц и плачет. Подходят медведи, осторожно поднимают Аву и Бодо с земли и несут их вверх по склону горы. На вершине они оставляют их и на четвереньках, как обычные звери, уходят за левую часть сцены.
Аву и Бодо сидят на Горе. Звучит Мелодия Продолжения.
Аву говорит:
Свершилось ли то зло, которое должны мы были сделать один другому?Бодо говорит:
Нет, ни за что и никогда! Пусть не свершится никогда.Аву говорит:
Отвечу: вечная печаль — вот что нам суждено отныне.Бодо говорит:
О, ярость вечная — вот чем я буду жить.Аву говорит:
Гора – это Долина.Бодо говорит:
Долина – это горы.Аву говорит:
Но где же путь найти нам?Бодо говорит:
Не будет нам пути.Барабаны ударяют четыре раза и еще четыре. Слышится музыка.
Аву говорит:
Да нет же, вот он, путь!Бодо и Аву встают и начинают танцевать на одном месте, оставаясь на склоне Горы. Танцуя, они поют.
Бодо и Аву поют вместе:
В неведении, неумело, хейя, о, хейя! Во тьме и молчаньи, хейя, о, хейя! Слабый и жалкий, терпя неудачи, хейя, о, хейя! Болен, ты болен, ты умираешь, хейя, о, хейя! Все это время ты умираешь, ты создал душу, пути не зная, сил не имея, чтоб дальше жить, но твоей жизни нет продолженья, и ты умираешь снова и снова, и в твоей смерти теплится жизнь. Хейя, о, хейя! Хейя, о, хейя! Хейя, о, хейя! Хейя, о, хейя!Пока они поют, на сцену справа выходят Медведи. Они переваливают через вершину Горы и появляются у них из-за спины. Медведи идут на двух ногах, они одеты в белое, на них радужные маски и специальные головные уборы Дома Дождя. Они опираются на волшебные посохи.
Аву и Бодо говорят:
Вот провожатые наши, но мы их боимся. Хейя, о, хейя!Медведи поют вместе с Аву и Бодо, приплясывая на месте:
Дождь идет, наступил сезон дождей, наступил сезон дождей, наступил сезон дождливый, дождь идет в сезон дождливый, дождь идет, дождь идет, дождь идет в сезон дождливый.Барабаны бьют пять раз, потом четыре, и звучит Мелодия Завершения.
Эта пьеса написана Ясным из Дома Обсидиана, жителем Телины.
ТАБЕТУПА
Табетупа существовала преимущественно как устная фольклорная форма, однако не запрещалось и записывать ее. Это очень короткая история/драма; исполнялась она обычно двумя, реже одним или тремя непрофессиональными рассказчиками ночью у костра, возле летней хижины или в сезон дождей у горящего очага (другое ее название «пьеса для очага»). Исполнители даже не вставали со своих мест, изображая героев, а просто говорили их голосами: такая пьеса предназначалась прежде всего для слуха и ума.
Некоторые табетупы считались классическими, их на каждом представлении повторяли слово в слово; «Большой кролик» – пример такой пьески. Ее исполняли обычно два рассказчика, игравшие двух главных героев, или один, который просто говорил разными голосами. Слова в данном случае никогда не менялись и не переставлялись, а последние строки пьесы стали крылатым выражением.
БОЛЬШОЙ КРОЛИК
– О Кролик! У тебя, конечно, нет такого ума, как у меня, зато ты такой красивый!
Итак, Человек с Кроликом обменялись.
– О муж мой! Каким ты стал красивым! Все женщины города захотят спать в твоих объятиях и станут завидовать мне!
И Человек стал совокупляться со всеми женщинами подряд.
А жена Кролика убежала от своего мужа – слишком он стал безобразен. Но и жена Человека убежала от своего мужа – слишком он стал хорош собой.
– Эй, Человек! Отдавай обратно мои уши. Отдавай обратно мои ноги. Что хорошего в твоем большом уме? Но Человек прыгнул и ускакал прочь.
В основном табетупа являлись импровизациями на широко известную тему, а порой представляли собой чистый экспромт. Следующая пьеска, например, была исполнена двумя довольно еще молодыми женщинами, возможно, ее авторами, у очага в Чукулмасе.
ЧИСТОТА
– В чем дело?
– Дело в этом отвратительном канюке. Он ест одну лишь падаль. Он забрасывает меня костями, он гадит и словно роняет дурные сны в мою голову. От моей души уже исходит вонь, как от канюка-падальщика. Соверши надо мной обряд очищения, о, Койотиха!
– Но я и сама ем овечий послед и собачий кал, не брезгую.
– Ты – это ветер, что дочиста обдувает весь мир.
– Ах, так ты хочешь стать чистой? Ну это нетрудно! – говорит Койотиха и напрочь выдувает запах канюка из души той женщины, и женщина очищается, напрочь освобождаясь от всех Девяти Домов, и душа ее превращается в ничто. – Люблю я в своем доме убраться, ох люблю! – говорит Койотиха. – А что, если я перестаралась?
Обычно в табетупе тон комический, даже если сама тема серьезна; многие из них – длинные анекдоты с абсурдными концовками или просто грубоватые шутки. Из всех известных единственная действительно серьезная табетупа написана отчасти прозой, а отчасти стихом и славится своей концовкой. Эта история значительно старше предыдущих. Ее сыграл нам житель Унмалина по имени Перемены; играя за женщину, он говорил тихим шепотом. Он назвал эту историю своим собственным именем: «Перемены».
ПЕРЕМЕНЫ
ОНА:
Помни, любимый мой, помни: ни разу не взгляни на меня, не смотри на меня.ОН:
Буду я помнить! Останься со мною, усни, любимая, ночь наступила.ОНА:
Я сплю, любимый.ОН:
Во тьме приходит, исчезнет с рассветом. Не видел ее я, не мог разглядеть. И такая она застенчивая, такая пугливая, что не дает мне полюбоваться своей красотой. Она пришла ко мне как-то ночью, когда я охотился в горах, и привела меня сюда. Она не позволяет зажигать ни лампы, ни огня в очаге, которые могли бы осветить эту комнату, где я целый день провожу в ожидании ее. И в этот прекрасный высокий дом она приходит лишь ночью, во тьме.
Свою красу скрывает, но знают мои руки и знает мое тело, сколь мне она желанна! И разум мой стремится познать ее очами!В тот день я плотно занавесил все окна; ни один лучик света не смог бы пробиться сквозь плотные занавеси. Она не поняла даже, что рассвет уже наступил – вот как долго любили мы друг друга в ту ночь! Сейчас она спит со мною рядом. Я тихонько встану и подойду к окошку. Сорву запоры, раздерну занавеси и впущу сюда свет – хоть на мгновенье!
ОНА (почти неслышно):
Ау!ОН:
Но где же ты?.. Неужто… Мелькнул олень, я видел! А ложе – травы, увлажненные росою. Вокруг – лишь стены гор, да небо, да восходит солнце, олень бежит вдали!..ПЕРНАТАЯ ВОДА
Это пример хураваш, или пьесы для двух исполнителей – пантомимы или драматического балета, имеющего весьма строгую форму. Хураваш исполняют только две труппы актеров: одна из Ваквахи, а вторая – путешествующая по другим городам Долины, из Кастохи. Пьесы-хураваш ставились на сцене обычно осенью, между Танцами Вина и Травы. Как содержание, так и стиль их исполнения оставляют куда меньше возможностей для импровизации и подчинены строгим канонам. Это наиболее ритуализированный и имперсонифицированный вид драмы в Долине.
В «Пернатой Воде» прославляется пульсирующий Великий Гейзер, находящийся к северу от Кастохи в священном месте. Данный текст получен в Кастохе, в театральной труппе хураваш; сценографические и режиссерские ремарки дополнены и разъяснены переводчиком.
Никаких декораций на сцене нет. Хор из девяти человек образует полукруг, проходящий через центр сцены, то есть «Стержень» – в данном случае под «Стержнем» подразумевается некий водоем.
Музыканты играют Мелодию Начал. Начинает бить барабан.
Служитель купален выходит из-за спин хористов навстречу Путешественнику из Унмалина, который появляется на сцене слева.
СЛУЖИТЕЛЬ:
– Итак, ты здесь, человек из Долины, здравствуй.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– А вот и ты, человек из Кастохи, здравствуй.
СЛУЖИТЕЛЬ:
– А может, ты сбился с пути?
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Возможно.
СЛУЖИТЕЛЬ:
– Если хочешь, я покажу тебе, как снова выйти на дорогу, что ведет на Гору к Ваквахе.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Видишь ли, я не собирался подниматься на Гору, когда пошел этим путем. Я искал место, которое называется Омутом Льва или Колодцем Пумы.
СЛУЖИТЕЛЬ:
– Ну, тогда ты на верном пути. Место, которое так называют, находится чуть дальше. Видишь вон те, похожие на перья, травы? И ивы с красными ветвями? Тот водоем как раз под ними.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Спасибо тебе за подсказку!
Служитель сразу же уходит вправо и останавливается за спинами хористов, которые делают шаг вперед. Они в венках из листьев, в руках у них длинные перья пампасовой травы или камыша.
Путешественник, пританцовывая, проходит под Песню Странствий к берегу водоема. Там он танцует, приветствуя водоем, и поет:
Хейя, хейя
нахе хейя
но нахе но
хейя, хейя
Хор тихо повторяет за ним эту песню.
Путешественник садится на берегу водоема.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– О, как прекрасно и пустынно это место! Интересно, почему люди так редко приходят сюда? Вон тропа совсем заросла травой, и над ней повсюду сети паутины, я в них совсем запутался. Тот человек, что говорил со мной, кажется, возник из небытия, и я не знаю, куда он исчез. Высокие травы подобны туману, они скрывают очертания предметов. Ну что ж, я рад, что наконец-то сижу здесь, под красными ивами на берегу Омута Льва, и могу поразмыслить о той истории, которую слышал.
Двое танцоров, мужчина и женщина, выходят на сцену справа. Играет музыка. Танцоры двигаются, все время сближаясь, но ни разу не дотрагиваются друг до друга, а хор поет:
Под этой землей, здесь, под нашими корнями, здесь, бежит здесь во тьме река, бежит здесь, под землею, проистекая из-под корней Горы, пробегая меж валунов, пробираясь среди камней, просачивается под землю и под землею, внизу, к морю стремится во тьме. Под тою рекою, но только глубже, во много раз глубже, река другая течет: течет река огневая, под корнями Горы протекает. Дочь землетрясения она, медленно текущий поток огня под этой землею, здесь, под нашими корнями, здесь, сияние во тьме есть. Если ж соприкоснутся они, реки, водяная и огневая — все тогда вокруг засияет!Спев песню, танцоры стоят наподвижно, прислушиваясь к Путешественнику.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– История, которую я не раз слышал, рассказывала о двух людях, которые спустились с Горы в те времена, когда другие народы в Долине еще не жили, а только росли деревья, перистые травы, ивы на берегу Реки да еще высокие тростники. Здесь было тихо, очень тихо: ни перепелок в кустах, ни бранчливых голубых соек на ветках; ни крика, ни шороха крыла и ничьих шагов. Один лишь туман проплывал в тростниках, широкими лентами скользил меж ив. А потом прямо из Горы вышли они, те двое; вышли откуда-то из глубин мира, изнутри. Они стали перепелкой, явившейся в широкий мир, и сойкой, и дятлом; они стали древесной крысой и дикой собакой, мотыльком и большим кроликом, лягушкой-квакшей и королевским питоном, овцой и быком; они стали всеми живыми народами Долины, впервые родившимися на свет, впервые вышедшими наверх, впервые пришедшими сюда. С точки зрения людей, они были обычными людьми, женщиной и мужчиной. Они пришли сюда, в это самое место, на луг у подножия Горы, на поляну, окруженную ивами. Походка у них была красивая, легкая, изящная, как у пугливых оленей, но стремительная, как полет колибри, и шли они смело. Они постояли здесь босиком на траве и сказали друг другу: «Давайте поселимся в этом месте». Но тут кто-то обратился к ним. И они услышали незнакомый голос.
ПУМА (из-за деревьев):
– Это моя страна.
Вам ведомы ваши души?
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
И они, услышав ее, заговорили: «Кто там? Чей это голос? Выйди же к нам!»
Служитель выходит справа, доходит до края полукруга и останавливается лицом к Путешественнику – как бы на противоположном берегу водоема. Теперь на нем маска Облачной Пумы.
ПУМА:
– Это я сказала. Вы зашли на мою территорию. Если вы встретитесь со мной, то совершенно переменитесь. Если коснетесь меня – тем более. Все созданное здесь ведет к разрушению; все, кто здесь встречаются, непременно расстаются; все живые существа изменяются.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Кто ты?
ПУМА:
– Я – та единственная,
что проходит насквозь.
ХОР:
– Она – единственная,
кто проходит насквозь.
Она есть сон.
До твоего прихода
она была всегда.
Она твое дитя.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Пусть подождет родиться, раз так, ибо эти двое должны жить.
Пума отступает назад, за спины хористов, и уходит вправо. Пока Путешественник рассказывает свою историю, двое танцоров пантомимой изображают ее сюжет.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Они не знали этой пумы. И сами не были пумами. Они были всеми существами, всеми народами, кроме народа Пумы. Они были существами женского пола, порожденными огнем, бушующим под корнями Горы в немыслимых глубинах, и мужскими особями были они, порожденными водой из глубинных ключей, что бьют под Горой. И мужские, и женские существа были живые, они пришли вместе, кто ж их разделит? Она ложится с ним, а он с нею, она отдается ему, он ею овладевает, и в тот же миг они умирают. Их смерть стала светящимся белым облаком, туманом, что окутал луг и затопил Долину. Это в свой дом вошел Молчаливый, вернулся в свой дом белого безмолвия.
Пума выходит вперед и танцует, пока танцоры Огня и Воды лежат без движения, как мертвые, внутри полукруга, образованного участниками хора.
ПУМА:
– Дети мои, я скорблю,
отец мой, я скорблю,
мать моя, я скорблю,
о вашей смерти скорблю!
Живите снова, вернитесь!
О, изменитесь! О, превратитесь!
Оба танцора поднимаются и танцуют вместе с Пумой, изображая в танце то, о чем рассказал Путешественник.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Из середины луга вдруг вырвался столб пара, светящихся испарений. Из тумана, из дымки туманной вырвался он, взлетая выше, чем перистые травы, чем даже ивы, и светясь на солнце.
ХОР:
– Хвавгепрагу,
Прагу, Прагу.
(Сиянье солнца,
сиянье, сиянье.)
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Столб огненной воды снова опал, уронив свои перистые струи в водоем среди высоких трав, и затих. Но стоило Пуме обернуться, стоило ей вздохнуть, как они вновь соприкоснулись, и белое сверкающее перо восстало над травой.
ХОР:
– Там, где тело воды возляжет на тело огня в темных земных глубинах, там возникнет источник. Это Омут Льва, молчаливого танцора с неслышной поступью, живущего в доме мечты. А это – падает из солнечного света, едва успев подняться из тьмы ему навстречу.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– О, прекрасная Хранительница Дома Седьмого, славься!
ПУМА:
– Кто ты, человек из Долины?
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Певец из Унмалина. Принадлежу к Дому Змеевика и пришел напиться из Омута Льва, из источника Пернатой Воды, чтобы в песнях моих звучало великое молчание льва.
ПУМА:
– В великом молчании льва заключены все песни мира. Пей, человек.
Путешественник опускается на колени и пьет из водоема.
ПУТЕШЕСТВЕННИК:
– Явилось мне и сразу же исчезло.
Живет и умирает столь внезапно.
В глубинах исчезает и взлетает.
Сверкнет, исчезнет,
вновь сверкает, недолговечно,
как туман под солнцем,
то явится, то сразу исчезает.
Пума в маске танцует.
ХОР:
– Мягко ступает, ведет за собою
самого первого,
о, светящийся, дивный.
Недолговечный, как туман под солнцем,
то явится, то сразу исчезает.
Путешественник и хористы уходят со сцены налево, Пума, Огонь и Вода уходят направо, звучит Мелодия Завершения, но барабаны молчат.
ЧАНДИ
Большая часть пьес в Долине служила лишь основой для импровизации: в самых общих чертах обрисованный сюжет, некая рамка для ситуации, обычно хорошо знакомой зрителям, – на основании этого артисты создавали каждый раз новую и неповторимую драму.
Для записи такой пьесы хватило бы и клочка бумаги: это было всего лишь перечисление действующих лиц да наброски отдельных диалогов, так называемые колышки – всего десять-двадцать, не больше. Эти «колышки» действительно оставались неизменными – сохранялись и слова, и очередность реплик. Все, что говорилось и делалось в промежутках между ними, было полностью на совести актеров. С наибольшим напряжением и удовольствием зрители смотрели именно те куски, которые разыгрывались в промежутках между ключевыми строками, знакомыми по другим спектаклям, но возникавшими в них совершенно по-иному.
Разработка сюжета могла достигнуть такой степени изысканности и сложности, что ключевые строки буквально терялись в длинном драматическом действе и имели весьма относительное родство с исходным вариантом пьесы, или же они могли служить отправной точкой в потоке блестящих монологов, если данная труппа была особенно сильна в искусстве поэтической импровизации, а порой в этих строках заключался весь текст данного представления – если спектакль ставился труппой танцоров, исполняющих пьесу йедао, то есть «посредством движения», и раскрывающих сюжет в основном за счет пантомимы и танца.
Представление, которое я попытаюсь описать далее, было дано труппой молодых актеров из Телины, заслуживших благосклонность зрителей главным образом благодаря музыке и танцу. Этот спектакль шел на большой сцене, установленной в главном зернохранилище Синшана, в честь Танца Лета. Световые эффекты создавали иллюзию различных пространств и успешно воздействовали на настроение аудитории.
Как и почти вся драма Долины, пьеса «Чанди» носит некий символистский или аллегорический характер, и явления жизни обобщаются здесь до философских категорий. Схожесть сюжета с одной из великих библейских историй поразительна, однако же не менее поразительны и различия.
Имя «Чанди» означает «Древесная Крыса». Настоящая древесная крыса, живущая на западе Америки, – это симпатичный зверек, который строит большие сложные гнезда из палочек и травы и хранит там порой целую коллекцию самых различных предметов, которые, видимо, кажутся ему весьма ценными с эстетической точки зрения; среди этих предметов частенько прячутся и даже живут мыши, небольшие змеи и другие животные, пользуясь гостеприимством древесной крысы.
Традиционно автором «Чанди» считался некто Хукаи (Королевский Питон?) из Чумо – личность столь же древняя и гипотетическая, как наш Гомер (однако слепым, подобно Гомеру, он не был, хотя и был совершенно глух); ему приписывается по меньшей мере половина пьес, написанных с помощью предложений-«колышков».
Пытаясь одновременно описать спектакль и представить исходный текст, я выделила строки-основы курсивом. Чтобы понять, с чем в данном случае приходится работать актерам, читатель может прочесть одни лишь эти строки, опуская все остальное.
«Чанди»: описание спектакля
Зрители, сорок или пятьдесят человек, сидят на полу склада на тех подстилках или подушках, которые принесли с собой, или же на старых кипах соломы, разложенных специально, чтобы люди могли не только сидеть на них, но и откинуться на них спиной.
Мужчина и женщина из Цеха Мельников наладили освещение и управляют им. Сильный, яркий прожектор направлен на левую часть сцены, выделяя ее; более слабо освещены правая часть и овальная «соединительная» часть, изображающая «Стержень». Темнота, в которую погружено пространство вокруг сцены и за нею, достаточно глубока, чтобы всякое движение вне сцены было незаметным.
Музыканты расположились за сценой, вне света прожектора, они едва различимы. Музыка в течение всего спектакля практически не прекращается.
После того как в течение нескольких минут играется Мелодия Начал и зрители постепенно успокаиваются, слева на сцене появляется Чанди: это красивый мужчина во цвете лет, высокий, отлично одетый. Поверх черных штанов и хлопчатобумажной рубахи с длинными рукавами на нем традиционно длинный праздничный жилет синего, фиолетового и зеленого цветов, густо покрытый вышивкой, а поверх накинут удивительно изящный, совершенно прелестный плащ из перьев – одно из тех сокровищ, что хранятся в хейимас Змеевика в Синшане и выдаются исключительно для подобных представлений. Этот волшебный плащ плывет и покачивается у Чанди за плечами, когда он легко выбегает на сцену с распростертыми навстречу солнцу руками и поворачивается, приветствуя восходящее светило.
ЧАНДИ:
– Хейя хей хейя!
Хейя хейя!
Прекрасное, светишь ты над Долиной!
С трудом оторвавшись от созерцания воображаемой зари, он смотрит на лица зрителей с доброй, открытой улыбкой. Голос его звучен, приятного тембра и полон энергии.
ЧАНДИ:
– Итак, вы здесь, жители моего города, ступающие легко и красиво, доброжелательные, вежливые. С добрым утром! Да, это действительно доброе утро!
Зрители отвечают ему традиционным приветствием: «Итак, ты здесь, Чанди! Здравствуй!» Они говорят тихо, очарованные и умиленные, а одна женщина прибавляет: «И пусть этот день у тебя пройдет хорошо, Чанди!»
ЧАНДИ:
– Вечером этого долгого дня я должен танцевать Танец Лета, так что, прежде чем уйти в поле, мне стоит немного потренироваться.
Музыканты начинают играть один из самых сложных и величественных танцев – Танец Цапли из Летней ваквы Дома Змеевика, и Чанди танцует его один на левой сцене энергично и грациозно, подобный великолепной мифической птице в разноцветном наряде и плаще из перьев. Как только танец кончается, первые пять хористов выходят на сцену и встают слева – это горожане, отправляющиеся на весь день работать в поле. В последнем великолепном движении Чанди, кажется, летит по воздуху, и зрители ахают. А Чанди сбрасывает плащ из перьев и передает его кому-то, ожидающему вне освещенной прожектором части сцены. Танец окончен, Чанди отправляется на работу вместе со всеми. Далее следует пантомима: Чанди вместе с хористами изображает, как полет сорняки и рыхлит землю. Люди разговаривают о погоде, добродушно подшучивают по поводу местных событий и соседей, и хотя я плохо понимаю смысл этих шуток, они неизменно находят самый живой отклик у зрителей. Потом среди обмена репликами со зрителями вдруг вновь возникают строки-основы.
ХОРИСТ 1 (мужчина):
– Как хороша кукуруза Чанди,
как высока и какие листья,
да и початки почти созрели!
ХОРИСТ 2 (женщина):
– Он мудрый земледелец, этот Чанди. Знающий и внимательный.
ХОРИСТ 1:
– Да, он, похоже, на верном пути. Что за отличное поле у его семьи!
ХОРИСТ 3 (мужчина):
– У его семьи есть не только хорошее поле. А этому Чанди просто все время везет! Надо же, женился на Дансайедо! (На языке кеш «Она Видит Радугу».) И землю отлично возделывать умеет, и засеять знает как, и заботится об урожае, да и урожай собирает с этого клочка земли такой, что только в Садах Ночи собрать можно!
ХОРИСТ 4 (женщина):
– Заткнись, глупец. Что за грязные сплетни!
ХОРИСТ 3:
– А я завидую, вот и все. Я ему завидую.
ХОРИСТ 5 (женщина):
– Что за красивые дети родились от этого брака, настоящие Дети Радуги! Как я завидую Чанди, что у него такие дети.
ХОРИСТ 4:
– Молчите, молчите! Легкий ветерок, как известно, раздувает лесные пожары.
Теперь Чанди подходит ближе к остальным, опирается на мотыгу и обращается к ним. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что на самом деле никакой мотыги у него в руках нет.
ЧАНДИ:
– Послушайте, вы меня не стесняйтесь. Я нечаянно услышал вашу беседу – ветер дул в мою сторону. Но это правда, то, что вы говорили. Я стараюсь быть осторожным и все обдумывать, все делать вовремя и так, как нужно; однако ведь и другие не менее осторожны и разумны, а им не дано столь многого, как мне. Не знаю, почему это так получается. Дом моей матери красив, и ее семья пользуется всеобщим уважением, как и семья моей жены. Родители мои щедрые и добрые люди, а те двое, что сделали меня отцом, умны и уже славятся своими талантами – моя дочь поет в Обществе Целителей, а мой сынок, что до сих пор носит некрашеную одежду, – такой жизнерадостный и многообещающий мальчик. А чтобы воздать хвалу моей Дансайедо, у меня просто слов не хватает! Она – как ласточка над вечерним прудом. Она – как первый дождь осенний, как цветок дикого миндаля весною ранней. Она достойная хозяйка дома, щедра и отдает охотно, как полноводная река! В ее хозяйстве овцы каждый год приносят ягнят-двойняшек, коровы величавы и здоровы, быки спокойны. Поля же наши становятся богаче год от года, плодоносящие деревья как град роняют спелые оливки. Все это мне даровано! Что в жизни совершил я, чтобы все это случилось?
ХОРИСТ 2:
– Все, что тебе даровано, ты сам дарил всегда, о Чанди.
ХОРИСТ 1:
– Да, Чанди очень щедр!
ХОРИСТ 5:
– Тот плащ из перьев он отдал своей хейимас!
ХОРИСТ 2:
– А кукурузу – в общие амбары, овечью шерсть он отдал в Мастерские!
ХОРИСТ 3:
– Монеты золотые – музыкантам, медь – актерам!
(Это произносится лукаво, с намеком и вызывает смех у зрителей.)
ХОРИСТ 1:
– Все в доме у него прекрасно, прочно, сделано на славу, используется с толком. Всего там много, все очень красиво, и двери вечно у него открыты друзьям, а также всем соседям.
ХОРИСТ 3:
– Ты и впрямь богатый человек, Чанди!
ХОРИСТ 5:
– Щедрое сердце – лучшее богатство, как говорится.
(Перевод этих двух ключевых строк исключительно слаб. Амбад, в зависимости от контекста, может иметь следующие значения: «благополучие», «благополучный», «отдавать», «щедрость». Здесь значения эти сложным образом переплетаются, вступая в невыразимую нашими средствами игру.)
В течение всей этой сцены действие сопровождается только Мелодией Продолжения – слабым, слегка варьирующимся звуком больших рогов «хомбута». Затем постепенно вступают другие инструменты, и музыка сопровождает весь остальной спектакль, негромко аккомпанируя диалогам и довольно активно заполняя паузы, а также искусственно создавая их – с помощью ударных инструментов.
ЧАНДИ:
– Я чувствую себя ослом безмозглым, о мои друзья! Я рад бы сделать что-нибудь для вас и дать вам то, что вам понравится самим, все, что угодно.
ХОРИСТ 4:
– Не правда ли, он замечательный парень?
ХОРИСТ 1:
– Да, кто может не любить его, нашего Чанди.
ЧАНДИ:
– Что же мне дать вам? Я надеюсь, вы разделите со мной эту кукурузу, когда она созреет? На этом участке земли так легко работать, не захотите ли вы использовать его в следующем сезоне? Ах, сестра моя по Дому Обсидиана, я как раз собирался сказать тебе: у нас опять скопилось много перьев, и мы подумывали, не сделать ли еще один плащ для нашей хейимас, для Общества Крови – как тебе кажется, имеем ли мы право? Сестрица, Дансайедо весь год пряла ту белую шерсть, которую дали нам наши овцы прошлой весной, а я помню, тебе вроде бы белая шерсть нужна была. Тебе какую: тонкую или потолще? Ты ведь знаешь, как хорошо прядет моя Дансайедо.
Чанди продолжает говорить, музыка становится такой громкой, что почти заглушает его голос. Хористы из первого хора толпятся вокруг него, а он все говорит и раздает все подряд, делая это искренне, от всей души, хотя и немного истерично. Пока продолжается раздача даров, на сцене справа появляется второй хор: четыре человека, босые, держатся очень прямо, в темных капюшонах и тесных темных одеждах (они одеты как Плакальщики из Общества Черного Кирпича во время Танца Вселенной). Они выходят один за другим, медленно, поджидая друг друга, и выстраиваются в линию, проходящую через всю правую часть сцены. Первый из них, стоящий у самого «Стержня», говорит ровным, лишенным признаков пола голосом, и предваряет его речь резкий, вызывающий озноб вопль тованду (см. главу «Музыкальные инструменты»).
ВТОРОЙ ХОР, ХОРИСТ 1:
– Чанди!
Но, занятые раздачей и получением даров, Чанди и его приятели не обращают на хориста внимания. Человек в черном вновь окликает его по имени. И только в третий раз, услышав наконец собственное имя, Чанди оглядывается через плечо и, смеясь, подходит к человеку в черном, неся что-то в руках.
ЧАНДИ:
– Вот, друг мой, возьми это, пожалуйста! У меня этого слишком много!
Человек в черном остается недвижим, руки его висят вдоль тела. Звучит громкий металлический звук струны, музыка смолкает, и наступает мертвая тишина.
ХОРИСТ 1 ИЗ ВТОРОГО ХОРА:
– Дансайедо разливала по бутылям масло, прекрасное оливковое масло, из тех олив, что принадлежат ее семье. Вдруг откуда ни возьмись вырвалось пламя – может, ветром принесло? – и масло вспыхнуло. Огонь перекинулся на Дансайедо, загорелись ее волосы и одежда – она была похожа на факел, горя заживо.
Вся охваченная пламенем, она бросилась вон из дома, но дом тоже загорелся. И все сгорело. Она мертва.
Человек в черном капюшоне склоняется низко в позе Плакальщика и, сгорбившись, опустив голову, сидит, раскачиваясь, у ног Чанди. Между ними только «Стержень». Чанди замер; медленно опускаются и безжизненно повисают его руки. Весь первый хор отшатывается от него, хористы что-то бормочут и переговариваются между собой.
ПЕРВЫЙ ХОР, ХОРИСТ 1:
– Сгорела? Дансайедо? И дом такой огромный? Весь дом сгорел? И все хозяйство? Сгорела заживо?..
ЧАНДИ (в горестном порыве):
– А моя дочь! И мой сынок!
ХОРИСТ 1:
– С ними все в порядке… должно быть, с ними все в порядке, Чанди.
ПЕРВЫЙ ХОР, ХОРИСТ 2:
– Их дома не было. Лишь Дансайедо одна сгорела при пожаре. Все остальные успели выйти.
ХОРИСТ 5:
– Но ведь и дома больше нет! Один фундамент от него остался.
ХОРИСТ 3:
– И все сгорело там дотла.
Чанди неуверенно делает шаг или два, словно намереваясь вернуться в город.
ЧАНДИ:
– О, Дансайедо, жена души моей, прекрасная и добрая такая! Жестоко! Жестоко! Жестоко!
Его голос, трижды повторяя это слово, «стержень» пьесы, звучит все громче, как вопль раненого зверя; потом Чанди снова замирает, потрясенный собственным страстным горестным порывом. С болью в глазах озирается, заглядывает людям в лица и наконец говорит с печальным достоинством.
ЧАНДИ:
– Пойду… пора… мне петь с тобою, Дансайедо, и для тебя песни Ухода. Но нужно, чтоб и дети мои пошли со мною… Пусть явятся сюда!
На сцене слева появляются сын и дочь Чанди. В то же самое время второй человек в черном из второго хора начинает движение к центру сцены с вытянутой вперед правой рукой. Сын Чанди идет к отцу, и они обнимают друг друга, но дочь проходит мимо, оборачивается, чтобы посмотреть на отца, но не останавливается, а идет навстречу человеку в черном, берет его за руку и уходит вместе с ним со сцены направо, во тьму. Когда она исчезает, Чанди стряхивает оцепенение и взывает.
ЧАНДИ:
– Где моя дочь? Куда она уходит? Куда она ушла?
ХОРИСТ 1 ИЗ ВТОРОГО ХОРА (по-прежнему склонившись к земле и раскачиваясь):
– Она ведь видела, как мать горела заживо, пытаясь дом спасти. Перенести то зрелище она была не в силах. Боясь сойти с ума от горя, она пошла к Целителям и яд там приняла. Теперь она мертва.
ХОРИСТ 1 ИЗ ПЕРВОГО ХОРА (шепотом):
– Она мертва!
ХОРИСТ 4 (шепотом):
– Глядите! И она мертва!
Хористы из первого хора, изображающие жителей города, один за другим понемногу уже отодвинулись от Чанди, оставив его одного в обнимку с сыном. Звучит музыка – тяжелые быстрые ритмичные удары барабана, – и Чанди медленно снимает свой вышитый жилет и набрасывает его на плечи сына. Когда он начинает говорить, его голос оглушающе тих.
ЧАНДИ:
– Дочь, девочка моя, неужто не могла ты подождать? Могла ведь быть добрей и терпеливей. Мы-то ведь остались, а ты была нам так нужна! Ну а теперь пойдем со мною, детка, сынок мой. Помоги мне спеть для них обеих, с ними вместе, с твоею мамой и сестрой. Пойдем, пойдем со мной.
Однако третья из четырех темных фигур – ребенок – уже неумолимо приближается к ним. Сын выпускает руку Чанди и стоит неподвижно, смотрит, потом делает шаг навстречу ребенку в черном и берет его за руку. Они медленно уходят со сцены направо, во тьму. Мелодия Продолжения звучит очень громко.
ЧАНДИ:
– Пожалуйста, не умирай, сынок! Хоть ты со мной останься!
ХОРИСТ 1 ИЗ ВТОРОГО ХОРА (по-прежнему склонившись и раскачиваясь):
– Он болен был с рожденья, но до поры была болезнь та незаметна. Теперь же стала его жизнью. Не более чем через месяц он бы умер. У докторов нет для него леченья. Но он сегодня умирает. Сейчас.
ХОРИСТ 4 ИЗ ПЕРВОГО ХОРА:
– Сын Чанди умер.
Пять хористов из первого хора отходят еще дальше от Чанди. Он медленно сгибается, потом опускается на землю, скрючивается, оказавшись лицом к лицу с человеком в черном, застывшим в такой же позе. Чанди опускает голову до самой земли, трется о землю лбом, рвет на себе волосы. Музыка звучит громко и проникновенно, барабаны и тованду исполняют Мелодию Продолжения, и Чанди то тише, то громче подпевает ей пронзительным, резким голосом, похожим на вой зверя.
Когда музыка стихает, Чанди, сгорбившись, застывает, потом тяжело поднимается на ноги, снимает свою рубаху и башмаки и выпрямляется во весь рост. Босой, полуодетый, он сейчас выглядит на двадцать лет старше.
ЧАНДИ:
– Я вернусь в дом своей матери, буду жить там как ее сын, все свои силы отдам работе во имя ее семьи.
В это время четвертый человек в черном приближается к Чанди и обращается к нему тем же ровным, бесцветным, не женским и не мужским, жутким голосом, что и первый.
ХОРИСТ 4 ИЗ ВТОРОГО ХОРА:
– Они теперь мертвы, все эти люди, что жили в доме матери твоей. Или уехали в другие города. Иные люди там живут теперь. И никого из родичей твоих здесь больше не осталось.
ЧАНДИ:
– Да, это правда. Я одиноким должен жизнь свою влачить отныне. Однако я давно уж болен… Может, мне лучше было б умереть теперь?
Четвертый человек в черном молчит, ничего ему не отвечает, но, сгорбившись, устраивается на земле рядом с первым.
ЧАНДИ:
– Раз так, я буду жить один, работать стану для своей хейимас. Вот только руки отчего-то тяжелы!..
Он исполняет пантомиму, изображая работу в саду, как в самом начале спектакля, но только работает он очень медленно, хотя и старательно. Хористы из первого хора тоже возвращаются к своим делам – все они находятся у переднего края левой части сцены, тогда как Чанди работает один в самой ее глубине, ближе к «Стержню». Свет потихоньку меркнет, а музыка становится протяжной, тоскливой.
ХОРИСТ 3 ИЗ ПЕРВОГО ХОРА:
– Эй, гляньте-ка на старого Чанди – вовсю копает землю, как черепица твердую!
ХОРИСТ 1 (теперь он говорит старческим голосом, тогда как голос хориста 3 звучит как у мальчишки-подростка):
– Земля здесь раньше хороша была всегда, одна из лучших. Ухода требовала, правда, а он забыл совсем про это.
ХОРИСТ 2:
– Ax, я не знаю! Ухаживает он за ней исправно, как только может, больной и старый, и все его не забывают, ему помочь любой готов. Но вот что странно: пересох ручей здесь почему-то, и землю больше он полить не может.
ХОРИСТ 3:
– А кто-то говорил однажды, что раньше Чанди был богатым.
ХОРИСТ 1:
– Ну да, так именно и было. Но теперь, похоже, ничто ему не удается.
ХОРИСТ 4:
– Та старая корова, бедняга, пестрая такая, она была его последней, верно?
ХОРИСТ 2:
– И все ягнята, которых приносили его овцы, больны были севаи.
ХОРИСТ 4:
– Скот не плодится у него в хлевах, и на полях ничто не вырастает, как он ни трудится.
ХОРИСТ 5:
– Так гнет в полях он спину, что ноет у меня спина! Ведь он с трудом порой поднять мотыгу может.
ХОРИСТ 3:
– Ну а зачем ему трудиться, чего ради? Ведь эта кукуруза все равно засохнет! Вот глупый старец, зря только мучает себя.
ХОРИСТ 1:
– Но что же все-таки случилось? Ведь он и вправду был богатым, как ты сказал. Богатым был и щедрым, как полноводная река! Что же пошло не так?
ХОРИСТ 3:
– Я у него спрошу. Эй, старый Чанди! Что сделал ты такого, что жизнь твоя пошла наперекос?
ЧАНДИ (опираясь на свою несуществующую мотыгу, очень спокойно и очень медленно):
– Случилось? Умерла жена, сгорел мой дом, погибло все хозяйство. И дети умерли мои – так рано! Я тяжко болен был. А матери семья распалась: кто умер, кто уехал. Все, что мне дорого, исчезло, о чем забочусь, погибает. Все, что дают мне, я теряю. Все, что я роздал, – все пропало.
ХОРИСТ 3:
– Что ж, удивительного мало, что ты совсем остался без друзей.
ЧАНДИ:
– Моя последняя родня – из Дома Лета, из Дома Третьего, Змеевика.
ХОРИСТ 4:
– Что ж, разумеется, тебя мы не оставим своей заботой, но сказать я должен: становится нелегкой дружба иль родство, когда твой родственник все делает неверно. Ведь с другом чувствуешь себя легко, с ним все сполна разделишь, с ним посмеяться можно вдоволь… Скажи, с тобой кто может посмеяться вместе? Мне плакать хочется, когда тебя я вижу! Так лучше б мне тебя не видеть, и если б не обязанность моя…
ХОРИСТ 5:
– И верно. Когда-то я на тебя молился, думал о тебе все время. Теперь не думаю! Я уж забыл жены твоей покойной имя. Из-за болезни стал ты неприятен, мне и руки твоей не хочется касаться.
ХОРИСТ 1:
– Дансайедо было ее имя, Дансайедо! Когда тебя я вижу, я думаю о том, какой она ужасной смертью умирала. Но я гоню такие мысли.
ХОРИСТ 3:
– Ты колесо фортуны слишком сильно повернул, вот дело в чем, старик. Ты получил то, что просил.
ЧАНДИ:
– Ничего я не просил. Я отдавал! Неужто ж не был щедр я?
ХОРИСТ 4:
– Да, ты был щедр, но чересчур.
ЧАНДИ:
– Но как же человеку жить?
ХОРИСТ 1:
– Когда б я это знал…
ХОРИСТ 3:
– Зачем подобные вопросы задавать? Не понимаю!
ХОРИСТ 2:
– Таких вещей никто не понимает.
ЧАНДИ (поворачиваясь лицом к двум скрючившимся на земле фигурам по ту сторону «Стержня»):
– Как жизнь свою прожить я должен был? Не можете ль вы мне ответить?
Обе темные фигуры остаются тихи и неподвижны. Музыка звучит как-то странно: лязгает и бренчит.
Когда прожекторы опускают ниже, чтобы фигуры актеров отбрасывали длинные тени, первый из людей в черном встает и медленно идет в глубь центральной части сцены. Там он оборачивается, встает лицом к зрителям, откидывает капюшон и открывает их взорам медную маску, которая в лучах прожектора вспыхивает зловещим красным светом – светом закатного солнца.
Чанди поворачивается к нему лицом и спиной к зрителям. Его руки возносятся вверх и раскрываются в широком объятии.
ЧАНДИ:
– Хейя хей хейя!
Хейя хейя
Прекрасен день был в Долине нашей.
Человек в черном снова медленно сгибается, скрючивается и опускается на землю, клоня голову все ниже, ниже и скрывая под капюшоном маску-солнце. Свет на сцене продолжает меркнуть.
ЧАНДИ:
– А вот и звезды! Светятся.
Меж звездами нет ничего,
там только тьма танцует.
В Мелодию Продолжения неожиданно вплетается мелодия Танца Цапли. Сгорбленный и полуодетый, с негнущимися конечностями, страдая от сильных болей, Чанди начинает танцевать тот самый танец, который так великолепно исполнял в первой сцене, но все движения и повороты делает как бы наоборот, так что танец переносит его через всю сцену к ее правому краю. Последний из людей в черном присоединяется к Чанди, повторяя его движения словно тень. Вместе исчезают они во тьме. В совсем почти погрузившемся во тьму зрительном зале, высоком и просторном, долго звучат последние ноты Мелодии Завершения, а потом и они замирают постепенно в наступающей полной тишине.
После представления я спросила актеров, сильно ли они варьируют диалог во время различных спектаклей, и одна актриса ответила мне: «Ну, разве что для того, чтобы соответствовать настроению определенного вечера или аудитории. Этим летом мы играем «Чанди» в постановке Глиняного Лица». Глиняное Лицо как раз и исполнял роль Чанди в спектакле. Актриса продолжала: «Я видела пьесу в прошлом году в Ваквахе с Оленем Ветра; так он в этой роли очень гневался и ругался, прямо-таки впадал в безумие. Он актер более старшего поколения, он может себе позволить сыграть и так. Глиняное Лицо еще молод, чтобы играть Чанди, вот он и делает это по-своему, очень мягко. Мне кажется, у него получается. Возможно, конец несколько скомкан, все происходит слишком быстро; но танцы, которые он танцует в начале и в конце, – о, они просто замечательны!» И я с ней согласилась.
Я спросила кое-кого из зрителей, видели ли они какие-нибудь варианты спектакля «Чанди», сильно отличающиеся от этого, и выяснила, что да, видели; действие может развиваться совершенно иначе: например, пожар, самоубийство и болезнь, которые последовательно уносят жену, дочь и сына Чанди, согласно одной из версий, могут быть практически единственным событием, однако носящим характер всеобщего катаклизма, и все эти смерти порой происходят прямо на сцене, если актеры окончательно решили не щадить чувств зрителей и вызвать у них сильное эмоциональное потрясение. События «счастливых» и «несчастливых» лет жизни Чанди могут быть сыграны и изображены множеством различных способов, и реакция Чанди на них может быть совершенно иной, чем покорность и даже смирение, которыми так потрясает зрителей Глиняное Лицо. Так или иначе, Тёрн как-то сказала мне о его игре: «Даже когда друзья Чанди и люди из Четырех Домов отвечают на его вопрос, как нужно было жить, ты все равно не уверен, правильны ли их ответы…»
Я спросила Глиняное Лицо – который вне сцены оказался совсем молодым, не старше двадцати пяти, и очень застенчивым невысоким человеком с тихим голосом, – как он считает: умер ли Чанди, исполненный надежды, или же он умер от безысходности и отчаяния? Подумав, актер ответил: «Он умер в страдании и отчаянии. Именно поэтому друзья так его боятся. Но нам не следует его бояться, потому что это всего лишь пьеса. Видите ли, в этом-то все и дело!»
ПАНДОРА, БЕСПОКОЯСЬ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ, ОБНАРУЖИВАЕТ ПУТЬ В ДОЛИНУ В ЗАРОСЛЯХ ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО ДУБА
Какая тут путаница в этом диком краю, вы только взгляните! Посмотрите на этот дубок, чапарро, слово «чапараль» возникло на его основе и состоит из его корня, смешанного бог знает с чем еще. Обратите внимание на эту картинку: самый высокий стволик дубка фута четыре, но по большей части его побеги не превышают одного-двух футов. Один из них выглядит так, словно его переехало колесо, свежий срез поперек, но кто это сделал? И, главное, зачем? Ведь этот куст ни для чего не пригоден, да и горка эта ни у кого на пути не стоит. Концы более тонких веточек кажутся то ли сломанными, то ли объеденными кем-то. Может, это горные козы общипывали молодые побеги и почки? Маленькие, с серой корой веточки и побеги тянутся во все стороны как придется, многие из них высохли и поросли мхом; живые и мертвые, они переплетаются, душат друг друга. В них застряли сосновые иглы, паутина, сухие листья. Полнейший беспорядок! Все замусорено до предела. У этого дерева просто никакой формы нет! Ветки, правда, по большей части растут из одного и того же места, однако не все; здесь нет ни центра, ни какой-либо симметрии. Многие побеги торчат из земли на некотором расстоянии от основного деревца, кое-где на них даже есть листья – вот типичное проявление характера данного растения! Сами же листья пытаются соблюдать какой-то порядок и подчиняться неким законам, бедняжки. Все они разных размеров: от четверти дюйма в длину до целого дюйма, но каждый лист в достаточной мере похож на остальные, то есть на то, что можно было бы назвать «идеальным листом вечнозеленого дуба»: пыльный, неяркого темно-зеленого оттенка, со слегка изогнутой поверхностью, которая как бы чуть вспухает между прожилками, разбегающимися в обе стороны от черешка; краешек листа неровный, зазубренный, с крохотной колючкой на конце каждого выступа. Эти листочки растут на разном расстоянии друг от друга, но по обе стороны своей веточки до самого ее конца, где неожиданно образуют пучок, этакую неряшливую и весьма жидкую розетку. Под слоем мертвых листьев, его собственных и чужих, подо мхом, под камнями, под рыхлой землей и всяким мусором у этого кустика, должно быть, есть более или менее сходная с ним по форме система корней, уходящих довольно глубоко, возможно, они значительно длиннее, чем возвышающийся над поверхностью земли стволик, потому что если сейчас, в феврале, здесь достаточно влажно, то летом на вершине этого холма земля будет твердой как камень. Вокруг не видно ни одного желудя от прошлого урожая, если, конечно, этот дубок уже достаточно взрослый, чтобы давать желуди. Скорее всего, да. А впрочем, ему может быть и два года, и двадцать, кто его знает? Это, конечно, дуб, но только дуб-кустарник, дуб-лилипут, с которым не очень-то считаются, и тут по крайней мере еще сотня точно таких же – возле той скалы, на которой я сижу, и еще сотни и тысячи и сотни тысяч на вершине этого холма и на вершине следующего. Вот только сосчитала я их неправильно. Ошиблась. Карликовые дубки вообще не считают. Если их можно сосчитать, значит, что-то не так. Можно, конечно (если ты ботаник), сосчитать, сколько растений на ста квадратных ярдах, а потом умножить и таким образом довольно точно прикинуть их общее количество, довольно правильно угадать. Но сосчитать дубки, растущие на вершине этого холма, невозможно, не говоря уж о прочих кустарниках или о дикой сирени, которую я даже не принимаю в расчет. Все они сплетены стволами и побегами, и все они лишь компоненты того, что называется «чапараль». Эти заросли похожи на атомы и их элементы: они не поддаются законам и определениям. Они неисчислимы. Среди них не случайно, но изначально и вечно царит хаос. Этот кустарник не красив, и даже если бы я до одури накурилась гашиша, он не показался бы мне чем-то мистическим, однако он и тошноты своим видом не вызывает; если какому-нибудь философу он активно не нравится, то это его проблемы, которые не имеют ничего общего с вечнозеленым дубком. Чапараль не имеет к нам, людям, ни малейшего отношения. Эти заросли порождены дикой природой и ею являются. Отношение к ним разумного и цивилизованного человека очень неопределенно, исполнено случайных эмоций и риска. Никаких отступлений в сторону наше мышление не допускает. Все аналогии имеют одно направление: к нашей действительности. На одной из ветвей этого дубка отвратительная маленькая опухоль. Новые листья, зелень этого года, такие крупные и симметричные по сравнению со старыми, что я сперва принимаю их за листья совсем другого растения – дикой розы, растущей как бы внутри дубка, – но в летний зной, без сомнения, эти прекрасные листья свернутся и деформируются, как и все остальные. Аналогии напрашиваются сами собой: скромный вечнозеленый дубок можно, конечно, превратить в тему для проповеди, но с тем же успехом его можно превратить и в дрова. Прочитать как проповедь или сжечь. Sermo, «я читаю»; я читаю: «карликовый дуб». Но я не делаю ни того ни другого, и дубок здесь не для того, чтобы его превращали в тему для проповеди или сжигали. Он отбрасывает тень на страницу моей записной книжки под неярким февральским солнцем в три тридцать пополудни, в Северной Калифорнии. Когда я закрываю книжку и ухожу, тень со страницы исчезает, хотя я обвела ее карандашом; вот карандашная линия только там и остается. А сама тень после моего ухода будет падать уже на густой слой опавших листьев или на тот поросший мхом камень, на котором я сейчас сижу, и тень эта будет послушно передвигаться, выказывая глубочайшее уважение закону, согласно которому вертится сама Земля. Мысленно легко можно себе это представить: тень от нескольких листьев, падающая на землю в диком краю; разум – удивительная вещь. Но как быть со всеми остальными тенями ото всех остальных листьев на всех остальных ветках всех остальных карликовых дубков, растущих на всех остальных холмах дикого края? Если вы способны и их тоже вообразить себе хоть на мгновенье, то что вам это даст? О, бесконечно много!
ТАНЕЦ ЛУНЫ Рассказано Тёрн из Синшана
Танец Вселенной танцуют в безлунные ночи после равноденствия в сезон дождей; и на второе полнолуние после этого приходится Танец Луны.
Порой к началу Танца погода еще не установилась – идет дождь, прохладно, и все-таки уже начинается сухой сезон, ночи становятся все теплее. Иногда в это время травы еще только цветут, а иногда они уже совсем созрели и начинают подсыхать. Всегда в самом цвету сей – цветок-фонарик. Ягнята и козлята уже не кормятся молоком матери, но по-прежнему держатся поближе к овцам и козам. Птицы спариваются и строят гнезда. Весь день кричат перепела, и всю ночь ухают маленькие совы. Ручьи резво бегут своим путем. Это приятное время года, самое лучшее для любви.
Во время Танца Вселенной люди заключают браки; это традиционный период всяческих разборок и сортировок, приведения всего в порядок и следования по обеим Рукам Вселенной; это праздник продолжения и жизни на одном месте. Танец Луны – совсем иной праздник. Это время ухода, время разлук, в эти дни рвутся узы, люди расстаются друг с другом. Ты ведь знаешь, что хейийя-иф – двойная спираль: одна ее Рука центростремительная, другая центробежная. Стержень соединяет ее Руки, и он же разъединяет их. Так что во время Танца Луны браки не заключаются. Не создаются семейные очаги. Во время Танца Луны не зачинают детей. Если женщина забеременеет во время этого Танца, у нее случается выкидыш или же она делает аборт, так что если она все-таки вынашивает дитя до конца, то делает это только потому, что твердо решила заранее – родить ребенка без отца, так называемое лунное дитя.
Дети не любят Танец Луны. Есть пугающие вещи и в других танцах – Белые Клоуны во время Танца Солнца, церемония Оплакивания во время Танца Вселенной, всеобщее безумное опьянение во время Танца Вина; однако во всех этих праздниках дети участие принимают: и в подношении подарков во время праздника Солнца, и в Последнем Дне Танца Вселенной, и в ритуальном пении во время Танца Вина. Но во время Танца Луны для детей ничего нет. В этот день все как бы задом наперед, точно жизнь пошла в обратном направлении, понимаешь? Это секс без всего того, что имеет отношение к любви мужчины и женщины – без ответственности друг за друга, без брака, без детей. Из-за гиперсексуальности, свойственной молодым юношам и подросткам, им танцевать Танец Луны запрещено. Потому что этот Танец женщины исполняют в Доме Овцы, а мужчины отвечают за его подготовку и делают все по-своему. Все перевернуто с ног на голову. Полная луна отражает свет солнца, возвращает его отраженным на землю, но не создает света дневного, а лишь ночь делает светлой. Полная луна восходит на закате и заходит на рассвете.
Итак, дети и подростки остаются в доме или же уходят куда-то вместе, по крайней мере на всю первую ночь Танца Луны, а возможно, и на весь праздник целиком. Юноши из Общества Благородного Лавра в это время живут далеко в своих лагерях, а девочки из Общества Крови проводят ночь вместе в каком-нибудь доме или же высоко в горах, в летней хижине, если нет проливных дождей. Они держатся друг от друга подальше – мальчики с мальчиками, девочки с девочками. В эти дни они предоставлены самим себе, но держатся порознь. И присматривают за малышами.
Семейные мужчины, живущие с женщинами, как и семейные женщины, живущие с мужчинами, тоже обычно не участвуют в Танце Луны; они уходят в горы в летние хижины или остаются дома вместе с детьми, покрепче заперев двери. Если, разумеется, не хотят заняться любовью с другими партнерами – желающие всегда найдутся. Вот тебе, пожалуйста, уже ненормальность: Танец Луны предполагается как секс без зачатия, без оплодотворения, однако только люди, способные зачать дитя, имеют право танцевать его! Женщины обычно перестают танцевать этот Танец, когда им около пятидесяти, а порой и задолго до этого. Разумеется, старикимужчины всегда его танцуют, они придают этому большое значение. Так что в эти дни под Луной всегда больше мужчин, чем женщин.
Иногда на Танец Луны приходят и лесные люди-одиночки. И люди из других городов. Иногда перед тобой в толпе танцует мужчина или женщина, которых ты ни разу прежде не видел и не знаешь, где они живут и кто их мать. В таком случае необходимо спросить: «Из какого вы Дома?», чтобы не совершить случайно инцест, если они вдруг из твоего Дома.
Вообще, просто рассказывать об этом как-то странно. Танец Луны – это воплощение вседозволенности и невоздержанности, однако существует множество всяких правил, о которых забывать нельзя. Правила эти, по-моему, остались от каких-то древних времен. И еще одно: сложно женщине воспринимать жизнь и жить так, как это делают мужчины. Вот ты потом попроси кого-нибудь из мужчин тоже рассказать тебе о Танце Луны, и он, возможно, расскажет тебе совсем другую историю! Впрочем, не знаю; для мужчин ведь тоже существует масса всяких запретов и правил.
Мужчина мог бы рассказать тебе больше, чем я, о том, например, чем заняты мужчины, пока не наступит полнолуние. В течение предшествующих полнолунию четырнадцати дней все мужчины, желающие участвовать в Танце Луны, занимаются только тем, что потеют и поют. Они используют старую потильню, что стоит у излучины ручья, возле Холма Кирпича. Как следует пропотев, они выбегают наружу и прыгают в пруд, где берут воду для полива полей. В Кастохе и Чукулмасе потильни нагревают с помощью пара от горячих источников. У нас просто устраивают огромный очаг в яме, выложенной камнями, разжигают огонь, а потом льют на камни воду. Они этим занимаются в любое время суток и выбегают из потильни совершенно голые. А пропотев и выкупавшись, приходят и поют на городской площади. Эти песни в основном и понять-то невозможно, такие они древние. Я их совсем не знаю; их поют только мужчины. Они поют их глубоким басом, такое ощущение – что животом. И песни эти звучат как далекий гром, или как сильный дождь, или как звуки молотилки, только более глубокие и мягкие. Женщины не выходят из домов, чтобы послушать эти песни. Они их слушают, находясь внутри своих жилищ или мастерских и занимаясь своими обычными делами. И делают вид, что вообще ничего не слышат.
Один мужчина из Синшана по имени Четвертый Перепел спел нам две из таких мужских песен и сказал, что никакого вреда не будет, если я их запишу, «хотя записывание древних слов-матриц имеет примерно столько же смысла, как и записывание общего количества шагов в танце!»
Песня, которую поют до Танца Луны (1)
Мейян мейян барра амарраман ах, эх, эйя мейян.Песня, которую поют до Танца Луны (2)
Эхе эне эне эхи мейян хейю.Четвертый Перепел пел эти песни без аккомпанемента, глубоким, «нутряным» голосом, как и говорила Тёрн. (Когда такую песню исполняет группа, с повторами и вступлениями отдельных солистов, она, наверное, поется несколько минут.)
Итак, в течение пяти, потом еще пяти и еще четырех дней мужчины потеют, купаются и поют; и все соблюдают воздержание – как женатые, так и холостые. Иногда женщины поддразнивают их, но лучше этого не делать: во время Танца Луны они непременно за шутки отомстят.
Накануне полнолуния те женщины, что собираются танцевать, отправляются все вместе купаться в пруду. Если ты в этом году не хочешь танцевать, то должна сообщить об этом и сказать: «Я сегодня остаюсь с детьми в таком-то доме» или «Я сплю сегодня с девочками, которые еще не знали мужчин». Но даже и в этом случае мужчины все равно могут прийти к твоему дому, и петь там, и звать тебя, и пытаться как-нибудь выманить тебя наружу и танцевать с тобой. Всегда находится какая-нибудь глупая женщина, которая до праздника всем говорит, что не собирается в этом участвовать, и не будет танцевать, и ненавидит Танец Луны, но на самом деле так вовсе не думает: она просто хочет, чтобы мужчины пришли к ее дому и позвали ее, чтобы все слышали, как они ее зовут. И тогда она, разумеется, выйдет. А вообще-то никого нельзя заставить выйти из дому, если он действительно этого не хочет.
После того как солнце скроется за горами, женщины и мужчины постепенно собираются на городской площади. И музыка начинает играть – сперва внизу, в хейимас Обсидиана, а потом музыканты выходят наверх и идут по тропе к Стержню города и поют там, а потом направляются на городскую площадь и поют там, бьют в барабаны и играют на флейтах. О, такой музыки, как в ночь Луны, больше никогда не услышишь! Невозможно устоять на месте, так и тянет выйти в круг и танцевать. Музыка звучит у тебя в костях барабанной дробью, а мужчины еще так тихонько поют… Есть одно старинное слово в песнях праздника Луны: абахи. Мужчины повторяют его снова и снова – абахи, абахи, – и барабаны без конца меняют ритм, синкопируют – абахи, абахи. И становится все темнее, и свет луны начинает разливаться из-за сосен на вершине горного хребта. К восходу луны ты уже танцуешь в ряд с другими женщинами, просто переступая ногами на одном месте. Мужчины начинают образовывать свою линию, которая движется вперед, описывая круг, замыкая его и окружая танцующих женщин. Потом цепь мужчин распадается, и четверо или пятеро из них прорываются сквозь цепь женщин, разрывают ее на части. Теперь женщины танцуют уже в два ряда, и мужчины снова разбивают их на части, и снова, и снова, пока каждая женщина не окажется в одиночестве. Тогда мужчины могут окружить какую-нибудь одну или кто-то начнет парный танец с женщиной. И так без конца. Особых правил эти игры не имеют. Вы можете некоторое время потанцевать вдвоем, а потом мужчина перейдет от тебя к другой женщине или к группе танцующих, а перед тобой окажется какой-нибудь другой мужчина или же тебя окружит новая группа мужчин. Женщины с места почти не двигаются; пока мужчина не возьмет тебя за руку, ты остаешься на месте; только мужчины обладают свободой движения и выбора.
Музыка продолжает играть – музыкантами по большей части являются подростки из Дома Обсидиана, они еще не танцуют Танец Луны, но уже играют во время этого праздника! – и когда луна поднимается выше, женщины начинают петь. Они без конца повторяют слово абахи или трещат очень тоненькими голосами, как ночные сверчки. Именно в это время мужчинами и начинает овладевать особое возбуждение. Для начала некоторые из них выходят танцевать обнаженными, но когда женщины все вместе начинают трещать, как сверчки, то очень скоро уже все мужчины сбрасывают с себя одежду и танцуют голыми, и всем видно, что они готовы к половому акту. Они начинают обнимать и ласкать тех женщин, с которыми танцуют, а не просто танцевать с ними. Они берут их за руки или обнимают за плечи. Если же с тобой танцуют несколько мужчин, они начинают прижиматься к тебе сзади и тереться о тебя, и кому-то удается завладеть одной твоей рукой, а второму – другой, и тогда они начинают расстегивать твои одежды, так что если не хочешь, чтобы за эту ночь твою одежду превратили в грязные лохмотья, то особенно много и не надеваешь, потому что к тому времени, когда ее с тебя снимут, она скорее всего будет валяться там, где упала.
Итак, к этому времени некоторые пары уже начинают заниматься любовью, обычно стоя, и вместе с теми, кто находится рядом, начинают петь Песнь Койота. Она так называется потому, что немного похожа на вой койота, наверное, но, по-моему, она больше похожа на те звуки, которые издают люди в порывах страсти. Музыканты тоже поют песнь койота и продолжают барабанить, поддерживая ритм танца. Некоторые люди танцуют всю ночь. Другие прерывают танец, развлекаются любовными ласками, а потом снова принимаются танцевать и снова занимаются любовью, но уже с кем-нибудь другим, и снова танцуют; или же один раз совокупляются с кем-либо и отправляются домой; или поступают так, как им нравится. Женщине не полагается уходить домой до тех пор, пока мужчина с нею или ждет ее, но на самом деле, если с тебя достаточно или же тебе не нравится конкретный мужчина, ты всегда можешь уйти, ведь кругом темная ночь и так много людей, что легко затеряться в толпе. Существуют разные истории о том, как мужчины не давали женщине уйти, заставляя ее заниматься с ними любовью, обычно мстя ей за то, что она их дразнила, но при мне такого никогда не случалось; все эти истории рассказывают мужчины. Что действительно запрещается, так это уходить куда-то вместе и заниматься любовью вне городских площадей, где находятся все остальные. Если же кто-то из мужчин пробует преследовать уходящую домой женщину, она имеет право громко позвать на помощь и ославить его на весь город. Но обычно такого не случается. В конце концов, это всего лишь Танец, который просто танцуют все вместе.
Самым лучшим для меня был мой самый первый Танец Луны. В преддверии его я немного боялась. Ночь была теплая, ветреная, дожди уже кончились, вовсю стрекотали кузнечики, пятна лунного света на траве были похожи на белые озера. О, это была прекрасная ночь! Но иногда бывает, что на Танец Луны идет дождь. Тогда натягивают большой тент на шестах над всей городской площадью, и люди выходят и танцуют, однако заниматься любовью не слишком приятно – сыро и холодно, и в темноте даже трудно рассмотреть, кто там рядом с тобой. Мне больше всего нравится, когда при свете яркой луны всех хорошо видно и узнаешь каждого, и все-таки люди всегда бывают в эту ночь иными, потому что они находятся под влиянием Луны. Но когда небо в облаках – это все равно что ласкать совсем незнакомого мужчину среди других незнакомцев. Может быть, кому-то и нравится, но не мне. Мне нравится этот Танец, когда луна светит ярко!
Любой человек, если хочет, может танцевать Танец Луны каждую ночь или только одну, любую ночь из тех девяти, пока продолжается праздник. В первую ночь, в Ночь Полнолуния, народу на площади обычно больше всего, но если идет дождь, а небо проясняется лишь в одну из последующих ночей, то именно тогда может собраться целая толпа желающих потанцевать. В течение последующих ночей мужчины часто уходят танцевать в другие города. Если же ты попробуешь сделать это, то скорее всего окажешься в обществе мужчины, которого совершенно не знаешь. Ты должна тогда непременно выяснить, из какого он Дома, однако если с этим все в порядке, то ты поступишь неправильно, если ему откажешь. По правилам, если уж ты вышла танцевать, то не выбираешь и не отказываешь.
В течение восьми последующих ночей музыканты не выходят из хейимас до рассвета, а спать ложатся где-то сразу после обеда. За распорядком следят мужчины из Дома Обсидиана; они отвечают за весь этот праздник. Единственное серьезное беспокойство обычно причиняют пьяные. Как назло, среди людей всегда находится какой-нибудь старый охотник, который никак не может заставить стоять свой член и вовсю старается взбодрить его с помощью вина, но потом, естественно, у него и вовсе ничего не получается, и он напивается еще больше и совсем теряет рассудок, и тогда мужчинам, отвечающим за проведение праздника, приходится выкупать его в пруду или запереть в пустом амбаре, пока он не утихомирится. Была у нас тут, в Синшане, одна такая женщина, Бархатец из Дома Змеевика, которая вечно напивалась во время Танца Луны и никак не желала стоять на месте, как то полагается по правилам; если при ней не оказывалось ни одного мужчины, она непременно отправлялась на охоту и добывала себе кого-нибудь. Я думаю, каждого мальчишку в Синшане, который был слишком застенчив, чтобы подойти к женщине, которую действительно желал, непременно засасывало это старое болото во время Танца Луны. Однако особого вреда это юнцу не причиняло, ну а сама Бархатец зато получала удовольствие сполна! Во время Танца Вина она обычно слонялась повсюду, приговаривая: «Если я пью во время Танца Луны, то почему бы мне не заняться любовью во время Танца Вина?» И я подозреваю, что она таки занималась ею вовсю, не меньше, чем пьянствовала. Она была уже очень старой, когда перестала участвовать в Танце Луны, – лет семьдесят, а то и больше. И вскоре после этого она умерла.
Но, много или мало танцевали люди в течение девяти дней Танца Луны, на десятую ночь всему этому безумию дается обратный ход. Наступают безлунные ночи. К вечеру, когда солнце еще только начинает скрываться за вершинами гор, женщины собираются на городской площади, туда же приходят и музыканты. Женщины с песнями Темной Луны доходят до Стержня и до хейимас Обсидиана и возвращаются обратно.
Мужчины ждут их на площади для танцев. На десятую ночь они одеты в красивые одежды, главным образом черные или же, по крайней мере, в черные жилеты, расшитые серебром, – некоторые из этих жилетов, говорят, были специально изготовлены для Танца Луны и пережили более десяти поколений. Все мужчины с обнаженными головами и босые. Некоторые из них проводят древесным углем широкие полосы через все лицо от верхней губы до нижних век и от уха до уха. Они выглядят замечательно, главное – загадочно. Они встают в кружок лицом к женщинам, и когда женщины перестают петь, запевают мужчины. Они поют очень низкими голосами, точно так же, как перед началом праздника. Все это древние слова, только теперь слово мейян звучит как бы наоборот – на йем, что означает «берег реки», так что эти песни и называются «Берега Реки». Мужчины стоят и поют, а музыканты отбивают им ритм на барабанах. Женщины стоят, выстроившись в одну линию, и слушают. Они молчат и не танцуют.
Когда спеты «Берега Реки», женщины одна за другой спускаются в хейимас Обсидиана, в помещение Общества Крови, и моют руки и глаза в Лунном Бассейне, а потом идут домой. Мужчины, если хотят, остаются на площади для танцев и поют под рокот барабанов или же спускаются вниз и моются в Ручье Синшан. Потом и они идут домой. Танец Луны окончен.
Кое-что, совершаемое во время праздника Луны, не относится к священным ритуалам, это просто привычка, традиция. В Синшане, например, если какой-то мужчина хочет, чтобы определенная женщина именно с ним танцевала в эту ночь, он приходит к ней днем и дарит цветок сей. Мы однажды здорово веселились, когда какой-то дряхлый старец из Дома На Вершине Холма подарил моей матери целый букет сей, штук двадцать или тридцать. Она сказала: «Ну как я могу отказаться танцевать с таким замечательным человеком!» А в Мадидину, где я жила, когда вышла замуж, мужчины цветов не дарят, а среди бела дня отправляются вместе с женщинами купаться в Реке На.
Песни Темной Луны Исполняются женщинами в последнюю ночь Танца Луны
Черная овца впереди, а за ней ее ягненок. Закрылись Небеса. Хей хейя хей, Дом Обсидиана, дверь его закрыта. Женщина Обсидиана вскормила того ягненка в темной овчарне. Хей хейя хей, дверь Дома Луны черна, ох черна! Сгусток крови, сгусток крови, черный кровяной комок, ах, черный комок священный, я исторгла тебя с кровью. Сверкающая, сияющая белизна сверкающая, сияющая белизна, белая сияющая луна! Согласие даю, и эта кровь согласна, и эта кровь черна. Она течет сама собой. Я исхожу этой кровью, кровавыми сгустками, черными комьями и этим светом, и этой жизнью, сверкающей, сияющей.Кое-что еще о Танце Луны Говорит женщина из Чумо:
По-моему, мужчины больше всего любят женщин, пока не займутся с ними любовью, а женщины больше всего любят мужчин после этого. Так что, как правило, мужчинам не так сладко после вступления в брак, как женщинам. А вот Танец Луны как бы выворачивает это правило наоборот. В течение целого месяца мужчины чувствуют себя всюду как дома. И в этот месяц никто в брак не вступает.
Когда я еще была незамужней, я любила участвовать в Танце Луны, но когда вышла замуж, я всегда радовалась, что этот праздник наконец кончился. Я всегда выходила петь песни Темной Луны на десятую ночь и смотрела на своего мужа в кругу других мужчин, одетого в черный костюм Дома Обсидиана и выглядевшего пылким красавцем, и мне было приятно, что в эту ночь он непременно вернется домой. Он никогда, правда, не выказывал сожалений по этому поводу, но никогда ничего и не говорил. Он вообще был довольно сдержанным. Ты же знаешь, какими эти мужчины могут казаться скромниками.
Говорит мужчина из Кастохи:
Женщины для этого праздника ткут Лунные Покрывала, очень тонкие, длинные и широкие. Когда они выходят из домов на городскую площадь, они окутывают этими покрывалами головы, обматывают их вокруг себя, а свободные концы плывут за ними следом, и одним концом они все стараются прикрыть лицо, чтобы невозможно было угадать, кто такая эта женщина. Эти покрывала белые, пышные и в сумерках, при лунном свете похожи на лунные блики.
В нашем городе женщины всегда надевают Лунные Покрывала; я даже не знал, что в других городах Долины Танец Луны танцуют и без них. Такое покрывало можно постелить на землю, когда занимаешься любовью, им можно накрыться, если прохладно. Женщины утром сразу их стирают, так что в течение всего Танца Луны веревки для белья увешаны развевающимися на ветру белыми покрывалами – ты разве никогда не замечала?
Иногда женщины прячут свое лицо особенно упорно, значит, они действительно не хотят, чтобы их узнали; по-моему, это очень хорошо и правильно, именно так и должно быть. Однако ты сам должен быть внимательным и непременно заметить, если она подаст тебе особый знак, когда вы танцуете вместе, и окажется, что вы оба из одного Дома. Тогда тебе нужно поскорее перейти к другой женщине.
Говорит молодой человек из Чукулмаса:
О да, здесь девушки тоже носят эти покрывала, и старухи тоже, так что их порой невозможно отличить – все они просто женщины. Ну, разве что когда подберешься к ним совсем близко…
Девушки, которые еще ни разу не танцевали Танец Луны, прячутся у себя дома. Ты сам должен войти туда. Некоторое время ты поешь возле дома девушки и зовешь ее, но она ни за что не выходит. Так что приходится идти внутрь. Ты поешь:
Мейян, хей, мейян, Я вхожу в дом!Девушка прячется, но ждет тебя внутри, укутавшись в покрывало. Ты берешь ее за руку, и она выходит с тобой на городскую площадь. Такие девушки всегда прикрывают лицо.
(Отвечая на мой вопрос): Не думаю, что кто-нибудь стал заниматься любовью впервые в жизни именно во время Танца Луны – я, например, таких не знаю. В тот год, когда ты решил участвовать в Танце Луны, ты предварительно лишаешься невинности. По-моему, было бы ужасно трудно, мучительно впервые страстно обнимать женщину, когда вокруг столько людей! Это только пожилые мужчины всегда стараются продемонстрировать прилюдно, какие они молодцы.
Танец Луны особенно мучителен, если ты влюблен. Вы с девушкой любите друг друга, возможно, вы с ней уже занимались любовью, и не раз, а тут, видите ли, наступает этот праздник. Как вам обоим танцевать на нем? Во время Танца Луны нельзя оставаться все время с одним и тем же партнером. А вдруг ей будет обидно и больно, когда ты удалишься с другими женщинами? А вдруг она сама захочет танцевать, когда тебе вовсе этого не хочется и не хочется, чтобы это делала она? Из-за Танца Луны немало разбивается любовных пар. Не знаю, как уж там насчет браков.
ПОЭЗИЯ РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Синшан Песня Шестого Дома Из Общества Земляничного Дерева Синшана
Падает вниз, непрерывно струится от Танца Травы до Танца Луны. Весь этот Дом из струй дождевых. Каплями дождя стекают его стены в ручьи, что вниз спешат по склонам, к корням, что вниз уходят, в землю. От Танца Травы до Танца Луны вниз течет, свисает канителью. Ива у колодца вверх растет, а ветви у нее свисают вниз, струятся. Абрикос, упавший в землю близ Синшана, вверх прорастает деревцем цветущим. Весь этот Дом построен из того, что падает на землю.Медитация по поводу дома Перепелкино Перо Автор: Лисий Дар из Дома Синей Глины, Синшан
Давно ль в Синшане он построен, дом мой родной, что Перепелкино Перо зовется? Спущусь ли в Унмалин, мой дом останется на месте, иль поднимусь к самой Горе, но снова к дому возвращаюсь. Я ухожу и прихожу, он остается. Я внутрь вхожу и выхожу наружу, а он все тот же, хоть пересохла штукатурка и пол потрескался, и крыша пропускает дождь, и люди занимаются его ремонтом. Он остается. Ведь люди родились в нем, здесь и умирают. Дом остается. Возможно, был в доме и пожар, но люди дом восстановили. Он продолжает оставаться здесь, в Синшане, дом Перепелкино Перо, и его названье – как тень его.Три коротких стихотворения Подарено хейимас Обсидиана в Синшане Лунным Чесальщиком
В первой лощине
В воздухе громкое ржание, дятел хлопает крыльями. Ястреб кричит над Синшаном, как сон, улетающий прочь.День Девятого Дома
Пространство между мной и солнцем прозрачного безветрия полно. Вон пролетел канюк, проплыл в небесной выси в Доме Безветрия. Застыла неподвижно ящерица на скале отвесной. А крыши в этом Доме нет — прозрачность воздуха над головою.Дубу Долины
Никто никогда не строил столь прекрасного дома, как эта большая хейимас, глубоко уходящая в землю и с высокой-высокой крышей.Крик ястреба над Синшаном Автор – Ярость из Синшана
Что ты схватил своими цепкими когтями? Что ты ломаешь крючковатым клювом? Ну, что ты смотришь золотистым глазом? Своих детей ты кормишь детьми моими. Эй, ястреб, что ты там схватил? Летаешь с криком громким над полями. Всегда печален крик твой над холмами. Кого убил ты, ястреб? Кто твоя жертва?Во Втором Доме Из хейимас Синей Глины в Синшане
Я знаю, где она ступала своими лапками, пропахшими кедровым маслом, по росистым травам. Я знаю, где она лежала — трава примята и влажная земля согрелась под мягким круглым ее брюшком, под лапками поджатыми. Я представляю: ее ушки настороженно встали над травой там, где она лежала, подобные коричневым листочкам. Но я совсем не знаю, что за мысли роились в маленькой ее головке, когда она смотрела на меня.Хейя скале Автор – Говорящий Камень из Дома Синей Глины, Синшан
О, старая скала, сохрани, прошу, мою душу. Когда меня здесь не будет, обернись за меня к восходу. Медленно согрейся на солнце. Когда меня в живых не будет, обернись за меня к восходу. Медленно согрейся на солнце. Вот моя рука на твоей щеке – теплая; вот мое дыханье на твоей щеке – теплое; вот мое сердце бьется в тебе – теплое; вот моя душа живет в тебе – теплая. И ты еще долго стоять здесь будешь, повернувшись лицом к восходу, тепло в себе сохраняя. Когда ж упадешь ты на землю, когда расколешься ты на части, когда земля вокруг иной станет, когда твоя душа скалы погибнет, мы с тобою вместе станем светиться, вместе станем теплом и светом.На втором холме Автор – Ярость из Синшана
Когда бы ни пришла я в это место, я замечаю: кто-то побывал здесь, опередил меня, бродил здесь до меня по травам. Следы его тонки и непонятны, и разобрать их трудно, но они приводят прямо к Стержню. И дятел на дубу стучит пять раз, потом еще четыре. Но кто же все-таки сюда приходит опережая солнце, и меня, и даже дятла? Чьи то следы на травах? Копытца их узки, разделены надвое. Стройны их ножки. И они ступают грациозно, танцуя свой священный танец.Жрецы этой религии Запись декламации Щедрой, дочери Ярости из Синшана [14]
Самец большой совы ушастой гудит, точно в пустой кувшин, — поет свою простую хейю он в сумерках перед рассветом, законы ваквы точно соблюдая: УГУ, угу-гу, У-гу-гу. Лягушка-крошка, за которой хищник этот ведет охоту, притаилась в тени на дне ручья и тоже распевает свою хейю, не зная страха и довольная собой: Каа-ригк, каа-ригк, каа-ригк.Забивший из земли источник Запись декламации Щедрой, дочери Ярости, из Дома Синей Глины в Синшане
Прямо за холмом рядом с хейимас, рядом с хейимас, прямо за холмом, что рядом с хейимас Синшана, Синшана, прямо за холмом вдруг забил источник. Кто это там танцует? Кто это там танцует? Это они танцуют, это они танцуют, ведь там, рядом с хейимас, всегда и бывают Танцы. Топают, танцуют, топают, танцуют. Острыми копытами воду высекают из-под камней и глины. Тонкими ногами воду заставляют вылетать фонтаном. Прыгают, танцуют, топают, танцуют, бьет вода фонтаном, в родник превращаясь, размягчая землю, затопляя травы, и с журчаньем громким весело струится средь лугов зеленых. Солнце в ней играет. И стремится дальше вниз, все вниз по склону тот ручей широкий, что из-под копыта, из земли пробился родничком веселым. Там они танцуют, землю пробивая. Там они танцуют, воду выпуская. Там они танцуют, топая копытцем. Но танцуют втайне — тайна та священна, тайна та опасна в Седьмом Доме Пумы, сразу за холмами, на стороне дикой, от хейимас близко, рядышком с Синшаном.Возвращение в Дом На Холме Автор – Маленькая Медведица
Мое сердце танцует, танцует, на знакомых тропах – танцует, и в дверях знакомых – танцует, и в комнате каждой – танцует, с пылинками вместе – танцует в лучах восходящего солнца. И в словах моих радость – танцует, и в песнях она – танцует, и во сне моем радость – танцует. Даже пыль подметаю, танцуя, убираю свой старый, но светлый, солнцем пронизанный дом. Это долгий-предолгий танец: в тишине, в этих комнатах старых. Слышен клич перепелки снаружи, свет солнечный в окна льется… Все эти годы так было. Сколько раз этот пол подметали! Отец глядел из окна когда-то, мать за этим столом писала, в детстве я, а потом мои дети просыпались здесь утру навстречу — в этом солнцем пронизанном доме.Автор – утру в Доме На Холме Автор – Маленькая Медведица из Синшана
Те, кто хочет драться, пусть табак курят. Кто напиться хочет, пусть пьет свое бренди, Кто «полетать» навострился, пусть конопли покурит. А кто доброй беседы жаждет, пусть вина лучше выпьет. Я же сейчас ничего не желаю такого. Ранним утром воздух чистый вдыхаю и пью только воду, потому что сейчас мне нужны чистота и молчанье да несколько слов на белом листе бумаги, что вьются вкруг моей мысли в чистоте и молчании утра.Песня, посвященная Дому На Холме в Синшане Автор – Маленькая Медведица
Милый мой дом, милый мой дом, вместе с тобой мы стареем. Старые комнаты тихи. Я живу здесь, и мать моя молодой здесь жила. Дверь, что на северо-запад выходит, дверь, что на юго-запад выходит. Может быть, в этих стенах еще успеет состариться внучка моей дочери. В этом вот доме. Может, когда-нибудь после смерти я загляну сюда – в дверь, что на юго-запад выходит, иль в другую дверь этого дома, пройдусь по комнатам старым, где жизнь прожила я, по милому дому.Черноголовая гаичка-синичка Автор – Излучина Реки из Дома Синей Глины, Синшан
Ах, мудрая храбрая птичка! Восседаешь на ветке так гордо, охорашиваешься прилежно, точишь острое свое оружье — меня ни за что не пропустишь. Ну что мне сказать тебе? Впрочем, ты на меня ноль вниманья, нежно и тихо пропела трижды и ко мне спиной повернулась, храня тишину, храня молчанье лесное. Вот в лес я вошла, сижу у источника с сердцем иссохшим. Азалия удушающе пахнет — ее цветы для крошки-колибри. Не могу прочесть я ни слова на грудке у воробьихи, хоть она и подходит близко, чтобы все прочесть я сумела. Вода темна, молчалива, пьют ее корни деревьев. В трех местах она наружу выходит среди скал и одно обретает русло. Пестрый цветочный коврик за сине-зеленой скалою, стеклом блестящей на солнце. Страж мой, синичка, пропела над вратами этого Дома, среди мхов, близ травы, молчанье хранящей. Высохло сердце мое, ибо стара я стала. Сколько же лет белым цветом цвела здесь азалия эта? Сколько же лет струится молчаливый этот источник? Дождь будет завтра, и завтра мне сюда не подняться. Внизу я дождь буду слушать и думать о птицах здешних, бесстрашных и осторожных в зарослях лавра, в кустах душистых, на ветвях азалии старой, в тени огромных деревьев этих, что пьют тишину и молчание леса.Ручей Синшан Автор – Пик из Дома Желтого Кирпича и Общества Искателей Синшана
Думая о быстром ручье, бегущем меж берегами нависшими, под дубами, ольхой и ивами, под деревьями земляничными и под благородными лаврами; думая о прозрачной воде, струящейся над пестрою галькой, выстлавшей русло, что после излучины на равнину выходит, стекая по склону в тени мощных лавров, и снова, петляя, в холмах исчезает, спускается в небольшую лощину; думая о быстром ручье, о прозрачной воде в чужом краю, в сухие месяцы осени, я, конечно, в голос заплачу и в комок сожмусь, мечтая всем сердцем вдохнуть аромат этих лавров. И мечты мои станут этой водою, а душа моя – камнем в струях этой воды бегущей.Песнь, посвященная Ручью Синшан Автор – Ярость из Синшана
И вот я здесь. И вот я вернулась туда, где вода из-под скал на поверхность выходит. Вот он, знакомый источник с прозрачной водой, что струится среди темных камней, среди скал голубых – в Долину. И вот я здесь, у истоков самой чистой воды в Долине. Со мною рядом колибри с серою грудкой, с хвостом зеленым, с горлышком красным. Колибри со мною рядом охотится, крылышками трепещет. И вот я здесь, где вода из тьмы подземелья на поверхность выходит. Со мною рядом колибри в своем одеянии пестром — висит над водой, ясноглазый, лишь крылышки мелко трепещут.Примечания
1
Глаголы в этом стихотворении и в других подобных стихотворениях, написанных на языке кеш, а также – в мифах, пересказах снов, в разговорах об умерших и в обрядовых речитативах употребляются в настоящем времени.
(обратно)2
Глава «Устав Дома Змеевика» может прояснить некоторые из этих образов. В Левой Руке хейийя-иф, символе Целого, пять цветов – черный, синий, зеленый, красный, желтый – разбегаются от центра или стремятся к нему; Правая Рука этого символа совершенно белая. Левая Рука символизирует смерть и смертность, Правая – вечность.
(обратно)3
«Песнь Щитомордника (Медной Змеи)», видимо, была составной частью ритуала исцеления от ревматизма. Гора Ама Кулкун (т. е. Гора-Прародительница), Источники, дающие начало Реке На, а также город у этих Источников, Вакваха, считаются священными местами для жителей Долины. Путь на вершину Ама Кулкун – «тропа пумы», «тропа коршуна» – означает некое путешествие в одиночестве, предпринимаемое для освоения нового духовного опыта; такое путешествие рано или поздно совершает почти каждый житель Девяти Городов и иногда по многу раз.
(обратно)4
Дерево гинкго является двуполым. Эти деревья обычно не сажают поблизости друг от друга, ибо если произойдет опыление, то плоды будут иметь отвратительный запах. В литературе кеш дерево гинкго – синоним гомосексуальности.
(обратно)5
Не слишком хорошо знакомый с тонкостями употребления глаголов кеш, Тертер Абхао пользуется местоимением «мы», которое включает и того человека, к которому он обращается, а также глаголом «ходить, гулять, прогуливаться», так что Ивушка понимает его примерно так: «Нам с тобой хорошо бы прогуляться вместе как-нибудь до начала Танца Вселенной».
(обратно)6
У Клоунов язык импровизаций был предназначен для уничижительного воздействия (как и в сюрреалистской системе образов). Абхао же ошибся нечаянно, сказав, что его жена и ребенок «принадлежат» ему. Грамматика языка кеш не имеет средств для выражения отношений обладания между живыми существами. Это язык, в котором глагол «иметь» является непереходным, а смысл выражения «быть богатым» передается тем же словом, что и глагол «дарить», и зачастую кеш может сыграть с иностранцем, говорящим на нем, или с переводчиком весьма злую шутку, превращая его чуть ли не в клоуна.
(обратно)7
Примечание переводчика: История о войне людей с медведями была, по всей видимости, хорошо известна присутствовавшим взрослым; они выказывали свое одобрение рассказчику, если тот употреблял какой-либо особенно изящный оборот в этом импровизированном повествовании, шепча ему похвалы или смеясь в нужном месте. История Пса, очевидно, также представляет собой сокращенный вариант хорошо известной сказки. Рассказывались ли эти истории при детях или после того, как их или по крайней мере младших укладывали спать, зависело от того, что принято в той или иной семье. Подобные истории могут быть либо свободной импровизацией, либо более или менее точным пересказом некогда услышанного. Мне порой казалось, что слушатели просто не знали, что последует дальше, однако с удовольствием помогали рассказчику изобретать новые повороты сюжета и новые краски в изображении действующих лиц своими вопросами, дополнениями и смехом.
(обратно)8
«Песнь стрекозы» – это импровизация, нечто в достаточной степени эфемерное: возникнет и тут же исчезает.
Это стихотворение было прочитано Ракитником членам одной из семей Унмалина на балконе летним вечером, и когда я сказала, что оно мне нравится, автор тут же записал его и подал мне.
(обратно)9
Их можно читать по отдельности, подряд сверху вниз, или вместе, читая строки в шахматном порядке, как бы перекрестно.
(обратно)10
Хотя данная история носит явно предупреждающе-нравоучительный характер, имеются определенные свидетельства того, что все это имело место в действительности; обстоятельства описаны необычайно точно, да и люди Дома Обсидиана в Чукулмасе считают себя потомками семейств Ивовой Лозы и Гагата.
(обратно)11
…про них никто не говорил, что они богаты… – В языке кеш прилагательное «богатый» образовано от коренного слова амбад, которое при употреблении в качестве глагола имеет значение «давать, быть щедрым», а при употреблении в качестве существительного – «благополучие», «щедрость». Однако Тёрн, рассказывая эту историю, употребила слово ветотоп – производное от корневого слова «топ», которое в качестве глагола имеет значение «иметь», «хранить» или «владеть», а в качестве существительного – «имущество», «используемые вещи». В своей редуплицированной форме тотоп это слово имеет значение «делать запасы», «хранить сокровища» или, в качестве существительного, означает «имущество, спрятанное или неиспользованное». А форма прилагательного ветотоп используется применительно к жадному человеку, скряге. В терминах языка кеш люди, владеющие немногим из-за того, что постоянно отдают другим, являются богачами, тогда как те, кто отдает мало и, таким образом, сам владеет большим количеством вещей, являются бедняками. Стараясь выражаться яснее, я вынуждена была перевести «бедный» как «богатый» – однако соотношение с нашими словами «скряга» и «нищий» доказывает, что точка зрения народа Кеш на эти вещи не всегда была совершенно отличной от нашей.
(обратно)12
…Сапсан – Или на языке кеш йестик; распространенное среди Искателей имя.
(обратно)13
…Шарики фумо – Фумо – слово, обозначающее твердое плотное вещество беловатого или желтоватого цвета, имеющее древнее промышленное происхождение; удельный вес фумо примерно тот же, что и у льда. В некоторых частях океанов встречаются даже целые плавающие пояса фумо, а многие пляжи почти полностью состоят из мелких частичек фумо.
(обратно)14
Название выдумано мной. Автор назвала это стихотворение «гоутун онкама», то есть «Песня утренних сумерек».
(обратно)15
…изучал искусство выращивания плодовых деревьев под руководством брата своей матери… а еще он учился у самих садовых деревьев всех сортов. – Мы, пожалуй, скорее скажем, что он учился у своего дяди тому, как надо ухаживать за садовыми деревьями; однако это будет не совсем точный перевод повторяющегося суффикса -оуд со значением «с, вместе с». Таким образом, учиться «вместе с» (дядей и деревьями в данном случае) – это не просто передача неких сведений кем-то кому-то, но некие отношения, скорее похожие на родство, ибо они считаются взаимными. Подобная точка зрения кажется безнадежно противоречащей определениям субъекта и объекта, принятым в науке. Тем не менее оказывается, что генетические эксперименты и опыты Белого Дерева были технически весьма искусны и что он был достаточно сведущ также и в теории. Совершенно определенно он достиг именно тех результатов, к которым стремился, и полученный в итоге сорт плодового дерева получил его имя: типичный случай контроля Человека над Природой. Это выражение, впрочем, невозможно перевести на язык кеш, в котором нет ни одного слова со значением «природа», но в разговоре о ней используется местоимение «она», обозначающее живое существо женского рода. Так или иначе, народ Кеш воспринимал грушу, выведенную Ясной Погодой, как результат сотрудничества человека и нескольких грушевых деревьев. Такая разница в восприятии представляется достаточно интересной, а отсутствие заглавных букв, возможно, не совсем обычным.
(обратно)16
Игра, несколько напоминающая поло. В нее играют, сидя на спине лошади и используя специально открытую с одного края плетеную корзинку на длинной ручке, с помощью которой мяч подхватывают и бросают; см. главу «Игры» в разделе «Приложения».
(обратно)17
Севаи значит «заключенный в оболочку». Это генетическое заболевание, поражающее двигательные нервы и главным образом симпатическую нервную систему. Очевидно, происхождением своим севаи обязано остаточным промышленным токсинам, до сих пор содержащимся в почве и воде. В некоторых регионах планеты севаи встречается довольно редко, в других – весьма часто. В Долине примерно каждый четвертый новорожденный рождался мертвым из-за севаи; точно такому же заболеванию подвержены и животные. Как говорит Дятел, чем позже болезнь проявит себя, тем более медленно и щадяще она развивается, однако всегда неизбежно ведет к утрате способности двигаться, к слепоте, параличу и смерти.
(обратно)18
Не очень часто встречающийся образ двух Рук Мира, то есть Пяти Домов Земли и Четырех Домов Неба.
(обратно)19
Айяш означает одновременно и «учитель» и «ученик», учащийся и получивший знания, как, впрочем, и наше слово «ученый». Учеными в хейимас были как женщины, так и мужчины с религиозными или исследовательскими склонностями; они и были хранителями Дома.
(обратно)20
…Ни в ту ночь, ни потом. – Рассказ Камедана в некоторых деталях отличается от событий того вечера, когда исчезла Уэтт, рассказанных автором романа в первой главе.
(обратно)21
…Уэтт-видение или же Уэтт во плоти? – Небесный вариант имени и земной: Уэттез – Уэтт.
(обратно)22
…Мать этой собаки была хечи, а отец – дуи. – Породы собак; см. главу «Некоторые из прочих народов Долины» в Приложении.
(обратно)23
…Я была счастлива, давая без счета…., …мне там было дано очень многое. – «Пребывать в благополучии, давать, дарить» на языке кеш обозначается словом амбад, «учиться» – словом андабад, а «дар» в значении «талант» или «способности» – словом бадаб. Говорящий Камень пытается использовать некоторую непереводимую игру слов, чтобы показать, что и полученное ею образование кое-что значит.
(обратно)24
Это описание Солнечной системы может быть представлено на сцене младшими детьми, играющими роли Земли, Луны и пяти видимых планет и кружащимися соответствующим образом вокруг певца-солиста, который исполняет роль Солнца.
Под следующую песню дети не танцуют; она исполняется речитативом в определенном ритме под аккомпанемент барабана. Дети учат наизусть первую ее часть; все остальное они узнают, только став достаточно взрослыми; и слова этой песни так хорошо знакомы всем и священны, что часто их вовсе не произносят, но «выговаривают языком барабана» – поскольку ритм настолько же отчетлив и хорошо знаком, как и слова.
(обратно)
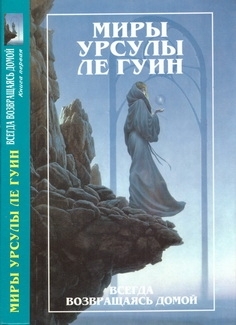




Комментарии к книге «Всегда возвращаясь домой. Книга 1», Урсула К. Ле Гуин
Всего 0 комментариев