Стивен Кинг Стрелок
Эду Ферману, который на свой страх и риск смотрел эти главы одну за другой.
ВВЕДЕНИЕ: О том, что бывает, когда тебе девятнадцать (и не только об этом)
I
Когда мне было девятнадцать (значимое число для истории, которую вы собираетесь прочитать), хоббиты были повсюду.
По грязи на ферме Макса Ясгура, на Большом Вудстокском фестивале, бродили, наверное, с полдюжины Мерри и Пиппинов и в два раза больше Фродо, а прихиппованных Гэндальфов было вообще не счесть. В то время «Властелин колец» Дж. P.P. Толкиена пользовался бешеной популярностью, и хотя я так и не добрался до Вудстока (к сожалению), я всё-таки был если и не настоящим хиппи, то хиппи-полукровкой. В любом случае этой половинки хватило, чтобы тоже прочесть эти книги и чтобы в них влюбиться — в книги наподобие «Тёмной Башни», которая, как и большинство длинных сказок-фэнтези, написанных людьми моего поколения («Хроники Томаса Кавинанта» Стива Дональдсона и «Меч Шанары» Терри Брукса — вот лишь некоторые из многих), вышла из «Властелина колец».
Но, хотя я читал «Властелина» в 1966 и 1967 годах, я всё же воздерживался от того, чтобы писать самому. Я сразу проникся (чистосердечно и искренне) размахом воображения Толкиена — честолюбивыми замыслами его книги, — но мне хотелось писать своё, и если бы я начал писать тогда, я написал бы не свою, а его историю. А это, как любил говорить покойный Ловкий Дик Никсон, было бы в корне неправильно. Благодаря мистеру Толкиену двадцатый век получил свою необходимую порцию магов и эльфов.
В 1967-м я ещё даже не представлял, какой должна быть моя история, но это было не так уж и важно; я был уверен, что сразу узнаю её, если встречу на улице. Мне было девятнадцать. Я был очень самоуверенным молодым человеком. Достаточно самоуверенным, чтобы не рыпаться и спокойно ждать своей музы и своего шедевра (а я был уверен, что это будет шедевр). Когда тебе девятнадцать, у тебя есть право быть самоуверенным: впереди у тебя куча времени, и не надо бояться, что его не хватит. Время — коварная штука. Оно отнимает и шевелюру, и прыгучесть, как поётся в одной популярной песне кантри; однако на самом деле оно отнимает гораздо больше. Я не знал этого в 1966-м и 1967-м, но даже если бы знал, мне было бы наплевать. Я ещё мог представить — хотя и смутно, — что когда-нибудь мне будет сорок. Но пятьдесят? Нет. Шестьдесят? Никогда! Шестьдесят — это было вообще немыслимо. Когда тебе девятнадцать, так всегда и бывает. Когда тебе девятнадцать, ты говоришь: «Смотрите все, я пью динамит и курю тротил, так что лучше уйдите с моей дороги, если вам жизнь дорога, — вот идёт Стив».
Девятнадцать — эгоистичный возраст, когда человек думает лишь о себе, и ничто другое его не волнует. У меня были большие стремления, и это меня волновало. У меня были большие амбиции, и это меня волновало. У меня была пишущая машинка, которую я перевозил с одной убогонькой съёмной квартиры на другую, и у меня в кармане всегда была пачка сигарет, а на лице сияла улыбка. Компромиссы среднего возраста казались такими далёкими, а немощи пожилого — вообще запредельными. Как и герой этой песни Боба Сегера, которую теперь крутят в магазинах, чтобы народ покупал всякий хлам, я был полон неиссякаемых сил и неиссякаемого оптимизма; в карманах у меня было пусто, зато в голове — избыток мыслей, которые мне не терпелось поведать миру, а в сердце — полно историй, которые я хотел рассказать. Сейчас это звучит наивно; но тогда это было прекрасно и удивительно. Я считал себя очень крутым. Больше всего мне хотелось пробить защиту читателей: распотрошить их, изнасиловать и изменить навсегда — лишь одной силой слова. И я чувствовал, что я это могу; что я для этого и предназначен.
И как это звучит? Очень самодовольно или не очень? Но я в любом случае не собираюсь оправдываться. Мне было девятнадцать. И в моей бороде не было ни одной седой пряди — ни единого волоска. У меня было три пары джинсов, одна пара ботинок, и я был уверен, что в мире много разных возможностей и что у меня обязательно всё получится — и ничто из того, что случилось за следующие двадцать лет, не убедило меня, что я был не прав. А потом, когда мне стукнуло тридцать девять, всё и началось: пьянство, наркотики, ДТП, из-за которого у меня навсегда изменилась походка (помимо прочего). Я уже много об этом писал, так что не буду вдаваться в подробности. Да и зачем? Вы и сами всё знаете, правда? С вами тоже такое случалось наверняка. Жизнь периодически посылает нам злых патрульных, чтобы не дать нам особенно разогнаться и показать, кто тут главный. Вы, я уверен, с ними встречались (или встретитесь); я своего уже встретил, и я знаю, что он ещё вернётся. У него есть мой адрес. Он — злющий парень, плохой полицейский, заклятый враг всяких дурачеств, безобидного раздолбайства, честолюбия, гордости, громкой музыки, всего того, что так важно, когда тебе девятнадцать.
Но я по-прежнему думаю, что это очень хороший возраст. Может быть, самый лучший. Можно колбаситься всю ночь напролёт, но когда умолкает музыка и иссякает пиво, ты ещё в состоянии думать. И мечтать с грандиозным размахом. В конечном итоге злой патрульный всё равно прищемит тебе хвост и не даст развернуться, и если ты начинаешь с малого, то когда он закончит с тобой, от тебя не останется мокрого места. «Так, ещё один есть!» — скажет он и направится дальше, сверяясь со списком в своей записной книжке. Так что немного самоуверенности (или даже много самоуверенности) — это не так уж и плохо, хотя ваша мама, должно быть, всегда утверждала обратное. Моя утверждала. «Гордыня, она до добра не доводит, Стивен», говорила она… и вот вдруг оказалось — в возрасте где-то в районе 19x2, — что мама была права, и гордость таки до добра не доводит. Даже если тебя не низвергнут с небес на землю, то хотя бы в канаву спихнут — это уж наверняка. Когда тебе девятнадцать, бармен может проверить твой возраст по удостоверению личности и вежливо попросить тебя выйти, на хрен, из бара, но никто не станет справляться, сколько там тебе лет, когда ты садишься писать картину, стихи или книгу, и если ты — тот, кто читает сейчас эту книгу — ещё очень молод, прошу тебя, не позволяй никому из старших, которые считают себя умнее, разубедить тебя в этом. Наверняка ты не был в Париже. И никогда не участвовал в беге быков в Памплоне. Да, ты ещё просто мальчишка, у которого только три года назад появились волосы под мышками, — ну и что с того? Если ты не начнёшь с грандиозного замысла, если ты изначально не будешь высокого мнения о себе, то как ты добьёшься того, чего хочешь? Не слушай, что говорят другие, а послушай меня: плюнь на всех, сядь и прибей эту лапочку.
II
Мне кажется, что писатели бывают двух видов, в том числе и неопытные, начинающие авторы, каким был я сам в 1970-м. Те, кто относит себя к более литературным или «серьёзным» сочинителям, рассматривают все сюжеты и темы в свете такого вопроса: «Что эта книга значит для меня?» Те, чей удел (или ка, если угодно) — писать популярные книжки, задаются вопросом, прямо противоположным: «Что эта книга значит для других?» «Серьёзные» авторы ищут ключи и разгадки к себе; «популярные» авторы ищут читателей. И те и другие — равно эгоистичны. Я знал очень многих и готов спорить на что угодно. Как говорится, ставлю и кошелёк, и часы.
Но как бы там ни было, я уверен, что, даже когда мне было девятнадцать, я сумел распознать, что история про Фродо и его попытки избавиться от Кольца Всевластия относится ко второй категории. Это были приключения очень британской компании пилигримов на фоне расплывчатых северно-мифологических декораций. Мне понравилась идея поиска — очень понравилась на самом деле, — но меня не особенно заинтересовали ни дюжие деревенские персонажи Толкиена (это не значит, что они мне не понравились, потому что они мне понравились), ни его лесистые скандинавские пейзажи. Если бы я попытался сделать что-нибудь в том же духе, я бы всё сделал неправильно.
Так что я ждал. В 1970-м мне исполнилось двадцать два, и у меня в бороде уже появились первые седоватые пряди (я так думаю, отчасти тому виной две с половиной пачки «Pall Mall» в день), но даже когда тебе двадцать два, ты ещё можешь позволить себе подождать. Когда тебе двадцать два, время ещё на твоей стороне, хотя злой патрульный уже ошивается по соседству и расспрашивает о тебе.
А потом, в почти пустом кинотеатре («Bijou» в Бангоре, штат Мэн, если это кому-нибудь интересно) я посмотрел фильм Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». И где-то на середине фильма я понял, что я хочу написать: книгу поиска, проникнутую толкиеновской магией, но в обстановке величественных до абсурда вестерн-декораций Леоне. Если вы видели этот безумный вестерн по телевизору, вы никогда не поймёте, о чём я сейчас говорю — прошу прощения, но это так. В кинотеатре, на широком экране, «Хороший, плохой, злой» — грандиозная эпопея, вполне сравнимая с «Бен Гуром». Клинт Иствуд предстаёт великаном восемнадцати футов ростом, и каждый волосок на его заросших щетиной щеках — по размерам как раз с молоденькое деревце. Морщинки у губ Ли Ван Клифа глубоки, как каньоны, и на дне каждого может быть червоточина (см. «Колдун и кристалл»). Пустыня, кажется, протянулась как минимум до орбиты планеты Нептун. А ствол каждого из револьверов — огромный, почти как Голландский тоннель.
Но декорации — это не самое главное. Больше всего мне хотелось передать это внушительное ощущение эпического размаха, апокалиптического размера. И то, что Леоне вообще не рубил в географии Америки (согласно одному из его героев, Чикаго — это где-то в районе Феникса, штат Аризона), только способствовало ощущению смещённой реальности, что пронизывало весь фильм. И в своём непомерном воодушевлении — которое, как я себе мыслю, бывает только у очень молодых — я хотел написать не просто очень длинную книгу, а самую длинную популярную книгу в истории. У меня это не получилось, хотя я честно пытался и кое-что всё-таки сделал: все семь томов «Тёмной Башни» — это одна цельная книга, единое повествование, и первые четыре тома занимают больше двух тысяч страниц, если в издании в мягкой обложке. Последние три тома занимают ещё две с половиной тысячи страниц, если в рукописи. Я вовсе не утверждаю, что количество равнозначно качеству; я лишь говорю, что хотел написать длинный эпос и в какой-то мере добился, чего хотел. Если вы меня спросите, почему я хотел это сделать, я не отвечу. Потому что не знаю, что отвечать. Может быть, это связано с тем, что я родился и вырос в Америке: строй выше, копай глубже, пиши длиннее. Но когда тебя спрашивают: «А зачем?» — ты задумчиво чешешь репу. С чего бы это? Сдаётся мне, это тоже идёт от того, что мы американцы. В конце концов, мы отвечаем так: «Тогда мне показалось, что это хорошая мысль».
III
И что ещё характерно для девятнадцати: это такой возраст, в котором многие так или иначе застревают (если не в физическом смысле, то уж точно — в эмоциональном и умственном). Годы проходят, и вот однажды ты смотришься в зеркало и вполне искренне недоумеваешь: «Откуда эти морщины? Откуда это дурацкое брюхо? Чёрт, мне же всего девятнадцать!» Мысль совершенно не оригинальная, но ты всё равно удивляешься.
Время белит сединами бороду, отнимает прыгучесть и силы, а ты всё равно продолжаешь считать — глупенький дурачок, — что оно на твоей стороне. Умом-то ты понимаешь, что это не так, но сердце отказывается в это верить. Если тебе повезёт, злой патрульный, который прищучил тебя за превышение скорости и за то, что ты слишком уж развеселился, поднесёт тебе к носу нюхательную соль. Собственно, что-то подобное произошло и со мной в конце двадцатого века. Злой патрульный явился мне в виде микроавтобуса «плимут», который сбил меня на дороге в канаву.
Года через три после этой аварии я раздавал автографы на своей книге «Почти как „бьюик“» («From A Buick Eight») в магазине «Borders» в Дирборне, штат Мичиган. И вот подходит ко мне один парень и говорит, что он жутко рад, что я остался в живых. (Мне часто это говорят, гораздо чаще, чем: «Какого чёрта ты не окочурился там, на месте?»)
— Мы сидели с одним моим другом, и тут сообщили, что вас сбила машина, — сказал этот парень. — А мы сидели, как два дурака, качали головами и всё приговаривали: «А как же Башня?! Она опрокидывается, она падает, ой, блин, теперь он её никогда не закончит».
Та же самая мысль приходила и мне — беспокойная мысль о том, что, построив Тёмную Башню в коллективном воображении миллиона читателей, я должен беречь её, пока люди хотят про неё читать. Может быть, это будет всего лишь пять лет; а может — пятьсот, я не знаю. Книги в жанре фэнтези, и не только хорошие, но и плохие (даже сейчас, я уверен, кто-то читает «Монаха» или «Варни-вампира»), похоже, живут очень долго. Роланд защищает Башню по-своему: он пытается обезопасить Лучи, что поддерживают Башню. А я должен её защитить — я это понял после аварии, — закончив историю стрелка.
В течение продолжительных пауз между написанием и публикацией первых четырёх частей «Тёмной Башни» я получил сотни писем на тему «ай — ай-ай, как не стыдно» и «пусть тебя загрызёт совесть». В 1998-м (иными словами, когда я жил и работал под ошибочным впечатлением, что мне всё ещё девятнадцать) я получил письмо от «82-летней бабульки, не хочу загружать Вас своими проблемами, НО!!! что-то стала совсем плоха». Бабушка написала, что жить ей осталось, может быть, всего год («14 месяцев в лучшем случае, рак разъел меня всю»), и поскольку она не надеется и не ждёт, что я закончу историю Роланда за это время и исключительно для неё, она попросила меня, пожалуйста (ну пожалуйста), рассказать ей вкратце, чем всё это закончится. Больше всего меня тронуло (но всё-таки не настолько, чтобы немедленно взяться за продолжение) её клятвенное заверение, что она не расскажет об этом «ни единой живой душе». А ещё через год — может быть, после аварии, когда я надолго загремел в больницу — одна из моих референтов, Марша Ди Филиппо, получила письмо от одного человека, приговорённого к смертной казни то ли в Техасе, то ли во Флориде, который просил о том же: рассказать, чем закончится эта история. (Он обещал унести эту тайну с собой в могилу, от чего меня бросило в дрожь.)
Я бы выполнил просьбу этих людей — и прислал бы им краткое изложение дальнейших приключений Роланда, — если бы мог, но, увы, я не мог этого сделать. Потому что и сам не знал, как там всё повернётся и что будет со стрелком и его друзьями. Для того чтобы это узнать, мне надо было писать. У меня был приблизительный план в начале, но он как-то забылся. (И чёрт с ним, наверное, это был не такой уж и стоящий план.) Остались только обрывочные заметки («чик-чирик, не бойся… дам тебе я хлебных крошек» — написано на листочке, который лежит передо мной на столе, когда я пишу эти строки). И вот наконец после долгого перерыва, в июле 2001 года, я снова взялся за «Тёмную Башню». К этому времени я уже понял, что мне давно уже не девятнадцать и что я тоже подвержен хворям и немощам бренной плоти. Я уже понял, что когда-нибудь мне будет шестьдесят и, может быть, даже семьдесят. И мне хотелось закончить свою историю, прежде чем злой патрульный заявится в последний раз. Меня совершенно не радовала перспектива запомниться вместе с «Кентерберийскими рассказами» и «Тайной Эдвина Друда».
Результат — на радость и на горе — перед тобой, мой Постоянный Читатель, начал ли ты читать с первого тома или готовишься прочитать пятый. Нравится это тебе или нет, но история Роланда завершена. Надеюсь, она доставит тебе удовольствие.
Я лично делал её с удовольствием.
Стивен Кинг 25 января 2003
ПРЕДИСЛОВИЕ
Большинство из того, что писатели пишут о своих произведениях, — это полная чушь.[1] Вот почему нет таких книг, как «Сто великих предисловий западной цивилизации» или «Любимые предисловия американцев». Таково моё личное мнение, и я считаю, что, написав как минимум пятьдесят предисловий — не говоря уже о целой книге, посвящённой писательскому мастерству, — я имею полное право высказать его вслух. И ещё я считаю, что вам можно прислушаться к моим словам, когда я говорю, что моё предисловие к этой книге — это как раз тот редкий случай, когда автор действительно может сказать что-то стоящее.
Несколько лет назад я произвёл скромный фурор среди моих постоянных читателей, предложив им исправленный и дополненный вариант «Противостояния». На самом деле я очень переживал за эту книгу, что было вполне извинительно и оправданно, потому что «Противостояние» всегда была и остаётся самой любимой книгой моих читателей (самые рьяные из почитателей «Противостояния» не стали бы сильно скорбеть, если бы я умер в 1980-м; с их точки зрения мир бы уже ничего не потерял).
Единственная книга Кинга, которая может сравниться с «Противостоянием» в смысле читательского интереса, — это, наверное, история Роланда Дискейна и его поисков Тёмной Башни. И теперь — чёрт возьми! — я переделал и её тоже.
Только на самом деле я её не переделал, а просто чуть-чуть доработал. Я хочу, чтобы вы это знали. И ещё я хочу, чтобы вы знали, что именно я переделал и почему. Для вас, может быть, это не важно, но зато очень важно — для меня, вот почему данное предисловие станет исключением (я надеюсь) из Кинговского Правила Чуши.
Во-первых, учтите, что в первых изданиях «Противостояния» было много сокращений по сравнению с рукописным вариантом — и не из-за издательской прихоти, а по финансовым соображениям. (Существовали ещё и другие ограничения, но я не хочу об этом говорить.) Все дополнения, которые я сделал в конце восьмидесятых, — это переработанные фрагменты изначального текста. Я также внёс исправления во всю книгу в целом, прежде всего — чтобы соотнести повествование с эпидемией СПИДа, что расцвела пышным цветом (если данное выражение вообще уместно в данном конкретном случае) в период между первой публикацией «Противостояния» и выходом в свет переработанного и дополненного издания, восемь или даже девять лет спустя. В результате получился такой «кирпич» — на 100 000 слов длиннее по сравнению с первым изданием.
В случае со «Стрелком» первоначальный текст был небольшим, и я добавил всего лишь страниц тридцать пять, или около девяти тысяч слов. Если вы уже читали «Стрелка», вы обнаружите в новом издании только две-три новых сцены. Истинные поклонники «Тёмной Башни» (а таких на удивление много — достаточно заглянуть в Интернет) наверняка захотят прочитать книгу заново, и скорее всего большинство из них будут читать этот исправленный вариант с любопытством и раздражением. Я очень им симпатизирую, но должен признаться, что меня больше волнуют читатели, которые ещё не знакомы с Роландом и его ка-тетом.[2]
И хотя у истории Башни есть свои восторженные поклонники, она всё же не так широко известна моим читателям, как «Противостояние». Иногда на встречах с читателями я прошу людей в зале: кто прочёл хотя бы одну из моих книг, поднимите руку. Поскольку они пришли специально, чтобы меня послушать — причём иногда это связано с дополнительными неудобствами и дополнительными расходами: найти, с кем оставить ребёнка, заправить свой старенький «седан», — вовсе неудивительно, что большинство из присутствующих поднимают руки. Потом я говорю: а теперь те из вас, кто прочёл хотя бы одну книгу из «Тёмной Башни», оставьте руки поднятыми. И каждый раз получается, что половина рук опускается. Вывод напрашивается сам собой: хотя я столько трудился над Башней за эти тридцать три года между 1970-м и 2003-м, читают её относительно мало. Но те, кто прочёл этот цикл, сразу его полюбили, и я тоже очень его люблю — по крайней мере этой любви хватило, чтобы не отправить Роланда в изгнание, куда отправляются все злосчастные неосуществлённые персонажи (вспомните чосеровских пилигримов на пути к Кентербери или героев последнего, незаконченного романа Чарлза Диккенса «Тайна Эдвина Друда»).
Я всегда был уверен (на подсознательном уровне, потому что я что-то не помню, чтобы я специально об этом задумывался), что у меня будет время закончить Башню, и в назначенный час Господь Бог даже пришлёт мне музыкальную телеграмму: «Динь-динь — динь / Садись за работу, Стивен / Заканчивай Башню». В каком-то смысле что-то подобное и произошло, хотя это была не музыкальная телеграмма, а контакт первой степени с мини-автобусом «плимут». Но как бы там ни было, я снова засел за работу. Если бы этот фургончик, сбивший меня на дороге, был чуть побольше, если бы удар пришёлся не в бок, а в лоб, то всё закончилось бы убедительной просьбой к скорбящим не приносить цветов и «семья Кинга благодарит вас за искренние соболезнования». И поиск Роланда так и остался бы незавершённым. Кто-то, может быть, и завершил бы его, но не я.
В общем, в 2001 году — когда я более или менее пришёл в себя — я решил, что уже пришло время закончить историю Роланда. Я отложил всё остальное и засел за работу над последними тремя томами. Как обычно, я это сделал не столько ради читателей, которые требовали продолжения, сколько ради себя самого.
Сейчас зима 2003-го, и я ещё даже не брался за окончательную редактуру двух последних томов, но сами книги уже готовы. Я закончил их прошлым летом. А в промежутке между редакторской доработкой пятого («Волки Кальи») и шестого («Песнь Сюзанны») томов я подумал, что пора бы вернуться к началу и внести исправления в первые книги. Почему? Потому что все семь томов цикла — это не отдельные истории, а части единого длинного повествования, большого романа под названием «Тёмная Башня», начало которого явно не синхронизировано с окончанием.
Мой подход к редактуре собственных произведений остался прежним. Я знаю, что многие авторы вносят правку «по ходу дела», но мой метод — это стремительный натиск: врываешься в книгу и проносишься сквозь неё на максимально возможной скорости, так чтобы клинок повествования всегда оставался острым — а чтобы он оставался острым, он должен всегда быть в работе, — и при этом стараешься обогнать злейшего из врагов всех писателей, имя которому — сомнение. Когда пересматриваешь свою вещь, сразу же возникает немало вопросов: «Насколько правдоподобны мои герои?», «Интересна ли книга в целом?», «Хорошая это книга или так, ерунда?», «Кого-то это, вообще, волнует?», «А меня самого это волнует?»
Когда книга закончена, я на время откладываю её в сторону — такую, какая есть, со всеми недоработками и изъянами — и даю ей отлежаться, дозреть. Через какое-то время — полгода, год, два года, на самом деле это не так уж и важно — я возвращаюсь к отложенной книге, просматриваю её снова, уже более спокойным (но по-прежнему любящим) взглядом и тогда уже начинаю править. Части «Башни» выходили отдельными книгами, каждая — под своим названием, правил я их отдельно и сумел оценить всю работу в целом, только закончив седьмую книгу, «Тёмную Башню».
Когда я внимательно перечитал первый том — тот, который у вас в руках, — я понял три очевидные истины. Во-первых, поскольку «Стрелок» был написан очень молодым автором, в нём присутствуют все проблемы, присущие книгам очень молодых авторов. Во-вторых, там есть много неточностей и фальстартов, и особенно — в свете следующих томов.[3] И в-третьих, «Стрелок» даже звучит совершенно не так, как другие книги — честно сказать, его трудно читать. Я слишком часто извинялся за это перед читателями и говорил, что если они продерутся сквозь первый том, они увидят, что уже в «Извлечении троих» история обретает свой истинный голос.
Где-то в «Стрелке» встречается такое описание Роланда: человек, который подправил бы перекосившуюся картину в незнакомом гостиничном номере. Я сам точно такой же, и в каком-то смысле правка собственной книги к тому и сводится: подправить перекосившиеся картины, пропылесосить полы, выдраить туалет. В случае со «Стрелком» это была генеральная уборка. Мне пришлось потрудиться, но я не хотел упускать возможности сделать то, что хочется сделать любому из авторов со своей вещью, которая уже закончена, но её ещё нужно отшлифовать и настроить: довести до ума, чтобы всё было правильно. Когда ты уже знаешь, что должно получиться в итоге, ты просто обязан вернуться к началу и свести всё воедино. Причём это нужно не только потенциальным читателем — это нужно тебе самому. Собственно, я потому и решил переделать «Стрелка»; но при этом я очень тщательно следил за тем, чтобы мои исправления и добавления не раскрыли секретов, — которые будут раскрыты в последних трёх книгах, — секретов, некоторые из которых я терпеливо хранил на протяжении тридцати лет.
И ещё я хочу сказать несколько слов о том молодом человеке, которым я был когда-то и который рискнул написать эту книгу. Этот молодой человек посещал слишком много писательских семинаров и как-то свыкся со всеми истинами, провозглашаемыми на таких семинарах: что автор пишет не для себя, а для других; что язык книги важнее сюжета; что неопределённость — это лучше, чем ясность и простота, которые часто являются признаками недалёкого ума, воспринимающего всё буквально. Так что я вовсе не удивился, когда обнаружил, что дебютный «Стрелок» получился излишне претенциозным (я уже не говорю про сотни совершенно не нужных наречий). Я убрал всю эту пустопорожнюю болтовню, и в этом смысле я не жалею ни об одном сокращённом слове. В каких-то местах — это всегда были фрагменты, где, увлёкшись каким-нибудь завораживающим эпизодом, я забывал об идеях, которые нам вдалбливали на писательских семинарах, — я оставлял текст практически без изменений, не считая обычной редакторской правки. Как я уже говорил в другом месте и по другому поводу, с первого раза всё получается только у Бога.
Но как бы там ни было, я не хотел слишком сильно менять стиль «Стрелка». Потому что мне кажется, что при всех его недостатках в нём есть какое-то особое очарование. Изменить эту книгу до неузнаваемости — это значило бы отречься от того человека, который первым её написал, ещё тогда, в конце весны и в начале лета 1970 года, а мне этого не хотелось.
Мне хотелось — причём по возможности до того, как последние книги серии выйдут в свет — сделать так, чтобы новым читателям, которым только ещё предстоит познакомиться с «Тёмной Башней» (и старым читателям, которые захотят вспомнить начало), было легче и проще войти в мир Роланда. Мне хотелось, чтобы читатели получили книгу, в которой были бы намечены основные сюжетные линии следующих томов. Надеюсь, я справился с этой задачей. Я сейчас обращаюсь к тем, кто ещё не знаком с миром Башни: я очень надеюсь, что вам понравятся здешние чудеса. Потому что мир Роланда — это мир чудес, а его история — долгая сказка. Именно так я её и задумал. И если Тёмная Башня околдует и вас, пусть даже самую малость, значит, я сделал свою работу — работу, которая началась в 1970-м и завершилась в общем и целом в 2003-м. Хотя сам Роланд сказал бы, что какие-то тридцать лет ничего не значат. На самом деле если ты вышел на поиски Тёмной Башни, тебя уже не заботит время.
6 февраля 2003
…камень, лист, ненайденная дверь; о камне, о листе, о двери. И обо всех забытых лицах.
Нагие и одинокие приходим мы в изгнание. В тёмной утробе нашей матери мы не знаем её лица; из тюрьмы её плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира.
Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остаётся навеки чужим и одиноким?
…О, утраченный и ветром оплаканный призрак, вернись, вернись.
Томас Вулф. «Взгляни на дом свой, ангел»19
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
Глава 1 СТРЕЛОК
I
Человек в чёрном ушёл в пустыню, и стрелок двинулся следом.
Эта пустыня, апофеоз всех пустынь, растянулась до самого неба, в необозримую бесконечность по всем направлениям — белая, слепящая, обезвоженная и совершенно безликая. Только мутное марево горной гряды призрачно вырисовывалось на горизонте, и ещё изредка попадались сухие пучки бес-травы, что приносит и сладкие сны, и кошмары, и смерть. Редкий надгробный камень служил указателем на пути. Узенькая тропа, пробивающая толстую корку солончаков, — вот всё, что осталось от старой столбовой дороги, где когда-то ходили фургончики и повозки. С тех пор мир сдвинулся с места. Мир опустел.
На стрелка накатило мимолётное головокружение, когда всё внутри вдруг обрывается и мир кажется эфемерным, почти прозрачным. Оно быстро прошло, и, как и мир, по чьей тверди сейчас шёл стрелок, он тоже сдвинулся с места. Стрелок шёл спокойно, не торопясь, но и не тратя времени даром. Вокруг его пояса обвивался бурдюк с водой. Бурдюк был почти полный и напоминал туго набитую колбасу. Стрелок много лет практиковался в кхефе и достиг, может быть, пятого уровня. Будь он праведником из мэнни, он бы вообще не испытывал жажды; он бы тогда наблюдал за тем, как его тело теряет воду, бесстрастно и невозмутимо, и увлажнял бы расщелины этого тела и тёмные глубины его пустот лишь тогда, когда разум подсказывал бы ему, что это действительно необходимо. Но он не был мэнни, и не поклонялся Человеку Иисусу, и уж никак не считал себя праведником. Иными словами, он был самым обыкновенным странником и ничего не знал наверняка, кроме того, что ему уже хочется пить. Хотя не так сильно, чтобы пить прямо сейчас. В каком-то смысле ему это даже нравилось. Так было положено в этом краю, краю жажды, а всю свою долгую жизнь стрелок только и делал, что приспосабливался к обстоятельствам. И он это умел.
Под бурдюком прятались револьверы. Его револьверы, что как влитые ложились в руку. Они перешли к нему от отца, который был ниже ростом и не таким крупным, и их пришлось утяжелить металлическими пластинами. Пара ремней, перекрещиваясь, опоясывала его бёдра. Две кобуры были промаслены так, что не растрескались даже от жара этого беспощадного солнца. Жёлтые, тщательно отполированные рукояти его револьверов были сделаны из лучшей сандаловой древесины. Прикреплённые к поясу крепкой верёвкой из сыромятной кожи, кобуры покачивались при ходьбе, тяжело ударяя по бёдрам. В этих местах синяя краска на джинсах стёрлась (а ткань истончилась), и получились две светлые дуги, — почти похожие на две улыбки. Медные гильзы патронов у него в патронташе вспыхивали и мерцали на солнце, отражая его лучи, как гелиограф. Теперь патронов осталось значительно меньше, чем было. Кожа кобур едва уловимо потрескивала.
Его рубаха бесцветна, как дождь или пыль. Ворот распахнут, сыромятный шнурок свободно болтается в пробитых вручную дырках. Его шляпа давно потерялась. Как и рог — тот, в который трубят, — который был у него когда-то; он потерялся давным-давно, этот рог, выпал из руки умирающего товарища, и стрелку не хватало теперь их обоих.
Он остановился у пологой дюны (хотя песка в этой пустыне не было — один твёрдый сланец; и пронзительный ветер, что всегда пробуждался с наступлением темноты, поднимал только клубы несносной пыли, едкой, как чистящий порошок) и оглядел растоптанные угольки маленького костерка с подветренной стороны, с той стороны, откуда солнце уходит раньше. Такие вот мелочи — знаки, подобные этому, — лишний раз подтверждающие предполагаемую человеческую сущность человека в чёрном, — всегда доставляли ему несказанное удовольствие. Губы стрелка растянулись в подобие улыбки на изъеденных жаром пустыни останках лица. Улыбка вышла болезненной, страшной. Он присел на корточки.
Человек в чёрном жёг бес-траву, а как же иначе. Бес-трава здесь — единственное, что горит. Горит очень медленно, блёклым масляным пламенем. Люди с приграничных земель говорили ему, что бесы живут даже в её огне. Они, люди с границы, жгли бес-траву, но не смотрели на пламя. Они говорили, что, если смотреть на пламя, бесы тебя околдуют и утащат к себе. А потом какой-нибудь другой идиот, который тоже засмотрится на огонь, увидит там тебя.
Сожжённая трава, ещё один символ в уже знакомом идеографическом узоре, рассыпалась серой бессмыслицей под шарящей по кострищу рукой стрелка. Среди пепла не было ничего, лишь обгорелый кусочек бекона. Стрелок задумчиво его съел. Так было всегда. Уже два месяца он преследует человека в чёрном в этой пустыне, в нескончаемом, однообразном чистилище пустоты, и до сих пор не нашёл ничего: только эти гигиенично-стерильные идеограммы пепла костров. Ни разу ему не попалось какой-нибудь банки, бутылки или же бурдюка (сам стрелок выкинул по дороге четыре штуки; просто выбросил, как змея сбрасывает отмершую кожу). Испражнений он тоже не видел. Наверное, человек в чёрном их зарывал.
А может быть, эти кострища — одна большая записка Высоким Слогом. По букве за раз. Кто его знает, что там написано. Держи дистанцию, дружище. Или, может быть: уже скоро конец. Или, может быть, даже: а вот попробуй меня поймать. Впрочем, это уже не имело значения. Стрелка совершенно не волновало, о чём говорится в этих записках — если это были записки. Его волновало другое: когда он пришёл, это кострище уже остыло, как и все остальные. И всё-таки он приблизился к цели. Он знал это наверняка, хотя и не знал — откуда. Может быть, просто чутьё. Хотя это тоже уже не имело значения. Он пойдёт дальше и будет идти, пока что-нибудь не изменится. А если даже ничего не изменится, он всё равно пойдёт дальше. Бог даст, будет вода, как говорят старики. Если Бог так решит, то вода обязательно будет — даже в пустыне. Стрелок поднялся, стряхивая пепел с рук.
Больше никаких следов; ветер, острый как бритва, давно срезал те бледные отпечатки, что могли удержаться на твёрдом сланце. Вообще ничего. Ни испражнений, ни мусора, никаких указаний на то, где их могли закопать. Ничего. Только эти остывшие кострища вдоль древней торной дороги, ведущей на юго-восток, и неумолимый дальномер у него в голове. Хотя, разумеется, было ещё кое-что; притяжение юго-востока — это не просто движение в заданном направлении и не простой магнетизм.
Он уселся и позволил себе отхлебнуть воды из бурдюка. Он подумал о том мимолётном головокружении, когда ему вдруг показалось, что он почти не привязан к миру. Интересно, что это значит. И почему в связи с этим головокружением ему вспомнился его рог и последний из старых друзей, которых он потерял, обоих, давным-давно, у Иерихонского Холма. Ведь револьверы остались — револьверы его отца, — а это гораздо важнее, чем рог… или даже друзья.
Или нет?
Это был странный вопрос, тревожный, но поскольку ответ был один и вполне определённый, стрелок решил не ломать себе голову. Может быть, позже он ещё поразмыслит об этом. Но не сейчас. Он оглядел пустыню и поднял глаза к солнцу, что спускалось теперь к горизонту по дальнему квадранту неба, который — вот тоже тревожная мысль — располагался уже не совсем на западе. Стрелок встал, вытащил из-за пояса старые, изношенные перчатки и принялся рвать бес-траву для своего костра. Он разложил костёр в круге пепла, оставленного человеком в чёрном. В этом тоже была ирония, которая, как и романтика жажды, показалась стрелку привлекательной. Горькой, но привлекательной.
Он не сразу достал свой кремень и кресало. Он дождался, пока последние проблески дневного света не обратятся в летучее марево на земле под ногами и в узкую ядовито-оранжевую полосу на чёрно-белом горизонте. Он терпеливо сидел, глядя на юго-восток, туда, где высились горы. Он ничего не ждал. Он не надеялся разглядеть тоненькую струйку дыма от другого костра или оранжевую искру пламени. Он просто смотрел, потому что так было нужно. И в этом тоже была своя горькая привлекательность. «Чтобы что-то увидеть, надо смотреть, понял, ты, недоумок, — говорил Корт. — Бог дал нам глаза, чтобы ими смотреть. Вот и открой свои буркалы».
Но там, в горах, не было ничего. Да, он уже близок к цели, но лишь относительно близок. Ещё не настолько, чтобы в сумерках разглядеть дым или оранжевый проблеск костра.
Он высек искру на охапку сухой измельчённой травы, бормоча бессмысленные слова старого детского заклинания:
— Искра, искра в темноте, где мой сир, подскажешь мне? Устою я? Пропаду я? Пусть костёр горит во мгле.
Вот странно: человек вырастает и забывает про детство с его ритуалами и ребяческими заклинаниями — многое теряется по дороге, но кое-что всё-таки остаётся, накрепко застревает в мозгах, вцепляется в тебя мёртвой хваткой, и ты несёшь этот груз всю жизнь, и с каждым годом он всё тяжелее и тяжелее.
Он улёгся на землю с наветренной стороны от костра так, чтобы дурманящий дым, навевающий грёзы, уносился в пустыню. Ветер, разве что изредка поднимавший взвихрённую пыль, дул спокойно и ровно.
Немигающие звёзды над головой светили тоже спокойно и ровно. Миллионы миров и солнц. Головокружительные созвездия, холодное пламя всех первозданных оттенков. Пока он смотрел, тёмно-лиловое небо сделалось чёрным. Прочертив огненную дугу над Старой Матерью, во тьме мелькнул и погас метеор. Огонь костра отбрасывал в ночь причудливые тени. Бес-трава медленно выгорала, создавая новый узор — не идеограмму, а простенькое перекрестье линий, навевающее смутный ужас своей чуждой бессмыслице определённостью. Стрелок выкладывал траву для кострища, не думая о каких-то художествах. Главное, чтобы хорошо горело. Но узор всё-таки получился. Он рассказывал о чёрном и белом. О человеке, который подправил бы перекосившуюся картину в незнакомом гостиничном номере. Костёр горел медленным, ровным пламенем, и фантомы плясали в его раскалённой сердцевине. Стрелок их не видел. Он спал. Два узора, плоды искусства и ремесла, слились воедино. Ветер стонал, словно ведьма, чьё нутро разъедает рак. Его капризные порывы то и дело подхватывали дурманящий дым и, кружась, овевали стрелка. Так что он всё же вдыхал дурман. И дурман творил сны, как едва уловимое раздражение творит жемчужину в устричной раковине. Иной раз стрелок стонал вместе с ветром. Но звёзды были равнодушны к его тяжким стонам, как они равнодушны к войнам, распятиям и воскресениям. И в этом тоже была своя горькая привлекательность.
II
Он спустился с последнего из предгорий, ведя за собой мула, чьи глаза, выпученные от жара, были уже мертвы. Три недели назад он миновал последний городок, а потом был только заброшенный тракт, да ещё изредка попадались селения жителей приграничья — скопления хижин, покрытых дёрном. То есть когда-то это были поселения, но они давно превратились в отдельные хутора, где обитали одни прокажённые и помешанные. Ему больше нравились полоумные. Один из них дал ему компас «Силва» из нержавеющей стали и попросил передать эту штуку Человеку Иисусу. Стрелок взял его с самым серьёзным видом. Если он встретит Его, он отдаст Ему компас. Вряд ли, конечно, он встретит Иисуса, но всякое в жизни бывает. Однажды он видел тахина — это был человек с головой ворона — и окликнул его, но несчастный уродец сбежал, прокаркав что-то похожее на слова. Может быть, даже проклятия.
Последнюю хижину, где были люди, стрелок миновал пять дней назад, и он уже начал подозревать, что никаких хижин больше не будет, но, поднявшись на гребень последнего иссечённого ветром холма, увидел знакомую низкую крышу, покрытую дёрном.
Поселенец — на удивление молодой человек с взлохмаченными волосами цвета спелой клубники, что свисали почти до пояса, — с неистовой страстью пропалывал хилые кукурузные всходы. Мул издал жалобный хрип, поселенец вскинул голову; он взглянул на стрелка, словно прицелился. Оружия у него не было. Во всяком случае, на виду. Поселенец поднял обе руки в небрежном приветствии, снова склонился над своей кукурузой на ближайшей к хижине грядке и принялся вырывать и кидать через плечо бес-траву и зачахшие кукурузные стебли. Его длинные волосы развевались на ветру. Здесь ветер дул прямиком из пустыни, где нечему было его удержать.
Стрелок неспешно спустился с холма, ведя за собой мула, который вёз бурдюки с водой. Он встал на краю кукурузной делянки, отхлебнул немного воды, чтобы во рту появилась слюна, и сплюнул на засохшую землю.
— Доброй жатвы твоим посевам.
— И твоим тоже, — отозвался молодой поселенец. Когда он разогнулся, у него в спине что-то явственно хрустнуло. Он смотрел на стрелка без страха. Его лицо — то есть та его малая часть, что просматривалась между космами и бородой, — было чистым, его не тронула гниль проказы, а глаза, разве что чуточку диковатые, казались глазами нормального человека. Не дурика. — Долгих дней и приятных ночей тебе, странник.
— Тебе того же вдвойне.
— Это вряд ли. — Поселенец коротко хохотнул. — У меня ничего нет, только бобы и кукуруза, — сказал он. — Кукуруза задаром, а за бобы надо будет чего-нибудь дать. Мне их приносит один мужик. Заходит сюда иногда, но никогда не задерживается надолго. — Поселенец опять рассмеялся. — Боится духов. И ещё — человека-птицу.
— Я его видел. Человека-птицу, я имею в виду. Он от меня убежал.
— Ага. Он заблудился. Говорит, что он ищет какое-то место. Называется Алгул Сьенто, только он иногда называет его Синим Небом или Небесами. Я лично понятия не имею, где это. Ты не знаешь, случайно?
Стрелок покачал головой.
— Ладно… он не кусается и никому не мешает, так что хрен с ним. А ты сам живой или мёртвый?
— Живой, — отозвался стрелок. — Ты говоришь, как мэнни.
— Я был мэнни, но очень недолго. Быстро понял, что это не для меня; уж больно они компанейские, на мой взгляд, и вечно их тянет искать дырки в мире.
«Это точно, — подумал стрелок. — Мэнни — великие путешественники».
Ещё мгновение они молча разглядывали друг друга, а потом поселенец протянул стрелку руку.
— Меня зовут Браун.
Стрелок пожал его руку и назвал себя. И в этот момент тощий ворон каркнул на крыше землянки. Поселенец ткнул пальцем в ту сторону:
— А это Золтан.
При звуке своего имени ворон ещё раз каркнул и слетел с крыши прямо на голову Брауну, где и устроился, вцепившись обеими лапами в спутанную шевелюру.
— Драть тебя во все дыры, — отчётливо прокаркал ворон. — И тебя, и кобылу твою.
Стрелок дружелюбно кивнул.
— Бобы, бобы, нет музыкальней еды, — вдохновенно продекламировал ворон, польщённый вниманием, — чем больше сожрёшь, тем звончей перданешь.
— Это ты его учишь?
— Сдаётся мне, ничего больше он знать не хочет, — отозвался Браун. — Я как-то пытался его научить «Отче наш». — Он обвёл взглядом безликую твердь пустыни. — Но, сдаётся мне, Отче наш — не для этого края. Ты стрелок. Верно?
— Да. — Он сел на корточки и достал кисет с табаком. Золтан перелетел с головы Брауна на плечо стрелка.
— А я думал, стрелков больше нет.
— Есть, как видишь.
— Ты из Внутреннего мира?
Стрелок кивнул.
— Только я там давно не был.
— Там ещё что-то осталось?
Стрелок не ответил и сделал такое лицо, что сразу стало понятно: лучше не поднимать эту тему.
— Наверное, гонишься за тем, другим.
— Да, — ответил стрелок и тут же задал неизбежный вопрос: — Давно он тут проходил?
Браун пожал плечами.
— Не знаю. Здесь время какое-то странное. И направление и расстояния — тоже. Больше, чем две недели. Но меньше двух месяцев. Тот мужик, который мне носит бобы, с тех пор приходил два раза. Так что, наверное, шесть недель. Хотя я могу ошибаться.
— Чем больше сожрёшь, тем звончей перданешь, — вставил Золтан.
— Он тут останавливался? — спросил стрелок.
Браун кивнул.
— Ну, только чтобы поужинать, как и ты. Ты же, как я понимаю, поужинаешь. Мы посидели с ним, потолковали.
Стрелок поднялся, и ворон, протестующе каркнув, перебрался обратно на крышу. Стрелка охватила какая-то странная дрожь — дрожь предвкушения.
— И что он тебе говорил?
Браун удивлённо приподнял бровь.
— Да так, ничего. Спрашивал, бывает ли тут у нас дождь, и давно ли я здесь поселился, и не схоронил ли жену. Спросил, была ли она мэнни, и я сказал, да, потому что мне показалось, что он и так это знает. Болтал-то всё больше я, что вообще мне несвойственно. — Он умолк на мгновение, и только вой ветра нарушал мёртвую тишину. — Он колдун, верно?
— Помимо прочего.
Браун серьёзно кивнул.
— Я сразу понял. Он вытряхнул из рукава кролика, уже освежёванного и выпотрошенного. Прямо бери и клади в котёл. А ты?
— Колдун? — Стрелок рассмеялся. — Нет, я просто человек.
— Тебе никогда его не догнать.
— Ничего, догоню.
Они посмотрели друг другу в глаза, вдруг проникшись взаимной симпатией: поселенец на иссохшей его земле, овеваемой пылью, и стрелок на сланцевой тверди, уходящей в пустыню. Он достал свой кремень.
— На вот. — Браун вытащил из кармана спичку с серной головкой и зажёг её, чиркнув по заскорузлому ногтю. Стрелок поднёс кончик своей самокрутки к огню и глубоко затянулся.
— Спасибо.
— Тебе, наверное, нужно наполнить свои бурдюки, — отвернувшись, сказал поселенец. — Там за домом — родник, прямо под скатом крыши. А я пока приготовлю поесть.
Стрелок направился на задний двор, осторожно переступая через кукурузные грядки. Родник оказался на дне вырытого вручную колодца, выложенного камнями, чтобы вода не подмывала почву, рассыпчатую, как пыль. Спускаясь по шаткой лесенке, стрелок рассудил про себя, что с камнями возни было минимум года на два: набрать, натаскать, уложить. Вода оказалась чистой, но текла медленно, так что долгое это было дело — наполнить все бурдюки. Когда он заканчивал со вторым, Золтан взгромоздился на край колодца.
— Драть тебя во все дыры. И тебя, и кобылу твою, — предложил он.
Стрелок вздрогнул и поднял глаза. Глубина футов пятнадцать, не меньше; Брауну ничего бы не стоило сбросить вниз камень, проломить стрелку голову и забрать всё стрелково добро. Ни полоумный, ни прокажённый так бы не поступили; но Браун — не дурик и не больной. И всё же Браун ему понравился, так что стрелок выбросил эту мысль из головы и наполнил оставшиеся бурдюки водой. Бог захотел — появилась вода, а чего там ещё хочет Бог, с этим пусть разбирается ка. А его дело маленькое.
Когда стрелок вошёл в хижину, спустившись по лестнице (всё как положено: жильё устроено под землёй, только так можно схватить и удержать ночную прохладу), Браун сидел у крошечного очага и переворачивал в углях кукурузные початки, поддевая их деревянной лопаткой. Две побитые по краям тарелки уже стояли по обеим сторонам выцветшего одеяла мышиного цвета, расстеленного на полу. Вода для бобов только ещё начала закипать в котелке над огнём.
— Я заплачу и за воду тоже.
Браун даже не поднял головы.
— Вода — дар Божий. А бобы приносит папаша Док.
Стрелок издал короткий смешок и уселся на пол, прислонившись спиной к стене. Он сложил руки на груди и закрыл глаза. Вскоре по комнатушке разнёсся запах жареной кукурузы. Браун высыпал в котелок пакетик сухих бобов, они громыхнули, как камушки. Слышалось изредка повторяющееся тук-тук — тук — это Золтан беспокойно ходил по крыше. Стрелок устал; бывало, в сутки он шёл по шестнадцать, а то и вообще по восемнадцать часов, чтобы быстрей оказаться как можно дальше от того кошмара, что приключился в Талле, последней из деревень у него на пути. Причём последние двенадцать дней ему пришлось идти пешком; силы мула были уже на пределе. Как он ещё жив — непонятно. Разве что в силу привычки. Когда-то стрелок знал одного человека, мальчишку по имени Шими. Так вот. У Шими был мул. Шими давно уже нет; никого больше нет. Остались лишь двое: сам стрелок и человек в чёрном. До него доходили какие-то смутные слухи об иных землях, зелёных землях за пределами этого края — их называют Срединным миром, — но верилось в это с трудом. Зелёные земли в здешнем пустынном краю — это как детская сказка.
Тук-тук-тук.
Две недели, сказал Браун, максимум шесть. Но это не важно на самом деле. В Талле были календари, и они там запомнили человека в чёрном. Потому что он исцелил старика. Самого обыкновенного старика, умирающего от травки. Старика тридцати пяти лет от роду. И если Браун не ошибался, получается, что человек в чёрном с тех пор поутратил своё преимущество, а стрелок сократил расстояние. Но пустыня ещё не закончилась. И пустыня ещё обернётся адом.
Тук-тук-тук…
Одолжи мне свои крылья, птица. Я раскину их широко-широко, и меня унесёт восходящий поток.
Он заснул.
III
Браун разбудил его через час. Было темно. Единственный проблеск света — тускло-вишнёвое мерцание угольков в очаге.
— Твой мул приказал долго жить, — сказал Браун. — Прими мои соболезнования. Ужин готов.
— Как?
Браун пожал плечами.
— Поджарен и сварен, а как иначе? Очень разборчивый, да?
— Нет, я про мула.
— Просто лёг и не встал. Видно же, старый был мул. — Он помолчал и добавил, как бы извиняясь: — Золтан склевал глаза.
— Ага. — Этого следовало ожидать. — Ну да ладно.
Когда они уселись у одеяла, что служило здесь вместо стола, Браун ещё раз изумил стрелка, испросив краткого благословения: дождя, здоровья и просветления душе.
— А ты веришь в загробную жизнь? — спросил стрелок, когда Браун выложил ему на тарелку три дымящихся кукурузных початка.
Браун кивнул.
— Сдаётся мне, это она и есть.
IV
Бобы были как пули, кукуруза — не мягче. Снаружи выл ветер, обдувая покатую крышу, свисающую до земли. Стрелок ел быстро и жадно, запивая еду водой. Он выпил целых четыре чашки. Он ещё не доел, как вдруг раздался стук в дверь, словно кто-то строчил из пулемёта. Браун встал и впустил Золтана. Ворон перелетел через комнату и угрюмо устроился в уголке.
— Нет музыкальней еды, — буркнул он.
— Слушай, а ты не думал его съесть? — спросил стрелок.
Поселенец рассмеялся.
— Животные, умеющие говорить… их не едят, — сказал он. — Птицы, ушастики-путаники, бобы-человеки. У них мясо жёсткое.
После ужина стрелок предложил Брауну свой табак.
«Сейчас, — подумал стрелок. — Сейчас будут вопросы».
Но Браун не задавал никаких вопросов. Он молча курил табак, выращенный в Гарлане долгие годы назад, и смотрел на догорающие угольки. В хижине стало заметно прохладнее.
— И не введи нас во искушение, — выдал Золтан. Неожиданно, как откровение.
Стрелок вздрогнул, как будто в него кто-то выстрелил. У него вдруг возникла уверенность, что всё это иллюзия, наваждение. Что человек в чёрном наслал на него свои чары и пытается что-то ему сказать. Посредством таких идиотских и бестолковых символов.
— Знаешь такой городок, Талл? — спросил он.
Браун кивнул.
— Заходил на пути сюда. И потом ещё один раз, чтобы продать кукурузу и хлопнуть виски. В тот год тут был дождь. Минут пятнадцать, наверное, лил. Земля, веришь ли, словно раскрылась и поглотила всю воду. И уже через час снова стала сухой и белой. Как всегда. Но кукуруза… Боже мой, кукуруза! Было видно, как она растёт. Но это ещё ничего. Её было слышно, будто дождь дал ей голос. Хотя и безрадостный голос. Она как будто вздыхала и стонала, выбираясь из-под земли. — Он помолчал. — Зато уродилась на славу. Мне даже вроде как лишку было. Так что я взял и продал её. Папаша Док предлагал, давай, мол, я продам, чего тебе-то таскаться. Но он бы меня обжулил. Вот я сам и пошёл.
— Тебе там не понравилось?
— Нет.
— А меня там едва не убили, — сказал стрелок.
— Как так?
— Я убил человека, которого коснулась десница Божия. Только это был не Бог. А тот человек, с кроликом в рукаве. Человек в чёрном.
— Он это специально подстроил. Заманил тебя в ловушку.
— Твоя правда, за правду — спасибо.
Они смотрели друг другу в глаза, сквозь полумрак. В этом застывшем мгновении чувствовалась некая безысходная завершённость.
«Сейчас будут вопросы».
Но Браун по-прежнему не задавал никаких вопросов. Он мусолил свою самокрутку, пока от неё не остался дымящийся чинарик, но когда стрелок похлопал по кисету, предлагая ещё, Браун только мотнул головой.
Золтан встрепенулся, собрался было высказаться, но смолчал.
— А можно, я расскажу? — спросил стрелок. — Вообще-то я не особенно разговорчивый, но…
— Иногда надо выговориться. Ты рассказывай, а я буду слушать.
Стрелок попытался подобрать слова, чтобы начать рассказ, но не сумел ничего придумать.
— Мне надо отлить, — сказал он.
Браун кивнул.
— В кукурузу, ага?
— Ясное дело.
Он поднялся по лестнице и вышел в ночь. В небе мерцали звёзды. Ветер бился, как пульс. Моча дрожащей струёй пролилась на иссохшее кукурузное поле. Это он, человек в чёрном, заманил его сюда. Может быть, Браун и есть человек в чёрном. Может быть…
Он отогнал от себя эти мысли, тревожные и бесполезные. Он может справиться с чем угодно, кроме одного: собственного безумия. Он вернулся обратно в хижину.
— Ну что? Ты решил, наваждение я или нет? — спросил Браун.
Стрелок вздрогнул и на мгновение застыл на ступеньке. Потом неторопливо сошёл вниз и сел на своё прежнее место.
— Да вот, пока думаю. А ты наваждение?
— Если да, то я как-то не в курсе.
Ответ не сказать чтобы особенно утешительный, но стрелок решил, что сойдёт и так.
— Так я начал про Талл.
— Растёт городок?
— Его больше нет. Я убил всех, — сказал стрелок, а про себя добавил: «А теперь я убью и тебя, хотя бы по той причине, что мне надо выспаться, а так мне придётся приглядывать за тобой. Как-то не хочется спать в один глаз». Как он до этого докатился? И зачем тогда гнаться за человеком в чёрном, если он сам стал таким же, как его враг?
Браун сказал:
— Мне ничего от тебя не нужно, стрелок. Разве что вот: когда ты уйдёшь, мне бы хотелось остаться на этом свете. Я не стану тебя умолять сохранить мне жизнь, но это не значит, что мне неохота пожить ещё.
Стрелок закрыл глаза. В голове всё плыло.
— Скажи мне, кто ты, — хрипло выдавил он.
— Просто человек. Вполне безобидный и не желающий тебе зла. И если ты всё ещё хочешь рассказывать, я буду слушать.
Стрелок молчал.
— Ладно, я понял. Ты не успокоишься, пока я не попрошу тебя рассказать, — сказал Браун. — Вот я и прошу. Ты мне расскажешь про Талл?
Теперь слова пришли сами. Стрелок даже сам поразился тому, как он легко подбирает слова. Он заговорил. Поначалу — какими-то вялыми, невыразительными рывками, но мало-помалу рассказ вылился в плавное, может быть, даже слегка монотонное повествование. В голове прояснилось. Его охватило какое-то странное возбуждение. Говорил стрелок долго, до поздней ночи. Браун слушал не перебивая. И ворон тоже.
V
Он купил мула в Прайстауне, и, когда они пришли в Талл, мул был ещё полон сил. Солнце зашло час назад, но стрелок продолжал идти, ориентируясь поначалу на отблески городских огней в небе, а потом — на неестественно чистые звуки кабацкого пианино, на котором играли «Эй, Джуд». Дорога заметно расширилась, как река, вбирающая в себя притоки. Вдоль дороги стояли столбы с искровыми фонарями, но их свет давно умер.
Стрелок уже и не помнил, когда закончился лес. Теперь он сменился однообразным, унылым пейзажем прерий: безбрежные заброшенные поля, заросшие низким кустарником и тимофеевкой, жалкие лачуги, зловещие, брошенные поместья, хранимые сумрачными, словно погружёнными в тяжкие думы особняками, где, несомненно, водились демоны; покинутые всеми скособоченные хибары, откуда люди ушли либо по собственной воле, либо их вынудили уйти; редкую хижину поселенца, оставшегося на месте, выдавало разве что одинокое мерцание точечки света во тьме по ночам, а днём — угрюмое, явно вырождающееся семейство, молча трудившееся на своём чахлом поле. Здесь в основном сеяли кукурузу, и ещё — бобы или горох. Случалось даже, что какая-нибудь отощавшая коровёнка тупо таращилась на стрелка сквозь прореху в ободранной покосившейся изгороди. Четыре раза мимо проехали почтовые кареты: две — навстречу, две — в ту же сторону, что и стрелок. В обогнавших его каретах почти не было пассажиров; в тех, что катили в обратную сторону, к лесам на севере, народу было побольше. Иногда попадались и фермеры на своих шатких повозках. Они старательно отводили глаза, чтобы не встретиться взглядом со странником с револьверами.
Унылый, уродливый край. С тех пор как стрелок покинул Прайстаун, дождь шёл два раза, и оба раза как будто нехотя. Даже трава тимофеевка была жёлтой и вялой. Это страна не для жизни: разве что быстро пройти её и забыть. И никаких следов человека в чёрном. Но возможно, он сел в карету.
Дорога изогнулась дугой. Сразу за поворотом стрелок остановился и глянул вниз, на Талл. Городок расположился на дне чашевидной долины — поддельный самоцвет в дешёвой оправе. Кое-где горел свет, в основном огни сосредоточились там, где звучала музыка. Улиц вроде бы было четыре, три из которых шли под прямым углом к проезжему тракту, служившему одновременно и главной улицей городка. Может, тут есть ресторанчик. Сомнительно, впрочем, но вдруг… Стрелок прикрикнул на мула: «Пошёл!»
Теперь дома вдоль дороги стояли всё чаще, но почти все — по-прежнему необитаемые. Стрелок миновал крохотное кладбище. Заплесневелые, покосившиеся деревянные плиты утонули в буйно разросшейся бес-траве. А ещё через пять сотен футов стрелок поравнялся с изжёванным указателем с надписью: ТАЛЛ.
Краска пооблупилась, так что разобрать надпись на указателе стало практически невозможно. Чуть подальше был ещё один указатель, но стрелок так и не смог прочитать, что там написано.
Дурашливый хор полупьяных голосов поднялся в последнем протяжном куплете «Эй, Джуд» — «Наа-наа-наа наа-на-на-на… эй, Джуд…» — едва стрелок вступил в черту городка. Звук был мёртвым, как гудение ветра в дупле прогнившего дерева. И лишь прозаическое бренчание кабацкого пианино удержало стрелка от серьёзных раздумий о том, уж не вызвал ли человек в чёрном призраков, чтобы населить ими этот заброшенный город. Эта мысль вызвала у него улыбку.
На улицах были люди. Не много, но были. Три дамы — все три в чёрных брюках и одинаковых блузах с высокими стоячими воротниками — прошли мимо стрелка по другой стороне дороги, подчёркнуто глядя в сторону. Их лица как будто плыли над неразличимыми под свободной одеждой телами, точно большие бледные шары с глазами. Мрачного вида старик в соломенной шляпе, крепко сидящей на самой макушке, наблюдал за ним со ступеней крыльца заколоченной бакалейной лавки. Худющий портной, занятый с поздним клиентом, на мгновение прервал работу и проводил стрелка взглядом; он даже поднёс к окну лампу, чтобы получше разглядеть. Стрелок кивнул. Ни портной, ни клиент не кивнули в ответ. Он буквально физически ощущал, как их взгляды впились в кобуры у него на бёдрах. Пацан лет тринадцати и девчонка — то ли его сестра, то ли подружка — перешли через улицу, помедлив какую-то долю мгновения. Прошли, поднимая ногами пыль, зависавшую в воздухе маленькими облачками. Здесь, в городке, фонари работали, но это были не электрические фонари; их стёкла давно потускнели от толстого слоя масляного нагара. Кое-где фонари были разбиты. Была тут и платная конюшня, которая держалась, наверное, только тем, что через городок проходил маршрут почтовых карет. Сбоку от входа в конюшню трое мальчишек молча сидели на корточках возле поля для игры в шарики, начерченного в пыли, и смолили самодельные папиросы из кукурузных обёрток. Их длинные тени пролегли через дворик. У одного была шляпа со скорпионьим хвостом, лихо заткнутым за ленту. У второго — бельмо на вздутом, вылезающем из орбиты глазу. На левом.
Стрелок провёл мимо них мула и заглянул в сумрачные глубины конюшни. Единственная лампа еле-еле коптила. В её рассеянном свете вздрагивала и плясала тень — долговязый нескладный старик в комбинезоне, натянутом прямо на голое тело, поддевал громадными вилами большие охапки сена и размашисто, с уханьем, переваливал их на сеновал.
— Эй! — окликнул его стрелок.
Вилы дрогнули, и хозяин с раздражением обернулся.
— Себе поэйкай!
— У меня мул.
— Хорошо тебе.
Стрелок швырнул в полутьму золотой. Тяжёлую, неровно обточенную по краям монету. Она сверкнула и глухо звякнула о старые доски, посыпанные сечкой.
Хозяин вышел вперёд, наклонился, поднял золотой, подозрительно покосился на стрелка и, на мгновение задержав взгляд на его портупеях, кисло кивнул.
— Надолго его оставляешь?
— На ночь, на две. Может, больше.
— У меня нету сдачи.
— Сдачи не надо.
— Стреляные денежки, — буркнул хозяин.
— Что?
— Ничего. — Хозяин подхватил уздечку и повёл мула в сарай.
— И почисти его хорошенько! — крикнул стрелок вдогонку. — Приду — проверю!
Старик даже не обернулся. Стрелок вышел к мальчишкам, что сидели у поля для шариков. Он ещё раньше заметил, что они наблюдают за их перепалкой со старым хрычом. Причём наблюдают с презрительным интересом.
— Долгих дней и приятных ночей, — сказал стрелок, пытаясь завязать разговор.
Нет ответа.
— Вы, ребята, здесь, что ли, живёте? В городе?
Нет ответа. Но парень со скорпионьим хвостом на шляпе, похоже, кивнул головой.
Один из мальчишек вынул изо рта лихо скрученную папироску из кукурузной обёртки, зажал в кулаке зелёный шарик — кошачий глаз — и пульнул его в круг на земле. Шарик ударил в «квакушку» и выбил её за пределы поля. Парнишка поднял свой камушек и приготовился к новому «выстрелу».
— Где тут можно поесть? — спросил стрелок.
Один из них, самый младший, соизволил-таки поднять голову. Уголок его рта украшала здоровая блямба простуды, но глаза у него были вполне нормальные и пока что бесхитростные и наивные. Впрочем, в таком тухлом месте эта наивность долго не протянет. Он смотрел на стрелка с плохо скрываемым удивлением, очень трогательным и одновременно пугающим.
— У Шеба бывают бифштексы.
— Это в том кабаке?
Мальчик кивнул:
— Ага.
Взгляды его товарищей сделались вдруг колючими и враждебными. Мальчишке, похоже, придётся дорого заплатить за то, что он говорил с чужаком так дружелюбно.
Стрелок поднёс руку к полям своей шляпы.
— Благодарствую, парни. Было приятно узнать, что в этом городе есть ещё люди, у которых хватает мозгов, чтобы связно складывать звуки в слова.
Он поднялся на дощатый настил и зашагал вниз по улице к заведению Шеба. За спиной у него прозвучал звонкий презрительный голос кого-то из тех, двоих. Совсем ещё детский дискант:
— Травоед! И давно, интересно, ты дрючишь свою сестру, Чарли? Травоед!
А потом — звук удара и плач.
У входа в кабак горели аж три керосиновые лампы, по одной с каждого боку и ещё одна — прямо над покосившейся двустворчатой дверью. Пьяный хор, распевавший «Эй, Джуд», уже выдохся, и пианино бренчало теперь какую-то другую старую балладу. Голоса шелестели, словно рвущиеся нити. Стрелок на мгновение застыл на пороге, глядя в зал. На полу — слой древесных опилок. У колченогих столов — плевательницы. Стойка — обычная доска, укреплённая на козлах для пилки дров. За ней — заляпанное зеркало, в котором отражался тапёр, непременно сутулый, на своём непременно вертящемся табурете. У пианино не было передней панели, и было видно, как деревянные молоточки скачут вверх-вниз, когда эта хитрая штука играет. Барменша — светловолосая женщина в грязном голубом платье. Одна бретелька оторвана и подколота английской булавкой. Человек этак шесть — надо думать, все местные — скучковались в глубине зала, — где методично нажирались и лениво поигрывали в «Не зевай». Ещё с полдюжины посетителей сгрудились у пианино. Ещё четверо или пятеро — у стойки. И какой-то старик со всклокоченными седыми космами спал, повалившись на столик у самых дверей. Стрелок вошёл.
Все, кто был там, внутри, обернулись к двери. Все как один. Взгляды упёрлись в стрелка и его револьверы. На мгновение в помещении воцарилась почти полная тишина, только рассеянный тапёр, ничего не заметив, продолжал бренчать на своём пианино. А потом женщина за стойкой поморщилась, и всё стало как прежде.
— Не зевай, — сказал кто-то из игроков в углу и побил червонную тройку четвёркой пик, сбросив все свои карты. Тот, чья тройка ушла, смачно выругался, сдвинул деньги на середину стола, и карты сдали по новой.
Стрелок приблизился к стойке.
— Мясо есть? — спросил он.
— А то. — Женщина смотрела ему прямо в глаза. Когда-то она была даже красива, но с тех пор всё изменилось. Мир сдвинулся с места. Теперь её лицо поистаскалось и отекло, а на лбу красовался лиловый изогнутый шрам. Она его густо запудрила, но эта нехитрая уловка не скрывала рубец, а скорее привлекала к нему внимание. — Чистое мясо, хорошее. От доброй скотины. Только оно денег стоит.
Чистое, значит. От доброй скотины. Усраться можно, подумал стрелок. Да то, что лежит у тебя в холодилке, наверняка бегало на шести ногах и глядело тремя глазами, леди-сэй.
— Давай, значит, мне три бифштекса и пиво.
И снова — едва уловимый сдвиг в атмосфере. Три бифштекса. Рты наполнились слюной, языки впитали её с неторопливым и сладострастным смаком. Три бифштекса. Где это видано, чтоб человек ел по три бифштекса за раз?!
— С тебя пять быксов. Быксы-то есть?
— В смысле, доллары?
Женщина за стойкой кивнула, так что она, вероятно, имела в виду баксы.
— Это как, вместе с пивом? — спросил стрелок, улыбнувшись. — Или за пиво платить отдельно?
Женщина не улыбнулась в ответ.
— Ты сперва покажи мне деньги, а потом будет пиво.
Стрелок выложил на стойку золотой. Все взгляды как будто прилипли к монете.
Прямо за стойкой, слева от зеркала, стояла маленькая переносная печка с тлеющими углями. Женщина нырнула в какую-то каморку за печкой и вернулась уже с куском мяса, уложенным на бумажку. Отрезав три тоненьких ломтика, она швырнула их на решётку над углями. Поднявшийся запах сводил с ума. Стрелок, однако, стоял с непробиваемо равнодушным видом, как бы и не замечая, что происходит вокруг: чуть сбившийся ритм пианино, заминку в игре картёжников, косые взгляды завсегдатаев.
Мужик, подбиравшийся к нему сзади, был уже на полпути к своей цели, когда стрелок увидел его отражение в зеркале. Почти совсем лысый мужик. Его рука судорожно сжимала рукоять огромного охотничьего ножа, прикреплённого к поясу на манер кобуры.
— Сядь на место, — сказал стрелок. — Не нарывайся, приятель.
Мужик замер на месте. Его верхняя губа непроизвольно приподнялась, как у оскалившегося пса. На мгновение всё затихло. А потом лысый вернулся к своему столику, и всё опять стало как прежде.
Пиво подали в стеклянном бокале, правда, слегка надтреснутом.
— У меня нету сдачи, — вызывающе объявила барменша.
— Сдачи не надо.
Она сердито кивнула, как будто её взбесила эта откровенная демонстрация финансового благополучия, пусть даже и крайне выгодная для неё. Она, впрочем, взяла его золото, а ещё через пару минут на тарелке сомнительной чистоты появились бифштексы, так и не прожаренные по краям.
— А соль у вас есть?
Она извлекла из-под стойки солонку. Соль слежалась в комки, и стрелку пришлось раскрошить её пальцами.
— Хлеб?
— Хлеба нет.
Он знал, что она ему врёт, и знал, почему она врёт, и решил не настаивать. Лысый таращился на него, выпучив синюшные глаза; его руки то сжимались в кулаки, то вновь разжимались на растрескавшемся, выщербленном столе. Ноздри размеренно раздувались, впивая запах мяса. Ладно, хоть так. За понюхать деньги не берут.
Стрелок приступил к еде. Он ел спокойно, не торопясь и как будто не чувствуя вкуса — просто разрезал мясо на маленькие кусочки и отправлял их в рот, стараясь не думать о том, как могла выглядеть та корова, которую он сейчас ест. Барменша сказала, что мясо чистое. Ну да, как же! А свиньи выплясывают каммалу под Мешочной Луной.
Он доел почти всё, что было, и собирался уже заказать ещё пива и свернуть папироску, как вдруг кто-то тронул его за плечо.
Он вдруг осознал, что в зале опять стало тихо и подозрительно напряжённо. Стрелок обернулся и упёрся взглядом в лицо старика, который спал у дверей, когда он вошёл в бар. Это было страшное лицо, по-настоящему страшное. От старика так и несло бес-травой. И глаза у него были жуткие: немигающие и застывшие — глаза проклятого человека, который глядит, но не видит. Это были глаза, навсегда обращённые внутрь, в стерильный, выхолощенный ад неподвластных контролю сознания грёз, разнузданных снов, что поднялись из зловонных трясин подсознания.
Женщина за стойкой издала слабый стон.
Растресканные губы скривились, раскрылись, обнажая зелёные, как будто замшелые зубы, и стрелок подумал: «Он уже даже не курит её, а жуёт. Он и вправду её жуёт».
И ещё: «Он же мёртвый. Наверное, год как помер».
И потом ещё: «Человек в чёрном. Без него явно не обошлось».
Они смотрели друг на друга: стрелок и старик, уже шагнувший за грань безумия.
Он заговорил, и стрелок застыл, поражённый: к нему обращались Высоким Слогом Гилеада!
— Сделай милость, стрелок-сэй. Не пожалей золотой. Один золотой — это ж такая безделица.
Высокий Слог. В первый миг разум стрелка отказался его воспринять. Прошло столько лет — Боже правый! — прошли века, тысячелетия; никакого Высокого Слога давно уже нет. Он — последний. Последний стрелок. Все остальные…
Ошеломлённый, он сунул руку в нагрудный карман и достал золотую монету. Растресканная, исцарапанная рука в пятнах гангрены протянулась за ней, нежно погладила, подняла вверх, так чтобы в золоте отразилось маслянистое мерцание керосиновых ламп. Монета отбросила сдержанный гордый отблеск: золотистый, багровый, кровавый.
— Ааааххххххх… — Невнятное выражение удовольствия. Пошатнувшись, старик развернулся и двинулся к своему столику, держа монету перед глазами. Крутил её так и этак, демонстрируя всем присутствующим.
Кабак быстро пустел. Створки входных дверей хлопали, словно крылья взбесившейся летучей мыши. Тапёр захлопнул крышку своего инструмента и вышел следом за остальными — широченными театрально-шутовскими шагами.
— Шеб! — крикнула барменша ему вдогонку. В её голосе причудливо перемешались вздорная злоба и страх. — Шеб, сейчас же вернись! Что за чёрт!
Старик тем временем вернулся за свой столик. Сел, крутанул золотую монету на выщербленной столешнице. Его полумёртвые глаза, не отрываясь, следили за ней — заворожённые и пустые. Когда монета остановилась, он крутанул её ещё раз, потом — ещё, его веки отяжелели. После четвёртого раза его голова упала на стол ещё прежде, чем монета остановилась.
— Ну вот, — с тихим бешенством проговорила барменша. — Всех клиентов мне распугал. Доволен?
— Вернутся, куда они денутся, — отозвался стрелок.
— Но уж не сегодня.
— А это кто? — Он указал на травоеда.
— А не пошёл бы ты в жопу. Сэй.
— Мне надо знать, — терпеливо проговорил стрелок. — Он…
— Он так смешно с тобой разговаривал, — сказала она. — Норт в жизни так не говорил.
— Я ищу одного человека. Ты должна его знать.
Она смотрела на него в упор, её злость потихонечку выдыхалась. Она словно что-то прикидывала в уме, а потом в её глазах появился напряжённый и влажный блеск, который стрелок уже видел не раз. Покосившееся строение что-то выскрипывало про себя, словно в глубокой задумчивости. Где-то истошно лаяла собака. Стрелок ждал. Она увидела, что он понял, и голодный блеск сменился безысходностью, немым желанием, у которого не было голоса.
— Мою цену ты знаешь, наверное, — сказала она. — Раньше я на мужиков не бросалась, это они на меня бросались. Но теперь всё не так, как раньше. А мне очень нужно.
Он смотрел на неё в упор. В темноте шрама будет не видно. Её тело не смогли состарить ни пустыня, ни песок, ни ежедневный тяжёлый труд. Оно было вовсе не дряблым, а худым и подтянутым. И когда-то она была очень хорошенькой, может быть, даже красивой. Но это уже не имело значения. Даже если бы в сухой и бесплодной черноте её утробы копошились могильные черви, всё равно всё случилось бы именно так. Всё было предопределено. Предначертано чьей-то рукой в книге ка.
Она закрыла лицо руками. В ней ещё оставались какие-то соки: чтобы заплакать, хватило.
— Не смотри! Не надо так на меня смотреть! Я не какая-то грязная шлюха!
— Прости, — сказал стрелок. — Я и в мыслях подобного не держал.
— Все вы так говорите!
— Закрой заведение и погаси свет.
Она плакала, не отнимая рук от лица. Ему понравилось, что она закрывает лицо руками. Не из-за шрама, нет, просто это как бы возвращало ей если не девственность, то былую девическую стыдливость. Булавка, что держала бретельку платья, поблёскивала в масляном свете ламп.
— Он ничего не утащит? Если хочешь, могу его выгнать.
— Нет, — прошептала она. — Норт никогда ничего не крал.
— Тогда гаси свет.
Она убрала руки с лица, только когда зашла ему за спину. Потом потушила все лампы, одну за другой: долго ходила по залу, подкручивала фитили, задувала пламя. А потом, в темноте, она взяла его за руку. Её рука была тёплой. Она увела его вверх по лестнице. Там не было света, чтобы скрыть их сношение.
VI
Он свернул во тьме две самокрутки, раскурил обе и отдал одну ей. Комната хранила её запах — трогательный аромат свежей сирени. Но запах пустыни его забивал. Стрелок вдруг понял: он боится пустыни, что ждала впереди.
— Его зовут Норт, — сказала она. Даже теперь её голос не сделался мягче. — Просто Норт. Он мёртвый.
Стрелок молча ждал продолжения.
— Его коснулась десница Божия.
Стрелок сказал:
— Я ни разу Его не видел.
— Сколько я себя помню, он всё время был здесь… Норт, я имею в виду, не Бог. — Она усмехнулась в темноте. — Одно время он подрабатывал тем, что развозил по дворам навоз. Потом запил. Стал нюхать траву. А потом и курить. Дети таскались за ним повсюду, проходу ему не давали, собак науськивали. У него были такие зелёные старые шаровары, и от них жутко воняло. Ты понимаешь?
— Да.
— Он начал её жевать. Под конец уже просто сидел и вообще ничего не делал. Даже есть перестал. Наверное, воображал себя королём. Детишки, наверное, были его шутами, а собаки — придворными.
— Да.
— Помер он тут, в аккурат на пороге. Шёл по улице, сапогами своими шлёпал… сапоги-то солдатские были, носи их — не сносишь… он их нашёл на старом полигоне… в общем, шёл он по улице, ну и, как водится, следом — детишки с собаками. Видок у него был ещё тот! Как вот вешалки, что из проволоки, если их собрать и скрутить все вместе. В глазах у него словно адов огонь горел, а он ещё ухмылялся. Такой, знаешь, оскал… малышня вырезает похожие рожи на тыквах в канун Большой Жатвы. А уж несло от него, кошмар! И грязью, и гнилью, и травкой. Она, знаешь, стекала по уголкам его рта, как зелёная кровь. Я так думаю, он собирался войти и послушать, как Шеб играет. И буквально уже на пороге вдруг замер, голову вскинул. Я его видела, но подумала, что он карету услышал, хотя для кареты было рановато. А потом его вырвало, чёрным таким, с кровью. Лезло всё через эту его ухмылку, как сточные воды через решётку. А уж воняло… лучше с ума сойти, честное слово. Он вскинул руки и как отключился. Просто упал и всё. Так и умер с этой ухмылкой на губах. В своей же блевотине.
— Добрая такая история.
— Да, спасибо-сэй. Какое место, такая история.
Её била дрожь. Ветер снаружи так и не унялся.
Где-то хлопала дверь, далеко-далеко — как звук, пригрезившийся во сне. В стене копошились мыши. «Надо думать, это — единственное заведение во всём городке, где мышам есть чем поживиться», — подумал стрелок. Он положил руку ей на живот. Она вздрогнула, но тут же расслабилась.
— Человек в чёрном, — сказал стрелок.
— А почему нельзя кинуть палку и сразу заснуть? Но ты от меня не отстанешь, как я понимаю, пока я всё не расскажу?
— Мне надо знать.
— Ладно. Я расскажу. — Она сжала его ладонь обеими руками и рассказала всё.
VII
Он заявился под вечер, в тот день, когда умер Норт. Ветер в тот вечер разбушевался: рассеивал верхний слой почвы, поднимал в воздух песчаную пелену, вырывал с корнем ещё недозревшую кукурузу. Хьюбал Кеннерли запер конюшню, а торговцы, державшие лавки, закрыли все окна ставнями и заложили их досками. Небо было жёлтым, цвета заскорузлого сыра, и тучи неслись в вышине, как будто что-то их напугало в безбрежных просторах пустыни, над которой они только-только промчались.
Он приехал в дребезжащей повозке с парусиновым верхом, бьющимся на ветру. Он улыбался: как говорится, улыбочка до ушей. Люди наблюдали, как он въезжает в городок, и старик Кеннерли, который лежал у окна, сжимая в одной руке початую бутылку, а в другой — распутную горячую плоть (а именно левую грудь своей второй дочки), решил не открывать, если тот постучит. Ну, вроде как никого нету дома.
Но человек в чёрном проехал мимо конюшни, даже не приостановившись. Колёса повозки вращались, взбивая пыль, и ветер жадно хватал её, унося прочь. Он мог быть священником или монахом — судя по запорошённой пылью чёрной сутане с широким капюшоном, покрывавшим всю голову и скрывавшим лицо, так что были видны только тонкие губы, растянутые в этой жуткой довольной улыбке. Сутана развевалась и хлопала на ветру. Из-под полы торчали квадратные носы тяжёлых сапог с массивными пряжками.
Он остановился у заведения Шеба. Там и привязал коня, который сразу же принялся тыкаться носом в голую землю. Развязав верёвку, скреплявшую парусину на задке повозки, человек в чёрном вытащил старый потёртый дорожный рюкзак, закинул его за плечо и вошёл в бар.
Элис уставилась на него с нескрываемым любопытством, но больше никто не заметил, как он вошёл. Все изрядно надрались. Шеб наигрывал методистские гимны в рваном ритме регтайма. Убелённые сединами лоботрясы, которые подтянулись в тот день пораньше, чтобы переждать бурю и помянуть в бозе почившего Норта, уже успели охрипнуть — ну ещё бы, весь день только и делают, что напиваются и горланят песни. Шеб, пьяный вдрызг и одурманенный возбуждающей мыслью, что сам он пока ещё не распрощался с жизнью, играл с каким-то неистовым пылом. Пальцы так и летали по клавишам.
Хриплые вопли не перекрывали вой ветра снаружи, но иной раз казалось, что гул человеческих голосов бросает ему дерзкий вызов. Захари, уединившись в углу с Эми Фельдон, закинул юбки ей на голову и рисовал у неё на коленях символы Жатвы. Ещё несколько женщин ходили, что называется, по рукам. Похоже, что все пребывали в каком-то горячечном возбуждении. А мутный свет затенённого бурей дня, проникавший сквозь створки входной двери, как будто насмехался над ними.
Норта положили в центре зала на двух сдвинутых вместе столах. Носы его солдатских сапог образовали таинственную букву V. Нижняя челюсть отвисла в вялой усмешке, хотя кто-то всё-таки удосужился закрыть ему глаза и положить на них по монетке. В руки, сложенные на груди, вставили пучок бес-травы. Несло от него кошмарно — какой-то отравой.
Человек в чёрном снял капюшон и подошёл к стойке. Элис наблюдала за ним, ощущая тревогу, смешанную со знакомым, голодным желанием, скрытым в самых глубинах её естества. Он не носил никаких отличительных знаков религиозного ордена, хотя само по себе это ещё ничего не значило.
— Виски, — сказал он. У него был приятный голос, тихий и мягкий. — Только хорошего виски, лапуля.
Она пошарила под прилавком и достала бутылку «Стар». Она могла бы всучить ему местной сивухи, выдав её за лучшее, что у них есть, но всё же достала нормальный виски. Пока она наливала, человек в чёрном смотрел на неё, не отрываясь. У него были большие, как будто светящиеся глаза. Было слишком темно, чтобы точно определить их цвет. Голод внутри нарастал. Пьяные вопли и выкрики не умолкали ни на мгновение. Шеб, никчёмный кастрат, играл гимн о Христовом воинстве, и кто-то уговорил тётушку Милли спеть. Её голос, скрипучий, противный, врезался в пьяный гул голосов, словно топор с тупым лезвием — в череп телёнка на бойне.
— Эй, Элли!
Она пошла принимать заказ, задетая молчанием незнакомца, уязвлённая взглядом его странных глаз непонятного цвета и своим нестихающим жжением в паху. Она боялась своих желаний. Они были капризны. И не подчинялись ей. Эти желания могли быть симптомом больших перемен, а те, в свою очередь, — признаком подступающей старости, а старость в Талле всегда была краткой и горькой, как зимний закат.
Бочонок с пивом уже опустел. Она открыла ещё один. Уж лучше всё сделать самой, чем просить Шеба. Конечно, он прибежит, как пёс, которым, собственно, он и был, прибежит по первому зову и либо порежет себе пальцы, либо прольёт всё пиво. Пока она возилась с бочонком, незнакомец смотрел на неё. Она чувствовала его взгляд.
— Много у вас тут народу, — сказал он, когда она возвратилась за стойку. Он ещё не притронулся к своему виски, а просто катал стакан между ладонями, чтобы согреть напиток.
— У нас тут поминки, — сказала она.
— Я заметил покойного.
— Никчёмные люди, — сказала она с внезапной злобой. — Никчёмные люди.
— Это их возбуждает. Он умер. Они — ещё нет.
— Они смеялись над ним при жизни. И они не должны издеваться над ним хотя бы теперь. Это нехорошо. Это… — Она запнулась, не зная, как выразить свою мысль: что это и почему это мерзко.
— Травоед?
— Да! А что ещё у него было в жизни?
В её голосе явственно слышалось обвинение, но незнакомец не отвёл глаз, и она вдруг почувствовала, как кровь жаркой волной прилила ей к лицу.
— Прошу прощения. Вы, наверное, священник? Вам, должно быть, всё это противно?
— Я не священник, и мне не противно. — Он осушил стакан виски одним глотком и даже не поморщился. — Ещё, пожалуйста. Ещё один и от души, как говорят в одном мире, тут по соседству.
Она не поняла, что это значит, но побоялась спросить.
— Только сперва покажите деньги. Прошу прощения.
— Нет надобности извиняться.
Он выложил на прилавок неровную серебряную монету, толстую с одного конца и потоньше — с другого, и она сказала, как скажет потом:
— У меня нету сдачи.
Он лишь мотнул головой и с рассеянным видом глядел на стакан, пока она наливала ему ещё виски.
— Вы у нас как, проездом? — спросила она.
Он долго молчал, и она уже собралась повторить свой вопрос, как вдруг он раздражённо тряхнул головой.
— Не надо сейчас говорить о таких пустяках. В присутствии смерти.
Она приумолкла, обиженная и поражённая. Он, должно быть, солгал, когда сказал ей, что он — не священник. Солгал, чтобы её испытать.
— Он тебе нравился, — произнёс незнакомец будничным тоном. — Да?
— Кто? Норт? — Она рассмеялась, прикинувшись раздражённой, чтобы скрыть смущение. — По-моему, вам лучше…
— Ты — добрая. И тебе страшно, — продолжал он. — А он жевал травку. Заглядывал с чёрного хода в ад. И вот он — смотри. Он ушёл, и дверь за ним захлопнулась, а ты думаешь, будто её не откроют, пока не придёт твоё время переступить этот порог, я не прав?
— Вы что, пьяны?
— Миштер Нортон откинул копыта, — проговорил нараспев человек в чёрном, так что всё это прозвучало язвительно и издевательски. — Он мёртв. Как и все здесь. Как ты. Как все вы.
— Убирайтесь отсюда.
Её охватила холодная дрожь отвращения, но внизу живота по-прежнему разливалось тепло.
— Всё в порядке, — сказал он мягко. — Всё в полном порядке. Подожди. Подожди и увидишь.
Теперь она разглядела его глаза: голубые. В голове у неё появилась какая-то странная лёгкость, словно она приняла дурманящего снадобья.
— Мёртв, как и все вы, — повторил он. — Ты видишь?
Она тупо кивнула, и он рассмеялся — звонким, сильным и чистым смехом. Все как один обернулись к нему. Он обвёл взглядом зал, внезапно сделавшись центром внимания. Тётушка Милли запнулась и замолчала, только отзвук высокой скрипучей ноты ещё дрожал, растекаясь в воздухе. Шеб сбился с ритма и остановился. Все с беспокойством уставились на чужака. Снаружи по стенам шуршал песок.
Тишина затянулась. У Элис перехватило дыхание. Она опустила глаза и увидела, что её руки сжимают живот под стойкой. Все смотрели на чужака. Он — на них. А потом он опять рассмеялся своим сильным свободным смехом — смехом, с которым нельзя не считаться. Но больше никто не рассмеялся. Никто.
— Я покажу вам чудо! — выкрикнул он. Но они лишь смотрели во все глаза, как смотрят на фокусника послушные дети, уже слишком большие и взрослые, чтобы верить в его чудеса.
Человек в чёрном резко подался вперёд, и тётушка Милли в страхе отшатнулась. Он свирепо оскалился и шлёпнул её по огромному пузу. Она коротко хохотнула — помимо собственной воли и неожиданно для себя самой, — и человек в чёрном спросил:
— Так лучше, правда?
Тётушка Милли опять захихикала, а потом вдруг разрыдалась и, не разбирая дороги, бросилась за порог. Все остальные молча смотрели ей вслед. Кажется, собиралась буря: чёрные тучи мчались друг за другом, вздымаясь и опадая, как волны, на фоне белого неба. Какой-то мужчина, застывший у пианино с позабытой кружкой пива в руке, вдруг застонал.
Человек в чёрном встал перед Нортом, взглянул на него сверху вниз и усмехнулся. Ветер выл, вопил и бесновался снаружи. Что-то тяжёлое и большое ударилось в стену таверны и отскочило прочь. Один из мужчин, стоявших у стойки, неожиданно встрепенулся и вышел за дверь. Решил, должно быть, что дома будет спокойнее. Гром был похож на натужный кашель какого-нибудь прихворнувшего бога.
— Хорошо, — осклабился человек в чёрном. — Замечательно. Что ж, приступим.
Старательно целясь, он принялся плевать Норту в лицо. Слюна заблестела на лбу у покойного, стекая жемчужными каплями по его крючковатому носу, похожему на выбритый клюв.
Руки Элис под стойкой заработали ещё быстрее.
Шеб расхохотался, да так, что аж согнулся пополам и тут же закашлялся, отхаркивая липкие комки мокроты. Человек в чёрном одобрительно рыкнул и постучал его по спине. Шеб ухмыльнулся, сверкнув золотым зубом.
Кое-кто убежал. Остальные сгрудились вокруг Норта. Всё его лицо, складки дряблой и сморщенной кожи на шее и верх груди теперь блестели от влаги — такой драгоценной в этом засушливом крае. А потом дождь слюны вдруг прекратился. Как по команде. Слышалось только дыхание, тяжёлое, хриплое.
Человек в чёрном внезапно подался вперёд и, согнувшись, перелетел через труп, описав в воздухе плавную дугу. Это было красиво, как всплеск воды. Он приземлился на руки, рывком вскочил на ноги, ухмыльнулся и прыгнул обратно. Кто-то из зрителей, забывшись, захлопал в ладоши, но тут же попятился, выпучив глаза, помутневшие от ужаса. Зажав рукой рот, он рванулся к дверям.
Норт шевельнулся, когда человек в чёрном перелетел через него в третий раз.
По рядам зрителей пробежал глухой ропот. Вернее, один-единственный вздох — и всё снова затихло. Человек в чёрном запрокинул голову и завыл. Его грудь ходила ходуном от учащённого, неглубокого дыхания: он словно накачивался воздухом. Всё быстрее и быстрее становились его прыжки — он буквально переливался над телом Норта, как вода из стакана в стакан. В глухой тишине слышался только рвущийся скрежет его дыхания и гул набирающей силу бури.
И вот Норт сделал глубокий вдох. Его руки затряслись и принялись колотить по столу. Шеб с визгом ринулся за порог. Следом за ним выбежала одна из женщин.
Человек в чёрном перелетел через Норта ещё раз. Два раза, три раза. Тело на столе сотрясала дрожь. Сейчас Норт был похож на большую куклу, которая вроде как оживает — хотя, конечно, она не живая, просто у неё внутри скрыт какой-то чудовищный механизм. Смешанный запах гниения, разложения и экскрементов вздымался удушающими волнами. Глаза Норта открылись.
Элис почувствовала, как ноги сами уносят её назад. Отступая, она уткнулась спиной в зеркало. Оно задрожало, и её вдруг охватила слепая паника. Она опрометью бросилась вон.
— Вот твоё чудо, — отдуваясь, крикнул ей вслед человек в чёрном. — Дарю. Теперь можешь спать спокойно. Даже такое не необратимо. Хотя всё это… так… чёрт подери… смешно! — И он опять рассмеялся. Хохот всё отдалялся и отдалялся, пока она неслась вверх по лестнице и остановилась только тогда, когда захлопнула дверь и заперла её за собой.
Привалившись к стене за закрытой дверью, она опустилась на корточки и, раскачиваясь взад-вперёд, зашлась в истерическом смехе, который сменился пронзительным воем и утонул в завываниях ветра. Ей было слышно, как внизу мёртвый — оживший — Норт стучит кулаками по столу, словно кто-то вслепую колотит по крышке гроба. Она подумала: а что, интересно, он видел, пока лежал мёртвый? Запомнил он что-нибудь или нет? Расскажет он или нет? Может быть, там, внизу, обнаружатся тайны загробного мира? И что самое страшное — ей было действительно интересно.
А внизу Норт с отрешённым, рассеянным видом вышел из бара на улицу, в бурю, чтобы нарвать себе травки. И, может быть, человек в чёрном — единственный оставшийся посетитель — проводил его взглядом. И, может быть, он улыбался по-прежнему.
Когда, уже ближе к ночи, она всё же заставила себя спуститься вниз с зажжённой лампой в одной руке и увесистым поленом — в другой, человек в чёрном уже ушёл. Не было и повозки. Зато Норт как ни в чём не бывало сидел за столиком у дверей, словно он никуда и не отлучался. От него пахло травкой, хотя и не так сильно, как можно было ожидать.
Он взглянул на неё и несмело улыбнулся.
— Привет, Элли.
— Привет, Норт.
Она опустила полено и принялась зажигать лампы, стараясь не поворачиваться к нему спиной.
— Меня коснулась десница Божия, — сказал он чуть погодя. — Я больше уже никогда не умру. Он так сказал. Он обещал.
— Хорошо тебе, Норт.
Лучина выпала из её дрожащей руки, и она наклонилась её поднять.
— Я, знаешь, хочу прекратить жевать эту траву, — сказал он. — Как-то оно мне не в радость уже. Да и негоже, чтобы человек, кого коснулась десница Божия, жевал такую отраву.
— Ну так возьми и прекрати. Что тебе мешает?
Она вдруг озлобилась, и эта злоба помогла ей снова увидеть в нём человека, а не какое-то адское существо, чудом вызванное в мир живых. Перед ней был обычный мужик, пришибленный и забалдевший от травки, с видом пристыжённым и виноватым. Она уже не боялась его.
— Меня ломает, — сказал он. — И мне её хочется, травки. Я уже не могу остановиться. Элли, ты всегда была доброй ко мне… — Он вдруг заплакал. — Я даже уже не могу перестать ссать в штаны. Кто я? Что я?
Она подошла к его столику и замерла в нерешительности, не зная, что говорить.
— Он мог сделать так, чтобы я её не хотел, — выдавил он сквозь слёзы. — Он мог это сделать, если уж смог меня оживить. Я не жалуюсь, нет… Не хочу жаловаться… — Затравленно оглядевшись по сторонам, он прошептал: — Он грозился меня убить, если я стану жаловаться.
— Может быть, он пошутил. Кажется, чувство юмора у него есть. Пусть и своеобразное.
Норт достал из-за пазухи свой кисет и извлёк пригоршню бес-травы. Она безотчётно ударила его по руке и, испугавшись, тут же отдёрнула руку.
— Я ничего не могу поделать, Элли. Я не могу… — Неуклюжим движением он опять запустил руку в кисет. Она могла бы его остановить, но не стала. Она отошла от него и вновь принялась зажигать лампы, уставшая до смерти, хотя вечер едва начался. Но в тот вечер никто не пришёл — только старик Кеннерли, который всё пропустил. Он как будто и не удивился, увидев Норта. Наверное, ему уже рассказали, что было. Он заказал пива, спросил, где Шеб, и облапал её.
А чуть позже Норт подошёл к ней и передал ей записку — сложенную бумажку в трясущейся руке. В руке, которая не должна была быть живой.
— Он просил передать тебе это. А я чуть не забыл. А если бы забыл, он бы вернулся и убил бы меня, это точно.
Бумага стоила дорого, и этот листок представлял собой немалую ценность, но ей не хотелось брать его в руки. Ей было противно его держать. Он был какой-то тяжёлый — и страшный. На нём было написано:
Элис
— Откуда он знает, как меня звать? — спросила она у Норта, но тот лишь покачал головой.
Она развернула листок и прочла:
Тебе интересно узнать про смерть. Я оставил ему слово. Это слово ДЕВЯТНАДЦАТЬ. Скажешь ему это слово, и его разум раскроется. Он расскажет тебе, что лежит там, за гранью. Расскажет тебе, что он видел.
Слово: ДЕВЯТНАДЦАТЬ.
Ты узнаешь, что хочешь знать.
Знание сведёт тебя с ума.
Но когда-нибудь ты обязательно спросишь
Рано или поздно спросишь. Просто не сможешь держаться.
Удачи!:)
Уолтер о'Мрак
PS. Слово: ДЕВЯТНАДЦАТЬ.
Ты постараешься это забыть, но когда-нибудь оно вырвется, это слово. Вырвется, как блевотина.
ДЕВЯТНАДЦАТЬ.
Да. Боже правый. Она знала, что так и будет. Оно уже дрожит на губах — это слово. Девятнадцать, скажет она. Норт, послушай: девятнадцать. И ей откроются тайны Смерти — мира за гранью жизни.
Рано или поздно ты спросишь.
Назавтра всё было почти как всегда, разве что ребятишки не бегали по пятам за Нортом. А ещё через день возобновились и улюлюканье, и издёвки. Всё вернулось на круги своя. Детишки собрали кукурузу, вырванную бурей, и через неделю после воскрешения Норта сожгли её посреди главной улицы. Костёр вспыхнул ярко и весело, и почти все завсегдатаи пивнушки вышли, пошатываясь, поглазеть. Они были похожи на первобытных людей, дивящихся на огонь. Их лица как будто плыли между пляшущими языками пламени и сиянием неба, как будто присыпанного ледяным крошевом. Наблюдая за ними, Элли вдруг ощутила пронзительную безысходность. Мрачные времена наступили в мире. Всё распадалось на части. И больше нет никакого стержня, который удержал бы мир от распада. Где-то что-то пошатнулось, и когда оно упадёт, всё закончится. Она в жизни не видела океана. И уже никогда не увидит.
— Если бы я не боялась, — пробормотала она. — Если бы я не боялась, если бы я…
На звук её голоса Норт поднял голову и улыбнулся. Пустой улыбкой — из самого ада. Но она очень боялась. Решимости у неё не было. Только барная стойка и шрам. И ещё — слово. За плотно сомкнутыми губами. А что, если позвать его прямо сейчас, притянуть ближе к себе — несмотря на кошмарную вонь — и шепнуть ему на ухо… слово. Его глаза станут другими. Превратятся в глаза того — человека в чёрной сутане. И Норт расскажет ей о Стране Смерти, что лежит за пределами жизни земной и могильных червей.
Я никогда не скажу ему слово.
Но человек, который воскресил Норта и оставил для неё записку — оставил, словно заряженный револьвер, который она когда-нибудь поднесёт к виску, — знал, как всё будет.
Девятнадцать откроет тайну.
Девятнадцать и есть тайна.
Она вдруг поймала себя на том, что рассеянно водит пальцем по пиву, пролитому на стойке, выписывая ДЕВЯТНАДЦАТЬ — и быстро вытерла мутную лужицу, когда заметила, что Норт наблюдает за ней.
Костёр прогорел быстро. Её клиенты вернулись в пивную. Она принялась методично вливать в себя виски «Стар» и к полуночи напилась вусмерть.
VIII
Она закончила свой рассказ и, поскольку стрелок ничего не сказал, решила, что он уснул, не дослушав. Она уже и сама начала засыпать, как вдруг он спросил:
— Это всё?
— Да. Это всё. Уже очень поздно.
— Гм… — Он свернул себе ещё одну папироску.
— Не сори табаком у меня в кровати, — сказала она. Резче, чем ей бы хотелось.
— Не буду.
Опять тишина. Лишь огонёк самокрутки мерцал в темноте.
— Утром ты уйдёшь, — хмуро проговорила она.
— Наверное. Мне нельзя здесь оставаться. По-моему, он мне подстроил ловушку.
— А что, это число и вправду…
— Если хочешь сохранить рассудок, не произноси это слово при Норте, — сказал стрелок. — Вообще забудь его, если сможешь. Уговори себя, что после восемнадцати идёт двадцать. Что половина от тридцати восьми — это семнадцать. Человек, подписавшийся Уолтер о'Мрак, он кто угодно, но только не лжец.
— Но…
— Когда тебе очень захочется, так что уже невтерпёж, поднимись к себе в комнату, спрячься под одеялом и повторяй это слово — кричи, если надо, — пока желание не пройдёт.
— Но однажды случится так, что оно не пройдёт.
Стрелок ничего не сказал: он знал, что она права. Это тоже была ловушка — страшная, безысходная. Если тебе скажут, что нельзя представлять свою маму голой, потому что иначе ты попадёшь прямиком в ад (когда он был маленьким, кто-то из старших ребят именно это ему и сказал), ты обязательно сделаешь то, что нельзя. И почему? Потому что тебе не хочется представлять свою маму голой. Потому что тебе не хочется попасть в ад. Потому что если есть нож и рука, чтобы держать этот нож, когда-нибудь ты неизбежно возьмёшь этот нож в руку. Потому что иначе ты просто сойдёшь с ума. И ты возьмёшь этот нож. Не потому что ты этого хочешь, а потому что, наоборот, не хочешь.
Когда-нибудь Элли обязательно позовёт Норта и скажет ему это слово.
— Не уходи, — сказала она.
— Ладно, посмотрим.
Он повернулся на бок, спиной к ней, но она всё равно успокоилась. Он останется. Пусть ненадолго, но всё же останется. Она задремала.
Уже засыпая, она снова подумала о том, как странно Норт обратился к нему, как чудно он говорил. Она ни разу не видела, чтобы стрелок, её новый любовник, выражал хоть какие-то чувства — ни до, ни после. Он молчал даже тогда, когда они занимались любовью, и лишь под конец его дыхание участилось и замерло на секунду. Он был точно какое-то существо из волшебной сказки или из мифа, существо незнакомое и опасное. Может быть, он исполняет желания? Наверное, да. Её желание он исполнил. Завтра он не уйдёт. Он останется. Хотя бы на время. И этого ей пока что достаточно — ей, несчастной сучке со шрамом. Завтра у неё будет время придумать второе желание и третье. Она уснула.
IX
Утром она сварила ему овсянку, которую он молча съел. Он сосредоточенно поглощал ложку за ложкой, не думая об Элис и вряд ли её замечая. Он знал: ему нужно идти. С каждой лишней минутой, пока он медлит, человек в чёрном уходит всё дальше и дальше. Возможно, он уже в пустыне. До сих пор он неуклонно держал путь на юго-восток, и стрелок знал почему.
— У тебя есть карта? — спросил он, оторвавшись от тарелки.
— Этого городка? — рассмеялась она.
— Нет. Страны к юго-востоку отсюда.
Её улыбка увяла.
— Там пустыня. Просто пустыня. Я думала, ты останешься, ненадолго.
— А что за пустыней?
— Откуда мне знать? Ещё никто её не перешёл. Никто даже и не пытался, сколько я себя помню. — Она вытерла руки о фартук, взяла прихватки и, сняв с огня ушат кипящей воды, перелила её в раковину. Над водой поднялся пар. — Тучи уносит в ту сторону. Как будто их что-то засасывает…
Стрелок встал.
— Ты куда? — В её голосе явственно слышался страх, и она разозлилась на себя за это.
— На конюшню. Если кто-то и знает, так это конюх. — Он положил руки ей на плечи. Они были жёсткими, его руки. Но и тёплыми тоже. — И распоряжусь насчёт мула. Если я соберусь здесь задержаться, нужно, чтобы о нём позаботились. Чтобы он был готов, когда надо будет отправиться дальше.
Когда-нибудь, но не теперь. Она подняла глаза.
— Ты с этим Кеннерли поосторожнее. Он скорее всего ни черта не знает, зато будет выдумывать всякие небылицы.
— Спасибо, Элли.
Когда он ушёл, она повернулась к раковине с посудой, чувствуя, как по щекам текут слёзы — горячие слёзы благодарности. Она уже и забыла, когда ей в последний раз говорили «спасибо». Кто-то, кто ей действительно не безразличен.
X
Кеннерли — мерзопакостный старикашка, беззубый и похотливый — схоронил двух жён и вовсю пялил собственных дочерей. Две девчушки, как говорится, ещё не вошедшие в возраст, таращились на стрелка из пыльного полумрака конюшни. Малышка едва ли не грудного возраста со счастливым видом пускала слюни, сидя прямо в грязи. Взрослая уже девица, белокурая, чувственная, неопрятная, что качала воду из скрипучей колонки во дворе у конюшни, поглядывала на стрелка с этаким глубокомысленным любопытством. Она увидела, что он на неё смотрит, приосанилась, ущипнула себя за соски, недвусмысленно подмигнула ему и вновь принялась качать воду.
Конюх встретил его на полпути между улицей и входом в конюшню. Его манеры представляли собой нечто среднее между открытой враждебностью и боязливым заискиванием.
— Уж мы за ним смотрим как надо, — объявил он с ходу, и не успел стрелок даже ответить, как старик вдруг повернулся к дочери и погрозил ей кулаком: — Иди в дом, Суби! Брысь отсюда, кому сказал!
Подхватив ведро, Суби с угрюмым видом поплелась к хибаре, пристроенной прямо к конюшне.
— Это ты о моём муле? — спросил стрелок.
— Да, сэй, о нём. Давненько не видел я мулов. Да ещё таких ладных, здоровых… два глаза, четыре ноги… добрая скотина… — Он скривился, как бы давая понять, что у него и вправду душа болит за такое дело или, может, что это была просто шутка. Стрелок так и не понял, что именно, но решил, что, наверное, всё-таки шутка, хотя у него самого с чувством юмора было напряжно. — Было время, куда их девать-то не знали, мулов, а потом мир взял да и сдвинулся. И куда они все подевались? Осталось только немного рогатой скотины, и почтовые лошади, и… Суби, я тебя выпорю, Богом клянусь!
— Да я не кусаюсь, — заметил стрелок.
Кеннерли подобострастно съёжился. В его глазах стрелок явственно видел желание убить, и хотя он не боялся Кеннерли, он всё же отметил увиденное, как будто сделал закладку в книге — в книге потенциально ценных советов.
— Дело не в вас. Нет, не в вас. — Он осклабился. — Просто она от природы немного тронутая. В ней бес живёт. Она дикая. — Его глаза потемнели. — Грядёт Конец света, мистер. Последний Час. Вы же знаете, как там в Писании сказано: и чада не подчинятся родительской воле, и многих сразит моровая язва. Да вот послушать хотя бы нашу проповедницу, и всё станет ясно.
Стрелок кивнул, а потом указал на юго-восток.
— А там что?
Кеннерли опять ухмыльнулся, обнажая голые дёсны с остатками пожелтевших зубов.
— Поселенцы. Трава. Пустыня. Чего же ещё? — Он гоготнул и смерил стрелка неожиданно похолодевшим взглядом.
— А пустыня большая?
— Большая. — Кеннерли старательно напустил на себя серьёзный вид. — Колёс, может, с тысячу будет. А то и с две тысячи. Не скажу точно, мистер. Там ничего нет. Одна бес-трава да ещё, может, демоны. Говорят, что на дальней её стороне есть ещё говорящий круг. Но, наверное, врут. Туда ушёл тот, другой. Который вылечил Норти, когда он приболел.
— Приболел? Я слышал, он умер.
Кеннерли продолжал ухмыляться.
— Ну… может быть. Но мы же взрослые люди.
— Однако ты веришь в демонов.
Кеннерли вдруг смутился.
— Это совсем другое. Проповедница говорит…
И Кеннерли понёс такой вздор, что чертям стало тошно. Стрелок снял шляпу и вытер вспотевший лоб. Солнце жарило, припекая всё сильнее. Но Кеннерли как будто этого и не замечал. В тощей тени у стены конюшни малышка с серьёзным видом размазывала по мордашке грязь.
Наконец стрелку надоело выслушивать всякий бред, и он оборвал Кеннерли на полуслове:
— А что за пустыней, не знаешь?
Кеннерли пожал плечами.
— Что-то, наверное, есть. Лет пятьдесят назад туда ходил рейсовый экипаж. Папаша мой мне рассказывал. Говорил, что там горы. Кое-кто говорит — океан… зелёный такой океан с чудовищами. А ещё говорят, будто там конец света и нет ничего, только свет ослепляющий и лик Божий с разверстым ртом. И что Бог пожирает любого, кому случится туда забрести.
— Чушь собачья, — коротко бросил стрелок.
— Вот и я говорю, что чушь, — с радостью поддакнул Кеннерли, снова согнувшись в подобострастном полупоклоне. Боясь, ненавидя, стараясь угодить.
— Ты там приглядывай за моим мулом.
Стрелок швырнул Кеннерли ещё одну монету, которую тот поймал на лету. Как собака, которая ловит мяч.
— В лучшем виде присмотрим, не беспокойтесь. Думаете задержаться у нас ненадолго?
— Пожалуй, придётся. Бог даст…
— …будет вода. Да, конечно. — Кеннерли опять рассмеялся, но уже невесело. В его глазах стрелок снова увидел желание убить. Нет, даже не так. Не убить — а чтобы стрелок сам повалился мёртвым к его ногам. — Эта Элли, чертовка, может быть очень миленькой, если захочет, верно? — Конюх согнул левую руку в кулак и принялся тыкать в кулак указательным пальцем правой, изображая известный акт.
— Ты что-то сказал? — рассеянно переспросил стрелок.
Теперь глаза Кеннерли переполнились ужасом — словно две луны поднялись над горизонтом. Он быстро убрал руки за спину, как шкодливый мальчишка, которого поймали за нехорошим занятием.
— Нет, сэй, ни слова. Прошу прощения, если что сорвалось. — Тут он увидел, что Суби высунулась из окна, и набросился на неё: — Я тебя точно выпорю, сучья ты морда! Богом клянусь! Я тебя…
Стрелок пошёл прочь, зная, что Кеннерли глядит ему вслед и что если он сейчас обернётся, то прочтёт у конюха на лице его истинные, неприкрытые чувства. Ну и чёрт с ним. Было жарко. Стрелок и так знал, что на лице старого конюха будет написана жгучая ненависть. Ненависть к чужаку. Ну и ладно. Стрелок уже получил от него всё, что нужно. Единственное, что он доподлинно знал о пустыне, это то, что она большая. Единственное, что он доподлинно знал об этом городке: здесь ещё не всё сделано. Ещё не всё.
XI
Они с Элли лежали в постели, когда Шеб влетел к ним с ножом, пинком распахнул дверь.
Прошло уже целых четыре дня, и они промелькнули как будто в тумане. Он ел. Спал. Трахался с Элли. Он узнал, что она играет на скрипке, и уговорил её сыграть для него. Она сидела в профиль к нему у окна, омываемая молочным светом зари, и что-то наигрывала — натужно и сбивчиво. У неё вышло бы вполне сносно, если бы она занималась побольше. Он вдруг понял, что она ему нравится, нравится всё больше и больше (пусть даже чувство было каким-то странно отрешённым), и подумал, что, может быть, это и есть ловушка, которую устроил ему человек в чёрном. Иногда стрелок выходил пройтись. Он ни о чём не задумывался.
Он даже не слышал, как тщедушный тапёр поднимался по лестнице — его чутьё притупилось. Но сейчас ему было уже всё равно, хотя в другом месте, в другое время он бы, наверное, не на шутку встревожился.
Элли уже разделась и лежала в постели, прикрытая простынёй только до пояса. Они как раз собирались заняться любовью.
— Пожалуйста, — шептала она. — Как в тот раз. Я хочу так, хочу…
Дверь с грохотом распахнулась, и к ним ворвался коротышка тапёр. Вбежал, смешно поднимая ноги, вывернутые коленями внутрь. Элли не закричала, хотя в руке у Шеба был восьмидюймовый мясницкий нож. Шеб издавал какие-то нечленораздельные булькающие звуки, словно какой-нибудь бедолага, которого топят в бадье с жидкой грязью, брызжа при этом слюной. Он с размаху опустил нож, схватившись за рукоять обеими руками. Стрелок перехватил его запястья и резко вывернул. Нож вылетел. Шеб пронзительно завизжал — словно дверь повернулась на ржавых петлях. Руки неестественно дёрнулись, как у куклы-марионетки, обе — сломанные в запястьях. Ветер ударил песком в окно. В мутном и чуть кривоватом зеркале на стене отражалась вся комната.
— Она была моей! — разрыдался Шеб. — Сначала она была моей! Моей!
Элли мельком взглянула на него и встала с кровати, набросив халат. На мгновение стрелку стало жалко этого человека, потерявшего что-то, что, как он считал, некогда принадлежало ему, — этого жалкого маленького человечка, который уже ничего не может. И тут стрелок вспомнил, где он его видел. Ведь он знал его раньше.
— Это из-за тебя, — рыдал Шеб. — Только из-за тебя, Элли. Ты была первой, и это всё ты. Я… о Боже, Боже милостивый… — Слова растворились в приступе неразборчивых всхлипов и в конечном итоге обернулись потоком слёз. Шеб раскачивался взад-вперёд, прижимая к животу свои сломанные запястья.
— Ну тише. Тише. Дай я посмотрю. — Она опустилась перед ним на колени. — Да, сломаны. Шеб, какой же ты всё-таки идиот. И как ты теперь будешь играть? И на что будешь жить? Ты ж никогда не был сильным или ты, может, об этом не знал? — Она помогла ему встать на ноги. Он попытался спрятать лицо в ладонях, но руки не подчинились ему. Он плакал в открытую. — Давай сядем за стол, и я попробую что-нибудь сделать.
Она усадила его за стол и наложила ему на запястья шины из щепок, предназначенных для растопки. Он плакал тихонько, безвольно.
— Меджис, — сказал стрелок, и тапёр вздрогнул и обернулся к нему, широко распахнув глаза. Стрелок кивнул — и вполне дружелюбно, ведь Шеб уже не пытался воткнуть в него нож. — Меджис, — повторил он. — На Чистом море.
— И что там в Меджисе?
— Ты был там.
— А если и был, что с того? Я тебя не помню.
— Но ты помнишь девушку, правда? Девушку по имени Сюзан? В ночь Жатвы? — Голос стрелка сделался жёстким. — Ты был у костра?
У тапёра дрожали губы. Губы, блестящие от слюны. Его взгляд говорил о том, что он всё понимает: он сейчас ближе к смерти, чем в то мгновение, когда он ворвался к ним в спальню, размахивая ножом.
— Уйди отсюда, — сказал стрелок.
И вот тогда Шеб всё вспомнил.
— Ты тот мальчишка! Вас было трое, мальчишек! Вы приехали сосчитать поголовье скота, и Элдред Джонас был там, охотник за гробами, и…
— Уходи, пока можно уйти, — сказал стрелок, и Шеб ушёл, баюкая свои сломанные запястья.
Элли вернулась обратно в постель.
— И как это всё понимать?
— Это тебя не касается, — сказал он.
— Ладно… так на чём мы с тобой остановились?
— Ни на чём, — сказал он и перевернулся на бок, к ней спиной.
Она терпеливо проговорила:
— Ведь ты знал про меня, про него. Он делал, что мог, а мог он немногое. А я брала, что могла, потому что мне было нужно. Вот и всё. Да и что тут могло быть? И что вообще может быть? — Она прикоснулась к его плечу. — Кроме того, что я рада, что ты такой сильный.
— Не сейчас, — сказал он.
— А кто она, эта девушка? — спросила она и добавила, не дождавшись ответа: — Ты её любил.
— Не будем об этом, Элли.
— Я могу сделать тебя сильнее…
— Нет, — сказал он. — Ты не можешь.
XII
Воскресным вечером бар был закрыт. В Талле был выходной — что-то вроде священной субботы. Стрелок отправился в крохотную покосившуюся церквушку неподалёку от кладбища, а Элли осталась в пивной протирать столы дезинфицирующим раствором и мыть стёкла керосиновых ламп в мыльной воде.
На землю спустились странные, багряного цвета сумерки, и церквушка, освещённая изнутри, походила на горящую топку, если смотреть на неё с дороги.
— Я не пойду, — сразу сказала Элис. — У этой тётки, которая там проповедует, не религия, а отрава. Пусть к ней ходят почтенные горожане.
Стрелок встал в притворе, укрывшись в тени, и заглянул внутрь. Скамей в помещении не было, и прихожане стояли. (Он увидел Кеннерли и весь его многочисленный выводок; Кастнера, владельца единственной в городке убогонькой галантерейной лавки, и его костлявую супружницу; кое-кого из завсегдатаев бара; нескольких «городских» женщин, которых он раньше не видел, и — что удивительно — Шеба.) Они нестройно тянули какой-то гимн а cappella.[4] Стрелок с любопытством разглядывал толстую тётку необъятных размеров, что стояла за кафедрой. Элли ему говорила: «Она живёт уединённо, почти ни с кем не встречается. Только по воскресеньям вылазит на свет, чтоб отслужить свою службу адскому пламени. Её зовут Сильвия Питтстон. Она не в своём уме, но она их как будто околдовала. И им это нравится. И вполне их устраивает».
Ни одно, даже самое колоритное описание этой женщины, наверное, всё равно не соответствовало бы действительности. Её груди были как земляные валы. Шея — могучая колонна, лицо — одутловатая бледная луна, на которой сверкали глаза, тёмные и огромные, как бездонные озёра. Роскошные тёмно-каштановые волосы, скрученные на затылке небрежным разваливающимся узлом, удерживала заколка размером с небольшой вертел для мяса. На ней было простое платье. Похоже, из мешковины. В громадных, как горбыли, ручищах она держала псалтырь. Её кожа была на удивление чистой и гладкой, цвета свежих сливок. Стрелок подумал, что она весит, наверное, фунтов триста. Внезапно его обуяло желание — алая, жгучая похоть. Его аж затрясло. Он поспешил отвернуться.
Мы сойдёмся у реки, У прекрасной у реки, Мы сойдёмся у реки, У ре-е-е-е-е-ки, В Царстве Божием.Последняя нота последней строфы замерла. Раздалось шарканье ног и покашливание.
Она ждала. Когда они успокоились, она протянула к ним руки, как бы благословляя всю паству. Это был жест, пробуждающий воспоминания.
— Любезные братья и сестры мои во Христе!
От её слов веяло чем-то неуловимо знакомым.
На мгновение стрелка захватило странное чувство, в котором тоска по былому мешалась со страхом, и всё пронизывало жутковатое ощущение deja vu. Он подумал: я уже это видел, во сне. Или, может быть, не во сне. Но где? Когда? Точно не в Меджисе. Да, не в Меджисе. Он тряхнул головой, прогоняя это свербящее чувство. Прихожане — человек двадцать пять — замерли в гробовом молчании. Все взгляды были прикованы к проповеднице.
— Сегодня мы поговорим о Нечистом.
Её голос был сладок и мелодичен — выразительное, хорошо поставленное сопрано.
Слабый ропот прошёл по рядам прихожан.
— Мне кажется, — задумчиво вымолвила Сильвия Питтстон, — будто я знаю лично всех тех, о ком говорится в Писании. Только за последние пять лет я зачитала до дыр три Библии, и ещё множество — до того. Хотя книги и дороги в этом больном мире. Я люблю эту Книгу. Я люблю тех, кто в ней действует. Рука об руку с Даниилом вступала я в ров со львами. Я стояла рядом с Давидом, когда его искушала Вирсавия, купаясь в пруду обнажённой. С Седрахом, Мисахом и Авденаго была я в печи, раскалённой огнём. Я сразила две тысячи воинов вместе с Самсоном и по дороге в Дамаск ослепла от света небесного вместе с Павлом. Вместе с Марией рыдала я у Голгофы.
И опять тихий вздох прошелестел по рядам.
— Я узнала их и полюбила всем сердцем. И лишь один, — она подняла вверх указательный палец, — лишь один из актёров великой той драмы остаётся для меня загадкой. Единственный, кто стоит в стороне, пряча лицо в тени. Единственный, кто заставляет тело моё дрожать — и трепетать мою душу. Я боюсь его. Я не знаю его помыслов и боюсь. Я боюсь Нечистого.
Ещё один вздох. Одна из женщин зажала рукой рот, как будто удерживая рвущийся крик, и стала раскачиваться всё сильнее.
— Это он, Нечистый, искушал Еву в образе змия ползучего, ухмыляясь и пресмыкаясь на брюхе. Это он, Нечистый; пришёл к сынам израилевым, когда Моисей поднялся на гору Синай, и нашёптывал им, подстрекая их сотворить себе идола, золотого тельца, и поклоняться ему, предаваясь мерзости и блуду.
Стоны, кивки.
— Нечистый! Он стоял на балконе рядом с Иезавелью, наблюдая за тем, как нашёл свою смерть царь Ахав, и вместе они потешались, когда псы лакали его ещё тёплую кровь. О мои братья и сестры, остерегайтесь его — Нечистого.
— Да, Иисус милосердный… — выдохнул старик в соломенной шляпе. Тот самый, кого стрелок встретил первым на входе в Талл.
— Он всегда здесь, мои братья и сестры. Он среди нас. Но мне неведомы его помыслы. И вам тоже неведомы его помыслы. Кто сумел бы постичь эту ужасную тьму, что клубится в его потаённых думах, эту незыблемую гордыню, титаническое богохульство, нечестивое ликование?! И безумие, воистину исполинское, всепоглощающее безумие, которое входит, вползает в людские души, точит их, будто червь, порождая желания мерзкие и нечестивые?!
— О Иисус Спаситель…
— Это он привёл Господа нашего на Гору…
— Да…
— Это он искушал Его и сулил Ему целый мир и мирские услады…
— Да-а-а-а-а…
— И он вернётся, когда наступит Конец света… он, Конец света, уже грядёт, братья и сестры. Вы это чувствуете?
— Да-а-а-а-а…
Прихожане раскачивались и рыдали — паства стала похожа на море. Женщина за кафедрой, казалось, указывала на каждого и в то же время ни на кого.
— Он придёт как Антихрист, алый король с глазами, налитыми кровью, и поведёт человеков к пылающим недрам погибели, в пламень мук вечных, к кровавому краю греха, когда воссияет на небе звезда Полынь, и язвы изгложут тела детей малых, когда женские чрева родят чудовищ, а деяния рук человеческих обернутся кровью…
— О-о-о-о…
— О Боже…
— О-о-о-оооооооо…
Какая-то женщина повалилась на пол, стуча ногами по дощатому настилу. Одна туфля слетела.
— За всякой усладою плоти стоит он… он! Это он создал адские машины с клеймом Ла-Мерк. Нечистый!
Ла-Мерк, подумал стрелок. Или, может, Ле-Марк. Слово было ему знакомо, но он никак не мог вспомнить — откуда. На всякий случай он сделал заметку в памяти — а у него была очень хорошая память.
— Да, Господи! Да! — вопили прихожане.
Какой-то мужчина пронзительно завопил и упал на колени, сжимая голову руками.
— Кто держит бутылку, когда ты пьёшь?
— Он, Нечистый!
— Когда ты садишься играть, кто сдаёт карты?
— Он, Нечистый!
— Когда ты предаёшься блуду, возжелав чьей-то плоти, когда ты оскверняешь себя рукоблудием, кому продаёшь ты бессмертную душу?
— Ему…
— Нечи…
— Боженька миленький…
— …чистому…
— А… а… а…
— Но кто он — Нечистый? — выкрикнула она, хотя внутри оставалась спокойной. Стрелок чувствовал это спокойствие, её властный самоконтроль, её господство над истеричной толпой. Он вдруг подумал с ужасом и непоколебимой уверенностью: человек, назвавшийся Уолтером, оставил след в её чреве — демона. Она одержимая. И вновь накатила жаркая волна вожделения — сквозь страх. Как будто и это была ловушка. Как слово, которое Уолтер оставил для Элис.
Мужчина, сжимавший руками голову, слепо рванулся вперёд.
— Гореть мне в аду! — закричал он, повернувшись к проповеднице. Его исказившееся лицо дёргалось, как будто под кожей его извивались змеи. — Я творил блуд! Играл в карты! Я нюхал травку! Я грешил! Я… — Его голос взметнулся ввысь, обернувшись пугающим истеричным воем, в котором утонули слова. Он сжимал свою голову, как будто боялся, что она сейчас лопнет, точно перезрелая дыня.
Паства умолкла, как по команде, замерев в полупорнографических позах своего благочестивого исступления.
Сильвия Питтстон спустилась с кафедры и прикоснулась к его голове. Вопли мужчины затихли, едва её пальцы — бледные сильные пальцы, чистые, ласковые — зарылись ему в волосы. Он тупо уставился на неё.
— Кто был с тобой во грехе? — спросила она, глядя ему прямо в глаза. В её глазах, нежных, глубоких, холодных, можно было утонуть.
— Не… Нечистый.
— Имя которому?
— Сатана. — Сдавленный тягучий всхлип.
— Готов ты отречься?
С жаром:
— Да! Да! О Иисус Спаситель!
Она подняла его голову; он смотрел на неё пустым сияющим взором фанатика.
— Если сейчас он войдёт в эту дверь… — она ткнула пальцем в полумрак притвора, где стоял стрелок, — готов ты бросить слова отречения ему в лицо?
— Клянусь именем матери!
— Ты веруешь в вечную любовь Иисуса?
Он разрыдался.
— Палку мне в задницу, если не верю…
— Он прощает тебе это, Джонсон.
— Хвала Господу, — выдавил Джонсон сквозь слёзы.
— Я знаю, что Он прощает тебя, как знаю и то, что упорствующих во грехе изгоняет Он из чертогов своих в место пылающей тьмы за пределами Крайнего мира.
— Хвала Господу, — торжественно взвыла паства.
— Как знаю и то, что этот Нечистый, этот Сатана, Повелитель мух и ползучих гадов, будет низвергнут и сокрушён… Если ты, Джонсон, узришь его, ты раздавишь его?
— Да, и хвала Господу! — Джонсон плакал. — Раздавлю гада двумя ногами!
— Если вы, братья и сестры, узрите его, вы его одолеете?
— Да-а-а-а…
— Если завтра он встретится вам на улице?
— Хвала Господу…
Стрелку стало не по себе. Отступив к дверям, он вышел на улицу и направился обратно в город. В воздухе явственно ощущался запах пустыни. Уже скоро он снова отправится в путь.
Уже совсем скоро.
Но не теперь.
XIII
Снова в постели.
— Она не примет тебя, — сказала Элли, и её голос звучал испуганно. — Она вообще никого не принимает. Только по воскресеньям выходит, чтобы до смерти всех напугать.
— И давно она здесь?
— Лет двенадцать. А может, два года. Странные вещи творятся со временем. Да ты и сам знаешь. Давай лучше не будем о ней говорить.
— Откуда она пришла? С какой стороны?
— Я не знаю.
Лжёт.
— Элли?
— Я не знаю!
— Элли?
— Ну хорошо! Хорошо! Она пришла от поселенцев! Из пустыни!
— Я так и думал. — Он немного расслабился. Иными словами, с юго-востока. Оттуда, куда направляется он. По невидимой дороге, что иногда отражается в небе. Он почему-то не сомневался, что проповедница пришла не от поселенцев и даже не от пустыни. Она пришла из какого-то места, которое там, за пустыней. Но как? Путь-то явно не близкий. Может быть, на какой-нибудь древней машине? Из тех, что ещё работают? Может, на поезде? — А где она живёт?
Элли понизила голос:
— Если я скажу, мы займёмся любовью?
— Мы в любом случае займёмся любовью. Но мне надо знать.
Она вздохнула. Ветхий, иссохший звук — словно шелест пожелтевших страниц.
— У неё дом на пригорке за церковью. Такая хибарка. Когда-то… когда-то там жил священник, настоящий священник. Пока не покинул нас. Ну что? Теперь ты доволен?
— Нет. Ещё нет.
И он навалился на неё.
XIV
Стрелок знал, что это последний день.
Небо, уродливое, багровое, как свежий синяк, окрасилось зловещим отблеском первых лучей зари. Элли ходила по комнате, как неприкаянный призрак. Зажигала лампы, приглядывала за кукурузными лепёшками, скворчащими на сковороде. После того как она рассказала стрелку всё, что ему было нужно узнать, он отлюбил её с утроенным усердием. Она почувствовала приближение конца и дала ему больше, чем давала кому-либо прежде. Она отдавалась ему с безысходным отчаянием, словно пытаясь предотвратить наступление рассвета; с неуёмной энергией шестнадцатилетней. А утром она была бледной. В преддверии очередной менопаузы.
Молча она подала ему завтрак. Он ел быстро, глотал, почти не жуя, и запивал каждый кусок обжигающим кофе. Элли встала у двери и невидящим взором уставилась в утренний свет, на безмолвные легионы медлительных облаков.
— Сегодня, кажется, будет пыльная буря.
— Неудивительно.
— А ты вообще хоть чему-нибудь удивляешься? Хотя бы иногда? — спросила она с горькой иронией и повернулась к нему в то мгновение, когда он уже взялся за шляпу. Нахлобучив шляпу на голову, он направился к выходу.
— Иногда удивляюсь, — бросил он ей на ходу.
Он увидит её живой ещё только раз.
XV
Когда он добрался до хижины Сильвии Питтстон, ветер стих. Весь мир словно замер в ожидании. Стрелок уже прожил достаточно в этом пустынном краю и знал, что чем дольше затишье, тем сильнее будет буря, когда поднимется ветер. Неестественный блёклый свет завис над землёй.
На двери обветшалого, покосившегося домика был прибит большой деревянный крест. Стрелок постучал. Подождал. Нет ответа. Он опять постучал. И опять никакого ответа. Он чуть отступил и ударил по двери ногой. Небольшая щеколда внутри соскочила. Дверь распахнулась, ударившись о неровные доски стены и вспугнув крыс, которые с писком бросились в разные стороны. Сильвия Питтстон сидела в прихожей, в громадном кресле-качалке из тёмного дерева, и спокойно смотрела на стрелка своими большими тёмными глазами. Предгрозовое сияние дня легло ей на щёки пугающими полутонами. Она куталась в шаль. Кресло-качалка тихонько поскрипывало.
Они смотрели друг на друга долгое мгновение, выпавшее из времени.
— Тебе никогда его не поймать, — проговорила она. — Ты идёшь путём зла.
— Он приходил к тебе, — сказал стрелок.
— И возлежал со мной. Он говорил со мной на Наречии. Высоким Слогом. Он…
— Он тебя поимел. И в прямом, и в переносном смысле.
Она даже не поморщилась.
— Ты идёшь путём зла, стрелок. Ты стоишь в тени. Вчера вечером ты тоже стоял в тени, под сенью священного места. Ты думал, что я тебя не увижу?
— Почему он исцелил этого травоеда?
— Он — ангел Господень. Он так сказал.
— Надеюсь, он хоть улыбался, когда это говорил.
Она ощерилась, безотчётно подражая оскалу смерти.
— Он говорил мне, что ты придёшь следом за ним. Он сказал мне, что делать. Он сказал, ты — Антихрист.
Стрелок покачал головой.
— Он этого не говорил.
Она лениво улыбнулась.
— Он сказал, ты захочешь со мной переспать. Это правда?
— А ты встречала мужчину, которому не захотелось бы с тобой переспать?
— Моя плоть стоит дорого. Расплачиваться будешь жизнью, стрелок. Я зачала от него ребёнка… это был не его ребёнок, а отпрыск великого короля. Если ты овладеешь мной… — Она умолкла, закончив мысль лишь ленивой улыбкой. Повела своими массивными бёдрами. Точно плиты чистейшего мрамора, они застыли под материей платья. Получилось действительно впечатляюще.
Стрелок взялся за револьверы.
— В тебе — демон, женщина, а не король. Но ты не бойся. Я его вытащу.
Слова возымели действие. Она вся сжалась в своём кресле-качалке и стала похожа на ощетинившуюся куницу.
— Не прикасайся ко мне! Не подходи! Ты не посмеешь коснуться Невесты Божией.
— Хочешь на спор? — ухмыльнулся стрелок и шагнул к ней. — Не зевай, проверяй, как сказал старый картёжник, открыв кубки и жезлы.
Гора плоти вдруг содрогнулась. Её лицо превратилось в карикатурную маску безумного ужаса. Растопырив пальцы, она сотворила перед стрелком знак Глаза.
— Пустыня, — сказал стрелок. — Что за пустыней?
— Тебе никогда его не поймать! Никогда! Ты сгоришь! Сгоришь! Он так сказал!
— Я поймаю его, — возразил стрелок. — И мы оба знаем, что так и будет. Что за пустыней?
— Нет!
— Отвечай!
— Нет!
Он подался вперёд, упал на колени и обхватил её бёдра. Она сжала ноги, точно тиски. Всхлипнула как-то странно и похотливо.
— Стало быть, демон, — сказал стрелок. — Ну, выходи, демон.
— Нет…
Рывком он раздвинул ей ноги и вынул из кобуры револьвер.
— Нет! Нет! Нет! — Она задышала прерывисто, хрипло.
— Отвечай.
Она тряслась в своём кресле, так что под ним дрожал пол. С её губ слетали обрывки молитв и невнятных проклятий.
Он ткнул стволом револьвера вперёд и скорее почувствовал, чем услышал, как воздух испуганным ветром ворвался ей в лёгкие. Она молотила руками ему по голове; её ноги бились об пол. И в то же самое время это громадное тело стремилось вобрать в себя смертоносный предмет, вторгшийся в сокровенное лоно; желало принять его в своё чрево. Никто их не видел — только пыльное небо в синюшных кровоподтёках.
Она что-то выкрикнула ему, пронзительно и невнятно.
— Что?
— Горы!
— И что там в горах?
— Он остановится… с той стороны. Боже м-м-милостивый!.. чтобы собраться с с-с-силами. П-п-погружение, медитация… понимаешь? О… я… я…
Необъятная гора плоти вдруг напряглась, подавшись вперёд и немного вверх, однако он был начеку и не позволил её сокровенной плоти прикоснуться к нему.
А потом она вдруг как-то сникла и съёжилась. Разрыдалась, зажимая руками низ живота.
— Ну вот, — сказал он, поднимаясь. — Демона мы обслужили, а?
— Уходи. Ты убил ребёнка Алого короля. Но ты за это заплатишь. Уж будь уверен. А теперь уходи. Убирайся.
Уже на пороге он оглянулся.
— Никакого ребёнка, — коротко бросил он. — Никаких ангелов, принцев и демонов.
— Оставь меня.
Он ушёл.
XVI
Когда стрелок пришёл на конюшню, на северном горизонте встало мутное марево — пыль. Но над Таллом пока было тихо, мертвенно тихо.
Кеннерли дожидался его в конюшне, на усыпанном сечкой помосте.
— Отъезжаете, стало быть? — Его губы расплылись в подобострастной улыбке.
— Да.
— Даже не переждавши бурю?
— Я её опережу.
— Ветер всяко быстрей человека на муле. На открытом пространстве он вас убьёт.
— Мне нужен мой мул, — просто сказал стрелок.
— Да, конечно.
Но Кеннерли не сдвинулся с места, а просто стоял, словно решая, что бы такого ещё сказать, и усмехался этой своей подхалимской, исполненной ненависти ухмылкой. А потом его взгляд скользнул куда-то поверх плеча стрелка.
Стрелок шагнул в сторону и обернулся — тяжёлое полено, с которым набросилась на него Суби, со свистом рассекло воздух и только легонько задело его по локтю. Сила размаха не позволила Суби удержать полено в руках, и оно грохнулось на пол. Наверху, на сеновале, испуганно заметались ласточки.
Девушка тупо уставилась на стрелка. Её перезрелая пышная грудь распирала застиранное полотно рубахи. Медленно, как во сне, она засунула большой палец в рот.
Стрелок повернулся обратно к Кеннерли. Тот растянул губы в широкой улыбке. Его кожа была жёлтой, как воск. Глаза так и бегали.
— Я… — начал он влажным, булькающим шёпотом и не сумел закончить.
— Мой мул, — напомнил стрелок.
— Конечно-конечно, — прошептал Кеннерли, и его ухмылка вдруг сделалась удивлённой. Он как будто не верил, что всё ещё жив. Он поплёлся за мулом.
Стрелок перешёл на новое место, откуда было удобнее наблюдать за Кеннерли. Конюх вывел мула и вручил стрелку поводья.
— А ты ступай, присмотри за сестрой, — буркнул он, обращаясь к Суби.
Суби тряхнула головой и осталась стоять на месте.
С тем стрелок и ушёл, оставив их пялиться друг на друга в пыльной, загаженной конюшне: старика с его болезненной ухмылкой и девицу с её тупым заторможенным упрямством. Снаружи по-прежнему было душно. Жара обрушилась на него, как молот.
XVII
Он вывел мула на мостовую, поднимая сапогами облачка пыли. На спине у мула хлюпали бурдюки с водой, полные под завязку.
Он заглянул к Шебу, но Элли там не было. Там вообще никого не было. Окна были заложены досками в ожидании бури. Элли так и не взялась за уборку после вчерашней ночи. Бардак в зале был жуткий. Воняло прокисшим пивом.
Он набил свой дорожный мешок кукурузой, сушёной и жареной. Вытащил из холодилки половину сырого мяса, разделанного для бифштексов. Оставил на стойке бара четыре золотых. Элли так и не спустилась. Желтозубое Шебово пианино безмолвно с ним попрощалось. Он вышел на улицу и укрепил свой дорожный мешок на спине мула. В горле стоял комок. Он ещё мог избежать ловушки, только шансы его были невелики. В конце концов, он же Нечистый.
Он шёл мимо притихших в ожидании домов, чувствуя взгляды, нацеленные на него сквозь щели и трещины в закрытых наглухо ставнях. Человек в чёрном прикинулся в Талле Богом. Он говорил про ребёнка Алого короля, про красного принца. Но что это было: проявление вселенской иронии или акт безысходности? Хороший вопрос.
За спиной вдруг раздался пронзительный крик. Все двери со скрежетом распахнулись. На улицу повалили люди. То есть ловушка захлопнулась. Мужчины в длиннополых сюртуках. Мужчины в грязных рабочих штанах. Женщины в брюках и полинявших платьях. Даже детишки — по пятам за своими родителями. И в каждой руке — тяжёлая палка, а то и нож.
Он среагировал моментально, автоматически. Сработал врождённый инстинкт. Рывком развернулся, одновременно выхватывая револьверы. Они легли в руки уверенно, плотно. Элли с искажённым лицом двинулась на него. Да, так и должно было быть: только Элли и никто иной. Шрам у неё на лбу пылал пурпурным адским пламенем в тускнеющем предштормовом свете. Он понял, что она — заложница. За плечом у неё, точно ведьмин ручной зверёк, маячило лицо Шеба, искажённое мерзкой гримасой. Она была и его щитом, и его жертвой. Стрелок увидел всё это — отчётливо, ясно — в застывшем мертвенном свете стерильного затишья и услышал её крик:
— Убей меня, Роланд, стреляй! Я сказала ему слово, девятнадцать, я сказала, и он рассказал мне… Я не вынесу, нет… стреляй!
Его руки знали, что надо делать, чтобы дать ей, что она хочет. Он был последним. Последним из своего рода, и он владел не только Высоким Слогом. Грохнули выстрелы — суровая, атональная музыка револьверов. Её губы дрогнули, тело обмякло. Снова грянули выстрелы. Голова у Шеба запрокинулась. Они Оба упали в пыль.
«Они ушли в край Девятнадцати, — подумал стрелок. — Я не знаю, что это такое, но теперь они там».
Он отшатнулся, уклоняясь от града ударов. Палки летели по воздуху, нацеленные в него. Одна, с гвоздём, зацепила его за руку, расцарапав её до крови. Какой-то мужик со щетинистой бородой и тёмными пятнами пота под мышками набросился на него, зажав в кулаке тупой кухонный нож. Стрелок нажал на курок. Мужик упал замертво, ударившись подбородком о землю. Вставная челюсть вывалилась изо рта. Было слышно, как клацнули зубы. Его ухмылка застыла оскалом смерти со вспенившейся на губах слюной.
— САТАНА! — надрывался кто-то. — ОКАЯННЫЙ! УБЕЙТЕ ЕГО!
— НЕЧИСТЫЙ! — завопил ещё один голос. И снова в стрелка полетели палки. Нож ударился о сапог и отскочил. — НЕЧИСТЫЙ! АНТИХРИСТ!
Он пробивал себе путь сквозь толпу. Его руки выбирали мишени с пугающей точностью. Тела падали на землю. Двое мужчин и женщина. Он бросился в образовавшуюся брешь.
Толпа устремилась следом за ним, через улицу, к убогому магазинчику и цирюльне по совместительству, что располагался напротив заведения Шеба. Стрелок поднялся на дощатый тротуар и, развернувшись, выпустил оставшиеся патроны в напирающую толпу. На заднем плане, распластавшись в пыли, лежали Шеб, Элли и все остальные. Все, кого он убил.
Они не дрогнули, не спасовали ни на мгновение, хотя каждый его выстрел поражал живую цель, и они, может быть, никогда в жизни не видели револьверов.
Он отступил, двигаясь плавно, как танцор, уклоняясь от летящих в него предметов. На ходу перезарядил револьверы. Его тренированные пальцы делали своё дело быстро и чётко — деловито сновали между барабанами и патронташем. Толпа поднялась на тротуар. Стрелок вошёл в лавку и подпёр дверь. Стекло правой витрины со звоном разбилось. В лавку ворвались трое. Их лица — лица фанатиков — были пусты, в глазах мерцал тусклый огонь. Он уложил их всех и ещё тех двоих, что сунулись следом за ними. Они упали в витрине, повиснув на острых осколках стекла и перекрыв проход.
Дверь затрещала под напором тел, и он различил её голос:
— УБИЙЦА! ВАШИ ДУШИ! ДЬЯВОЛЬСКОЕ КОПЫТО!
Дверь сорвалась с петель и повалилась внутрь, грохнув об пол. С пола взметнулась пыль. Мужчины, женщины и дети устремились к нему. Опять полетели плевки и палки. Он до конца разрядил обе обоймы. Люди падали, как сбитые кегли. Он отступил в цирюльню, на ходу опрокинул бочонок с мукой и катанул его им навстречу. Выплеснул в толпу таз кипящей воды с двумя опасными бритвами на дне. Но толпа напирала, издавая бессвязные бесноватые выкрики. Откуда-то сзади неслись вопли Сильвии Питтстон. Она подстрекала их, и её зычный голос то вздымался, то опадал, как слепая волна. Стрелок загнал патроны в ещё не остывшие барабаны, вдыхая запахи мыла и сбритых волос, запах своей опалённой плоти, исходящий от мозолей на кончиках пальцев.
Он выскочил на крыльцо через заднюю дверь. Теперь за спиной у него оказались унылые заросли кустарника, что почти полностью заслоняли городок, грузно припавший к земле с той стороны. Трое мужчин выскочили из-за угла, их исступлённые лица расплывались в довольных предательских ухмылках. Они увидели его. И увидели, что он тоже их видит. Улыбки сползли буквально за миг до того, как он скосил всех троих. За ними следом явилась женщина. Она выла в голос. Рослая, толстая. Завсегдатаи пивнушки Шеба звали её тётушкой Милли. Стрелок нажал на курок. Она отлетела назад и повалилась на спину, похабно раскинув ноги. Её юбка задралась и сбилась между бёдер.
Он спустился с крыльца и отступил в пустыню. Десять шагов. Двадцать. Задняя дверь цирюльни с грохотом распахнулась. Толпа хлынула наружу. Он мельком углядел Сильвию Питтстон. И открыл огонь. Они падали: кто на живот, кто на спину. Через перила — в пыль. Они не отбрасывали теней в немеркнущем свете багряного дня. Только теперь стрелок понял, что он кричит. И кричал всё это время. Ему казалось, что у него вместо глаз — надтреснутые шары подшипников. Яйца поджались к животу. Ноги одеревенели. Уши как будто налились свинцом.
Он опять отстрелял все патроны, и толпа устремилась к нему. Стрелок превратился в один сплошной Глаз и Руку. Он замер на месте и, не переставая кричать, перезарядил револьверы. Сознание не то чтобы отключилось, но отстранилось, отступило в безучастную даль, предоставив натренированным пальцам действовать самостоятельно. Если бы только он мог поднять руку, остановить их на пару минут, рассказать им, что этому трюку, как и многим другим, он учился, наверное, тысячу лет, рассказать им о револьверах и о крови, их освятившей… Только этого не передашь словами. Его руки сами расскажут эту историю.
Когда он закончил перезаряжать револьверы, толпа подступила к нему совсем близко, на расстояние броска. Палка ударила ему в лоб, содрав кожу. Проступила кровь. Через пару секунд они его схватят. В первых рядах он — заметил Кеннерли, его младшую дочку лет одиннадцати, Суби, двух мужиков — завсегдатаев бара, шлюху по имени Эми Фельдон. Он уложил их всех. И тех, кто за ними. Люди падали, как огородные пугала. Кровь и мозги растекались ручьями.
Остальные в испуге замешкались: на мгновение безликая толпа распалась на отдельные озадаченные лица. Какой-то мужчина бегал кругами, истошно вопя. Женщина с нарывами на руках запрокинула голову к небесам и разразилась безудержным гоготом. Старик, первый из талльцев, кого увидел стрелок, войдя в город — тогда он сидел на ступенях заколоченной лавки, — с испугу наложил в штаны.
Он успел перезарядить только один револьвер.
А потом он увидел Сильвию Питтстон. Она неслась на него, размахивая деревянными крестами. По распятию — в каждой руке.
— ДЬЯВОЛ! ДЬЯВОЛ! ДЬЯВОЛ! ДЕТОУБИЙЦА! ЧУДОВИЩЕ! УНИЧТОЖЬТЕ ЕГО, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! УБЕЙТЕ НЕЧИСТОГО! ДЕТОУБИЙЦУ!
Шесть раз он спустил курок. По одному выстрелу-в каждый крест. Дерево разлетелось в щепки. Ещё четыре — ей в голову. Она вся как-то сжалась и задрожала, как марево жара.
На мгновение все уставились на неё, замерев, словно актёры в живых картинах, пока пальцы стрелка исполняли привычный трюк перезарядки. Опалённые кончики пальцев горели. На каждом из них проступили ровные кружочки ожогов.
Теперь их стало меньше. Он прошёлся по рядам, точно лезвие сенокосилки. И был уверен, что после гибели этой женщины они должны дрогнуть, но тут кто-то бросил нож. Рукоятка ударила прямо по лбу, промеж глаз. Стрелок упал. Толпа надвинулась на него злобным сгустком. Он расстрелял очередную порцию патронов, лёжа среди пустых гильз. Голова разболелась, перед глазами поплыли тёмные круги. Он уложил одиннадцать человек. Один раз промахнулся.
Они всё же набросились на него — те, кто остался. Он расстрелял четыре патрона, все, что успел зарядить, а потом они навалились — кололи, били. Он отшвырнул двоих, вцепившихся ему в левую руку, и откатился в сторону. Пальцы делали своё дело — точно и безотказно. Острый удар пришёлся ему в плечо. Кто-то вонзил туда нож. Кто-то больно ударил в спину. По рёбрам. Кто-то пырнул его в задницу вилкой. Какой-то мальчишка, совсем пацан, протиснулся сквозь толпу и резанул его по икре. Глубоко резанул, неслабо. Стрелок одним выстрелом снёс ему голову.
Яростный натиск пошёл на убыль. Стрелок продолжал палить. Те, кто ещё уцелел, начали потихонечку отступать к полинявшим, разъеденным ветром домам. Но руки стрелка продолжали делать своё дело, как две собаки, неуёмные в своём желании услужить и готовые выделывать всякие трюки тебе на потеху не раз и не два, а всю ночь напролёт. Руки сеяли смерть. Люди падали на бегу. Последний сумел забраться на ступеньки заднего крыльца цирюльни. Пуля стрелка угодила ему в затылок. Мужчина вскрикнул и повалился на землю.
— А-а! — Это было последнее слово Талла.
Тишина возвратилась, заполнив образовавшуюся пустоту.
Кровь сочилась из многочисленных ран стрелка. Их было, наверное, не меньше двадцати. Правда, все неглубокие, кроме пореза на икре. Он перевязал ногу, оторвав полосу от рубахи, потом встал в полный рост и оглядел результаты своих смертоносных трудов.
Они лежали извилистой, ломаной линией, что протянулась от задних дверей цирюльни до того самого места, где стоял он. Они застыли в самых разнообразных позах. Никто из них не походил на спящего.
Он пошёл по этой линии смерти, считая трупы. В лавке какой-то мужчина лежал на полу, любовно сжимая в руках надтреснутый кувшин с леденцами, который он, падая, утянул с прилавка.
Стрелок остановился в том самом месте, где всё началось, — посреди пустынной главной улицы. Он застрелил тридцать девять мужчин, четырнадцать женщин и пятерых детей. Всех, кто был в Талле.
Первый сухой порыв ветра принёс с собой тошнотворный сладковатый запах. Стрелок повернулся в ту сторону, поднял глаза и кивнул. На дощатой крыше пивнушки Шеба распласталось разлагающееся тело Норта, распятое на деревянных кольях. Рот и глаза были открыты. На грязном лбу багровел отпечаток раздвоенного копыта.
Стрелок вышел из города. Его мул мирно пасся в зарослях травки в сорока ярдах от бывшей проезжей дороги. Стрелок отвёл мула обратно в конюшню Кеннерли. Снаружи надрывался ветер. Устроив мула, стрелок вернулся к пивнушке. Отыскал лестницу в заднем чулане. Поднялся на крышу. Снял Норта. Тело было на удивление лёгким, легче вязанки хвороста. Стрелок стащил его вниз и положил вместе со всеми. С теми, кто умер всего один раз. Потом он вернулся в пивную, съел пару гамбургеров и выпил три кружки пива. Свет снаружи померк. В воздух взметнулся песок. Той ночью он спал в кровати, где они с Элли занимались любовью. Ему ничего не приснилось. К утру ветер стих. Сияло солнце, как всегда, яркое и равнодушное. Трупы отнесло ветром на юг — точно перекати-поле. Задолго до полудня, задержавшись только затем, чтобы перевязать свои раны, стрелок тоже отправился в путь.
XVIII
Ему показалось, что Браун уснул. Угли в очаге едва тлели, а ворон Золтан засунул голову под крыло.
Он уже собирался встать и постелить себе в уголке, как вдруг Браун сказал:
— Ну вот. Ты мне всё рассказал. Теперь тебе легче?
Стрелок невольно вздрогнул.
— А с чего ты решил, что мне плохо?
— Ты — человек. Ты так сказал. Не демон. Или ты, может, солгал?
— Я не лгал. — В душе шевельнулось какое-то странное чувство. Ему нравился Браун. Действительно нравился. Он ни в чём не солгал ему. Ни в чём. — А кто ты, Браун? То есть на самом деле.
— Я — просто я, — спокойно ответил тот. — Почему ты всегда и во всём ищешь какой-то подвох?
Стрелок молча закурил.
— Сдаётся мне, ты уже совсем близко к этому своему человеку в чёрном, — продолжал Браун. — Он уже доведён до отчаяния?
— Я не знаю.
— А ты?
— Ещё нет. — Стрелок взглянул на Брауна с едва уловимым вызовом. — Я иду, куда надо идти, и делаю то, что должен.
— Тогда всё в порядке. — Браун перевернулся на другой бок и заснул.
XIX
Утром Браун накормил его и отправил в дорогу. При свете дня поселенец выглядел как-то чудно: со своей впалой грудью, опалённой солнцем, выпирающими ключицами и копной вьющихся красных волос. Ворон пристроился у него на плече.
— А мул? — спросил стрелок.
— Я его съем, — сказал Браун.
— О'кей.
Браун протянул руку, и стрелок пожал её. Поселенец кивнул в сторону юго-востока.
— Ну что ж, в добрый путь. Долгих дней и приятных ночей.
— Тебе того же вдвойне.
Они кивнули друг другу, и человек, которого Элли звала Роландом, пошёл прочь, со своими верными револьверами и бурдюками с водой. Он оглянулся всего лишь раз. Браун с остервенением копался на своей маленькой кукурузной делянке. Ворон сидел, как горгулья, на низенькой крыше землянки.
XX
Костёр догорел. Звёзды уже бледнели. Ветер так и не угомонился. У ветра тоже была своя история, которую он рассказывал в пустоту. Стрелок перевернулся во сне и снова затих. Ему снился сон — сон про жажду. В темноте было не видно гор. Ощущение вины притупилось. И сожаления — тоже. Пустыня их выжгла. Зато стрелок постоянно ловил себя на том, что он всё чаще и чаще думает о Корте, который научил его стрелять. Корт умел отличить белое от чёрного.
Он снова зашевелился во сне и проснулся. Прищурился на погасший костёр, чей узор наложился теперь на другой — более геометрически правильный. Он был романтиком. Он это знал. И ревниво оберегал это знание. Этот секрет он раскрыл очень немногим за долгие годы. И среди этих немногих была Сюзан, девушка из Меджиса.
Это, само собой, вновь навело его на мысли о Корте. Корт уже мёртв. Они все мертвы. Он — последний. Мир изменился. Мир сдвинулся с места.
Стрелок закинул дорожный мешок за плечо и двинулся дальше.
Глава 2 ДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
I
Весь день у него в голове крутился один детский стишок — такая сводящая с ума напасть, когда какие-нибудь строчки привязываются к тебе и никак не желают отстать, маячат, насмехаясь, где-то на краешке сознания и корчат рожи твоему рациональному существу. Стишок звучал так:
Дождь в Испании идёт, Скоро всё водой зальёт, Только ты ему позволь. Радость есть, но есть и боль. Ну а дождик знай идёт — Скоро всё водой зальёт. Время — это полотно, Ну а жизнь — на нём пятно. Мир, дурашливый и важный, Всё изменится однажды. Мир прекрасный, мир постылый, Всё останется, как было. Хоть ты умник, хоть балбес — Дождь в Испаньи льёт с небес. Жаждем мы любви полёта — А находим цепи гнёта. Самолёт под дождь попал — На Испанию упал.Он не знал, что это такое — самолёт, который упал на Испанию, но зато знал, почему у него в голове всплыл именно этот стишок. В последнее время ему часто снился один и тот же сон: его комната в замке и мать, которая пела ему эту песню, когда он, такой маленький и серьёзный, лежал у себя в кроватке у окна с разноцветными стёклами. Она пела ему не на ночь, потому что все мальчики, рождённые для Высокого Слога, даже совсем-совсем маленькие, должны встречать темноту один на один. Она пела ему только во время дневного сна, и он до сих пор помнил тяжёлый серый свет дождливого дня, дрожащий на цветных радужных стёклах. Он до сих пор явственно ощущал прохладу той детской и грузное тепло одеял, свою любовь к матери, её алые губы, её голос и незатейливую, привязчивую мелодию детской песенки.
И вот теперь эта песня вернулась и завертелась — назойливо, неотвязно — у него в голове, словно пёс, что гоняется за своим хвостом. Вода у него давно кончилась, и он не строил иллюзий насчёт своих шансов выжить. Он — почти труп. Он и не думал, что может дойти до такого. Он был подавлен. Начиная с полудня, он уже не смотрел вперёд, а лишь уныло глядел себе под ноги. Под ногами была бес-трава, чахлая, жёлтая. Местами ровная сланцевая поверхность повыветрилась, обернувшись россыпью камней. Горы не стали заметно ближе, хотя прошло уже целых шестнадцать дней с тех пор, как он покинул жилище последнего поселенца на краю пустыни, скромную хижину совсем молодого ещё человека, полоумного, но рассуждавшего вполне здраво. Кажется, у него был ворон, припомнил стрелок, но не смог вспомнить, как его звали.
Он тупо глядел на свои ноги, как они поднимаются и печатают шаги. Слушал рифмованную чепуху, звенящую у него в голове — сбивчиво, путано, — и всё думал, когда же он упадёт. В первый раз. Он не хотел падать, пусть даже здесь нет никого и никто не увидит его позора. Всё дело в гордости. Каждый стрелок знает, что такое гордость — эта незримая кость, не дающая шее согнуться. То, что стрелок не узнал от отца, накрепко вбил в него Корт. В прямом смысле слова. Да, Корт. С его большим красным носом и лицом, изрезанным шрамами.
Внезапно он остановился и вскинул голову. В голове зашумело, и на мгновение стрелку показалось, что его тело куда-то плывёт. Горы призрачно маячили на горизонте. Но там, впереди, было и что-то ещё. Только гораздо ближе. Всего-то, может быть, милях в пяти. Он прищурился, но сияние солнца слепило глаза, воспалённые от песка и зноя. Он тряхнул головой и продолжил свой путь. Стишок по-прежнему гудел в голове, повторяясь опять и опять. Где-то через час он упал и ободрал себе руки. Стрелок смотрел на капельки крови, проступившие на потрескавшейся коже, — смотрел и не верил своим глазам. Кровь не стала водянистой. Самая обыкновенная кровь, которая уже умирала на воздухе. Почти такая же самодовольная, как и эта пустыня. Стрелок с отвращением стряхнул алые капли. Самодовольная? А почему бы и нет? Кровь не томится жаждой. Крови служат исправно. Приносят ей жертву. Кровавую жертву. Всё, что требуется от неё, — это течь… течь… и течь.
Он смотрел, как алые капли упали на твёрдый сланец, как земля поглотила их со сверхъестественной, жуткой скоростью. Как тебе это нравится, кровь? Как тебе это нравится?
Иисус милосердный, по-моему, я схожу с ума.
Он поднялся, прижимая руки к груди. Та штука, которую он видел раньше, вдалеке, была почти перед ним. Так близко… Стрелок испуганно вскрикнул — хриплый возглас, похожий на карканье ворона, заглушённое пылью. Здание. Нет — целых два здания, окружённых поваленной изгородью. Древесина казалась старой и хрупкой, едва ли не призрачной: дерево, обращающееся в песок. Одно из зданий когда-то служило конюшней и до сих пор ещё сохранило её очертания. Второе здание — жилой дом или, может быть, постоялый двор. Промежуточная станция для рейсовых экипажей. Ветхий песчаный домик (за долгие годы ветер покрыл древесину панцирем из песка, и теперь дом походил на замок, слепленный на морском берегу из сырого песка, высушенный и закалённый солнцем) отбрасывал тоненькую полоску тени. И кто-то сидел там, в тени, прислонившись к стене. Казалось, стена прогнулась под тяжестью его веса.
Стало быть, он. Наконец. Человек в чёрном.
Стрелок замер на месте, прижимая руки к груди. Он даже не осознавал пафосную театральность своей позы. Но вместо ожидаемого трепещущего возбуждения (или, может быть, страха, или благоговения) он почувствовал… он вообще ничего не почувствовал, кроме разве что смутного ощущения вины из-за внезапной, клокочущей ненависти к собственной крови и бесконечного звона той детской песенки:
…дождь в Испании идёт…
Он двинулся вперёд, вынимая на ходу револьвер.
…скоро всё водой зальёт.
Последнюю четверть мили он преодолел почти бегом, даже не пытаясь скрываться: здесь не за чем было укрыться. Негде спрятаться. Его короткая тень бежала с ним наперегонки. Он не знал, что его лицо давно обратилось в серую, мертвенную маску истощения. Он забыл обо всём — кроме этой фигуры в тени. До самой последней минуты ему даже в голову не приходило, что человек в тени здания может быть мёртв.
Он выбил ногой одну из досок покосившегося забора (она переломилась пополам чуть ли не виновато, не издав ни единого звука) и, вскинув револьвер, промчался по пустынному двору, залитому светом слепящего солнца.
— Ты у меня под прицелом! Руки вверх, шлюхин сын…
Фигура беспокойно зашевелилась и поднялась, выпрямившись в полный рост. Стрелок подумал: «Боже мой, от него же почти ничего не осталось… что с ним случилось?» — Потому что человек в чёрном стал ниже на добрых два фута, а его волосы побелели.
Стрелок остановился, поражённый, недоумевающий. Голова у него гудела. Сердце бешено колотилось в груди. «Я умираю, — подумал он, — сейчас я умру, прямо здесь…»
Он набрал в лёгкие раскалённого воздуха и уронил голову, а когда через мгновение поднял глаза, то увидел не человека в чёрном, а мальчишку со светлыми выгоревшими волосами, который смотрел на него как будто безо всякого интереса. Стрелок тупо уставился на парнишку и тряхнул головой, как бы отрицая реальность происходящего. Но реальность упорно сопротивлялась. Мальчик никуда не пропал. Если это было наваждение, то очень сильное наваждение. Мальчик в синих джинсах с заплаткой на колене и в простой коричневой рубахе из грубой ткани.
Стрелок снова тряхнул головой и двинулся в сторону конюшни, глядя себе под ноги и не выпуская из руки револьвер. Он всё ещё не собрался с мыслями. В голове всё плыло. Там нарастала тупая, огромная боль.
В конюшне было темно, тихо и невыносимо жарко. Стрелок огляделся. Воспалённые глаза саднило, смотреть было больно. Он обернулся, покачнувшись как пьяный, и увидел мальчишку, который смотрел на него, стоя в дверях. Острый клинок боли пронзил его голову, от виска до виска. Разрезал мозг, как апельсин. Стрелок убрал револьвер в кобуру, пошатнулся, взмахнул руками, словно отгоняя призрачное наваждение, и упал лицом вниз.
II
Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит на спине, а под головой у него — охапка мягкого сена, совершенно без запаха. Мальчик не смог передвинуть стрелка, но постарался устроить его поудобнее. Было прохладно. Он оглядел себя и увидел, что его рубашка — тёмная и мокрая на груди. Облизав губы, стрелок почувствовал вкус воды. Язык как будто распух и уже не помещался во рту.
Мальчик сидел на корточках тут же, рядом. Когда он увидел, что стрелок приоткрыл глаза, он наклонился и протянул ему жестяную консервную банку с неровными зазубренными краями, наполненную водой. Стрелок схватил её трясущимися руками и позволил себе отпить. Чуть-чуть — самую малость. Когда вода улеглась у него в животе, он отпил ещё немного. А то, что осталось, выплеснул себе в лицо, сдавленно отдуваясь. Красивые губы мальчишки изогнулись в серьёзной, сдержанной улыбке.
— Поесть не хотите, сэр?
— Попозже, — сказал стрелок. Тошнотворная боль в голове — последствие солнечного удара — слегка поутихла, но ещё не прошла до конца. Вода неприкаянно хлюпала в желудке, как будто не зная, куда ей теперь податься. — Ты кто?
— Меня зовут Джон Чеймберз. Можете называть меня Джейк. Я дружу с одной тётенькой… ну не то чтобы дружу, она у нас работает… так вот, она иногда называет меня Бамой, но вы называйте меня Джейк.
Стрелок сел, и тошнотворная боль обернулась неудержимым позывом к рвоте. Он согнулся пополам, борясь со своим взбунтовавшимся желудком. Желудок всё-таки победил.
— Там есть ещё, — сказал Джейк и, забрав банку, направился в дальний конец конюшни. Остановился на полпути и, оглянувшись, неуверенно улыбнулся стрелку. Тот кивнул мальчику, потом опустил голову, подперев подбородок руками. Мальчик был симпатичный, хорошо сложённый, лет, наверное, десяти или одиннадцати. В общем, мальчик как мальчик, вот только лицо у него… как будто накрытое тенью страха. Но это было нормально. Даже хорошо. Не будь этой тени, стрелок бы поостерёгся ему доверять.
Из сумрака в дальнем конце конюшни донёсся какой-то глухой, непонятный шум. Стрелок встревоженно вскинул голову, руки сами потянулись к револьверам. Странный шум длился примерно секунд пятнадцать, потом затих. Мальчик вернулся с жестянкой — уже наполненной до краёв.
Стрелок опять отпил совсем немного. На этот раз дело пошло лучше. Боль в голове начала проходить.
— Я не знал, что мне с вами делать, когда вы упали, — сказал Джейк. — Мне сперва показалось, что вы хотели меня застрелить.
— Может быть. Я принял тебя за другого.
— За священника?
Стрелок сразу насторожился.
Мальчик взглянул на него и нахмурился.
— Он останавливался во дворе. Я спрятался в доме. Или это амбар, я не знаю. Он мне не понравился, и я не стал выходить. Он пришёл ночью, а на следующий день ушёл. Я бы спрятался и от вас, но я спал, когда вы подошли. — Взгляд мальчишки, направленный куда-то поверх головы стрелка, вдруг сделался мрачным. — Я не люблю людей. Они мне всё время всё портят.
— А как он выглядел, этот священник?
Мальчик пожал плечами.
— Как и всякий священник. В такой чёрной штуке.
— Типа сутаны с капюшоном?
— Что такое сутана?
— Такой балахон. Типа платья.
Мальчик кивнул.
— В балахоне с капюшоном.
Стрелок резко подался вперёд, и мальчик отшатнулся, увидев его лицо.
— Давно он тут проходил? Скажи мне, во имя отца.
— Я… я…
— Я тебе ничего не сделаю, — терпеливо сказал стрелок. — Ничего плохого.
— Я не знаю. Я не запоминаю время. Здесь все дни — одинаковые.
Только теперь стрелок задался вопросом, а как вообще этот мальчик сюда попал, как он очутился в этом заброшенном месте, окружённом на многие мили сухой пустыней, убивающей всё живое. Впрочем, ему-то какое дело. Сейчас и без того хватает забот.
— Попробуем всё-таки подсчитать. Очень давно?
— Нет. Не очень. Я сам здесь недавно.
Стрелок буквально почувствовал, как внутри снова вспыхнул огонь. Он схватил жестянку с водой и жадно отпил ещё глоток. Его руки дрожали. Самую малость. В голове снова всплыли обрывки детской колыбельной, но на этот раз перед его мысленным взором предстало уже не лицо матери, а лицо Элис, со шрамом на лбу. Элис, которая была его женщиной в мёртвом теперь городке под названием Талл.
— Сколько? Неделю? Две? Три?
Мальчик озадаченно посмотрел на него.
— Да.
— Что да?
— Неделю. Или две. — Он огляделся, слегка покраснев. — С тех пор я три раза ходил в туалет по большому. Я теперь так измеряю время. А по-другому — никак. Он даже не пил воды. Я подумал, что он, может быть, призрак священника. Как в том фильме, про Зорро. Только там был не призрак и не священник. А нехороший банкир, который хотел заполучить себе землю, потому что там было золото. Мы с миссис Шоу ходили в кино. На Таймс-сквер.
Стрелок не понял, о чём говорит мальчик, и поэтому промолчал.
— Я испугался, — добавил мальчик. — Я боялся почти всё время. — Его лицо вдруг задрожало, словно хрусталь под напором предельно высокой, разрушительной ноты. — Он даже не стал разводить костёр. Просто сидел. Я даже не знаю, спал он или нет.
Так близко! О боги! Так близко… Несмотря на невероятную обезвоженность организма, руки стрелка стали влажными, липкими.
— Тут есть немного сушёного мяса, — сказал ему мальчик.
— Хорошо, — кивнул стрелок. — Замечательно.
Мальчик поднялся, чтобы сходить за обещанным мясом. В коленках легонько хрустнуло. Держался он прямо. Ладная, стройная фигурка. Пустыня ещё не успела его иссушить. Руки были чуть-чуть худоваты, но кожа, хотя и загорелая, ещё не загрубела и не растрескалась. «Он полон соков, — подумал стрелок. — И, наверное, песок набился ему в мозги. Совсем он тут одурел от жары. Иначе он бы забрал у меня револьвер и пристрелил бы на месте, пока я валялся без чувств».
Хотя, может быть, мальчик просто об этом не подумал.
Стрелок отпил ещё воды. «С песком в мозгах или нет, но он — не отсюда».
Джейк вернулся с вяленым мясом, разрезанным на небольшие кусочки. Мясо было жёстким, жилистым и щедро сдобренным солью — у стрелка защипало губы, сплошь в мелких трещинках и язвочках. Он ел и пил, пока не почувствовал, что в него уже не лезет. Мальчик едва притронулся к пище.
Стрелок внимательно изучал Джейка, а тот спокойно выдерживал его взгляд.
— Откуда ты, Джейк? — наконец спросил он.
— Я не знаю. — Мальчик нахмурился. — Не знаю. Я знал, когда только-только сюда попал, но теперь не могу вспомнить. Всё расплывается, как плохой сон, когда ты уже проснулся. Мне часто снятся плохие сны. Миссис Шоу говорит, что это всё потому, что я смотрю слишком много ужастиков по одиннадцатому каналу.
— Что такое канал? — У стрелка вдруг мелькнула совершенно безумная мысль. — Что-то вроде луча?
— Нет. Это по телику.
— Что такое телик?
— Ну… — Мальчик почесал лоб. — Такие картинки.
— Тебя кто-то привёл сюда? Эта миссис Шоу?
— Нет, — сказал мальчик. — Я просто здесь очутился.
— А миссис Шоу, это кто?
— Я не знаю.
— А почему она называет тебя Бамой?
— Не помню.
— Какая-то ерунда получается, — буркнул стрелок.
Ему вдруг показалось, что мальчик сейчас заплачет.
— Я правда ничего не знаю. Я просто здесь оказался. Если бы вы спросили меня вчера, про каналы и телик, я бы вам всё рассказал. А завтра я, может быть, даже не вспомню, что меня зову Джейк. Разве что вы мне подскажете, только вы мне ничего не подскажете. Потому что завтра вас здесь не будет. Вы уйдёте, и я умру с голоду, потому что вы съели почти всю мою еду. Я сюда не хотел. Я не просил, чтобы меня сюда перенесли. Мне здесь не нравится. Тут жутко и страшно.
— Не надо так сильно себя жалеть. Держи хвост пистолетом.
— Я сюда не хотел, — повторил мальчик с ребяческим вызовом в голосе.
Стрелок съел ещё кусок мяса. Прежде чем проглотить, долго жевал, чтобы выдавить соль. Мальчик тоже стал частью единого целого, и стрелок был уверен, что он говорит ему правду: он оказался здесь не по собственной воле. Он не хотел, чтобы так было. Плохо. Очень плохо. Это он, стрелок… он сам так хотел. Но он никогда не хотел грязной игры. Он не хотел убивать никого в Талле. Не хотел убивать Элли, эту некогда красивую женщину, чьё лицо было отмечено тайной, которая всё же открылась ей в самом конце, — тайной, к которой она стремилась и до которой добралась, сказав это слово, это девятнадцать, как будто открыла замок ключом. Он не хотел, чтобы его ставили перед выбором: исполнить свой долг или превратиться в безжалостного убийцу. Это нечестно: выпихивать на сцену ни в чём не повинных людей — посторонних людей — и заставлять их участвовать в этом спектакле, который для них чужой и непонятный. «Элли, — подумал он, — Элли хотя бы жила в этом мире, пусть в своём, иллюзорном, но всё-таки здесь. А этот мальчик… этот проклятый мальчик…»
— Расскажи всё, что ты помнишь, — сказал он Джейку.
— Я мало что помню. А то, что помню, это и вправду какая-то ерунда. Полный бред.
— Всё равно расскажи.
Мальчик задумался, с чего начать. И думал долго.
— Было одно место… до того, как я здесь оказался. Такой большой дом, где много комнат, а рядом — дворик, откуда видны высоченные здания и вода. А в воде стояла статуя.
— Статуя в воде?
— Да. Такая женщина, в короне и с факелом… и ещё, кажется, с книгой.
— Ты что — выдумываешь на ходу?
— Может быть, — безнадёжно ответил мальчик. — Там ещё были такие штуки, чтобы ездить на них по улицам. Большие и маленькие. Большие — синие с белым. А маленькие — жёлтые. Жёлтых было много. Я шёл в школу. Вдоль улиц тянулись такие зацементированные дорожки. А ещё там были большие окна, чтобы в них смотреть, и статуи в одежде. Статуи продавали одежду. Я понимаю, что это звучит по-дурацки, но те статуи продавали одежду.
Стрелок покачал головой, пристально всматриваясь в лицо мальчика — пытаясь распознать ложь. Но мальчик, похоже, не лгал.
— Я шёл в школу, — упрямо повторил мальчишка. — У меня была… — он прикрыл глаза и пошевелил губами, как будто нащупывая слова, — сумка для книг… такая коричневая. И ещё — завтрак. И на мне был… — он снова запнулся, мучительно подбирая слово, — галстук.
— Что?
— Я не знаю. — Мальчик безотчётно положил руку на горло. Этот жест всегда ассоциировался у стрелка с повешением. — Не знаю. Всё это исчезло. — Он отвёл взгляд.
— Можно я тебя усыплю? — спросил стрелок.
— Я не хочу спать.
— Я могу усыпить тебя, чтобы ты вспомнил. Во сне.
Джейк с сомнением спросил:
— А как вы меня усыпите?
— А вот так.
Стрелок вынул из патронташа один патрон и начал вертеть его в пальцах. Его движения были проворными, плавными — как льющееся масло. Патрон как будто перетекал от большого пальца к указательному, от указательного — к среднему, от среднего — к безымянному, от безымянного — к мизинцу. На мгновение исчез из виду, потом появился опять. На долю секунды завис неподвижно и двинулся обратно, переливаясь между пальцами стрелка. Мальчик смотрел. Его недоверчивое выражение сменилось искренним восторгом, потом — восхищением, а потом его взгляд стал пустым. Он отключился. Глаза закрылись. Патрон плясал в пальцах стрелка. Взад-вперёд. Глаза Джейка опять распахнулись; он ещё с полминуты понаблюдал за плавной пляской патрона и снова закрыл глаза. Стрелок продолжал крутить патрон, но Джейк больше не открывал глаз. Его дыхание замедлилось, стало спокойным и ровным. Неужели так надо? Неужели так и должно было быть? Да. Во всём этом была даже некая красота, хрупкая и холодная, как кружевные узоры по краям голубых ледяных глыб. Ему опять показалось, что он слышит, как мама поёт ему песню, но не ту глупую детскую песенку про Испанию и дождь, а другую, такую же глупую и такую же милую, что доносилась из дальнего далека, когда он уже засыпал, легонько покачиваясь на краешке сна: Птичка овсянка, скорее лети, скорее лети и корзинку неси.
Стрелок снова почувствовал, как его накрывает волна плотной душевной мути. Патрон в его пальцах, с которым он управлялся с таким непостижимым изяществом, вдруг показался ему живым. Такое маленькое сверкающее чудовище. Стрелок уронил патрон в ладонь и до боли сжал руку в кулак. Если бы патрон сейчас взорвался, стрелок был бы только рад. Рад избавиться от руки, чьё единственное истинное мастерство — это убийство. Убийство было всегда, так устроен мир. Но от этого было не легче. Да, на свете есть много плохого. Убийство, насилие и чудовищные деяния. И всё это — во имя добра. Добра, обагрённого кровью. Во имя кровавого мифа, во имя Грааля, во имя Башни. Да. Где-то она стоит, Башня (как говорят, посередине всего) — стоит, вспарывая небеса своей чёрной громадой, и в очищенных жаром пустыни ушах стрелка вновь зазвучит тихий и ласковый мамин голос: чик-чирик, не бойся кошек, дам тебе я хлебных крошек.
Он отмахнулся от этой песенки, как от назойливой мухи, и спросил:
— Где ты?
III
Джейк Чеймберз — он же Бама — спускается по лестнице с портфелем в руках. В портфеле — учебники: природоведение, география, тетрадь, карандаш, завтрак, который мамина кухарка, миссис Грета Шоу, приготовила для него в кухне, где всё из хрома и пластика, где непрестанно гудит воздухоочиститель, поглощающий неприятные запахи. В пакете для завтрака — сандвич с арахисовым маслом и повидлом и ещё один, с копчёной колбасой, салатом и луком, и четыре кекса «Орео». Его родители не то чтобы его не любят, но, похоже, давно уже не замечают родного сына. Они давно от него отказались и препоручили заботам миссис Греты Шоу, многочисленных нянек и репетитора — летом и Школы Пайпера (которая Частная, очень Хорошая и, самое главное, Только Для Белых) — во всё остальное время. Никто из этих людей даже и не претендует на то, чтобы быть кем-то ещё, кроме того, кто они есть: профессионалы, лучшие в своём деле. Никто ни разу не прижал его к тёплой груди, как это всегда происходит в исторических любовных романах, которые читает его мама и которые Джейк перелистывает тайком, в поисках «всяких глупостей». Истерические романы, как их иногда называет папа. Или ещё — «неглиже-срывалки». На что мама ему отвечает с презрением: «А ты только болтать и способен», — а Джейк это всё слышит из-за закрытых дверей. Папа работает на телевидении, и Джейк, наверное, мог бы этим гордиться. Но ему всё равно.
Джейк ещё не знает, что ненавидит всех профессионалов, за исключением миссис Шоу. Люди всегда приводили его в замешательство. Какие-то все они странные. Его мама — которая очень худая, но сексапильно худая — часто спит со своими друзьями в одной постели. Её друзья все больные на голову. Его отец иногда упоминает каких-то людей с телевидения, которые «перебарщивают с кока-колой». При этом он усмехается и быстро нюхает свой, большой палец.
И вот он выходит из дома. Джейк Чеймберз выходит на улицу. Так говорят о демонстрантах: они вышли на улицу. Одет во всё чистенькое. Знает, как надо себя вести. Симпатичный, послушный мальчик. Раз в неделю он ездит в «Мид-Таун Лейнс», в кегельбан. У него нет друзей — только знакомые. Он никогда не задумывался об этом, но это его задевает. Он ещё не знает или не понимает, что, постоянно общаясь с профессионалами, он невольно перенял многие их черты и привычки. Миссис Грета Шоу (да, она лучше всех остальных, но всё равно это не утешает) делает в высшей степени профессиональные сандвичи. Она разрезает хлеб на четыре части и срезает корку, и когда Джейк ест свои бутерброды на переменке, выглядит всё это так, будто он где-нибудь на коктейле, а вместо книжки из школьной библиотеки — что-нибудь про спорт или Дикий Запад — держит в руке бокал крепкой выпивки. Его отец зашибает большие деньги, потому что он мастер «завести зрителя», то есть умеет выбрать и включить в программу «убойное» шоу, которое забивает «невзрачненькие передачи» на конкурирующем канале. Папа выкуривает четыре пачки в день. Он не кашляет, но у него тяжёлая ухмылка, и иногда он позволяет себе хлопнуть парочку кока-колы по старой памяти.
Вдоль по улице. Мать даёт ему денежку на такси, но, когда нет дождя, он всегда ходит пешком. Идёт, размахивая портфелем (или сумкой, где у него всё для боулинга, хотя, как правило, сумку он оставляет у себя в шкафчике в кегельбане). Маленький мальчик. Такой стопроцентный американец с голубыми глазами и белокурыми волосами. Девчонки уже начинают обращать на него внимание (с одобрения своих мамаш), и он уже не сторонится их, как маленький, с подчёркнутой детской заносчивостью. Он общается с ними с таким неосознанным профессионализмом, чем весьма их смущает. Он увлекается географией, а после обеда ходит в кегельбан. Его папа владеет пакетом акций какой-то компании по производству автоматического оборудования для кегельбанов, но там, куда ходит Джейк, стоит оборудование другой марки. Ему кажется, будто он никогда не задумывался об этом. Но на самом деле — ещё как задумывался.
Вдоль по улице. Мимо «Блуми», магазина готового платья, где в витринах стоят манекены, одетые в меховые пальто или в деловые костюмы на шести пуговицах, а некоторые — «без всего», совсем голые. Эти манекены — тоже безупречные профессионалы, а он ненавидит профессионализм во всех проявлениях. Он ещё слишком мал для того, чтобы уметь ненавидеть себя, но начало уже положено: надо лишь время, чтобы это горькое семя принесло горький плод.
Он доходит до угла и стоит на перекрёстке с портфелем в руке. Машины с рёвом несутся по улице — синие с белым автобусы, жёлтые такси, «фольксвагены», грузовики. Он всего лишь мальчишка, но выше средних способностей; и краешком глаза он успевает заметить человека, который его убивает. Человек одет во всё чёрное, и Джейк не видит его лица, только развевающийся балахон, и протянутые к нему руки, и жёсткую улыбку профессионала. Он падает на проезжую часть, не выпуская из рук портфеля, в котором лежит его высокопрофессиональный завтрак, приготовленный миссис Гретой Шоу. Он ещё успевает заметить водителя — испуганное лицо за затемнённым ветровым стеклом. Бизнесмен в тёмно-синей шляпе со стильным пером за лентой. У кого-то в машине гремит рок-н-ролл. На тротуаре, на той стороне, кричит какая-то пожилая дама. У неё чёрная шляпка с сеточкой, в которой нет ничего стильного и изящного — эта сеточка больше похожа на траурную вуаль. Джейк не чувствует ничего, лишь удивление и привычное пагубное замешательство — неужели вот так всё и кончается? И ему уже никогда не улучшить свои результаты в боулинге? Выходит, два-семьдесят — это предел? Он падает на проезжую часть и видит в двух дюймах от глаз свежезаделанную трещину на асфальте. Портфель вылетает из рук. Он как раз призадумался, сильно ли он ободрал коленки, когда на него наезжает машина того бизнесмена в синей шляпе со стильным пером. Огромный синий «кадиллак» 76-го года с шинами «Фаерстоун». Машина почти такого же цвета, как и шляпа водителя. Она ломает Джейку спину, расплющивает живот. У него изо рта вырывается струя крови. Настоящий фонтан. Он поворачивает голову и видит зажжённые задние фонари. «Кадиллак» тормозит, из-под колёс валит дым. Машина проехалась и по портфелю, оставив на нём чёрный широкий след. Джейк поворачивает голову в другую сторону и видит громадный серый «форд», который с визгом останавливается в каких-нибудь нескольких дюймах от его тела. Какой-то чернокожий парень, наверное, тот самый, который продаёт с тележки солёные крендельки и газировку, бежит к нему. Кровь у Джейка течёт отовсюду: из носа, из глаз, из ушей, из прямой кишки. Его гениталии превратились в кашу. А он всё думает раздражённо, сильно ли он ободрал коленки. Он боится, что опоздает в школу. Теперь и водитель «кадиллака» бежит к нему, причитая на ходу. Откуда-то доносится голос. Страшный, спокойный — голос неумолимой судьбы:
— Я священник. Дайте пройти. Последнее причастие…
Он видит чёрный балахон и обмирает от ужаса. Это он. Человек в чёрном. Собрав последние силы, Джейк отворачивается от него. Где-то играет радио, передают песню рок-группы «Кисс». Он видит, как его руки скребут по асфальту — белые, маленькие, аккуратные. Он никогда не грыз ногти.
Глядя на свои руки, Джейк умирает.
IV
Стрелок сидел, погружённый в тяжёлые думы. Он устал, всё его тело болело, и мысли рождались у него в голове с изматывающей медлительностью. Рядом с ним, зажав руки между колен, спал удивительный мальчик. Он рассказал свою историю очень спокойно, хотя ближе к концу его голос дрожал — это когда он дошёл до «священника» и до «последнего причастия». Разумеется, он ничего не рассказывал ни о своей семье, ни о своём ощущении странной, сбивающей с толку раздвоенности, но всё равно кое-что просочилось в его рассказ — достаточно, чтобы понять. Такого города, который описывал мальчик, нет и не было никогда (разве что это был легендарный Лад) — но это было не самое странное. Хотя стрелок всё равно не на шутку встревожился. Вообще весь рассказ был каким-то тревожным. Стрелок боялся даже задумываться о том, что всё это может значить.
— Джейк?
— У-гу?
— Ты хочешь помнить об этом, когда проснёшься? Или хочешь забыть?
— Забыть, — быстро ответил мальчик. — Я был весь в крови. И когда кровь пошла у меня изо рта, у неё был такой вкус… я как будто говна наелся.
— Хорошо. Сейчас ты заснёшь, понятно? И будешь спать. По-настоящему. Давай-ка ложись.
Джейк послушно лёг. Такой маленький, тихий и безобидный — с виду. Однако стрелку почему-то не верилось в то, что мальчик действительно безобидный. Было в нём что-то странное, роковое, некий дух предопределённости. Как будто это была очередная ловушка. Стрелку не нравилось это гнетущее ощущение, но ему нравился мальчик. Ему очень нравился мальчик.
— Джейк?
— Тс-с. Я хочу спать. Я сплю.
— Да. А когда ты проснёшься, ты всё забудешь. Всё, что мне рассказал.
— О'кей. Хорошо.
Мальчик спал, а стрелок смотрел на него и вспоминал своё детство. Мысленно возвращаясь в прошлое, он обычно испытывал странное ощущение, будто всё это происходило не с ним, а с кем-то другим — с человеком, который прошёл сквозь легендарный кристалл, изменяющий время, прошёл и стал совершенно другим. Не таким, каким был. Но теперь его детство вдруг подступило так близко. Мучительно близко. Здесь, в конюшне дорожной станции, было невыносимо жарко, и стрелок отпил ещё воды. Совсем немного, буквально глоток. Потом он поднялся и прошёл в глубь строения. Остановился, заглянул в одно из стойл. Там в углу лежала охапка белой соломы и аккуратно сложенная попона, но лошадьми не пахло. В конюшне не пахло вообще ничем. Солнце выжгло все запахи и не оставило ничего. Воздух был совершенно стерилен.
В задней части конюшни стрелок обнаружил крошечную тёмную комнатушку с какой-то машиной из нержавеющей стали, похожей на маслобойку. Её не тронули ни ржавчина, ни порча. Слева торчала хромированная труба, а под ней было отверстие водостока. Стрелок уже видел такие насосы в других засушливых местах, но ни разу не видел такого большого. Он себе даже не представлял, как глубоко нужно было бурить этим людям (которых давно уже нет), чтобы добраться до грунтовых вод, затаившихся в вечной тьме под пустыней.
Почему они не забрали с собой насос, когда покидали станцию?
Наверное, из-за демонов.
Внезапно он вздрогнул. По спине пробежал холодок. Кожа покрылась мурашками, которые тут же исчезли. Он подошёл к переключателю и нажал кнопку «ВКЛ». Механизм загудел. А примерно через полминуты струя чистой, прохладной воды вырвалась из трубы и устремилась в водосток, в систему рециркуляции. Из трубы вылилось, наверное, галлона три, а потом насос со щелчком отключился. Да, зверь-машина, такая же чуждая этому месту и времени, как и истинная любовь, и такая же неотвратимая, как Суд Божий. Молчаливое напоминание о тех временах, когда мир ещё не сдвинулся с места. Вероятно, машина работала на атомной энергии, поскольку на тысячи миль вокруг электричества не наблюдалось, а сухие батареи уже давно бы разрядились. Её сделали на заводе компании под названием «Северный Центр позитроники». Стрелку это совсем не понравилось.
Он вернулся и сел рядом с мальчиком, который спал, подложив одну руку под щёку. Симпатичный такой мальчуган. Стрелок выпил ещё воды и скрестил ноги на индейский манер. Мальчик, как и тот поселенец у самого края пустыни, у которого ещё был ворон (Золтан, внезапно вспомнил стрелок, — ворона звали Золтан), тоже утратил всякое ощущение времени, но человек в чёрном, вне всяких сомнений, был уже близко. Уже не в первый раз стрелок призадумался: а не подстроил ли человек в чёрном очередную ловушку, позволив догнать себя. Вполне вероятно, что он, стрелок, играет теперь на руку своему врагу. Он попытался представить себе, как это будет, когда они всё же сойдутся лицом к лицу, — и не смог.
Ему было жарко, ужасно жарко, но в остальном он себя чувствовал вполне сносно. В голове снова всплыл давешний детский стишок, но на этот раз он думал уже не о матери, а о Корте, о человеке с лицом, обезображенным шрамами от пуль, камней и всевозможных тупых предметов. Шрамы — отметины войны и военного ремесла. «Интересно, — вдруг подумал стрелок, — а была ли у Корта любовь. Большая, под стать этим шрамам. Нет. Вряд ли». Он подумал о Сюзан, о своей матери и о Мартене, об этом убогом волшебнике-недоучке.
Стрелок был не из тех людей, которые любят копаться в прошлом; если бы он был человеком менее эмоциональным и не умел смутно предвосхищать будущее, он был бы упёртым и непробиваемым дубарём, лишённым всяческого воображения. Причём дубарём очень опасным. Вот почему он и сам удивился своим неожиданным мыслям. Каждое новое имя, всплывавшее в памяти, вызывало другое: Катберт, Алан, старый Джонас с его дрожащим голосом; и снова — Сюзан, прелестная девушка у окна. Все подобные размышления неизменно сводились к Сюзан, и к великой холмистой равнине, известной как Спуск, и к рыбакам, что забрасывали свои сети в заливах на краешке Чистого моря.
Тапёр из Талла (тоже мёртвый, как и все остальные жители Талла, сражённые им, стрелком) тоже был там, в Меджисе. Шеб обожал старые песни, когда-то играл их в салуне под названием «Приют путников», и стрелок фальшиво замурлыкал себе под нос:
Любовь, любовь беспечная, Смотри, что ты наделала.Он рассмеялся, сам себе поражаясь. «Я последний из того мира зелени и тёплых красок». Он тосковал по былому. Но не жалел себя, нет. Мир беспощадно сдвинулся с места, но его ноги ещё не отказываются ходить, и человек в чёрном уже близко. Стрелок задремал.
V
Когда он проснулся, уже почти стемнело, а мальчик исчез.
Стрелок поднялся — в суставах явственно хрустнуло — и подошёл к двери конюшни. В темноте, на крыльце постоялого двора мерцал огонёк. Он направился прямо туда. Его тень, длинная, чёрная, растянулась в коричневато-жёлтом свете заходящего солнца.
Мальчик Джейк сидел возле зажжённой керосиновой лампы.
— Там в лампе был керосин, — сказал он, — но я побоялся зажигать огонь в доме. Всё такое сухое…
— Ты всё правильно сделал. — Стрелок уселся, не обращая внимания на многолетнюю пыль, что взвилась у него из-под задницы. Вообще удивительно, как крыльцо не обвалилось под их общим весом. Отсветы пламени из лампы окрасили лицо паренька в тёплые полутона. Стрелок достал свой кисет и свернул папироску.
— Нам надо потолковать, — сказал он.
Джейк кивнул и улыбнулся, его рассмешило слово «потолковать».
— Ты, наверное, уже догадался, что я гонюсь за тем человеком, которого ты здесь видел.
— Хотите его убить?
— Я не знаю. Мне нужно заставить его кое-что мне рассказать. И, может быть, отвести меня кое-куда, в одно место.
— Куда?
— К Башне, — ответил стрелок. Он прикурил, поднеся папиросу к открытому краю лампы, и глубоко затянулся. Лёгкий ночной ветерок относил дым в сторону. Джейк смотрел ему вслед. На лице мальчика не отражалось ни страха, ни любопытства, ни воодушевления.
— Стало быть, завтра я ухожу, — продолжал стрелок. — Тебе придётся пойти со мной. Мясо ещё осталось?
— Совсем чуть-чуть.
— А кукурузы?
— Побольше, но тоже немного.
Стрелок кивнул.
— Есть тут какой-нибудь погреб?
— Да. — Джейк поглядел на него. Его зрачки были такими большими, что казались невероятно хрупкими. — Он открыт, нужно лишь потянуть за кольцо в полу, но я не спускался вниз. Побоялся, что лестница может сломаться, и я не сумею оттуда выбраться. И там плохо пахнет. Это — единственное здесь место, откуда хоть как-то пахнет.
— Завтра мы встанем пораньше и посмотрим, не найдётся ли там чего, что может нам пригодиться. Потом пойдём потихоньку.
— Хорошо. — Помолчав, мальчик добавил: — Хорошо, что я не убил вас, пока вы спали. Тут есть вилы, и у меня была мысль… Но я не стал этого делать, и теперь я уже не боюсь заснуть.
— А чего ты боялся?
Мальчик угрюмо взглянул на него.
— Привидений. И что он вернётся.
— Человек в чёрном, — сказал стрелок, и это был не вопрос.
— Да. Он плохой?
— Это как посмотреть, — рассеянно отозвался стрелок. Он поднялся и бросил окурок на твёрдый сланец. — Ладно, я спать.
Мальчик застенчиво поднял глаза.
— А можно, я лягу с вами в конюшне?
— Конечно.
Стрелок стоял на ступеньках, глядя на небо. Мальчик подошёл и встал рядом. Вон — Старая Звезда, а вон — Старая Матерь. Стрелку вдруг показалось, что стоит только закрыть глаза и он различит кваканье первых весенних древесных лягушек, запах зелени и почти летний запах только что подстриженного газона, услышит, быть может, ленивый перестук деревянных шаров, что доносится по вечерам из восточного крыла, когда сумерки перетекают во тьму и благородные дамы, одетые только в сорочки, выходят поиграть в шары. Он едва ли не воочию увидел Катберта и Джейми, как они выныривают из пролома в живой изгороди и зовут его покататься на лошадях…
Это совсем на него не похоже — так много думать о прошлом.
Он обернулся и поднял лампу.
— Пойдём спать, — сказал он.
И они вместе пошли в конюшню.
VI
Наутро он обследовал погреб.
Джейк был прав: пахло там отвратительно. Это был влажный болотный запах, и после стерильного, лишённого всякого запаха воздуха пустыни и конюшни стрелку стало нехорошо. Его подташнивало. Голова кружилась. В подвале воняло перегнившей капустой, репой и картошкой с длиннющими ростками. Однако лестница с виду казалась прочной. Стрелок спустился вниз.
Пол в погребе был земляной. А потолок — очень низкий, стрелок едва не задевал его головой. Здесь, внизу, всё ещё жили пауки — огромные пауки с серыми в крапинку телами. И почти все — мутанты. У одних были глазки на ножках, у других — по шестнадцать, не меньше, лап.
Стрелок огляделся, дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте.
— С вами там всё в порядке? — нервно окликнул его Джейк.
— Да. — Он сосредоточил внимание на дальнем углу. — Тут какие-то банки. Консервные. Подожди.
Пригнувшись, он осторожно двинулся в тот угол. Там стоял ветхий ящик с отодранной стенкой. Консервы, как выяснилось, были овощными — зелёная фасоль, бобы… и три банки тушёнки.
Он сгрёб их в охапку, сколько сумел унести, и вернулся обратно к лестнице. Поднявшись до середины, протянул банки Джейку, который встал на колени, чтобы было сподручнее их забрать. Стрелок отправился за остальными.
А когда он пошёл в третий раз, он услышал какой-то стон. Откуда-то из стены.
Он обернулся, вгляделся во тьму и вдруг ощутил, как его окатило волной смутного ужаса. Он почувствовал слабость и пронзительное отвращение.
Своды подвала были сложены из больших блоков песчаника, которые, надо думать, лежали ровно, когда эту станцию только построили. Теперь эти блоки перекосились, вздыбились под разными углами. И поэтому стены казались исписанными иероглифами — странными и беспорядочно нагромождёнными. И в одном месте, где соединялись два блока, из стены текла тонкая струйка песка, как будто что-то силилось прорваться с той стороны с надрывным, отчаянным упорством.
Снова раздался стон, теперь — громче. Стоны уже не прекращались. Пока весь подвал не наполнился звуком — живым воплощением немыслимой боли и чудовищного напряжения.
— Поднимайтесь! — закричал Джейк. — Боже мой, мистер, поднимайтесь скорее!
— Отойди от люка, — спокойно велел стрелок. — Выйди на улицу и считай. Если я не вернусь, когда ты досчитаешь до двух… нет, до трёхсот, беги отсюда без оглядки.
— Поднимайтесь! — снова выкрикнул Джейк.
На этот раз стрелок не ответил. Правой рукой он расстегнул кобуру.
В стене уже образовалась дыра размером с монету. Сквозь завесу подступившего страха стрелок различил звук удаляющихся шагов Джейка. Потом струйка песка иссякла. Стоны вдруг прекратились, но зато послышалось сбивчивое, тяжёлое дыхание.
— Кто ты? — спросил стрелок.
Нет ответа.
И Роланд повторил свой вопрос — на Высоком Слоге, и его голос, как встарь, был исполнен уверенной громовой властности:
— Кто ты, демон? Говори, если тебе есть что сказать. У меня мало времени, и ещё меньше — терпения.
— Не торопись, — раздался протяжный и сдавленный голос. Голос из стены. Стрелок почувствовал, как сгущается этот кошмарный и мутный ужас, становясь таким плотным, почти осязаемым. Это был голос Элис, женщины, с которой он был в Талле. Но она умерла. Он сам убил её. Он своими глазами видел, как она повалилась на землю с дыркой от пули точнёхонько промеж глаз. Он как будто погружался в бездонную пропасть. — Не торопись, стрелок, иначе рискуешь ты в спешке пройти мимо тех, кого надо извлечь. И остерегайся тахина. Пока с тобой идёт мальчик, человек в чёрном держит душу твою у себя в руках.
— Что ты хочешь сказать? Объясни!
Но дыхание исчезло.
Он постоял ещё пару секунд, не в силах сдвинуться с места, а потом один из этих кошмарных серых пауков упал ему на руку и быстро взобрался на плечо. Невольно вскрикнув, стрелок смахнул паука и заставил себя подойти к стене. Ему не хотелось этого делать, но обычай суров и непоколебим. Если мёртвые что-то дают, то бери, как говорится в старой поговорке. Только мёртвые изрекают истинные пророчества. Он подошёл к дыре, образовавшейся в стене, и ударил по ней кулаком. Песчаник по краям легко раскрошился, и, почти безо всякого напряжения, стрелок просунул руку в пролом.
И прикоснулся к чему-то твёрдому, в буграх и выступах. Он вытащил непонятный предмет наружу.
Оказалось, что это — кость. Челюстная кость, подгнившая в месте соединения верхней и нижней частей. Неровные зубы торчали в разные стороны.
— Ладно, — сказал он негромко, небрежно засунул челюсть в задний карман и вернулся обратно к лестнице, неуклюже прижимая к груди последние консервные банки. Люк он оставил открытым. Солнце проникнет туда и убьёт пауков-мутантов.
Джейк дожидался его посреди двора, съёжившись на потрескавшемся, раскрошенном сланце. Увидев стрелка, он вскрикнул, отступил на пару шагов, а потом бросился к нему со слезами на глазах.
— Я думал, оно вас поймало, что оно вас поймало, я думал…
— Нет, не поймало. — Стрелок крепко прижал к себе мальчика, ощутив у себя на груди жар от его пылающего лица и горячие сухие руки, крепко-крепко его обнимавшие. Уже потом, вспоминая об этом, он понял, что именно в это мгновение он полюбил мальчугана — разумеется, так и было задумано. Всё это было подстроено человеком в чёрном. Ибо какая ловушка сравнится с капканом любви?
— Это был демон? — Голосок звучал глухо.
— Да. Говорящий демон. Нам больше не нужно туда возвращаться. Пойдём. Скорее.
Они вернулись в конюшню. Стрелок скатал из попоны, под которой спал ночью, подобие тюка. Она была жаркая и колючая, но другой просто не было. Потом он наполнил свои бурдюки из колонки с насосом.
— Один бурдюк понесёшь ты, — сказал он Джейку. — На плечах — вот так. Видишь?
— Да. — Мальчик взглянул на стрелка с искренним благоговением, но тут же отвёл глаза и взвалил на плечи бурдюк.
— Не тяжело?
— Нет. Нормально.
— Лучше скажи мне правду. Сейчас. Я не смогу нести и тебя тоже, если с тобой случится солнечный удар.
— Не случится. Всё будет окей.
Стрелок кивнул.
— Мы пойдём к тем горам, да?
— Да.
Они отправились в путь под палящим солнцем. Джейк, чья голова едва доставала стрелку до локтя, шёл справа и чуть впереди. Завязанные сыромятными ремешками концы бурдюка у него на плечах свисали почти что до самых голеней. Стрелок нёс ещё два бурдюка, закинутых за плечи крест-накрест, и запасы провизии — под мышкой, прижимая тюк к телу левой рукой. В правой руке он держал дорожную сумку с патронами.
Они прошли через задние ворота станции и снова вышли на заброшенный тракт с исчезающими колеями. Они прошагали минут пятнадцать, потом Джейк обернулся и помахал рукой двум строениям, оставшимся позади. Они, казалось, жмутся поближе друг к другу в беспредельном пространстве пустыни.
— Прощайте! — выкрикнул Джейк. — Прощайте! — Потом повернулся к стрелку и сказал: — У меня странное чувство. Как будто за нами кто-то наблюдает.
— Может быть, — согласился стрелок.
— Там что, кто-то прячется? И он всё время был там?
— Я не знаю. Нет, вряд ли.
— Может быть, стоит вернуться. Проверить…
— Нет. Раз ушли, значит, ушли.
— Хорошо, — быстро проговорил Джейк.
Они пошли дальше. Вдоль проезжего тракта громоздились гребни спрессованного песка. Когда стрелок оглянулся, станция уже скрылась из виду. И снова кругом была только пустыня. Одна лишь пустыня.
VII
Три дня миновало с тех пор, как они покинули станцию. Горы стали как будто ближе, но это было обманчивое впечатление. Хотя глаз уже различал, как пустыня впереди поднимается к каменистым предгорьям. Первые голые склоны. Коренная порода, прорвавшаяся сквозь кожу земли в угрюмом, разрушительном триумфе. Чуть повыше ландшафт снова выравнивался, и в первый раз за многие месяцы, если не годы, стрелок увидел зелень — настоящую живую зелень. Траву, карликовые ели, может быть, даже ивы. Их питали ручьи, текущие из ледников на вершинах. Дальше опять начинались голые скалы, вздымающиеся в исполинском, хаотичном великолепии до ослепительных снежных шапок, сияющих белизной. Слева открывалось ущелье, рассекавшее горную твердь, оно вело к другому горному кряжу, поменьше, образованному выветренными утёсами из песчаника, к высоким плато и крутым курганам. Над этой дальней грядой дрожала, мешая обзору, серая завеса дождя. Вечером, до того, как заснуть, Джейк ещё пару минут посидел, заворожённо глядя на всполохи далёких молний, белых и фиолетовых, таких пугающе ярких в прозрачном ночном воздухе.
Мальчик держался прекрасно. Он был вынослив, но самое главное — он умел бороться с усталостью посредством спокойной концентрации воли; — эту его способность стрелок оценил по достоинству. Джейк говорил немного и не задавал никаких вопросов. Не спросил даже про челюсть, которую стрелок непрестанно вертел в руках во время вечернего перекура. У стрелка сложилось впечатление, что их дружба льстит мальчугану. Может быть, даже приводит мальца в восторг. И это его беспокоило. Мальчик не просто так появился у него на пути. Это было подстроено. Пока с тобой идёт мальчик, человек в чёрном держит душу твою у себя в руках — и даже то, что Джейк выдерживает его темп и не замедляет его продвижение, наводило на нехорошие мысли о перспективах зловещих и мрачных.
Они шли вперёд и постоянно наталкивались на симметричные кострища, оставленные человеком в чёрном через равные промежутки, и стрелку каждый раз казалось, что теперь эти кострища свежее. А на третью ночь он увидел вдали слабое мерцание пламени — где-то у первых уступов предгорий. Он столько ждал этого мига, но никакой радости почему-то не было. Ему вдруг вспомнилось одно из присловий Корта: «Остерегайся того, кто прикидывается хромым».
На четвёртый день, примерно в два часа пополудни, Джейк споткнулся и чуть не упал.
— Ну-ка давай-ка присядем, — сказал стрелок.
— Нет, со мной всё в порядке.
— Садись, я сказал.
Мальчик послушно сел. Стрелок примостился на корточках рядом — так, чтобы его тень падала на парнишку.
— Пей.
— Я не хотел пить, пока.
— Пей.
Мальчик сделал три глотка. Стрелок смочил уголок попоны, которая теперь стала намного легче, и обтёр влажной тканью Джейковы запястья и лоб, горячие и сухие, как при очень высокой температуре.
— Теперь каждый день в это время мы будем делать привал. На пятнадцать минут. Хочешь вздремнуть?
— Нет.
Мальчик пристыженно посмотрел на стрелка. Тот ответил ему мягким, ласковым взглядом. Как бы невзначай стрелок вытащил из патронташа один патрон и начал вертеть его между пальцами. Мальчик смотрел на патрон, как зачарованный.
— Здорово, — сказал он.
Стрелок кивнул.
— А то. — Он помолчал. — Когда мне было столько же лет, как тебе, я жил в городе, окружённом стеной. Я тебе не рассказывал?
Мальчик сонно покачал головой.
— Ну так вот. Там был один человек. Очень плохой человек…
— Тот священник?
— Ну, если честно, мне иногда тоже так кажется, — отозвался стрелок. — Если бы их было двое, они могли бы быть братьями. Или вообще близнецами. Но я ни разу не видел их вместе. Ни разу. Так вот, этот плохой человек… этот Мартен… он был чародеем… как Мерлин. Там, откуда ты, знают про Мерлина?
— Мерлин, король Артур и рыцари Круглого стола, — сонно пробормотал Джейк.
Стрелок почувствовал, как по телу прошла неприятная дрожь.
— Да, — сказал он, — твоя правда, за правду — спасибо. Артур Эльд. Я был совсем маленьким…
Но мальчик уже уснул — сидя, аккуратно сложив руки на коленях.
— Джейк?
— Да!
Казалось бы, самое обыкновенное слово, но когда мальчик его произнёс, стрелку вдруг стало страшно. Но он никак этого не показал.
— Когда я щёлкну пальцами, ты проснёшься. И будешь бодрым и отдохнувшим. Ты понял?
— Да.
— Тогда ложись.
Стрелок достал кисет и свернул себе папироску. Его не покидало гнетущее ощущение, что чего-то не хватает. Он попытался понять, чего именно, и после усердных раздумий наконец сообразил: исчезли это сводящее с ума ощущение спешки и страх, что в любое мгновение он может сбиться со следа, что тот, кого он так долго преследовал, скроется навсегда, и останется только бледнеющий след, ведущий в никуда. Теперь это чувство пропало, и постепенно стрелок преисполнился непоколебимой уверенности, что человек в чёрном хочет, чтобы его догнали. Остерегайся того, кто прикидывается хромым.
И что будет дальше?
Вопрос был слишком расплывчатым для того, чтобы вызвать у стрелка интерес. Вот Катберта он бы точно заинтересовал, причём живо заинтересовал (и он бы наверняка выдал по этому поводу неплохую шутку), но Катберта больше нет, как нет и Рога Судьбы, и теперь стрелку только и остаётся, что идти вперёд. А ничего другого он просто не знает.
Он курил, и смотрел на парнишку, и вспоминал Катберта, который всегда смеялся — так и умер, смеясь, — и Корта, который вообще никогда не смеялся, и Мартена, который изредка улыбался — тонкой и тихой улыбкой, излучавшей какой-то тревожный свет… точно глаз, открытый даже во сне, глаз, в котором плещется кровь. И ещё он вспоминал про сокола. Сокола звали Давид, в честь того юноши с пращой из старинной легенды. Давид — и стрелок в этом ни капельки не сомневался — не знал ничего, кроме потребности убивать, рвать и терзать, и ещё — наводить ужас. Как и сам стрелок. Давид был вовсе не дилетантом: он был в числе центровых, ведущих игроков.
Разве что в самом конце уже — нет.
Внутри всё болезненно сжалось, отдаваясь пронзительной болью в сердце, но на лице у стрелка не дрогнул ни единый мускул. И пока он смотрел, как дымок от его самокрутки растворяется в жарком воздухе пустыни, его мысли вернулись в прошлое.
VIII
Белое, безупречно белое небо, в воздухе — запах дождя. Сильный, сладостный аромат живой изгороди и распустившейся зелени. Конец весны. Время Новой Земли, как его ещё называли.
Давид сидел на руке у Катберта — маленькое орудие уничтожения с яркими золотистыми глазами, устремлёнными в пустоту. Сыромятная привязь, прикреплённая к путам на ногах у сокола, обвивала небрежной петлёй руку Берта.
Корт стоял в стороне от обоих мальчишек — молчаливая фигура в залатанных кожаных штанах и зелёной хлопчатобумажной рубахе, подпоясанной старым широким солдатским ремнём. Зелёное полотно рубахи сливалось по цвету с листвой живой изгороди и дёрном зелёной площадки на заднем дворе, где дамы ещё пока не приступили к своей игре.
— Приготовься, — шепнул Роланд Катберту.
— Мы готовы, — самоуверенно проговорил Катберт. — Да, Дэви?
Они говорили друг с другом на низком наречии — на языке, общем для судомоек и землевладельцев; день, когда им будет позволено изъясняться в присутствии посторонних на своём собственном языке, наступит ещё не скоро.
— Подходящий сегодня денёк для такого дела. Чуешь, пахнет дождём? Это…
Корт рывком поднял клетку, которую держал в руках. Боковая стенка открылась. Из клетки выпорхнул голубь и на быстрых трепещущих крыльях взвился ввысь, устремившись к небу. Катберт потянул привязь, но при этом немного замешкался: сокол уже снялся с места, и его взлёт вышел слегка неуклюжим. Резкий взмах крыльями — и сокол выправился. Быстро, как пуля, рванулся он вверх, набирая высоту. И вот он уже выше голубя.
Корт небрежной походкой подошёл к тому месту, где стояли ребята, и с размаху заехал Катберту в ухо своим громадным кулачищем. Мальчик упал без единого звука, хотя его губы болезненно скривились. Из уха медленно вытекла струйка крови и пролилась на сочную зелень травы.
— Ты зазевался, — пояснил Корт.
Катберт попытался подняться.
— Прошу прощения, Корт. Я просто…
Корт опять двинул его кулаком, и Катберт снова упал. На этот раз кровь потекла сильнее.
— Изъясняйся Высоким Слогом, — тихо проговорил Корт. Его голос был ровным, с лёгкой хрипотцой, характерной для старого выпивохи. — Если уж ты собираешься каяться и извиняться за свой проступок, кайся цивилизованно, на языке страны, за которую отдали жизни такие люди, с какими тебе никогда не сравниться, червяк.
Катберт снова поднялся. В глазах у него стояли слёзы, но губы уже не дрожали — губы, сжатые в тонкую линию неизбывной ненависти.
— Я глубоко сожалею, — произнёс Катберт, изо всех сил пытаясь сохранить самообладание. У него даже дыхание перехватило. — Я забыл лицо своего отца, чьи револьверы надеюсь когда-нибудь заслужить.
— Так-то лучше, салага, — заметил Корт. — Подумай о том, что ты сделал не так, и закрепи размышления посредством короткого голодания. Ужин и завтрак отменяются.
— Смотрите! — выкрикнул Роланд, указывая наверх.
Сокол, поднявшийся уже высоко над голубем, на мгновение завис в неподвижном прозрачном весеннем воздухе, распластав короткие сильные крылья. А потом сложил крылья и камнем упал вниз. Два тела слились, и на мгновение Роланду показалось, что он видит в воздухе кровь… но, наверное, действительно показалось. Сокол издал короткий победный клич. Голубь упал, трепыхаясь, на землю, и Роланд бросился к поверженной птице, позабыв и про Корта, и про Катберта.
Сокол спустился на землю рядом со своей жертвой и, довольный собой, начал рвать её мягкую белую грудку. Несколько пёрышек взметнулись в воздух и медленно опустились в траву.
— Давид! — крикнул мальчик и бросил соколу кусочек крольчатины из охотничьей сумки. Сокол поймал его на лету. Проглотил, запрокинув голову. Роланд попытался приладить привязь к путам на ногах у птицы.
Сокол вывернулся, как бы даже рассеянно, и рассёк руку Роланда, оставив глубокую рваную рану. И тут же вернулся к своей добыче.
Роланд лишь хмыкнул и снова завёл петлю, на этот раз зажав острый клюв сокола кожаной рукавицей. Он дал Давиду ещё кусок мяса, потом накрыл ему голову клобучком. Сокол послушно взобрался ему на руку.
Парнишка гордо расправил плечи.
— А это что у тебя? — Корт указал на кровоточащую рану на руке у Роланда. Мальчик уже приготовился принять удар и стиснул зубы, чтобы невольно не вскрикнуть. Однако Корт почему-то его не ударил.
— Он меня клюнул, — сказал Роланд.
— Так ты же его разозлил, — пробурчал Корт. — Сокол тебя не боится, парень. И бояться не будет. Сокол — он Божий стрелок.
Роланд молча смотрел на Корта. Он никогда не отличался богатым воображением, и если в этом заявлении Корта скрывалась некая мораль, Роланд её не уловил. Он был вполне прагматичным ребёнком и решил, что это просто очередное дурацкое изречение из тех, которые изредка выдавал Корт.
Катберт подошёл к ним и показал Корту язык, пользуясь тем, что учитель стоял к нему спиной. Роланд не улыбнулся, но легонько кивнул приятелю.
— А теперь марш домой. — Корт забрал у Роланда сокола, потом обернулся к Катберту: — А ты, червяк, поразмысли как следует о своих ошибках. И про пост не забудь. Сегодня вечером и завтра утром.
— Да, — ответил Катберт. — Спасибо, наставник. Этот день был весьма для меня поучительным.
— Да уж, весьма поучительным, — подтвердил Корт. — Вот только язык у тебя имеет дурную привычку вываливаться изо рта, как только учитель повернётся к тебе спиной. Но я всё-таки не оставляю надежду, что когда-нибудь вы оба научитесь знать своё место.
Он размахнулся и снова ударил Катберта, на этот раз — между глаз. Так сильно, что Роланд услышал глухой звук, какой раздаётся, когда поварёнок на кухне вбивает затычку в бочонок с пивом деревянным молотком. Катберт навзничь упал на лужайку. Его глаза затуманились, но очень скоро прояснились и впились, полыхая злобой, в лицо наставника. Этот горящий взгляд был исполнен неприкрытой ненависти; зрачки превратились в два острых жала, ярких, как капельки голубиной крови. А потом Катберт кивнул. Его губы раскрылись в жестокой усмешке, которую Роланд ни разу не видел прежде.
— Что ж, ты ещё небезнадёжен, — проговорил Корт. — Когда решишь, что уже пора, тогда и придёшь за мной, ты, червяк.
— Как вы узнали? — выдавил Катберт сквозь зубы.
Корт повернулся к Роланду так резко, что тот едва не отпрыгнул в испуге. И хорошо, что не отпрыгнул, а то лежать бы ему рядом с другом на сочной траве, орошая свежую зелень своей алой кровью.
— Я увидел твоё отражение в глазах этого сопляка, — пояснил Корт. — Запомни, Катберт Оллгуд. Это последний урок на сегодня.
Катберт снова кивнул, всё с той же пугающей усмешкой на губах.
— Я глубоко сожалею, — сказал он. — Я забыл лицо…
— Заткни фонтан, — оборвал его Корт, всем своим видом давая понять, как ему скучно. — Теперь идите. — Он повернулся к Роланду. — Вы оба. Если ваши тупые рожи ещё хотя бы минуту будут маячить у меня перед глазами, меня, наверное, стошнит прямо здесь. А я хорошо пообедал.
— Пойдём, — сказал Роланд.
Катберт тряхнул головой, чтобы в ней прояснилось, и поднялся на ноги. Корт уже спускался по склону холма — ковылял своей криволапой развалистой походочкой. От него так и веяло некоей первобытной силой. Его гладко выбритая макушка поблёскивала в ярком солнечном свете.
— Убью гада, — выдавил Катберт, по-прежнему усмехаясь. У него на лбу уже наливалась большая багровая шишка, размером с гусиное яйцо.
— Нет. Ты его не убьёшь, и я тоже его не убью, — сказал Роланд, вдруг расплывшись в улыбке. — Хочешь поужинать вместе со мной? В западной кухне. Повар даст нам чего-нибудь пожевать.
— Он скажет Корту.
— Они с Кортом не слишком-то ладят. — Роланд пожал плечами. — А если и скажет, то что?
Катберт ухмыльнулся в ответ:
— А, ладно. Пойдём. Мне всегда, знаешь, было интересно, как выглядит мир, если тебе свернут шею и голова торчит задом наперёд и затылком вниз.
Вместе они зашагали по зелёной лужайке, и их длинные тени протянулись в прозрачном свете погожего весеннего дня.
IX
Повара из западной кухни звали Хакс. Это был здоровенный мужик в белом заляпанном поварском наряде, с лицом чёрным, как нефть-сырец. Его предки были на четверть чёрными, на четверть — жёлтыми, на четверть — выходцами с Южных островов, ныне почти забытых на континенте (ибо мир сдвинулся с места), и на четверть — вообще бог знает каких кровей. Деловито и неторопливо, как трактор на первой передаче, он перемещался по всем трём помещениям западной кухни — где стоял дым и чад и потолки были высокими-превысокими, — шаркая своими огромными шлёпанцами, какие носили халифы из сказок. Хакс относился к той редкой породе взрослых, которые запросто могут общаться с детьми и которые любят всех детей без исключения не умильно и сахарно, а строго и даже как будто по-деловому, что иногда допускает и нежности типа крепких объятий, точно так же, как заключение какой-нибудь крупной сделки порой завершается рукопожатием. Он любил даже мальчишек, которые уже вступили на путь револьвера, хотя они и отличались от всех остальных ребят — сдержанные, где-то даже суровые и опасные, но не так, как это бывает у взрослых: это были обычные дети, разве что чуточку тронутые безумием, — и Катберт был далеко не первым из учеников Корта, кого Хакс подкармливал втихаря у себя на кухне. В данный момент он стоял перед своей огромной электроплитой. В замке были и другие электрические приборы — но работало только шесть. Кухня была царством Хакса, его безраздельной вотчиной, и он стоял у плиты, как полновластный хозяин, наблюдая, как двое ребят уплетают за обе щёки остатки мяса с подливкой. По всем трём помещениям кухни, сквозь клубы влажного пара, сновали кухарки, поварята и чернорабочие всех мастей: гремели кастрюлями, помешивали готовящееся жаркое, чистили-резали-шинковали картошку и овощи. В тускло освещённой буфетной уборщица с одутловатым несчастным лицом и волосами, подвязанными какой-то ветхой тряпицей, возила по полу шваброй с мокрой тряпкой.
Один из ребят с судомойни подбежал к Хаксу, ведя за собою солдата дворцовой стражи.
— Вот он хотел с вами потолковать.
— Хорошо. — Хакс кивнул стражнику, и тот кивнул в ответ. — А вы, ребята, — он повернулся к Роланду и Катберту, — идите к Мэгги. Она даст вам пирога. А потом убирайтесь вон, чтобы у меня не было из-за вас неприятностей.
Уже потом они оба вспомнят эту последнюю фразу: чтобы у меня не было из-за вас неприятностей.
А тогда они лишь послушно кивнули и пошли к Мэгги. Она дала каждому по большому куску пирога на обеденных тарелках — но как-то с опаской, будто двум одичавшим псам, которые запросто могут её укусить.
— Давай поедим на ступеньках, — предложил Катберт.
— Давай.
Они устроились с другой стороны запотевшей каменной колоннады, так чтобы их не было видно с кухни, и набросились на пирог. Они не сразу заметили чьи-то тени, упавшие на дальний изгиб стены, подступавшей к широкому лестничному пролёту. Роланд схватил Катберта за руку.
— Пойдём отсюда. Кто-то идёт.
Катберт поднял голову. На его испачканном ягодным соком лице отразилась растерянность.
Тени, однако, не двинулись дальше, хотя тех, кто отбрасывал эти тени, по-прежнему не было видно. Это были Хакс и солдат из дворцовой стражи. Ребята остались сидеть на месте. Если бы они сейчас зашевелились, их бы наверняка услышали.
— …наш добрый друг, — закончил свою фразу стражник.
— Фарсон?
— Через две недели, — ответил стражник. — Может быть, через три. Придётся тебе пойти с нами. Партия на грузовом складе… — Тут с кухни донёсся какой-то особенно громкий грохот котелков и кастрюль, а вслед за ним — проклятия, шквал которых обрушился на неуклюжего поварёнка, рассыпавшего посуду. Шум поглотил слова стражника. Ребята услышали лишь окончание: —…отравленное мясо.
— Рискованно.
— Не спрашивай, чем может тебе услужить наш добрый друг… — начал стражник.
— …спроси лучше, чем можешь ты услужить ему, — вздохнул Хакс. — Да уж, солдат, не спрашивай.
— Ты знаешь, о чём я, — спокойно вымолвил стражник.
— Да. И я помню, чем я ему обязан. Не надо меня учить. Я точно так же, как ты, уважаю его и люблю. Я готов броситься в море, если он скажет, что так надо.
— Вот и славно. Мясо будет промаркировано как продукт краткосрочного хранения. И тебе надо будет поторопиться. Ты же сам понимаешь.
— Там, в Тонтоуне, есть дети? — спросил повар. На самом деле это был даже и не вопрос.
— Везде есть дети, — мягко ответил стражник. — Как раз о детях-то мы и печёмся.
— Отравленное мясо. Странный способ позаботиться о детишках. — Хакс тяжело, со свистом, вздохнул. — Они что, будут корчиться, хвататься за животики и звать маму? Да, наверное, так и будет.
— Они просто уснут, — сказал стражник, но его голос звучал как-то уж слишком уверенно.
— Да, конечно. — Хакс коротко хохотнул.
— Ты сам это сказал: «Солдат, не спрашивай». Тебе же не нравится, что детьми управляют под дулом ружья, когда они могли бы начать строить новую жизнь, новый мир — под его руководством?
Хакс промолчал.
— Через двадцать минут мне пора заступать на пост. — Голос стражника вновь стал спокойным. — Выдай-ка мне покуда баранью лопатку. Пожалуй, схожу ущипну там кого-нибудь из твоих кухонных девок. Пусть себе похихикает. А когда я уйду…
— От моего барашка у тебя колик в желудке не будет, Робсон.
— А ты не хочешь…
Но тут тени сдвинулись, и голоса затихли вдали.
«Я бы мог их убить, — подумал Роланд, обмирая от запоздалого страха. — Я бы мог их убить, их обоих. Своим ножом. Перерезать им глотки, как свиньям». Он поглядел на свои руки, испачканные мясной подливкой, ягодным соком и грязью после дневных занятий.
— Роланд.
Он поднял глаза на Катберта. Они уставились друг на друга в душистой полутьме, и Роланд вдруг почувствовал обжигающий привкус отчаяния. Как будто тошнота подкатила к горлу. Это чем-то напоминало смерть — такую же грубую и непреложную, как смерть того голубя в ясном небе над игровым полем. «Хакс? — думал он, совершенно сбитый с толку. — Хакс, который поставил припарку мне на ногу, ну, в тот раз? Хакс?» Его сознание замкнулось, отгородившись от тягостных мыслей.
Он смотрел прямо в лицо Катберту — и не видел там ничего. Вообще ничего. В потухших глазах Катберта отражалась погибель Хакса. В глазах Катберта всё это уже случилось. Хакс их накормил. Они пошли на лестницу. Чтобы поесть. А потом Хакс отвёл стражника по имени Робсон для предательского tet-a-tet не в тот угол кухни. Вот и всё. Ка — это ка. Иногда оно, словно камень, сорвавшийся вниз с горы. Только и всего. И ничего больше.
Всё это Роланд прочёл в глазах Катберта.
В глазах стрелка.
X
Отец Роланда только что возвратился с нагорья и выглядел как-то совсем не к месту среди роскошных портьер и шифоновой претенциозности главной приёмной залы, куда мальчику разрешили входить лишь недавно — в знак начала его обучения.
Отец был одет в чёрные джинсы и голубую рабочую рубаху. Свой дорожный плащ — пыльный и грязный, а в одном месте даже разодранный до подкладки — он небрежно перекинул через плечо, не заботясь о том, как подобный видок сочетается с элегантным убранством залы. Отец был ужасно худым, и, казалось, его густые усы, похожие на велосипедный руль, перевешивали его голову, когда он смотрел на сына с высоты своего немалого роста. Револьверы на ремнях, что опоясывали его бёдра крест-накрест, висели под безупречным углом к рукам — чтобы их было удобно выхватывать из кобуры. Потёртые рукоятки из сандаловой древесины казались унылыми и какими-то сонными в тусклом свете закрытого помещения.
— Главный повар, — тихо проговорил отец. — Подумать только! Взрыв на горной дороге у погрузочной станции. Мёртвый скот в Хендриксоне. И, может быть, даже… подумать только! В голове не укладывается!
Он умолк на мгновение и внимательно присмотрелся к сыну.
— Тебя это мучает, да? Терзает?
— Как сокол — добычу, — отозвался Роланд. — И тебя это тоже терзает.
Он рассмеялся. Не над ситуацией — ничего в ней весёлого не было, — но над пугающей точностью образа.
Отец улыбнулся.
— Да, — сказал Роланд. — Наверное… это меня терзает.
— С тобой был Катберт, — продолжал отец. — Он, видимо, тоже уже рассказал всё отцу.
— Да.
— Он ведь подкармливал вас, когда Корт…
— Да.
— И Катберт. Как ты думаешь, его это тоже терзает?
— Не знаю.
На самом деле Роланду было вообще всё равно. Его никогда не заботило, совпадают ли его собственные чувства с чувствами кого-то другого.
— А тебя это терзает, потому что из-за тебя умрёт человек?
Роланд невольно пожал плечами. Ему вдруг не понравилось, что отец так дотошно разбирает мотивы его поведения.
— И всё-таки ты рассказал. Почему?
Глаза мальчугана широко распахнулись.
— А как же иначе?! Измена, это…
Отец резко взмахнул рукой.
— Если ты так поступил из-за дешёвой идейки из школьных учебников, тогда не стоило и трудиться. Если так, то уж лучше пусть все там, в Тонтоуне, погибнут от массового отравления.
— Нет! — яростно выкрикнул Роланд. — Не поэтому. Мне хотелось убить его… их обоих! Лжецы! Гадюки! Они…
— Продолжай.
— Они задели меня, — закончил парнишка с вызовом. — И мне было больно. Что-то такое они со мной сделали. Из-за этого что-то во мне изменилось. И мне захотелось убить их за это.
Отец кивнул:
— Это другое дело. Пусть это жестоко, но оно того стоит. Пусть оно, скажем, не высоконравственно, но тебе и не нужно быть добродетельным. Это не для тебя. На самом деле… — он пристально поглядел на сына, — ты, вероятно, всегда будешь стоять вне каких-либо нравственных норм. Ты не настолько смышлён, как Катберт или сынишка Ванни. Но это даже и к лучшему. Так ты будешь непобедим.
Мальчик, до этого раздражённый, теперь почувствовал себя польщённым, но вместе с тем и немного встревожился.
— Его…
— Повесят.
Мальчик кивнул:
— Я хочу посмотреть.
Старший Дискейн расхохотался, запрокинув голову:
— Не такой уж и непобедимый, как мне казалось… или, может быть, просто тупой.
Внезапно он замолчал. Рука метнулась, как вспышка молнии, и сжала предплечье Роланда — крепко, до боли. Мальчик поморщился, но не вздрогнул. Отец смотрел на него долго и пристально, но Роланд не отвёл глаз, хотя это было гораздо труднее, чем, например, надеть клобучок на возбуждённого сокола.
— Хорошо, можешь пойти посмотреть. — Он повернулся, чтобы уйти.
— Отец?
— Что?
— Ты знаешь, о ком они говорили? Кто этот «наш добрый друг»?
Отец обернулся и задумчиво поглядел на сына.
— Да. Кажется, знаю.
— Если его схватить, — проговорил Роланд в своей медлительной, может быть, даже чуть тяжеловатой манере, — тогда больше уже никого не придётся… ну, вздёргивать. Как повара.
Отец усмехнулся:
— На какое-то время, наверное, да. Но в конечном итоге всегда кто-то найдётся, кого нужно вздёрнуть, как ты очень изящно выразился. Люди не могут без этого. Даже если и нет никакого предателя, рано или поздно такой отыщется. Люди сами его найдут.
— Да. — Роланд мгновенно понял, о чём идёт речь. И, раз уяснив себе это, запомнил уже на всю жизнь. — Но если вы его схватите, этого доброго друга…
— Нет, — решительно оборвал его отец.
— Почему нет?
На мгновение мальчику показалось, что отец сейчас скажет ему почему. Но отец промолчал.
— На сегодня, я думаю, мы уже поговорили достаточно. Оставь меня.
Роланду хотелось напомнить отцу, чтобы он не забыл о своём обещании, когда придёт время казни, но он прикусил язык, почувствовав отцовское настроение. Он поднёс ко лбу сжатый кулак, выставил одну ногу вперёд и поклонился. Потом быстро вышел, плотно закрыв за собой дверь. Он уже понял, что отец хочет потрахаться. Мальчик не стал мысленно задерживаться на этом. Он знал, конечно, что его папа с мамой делают это… эту самую штуку… друг с другом, и был в курсе, как это всё происходит. Но сцены, возникавшие в воображении при мысли об этом самом, всегда сопровождались ощущением неловкости и какой-то непонятной вины. Уже потом, несколько лет спустя, Сюзан расскажет ему историю про Эдипа, а он будет слушать её в молчаливой задумчивости, размышляя о причудливом и кровавом любовном треугольнике: отец, мать и Мартен — которого в определённых кругах прозывали — наш добрый друг Фарсон. Или, возможно, если добавить его самого, это был уже даже и не треугольник, а четырёхугольник.
XI
Холм Висельников располагался как раз у дороги на Тонтоун. В этом была некая поэтичность, которую смог бы, наверное, оценить Катберт, но уж никак не Роланд. Зато виселица произвела на Роланда неизгладимое впечатление: исполненная зловещего величия, она чёрным углом прочертила ясное голубое небо — тёмный, изломанный силуэт, нависающий над столбовой дорогой.
В тот день обоих ребят освободили от утренних занятий. Корт с немалыми усилиями прочёл записки от их отцов, шевеля губами и время от времени кивая головой. Закончив это трудоёмкое дело, он аккуратно сложил бумажки и убрал их в карман. Даже здесь, в Гилеаде, бумага была на вес золота. Потом Корт поднял глаза к светло-лиловому рассветному небу и снова кивнул.
— Подождите, — сказал он и направился к покосившейся каменной хижине, своему жилищу. Он быстро вернулся с ломтём грубого пресного хлеба, разломил его надвое и дал каждому по половинке. — Когда всё закончится, вы оба положите это ему под ноги. И смотрите: сделайте, как я сказал, иначе я вам устрою на этой неделе весёлую жизнь. Спущу шкуру с обоих.
Ребята не поняли ничего, пока не прибыли на место — верхом, вдвоём на мерине Катберта. Они приехали самыми первыми, часа за два до того, как остальные только ещё начали собираться, и за четыре часа до казни. Так что на холме Висельников было пустынно, если не считать воронов да грачей. Птицы были повсюду. Они громоздились на тяжёлой поперечной балке — этакой станине смерти. Сидели рядком по краю помоста. Дрались за места на ступеньках.
— Их оставляют, — прошептал Катберт. — Мёртвых. Для птиц.
— Давай поднимемся, — предложил Роланд.
Катберт взглянул на него чуть ли не с ужасом.
— Вот туда? А если…
Роланд взмахнул рукой, оборвав его на полуслове:
— Да мы с тобой заявились на сто лет раньше других. Нас никто не увидит.
— Ну ладно.
Ребята медленно подошли к виселице. Птицы, негодующе хлопая крыльями, снялись с насиженных мест, каркая и кружа — ни дать ни взять толпа возмущённых крестьян, которых лишили земли. На чистом утреннем небе Внутреннего мира их тела вырисовывались чёрными плоскими силуэтами.
Только теперь Роланд почувствовал свою причастность к тому, что должно было произойти. В этом деревянном сооружении не было благородства. Оно никак не вписывалось в безупречно отлаженный механизм цивилизации, всегда внушавший Роланду благоговейный страх. Обычная покоробленная сосна из Лесного феода, покрытая белыми кляксами птичьего помёта. Они были повсюду: на ступеньках, на ограждении, на помосте. И от них жутко воняло.
Роланд повернулся к Катберту, напуганный и потрясённый, и увидел на лице друга то же самое выражение.
— Я не смогу, Ро, — прошептал Катберт. — Не смогу я на это смотреть.
Роланд медленно покачал головой. Это будет для них уроком, вдруг понял он, но не ярким и радостным, а, наоборот, чем-то древним, уродливым, изъеденным ржой… Вот почему их отцы разрешили им прийти на казнь. И с обычным своим упрямством и молчаливой решимостью Роланд взял себя в руки, готовясь встретить это ужасное «что-то», чем бы оно ни обернулось.
— Сможешь, Берт.
— Я ночью потом не засну.
— Значит, не будешь спать. — Роланд так и не понял, при чём здесь сон.
Катберт схватил Роланда за руку и посмотрел на него с такой пронзительной болью во взгляде, что Роланд снова засомневался и отчаянно пожалел о том, что в тот вечер они вообще сунулись в западную кухню. Отец был прав. Лучше бы все жители Тонтоуна — мужчины, женщины, дети — умерли. Лучше уж так, чем вот это.
И всё же. И всё же. Это был для него урок — страшное «что-то», острое, зазубренное, проржавелое, — и Роланд не мог его пропустить.
— Давай лучше не будем туда подниматься, — сказал Катберт. — Мы и так уже всё увидели.
И Роланд нехотя кивнул, чувствуя, как это ужасное и непонятное «что-то» потихоньку его отпускает. Корт, будь он здесь, влепил бы им обоим по хорошей затрещине и заставил бы взобраться на помост, шаг за шагом… шмыгая по дороге разбитыми в кровь носами и глотая солёные сопли. Может быть, Корт даже забросил бы на перекладину новенькую пеньковую верёвку с петлёй на конце, заставил бы их по очереди просунуть голову в петлю и постоять на дверце люка, чтобы прочувствовать всё в полной мере. Корт непременно бы врезал им ещё раз, если бы кто-то из них вдруг захныкал или с испугу напрудил в штаны. И Корт, разумеется, был бы прав. В первый раз в жизни Роланду захотелось скорее стать взрослым.
Нарочито медленно он отломил щепку от деревянного ограждения, положил её в нагрудный карман и только тогда отвернулся.
— Ты это зачем? — спросил Катберт.
Роланду очень хотелось сказать в ответ что-нибудь бравое, типа: Да так, на счастье… — но он лишь поглядел на Катберта и тряхнул головой.
— Просто чтобы было, — сказал он чуть погодя. — Всегда.
Они отошли подальше от виселицы и, усевшись на землю, стали ждать. Где-то через час начали собираться первые зрители, большинство — целыми семьями. Они съезжались на разваливающихся повозках и везли с собой еду: корзины с холодными блинами, начинёнными джемом из диких ягод. В животе у Роланда заурчало от голода, и он снова спросил себя: где тут достоинство, где благородство? Он даже подумал, что, может, достоинство и благородство — это очередная ложь, выдуманная взрослыми. Или это такие сокровища, до которых так просто не доберёшься? Ему казалось, что даже в том, как Хакс бродил по чадящей кухне в своём перепачканном белом костюме и орал на поварят, и то было больше достоинства. Роланд сжал в кулаке щепку, которую отломил от ограждения на помосте. Рядом с ним на траве лежал Катберт с деланно безразличным лицом.
XII
В конце концов всё оказалось не так уж и страшно, и Роланд был этому рад. Хакса привезли на открытой повозке, но узнать его можно было лишь по неохватному туловищу: ему завязали глаза чёрной широкой тряпкой, которая закрывала почти всё лицо. Кое-кто начал швыряться в него камнями, но большинство зрителей даже не оторвались от своих завтраков.
Какой-то стрелок, которого мальчик не знал (он ещё порадовался про себя, что не отец вытащил чёрный камень), помог толстому повару подняться на эшафот, осторожно ведя его под руку. Двое стражников из Дозора заранее прошли вперёд и встали по обеим сторонам от люка. Хакс и стрелок взобрались на помост, стрелок перекинул верёвку с петлёй через перекладину, надел петлю Хаксу на шею и затянул её так, чтобы узел оказался точно под левым ухом. Птицы улетели, но Роланд знал, что они выжидают и скоро вернутся.
— Не желаешь покаяться? — спросил стрелок.
— Мне не в чем каяться. — Слова Хакса прозвучали на удивление отчётливо, а в его голосе явственно слышалось какое-то странное достоинство, несмотря на то что его заглушала та чёрная тряпка, закрывавшая рот. Ткань легонько колыхалась под тихим ветерком, который только что поднялся. — Я не забыл лица своего отца, оно всегда было со мной.
Роланд внимательно пригляделся к толпе, и то, что он там увидел, его встревожило. Что это — сострадание? Может быть, восхищение? Надо будет спросить у отца. Если предателей называют героями («Или героев — предателями», — мрачно подумал Роланд), значит, пришли тёмные времена. Воистину, тёмные времена. Жаль, что ему не хватает пока разумения разобраться во всём как следует. Он подумал про Корта и про хлеб, который он дал им с Катбертом. Теперь мальчик испытывал к своему наставнику искреннее презрение. Близок день, когда Корт будет служить ему. Может быть, только ему, а Катберту — нет. Может быть, Катберт согнётся под непрерывным градом нападок Корта и останется конюхом или пажом (или ещё того хуже — станет надушённым и напомаженным дипломатом, который слоняется по приёмным и вместе с впавшими в маразм престарелыми королями и принцами тупо пялится в псевдомагические хрустальные шары). Катберт — да, может быть. Но он, Роланд, — нет. Он это знал. Он создан для безбрежных просторов и дальних странствий. Уже потом, вспоминая об этом в своём одиночестве, Роланд сам диву давался, что такая судьба когда-то казалась ему заманчивой.
— Роланд?
— Да тут я, тут. — Он взял Катберта за руку, и их пальцы сцепились намертво.
— Виновный в злоумышлениях на убийство и в подстрекательстве к мятежу, — громко проговорил стрелок на эшафоте, — ты отвернулся от света, и я, Чарльз, сын Чарльза, отправляю тебя во тьму, на веки вечные.
Ропот прошёл по толпе, кое-где даже послышались возмущённые крики.
— Я никогда…
— Свои басни будешь рассказывать там, гнусный червь. В мире загробном, — сказал Чарльз, сын Чарльза, и нажал на рычаг.
Крышка люка упала. Хакс ухнул вниз. Он всё ещё пытался что-то сказать. Роланд это запомнил. На всю жизнь. Повар умер, всё ещё пытаясь что-то сказать. Напоследок. Где, интересно, закончит он фразу, начатую на земле? Его слова заглушил явственный хруст — такой звук издаёт сухое полено в очаге зимней холодной ночью.
Но всё было не так уж и страшно. Ноги повара дёрнулись и разошлись буквой V. Толпа испустила удовлетворённый вздох. Стражники из Дозора, что всё время казни стояли по стойке «смирно», теперь расслабились и с равнодушным видом принялись наводить порядок. Стрелок медленно спустился с помоста, вскочил в седло и поскакал прочь, бесцеремонно прокладывая себе путь прямо сквозь толпу жующих свои блины зевак. Некоторым особо медлительным даже досталось кнутом. Остальные в панике разбежались, освобождая дорогу.
Когда всё закончилось, люди тут же принялись расходиться. Толпа рассосалась быстро, и где-то минут через сорок ребята остались одни на невысоком пригорке, который они избрали своим наблюдательным пунктом. Птицы уже возвращались, чтобы рассмотреть новое подношение. Одна по-приятельски уселась на плече Хакса и принялась теребить клювом блестящее колечко, которое повар всегда носил в правом ухе.
— Он совсем на себя не похож, совсем, — сказал Катберт.
— Да нет, похож, — уверенно отозвался Роланд, когда они вместе подошли к виселице, сжимая в руках куски хлеба. Катберт выглядел как-то растерянно и смущённо.
Они остановились под самой перекладиной, глядя на покачивающееся тело. Катберт чуть ли не с вызовом протянул руку и коснулся одной волосатой лодыжки. Тело закачалось сильнее и повернулось вокруг своей оси.
Потом они быстренько раскрошили хлеб и рассыпали крошки под болтающимися ногами. По дороге обратно Роланд оглянулся. Всего один раз. Теперь их было там несколько тысяч — птиц. Стало быть, хлеб — он понял это, но как-то смутно — был только символом.
— А знаешь, это было неплохо, — сказал вдруг Катберт. — Я… мне понравилось. Правда, понравилось.
Слова друга не потрясли Роланда, хотя на него самого эта казнь не произвела особенного впечатления. Он только подумал, что вполне понимает Катберта. Так что, может быть, он ещё не безнадёжен, Катберт. Может быть, он и не станет придурочным дипломатом.
— Я не знаю, — ответил он. — Но это действительно было что-то.
А через пять лет страна всё же досталась «доброму другу», но к тому времени Роланд уже был стрелком, его отец умер, сам он сделался убийцей — убийцей собственной матери, — а мир сдвинулся с места.
И начались долгие годы далёких странствий.
XIII
— Смотрите. — Джейк указал наверх.
Стрелок запрокинул голову и вдруг почувствовал резкую боль в правом бедре. Он невольно поморщился. Уже два дня они шли по предгорьям. Хотя воды в бурдюках осталось всего ничего, теперь это уже не имело значения. Скоро воды будет много. Пей — не хочу.
Он проследил взглядом за пальцем Джейка: вверх, мимо зелёной равнины на плоскогорье — к обнажённым сверкающим утёсам и узким ущельям… и ещё выше, к самым снежным вершинам.
В смутной, далёкой крошечной чёрной точке (это могла быть одна из тех крапинок, которые постоянно плясали перед глазами стрелка — только она не плясала и не дрожала, а оставалась всегда неизменной) стрелок распознал человека в чёрном. Тот карабкался вверх по крутому склону с убийственной быстротой — малюсенькая мушка на громадной гранитной стене.
— Это он? — спросил Джейк.
Стрелок смотрел на безликое пятнышко, что выделывало акробатические номера на отрогах горного хребта, и не чувствовал ничего, кроме какой-то тревожной печали.
— Это он, Джейк.
— Как вы думаете, мы его догоним?
— Теперь только на той стороне. И то, если не будем стоять, тратить время на разговоры.
— Они такие высокие, горы, — сказал Джейк. — А что на той стороне?
— Я не знаю, — ответил стрелок. — И, наверное, никто не знает. Раньше, может быть, знали. Пойдём, малыш.
Они снова пошли вверх по склону. Мелкие камешки летели у них из-под ног, и струйки песка стекали вниз, к пустыне, что распростёрлась у них за спиной плоским прокалённым противнем, которому, казалось, нет конца. Наверху, высоко-высоко над ними, человек в чёрном продолжал свой упорный подъём к вершине. Отсюда нельзя было определить, оглядывался он на них или нет. Казалось, он легко перепрыгивает через бездонные пропасти, без труда взбирается по отвесным склонам. Пару раз он исчезал из виду, но всегда появлялся снова, пока фиолетовая пелена сумерек не скрыла его окончательно. Они разбили лагерь и устроились на ночлег. Почти всё это время мальчик молчал, и стрелок даже подумал, уж не знает ли парень о том, что сам он давно уже интуитивно почувствовал. Почему-то он вспомнил лицо Катберта, разгорячённое, испуганное, возбуждённое. Вспомнил хлебные крошки. И птиц. «Так вот всё и кончается, — думал он. — Всякий раз всё кончается именно так. Всё начинается с поисков и дорог, что уводят вперёд, но все дороги ведут в одно место — туда, где свершается смертная казнь. Человекоубийство».
Кроме, быть может, дороги к Башне. Где ка покажет своё истинное лицо.
Мальчик — его жертва, обречённая на заклание, — с таким невинным и совсем ещё детским лицом в свете крошечного костерка, заснул прямо над плошкой с бобами. Стрелок укрыл его попоной и тоже улёгся спать.
Глава 3 ОРАКУЛ И ГОРЫ
I
Мальчик нашёл прорицательницу, и та едва его не уничтожила.
Какое-то глубинное инстинктивное чувство пробудило стрелка ото сна посреди бархатной тьмы, что пришла вслед за лиловыми сумерками. Это случилось, когда они с Джейком добрались до участка почти ровной, поросшей травой земли на первом уступе предгорий. Даже на самых трудных подъёмах, когда им приходилось карабкаться вверх, выбиваясь из сил и борясь буквально за каждый фут под нещадно палящим солнцем, они слышали стрекот сверчков, соблазнительно потирающих лапками посреди вечной зелени ивовых рощ, распростёршихся выше по склону. Стрелок оставался спокойным, мальчик тоже вроде бы сохранял спокойствие — внешне по крайней мере, — так что стрелок даже им гордился. Но Джейк не сумел скрыть этого дикого выражения глаз, которые стали бесцветными и застывшими, как у лошади, что почуяла воду и не понесла только благодаря воле всадника, — как у лошади, которая дошла до того состояния, когда удержать её может только глубинное взаимопонимание, а никак не шпоры. Стрелок хорошо понимал, что творится с Джейком, хотя бы уже по тому, как неистово и безумно его собственное тело отзывалось на дразнящий стрекот сверчков. Его руки, казалось, сами ищут острые выступы в камне, чтобы окорябаться в кровь, а колени так и стремятся к тому, чтобы их исполосовали глубокими саднящими порезами.
Всю дорогу солнце палило нещадно; даже на закате, когда оно разбухало и багровело, как в лихорадке, оно до последнего жарко светило сквозь расщелины между скалами по левую руку, слепило глаза, обращало каждую капельку пота в сверкающую призму боли.
А потом появилась трава: поначалу — лишь чахлая жёлтая поросль, но поразительно жизнеспособная. Она с завидным упорством цеплялась за худосочную размытую почву. Дальше, чуть выше по склону, показались редкие пучки ведьминой травы, которые очень быстро сменились густой, буйной зеленью. А потом в воздухе разлилось первое благоухание уже настоящей травы, что росла вперемешку с тимофеевкой под сенью первых карликовых елей. Там, в тени, стрелок заметил коричневый промельк. Он выхватил револьвер, выстрелил раз и подбил кролика прежде, чем Джейк успел вскрикнуть от изумления. А уже через секунду стрелок убрал револьвер в кобуру.
— Здесь мы и остановимся, — сказал он.
Ещё выше по склону были деревья: зелёные ивы. Зрелище — поразительное после выжженной стерильной пустыни, бесконечного голого сланца. Где-то в глубине этой рощи обязательно есть родник, может быть, даже и не один, и там наверняка попрохладнее, но всё же лучше остаться здесь, на открытом месте. Силы парнишки, похоже, уже на исходе, а ведь вовсе не исключено, что в сумраке рощи гнездятся летучие мыши-вампиры. Их крики могли разбудить мальца, как бы он крепко ни спал, а если это и вправду вампиры, то вполне могло так получиться, что они оба уже не проснутся… во всяком случае, в этом мире.
— Пойду дров наберу, — сказал мальчик.
Стрелок улыбнулся:
— Нет, не надо тебе никуда ходить. Лучше сядь, Джейк. Посиди.
Чья это фраза? Какой-то женщины. Сюзан? Стрелок не помнил. Время ворует память, как любил говорить Ванни. Вот про Ванни он помнил.
Мальчик послушно сел. Когда стрелок вернулся, Джейк уже спал в траве. Большой богомол совершал своё вечернее омовение прямо на упругой чёлке парнишки. Стрелок рассмеялся — в первый раз за бог знает сколько времени, — разжёг костёр и отправился за водой.
Заросли ив оказались гуще, чем показалось ему поначалу, и в блёкнувшем свете заходящего солнца там было довольно-таки неуютно. Но он набрёл на ручей, бдительно охраняемый квакшами и лягушками. Стрелок наполнил водой один бурдюк… и вдруг замер. Звуки ночи всколыхнули в нём какое-то тревожное сладострастие — чувственность, которую не смогла разбудить даже Элли, та женщина, с которой он был в Талле. Но от Элли ему было нужно другое: чтобы она рассказала ему всё, что ему надо было знать. Стрелок отнёс это странное ощущение на счёт резкой, ошеломляющей смены обстановки после пустыни. После всех этих бессчётных миль голого сланца мягкость вечернего сумрака казалась почти непристойной.
Он вернулся к костру и, пока закипала вода в котелке, освежевал кролика. Вместе с последней банкой консервированных овощей из кролика вышло отличное рагу. Стрелок разбудил Джейка, а потом долго смотрел, как парнишка ест: отрешённо и сонно, но жадно.
— Завтра мы никуда не пойдём. Побудем здесь, — сказал стрелок.
— Но человек, за которым вы гонитесь… этот священник…
— Он не священник. И не волнуйся. Никуда он от нас не денется.
— Откуда вы знаете?
Стрелок лишь покачал головой. Просто он знал, что так будет… и ничего в этом знании хорошего не было.
После ужина он ополоснул жестяные банки, из которых они ели (опять поражаясь тому, как он небрежно расходует воду), а когда обернулся, Джейк уже спал. Стрелок вновь ощутил знакомые толчки в груди, будто что-то внутри то вздымается, то опадает — это странное чувство, которое он безотчётно связывал с Катбертом. Они были ровесниками, но Катберт казался намного моложе.
Его папироса упала в траву, и он носком сапога подтолкнул её в костёр. Потом он ещё долго смотрел на огонь, на чистое жёлтое пламя, совсем не похожее на пламя от горящей бес-травы. В воздухе разлилась изумительная прохлада. Стрелок лёг на землю, спиной к костру.
Откуда-то издалека, из ущелья, теряющегося в горах, доносились глухие раскаты грома. Он уснул. И увидел сон.
II
Сюзан Дельгадо, его любимая, умирала у него на глазах.
А он смотрел. Его руки держали — по два дюжих крестьянина с каждой стороны, — шею его стиснул тяжёлый и ржавый железный ошейник. На самом деле всё было не так — его даже не было там, на площади, но сон — это сон, у него своя логика и свои законы.
Он смотрел, как она умирает. Даже сквозь гарь и дым он различал запах её горящих волос, слышал крики толпы: «Гори огнём!»… и видел цвет своего собственного безумия. Сюзан, прелестная девушка у окна, дочь табунщика. Как она мчалась по Спуску, и их тени — лошади и всадницы — сливались в единую тень. Она была словно сказочное существо из легенды, необузданная и свободная. Как они с ней бежали, держась за руки, по кукурузному полю. А теперь люди, собравшиеся у помоста, кидали в неё кукурузными листьями, и листья загорались прямо на лету, ещё прежде, чем падали в пламя. «Приходи, жатва», — кричали они, заклятые враги света и любви, а где-то гаденько хихикала ведьма. Риа, так её звали, старую каргу. А Сюзан чернела, обугливаясь в огне, её кожа трескалась, и…
Она что-то пыталась ему прокричать?
— Мальчик, — кричала она. — Роланд, мальчик!
Он рванулся, увлекая за собой своих стражей. Железный ошейник врезался в шею, и Роланд услышал, как из его горла рвётся скрежещущий, сдавленный хрип. В воздухе стоял тошнотворный сладковатый запах поджаренного мяса.
Мальчик смотрел на него из окна высоко над костром, из того же окна, где когда-то сидела Сюзан — та, которая научила его быть мужчиной, — сидела и напевала старинные песни: «Эй, Джуд», «Вольную волю большой дороги» и «Беспечную любовь». Мальчик стоял у окна, как гипсовая статуя святого в соборе. Его глаза были словно из мрамора. Лоб Джейка пронзал острый шип.
Стрелок ощутил, как из самых глубин нутра рвётся сдавленный, режущий горло вопль, означающий начало безумия.
— Н-н-н-н-н-н-н-н…
III
Роланд вскрикнул и проснулся от того, что его обожгло пламя костра. Он сел рывком, всё ещё ощущая присутствие страшного сна про Меджис где-то рядом. Сон душил его, как железный ошейник, который сжимал его шею во сне. Когда он рванулся к Сюзан, здесь, наяву, он нечаянно попал рукой в гаснущие угли костра. Он поднёс руку к лицу, буквально физически ощущая, как сон улетает прочь, оставляя только застывший образ мальчика, Джейка, белого как мел. Святого для демонов.
— Н-н-н-н-н-н-н…
Он вгляделся в таинственный сумрак ивовой рощи, держа револьверы наготове. В последних отблесках костра его глаза были похожи на две алые амбразуры.
— Н-н-н-н-н-н-н…
Джейк.
Стрелок вскочил на ноги и побежал. Луна уже поднялась в ночном небе горьким блёклым диском, и след Джейка был явственно виден в росе. Стрелок нырнул под первые ивы, перебрался через ручей, подняв брызги, и вскарабкался на другой берег, скользя по мокрой траве (даже сейчас его тело наслаждалось этим ощущением). Ветви ив, точно розги, хлестали его по лицу. Деревья здесь росли гуще и не пропускали лунного света. Стволы поднимались кренящимися тенями. Трава, теперь высотой до колен, била стрелка по ногам. Трава ласкала его, как бы приглашая прилечь, отдохнуть, насладиться прохладой. Насладиться жизнью. Полусгнившие мёртвые ветви тянулись к нему, пытаясь схватить за голени, за cojones.[5] Стрелок на мгновение замер, вскинул голову и принюхался. Ему помогло дуновение ветерка. Мальчик, конечно же, не благоухал. Как, впрочем, и сам стрелок. Ноздри стрелка расширились, как у обезьяны. Он различил слабый терпкий запах — безошибочный запах пота. Он рванулся вперёд, сквозь бурелом, ежевику и завалы упавших веток — бегом по тоннелю из нависающих ветвей ив и сумаха. Вперёд. Задевая плечами древесный мох, цеплявшийся за одежду понурыми, мертвенно серыми щупальцами.
Он продрался сквозь последнюю баррикаду из сплетённых ивовых ветвей и выбрался на поляну, открытую звёздам. Самый высокий пик горной гряды белел, точно череп, на неимоверной высоте.
На поляне был круг из чёрных стоячих камней. В лунном свете он походил на какую-то причудливую, фантастическую ловушку для диких зверей. В центре круга располагался каменный алтарь… жертвенник — очень старый, поднимающийся из земли на могучем плече базальта.
Мальчик стоял перед чёрным алтарём, дрожа и раскачиваясь взад-вперёд. Его руки дёргались, словно через них пропустили электрический ток. Стрелок резко выкрикнул его имя, и Джейк ответил ему неразборчивым возгласом отрицания. Лицо мальчика, похожее на бледное смазанное пятно и почти полностью загороженное его левым плечом, выражало одновременно и страх, и восторг. И было в нём что-то ещё.
Стрелок вступил в круг камней, и Джейк закричал, отшатнувшись и вскинув руки. Теперь стрелку было видно его лицо, и он разглядел на нём ужас, и страх, и мучительное наслаждение.
Стрелок ощутил, как к нему прикоснулся дух — дух оракула. Суккуб. Его чресла наполнились жаром — нежным и мягким, и всё-таки тягостным. Голова у него закружилась, язык как будто распух во рту и стал болезненно чувствительным даже к слюне.
Стрелок не знал, что его подтолкнуло, но, повинуясь порыву, он быстро вытащил из кармана полусгнившую челюсть, которую носил с собой с того дня, как нашёл её в логове Говорящего Демона на дорожной станции. Он не понимал, что делает, но это его не пугало — он привык повиноваться своим инстинктам. И они никогда его не подводили. Стрелок выставил челюсть перед собой, эту истлевшую кость, застывшую в доисторическом оскале. Указательный палец и мизинец свободной руки сами сложились рожками в древнем знаке оберега от дурного глаза.
Волна чувственности отхлынула, словно кто-то резко сорвал тяжёлый полог.
Джейк снова вскрикнул.
Стрелок подошёл к нему, выставив челюсть перед невидящими глазами мальчишки.
— Смотри сюда, Джейк… смотри.
Влажный всхлип боли. Джейк попытался отвести взгляд и не смог. На мгновение стрелку показалось, что парнишку сейчас разорвёт на части — но не телом, а разумом. Его глаза закатились, остались видны лишь белки. А потом Джейк упал. Его обмякшее тело плавно осело на землю, одна рука почти коснулась каменного алтаря. Стрелок опустился на одно колено и взял Джейка на руки. Мальчик был на удивление лёгким; за время их долгого пути по пустыне он высох, как лист в ноябре.
Роланд буквально физически ощутил, как дух, обитающий в каменном круге, заметался в ревнивом гневе — у него отобрали добычу. Как только стрелок вышел из круга, это буйство бесплодной ревности разом исчезло. Он отнёс Джейка обратно в лагерь. К тому времени судорожное беспамятство мальчика сменилось крепким сном.
Стрелок на мгновение замер над серыми останками выгоревшего костра. Лунный свет, омывающий лицо Джейка, снова напомнил ему о святом из церкви, о неведомой гипсовой чистоте. Он обнял парнишку покрепче и неловко чмокнул его в щёку, вдруг осознав, что любит его. Хотя, может быть, даже не так. Может быть, он полюбил этого мальчика с первого взгляда (как и Сюзан Дельгадо) и только теперь разрешил себе в этом признаться.
И тут ему показалось, что он почти явственно слышит смех человека в чёрном. Откуда-то сверху, издалека.
IV
Джейк звал его. От этого стрелок и проснулся. Вчера ночью он крепко-накрепко привязал парнишку к одному из ближайших кустов, и мальчик, наверное, испугался. И к тому же наверняка хотел есть. Судя по солнцу, было уже почти девять тридцать.
— Зачем вы меня привязали? — спросил Джейк с обидой, когда стрелок развязал тугой узел на попоне. — Я же не собирался от вас убегать!
— Не собирался, а всё-таки убежал. — Стрелок улыбнулся, когда у парнишки вытянулось лицо. — Пришлось вставать и бежать за тобой. Ты ходил во сне.
— Правда? — недоверчиво переспросил Джейк. — Никогда раньше такого не де…
Стрелок кивнул, вытащил из кармана челюсть и поднёс её к лицу Джейка. Тот отпрянул, закрывшись руками.
— Вот видишь?
Мальчик, смутившись, кивнул.
— А что случилось?
— Сейчас у нас нет времени на разговоры. Мне нужно будет уйти. Может быть, на весь день. Так что слушай меня, малыш. Это важно. Если я не вернусь до заката…
На лице Джейка промелькнул страх.
— Вы меня бросаете!
Стрелок только пристально посмотрел на него.
— Нет, — сказал Джейк. — Кажется, нет. Если бы вы хотели меня бросить, вы бы давно меня бросили.
— Ну вот, видишь. Ты и сам всё понимаешь. А теперь слушай, и слушай внимательно. Сейчас я уйду, а ты останешься здесь. И никуда отсюда не уходи. Что бы ни случилось, не уходи с этой поляны. А если вдруг ты почувствуешь что-то странное… что-нибудь подозрительное… просто возьми эту кость и не выпускай из рук.
Ненависть и отвращение на лице Джейка смешались с каким-то непонятным смущением.
— Нет, я не смогу… не смогу.
— Сможешь. Придётся смочь. И особенно после полудня. Это очень важно. Если придётся взять кость, у тебя могут возникнуть всякие неприятные ощущения. Например, голова заболит или будет тошнить. Но это быстро пройдёт. Ты понял?
— Да.
— И ты сделаешь, как я сказал?
— Да, но зачем вам куда-то идти? — всхлипнул Джейк.
— Просто так нужно.
Стрелок вновь уловил в глазах Джейка словно бы отблеск стали — завораживающий и загадочный, как рассказ мальчика про неведомый город, где дома так высоки, что их верхушки в прямом смысле слова скребут по небу. Мальчик напоминал ему даже не Катберта, а Алана, ещё одного его близкого друга. В отличие от шутника и задиры Катберта Алан был тихим и скромным. И на него всегда можно было положиться. И он ничего не боялся.
— Хорошо, — сказал Джейк.
Стрелок осторожно положил челюсть на землю рядом с остывшим кострищем. Она ухмылялась в высокой траве, точно какое-нибудь истлевшее ископаемое, которое снова увидело дневной свет после долгой и беспросветной ночи длиной в пять тысяч лет. Джейк старался на неё не смотреть. Лицо мальчика было бледным и несчастным. Стрелок даже подумал, может быть, усыпить паренька и расспросить его обо всём, что случилось с ним в круге камней, но потом рассудил, что он немногого этим добьётся. Он и так уже знал, что дух из круга камней, вне всяких сомнений, Демон и, вполне вероятно, оракул. Демон, лишённый формы и тела, бесплотная сексуальная аура, наделённая даром ясновидения. Ему вдруг подумалось не без язвинки, уж не душа ли это Сильвии Питтстон, той необъятной толстухи, чьё мелочное торгашество религиозными откровениями и привело к столь трагичной развязке в Талле… но нет. Это не Сильвия. Камни круга дышали древностью — они ограждали обиталище демона, обозначенное задолго до начала истории этого мира. Существо в круге — древнее… и коварное. Но стрелок знал, как говорить с оракулом, и был уверен, что мальчику не придётся воспользоваться костяным мойо, оберегом. Голос и разум пророчицы будут заняты им, стрелком. Более чем. А ему нужно выведать кое-что, несмотря на весь риск… а риск был, и немалый. И всё-таки ради Джейка, ради себя самого ему нужно было добыть эти сведения. Во что бы то ни стало.
Стрелок открыл свой кисет и, порывшись в табаке, достал крошечный предмет, завёрнутый в обрывок белой бумаги. Он покатал его в пальцах, которых уже очень скоро не будет, и рассеянно взглянул на небо. Потом развернул бумажку и извлёк содержимое — маленькую белую таблетку с пообтершимися за годы странствий краями.
Джейк с любопытством взглянул на неё.
— Это что?
Стрелок издал короткий смешок.
— Корт часто рассказывал нам легенду о том, как древние боги решили поссать над пустыней — и так получился мескалин.
Джейк озадаченно нахмурился.
— Это такое снадобье, — пояснил стрелок. — Но не из тех, которые усыпляют. А такое, которое, наоборот, взбадривает. Ненадолго.
— Как ЛСД, — сказал мальчик, и его взгляд снова стал озадаченным.
— А что это? — спросил стрелок.
— Я не знаю, — ответил Джейк. — Просто слово всплыло. Это, наверное, оттуда… ну, вы понимаете. Оттуда, что было раньше.
Стрелок кивнул, но всё-таки он сомневался. Он никогда не слыхал, чтобы мескалин называли ЛСД. Этого не было даже в древних книгах Мартена.
— А это вам не повредит? — спросил Джейк.
— До сих пор не вредило, — уклончиво отозвался стрелок и понял сам, что его ответ прозвучал не особенно убедительно.
— Мне это не нравится.
— Не бери в голову.
Стрелок опустился на корточки, отхлебнул воды из бурдюка и проглотил таблетку. Как всегда, реакция наступила мгновенно: рот, казалось, переполнился слюной. Стрелок уселся перед потухшим костром.
— А когда эта таблетка подействует? — спросил Джейк.
— Не сразу. Помолчи пока, ладно?
И Джейк замолчал. Он сидел тихо, и только в его напряжённом взгляде читалось неприкрытое подозрение, пока он наблюдал, как стрелок совершает свой неспешный ритуал: чистит револьверы.
Стрелок убрал револьверы в кобуры.
— Сними рубашку, Джейк, и дай её мне.
Джейк с явной неохотой — может быть, он стеснялся своих выпирающих рёбер — стянул через голову вылинявшую рубашку и протянул её Роланду.
Стрелок достал иголку, которую всегда носил при себе в боковом шве джинсов, потом нитки — из пустой ячейки в патронташе — и принялся зашивать длинную прореху на рукаве рубашки. Потом он вернул рубаху Джейку и тут же почувствовал, что мескалин начинает действовать: желудок стянуло, а всё тело как будто свело судорогой.
— Мне пора, — сказал он, поднимаясь на ноги.
Мальчик тоже приподнялся; по его лицу прошла тень беспокойства, а потом он сел обратно.
— Вы там поосторожнее, — сказал он. — Пожалуйста.
— Не забывай про челюсть.
Проходя мимо, стрелок положил руку на голову Джейку и потрепал его по светлым, цвета созревающей кукурузы волосам. Испугавшись собственного порыва, стрелок коротко хохотнул. Джейк смотрел ему вслед с тревожной улыбкой — смотрел, пока стрелок не скрылся из виду в сплетении ив.
V
Стрелок направился к кругу камней, остановившись всего лишь раз, чтобы напиться прохладной воды из ручья. Склонившись к воде, он увидел своё отражение в крошечной заводи, обрамлённой мхом и плавучими листами кувшинок; на миг стрелок замер, зачарованно глядя на себя, как Нарцисс. Его сознание уже начало перестраиваться, течение мыслей замедлилось, преодолевая, казалось, возросшую многозначность каждого понятия, каждого импульса восприятия. Вещи вдруг обрели глубину и весомость, прежде сокрытые. Стрелок помедлил ещё мгновение, потом поднялся и вгляделся в сплетение ив. Сквозь ветви струился свет солнца — золотистый и будто сотканный из пылинок. Стрелок постоял пару секунд, наблюдая за пляской пылинок и крошечных мошек, а потом пошёл дальше.
Прежде это снадобье частенько его раздражало: его «эго», слишком сильное (а может, ещё и слишком примитивное), не получало удовольствия от того, что его затеняли, отодвигали на задний план, делая мишенью для более чутких, более проникновенных эмоций — они щекотали его, как кошачьи усы, и его это бесило. Но на этот раз ему было спокойно. И это было хорошо.
Он вышел на поляну, вступил в круг и встал там, позволив своим мыслям течь свободно. Да, теперь оно надвигалось быстрее, настойчивее и жёстче. Трава резала глаз своей зеленью; казалось, стоит только коснуться её рукой, и рука тоже окрасится в зелёный. Он еле сдержал шаловливое искушение — попробовать.
Но прорицательница молчала. Не было и сексуального возбуждения.
Он подошёл к алтарю и застыл на мгновение перед плоским камнем. Мысли путались. Зубы во рту ощущались как что-то лишнее, чужеродное — словно крошечные могильные камни в розовой влажной земле. Мир наполнился светом, слишком резким и ярким. Стрелок взобрался на алтарь и лёг на спину. Его сознание превратилось в дремучие дебри, мысли — в причудливые растения, которых он в жизни не видел и даже не подозревал, что такие бывают: густое сплетение ив на берегах мескалинового ручья. Небо стало водой, и он воспарил над ней. От одной этой мысли голова у него закружилась, но его это уже не тревожило.
Ему вдруг вспомнились строчки из одного старинного стихотворения, на этот раз — не детские стишки, «нет». Его мама боялась всех зелий и неизбежной потребности в них (как боялась она и Корта, и его обязанности бить мальчишек). Эти стихи дошли до них из одного из Убежищ мэнни к северу от пустыни, где люди всё ещё живут в окружении механизмов, которые в основном не работают… а те, что работают, иногда пожирают людей. Строки кружились в сознании, напоминая ему — безо всякой связи, как это всегда и бывает при мескалиновом наплыве — о снежинках внутри стеклянного шара, который был у него в детстве, такой таинственный, полусказочный шар:
Туда заказан людям вход. Там, за пределом чёрных вод, — Глубины ада…В деревьях, нависающих над алтарём, проступали лица. Как зачарованный, он отрешённо смотрел на них: вот дракон, извивающийся и зелёный, вот древесная нимфа с манящими руками-ветвями. Вот живой череп, расплывающийся в ухмылке. Лица. Лица.
Внезапно трава на поляне затрепетала, склонилась.
Я иду.
Я иду.
Смутное волнение в глубинах его плоти. «Не слишком ли далеко я зашёл?» — успел ещё подумать стрелок. От душистой травы на Спуске, где они лежали со Сюзан, — вот до такого.
Она прижалась к нему: тело, сотканное из ветра, грудь — из сплетения ароматов жасмина, жимолости и роз.
— Пророчествуй, — сказал он. Во рту появился противный металлический привкус. — Скажи всё, что мне надо знать.
Вздох. Тихий всхлип. Плоть стрелка напряглась, затвердела. Лица склонялись к нему из листвы, а за ними виднелись горы — суровые и безжалостные, с оскаленными зубами вершин.
Тело, прильнувшее к нему, вдруг заёрзало, пытаясь его побороть. Он почувствовал, как его руки сами сжимаются в кулаки. Она наслала ему видение. Пришла к нему в облике Сюзан. Это Сюзан Дельгадо лежала сейчас на нём. Сюзан, прелестная девушка у окна, которая ждала его в заброшенной хижине гуртовщика на Спуске — ждала, распустив волосы по спине и плечам. Он отвернулся. Но её лицо вновь оказалось у него перед глазами.
Розы, жимолость и жасмин, прошлогоднее сено… запах любви.
Люби меня.
— Предсказывай, — сказал он. — И говори правду.
— Пожалуйста, — плакала пророчица. — Почему ты такой холодный? Здесь всегда так холодно…
Руки скользили по телу стрелка, дразнили его, разжигали огонь. Тянули. Подталкивали. Увлекали. Ароматная чёрная щель. Влажная, тёплая…
Нет. Сухая. Холодная. Мёртвая и бесплодная.
— Сжалься, стрелок. О пожалуйста. Прошу тебя. Умоляю о милости! Сжалься!
— А ты бы сжалилась над мальчиком?
— Какой ещё мальчик?! Не знаю я никакого мальчика. Мальчики мне не нужны. Пожалуйста. Я прошу.
Жасмин, розы, жимолость. Прошлогоднее сено, где ещё теплится дух летнего клевера. Масло, пролитое из древних урн. Бунт плоти.
— Потом, — сказал он. — Если то, что ты скажешь, как-то мне пригодится.
— Сейчас. Пожалуйста. Сейчас.
Он позволил своему сознанию раскрыться перед ней, но только — сознанию, разуму, который есть полная противоположность чувствам. Тело, нависающее над ним, внезапно застыло и словно бы закричало. Его мозг превратился в канат, серый и волокнистый — и каждый как будто тянул этот канат на себя. На несколько долгих мгновений исчезли все звуки, кроме тихого дыхания стрелка и лёгкого дуновения ветра, от которого лица в листве дрожали, строили рожи, подмигивали ему. Даже птицы умолкли.
Её хватка ослабла. Снова раздались рыдания и вздохи. Нужно действовать быстро, иначе она уйдёт, ибо остаться теперь означает для неё ослабнуть, опять раствориться в бесплотности. По-своему, может быть, умереть. Он уже чувствовал, как она отступает, ускользает из круга камней. Ветер выводил на траве трепещущие, перекошенные узоры.
— Пророчествуй, — сказал он и сурово добавил: — И говори правду.
Тяжёлый, усталый вздох. Он бы уже сейчас сжалился над ней и выполнил её просьбу — если бы не Джейк. Если бы вчера ночью стрелок опоздал, Джейк был бы мёртв. Или сошёл бы с ума.
— Тогда спи.
— Нет.
— Тогда пребывай в полусне.
То, о чём она просила, — это было опасно. Но, наверное, необходимо. Стрелок поднял глаза к лицам в листве. Там шло представление: целое действо ему на забаву. Миры возникали и рушились у него на глазах. На слепящем песке вырастали империи — там, где вечные механизмы усердно трудились в припадке неистового электронного сумасшествия. Империи приходили в упадок и погибали. Вращение колёс, что трудились бесшумно и бесперебойно, потихоньку замедлялось. Колёса уже начинали скрипеть и визжать, а потом останавливались навсегда. Сточные канавы концентрических улиц, обшитых листами нержавеющей стали, заносило песком под темнеющими небесами, полными звёзд, что сверкали, как россыпи холодных камней-самоцветов. И сквозь всё это нёсся ветер — умирающий ветер перемен, пропитанный запахом корицы, запахом позднего октября. Стрелок наблюдал, как меняется мир, как мир сдвигается с места.
В полусне.
— Три. Вот число твоей судьбы.
— Три?
— Да. Три — мистическое число. Трое стоят в средоточии твоего поиска. Другое число будет позже. А сейчас их трое.
— Кто эти трое?
— «Мы провидим лишь малые части, и тем туманится зеркало предсказаний».
— Говори всё, что видишь.
— Первый молод, темноволос. Сейчас стоит он на грани грабежа и убийства. Демон его осаждает. Имя демону — ГЕРОИН.
— Что за демон? Я такого не знаю.
— «Мы провидим лишь малые части, и тем туманится зеркало предсказаний». Есть иные миры, стрелок, и иные демоны. Воды сии глубоки. Смотри внимательно. Не пропусти двери. Ищи розы и ненайденные двери.
— Кто второй?
— Вторая. Она передвигается на колёсах. Больше я ничего не вижу.
— А третий?
— Смерть… но не твоя.
— Человек в чёрном? Где он?
— Он рядом. Уже скоро ты будешь с ним говорить.
— О чём будем мы говорить?
— О Башне.
— Мальчик? Джейк?
— …
— Расскажи мне про мальчика!
— Мальчик — твои врата к человеку в чёрном. Человек в чёрном — твои врата к тем троим. Трое — твой путь к Тёмной Башне.
— Как? Как это будет? И почему именно так?
— «Мы провидим лишь малые части, и тем туманится зеркало…»
— Тварь, проклятая Богом.
— Нет бога, который способен меня проклясть.
— Оставь этот свой снисходительный тон. Ты, тварь.
— …
— Как мне тебя называть? Звёздная Шлюха? Потаскуха Ветров?
— Кто-то живёт любовью, что исходит из древних мест… даже теперь, в эти мрачные, злобные времена. А кто-то, стрелок, живёт кровью. И даже, как я понимаю, кровью маленьких мальчиков.
— Его можно спасти?
— Да.
— Как?
— Отступись, стрелок. Сворачивай свой лагерь и уходи обратно на северо-запад. Там, на северо-западе, ещё нужны люди, искусные в стрельбе.
— Я поклялся. Поклялся отцовскими револьверами и предательством Мартена.
— Мартена больше нет. Человек в чёрном пожрал его душу. И ты это знаешь.
— Я поклялся.
— Значит, ты проклят.
— Теперь делай со мной что хочешь. Ты, сука.
VI
Пылкое нетерпение.
Тень накрыла его, поглотила. Внезапный экстаз, уничтоженный только наплывом галактики боли, такой же яркой и обессиленной, как древние звёзды, багровеющие в коллапсе. На самом пике соития его обступили лица — непрошеные, незваные. Сильвия Питтстон. Элис, женщина из Талла. Сюзан. И ещё около дюжины других.
И, наконец, спустя целую вечность, он оттолкнул её, вновь обретя ясность сознания. Опустошённый и преисполненный отвращения.
— Нет! Этого мало! Это…
— Отвяжись от меня.
Стрелок резко рванулся, чтобы сесть, и едва не упал с алтаря. Осторожно встал на ноги. Она робко прикоснулась к нему (жасмин, жимолость, сладость розового масла), но он грубо её оттолкнул, упав на колени.
Потом он поднялся и, шатаясь как пьяный, направился к внешней границе круга. Переступил невидимую черту и буквально физически ощутил, как тяжкий груз разом свалился с плеч. Стрелок содрогнулся и с шумом, похожим на всхлип, втянул в себя воздух. У него было чувство, как будто его осквернили, — интересно, оно того стоило? Он не знал. Но уже очень скоро узнает. Он ушёл, не оглядываясь, но он чувствовал на себе её пристальный взгляд. Она стояла перед каменной решёткой своей темницы и смотрела, как он уходит. И сколько теперь ей ждать, пока ещё кто-нибудь не преодолеет пустыню и не найдёт её, изголодавшуюся и одинокую. Стрелок вдруг почувствовал себя ничтожным карликом — перед громадой времени, полного неисчислимых возможностей.
VII
— Вы что, заболели?
Джейк поспешно вскочил, когда стрелок, еле волоча ноги, продрался сквозь последние заросли и вышел к лагерю. Всё это время Джейк просидел, сгорбившись, перед потухшим костром, держа на коленях истлевшую челюсть, и с несчастным видом обгладывал косточки кролика. Теперь, увидев стрелка, он бросился ему навстречу с таким страдальческим выражением лица, что стрелок сразу же и в полной мере ощутил тяжкое, мерзкое бремя предательства, которое ему предстояло совершить.
— Нет. Не заболел. Просто устал. Весь вымотался. — Стрелок указал на челюсть в руках у Джейка. — А её уже можно выкинуть.
Джейк тут же отшвырнул кость и вытер руки о рубашку. Его верхняя губа безотчётно приподнялась в жутковатом оскале, но сам он этого не заметил.
Стрелок сел — вернее, чуть ли не рухнул — на землю. Суставы ломило от боли. Мозги как будто распухли. Мерзопакостное ощущение — мескалиновый «отходняк». Между ног угнездилась тупая, пульсирующая боль. Он свернул себе самокрутку — тщательно, неторопливо, бездумно. Джейк наблюдал за ним. Стрелок чуть было не поддался искушению рассказать пареньку обо всём, что узнал от оракула, а потом поговорить с ним дан-дин. Но быстро опомнился и с ужасом отказался от этой мысли. Он даже задался вопросом, а не утратил ли он сегодня какую-то часть себя — часть сознания или души. Открыть Джейку свой разум и сердце и поступить по решению ребёнка? Какая безумная мысль.
— Переночуем здесь, — сказал он чуть погодя. — А завтра пойдём. Я попозже схожу, попробую что-нибудь подстрелить нам на ужин. Нам надо набраться сил. А сейчас я немного посплю. Хорошо?
— Ну конечно. Вы вырубайтесь, я тут посторожу.
— Я не понял, что ты сказал.
— Спите, если хотите.
— Ага. — Стрелок кивнул и улёгся на траву. Вы вырубайтесь, повторил он про себя. Вырубайтесь — это как умирайте.
Когда он проснулся, тени на поляне стали заметно длиннее.
— Ты давай разожги костёр. — Стрелок протянул Джейку кремень и кресало. — Знаешь, как пользоваться?
— Да. По-моему, знаю.
Стрелок отправился к ивовой роще, но замер на полпути, услышав, что говорит мальчик. Застыл, как громом поражённый.
— Искра, искра в темноте, где мой сир, подскажешь мне? — бормотал мальчик, ударяя кремнём о кресало. Чик-чик-чик — словно чириканье заводной механической птицы. — Устою я? Пропаду я? Пусть костёр горит во мгле.
Наверное, от меня услышал, подумал стрелок и вовсе не удивился тому, что его руки покрылись гусиной кожей. Казалось, ещё немного — и он задрожит, как промокший пёс. Ну да, от меня. Наверное, я, когда разжигал костёр, проговорил это слух, и сам даже не помню. И мне придётся его предать?! Предать этого доброго человечка, в этом недобром мире? И есть ли что-то, что оправдает такое предательство?
Это просто слова.
Да, но хорошие. Древние. Добрые.
— Роланд? — окликнул его мальчик. — У вас всё в порядке?
— Да, — сказал он, может быть, как-то уж слишком резко. До него уже долетал запах дыма. — Ты давай разводи костёр.
— Ага, — просто ответил мальчик, и Роланд понял, даже не оглядываясь на парнишку, что тот улыбался.
Стрелок не стал углубляться в заросли, а повернул налево, огибая ивовую рощу по краю. Добравшись до открытого места — небольшого пригорка, густо заросшего травой, — он отступил в тень деревьев и замер. Издалека явственно доносилось потрескивание костра. Стрелок улыбнулся.
Он стоял неподвижно десять минут. Пятнадцать. Двадцать. На пригорок выскочили три кролика. Стрелок достал револьвер, подстрелил их и тут же на месте освежевал и выпотрошил. В лагерь он вернулся с готовыми тушками. Джейк уже кипятил воду в котелке над костром.
Стрелок кивнул мальчику.
— Ты, смотрю, потрудился на славу.
Джейк зарделся от гордости и молча вернул стрелку огниво.
Пока мясо тушилось, стрелок вернулся в ивовую рощу — гаснущий свет заходящего солнца ещё не померк окончательно. Остановившись у первой же заводи, он нарубил лозы, нависающей над зацветшей, покрытой ряской кромкой воды. Позднее, когда от костра останутся лишь тлеющие угольки и Джейк уснёт, он сплетёт из неё верёвки, которые могут потом пригодиться. Он, впрочем, не думал, что предстоящий подъём будет таким уж трудным. Он чувствовал, как его направляет ка, и это уже не казалось странным.
Когда он возвращался в лагерь, где ждал его Джейк, срезанная лоза у него в руках истекала, как кровью, зелёным соком.
Они поднялись вместе с солнцем и собрались за полчаса. Стрелок надеялся подстрелить ещё одного кролика на лугу, но времени было мало, а кролики что-то не торопились показываться. Узел с оставшейся у них провизией стал теперь таким лёгким и маленьким, что даже Джейк мог нести его без труда. Он закалился и окреп, этот мальчик; заметно окреп.
Стрелок нёс бурдюки с водой — свежей водой, набранной из ручья в роще. Три верёвки, сплетённые из лозы, он обвязал вокруг пояса. Им пришлось дать хороший крюк, чтобы обойти круг камней стороной (стрелок опасался, что паренька снова охватит страх, но когда они проходили над обиталищем оракула по каменистому склону, Джейк лишь мимоходом взглянул вниз и тут же принялся рассматривать птицу, парящую в вышине). Вскоре деревья начали потихоньку редеть и мельчать. Искривлённые стволы пригибались к земле, а корни, казалось, насмерть боролись с почвой в мучительных поисках влаги.
— Здесь всё такое старое, — хмуро сказал Джейк, когда они остановились передохнуть. — Неужели здесь, в этом мире, нет ничего молодого?
Стрелок улыбнулся и подтолкнул Джейка локтем.
— Ты, например.
Джейк улыбнулся, но как-то бледно.
— Трудный будет подъём?
Стрелок поглядел на него с любопытством.
— Это высокие горы. Как ты думаешь, трудный будет подъём?
Джейк озадаченно поглядел на стрелка.
— Нет.
Они двинулись дальше.
VIII
Солнце поднялось до высшей точки, на секунду зависло в небе и, не задержавшись ни на единый миг, как это было в пустыне, перевалило через зенит, возвращая путешественникам их тени. Каменистые выступы скал торчали из уходящей вверх тверди, как подлокотники врытых в землю гигантских кресел. Трава опять пожелтела и пожухла. В конце концов они оказались перед глубокой расщелиной с отвесными склонами, преграждавшей дорогу. Им пришлось обходить её поверху, по короткому лысому кряжу. Древний гранит был изрезан морщинистыми складками, похожими на ступени лестницы. Как они оба предчувствовали, подъём обещал быть нетрудным. По крайней мере на первом этапе. Они взобрались на вершину скалы, постояли немного на крутом откосе шириной фута четыре, глядя вниз, на пустыню, что подступала к горам, обнимая их, точно громадная жёлтая лапа. Дальше она уходила за горизонт ослепительным белым щитом, исчезая в туманных волнах поднимавшегося к небу жара. Стрелка вдруг поразила мысль, что эта пустыня едва его не убила. Однако отсюда, с вершины скалы, где было прохладно, пустыня казалась хотя и величественной, но вовсе не страшной — не смертоносной.
Немного передохнув, они продолжили восхождение, пробираясь через каменистые завалы, карабкаясь по наклонным плоскостям, усеянным сверкающими вкраплениями слюды и кварца. Камни были приятно тёплыми на ощупь, но воздух сделался заметно прохладнее. Ближе к вечеру стрелок расслышал, как где-то вдали, по ту сторону гор, гремит гром, но за вздымающейся громадой скал не было видно дождя.
Когда тени стали окрашиваться в пурпурные тона, они с Джейком разбили лагерь под нависающим каменным выступом. Стрелок закрепил попону сверху и снизу, соорудив нечто вроде навеса. Они уселись у входа в эту импровизированную палатку, наблюдая, как с неба на землю опускается полог ночи. Джейк свесил ноги над обрывом. Стрелок свернул свою вечернюю самокрутку и, хитровато прищурившись, поглядел на Джейка.
— Во сне не вертись, — сказал он, — иначе рискуешь проснуться в аду.
— Не буду, — без тени улыбки ответил Джейк. — Мама говорит… — Он запнулся.
— И что говорит твоя мама?
— Что я сплю как убитый, — закончил Джейк.
Он поглядел на стрелка, и тот заметил, что у мальчика дрожат губы, и он изо всех сил пытается сдержать слёзы. Всего лишь мальчишка, подумал стрелок, и боль пронзила его, будто нож для колки льда. Так, случается, ломит лоб, когда глотнёшь студёной воды. Всего лишь мальчишка. Почему? Глупый вопрос. Когда какой-нибудь мальчик, уязвлённый физически или душевно, задавал тот же самый вопрос Корту, эта древняя, изрытая шрамами боевая машина, чьей работой было учить сыновей стрелков основам того, что им нужно знать в жизни, отвечал так: «Почему — это корявое слово, и его уже нё распрямить… так что никогда не спрашивай почему, а просто вставай, недоумок! Вставай! Впереди ещё целый день!»
— Почему я здесь? — спросил Джейк. — Почему я забыл всё, что было до этого?
— Потому что сюда тебя перетащил человек в чёрном, — сказал стрелок. — И ещё из-за Башни. Башня стоит… на чём-то вроде… энергетического узла. Только во времени.
— Я не понимаю.
— Я тоже, — признался стрелок. — Но что-то такое произошло. И продолжается до сих пор. Прямо сейчас. «Мир сдвинулся с места»… как мы теперь говорим и всегда говорили. «Мир сдвинулся»… Только теперь он сдвигается быстрее. Что-то случилось со временем. Оно размягчается.
Потом они долго сидели молча. Ветерок — слабенький, но студёный — вертелся у них под ногами, глухо выл где-то в горной расщелине, внизу: у-у-у-у.
— А вы сами откуда? — спросил Джейк.
— Из места, которого больше нет. Ты знаешь Библию?
— Иисус и Моисей. А как же!
Стрелок улыбнулся:
— Точно. Моя земля носила библейское имя — Новый Ханаан. Так она называлась. Земля молока и мёда. В том библейском Ханаане виноградные гроздья были такими большими, что их приходилось возить на тележках. У нас таких, правда, не вырастало, но всё равно это была замечательная земля.
— Я ещё знаю про Одиссея, — неуверенно вымолвил Джейк. — Он тоже из Библии?
— Может быть, — отозвался стрелок. — Я не особенно хорошо знаю Библию.
— А другие… ваши друзья…
— Других нет. Я — последний.
В небе уже поднимался тоненький серп убывающей луны. Луна как будто глядела, прищурившись, вниз на скалы, где сидели стрелок и мальчик.
— Там было красиво… в вашей стране?
— Очень красиво, — рассеянно отозвался стрелок. — Поля, леса, реки, утренний туман. Но матушка, помню, всегда говорила, что это только красиво, но всё-таки не прекрасно… что только три вещи на свете прекрасны по-настоящему: порядок, любовь и свет.
Джейк издал какой-то неопределённый звук.
Стрелок молча курил, вспоминая о том, как всё это было: ночи в громадном Большом Зале, сотни богато одетых фигур, кружащихся в медленном, степенном вальсе или в быстрой, лёгкой, переливчатой польке. Эйлин Риттер берёт его под руку. Эту девушку, как он подозревал, выбрали для него родители. Её глаза — ярче самых дорогих самоцветов. Сияние, льющееся из хрустальных плафонов электрических люстр, высвечивает замысловатые причёски придворных и их циничные любовные интрижки. Зал был огромен: безбрежный остров света, древний, как и сама Центральная крепость, образованная ещё в незапамятные времена и состоящая чуть ли не из полной сотни каменных замков. Роланд уже перестал считать, сколько лет минуло с тех пор, как он в последний раз видел Центральную крепость, и, покидая родные места, с болью оторвал взгляд от её каменных замков и ушёл, не оглядываясь, в погоню за человеком в чёрном. Уже тогда многие стены обрушились, дворы заросли сорняками, под потолком в главном зале угнездились летучие мыши, а по галереям носилось эхо от шелеста крыльев ласточек. Поля, где Корт обучал их стрельбе из лука и револьверов, соколиной охоте и прочим премудростям, заросли тимофеевкой и диким плющом. В громадной и гулкой кухне, где когда-то хозяйничал Хакс, поселилась колония недоумков-мутантов. Они пялились на него из милосердного сумрака кладовых или скрывались в тени колонн. Тёплый пар, пропитанный пряными ароматами жарящейся говядины и свинины, сменился липкой сыростью мха, а в самых тёмных углах, куда не решались соваться даже недоумки-мутанты, выросли громадные бледные поганки. Массивная дубовая дверь в подвал стояла открытая нараспашку, и снизу сочилась невыносимая вонь. Запах был словно символ — конечный и непреложный — всеобщего разложения и разрухи: едкий запах вина, превратившегося в уксус. Так что стрелку ничего не стоило отвернуться и уйти прочь, на юг. Он ушёл без сожалений — но сердце всё-таки дрогнуло.
— А что, была война? — спросил Джейк.
— Ещё похлеще. — Стрелок отшвырнул окурок. — Была революция. Мы выиграли все сражения, но проиграли войну. Никто не выиграл в той войне, разве что только стервятники. Им, наверное, осталась пожива на многие годы вперёд.
— Я бы хотел там жить, — мечтательно протянул Джейк.
— Правда?
— Ага.
— Ладно, Джейк, пора спать.
Мальчик — теперь только смутная тень во мраке — лёг на бок и свернулся калачиком под пологом из попоны. Но сам стрелок лёг не сразу. Он сидел ещё около часа, погружённый в свои долгие, тяжкие думы. Эта внутренняя сосредоточенность, углублённость в собственные мысли была для него чем-то новым, ещё не изведанным и даже приятным в своей тихой грусти, но всё-таки не имела никакого практического значения: проблему Джейка всё равно нельзя разрешить иначе, чем предсказал оракул, а отказаться от поиска и повернуть назад — это попросту невозможно. Положение было трагическое, но стрелок этого не разглядел; он видел только предопределение, которое было всегда. Он думал, думал и думал… но, в конце концов, его подлинное естество всё-таки возобладало, и он уснул. Крепко, без сновидений.
IX
На следующий день, когда они продолжили свой путь в обход, под углом к узкому клину ущелья, подъём стал круче. Стрелок не спешил: пока ещё не было необходимости торопиться. Мёртвые камни у них под ногами не хранили следов человека в чёрном, но стрелок твёрдо знал, что он прошёл той же дорогой. И даже не потому, что они с Джейком видели снизу, как он поднимался — крошечный, похожий на таком расстоянии на букашку. Его запах отпечатался в каждом дуновении холодного воздуха, что струился с гор, — маслянистый, пропитанный злобой запах, такой же горький и едкий, как бес-трава.
Волосы у Джейка отросли и вились теперь на затылке, почти закрывая дочерна загорелую шею. Он поднимался упорно, ступая твёрдо и уверенно, и не выказывал никаких явных признаков боязни высоты, когда они проходили над пропастями или карабкались вверх по отвесным скалам. Дважды ему удавалось взобраться в таких местах, какие стрелку было бы не одолеть в одиночку. Джейк закреплял на камнях верёвку, и стрелок поднимался по ней, подтягиваясь на руках.
На следующее утро они поднялись ещё выше, сквозь холодные и сырые рваные облака, что закрывали оставшиеся внизу склоны. В самых глубоких впадинах между камнями уже начали попадаться белые бляхи затвердевшего, зернистого снега. Он сверкал, точно кварц, и был сухим, как песок. В тот день, ближе к вечеру, они набрели на единственный след — отпечаток ноги на одном из этих пятен снега. Потрясённый, Джейк застыл на мгновение, заворожённо глядя на чёткий след, потом вдруг испуганно поднял глаза, словно опасаясь, что человек в чёрном может материализоваться из своего одинокого следа. Стрелок потрепал мальчика по плечу и указал вперёд:
— Пойдём. День уже на исходе.
В последних лучах заходящего солнца они разбили лагерь на широком плоском каменном выступе к северо-востоку от разлома, уходящего в самое сердце гор. Заметно похолодало. Дыхание вырывалось изо рта облачками пара, и в пурпурных отблесках гаснущего дня мокрый кашель грома казался каким-то нездешним и даже безумным.
Стрелок ждал, что мальчик начнёт задавать вопросы, но тот ничего не спросил. Джейк почти сразу уснул. Стрелок последовал его примеру. Ему снова приснился Джейк — в образе гипсового святого, со лбом, пронзённым гвоздём. Он проснулся, судорожно хватая ртом разрежённый горный воздух. Джейк спал рядом с ним, но спал беспокойно: он ворочался и бормотал неразборчивые слова, отгоняя, наверное, своих собственных призраков. Исполненный тревожных предчувствий, стрелок перевернулся на другой бок и снова уснул.
X
Ровно через неделю после того, как Джейк увидел след на снегу, они на мгновение столкнулись лицом к лицу с человеком в чёрном. В это мгновение стрелку показалось, что сейчас он поймёт сокровенный смысл самой Башни — потому, что это мгновение растянулось на целую вечность.
Они продолжали держаться юго-восточного направления: прошли, наверное, уже полпути по исполинскому горному хребту, и вот когда в первый раз за всё время их перехода подъём грозил сделаться по-настоящему трудным (прямо над ними нависли обледенелые выступы скал, изрезанные гулкими трещинами; при одном только взгляде на это у стрелка начиналось неприятное головокружение), они набрели на удобный спуск вдоль стенки узкого ущелья. Извивающаяся тропинка спустилась на дно каньона, где в своей первозданной, неукротимой мощи бурлил горный поток, стекающий с необозримых вершин.
В этот день, ближе к вечеру, мальчик вдруг остановился и посмотрел на стрелка, который задержался, чтобы ополоснуть лицо студёной водой.
— Я чувствую, он где-то рядом, — сказал Джейк.
— Я тоже, — отозвался стрелок.
Как раз перед ними высилось непреодолимое с виду нагромождение гранитных глыб, уходящее в заоблачную бесконечность. Стрелок опасался, что в любую минуту очередной поворот горной речки выведет их к водопаду или к отвесной гладкой стене гранита — в тупик. Но здешний воздух обладал странным увеличительным свойством, присущим любому высокогорью, и прошёл ещё день, прежде чем они с мальчиком добрались до гигантской гранитной преграды.
И стрелка вновь охватило знакомое ощущение, что всё то, к чему он так долго стремился, наконец у него в руках. Он еле сдержал себя, чтобы не пуститься бегом.
— Погодите! — Мальчик внезапно остановился. Они замерли у крутого изгиба речки. Поток пенился и клокотал, обтекая размытый выступ громадной глыбы песчаника. Каньон постепенно сужался. Всё утро они со стрелком шли в тени гор.
Джейк весь дрожал. А лицо у него было белым как мел.
— В чём дело?
— Пойдёмте обратно, — прошептал Джейк. — Пойдёмте обратно. Быстрее.
Лицо стрелка словно окаменело.
— Пожалуйста! — Лицо у парнишки осунулось. Он с такой силой стиснул зубы, подавляя крик боли, что его нижняя челюсть дёргалась от напряжения. Сквозь плотный занавес гор до них по-прежнему доносились раскаты грома, размеренные и монотонные, точно гул механизмов, скрытых глубоко под землёй. Со дна сузившегося ущелья им открывалась тоненькая полоска неба, тоже вобравшего в себя этот серый готический сумрак, зыбкий, бурлящий в противоборстве холодных и тёплых воздушных потоков.
— Пожалуйста, пожалуйста!
Мальчик поднял кулак, как будто хотел ударить стрелка.
— Нет.
Мальчик удивлённо взглянул на него.
— Вы убьёте меня! Он убил меня в первый раз, а теперь вы убьёте. И мне кажется, вы это знаете.
Стрелок почувствовал у себя на губах горький вкус лжи и всё-таки произнёс её:
— Всё с тобой будет в порядке.
И ещё большую ложь:
— Я же буду тебя защищать.
Лицо у Джейка вдруг стало серым, и больше он ничего не сказал. Нехотя он протянул стрелку руку. Вот так, держась за руки, они обогнули изгиб горной речки и вышли к последней отвесной стене гранита и столкнулись лицом к лицу с человеком в чёрном.
Он стоял не более чем в двадцати футах над ними, справа от водопада, который с грохотом низвергался из громадной, с зазубренными краями дыры в скале. Невидимый ветер трепал полы его чёрного балахона. В одной руке он держал посох, вторую поднял в шутливом приветственном жесте. Застывший на каменном выступе под этим колышущимся хмурым небом, он был похож на пророка — пророка погибели, а его голос звучал, словно глас Иеремии:
— Стрелок! Ты, я смотрю, в точности исполняешь древние предсказания! День добрый, день добрый, день добрый! — Он рассмеялся и поклонился со смехом, и смех прокатился по скалам гремящим эхом, перекрыв даже рёв водопада.
Не раздумывая, стрелок вытащил револьверы. У него за спиной, чуть справа, съёжился мальчик — испуганной маленькой тенью.
Только после третьего выстрела Роланду удалось овладеть своими предательскими руками. Эхо выстрелов отскочило бронзовым рикошетом от скал, что громоздились вокруг, заглушив свист ветра и рёв воды.
Осколки гранита брызнули над головой человека в чёрном; вторая пуля ударила слева от его чёрного капюшона, третья — справа. Стрелок промахнулся трижды.
Человек в чёрном рассмеялся. Громким искренним смехом, который как будто бросал дерзкий вызов замирающим отзвукам выстрелов.
— Ты ищешь ответы, стрелок? Думаешь, их найти так же просто, как выпустить пулю?
— Спускайся, — сказал стрелок. — Сделай, как я говорю, и ответы будут.
И снова смех — глумливый, раскатистый.
— Я боюсь не твоих пуль, Роланд. Меня пугает твоя одержимость найти ответы.
— Спускайся.
— На той стороне, стрелок. На той стороне мы с тобой поговорим. Долго поговорим, обстоятельно.
Взглянув на Джейка, человек в чёрном добавил:
— Только мы. Вдвоём.
Джейк отшатнулся, издав короткий жалобный вскрик. Человек в чёрном резко отвернулся — его плащ взметнулся в сером свете, точно крылья летучей мыши, — и скрылся в расщелине в скале, откуда могучей струёй низвергалась вода. Стрелок проявил непреклонную волю и не стал стрелять ему вслед. Ты ищешь ответы, стрелок? Думаешь, их найти так же просто, как выпустить пулю?
Слышались только свист ветра и рёв воды — звуки, которые разносились по этим скорбным и одиноким скалам уже тысячу лет. И всё-таки человек в чёрном был рядом. Прошло целых двенадцать лет, и Роланд наконец снова увидел его вблизи. И они даже поговорили. И человек в чёрном над ним посмеялся.
На той стороне мы с тобой поговорим. Долго поговорим, обстоятельно.
Мальчик смотрел на него, мальчика била дрожь. На мгновение стрелку привиделось, что на месте лица парнишки вдруг проступило лицо Элли, той женщины из Талла со шрамом на лбу, и шрам был словно безмолвное обвинение. Его вдруг охватила дикая ненависть к ним обоим (и только потом, много позже, его осенило, что шрам у Элли на лбу располагался точно в том месте, где и гвоздь, пронзавший лоб Джейка в его кошмарах). Джейк как будто прочёл его мысли или, может быть, уловил только общее настроение стрелка, и с его губ сорвался тяжёлый стон. Сорвался и тут же замер. Мальчуган закусил губу. У него было всё для того, чтобы стать настоящим мужчиной, может быть, даже стрелком — по праву. Если бы только ему дали вырасти.
Только мы. Вдвоём.
Стрелок вдруг почувствовал жгучую тоску, великую и нечестивую жажду, угнездившуюся в неизведанных безднах тела, жажду, которую не утолишь никакой водой, никаким вином. Миры содрогались чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, и стрелок пытался бороться с этой внутренней порчей, понимая холодным умом, что все эти попытки — напрасны, и всегда будут напрасны. В конце всегда остаётся одно лишь ка.
Был полдень. Стрелок запрокинул голову, чтобы хмурый неверный свет дня упал ему на лицо, в последний раз озаряя своим сиянием уязвимое солнце его добродетели. «Серебром за предательство не расплатиться, — подумал он. — Цена любого предательства — это всегда чья-то жизнь».
— Можешь пойти со мной или остаться, — сказал стрелок.
Мальчик ответил невесёлой и жёсткой усмешкой — точно такой же, как у его отца, хотя сам он об этом не знал.
— А если я здесь останусь, один, в горах, — сказал он, — со мной всё будет в порядке. Меня обязательно кто-то спасёт. Принесёт пирожки и сандвичи. И ещё кофе в термосе. Да?
— Можешь пойти со мной или остаться, — повторил стрелок, и что-то сдвинулось у него в голове. Это был миг разрыва. В этот миг маленький человечек, стоявший сейчас перед ним, перестал быть Джейком и стал просто мальчиком — безликой пешкой, которую можно передвигать и использовать.
В обдуваемом ветром безмолвии раздался чей-то пронзительный крик. Они оба слышали это, стрелок и мальчик.
Стрелок первым пошёл вперёд. Через секунду Джейк двинулся следом. Они вместе поднялись на обвалившуюся скалу рядом с холодной бездушной струёй водопада, постояли на каменном выступе, где стоял человек в чёрном, и вместе вошли в пролом, где он скрылся. Их поглотила тьма.
Глава 4 Недоумки-мутанты
I
Стрелок рассказывал медленно, в сбивчивом и неровном ритме, как это бывает, когда человек разговаривает во сне:
— Нас было трое: Катберт, Алан и я. Вообще-то нам не полагалось там находиться, в ту ночь. Ведь мы ещё, как говорится, не вышли из детского возраста. Если бы нас там поймали, Корт выпорол бы нас от души. Но нас не поймали. Я так думаю, что и до нас никто не попадался. Ну, как иной раз мальчишки тайком примеряют отцовские штаны: повертятся в них перед зеркалом и повесят обратно в шкаф. Вот так же и здесь. Отец делает вид, будто не замечает, что его штаны висят не на том месте, а под носом у сына — следы от усов, намалёванных ваксой. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Мальчик молчал. Он не промолвил ни слова с тех пор, как они углубились в расщелину, оставив солнечный свет снаружи. Стрелок же, наоборот, говорил не умолкая — горячо, возбуждённо, — чтобы заполнить безмолвную пустоту. Войдя в тёмные недра гор, он ни разу не оглянулся на свет. А вот мальчик оглядывался постоянно. Стрелок видел, как угасает день — видел его отражение на щеках у парнишки, как в мягком зеркале: вот свет нежно-розовый, вот — молочно-матовый, вот — как бледное серебро, вот — как последние отблески вечерних сумерек, а вот — его больше нет. Стрелок зажёг факел, и они двинулись дальше.
Наконец они остановились. Разбили лагерь в глухой тишине, где не было слышно даже эха шагов человека в чёрном. Может, он тоже остановился передохнуть. Или, может быть, так и нёсся вперёд — без огня — по чертогам, залитым вечной ночью.
— Это происходило один раз в году, на Первый Сев, — продолжал стрелок. — Котильон на Ночь Первого Сева — или Каммала, как называли его старики, от слова, которое означает «рис». Большой бал в Большом Зале. Его правильное название — Зал Предков. Но для нас это был просто Большой Зал.
До них доносился звук капающей воды.
— Придворный ритуал, как и любой из весенних балов. — Стрелок неодобрительно хохотнул, и бездушные камни отозвались гулким эхом, превращая звук смеха в безумный гогот. — В стародавние времена, как написано в книгах, так праздновали приход весны. Его ещё иногда называли Новой Землёй, или Свежей Каммалой. Но, знаешь ли, цивилизация…
Он умолк, не зная, как описать суть изменений, стоящих за этим бездушным и мёртвым словом: гибель романтики и её выхолощенное плотское подобие, мир, существующий только на искусственном дыхании блеска и церемониала; геометрически выверенные па придворных, выступающих в танце на балу на Ночь Первого Сева — в степенном танце, заменившем собой безумную пляску любви, дух которой теперь только смутно угадывался в этих чопорных фигурах. Пустое великолепие вместо безыскусной и буйной, всепоглощающей страсти, что потрясала когда-то людские души. Ему самому довелось испытать это сладостное потрясение. С Сюзан Дельгадо, в Меджисе. Он обрёл свою истинную любовь — и тут же её потерял. Давным-давно, в незапамятные времена, жил на свете великий король, вот что он мог бы сказать мальчику. Великий Эльд, чья кровь — пусть и порядком разжижённая — течёт в моих жилах. Но королей давно нет, малыш. Во всяком случае, в мире света.
— Они сотворили из этого что-то упадочное, нездоровое, — продолжал стрелок. — Представление. Игру. — В его голосе явственно прозвучало безотчётное отвращение затворника и аскета. И если бы у них было больше света, было бы видно, как он изменился в лице. Его лицо сделалось горестным и суровым, хотя основа его естества не ослабла с годами. Хронический недостаток воображения, который по-прежнему выдавало это лицо, по своей исключительности не смог бы сравниться ни с чем.
— Но этот бал, — выдохнул он. — Этот бал…
Мальчик молчал.
— Там были люстры. Из прозрачного хрусталя. Масса стекла, пронизанного искровым светом. Казалось, весь зал состоит из света. Он был точно остров света.
Мы прокрались на один из старых балконов. Из тех, которые считались небезопасными и куда запрещалось ходить. Но мы были ещё мальчишками. А мальчишки — это всегда мальчишки. Для нас всё таило в себе опасность, ну так и что с того?! Ведь мы будем жить вечно. В этом мы не сомневались — даже когда говорили о том, что мы все умрём как герои. Потому что иначе — никак.
Мы взобрались на самый верх, откуда нам было всё видно. Я даже не помню, чтобы кто-то из нас произнёс хоть слово. Мы просто смотрели — часами.
Там стоял большой каменный стол, за которым сидели стрелки со своими женщинами, наблюдая за танцами. Кое-кто из стрелков танцевал, но таких было немного — и только самые молодые. Помню, среди танцоров был и тот молодой стрелок, который казнил Хакса. А старшие просто сидели, и мне казалось, что среди всего этого яркого света, среди этого цивилизованного света, они себя чувствуют неуютно. Их глубоко уважали, их даже боялись. Они были стражами и хранителями. Но в этой толпе вельмож и их утончённых дам они выглядели точно конюхи…
Там было ещё четыре круглых стола, уставленных яствами. Столы беспрерывно вращались. Поварята сновали туда-сюда, с семи вечера до трёх ночи. Столы вращались, как стрелки часов, и даже до нас доходили запахи: жареной свинины, говядины и омаров, цыплят и печёных яблок. Там были мороженое и конфеты. И громадные, пышущие жаром вертела с мясом.
Мартен сидел рядом с моими родителями. Я их узнал даже с такой высоты. Один раз они танцевали. Мама с Мартеном. Медленно так кружились. И все расступились, чтобы освободить им место, а когда танец закончился, им рукоплескали. Стрелки, правда, не хлопали, но отец неторопливо поднялся из-за стола и протянул маме руку. А она подошла к нему, улыбаясь, и взяла за руку.
Да, это было торжественное мгновение. Даже мы, наверху, это почувствовали. К тому времени мой отец уже собрал свой ка-тет — Тет Револьвера — и его должны были вскорости объявить Дином — Старшим Гилеада, если не всех внутренних феодов. И все это знали. И Мартен знал лучше всех… кроме, может быть, Габриэль Веррисс.
Мальчик спросил, причём было видно, что ему вообще не хотелось ничего спрашивать:
— Это кто? Ваша мама?
— Да. Габриэль-из-Великих-Вод, дочь Алана, жена Стивена, мать Роланда. — Стрелок усмехнулся, развёл руками, как бы говоря: «Вот он я, ну и что с того?» — и вновь уронил их на колени.
— Мой отец был последним из правителей света.
Стрелок опустил глаза и уставился на свои руки. Мальчик молчал.
— Я помню, как они танцевали, — тихо проговорил стрелок. — Моя мать и Мартен, советник стрелков. Я помню, как они танцевали — то подступая близко-близко друг к другу, то расходясь в старинном придворном танце.
Он поглядел на мальчика и улыбнулся.
— Но это ещё ничего не значило, понимаешь? Потому что власть переменилась, и как она переменилась, никто не понял, но все это почувствовали. И мать моя принадлежала всецело тому, кто обладал этой властью и мог ею распоряжаться. Разве нет? Ведь она подошла к нему, когда танец закончился, правильно? И взяла его за руку. И все им аплодировали: весь этот зал, все эти женоподобные мальчики и их нежные дамы… ведь они ему рукоплескали? И восхваляли его? Разве не так?
Где-то там, в темноте, капли воды стучали о камень. Мальчик молчал.
— Я помню, как они танцевали, — тихо повторил стрелок. — Я помню…
Он поднял глаза к неразличимому во тьме каменному своду. Казалось, он готов закричать, разразиться проклятиями, бросить слепой и отчаянный вызов этой тупой и бесчувственной массе гранита, который упрятал их хрупкие жизни в свою каменную утробу.
— В чьей руке был нож, оборвавший жизнь моего отца?
— Я устал, — тоскливо проговорил мальчик.
Стрелок замолчал, и мальчик улёгся на каменный пол, подложив ладошку между щекой и голым камнем. Пламя факела сделалось тусклым. Стрелок свернул себе папироску. В зале его воспалённой памяти всё ещё сиял тот хрустальный свет, ещё гремели ободряющие возгласы во время обряда посвящения, бессмысленного в оскудевшей стране, уже тогда безнадёжно противостоящей серому океану времени. Воспоминания об острове света терзали его и теперь — горько, безжалостно. Стрелок отдал бы многое, чтобы повернуть время вспять и никогда не увидеть ни этого света, ни того, как отцу наставляют рога.
Он выпустил дым изо рта и ноздрей и подумал, глядя на мальчика: «Сколько нам ещё кружить под землёй? Вот мы кружимся, кружимся, и неизменно приходим в исходную точку, и надо опять начинать всё сначала. Вечное возобновление — вот проклятие света.
Когда мы снова увидим свет солнца?»
Он уснул.
Когда его дыхание стало глубоким и ровным, мальчик открыл глаза и поглядел на стрелка с выражением, очень похожим на любовь. Но на больную любовь. Последний отблеск догоревшего факела отразился в его зрачке и утонул там, в черноте. Мальчик тоже уснул.
II
В неизменной, лишённой примет пустыне стрелок почти что утратил всякое ощущение времени, а здесь, в этих каменных залах под горным массивом, где царила кромешная тьма, он утратил его окончательно. Ни у стрелка, ни у парнишки не было никаких приборов, измеряющих время, и само понятие о часах и минутах давно стало для них бессмысленным. Можно сказать, они пребывали теперь вне времени. День мог оказаться неделей, а неделя — одним днём. Они шли, они спали, они что-то ели, но никогда — досыта. Их единственным спутником был непрестанный грохот воды, пробивающей себе дорогу сквозь камень. Они двигались вдоль неглубокой речки, пили воду, насыщенную минеральными солями, очень надеясь, что они не отравятся и не умрут. Временами стрелку представлялось, что на дне потока он видит блуждающие огоньки, но он каждый раз убеждал себя, что это всего лишь образы, спроецированные вовне его мозгом, который ещё не забыл, что такое свет. Но он всё-таки предупредил мальчугана, чтобы тот не заходил в воду.
Внутренний дальномер у него в голове уверенно вёл их вперёд.
Тропинка вдоль речки (а это действительно была тропинка: гладкая, слегка вогнутая) неуклонно вела наверх — к истокам реки. Через равные промежутки на ней возвышались круглые каменные колонны с железными кольцами у оснований. Должно быть, когда-то к ним привязывали волов или рабочих лошадей. На каждом столбе сверху крепилось что-то вроде стального патрона-держателя для электрических факелов, но в них давно уже не было жизни и света.
Во время третьей остановки для «отдыха перед сном» мальчик решился немного пройтись вперёд. Стрелок различал, как в глухой тишине шуршат мелкие камушки — под его неуверенными шагами.
— Ты там осторожнее, — сказал он. — Ни черта же не видно.
— Я потихоньку. Здесь… ничего себе!
— Что там?
Стрелок привстал, положив руку на рукоять револьвера.
Повисла короткая пауза. Стрелок тщетно напрягал глаза, пытаясь вглядеться в кромешную тьму.
— По-моему, это железная дорога, — с сомнением протянул мальчик.
Стрелок поднялся и осторожно двинулся на голос Джейка, ощупывая ногой землю перед собой, прежде чем сделать шаг.
— Я здесь.
Рука, невидимая в темноте, прикоснулась к лицу стрелка. Мальчик хорошо ориентировался в темноте, даже лучше, чем сам стрелок. Его зрачки расширились так, что от радужной оболочки почти совсем ничего не осталось; стрелок это увидел, когда зажёг худосочный факел, вернее, жалкое его подобие. В этой каменной утробе не было ничего, что могло бы гореть, а те запасы, которые были у них с собой, быстро таяли. А временами желание зажечь огонь становилось просто неодолимым. Так стрелок и узнал, что голод бывает не только к еде, но и к свету.
Мальчик стоял у изогнутой каменной стены, по которой тянулись, теряясь во тьме, параллельные металлические полоски; на них держались какие-то чёрные провода, по которым когда-то текло электричество. А по земле, поднимаясь на несколько дюймов над каменным полом, шла металлическая колея. Что ходило по ней в стародавние времена? Стрелку представлялись только зловещие электрические снаряды, что летели сквозь эту вечную ночь, пронзённую устрашающими, рыщущими глазами прожекторов. Он ни о чём таком в жизни не слышал. Но в мире ещё существуют обломки прошлого, как существуют и демоны тоже. Когда-то он знал одного отшельника, возымевшего едва ли не религиозную власть над жалкой кучкой скотоводов лишь потому, что безраздельно владел древней бензоколонкой. Отшельник садился на землю, хозяйским жестом приобнимал колонку одной рукой и выкрикивал свои дикие, грязные и зловещие проповеди. Время от времени он просовывал всё ещё блестящий стальной наконечник, прикреплённый к прогнившему резиновому шлангу, себе между ног. На колонке — вполне отчётливо, пусть даже и тронутыми ржавчиной буквами — было написано что-то совсем уже непонятное: АМОКО. Без свинца. Амоко превратился в их тотем, в символ бога Грома, и они поклонялись ему и приносили ему в жертву овец и рёв моторов: Ррррррррр! Ррррр! Рррр-ррррррр!
«Как обломки погибших кораблей, — подумал стрелок. — Всего лишь бессмысленные обломки в песке, который когда-то был морем».
В том числе и эта железная дорога.
— По ней и пойдём, — сказал он.
Мальчик опять промолчал.
Стрелок загасил факел, и они легли спать.
Когда Роланд проснулся, оказалось, что мальчик уже не спит. Он сидел на железном рельсе и смотрел на стрелка, пусть даже ему было совсем ничего не видно — в кромешной тьме.
Они зашагали вдоль рельсов, точно пара слепых: стрелок — впереди, мальчик — следом. Они шли, пробираясь на ощупь, стараясь, в точности как слепые, всё время касаться рельса одной ногой. И вновь их единственным спутником был рёв бегущей по правую руку реки. Они шли молча, и так продолжалось три периода бодрствования подряд. Стрелку не хотелось даже связно мыслить, не говоря уж о том, чтобы обдумывать планы дальнейших действий. И спал он без сновидений.
А во время четвёртого периода они в прямом смысле слова наткнулись на брошенную дрезину.
Стрелок ударился об неё грудью, мальчик — он шёл по другой стороне — прямо лбом. Он упал, тихо вскрикнув.
Стрелок немедленно зажёг факел.
— Ты как там, нормально?
Слова прозвучали резко, едва ли не раздражённо. Даже сам он невольно поморщился.
— Да.
Мальчик осторожно потрогал голову, потом тряхнул ею, как будто затем, чтобы самому убедиться, что с ним действительно всё в порядке. Они обернулись, чтобы посмотреть, во что они врезались.
Оказалось, что это какая-то плоская металлическая платформа, безмолвно стоящая на рельсах. В центре из пола платформы торчал рычаг. Стрелок не знал, что это за штуковина, но мальчик узнал её сразу:
— Это дрезина.
— Что?
— Дрезина, — нетерпеливо повторил мальчик. — Как в старых мультяшках. Смотрите.
Парнишка взобрался на платформу и подошёл к рычагу. Ему удалось опустить рычаг вниз, но для этого ему пришлось навалиться на него всем своим весом. Дрезина продвинулась чуть вперёд по рельсам — бесшумно, точно фантом вне времени.
— Хорошо, — сказал тусклый механический голос. Оба, стрелок и мальчик, даже подпрыгнули от неожиданности. — Хорошо, давай ещё ра… — Механический голос умер.
— Работает, только тяжеловато идёт, — сказал парнишка, словно извиняясь.
Стрелок тоже взобрался на платформу и нажал на рычаг. Дрезина послушно двинулась вперёд, немного проехала и остановилась.
— Хорошо, давай ещё раз, — проговорил механический голос.
Стрелок почувствовал, как у него под ногами провернулся ведущий вал. Ему понравилось действие этого устройства. И понравился механический голос (хотя стрелок уже постановил про себя, что будет слушать его не дольше, чем это необходимо). Это был первый попавшийся ему за многие годы древний механизм, не считая того насоса на дорожной станции, который работал исправно. Ему это понравилось, но и встревожило тоже. Дрезина гораздо быстрее доставит их по назначению. И стрелок даже не сомневался, что человек в чёрном подстроил и это тоже: чтобы они нашли эту машину.
— Правда, здорово? — Голос парнишки был преисполнен искреннего отвращения. А потом была только непробиваемая тишина. Стрелок слышал только биение своего сердца и гулкие отзвуки капель — и всё.
— Вы стойте на той стороне, я — на этой, — сказал Джейк. — Вам придётся толкать её одному, пока она как следует не разгонится. А потом я вам помогу. Вы надавите, я надавлю. Так и поедем. Понятно?
— Понятно.
Стрелок сжал кулаки в беспомощном жесте отчаяния.
— Но сперва вам придётся толкать её одному, пока она не разгонится, — повторил мальчик, глядя прямо на стрелка.
А перед мысленным взором стрелка неожиданно встала живая картина: Большой Зал через год после весеннего бала. Теперь Зал Предков лежал в руинах, разорённый восстанием, гражданской войной и вторжением. Следом нахлынули воспоминания об Элли, той, со шрамом, из Талла — как она упала, сражённая пулями из его револьверов. Он убил её безо всякой причины… если рефлексы нельзя посчитать за причину. Потом ему вспомнился Катберт Оллгуд. Как он смеялся, сбегая с холма — навстречу собственной смерти, так и трубя в этот проклятый рог… Роланд как будто воочию увидел его лицо — и лицо Сюзан, искажённое плачем. Все мои старые друзья, подумал стрелок и улыбнулся зловещей и страшной улыбкой.
— Значит, буду толкать, — сказал он.
И взялся за дело. И когда механический голос включился снова («Хорошо, давай ещё раз! Хорошо, давай ещё раз!»), Роланд принялся шарить рукой по железному столбику, на котором крепился рычаг. Наконец он нашёл, что искал. Там была кнопка, на которую он и нажал.
— Пока, дружище! До скорой встречи! — бодро проговорил механический голос, после чего наступила благословенная тишина.
III
Они катились сквозь непроглядную тьму, теперь гораздо быстрее, поскольку им больше не надо было вслепую нащупывать путь. Механический голос включался ещё два раза: в первый раз, чтобы предложить им чипсов «Crisp-A-La», и ещё раз — чтобы сообщить, что после напряжённого трудового дня нет ничего лучше, чем пачка печенья «Larchies». Выдав этот бесценный совет, голос умолк насовсем.
Постепенно дрезина — неповоротливая поначалу, после стольких лет вынужденного бездействия — раскочегарилась и пошла гладко. Мальчик честно пытался помочь, и стрелок иной раз уступал, но большей частью трудился один, размашистыми движениями качая рычаг вверх-вниз. Подземная река оставалась их верным попутчиком, то подступая совсем-совсем близко, то уходя дальше вправо. Однажды она оглушила их мощным и гулким грохотом, словно вдруг пронеслась по нартексу доисторического собора. А в другой раз шума воды стало почти не слышно.
Казалось, скорость и ветер, бьющий в лицо от движения дрезины, заменили собой зрение и вернули им ощущение пространства и времени. Стрелок прикинул, что они делают от десяти до пятнадцати миль в час. Дорога шла вверх, поднимаясь пологим, обманчиво незаметным уклоном, который, однако, изрядно его утомил. Едва они остановились на отдых, стрелок сразу уснул как убитый. Провизии осталось всего ничего, но ни стрелка, ни парнишку это уже не волновало.
Стрелок ещё не улавливал напряжения приближающейся кульминации, но для него оно было таким же реальным (и нарастающим), как и усталость от управления дрезиной. Они уже приближались к концу первой фазы… во всяком случае, он приближался. Он себя чувствовал как актёр, стоящий посередине громадной сцены за минуту до поднятия занавеса: актёр, который уже принял необходимую позу и готовится произнести первую реплику, которая уже вертится в голове; ему слышно, как невидимые пока зрители шуршат программками и рассаживаются по местам. Теперь он уже постоянно ощущал где-то внутри, в животе, тугой комок нехорошего предвкушения и был даже рад, что физическое утомление помогает ему заснуть. А когда он засыпал, то спал как убитый.
Мальчик уже почти не разговаривал. Но однажды во время привала, незадолго до того, как на них напали недоумки-мутанты, он спросил у стрелка, почти робко, о том, как он стал взрослым.
— Мне надо знать, — сказал он.
Стрелок сидел, привалившись спиной к рычагу и держа во рту папироску. (Кстати, запас табака тоже уже подходил к концу.) Он уже засыпал, когда мальчик вдруг задал свой вопрос.
— А зачем тебе? — удивился стрелок.
— Просто мне интересно. — Голос мальчишки был на удивление упрямым, как будто он хотел скрыть смущение. Помолчав, он добавил: — Мне всегда было интересно, как люди становятся взрослыми. А спросишь у взрослых, так они обязательно соврут.
— Кое-что ты уже знаешь, — сказал стрелок. — Но что я рассказывал… это всё-таки не о том, как я стал взрослым. Наверное, я начал взрослеть уже после того… ну, о чём я тебе говорил…
— Расскажите о том, как вы вызвали на поединок учителя, — попросил Джейк.
Роланд кивнул. Да, всё правильно. Любому мальчишке было бы интересно послушать такую историю.
— Но по-настоящему я повзрослел, когда папа отправил меня в путешествие. И этапы этого путешествия стали этапами моего взросления. — Он помедлил. — Однажды я видел, как вешали человека, которого не было.
— Человека, которого не было? Это как?
— Его можно было потрогать, но нельзя было увидеть.
Джейк кивнул с пониманием.
— Это был человек-невидимка.
Роланд удивлённо приподнял бровь. Он раньше не слышал, чтобы их так называли, этих людей, которых нет.
— Правда?
— Ага.
— Ну ладно, как скажешь. Но как бы там ни было, там были люди, которые не хотели, чтобы я это делал, — они говорили, что они будут прокляты, если я это сделаю, но этот парень… человек-невидимка… он насиловал женщин. Знаешь, что это такое?
— Да, — сказал Джейк. — И у него это, наверное, легко получалось, раз он невидимка. И трудно было его поймать?
— Об этом я расскажу в другой раз. — Роланд знал, что другого раза уже не будет. Они оба об этом знали. — А ещё через два года я бросил девушку. В одном местечке, называлось оно Королевский Посёлок. Бросил, хотя не хотел бросать…
— Нет, вы хотели, — вдруг сказал мальчик. Он сказал это тихо и даже мягко, но с явным презрением в голосе. — Потому что вам надо было дойти до Башни. Вам надо было идти, несмотря ни на что… как этим ковбоям, на отцовском канале.
Роланд почувствовал, как кровь жаркой волной прилила к лицу, но, когда он заговорил, его голос оставался спокойным и ровным:
— Наверное, это и был мой последний этап взросления. Вот так я и взрослел — от случая к случаю. Но когда что-то такое происходило, я понимал это не сразу, истинный смысл происшедшего открывался мне позже.
До стрелка вдруг дошло, что он пытается уйти от ответа на конкретный вопрос, заданный мальчиком, и он почувствовал себя неловко.
— Наверное, обряд совершеннолетия тоже был очередным этапом, — нехотя выдавил он. — Такой официальный, почти стилизованный: что-то вроде придворного бального танца. — Стрелок издал неприятный смешок.
Мальчик молчал.
— Нужно было доказать, что ты стал мужчиной. Доказать в боевом поединке, — начал стрелок.
IV
Лето и зной.
Полная Земля набросилась на истомлённый край, точно любовник-вампир, убивая почву своим исступлённым жаром, а вместе с ней — и посевы фермеров. Поля вокруг города-крепости Гилеада превратились в стерильную белую пустошь. А в нескольких милях к западу, у самых границ, где кончался цивилизованный мир, уже началась война. Новости, что приходили оттуда, были неутешительными. Но даже они меркли перед безжалостным зноем, царившим здесь — в самом центре. Скотина в загонах на скотных дворах стояла, тараща пустые глаза, не в силах даже пошевелиться. Свиньи вяло похрюкивали, забыв не только о ножах, уже наточенных в преддверии осени, но даже о том, чтобы плодиться и размножаться. Люди, как всегда, жаловались на жизнь и проклинали налоги вместе с военным призывом, но за всей этой политической игрой — апатичной, при всём показном энтузиазме — скрывалась одна пустота. Центр обветшал, как протёршийся старый ковёр, который сотню раз мыли, потом снова топтали ногами, выбивали и вывешивали посушиться на солнышко. Нити, что удерживали последние самоцветы на истощённой груди мира, уже распускались. Всё распадалось. Земля затаила дыхание — в то лето близящегося упадка.
Мальчик бесцельно бродил по верхнему коридору того каменного пространства, которое было его домом, — он чувствовал, что готовится что-то плохое, хотя и не понимал, что происходит. Он тоже был пуст и опасен и ждал того, что наполнит эту внутреннюю пустоту.
С тех пор как повесили повара — того самого Хакса, у которого всегда находилось что-нибудь вкусненькое для голодных мальчишек, — минуло уже три года. За это время мальчик поправился и возмужал. И вот теперь, одетый только в повылинявшие штаны из хлопчатобумажной ткани, четырнадцати лет от роду, широкогрудый и длинноногий, он выказывал все признаки, что из него выйдет храбрый и сильный мужчина. Он был ещё девственником, но две бойкие дочурки одного купца из Западного Города уже вовсю строили ему глазки. Он тоже испытывал к ним влечение, и теперь оно проявлялось ещё острее. Даже здесь, в этом прохладном каменном коридоре, всё его тело покрылось испариной.
Дальше по коридору располагались покои матери, но он сейчас не собирался туда заходить. Он собирался подняться на крышу, где его ждали лёгкий ветерок и все удовольствия, которые молоденькие мальчишки доставляют себе рукой.
Он уже прошёл мимо двери, как вдруг кто-то окликнул его:
— Эй, мальчик!
Это был Мартен, советник, одетый с подозрительной, настораживающей небрежностью: чёрные облегающие штаны, почти как трико, и белая рубаха, расстёгнутая на безволосой груди. Его волосы были взъерошены.
Мальчик молча смотрел на него.
— Входи, входи! Не стой в коридоре. Твоя мама хочет с тобой поговорить. — Он улыбался, но только одними губами. Его глаза были насмешливыми и язвительными. А за этой насмешкой был только холод.
Но мама, похоже, совсем не горела желанием его видеть. Она сидела в кресле у большого окна в центральной гостиной — того самого, что выходило на раскалённую каменную мостовую внутреннего двора. На ней было простое домашнее платье, и оно постоянно сползало с одного плеча, и она только раз поглядела на сына — быстрый промельк печальной улыбки, как отражение осеннего солнца в текучей воде. Потом она опустила глаза и всё время, пока они говорили, пристально изучала свои руки.
Теперь они виделись редко, и призраки колыбельных песен (чик-чирик, не бойся кошек) уже почти стёрлись у него из памяти. Она сделалась для него чужой, но осталась любимой. Он испытывал смутный страх, и в душе у него поселилась неистребимая ненависть к Мартену, который был правой рукой отца.
— Ты как, Ро, нормально? — тихо спросила она, изучая свои руки. Мартен встал рядом с ней. Его рука тяжело опустилась на мамино оголившееся плечо — в том месте, где оно соединялось с её белой шеей. И ещё он улыбался. Им обоим. Когда Мартен улыбался, его карие глаза темнели и становились почти что чёрными.
— Нормально, — ответил мальчик.
— А учишься как, хорошо? Ванни тобой доволен? А Корт? — Когда мать назвала имя Корта, она невольно скривилась, как будто съела что-то горькое.
— Я стараюсь.
Они оба знали, что он не такой умный, как Катберт, и не такой смышлёный, как Джейми. Он был тугодумом, но зато упорным трудягой. Хотя даже Алан учился лучше.
— А как Давид? — Она знала, как сын привязан к соколу.
Мальчик взглянул на Мартена. Тот по-прежнему покровительственно улыбался.
— Уже миновал свою лучшую пору.
Мать как будто поморщилась; на мгновение лицо Мартена потемнело, и он ещё крепче сжал её плечо. А потом мать повернула голову, поглядела на раскалённую белизну знойного дня за окном, и всё опять стало как прежде.
«Это такая шарада, — подумал мальчик. — Игра. Но кто с кем играет?»
— У тебя на лбу ссадина, — сказал Мартен, продолжая улыбаться. Он небрежно ткнул пальцем в отметину от последней (спасибо тебе за науку, учитель) Кортовой воспитательной взбучки.
— Ты что, будешь таким же бойцом, как и твой отец, или ты просто нерасторопный?
На этот раз мать и вправду поморщилась.
— И то, и другое, — ответил мальчик, потом поглядел прямо в глаза Мартену и изобразил натужную улыбку. Даже здесь, в помещении, было слишком жарко.
Мартен вдруг перестал улыбаться.
— Теперь можешь пойти на крышу, малыш. Кажется, у тебя там дела.
— Моя мать ещё не отпустила меня, вассал!
Мартен поморщился, словно его хлестнули плетью. Мальчик услышал, как мать вздохнула, горестно и тяжело. Она назвала его по имени.
Но эта натянутая, болезненная улыбка так и застыла на лице мальчика. Он шагнул вперёд.
— Как я понимаю, ты должен мне поклониться, в знак верности. Во имя отца моего, которому ты, вассал, служишь и подчиняешься.
Мартен уставился на него, не веря своим ушам.
— Ступай, — произнёс он мягко. — Ступай и займи свою руку делом.
Мальчик ушёл, улыбаясь.
Когда он закрыл за собой дверь, он услышал, как мать закричала. Это был вопль баньши, предвещающей смерть. А потом — нет, так не бывает, не может быть — звук пощёчины. Отцовский слуга ударил его мать и сказал ей, чтобы она заткнулась.
Чтобы она заткнулась!
А потом он услышал смех Мартена.
Мальчик продолжал улыбаться. Так, улыбаясь, он и пошёл на испытание.
V
Джейми как раз возвратился из города, где наслушался всякого от горластых торговок, и, как только увидел Роланда, проходившего по тренировочной площадке, сразу же подбежал к нему, чтобы пересказать все последние слухи о резне и мятежах на западе. Но, увидев лицо Роланда, он даже не стал его окликать. Они с Роландом знали друг друга с младенчества: подстрекали друг друга на всякие шалости, тузили друг друга, вместе исследовали потайные уголки крепости, в стенах которой они оба родились.
Роланд прошёл мимо друга, глядя прямо перед собой, ничего вокруг не замечая — и улыбаясь всё той же страшной улыбкой. Он шёл к дому Корта, где все окна были задёрнуты плотными шторами — чтобы отгородиться от нещадно палящего солнца. Корт прилёг вздремнуть после обеда, чтобы вечером сполна насладиться походом по борделям нижнего города.
Джейми сразу же понял, что сейчас будет. Ему стало страшно и очень волнительно. И он никак не мог сообразить, что ему делать: сразу последовать за Роландом или сначала позвать остальных.
Но потом первое оцепенение прошло, и он со всех ног бросился к главному зданию, выкрикивая на ходу:
— Катберт! Ален! Томас!
В знойном воздухе его крики звучали тонко и слабенько. Они давно это знали. Благодаря этому внутреннему, непостижимому чутью, которым наделены все мальчишки на свете, они знали, что Роланд будет первым, кто выйдет к черте. Но чтобы вот так… не рановато ли?
Никакие слухи о бунтах, войнах и чёрной магии не могли бы зажечь Джейми так, как эта пугающая улыбка на лице Роланда. Это было реальнее и серьёзнее, чем досужие сплетни, пересказанные какой-нибудь беззубой бабой-зеленщицей над засиженными мухами кочанами салата.
Роланд подошёл к дому учителя и пнул дверь ногой. Дверь распахнулась, хлопнула по грубо оштукатуренной стене и отскочила обратно.
Он вошёл в этот дом в первый раз. Дверь с улицы вела прямо в спартанскую кухню, сумрачную и прохладную. Стол. Два жёстких стула. Два кухонных шкафа. На полу — выцветший линолеум с чёрными дорожками, протянувшимися от крышки погреба до разделочного стола, над которым висели ножи, а оттуда — к обеденному столу.
Вот он: дом человека, чья жизнь проходит на людях, но который живёт один. Поблёкшая берлога неуёмного полуночного бражника и кутилы, который пусть грубо, по-своему, но всё же любил ребятишек — вот уже трёх поколений — и кое-кого из них сделал стрелками.
— Корт!
Он пнул ногой стол, так что тот проскользил через всю кухню и ударился в стойку с ножами. Ножи попадали на пол.
В соседней комнате что-то зашевелилось, раздался полусонный приглушённый кашель, как это бывает, когда человек прочищает горло. Но мальчик туда не пошёл, зная, что это уловка, что Корт проснулся, как только он вошёл в кухню, и теперь ждёт за дверью, сверкая своим единственным глазом, готовый свернуть шею незваному гостю, ворвавшемуся к нему в дом.
— Корт, выходи! Я пришёл за тобой, смерд!
Он обратился к учителю на Высоком Слоге, и Корт рывком распахнул дверь. Он был почти голым, в одних трусах. Коренастый и плотный, с кривыми ногами, весь в шрамах и буграх мышц, с выпирающим круглым животиком. Но мальчик по опыту знал, что этот обманчиво дряблый животик был твёрдым как сталь. Единственный зрячий глаз Корта угрюмо уставился на Роланда.
Как положено, мальчик отдал учителю честь.
— Ты больше не будешь учить меня, смерд. Сегодня я буду учить тебя.
— Ты пришёл раньше срока, сопляк, — небрежно проговорил Корт, но тоже на Высоком Слоге. — Года на два как минимум, с моей точки зрения. Я спрошу только раз: может, отступишься, пока не поздно?
Мальчик лишь улыбнулся своей новой страшной улыбкой. Для Корта, который видел такие улыбки на кровавых полях сражений чести и бесчестья, под небом, окрасившимся в алый цвет, это само по себе было ответом. Возможно, единственным ответом, которому он бы поверил.
— Да, невесело, — отрешённо проговорил учитель. — Ты был моим самым многообещающим учеником. Лучшим, я бы сказал, за последние два десятка лет. Мне будет жаль, когда ты сломаешься и пойдёшь по слепому пути. Но мир — сдвинулся с места. Грядут скверные времена.
Мальчик молчал (он бы вряд ли сумел дать какое-то связное объяснение, если бы его попросили о том напрямую), но впервые за всё это время его пугающая улыбка слегка смягчилась.
— И всё-таки есть право крови, — продолжал Корт. — Невзирая на бунты и чёрное колдовство на западе. Кровь сильнее. Я твой вассал, мальчик. Я признаю твоё право всем сердцем и готов подчиниться твоим приказам, даже если то будет в последний раз.
И Корт, который бил его и пинал, сёк до крови, ругал на чём свет стоит, насмехался над ним, как только не обзывал, даже прыщом-сифилитиком, встал перед ним на одно колено и склонил голову.
Мальчик протянул руку и с изумлением прикоснулся к загрубевшей, но уязвимой плоти на шее наставника.
— Встань, вассал, и примиримся в любви и прощении.
Корт медленно поднялся, и мальчику вдруг показалось, что за застывшей, натянутой маской, в которую теперь превратилось лицо учителя, скрывается неподдельная боль.
— Только это напрасная трата. Мне будет жалко тебя потерять. Отступись, глупый мальчишка. Я нарушу свою же клятву. Отступись и обожди!
Мальчик молчал.
— Хорошо. Как ты сказал, так и будет. — Теперь голос Корта стал сухим, деловитым. — Даю тебе ровно час. Выбор оружия за тобой.
— А ты придёшь со своей палкой?
— Как всегда.
— А сколько палок у тебя уже отобрали, Корт? — Это было равносильно тому, чтобы спросить: «Сколько мальчиков-учеников из тех, что вошли во двор на задах Большого Зала, вышли оттуда стрелками?»
— Сегодня её у меня не отнимут, — медленно проговорил Корт. — И мне правда жаль. Такой шанс даётся лишь раз, малыш. Только раз. И наказание за излишнее рвение такое же, как и за полную несостоятельность. Разве нельзя обождать?
Мальчик вспомнил Мартена: как он стоял, возвышаясь над ним. Его улыбку. И звук пощёчины из-за закрытой двери.
— Нет, нельзя.
— Хорошо. Какое оружие ты избираешь?
Мальчик молчал.
Корт растянул губы в улыбке, обнажив кривые зубы.
— Для начала вполне даже мудро. Стало быть, через час. Ты хоть понимаешь, что скорее всего ты уже никогда не увидишь своего отца, свою мать, своих братьев по ка?
— Я знаю, что значит изгнание, — тихо ответил мальчик.
— Тогда иди. И подумай, и вспомни лицо своего отца. Хотя тебе это уже не поможет.
Мальчик ушёл не оглядываясь.
VI
В погребе под амбаром было обманчиво прохладно. Сыро. Пахло влажной землёй и паутиной. Лучи вездесущего солнца проникали даже сюда, сквозь узкие пыльные окна, но тут хотя бы не чувствовалось изнуряющей дневной жары. Мальчик держал здесь сокола, и птицу, похоже, это вполне устраивало.
Теперь Давид состарился и больше уже не охотился в небе. Его перья поутратили былой блеск — а ещё года три назад они так и сияли, — но взгляд оставался пронзительным и неподвижным, как прежде. Говорят, нельзя подружиться с соколом, если только ты сам наполовину не сокол, одинокий и временный обитатель земли, без друзей и без надобности в друзьях. Сокол не знает, что такое мораль и любовь.
Теперь Давид стал старым соколом. И мальчик очень надеялся, что он сам — тоже сокол, но молодой.
— Привет. — Он протянул руку к жёрдочке, на которой сидел Давид. Тот перебрался на руку мальчика и снова застыл неподвижно, как был — без клобучка на голове. Свободной рукой мальчик залез в карман и вытащил кусочек вяленого мяса. Сокол проворно выхватил угощение из пальцев парнишки и проглотил.
Мальчик осторожно погладил Давида. Корт бы, наверное, глазам своим не поверил, если бы это увидел, но ведь он не поверил и в то, что время Роланда уже наступило.
— Скорее всего ты сегодня умрёшь, — сказал он, продолжая гладить сокола. — Мне, похоже, придётся тобой пожертвовать, как теми мелкими пташками, на которых тебя обучали. Помнишь? Нет? Ладно, не важно. Завтра соколом стану я, и каждый год в этот день я буду стрелять в небо — в память о тебе.
Давид сидел у него на руке, молча и не мигая, безразличный к своей жизни и смерти.
— Ты уже старый, — задумчиво продолжал мальчик. — И, может быть, ты мне не друг. Ещё год назад ты предпочёл бы мой глаз этому куску мяса, верно? Вот бы Корт посмеялся. Но если мы подберёмся к нему… если мы подберёмся к нему поближе… и если он ничего не заподозрит… что ты выберешь, Давид? Спокойную старость — или всё-таки дружбу?
Давид не ответил.
Мальчик надел на сокола клобучок и подобрал привязь. Они поднялись из подвала и вышли на свет.
VII
Двор на задах Большого Зала — это на самом деле не двор, а узкий зелёный коридор между двумя рядами разросшейся живой изгороди. Ритуал посвящения мальчиков в мужчины проходил здесь с незапамятных времён, задолго до Корта и даже его предшественника, Марка, который скончался именно здесь — от колотой раны, нанесённой слишком усердной и рьяной рукой. Многие мальчики вышли из этого коридора через восточный вход. Вход, предназначенный для учителя. Вышли мужчинами. Восточный конец коридора вёл к Большому Залу, к цивилизации и интригам просвещённого мира. Но ещё больше ребят, окровавленных и избитых, вышли отсюда через западный вход, предназначенный для мальчишек, — и остались мальчишками навсегда. Этот конец коридора выходил к горам и к хижинам поселенцев, за которыми простирались дебри дремучих лесов; за лесами был Гарлан, а ещё дальше — пустыня Мохане. Те мальчишки, которые становились мужчинами, переходили от тьмы и невежества к свету и ответственности за других.
А тем, которые не выдержали испытания, оставалось одно: изгнание. Навсегда. Коридор был зелёным и ровным, как площадка для игр. Длиной ровно пятьдесят ярдов. Точно посередине располагался узкий участок голой земли. Это была черта, разделявшая мальчиков и мужчин.
Обычно у каждого входа толпились возбуждённые зрители и взволнованные родные, поскольку, как правило, день испытания объявлялся заранее. Восемнадцать — это был самый обычный возраст для испытуемых (те же, кто не решался пройти испытание до двадцати пяти, становились свободными землевладельцами, и очень скоро про них забывали: про тех, кто не нашёл в себе сил встретить лицом к лицу этот жестокий выбор «всё или ничего»), но в тот день не было никого. Только Джейми Де Карри, Катберт Оллгуд, Ален Джонс и Томас Уитмен. Они столпились у западного входа для мальчишек и ждали там, затаив дыхание и не скрывая страха.
— Оружие, кретин! — прошипел Катберт, и в его голосе явственно слышалась боль. — Ты забыл оружие!
— Не забыл, — сказал Роланд. «Интересно, — подумал он, — а в главном здании уже знают? Знает ли мать… и Мартен?» Отец сейчас на охоте и вернётся ещё не скоро. Не раньше, чем через несколько дней. И Роланду было немного стыдно, что он не дождался его возвращения, потому что он чувствовал, что отец даже если бы и не одобрил его решение, то уж понял бы наверняка.
— Корт пришёл?
— Корт уже здесь, — донёсся голос с противоположного конца коридора, и Корт вышел вперёд. Он был в короткой бойцовской фуфайке и с кожаной лентой на лбу, чтобы пот не заливал глаза. В руке он держал боевой посох из какого-то твёрдого дерева, заострённый с одного конца и напоминающий лопасть весла — с другого. Не тратя времени даром, он затянул литанию, которую все они, невольные избранники по крови, ещё со времён Эльда, знали с самого раннего детства: учили её к тому дню, когда они, быть может, станут мужчинами.
— Ты знаешь, зачем ты пришёл, мальчишка?
— Я знаю, зачем я пришёл.
— Ты пришёл как изгнанник из дома отца своего?
— Я пришёл как изгнанник.
И он будет изгнанником до тех пор, пока не одолеет Корта. Если же Корт одолеет его, он останется изгнанником уже навсегда.
— Ты выбрал оружие?
— Я выбрал оружие.
— И каково же твоё оружие?
Это было исконное право учителя, его шанс приготовиться к бою в зависимости от того, какое оружие выбрал ученик: пращу, копьё, сеть или лук.
— Моё оружие — Давид.
Корт запнулся, всего лишь на долю секунды. Но он всё равно удивился. Потому что не ожидал ничего подобного. И это было хорошо.
Может быть, хорошо.
— Ты готов выйти против меня, мальчишка?
— Я готов.
— Во имя кого?
— Во имя моего отца.
— Назови его имя.
— Стивен Дискейн из рода Эльда.
— А теперь к бою.
И Корт пошёл на него по коридору, перекидывая свою палку из руки в руку. Мальчики встрепенулись, как стайка испуганных птиц, когда их товарищ — теперь уже старший товарищ, дан-дин — шагнул ему навстречу.
Моё оружие — Давид, учитель.
Понял ли Корт? Если да, то, возможно, уже всё потеряно. Теперь всё зависело от того, как сработает эффект неожиданности… и ещё от того, как поведёт себя сокол. А вдруг Давид будет равнодушно сидеть у него на руке, пока Корт вышибает ему мозги своей тяжёлой палкой, а то и вовсе бросит его и взлетит высоко в жаркое небо?
Они сходились, каждый — пока на своей стороне от черты. Мальчик недрогнувшей рукой снял с сокола клобучок. Клобучок упал в зелёную траву. И Корт сбился с шага. Мальчик увидел, как Корт быстро взглянул на птицу, и его единственный глаз широко распахнулся от удивления и запоздалого понимания. Да, теперь он всё понял.
— Ну ты и придурок, — едва ли не простонал Корт, и Роланд вдруг разозлился, что его так обозвали.
— Возьми его! — крикнул он и вскинул руку.
И Давид сорвался с руки, и взлетел, как безмолвный живой снаряд; короткие крылья взмахнули один раз, другой, третий, и вот уже когги и клюв впились Корту в лицо. Брызнула кровь.
— Давай! Роланд! — в исступлении выкрикнул Катберт. — Первая кровь! Первая кровь у меня на груди! — Он ударил себя кулаком в грудь с такой силой, что синяк сошёл только через неделю.
Корт отшатнулся и, потеряв равновесие, упал. Тяжёлый посох взметнулся, но тщетно: ударил он только по воздуху. Сокол превратился в трепещущий, смазанный комок перьев.
Мальчик рванулся к поверженному учителю, выставив руку перед собой твёрдым клином, локтем вперёд. Это был его шанс. Быть может, единственный шанс.
Корт чуть было не увернулся. Сокол закрывал ему почти весь обзор, но тяжёлая палка опять поднялась затупленным концом вперёд, и Корт хладнокровно прибег к единственному из оставшихся у него в арсенале приёмов, который мог бы переломить ситуацию в его пользу: он трижды ударил себя по лицу, безжалостно напрягая мускулы.
Давид упал, искалеченный. Одно крыло бешено билось о землю. Его холодные, немигающие глаза хищника впились яростным взором в окровавленное лицо Корта, где незрячий глаз слепо и страшно таращился из глазницы.
Мальчик со всей силы пнул Корта ногой в висок. По идее на этом всё должно было закончиться: но — нет. На мгновение лицо Корта как-то обмякло, а потом он рванулся и схватил мальчика за ногу.
Мальчик дёрнулся, оступился и упал, растянувшись в траве. Откуда-то издалека до него донёсся испуганный крик Джейми.
Корт уже поднялся, готовый упасть на Роланда и положить конец поединку. Мальчик утратил своё преимущество, и они оба об этом знали. Секунду они смотрели в глаза друг другу: ученик, распростёртый на земле, и учитель, стоящий над ним. Теперь вся левая сторона лица Корта превратилась в сплошное кровавое месиво; его незрячий глаз совсем заплыл, осталась лишь тоненькая полоска белка. Сегодня Корт уже точно не пойдёт по борделям.
Что-то впилось в руку мальчика. Сокол. Давид, слепо рвущий когтями всё, до чего мог дотянуться. Оба крыла перебиты. Невероятно, что он вообще ещё жив.
Мальчик схватил сокола, как камень, не обращая внимания на острый клюв, сдирающий кожу с его запястья. И когда Корт кинулся на него, он подбросил сокола вверх.
— Возьми его! Давид! Убей!
А потом Корт упал на него, закрывая собой солнце.
VIII
Сокол расплющился между ними. Мальчик почувствовал, как по его лицу шарит мозолистый палец, нащупывая глазницу. Он резко повернул голову, одновременно приподнимая бедро, чтобы закрыться от колена Корта, нацеленного ему в пах, и трижды рубанул ребром ладони по шее учителя. С тем же успехом он мог бы бить и по камню.
А потом Корт вдруг издал сдавленный стон. Его тело дёрнулось. Словно сквозь пелену мальчик увидел, как Корт шарит рукой по земле, пытаясь дотянуться до выпавшей палки. Рванувшись из последних сил, Роланд отбил её ногой в сторону, за пределы досягаемости. Давид вцепился когтями в правое ухо Корта, а другой лапой безжалостно рвал ему щёку, превращая её в окровавленные лохмотья. Тёплая кровь с запахом меди брызнула мальчику на лицо.
Корт ударил сокола кулаком и сломал ему спину. Ещё раз — и шея Давида изогнулась под неестественно острым углом. Но когти ещё сжимались. Уха больше не существовало; теперь на его месте зияла окровавленная дыра. Третий удар отбросил сокола прочь.
Собрав последние силы, мальчик рубанул Корта по переносице ребром ладони, перебив тонкий хрящ. Снова брызнула кровь.
Корт выбросил руку вперёд, пытаясь вслепую схватить мальчика сзади, чтобы сдёрнуть с него штаны и спутать ноги. Роланд упал, откатился в сторону, нащупал палку, которую выронил Корт, и поднялся на колени.
Корт тоже встал на колени и усмехнулся сквозь маску запёкшейся крови. Они смотрели в глаза друг другу — и их опять разделяла черта, только теперь их позиции поменялись, и Корт был на той стороне, откуда пришёл Роланд. Единственный зрячий глаз Корта бешено вращался в глазнице. Нос был расплющен и свёрнут в сторону, щёки превратились в сплошные лохмотья изодранной кожи.
Мальчик держал палку, как игрок держит клюшку, готовясь ударить по шару.
Корт сделал два ложных выпада, а потом бросился на него.
Но мальчик был начеку. Тем более что это была убогая уловка — и они оба об этом знали. Палка из твёрдого дерева описала в воздухе плоскую дугу и с глухим стуком ударилась о череп Корта. Корт повалился на бок, таращась на мальчика вдруг помутневшим, невидящим глазом. Изо рта у него потекла тонкая струйка слюны.
— Сдавайся или умри, — сказал мальчик. У него было странное ощущение, что его рот забит влажной ватой.
И Корт улыбнулся. Он был почти без сознания. Потом он неделю не встанет с постели — и всё это время он пролежит, укрытый чёрным покровом глубокой комы, — но он пока ещё держался, напрягая все силы своей безжалостной и безупречной жизни. Он увидел в глазах у парнишки желание услышать ответ, и хотя их с Роландом теперь разделила завеса крови, старый учитель не мог не заметить, каким отчаянным было это желание.
— Я сдаюсь, стрелок. Я сдаюсь улыбаясь. Сегодня ты помнил лицо своего отца и всех своих доблестных предков. Ты славно сражался и победил.
Зрячий глаз Корта закрылся.
Стрелок легонько потряс его за плечо: мягко, но настойчиво. Ребята уже окружили его. Их руки так и чесались похлопать его по спине, потрепать по плечу. Но они не решались, чувствуя произошедшую перемену и страшась этой бездны, что теперь их разделила. И всё же она была не такой уж и страшной, потому что между Роландом и остальными всегда была пропасть. Всегда.
Глаз Корта опять приоткрылся.
— Ключ, — обратился к нему стрелок. — Я хочу забрать то, что принадлежит мне по праву рождения, учитель. Мне нужен ключ.
Он имел в виду револьверы, которые принадлежали ему по праву крови. Не те отцовские, тяжёлые, с рукоятками из сандалового дерева… но всё-таки револьверы. Запрещённые для всех, кроме немногих избранных. В каменном подвале под казармой, где, согласно древним законам, он теперь должен был поселиться (вдали от материнского дома), висело его ученическое оружие, тяжёлые громоздкие изделия из стали и никеля. Они служили ещё отцу во время его ученичества. А теперь отец стал правителем, по крайней мере — номинально.
— Так вот в чём причина? — прошептал Корт как во сне. — Тебе так не терпелось? Да, этого я и боялся. Нетерпение толкает на глупости. И всё-таки ты победил.
— Ключ.
— Сокол… хороший тактический ход. Хороший выбор оружия. И долго ты его натаскивал, этого гада?
— Я не натаскивал Давида. Я с ним подружился. Ключ.
— У меня под поясом, стрелок.
Глаз снова закрылся.
Стрелок запустил руку под пояс Корта, ощущая давление его живота, накачанных мышц, которые теперь стали вялыми и безжизненными. Ключ висел на медном кольце. Роланд сжал его в кулаке, сопротивляясь мальчишескому порыву подбросить ключ в воздух в победном салюте.
Он поднялся на ноги и наконец повернулся к ребятам, но тут Корт вдруг дотронулся до его лодыжки. Стрелок на мгновение напрягся, опасаясь, что это — последняя, отчаянная попытка поверженного учителя победить в этой битве, но Корт лишь поглядел на него снизу вверх и поманил его заскорузлым пальцем.
— Сейчас я усну, — прошептал Корт, очень спокойно. — Может быть, навсегда, я не знаю. Я больше тебе не учитель, стрелок. Ты превзошёл меня, а ведь ты на два года моложе, чем был твой отец, когда проходил испытание, а он был тогда самым юным из всех. Но позволь дать тебе один совет.
— Что ещё? — Раздражённо, нетерпеливо.
— Ты лицо сделай попроще, сопляк.
Роланд растерялся и сделал, как ему велели (хотя и безотчётно; на самом деле он даже не понял, что у него было что-то не так с лицом).
Корт кивнул и прошептал одно слово:
— Подожди.
— Что?
Корту было трудно говорить, и из-за этих усилий, с которыми он выдавливал из себя каждое слово, его слова приобрели особую значимость и выразительность:
— Пусть молва и легенда опережают тебя. Здесь есть кому разнести молву. — Взгляд Корта метнулся поверх плеча стрелка. — Быть может, они все глупцы. Но пусть молва опережает тебя. Пусть на лице твоей тени отрастёт борода. Пусть она станет темнее и гуще. — Он натянуто улыбнулся. — Дай только время, и молва околдует и самого колдуна. Ты понимаешь, о чём я, стрелок?
— Да. По-моему, да.
— И примешь мой последний совет как учителя?
Стрелок качнулся на каблуках — поза устойчивая и задумчивая, предвосхищавшая превращение мальчика в мужчину. Он поглядел на небо. Небо уже темнело, наливаясь пурпурным свечением заката. Дневная жара начала спадать, а мрачные грозовые тучи на горизонте предвещали дождь. За многие мили отсюда вилы слепящих разрядов вонзались в бока безмятежных предгорий, над которыми поднимались горы. А за горами — фонтаны безрассудства и крови, бьющие в небеса. Он устал. Усталость проникла до мозга костей. И ещё глубже.
Он опустил взгляд на Корта.
— Сейчас я хочу похоронить своего сокола, учитель. А попозже схожу в Нижний Город и скажу там, в борделях, если кто будет спрашивать, где ты и что с тобой. Может быть, даже утешу кого-нибудь из твоих подружек, если они очень расстроятся, что ты не придёшь.
Губы Корта раскрылись в болезненной усмешке, а потом он уснул.
Стрелок поднялся и обернулся ко всем остальным.
— Соорудите носилки и отнесите его домой. Приведите ему сиделку. Нет, двух сиделок. Хорошо?
Друзья продолжали таращиться на него, захваченные суровой торжественностью момента, который ещё невозможно было переломить возвращением к грубой реальности. Им всё представлялось, что вот сейчас над головой у Роланда воспылает огненный нимб или, быть может, он обернётся каким-нибудь зверем прямо у них на глазах.
— Двух сиделок, — повторил стрелок и улыбнулся. Они тоже улыбнулись в ответ. Робко и нервно.
— Ах ты, чёртов погонщик мулов! — вдруг выкрикнул Катберт, расплывшись в улыбке. — Ты же нам ничего не оставил, сам ободрал всё мясо с кости!
— До завтра мир не изменится, — проговорил, улыбаясь, стрелок, вспомнив старую поговорку. — Ален, ты жопа с гренкой. Чего стоишь? Двигай задницей.
Ален взялся за сооружение носилок; Томас с Джейми умчались прочь: сперва — в Большой Зал, а потом — в лазарет.
Стрелок и Катберт остались стоять на месте, глядя друг на друга. Они всегда были близки — настолько, насколько вообще позволяли сблизиться острые грани их очень несхожих характеров. В горящих решимостью глазах Катберта открыто читались все его помыслы, и стрелок едва удержался, чтобы не посоветовать другу отложить испытание ещё на год, а то и на все полтора, если он не хочет уйти с позором через западный вход. Но они многое пережили вместе, и стрелок понимал, что, как бы он ни старался этого избежать, его слова будут восприняты как проявление высокомерия и покровительственного отношения. «Вот, я уже начинаю просчитывать свои действия, даже с друзьями», — подумал он, и ему стало немного не по себе. А потом он подумал о Мартене, о своей матери и улыбнулся другу. Улыбкой обманщика.
«Мне надо быть первым, — сказал он себе, в первый раз сформулировав для себя эту мысль, хотя он и прежде задумывался об этом. — Я уже первый».
— Пойдём, — сказал он.
— Как скажешь, стрелок.
Они вышли из зелёного коридора через восточный вход; Томас и Джейми уже вернулись из лазарета и привели сиделок, которые были похожи на призраков в своих лёгких летних белых балахонах с красным крестом на груди.
— Можно, я помогу тебе похоронить сокола? — спросил Катберт.
— Да, конечно, — сказал стрелок. — Я сам хотел попросить тебя мне помочь.
А позже, когда на земле воцарилась ночь и разразилась гроза, когда дождь хлынул гремящим потоком с небес, когда в вышине, точно чёрные призраки, клубились тучи и молнии вспышками голубого огня омывали извилистые лабиринты узких улочек Нижнего Города, когда кони стояли в стойлах, свесив головы и опустив хвосты, стрелок взял себе женщину и возлёг с ней, как пристало мужчине.
Это было приятно и быстро. Когда всё закончилось и они молча лежали бок о бок, на улице пошёл град, выбивая по крышам свою короткую жёсткую дробь. Где-то внизу, далеко-далеко, кто-то наигрывал регтайм «Эй, Джуд». Стрелок погрузился в раздумья. И только тогда, в этом молчании, прерываемом лишь дробью града, уже на грани сна, ему вдруг подумалось: а ведь вполне может так получиться, что он — первый — окажется и последним.
IX
Стрелок, разумеется, рассказал мальчику далеко не всё, но, возможно, многое из того, о чём он умолчал, всё равно, так или иначе, проявилось в его рассказе. Он давно уже понял, что этот парнишка на удивление проницателен для своих лет, и в этом он очень похож на Алана, обладавшего даром соприкосновения, состоявшего наполовину из умения сопереживать, наполовину — из умения читать мысли.
— Спишь? — спросил стрелок.
— Нет.
— Ты понял, о чём я тебе говорил?
— А вы думаете, я такой непонятливый, или что? — спросил мальчик с издёвкой. — Вы что, смеётесь?
— Ни в коем случае.
Но стрелок уже внутренне приготовился защищаться. Он ещё никому не рассказывал о том, как он стал мужчиной, потому что всегда, когда он вспоминал об этом, его раздирали самые противоречивые чувства. Конечно, сокол был честным оружием и во всех отношениях безупречным, но это был и обманный ход тоже. Хитрость. И предательство. Первое из долгого ряда. Я что, действительно собираюсь отдать этого мальчика человеку в чёрном?
— Я понял, — сказал мальчик. — Это была игра, да? Почему люди, когда взрослеют, всегда продолжают играть? Почему всё, за что ни возьмись, это лишь повод для новой игры? А люди вообще взрослеют? Или просто вырастают?
— Ты ещё очень многого не знаешь, — сказал стрелок, пытаясь сдержать медленно закипающий гнев. — Ты ещё маленький.
— Да. Но я знаю, кто я для вас.
— Да? И кто же? — Стрелок весь напрягся.
— Фишка в игре.
Стрелку вдруг захотелось взять камень потяжелее и размозжить парню голову, но вместо этого он сказал очень спокойно:
— Давай спать. Мальчикам нужно как следует высыпаться.
А в голове у него пронеслось эхо давнишних слов Мартена: Ступай и займи свою руку делом.
Стрелок ещё долго сидел в темноте, оцепенев от объявшего его ужаса. Он никогда ничего не боялся и только теперь испугался (первый раз в жизни), что начнёт сам себя ненавидеть. И скорее всего так и будет.
X
Во время следующего периода бодрствования, когда железная дорога сделала резкий крюк и почти вплотную приблизилась к подземной реке, они наткнулись на недоумков-мутантов.
Увидев первого, Джейк закричал.
Стрелок смотрел прямо перед собой, качая рычаг. Когда мальчик вскрикнул, он резко повернул голову вправо и разглядел далеко внизу какой-то шар, светящийся тусклым и гнилостным зеленоватым светом. Только теперь он почувствовал запах: слабый, неприятный, сырой.
Эта зелёная масса была лицом — если такое вообще можно назвать лицом. Над приплюснутым носом мерцали выпученные, ничего не выражающие глаза, какие бывают только у насекомых. Стрелок ощутил приступ глубинного, атавистического отвращения. Он сбился с ритма, и дрезина немного замедлила ход.
Светящееся лицо исчезло.
— Что это было? — спросил мальчик, придвигаясь поближе к стрелку. — Что…
Слова застряли тугим комком в горле: они со стрелком проскочили мимо ещё троих слабо светящихся в темноте существ, что стояли между путями и невидимой рекой и тупо таращились на путешественников.
— Недоумки-мутанты, — сказал стрелок. — Они вряд ли нас потревожат. Скорее всего они нас испугались не меньше, чем мы — их…
Одно из существ сдвинулось с места и пошло прямо на них, неуклюже волоча ноги. У него было лицо изголодавшегося идиота. Истощённое голое тело превратилось в бугристую массу щупальцеобразных отростков с присосками на концах.
Мальчик опять закричал и прижался к ноге стрелка, точно испуганный пёс.
Одно из щупалец протянулось над плоской платформой дрезины. От него пахло сыростью и темнотой. Стрелок отпустил рычаг, выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в недоумка — прямо в лоб. Тот отлетел прочь. Его свечение — мутно-зелёное, как огонёк на болоте, — угасло, словно луна при затмении. Стрелок и мальчик невольно зажмурились. Вспышка от выстрела ещё долго переливалась горящими искрами на отвыкшей от света сетчатке. Запах сгоревшего пороха был резким, пронзительным и чужим в этом каменном склепе.
Появились ещё мутанты. Их было много. Никто пока не нападал в открытую, но они подходили всё ближе и ближе к рельсам — молчаливое, мерзкое сборище любопытных зевак.
— Тебе, если что, надо будет меня заменить и покачать рычаг, — сказал стрелок. — Сможешь?
— Да.
— Тогда приготовься.
Мальчик встал рядом с ним, стараясь держаться как можно устойчивее. Он не смотрел по сторонам, чтобы ненароком не разглядеть больше, чем нужно. Его взгляд только мельком выхватывал из темноты слабо светящиеся фигуры мутантов. Мальчику было страшно, но он хорошо держался: как будто само ядро его существа, таившее в себе память бесчисленных поколений, каким-то образом просочилось сквозь поры кожи и образовало невидимый щит. Хотя если у мальчика есть способности к соприкосновению, подумал стрелок, то вполне может быть, что такой щит действительно есть.
Стрелок равномерно качал рычаг, но не увеличивал скорость. Он знал, что недоумки-мутанты могут почуять запах их страха. И всё же он был уверен, что из-за одного только их страха мутанты не нападут. В конце концов они с мальчиком были из мира света. И они были нормальными, «добрыми». «Как же они должны нас ненавидеть! — подумал стрелок и вдруг задался вопросом: — А человек в чёрном? Они и его ненавидели? Нет. Наверное, всё-таки нет. Или, может быть, он прошёл мимо них незамеченным, как тень от чёрного крыла в черноте».
Мальчик сдавленно вскрикнул. Стрелок повернул голову. Четверо мутантов, спотыкаясь на каждом шагу, следовали за дрезиной. Один из них уже тянул руки, чтобы ухватиться за край платформы.
Стрелок отпустил рычаг и выстрелил из револьвера — всё так же небрежно, почти лениво. Пуля попала в голову ближайшего к ним мутанта. Тот издал шумный всхлип, больше похожий на вздох, и вдруг заулыбался. Его руки были вялыми и безжизненными, точно дохлая рыба; пальцы слиплись друг с другом, как пальцы перчатки, провалявшейся долгое время в подсыхающей грязи. Одна из этих мертвенных лап схватила мальчика за ногу и потянула.
Мальчик закричал в полный голос — в глухой тишине этой гранитной утробы.
Стрелок выстрелил ещё раз — мутанту в грудь. Тот принялся пускать слюни сквозь бесцветные губы, растянутые в идиотской ухмылке. Джейк уже начал сползать с платформы. Стрелок схватил его за руку и сам едва не упал: тварь оказалась на удивление сильной. Стрелок всадил ещё одну пулю мутанту в голову. Один глаз погас, как свеча, и всё же мутант продолжал тянуть. Они молча боролись за извивающееся, корчащееся тело Джейка. Каждый тянул на себя, как детишки, когда они, загадав желание, ломают куриную косточку-дужку. Желание мутанта было вполне очевидным — хорошо пообедать.
Дрезина постепенно замедляла ход. Остальные мутанты уже приближались: увечный, хромой и слепой. Может быть, они просто искали Иисуса, который бы их исцелил и вывел из тьмы на свет, как воскресшего Лазаря.
«Вот и всё. Парню конец», — подумал стрелок, с поразившим его самого спокойствием. К этому всё и шло. Бросай мальчишку и жми на рычаг или борись за него до конца и погибай вместе с ним. В любом случае парню конец.
Он изо всех сил рванул мальчика за руку и разрядил револьвер мутанту в живот. На какой-то ужасный, застывший во времени миг тот ещё сильнее вцепился в Джейка, и парнишка опять начал сползать с платформы. А потом дряблая, студенистая лапа разжалась, и мутант, по-прежнему ухмыляясь, повалился ничком между рельсами — позади замедляющей ход дрезины.
— Я думал, вы меня бросите. — Паренёк разрыдался. — Я думал… Мне показалось…
— Держись за мой пояс, — коротко бросил стрелок. — Крепко-крепко держись.
Рука парнишки вцепилась ему в ремень; мальчик судорожно ловил ртом воздух, словно задыхаясь.
Стрелок снова взялся за рычаг и принялся качать; дрезина потихоньку набирала скорость. Недоумки-мутанты отступили на шаг и наблюдали теперь, как они уезжают. Их нечеловеческие лица (назвать их человеческими можно было с большой натяжкой, разве что только из жалости) излучали слабое фосфоресцирующее свечение — так светятся странные глубоководные рыбы, живущие под гнётом чёрной толщи морской воды. Эти лица не выражали ни злости, ни ненависти. Никаких чувств не теплилось в бессмысленно вытаращенных глазах, разве что было там что-то похожее на полубессознательное идиотическое сожаление.
— Они уже выдохлись, — сказал стрелок, и напряжённые мышцы внизу живота немного расслабились. — Они…
Недоумки-мутанты набросали камней на рельсы, перекрыв путь. Правда, работали явно наспех: раскидать этот завал — минутное дело. Но им всё равно пришлось остановиться. И кто-то должен был спуститься с платформы и убрать камни с рельсов. Мальчик глухо застонал и ещё теснее прижался к стрелку. Стрелок отпустил рычаг. Дрезина бесшумно подкатилась к завалу и, вздрогнув, остановилась.
Недоумки-мутанты опять приближались: как будто случайно, словно так уж оно получилось, что они проходили мимо, заблудившись в нескончаемом сне во мраке, и вот набрели на кого-то, у кого можно будет спросить дорогу. Сборище проклятых на перепутье под толщей древних скал.
— Они нас схватят? — спокойно спросил мальчуган.
— Нет. Помолчи пока, ладно?
Стрелок оглядел груду камней. Мутанты — хилые, изголодавшиеся существа — не смогли притащить на пути по-настоящему крупные камни. Так, мелкие камешки, чтобы только остановить дрезину и заставить кого-то из них спуститься…
— Спускайся, — распорядился стрелок. — Придётся тебе потрудиться. А я тебя прикрою.
— Нет, — прошептал мальчик. — Пожалуйста.
— Я не могу дать тебе револьвер и не могу таскать камни и одновременно стрелять. Так что выбора у нас нет.
Джейк вдруг начал дико вращать глазами, потом содрогнулся всем телом, наверное, в такт своим заметавшимся в ужасе мыслям, но уже в следующую секунду он медленно сполз с платформы и принялся расшвыривать камни по сторонам, стараясь не смотреть на мутантов.
Стрелок ждал с револьверами наготове.
Двое мутантов, пошатываясь на ходу, двинулись к мальчику, вытянув вялые руки, как будто слепленные из теста. Револьверы знали что делать: красно-белые вспышки пронзили тьму, впившись иглами боли стрелку в глаза. Мальчик закричал, но работу не прекратил. Перед глазами стрелка заплясали призрачные блики. Он вообще ни черта не видел, и это было хуже всего. Всё превратилось в дрожащие тени и расплывчатые пятна.
Один из мутантов, который почти совсем и не светился, внезапно протянул к парнишке свои кошмарные лапы. Влажные глаза мутанта, занимавшие добрую половину его лица, закатились.
Джейк опять закричал и развернулся, готовясь к драке.
Стрелок разрядил револьверы, не разрешая себе даже задуматься, что он делает, — иначе сбитое вспышками зрение могло бы его подвести, отдавшись предательской дрожью в руках: головы мутанта и мальчика были всего в нескольких дюймах друг от друга. Упал мутант.
Джейк расшвыривал камни, точно в исступлении. Мутанты толпились чуть поодаль, пока ещё по ту сторону невидимой крайней черты, за которой останется только рвануться в атаку. Но они мало-помалу приближались. И оказались теперь совсем близко. Подходили другие. Их число увеличивалось непрестанно.
— Ладно, — сказал стрелок. — Давай забирайся. Быстрее.
Как только мальчик сдвинулся с места, мутанты бросились к ним. Джейк перемахнул через борт, шлёпнулся на платформу и тут же поднялся на ноги; стрелок уже подналёг на рычаг — изо всех сил. Револьверы снова лежали в кобурах. Сейчас уже не до стрельбы: надо уносить ноги.
Мерзкие лапы шлёпали по металлической платформе. Теперь мальчик держался за пояс стрелка обеими руками, вжавшись лицом ему в поясницу.
Мутанты выбежали на рельсы, их лица были исполнены всё того же безумного, отрешённого предвкушения. Стрелок буквально физически ощутил мощный выброс адреналина в кровь. Он качал рукоятку с удвоенной силой — дрезина мчалась по рельсам сквозь тьму. Они врезались в жалкую кучку из четырёх или пяти неуклюжих мутантов. Те разлетелись в стороны, точно гнилые бананы, сбитые со ствола.
Всё дальше и дальше вперёд. В беззвучной, зловещей, стремительной тьме.
Спустя, наверное, целую вечность мальчик всё-таки оторвался от спины стрелка и поднял лицо навстречу воздушной струе: ему было страшно, но он всё равно хотел знать. Призрачные отблески вспышек от выстрелов всё ещё плясали у него перед глазами. Он ничего не увидел, кроме кромешной тьмы, и ничего не услышал, кроме рёва воды в реке.
— Они отстали, — сказал парнишка и вдруг испугался, что путь сейчас оборвётся во тьме и они слетят с рельсов под гибельный грохот дрезины, превращающейся в искорёженные обломки. Когда-то он ездил в автомобилях; однажды его отец гнал машину под девяносто миль в час на магистрали Нью-Джерси, и его остановили за превышение скорости. (Полицейский, кстати, не взял двадцатку, которую папа отдал ему вместе с правами, и выписал ему квитанцию на штраф.) Но он в жизни не ездил вот так: вслепую, когда ветер хлещет и ты боишься всего — и того, что сзади, и того, что спереди, — когда шум реки разносится, словно недобрый смех. Смех человека в чёрном. Руки стрелка были как поршни обезумевшего человека-автомата.
— Они отстали, — неуверенно повторил мальчик. Ветер вырвал слова у него изо рта. — Теперь можно ехать потише. Мы от них оторвались.
Но стрелок его не услышал. Они мчались вперёд — в неизвестность и темноту.
XI
Они ехали без происшествий три «дня» подряд.
XII
А во время четвёртого периода бодрствования (на середине? на трёх четвертях? они даже не знали — просто они ещё не устали настолько, чтобы останавливаться на отдых) что-то резко ударило снизу в днище платформы, дрезина покачнулась, и тела путешественников накренились вправо, когда рельсы круто свернули влево.
Впереди забрезжил свет — тусклое сияние, настолько нездешнее и чужеродное, что казалось, его излучает некая неведомая стихия: не земля и не воздух, не вода и не огонь. Он был бесцветным, этот нездешний свет, и распознать его можно было лишь по тому, что их лица и руки стали теперь различимы не только на ощупь. Их глаза сделались такими чувствительными к свету, что они разглядели это слабенькое сияние более чем за пять миль до того, как приблизились к его источнику.
— Там выход, — хрипло выдавил мальчик. — Там выход.
— Нет. — Стрелок произнёс это со странной уверенностью. — Ещё нет.
И действительно — нет. Они выехали на свет, но то был не свет солнца.
Приблизившись к источнику свечения, они увидели, что каменная стена слева от путей исчезла, а рядом с их рельсами тянутся и другие, сплетаясь в замысловатую паутину. Свет превращал их в горящие векторы, уходящие в никуда. На некоторых путях стояли чёрные товарные вагонетки и пассажирские кареты, приспособленные для езды по рельсам. Стрелку стало не по себе. Эти брошенные кареты были как мёртвые призрачные галеоны, поглощённые подземным Саргассовым морем.
Свет сделался ярче. Первое время он болезненно резал глаза, но постепенно глаза привыкали к свету. Они выбирались из темноты на свет, как ныряльщики, медленно поднимающиеся из морских глубин.
Впереди протянулся огромный ангар, уходящий во тьму. Эту чёрную громаду прорезали жёлтые квадраты света: примерно две дюжины въездных ворот. Казавшиеся поначалу размером с окошки в кукольном домике, они выросли до двадцати футов в высоту, когда дрезина приблизилась к ним вплотную. Стрелок с мальчиком въехали внутрь через ворота, расположенные ближе к центру. Над ними были начертаны какие-то незнакомые буквы. Стрелку показалось, что это одна и та же надпись, но только на разных языках. К его несказанному изумлению, ему удалось разобрать последнюю фразу. Надпись на праязыке Высокого Слога гласила:
ПУТЬ 10. НАРУЖУ.
ПЕРЕХОД НА ЗАПАДНУЮ ЛИНИЮ
Внутри свет был ярче. Рельсы сходились, сливались друг с другом посредством сложной системы стрелок. Здесь даже работали некоторые сигнальные фонари, перемигиваясь извечными огоньками: красными, зелёными и янтарными.
Они прокатились между двумя каменными возвышениями типа пирсов, бока которых давно почернели от прохождения сотен и сотен рельсовых экипажей, и оказались в громадном зале наподобие вокзала. Стрелок прекратил качать рычаг. Дрезина медленно остановилась, и они огляделись по сторонам.
— Похоже на нашу подземку, — сказал парнишка.
— На что похоже?
— Да нет, это я так. Вы всё равно не поймёте. Я сам уже не понимаю, о чём говорю.
Мальчик взобрался на бетонную платформу. Они со стрелком оглядели брошенные киоски, где когда-то продавались газеты и книжки, обветшавшую обувную лавку, оружейный магазинчик (стрелок, испытавший внезапный прилив возбуждения, пожирал глазами винтовки и револьверы, выставленные в витрине, но, присмотревшись получше, он с разочарованием обнаружил, что их стволы залиты свинцом. Он, однако, взял лук и колчан с практически никуда не годными, плохо сбалансированными стрелами). Был здесь и магазин женского платья. Где-то работал кондиционер, безостановочно перегоняя воздух уже не одну тысячу лет, — и, видимо, время его подходило к концу. Внутри у него уже дребезжало, напоминая о том, что мечта человека о вечном двигателе, даже при поддержании самых благоприятных условий, всё равно остаётся мечтой идиота. В воздухе чувствовался какой-то металлический привкус. Шаги отдавались в пространстве глухим, блёклым эхом.
— Эй! — выкрикнул мальчик. — Эй…
Стрелок обернулся и подошёл к нему. Мальчик стоял перед книжной лавкой и смотрел сквозь стекло как заворожённый. Внутри, в самом дальнем углу, сидела мумия. На ней была синяя форма с золотым кантом — судя по виду, форма кондуктора или проводника. На коленях у мумии лежала древняя, но на удивление хорошо сохранившаяся газета, которая, однако, рассыпалась в пыль, когда стрелок к ней прикоснулся. Лицо мумии напоминало старое сморщенное яблоко. Стрелок осторожно коснулся иссохшей щеки. Взвилось лёгкое облачко пыли, и в щеке образовалась дыра, через которую можно было заглянуть мумии в рот. Во рту блеснул золотой зуб.
— Газ, — пробормотал стрелок. — Раньше умели производить газ, который так действовал. То есть так говорил Ванни.
— Учитель, который учил вас по книгам.
— Да. Он.
— Они воевали, — мрачно проговорил мальчик. — И убивали друг друга этим самым газом.
— Да. Похоже, ты прав.
Были здесь и другие мумии. Не то чтобы много, но были. Всего около дюжины. Все, кроме двух или трёх, были одеты в синюю форму с золотой отделкой. Стрелок решил, что газ пустили, когда на станции не было карет с пассажирами. Возможно, в незапамятные времена эта станция приняла на себя удар какой-нибудь армии, давно канувшей в вечность — как и причина самой войны.
Эти мысли его угнетали.
— Давай-ка лучше пойдём отсюда. — Стрелок направился обратно к десятому пути, где стояла их дрезина. Но на этот раз мальчик его не послушался и остался стоять на месте.
— Я никуда не пойду.
Стрелок в изумлении обернулся.
Лицо у мальчика перекосилось. Его губы дрожали.
— Вы всё равно не получите то, что вам нужно, пока я жив. Так что я лучше останусь тут. И сам попробую выбраться.
Стрелок уклончиво кивнул, ненавидя себя за то, что он сейчас сделает — что собирается сделать.
— Ладно, Джейк, — сказал он очень тихо. — Долгих дней и приятных ночей.
Он отвернулся, подошёл к краю платформы и легко спрыгнул вниз, на дрезину.
— Вы заключили какую-то сделку! — крикнул мальчик ему вслед. — С кем-то вы договорились! Я знаю!
Стрелок молча снял с плеча лук и осторожно уложил его за Т-образный выступ в полу дрезины, чтобы случайно не повредить его рычагом.
Мальчик сжал кулаки, его лицо превратилось в маску боли.
«Да, маленького обмануть легко, — угрюмо подумал стрелок. — Сколько раз его замечательная интуиция — дар соприкосновения — подсказывала ему эту мысль, но ты всё время сбивал его с толку. А ведь, кроме тебя, у него нет никого, то есть вообще никого».
Внезапно его поразила простая мысль, больше похожая на озарение: всего-то и нужно, что бросить всё это к чёртовой матери, отступиться, повернуть назад, взять с собою парнишку и сделать его средоточием новой силы. Нельзя прийти к Башне таким унизительным, недостойным путём. Пусть мальчик вырастет, станет мужчиной, и тогда можно будет возобновить этот поход — потому что они вдвоём сумели бы отшвырнуть человека в чёрном со своего пути, как дешёвенькую заводную игрушку.
«Ну да, разбежался», — цинично подумал стрелок.
Потому что он понял, осознал с неожиданным хладнокровием, что сейчас повернуть назад означает погибнуть — обоим. Или ещё того хуже: быть погребёнными заживо под толщей гор, в компании недоумков-мутантов. Медленное угасание, умственное и физическое. И может быть, револьверы его отца надолго переживут их обоих и превратятся в тотемы, хранимые в загнивающем великолепии, как та бензоколонка.
«Прояви мужество», — лицемерно сказал он себе.
Стрелок взялся за рычаг и принялся качать. Дрезина двинулась прочь от каменной платформы.
Мальчик закричал: «Подождите!» — и бросился наперерез дрезине, к тому месту, где она снова должна была въехать во тьму тоннеля. Стрелок едва не поддался внезапному искушению прибавить скорость и бросить мальчика здесь — в одиночестве, но хотя бы в спасительной неизвестности.
Но вместо этого он подхватил мальчика на лету, когда тот спрыгнул с платформы на движущуюся дрезину. Джейк прижался к нему. Сердце парнишки под тонкой рубашкой бешено колотилось.
Выход был уже близко.
Конец был близко.
XIII
Рёв реки стал теперь очень громким, заполнив своим мощным грохотом даже их сны. Стрелок, скорее из прихоти, нежели из каких-то иных соображений, время от времени передавал рычаг мальчику, а сам посылал в темноту стрелы, предварительно привязав к каждой по прочной нити.
Лук оказался совсем никудышным. Хотя с виду он сохранился совсем неплохо, тетива не тянулась совсем, и прицел был сбит. Стрелок сразу понял, что тут уже ничего не исправишь. Даже если перетянуть тетиву, как подновить трухлявую древесину? Стрелы улетали недалеко, но последняя вернулась назад мокрой и скользкой. Когда мальчик спросил, сколько там до воды, стрелок только пожал плечами, но про себя он отметил, что если придётся стрелять из лука по-настоящему, то реально можно рассчитывать ярдов на шестьдесят — да и то если очень повезёт.
А рёв реки становился всё громче, всё ближе.
Во время третьего периода бодрствования после того, как они миновали станцию, впереди опять показался призрачный свет. Они въехали в длинный тоннель, прорезающий толщу камня, отливавшего жутковатым свечением. Влажные стены тоннеля поблёскивали тысячей крошечных переливчатых звёздочек. Мальчик назвал их из-купаемыми. Всё вокруг приобрело налёт какой-то тревожной ирреальности, как это бывает в комнате ужасов в парке аттракционов.
Свирепый рёв подземной реки летел им навстречу по гулкому каменному тоннелю, который служил как бы естественным усилителем. Но вот что странно: звук оставался всегда неизменным, даже тогда, когда они стали приближаться к точке пересечения, которая, как был уверен стрелок, — должна находиться впереди по ходу — судя по тому, что стены тоннеля начали расступаться. Угол подъёма сделался круче.
Рельсы, залитые призрачным светом, уходили прямо вперёд. Стрелку эти скопления из-купаемых напоминали трубки с болотным газом, которые иногда продавали в качестве украшений на ярмарке в честь Большой Жатвы; мальчику — неоновые лампы, протянувшиеся в бесконечность. Но в этом мерцающем свете они оба разглядели, что стены тесного тоннеля действительно расступаются и обрываются впереди двумя зазубренными длинными выступами над провалом тьмы — пропастью над рекой.
Пути продолжались и над неведомой бездной — по мосту возрастом в вечность. А на той стороне, в невообразимой дали, маячила крошечная точка света: не призрачное мерцание камней, не отражённое свечение, а настоящий, живой свет солнца — точечка, крошечная, как прокол от булавки в плотной чёрной материи, и всё же исполненная пугающего смысла.
— Остановитесь, — попросил мальчик. — Пожалуйста, остановитесь. На минуточку.
Стрелок безо всяких вопросов отпустил рычаг. Дрезина остановилась. Шум реки превратился в непрестанный рокочущий рёв. Неестественное свечение, исходящее от влажных камней, стало вдруг отвратительным и ненавистным. Только теперь, в первый раз, стрелок почувствовал прикосновение омерзительной лапы клаустрофобии и настоятельное, неодолимое побуждение выбраться отсюда, вырваться из этой гранитной могилы.
— Нам придётся проехать здесь, — сказал мальчик. — Он этого хочет? Чтобы мы поехали на дрезине над этой… над этим… и упали туда?
Стрелок знал, что ответ будет — нет, но сказал так:
— Я не знаю, чего он хочет.
Они спустились с платформы и осторожно подошли к краю провала. Камень под ногами продолжал подниматься, пока внезапно не оборвался крутой отвесной стеной, уходящей в пропасть. А рельсы бежали дальше — над чернотой.
Стрелок опустился на колени и глянул вниз. Он разглядел замысловатое, почти неправдоподобное сплетение стальных распорок и балок, теряющихся в темноте, в водах ревущей реки. Эти балки служили опорой грациозно изогнутой арки моста, проходящего над пустотой.
Он представил себе, что могут сделать со сталью вода и время в своём убийственном союзе. Сколько осталось действительно прочных опор? Мало? Всего ничего? Считанные единицы или, может, вообще ни одной? Перед его мысленным взором вдруг возникло лицо той мумии, и ему вспомнилось, как плоть, казавшаяся с виду прочной, рассыпалась в пыль, едва он прикоснулся к ней пальцем.
— Пойдём пешком, — сказал он, внутренне приготовившись к тому, что мальчик опять заупрямится, но тот первым ступил на пути и уверенно зашагал по стальным плитам моста, поверх которых были положены рельсы. Стрелок двинулся следом, стараясь держаться поближе к парнишке, чтобы успеть подхватить его, если Джейк вдруг оступится.
Стрелок чувствовал, как его кожа покрывается липкой испариной. Эстакада давно прогнила. Настил моста бренчал у него под ногами, легонько покачивался на невидимых тросах, сотрясаемый бурным потоком, что гремел внизу. «Мы — акробаты, — подумал он. — Смотри, мама, тут нету сетки. Смотри, я лечу».
Один раз он даже встал на колени и внимательно осмотрел шпалы, по которым они шагали. Шпалы прогнили, а рельсы были изъедены ржавчиной (и по вполне очевидной причине: теперь стрелок чувствовал на лице токи свежего воздуха, который, как известно, друг всякой порчи. Значит, поверхность уже совсем близко). Стрелок ударил по ним кулаком, и проржавелый металл затрясся. В какой-то момент у него под ногами раздался предостерегающий скрежет. Ощущение было такое, что стальное покрытие вот-вот проломится. Но стрелок уже миновал опасное место.
Мальчик, само собой, весил на добрую сотню фунтов меньше стрелка, и для него переход должен быть относительно безопасным — если дальше не будет хуже.
Брошенная дрезина уже растаяла во мраке. Каменный пирс — тот, что слева, — протянулся ещё футов на двадцать вдоль рельсов: дальше, чем правый. Но и он тоже быстро закончился, и теперь они шли над пропастью безо всяких боковых ограждений.
Сперва им казалось, что крошечная точка дневного света на той стороне нисколько не приближается, а остаётся всё такой же дразняще далёкой (если вообще не отступает прочь с той же скоростью, с какой они продвигаются к ней — это было бы настоящее волшебство), но постепенно стрелок осознал, что пятно света становится шире и ярче. Пока оно ещё было вверху, но рельсы неуклонно шли на подъём.
А потом вдруг мальчик вскрикнул и отпрянул в сторону, взмахнув руками. Какой-то миг он балансировал на самом краю, но этот миг показался стрелку невообразимо долгим, а потом снова шагнул вперёд.
— Она едва подо мной не обвалилась, — сказал он тихо и совершенно безучастно. — Там дырка. Вы переступите, если не хотите грохнуться вниз. Саймон говорит: сделать гигантский шаг.
Стрелок знал эту игру, только у них она называлась «Матушка говорит». В детстве они часто в неё играли: он, Катберт, Джейми и Ален. Но он не стал ничего говорить, а просто переступил через опасное место.
— Возвращайтесь назад, — сказал Джейк без улыбки. — Вы забыли сказать: «А можно мне?»
— Прошу прощения, я не подумал.
Шпала, на которой оступился мальчик, почти полностью отлетела и раскачивалась теперь над пропастью на проржавелой заклёпке.
Вверх. По-прежнему — вверх. Эта дорога была как кошмарный сон: она казалась намного длиннее, чем была на самом деле. Даже воздух как будто сгустился и стал как патока; у стрелка было странное ощущение, словно он не идёт, а плывёт. Снова и снова его преследовала безумная, навязчивая мысль о жуткой пустоте между прогнившим мостом и рекой внизу. Ему представлялись яркие живые картины, как это будет: скрежет металла, уходящего из-под ног, тело клонится в сторону, руки пытаются ухватиться за несуществующие перила, подошвы со скрипом скользят на предательской проржавелой стали, а потом он срывается вниз и летит, переворачиваясь на лету. Тёплая струя заливает пах — это подвёл мочевой пузырь. Ветер хлещет в лицо, треплет волосы, оттягивает веки, так что даже глаза не закроешь. Он мчится навстречу тёмной воде… быстрее, ещё быстрее… опережая свой собственный крик…
Металл под ногами заскрежетал, но стрелок решительно шагнул вперёд, он не ускорил шага и старался не думать о пропасти внизу, о том, сколько они уже прошли и сколько ещё осталось пройти. Он старался не думать о том, что парнишкой придётся пожертвовать и что теперь наконец цена его чести почти что определена. Договорённость почти достигнута, и скорее бы уж всё разрешилось!
— Тут не хватает трёх шпал, — спокойно сообщил мальчик. — Я буду прыгать. Давай, Джеронимо! Вперёд!
В солнечном свете, пробивавшемся с той стороны, стрелок увидел его силуэт, на мгновение словно зависший в воздухе в неуклюжей, распластанной позе, с раскинутыми в стороны руками. Как будто мальчик готовился полететь, если он вдруг не сможет допрыгнуть. Он приземлился, и вся конструкция покачнулась. Металл протестующе заскрежетал, и что-то упало далеко-далеко внизу: сперва раздался грохот, а потом — всплеск.
— Ну что, перепрыгнул? — спросил стрелок.
— Да, — сказал мальчик. — Но тут всё насквозь прогнило. Как мысли некоторых людей. Меня ещё, может быть, выдержит, но вас — уже вряд ли. Возвращайтесь. Возвращайтесь назад и оставьте меня.
Голос, мальчика был холодным, и всё же в нём слышались истеричные нотки. Они колотились, как бешеный пульс; точно так же билось сердце парнишки, когда он спрыгнул на дрезину с платформы, и стрелок подхватил его на лету.
Стрелок легко перешагнул через пролом. Просто сделал шаг пошире, и всё. Гигантский шаг. Матушка, можно мне? Да-да, можно.
Мальчика била дрожь.
— Возвращайтесь. Я не хочу, чтобы вы меня убили.
— Ради любви Человека Иисуса, не стой, — рявкнул стрелок. — Иди. Эта штука точно обвалится, если мы будем стоять тут и препираться.
Теперь мальчик шёл, пошатываясь, как пьяный, выставив перед собой дрожащие руки и растопырив пальцы.
Они поднимались.
Да, здесь всё проржавело ещё сильнее. Проломы шириной в одну, две, а то и три шпалы попадались всё чаще, и стрелок начал уже опасаться, что в конце концов там будет такой широкий провал, что им придётся либо повернуть назад, либо идти по самим рельсам, балансируя на головокружительной высоте над пропастью.
Стрелок смотрел прямо вперёд, не отрывая глаз от пятна света.
Теперь сияние обрело цвет — голубой, — и по мере того как они приближались к источнику света, он становился всё мягче, и свечение из-купаемых на камнях постепенно бледнело. Сколько ещё им идти? Пятьдесят ярдов? Сто? Понять было сложно.
Они шли вперёд. Теперь стрелок смотрел себе под ноги, переступая со шпалы на шпалу, а когда снова поднял глаза, сияющее пятно превратилось в дыру: это был уже не просто круг света, а выход. Они дошли. Почти дошли.
Тридцать ярдов, не больше. Девяносто коротких шагов. Значит, не всё потеряно. Может быть, они ещё догонят человека в чёрном. Может быть, под ярким солнечным светом цветы зла у него в мыслях завянут и всё станет возможным.
Что-то заслонило собой свет.
Стрелок вздрогнул, поднял глаза к свету — так слепой крот выглядывает из норы — и увидел тёмный силуэт, перекрывающий свет, поглощающий свет: остались только дразнящие голубые полоски по контуру плеч и в разрезе между ногами.
— Привет, ребята!
Голос человека в чёрном прокатился грохочущим эхом по этой гулкой каменной глотке, придавшей звучавшему в нём сарказму дополнительную силу. Стрелок слепо пошарил рукой в кармане в поисках челюсти-кости. Но её не было. Где-то она потерялась. Сгинула, исчерпав всю свою силу.
Человек в чёрном смеялся, и этот смех обрушивался на них сверху, бился, точно прибой о камни, заполняя собой пещеру. Мальчик вскрикнул и вдруг пошатнулся, взмахнув руками.
Металл под ними дрожал и гнулся. Медленно, как во сне, рельсы перевернулись. Мальчик сорвался. Рука взметнулась в воздухе, точно чайка во тьме, — выше, ещё выше. А потом он повис над пропастью, и в его тёмных глазах, что буквально впились в стрелка, было знание — слепое, последнее, безысходное.
— Помогите мне.
И раскатистое, гремящее:
— Всё, шутки в сторону. Поиграли и хватит. Ну иди же, стрелок. Иначе тебе никогда меня не поймать!
Все фишки уже на столе. Все карты открыты. Все, кроме одной. Мальчик висел над пропастью, как ожившая карта Таро: Повешенный, финикийский моряк, невинная жертва, потерянная душа в мрачных водах адского моря. Он ещё держится на волнах, но уже скоро пойдёт ко дну.
Подожди, подожди.
— Так что, мне уйти?
Какой у него громкий голос. Мешает сосредоточиться.
Постарайся ничего не испортить. Возьми нескладную песню и сделай её лучше…
— Помогите мне. Помогите мне, Роланд.
Мост продолжал крениться. Он скрежетал и разваливался на глазах, срывая крепления, поддаваясь…
— Стало быть, я пошёл. Счастливо оставаться.
— Нет! Погоди!
И стрелок прыгнул. Ноги сами перенесли его оцепеневшее, парализованное внутренним смятением тело над парнишкой, повисшим над пропастью — настоящий гигантский шаг в безоглядном рывке к свету, что обещал указать путь к Башне, навеки запечатлённой в его душе застывшим чёрным силуэтом…
К внезапной тишине.
Силуэт, закрывающий свет, исчез. Сердце стрелка на мгновение замерло в груди, когда мост обвалился и, сорвавшись с опор, полетел в пропасть, кружась в последнем медленном танце. Стрелок ухватился рукой за залитый светом край каменного проклятия. А у него за спиной, в устрашающей тишине, далеко-далеко внизу мальчик явственно произнёс:
— Тогда идите. Есть и другие миры, кроме этого.
Последние крепления сорвались. Моста больше не было. И ринувшись вверх, к свету, ветру и реальности нового ка, стрелок оглянулся назад, вывернув шею, и в пронзительном приступе неизбывной боли на миг пожалел о том, что он не двуликий Янус. Но там, за спиной, уже не было ничего, только гнетущая тишина. Мальчик, падая, не издал ни звука.
А потом Роланд выбрался наружу, на каменистый откос, у подножия которого раскинулась зелёная равнина, где посреди густых трав стоял человек в чёрном — стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди.
Стрелок с трудом держался на ногах. Он шатался как пьяный. И был бледным как призрак. Глаза слезились на свету. Рубаху сплошь покрывала белая пыль — след от последнего, отчаянного рывка наверх. Он вдруг осознал, что это только начало — что впереди его ждёт дальнейшая деградация духа, по сравнению с которой его сегодняшний подлый поступок покажется малозначительной мелочью, и всё же он будет бежать от него всю жизнь — по коридорам и по городам, из постели в постель. Он будет бежать от лица мальчугана. Будет пытаться похоронить саму память о нём в неуёмном разврате и в человекоубийстве, лишь для того, чтобы, ворвавшись в последнюю комнату, найти там этого мальчика, который будет смотреть на него над пламенем свечи. Он стал мальчиком. Мальчик стал им. Он сам, своими руками, превратил себя в оборотня. И отныне и впредь, в самых сокровенных глубинах снов, он будет опять и опять превращаться в парнишку и говорить на языке странного города, из которого пришёл мальчик.
Это смерть. Да? Это смерть?
Пошатываясь на ходу, он очень медленно спустился по каменистому склону туда, где ждал его человек в чёрном. Здесь, под солнцем здравого мира, рельсы истлели, рассыпавшись в прах, как будто их и не было вовсе.
Человек в чёрном, смеясь, откинул капюшон.
— Вот, значит, как! — крикнул он. — Не конец всего, а всего лишь конец начала?! Ты делаешь успехи, стрелок! И большие успехи! Я тобой восхищаюсь!
Стрелок выхватил револьверы и выпустил все патроны. Двенадцать выстрелов подряд. Вспышки от выстрелов затмили само солнце, грохот пальбы отскочил оглушительным эхом от каменистых откосов у них за спиной.
— Ну-ну, — рассмеялся человек в чёрном. — Ну-ну. Мы с тобой вместе — великая магия. Ты и я. И когда ты стреляешь в меня, ты стреляешь в себя, вот почему ты меня никогда не убьёшь.
Он попятился, с улыбкой глядя на стрелка:
— Пойдём. Пойдём. Пойдём. Матушка, можно мне? Да-да, можно.
Стрелок, спотыкаясь на каждом шагу, двинулся следом за ним. Туда, где они наконец смогут поговорить.
Глава 5 СТРЕЛОК И ЧЕЛОВЕК В ЧЁРНОМ
I
Человек в чёрном привёл его для разговора к древнему месту свершения казней. Стрелок узнал его сразу: лобное место, голгофа — скопище истлевающих костей. На них отовсюду таращились выбеленные черепа: буйволов, койотов, оленей, зайцев и ушастиков-путаников. Вот алебастровый ксилофон — скелетик курочки фазана, убитой во время кормёжки; вот тонкие кости крота, убитого, может быть, ради забавы дикой собакой.
Голгофа. Чашеобразная впадина в пологом откосе горы. Ниже по склону стрелок разглядел деревья: карликовые ели и юкку — дерево Иисуса. Небо над головой — нежного голубого цвета. Такого неба стрелок не видел уже целый год. В воздухе веяло чем-то неописуемым, но говорящим о близости моря.
Вот я и на западе, Катберт, — удивлённо подумал стрелок. Если это ещё не Срединный мир, то всё равно уже близко.
Человек в чёрном присел на бревно какого-то древнего дерева. Его сапоги побелели от пыли и костяной муки, усыпавшей это угрюмое место. Он снова надел капюшон, но теперь стрелку были видны его губы и квадратный подбородок — в тени от капюшона.
Затенённые губы искривились в усмешке.
— Собери дров, стрелок. По эту сторону гор климат мягкий, но на такой высоте холод может ещё ткнуть ножом в пузо. Тем более что мы сейчас во владениях смерти, а?
— Я убью тебя, — сказал стрелок.
— Нет, не убьёшь. Не сможешь. Но зато можешь собрать дрова, дабы почтить память своего Исаака.
Стрелок не понял намёка, но без единого слова пошёл собирать дрова, точно какой-нибудь поварёнок на побегушках. Набрал он негусто. Бес-трава на этой стороне не росла, а древнее дерево стало твёрдым как камень и уже не будет гореть. Наконец он вернулся с охапкой тоненьких брёвнышек — или, вернее, толстых палочек, — весь в белой пыли от рассыпающихся костей, словно его хорошо вываляли в муке. Солнце уже опустилось за верхушки самых высоких деревьев и налилось алым свечением. Солнце глядело на них с пагубным равнодушием.
— Замечательно, — вымолвил человек в чёрном. — Какой же ты исключительный человек! Редкий, я бы даже сказал, человек! Такой обстоятельный! Такой находчивый! Я перед тобой преклоняюсь. — Он хохотнул, и стрелок швырнул ему под ноги охапку дров. Они с грохотом ударились о землю, подняв облако костяной пыли.
Человек в чёрном даже не вздрогнул. С совершенно невозмутимым видом он принялся сооружать костёр. Стрелок смотрел как зачарованный на то, как дрова для костра складываются в очередную (на этот раз совсем свежую) идеограмму. В конце концов костёр стал похож на причудливую двойную дымовую трубу высотой фута два. Человек в чёрном поднял руку к небу, встряхнул ею, откинув широкий рукав с тонкой красивой кисти, потом рывком опустил её, выставив мизинец и указательный палец «рожками» в древнем знаке, оберегающем от дурного глаза. Сверкнула вспышка синего пламени. Костёр загорелся.
— Спички у меня есть, — весело проговорил человек в чёрном, — но я подумал, тебе понравится что-нибудь колдовское, магическое. Хотелось тебя позабавить, стрелок. А теперь мы с тобой приготовим себе обед.
Складки его плаща всколыхнулись, и на землю упала тушка жирного кролика, уже освежёванная и выпотрошенная.
Стрелок молча насадил тушку на вертел и пристроил его над огнём. В воздухе разнёсся аппетитный запах. Солнце село. Лиловые тени жадно протянулись к впадине на склоне горы, где человек в чёрном решил наконец встретиться со стрелком. В животе у стрелка урчало от голода, но когда кролик прожарился, он без слов протянул вертел человеку в чёрном, а сам запустил руку в свой изрядно похудевший рюкзак и достал последний кусок солонины. Мясо было солёным, как слёзы, и разъедало рот.
— А такие широкие жесты, это совсем ни к чему. — Было видно, что человек в чёрном от души забавлялся, но при этом он ухитрялся казаться рассерженным.
— И всё-таки, — усмехнулся стрелок, и усмешка его вышла горькой, наверное, из-за соли, попавшей на крошечные язвочки во рту — последствия длительного авитаминоза.
— Ты что, боишься наколдованного мяса?
— Да. Боюсь.
Человек в чёрном откинул с лица капюшон.
Стрелок молча смотрел на него. На самом деле его лицо — теперь не скрытое капюшоном — вызвало у стрелка только тревожное разочарование. Это было красивое лицо с правильными чертами, безо всяких отметин или характерных морщин, которые выдают человека, познавшего тяжелейшие времена и посвящённого в великие тайны. Длинные чёрные волосы свисали неровными спутанными прядями. У него был высокий лоб, тёмные сверкающие глаза, совершенно непримечательный нос, полные, чувственные губы, а кожа — бледная, как и у самого стрелка.
— Я думал, ты старше, — сказал наконец стрелок.
— А почему? Я почти что бессмертный, как, кстати, и ты, Роланд, — по крайне мере сейчас. Я мог бы, конечно, явить тебе то лицо, которое ты ожидал увидеть, но я решил показать тебе то, с которым я… гм… родился. Смотри, стрелок, какой закат!
Солнце уже скрылось за горизонтом, и небо на западе озарилось воспалённым зловещим светом.
— Смотри, стрелок. Следующий восход ты увидишь нескоро, — сказал человек в чёрном.
Стрелок вспомнил чёрную пропасть под горной грядой и поднял глаза к небу, усыпанному бесчисленными созвездиями.
— Это уже не имеет значения, — сказал он тихо. — Сейчас.
II
Человек в чёрном плавно и быстро перетасовал колоду. Карт было много. Их обратную сторону украшали какие-то замысловатые завитки.
— Это карты Таро, — пояснил человек в чёрном. — Только к обычной колоде я добавил ещё и карты собственного изобретения. А теперь, стрелок, смотри внимательно.
— Зачем?
— Я буду предсказывать тебе будущее. Нужно открыть семь карт, одну за другой, и посмотреть, как они лягут по отношению друг к другу. В последний раз я занимался таким гаданием, когда Гилеад ещё стоял и дамы играли в шары на западной площадке. И есть у меня смутное подозрение, что такого расклада, как у тебя, в моей практике ещё не было. — Насмешливая нотка вновь прокралась в его голос. — Ты — последний на свете авантюрист. Последний крестоносец. И тебе это нравится, да, Роланд? Тебе это льстит? Однако ты даже не представляешь, как ты сейчас близко к Башне. Теперь, когда ты возобновил свой поиск. Миры вращаются у тебя над головой.
— Что значит возобновил? Я его не прекращал.
Человек в чёрном расхохотался, но не сказал, что его так позабавило.
— Тогда открой мне мою судьбу, — хрипло проговорил стрелок.
И вот перевёрнута первая карта.
— Повешенный, — объявил человек в чёрном. Тьма скрывала его лицо, как прежде его скрывал капюшон. — Но сама по себе, без других карт, она означает не смерть, а силу. Повешенный — это ты, стрелок. Тот, кто вечно бредёт к своей цели над бездонными пропастями Наара. И одного спутника ты уже сбросил в пропасть, верно?
Стрелок промолчал, и человек в чёрном перевернул вторую карту.
— Моряк. Обрати внимание: чистый лоб, щёки, не знавшие бритвы. В глазах — боль и обида. Он тонет, стрелок, и никто не бросит ему верёвку. Мальчик Джейк.
Стрелок поморщился, но ничего не сказал.
Перевёрнута третья карта. Омерзительный бабуин, скаля зубы, сидит на плече у молодого мужчины. Лицо юноши, застывшее в стилизованной гримасе ужаса, запрокинуто вверх. Присмотревшись, стрелок увидел, что бабуин держит плётку.
— Узник, — сказал человек в чёрном.
Пламя костра тревожно взметнулось, отбросив тень на лицо человека на карте, и стрелку показалось, что нарисованное лицо передёрнулось и ещё больше скривилось от безмолвного ужаса. Стрелок отвёл взгляд.
— Правда, что-то в нём есть угнетающее? — Казалось, человек в чёрном едва сдерживает смешок.
Он перевернул четвёртую карту. Женщина — её голову покрывает шаль — сидит у прялки. В пляшущем свете костра стрелку показалось, что она хитровато улыбается и плачет одновременно.
— Госпожа Теней, — сказал человек в чёрном. — Тебе не кажется, что у неё два лица, стрелок? Так и есть. Два лица, это как минимум. Она разбила синюю тарелку!
— И что это значит?
— Не знаю.
И стрелок почему-то поверил, что — хотя бы на этот раз — человек в чёрном сказал ему правду.
— Зачем ты мне всё это показываешь?
— Не спрашивай! — резко оборвал его человек в чёрном, и всё же он улыбался. — Не спрашивай. Просто смотри. Считай, что это всего лишь бессмысленный ритуал, если тебе так легче, и успокойся. Это как в церкви: всего лишь обряд.
Он хихикнул и перевернул пятую карту.
Ухмыляющаяся жница сжимает косу костяными пальцами.
— Смерть, — сказал человек в чёрном. — Но не твоя.
Шестая карта.
Стрелок посмотрел на неё и почувствовал, как его пробирает странный, тревожащий холодок предвкушения. Ужас смешался с радостью, и не было слов, чтобы назвать это чувство. Ему казалось, что его вот-вот стошнит, и в то же время хотелось пуститься в пляс.
— Башня, — тихо вымолвил человек в чёрном. — Вот она, Башня.
Карта стрелка лежала в центре расклада, а каждая из последующих четырёх — по углам от неё, как планеты-спутники, вращающиеся вокруг одной звезды.
— А куда эту? — спросил стрелок.
Человек в чёрном положил Башню поверх карты с Повешенным, закрыв её полностью.
— И что это значит? — спросил стрелок.
Человек в чёрном молчал.
— Что это значит? — нетерпеливо повторил стрелок.
Человек в чёрном молчал.
— Будь ты проклят!
Молчание.
— Чтоб тебе провалиться. Ладно, ну а седьмая карта?
Человек в чёрном перевернул седьмую. Солнце стоит высоко в чистом голубом небе. Купидоны и эльфы резвятся в сияющей синеве. Под солнцем — безбрежное красное поле, озарённое светом. Розы или кровь? Стрелок так и не понял. Может быть, и то, и другое, подумал он.
— Седьмая — Жизнь, — тихо вымолвил человек в чёрном. — Но не твоя.
— И где её место в раскладе?
— Сейчас тебе этого знать не дано, — сказал человек в чёрном. — Как, впрочем, и мне. Я не тот великий и могучий, кого ты ищешь. Я всего лишь его эмиссар. — Он небрежно смахнул карту в догорающий костёр. Она обуглилась, свернулась в трубочку и, вспыхнув, рассыпалась пеплом. Стрелка охватил неизбывный ужас. Сердце в груди обратилось в лёд.
— Теперь спи, — всё так же небрежно проговорил человек в чёрном. — «Уснуть! И видеть сны…» и всё в том же духе.
— Я тебя задушу, — пригрозил стрелок. — Чего не смогли сделать пули, может быть, смогут руки. — Его ноги как будто сами оттолкнулись от земли, и он яростно перемахнул через костёр, протянув руки к человеку в чёрном. Тот лишь улыбнулся и как будто вдруг увеличился в размерах, а потом стал отступать, удаляясь по длинному гулкому коридору. Мир наполнился язвительным смехом, а стрелок падал куда-то вниз, умирал, засыпал…
И был ему сон.
III
Пустая вселенная. Никакого движения. Вообще ничего.
И в пустоте, ошеломлённый, парил стрелок.
— Да будет свет, — прозвучал равнодушный голос человека в чёрном, и стал свет. И стрелок отстранённо подумал, что свет хорош.
— Теперь — тьма, и звёзды во тьме, и под небом вода.
И стало так. Он парил над бескрайним морем. Над головою мерцали неисчислимые звёзды, но там не было ни одного из созвездий, что указывали стрелку путь по его долгой жизни.
— Да явится суша, — повелел человек в чёрном. И стало так. Сотрясаемая мощными судорогами, поднялась она из вод: бурая и бесплодная, покрытая трещинами, неспособная родить живое. Вулканы извергали потоки нескончаемой магмы, выступая на поверхности земли, точно гнойные прыщи на безобразном лице какого-нибудь созревающего подростка.
— Отлично, — проговорил человек в чёрном. — Неплохое начало. Да будут растения разные. Деревья. Трава и луга.
И стало так. По земле разбрелись динозавры, хрипло рыча и оглашая её громким рёвом; они пожирали друг друга и увязали в пузырящихся гнилостных топях. Первобытный тропический лес распростёрся повсюду. Гигантские папоротники тянули к небу ажурные листья, по которым ползали жуки о двух головах. Стрелок всё это видел. И всё же он чувствовал, что это ещё далеко не предел.
— Теперь — человек, — тихо вымолвил человек в чёрном, но стрелок уже падал… падал в бездонные небеса. Горизонт беспредельной и тучной земли начал вдруг изгибаться. Да, все утверждали, что он изогнут, а Ванни, его учитель, говорил, что это было доказано ещё до того, как мир сдвинулся с места. Но чтобы увидеть такое своими глазами…
Всё дальше и дальше, выше и выше. Континенты, затянутые перистыми облаками, обретали свои завершённые очертания перед его изумлённым взором. Атмосфера, точно плацента, хранила рождающуюся планету. И солнце, восходящее над землёй…
Он закричал и закрыл глаза рукой.
— Да будет свет!
Голос, призвавший свет, уже не был голосом человека в чёрном. Он разнёсся над миром исполинским эхом, наполнил собой всё пространство этого мира, всё пространство между мирами.
— Свет!
Он падал, падал.
Солнце стремительно удалялось, превращаясь в мерцающую точку. Красная планета, испещрённая каналами, проплыла у него перед глазами. Вокруг неё, в бешеном кружении, вращались два спутника. Дальше был вихревой пояс камней и гигантская планета, окутанная клубами газа, слишком большая для того, чтобы сохранить свою целостность, и потому сплющенная у полюсов. А ещё дальше — сверкающий мир, окружённый кольцом ледяных осколков.
— Свет! Да будет…
Ещё миры. И ещё. Один, другой, третий. И далеко за пределами этих миров — последний одинокий шар из камня и льда, вращающийся в мёртвой тьме вокруг своего солнца, которое блестело не ярче, чем стёршаяся монетка.
А ещё дальше — мрак.
— Нет, — сказал стрелок, и его голос утонул в темноте, в той, что чернее кромешной тьмы. По сравнению с ней самая чёрная ночь человеческой души казалась сияющим полднем, мрак под горной грядой — пятнышком грязи на лике света. — Больше не надо. Не надо, пожалуйста…
— СВЕТ!
— Хватит. Не надо… пожалуйста…
Звёзды сжимались и гасли. Целые туманности свёртывались, сливаясь друг с другом, и превращались в хаотичное скопление расплывающихся пятен. Вокруг него корчилась, рассыпаясь на части, сама вселенная.
— Пожалуйста, хватит, не надо, не надо, не надо…
Вкрадчивый голос человека в чёрном прошептал у него над ухом:
— Тогда отступись. Оставь мысли о Башне. Иди своей дорогой, стрелок, и спасай свою душу. Это будет нелёгкий труд — чтобы спасти свою душу.
Он взял себя в руки. Потрясённый и одинокий, окутанный мраком, исполненный ужаса перед сокровенным смыслом, который открылся ему в одночасье, он взял себя в руки и дал свой последний ответ:
— НИКОГДА!
— ТОГДА — ДА БУДЕТ СВЕТ!
И стал свет. Он обрушился на стрелка как молот — великий, первозданный свет. И сознание погибло, растворившись в сиянии. Но прежде чем это случилось, стрелок успел кое-что разглядеть — очень важное, исполненное глубокого смысла. Он отчаянно ухватился за это видение и погрузился в себя, ища убежища там, внутри, — пока этот пронзительный свет не ослепил его и не выжег разум.
Он бежал света и знания, что заключал в себе этот свет, — и вернулся в сознание, вновь стал собой. Как и все мы; как лучшие из нас.
IV
Была ночь. Та же или другая — распознать невозможно. Он вырвался из взвихрённого мрака, куда увлёк его демонический прыжок к человеку в чёрном, и посмотрел на поваленный ствол окаменелого дерева, на котором сидел Уолтер о'Мрак (как его иногда называли). Но там не было никого.
Его охватило безмерное чувство отчаяния — Боже правый, опять всё сначала, — и тут у него за спиной раздался голос человека в чёрном:
— Я здесь, стрелок. Мне просто не нравится, когда ты подходишь так близко. Ты разговариваешь во сне. — Он хохотнул.
Стрелок, пошатываясь, поднялся на колени и обернулся. От костра остались лишь красные мерцающие угольки, серый пепел и знакомый ничтожный узор от сгоревших дров. Человек в чёрном сидел у кострища и, неприятно причмокивая губами, доедал жирные остатки крольчатины.
— А ты хорошо держался, — заметил он. — Вот, скажем, твоему отцу я ничего этого, не показывал. Он бы вернулся не в своём уме.
— Что это было? — спросил стрелок. Его голос дрожал, и слова прозвучали невнятно. Он чувствовал: если сейчас попытается встать, ничего у него не выйдет.
— Вселенная, — небрежно проговорил человек в чёрном, потом смачно рыгнул и швырнул кроличьи кости в костёр. Они блеснули среди углей и тут же почернели. Ветер над чашей голгофы стенал и стонал.
— Вселенная? — тупо переспросил стрелок. Слово было ему незнакомо. И сперва он подумал, что человек в чёрном говорил в поэтическом смысле.
— Тебе нужна Башня, — сказал человек в чёрном, и это прозвучало как вопрос.
— Да.
— Но ты её не получишь, — сказал человек в чёрном и улыбнулся жестокой улыбкой. — Великим нет дела до твоей души, Роланд. Заложишь ты её или сразу же запродашь — им всё равно. Я знаю, как близко она подтолкнула тебя к самому краю пропасти. Башня убьёт тебя, когда вас будет ещё разделять полмира.
— Ты ничего обо мне не знаешь, — спокойно проговорил стрелок, и улыбка на губах человека в чёрном поблёкла.
— Я сделал твоего отца тем, кем он был. И я же его уничтожил, — угрюмо выговорил человек в чёрном. — Я пришёл к твоей матери как Мартен — ты всегда это подозревал, я не прав? — и взял её. Она согнулась подо мной, как ива… хотя (может быть, это тебя утешит) всё-таки не сломалась. Но как бы там ни было, всё это было предрешено. И всё было так, как и должно было быть. Я — последний из ставленников того, кто правит теперь Тёмной Башней, и Земля перешла в алую руку этого короля.
— В алую руку? Почему она алая?
— Давай не будем. Сейчас речь не о нём. Хотя, если ты будешь упрям и настойчив, ты узнаешь и больше. Только тебе не понравится, что ты узнаешь. То, что ранило тебя один раз, ранит и во второй. Это не начало. Это начало конца. Тебе бы стоило это запомнить… но ты всё равно никогда не запомнишь.
— Я не понимаю.
— Правильно. Не понимаешь. И никогда не понимал. И никогда не поймёшь. У тебя нет ни грана воображения. И в этом смысле ты слепой.
— Что я видел? — спросил стрелок. — В самом конце. Что это было?
— А что там было?
Стрелок, задумавшись, замолчал. Его рука потянулась к кисету, но табак давно кончился. Человек в чёрном, однако, не предложил пополнить его запасы каким-нибудь колдовским способом: ни с помощью чёрной, ни с помощью белой магии. Может, потом он найдёт что-нибудь в рюкзаке, но сейчас это «потом» казалось таким далёким.
— Был свет, — наконец проговорил стрелок. — Яркий свет. Белый. А потом… — Он запнулся и уставился на человека в чёрном. Тот весь подался вперёд, и на лице у него отразилось совершенно несвойственное ему чувство, слишком явное, чтобы его можно было скрывать или же отрицать: удивление. Или даже благоговение. Хотя, может быть, это одно и то же.
— Ты не знаешь, — улыбнулся стрелок. — О великий волшебник и чародей, воскрешающий мёртвых. Ты не знаешь. Ты шарлатан!
— Я знаю, — сказал человек в чёрном. — Я только не знаю… что.
— Белый свет, — повторил стрелок. — А потом: травинка. Одна-единственная травинка, но она заполнила собой всё. А я был такой крошечный. Как пылинка.
— Травинка. — Человек в чёрном закрыл глаза. Его лицо вдруг как-то сразу осунулось и казалось теперь измождённым. — Травинка. Ты уверен?
— Да. — Стрелок нахмурился. — Только она была красной.
— А теперь слушай меня, Роланд, сын Стивена. Ты будешь слушать?
— Да.
И человек в чёрном заговорил.
V
Вселенная (сказал он) есть Великое Всё, и она преподносит нам парадоксы, недоступные пониманию ограниченного, конечного разума. Как живой разум не может осмыслить суть разума неживого — хотя он полагает, что может, — так и разум конечный не может постичь бесконечность.
Тот прозаический факт, что Вселенная существует, уже сам по себе разбивает всякие доводы как прагматиков, так и романтиков. Было время, ещё за сотни человеческих поколений до того, как мир сдвинулся с места, когда человечество достигло таких высот технических и научных свершений, что всё же сумело отколупнуть несколько каменных щепок от великого столпа реальности. Но даже тогда ложный свет науки (или, если угодно, знания) засиял только в нескольких, очень немногих, высокоразвитых странах. Одна компания (или клика) была в этом смысле ведущей: она называлась «Северный Центр позитроники». И, однако же, вопреки всем имевшимся в их распоряжении научно-техническим данным, которых было великое множество, число истинных прозрений было поразительно малым.
— Наши предки, стрелок, победили болезнь, от которой тело гниёт заживо, они называли её раком, почти преодолели старение, ходили по Луне…
— Этому я не верю, — сказал стрелок, на что человек в чёрном лишь улыбнулся:
— Ну и не надо. И тем не менее это так. Они создали или открыли ещё сотни других замечательных штук. Однако всё это обилие информации не принесло никакого глубинного проникновения в первоосновы. Никто не слагал торжественных од в честь искусственного оплодотворения — когда женщина зачинает от замороженной спермы — и самоходным машинам, работающим на энергии, взятой от солнца. Очень немногие — если вообще таковые были — сумели постичь главный Принцип Реальности: новые знания всегда ведут к новым тайнам, к тайнам, ещё более удивительным. Чем больше психологи узнавали о способностях мозга, тем напряжённее и отчаяннее становились поиски души, существование которой рассматривалось как факт сомнительный, но всё-таки вероятный. Ты понимаешь? Конечно, ты не понимаешь. Ты уже исчерпал все свои способности к пониманию. Но это не важно.
— А что тогда важно?
— Величайшая тайна Вселенной не жизнь, а размер. Размером определяется жизнь, заключает её в себе, а его, в свою очередь, заключает в себе Башня. Ребёнок, который открыт навстречу всему чудесному, говорит: «Папа, а что там — за небом?» И отец отвечает: «Темнота и космическое пространство». Ребёнок: «А что за ними?» Отец: «Галактика». — «А за галактикой?» — «Другая галактика». — «А за всеми другими галактиками?» И отец отвечает: «Этого никто не знает».
Ты понимаешь? Размер торжествует над нами. Для рыбы вселенная — это озеро, в котором она живёт. Что думает рыба, когда её выдернут, подцепив за губу, сквозь серебристую границу привычного существования в другую, новую вселенную, где воздух для неё — убийца, а свет — голубое безумие? Где какие-то двуногие великаны без жабр суют её в душную коробку и, покрыв мокрой травой, оставляют там умирать?
Или возьмём ну хотя бы кончик карандаша и увеличим его. Ещё и ещё. И в какой-то момент вдруг придёт понимание, что он, оказывается, не плотный, этот кончик карандаша. Он состоит из атомов, которые вертятся, как миллионы бесноватых планет. То, что нам кажется плотным и цельным, на самом деле — редкая сеть частиц, которые держатся вместе только благодаря силе тяготения. Они бесконечно малы, но если расстояние между этими атомами пропорционально их величине, тогда при переводе в привычную нам систему измерений оно может составить целые лиги, пропасти, эры. А сами атомы состоят из ядер и вращающихся частиц — протонов и электронов. Можно проникнуть и глубже, на уровень субатомного деления. И что там? Тахионы? Или, может быть, ничего? Конечно же, нет. Всё во Вселенной отрицает абсолютную пустоту. Конец — это когда нет уже ничего, а значит, Вселенная бесконечна.
Допустим, ты вышел к самой границе Вселенной. И что там будет? Глухой высокий забор и знак «ТУПИК»? Нет. Может быть, там будет что-то твёрдое и закруглённое, сродни тому, как яйцо видится изнутри ещё невылупившемуся цыплёнку. И если тебе вдруг удастся пробить скорлупу (или найти дверь), представь себе, какой мощный сияющий свет может хлынуть в эту твою дыру на краю мироздания. А вдруг ты выглянешь и обнаружишь, что вся наша Вселенная — это только частичка атома какой-нибудь тонкой травинки? И тогда, может быть, ты поймёшь, что, сжигая в костре одну лишь хворостинку, ты превращаешь тем самым в пепел неисчислимое множество бесконечных миров. Что мироздание — это не одна бесконечность, а бесконечное множество бесконечностей.
Может быть, тебе довелось увидеть, каково место нашей Вселенной во всеобщей структуре сущего — не более чем место отдельного атома в ткани травинки. Может быть, всё, что способен постичь наш разум — от микроскопического вируса до далёкой туманности Конская Голова, — всё это вмещается в одной травинке, которая, может быть, и существует всего-то один сезон в каком-то другом временном потоке? А что, если эту травинку вдруг срежут косой? Когда она начнёт гнить, не просочится ли эта гниль в нашу Вселенную, в нашу жизнь? Не станет ли наш мир желтеть, чахнуть и засыхать? Может быть, это уже происходит. Мы говорим, что мир сдвинулся с места, а на самом-то деле он, может быть, засыхает?
Только подумай, стрелок, как мы малы и ничтожны, если подобное представление о мире верно! Если Бог и вправду всё видит и совершает божественное правосудие, станет ли Он выделять один рой мошкары среди бессчётного множества других? Различает ли глаз Его воробья, если этот воробушек меньше атома водорода, что одиноко блуждает в глубинах космоса? А если Он видит всё сущее… тогда что же это должен быть за Бог?! Какова Его божественная природа? Где Он обитает? Как вообще можно жить за пределами бесконечности?
Представь весь песок пустыни Мохане, которую ты пересёк, чтобы найти меня, и представь миллионы вселенных — не миров, а вселенных, — заключённых в каждой её песчинке; и в каждой из этих вселенных — неисчислимое множество других вселенных. И мы, на нашей жалкой травинке, возвышаемся над ними на недосягаемой высоте; и одним взмахом ноги ты, может быть, низвергаешь миллиарды и миллиарды миров в темноту, и они образуют цепь, которая никогда не прервётся.
Размер, стрелок… размер…
Но давай предположим ещё, что все миры, все вселенные сходятся в некой точке, к некоему ядру, к некоей стержневой основе. К Башне. К лестнице, может быть, к самому Богу. Ты бы решился подняться по ней, стрелок? А вдруг где-то над всей бесконечной реальностью существует такая комната…
— Нет, стрелок, ты не осмелишься.
И эти слова отдались эхом в голове у стрелка: Ты не осмелишься.
VI
— Но есть тот, кто осмелился, — сказал стрелок.
— Да? И кто же?
— Бог. — Глаза у стрелка загорелись. — Бог осмелился… или этот король, о котором ты говорил… или… может быть, эта комната пустует, провидец?
— Я не знаю. — Тень страха прошла по лицу человека в чёрном, мягкая, тёмная, точно крыло канюка. — И более того, не испрашиваю ответа. Это было бы неразумно.
— Боишься, как бы тебя громом не поразило?
— Пожалуй, боюсь… ответственности, — отозвался человек в чёрном, а потом замолчал. Стрелок тоже молчал. Ночь была очень долгой. Млечный Путь распростёрся над ними в своём первозданном великолепии, но в пустоте между звёздами было что-то пугающее. Стрелок пытался представить себе, что бы он ощутил, если бы эти чернильные небеса вдруг раскололись и на землю хлынул поток слепящего света.
— Костёр, — сказал он. — Костёр догорает. Мне холодно.
— Ну так разведи свой костёр, — сказал человек в чёрном. — У дворецкого сегодня выходной.
VII
Стрелок задремал, а когда проснулся, увидел, что человек в чёрном глядит на него как-то болезненно, жадно.
— Ну, и чего ты уставился? — Стрелку вспомнилось одно из присловий Корта. — Увидел голую задницу своей сестрицы?
— Да нет, просто смотрю на тебя.
— Не надо на меня смотреть. — Он пошевелил угольки костра, разрушив стройную идеограмму. — Мне неприятно. — Он поглядел на восток, не начало ли светать, но бесконечная эта ночь длилась и длилась.
— Ждёшь рассвета? Так рано?
— Я ведь создан для света.
— А, ну да! Я и забыл. Как это невежливо. Но нам с тобой нужно ещё о многом поговорить, ещё много чего обсудить. Так решил мой король и хозяин.
— Что за король?
Человек в чёрном улыбнулся.
— Тогда, может быть, скажем друг другу всю правду? И вообще начнём говорить откровенно? Никакой больше лжи?
— Я думал, мы и так говорим правду.
Но человек в чёрном как будто его и не слышал.
— Может быть, скажем друг другу всю правду? — повторил он. — Поговорим, как мужчина с мужчиной. Не как друзья, но как равные. Это редкое предложение, Роланд, и его будут делать тебе нечасто. По моему скромному мнению, только равные говорят правду друг другу. Друзья и любимые, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно. А это так утомляет!
— Что ж, правду так правду. — Всё равно этой ночью стрелок не сказал ни единого слова лжи. — Зачем же тебя утомлять? Начни с объяснения, что ты имел в виду, когда говорил про чары.
— Чары — это колдовство, стрелок. Мой король своим колдовством продлил эту ночь и будет длить её до тех пор, пока мы не закончим этот разговор.
— А мы скоро закончим?
— Нескоро. Точнее сказать не могу. Потому что и сам не знаю. — Человек в чёрном стоял над костром, и отблески тлеющих угольков ложились замысловатым узором ему на лицо. — Спрашивай. Я расскажу тебе всё, что знаю. Ты догнал меня. Так будет честно. Я, по правде сказать, и не думал, что ты сумеешь меня догнать. И всё же твой поиск только ещё начинается. Спрашивай, и так мы быстрее дойдём до главного.
— Кто твой король?
— Я ни разу его не видел. Но ты увидишь. Но прежде чем встретиться с ним, сначала ты должен встретиться с Незнакомцем-вне-Времени. — Человек в чёрном беззлобно улыбнулся. — Ты должен будешь убить его, стрелок. Но, по-моему, ты хотел спросить о другом.
— Но если ты никогда не видел своего короля и хозяина, откуда же ты его знаешь?
— Он приходит ко мне в снах. В первый раз он пришёл очень давно, когда я был подростком и жил в бедности и безызвестности в одной стране, далеко-далеко отсюда. Это было давно. И вот тогда, много столетий назад, он связал меня моим долгом и обещал мне мою награду, и я служил ему все эти годы, хотя моё главное дело мне было поручено только недавно. Мой долг, моё главное дело — это ты, стрелок. — Человек в чёрном усмехнулся. — Видишь, кое-кто принимает тебя всерьёз.
— У этого Незнакомца есть имя?
— О, имя есть.
— И как его имя?
— Имя ему — легион, — тихо вымолвил человек в чёрном, и во тьме на востоке, где высились горы, грохот обвала подкрепил значимость его слов. Где-то вскрикнула пума, почти как женщина. Стрелка проняла дрожь. Даже человек в чёрном невольно вздрогнул. — И всё же, мне кажется, ты не об этом хотел спросить. Не в твоём это духе: заглядывать так далеко вперёд.
Стрелок знал, о чём он хотел спросить. Вопрос мучил его всю ночь, всю эту долгую ночь и долгие годы до этого. Он вертелся на кончике языка, но стрелок всё же не задал его… ещё не время.
— Этот Незнакомец, он тоже ставленник Башни? Как ты?
— Мне до него далеко. Он меркнет. Он проступает. Он во всех временах. Но есть кто-то превыше него.
— Кто?
— Ни о чём больше не спрашивай! — выкрикнул человек в чёрном. Его голос вдруг сделался жёстким, но потом дрогнул на ноте мольбы. — Я не знаю! И не хочу знать! Говорить про дела, творящиеся в крайнем мире, — всё равно что накликать погибель своей души.
— А над этим Незнакомцем-вне-Времени — уже Башня и всё, что она в себе заключает?
— Да, — прошептал человек в чёрном. — Но ты всё же хочешь спросить о другом.
Воистину так.
— Ну хорошо, — проговорил стрелок, а потом задал старый, как мир, вопрос:
— Я сделаю так, как задумал? Я дойду до конца?
— Если я отвечу на этот вопрос, ты меня убьёшь.
— Я тебя всё равно убью. Тебя надо убить. — Рука стрелка сама потянулась к кобуре.
— Так тебе не отомкнуть дверей, так ты закроешь их навсегда, стрелок.
— Куда мне идти?
— Иди на запад. До самого моря. Там, где кончается мир, там ты должен начать свой путь. Был один человек, он дал тебе совет. Человек, которого ты победил в поединке, когда-то, давным-давно…
— Да, Корт, — нетерпеливо прервал его стрелок.
— Так вот, он тебе посоветовал обождать. Это был никудышный совет. Потому что уже тогда мои планы против твоего отца начали воплощаться. Он отослал тебя с поручением, а когда ты вернулся…
— Не хочу это слушать, — сказал стрелок, и у него в голове вновь зазвучала та песня, которую пела ему мама: чик-чирик, не бойся кошек, дам тебе я хлебных крошек.
— Тогда послушай другое: когда ты вернулся, Мартен уехал на запад, чтобы присоединиться к мятежникам. Так все говорили, и ты в это верил. Но Мартен и одна старая ведьма подстроили тебе ловушку, и ты в эту ловушку попался. Хороший мальчик! И хотя Мартена там уже не было, там был один человек, который тебе его напоминал, помнишь? Такой, в монашеском одеянии… и с обритой головой, как у кающегося грешника…
— Уолтер, — прошептал стрелок. И хотя он уже сам пришёл к этому выводу, неприкрытая правда его потрясла. — Ты. То есть Мартен никуда не уезжал.
Человек в чёрном хихикнул.
— К вашим услугам.
— Сейчас я буду тебя убивать.
— Ну нет, так нечестно. Тем более что всё это было давным-давно. А теперь пришло время для разговора на равных. Время делиться секретами.
— Ты никуда не уезжал, — повторил ошеломлённый стрелок. — Ты просто переменился.
— Ты садись, — предложил человек в чёрном. — Я расскажу тебе много историй. Столько, сколько ты сможешь выслушать. Твои истории, я думаю, будут намного длиннее.
— Я никогда никому не рассказываю о себе, — пробормотал стрелок.
— Но этой ночью расскажешь. Ты должен. Чтобы нам разобраться, суметь понять…
— Что понять? Мою цель? Ты её и так знаешь. Башня — вот моя цель. Я поклялся её найти.
— Не цель, стрелок. А твой разум. Твой заторможенный, но упорный и цепкий разум. Другого такого, как у тебя, не было, наверное, за всю историю этого мира. Может быть, даже за всю историю мироздания. Пришло время для откровенного разговора. Время историй.
— Ну, тогда говори.
Человек в чёрном тряхнул широким рукавом. Оттуда выпал какой-то предмет, обёрнутый фольгой, в изломах которой многократно отразилось мерцание тлеющих угольков.
— Табак, стрелок. Будешь курить?
Стрелок смог ещё устоять перед кроликом, но перед таким предложением — нет. Он взял свёрток и нетерпеливо его раскрыл. Замечательный измельчённый табак и зелёные, на удивление влажные листья — чтобы его заворачивать. Такого хорошего табака стрелок не видел уже лет десять.
Он свернул две папиросы и откусил у них кончики, чтобы лучше чувствовался аромат табака. Одну папироску он предложил человеку в чёрном. Тот не отказался. Каждый вытащил из костра по тлеющей головне.
Стрелок прикурил и глубоко затянулся ароматным дымом. Он даже закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на ощущениях, и выдохнул медленно, с наслаждением.
— Ну как, хорошо? — спросил человек в чёрном.
— Замечательно.
— Что ж, наслаждайся. Может статься, тебе ещё очень нескоро представится случай опять закурить.
Стрелок и бровью не повёл.
— Вот и славно, — продолжал человек в чёрном, — тогда начнём. Ты должен понять одну вещь: Башня была всегда, и всегда находились такие мальчишки, которые знали о ней и страстно желали её, больше чем власти, богатства и женщин… мальчишки, которые уходили на поиски тех дверей, что приведут к Башне…
VIII
И был разговор, разговор длиной в самую долгую ночь, и бог знает сколько ещё (и сколько из этого было правдой), но потом стрелок сумел вспомнить очень немногое из того разговора… и ему, с его на редкость практическим складом ума, многое показалось бессмысленным или же чем-то таким, чему не стоило придавать значения. Человек в чёрном снова сказал ему, что он должен добраться до моря — всего-то миль двадцать на запад по лёгкой дороге, — и там ему будет дарована сила призыва. Сила для извлечения.
— Я не совсем точно выразился, — сказал человек в чёрном и бросил окурок в догорающий костёр. — Никто тебе ничего не дарует, стрелок, потому что она, эта сила, уже есть в тебе. И я должен сказать тебе это, отчасти из-за того, что ты решился пожертвовать мальчиком, отчасти из-за того, что таков порядок, естественный ход вещей. Воде надлежит течь с горы вниз, а тебе надлежит знать. Как я понимаю, ты призовёшь себе троих… но на самом деле мне всё равно. Я ничего не хочу знать.
— Троих, — пробормотал стрелок, вспомнив предсказание оракула.
— Вот тогда и начнётся веселье. Жалко только, меня там не будет. Прощай, стрелок. Я своё дело сделал. Цепь по-прежнему у тебя в руках. Смотри только, как бы она не обмоталась вокруг твоей собственной шеи.
Как будто какая-то внешняя сила подтолкнула Роланда, и он спросил:
— Это ещё не всё, правда?
— Да. — Человек в чёрном улыбнулся стрелку своими бездонными глазами и протянул к нему руку. — Да будет свет.
И стал свет. И на этот раз свет был хорош.
IX
Роланд проснулся у остывшего кострища и обнаружил, что постарел на десять лет. Его чёрные волосы поредели на висках и подёрнулись сединой, цвета осенней паутины. Морщины на лице стали глубже, кожа — грубее.
Остатки дров, которые он собирал для костра, сделались твёрже камня, человек в чёрном превратился в ухмыляющийся скелет в истлевающем тёмном плаще: ещё одна кучка костей в этом месте смерти, ещё один череп на этой голгофе.
Это действительно ты? — подумал стрелок. — Что-то я сомневаюсь, Уолтер о'Мрак… что-то я сомневаюсь, Мартен.
Он встал на ноги и огляделся. А потом вдруг наклонился и протянул руку к останкам своего собеседника, с которым они проговорили всю вчерашнюю долгую ночь (если это действительно были останки Уолтера) — ночь, растянувшуюся на десять лет.
Он отломал нижнюю челюсть от ухмыляющегося черепа и небрежно засунул её в левый передний карман своих джинсов. Вполне подходящая замена для той, что осталась в горах.
— И что из того, что ты мне говорил, было правдой? — спросил он. Он был уверен, что очень немногое. Но ложь была хороша. Прежде всего потому, что она очень умело мешалась с правдой.
Башня. Где-то там, впереди, она ждёт его — средоточие Времени, средоточие Размера.
Он снова отправился в путь. На запад. Повернувшись спиной к восходу, лицом к океану. Осознавая, что целый этап его жизни прошёл, завершился.
— Я любил тебя, Джейк, — сказал он вслух.
Его онемелое тело постепенно приобрело обычную подвижность, он зашагал быстрее и уже вечером вышел на край земли. Он уселся на пустынном берегу, что простирался и влево, и вправо, теряясь в бесконечности. Волны бились о берег, накатывая непрестанно. Заходящее солнце окрасило воду фальшивым золотом.
Стрелок сидел, обратив лицо к меркнущему свету дня. Он замечтался, глядя на небо, где уже зажигались звёзды; его решимость не ослабла, сердце не дрогнуло. Ветер трепал его волосы, теперь поредевшие и поседевшие на висках; револьверы его отца с рукоятями из сандала лежали, спокойные и беспощадные, у него на бёдрах. Он был одинок, но не считал одиночество чем-то плохим или постыдным. Тьма опустилась на мир, и мир сдвинулся в места. Стрелок ждал, когда придёт время для извлечения, и предавался своим долгим грёзам о Тёмной Башне, к которой он подойдёт однажды — в сумерках, трубя в рог, чтобы сразиться в последней немыслимой битве.
Переводчик выражает благодарность всем, кто помогал в работе: Сергею Тихоненко aka Expert (/), Владу Полещикову, Андрею Бекеше, Дмитрию Голомолзину aka Гед (, )
Примечания
1
Подробнее о Факторе Чуши смотри «Как писать книги» (On Writing), изданную в Scribner в 2000 году. — Примеч. авт.
(обратно)2
Люди, связанные судьбой. — Примеч. авт.
(обратно)3
Вот только один из примеров: в первой редакции «Стрелка» Фарсон — это название города. Но в следующих книгах оно как-то само собой превратилось в имя человека, мятежника Джона Фарсона, который устроил падение Гилеада, города-государства, где родился и вырос Роланд. — Примеч. авт.
(обратно)4
без музыкального сопровождения (лат.).
(обратно)5
Cojones — яйца, мошонка (исп.). — Примеч. пер.
(обратно)
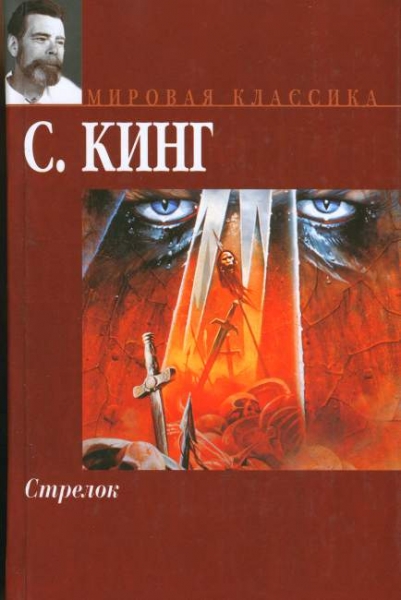


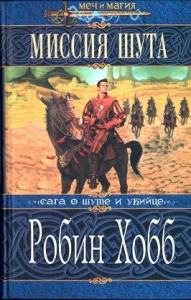
Комментарии к книге «Стрелок», Стивен Кинг
Всего 0 комментариев