Львив Юлия Мельникова
Часовня Боимов закрыта, Сомкнуты львиные уста. И мисто Львив как сон нависнет Проклятьем древним до утра.1. Фатих и Ясмина. Турецкий квартал Львива. Конец 1660-х годов
В темных и пыльных сводах львовского собора гнездились летучие мыши. Им было хорошо там, тепло, сухо, поэтому, возвращаясь с ночной охоты, мыши цеплялись длинными когтями за выщербленные перекрытия — и благословляли догадливых строителей, сделавших им такое удобное укрытие. Бесчисленные поколения — выводок за выводком — успели прожить свои недолгие мышиные жизни в соборе, жирея и благоденствуя. Молодые мышата, глупые, безбоязные, неисповедимыми путями прилетали в католический храм, ставший родным домом.
Летучая мышь летает, пока нет летучего кота, а так как еще ни у одного львовского котяры не выросли крылья, мыши могут спать и дальше. Никто не потревожит их покой днем, будут висеть они кверху лапками, завернувшись, словно в кожаные плащики в свои крылышки, и дремать под звуки органа, под Te deum или Stabat mater…
Примерно так рассуждал Фатих-Сулейман Кёпе, молодой львовский турок, сын торговца предметами старины и плененной пештской цыганки, разглядывая собор, внутрь которого он, честный магометанин, заходил иногда из прирожденного любопытства.
Но Фатих интересовался не одними летучими мышами. Еще на прошлой неделе его взгляд привлекла одна молоденькая прихожанка, невысокая, тоненькая, в скромном светло-сером платье с простым кружевным воротничком. Кто она, Фатих не знал, но решил выяснить. Появлялась она обычно в четыре пополудни, в то время, когда в соборе почти никого не было, и, опустившись на колени, жарко бормотала по-польски одной ей ведомые молитвы.
Неправильно она делает, не терпелось подправить ему, ну да ладно, полячке прощается..
Уже второй раз Фатих упускал девушку из вида, очаровывался и забывал проследить, куда она уходит или в какое место ее увозит карета.
Но теперь я своего не упущу — решил турок.
И побежал, прокрадываясь, как тигр, настигающий лань, вслед за красивой дорогой каретой. Длинные полы расшитого узорами халата подметали не очень чистую львовскую мостовую. Шальвары смешно пузырились, надутые ветром. Турецкие туфли с загнутыми носами запинались о камни. Мелко звенели нашитые на поясе монетки. Фатих бежал за ней аж на Подзамче, в гору, но лошади были сильные, быстрые. Совсем скоро Фатих отстал от кареты незнакомки настолько, что уже не было смысла продолжать погоню.
— Итак, где-то на Подзамче — прошептал Фатих-Сулейман.
Дома, в старом турецком квартале, его ждала неприятность.
— Фатих, где ты носишься?! Я кричу тебе уже полдня! — раздосадованный голос властной матери не оставлял надежд на мирный обед. Шляется среди неверных, глазеет на бесстыдниц! Нет, маме ты не поможешь! А вот развратной армянской девке перчатки подавать — это наш Фатих умеет!
— Мама, милая, ну откуда ты знаешь про Этери?!
— Я не только про Этери, я про всех них знаю! Вот придет отец, он тебе покажет! Кстати, он надумал тебя женить!
— Женить?! Только этого мне не хватало сейчас! — огорчился Фатих-Сулейман. — И на ком же?!
— На порядочной мусульманской девушке, из приличной семьи. Ее зовут Ясмина.
— Ну и имя, вздохнул Фатих, никогда о таком не слышал, жасмин, что ли?
— Да, сказала мама, Ясмина. Она красивая.
— Не видел — буркнул Фатих.
— Букиниста Ибрагима знаешь? Ясмина — его дочь, он воспитывал ее один, жена погибла. Ясмина мила, добра, набожна. Родной язык у нее турецкий, девушка выросла здесь, в нашем квартале, умеет читать по-арабски, даже может сделать прекрасную каллиграфическую надпись….
— Неужели у Ясмины нет никаких недостатков?!
— Она слепа, Фатих, еще малышкой повредила глаза при пожаре, унесшим жизнь ее матери. Но об этом очень сложно догадаться. Ясмина живет, будто зрячая, спокойно ходит, ведет домашнее хозяйство… Фатих, сынок, встретив ее, ты и не подумаешь, что Ясмина не видит. Ибрагим рассказывал, как его дочь проводит пальцами по книге и читает.
Фатих-Сулейман выскочил из дома, разозленный и ошеломленный.
Мало того, что его собираются женить, даже не поинтересовавшись, хочется ли в 18 лет связывать себя по рукам и ногам, да еще невесту подобрали слепую! Нет, конечно, девушка нисколько не виновата в том, что с ней случилось такое горе, и, наверное, Ясмина действительно хорошая, но..
Побродив час по львовским улочкам, Фатих успокоился. Он уже решил повернуть домой и помочь матери в лавке, чтобы помириться, как Фатиха сзади кто-то окликнул на ломаном польском языке.
— Эй, парень, заходи, купи чего-нибудь?!
Фатих оказался перед дверью небольшого магазинчика. Зайду ради любопытства, подумал он, раз зовут. Колокольчик звякнул, и Фатих очутился в странном темноватом чуланчике. На высоких, красного дерева, полках лежали причудливые товары. Тут были украшения разной степени благородности, резные шкатулочки из слоновой кости, агатов и яшмы, бронзовые подсвечники, серебряные ложки.
У прилавка стоял хозяин, мрачноватый караим, с безразличным лицом изучающий записи в черной кожаной тетради. Фатих стал разглядывать украшения. Вообще-то ему они были не нужны: Фатих никогда не расставался со старым перстнем, подарком отца.
И другие вещи его мало интересовали.
Но тут, в загадочном чуланчике, Фатих увидел небольшой кулон, от которого не мог оторвать глаз. В узорной серебряной оправе — украшенной надписью арабской вязи — красовался лунный камень редкой формы. Он изгибался полумесяцем, казался то прозрачным, белым, то нежно голубым, то синеющее фиолетовым. Кулон лежал на подушечке черного бархата, прикрепленный серебряной цепочкой. Фатих долго, не отрываясь, смотрел на кулон. Столько лет жил, нисколечко не зная о существовании такого кулона, и вот те на, теперь жизнь без него показалась абсолютно невозможной….
Наконец, после нескольких минут волнения и борений, Фатих спросил: а этот кулон сколько стоит?!
— Он не продается, ответил хозяин, ни за какие деньги, потому что это образец, мне не принадлежащий. Я выставил его для красоты по просьбе владельца, который вынужден был отправиться в далекое путешествие, и поклялся, что никто, никогда, кроме него самого, не заполучит этот кулон. Любуйтесь, я за это денег не потребую. Если он уж так сильно вам приглянулся — у меня есть знакомый, хороший ювелир, и за достойную плату он сделает копию.
— Что мне копия, — нетерпеливо воскликнул Фатих, — это не то!
— Извините, молодой человек, я не собирался вас огорчать, но есть немало вещей, которые купить невозможно. Считайте, что этот кулон — одна из таких вещей. Посмотрите на этот браслет из ониксов, или вот редчайшая штучка — малахитовая шкатулка, а еще нам обещали привезти сушеного аллигатора…
— Очень нужен мне ваш аллигатор, чудище заморское — обиделся Фатих. Расстроенный, он вышел из лавки и уныло поплелся домой.
На углу Фатих обернулся, чтобы запомнить место, где была лавка, и увидел прекрасную турчанку, несущую в руках курицу с только что отрубленной головой. Из тонкой куриной шеи на землю капала жидкая бордовая кровь, но Фатих не обратил на это ни малейшего внимания. Турчанка была юна и прелестна.
Ее смуглое овальное личико немного портили только сросшиеся у переносицы брови, но это дело поправимое. Длинные ресницы почти прятали огромные, в добрую половину лица, глаза. Алые губы едва заметно улыбались. Она была несколько худовата, волосы скрывал платок в пестрых узорах, просторное восточное платье, черное, с синей каймой, напомнили горячему турку неведомых дев его далекой родины. Фатих остановился, замерев, и любовался ею.
Но она быстро, словно стыдясь его, проскользнула во внутренний дворик безликого дома и скрылась. С курицы накапала целая кровавая лужа.
Как она не запачкалась, бедная, подумал Фатих, и зашагал прочь…..
Он прошел мимо городской ратуши, украшенной двумя позолоченными львами. Носы и кончики хвостов их облупились, показывая всем львовянам свое неблагородное медное нутро. Флаг на ратуше тоже не вызывал у Фатиха щенячьей радости: поляков он не любил.
Ничего, скоро тут будет развеваться наше зеленое знамя — подумал Фатих, нужно только немножко подождать. Сколько «немножко» — Фатих не знал. Может, лет 200, а то и все 400.
2. Леви — тайный эмиссар Шабтая Цви, приезжает во Львов. 1667 год
Темной ночью, когда все добропорядочные жители Львова мирно спали, два вороных коня привезли в турецкий квартал скромную повозку, в которой обычно ездят на ярмарку греческие и армянские купцы средней руки. Большие колеса ее пропитались липкой пылью, облепились сухими травинками, полог из толстой, грубой ткани местами украшали крупные заплаты. Тщательно упакованные в холстину и перевязанные грубыми пеньковыми веревками баулы высоко подпрыгивали на каждом ухабе, когда кони спотыкались о выступавшие из мостовой камни. Возница — мрачный еврей в одежде, сшитой из кусочков, очень странного покроя, с черной ермолкой на кудрявой голове, хранил гробовое молчание. Он даже не причмокивал толстыми губами и правил повозкой совершенно бесшумно, словно боясь произнести малейший звук. Только кони нарушали таинственность. Цоканье хорошо подкованных конских копыт о камни гулко отдавалось в торжественной тишине и разбудило Фатиха, мимо дома которого двигалась повозка. Он хотел было подняться, посмотреть в окно, но передумал и вновь уснул.
Тем временем кони стали. Из повозки медленно вышел мужчина средних лет, приторной восточной наружности, с аккуратной черной бородкой и маслянистыми карими глазами. Он вздохнул, достал монету, чтобы расплатиться с возничим и сам, никому не доверяя, согнулся под тяжестью двух огромных баулов. В доме напротив быстро отворилась дверь, и в нее, словно опасаясь быть увиденным, проскочил этот загадочный незнакомец.
Его звали Леви Михаэль, он был турецким евреем родом из Измира, но здесь он предпочитал считаться турком-букинистом по имени Осман Сэдэ, временно переведшим свое дело во Львов.
Леви Михаэль имел несчастье быть кузеном, названным братом знаменитого авантюриста Шабтая Цви, объявившего себя Машиахом и взбаламутившего мир экстравагантными поступками.
Их отцы, потомки португальского изгнанника, турецкие евреи Ицхак и Мордехай Цви, приходились друг другу братьями. Ицхак жил в городе Эдирна, торговал пряностями и благовониями, а Мордехай, переехав из Мореи в Измир, специализировался на перепродаже предметов старины, редких манускриптов и дорогих тканей. Лавка Ицхака, теснимая конкурентами, беднела и хирела, когда как дела Мордехая шли очень хорошо. Из уличного торговца он превратился в успешного купца, посредника английского торгового дома, где покупали товары только очень богатые люди.
Леви был совсем маленьким, когда его отец, неудачник Ицхак умер от непонятной болезни. Молодая вдова с младенцем на руках, оставшись без средств, осмелилась постучаться в дом родственника. До того ни Леви, ни его мать никогда не видели Мордехая Цви. Знали только, и то по чужим словам, что дядя Мордехай богат, живет в хорошем доме, держит слуг, а так же покровительствует бедным учащимся, которые занимаются за его счет разными науками и переписывают старинные свитки. Мордехай Цви взял Леви к себе в дом воспитываться вместе со своими сыновьями Шабтаем и Эли учиться Торе и Талмуду, не причиняя ему никакого зла. Горечь сиротства (а мать Леви тоже вскоре умерла в горячке) мальчику суждено было знать лишь по чужим рассказам да историям из нравоучительных книг. Он полюбил умников Шабтая и Эли как родных братьев, и всегда оказывался его верным другом, помогая учиться.
Семья Цви стала его семьей. Леви даже обижался, если ему кто-нибудь напоминал, что Шабтай и Эли ему не настоящие братья, а Мордехай — не настоящий отец. Тогда бедный Леви не мог себе даже представить, какую пагубную роль в его жизни сыграет это родство и какие жуткие испытания выпадут на долю хилого, болезненного Шабтая.
Если бы ему маленьким мальчиком кто-нибудь сказал, что спустя годы Леви придется бежать в неведомый город Львов под видом турка и пытаться вырвать из коллекции рабби Нехемии Коэна каббалистическую рукопись для Шабтая, он бы только посмеялся.
Но смеяться Леви было некогда. От расторопности сиротки теперь зависела не только судьба самого Шабтая, а, возможно, и будущее всех евреев.
Так утверждал Шабтай, и Леви, привыкший всегда верить брату, легко было с этим согласиться.
Во Львов так во Львов, раз это единственный выход…
— Я прошу тебя об одном — сказал Шабтай, и зрачки его сузились как у совы, попавшей на яркий свет — не попадайся, будь осторожен! Ведь рабби Нехемия Коэн — наш давний враг. Он хитер и изворотлив, словно родился не человеком, а извивающимся змеем Левиафаном, коварным и обольстительным. Он найдет дорожку к твоей душе, обманет так, что и не заметишь.
— Все будет нормально, обещал Леви.
И — стыдясь этого теперь, Леви обнял Шабтая за плечи.
3. Шабтай Цви в начале своего помешательства. Измир. Конец 1620-х — начало 1640-х гг
… Мордехай Цви был человеком честолюбивым. Роль простого купца, пусть даже весьма богатого, но известного только в провинциальном Измире, казалась ему маленькой и недостойной. В юности Мордехай много учился: сначала в Морее у одного каббалиста, далее в Измирском бейт-мидраше, потом счел, что этого ему недостаточно, и напросился в ученики к одному старому раввину в соседний городок. Мордехай мечтал о Каббале, и потому его не остановило ни ежедневное хождение пешком из Измира, ни высокая цена его уроков. Чтобы скрыть свои занятия от родни, бывшей в ссоре с его учителем, хитрый Мордехай снимал щегольские сапожки и шел босиком, раня ноги об острые камни. Дважды его кусала змея за пятку, но упрямец не сдался. Магические ветви Древа Сфирот, усыпанные золотыми яблоками, заманчиво шелестели до тех пор, пока.
Семейные обстоятельства вынудили Мордехая Цви прервать учебу и целиком посвятить себя торговле. Поначалу он пытался учиться ночью, раскрывал книги, но скоро глаза закрывались, купец засыпал, натрудившись за день. Попробуй, найди силы внимательно читать древние фолианты, когда с утра до вечера сидишь в лавке, уговариваешь покупателей, нахваливаешь товар, а вечером еще составляешь ежедневные счета…
Каббала требовала полного сосредоточения, ее урывками и наскоками не освоишь. Мордехай погоревал да смирился. Деньги шли к нему легко, желанный достаток лихо восполнил былую неудачу. Многие решили, что Мордехай Цви совсем перестал думать о мистике, став скучным обывателем. Впрочем, мечта осталась. Еще до женитьбы он стал скупать редкие еврейские рукописи, покровительствовал бедным, отдавая предпочтение людям ученым, чтобы они могли спокойно раскрывать тайны творения, не отвлекаясь на поиск хлеба насущного.
В лучшие годы Мордехай поселял у себя, кормил и одевал по пять-семь каббалистов, выплачивая их семьям ежемесячное содержание. Выбрав себе супругу из бедного, но прославленного образованностью семейства, Мордехай молил о сыне, который бы воплотил его юношеские фантазии, стал бы великим мудрецом, асом Каббалы.
Девятого ава 5386 года, в шаббат, или 7(26?) июля 1626 по григорианскому летоисчислению, душным летним днем, когда евреи скорбят о разрушении Храма, у Мордехая Цви родился сын Шабтай. Появиться на свет в час траура означало для младенца особое, может даже величественное будущее, но, по словам каббалистов, будущее это было с темным, едва ли не демоническим оттенком. К тому же два самых рьяных мистика, живших у Мордехая и разбиравших его собрание каббалистических трактатов, клялись, будто в одну минуту с криками роженицы в небе запорхала исполинская летучая мышь с иссиня-черными крыльями, затмившими солнце. А летучие мыши отваживаются проснуться при свете солнца лишь в исключительных случаях.
По Измиру стали сеяться слухи, что, дескать, родиться в такой день — не к добру и с этим мальчишкой семья Цви успеет нахлебаться горя.
То ли дело другой их отпрыск, тихоня Эли! Вот он-то точно приумножит торговые успехи отца, не отвлекаясь ни на какую мистику.
— Не хотелось бы мне дожить до того, что еврейский народ девятого ава будет сожалеть не только об утерянном Храме, но и о рождении этого ребенка — сказал тогда, покачивая головой, Мордехаю Цви глава измирских евреев, раввин Иосиф Эскапа, когда записывал малютку в пинкас — книгу рождений, смертей и свадеб. — Есть в этом совпадении нечто пугающее. Никогда еще не сталкивался с рожденным 9 ава. Хорошо, если эти смутные предчувствия не сбудутся.
Счастливый отец Шабтая только отмахивался от предсказаний.
Он считал своего сына необыкновенным, верил в блестящую карьеру Шабтая, а стариков из синагоги назвал сплетниками, которые выдумывают всякую чепуху из зависти.
— До чего же беднота ненавидит богатых! — жаловался Мордехай своей жене вечерами, выдумывает, будто наш Шабти, раз родился 9 ава, то на него наложено вечное проклятие, будто у него рожки растут или перепонки между пальцами!
Нянька приносила усталому Мордехаю толстого, симпатичного младенца, разворачивала, чтобы убедится: мальчик как мальчик, никаких рогов и перепонок. Характер, правда, тяжелый будет — возьмешь на руки, а он извивается, укусить норовит беззубым ртом, царапается тонкими ноготками, то молчит, то плачет навзрыд. Но это ведь еврейское дитя, они все со своим норовом…
Шли годы. Сначала ни одно из опасений умница Шабти не оправдал.
Когда его ровесники стегали во дворе ослов, кидались камнями и сцеплялись в драках как коты весной, Шабтай читал наизусть Тору.
И если поначалу выдающиеся способности маленького Шабтая вызывали недоверие, то постепенно злопыхатели умолкали. Мало заучить наизусть большие тексты. Шабтай еще их и комментировал. Да как! Иногда ходом своей мысли Шабтай приходил к выводам, изложенным в непрочитанном им еще томе Талмуда.
А бывало — к всеобщему конфузу — что мальчонка забирал из головы готовящуюся Измирским раввином субботнюю проповедь, слово в слово, и по детской непосредственности выкладывал ее перед гостями.
Рядом с Шабти почему-то неуютно себя чувствовали злые люди. Они боялись его и избегали, точно гениальное дитя видело насквозь все их нехорошие помыслы. Мордехай, подметив это, стал брать Шабти с собой на торговые сделки, чтобы сын удостоверил честность того или иного купца. Пару раз проницательный Шабтай спас отца от разорения, заставив отменить казавшиеся выгодными покупки.
— Как ты увидел, что он обманщик? — изумлялся Мордехай, у него ж на лбу не написано!
— Папа, разве не заметна у него черная точка в сердце? — отвечал Шабти.
Но Мордехай ни в ком не видел никакой черной точки. Значит, сын превзошел.
— Это настоящий дар — признавались те, кто еще недавно обвинял семью Цви в обмане. Берегите сына, его ждет большая слава!
А в 10 лет Шабтай упал перед родителями на колени и со слезами попросил разрешения уехать учиться в Цфат, где была великолепная каббалистическая школа. Еле-еле мальчика уговорили отложить эту поездку до совершеннолетия, потому что никогда еще в Цфате не брали столь юных учеников, а дорога туда занимала много времени.
Порыв этот неимоверно обрадовал Мордехая Цви. Он и раньше души не чаял в Шабти, добывал ему редчайшие сочинения, за которые приходилось платить золотом, а теперь убедился: Шабтай унаследовал его страсть к Каббале, задушенную неумолимой судьбой. Ради счастья Шабти отец был готов полностью разориться. Если бы к нему явился великий визирь султана и велел продать все имущество в казну, а за это Шабтая назначат хахам-баши, главным раввином Порты, то Мордехай Цви даже не задумался бы, стоит ли возвышение сына такой жертвы. Он принес бы ее безоговорочно.
В радужных снах хитрый купец представлял, как почтительно склонят головы перед повзрослевшим Шабтаем все былые враги, и особенно — наглые, жадные турецкие чиновники, чинившие ему разные препятствия в торговле. Тогда поймут они, кого обижали, и горькими слезами будут обливать его ноги, прося прощения. Будет Шабтай избран главою евреев Измира, а потом, наверное, лидером всех общин Высокой Порты.
С такими сладкими мечтами Мордехай засыпал, не ведая, что все будет несколько иначе…
Что склонившиеся перед Шабти люди безжалостно предадут его, проклянут в гневе и попытаются стереть его имя как грязное пятно на белом полотне истории, а сам он умрет в тоске и забвении, и даже могила его будет утеряна. Вскоре отцу пришлось искать сведущего учителя не где-нибудь, а в самом Стамбуле, ибо Шабтай уже почерпнул в Измирском бейт-мидраше все доступные для захолустья знания, и дальше учиться ему было нечему.
Шабтай просил привезти ему не простого преподавателя, а знатного каббалиста, посвященного во многие оккультные знания.
Например, как Эзра д’Альба, сочинивший туманный трактат «Эц даат», «Древо познания», очень его впечатливший.
Такой учитель нашелся случайно, и к тому же из рода д’Альба, только не сам Эзра д’Альба, а его правнук Биньямин д’Альба, марран и тайный каббалист. Попав из застенков инквизиции прямиком на пиратское судно, невольник получил свободу лишь благодаря тому, что купец Мордехай Цви знал эзотерические труды его предков, тоже носивших фамилию д’Альба.
Выкуп за него был заплачен огромный, и в благодарность д’Альба остался у Мордехая Цви домашним учителем, хотя при его уме нетрудно было найти себе занятие у щедрых стамбульских евреев.
Именно д’Альба раскрыл перед Шабтаем врата Каббалы, пренебрегая запретом изучать ее всем, кто не достиг тридцатилетнего возраста и не женат. Воспитанный в привычке скрывать свое иудейство, д’Альба долгое время обходился без наставников, изучал «Зогар» сам, поэтому к грозным предупреждениям авторитетных раввинов он не прислушался. Он полагался только на свою интуицию, и еще ни разу она не подводила.
— Если мальчику интересен «Зогар», то пусть читает — отмахивался учитель от назойливого вмешательства, большой беды я здесь не вижу. Не казалась ему опасной и книга 14 века «Кана», резко критикующая галахические нормы. Только Иосифа Эскапа, лидера измирской общины, смущало и настораживало то, что маленький Шабтай задает ему вопросы, которые не всякому раввину известны. Как-то Шабти — тогда ему было лет девять, спросил у рабби Иосифа, какой цвет у сфирот «бина», обозначающей разум? Рабби решил, что мальчик, не дай Б-г, заболел от учения, ведь где это видано, чтобы каждой из дюжины сфирот присваивать свой цвет? Об этом только сумасшедшие задумываются. Чем и поделился с его отцом.
Но Мордехая Цви ум сына только радовал, и в чтении «Зогара» он ему не препятствовал. Единственное, что вызывало беспокойство — это расположенность Шабтая к мистицизму, самоуглубленным раздумьям в разных уединенных местах, его болезненная нервность. Временами мальчик удалялся в какой-нибудь тихий уголок и подолгу там сидел, а глаза его приобретали пугающую отрешенность.
Шабти не откликался тогда ни на голоса родителей, ни на зов Эли и Леви.
Он никого не слышал, уходя всем своим сознанием в бесконечность, в поток Эйн-Соф, настроится на который дано очень немногим.
Но, живя в окружении экзальтированных мистиков, коих привечал его хлебосольный отец, Шабтай не казался ненормальным. Напротив, он был выше, мудрее их, и только чуткое сердце матери замечало, что с Шабти происходит нечто дурное. Она не могла сказать наверняка, что именно в нем не так, болезнь ли это, но предчувствовала. И молчала.
— Он необычный — объяснял Мордехай Цви, если ему рассказывали о странностях сына, а потому не меряйте Шабтая вашими узкими мерками. Вы сами же приходите к нему за благословением и советами, посылаете своих детей учиться к Шабтаю, а теперь вдруг называете его безумцем?
4. Сара (будущая жена Шабтая) в монастыре. Речь Посполитая. 1650-е гг
— …А вы запирайте окно, сказала аббатиса Доминика сестре Беате, пришедшей жаловаться на одну из воспитанниц, Терезу. Терезе только что исполнилось тринадцать лет, она, дочь раввина Меира, появилась в монастыре десятилетней, потеряв в хмельнитчину родителей, и до недавних пор казалась примерной Христовой невестой. Девочка была лунатичкой и раз в месяц ночью, не отдавая себе отчета, выбиралась через окно гулять. Во время такой прогулки Тереза умудрилась зацепиться краем ночной рубашки за водосточную трубу, выкованную в виде длинного змеевидного дракона с острыми чешуйками, и изорвать ее в клочья. Голую и поцарапанную, Терезу наутро нашли спящей на крыше и еле разбудили. Сон ее походил на забытье. Девочка дышала так редко, неслышно, что временами ее вполне могли признать умершей и похоронить заживо. Бедняжка не реагировала даже на легкое покалывание холодной иглой. А проснувшись, Тереза не помнила ни об одной минуте прошедшей ночи, очень удивившись, когда ей показали изорванную рубашку и ткнули пальцем в глубокие царапины на теле.
— Я ничего, ничего не помню — еле слышно пролепетала Тереза, как обычно, легла в кровать и заснула. Неужели я бродила по крыше?
— Это все козни дьявола — поджав губы, сказала аббатиса.
Сестра Беата, скорбная монахиня, кивнула.
— Дьявол влез в твою чистую душу, заставил раскрыть окно, перелезть через высокий подоконник и шататься в неприличном виде по крыше, совершая, наверное, непозволительные вещи. Видите, как она исцарапана? Это — следы дьявольских когтей.
Беата тихо добавила:
— Может, дьявольский голос поманил ее видениями прошлого? Ты не слышала голоса, зовущего выйти на крышу?
— Нет, сказала девочка, поёживаясь, меня никто не звал.
Аббатиса погладила Терезу по голове, отошла в угол и что-то шепнула на ушко следившей за девочкой сестре Беате.
Как только аббатиса вышла из кельи, сестра Беата подошла к Терезе, склонилась над изголовьем жесткой постели, заглянула в большие, черные и испуганные глаза монастырской воспитанницы.
— Тереза, дитя мое — произнесла сестра, подними, пожалуйста, ноги.
В глазах Терезы застыл немой вопрос. Зачем? — чуть слышно пролепетала девочка.
— Я должна осмотреть тебя, не совершил ли этот злой дух насилия — ответила Беата.
Не дожидаясь, пока Тереза поймет ее, сестра Беата с акушерской методичностью (в миру она была хорошей повитухой) отбросила с ее ног серое холщевое одеяльце, подняла подол выданной девочке новой рубашки и просунула туда руку.
— Virgo — с явным удовлетворением сказала сестра Беата, а несчастная Тереза, повернув тяжелую от стыда голову, увидела, что аббатиса стоит рядом.
— Дьявол изобретателен, назидательным тоном произнесла аббатиса, — но мы его постараемся перехитрить. Заварите окно решетками и приставьте к Терезе на ночь надежную сиделку. Если она заметит необычное, то сможет нам рассказать. Кого посоветуете? Может, Урсулу?
— Урсулу не надо, она тоже еврейской крови, — вежливо отклонила сестра Беата, — и может скрывать проступки Терезы, считая, будто защищает свою соплеменницу. У них хорошо развито чувство родственности, а обе девочки к тому же из одного города, и, возможно, родственницы…
— Тогда Магдалену, она старше и ответственнее — сказала аббатиса Доминика. — Она чистокровная полька.
Многострадальная Тереза смотрела в белую монастырскую стену.
Ей было больно и обидно, как только может быть больно и обидно подростку, облыжно обвиненному в постыдных вещах. Никаких сношений с силами тьмы у нее, раввинской дочери, не было. Адских голосов она никогда не слышала, а если бы и слышала, то вряд ли стала бы делиться этим с аббатисой.
Мысль, что отныне она, заподозренная, будет ночевать в самой холодной и далекой келье, с зарешеченным окном, да еще под надзором вредной Магдалины, изводила девочку. Да и засыпать, когда рядом никто не храпит (а Магдалена славилась своим храпом) гораздо приятнее.
Попав в монастырь уже не маленькой, Тереза твердо знала три вещи.
Первое: она еврейка Сара. Второе: каждый вечер, ложась спать, Сара после католических молитв прочтет незыблемую «Шма Исраэль». Это она обещала своему отцу в последние мгновения его жизни, перед тем, как бешеные казаки разрубят рабби Меира надвое, а она, тонкая и юркая, успеет спрятаться в нишу за шкафом. Третье: у нее есть в Амстердаме дядя Шмуэль Примо, единственный выживший из всей семьи, и к нему Сара может обратиться в трудную минуту. Но сейчас, оставаясь наказанной, Тереза плакала. Ее оставили без обеда — а разве она действительно летала по наущению нечистой силы? Как ни плоха скудная похлебка и черствый ржаной хлеб, выдаваемый в трапезной, а лежать весь день с пустым желудком плохо. Скучая, девчушка стала перебирать скудные крохи воспоминаний.
Вот она снимает с теплой халы, булке из витых кос, только что испеченной мамой, салфетку, и украдкой, не дожидаясь, пока отец произнесет благословение, отрывает одну косичку, мягкую, сладкую, сует в рот, забыв помакать в соль. Запомни, Сара, слышит она слова отца, только гигантские змеи заглатывают еду, не разобравшись, можно ли ее есть, и только гои не благословляют ее. Потом она повторяла вслед за отцом слова, которые сейчас кажутся послушнице Терезе невозможно далекими: Baruh ata Adonai… Meleh haolam… А сестры благословляют свои завтраки, обеды и ужины латынью. Слова вроде б те же, но не то, не то!
Мысль Терезы возвращается к строгой аббатисе. Она меня не за лазанье хождение ночью наказала, а за порванную рубашку, думает девочка.
Если бы я свалилась с крыши и переломала себе кости, то аббатиса не стала б так сердиться, как за порванную холщевую рубашку!
Тереза вскочила с постели, приплясывая на нетопленом полу босыми ногами, и приподняла край жесткого матраса. Вынув осколок венецианского зеркала, темного от разлившейся по нему ртути, но еще способного показывать лицо, Тереза стала в него смотреться, кокетливо жмуриться, корчить рожи, поминутно прислушиваясь к звуку шагов. От матери она унаследовала большие карие глаза, черные гладкие волосы и приятную смуглость кожи. Над верхней губой у Терезы росла небольшая родинка.
5. Шабтай Цви раскрывает дату прихода Машиаха и устраивает скандал в синагоге Измира. 1648 год
Сидя вечерами за узорчатым окном турецкого квартала, Леви от скуки стал записывать на листках одолевавшие его мысли. Это был, конечно, не дамский дневник, который вела в Львове едва ли не любая паненка, а серьезные заметки и воспоминания. О себе Леви старался не упоминать: здесь он играл заранее придуманную роль Османа Сэдэ, говорил как турок, одевался и ел по-турецки, молился вместе со своими мнимыми соотечественниками. Боялся он лишний раз упомянуть свое настоящее, еврейское имя — Леви Михаэль Цви. Чтобы не вызвать подозрения у хозяина дома, Леви даже эти записи вел по-турецки, арабскими буквами, чтобы никто не посмел усомниться в том, что Леви — турок. Неудивительно, что главное место в тех записях Леви отвел Шабтаю.
Всякий раз, когда Леви задумывался о своей миссии, о том, как теперь живется его названному брату, он пытался отыскать начало этой нелегкой и запутанной истории.
— Не может быть, я никогда в такое не поверю, будто Шабтай вдруг потерял разум! — бормотал Леви, оставшись один у окна.
Должна найтись первопричина, то, что толкнуло его, привело, убедило.
И, взяв лист, Леви написал:
С тех пор, как домашний учитель Биньямин Ицхак д’Альба, рискнул преподать десятилетнему Шабтаю уроки Каббалы, он не мог не думать о том, как по старинным пророчествам вычислить время прихода Машиаха.
Услышав от Эли, своего брата, будто бы из букв, составляющих таинственные сочинения великих раввинов прошлого, можно составить место и дату его появления в мире, Шабтай погрузился в расчеты. Разумеется, первое время у него ничего не получалось.
Мне казалось, что Шабтай напрасно проводит время, ища ключ к расшифровке неких скрытых кодов, запрятанных в каббалистических трактатах, что эти бдения — пустая забава, не сулящая никаких открытий. Чем старше становился Шабтай, тем яростнее он погружался в изучение Каббалы, страстно впивался глазами в новые книги, которые привозил отец из Стамбула. Целые ночи Шабтай урывал от сна и перебирал бесчисленные варианты буквенных комбинаций, водя палочкой по строкам свитков. Эти наборы букв он переводил в цифры, ища им особое, самим придуманное толкование. Но, как бы Шабтай не изощрялся, отыскать что-нибудь любопытное ему не удавалось.
До того момента, когда его наставник д’Альба принес, дрожа от счастья, почитать на одну ночь редчайший каббалистический трактат, сочиненный йеменским раввином. Ни имя его, ни название мне тогда ничего не сказало.
Но Шабтай — это я помню как сейчас — буквально затрепетал, что ему, мальчишке, позволят ее прочесть. Он волновался словно жених, готовящийся впервые провести ночь с любимой.
Да… Каббала — это то, что Шабти любил больше всего. Она стала его страстью, манией, роком, предопределившей все случившееся после.
Он жил одной мистикой. Всю ночь, от первой идо последней минуты, когда за рукописью пришли, Шабтай читал, не отрываясь. Если ему хотелось что-то записать, то Шабтай делал пометки, не отводя глаз. Он наслаждался каждым мигом чтения, зная, что, наверное, никогда еще не увидит этого трактата. Второго экземпляра в мире нет. Наутро бесценная рукопись должна быть возвращена владельцу — стамбульскому букинисту, который под большой залог перевозил ее из провинции столичному покупателю.
А тот категорически не желал никому ее показывать, таково условие сделки: чтобы ни одна живая душа не посмела прикоснуться. И букинист нарушил свое слово исключительно ради юного гения Шабтая, высказав ему огромное почтение. Зачем он это сделал, до сих пор неясно.
Надеюсь, букинист не думал, что его поступок будет иметь столь ужасные последствия. Утром, как только трактат забрали, Шабтай моментально уснул и проспал почти весь день. А затем заперся в той же комнате, где читал рукопись, сказав, что ему пришла одна идея, попросил его не тревожить. Долго, очень долго сидел Шабтай над расчетами, думал, терзался, изобретал, но на следующее утро вышел оттуда.
— Раскрытие эры избавления начнется в 5408 году! — вскричал он, должно произойти что-то катастрофическое, муки изгнания достигнут пика, и Машиах откроется миру!
Признаться, я в это не поверил. Точнее, не совсем поверил, потому что Шабтай явно переутомился. Он ничего не ел, выглядел заживо погребенным, извлеченным из преждевременной могилы: бледный, с впалым лицом, больными глазами, закрытыми отяжелевшими веками. Промолчал, видя, что спорить с Шабтаем нельзя, понадеялся, что это пройдет, забудется, заслониться новыми впечатлениями, и мой брат не станет рвать душу из-за математических подсчетов наступления эры избавления.
5408 — или 1648 год по христианскому летоисчислению — не обещал евреям никаких бед. По крайней мере, положение османских подданных Моисеева закона ничуть не переменилось, и ждать было вроде бы нечего.
Одним чудесным днем Шабтай забежал ко мне в комнату и предупредил, что сегодня в синагоге «Португалия» после минхи (полуденной молитвы) будет небольшое прение по каббалистическим вопросам.
— Если хочешь — приходи, а то уже надоели эти уроки в кабинете — сказал он.
— А с кем ты хочешь спорить? — поинтересовался я у Шабтая.
— С рабби Иосифом Эскапа и Соломоном Альгази.
— Ну, ты их сразу побьешь, это даже кошке понятно. Заверну ближе к вечеру, у меня сегодня много дел накопилось, пообещал я, и то если время найду.
В «Португалию» (синагогу называли так потому, что в ней собирались выходцы из Португалии) я пришел, когда уже прение было в самом разгаре.
Свободного места нигде не осталось, я примостился в дальнем уголке.
Оттуда мне было плохо слышно, но зато хорошо виден разгоряченный Шабти, водивший рукояткой указки по развернутому свитку и что-то ожесточенно выкрикивающий. Если бы я сумел влезть на люстру, то, наверное, до меня доносились бы не отдельные слова, но лазил я с детства плохо, да и люстра висела на тоненьком шнуре.
Но все же картина, представшая моим близоруким глазам, впечатляла. На биме возвышался мой брат Шабтай, а вокруг него стояли полукругом около двух десятков евреев, весь цвет Измира, завернутые в длинные белые талесы и с неснятыми после минхи черными коробочками тфилин рош. Они отчаянно жестикулировали, возражали и даже грозили Шабтаю, но, повторяю, из своего дальнего угла я не слышал всех произнесенных слов, а пробиться поближе не удавалось. Громче всего раздавалась фраза «од меат ха-геула» — освобождение близко, ее Шабтай повторял с маниакальной уверенностью. Так же он упоминал цифру 5408, считавшуюся, по его мнению, датой начала раскрытия уже рожденного Машиаха. Речь Шабтая, впрочем, не тонула в море возражений. Полемизировал всерьез с ним только рабби Соломон Альгази, а рабби Иосиф Эскапа больше вздевал руки к нему и бормотал себе в бороду, нежели пытался опровергать. Чем больше проходило времени, тем жарче разгорался спор и тем сильнее находились аргументы у рабби Соломона Альгази. Он даже грозил Шабтаю херемом — отлучение от общины, если он продолжит упорствовать в своих заблуждениях. Или мне это почудилось? Стоял такой гвалт, что даже крики «шекет, шекет!»[1] не могли никого успокоить. Степенные евреи в гневе щипали кончики бород, края молитвенных покрывал вздымались крыльями… Полный Содом! В толпе я даже не заметил младшего брата, Эли, который тихонечко пробрался в синагогу послушать Шабти, и что он тоже сидел в «Португалии», узнал уже после спора.
Дома я застал Эли, сидевшего на полу, как при трауре, и испугался.
Эли плакал, обхватив ноги руками, раскачивался и скулил волчонком.
— Что случилось, Эли? Чего ты воешь?
— Шабти рехнулся — ответил он, смотря на ковер и не решаясь поднять глаза. — Он объявил себя Машиахом.
— Что за бред, — сказал я, — подумаешь, поспорили о времени его прихода, это не преступление. Ты чего-то напутал, Эли. Такого не может быть!
— Может, — произнес Эли, — еще неделю назад ко мне постучался Авнер. Знаешь его, это сын ювелира, ученик Шабтая. И говорит, что Шабтай вел с ним очень странные разговоры. О Машиахе, что им способен оказаться каждый еврейский мальчик из рода Давида, родившийся в высчитанный им промежуток. И вероятно, даже он, Шабтай Цви, является Машиахом…
А теперь он во всеуслышание объявил это в синагоге! При всех раввинах! Чем ты объяснишь поступок Шабтая, как не помешательством?
— Наверное, мы его не так поняли — предположил я, подумав. — Шабти живет в мире Каббалы, даже умнику рабби Соломону Альгази порой трудно угнаться за полетом его мысли. Наверное, он имел в виду нечто другое.
— Дай Б-г, шепнул мне Эли, вставая с ковра, — чтобы я ошибся и Шабти не сошел с ума. Он пришел — добавил брат еще тише, — не спрашивай ни о чем. Утром! Дай ему выспаться, уж тогда, на свежую голову.
А утром мне так и не довелось повидать Шабтая. В английский торговый дом привезли новую партию товаров, отец позвал нас в лавку, где я и Эли провозились несколько дней подряд как проклятые.
Шабти молчал. Мы его ни о чем не стали спрашивать.
Через неделю в Измир приехал знакомый отца, некий Иеремия Вайзель, купец из Польши, тоже большой любитель каббалистических штудий и коллекционер древних рукописей. Я его почти не знал, видел, наверное, пару раз в детстве, когда Иеремия привозил своего сына, хилого бледного мальчика, и не представлял, что разговор с ним запомнится надолго.
Иеремия и отец сидели на террасе, во внутреннем дворике, пили крепчайший стамбульский кофе с густыми сливками и корицей, щелкали поджаренный миндаль и фисташки. Иеремия привез страшные вести, в которые очень не хотелось верить. Что отряды Зиновия Хмельницкого опустошили многие польские города, где гибнут тысячи евреев. Невозможно описать муки, которым они подвергаются перед смертью, говорил Иеремия, зверства Ашшура по сравнению с ними — игрушки. Счастливы те, кого только разрубили мечом и втоптали конскими копытами в землю, или всего-навсего посадили на кол. Убиты мудрецы Каббалы, разграблены синагоги, плитами с кладбищ мостят дороги.
— Эли, уйди, не лезь во взрослые разговоры — заметил отец, увидев, что брат подслушивает их. — Иди, иди, нечего… И Леви позови.
— Польского еврейства — скажу вам правду — практически не существует. Оно уничтожено почти полностью. Местечки стерты и сожжены, немногие спасшиеся прячутся в лесах, роют норы, словно дикие звери, а младенцы, если не погибли, отданы на воспитание монастырям, рассказывал купец. Никакой надежды, что однажды общины Польши возродятся, нет, разве что в Львове, где евреи смогли отсидеться за стенами замка, и откупились от Хмельницкого. Правда, его отряды выжгли городские предместья, бедноту, не сумевшую собрать достаточно золота.
— Прошу, ты ведь знаешь, нам и так тяжело живется, не рассказывай здесь об этом, не нагнетай, — попросил отец Иеремию Вайзеля, — а то мой сын Шабтай предсказал на 5408 год большие бедствия. Мало ли что о нас подумают в городе, не надо…
Леви откинул перо в сторону. Хватит на сегодня, подумал он, всматриваясь в темное окошко. Лишь у него одного во всем турецком квартале горела свеча, создавая Осману Сэдэ — т. е. Леви — репутацию страстного книгочея.
6. Ожидание визита рабби Нехемии Коэна. Знакомство Леви с Фатихом-Сулейманом Кёпе, пани Сабиной из рода Пястов и ее служанкой Марицей. Козни иезуита Несвецкого
Леви не стал долго раздумывать. Лавка его открылась в лучшем месте турецкого квартала. Она располагалась так, что любой человек, возвращавшийся с рынка, неминуемо проходил мимо бывшей ювелирной мастерской, хозяин которой незадолго до того переехал в Вену, и оказывался, даже если не хотел этого, у яркой вывески «Осман Сэдэ, букинист из Стамбула. Волшебные манускрипты. Предметы старины». Насчет волшебства Леви, разумеется, загнул, но раз львовские обыватели тяготеют к чернокнижию, то почему бы не прельстить их заколдованными свитками? В конце концов, правильное использование каббалистических премудростей может творить чудеса. Поэтому он велел продублировать вывеску по-польски, рассчитывая, что посетителями «стамбульского букиниста» станут не только турки. Да и рабби Нехемия Коэн вряд ли читает арабский шрифт, пройдет, того гляди, мимо, и весь план полетит прахом.
Поместив товар, Леви снял с двери большой замок, поставил на пол у окна две китайские вазы с ощеренными драконами, парящими в небесах, чтобы привлечь любителей восточной роскоши, а на подоконник выложил старый, почерневший от времени фолиант, доказывающий надежность его торгового начинания. Ведь если букинист не боится выложить на виду у прохожих самые дорогие вещи, значит, денег у него много.
Придирчиво осмотрев лавку, Леви вышел на улицу, проверил, как смотрится со стороны его вывеска и окно, и, убедившись, что у него нисколько не хуже, начал торговлю.
Пани Сабина, в жилах которой текла кровь польской династии Пястов, уже давно и безнадежно скучала. Все развлечения, которыми она пыталась отвлечься от своего несчастья, успели наскучить. Ни катание на опасных качелях, ни травля барсуков норными собачками, ни гуляния incognito по городским окраинам не могли развеселить ее.
— Марица! — закричала Сабина.
— Иду уже! — отозвался звонкий девичий голос, и в комнату вошла молодая служанка, наполовину валашка, наполовину русинка, взятая пани Сабиной из имения Быстрицы. Черноволосая, смуглая и лукавая, грациозная словно лань, с красивыми умными глазами, Марица вполне могла б сойти за младшую сестру Сабины. Хозяйка и служанка были удивительно похожи — обе невысокие, с длинными черными волосами, тонкими «греческими» носиками и маленькими кукольными ножками. Только на Сабине было прекрасное шелковое платье, «утреннее», нежно-кремового оттенка, а Марица носила простенькие платьица с белым передником, и вместо золотого медальона на ее шее висел крестик, вырезанный из бука.
— Куда пойдем сегодня? — спросила Марицу ее меланхоличная госпожа.
— Пани, мне вчера сказали, что в турецком квартале появилась новая лавка. Там торгуют волшебными манускриптами!
Пани Сабина скривилась.
— На что мне они? Ты же знаешь, я не жалую гадалок, индийских факиров и персов-чревовещателей…
— Тогда отпустите меня, пани, — потупилась Марица, — на часок, я схожу посмотрю. Говорят, этот турок читает судьбу.
— Нет уж, — вздохнула пани, — поедешь со мной.
— Велите закладывать карету?
— Велю. И сними передник, пусть думают, будто ты — моя компаньонка, бедная родственница.
— Слушаюсь, пани.
Через полчаса к только что открывшейся лавке Леви подкатила карета, из которой вышла роскошная дама в сопровождении Марицы, изображавшей по прихоти Сабины, любившей шутки, перевоплощения и розыгрыши, ее компаньонку. Она огляделась по сторонам, словно выискивая кого-то, кто мог уличить в посещении турецкого квартала, и, не увидев, смело шагнула к «Осману Сэдэ, стамбульскому букинисту».
Леви, уже успевший составить представление о вавилонском смешении народов, вер и языков, царивших в Львиве, ничуть не удивился явлению пани Сабины. За это время к нему успели завернуть посетители-греки, два армянских купца, просивших амулеты для привлечения денег, модистка-француженка и четыре караима. Все они обращались к владельцу лавки на таких странных языках, что Леви, если б он не родился в Турции, в еврейской семье и не успел пошататься по Европе с Азией, вряд ли сумел их понять.
Но тут он отвечал грекам по-гречески, армянам по-армянски, француженке подобрал искаженную латынь, которая при добавлении нежных окончаний напомнила ей родную речь, караимам по-еврейски. Естественно, что пани Леви сказал добри дзень и назвал ее ясновельможной.
— Мне нужна такая вещь, которая сделала бы меня счастливой — сказала Сабина. — Я слышала, что у вас есть магические манускрипты, открывающие великие секреты обретения гармонии.
Леви удивился, так, что с него начала сползать крепко приклеенная маска турка Османа, но взял себя в руки и предложил пани несколько раритетов из алхимико-розенкрейцеровской серии, специально припасенной для любознательных поляков.
— Вот, не желаете ли, анонимное сочинение «Огонь саламандры», расшаркался он, очень помогает в житейских затруднениях и — увидев несчастную усмешку на бледных губах Сабины, добавил — при меланхолии. Очень редкая рукописная книга, с серебряными застежками. Даже не могу сказать, имеется ли где-нибудь еще такая. Купив ее, вы узнаете, почему саламандра, терзаемая огнем, никогда не сгорает дотла и возрождается заново. Есть и рецепты.
— Приготовления саламандр? — улыбнулась пани Сабина.
— Нет, — сказал Леви, — в ней написано, как самому уподобиться саламандре.
Какая бредятина! Саламандр я десятки раз жарил на костре с голодухи, и ни одна из них не воскресала из пепла, подумал он про себя, но если пани верит в это, то пусть.
Они еще долго обсуждали разные мистические трактаты, и Сабина почувствовала, что ей нисколько не хочется уходить из лавки Леви.
Пани нарочно расспрашивала его обо всем, что видела на полках, но через час собралась с духом и купила «Огонь саламандры», положив на прилавок горсть злотых.
— Какая красавица! — вздохнул Леви, когда пани Сабина села в карету.
Кабы она родилась в Стамбуле, стала бы любимой женой султана.
Впрочем, ей и в Львиве от поклонников, наверное, отбоя нет.
Однако Леви ждал визита не только всей польской аристократии, но и рабби Нехемии Коэна. А тот все не спешил заворачивать в турецкий квартал.
Тем временем в лавку зашел Фатих Кёпе, чтобы пригласить нового букиниста к отцу, Селиму Кёпе, на чашечку кофе.
— Буду рад, — сказал Леви.
И задумался. Что могло произойти в семье рабби Нехемии, если он отказался от ежедневной прогулки по восточным уголкам Львива?
Обычно после утренней молитвы, которую проводил в синагоге Нахмановичей, Нехемия Коэн сворачивал талес, укладывал его вместе с тфиллин в особый бархатный мешочек, расшитый золотыми нитями, украшенный пушистой бахромой кистей, и шел гулять.
Миновав еврейские улицы, где ему все было знакомо, рабби, пройдя в Татарские ворота, заворачивал на Сарацинскую, звавшуюся среди обывателей Поганской — или попросту Поганкой, в тот самый турецкий квартал, где поселился Леви.
В небольших лавочках, набитых всякой дребеденью, рабби Нехемия умел отыскивать еврейские манускрипты, светильники, амулеты и прочие древние вещи, значения которых их продавцы не понимали. Редчайшая рукопись по Каббале могла продаваться турком или татарином за сущие гроши и лежать в одной куче с разным мистическим хламом — сонниками, гадательными таблицами, алхимическими бреднями, талисманами для рожениц и колодой для игры в «тарок».
Чтобы не упустить возможное сокровище, рабби Нехемия Коэн, страстный коллекционер, чье собрание еврейских книг считалось лучшим во всей Галиции, отваживался покинуть пределы гетто и шел по Поганке.
В окружении иноверцев он, конечно, чувствовал себя не совсем уверенно, не как у себя на Староеврейской, но турки и татары, обитатели Сарацинской, испытывали тайный страх перед еврейским мудрецом. Они приписывали почтенному рабби умение творить чудеса, превращать людей в жаб и мышей, летать по ночному Львову (Селим, отец Фатиха Кёпе, клялся в кофейне, будто однажды видел фигуру Нехемии, зависшую в воздухе над крышами), а потому не решались обмануть и обсчитать.
К тому же, после возвращения Нехемии из Стамбула, львивцы стали считать его настоящим праведником, не побоявшимся ради истины притвориться турком, проникнуть в покои султана и рассказать ему всю подноготную Измирского авантюриста. Сделав то, чего так и не смог добиться его дед, рабби Давид Алеви, тоже беседовавший с Шабтаем Цви, Нехемия Коэн купался в волнах славы. Ореол человека, изобличившего самого Шабтая Цви, всегда сопровождал Коэна. Его имя с восторгом произносилось не только в пределах еврейского квартала…
Редкий день Нехемия Коэн не ходил на Поганку. Если же такое случалось, то тогда все понимали, что либо он заболел, либо произошло нечто из ряда вон выходящее. Турецкие лавочники вздыхали — и ждали возвращения Коэна, святого человека, у которого было столько проблем.
В тот день, пока Леви напрасно ждал появления рабби и почти до самой темноты не спешил вешать замок на дверь лавки, Нехемия Коэн вышел из синагоги Нахмановичей и отправился, нет, не на Поганско-Сарацинскую улицу, а совсем в другое место, в костел иезуитов. Где и пробыл почти до вечера, едва не опоздав на чтение «Маарив».
Какие дела могли быть у благочестивого иудея, знатока Каббалы с проклинаемым всеми «Орденом Иисуса»? Что связывало Нехемию с патером Несвецким, которого даже очень экзальтированные католички полагали изувером?
Сейчас узнаете. Несколько лет тому назад, в 1663-м, львовские иезуиты добились того, чего они столь долго ждали, и о чем пришлось просить их покровителя, графа Ольгерда Липицкого — еврейского погрома. Погром вышел, по мнению иезуитов, неудачный, поэтому эту историю постарались поскорее замять. Однако граф затаил на общину, ограбление которой не принесло ему ожидаемых денег, страшную обиду. Он обложил евреев огромными налогами, судил неправедно, вымогал взятки, самодурствовал так, что многие богатые купцы поспешили покинуть Львив. Гетто беднело на глазах. Жадный граф буквально высасывал из евреев деньги, как вурдалак кровь, и чем дольше это тянулось, тем труднее жилось на Староеврейской улице. В синагоге без перерыва возносились молитвы, больше похожие на плачи, где все евреи — мужчины, женщины, дети, в общем порыве, не жалея глоток, выкрикивали покаянные строки. За какие грехи Ты покарал нас, Господи, — вопили они, — тем, что послал графа Липицкого?! Неужели не прикажешь польскому королю отнять у графа ключи от города? Иначе он замучает нас до смерти…
Однажды молодой Нехемия Коэн, стоявший в тени своего великого деда,
Давида Алеви, услышал разговор двух купцов, приехавших из Эдирне.
Они упоминали имя некого Шабтая Цви, уроженца Измира, обладающего невероятной властью над евреями Высокой Порты и даже — жутко вымолвить — почитаемого своими единомышленниками за Машиаха.
Купцы уверяли, будто Шабтай — великий каббалист и может выполнить любое желание. Хочешь гору золота — пожалуйста, хочешь стать великим визирем — попроси Шабтая, он исполнит.
Нехемия насторожился. Уж что-то, а Каббалу нельзя путать с домашней магией, используя свои силы для решения мирских задач. Даже его дед, бедствовавший в молодости, предпочитал голодать, но не произносить заклинания, благодаря чему пустой стол мог наполниться изысканными — и кошерными — яствами. Нищий, живущий на мизерную плату меламеда, собираемую такими же несчастными родителями его учеников, Давид Алеви ни разу не прибегнул к столь постыдному способу насытить желудок. И внука учил тому же. Поэтому Нехемия с опаской отнесся к предложению купцов передать Шабтаю Цви письмо от евреев Львова, где они просили сместить ненавистного графа Липицкого и отдать управление городом в руки любого, кто был бы терпим к иноверцам. Но все-таки это письмо львовские евреи написали, даже вложили в него три травинки, вырванные с превеликой осторожностью у окон графского особняка, в небольшом рукотворном парке a l’anglaise, охраняемого злющими псами. Уже в тот момент Нехемия предчувствовал, что последствия письма окажутся ужаснее издевательств Липицкого, друга иезуитов.
Но письмо попало в руки Шабтая Цви, он поколдовал над травинками, прошептал какие-то бессвязные заговоры, и в тот же день граф Липицкий немедленно умер. Его похоронили, а сплетни, ходившие вокруг его противостояния с евреями, успели долететь до ушей иезуитов, больше всех скорбевших о потере союзника. И те три злосчастные травинки, упоминавшиеся всеми, кто даже не присутствовал при написании того письма Шабтаю Цви, стали веским доказательством, что евреи извели графа колдовскими заговорами, взятыми из тайных «черных книг». Все признаки страшных ритуалов налицо: травинки из парка, где ходил покойный, еврейские проклятия, посылаемые графу в синагоге, наконец, письмо с просьбой к могущественному чародею помочь душе Липицкого расстаться с телом. Тем более что в последние дни граф выглядел плохо, и кто-то сказал, что, возможно, на него навели порчу… Над евреями Львива повисло обвинение куда опаснее просрочки платежей. Ведовство! Черная магия! Волшебные манускрипты, одним словом которых ничего не стоит убить наповал!
Идея обвинить рабби Нехемию Коэна в проведении чудовищного обряда, убившего графа, принадлежала патеру Игнатию Несвецкому, иезуиту, человеку желчному, упрямому да к тому же рьяному антисемиту. Его давно бесило, что евреи Львива пользовались по королевскому указу (привилегию) особыми правами и их нельзя насильно окрестить, ибо привилегий разрешал им придерживаться веры отцов. Конечно, если какой-нибудь еврей сам, по доброй воле, захочет перейти в христианство, на этот счет в привилегии ничего не написано, но такие случаи бывали крайне редко. За всю свою жизнь иезуит Несвецкий только один раз крестил иудея, и то номинального, мальчика-найденыша, выросшего среди поляков, не знавшего ни родного языка, ни религии. Надеяться, что к одному крещеному еврею вскоре прибавиться еще один, для такого прославленного сеятеля веры, как иезуит Несвецкий, было настоящим позором. К тому же из Рима приходили тревожные письма. Над патером, растрачивающим свой миссионерский пыл впустую, жестоко потешались приятели по иезуитской коллегии, а начальство требовало обращать евреев. Несвецкий страдал. Когда он попросил у кардинала разрешение отправиться в Азию проповедовать туркам, кардинал засмеялся и сказал: зачем вам ехать далеко? В Львиве живет немало евреев, займитесь ими. Да и турки у вас тоже есть…
Но как заняться крещением тех, кто этого нисколько не желает?
И Несвецкий — на то он иезуит, чтобы не теряться — придумал. Иезуиты инициируют долгое судебное разбирательство по делу о смерти графа Липицкого, призовет к ответу Нехемию Коэна, заставят свидетельствовать против него других евреев, старых противников Коэна, например, Лейбу по прозвищу Хемдас Цви, фанатичного саббатианца, или пригласить кого-нибудь из Кракова. Патер знал, что мистики Кракова исстари конкурируют с мистиками Львова и отношения у них всегда натянутые, может, оттого, что, как бы они не ругались, лучшие каббалисты живут в Праге, а Краков и Львов дерутся за место второго оккультного города Европы. А затем, когда положение покажется совсем безвыходным, и рабби начнет молить о пощаде, Несвецкий предложит ему тайную сделку. Нехемия Коэн должен будет отдать своего любимого сына Менделя, благонравного умницу. на воспитание в «Орден Иисуса».
Сразу после того, как юный Мендель Коэн наденет на шею латинский крест, его отец получит свободу, а с евреев города Льва снимется «за недоказанностью» обвинение в чернокнижии. Так же семейству Коэнов выплатят из городской казны все судебные издержки и компенсацию за время, проведенное в тюремных подвалах. Золотая голова Менделя Коэна понадобится иезуитам: кто, как не он, впитавший с младенчества дух изощренной казуистики, великолепный трактователь, сможет возвысить католическую церковь, придать ей ученый лоск и влить свежую еврейскую кровь в затхлое болото схоластических построений? Риму нужен еврейский ум — аналитический, коварный, строгий. Заполучив сына Коэна, патер Несвецкий быстро продвинется по орденской лестнице, восстановит былую славу — и кто знает, может, станет кардиналом?
Кроме того, став отцом выкреста, рабби Нехемия потеряет свое влияние. Единоверцы начнут его презирать, вероятно, даже изгонят из общины, какими бы замечательными ни были остальные сыновья и дочери Коэна.
А без своего главы львовские евреи вернутся к прежним раздорам и хаосу. Ведь Коэн погасил вражду между выходцами из Кракова и остальными евреями, прибывшими в город с разных уголков Речи Посполитой.
Уйдет Коэн — евреи вновь передерутся, и значит, их легче будет одолеть. Смущало патера Несвецкого только то, что рабби Нехемия слыл очень стойким человеком. Сломать такое твердое дерево сложно.
Вряд ли рабби согласится отдать Менделя иезуитам — рассуждал патер.
Скорее он примет мученическую смерть на костре и прославится в веках как праведник, оклеветанный недругами, заодно склонит к этому всю семью, нежели решится спасти себя, предав сына. Но кто угадает, как поведет себя этот мужественный Нехемия перед костлявой старушенцией, пришедшей не только к нему лично, но и ко всей общине?
Чтобы выяснить, чего следует ожидать от Нехемии, патер Несвецкий послал служку в еврейское гетто, в дом рабби Коэна, и велел передать ему приглашение «побеседовать» в иезуитской коллегии. Служка, очень боявшийся иудейских чар, со страхом постучался в дом Коэнов.
Ему открыла ребецен Малка, супруга Нехемии, удивившаяся, что рабби спрашивает иезуит. В то утро она пекла булочки с рублеными орехами, приспанные сверху корицей, и по всему дому Коэнов растекался аромат горячего теста. Служка, которого патер Несвецкий вечно держал впроголодь, глотал слюни, вдыхая неземные запахи коричной пыли и поджаренного с сахаром миндаля, дожидаясь Нехемию.
Голод терзал бедного парня, но попросить — и уж тем более — взять пирожок у Малки Коэн он не смел. Ему рассказывали, будто еврейские кушанья вредны христианам, что ими можно отравиться, а некоторые особо злобные еврейские хозяйки нарочно пекут гойские пирожки с гвоздями, мышиными хвостиками и ядами для угощения иноверцев. Но Малка Коэн была добрая женщина, поэтому сунула тощему служке целый сверток свежеиспеченных булочек, которые он быстро съел, провожая рабби Нехемию за стены еврейского квартала.
Он прекрасно понимал, зачем понадобился иезуиту Несвецкому, и по пути к коллегии продумывал различные способы защиты.
— Обвинение в колдовстве, сказал рабби Нехемия, пощипывая бороду, по логике вещей следует адресовать не мне, а лжемессии, еретику и вероотступнику Шабтаю Цви, точнее, Азиз Мухаммеду Эфенди Капыджи — баши, правоверному мусульманину-шииту, живущему в Куру Чешме, пригороде Стамбула (если он, конечно, не успел переехать). Именно этот злодей прошептал некое заклинание, от которого скончался несчастный граф Ольгерд Липицкий. Но я даже не смею заявить, какими методами этот новоявленный Азиз Мухаммед изводил графа. Он давно не придерживается предписаний иудаизма, общается с дервишами… Чему они научили его — сам не знаю. Логичнее было обратиться к туркам — они расскажут вам много интересного из жизни этого прохвоста и его четырех жен, подаренных султаном в день обращения.
— Хватит надо мной смеяться, равви, — возразил Несвецкий, — письмо Шабтаю написали львовские евреи и травинки рвали тоже они.
— Но я отговаривал их от этого шага! — вскричал Коэн. — Моя вера не совместима с магическими приемами, и я всегда уверял, что Шабтай Цви — авантюрист, даже до той поездки в Стамбул. Случай с письмом это мне доказал: настоящему каббалисту, чтобы убить, достаточно подумать об этом — и труп готов. А если человек шепчет какие-то заговоры, переламывает травинки, дует на них — то он не более чем деревенский знахарь, чей удел — выводить девкам прыщи да заговаривать больные зубы.
— И что же, — ядовито заметил Несвецкий, — вы тоже умеете убивать мыслью?
— Я — нет, — сказал Коэн, — но раньше были такие посвященные старцы, которым это не составляло никакого труда. Пульса денура — удар огня — вот как это называется в каббалистической практике.
Но иезуит ему не верил. Он знал, насколько болезненно евреи относятся к эпопее Шабтая Цви, что некоторые втайне сочувствуют ему, хотя и говорят, будто сменивши закон, он перестал считаться их соплеменником.
Даже рабби Коэна, ненавидящего Шабтая с первых лет его шествия, патер Несвецкий записывал в саббатиане. Еврей еврея всегда прикроет, проскрежетал зубами он, а если не выйдет, то на турка свалит…
Разговор затянулся. Аргументы Коэна вошли в глухое противоречие с аргументами иезуита, они кричали, размахивали руками, стояли на своем, как будто причина смерти графа Липицкого могла что-то изменить.
Рабби Нехемии пришлось цитировать Талмуд, объясняя, что еврей, перешедший в мусульманство, может называться кем угодно, но не евреем, поэтому он не обязан его защищать.
— Пусть турки с ним нянчатся, — недовольно буркнул Нехемия, — не понимаю, чего все считают Цви евреем? Он и раньше больше нарушал Закон, чем соблюдал, а сейчас и подавно. Я за него ответа не несу.
— Правильно — потер вспотевшие в пылу спора ладони патер, — не несите. Но суд скоро начнется.
— Начинайте — вяло согласился Нехемия Коэн, — привлеките всех, кто составлял письмо, и тех, кто рвал травинки у особняка Липицкого. Только я уже не помню, кто что делал, прошло уже столько времени.
— Ничего, вспомните — ехидно улыбнулся иезуит Несвецкий.
7. Аптека «Под серебряным оленем» герра Брауна
Для путешественника, приехавшего издалека и никогда ранее в Львиве не бывавшего, казалось странным обилие аптекарских магазинчиков, да не где-нибудь на окраине, а на самых что ни на есть центральных улицах. Львивские аптеки располагались на первых этажах, принадлежали подданным германских княжеств и предлагали помимо обыкновенного набора микстур, мазей и порошков, экзотические эликсиры, бальзамы и притирки. Вывески их украшались как можно более причудливо: там царили длинные змеи, чьи разинутые пасти фонтанами извергали целебный яд, каменные ведьмовские ступки, пучки диковинных трав, непременно перевязанных ленточкой с девизом владельца, алхимические реторты, изображенные в момент сотворения философского камня, иногда ползали скорпионы, сколопендры и тарантулы. Интерьер аптек скорее напоминал лавку букиниста, вроде той, что держал отец Фатиха Кёпе. Высокие шкафчики красного дерева, с застекленными дверцами и резными ручками, изящные ящички каталогов, гладкие, отполированные прилавки, всевозможные диковины, старинные вещицы, украшающие стены, богемское стекло, сосуды затейливых форм. Названия аптекам давались причудливые: ни одна из них не называлась просто аптекой, но непременно: «Золотая звезда», «Девять драконов», «Секрет василиска», «Под венгерской короной».
Аптека герра Брауна, выходца из Нижней Саксонии, тоже получила экзотическое имя: «Под серебряным оленем». На ее вывеске был изображен гербовый щит со сглаженными краями, посредине его скакал изящный рогатый олень, держащий во рту тоненькую стрелу. Туловище несчастного копытного светилось лунным серебром, а под ним пояснялось: «Аптекарское заведение Иеронима Брауна. Основано в 1637 году».
Деревянная дверь аптеки, обитая медными заклепками, тоже изображала благородного оленя с тяжелыми рогами, стоящего на холме с высоко поднятой головой.
Ассортимент аптеки Брауна составляли не только средства европейской медицины — пиявки, настойки, капли, порошки в пакетиках толстой бумаги, но и китайские снадобья, привезенные еврейскими купцами по Великому Шелковому пути через монгольскую пустыню смерти, среднеазиатские барханы, Каспий и Кавказский хребет. Поэтому состоятельные львивцы, почувствовав, что у них запершило в горле или стал побаливать левый бок, предпочитали заплатить немалые деньги герру Брауну, нежели отдать себя на растерзание местным эскулапам.
Особым спросом пользовались китайские настойки на змеях, придававшие силу, неплохо покупались вытяжки из кобриной крови, змеиные сердца, жабьи растирки, тигровая желчь, скорпионьи пастилки. Шли в ход экстракты из омелы, коробочки карпатских трав, из которых готовили лечебные чаи. Продавался чудо-камень безоар, тибетская смола, высушенные коренья, в том числе и баснословно дорогая мандрагора.
Герр Браун никогда не страдал недостатком покупателей. Разве что редкие яды, запаянные в скляночки толстого коричневого стекла, не пропускающего солнечные лучи, залеживались на аптечных полках. Но и они тоже находили — рано или поздно — своего владельца. За ядами к нему приходили поздно вечером, таясь и оглядываясь, долго выбирали пузырек, расспрашивали о свойствах, действии и возможности обнаружения.
Хитроумный немец держал несколько разных баночек с ядом. Одни предназначались для отравления родственников — эти яды не проявлялись при вскрытии и дарили быструю смерть, похожую на естественную. Стоили они бешеные деньги и отпускались в строжайшем секрете по знакомству. Другие отравы герр Браун припасал для особ слабых, нерешительных, возжелавших почему-то свести счеты с жизнью. Не одобряя самоубийц, он специально продавал меланхоликам изящный флакончик, наполненный ядовито-розовой жидкостью.
На этикетке аптекарский помощник, расторопный студент-недоучка Яцек, пририсовывал черной краской страшный череп и кости, снабжая надписью «memento mori». Умереть, выхлебав его содержимое, было непросто (ибо Браун наливал во флакончик раствор марганцовки), но некоторые очень нервные особы все-таки умудрялись им отравиться и лечь за оградой Лычкаревского кладбища.
Леви Михаэль не сразу нашел время для знакомства с львиным городом.
С тех пор, как поздней ночью наемная карета привезла его в турецкий квартал, Леви удалось досконально изучить лишь ближайшие к дому и лавке улицы. За Татарские ворота, отделявшие Львив правоверный от Львива католического, Леви не успел даже высунуть свой любопытный еврейский нос. Мир его в первые две недели ограничивался Поганско-Сарацинской улицей, шумной и пыльной, застроенной беспорядочными каменными домами с первыми этажами, отданными под торговлю, с такими же внутренними двориками, где на протянутых веревках висели пестрые одеяла, коры и подушки, какие он помнил в Измире. Понять, что представляет собой старый город Львов-Львив, он же Львув, Лемберг, Леополис и Аръюц, можно только исходив его вдоль и поперек, по всем кварталам, улочкам и предместьям.
— Хватит торчать безвылазно в турецком квартале — сказал Леви Фатих Кёпе, когда, получив приглашение от его отца Селима прийти на чашечку кофе, мнимый стамбульский букинист сидел на террасе, теребя пальцами восковые листья плюща.
— Пойдемте сегодня на вечернюю прогулку, я покажу вам, уважаемый Осман-бей, настоящий Львив, его узкие улочки, диковинные строения и удивительные достопримечательности.
Старый Селим отставил маленькую кофейную чашечку, расписанную мелким синим узором, ядовито заметил, что многие прелести христианского Львива весьма сомнительны для взора мусульман. Там есть статуи голых женщин, бесчисленные кресты, не говоря уж о питейных домах, возле которых всегда можно получить по уху.
— Отец, — спокойно возразил Фатих, — никто же не заставляет нас щупать эти статуи или хлестать пиво. Мы просто посмотрим город. Осман-бэй не раз бывал в Европе, жил в Вене, Париже, Риме, проезжал немецкие земли, Моравию, Балканы. Неужели здесь, на холмах Галиции, его смутит то, что Осман-бей наблюдал сотни раз?!
— За уважаемого Осман-бея я не беспокоюсь, он взрослый человек и хорошо знает, что делает, — ответил Селим Кёпе, — но за тебя, мой сын, переживаю. Христиане могут подать тебе дурной пример, а к чему смущать сердце накануне свадьбы? Вдруг, вернувшись, ты не захочешь смотреть на свою невесту Ясмину, а приглядишь какую-нибудь польскую барышню?
— Исключено, отец, я терпеть не могу полек — буркнул Фатих, — так же, как и гречанок, армянок, русинок…
— Ну, иди, — согласился Селим, — проводи Осман-бея, пройдитесь по главным улицам. Только не задерживайся допоздна, а то я закрою дверь на щеколду и тебе придется лезть по террасе.
— Хорошо, отец.
Осман поклонился старому Селиму и увлек за собою Фатиха.
— Чего это он тебя так пытал насчет полек? — поинтересовался букинист, когда они покинули дом Кёпе.
— Отец застукал меня, когда я гнался за каретой одной знатной пани, и теперь считает, будто я в кого-то влюбился.
— А ты, правда, влюблялся в польку?
— Нет, что, что вы, Осман-бей, то было наваждение, обман чувств.
Так, разговаривая, они дошли до Татарских ворот и покинули мусульманскую часть города. Перед ними открылся совсем иной Львив — католический, именно тогда, когда на всех костельных звонницах били вечерню. И дома, и публика, и даже воздух здесь были другие. Если в турецко-татарском квартале всегда пахло корицей, гвоздикой и кардамоном, а так же дорогими духами с мускусом, маслом растертых лепестков роз, то в центре Львова ветер разносил нечто среднее между стоячими водами и лежалыми бумагами. Возле одного здания Фатих остановился, принюхиваясь.
— Пахнет почти как у нас, какими-то травами, пряностями — сказал он, — это немецкая аптека, «Под серебряным оленем».
— Давай зайдем, переведем дух, — предложил Леви, — мне как раз надо купить корневища выворотника от бессонницы, хорошее, говорят, средство.
— А что это за выворотник? — спросил его Фатих, когда они оказались в аптеке герра Брауна.
— Трава, — ответил Леви, — ее еще кочедыжкой называют. Их полно на старых могилах Лычкаревки растет, видел, когда проезжал мимо, у них под листьями мелкие-мелкие семена.
— А, папоротник… — разочарованно протянул он.
— Да, он, извини, спутал, папоротник, выворотник, заворотник — не разберешь!
Герр Браун стоял у прилавка и проверял на свет воду, налитую в прозрачные пузырьки. Рядом лежала груда бумажек — готовые этикетки, которые помощник Яцек должен наклеить.
— Чего желают любезные господа?
— Мне нужны корневища папоротника для отвара — сказал букинист, — замучался бессонницей, сны снятся ужасные, из прошлого.
— Папоротник замечательно гонит бессонницу, но его нельзя принимать помногу — заметил герр Браун.
— Знаю, — пожал плечами Леви. Аптекарь позвал Яцека, тот принес маленькую баночку, завязанную бумажной крышкой, где лежали сухие корни папоротника. Стоил он недорого, поэтому букинист решил купить еще какое-нибудь средство, помня, что впереди у него страшная борьба и надо подготовиться к любым испытаниям.
Леви взял еще сушеного аспида — узкую, тонкую змейку, размером с двух червяков, откусывая от которого по утрам натощак по кусочку, якобы приобретаешь недюжинную выносливость. Мало ли что еще ждет меня, подумал Леви, не помешает укрепить свои нервы.
Выйдя из аптеки герра Брауна, он и Фатих отправились дальше, ступив в царство серой брусчатки, острых готических шпилей и показного великолепия. Их внимание привлекало то необычное здание, украшенное головами Медузы Горгоны, нетрезвых фавнов и прочих персонажей языческих мифов, то витрина модной лавки, показывающая диковинные для турецких нравов наряды, то вереница аристократических карет с гербами.
Гуляя и вслушиваясь в рассказы Фатиха Кёпе, Леви не заметил, что мимо него прошел, заслоненный львовской готикой, рабби Нехемия Коэн.
Да, сам Коэн рискнул тем вечером покинуть гетто и попытаться отговорить иезуита Несвецкого от плетения гнусного заговора против евреев.
Ему не давала покоя мысль, что община живет под нависшим мечом, отклонить который способен лишь настоящий хозяин Львова, а к ним рабби причислял орден иезуитов. Может, Несвецкий удовлетворится большим выкупом, который соберут богатые евреи? Ведь было уже, когда деньги Нахмановича вернули синагогу, построенную заезжим итальянцем в неположенной близости от католического храма. Почему бы и сейчас не откупиться?
И тут перед ним оказалось до боли знакомое лицо.
Леви Михаэль, брат Шабтая Цви! Нехемия Коэн узнал его. Турецкий костюм ему не помешал. Сколько раз Нехемия видел Леви в крепости Абидос, не отходившего от своего брата ни на шаг, бывшего его советником, другом, даже телохранителем! Леви вел изможденного Шабтая вниз, к султану, в то роковое утро 16 сентября 1666 года. Он, он! Неужели Леви не изменился? Карие глаза его смотрели столь же грустно, как и в дни, черная родинка на левой щеке, обещавшая большое счастье, легкое прихрамывание (Леви в детстве упал с лошади, и с тех пор при ходьбе чуть-чуть подволакивал ногу).
Но что он делает здесь, в Львове? Не затеял ли чего дурного? Ведь турки давно облизываются на львиный город! Рабби Нехемия продолжал думать про Леви, но он вскоре скрылся из вида и, наверное, не заметил его вовсе.
Странно, но Коэн не помнил, был ли Леви с Шабтаем в день обращения, говорил ли шахаду, или предпочел остаться иудеем?
Впрочем, это не столь и важно: шмад анифла, упоминаемое еще в трудах Рамбама, произнесение слов, но не действие. Разве фраза ляилляха иль алла может считаться авода зара? Погрузившись в раздумья на эту очень интересную тему, Нехемия пытался вспомнить: в тот момент уже готовился уезжать, полагая, что дело сделано, а дальнейшая судьба Измирского авантюриста его не волнует, и, наверное, не присутствовал при этом.
В любом случае, переменил ли он веру или нет, к Леви Михаэлю Цви раввин относился плохо. Неужели приехал помогать брату? Но отчего я не встречал Леви в гетто? А, он турок и живет с турками на Поганке…
Древним, уходящим еще в вавилонские времена, чутьем, рабби Нехемия Коэн предчувствовал, что Леви прибыл в город неспроста и обязательно представляет интересы своего брата. В голове его стали роится мрачные мысли. Вдруг Леви счел меня единственным виновником разоблачения и хочет мстить? Ведь Шабтай, если бы ему удалось отговорить султана провести испытания, вполне мог выкрутиться и продолжил бы сеять ересь. Теперь же — и это устроил я — Шабтай Цви коротает дни в Стамбуле, ходит с турками в мечеть, протирает дырки в ковриках, умудряясь свести концы с концами на скудное жалование султанского привратника. После всех почестей это, конечно, поражение. Он ведь раздавал бродягам королевские титулы, ел с золота, носил бархат! Послал брата, чтобы однажды ночью он зарезал меня турецким ятаганом!
При этой мысли рабби Коэну стало еще жутче, аж мурашки по спине пробежали. Но Леви, ведомый болтливым Фатихом по площади Рынок, вертел головой из стороны в сторону, рассматривая дома богачей, любовался изящными оконными решетками. Даже показал фигу белобрысой служанке, высунувшейся из окна с воплем «Марыська, глянь сюды, турки идут!», выудил из круглой чаши фонтана мелкую монетку. Он даже не вспомнил о Коэне, глупый.
А Коэн уже знал, что Леви здесь, и приказал жене строго следить, если у дома начнут шататься подозрительные незнакомцы (в Стамбул он ее не брал, поэтому Малка не представляла, как выглядит Леви). Трактаты свои рабби переложил из кабинета, где он обычно занимался духовными размышлениями и сочинял большой труд по Каббале, в дальнюю кладовку, ключи от которой никому не доверял.
— Это плохо, очень плохо — шептал Нехемия, — Леви будет мстить за брата.
Увы! Умному раввину, чья проницательность и прозорливость стали нарицательными, невдомек было, что Шабтай Цви вовсе не думает о мести.
8. Мигдаль оз. Ночь на 16 сентября 1666 года
— … Знаете, что ждет вас завтра? — ехидно спросил Шабтая Цви султанский врач Хайяти-заде. Шабтай молчал. Он ходил из угла в угол маленькой, неосвещенной комнаты, заломив руки за спиной, напряженно думая. Приказано поставить перед лучшими лучниками империи и если стрелы не причинят хахам-баши никакого вреда, то султан помилует. А если они попадут в цель, тогда ваша умная голова покатится с окровавленной плахи. Хахам-баши нравится такая перспектива?
Шабтай Цви по-прежнему не отвечал Хайяти-заде. Это наглый, ядовитый, пропитанный до мозга костей коварством дворцовых интриг, неимоверно удачливый человечек. Помнивший то, что лучше забыть. Выходец из старого рода Абарванелей, чьи отпрыски умирали на кострах в годы Реконкисты и обрекали на смерть своих детей, служа в трибунале инквизиторов, Хайяти-заде появлялся там, где понадобиться его еврейская неугомонность.
Он еще побывает во множестве интересных мест и станет свидетелем куда более страшных драм. Но Шабтаю разговаривать с Хайяти-заде не о чем.
Он думал лишь, как пережить эту ночь. Сторонники Шабтая называли крепость Абидос «мигдаль оз» — башней силы, твердыней, ожидая немедленных чудес. Якобы он испепелит султана одним орлиным взором, осушит Средиземное море, чтобы в Иерусалим смогли перебраться 10 потерянных колен израилевых, живущих далеко в Африке, перенесет столицу в Иерусалим, сядет на трон Давида.
Но Шабтай Цви обманет эти надежды, Абидосская крепость — не «мигадаль оз», а «мигдаль сафек», башня сомнений, где свершится беспрецедентное — человек, провозглашенный Машиахом, станет мусульманином.
За что Шабтая Цви будут проклинать всеми видами проклятий, от специально написанных для него «клалот» до древнейших вавилонских пожеланий рассыпаться в прах, сгореть в вечном огне или оказаться склеванным по кусочкам хищными птицами.
Ни одного еврейского мальчика больше не назовут Шабтаем, даже если он тоже родится в субботу. Любую книгу, любой свиток, амулет, мезузу и черную коробочку тфилин рош сочтут еретической, если увидят там малейший намек на имя Шабтая Цви. Напечатанные саббатианцами молитвенники запрячут подальше, в генизы — хранилище вытертых, нечитаемых рукописей, или захоронят в земле, как хоронят оскверненные погромщиками священные свитки.
В ту ночь Шабтай Цви видел: хор раввинов, одетых в черное, с черными талесами на плечах, в кромешной тьме поет ему проклятие, зажигая черные, крепко пахнущие шафраном свечи с прозрачно-синими огоньками, повторяя: да будет проклят он днем, и проклят ночью, проклят, когда встает и когда ложиться, проклят, когда спит и когда обедает, проклят вечно, вечно, вечно!!!
От огонька черных свечей тянуло могильным холодом, и чудилось, что поющие свой неторопливый напев раввины давно умерли, лица их посинели, зубы пожелтели, выступили кости, забелели черепа под черными ермолками, а черные одеяния истлели. Шафранные свечи догорали, слова проклятия, исполняемого настолько редко, что не каждому поколению довелось их услышать, постепенно умолкали. Раввины подули на блеклые синеватые огоньки и потушили их.
Стало совсем тихо. Потом закричала какая-то женщина, с яростью полосующая себя острым ножом по лицу. Бурая кровь стекала, заслоняя собой все. Горели пальмы, из видения в видения перелетала белая цельнолитая повозка с красной шестиконечной звездой, демон в черном жилете с яркими надписями на спине, чье лицо скрывала неуместная полумаска. Шли толпы, отдельные лица показались Шабтаю знакомыми, они кричали, били палками стекла, выхватывали острые осколки и наносили ими себе глубокие раны на руках. Лежали мертвые дети, толстые, кудрявые, с раздавленными черепами и с пятнами крови, проступающими сквозь яркую одежду. Тонули корабли, люди, замурованные в башнях, за мгновение превращались в горстку пыли, оплавлялись субботние подсвечники…
После он впал в тихое забытье до рассвета, а с первыми лучами солнца внезапно проснулся. Хайяти-заде не было, дверь камеры оказалась открыта.
Шабтай Цви медленно спускался по высоким ступенькам. Ноги его подкашивались.
— Ляилляха иль алла — сказал Шабтай Цви.
Все еще только начиналось.
9. «Человек печали» из Куру-Чешме. Ссылка в Золоторожье
Если бы у нас валялось под рукой волшебное зеркало, показывающее, что творится в других краях, то, направив его на стамбульский пригород Куру-Чешме, увидели бы такую картину. В небольшой, устланной коврами комнате, на низком турецком диванчике с валиками, скрученными из тех же ковров, облокотившись на гору пестрых подушечек, лежал человек приятной средиземноморской наружности, с темными, но выразительными глазами. Раньше они казались веселыми, теперь же глазницы Шабтая Цви оказались заполнены вековечной еврейской скорбью, за что его стали называть «человеком печали». Одетый в когда-то дорогой, но выцветший, бирюзового шелка с желтой оторочкой, халат, и вышитую завитушками ермолку, одной рукой он гладил лежащую на животе персидскую кошку, толстую, с почти человеческим выражением желтых глаз. Другая рука его держала еврейскую книгу. Периодически отрываясь от чтения, Шабтай Цви Азиз Мухаммед, смотрел на кошку, словно пытаясь прочесть в ее мыслях то, чего он еще не знал. В соседней комнате заслышались шаги. Это вернулась с базара жена.
Скинув ловким движением длинное синее покрывало, она встряхнула головой и подошла к мужу.
— Не дали? — спросил Шабтай, смотря ей в глаза.
— Увы… Фатима вздохнула. — Ни зеленщик, ни мясник больше нам не отпускают. Денег просят.
— Что же мы будем есть на обед? — удивился Шабтай.
— Не знаю, — ответила она, и неожиданно разрыдалась.
Да, к такому повороту событий Шабтай Цви не был готов. Даже во времена странствий, когда его прогоняли из одной общины, чтобы накормить в другой, он не испытывал таких затруднений. Отец всегда давал про запас несколько монет, а поесть страннику могли дать какие-нибудь благочестивые дервиши. Теперь же, проклинаемый евреями, страдающий от недоверия мусульман (султан месяцами не выплачивал ему жалкое жалованье привратника), Шабтаю не к кому было обратиться. Все знакомые от него отвернулись.
Отец и мать умерли, а братьев Эли и Леви Шабтай непредусмотрительно отправил в далекое путешествие за редким манускриптом по Каббале, наивно полагая, что через пару-тройку лет, к их возвращению, ситуация изменится и о скандале все позабудут. Связь с братьями была утеряна, даже если у них были б деньги, то они вряд ли смогли передать ему хоть монету. Фатима — та самая красавица и «нареченная Машиаха» Сара, искренне верившая в высокое предназначение своего супруга, пока держалась.
У нее была трудная жизнь, и, наверное, поэтому бедняжка расплакалась только сейчас, когда семья уже который год путается в долгах.
Шабтаю, привыкшему к роскоши и вниманию, приходилось намного труднее.
Но три года мучиться в змеиных объятиях нищеты, сидеть без гроша — этого не могла выдержать и сильная Фатима. За это время она заметно постарела, красота поблекла, и теперь мало кто верил, что перед ними не бедная женщина из стамбульского пригорода, а бывшая содержанка магната Радзивилла, мистическая жена мудреца, почитаемого Мессией.
— Сара! — тут Шабтай впервые за много лет назвал жену прежним, еврейским именем. — Вытри свои слезы. Знаешь, скоро все изменится и у нас будет хороший обед. Ты потерпи, ты ведь всегда верила мне, ждала меня в Польше, не сомневалась, что я приду. Помнишь?
— Помню — улыбаясь, глотая слезы, сказала Фатима. — Ты прислал за мной двух сов в монастырь, и они уволокли меня далеко от тех мест.
— Вот — согласился Шабтай, — а говоришь, будто я не исполняю своих слов. Так и здесь: подожди немного, мы что-нибудь придумаем.
— Ну а есть что? — заметила жена.
Персидская кошка с диким мяуканьем ринулась прочь. Глаза ее горели.
Взлетев под самый потолок, кошка зацепилась когтями за ковер и зависла, визжа и шипя. Потом она перевернулась в воздухе и спустилась на пол, стала тереться Фатиме об ноги, ласково мурлыча.
— Гость, к нам идет гость — радостно вскричал Шабтай. Накинь платок, Фатима, и доставай посуду! Ага, вон ту, с синими цветочками!
К отверженному еретику заглянул еврейский мусульманин Хайяти-заде, личный врач султана. Он принес ему султанское жалованье, кушанья и сласти, поэтому отринутый всеми, мыкавшийся без денег, Шабтай должен был снова благодарить султанского доктора. Первый раз он отсрочил его смерть, а сейчас, считай, спас от голода…
Подождав, когда Шабтай наестся, а воодушевленная Фатима побежит скорее к лавочникам отдавать долги, Хайяти-заде приступил к главному- увещеванию. До султана дошли слухи, что Шабтай Цви, хоть и вполне искренне исполняет заветы мусульманской веры, продолжает тайком встречаться с евреями. Конечно, ничего плохого на первый взгляд в этом он не увидел, потому что, став Азиз Мухаммедом, бывший еврейский Мессия обязался проповедовать ислам евреям. Естественно, для этого ему нужно ходить в еврейские кварталы, заворачивать в синагоги, но.
Знающие люди утверждали, будто Шабтай никогда и не порывал с еврейством, а значит, он опять мечтает вернуть себе былую славу.
Шабтай грыз баранью ногу, пачкая рот и щеки белым жиром.
— Слушай, дружище — фамильярно обратился к нему Хайяти-заде, — а к своим ты не ходил на днях?
— Ходил — ответил Шабтай, не отрываясь от бараньей ноги.
— И что? — нетерпеливо интересовался доносчик.
— Ничего хорошего! Прогнали и обругали, даже слова сказать не успел.
— А в городе говорят.
— Мало ли что они выдумывают! Евреи меня презирают! Найдется всего несколько человек, способных простить своего блудного брата, и то они очень далеко. Вот даже ты меня не уважаешь, Хайяти-заде! Тебе было б намного приятнее, если бы моя голова покатилась по земле.
Султанский врач принял это за шутку и промолчал.
В тот же день он рассказал великому визирю, по имени Фазыл Ахмед-паша Кепрюлю, что проповеди Шабтая в синагогах не вызывают у евреев ничего, кроме раздражения, обратить в новую веру смог лишь немногих своих фанатичных сторонников. А община евреев-мусульман пользуется в Стамбуле дурной славой, уже получив хитроумное прозвище «дёнме» — что значит оборотень, перевертыш. Поэтому правильнее выслать Шабтая с семейством куда-нибудь подальше от столицы. Визирь согласился с доводами Хайяти-заде, обещая при случае доложить это султану. Но вскоре ему пришлось отправляться на Крит, усмирять восстание, и лишь в 1669 году, вернувшись из утомительной поездки, Фазыл Ахмед-паша Кепрюлю вспомнил о своем обещании. Великий визирь собрал своих доносителей и приказал им срочно выяснить, не замечен ли Азиз Мухаммед, бывший Шабтай, в чем-нибудь предосудительном, тщательно ли соблюдает он мусульманские обряды. Заболела Фатима, и хотя лекари не нашли у нее ничего определенного, жена Шабтая слабела, угасая с каждым днем. Ее подкосили переживания — а может, горькое разочарование в своем избраннике, который не взошел на престол Иерусалима. Сначала Шабтай считал: он в силах вылечить Фатиму, возился с травками, проводил обряды, обжигал ее черной свечой, но потом понял: магические способности помаленьку исчезают. Пройдет еще пара лет, Шабтай Цви станет таким же беспомощным существом, что и все остальные люди. Ночами напролет несчастный метался у постели больной, шепча каббалистические заклинания, обвешивал ее амулетами, варил зелья, но они не действовали. Фатима умирала.
— Прости, на этот раз я не могу помочь тебе — признался Шабтай.
— Ты потерял свой дар? — еле приподымаясь, спросила жена.
— Почти — сказал он. — Еще немного — и я буду как все…
— Это расплата — произнесла Фатима. — Жаль, что я застала… — и умерла, недоговорив последнюю фразу.
После ее смерти Шабтай Цви жил как подкошенный, он ходил, словно только что вышел из забытья, оцепеневший и равнодушный.
Соблюдая по Фатиме траур, Шабтай отчаянно искал тех, кто захотел бы его выслушать и утешить. Встретив однажды на узкой улочке Стамбула трех польских евреев, он разговорился с ними, скрывая, что стал мусульманином, а, узнав, что те остановились рядом с его домом, в Куру-Чешме, пригласил их к себе в гости. Польские евреи были купцами, не слишком религиозными, о Шабтае Цви они, конечно, слышали, но представить, что этот изможденный, грустный человек — тот самый скандальный авантюрист, никак не могли. Поговорив с ними, Шабтай предложил прогуляться вечерком по Куру — Чешме. Купцы согласились.
Как-то неожиданно они запели отрывки из «Теилим» — единственное, что малообразованные торговцы успели выучить за всю свою жизнь. Шабтай стал им подпевать — пение псалмов немного утешало его, да к тому же возвращало в более удачные времена. Со строками «Теилим» Шабтай когда-то встретил в Каире Сару, сходящую с корабля, «Теилим» пели его братья долгими вечерами, по ним, если копнуть дальше, маленький Шабтай учился читать по-еврейски. Древние слова навеяли ему сладостные воспоминания.
Распевшись, польские купцы вместе с Шабтаем бродили по темнеющим улицам стамбульского пригорода. Внезапно, спускаясь вниз по колючему пригорку, они, не прекращая петь, столкнулись с самим великим визирем Фазылом Ахмедом-пашой Кепрюлю. Что он там делал, почему оказался именно в этом месте — Шабтай так и не выяснил.
Скорее всего, ему доложили верные наушники, что правоверный мусульманин вопреки обещанию принимает в своем доме евреев, замышляя, наверное, какие-нибудь адские козни против султана. Не поверив им, визирь сам решил удостовериться, и, направляясь тайком к дому Шабтая, получил весомое подтверждение своих подозрений.
Да, распевание «Теилим» вряд ли даже самый заскорузлый ханжа сочтет неугодным для мусульманина. После своего обращения Шабтай все равно говорил и писал на родном еврейском языке, а пение псалмов, сочинение которых приписывается праведному царю Дауду, явно не преступление.
Но ведь Шабтай обещал — и не кому-нибудь, а султану, в присутствии высших сановников Порты, что никогда больше не будет вести секретных дел с евреями, а общение с соплеменниками разрешалось ему лишь в той мере, в какой оно будет способствовать их обращению, не более. Теперь же Шабтай Цви представал перед султаном в постыдной роли обманщика. Скрытно, как вор, в поздний час он гуляет с бывшими своими единоверцами! Если бы ему захотелось поговорить с евреями без потаенных намерений, он бы встретился с ними открыто, днем, в людном месте.
Но в темноте, никого о том не предупредив — значит, плетет заговор!
В довершение всего польские купцы, плохо понимавшие турецкий язык, через переводчика объяснили, что Шабтай бросился к ним, едва заслышав еврейскую речь, и ничем не дал знать, что он мусульманин, наоборот, всячески подчеркивал свое еврейство, ведя беседу на сугубо иудейские темы.
Маленькая хитрость, к которой Шабтай прибег неосознанно — он мечтал получить хоть немного сочувствия, пусть и ценой обмана, убедила султана в злых намерениях. Его лишили должности капыджи-баши, перестали выплачивать жалованье, силком забрали из дома с маленьким свертком вещей, перевезя в специально отведенное место у моря, недалеко от Золотого Рога. Дом в Куру-Чешме тоже конфисковали. Это еще не настоящая ссылка, но Шабтай чувствовал за собой постоянную слежку. Приставленного к нему слугу, глупого и ленивого малого, который не умел ни готовить любимые кушанья, ни прибираться в доме, ни стирать одежду, Шабтай тщетно пытался рассчитать. Слуга не уходил, намекая, что послан султаном, и он от него ни за что не избавится. К тому же малый вечно дерзил, и кому — Шабтаю, чьи желания когда-то угадывались с полуслова!
В тесном домике — даже не домике, а пристройке — царил беспорядок.
Слуга если и намеревался наводить чистоту, то быстро об этом забывал, бросая веник, убегал в неизвестном направлении. Соседи сказали, что у него там живет невеста, но одинокому Шабтаю вовсе не было до этого дела. Питаться ему приходилось дешевыми блюдами, распродавая заранее припрятанные драгоценности. Они таяли как воск в огне, быстро и безнадежно. О том, что дальше, Шабтаю даже подумать было страшно.
Какая уж тут месть рабби Коэну…
Дни еврейского изгнанника в Золоторожье текли на удивление однообразно. Каждую пятницу Шабтай отправлялся на шумный базар выменивать золотые монеты и украшения покойной жены. Вырученные деньги еле позволяли ему свести концы с концами: обычно они заканчивались к четвергу, и до пятницы ему приходилось сидеть голодным, не зажигая огня. Вечером в пятницу Шабтай спешил к джума-намазу, не только для молитвы, но и чтобы поговорить с людьми, почитать при ярких светильниках в мечети. Засиживаясь допоздна, Шабтай с горечью возвращался в холодный и темный дом, откуда сбежали, не найдя ничего съестного, даже мыши.
Одежда его, некогда роскошная (в лучшие времена Шабтай имел наряд на каждый день недели и шикарные вещи для еврейских праздников), изрядно обветшала, многое пришлось продать. Иногда любопытные турки, заглянув в маленькое окошко убогого домика, видели, как Измирский авантюрист чинит большой цыганской иглой свою одежду, долго пытаясь попасть ниткой в игольное ушко, напрягая подслеповатые от полночных чтений глаза.
Неизвестно, чем закончилась его жизнь в окрестностях Золотого Рога, но внезапно на Шабтая свалилась удача: ему помогла семья верных поклонников Пилоссоф (Пилоссофо, Философо в иных транскрипциях). Богатый греческий еврей Иосиф Пилоссоф давно следил за триумфом Шабтая, считая себя не только его адептом, но и человеком, которому сам Б-г велел помочь отверженному проповеднику в трудный час. Узнав, что Шабтая Цви по приказанию султана изгнали из стамбульского пригорода Куру-Чешме в Золоторожье, Иосиф Пилоссоф решил навестить беднягу. Один из немногих, Иосиф верил, что Шабтай Цви — действительно Машиах, что он не переменил веру, а, напротив, теперь стал ближе к сыновьям Ишмаэля, исполняя сокровенный план, непонятный профанам.
Что именно собирался делать Шабтай Цви, став мусульманином, об этом Иосиф Пилоссоф догадывался смутно. Возможно, Шабтай счел это смутное время наиболее благоприятным для объединения религий, или ему захотелось привести мусульман к более отточенному иудаизму, используя для этих целей тайный орден суфиев Бекташи, это не самое главное, рассуждал Иосиф. Нам, людям торговым, это сложно осмыслить.
Но, без сомнения, душа Шабтая, все три ее сокровенные слоя — «нефеш», «нешама», «руах» — всегда оставались еврейскими, и я должен его в этом поддержать.
Вместе с Иосифом Пилоссофом в Золотой Рог приехала его старшая дочь Йохевед[2], красивая вдова, после смерти мужа вернувшаяся в родительский дом. Они не знали о смерти Сары-Фатимы, поэтому старый хитрец Иосиф Пилоссоф не строил в дороге никаких планов насчет Йохевед.
Обручение Шабтая с Йохевед состоялось много позже, по их взаимной симпатии и после истечения годового траура, а Иосиф узнал об этом чуть ли не последним.
Прибыв в Золотой Рог, отец и дочь долго искали место, где живет Шабтай Цви. И Иосифу, и Йохевед почему-то представлялось, будто он обитает в высоком дворце, окруженный толпами приверженцев, слуги нежно овевают его опахалами из павлиньих перьев, первый встречный сразу укажет дорогу.
— Не знаем такого — отвечали им местные жители, первый раз слышим!
Наконец они догадались спросить Азиз Мухаммеда — и гостям указали на неприметный, низенький домишко, беленый известью и крытый выгоревшей на солнце дешевой черепицей.
— Здесь живет какой-то еврей, по слухам, маг и чернокнижник, продавший шайтану душу — добавила Йохевед словоохотливая турчанка.
Иосиф с дочерью дернули медную ручку. Дверь оказалась заперта.
— Подождем — сказал он Йохевед. Через минут двадцать во двор влетел сгорбленный, плохо одетый человек непонятного возраста и национальности.
На голове его красовалась турецкая чалма, пояс стягивал изрядно вытертый иудейский талес, а туфли телячьей кожи сверкали дырами.
Не таким они помнили Шабтая! Был он высок, ладно скроен, с гордой осанкой, во всех его движениях проглядывалось неистребимое внутреннее благородство. На изящных пальцах красовались крупные перстни с драгоценными камнями, украшенные резьбой из охранительных пентаграмм, заклинаний и еврейских букв. Шею украшали диковинные амулеты, а от дорогих одежд струился легкий, чуть уловимый аромат миндального и розового масла, корицы и еще чего-то такого, чему бедные люди не в силах подобрать название. В те времена рядом с Шабтаем игрались два белых тигренка, чьи приятные шкурки испещряли черные полосы. А поблизости стояла прелестная, в бирюзовом наряде, Сара, сверкая своей детской улыбкой, любимая и незабываемая для всех, кто ее видел.
Иосиф Пилоссоф еле признал в оборванном турке Шабтая.
Встреча их получилась совсем не триумфальной: мало того, что Шабтай был в дырявых туфлях, так он еще и нес на руках бережно завернутое незнакомкой подаяние — свежеиспеченную лепешку хлеба.
Увидев гостей, Шабтай скорее перепугался, чем обрадовался: не хотелось ему представать перед своими сторонниками в таком виде!
Но искренность и благожелательность Иосифа с Йохевед растопили лед.
Шабтай почувствовал, что они могут его выручить, честно поведал о своих несчастьях. Узнали они и о смерти Сары, и о том, что его оставили в полном забвении тысячи былых поборников, раньше готовых даже умереть ради Машиаха, а теперь отворачивающих свои лица. Открыл им Шабтай и то, что сильно задолжал торговцам с рынка, что разменивает последние монеты, а навязанный ему слуга неделями не появляется в доме.
К неимоверному везению Шабтая, Иосиф Пилоссоф осмелился передать деньги, собранные евреями в городах Мореи, когда они еще верили в высокое предназначение Измирского каббалиста. Иосиф почему-то не успел отдать их Шабтаю, а теперь вспомнил. Сумма вышла приличная, на нее он мог прожить несколько лет. Кроме пожертвований, Шабтай получил от семьи Пилоссоф неплохой дом с видом на бухту Золотого Рога, с маленьким садиком, где росли абрикосовые и гранатовые деревца, а так же сладкий виноград. Дом этот не принадлежал Иосифу Пилоссофу — он арендовал для Шабтая, платя высокую цену, лишь бы избавитель еврейства мог спокойно постигать тайные знания, не переживая насчет крова.
Говорили, будто Шабтай женился на Йохевед в благодарность за пожертвования отца, что он никогда не любил ее, что таким образом Иосиф Пилоссоф решает сразу две проблемы — выдает дочь и скрывает от кредиторов большую часть своего капитала, перешедшую теперь в руки Шабтая Цви, что на самом деле Йохевед некрасивая и немолодая женщина, потерявшая последний шанс выйти замуж.
Но Шабтай не обращал внимания на эти сплетни. Он по-своему привязался к Йохевед, разделявшую мысль об избранности и необычности своего мужа, обретя то, чего ему ужасно недоставало — поддержку. Вслед за отцом Йохевед верила, что Шабтай Цви — настоящий Машиах, только ему по самым разным причинам злые соперники не позволяют раскрыться полностью, вынуждая врать, скрываться и совершать непонятные поступки.
Когда Шабтай начал проповедовать в Измире, Йохевед была еще девочкой, но она хорошо запомнила экстатический восторг, охвативший евреев в ее маленьком городке на Пелопонессе, когда до них долетела весть о выступлении Шабтая. Малознакомые или даже враждовавшие друг с другом люди кидались целоваться, поздравляя с приходом Избавителя, они плясали в синагоге, сбившись в круг. Женщины плакали. В Измир направили делегацию ученых старцев — разузнать досконально, что да как, и при возможности пробиться к Шабтаю, оторвать на память край его платья…
А теперь Йохевед вышла замуж за этого загадочного, но фантастического человека! И от нее зависит, как сложится его жизнь, удастся ли Шабтаю воцариться в Иерусалиме. Она радовалась этой свадьбе. Но в Золоторожье, в красивом доме, окруженном спелыми гроздьями и гранатовыми деревцами, Шабтаю удалось пожить совсем недолго. Недовольные евреи начали собирать средства на бакшиш для великого визиря, лишь бы он избавил их родные края от присутствия нечестивого еретика.
10. Сара-Тереза улетает из монастыря
Как ни старались монашки оградить воспитанницу Терезу от пагубного влияния прошлого, сделать из нее благонравную «Иисусову невесту», вышивающую гладью, они не достигли большого успеха. Ни наказания, ни двойная беспрестанная слежка не мешали ей жить по-своему, в мире восточных фантазий и надежд на возвращение в еврейство.
Тереза по-прежнему тайно оставалась иудейкой, в своих сновидениях летала вместе с тенью убитого погромщиками отца, раввина Мейера, над холмами Израиля, проносилась у старых городских стен, выкрикивая слова запретных для нее молитв. Один сон снился ей довольно часто. Будто она, еврейка Сара, идет по красивому восточному городу, в который, помнилось, надо долго плыть морем, вся в золоте и шелке, навстречу своему жениху.
Кто он, Тереза не знала, но сваты наперебой расхваливали его, говорили, что жених умен и знатен, его родословная восходит к роду царя Давида, и Сара будет царствовать с ним в Иерусалиме. Иногда жених показывался ей издалека. Он был среднего роста, с красивым еврейским лицом, в зеленом тюрбане, украшенном павлиньим пером, и в халате, тоже расшитом небольшими павлиньими перьями. Жених вежливо кланялся ей, и Сара немела от счастья. Он с Востока, из страны турок — шептала девчушка, веря, что действительно ей суждено испытать великую любовь к этому загадочному суженому, даже имени которого никто не мог назвать.
Однажды Саре приснилось, что жених сам пришел к ней и просит оставить их одних. Сваты и толпа фанатичных поклонников почтительно расступились перед ними, крича «малхут!»[3].
Жених наклонился к Саре и сказал: я люблю твою душу, хотя еще не видел твоего лица, уходи отсюда как можно скорее… На этот раз он был в белом и держал на руках белого тигренка в черную полоску, пугливо сверкавшего изумрудными глазищами, словно кошка в погребе.
— Уходи, уходи — слышалось Терезе, и она замирала в ужасе.
Как она отсюда уйдет? У монастыря толстые каменные стены, решетки на окнах и высокая ограда, снизу каменная, сверху утыканная острыми пиками. Если бы рядом был большой город, тогда, может, из монастыря было б легче уйти, затеряться в толпе, переодеться в мирское платье, сжечь черную хламиду и рубашку с метками. Но монастырь стоит посреди глухого леса. Три дня пути до первого мало-мальски крупного города. Лес кишит разбойниками — теми, кто отбился от отрядов Хмельницкого и решил сам добывать себе пропитание грабежами. Девушке, да еще босой, раздетой, не пройти этот лес. Страшные слухи ходят о нем. Кроме разбойников, в лесу полно призраков, дикого зверья, и что ни лето, то обязательно в монастырь приносят чудовищные истории. Кого-то растерзал медведь, кто-то упал в волчью яму. Идти опасно.
— Я заберу тебя — говорил сверкающий жених, — верь мне, Сара! Очень скоро я пришлю за тобой моих птичек, они подхватят тебя на свои мягкие крылья и унесут далеко-далеко. Потерпи немного, дай мне найти в старинных книгах это заклинание. И обреченная на монашество Тереза верила снам.
Он есть, этот жених, он унесет ее к единоверцам, чтобы никогда больше не попадаться на глаза христианам. Скорей бы!
Сны следовали друг за другом. Сара почему-то видела себя на палубе странного корабля, на чьих парусах были вышиты золотыми нитками двенадцать колен Израилевых, а гребцы кричали по-еврейски и оказывали ей всякие почести. То принесут блюдечко с апельсинами, яркими, сочными, которые Сара в детстве ела только один раз, в праздник, то подарят серебряную шкатулку, где сверкают драгоценные камни. И она надевает алмазные серьги, блестящие неземным светом, чтобы предстать перед женихом. А подарки все несут, и среди них Сара видит изящные флакончики с благовониями, парчу и бархат, свернутые в рулоны, турецкие засахаренные фрукты, краски и притирки.
Ах, когда же это настанет? — думает несчастная монастырская девочка Тереза, когда жених унесет меня?
Сколько бы ни поучали ее монашки, особенно сестра Беата, что небесный жених у нее может быть только один, Иисус Христос из Галилеи, Сара упрямо твердит свое. Жених придет, непременно придет. Они встретятся там, в заморском городе, и встанут по свадебный балдахин…
В тот вечер в монастыре было тихо. Сестры уехали в соседнюю обитель, оставив Терезу под присмотром старших воспитанниц. Они не стали строго следить за Сарой и радостно побежали на кухню — тащить припасы, потому что девочек кормили скудно. Тереза не хотела ложиться спать, но сон почему-то ее сморил. Она закрыла глаза — и услышала голос.
Напиши прощальную записку, поблагодари сестер за то, что они заботились о тебе, не дали умереть в голоде и холоде, приютили. Я унесу тебя. Мои птички ждут. Пора!
Тереза, сама ничего не понимая, схватила чернильницу и вывела на обрывке холста (бумаги под рукой не оказалось):
Сестры, спасибо вам, вы были ко мне добры и справедливы, но я не могу быть христианкой. Мой жених ждет меня. Я уезжаю с ним. Сара.
Довольная, Сара подошла к окну. Тяжелая решетка распахнулась, и в келью ворвался свежий ветер. Девчушка пролезла через окно на крышу.
Там уже сидели две исполинские совы, они таращили на Сару янтарные глазищи и недовольно ухали. Сара прикоснулась к их перьевым ушкам.
— Мы готовы служить тебе, наша госпожа — сказали совы. — Берись за лапы — и полетели.
Тот час же совы рванули ввысь, Сара едва удержалась, крепко вцепившись руками в их когтистые лапы, и понесли ее над черным лесом.
Светила луна. Длинная холщовая рубашка Сары задевала верхушки елей, но она не чувствовала холода, несясь на совах все дальше и дальше. Вот уже скрылся из виду монастырь, горят огни редких деревушек, остались позади страшные разбойничьи чащобы. Нет больше ни нудных песнопений на латыни, ни долгих сидений за пяльцами, ни злых наставниц, требующих, чтобы Сара, дочь раввина Меера, стала истовой католичкой. Все ушло.
Сара простила монашкам былые обиды и слезы. Они хотели как лучше, решила беглянка, рассматривая необъятные поля, поэтому и мучили.
А девочки если и обижали меня, то не со зла, многие из них ведь тоже еврейки, такие же сиротки…
Полет на совах продолжался недолго. Набрав скорость, совы пролетали воеводство за воеводством. Показались огни Кракова. Немного не долетая до него, совы начали резко снижаться. Сара завизжала. Казалось, что она упадет и разобьется насмерть. Земля приближалась.
— Шма, Исраэль, — закричала девчушка, — потише, совушки, я упаду!
Но совы очень ласково опустили Сару на мягкую траву — и исчезли.
… Очнулась Сара нескоро. До нее донеслись какие-то голоса, чудилось, будто люди говорят о ней как о мертвой, да еще по-польски, отчаянно ругаются, удивляются, даже прикасаются руками к груди, чтобы проверить, бьется ли сердце. Она не сразу смогла пробудиться от долгого, похожего на смерть, сна. Еле-еле, с трудом преодолевая себя, Сара открыла глаза и приподнялась, опираясь на тоненькие локти. Рубашка ее была совсем изодрана и открывала смуглое полудетское тельце, покрытое персиковым пушком, черные волосы спутаны в адские колтуны, лицо поцарапано и испачкано. Ей предстала печальная картина. У белых носилок, в которых лежал завернутый в саван покойник, столпились люди.
Они показывали на Сару пальцами, недоумевали и пытались ее поднять с травы.
— Откуда она? — спрашивали пришедшие хоронить умершего столяра.
— Мы никогда ее не видели! Странно — недоумевало погребальное общество, «Хевра кадиша», стучавшее в нетерпении лопатами, — и откуда такая взялась?
Сквозь толпу протиснулась толстая женщина. Она кричала, размахивая руками, и пыталась подойти к Саре поближе.
— Отойдите, бесстыдники! Не видите, что кто-то надругался над девочкой и бросил тут. Дайте я ее заверну в свою шаль и перенесу, а то она совсем слабенькая, кожа да кости, еще простудится.
Женщина подобралась к Саре, накрыла ее длинной пестрой шалью, обняла и спросила:
— Кто ты?
— Я — Сара, дочь раввина Меера из местечка Поляницы.
Люди, забывшие о похоронах, замотали головами, так как местечко с таким названием располагалось очень далеко от Кракова.
— Этой ночью меня перенесли на своих крыльях две совы — добавила Сара, дрожа от ужаса.
— А где ты жила раньше? — поинтересовалась женщина.
— В монастыре бенедектинок — сказала она.
— Она больная, не в себе, и бредит. Да у нее жар!
— Еще бы! Всю ночь летать на совах!
— Она дурочка, а какие-то твари утащили ее, издевались, пользуясь болезнью…. Погодите, мы их еще поймаем!
— Жутко представить, если б на ее месте оказалась моя Рохл!
— Бедняжка, она вся в крови, в синяках, в ранах.
— Несите ее в дом пирожницы Хаи.
— Какая она легкая, точно пушинка!
Сара прожила у пирожницы Хаи несколько месяцев.
Раны ее заросли, история с неожиданным появлением Сары на кладбище стала забываться (хотя в местечке о ней судачили немало), и она стала помогать месить тесто, носить воду, поддерживать огонь в большой печи.
Еврейская община собрала деньги, чтобы купить Саре башмаки, платье и белье. Молочница приносила ей молоко, портниха из соседнего местечка Вижовницы обещала взять девочку к себе в ученицы, узнав, что Сара умеет справляться с иголками и нитками. О том, что ей довелось пережить, Сара предпочитала сначала отмалчиваться, но потом решила поделиться. Суровые нравы монастыря, где ее держали силой, пережитые несчастья и невероятное спасение Сары произвели на жителей местечка такое впечатление, что они захотели устроить горемычной сиротке нормальную жизнь. Сара подрастала, обещая стать весьма красивой, и оставлять такую многообещающую невесту без завидного жениха было уже неловко.
В субботу раввин объявил, что есть отличный способ искупить грехи: дать приданое сиротке Саре. И люди стали приносить ей кто домашнюю утварь, кто ткани, кто деньги. Одна женщина подарила Саре дойную козочку, а торговец лесом — бревна для постройки дома.
Теперь, казалось, судьба ее устроена, после осенних праздников хупу сделают, да и паренек один Саре понравился, Вевл, сын шорника, то и дело забегал к пирожнице Хае, спрашивал: а Сара не выйдет?
И брала Хая ухват, гнала Вевла, крича, что повадился смотреть на сиротыну, но смеялась, приговаривая: погоди, парень, до осени!
Все, казалось бы, ясно и изменению не подлежит. Но..
В тот вечер мимо местечка проезжала карета пана Стаха Радзивилла, и как нарочно, прямо перед самыми дверьми старой синагоги, у нее отвалилось колесо. Встала карета посреди дороги, и ни туда, ни сюда. Выскочил из кареты в бобровой шубе пан злой-презлой, на кучера ругается, опаздываем, скорее чини! Кучер колесо привинчивает, торопится, а рядом синагога, и в ее окнах горят свечи. Смотрит пан Радзивилл в окно, и видит: стоит в синагоге перед скрижалями девушка, милая личиком, смуглая, черноволосая, а над верхней губой у нее родинка, и шепчет что-то по-еврейски.
Какой цветочек в этом Сионе расцвел, подумал пан, краше не бывает.
Подошла — вот глупая — Сара поближе к окну, на богатую карету поглядеть, и рассматривал ее Радзивилл, как публичную девку, на продажу выставленную, сквозь стекло ошалевая.
Вскипела шляхетская кровь, загорелся пан, заберу, думает, жидовочку, сладкую пташку, одену ее в шелка, завешу золотом. Никакого удержу не знал Радзивилл, когда речь шла о девушках, и распахнул дверь синагоги…
В страхе попятились евреи, поняв, кого надо сластолюбцу пану, задергались огни свечей, зашумели.
— Так, пся крев! — крикнул Стах Радзивилл, сюда мне панночку, и чтоб никаких жалоб! Я ваш господин, вы мои жидки, хочу караю, хочу милую!
Схватил Сару за руку, приказал слуге завернуть в медвежью полость и увез. Сара в меху вырывалась, задыхаясь от запаха звериной шкуры, царапалась. Но неумолим был пан Радзивилл, не сжалился.
Разве есть что-то, чего нельзя Радзивиллам? Ничего. Все им можно.
11. Проклятье рода Радзивиллов. Пленница Сара. Ptak zelazny
Bog nam radzi — девиз Радзивиллов.
Велик, могуч и влиятелен в Польше и Литве род Радзивиллов. Славятся они своей политической властью, едва ли не равной королям, несметными сокровищами, а так же на удивление тяжелыми и склочными характерами. Вредность Радзивиллов давно уже стала легендой, в городах и местечках часто можно услышать: он противен, как Радзивилл, или она упрямая, будто Радзивиллиха.
Каждый отпрыск Радзивиллового корня своим долгом считал устроить какое-нибудь скандальное дело. Но куролесить, как куролесили на последние деньги простые шляхтичи, Радзивиллам казалось недостойным. Нужно сделать нечто такое, что осталось б в памяти потомков и вызывало б суеверный ужас. Одни Радзивиллы затевали битвы, менявшие ход истории, другие закатывали недельные пиры, на которых съедались звери со всей округи, третьи сочиняли стихи или описывали собственные подвиги в длинных мемуарах. Еще их отличала особая страстность к женскому полу, благодаря чему во всех подвластных им землях бегали маленькие рыжие или рыжеватые детишки, беззаконная кровь Радзвиллов.
Но Николай Кшиштоф Радзвилл, прозванный Сиротка, в начале 17 века захотел — ни много, ни мало — избавить свой род от тяготеющего над ним древнего проклятия. О несчастьях, сопровождавших историю этой семьи с давних времен, придется рассказывать долго, непременно в душную летнюю ночь перед грозой, когда черные тучи пронзают яркие желтые молнии, в воздухе носится мистический ужас, а летучие мыши, висящие на толстых стенах родового замка, боязливо попискивают от громовых раскатов. Зажгите свечку, откройте ветхий манускрипт, писанный на пергаменте лиловыми чернилами, сдвиньте с колен любимую кошечку — иначе от страха ее зеленые глаза засверкают фосфором.
Первым Радзивиллом[4] считают литовского жреца культа Перунаса, повелевавшего в поверьях некрещеных литвинов молниями и грозами. Объединив под своей священной властью разделенные балтийские племена, предок Радзивиллов перед смертью крестился по христианскому обряду и, передавая власть своему сыну, потребовал от него поклясться в верности церкви. Иначе его потомкам никогда не видать ни земного счастья, ни посмертного прощения грехов. Ради правления литвинами юный Радзивилл обещал отцу, что он не только будет примерным христианином, но и крестит весь литовский народ «не мечом, а убеждением» и его страну никто больше не посмеет назвать языческой.
Однако стоило лишь бывшему жрецу испустить дух, его наследник принялся за жертвоприношение идолам, разломал церковь, вернул привилегии жрецам, разрешил народные гуляния и неприличные обычаи, а заморских проповедников христианства приказал скормить ручным медведям, чему медведи, сидящие в ямах на цепи, вечно голодные, были очень рады.
Свидетелей крещения своего отца сын также уничтожил, стал носить его ритуальные одежды и золотые украшения, а в довершение всего полюбил дочь вещуньи, по имени Янита, и женился на ней. От Яниты и пошли у Радзивиллов пышные, слегка кудрявые волосы разной степени рыжести, мраморная тонкая кожа и маленькие ступни.
Дочь этого Радзивилла и Яниты, Риинэ, тоже не могла называть доброй христианкой: мало того, что она обожала вызывать духов, варить зелья и превращалась каждое полнолуние в белую волчицу, так она вышла замуж за пришлого еврейского юношу Осьцика (Иосифа), сына ростовщика, и переняла его иудейскую веру. Колдовство Риинэ оставила, новое имя ее было Рахель. Так рыжее семейство литовских жрецов связало себя узами с чернявыми потомками библейских героев. Разумеется, сами они тщательно это скрывали, и хотя с тех пор дети Радзивиллов получали в дополнение к литовскому еще тайное иудейское имя, внуки Осьцика и Рахели росли католиками. За что старый Осьцик, переживший жену, заставший крещение и конфирмацию внуков, якобы проклял всех христианских Радзивиллов — которые живут сейчас и которые родятся после. Чтобы одолевали их всевозможные несчастья, чтобы богатства оборачивалось страданиями, чтобы любовь не приносила никакой радости, а ратные подвиги и близость ко двору не могли искупить греха оставления веры. Единственное, чем можно снять проклятие со всего рода, это чистая любовь юноши Радзивилла к еврейской девушке, раввинской дочери. Только тогда, вернувшись к иудейскому исповеданию, выбранному когда-то его предками, эта молодая чета прогонит нависшие над Радзивиллами беды и принесет им новую славу. А залогом этому должна послужить уродливая железная птица, ptak zelazny[5], выкованная умелым кузнецом Осьциком из упавшего с неба камня, большая, неуклюжая, с тяжелыми железными крыльями и зубастым клювом. Когда заклятье исчезнет, птица эта словно оживет, захлопает крыльями, застучит когтями…
Так гласит апокриф, хранившийся с незапамятных времен в архивах Радзивиллов. Как-то раз он попался на глаза Николаю Кшиштофу Радзивиллу, искавшему в груде бумаг любовные вирши деда. Сначала Николай Кшиштоф не поверил: уж больно много всяких слухов витало вокруг прошлого его фамилии, один другого фантастичней, и никакая прародительница-колдунья с мужем-евреем Радзивилла удивить не могла.
Сказки, вздохнул он, кладя рукопись с этим преданием на дальнюю полку. Прошло время. В конце 16 века Николай Кшиштоф Радзивилл вдруг захотел попутешествовать по Ближнему Востоку. Из Италии он отправился через Средиземное море в Египет — хотелось посмотреть на пирамиды. Увидев пирамиды, Николай Кшиштоф купил в Каире 2 египетские мумии, мужскую и женскую, забинтованные и несимпатичные, к тому же противно пахнувшие бальзамом, а затем отправился в Иерусалим. Посетив христиански святыни, Радзивилл поплыл обратно в Европу, только мумии пришлось выбросить за борт, когда разыгралась буря. Не знал Николай Кшиштоф, что отныне к двум проклятиям прибавится третье за то, что приобрел украденные из пирамид мумии знатных египтян да еще и утопил их в морских пучинах. Обидеть мумию — последнее дело, мумии — публика вредная, даже вреднее Радзивиллов и обид не прощают. Приехав домой, Николай Кшиштоф стал жить по-радзивилловски — пышно, буйно, весело, напрочь забыв о мумиях. Не до них ему стало — то проект замка и костела с подземной усыпальницей придумывал, то в междоусобную свару влезал, то за дамами волочился. Магнатам скучать некогда.
Но мумии о Радзивилле не забыли. Стали они ему снится ночами, бинты свои разворачивать и ехидно, по-египетски, вопрошать: зачем ты, Радзивилл, нарушил наше мирное упокоение? Зачем купил нас на базаре у араба, расхитителя гробниц, словно кукол спеленатых, таскал за собой по всей Палестине, а затем бросил в море? Плохо нам там, Радзик, очень плохо: рыбы хищные каждый день по кусочку отрывают, бинты тончайшие размотали, кусают и кусают, а соленая вода бальзам вымывает, так и разложиться недолго…. Жди, пан, новых бед, если тебе мало старых!
Спит Николай Кшиштоф, а мумии его щекочут, теребят и ворошат, и наутро следы их острых ногтей на теле обнаруживаются.
Клопы, думал Радзивилл, клопы зеленые, меня, ясновельможного, кусают!
Велел слугам перед сном постель проверять, все перины, все подушки, искать клопов, и на всякий случай посыпать сухими травами-клопогонами. Но по-прежнему просыпался он от укусов, ругался, бродил по замку со свечкой, клопов искал.
Не давали покоя ему эти мумии, муж и жена, важные египетские сановники. Подействовало их проклятие.
Катажина Тенчиньска, красивая шляхтянка, родила Николаю Кшиштофу Радзивиллу много детей, но все они умирали в младенчестве, не доживая и до года: кто от свинки, кто от кори, кто от заворота кишок или от бронхита. Знатные люди в те времена хоронили своих малышей часто, и никто им помочь не мог, ни заморские лекари, ни деревенские колдуньи.
В любой семье такое бывало, но только у Радзивиллов дети гибли год за годом, и маленькие, похожие на шкатулки, гробики, ложились друг на друга в фамильный склеп под костелом в Несвиже. Всего их было 12. Пани Катажина умерла с горя, и пан вскоре женился на сестре своей прежней жены, тоже Катажины, урожденной Острожской, по имени Эльжбета. Конечно, Папа разрешал жениться лишь единожды, но все законы писались не для Радзивиллов, поэтому понтифик благословлял каждый раз новобрачного пана и дарил ему: то серебряный сервиз на 200 персон (а к чему мелочиться, когда такие люди женятся?), то редкую икону в бриллиантовом окладе, то какой-нибудь средневековый манускрипт.
А пани Катажина Тенчиньска, Ниобея, потерявшая детей, превратилась в пушистую сову с перьевыми ушками и ночами печальным уханьем оглашала окрестности Несвижа, спрашивая — где ж мои детки?!
И детки из гробиков с гербами отвечали: мы здесь, мама, мы здесь…
Умирая, Николай Кшиштоф Радзивилл Сиротка завещал своим отпрыскам — и не только им, а всему роду, всем потомкам от всех ветвей, попытаться снять с Радзивиллов древнее проклятие, хотя бы одно, потому что жить под тремя проклятиями очень плохо, не знаешь, каких пакостей еще ожидать и к чему готовиться. Дети обещали.
Но взялся выполнить это обещание только Стах Радзивилл, дальний, не слишком богатый родственник Николая Кшиштофа. Он, рано лишившись родителей, воспитывался в Олыке, в замке у Альбрехта Радзивилла.
Стах казался мальчиком тихим, мирным, Радзивилловская натура, ядовитая и горячая, в нем взыграла поздно, поэтому, наверное, никто от него не просил снимать проклятие, и не догадывался, что Стах на это способен. Когда Стах стал взрослым, влиятельный опекун его, Альбрехт Радзивилл, боясь, как бы тот не потребовал своей доли, передал Стаху право взимать с подвластных Радзивиллам еврейских местечек разные подати, налоги и сборы. Для капиталов самого Альбрехта эти деньги не играли такой большой роли, и он без сомнений перепоручил их своему воспитаннику: пусть собирает, может, заодно научится ведению дел. А там посмотрю, упоминать ли его в завещании.
Стах оказался хитрецом, и, не доверяя управляющим, сам начал разъезжать по Речи Посполитой, встречаться с кагальными старостами, вытрясая из них деньги. Старосты стенали, падали ниц, жаловались на неурожай, на непреходящую бедность еврейских семейств, не знавших иного блюда, кроме sledzianej watrobi[6] третьей свежести да ржаного хлеба с козьим пахучим молоком.
— Какие деньги? — плакали они, и совали Стаху взятку. Но гордый пан отталкивал руку кагального старосты, метясь кованым сапогом в его наглую еврейскую физиономию. Именно в день такого объезда местечек Стах Радзивилл и увидел в окне синагоги красивую еврейку Сару, увез ее в свой богато обставленный особняк, выстроенный по всем канонам неприступной крепости: высокие каменные стены, сторожевые башни, подъемные мосты, опоясывающие рвы, в которых на лето пан запускал живых крокодилов. Крокодилов, если интересуетесь, Радзивилл заказывал в Египте, привозили их в бочках, заполненных нильской водой, и кормил редко, чтобы зубастые ящеры не забывали своих обязанностей — пожирать тех, кто дерзнет нарушить покой Стаха Радзивилла. На зиму, когда вода во рвах вокруг замка промерзала до самого дна, крокодилов осторожно переманивали мясом в особые бочки с тепловатой мутной водицей, и бережно опускали в каменную, выдолбленную в полу замка, нишу, где нильские крокодилушки дожидались весны. В нее, круглую, но не глубокую, по желобкам вливалась подогретая вода, а по краям ниши росли осоки и кувшинки, создавая привычный уют стоячего водоема. Воздух в помещении с этой нишей отапливали два изящных камина, к которым крокодилы выползали погреться перед спячкой. Засыпали они обычно в начале октября, а просыпались в апреле. Проглатывая очередную жертву — а ею мог стать и не угодивший пану слуга, и какой-нибудь сильно задолжавший простолюдин, крокодил давился до слез, которые крупными солеными каплями падали из его маленьких доисторических глаз.
Круглая сторожевая башня, куда на самую верхнюю площадку по винтовой лестнице привезли завернутую в медвежью полость Сару, считалась идеальным укрытием. Метровой толщины стены надежно изолировали Сару от всех внешних шумов: находясь там, нельзя было расслышать все то, что происходило во дворе или в остальных покоях замка. Узкие, декоративные окошки, служившие только для того, чтобы выставить в них оружие, закрывались толстыми решетками, а кроме них еще и металлическими ставнями. Винтовая лестница, ведущая в круглую башню, оказалась очень неудобной для частых подъемов и спусков, особенно если бегать туда-сюда приходилось в платье с длинным, волочащимся по земле, шлейфом.
Чтобы спуститься вниз, желательно было не только раздеться, но и снять обувь, которая, как назло, по моде сезона, вся на высоченных каблуках.
Но и преодолев все 666 ступеней винтовой лестницы, пленница все равно не попадала в замок. Башня строилась позже, поэтому напрямую она с замком не соединялась. Нужно было знать потайные ходы, а это невозможно для человека, несколько часов назад привезенного в замок.
Бедная Сара оглянулась. Каменные, кругло сведенные стены башни таили вековой мрак. Из узкого окошка-бойницы до нее едва достигал жалкий луч света. Ничего мягкого, кроме медвежьей полости, в которую Радзивилл завернул Сару, в башне не было. Тяжелая дубовая дверь с медными кольцами-ручками не открывалась. Красивых девушек пан Радзивилл похищал часто, прибегая всегда к одним и тем же приемам. Подыскав новую жертву, он внезапно увозил ее в круглую башню и запирал в ней на срок вполне достаточный для того, чтобы несчастная смирилась со своей участью. Первый день дверь башни не отпиралась. Слугам запрещалось открывать ее, невзирая на крики и мольбы похищенной. Да и не слышны были они из-за непроницаемых каменных сводов. На вторые сутки измученная красавица, в последний раз пытавшаяся тронуть дверь, с удивлением обнаруживала, что замок отперт и крадучись спускалась по винтовой лестнице вниз, на первый этаж башни. Там, в полном безлюдье и безмолвии, стоял небольшой круглый столик орехового дерева. Заботясь о проголодавшейся пленнице, слуги выкладывали серебряные подносы с изысканными яствами — нежным мясом куропаток, засахаренными фруктами и молочным десертом. Забыв об осторожности, девушка впивалась зубами в еду и проглатывала все до крошки, считая, что подносы забыли опустошить гости пана.
Но в кушанья хитроумный Радзивилл подмешивал восточные зелья, дававшие спустя некоторое время снотворный эффект — похищенная пейзанка засыпала, теряя самообладание, и не противилась утехам настырного сластолюбца. Пан приходил в круглую башню лишь тогда, когда девица уже успела перекусить, приступая к обычным своим увещеваниям: вы, любезная, у нас не пленница, а гостья, не угодно ли пойти посмотреть мой замок? Похищенная соглашалась. Стах Радзивилл показывал ей красоты убранства, не забывая рассказать о своих крокодилах. Неожиданно она входила в залу с нишей, где лежали в полудреме толстые темно-зеленые бревна, испещренные бугристыми наростами и складками.
— Это мои верные помощники — улыбаясь, говорил пан Радзивилл. — Я привез их с теплых берегов Нила.
Заслышав голос хозяина, зубастые пасти раскрывались в страшном подобии доброй улыбки.
— Ну, ну, любезные, не трогайте! — останавливал их Стах и добавлял: — вы же ели недавно, неужели проголодались?
И называл имя какой-нибудь прежней наложницы, молодое мясо которой оказалась белым, мягким, точно свежевыловленная в лесу куропаточка. Разумеется, Радзивилл блефовал: ни одну из своих наложниц крокодилам он пока не скармливал. Но кто знает, если новая жертва будет плохо себя вести, не окажется ли она в глубокой, полной острых зубов, пасти? Далее пан услаждал похищенную барышню тихой, приятной музыкой, лившейся из его коллекции музыкальных шкатулок причудливых форм. Это навевало на слабеющую от зелья сон, а затем он уносил уснувшую красавицу наверх.
Но с Сарой вышло немного иначе. Она спустилась к столику — но ничего с него не взяла. Нет, девушка была голодна, но у нее возникли сомнения в кошерности панских угощений. И так столько лет в монастыре ей приходилось питаться трейфом! А сейчас, когда Сара снова стала жить с евреями, она и в мыслях не могла допустить такого осквернения…
Поэтому Стах Радзивилл с удивлением увидел, что Сара к еде не притронулась.
— Я это не ем — с безразличием бросила она похитителю.
— Тогда вам суждено умереть от истощения — сказал пан.
— Пусть, — вздохнула Сара, — но я наелась всякой гадости в монастыре на всю оставшуюся жизнь!
— Так вы воспитывались в монастыре?! — изумился Стах.
— Казаки устроили погром и убили моих родителей, — ответила Сара, — меня же насильно забрали в монастырь, окрестили Терезой. Я прожила у них в унижениях несколько лет, и если бы меня не унесли совы, мучилась б до сих пор. Неужели мне снова предстоит жить среди чужих? Прошу вас, пан, оставьте меня, отпустите! Разве мало вам девушек?!
Радзивилл был тронут. Вдруг перед ним та самая раввинская дочь, способная снять заклятье?
— А кем были ваши родители, милая? — спросил Стах.
— Я дочь раввина Меира — сказала Сара, глотая слезы.
— Вот оно как — задумчиво произнес пан, — тогда понятно.
Сара оказалась единственной из всех наложниц неуемного Радзивилла, которую он держал у себя в замке отнюдь не принуждением и которую — страшно представить его ханжам-родственникам — намеревался даже объявить своей законною женой! Правда, прелестная еврейка венчаться с ним не согласилась, заявив, что после монастырского заточения не испытывает к христианству ничего, кроме животного отвращения, и потому никогда не переступит порог костела.
Когда Радзивилл догадался, что от благосклонности Сары зависит снятие проклятия, он не решился навязывать ей свое общество и не потащил девушку в шелковые альковы. Отведя Саре отдельные покои, он навещал ее, приглашал на прогулки в саду, читал трогательные вирши и подарил Саре двух черных лебедей, которые плавали в пруду.
Когда-нибудь она полюбит меня, мечтал Стах, привыкший жестоко обходиться с дамами низших сословий. Если я свяжу ее веревками, Сара ни за что не простит меня, а значит, проклятие будет действовать. Надо пробудить в ней искреннее чувство, пусть не любовь, а хотя бы уважение! Только в этом случае я освобожусь от козней моего предка Осьцика, зловредный он был еврей, что ни говори!
Ради Сары пан Радзивилл изменил свою жизнь. Он забросил строительство костела с подземельями, не ходил больше смотреть на работы, в которые любил вмешиваться раньше, пустив все на усмотрение зодчих.
Вместо этого устраивал веселые представления, где в непотребном виде выставлялись другие Радзивиллы, известные своим показным благочестием, льстивая, юркая придворная челядь, жадные купцы. Разыгрывал Стах Радзивилл и «жидиаду» — комический спектакль о евреях, где все роли играли самые знатные католики, нарядившись в длиннополые одеяния, шляпы, накладные завитки и тяжелые ассирийские бороды. По замыслу Стаха, завершаться «жидиада» должна предсмертным словом. Стоя перед плахой, переодетый «еврей» — а на деле поляк — произносил совсем уж неприличные слова в адрес добрых католиков, осудивших его на казнь, хулил христианскую веру так, что это вряд ли могло кому-нибудь проститься. Однако Радзивиллу прощалось. Закончив хлесткую речь, мнимый еврей снимал бороду, отцеплял пейсы и бросался к гостям, умоляя спасти его от палачей, приговаривая при каждой фразе «Йезус Мария, Йезус Мария!» Гости разрывались от смеха, актер комично кланялся им, собирая шуточное подаяние в медную тарелочку, словно заправский нищеброд на празднике в местечке, и благодарил их по-еврейски… Сара не смеялась. «Жидиада» казалась ей не смешной, но и не слишком оскорбительной: ведь представление это — чего скрывать — насквозь антихристианское. Она ходила печальная, думая о своей судьбе.
Может, те сны обманули ее, не невестой Машиаха быть Саре, а заложницей похотливого польского князя, чьи владения много больше всей земли Израиля?
— Почему ты не радуешься, моя Сара?! — интересовался Стах Радзивилл, — разве не представил я тебе свой замок, не одел в шелка и парчу, не услаждаю тебя веселыми сценками? Чего не хватает тебе, моя Сара?
— Мне не хватает моей родины — отвечала ему еврейка, опустив голову. — Каждую ночь я вижу ее во сне и, проснувшись, надеюсь побывать там, но все вокруг польское, и вы поляк, вшендзе, вшендзе польска.
— Меня пугает Несвиж — плакала Сара, — эти громадные серые камни, сырость, жабы, ужи, сосущие по всем углам из блюдец молоко, высокие потолки, вечно холодные камины. А еще этот птак желязны, ужасная штуковина, клацает и клацает своими адскими зубьями!
Услышав это, пан Радзивилл побледнел. Веками стоял ptak zelazny под стеклянным колпаком на постаменте неподвижно, не хлопал крыльями, не щелкал страшным клювом. Побежал он в библиотеку, большую комнату, где пылились всякие древности, висели портреты предков, посмотреть на птака желязного. Вместе с паном помчалась и Сара — видит, что не верит ей Радзивилл. И убедились они: ожила механическая птица, глаза ее движутся крылья трепещут, клюв стучит, переступает она с одной когтистой лапы на другую. Наверное, у нее внутри механизм проснулся. Или снято проклятие Осьцика?
Обрадовался Радзивилл этому, полегчало ему, страхи кончились. И решил он подарить Саре все, что она пожелает.
Спросил Стах у Сары: чего ж ты, золотая, хочешь?
— Свободы хочу, сказала Сара, — уехать к кузену Шмуэлю Примо в Амстердам, а оттуда вместе с ним на родину, в Израиль. Не жить мне в Польше, слишком много горя пережито!
Сара к тому времени начала Стаху наскучивать, непостоянно его сердце, потому пан быстро отпустил ее из замка, подарив на прощание немало золота. С такими деньгами она вполне могла добраться до Иерусалима, а может, и до крайнего берега Африки.
12. Леви думает о пани Сабине. Марица решает действовать. Нехемия Коэн наконец-то приходит в лавку Леви
Визит пани Сабины не мог не оставить заметного следа в жизни Леви Михаэля Цви. Объяснялось это не только ее красотой, но и тем, что полька Сабина по странному капризу воображения напомнила ему несколькими своими чертами, черточками и чертиками любовь, свалившуюся на Леви в 10 лет. Госпожой сердца Леви тогда стала маленькая, большеглазая девочка, лет восьми или девяти, которая часто попадалась ему на улицах Измира.
Леви встречал ее в сладкой лавке, где покупал для братьев кунжутную халву, на пестром и шумном базаре, слышал ее голос, доносившийся с балкона, когда вечером проходил мимо турецких домов. Ее звали Фируз, она была наполовину еврейкой, по отцу, сменившему закон, чтобы взять в жены ее мать, высокую турчанку, и племянницей попавшего в немилость паши, что придавало страсти иудейского мальчика особый, запретный оттенок. Он знал, кто разрешен ему, и, тем не менее, Леви никогда не думал о Фируз как о турчанке, для него она всегда оставалось еврейкой, нерожденной сестрой, которую он так и не смог дождаться: девочки в роду Цви появлялись на свет редко. Сначала Леви видел в Фируз лишь сестру — ему хотелось, чтобы рядом оказались, кроме Шабтая и Эли, еще и она, такая миниатюрная, ладная, смеющаяся….
Затем к этим невинным чувствам примешался многоликий демон плоти. Леви и сам не знал, когда Фируз перестала быть для него просто девочкой. Может, это случилось в дождь, когда Леви увидел ее золотые обручи на запястье, и узкую полосу приоткрывшейся ноги, усыпанную мелкими светлыми каплями. Или, наверное, в тот миг, когда Леви, передавая ей павлинье перо, впервые дотронулся до руки Фируз.
А теперь Леви столкнулся с той, чьи глаза — как у Фируз, и такие же руки, и даже голос похож — тихий, печальный. Немного восточный, «сарматский», как тогда говорили, облик Сабины представлялся ему повзрослевшей Фируз. Разумеется, Леви запомнил Фируз не той, какой она была девочкой, а той, какой она ему снилась. Через год родители Фируз покинули Измир и увезли ее с собой. Больше Леви Фируз не видел. Говорили, что она живет в Стамбуле, что дядя-паша вновь в фаворе, что Фируз удачно выдали замуж, но Леви отмахивался. Та, его Фируз, была другая…
Он много думал о пани Сабине, втайне надеясь, что она еще зайдет в лавку за какой-нибудь антикварной вещицей, Леви снова поговорит с ней, поймает улыбку, словно яркую бабочку в сачок, и будет носить ее в своей памяти долгодолго, лелея, как неисполнимую мечту.
Но Сабина в те дни оставалась дома. Никто, кроме ее служанки Марицы, не догадывался, как неумолимо влечет пани в турецкий квартал, как тяжело ей бороться с собой, как хочется заглянуть в лавку древностей.
Марица слишком хорошо разбиралась в тайных порывах своей хозяйки и предполагала, что Сабина еще не раз встретится с турецким букинистом.
Дальше хитрая служанка старалась не загадывать. Будь что будет.
Пани Сабину поклонники продолжали искать даже после того, как она отказалась от надоевшей роли светской львицы и стала безвылазно проводить вечера дома, читая у камина или вышивая. Богатые шляхтичи наносили ей визиты, зная, что пани мало кого принимает лично, и, получив отказ, гордо удалялись прочь. Бывало, что очарованные красотой Сабины они проникали, подкупив сторожа, в сад, и украдкой любовались ею, срезающей розы, из колючих зарослей терна, опутывающих особняк. Сабина замечала их, но не смела прогонять. Ей почему-то это не льстило, как не радует обиженного ребенка дорогой подарок.
Сабина, грустная и задумчивая, относилась к воздыхателям чуть ли не безразлично. Многие, правда, уверяли, что безразличие это напускное, но пани не обращала на эти разговоры внимания. Если же поклонник очень надоедал, и избавиться от его настырных визитов не удавалось, то Сабина просила Марицу пойти вместо нее на ночное свидание, чтобы та в приятной темноте, шелестя подолом и многообещающе вздыхая, внушала ему несбыточные надежды на взаимность, а затем резко отказала, намекнув, что сердце пани принадлежит другому.
Сабина отдавала служанке свои платья, мыла ее тем же турецким мылом с едва уловимым ароматом мускуса, что любила сама, причесывала ее по моде, со своими бантами и лентами, поэтому Марица легко выдавала себя за пани Сабину. Внешнее сходство, впрочем, их было не столь сильным, чтобы провести при свете дня кого-нибудь из своих хороших знакомых, но не очень знавшие их люди попадались в эту ловушку, словно светлячки в пламя свечи, без страха и сожалений. Обманув таким способом несколько шляхтичей, пани Сабина прослыла недоступной ледышкой, умевшей притворным холодом разжечь мужское любопытство. Список разбитых пани сердец был внушителен: в нем успела засветиться если не вся аристократия Речи Посполитой, то уж точно многие представители родовитых семейств, близких к королю.
Равнодушие Сабины к чужим страстям, которые она распаляла, сама того не желая, могло показаться болезнью, если б не одно маленькое обстоятельство. Она была уже замужем — и оставалась девицей. Три года назад, когда Леви Михаэль Цви еще обитал вместе со своим братом в Стамбуле и ни о какой поездке в Европу даже не думал, юная Сабина вернулась из Кракова в родной Львов. Завершив образование в католическом пансионе, девушка с радостью окунулась в мир роскоши и флирта. Она плясала на балах, наряжалась в немыслимые костюмы восточных принцесс, кружила головы шляхтичам. Зимой родители посватали Сабину за пана Гжегожа, фанатичного католика, воспитанного иезуитами, решив, что он будет ей хорошим мужем. Гжегож — тоже природный Пяст — приходился Сабине дальним родственником, четвероюродным дядей по линии матери, но в его руках сосредотачивалась большая власть и огромное состояние. Соединив этим союзом некогда разрозненные ветви генеалогического древа, родители Сабины намеревались не только устроить дочь подходящим образом (кровь Пястов не должна разбавляться), но и упрочить свое положение в обществе. Через пана Гжегожа отец Сабины получил высокий чин, ее брат Зыгмунд, учившийся в семинарии, сразу мог рассчитывать на отличный приход в Львове, чтобы не разлучаться с сестрой, а кроме того, сливались вновь разрезанные части огромного имения. Одним словом, это был бы замечательный брак, отпрыски которого имели полное право носить фамилию Пяст, и претендовать на польский трон.
Но в день свадьбы, выбиравшийся с такой тщательностью и не обещавший ничего плохого, небо внезапно заволокло тучами. В тот момент, когда мама благословляла Сабину перед венчанием, прося быть верной мужу и не позорить род Пястов, а пан Гжегож раздумывал, прицепить ли к пышному наряду саблю, инкрустированную изумрудами, или все же оставить ее дома, зазвучала военная тревога. Турки и татары наступали на Галицию и Подолию, неожиданным ударом обрушившись на ее города и села.
Шляхта должна была выполнить свое предназначение, забыв про свои семейные заботы. Тревога пробудила в пане Гжегоже дух предка — неистового шляхтича, не слезавшего с коня и рубившего всех врагов католической церкви, грубого и жестокого, чье лицо украшали сабельные раны, а у уха или носа не хватало кусочка, отрубленного каким-нибудь злым татарином в пылу сражения. Поэтому, выйдя из собора, пан Гжегож перекрестился, поцеловал молодую жену в щечку, пощекотав колючим усом — и вскочил на коня. Король ждал его не на пиру — а на поле боя.
Атаку удалось отбить, турок ненадолго прогнать, только Сабина не дождалась своего мужа.
Пан Гжегож пропал без вести, и последний, кто видел его живым, был адъютант, уверявший, будто шляхтич отбивался от турок сначала ружьем, затем саблей, а в конце — голыми руками. Судьба его оставалось неизвестна. Пана Гжегожа не нашли среди погибших, но и в числе пленных он не упоминался. Вероятнее всего, пан Гжегож погиб, сражаясь, пока у него оставались силы, а после боя его тело было сброшено турками с моста и унесено течением.
Но из-за этих трагических событий пани Сабина оказалась и замужем, и не замужем. Она не знала, считать ли себя вдовой, или, напротив, терпеливо ждать мужа, храня ему верность? Если бы Сабине сказали: все, вы вдова, или бы вернулся чудом Гжегож, тогда было б все для нее ясно — как жить теперь, что носить, траур ли, можно ли устраивать балы или лучше обождать год…
А так все было темно, неясно и плохо.
Марица не могла смотреть, как страдает пани Сабина. Она не сомневалась, что Осман Сэдэ, странноватый турок, уже коснулся ее души и скоро, быть может, вспыхнет любовь. Но сама госпожа наотрез отказывалась встречаться с ним, приезжать вновь в турецкий квартал.
— Марица, говорила Сабина, — да как это можно? Вдруг меня кто-нибудь увидит?
— Но вы же плачете — убеждала ее Марица, — и плачете из-за него!
Выход напрашивался один — притворившись Сабиной, в ее платье, надушившись ее духами, вызвать этого турка на рандеву под покровом ночи, и попытаться выяснить, заинтересовался ли он ею. Высунув от усердия молодой розовый язык, Марица достала лист пахнувшей конфетами сиреневой бумаги и начала выводить почерком госпожи любовную записку.
Записка, в нарушение негласного любовного этикета, была написана не на французском языке, а по-польски. Марица припомнила, что турок разговаривал с пани на ее родном языке, пусть и с акцентом, делая ошибки, а вот французский он мог не знать.
Разберет, если захочет — подумала упрямая русинка, заклеивая конверт. Красивое, сладко пахнущее письмо попало Леви в тот же день. Он прочитал его, не веря своим глазам: пани Сабина желает встретиться с ним наедине по одному важному делу, вечером, в своем саду, и просит хранить это в глубоком секрете. Леви испугался. Ему хотелось увидеть Сабину, но вечера Леви привык проводить, записывая в дневник все то, что он помнил о своем брате, разбирая его слова и поступки. Идти в центр Львова ночью, если ворота иноверческого квартала запираются с заходом солнца?
А как я выберусь обратно? Мне ночь, что ли, не спать, дожидаясь, пока сторож впустит на рассвете? — рассердился Леви.
Но Сабина манила его, и Леви согласился.
Марица впервые шла на свидание под видом своей госпожи, не сообщая ей об этом. Обычно пани Сабина лично снаряжала Марицу на тайную встречу, помогала уложить волосы, застегнуть корсет, выбирала платье и обувь, а теперь ей предстояло самой одеваться и причесываться по-шляхетски.
С превеликим трудом русинка подобрала в гардеробе пани нужное платье, светло-зеленое с искоркой, отделанное по краям тонким белыми кружевом, узор которого, выпуклые завитушки, повторял узор ткани.
Застегивалась она долго, смотря на свои руки в зеркало, чтобы шнуровка попадала в петельки. В лиф пришлось подложить подушечки, набитые конским волосом — грудь Сабины была несколько больше, а в атласные туфельки вставить скомканные платочки, чтобы они не падали с ноги. Надушившись и припудрившись, Марица придирчиво посмотрела в зеркало.
Надо подвести глаза углем, турки любят, чтобы были большие глазищи — подумала она. Но в саду уже слышался чей-то шорох (тайком Марица просила сторожа не выпускать далматских псов), и она поспешила, навстречу Леви… Марица, помимо платья и туфель Сабины, повесила на шею вместо медальона небольшой скелет змеи. Издалека он казался рыбьей костью: позвонок, вокруг которого росли ребра.
Скелет Марица носила как амулет, подаренный еще в деревне одной цыганкой. Та уверяла, будто скелет змеи, подвешенный на цепочку за дырочку в черепе, привлекает любовь, но не такую, от которой бывает горе, а настоящую, мудрую, змеиную. Марица забыла, что в широком вырезе платья амулет хорошо виден, и Леви может обратить на это внимание, а потом, увидев настоящую пани Сабину, поймет: это не она была тогда в саду.
Но Марица уже вышла в сад. Там, в зарослях терна, была устроена маленькая беседочка, закрытая тяжелым бордовым плющом. Беседочка была настолько мала, что свободно расположиться в ней мог только подросток, и то не очень крупный, а взрослому приходилось сидеть на ее ступеньках, или, как минимум, выставить ноги наружу. В беседке прятался Леви. Он, еле-еле проникнув в сад, спрятался внутри нее, боясь быть обнаруженным.
Увидев идущую в темноте женскую фигуру, Леви принял ее за долгожданную Сабину — и не различил в ней Марицу.
Луна не светила, ее поглотили облака. Марица смотрела на Леви.
Он всего единожды видел пани Сабину, поэтому ошибся. Но не стоит думать, будто Леви разговаривал в ту ночь с Марицей. Она настолько хорошо понимала пани, что и сама Сабина, если бы пришла на это свидание, сказала бы, наверное, Леви те же слова, что и служанка.
Леви признался, что пани очаровала его. Марица молчала.
— Неужели вам не хватает турчанок? — спросила она после долгой паузы.
— Милостивая госпожа, ответил Леви, — всякой женщине присущи свои, неповторимые черты, и когда я вижу такую красоту, то совершенно не вспоминаю, к какой нации она принадлежит. Поэтому, встретив вас, любезная пани, я очаровался не потому что вы полька — а потому что вы красивы. Разве мы любим розу лишь за то, что она зовется чайной, турецкой, или китайской, или индийской? Нет, роза прекрасна сама по себе, а ее названия ничего не говорят нам, кроме места, в котором ее вывели садовники.
Разговор длился недолго, и со всеми многозначительными молчаниями его можно уложить в маленькую сумочку, с которой знатные польки ходят к мессе. Наговорив Сабине комплиментов, Леви не догадался, что перед ним была ее служанка Марица, но она сама, предчувствуя скорые недоразумения, поспешила оборвать приятное общение — и ушла. В темноте Марица не заметила, что змеиный скелет, подвешенный на тонкий черный шнурок, бесшумно упал в траву.
Леви посмотрел ей вслед, вздохнул, мрачно прикидывая, как же ему пробраться на свою Поганку, если ворота ее запираются наглухо вместе со стенами еврейского гетто, изнутри и снаружи на огромные замки? Накрепко закрыты с двух сторон Татарские ворота, Porta Tataricum, ведущие к Поганке, и врата Еврейские, Porta Judaeorum, через которые можно попасть на Бляхарскую и
Староеврейскую улицы, а затем перелезть стену, прыгнув во двор турецкой семьи Кёпе. Раньше Леви отыскал бы в этом объединении кварталов и в общей их стене глубокий философский смысл, но сейчас ему было не до размышлений. Время уже позднее, все добропорядочные львовяне давно спят. Спят турки и татары, поставив у входа туфли с загнутыми носами. Спят немцы, одевшие высокие ночные колпаки и длинные, почти женские, ночные рубашки. Спит и еврейский Львов, спят поляки, спят русины, уснули даже армянские купцы. Один Леви вопреки всем запретам бредет по сонному городу, не зная, как ему попасть на свою улицу в мусульманский квартал, обидно прозванный злыми львовянами Поганкой. Между ними пролегла высокая стена, которую много лет назад выстроили по приказу городских властей. Католической церкви очень хотелось отгородиться от иудейской и басурманской скверн, как любил выражаться иезуит Несвецкий. Поэтому Львов правоверный решили отделить от Львова христианского высокой каменной стеной.
Сейчас ее, страшную, неприступную, проклинал Леви. Ему уже захотелось спать, глаза слипались.
Ну, хоть бы кто-нибудь выглянул на улицу и помог перебраться мне на ту сторону! — подумал он. Он протянул бы мне руку и втащил бы наверх, а дальше я сам допрыгаю.
Но никто не откликался на призывы Леви. Все спали. Только наутро, когда зевающий сторож отворил ворота, романтичный букинист смог попасть домой. Но спать ему уже не пришлось, и, умывшись, Леви поспешил открывать лавку. Марица спала в ту ночь крепким сном человека, выполнившего свой долг. Ей было что рассказать пани Сабине…
Утром она спохватится, и будет искать талисман — змеиный скелет на черном шнурке, но попадется он на глаза врагу, иезуиту Несвецкому, который любил бродить здесь в часы бессонницы, доставив простодушной русинке немало несчастий.
Сонный, проведший ночь в ненадежной полудреме у стен гетто, прислонившись к жестким камням, Леви хотел одного — лечь в постель.
Но закрытая с утра лавка могла внушить подозрения, что он завел торговлю для отвода глаз, поэтому Леви пришлось смириться. Зевая, он отпер дверь лавки, разложил спрятанные на ночь книги, стараясь не заснуть, откусил припрятанного сушеного аспида. И в этот момент, когда Леви жевал вязкую змеиную головку, дверь отворилась.
На пороге предстал рабби Нехемия Коэн собственной персоной.
Да, он уже знал о приезде Леви, но не догадывался, что именно здесь, в лавке букиниста и антиквара Османа Сэдэ, встретит брата своего поверженного врага. Прослышав, что на Поганке открыл свою торговлю еще один букинист из Стамбула, Нехемия решил зайти туда в поисках редких книг по Каббале. Мистическое вдохновение не раз выручало старого раввина в опасных поворотах еврейской судьбы. Благодаря невероятной осведомленности в тонких материях Нехемии удалось вывести Шабтая Цви на чистую воду. Кто знает, был ли он разоблачен, если б львовский мудрец не начал разговор о двух Машиахах — бен Давиде и бен Эфраиме?! Нехемия сослался на анонимную рукопись 14 века, уверявшую, что сначала Б-г пошлет евреям предтечу Машиаха, каббалиста крови бен-Эфраима, человека умного, но бедного и терзаемого, которому суждено своей мученической смертью подготовить почву для будущего триумфа настоящего Машиаха, из рода Давида!
Этого намека честолюбивая душа Шабтая Цви не перенесла. Кому хочется оказаться предшественником, чьи страдания всего лишь послужат знаком приближения эры избавления?! От страха он потерял нить спора, начал заговариваться, путаться в цитатах, а затем и вовсе попытался увильнуть от вопроса. Но упрямый рабби Нехемия не спешил отстать от Шабтая.
Беседа их длилась по одним сведениям — полдня, по другим — около трех суток с перерывами на еду и сон. Шабтаю уже нечего было возразить, а Коэн все гнался за ним по крепости Абидос, выкрикивая: «До каких пор ты, псина шелудивая, будешь утверждать, будто являешься Машиахом?! Не трогай евреев, мешумад проклятый! Ты приведешь весь народ к неисчислимым бедам своими бредовыми заявлениями! Ты — изменник Израиля! Хуже тебя, Шабтай, нет никого в целом свете!»
И Шабтай проиграл этот спор, став одним из множества «хитаслеми» — евреев-мусульман.
Сейчас рабби Коэну требовалось прочесть нечто такое, что помогло бы ему одолеть козни иезуитов, ускользнуть от Несвецкого. Однако Нехемия не полагался уже на свою эрудицию: большинство вещей, которые хорошо понимали его единоверцы, увы, невозможно донести до выхолощенного ума патера Несвецкого. Здесь пригодилось редкое, почти забытое умение отрываться от земли усилием воли и преодолевать большие расстояния, словно на крыльях птиц. В крайнем случае, полет может стать единственным спасением, если иезуиты застанут нас врасплох, думал Коэн, мой Мендель слишком юн, чтобы научиться летать, ему придется прочесть не один трактат! Зайдя в лавку, раввин сразу узнал Леви — он видел его в Абидосе часто, но не подал вида. Леви тоже узнал Коэна, и тоже скрыл это.
— Скажите, а есть ли у вас старинные еврейские манускрипты и книги?
— У нас много еврейских рукописей, редчайших книг и предметов иудейского культа — ответил Леви. — Может, вас интересуют сочинения конкретного автора?
— Да, сказал Нехемия Коэн, — нет ли у вас сочинений йеменского мистика Эзры д’Альбы, жившего несколько веков назад при дворе эмира Кордовы? Их была целая династия, трактаты сочиняли и отец, и сын, и внуки, но в обиходе все труды этой семьи объединяют общей фамилией — д’Альба.
— Припоминаю такого, — уклончиво ответил Леви, — но не уверен, что наследие этого ученого семейства сохранилось в целости и невредимости. После изгнания мавров рукописи из коллекции эмира были сожжены, среди них вполне могли оказаться единственные экземпляры.
И не стыдно врать, подумал о Леви раввин Коэн, твой брат читал записи д’Альбы, «Эц даат», «Пардес римоним», и уроки брал у его потомка, а сам утверждаешь, будто их пожгли христианские фанатики в черные годы Реконкисты…
Тем не менее, Леви предложил Коэну, порывшись на полках, несколько интересных рукописей, привезенных им из Измира, и рабби с удовольствием купил их по высокой цене: такого в его коллекции еще не появлялось.
Выйдя на улицу, Нехемия Коэн отправился на родную Староеврейскую улицу. Он шел, представляя, какие ужасные планы держит в своей душе Леви, поэтому не замечал ни торговца шербетом, ни зазывал, предлагавших купить шелка, пряности и благовония. Нос его не уловил запаха горячей баранины, имбиря и перца, ноги не завели в полутемную лавчонку за турецкими браслетами для любимой жены Малки.
Добравшись до дома, раввин заперся в кабинете, обложился книгами, не впуская к себе никого вплоть до позднего вечера. Арбайт, арбайт — объяснил он на идише недоумевающим посетителям, принесшим восьмидневного тинока[7] на брит-милу[8], завтра, завтра приходите… Но это уже будет девятый день — пытались возразить родители младенца, выпроваживаемые рабби Коэном. Странно, такого с ним никогда не случалось: дом их всегда оставался открытым для гостей и странников, а уж поучаствовать в обрезании (тогда, как нарочно, моэль уехал в Краков) ни разу не отказывался, даря мальчикам особые подарки.
— Серьезное дело — вздохнула Малка, — как бы ни пришла новая беда!
Она рассказала, что рабби немного приболел и не рискует проводить столь деликатный обряд, как брит-мила. Но все это казалось очень странным: отказать людям, закрыться в кабинете, шелестя пергаментами!
Выйдя лишь к вечерней молитве, Нехемия Коэн поспешил в синагогу, где под строгим секретом поделился своими опасениями с тремя друзьями, такими же немолодыми каббалистами.
— Ой, что будет?! — схватились они за головы, — это, боюсь, хуже погрома!
— Хуже — подтвердил закоренелый пессимист Мендель Коэн, услышав стенания стариков, — инквизиция нам всем покажет картины ада! Говорят, у них припасены диковинные машинки для вырывания ногтей, громадные клещи и раскаленные решетки!
К разговору присоединились другие люди, они охали, ахали, рвали волосы и предрекали новые погромы.
Кое-кто успел познакомиться с инквизиторами в других городах, у кого-то предки были пытаны в застенках Сфарада или Португалии, поэтому весть о предстоящих неприятностях мигом разнеслась по всему гетто.
13. Последние годы Шабтая Цви. Башня Балшига, Ульчин
Фазыл Ахмед-паша Кепрюлю за содействие брал дорого, но делал все настолько искусно, что к интригам его не подкопаешься. Потребовав за избавление от Шабтая Цви с евреев Золоторожья баснословную сумму — шесть тысяч пиастров, великий визирь твердо обещал: вскоре они его не увидят. Он подготовил необходимые бумаги и тихо, согласовав щекотливое поучение с высшими сановниками Блистательной Порты, выслал Шабтая в крепость Дульцинео (Ульчин), что находилась недалеко от древнего, но пришедшего в упадок албанского городишки Берат. Берат издавна назывался Белиградом, но турки на свой лад сократили его название. Местом ссылки Шабтая Цви Берат выбрали не случайно: тихая, сонная, застывшая в глубоком прошлом провинция, сразу и не поверишь, что ей уже две тысячи лет. Из этих краев вышел род великого визиря, в Ульчине еще жили его родственники, поэтому
Кепрюлю, знавший окрестности до мельчайших подробностей, не стал долго думать, куда же сослать неугомонного Шабтая Цви…
Отсюда он не сбежит! — уверенно заявил великий визирь. И хотя Ульчин считался чем-то вроде пиратской столицы Адриатики, городком темным, преступным, кишащим авантюрным сбродом, именно там за Шабтаем Цви могли тщательно следить доверенные Кепрюлю. В большом городе Шабтаю было б проще улизнуть. Пока он находился в Стамбуле и окрестностях, еврейский самозванец доставлял всем массу неприятностей. Шабтай Цви мешал евреям Порты, напоминая им о несбывшихся мессианских надеждах. Вспоминая его триумф, евреи плевались, а чтобы вычеркнуть Шабтая, надо отправить его куда подальше. Мешал он и туркам — вслед за Шабтаем в небольшие селения вокруг Стамбула стали переселяться его верные поклонники, среди них оказалось немало купцов средней руки, создававших конкуренцию турецким торговцам.
Приход турок поделил Берат надвое: на мусульманский квартал Мангалем со Свинцовой и Королевской мечетями и на христианскую Горицу, к церквям которой можно добраться по семипролетному каменному мосту через речушку Осумь. Евреев в Берате тогда не было вовсе — ни одного человека. Первое, что предстало взору Шабтая Цви — это красные черепичные крыши домов, расположенных на холмах. Их нагревало и отсвечивало солнце, сливаясь с серебром оливковых зарослей. Яркое голубое небо, ласточки прорезают пласты облаков, умело обходят высокие белые минареты (здесь все строится только из белого камня), летят, но не падают. Подхватили мошку — и снова взмывают в страшную высь. Уютное прибежище.
— Неужели мне будет позволено остаться здесь?! — радостно спрашивает Шабтай. Такой хороший городок!
— Едем дальше, в Ульчин — отвечают ему.
Шабтай не знал, что в Ульчине (Дульцинео, Дульчинео, Дульце, Олциниум) возвышается громадный, неприступный замок, и в башне Балшига ему уже приготовлена жесткая постель, которая станет его смертным одром.
Он вытащил из подкладки турецкого платья письмо — лист бумаги, сложенный вчетверо, и погрузился в чтение. Леви Михаэль писал из Львова: «.дорогой братец Шабти, Амирах-эфенди, сегодня я близок к цели как никогда! Мне удалось подступиться к собранию Коэна. Известно точно: та рукопись д’Альбы у него есть, но сам я ее взять не смогу. Хитрый Коэн запирает свою мистическую библиотеку на ключ, никого туда не впуская. Единственная надежда — его старший сын Мендель. Уверен — не пройдет и трех месяцев, рукопись попадет в мои руки. Ты подожди еще немного, умоляю.» Шабтай спрятал письмо, пахнувшее корицей, и помрачнел.
В отчаянии цепляясь за труд испанского каббалиста д’Альбы, он не представлял, что произойдет, если Леви не найдет дорогу к тайникам рабби Нехемии Коэна. Время шло, а подступиться к таинственной рукописи все не удавалось. Сколько еще предстоит ждать, существуя в унизительной, шаткой надежде? Или Леви его обманул, жалея?
Стражник грубо ударил Шабтая Цви в плечо. Нехотя повинуясь, разжалованный хранитель врат ступил на холодную землю крепости Дульчинео. В первую минуту ему почудилось, будто небо заволокли хмурые тучи, и собирается гроза, но затем, подняв голову ввысь, отшатнулся, упав навзничь с диким криком. Солнце затмили высокие каменные стены замка. Со скрежетом и лязгом медленно поднималась тяжелая железная решетка, чьи концы украшали острые зубья. Шабтай боялся открыть глаза.
Его вели в ворота, подбадривая пинками и оскорблениями. Стражники бегло посмотрели на Шабтая, загоготав. С потолка слетел большой кожан, чью сатанински некрасивую мордочку испещряли складки и нос пятачком. Он неловко сделал круг, спланировав прямо на голову Шабтаю Цви. Стража почтительно расступилась: теперь они знали, что будут стеречь настоящего еврейского чернокнижника, повелителя летучих мышей.
Так он и поднимался в башню Балшига по ступенькам винтовой лестницы, с кожаном, усевшемся на тюрбан, с заплечным мешочком, где лежали не волшебные манускрипты и не золотая корона иудейского царя — а заплатанное бельишко. Старый кафтан с шальварами, мягкая подушечка, набитая кошачьей шерстью (собирал с любимой персидки Мюси) да вырезанная в камне печать со змеей, кусающей свой собственный хвост…
Жаль, Шабтай не мог со злости и боли впиться зубами себе в хвост. Давным-давно, еще в Измире, он прочел в рукописи каббалиста Эзры д’Альбы, что Машиаху предстоит оскверниться, спустившись на илистое дно мутной реки, лежать там вместе со склизкими змеями и пупырчатыми крокодилами. Вероятно, Шабтаю придется обратиться в змея, шипеть, извиваться. Первым делом начнет потихоньку раздваиваться язык.
Из-под слоя грязи не будет видно неба, дышать придется смрадом, маленькие змеиные глазки не будут видеть так, как он привык видеть своими глазами, навалится черная глухота, а тело. Красивое мужское тело станет длинным, облечется в чешую какого-нибудь сумрачного оттенка, и даже лапок у него не останется! Потому что змей, хитрейший из всех тварей, лишился лапок, обреченный ползать на брюхе до скончания века. Летучая мышь захлопала крыльями. Гадкая она, гадкая, смотришь и ужасаешься адскому облику. Пятачок свиньи, фу! А уши, уши!
Как не хватало Шабтаю трактата «Эц даат»! Когда же Леви привезет его?! Только там, туманными намеками, хитрыми аллегориями, в сплетении еврейских букв зашифрованы даты возвращения из мира скверны!
Если Шабтай Цви сможет найти их — то он вернется, непременно вернется, ведь Эзра д’Альба оставил, разбросав по всему тексту, скрытые подсказки, ключи и логические цепочки, вскрыв которые, можно предвидеть будущее!
Лет пять назад знаменитый муфтий Ванни-Эфенди, обучавший Шабтая правильному чтению и толкованию Корана, предупредил своего ученика: тебя ждет нечто более страшное: безмолвие. Ты будешь знать многое, что недоступно человеку или откроется гораздо позже, но не сможешь вымолвить ни единого слова! Рот твой запечатается, будто бы его залили расплавленным воском, и не станет рук, чтобы перенести эти знания на лист пергамента, взяв перо. Способен ли ты это пережить или лучше отступишь?
— Я выдержу — произнес Шабтай, помолчав, выдержу, у меня есть силы…
Сейчас он в этом стал сомневаться. Чудовищная пропасть разверзлась! Беспомощный, ищет руками опоры. Ноги подкашивались. Шабтай опустился в отчаянии на каменный пол башни. В ушах звенело, и в бессмысленном шуме он различил забытые слова Ванни-Эфенди. Ты будешь проклят. Ты потеряешь все. Ты станешь бесплотным духом, не принадлежащим ни к одному из миров. В час смерти — а я уверен, ты заранее его высчитал — черные ангелы так и не решат, в какой ад, иудейский или мусульманский, тебя отправить. Поэтому накажут, как не наказывали никого: безразличием.
Пройдут века, а ты все останешься со своей душой между геенной и джехином, потеряв малейшую надежду на упокоение.
Шабтай не заметил, что уже плачет. Кожан повис, вцепившись когтями, за край тюрбана, игриво щекоча шею краем крыльев и лопастью маневренного хвоста.
— Отцепись хоть ты от меня, летучка проклятущая! — вскричал Шабтай, отрывая кожана от тюрбана. Голос его многократно повторило эхо, отразив от стен башни, и разнесло по всему двору Балшичей.
— Колдует, злодей, — лениво процедил сквозь зубы стражник, вслушиваясь в эхо, — летучую мышь заклинает.
— Страшно-то как, — согласился с ним второй стражник, — вдруг он на нас порчу наведет?
— Он потерял почти все свои магические умения — успокоил стражников третий.
— А начальство нам плату не повысит? Все-таки мы черного колдуна охраняем, не простого разбойника! — поинтересовался первый.
— Посмотрим. Но если сбежит — отвечаете головами!
В тоске, все еще надеясь получить вести из Львова, Шабтай Цви приручал маленькую ласточку, свившую гнездо у окошка башни. Тонкая, узкая, она складывала острые крылья и перебирала розовыми лапками по гладким камням. С недоумением, даже испугом смотрела она на больного, заросшего черной бородой Шабтая Цви.
— Не бойся меня, птичка, просил он ласточку, не улетай. Ты бываешь зимой в Иерусалиме, расскажи, как там мой город?
Чудилось ему, что ласточка отвечает: хахам-баши, была я в Иерусалиме, чистила крылышки свои от египетской пыли, облетая вокруг финиковых пальм. Видела старые желтые камни, тощие стебельки, растущие из бесплодных камней. Иерусалиму нужен дождь, хахам-баши, сотвори его, хороший, мощный ливень, чтобы шел он дня три и напоил землю.
Ласточка, бедная ласточка, не смогу я вызвать дождь! Я больше не Машиах, а убогий дервиш нищенствующего ордена Бекташи, я забыл свое имя — и мир тоже забыл меня.
Бесшумно отворилась дверь, заглянул в камеру стражник. Совсем рехнулся, подумал он, с ласточкой беседует. Он не опасен больше.
Шабтай Цви, он же Амирах, он же Азиз Мухаммед Эфенди Капыджи-баши, переселился в иной свет судным днем 1676 года[9] по григорианскому календарю, в миг, когда он писал письмо еврейским купцам. Он просил передать ему молитвенник на осенние праздники. Душа Шабтая вылетела, едва он успел вывести последнюю букву — «нун» сафит[10].
Мусульмане погребли Шабтая Цви в тот же день на старом кладбище у берега небольшой реки или ручья. После этого ручей вышел из прежнего русла.
Могилу Шабтая занесло толстым слоем ила, залило мутной водой, в которой быстро плыли толстые черные ужи с оранжевой точкой на плоском черепе. Слова мудрого каббалиста Эзры д’Альбы сбылись: провозгласивший себя Машиахом спустился на дно к змеям. Крокодилы, правда, в том ручье не водились, но д’Альба мог это не предвидеть, он же никогда не был в Албании….
В 21 веке Ульчин стал модным курортом. На развалинах замка, в сохранившейся башне Балшича открылась художественная галерея. Там, где доживал свои дни ссыльный еретик Шабтай Цви, еврейский мусульманин, почитаемый поныне орденом Бекташи суфий Азиз Мухаммед, теперь выставляют свои безвкусные картины художники. Нарисованные яркими химическими красками, они неплохо продаются, и сутулый экскурсовод рассказывает группе о загадочном человеке с печальными еврейскими глазами, который был заточен здесь в 70-е годы 17 века. Но им это уже неинтересно, и, мельком посмотрев исцарапанные длинными когтями летучих мышей каменные своды, туристы идут загорать.
14. Рабби Коэн и патер Несвецкий
В ту злополучную ночь, когда упрямая русинка Марица вышла на свидание к букинисту Леви, нарядившись в платье пани Сабины и нацепив на шею змеиный скелет, иезуит Игнатий Несвецкий долго не засыпал. Его изводили мучительные сомнения, душила злость, глаза наотрез отказывались слипаться. В такие минуты Несвецкий был готов разрубить надвое каждого, кто посмел бы ему помешать, но он был один. Отчаявшись уснуть, иезуит решил выйти прогуляться по спящему городу. Мелкие галицийские черти завели патера туда, куда он наведывался и раньше: красивую улочку, застроенную особняками знатных польских семейств. Дом, где жила пани Сабина, не самый красивый, но уютный садик и розовые кусты вокруг него привлекали к этому уголку внимание. Посаженные много лет назад, еще старым садовником ее деда, китайские розы разрослись, заслонив высокую каменную ограду. На прохожего сразу обрушивался пряный аромат цветов, а одежда цеплялась о колючие стебли. Та же участь постигла и сурового ханжу: край его сутаны зацепился за шип.
Пытаясь высвободиться, иезуит Несвецкий нагнулся — и то, что он увидел, отвлекло от мысли о порванной сутане. Он нашел амулет, оброненный Марицей. С видом знатока змеиной анатомии Несвецкий поднял скелет, тщательно всматриваясь в него, быстро определил: это поворызник[11]. Из всех змей, водившихся в Львиве, поворызнику принадлежит честь быть самой ядовитой. Длинная, два и более метра, белая или сероватая с фиолетовыми полосами, она считается тайной помощницей ведьмы. Без поворызника никак не обойтись в тех мрачных ритуалах, с которыми коллегия иезуитов обязана бороться. Скелет этой змеи, подвешенный на черный шнурок из тонко скатанной овечьей шерсти, по крестьянским суевериям, защищает свою обладательницу от порчи и сглаза. Интересные дела творятся на аристократической улице!
Несвецкий положил амулет Марицы в карман и пошел домой. Марица не сразу заметила пропажу змеиного амулета. Помогая, как обычно, своей госпоже одеться и причесаться, она медлила, зевала, всем своим видом демонстрируя, что за всю ночь не успела выспаться.
— Ты сегодня совсем сонная, — заметила пани Сабина, когда Марица уронила на пол золотую заколку. — Гуляла, наверное, с кавалером по крышам?
— Нет, пани, — смутилась русинка, — я немного припозднилась, была в саду, здесь, у розового куста.
— И кого же ты охмуряла, хитрая моя?
Марица замялась. Признаться, что она устроила ночное свидание с букинистом Османом Сэдэ, ничего не сказав об этом пани? Но и обманывать хозяйку тоже нехорошо, рано или поздно правда всплывет наружу.
— Я была с тем, кто нравится вам, пани Сабина, — уклончиво ответила Марица, — и он подумал, будто перед ним вышли вы. Он ничего не понял, было так темно, нежно, романтично…
— Даже не знаю, ругать тебя или благодарить — сказала Сабина, — с одной стороны, мне давно хотелось попросить об этом, а с другой.
Но что с другой, пани Сабина договорить не успела. Взгляд ее пал на шею Марицы. Вчера она была с амулетом! А где же скелет поворызника?!
Марица инстинктивно провела рукой по шее. Скелета не было.
… В ближайшие часы Марица перерыла весь дом, включая сад, беседку, конурки псов, кухню и конюшню, комнаты слуг, каретную. Но скелета ядовитой змейки нигде не нашла. Первое подозрение пало на далматских псов: они могли поднять оброненный талисман, еще пахнувший для чутких собачьих носов змеиным мясом, и закопать его. Пани Сабина приказала садовнику перерыть землю, но скелет не попадался.
В тот день коллегия иезуитов бурлила. Патер Несвецкий показывал найденный скелет всем и даже прочел импровизированную лекцию о его значении в черной магии.
Иезуиты возмущались, приговаривая, что никогда еще они не сталкивались с таким безобразием. Конечно, тяга простонародья к пережиткам язычества, хождения к гадалкам и простые домашние заговоры были хорошо известны святым отцам. Они и сами в трудных случаях не брезговали ходить к одной караимке, определявшей судьбу на бобах, колоде карт «тарок» и волшебном круге с делениями. Но совсем иное, если мистический амулет, прописанный во многих черных книгах, валялся на аристократической улице, в центре Львова, во владениях богатейшей красавицы.
В праведном негодовании иезуиты даже позабыли свое обещание начать дело против рабби Коэна, повинного якобы в изведении колдовством графа Ольгерда Липицкого. Вспомнил об этом лишь Несвецкий, и тут же подумал, что эти дела можно будет объединить в одно, ведь все магические ритуалы в городе проводятся с участием евреев.
— Честные католики одни так не сумеют — заключил он, вертя скелет поворызника.
… Единственным местом, притягивающим к себе потерянное, была львовская гора Кальвария, тоже лысая и тоже напоминающая человеческий череп, подмытый талыми водами. Медитация на вершине Кальварии возвращала ясность мысли и жизненную силу. Днем, когда с Кальварии исчезал таинственный ореол, она становилась просто горой, куда восходили любители прекрасных видов на город и философского уединения.
Именно туда, нисколько не опасаясь ни обвинения в колдовстве, ни неосторожных встреч, отправилась пани Сабина. Ее душа была встревожена внезапно открывшимся чувством к странному турецкому букинисту, происшествием с Марицей, ее рассказом о ночном рандеву.
— Почему я все время о нем думаю? Что есть в этом Османе такого, что заставляет меня помнить о нем, искать его, ждать?! — вопрошала пани Сабина, вглядываясь в помятую крышу старого Латинского собора. Впадину в ее зеленеющей меди проделали то ли бесенята, то ли не в меру расшалившиеся коты. Купол облепили голуби.
Чуть позже, уже вечером, на Латинский собор любовался с Кальварии, с этого же места, и Осман Сэдэ, то есть Леви Михаэль Цви, немного разминувшийся со своей гоноровой пани. Леви видел Ратушу, стены гетто, Татарские ворота, ведущие в совсем иной мир правоверного Львива, и тоже думал, почему его неумолимо тянет к Сабине. Но у Леви была еще одна причина взойти на Кальварию — он перечитывал полное отчаяния и боли письмо Шабтая Цви, переданное ему тайком под дверь неизвестным доброжелателем. Он пишет, что остался один, изгнанный из Стамбула, что его шурин, брат Сары, амстердамский купец Шмуэль Примо, сбежал вместе с деньгами Иерусалимского царства[12] в Европу, что, подхлестываемый страхом, Шабтай перестал доверять всем и просит как можно скорее прислать трактат из коллекции Коэна. Предательство, гнусное и злопамятное, бегство тех, кто предлагал признать Шабтая Машиахом, кто лобызал его ноги, валяясь в пыли.
— Больше некому его спасать, а я останусь — прошептал он, смотря на вечерний Львив. — Верну, сделаю все, чтобы Шабти не мучился так, как мучается сейчас, попытаюсь тайно переправить его во Львов, чтобы он тихо прошел через Жидивску Брамку — Еврейские ворота.
В глубине души кольнуло — пани Сабина. Она не помешает. Или отказаться, отречься, забыть ради исполнения своего долга?! Леви не знал. Он еще ничего не решил, да и многого не понял. Нацепив маску турка Османа, он поправил тюрбан и спустился вниз. Соблазнительно было пройти по улице около дома Сабины, но темнело, пора возвращаться на Поганку, отсыпаться, иначе опять защелкают два замка, снаружи и изнутри, и придется Леви ночевать на холодной брусчатке второй раз. Леви перепрыгнул куст дикой ежевики, росший внизу Кальварии, и побежал домой.
Он едва успел до запирания ворот и с облегчением нырнул в полюбившуюся улицу. Там старый букинист Ибрагим уже привез для своей слепой дочери Ясмины свадебный наряд, заказанный в Стамбуле, а мама Фатиха Кёпе дошивала праздничные шелковые шальвары. Свадьба должна была состояться уже скоро, в пятницу.
… Тем вечером пани Сабина, узнавшая, что иезуит Несвецкий рассказывает о найденном у ее ограды змеином скелете всему Львову, и друзьям, и врагам, горько рыдала.
— Марица! Мы пропали! Твой амулет нашел иезуит Несвецкий! — закричала она служанке. В грустных темных глазах Марицы отразился страх.
— И что же будет? — спросила она.
— Костер — ответила Сабина, — тебя и меня сожгут заживо.
— Так просто вы об этом говорите, госпожа, будто речь идет о зажаренной к ужину курице! Неужели ничего нельзя исправить?
— Нельзя, наверное, — плача, сказала пани Сабина.
— Пясты не отчаиваются — прошептала Марица, мы что-нибудь придумаем.
Но и она тоже предчувствовала страшное. Во-первых, даже если Марица возьмет всю вину на себя, сознавшись в сношениях с дьяволом, пани Сабина, ответственная по закону за душу своих слуг, подвергнется как минимум церковному покаянию и будет всеми обижаема. Во-вторых, иезуит Несвецкий, хорошо посвященный в альковные тайны богатых польских семейств, обязательно докопается до того, что Марица приходится пани Сабине не только верной служанкой и задушевной подружкой, но и сводной сестрой, старым грешком ее отца. Сама Сабина этого не подозревала, но относилась к Марице чуть ли не как к равной, а русинка помогала ей не только застегнуть корсет или расчесать волосы. Марица владела тайнами Сабининой души, поэтому, схватив ее, инквизитор мог получить власть над милой шляхтянкой, шантажировать и пытать. Насчет душевных качеств сумрачного иезуита Марица иллюзий не таила: он этим воспользуется. Конечно, инквизиции мешали развернуться доминиканцы, тайный союз «псов святого Юра», и трех ведьм в последний раз сожгли в 1634 году, но у Несвецкого богатые связи и неимоверное влияние.
— Господи, что же делать?! Мне жутко! — взмолилась Марица, оставшись одна, хотя еще две минуты назад горячо уверяла Сабину, что ей нечего остерегаться.
… Рабби Нехемия Коэн молился в синагоге Нахмановичей. Ему было столь же стыдно, как в тот печальный осенний день, когда дед и наставник, Давид бен Шмуэль Алеви, вернулся из Стамбула со всеми признаками мессианского помешательства, но с замыслом гениального трактата «Турей захав» — «Золотые пределы». В узле он привез рубашку Шабтая Цви, и юный Нехемия, оторвавшись от Торы, швырнул колдовскую вещь в горящий камин. Рубашка вспыхнула, пошипела, став горсткой серого пепла.
Дед пронзительно закричал, но Нехемия знал, что делает: рубашка Шабтая приносила несчастья. И тут Нехемию пронзила еретическая мысль: что, если его дед оказался прав, Шабтай Цви действительно Машиах?! А он в бесстрашном задоре молодости, считая, что так и надо, погубил настоящего иудейского царя, обещанного и предсказанного? Отправил его прямиком к дервишам ордена Бекташи, в нищету и заточение! Всплыла полузабытая притча: султан водрузил на голову Шабтая не тюрбан, а корону Иерусалима, это мы, глупые и темные, видим турецкий тюрбан. Может, мудрый старец Давид Алеви вовсе не потерял разум, ослепившись на закате лет блеском триумфа, а увидел мессианский знак на его челе?!
И вообще в этой истории слишком много совпадений! Родиться 9 ава, происходить от царя Давида, с детства обладать фантастическими способностями, видеть и слышать все, недоступное смертным.
Оставаться девственником до 37 лет, чтобы потом заключить брак с единственной, предназначенной только для него, женщиной не слишком безгрешной репутации.
Намек на это есть в книге Осии: Машиах, чтобы искупить грехи еврейской блудницы, должен прийти к ней на ложе чистым, тем самым смывая скверну не только с одной падшей женщины, но со всего человечества. А что этот брак Шабтая с Сарой, если не выполнение предсказаний Осии?!
В старых рукописях, вспомнилось ему, написано, что Машиах придет незаметно и многие не поверят ему!
Нехемия испугался этой мысли и поспешил списать ее на наваждение.
Нет, нет, этого не может быть! Нет, нет, Шабтай не Машиах! Он умный честолюбец, появившийся именно тогда, когда его ждали! Колдун, которому помогали духи тьмы, вызванные заклинаниями из самых жарких углов преисподней! Удачливый мистик, знающий, за какие скрытые струнки дергать растерянных евреев, чтобы заставить их поверить в свое высокое предназначение! Поэтому, думал рабби Нехемия, Шабтай Цви вытворял странные вещи — отмечал весенние праздники осенью, а осенние переносил на весну, отменил пост и траур 9 ава, говорил иносказательно, туманно, запутывая и без того сложные вещи.
Но тогда почему Давид Алеви признал Шабтая?! Было ли это единственной ошибкой, маленьким грязным пятнышком на белом крыле или дед специально проверял внука?! Это нестерпимо мучило Коэна. Даже его сын Мендель иногда задавал вопросы о Шабтае Цви, по острожной формулировке которых он догадывался, что тот вовсе не спешит соглашаться с резкими доводами отца. Среди богатых львовских евреев — не следует забывать и об этом — оставались тайные последователи Шабтая, приехавшие в основном из Кракова или из Варшавы.
Лидером их считался краковский серебряных дел мастер Лейба по прозвищу Хемдас Цви[13], не раз встречавшийся с авантюристом лично в Стамбуле и приезжавший проповедовать саббатианство во Львов достаточно часто. Останавливался он почему-то не в гетто, а в христианской части города, и оттуда затевал пакости. Видимо, Хемдасу кто-то покровительствовал, ведь за проживание вне еврейского квартала его давно должны были сурово наказать. Был еще некий скандалист, Крысолов, промышлявший травлей крыс, низенький, шершавый языком, фанатичный человечек, всегда готовый отражать нападение. Настоящего имени его никто не знал, называли то Матиэль, то Мойше, да и с документами у него было не все в порядке, мотался из города в город, как цыган. Помогала им варшавская компания нечестных скупщиков, нажившая капиталы на обманутых соплеменниках, спешно распродавших имущество и уплывших в Палестину.
Внешне они держались незаметно, не выдавая свою приверженность падшему соблазнителю, но искали способ возродить ересь, смущая колеблющихся при каждом удобном случае.
Когда Нехемия зажигал свечу в дни памяти своего незабвенного деда, несколько его учеников любили заводить разговоры, что Давиду Алеви было суждено дожить до прихода Машиаха и покинуть этот мир в полном спокойствии за будущее еврейского народа. Коэн обычно молчал, показывая, что не видит смысла тратить силы на переубеждение закоренелых еретиков. Не обращал внимания он и на хождение среди малограмотного люда каббалистических амулетов, надписи которых зашифровывали сакральное имя Шабтая Цви — Амирах, на кустарные шестиконечные звездочки, которые еще лет пятнадцать назад редко увидишь, а теперь стали вдруг модными[14].
Рабби Нехемия обернулся. Рядом с ним молился шойхет Гиршель, рыжий детина из разряда «сила есть, ума не надо», от которого недавно сбежала невеста. На толстом пальце Гиршеля красовался перстень с буквами, обозначающими числа Шабтая Цви: 814-13-67. Гематрия их была такая же, как и слово «ахава» — любовь, что привлекло брошенного жениха надеждой привлечь новую девицу. Эти перстни продавались как амулеты для влюбленных. Рабби еще попадались амулеты с набором букв — две «бейт» и два «алефа» подряд друг за другом. Алеф он расшифровал как «тав», а «бет» — как «шин», если перевести первую букву в последнюю, а вторую в предпоследнюю, получается сокращенное написание имени Шабтай.
Он так подписывался: шин и тав, крючковато, небрежно…
Если запрещать, будет еще хуже. А не запретишь, подпольное саббатианство захлестнет неученых евреев своими тлетворными водами — рассуждал Нехемия Коэн. Но что выбрать из этих двух зол, одинаково ему отвратных?
Душить саббатианцев или подождать, пока весенним потоком не вынесет труп врага к твоим ногам?! Сжигать в железной печке еретические молитвенники, где напечатаны три песнопения Шабтая и особая молитва, читаемая только когда придет Машиах?! А в молитвенниках, как и во всей литературе саббатианцев, едва ли не на каждой странице упоминаются сакральные Имена, поэтому их нельзя ни предать огню, ни осквернить какими-нибудь способами, разве что спрятать подальше от любопытных глаз.
Рабби Нехемия Коэн даже не подозревал, что стал мыслить теми же категориями, что и патер Несвецкий, бич еретиков, противник всякого инакомыслия. Только иезуит боролся за единство католиков, а раввину очень хотелось добиться такого же единства иудеев. Объединяло этих двух разных людей общее негодование раскольниками — и мучительно переживаемые тайны прошлого.
Нехемия Коэн со страхом вспоминал, как ему в ночь с 5 на 6 сентября 1666 года пришлось бежать к султану в тюрбане, потому что стража не пустила в покои человека в еврейском головном уборе, странном для турок, из-за чего Коэна тоже записали в «хитаслеми». В те минуты он не задумывался, что бегать в тюрбане недопустимо для еврея, это породит массу ненужных предположений. А когда понял, было уже слишком поздно: дело сделано.
Слухи о том, будто Коэн в Стамбуле публично отрекся от веры отцов, носился по городу, понося Шабтая, а заодно с ним раввинский иудаизм и «Шулхан арух» Иосифа Каро, называя себя мусульманином, никуда не делись. Свидетели этой истерики были живы, охотно рассказывая про Коэна небылицы всем желающим, а те уж передавали их слова, истолковывая на свой лад. Сплетни, будто Коэн тайно принял мусульманство, подражая Шабтаю Цви, исчезали из оборота на некоторое время, чтобы затем вновь появиться.
У патера Несвецкого тоже оказалась своя тайна, но не мистическая, а обыкновенная любовная: иезуит давно и безнадежно любил пани Сабину… Когда та еще была незрелой девочкой-подростком, не пани Сабиной, холодной и недоступной, но резвой Сабинкой, тоненькой, чуть неуклюжей, большую часть года она жила не в Львове. Летом Сабинка приезжала из пансиона, влетала в дом, обнимала соскучившихся родителей и братьев. Затем она собирала подружек и устраивала с ними странные представления. В лунную июньскую ночь фантазерка изображала нимфу, выходившую из черных вод заболоченного озерца. Раздевшись догола, прекрасная шляхтянка становилась на край озера, освещаемая луной. Тело ее покрывалось мелкими гусиными пупырышками, блики лунного света отражались мертвенно-бледной кожей, делая Сабину похожей на только что утонувшую.
Подружки помогали ей украситься длинными стеблями и желтыми цветами кувшинок, сплетая их в пояс и венок. Тихо, осторожно озираясь по сторонам, полячка ступала в холодную ночную воду, ежась и морщась. Стоявшие на берегу пели грустные песни об утопившихся в озерах девственницах, ставших «болотными девами», царицами кувшинок и владычицами лягушек. Но панночка топиться не спешила: поплавав немного, Сабинка долго вытиралась, сушила намокшие волосы и возвращалась домой, ничего никому не сказав.
В одну из таких ночей, когда Сабинке было всего 13 лет, молоденький Игнашка Несвецкий, учившийся в Коллегии иезуитов вместе с братом Сабины, пошел с друзьями купаться на озеро ночью. И увидел голую, с круглым листом болотной кувшинки на голове, милую Сабинку.
Признаемся честно: шляхтянка Сабинка была единственной голой девочкой, которую довелось лицезреть Игнатию Несвецкому.
Но все, что ему очень хотелось увидеть, Несвецкий увидел. Потом, когда смешливая сумасбродка Сабинка превратилась в красивую девушку, пани Сабину, иезуит Несвецкий снова встретил ее — и жутко пожалел о том, что стал священником.
— Тысяча еврейских чертей! — воскликнул тогда он про себя, — это не Сабина, а воплощение всех плотских грехов! Уродилась же такая соблазнительная.
Нет, надо держаться от нее подальше!
Но это никак не получалось, и патер Несвецкий, если говорить его родным польским языком, popal w blad. Отсюда все последующие беды.
В погоне за Коэнами патер Несвецкий завлек в свои сети, застращав и озадачив, нескольких еврейских купцов, имевших несчастье подписать скандальное письмо Шабтаю Цви. Он намекнул, что знает все их темные делишки, вытащил из шкафчика схваченные письма, где купцы жаловались на поборы, поругивая покойного графа Липицкого и даже желали ему скорейшего сошествия в ад. Добрый католик потребовал с толстосумов передать на нужды церкви солидные суммы, и, вооружившись большими средствами, мог теперь не скупиться на подкуп свидетелей. Брать на такие цели деньги из казны ордена Иисуса Несвецкий стеснялся. Затем иезуит стал искать врагов рабби Нехемии Коэна. Досконально изучив все частности его жизни, Несвецкий решил: никто не причинит Коэну большего зла, нежели поклонники разоблаченного им Шабтая Цви.
Они сами растерзают львовского раввина на мелкие клочки, только настанет подходящий для мести момент — и Коэну конец.
Но прежде всего Игнатий Несвецкий приказал схватить русинку Марицу, служанку и конфидентку пани Сабины, обвинив ее в колдовстве. Это была первая часть его коварного плана. Марица попалась часа в четыре, когда возвращалась из немецкой лавки, и через минут десять ничего не понимающая девушка оказалась в сыром подвале городской тюрьмы.
Самая суть ареста заключалась в его внезапности. Марица не успела ничего понять, она быстро растерялась, впала в отчаяние и уже не могла противостоять нажиму иезуитов, требовавших признаний.
К такой жертве даже применять пытки было излишне: в страхе за свою жизнь русинка должна сознаться немедленно, что варила из поворызника сатанинское зелье, надеясь ими отравить католическое духовенство, в том числе и патера Несвецкого. А так же подписала кровью, в полночь на Кальварии договор с нечистой силой. С какой именно, иезуиты не знали. Должно быть, к малообразованной служанке явился бес низшего порядка, а расплачиваться за эту помощь Марице пришлось своими ласками, ибо денег у нее нет. Предположив такое, патер Несвецкий довольно улыбнулся: теперь пани Сабина, наивно привязанная к Марице, считавшая ее своей подругой, выполнит все, что он захочет. Хотелось иезуиту немногое: всего лишь полюбоваться на пани Сабину лунной ночью в наряде девы болот, голой и в кувшинках.
… Леви Михаэль Цви написал Сабине записочку, но ответа не получил. Сабина погрузилась в немое отчаяние, и прислуга ту записку ей не передала, отложив на завтра. Однако Леви решил пройтись вечером мимо дома пани. Остановившись у куста китайской розы, Леви пытался пофантазировать, как он стал бы жить вместе с Сабиной, неважно, в образе турка Османа Сэдэ или под своим настоящим именем. И вдруг услышал женский плач. Что плакала именно Сабина, Леви не сомневался. Он перескочил через высокую ограду и очутился в саду. На турка, в шальварах и чалме, сразу же бросились хищные далматские псы, не брезговавшие человечиной. Леви заорал, на шум выскочили слуги, пытаясь оттащить его от песьих пастей, крики донеслись до госпожи — и Сабина, бледная от слез, вышла во двор. Узнав Леви — то есть букиниста Османа, она приказала отогнать собак, ласково улыбнулась, спросив, не покусали ли далматцы и не нужно ли ему перевязать раны.
Но Леви сказал, что псы вцепились зубами в края широких восточных одежд, ничуть не коснувшись тела, и он купит себе новые вещи взамен порванных. Отпустив слуг, пани Сабина нарушила этикет и пригласила «турка» отведать в гостиной его любимый напиток — кофе, дорогую еще диковинку.
Леви покраснел.
— Ясновельможная, закон запрещает мне оставаться наедине с дамой, тем более столь прекрасной, как вы. В таком случае я должен буду взять вас в жены…
Пани Сабина изумилась.
— Но той ночью пришли в сад, говорили нежности — и не думали о вашем законе?!
— Грешен, ясновельможная, грешен! Увидев ваши глаза, я забываю обо всем.
— И все же пойдемте кофейничать — сказала Сабина. — У вас рукав порван.
— Пустяки — вздохнул Леви, — пойдемте.
Он снял свои туфли с длинными загнутыми носами и прошел в гостиную. Сабина уже открыла рот, собираясь сказать Леви, что поляки дома не разуваются, но не заметила, как сняла свои атласные туфельки с большими розовыми бантами и перлинками. Гостиная пани Сабины, где она принимала гостей очень редко, была обставлена в модном тогда стиле «османли».
Но, в отличие от убранства настоящего турецкого дома, где одни ковры, валики и низенькие диванчики, свернутые тоже из ковров, польская гостиная имитировала турецкое. Стены ее обивал нежный шелк, расшитый загогулинами, похожими на свернутый от сухости стручок перца. Столик для кофе оказался низок, и пуфики к нему подобраны тоже невысокие, поэтому Леви такое польское представление о Востоке рассмешило.
Он показал пани Сабине, как на самом деле турки заваривают кофе, сел, поджав ноги, на мягкий коврик с павлинами.
— Я не могу по-европейски, — объяснил он, — не привык.
Не желая обидеть его, пани Сабина подобрала пышные юбки и с трудом села по-турецки. Леви открылась маленькая ножка, затянутая в розовый чулок. Платье паненки показалось Леви странным: по бокам его выступали не то кости, не то какие-то посторонние вставки.
Неужели она такая худая?! — изумился он.
— Если бы вы могли помочь мне, — говорила гордая полька, е— сли бы это стало возможным! Но я боюсь открыться в этом католикам, ведь многие мои родственники имеют отношение к инквизиции, мой брат Зыгмунд — ксёндз, соученик Несвецкого. А вы — мусульманин, ничего в инквизиции не понимаете! В вашу голову могут заскочить неожиданные идеи, и может, это спасет мою Марицу!
Сабина выложила все — и что патер Несвецкий плотоядно на нее поглядывает, и что Марица вовсе не ведьма, а здоровая сельская девушка, привезенная из мест, где даже малые дети носят амулеты со змеями, а в языческие времена существовал целый змеиный культ, но иезуитам это безразлично.
— Скажите, а нет ли у этого изувера какого-нибудь врага, да не простого ненавистника, но сильного, влиятельного, изворотливого?
Пани Сабина призадумалась. Вообще-то весь город ненавидит иезуита Несвецкого. Хотя постойте — слышала, он много лет подряд пытается засудить за чернокнижие некого раввина, Нехемию Коэна, и все никак не может к нему подобраться. Несвецкий терпеть не может Коэна, но того защищает королевские законы. Думаю, патер душу дьяволу заложит под адский процент, лишь бы расквитаться с Коэном.
— Он-то мне и нужен! — улыбнулся Леви. — О Коэне я много чего слышал, большей частью плохого, и у меня с ним свои счеты. Придется притвориться союзником Несвецкого, предложить ему сделку: он освобождает вашу Марицу, а я разбираюсь с Коэном. Этот раввин — не знаю, со злости или по недомыслию — причинял нашей семье немало бед.
— Какая странная история! — воскликнула полька, — расскажите, чем этот Коэн вам насолил?
— Долго говорить, ясновельможная пани. Жили мы в Измире, торговали помаленьку: отец, я, да братик Эли. Шелка, рукописи, посуда, потом перешли на английские товары. Открыли лавочку в Стамбуле, а тут на нас Нехемия Коэн свалился, оклеветал перед султаном, разорил и унизил… Приезжаю я во Львов, а Коэн там! Где еще искать покоя от него? Разве что на Луне, но я боюсь, что тогда Коэн улетит за мной.
— Может, вы его простите? — спросила Сабина.
— Коэна? Да ни за какие блага мира! Я что, христианин, чтоб всем прощать?! Не дождетесь! — возмутился Леви.
Паненка поставила на столик маленькую кофейную чашечку.
— Мне так плохо и одиноко без Марицы, — неожиданно сказала она, — Марица моя единственная подруга. Мы… как сестры, не можем жить порознь. С тех пор, как моему жениху, пану Гжегожу, пришлось прямо от венца идти на войну, я осталась совсем одна. Иногда даже словом обмолвиться не с кем. Выручите ее, вы этим спасете и меня, Осман-бей, от неизлечимой меланхолии.
— Я постараюсь сделать все, чтобы Марица вернулась живой и невредимой, пани Сабина — прошептал Леви.
Ему не понадобилось тратить время на поиски Игнатия Несвецкого.
Идя по площади Рынок, Леви с удивлением иностранца разглядывал фасады богатых домов, втиснутых в узкие проемы, отчего они казались немного сплюснутыми с боков. Глаза озирались, изучая лакированные кареты, украшенных лентами лошадей и огоньки серебряных подсвечников, отраженных в окнах. Стекла везде были дорогие, венецианские.
Дорогу Леви преградил патер Несвецкий. Покосившись на загнутые носы мягких туфель Леви, турецкий халат и чалму, в которое он воткнул павлинье перышко, иезуит обрадовался.
— Я обращу этого турка в истинную веру, — возмечтал Несвецкий по своему обыкновению. Такие мысли у него рождались в голове автоматически при встрече с иноверцами. Желая разминуться с иезуитом, Леви вежливо поздоровался на латыни, мысленно ругая себя за то, какими только дикими наречиями ему не приходилось говорить. Несвецкий этому неприлично воодушевился и пригласил «турка» на импровизированный религиозный диспут, который патер устраивал в Коллегии иезуитов.
Опять всякую ерунду выслушивать, помрачнел Леви, но обещал прийти. Чего не устроишь ради огромных оленьих глаз пани Сабины…
Ранним утром Леви Михаэль Цви проснулся с ощущением невосполнимой безнадежности. Он не страдал многодневными приступами тоски, как его брат Шабтай, но тоже оказался подвержен мрачным мыслям.
То ли атмосфера львовская и сырость плохо действовали, то ли мучил стыд за ожидаемый компромисс с нечестивыми католиками, но встречаться с иезуитом ему расхотелось. Старый закарпатский каштан в окне почти растерял свои широкие листья, похожие на растопыренные пальцы толстых великанов, плоды упали на мокрую землю, раскрыв коричневое нутро. Водосточная труба, выкованная из тонкой жести, гремела от сильного ветра.
Лишь попив кофе и проглотив сушеного аспида — того самого, что он не успел сжевать в лавке в день визита Коэна, Леви решил выйти из дома. Накрапывал серый дождь, болела голова, и дискутировать с Несвецким, еще одним еретиком (христианство Леви считал иудейской ересью) в доме иезуитов, да еще в такую гадкую погоду было лень.
Но тут Леви вспомнил слезы Сабины, представил, как крысы в подвале тюремного замка прыгают по несчастной ее служанке Марице — и направился через Татарские ворота к иезуитам. Разговор Леви с патером Несвецким не сохранился ни в анналах Коллегии иезуитов, ни в его дневнике, ни в письмах брату. Да и сам священник не упоминал о встрече с турецким букинистом Османом Сэдэ, ибо его неуклюжая миссионерская попытка позорно провалилась.
Есть старое правило: никогда не делайте того, о чем вас не просят. Леви не просил иезуита расписывать ему преимущества христианства, но тот говорил много и нудно, стращая ужасами ада, к коим Леви, иудей по воспитанию, остался равнодушен. Игнатий Несвецкий подобрался уже к критическим пассажам, через несколько лет изложенным его коллегой, ксёндзом Галятовским в трактате «Alkoran Magometow, nauka eretika…», но турок оборвал его.
— Патер, — сказал Леви, — я не маленький, я все это уже успел наизусть выучить. Давайте перейдем к делу.
И гипнотически, словно удав на кролика, заглянул иезуиту в глаза. Несвецкий оторопел, но находился уже под влиянием Леви, ничего не в силах изменить, стоял, сложив руки, уже готовившиеся благословлять новокрещаемого.
— Я приведу к вам сюда, прямо в Коллегию, Менделя Коэна, — твердо и жестко заявил Леви, — живого, не применив к мальчику никакого насилия, а вы его спокойно окрестите. Вы же этого хотите, так?
Патер молчал.
— Не отрицайте, вы думаете об этом день и ночь. Приведу, передам из рук в руки, все добровольно. Но за это вы отпустите Марицу, и передадите мне ключ от библиотеки Нехемии Коэна. Только не лгите, святой отец, будто не знаете про Марицу, ни про ключ.
Несвецкий окаменел. Он смог только выдавить из своего горла слабый стон, в котором, если прислушаться, различалось слово «гарантии».
— Гарантии? — переспросил Леви, почесывая тюрбан. — Подпишем договор.
— Кровью? — Несвецкий спросил его об этом так, будто каждый день выпускал кровь из пальца и заключал договор с князем тьмы.
— Нет, что вы! Поставьте подпись и печать Коллегии иезуитов вот тут — и Леви протянул Несвецкому лист бумаги с заранее написанными по-латыни фразами. — Я, такой-то, обязуюсь выполнить нижеследующие условия.
— Собака иноверческая! — заорал иезуит и нацелился на Леви тростью со свинцовым набалдашником.
Тот увернулся и закричал, уже убегая
— Тогда доставайте Менделя Коэна сами! Скорее с неба на ратушу плюхнутся индийские слоны, чем вы окрестите сына Коэна! Ждите три тысячи лет, патер!
Лицо Несвецкого перекосилось.
— Постой, сказал он неожиданно ласково, — подойди поближе. Я подпишу. Мне нужен Мендель Коэн. Только все в тайне, никому, никому!
Леви просветлел.
— Говорю же — между нами, никто не узнает. Вот здесь подпись и печать. А, дату, дату не забудьте!
Он схватил листок договора и выскочил из Коллегии иезуитов. В Львове вновь светило солнце. Как ему доставать Менделя Коэна, Леви не знал.
— Авантюрист! — стукнул с досады себя по лбу, и тут же прибавил — ничего, выкручусь.
15. Попытка Шабтая Цви вселиться диббуком в чужое тело
7 июля 2000 года, в тот самый день, на который назначили не состоявшийся конец света, восемнадцатилетний Мирослав Сунько из западноукраинского городка Стрыя, вместе с одноклассником Альбертом (Аликом) Штанкевичем отправился покататься по окрестностям на велосипеде. Маршрут они выбрали несложный: по объездному шоссе из города и далее, в сторону хуторов, леса и полузаброшенного еврейского кладбища.
Ничто не предвещало несчастья. Дикторша по радио обещала теплый, немного ветреный летний день с вероятным ливнем ближе к вечеру, поэтому Мирослав захватил с собой темно-синюю куртку-плащевку с капюшоном, а Алик взял на всякий случай зонт. И куртка, и зонт позже будут найдены разбросанными на разных участках кладбища, вдали от брошенных впопыхах велосипедов. Приблизительно в три часа пополудни Мирослав Сунько вышел из дома, держа велосипед за руль, как корову за рога, и поехал. Алик Штанкевич присоединился к нему уже на выезде из Стрыя: свой велосипед он хранил в гараже брата, на окраине города. Погода стояла чудесная, ребят приятно обвевал легкий ветерок, машин на трассе проносилось мало, и они быстро развили скорость. Маленькие серые тучки, похожие на комки забытой овечьей шерсти, сиротливо жались в далеком уголке неба, не мешая солнцу. Но, когда Мирослав и Алик уже отъехали от Стрыя на довольно большое расстояние, все резко переменилось. В считанные секунды вылетели темные грозовые тучи, заслонив небосвод, подул сильный, едва ли не ураганный ветер, сорвавший с головы Мирослава новую бейсболку, а у Алика оторвав с руля велосипеда брелок. Придорожная пыль стала залеплять глаза. Начинался мощный ливень, где-то вдалеке угрожающе грохотало. Ударом ветра Мирослава сбило с велосипеда, но падая, он не испугался, и протянул руку другу. Алика тоже чуть не отбросило в сторону, тогда Мирослав успел уцепить его за край рубашки и оттащить от дороги.
Там, в заболачиваемой низине, располагалось старинное, всегда безлюдное еврейское кладбище. Ограда его разрушилась, часть высоких каменных плит упала на еще более древние, но у мальчишек выбора не было. Либо намокнуть и получить по голове сорвавшейся веткой, либо спрятаться, пережидая бурю. Мирослав и Алик нашли убежище между поваленными надгробиями. Лежать на них оказалось не очень весело: в живот впивались выпуклые изображения львов, стеблей и загадочных букв, одежду пачкала жабья слизь и крупицы рассыпавшихся сумрачных мхов. Пахло сыростью и гнилушками. Но ливень обрушился страшный, вода лилась стеной, неподалеку били молнии, попадая в деревья или уходя в землю рядом с могилами. Уходить опасно.
Опасно оказалось и оставаться. Внезапно Мирослава озарил яркий, не солнечный, а электрический свет — в его сердце, расколов надвое каменную плиту, ударила молния. Алик почти не пострадал, но тоже потерял сознание.
Оба они пришли в себя лишь на третий день в реанимации городской больницы, куда Мирослава и Алика доставили случайно наткнувшиеся на них крестьяне. Если Алик Штанкевич вскоре выписался, то с Мирославом Сунько приключилась история, переданная в несколько медицинских журналов. Очнувшись, он потерял память и даже родную речь.
Мирослав не понимал, когда к нему обращались на украинском языке, не узнал родителей. В его теле поселился некто чужой, диктовавший пареньку свои слова, свою волю, свои поступки. Этот чужой был Шабтай Цви.
Первое, что произнес Мирослав, повергло в шок, он спросил — эйфо ани?[15]
Никто не догадывался, что это за язык и как нужно ему отвечать.
К больному, исчерпав все способы добиться украинской речи, врачи с отчаяния пригласили раввина из Ивано-Франковска. Кто-то из медицинского персонала — то ли санитарка, то ли сестра, сказала, что язык, на котором пытается докричаться Мирослав, похож на иврит. Раввин, пообщавшись с пострадавшим, подтвердил: парень говорит на сефардском диалекте этого языка, и при желании его можно перевести.
Посоветовавшись со специалистами из Израиля, раввин пришел к выводу, что Мирослав использует редкие, устаревшие грамматические конструкции, добавляет немало турецких и искаженных греческих слов, называет сложнейшие каббалистические термины, явно ему неизвестные.
На вопрос, кто он и где находится, Мирослав Сунько отвечал, что его зовут Шабтай Цви.
Это настолько не укладывалось в голове, что раввин предположил: удар молнии пробудил в Мирославе родовую память и заставил вспомнить язык далеких предков. Однако родственники Мирослава это решительно опровергли: евреев среди них не оказалось, а корни этой семьи — в основном польские, иврита Мирослав никогда не учил, друзей-евреев у него не было.
Тогда доктора предположили, что имеют дело с беспрецедентной симуляцией изменения сознания: осенью Мирославу Сунько предстояло идти в армию. Но поводов для притворства не нашлось: в июне он подал документы в колледж и уже зачислился, а еще ранее, весной, парень признавался негодным к военной службе. Играть в потерю памяти ему явно незачем: впереди учеба. Некоторые допускали гебоидную шизофрению в нетипичном течении, спровоцированном электрошоком.
Проведя с Мирославом немало времени, раввин пришел к выводу, что Мирослав вовсе не обманщик и не сумасшедший. С ним приключилась редкая беда: вселился неугомонный диббук, дух умершего, который иногда проникает в другого человека, стараясь руководить его сознанием.
Шабтай Цви, желая вернуться в мир живых, использовал хрупкую, еще незрелую душу юноши, зная, что не встретит серьезного сопротивления и будет диктовать свои мысли через него.
Но Шабтай не учел главного: существовать в провинциальном Стрые вместе с диббуком решительно невозможно. Мирослав из-за него не мог ни учиться, ни работать, ни даже нормально общаться. Любитель компьютерных игр, он робел от блеска монитора, мучительно думая, на какую кнопку нажимать. Поэтому раввин изгнал из Мирослава мятежный дух измирского каббалиста, вернув бедняге память и родной украинский язык. Произошло это не сразу. Сначала пришлось ждать полного восстановления здоровья, затем обряду изгнания диббука яростно противились врачи, не верившие во всякую чертовщину, родители Мирослава пытались устроить ему отчитку силами одного униатского священника, что, известно, от диббука нисколько не помогает. Только когда положение обострилось, Мирослав Сунько сам приехал к раввину и упросил выгнать, наконец, этого кошмарного турецкого еврея…
О поездке на велосипедах, буре и молнии Мирослав больше не вспоминает, эти эпизоды начисто стерлись из его памяти. Он снова откликается на свое имя, разговаривает исключительно по-украински, учится в колледже на повара и даже встречается с девушкой, которую зовут Любиша. Она, кстати, не еврейка. Лишь во сне к Мирославу Сунько изредка приходит вредный человечек в зеленом тюрбане и ругается на устаревшем языке.
Он, наученный горьким опытом, не просыпаясь, показывает Шабтаю Цви фигу и тот исчезает. Утром Мирослав уже ничего не помнит.
16. Мендель Коэн в сетях саббатианства. Нарушение предписаний — это выполнение их
Бывают дни, когда правоверные иудеи, какими праведниками они б не были, начинают задумываться о смысле одного странного благословления. Произнося барух ата Адонай, маттир эт ха-иссурин, что переводится «благословлен Господь, разрешающий запрещенное»[16], нельзя не удивиться. Зачем запрещается, если все-таки разрешается?! Именно это прыгало в голове Менделя Коэна, младшего, но любимого до безумия, сына рабби Нехемии, которого он полагал своим преемником.
Ну почему нельзя?! — думал юноша. Должен же скрываться в этих запретах сокровенный смысл, иначе для чего Тора нам запрещает много чего интересного? Ладно, не стану варить козленка в молоке его матери, потому что выйдет такая гадость, что вырвет. Но отец недавно обручил меня с Лией, а я не могу до хупы даже остаться наедине с ней в одной комнате. Стоит мне прийти к своей невесте, давно не чужой, мы росли вместе, и притронуться, как выскакивает ее родня, начинает кричать: асур, асур![17]
Еще Менделя угнетало презрение отца к Шабтаю Цви. Как ни отрицай, а Измирский каббалист, если несколько лет подряд масса народу считала его Машиахом, должен быть человеком незаурядным. Постепенно Мендель разошелся со своим знаменитым отцом во мнении о Шабтае, стараясь черпать сведения о нем лишь от справедливых людей. Это выходило трудно.
Все евреи делились на саббатианцев и ярых противников Шабтая, независимых почти не существовало. Словам о том, что Шабтай Цви якобы остановился на книге «Зогар», а его иврит беден оборотами, поэтому проповеди за Шабтая сочинял Натан из Газы, и многому другому, рассказываемому о Цви, Мендель не хотел верить. Если они меня в малом обманывают, то чего же от них еще ожидать?
Приходилось тайком посещать сходки саббатианцев, что устраивали каждую пятницу жившие в Львове адепты Цви. У Менделя иногда не получалось по пятницам отлучаться из дома: словно читая его мысли, отец нагружал талмудическими респонсами, усаживая вечером за самые каверзные отрывки, и садился рядышком. Но зато когда появлялось несколько свободных часов, Мендель шел к саббатианцам, надеясь узнать о Шабтае то, что, как казалось, от него подло скрывали. Саббатианцы Львова вовсе не были убогими и гонимыми, какими их пытался представить Нехемия Коэн в своих субботних проповедях. В те времена слова «шабсвел» и «шабсцвинник» еще не стали ругательными, а в мессианство Шабтая Цви верили весьма образованные люди, учившиеся в Кракове, Варшаве и Вильно. Они не боялись спорить, сочиняли смелые трактаты, даже знаменитое проклятие Шабтаю Цви, произнесенное собранием самых авторитетных раввинов четырех стран, Ваадом арба арцот в 1670-м году, саббатианцы объявили лишенным законной силы, призывая не обращать на это внимания.
Естественно, что для Менделя Коэна сухое древо ортодоксального иудаизма, увешанное скучными точками и запятыми неукоснительно исполняемого Закона, оставалось не таким привлекательным, как зеленеющее древо Сфирот. Каббала не только утешала сердце, обещая приоткрыть завесу над тайнами творения, но и придавала молодому человеку уверенности.
Изучая «Зогар», Мендель чувствовал себя независимым от жесткой воли родителей, ему приоткрывались секреты, которые отец зачем-то скрывал, полагая, наверное, что Мендель еще слишком мал для Каббалы.
Пока у тебя нет ни длинной серебристой бороды, ни круга учеников, ты не имеешь права на собственное мнение, сказал Нехемия Коэн сыну. Ты очень молод, чтобы бросаться самостоятельными суждениями. И не думай, что я тебя обижаю. Ты не пережил того же, что и я, не ведаешь, какие страшные вещи могут произойти из-за невовремя произнесенного заклинания или неверного толкования какого-нибудь слова. Учись у меня, слушай мои комментарии, заимствуй мои трактовки, а через лет 20 поговорим на равных!
Мендель возмутился. У него уже первые черные волоски на подбородке пробиваются, а отец все маленьким считает! 20 лет смиряться, молчать, отказывать себе в изучении самого интересного! Что я ему, раб, что ли?
У меня своя голова есть! И не какая-нибудь дурная, а умная, коэновская!
Но если умудренный опытом раввин знал, как разрешить опасные противоречия, когда соблюсти букву Закона, а когда допустимо ее нарушить, то юноша легко поддался на саббатианские соблазны. Именно от этого его и предостерегал отец, да тщетно…
Сначала Менделя Коэна поразила смелая интерпретация учения о 12 сфирот. Если многие поколения каббалистов предполагали, что с приходом Машиаха связана только сфира «гвура», выражающая силу и мощь Творца миров, то Шабтай Цви пришел к неожиданному выводу: началом избавления станет раскрытие сфиры «тиферет», красоты и великолепия. Только она по-настоящему выражает суть Всевышнего.
Если бы мир не был прекрасен, его не стоило бы создавать — учил Шабтай.
А раз мы красоту не видим, значит, живем вовсе не там, где должны. В настоящем мире все гораздо красивее, нежели здесь!
Мендель Коэн растеряно посмотрел на замшелые крыши, истекающие сыростью стены домов гетто. Вся Староеврейская улица, на которой он родился и вырос, предстала грязной, замусоренной, пропитанной испарениями сточных рвов. Словно распахнулась испачканная жирными руками дверь и из третьеразрядного борделя на Векслярской высочила неряшливая, опухшая потаскуха, с синяком под глазом, с черной каймой ногтей, бывшая когда-то завидной красавицей. Мендель поморщился.
Возле синагоги копошились нищие, уродцы и карлики. Сновали прокаженные с обезображенными лицами, держа при себе тарелочку и ложечку, привязанную к поясу веревкой.
Вороны раздирали дохлую кошку, наслаждаясь кусками гнилой плоти.
И я тут живу — с отвращением подумал он, ужас какой-то.
Стучало в висках, голова кружилась. Евреи везде пришельцы, ничего не любят, ни к кому не привязаны, кочевники, дикари! Хоть бы прибрались в своем гетто, улицы вымели — вспомнил Мендель слова какого-то антисемита.
Действительно, чужие — грустно улыбнулся он, кочевники.
Давно уже сгнили те шатры, истлели кости тех верблюдов и коней, что привезли наших предков на эти земли, называемые Полин, а мы все считаемся пришельцами, мечтая вернуться домой. Здесь осядем — решили предки. Осели. Одичали. Опустились.
Мендель мрачно пнул ногой разбитые черепки глиняного кувшина.
Швират келим — разбиение сосудов — это ведь тоже лурианская Каббала.
Познакомившись по тайно провезенным книгам с тремя мистическими псалмами Шабтая Цви, Мендель Коэн задумал сочинить свой псалом, но бросил, остановившись на трех строчках.
С ивритской грамматикой у Менделя тоже обстояло не очень, корпеть за правилами он не любил, поэтому духовную поэзию пока предпочитал чужую. Посмотрим, куда же отправлялся по пятницам Мендель Коэн, и какие неприятности его там поджидают. Дома Львива не только в еврейском гетто, но и в других кварталах крепко приклеивались друг к другу, росли не вширь, а ввысь и вкось, соединялись арками, галереями и переходными лестницами. В нагромождении узких, иногда слишком узких улочек нетрудно потеряться, зато удобно прятаться и запутывать следы. Поэтому старый Львив принадлежал котам, еретикам и влюбленным. Там, в темных, извилистых двориках, среди перин, одеял и подушек, мокнущего на дожде белья, корявых деревьев и решеток, глубоких колодцев, обложенных камнем, всегда удавалось скрыться от любопытных глаз.
Коты шипели, дрались, кидаясь на соперника с утробным воем, выдирали глаза, клоки шерсти с кожей, сочившейся сукровицей, ломали лапы и кончики хвостов, глотали откушенные в задоре уши, сплетались в шерстяные клубки, катались в пыли, пели кошачьи баллады, грустные и протяжные. Котов обливали помоями, закидывали гнилыми фруктами, камнями и глудками ссохшейся земли, ошпаривали кипятком, швыряли в них ботинками, но ничего не помогало. Ночью распахивалось окно, раздавался сонный, недовольный голос — да когда же это прекратиться, в конце концов, дайте спать! — и через минуту шипение, урчание и вытье продолжались. Так было год за годом, век за веком. Умирали и короновались короли, устраивались перевороты, кроились границы государств, а коты оставались.
В плохо просматривающихся нишах, тупиках и под сводами арок встречались влюбленные. Слушая серенады котов, они объяснялись по-польски, по-итальянски, по-мадьярски, по-армянски, обменивались нежностями на библейском иврите, турецком, арабском, на греческом диалекте «койне» и даже на трансильванском. Стены домов, давно утратившие первоначальный цвет, покрывались пестрыми слоями плесени. Плесень серая, зеленоватая, белая, оранжево-бурая создавала причудливые картины. Стены запоминали все: и гортанное «ани роце отах», и ласковое «сени поли агапо», и щекочущее ухо шипящее «Зосця, круля…».
Стены вели непроявленную хронику Львива, восточного города, расположенного на западе. Прислонившись к ним спинами, здесь впервые целовались, зачинали детей, расставались навсегда и мирились навечно, пачкаясь разноцветной плесенью. Извечные львовские дожди плодили множество пупырчатых жаб, в солнечные дни переживавшие свое жабье ненастье в глубоких колодцах. Вытащенная на свет жаба смотрела испуганно и норовила ускользнуть обратно, в благословенную прохладу подземных вод, оставляя на руках слой липкой слизи.
Лупились желтыми глазами огромные, неповоротливые саламандры, блестевшие черной кожей, ползли прирученные ужи — те самые, что высасывали оставленное котятам молоко.
Кроме котов с влюбленными — или влюбленных с котами — Львив скрывал пестрый мир сектантов и еретиков. Наступив на тонкий нервный хвост черного котищи, грациозно пантерообразного, Мендель Коэн прошел по Староеврейской улице, затем, минуя Татарские ворота, завернул в тихий дворик, обсаженный давно не стриженым боярышником. В руке он держал молитвенник в черной обложке, а на плече болтался бархатный мешочек с ремешками тфиллин и аккуратно сложенным талесом. Талес у юноши был не белый с синей каймой, а особый, лиственно-зеленого цвета с оранжевыми полосами по краям и кистями, чередующими оранжевые нити с зелеными.
Отпихнув нависшее прямо на пути толстое шерстяное одеяло, Мендель Коэн проскочил под веревками и, согнувшись, прошел в низенькую арку.
Арка привела его в другой дворик, уже населенный турками.
Он обернулся, желая убедиться в том, что никого нет рядом, вышел уже во двор дома семейства Кёпе, мурлыкая свой незаконченный псалом: ахшав матхил авив ярок, авив ярок шель тхия, анахну бану Исраэль, вэгеула йехия…[18]
Селим Кёпе, когда еще его сын Фатих только родился, а жена-цыганка не шила турчанкам пестрые наряды, копил деньги на свою мечту — лавку предметов старины и редких манускриптов. Этот дом — просторный, в два этажа, с балконами и пятачком земли, где росли каштаны, Селим унаследовал от своего брата, утонувшего в Мраморном море с грузом серебряных чайничков. Две комнаты на втором этаже пустовали, и Селим, прорубив в стене дверь, а к двери приделав деревянную лестницу, сдал их одному торговцу, приезжавшему из Стамбула с тюками товаров. Аренду платил постоянно, сразу за год, а жил в тех комнатах от силы семь-восемь месяцев. Помаленьку хитрый Селим скопил приличную сумму, завел лавку антиквариата на первом этаже, через три года перенес торговлю на главную улицу. Пора было расторгать договор, убирать лестницу, замуровывать прорубленную в стене дверь, но тут Селим получил заманчивое предложение: впустить в те комнаты собрание саббатианцев.
Облачившиеся в тюрбаны евреи не хотели делить кров со своими соплеменниками, а дом Селима, одна стена которого примыкала к еврейскому, а другая — к турецкому кварталу, идеально соответствовал их душевному раздвоению. Деньги они обещали платить хорошие, вести себя тихо, не кричать и не сорить, Селим — податлив человек, что ж поделаешь, пустил еретиков. И зря.
Потому что в ту пятницу, когда Селим женил своего сына Фатиха-Сулеймана на слепой Ясмине, в комнате, уставленной горшками с розами слышался речитатив Корана, а любопытный Фатих пытался угадать, где же ему доводилось видеть прекрасное лицо невесты, вспомнил вдруг, что Ясмина — та самая красавица турчанка, она шла с зарезанной курицей, и в сердце кольнуло предчувствием счастья, Менделя Коэна заметил приглашенный на свадьбу Леви. А дальше все завертелось так, как невозможно придумать. Фатих подарил Ясмине золото, много золота — его вносили на бархатных подносах, и невеста обращала к жениху свои умные, но незрячие глаза. Радуясь чужому счастью, Леви уже мысленно тянул Менделя в заботливо раскрытую мышеловку. Нет, Леви не желал Менделю Коэна зла. Он всего лишь хотел заполучить трактат из собрания его отца.
На то он и Коэн, бен Коэн, размышлял Леви, поедая с блюда турецкие сласти, справится с Несвецким, охмурит инквизицию, убежит, но не крестится.
Я его приведу к иезуитам, но сперва научу, как оттуда вырваться, иначе это будет жестко.
То, что сходки саббатианцев происходили в доме Селима Кёпе, стоящем на стыке турецкого и еврейского кварталов, в двух шагах от комнат, снимаемых Леви, совсем близко от его лавки, упрощало задачу. Только Леви расскажет Менделю о Шабтае Цви то, чего он больше нигде не сможет прочитать или услышать.
Мендель Коэн вприпрыжку возвращался домой, надеясь не попасться на глаза отцу. Времени оставалось мало, успеть бы заскочить через черный ход, лечь в постель, потому что перед отходом ко сну Нехемия Коэн обычно приходил к детям с благословением. Вдруг перед спешащим юношей оказался Леви. Мендель, взглянув на него, подумал, что где-то уже видел это лицо, но темнота львовского вечера мешала ему разглядеть незнакомца.
В чертах Леви отдаленно проскальзывало сходство с Шабтаем Цви.
Менделю уже попадались небольшие листки, где изображался красивый осанистый человек в длиннополом одеянии, восседающий на престоле Иерусалима в окружении белых тигров. Если подолгу всматриваться в них, то внешность Леви могла навести склонного к фантазированию Менделя Коэна на мысль, что перед ним промелькнул сам Шабтай Цви. Или его тень. Он даже раскрыл рот, чтобы спросить у Леви, не родственник ли тот Шабтаю, но Леви, понимая, что торопиться вредно, быстро свернул за кирпичную подпорку, большим сужающимся клином державшую стену дома семьи Кёпе. Увитая багровеющим плющом, она надежно скрывала Леви, а стремительно надвигающая тьма заставила Менделя поверить, будто призрак Шабтая Цви неумолимо растворился в воздухе. Бедняга растерянно оглянулся и побежал к арке, ведущей из турецкой части Львива на Староеврейскую улицу. Заинтриговав несчастного, Леви решил появляться у дома Кёпе всякий раз, когда туда придет Мендель, чтобы довести любимого сына рабби Коэна до нервного исступления. Или хотя бы внушить ему необъяснимую тревогу. Несколько пятниц подряд Мендель Коэн убегал на встречи с саббатианцами, снова видел на обратном пути в неясной полутьме гаснущих свечей того, кто оживлял в его памяти образ Шабтая Цви. Мендель, может, и не хотел больше о нем думать, но лицо Леви буквально завораживало его, проникало в мистические сны, всплывало ранним утром, когда еще не стерта грань между небытием и явью. Отцу сказать об этом странном видении Мендель побоялся. Еще подумает, будто я сумасшедший, испугался он, лучше промолчу. Сумасшедших Львива запирали в тесном каменном строении с маленькими окошками, закрытыми толстыми решетками, и приковывали к стене цепями. Беснующихся нещадно обливали водой, били палками, обжигали раскаленным железом. А если и это не останавливало, сажали в очень узкий ящик с дыркой для ноздрей, прикручивая руки и ноги кожаными ремнями.
Наконец Леви Михаэль Цви достиг желаемого. Завидев Менделя Коэна, спускающегося по лестнице в усыпанный прелыми листьями турецкий дворик, он выскочил ему навстречу. Еле скрывая дрожь, Леви схватил парня за руку и воскликнул:
— Как же я рад видеть тебя, Менделе!
— И я тоже… рад видеть вас — испуганно пролепетал парень, — но кто вы?
— Леви Михаэль Цви. Ани ах шель Шабтай Цви — уверенно сказал Леви.
— Б’ эмэт? — удивился Менд ель.
— Б’эмэт, — уверил его Леви.
Ему не пришлось лгать и изворачиваться, чтобы войти в доверие к наивному раввинскому сынку. Леви говорил Менделю то, что тот хотел услышать, ничего не прибавляя и не убавляя от застывших страниц памяти детства.
Шабтай Цви представал в его рассказах таким, каким он был на самом деле — необычным ребенком, знающим все наперед, открывающим запретные двери, гордостью отца, страхом и надеждой матери. Турки называют Шабтая трусом, вздыхал Леви, считается, будто он испугался пыток и казни. Но Шабтай Цви никогда никого не боялся, более того, он предсказал свой арест и заточение в крепости Абидос за несколько лет до этих событий. Знал, зачем его арестовали, зачем позвал султан, что будет дальше, вплоть до деталей. Мальчиком Шабтай любил плавать в море, даже если стояла прохладная погода. Море ему было миквой, чьи воды не только очищают, но и лечат.
Вечерами Шабти бродил по берегу, разговаривал с чайками, окунался, выходил, потом опять погружался в воду. Родители старались ему не мешать, но, когда становилось совсем холодно, говорили: не ходи сегодня на море, заболеешь, видишь, какая студеная вода, как беснуются волны?
Шабтай отвечал им, что вычислил день своей смерти и ему ничего не угрожает. Еще он ходил по безлюдной, каменистой местности, что расстилалась недалеко от Измира. Турки называли ее пустыней. Там мало влаги, летом невыносимо палит солнце, спекая все живое, а зимой дуют ледяные ветры, вырывающие корни вместе с землей. Змеи с ящерицами и то стараются обходить ее стороной. Но Шабтай уходил туда, объясняя, что ему хочется побыть одному.
Однажды — ему было тогда лет 9 — Шабтай исчез на несколько дней, а потом вернулся, сильно хромая. Нога оказалась рассечена острым белым камнем, рана кровоточила. Позже пастухи сказали, будто Шабтай зашел слишком далеко, оступился, едва не свалившись с обрыва, но сумел остановить кровь и добрести до дома. Другой мальчик бы наверняка погиб, места те глухие, помощи ждать неоткуда, но Шабти справился.
Я предназначен для иного, признался он, нечего бояться смерти. Смерть — всего лишь переход. Мы ведь всю жизнь идем по узкому мосту, но не замечаем. А я вижу, когда человек близок к смерти, говорил мне Шабти, это будет когда-нибудь, но не сейчас. Ты за меня потом будешь переживать…
Он называл такое состояние души «гешер цар меод»[19], очень узким мостом между двумя точками, если правильно передаю слова Шабтая. Кажется, это понятие есть у суфиев, но в те годы Шабти, поверьте мне, не общался с ними.
Он не бывал нигде, кроме старой синагоги «Португалия» в Измире да несколько раз отец брал меня, Шабтая и Эли в Эдирне (Адрианополь).
Мендель закрыл глаза. Как же ему хотелось убедиться, что все происходит наяву, не приснилось, не померещилось! Этот человек — названный брат Шабтая Цви! Невероятно!
И у него, на первый взгляд обыкновенного турецкого торговца, в шальварах и тюрбане, в туфлях с длинными загнутыми носами, прихрамывающего, невысокого, незримо присутствует духовное родство с Шабтаем! Они не только переписываются, но и ловят мысли друг друга.
— Почему вы пришли именно ко мне? — спросил Мендель у Леви, — из-за того, что я сын Нехемии Коэна, разоблачителя?!
— Прежде всего, Мендель, — ответил Леви, — ты правнук Давида Алеви, а уж потом — сын Нехемии Коэна. Когда я решил рассказать о своем брате, думал только о том, как восстановить справедливость. Нехемия поступил жестоко, но пусть это остается на его совести. Мстить ему я не буду. А вот ты… Леви помолчал. Ты — другой. Ты исправишь грех отца.
— Но как? — изумился Мендель.
— Я потом скажу — оборвал его Леви, — сейчас не время.
И растворился во внезапно нахлынувшей львивской тьме.
17. Сон Леви, где он видит Шабтая Цви с каштанами
Леви теперь плохо спал ночами, львиный город уже успел внести в его душу смятение.
Туга львовска, туга ґдола,[20] наследственная болезнь шляхтичей, мерзкая и неизлечимая, когда ничего не хочется, даже подниматься с постели утром. Здесь его сны стали мутными, странными, полными таинственной недосказанности. Во дворе их дома в Измире рос большой конский каштан, старое, тенистое дерево, в ветвях которого приятно прятаться от жары. Осенью, когда толстые булавы раскрывались и из них выпадали блестящие коричневые плоды с небольшим светлым пятнышком, Шабтай залезал на самый верх дерева. Он лущил каштаны, бросая шкурки, отчего вся земля усеивалась колючими оболочками. Во сне Леви Шабтай Цви играл с каштанами не просто так, за каждым его действием прослеживался каббалистический смысл.
— Ты думаешь, что мир ужасен, несправедлив, уродлив? — спросил Шабтай.
И сразу же ответил: нет, плохи лишь «клипот», оболочки, скорлупки, утыканные шипами.
Ты с опаской, как бы не уколоться, берешь их в руки. Эта ежиная «клипа» скрывает б-жественные искры, прекрасные и вечные! Они спрятаны, но. Посмотри на плод каштана, видишь, брат, какие они гладкие, коричневые, приятные на ощупь? Шабтай раскрыл каштан, вытащив ядро, протянул его в руке прямо под нос Леви.
Так и мир: очищенный от скверны, грехов и грязи, прекрасен.
Во сне Леви качал головой. Нет, нет, ты это придумал, Шабти.
Не может быть, чтобы ты один смог вытащить и собрать воедино все искры.
Их мириады, больше, наверное, чем звезд на небе и песчинок в пустыне.
— Глупенький! — улыбнулся Шабтай, ты мой брат, я люблю тебя, но ты не понимаешь меня… Впрочем, так и должно быть. Останусь один.
Множество «клипот» — скорлупок — это людские грехи. Чем больше «клипот» я разобью, тем ближе избавление, Леви!
Шабтай снова протянул ему руку, в которой лежал крупный, светящийся плод каштана, идеально круглый.
— Ни единой колючки, Леви! — произнес брат. Никаких бедствий, войн, голода, несправедливости! Это будет скоро! Б-г милостив, Он дал мне эту силу.
Леви проснулся, сжимая в правой руке колючий каштан. Дерево это росло не в Измире, а в уютном львивском дворике. Каштан мог попасть ему через открытую сильным порывом ветра створку окна. Или Леви забыл, что поздно вечером проходил мимо особняка пани Сабины, и там, у узорчатой ограды, сорвал колючую булаву на память о ней…
Все равно душа его была беспокойна.
18. Турки подходят к стенам Высокого Замка. Марица и начинающие инквизиторы. Пытка «мышиной комнатой»
Жители шляхетного миста Львив исстари отличались особой беспечностью. Их город переходил из рук в руки, подвергался нападениям разноплеменных отрядов, разграблявших предместья и поджигавших поля. Но львовяне относились к этому на удивление хладнокровно.
Во-первых, Львив охраняли каменные стены Высокого Замка.
Во-вторых, от врагов было принято откупаться, вынося сундуки с золотом. Золото для таких случаев припасали еврейские и армянские купцы, а так же греки, итальянцы, мадьяры. В-третьих, львовяне не жаловали любую власть, будь она неладна, довольствуясь своим вольным статусом. Злые языки утверждали, что если турки оставят городу Льва все привилегии, то большинство предпочтет подчинение Стамбулу, тихо вынеся белый флаг. Поэтому, когда Высокая Порта задумала расширить свои и без того немалые владения, возмечтав о Подолии, а заодно с ней и о древних землях Галицких, Львив мало готовился к обороне. Турецко-татарская угроза многим казалась нереальной — особенно после русско-польской кампании, после осады войсками Хмельницкого, шведами и прочими охотниками до львиных богатств. Успехи турок, уже приближающихся к предместьям Львива, обывателей впечатляли: слухи о них традиционно сеяла турецко-татарская Поганско-Сарацинская улица, но львовяне не спешили записываться в ополчение или укреплять стены Высокого Замка. И так забот хватает.
Городской магистрат, услышав о турках, провел экстренное заседание. Жадные купцы, собравшись вместе, долго не пытались друг друга понять.
Не удивительно: кто говорил по-гречески, кто по-итальянски, кто по-армянски, кто по-еврейски, а кое-кто по-татарски. Договориться им на официальном польском языке оказалось трудно, а переводчика каждую минуту с собой таскать не станешь.
Обсудив городские проблемы, купцы почесали плеши, расплели тугие пояса, высказали робкое пожелание — починить ветшающие стены города.
— Еще рвы выкопать не помешает — тихо предложил толстяк Вазанопуло, сделавший себе состояние на розовом масле и розовой воде.
— А деньги на рвы есть? — возразили ему. — Вот сам и копай!
Денег не нашлось, поэтому готовиться к осаде не спешили.
Проверив пушечные жерла, чиновник магистрата, Деметрис Ихтионис, написал в отчете, что в пушках свили гнезда маленькие птички, ядра заросли коконами паутины, а выкатить пушки в случае боя не представляется возможным по причине их крайней заржавленности.
Птичек прогнали, свитые из сотен мелких травинок гнезда разорили, выкинув овальные, в светло-серую крапинку, яйца, но на этом подготовка к войне закончилась. Предпринимались — уже самими горожанами — безуспешные попытки укрепить Высокий Замок. Стены его украсились дырами[21], часть кладки начала помаленьку обваливаться, раздираемая цепкими корнями плющей и молодыми побегами белого ясеня. По ночам хитрые мещане выламывали из стен лучшие камни, используя их или для кладки фундаментов, или для мощения улиц и внутренних двориков. Выбирая между безопасностью и сухостью, львивцы предпочли ходить по тротуарам, выложенным из булыжников Высокого Замка. Ведь турки с татарами нападают изредка, а дожди идут чуть ли не ежедневно. Попробуй, побегай в дырявых башмаках по лужам! А турки… ну их к чертям, раз Львив вильный, пусть его купцы из магистрата своими пузами защищают!
Едва ли не одиночной силой, что старалась раскрыть глаза на нешуточность завоеваний Османской империи, сплотить разделенных горожан, был орден иезуитов. Но здесь они действовали небескорыстно, считая, что защита христианского Львива — прежде всего искоренение ереси и укрепление позиций римско-католического исповедания.
Втайне радуясь наступлению турок, захватывавших карпатские городки, патер Несвецкий мечтал, что ради единения христиан Европы заблудшие русины греческой веры придут, как кроткие овечки в грозу под навес, к единому пастырю, то есть к Папе. А он объяснит схизматикам, что, только объединившись с римской церковью, они смогут достойно отразить атаки зловредных иноверцев. Православные, пожалуй, стали забывать, что главные враги им — османы с татарами, нехристи поганые, а не братья-католики.
Не помешает напомнить: константинопольские патриархи на самом деле служат туркам, униженно ползают перед султаном, спрашивая всякий раз у него дозволения сделать шаг. Если турки возьмут Львив, греческие пастыри цинично посоветуют православным смириться с этим, как давно уже смирились они с падением Константинополя.
Под предлогом сохранения христианства я раздавлю схизму, решил Игнатий Несвецкий, словно скользкую гадину, быстро и безжалостно.
Он вспомнил о русинке Марице, служанке пани Сабины. Это очень хорошо, что она русинка, пусть и перекрестившаяся в католичество, обрадовался Несвецкий. Черные замыслы его начинали сбываться.
Бедная Марица проснулась на рассвете от холода, и увидела, что лежит не на теплой и мягкой постели в своей комнатке, а в каменном, выложенном соломой, подземелье. С низких сводов капала вода, пробившая в камне небольшую ложбинку. Стены подземелья покрывал тонкий налет слизи. Жалкие струи свежего воздуха пробивались через узкое вентиляционное окошко, закрытое решеткой, и сразу смешивались с неистребимым запахом вечной сырости.
В углу, прямо напротив девушки, сидела громадная жабища, темно-зеленая с коричневыми пятнами, и смотрела на Марицу большими глазами. Вдалеке слышалось легкое шуршание: это переминались залегшие в спячку нетопыри, расправляли онемевшие кожаные крылья, чтобы поудобнее в них закутаться. Сомнений не осталось: это не сон, Марица в руках инквизиции.
Служанку охватил ужас. Из этих застенков мало кто не выходил живым, а о жестокости инквизиторов рассказывали страшное: сдирали кожу крючьями, поджаривали на раскаленной решетке, пытали клеймением, вливали в рот расплавленный свинец или олово, сажали в усеянные железными шипами ящики, подвешивали на дыбе, выворачивая суставы и ломая кости.
Больше всех Марица боялась инквизиторов. Если инквизитор попадется умный, он, может, разберется, что она никакая не ведьма, а змеиный скелет нацепила для красоты, ведь у прислуги никогда не бывает денег на украшения. Она праведная католичка, не пропускает мессы, исповедуется и причащается, не гадает, не блудит, всегда послушна своей госпоже, пани Сабине, которая тоже заслужила репутацию благочестивой дамы.
Но если Марице придется иметь дело с настоящим фанатиком священного сыска, рьяным искателем ведьм, колдунов и еретиков вроде патера Несвецкого, тогда все пропало, не избежать ей костра. Невинная забава — нацепить змеиный скелет — обернется для Марицы смертью, даже если она и сумеет избежать пыток. Огонь спалит прекрасную русинку, оставив лишь горстку пепла и несколько обугленных косточек. Некому будет расчесывать черепаховым гребнем длинные волосы пани Сабины, снимать с ее миниатюрных ушек алмазные серьги, застегивать платья на спине и рисовать хной, как научила Марицу одна турчанка, восточные орнаменты на ладонях. Конечно, пани Сабина богата и возьмет себе другую служанку, но будет ли та верна ей столь же, как Марица?
И ведь они сестры, кровь Марицы наполовину пястовская, шляхетная…
Марице не повезло: ее дело поручили двум начинающим инквизиторам, молодым выпускникам иезуитского коллегиума в Кракове. Им еще ни разу не приходилось видеть живую ведьму, а только на картинках в знаменитом пособии инквизитора — в "Malleus Maleficaram", то есть в «Молоте ведьм». Инквизиторы немного побаивались: вдруг Марица окажется опытной ведьмой и нашлет на них какое-нибудь колдовство, изуродует, например, их лица проказой, превратит в свиней или еще того хуже. Но, перекрестившись, инквизиторы все-таки открыли дубовую дверь подземелья. Их взору предстало умилительное зрелище: Марица, закрытая до пояса длинными черными волосами, сидела, пождав ноги, на куче соломы, играла с большой жабой, нежно поглаживая ее бородавчатую кожу. Заслышав скрежет ключей и шаги, Марица поставила жабу в угол и стала смотреть на двух молодых иезуитов, которые были еще не полноправными инквизиторами, а всего лишь помощниками. Инквизиторы растерялись: Марица показалась им весьма красивой. Но, быстро вспомнив, что «женщина — это химера, чудовище, украшенное превосходным ликом льва, обезображено телом вонючей козы и вооружено ядовитым хвостом гадюки…», они насупились и начали увещевать Марицу.
Показав ей улику — скелет поворызника на тонком шнурке черной шерсти, инквизитор спросил, чей это амулет.
— Не мой — отвернулась Марица.
— Неправда, тебя много раз видели с ним на шее! — оборвал ее первый инквизитор.
— Не упирайся, Марица — посоветовал второй инквизитор, иначе будет только хуже. Разве не известны тебе слова блаженного Августина из трактата "О граде божьем", что «…демоны привлекаются различного рода камнями, травами, деревьями и животными…» Твоя змейка — их атрибут! Расскажи, какого демона ты призываешь?! Вот, послушай, что написано о змеиных костях в «Молоте ведьм» — первый инквизитор раскрыл перед служанкой толстую книгу в обложке из свиной кожи: «… развернув ткань, я нашла, между многим другим, белые зерна, схожие по виду с прыщами, семена и стручки, которые во мне всегда вызывали отвращение. Там же я нашла змеиные и иные кости.»
Это было в немецких землях — добавил второй, а женщина, которая вызывала таким приемом головные боли и страшные прыщи по всему телу у своей соседки, давно сожжена. Она не раскаялась, но у тебя есть еще шанс!
Марица молчала. Она со страхом смотрела в листы ужасной книги, которую инквизиторы листали в поисках подходящего отрывка. Наконец она раскрыла рот и быстро выпалила, читая из «Молота ведьм» косившим левым глазом: «… имеются и такие люди, которые носят на себе разные амулеты. Эти амулеты представляются предназначенными не для открытого причинения вреда ближним, но скорее для предохранения своего собственного тела. Носители их должны считаться кающимися, а не впавшими в лжеучение еретиками, когда их колдовство доказано и их раскаяние очевидно…»
— Ты умеешь читать на латыни?! — удивились инквизиторы.
— Немного — ответила Марица, — хотя это не положено слугам.
Они переглянулись.
— Что с ней будем делать? Может, завтра перейдем к пытке щипцами?! — спросил второй.
— Рано еще. Лучше отнесите ее в мышиную комнату! — сказал первый инквизитор.
Мышиная комната считалась наиболее мягким вариантом пытки, которым подвергали только обвиняемых в несерьезных грехах, но, тем не менее, после нескольких дней в ней подозреваемые обычно соглашались признать свою вину. Инквизиторы ушли, оставив Марицу одну.
Но гадать, что это за мышиная комната, ей долго не пришлось.
Вскоре в подземелье вошла крепкая, средних лет женщина с широким крестьянским лицом, похожая на молочницу с предместий. Она велела Марице встать и следовать за ней. Марица неохотно повиновалась. Они прошли длинным темным коридором под сводами костела иезуитов, пока не оказались перед большой дверью, окованной множеством медных гвоздиков.
Раскрыв дверь, женщина втолкнула в нее Марицу и сказала:
— Раздевайся!
Марица отказалась.
Тогда женщина, нимало не церемонясь, сняла с нее платье и нижнюю рубашку через голову, оставив голой, потом сорвала с шеи буковый крестик, и, ловко связав одежду в узел, ушла, закрыв дверь комнаты на три ключа. Марица некоторое время лежала тихо, прислонившись спиной к каменному, ледяному, но сухому полу. Затем в углах раздалось легкое шуршание: на Марицу стали прыгать мышки. Одна, вторая, третья, четвертая.
Бедняжка потеряла счет мышам. Было их 333 — белых, серых, рыжих и черных, привезенных из одной теплой азиатской страны, где миниатюрные, изящные мышки выводились для храмовых церемоний и жили в неге, посвященные идолам. Осторожно ступая лапками, сотни мышей, выскочив будто из ниоткуда (а на деле из открываемых рычагом стенных ниш), взбирались на голое тело Марицы. Они щекотали ее своими длинными розовыми хвостиками, заглядывали умными бусинками глаз, топтали и немного покусывали. Мышек становилось все больше и больше, казалось, что вот-вот они заполнят все пространство. Черные и белые усики нежно касались щек русинки, приятно чесали уставшие пятки, перебирали пряди волос.
Вся Марица была покрыта мышами, радостно копошившимися на ее груди, шее, ногах и руках, уснувших на животе и ползающих по лицу. Беспрестанное копошение мышек доставляло ей не муку, а наслаждение, сходное с тем, что доставляет галантный любовник, лаская обнаженную кожу взмахами павлиньего или страусова пера.
— Ах, как хорошо! Мышки, милые мои мышки, давайте еще, еще, пройдитесь вот здесь хвостиками, лапочки мои шерстяные! — тихо постанывала Марица, терзаемая тремя сотнями отвратительных женскому глазу созданий.
Мышки не унимались. Они танцевали на ней невидимый посторонним танец, разогрели замерзшее тело, уминали лапками мягкий живот, плясали, путаясь в волосах, играли и резвились.
Где еще бедным узницам львовской инквизиции доведется скатиться, словно с горки, с прекрасного белого бюста здоровой хуторянки, упасть на бок, подняться и снова упасть, соскользнув с бедра?! И разве не приятно было Марице, не знавшей еще ничьих прикосновений, почувствовать невероятную мышиную ласку? Русинка стонала, изнемогая от удовольствия, которое продолжалось много часов. Бархатистые мышиные шкурки, хаотично перебегающие по ее телу, биение сотен голых розовых хвостиков, тыканье мягчайших мордочек — все это подарило Марице необыкновенную возможность представить разные оттенки любовных наслаждений. Она не визжала и не выла, как поступали многие предшественницы, а лишь дрожала, приоткрывая в истоме сладостно закрытые глаза, даже не пытаясь сбросить с себя хоть одну мышь…
Из мышиной комнаты Марицу вывели довольной. Признаваться в колдовстве и сговоре с демонами низшего порядка отказалась. Ей вернули одежду, принесли воды, засохшую краюху хлеба.
— Второй день — щипцы — предупредили Марицу инквизиторы.
Щипцы принесли для устрашения. Это были большие железные инструменты, немного напоминавшие кузнечные, с зубчиками и без.
— Мы завьем тебе не только волосы, но и кожу этими щипчиками, Марица — тихо пообещал ей инквизитор.
— Будешь такая красавица паленая, просто загляденье! — добавил другой.
— Выбирай щипцы, которые тебе больше нравятся — ядовито усмехнулись инквизиторы, — пока мы добрые! Ну, какие возьмешь для завтрашних пыток? Вот эти, с широкой пастью, утыканной шипиками? Или эти, поменьше, дамские щипчики? Что молчишь? Думай! Мы их адски раскалим в огне, и когда щипцы зашипят, начнем!
Марица не отвечала. Если Леви не выполнит условия иезуита Несвецкого, несчастная может умереть от пыток.
19. Запрещено запрещать, или первая сексуальная революция, о которой вы не слышали
Евреям нужны три вещи: Тора (закон), секс и революция, причем желательно немедленно.
Стараниями рабби Нехемии Коэна саббатианство в Галиции становилось очень модной ересью, будто не было никогда «ночи святого отречения». Чем сильнее Коэн критиковал Шабтая Цви, тем больше возрастал к нему интерес даже среди тех неученых евреев Краковского предместья, что не поддались несколькими годами раньше саббатианскому помешательству или пытались остаться к нему равнодушными. Правда, успеху своему тайные адепты Шабтая Цви были обязаны не только противодействию Коэна. По еврейскому кварталу одним сумрачным деньком 1675 года разнеслись слухи, будто Шабтай Цви вновь получил милость султана, скоро вернется в Стамбул, а оттуда вместе с войском турок войдет во Львив. И Шабтай Цви будет главенствовать над всеми евреями города вместо Коэна, разрешив ашкеназам взять вторую жену. Именно обещание вернуть двоеженство, запрещенное евреям Европы рабби Гершомом[22] в 962 (?) году, ввиду неизбывной бедности, не позволявшей мужу обеспечить всем поровну сразу двух жен, взбаламутило Львив.
Когда Шабтай Цви с успехом проповедовал в странах Средиземноморья, когда его избранничество подтвердилось отшельником Натаном из Газы, даже когда Шабтай въехал в зеленой мантии на белом ослике в Иерусалим — евреи Галиции не знали, верить этому или подождать новых успехов своего короля. Но стоило Шабтаю Цви уравнять в галахических правилах сефардов с ашкеназами, возвратить последним право двоеженства, коим, признаться, могли воспользоваться единицы — как евреи начали сочувствовать разоблаченному еретику. Причин для этого нашлось немало.
Суровые будни гетто, постоянный страх и нищета заставляли некогда веселый и шумный восточный народ склониться к аскетизму, изначально им чуждому. Недаром юный Мендель Коэн возмущался скукой и серостью жизни Староеврейской улицы. Жить в коконе запретов и повелений, подчиняться авторитету старших, замыкаться в пределах одного маленького квартала, надеяться и ждать казалось ему сущим наказанием. Евреи Европы, запуганные, униженные, всегда радовались вестям с Востока. Рассказы паломников и купцов напоминали обитателям гетто не только утерянную прародину, богатый солнечный край, но и заставляли завидовать жизни своих восточных единоверцев. Ашкеназам казалось, будто сефардам досталась лучшая, жирная доля, не знакомы им те несчастья, с которыми сталкиваются другие, живут они, дескать, красиво, сытно. Да еще и две жены в силах содержать…
Бледные жители еврейского гетто Львива, воспитанные в скромности, стыдливости и целомудрии, даже не могли вообразить, каким утонченным утехам предаются саббатианцы, любители вкусной еды, нарядных одежд и красивых женщин. Стремясь во всем подражать туркам, поклонники Шабтая Цви не только облачились в белые тюрбаны, но и переняли у них умение наслаждаться жизнью. Называлось это на иврите «лаасот хаим», включая в себя множество радостей бытия, в том числе и любовь. Увы, любви несчастной Староеврейской улице очень не хватало. Мальчики и девочки воспитывались отдельно. Разве что на праздники родители разрешали им немножко порезвиться вместе, но только маленьким, не понимающим еще различий пола. Еще в пеленках их обручали, чтобы в 12–13 лет потащить под свадебный балдахин — «хупу». Занимавшиеся учением женились позже, в 16–18 лет, поэтому Мендель Коэн, недавно справивший свой 17 день рождения, оставался еще женихом — но не супругом волоокой Лии. Романтика и страсти считались среди набожных иудеев большой глупостью, поэтому родные хотели повести своих детей под хупу до того, как они в кого-нибудь влюбятся.
Однако не торопитесь осуждать нравы Староеврейской. В тяжелые времена войн, погромов и эпидемий евреи жили недолго. Часто умирали младенцы, особенно перворожденные, унося с собой и юных матерей. Мистики уверяли, будто на небесах скопилось слишком много душ, называемых «нефеш», которые долго не находят подходящего тела. Поэтому каждый должен как можно раньше дать новую жизнь, чтобы душам не рожденных малышей не пришлось скитаться. Еврейская любовь была такая странная, рассчитанная по таблицам, привезенным из Вавилона: семь дней нечистых, семь дней чистых, когда нельзя даже прикоснуться к законной супруге, и что остается после всех этих вычетов?
— Плотские страсти иссушают мозг — говорил в старости Давид Алеви, и это поучение вполне могли б, переведя с иврита на латынь, вывесить католики у входа в недавно открытую Коллегию иезуитов.
Саббатианцы предлагали иное. То, что началось в еврейских общинах многих городов Галиции и Подолии в 1660-70-е годы, явилось первой сексуальной революцией, заставившей по-новому взглянуть на отношения мужчины и женщины, увидеть в них не только земное — но и мистическое. Шабтай Цви говорил, что каббалисту невозможно познать мир, не познав женщины, потому что ивритский глагол «ладаат» означал и первое, и второе. Но, раз это касалось только евреев, народа замкнутого и загадочного, то вы, разумеется, считаете, будто эта революция произошла на 300 лет позже, в студенческих общежитиях Парижа и американских кампусах, а не в пределах Жидивской брамки Львива. Красиво написано о любви в «Шир-ха ширим», «Песни песней», приписываемой царю Шломо, полюбившему рыжую Шуламит, обожженную жарким израильским солнцем в виноградниках. Поставили братья ее стеречь созревающие грозди, но вместо этого Шуламит приходила, намазавшись розовым маслом, к возлюбленному. Ягоды склевали птицы. Шуламит умерла у него на руках.
Лобзай меня лобзаниями жгучими, читает Мендель «Шир-ха — ширим», и щеки его разгораются. Год за годом его учил отец, что не о страсти эта поэма, но о союзе еврейского народа, изображенном в образе красавицы Шуламит, с Б-жественной мудростью, представленной самым умным из всех царей прошлого, Шломо. И все слова в «Шир-ха-ширим» следует толковать каббалистически. Другая там любовь, другая…
Но Мендель не соглашался. Именно о той любви, плотской, ему хотелось знать, а вовсе не об эзотерической трактовке. Грешно, до сожжения целых городов, любили древние евреи. Ругались с фараонами, уходили в добровольное рабство, терпели адские муки, размышлял вечером Мендель Коэн, и все из-за любви. Даже Израиль потерян моими предками потому, что цари потакали женам-язычницам. Но почему теперь мы стали такими мрачными аскетами? Почему боимся любить?
Леви сказал юноше, что любовь меняет мир, и его брат отлично это знал. Шабтай Цви был предназначен в мужья польской еврейке Саре еще на небесах, до рождения. В Каире, где Шабтай жил в доме богатого купца Иосифа Рафаэля Челеби, один странник поведал, будто встретил в Италии, в Ливорно, странную еврейскую бродяжку. Она не казалась нищей, хорошо, даже со вкусом одевалась, не просила денег, а перебиралась из одного места в другое, словно кого-то разыскивая. Сара говорила, что отправилась в далекое путешествие, чтобы встретиться там со своим женихом, евреем Блистательной Порты. Иногда бродяжка совсем заговаривается, смеялся странник, уверяя, будто ей суждено стать женой Машиаха!
Действительно, двумя годами раньше Шабтай заворачивал в Ливорно, мучаясь непонятной тревогой. Мерещилось, что в Ливорно кто-то его ждет, и это знакомство определит всю дальнейшую жизнь. Она рядом, я знаю — уверял меня Шабти, каялся потом Леви, а я потешался…
Чуть-чуть Сара и Шабтай разминулись, но судьба вновь соединила их.
Шабтай обругал не поверившего девушке странника, немедленно направил письмо в Ливорно с просьбой доставить к нему в Каир Сару, приложив большую сумму денег. Письмо шло медленно, морем, корабль, на котором плыл его эмиссар, едва не нарвался на скалы, но пришло в еврейскую общину Ливорно именно в тот день, когда Сара собиралась уезжать. Незадолго до того Сару жители Ливорно закидали комьями грязи, называли блудницей, а добропорядочные еврейки уже хотели вымазать ее дегтем и извалять в перьях. Почему к красивой, со светящимися лаской глазами, чернобровой Саре, пристала эта грязь, за что ее сочли падшей, бывшая монастырская воспитанница не понимала. Может, виновата ее прелестная мордашка и точеная фигурка, эти соблазнительные родинки? А может, люди просто завидуют Сариной свободе: незамужние еврейки редко получали право путешествовать сами по себе, разве что дочки очень богатых купцов, и это внушало подозрения.
Сара уже увязывала нехитрый скарб в узел. Но к ней пришли: староста синагоги, раввин с женой, два уважаемых еврея Ливорно, и показали это письмо. Сара с трепетом читала его, не веря своим глазам. Она едва не упала в обморок, но нашла силы вымолвить: да, я невеста Машиаха, поплыву к нему в Каир! Вот какие дела творятся ради любви, Мендель — завершил свой рассказ Леви Михаэль Цви. А ты сомневаешься, вижу… Ну, ничего, щепотка сомнений еще никому не повредила. Наступает время обнимать, прошла пора, когда все мы уклонялись от объятий.
— А что было дальше с Сарой? — спросил Мендель у Леви.
Тот вздохнул и продолжил: евреи Ливорно очень удивились, что Шабтай Цви, известный своим аскетизмом, прослышал о полусумасшедшей и испорченной, на их взгляд, девице. Но отказать в этой просьбе не посмели. Староста синагоги отдал Саре деньги, она в тот же день села на небольшой корабль, следовавший в Каир.
Тогда еще Шабтай не отправлял к экзотическим берегам свои корабли, чьи паруса были из шелка, вышитые названиями 12 колен, а команда говорила только на иврите. Поэтому Сара плыла на обычном торговом корабле, с грузом северных товаров, в разноплеменном окружении.
О ней пустили слух, будто Сара шлюха, надоевшая магнатам Польши, а сейчас ищущая себе богатого восточного покровителя. Вещей при девушке почти не оказалось, из отведенного закутка в трюме Сара выходила редко, иногда тихо напевала печальные песни, но чаще молчала. С ней никто не разговаривал.
Когда на корабле, сбившемся с курса, стали подходить к концу припасы, Сару при дележе обделяли, отдавая меньшие куски, хотя она заплатила за дорогу больше всех. Но она стойко переносила все невзгоды плавания и не роптала. Наконец показался берег Египта. В те дни Шабтай каждое утро выходил в порт — а это далеко от главных улиц Каира, где располагался дом купца Челеби — и ждал Сару. Он стоял на берегу, мучительно всматриваясь вдаль. Путь Сары из Ливорно в Каир занимал немало времени. Часто корабли тонули, свирепствовали пираты, Шабтай боялся, что Сару захватят силой и продадут в гарем, откуда ее будет трудно вытащить. Но все обошлось.
В один зимний день 1663 года Шабтай Цви увидел, что вдалеке, словно от кого-то скрываясь, причаливает небольшой корабль. Он побежал туда с бьющимся сердцем, задыхаясь от предчувствия. С трапа корабля сошла миниатюрная, смуглая девушка, истощенная и вялая, держа в руках узелок. Ее никто не встречал. Со страхом она всматривалась в незнакомый берег, в лица людей, пытаясь узнать того, кого искала страждущая душа Сары.
Внезапно Сара увидела Шабтая Цви — и остановилась. Он выглядел так же, как и в ее монастырских снах — высокий, прямой, с оленьими глазами…
— Сара?! — спросил ее чуть слышно Шабтай.
— Шабтай — тоже тихо ответила ему Сара.
Ему было 37 лет, ей, по одним сведениям, 22 года, по другим 19, по третьим 26, ведь год рождения Сары никто не знал.
Евреи Каира — да и не только — оказались взбудоражены свадьбой Шабтая Цви со странной Сарой, девушкой из ниоткуда. Больше всего этому браку противились каирские купцы, мечтавшие навязать Шабтаю жену из числа своих дочерей. Польская еврейка, чья принадлежность к иудаизму вызывала сомнения, разве это пара для такого святого человека, как Шабтай?! — возмущались они.
Сара не скрывала, что после погрома была взята в монастырь бенедиктинок, насильно, в жару и бреду крещена; да к тому же о ней рассказывали гадости. Похищение паном Стахом Радзивиллом, в замке которого Сара прожила несколько лет, недвусмысленность ее положения там, недолгое пребывание у брата Шмуэля в Амстердаме, сеявшего слухи, будто Сара обезумела от переживаний — все это не добавило ей святости. Раввины, которым очень хотелось уличить беженку, задавали Саре неприличные вопросы — считалось, что девочкой, лет 10, красавица была изнасилована казаками, но не помнила об этом. Перед хупой Сару заставили пойти к служительнице миквы, сведущей в женском, и та осмотрела ее, признав девственницей. Одно препятствие исчезло, оставались еще.
Саре пришлось рассказывать все, что было в ее недолгой жизни, доказывать, что росла в семье раввина по фамилии Меир или Меер, что обряд крещения совершали монашки, когда девчушка едва не умирала и она никогда сознательно не совершала христианских обрядов. Саре верили плохо. Раввинов с такой фамилией в Европе пруд пруди, девочек, жертв хмельнитчины, попавших в монастырь, тысячи, а невинность постаревшая куртизанка могла вернуть себе колдовством, как и детскую, наивную внешность. Но семья Челеби неожиданно взяла сторону Сары. Они обожали Шабтая, считали его великим праведником, равным многим прославленным евреям прошлых эпох, сравнивали с Филоном Александрийским или с Бар-Кохбой. Он не просто жил у Иосифа Челеби, но стал им родственником. Челеби не могли не заметить, как преображается Шабтай рядом с Сарой, называющей его не Цви (большой олень), а офер — маленький олененок.
Страдавший приступами тоски, излечить которую не удавалось, после встречи с Сарой Шабтай превратился в счастливого человека. Он навещал ее по несколько раз в день, даже танцевал, дарил наряды, украшения и сладости. Просыпаясь поутру, Шабтай спрашивал, сколько дней осталось до свадьбы. Богатый Иосиф Рафаэль Челеби на церемонию не поскупился. О том, что у него в доме, на средства его торговой компании, женится человек, почитаемый некоторыми за Машиаха, должен знать весь Каир. Венчание по иудейскому обряду — хупа — произошло именно так, как снилось Саре в дни монастырской неволи. В красивом платье, усеянном мелкими золотыми звездочками, похожая на принцессу, Сара прошествовала в окружении богатых евреек в синагогу. Там уже был Шабтай Цви, в роскошном зеленом одеянии, с золотым магендовидом на груди.
— Кстати, такие амулеты после той свадьбы вошли в моду — добавил Леви.
Вместо хупы — балдахина, символизирующего крышу дома, над Шабтаем и Сарой растянули талит. Когда раввин воскликнул, глядя на молодоженов, как это принято — Шабтай, сегодня ты царь, а Сара — твоя царица, он говорил именно о царе Иерусалима и его царице, в изначальном смысле, «мелех Шабтай вэ малка Сара».
Мендель Коэн с завистью посмотрел на Леви Михаэля Цви.
— Так, как Шабтай Цви любил свою Сару, мало кто когда-нибудь любил, это я понял, — сказал юноша. — Но почему он позволил Саре умереть? Неужели Шабтай не смог спасти ее?
— Ты же читал «Шир-ха-ширим»: аза камавет ахава…[23] Камавет, как смерть!
И оборотной стороной любви является смерть. Это неизбежно — ответил Леви. Но для тех, кто действительно любит, это безразлично — сказал он напоследок. Мендель ушел, а Леви, вернувшись в турецкий квартал, стал вспоминать, что в тот день и в ту ночь, наверное, единственный раз, Шабтай был по-настоящему счастлив. Опустившись перед Сарой на колени — она была маленького роста, доставала лишь до сердца, Шабтай целовал маленькие пальчики, исколотые тупыми иглами за годы монастырских вышиваний.
Где-нибудь в обители бенедиктинок до сих пор есть вышитые Сарой облачения и оклады икон. А созвездье мельчайших родинок, изображавшее, если соединить все линии, корону, которое так и не удалось увидеть на ее теле похотливому Радзивиллу! С юности Шабтай боялся близости, все, что так или иначе относилось к этому, вызывало у него не отвращение, не ужас, но опасение, что не будет счастлив никогда.
Когда появилась Сара, я решил, записывал Леви в дневник, будто у Шабтая начнется нормальная жизнь. Но ошибся. Сара привнесла в мир Шабтая Цви — вместе с наслаждением — океан боли. Жаль, что осознание этого пришло слишком поздно, уже ничего нельзя было сделать.
Впервые познав женщину, он стал терять силу. Энергия уходила, словно в теле открывались невидимые каналы. Шабтай начал забывать — это при его фантастической памяти! Он все реже читал чужие мысли. Моего брата охватила ужасная болезнь — постепенно он становился обыкновенным человеком. Я не нахожу слов, которыми мог передать то, что случилось тогда с Шабтаем. Их нет ни в моем родном иврите, ни в турецком, вязью которого я вывожу эти строки, ни в польском языке, ни в латыни.
Но я помню одно — Сара была предназначена Шабтаю, а Шабтай-Саре.
И отношения их были священны, как священен и нерушим союз Всевышнего с народом Израиля.
20. Леви предлагает Менделю Коэну разыграть иезуитов
Не один десяток лет итальянские зодчие возводили костел иезуитов.
Когда же костел был достроен, обнаружилось, что его здание навевает нехорошие мысли о демоническом образе этого ордена. Проглядывало в костеле нечто хищное, драконье, раскрывался он на холмах, словно черные вороньи крылья, страшно и безнадежно. Чудовищен костел иезуитов и сверху, напоминая исполинского нетопыря, широко растянувшегося над львиным городом. Мы всё знаем, всё видим, всё помним — читалось в строгих узорах оконных решеток. Проходя мимо костела, Леви Михаэль Цви содрогнулся. Неужели в это мрачное строение, овеянное ночными кошмарами, он приведет Менделя Коэна?
Общаясь с сыном рабби Нехемии, Леви делал все возможное и невозможное, чтобы Мендель не только полностью доверился ему, но смог выполнить любую просьбу Леви, какой бы абсурдной она не казалась. Лишь в этом случае он сумел бы убедить юношу самому прийти к патеру Несвецкому, веря, что ему ничего не угрожает.
Они часто встречались в укромных местах, вне еврейского квартала — на Поганке, или в христианской части города, на площади Рынок, на Зеленой улице. Мендель узнал от Леви много нового о секретах своего прадеда, услышал тщательно скрываемую от его ушей историю поездки Нехемии Коэна в Стамбул.
Неужели мой отец столь сильно ненавидел Шабтая Цви, что не побоялся одеться турком и побежать к султану?! — изумился Мендель.
Все было так, как я видел собственными глазами — печально ответил ему Леви.
Я нисколько не желаю клеветать на твоего отца, но и вычеркнуть это из памяти не могу. Пойми: Нехемия решился на эту жертву, считая, что поступает правильно. Явление Шабтая Цви внесло смуту в еврейский мир, поэтому его надо поскорее убрать, неважно как, убить, обесславить, или добиться заточения в темницу навечно. Ради чего твой отец притворился вероотступником.
Леви упомянул об этом с умыслом. Ему нужно было проследить за реакцией Менделя. Саббатианство, как и поведение рабби Нехемии Коэна, тоже основывалось на жертвенности. Каждый, кто верил в избранничество Шабтая Цви, понимал, что он, став мусульманином, поступился самым дорогим — своим еврейством. Это было намеренное отречение, оправданное и предугаданное строками пророчеств. Поэтому для последователей Измирского каббалиста перемена веры — подлинная или мнимая — являлась вовсе не святотатством. Не хилул Ха-Шем, не хула на Г-спода, а прославление — так поясняли саббатианцы решение Шабтая Цви. Если человек отрекается, значит, он в это верил и продолжает, в глубинах души, верить. А тем, кто ни во что не верит, им и отрекаться не от чего…
Эта мысль породила саббатианское движение. Немало людей, желая приобщиться к замыслам Шабтая Цви — а среди них оказались, кроме евреев, еще и христиане, стали публично принимать другие религии, считая это особым подвигом. Для некоторых наиболее одиозных саббатианцев мусульманство казалось слишком простым. Эка невидаль, еврей-мусульманин, смеялись они, покажите мне, в чем он себя осквернил? Свинину не ел? Не ел. К язычеству не склонялся? Не склонялся. Тоже мне, вероотступник! Если по Рамбаму, он вовсе веры не менял. Поищите лучше что-нибудь поужаснее, чтобы ангелы на небесах содрогнулись, видя, как сыны Израиля заповеди нарушают!
Именно к шуточному вероотступничеству решил склонить Менделя Леви. Понарошку не возбраняется, оправдывался он.
Вроде б невзначай Леви предложил ему притвориться, будто Мендель нашел в Каббале понятия, близкие к идеям троичности, и всерьез подумывает о святом крещении. На первый взгляд это выглядело абсолютным безумием. Мендель никогда не слышал о еврее, нашедшем в Каббале хоть одну ниточку, связывающую ее с христианством.
Но. чем безумнее, тем лучше для иезуитов. Они это любят — подумал Леви. И начал вертеться вокруг Менделя.
— Менделе, хавери[24], я прошу тебя подшутить над Несвецким не только для того, чтобы он хоть ненадолго оставил в покое твою семью, признался Леви, стоя у круглого фонтана. Забыв извергать колодезную воду, фонтан одиноко собирал серый дождь. Зубастая пасть мифической рыбы противно ощерилась. Знаешь, я люблю одну милую девушку. Он богатая полька, и у нее есть бедная родственница, компаньонка Марица. Но она уже два дня в подвалах инквизиции. Ее пытают, Менделе, пытают! Если я не вытащу ее оттуда, погибнет не только Марица, но и моей любимой грозит смерть!
Мендель молчал. Леви оперся на чешуйчатое тело фонтанной рыбы.
— Смотри — сказал он сыну Коэна, — ее жизнь целиком зависит от воли иезуита Несвецкого. Захочет — освободит, захочет — отправит на костер.
— Но если ты придешь к нему, Несвецкий клялся закрыть дело против Марицы и вернуть ее домой…
— А что эта Марица натворила?
— Ничего. Она посеяла украшение, змеиный скелет на черном шнурке, но иезуит вычитал, будто это принадлежность ведьмы.
— А если иезуит обманет вас и не вернет девушку?
— Все может быть. Когда тебя подведут к купели, Марица уже будет на свободе! И спокойно, раскрыв окно, ты улетишь обратно в еврейский квартал! Отец даже не узнает об этом! Иезуит скорее умрет, чем признается в провале миссионерства! Он будет молчать как эта рыба!
— Но я ведь рискую. — усомнился Мендель.
— Рискуешь — согласился Леви. — Но невинный розыгрыш спасет три жизни: пани, ее компаньонку и меня. Если я не добьюсь любви пани, честное слово, утоплюсь в Полтве! Сделай это не только ради меня — а ради Шабтая!
— Не надо топиться — сказал Мендель. — Пойдемте к этому изуверу прямо сейчас. Для брата Шабтая Цви я и жизнь готов отдать, лишь бы все пошло как надо.
— Ну, зачем же жизнь, — возразил Леви, — она тебе еще пригодится.
— Главное, чтобы отец ничего не узнал — вздохнул Мендель.
Похоже, ссора с рабби Нехемией пугала его больше, чем несколько дней среди иезуитов.
— Клянусь, он даже не догадается — убедил его Леви.
В тот день Игнация Несвецкого одолевали невнятные предчувствия.
Иезуит раздобыл в лавке старьевщика затейливый ключ, должный сойти за ключ от собрания Нехемии, и положил его на видное место. Вдруг турецкий букинист сдержит слово, приведет коэновского отпрыска?
Часы тикали, невидимые стрелки, пружинки и колесики вращались, лаская слух осознанием дороговизны механической новинки. Свечи в медном подсвечнике медленно оплывали. Патер Несвецкий не дописал строку латинского письма. Началась сухая гроза. Воздух наэлектризовался до предела. Белые, с синеватым отливом огоньки сверкали на острых шпилях львивской готики. Металл притягивал разряды небесного гнева. Небо темнело тучами, но дождь не шел. Леви, сдуваемый с ног резкими порывами ветра, спешил к костелу иезуитов вместе с Менделем Коэном. Он чувствовал себя предателем. От одежды летели искорки, и Леви сразу вспомнил: брур нецицот, выбирание искр. Неужели спасение Шабтая, Марицы и Сабины стоит участи этого несчастного мальчика?!
В крышу костела ударил сноп белых молний. Мендель вздрогнул.
Аль тидаг[25], Менделе — ласково сказал ему Леви. Пойдем. Ты посмеешься над иезуитом, выручишь нас, а потом улетишь домой.
Мендель Коэн со страхом всматривался в очертания костела.
— Я боюсь — испуганно прошептал он, и лицо Менделя показалось Леви каким-то детским. — Они вампиры, да?!
— Сам ты вампир, Мендель, — ответил Леви, — такие же люди как мы с тобой, только еретики…
Несвецкий усталыми глазами смотрел мимо раскрытой книги. Иерусалимские чётки гранатового дерева выпали из его рук.
Времени остается совсем немного, срок договора подходит к концу — думал иезуит. Приведет или нет? В углу сверкнул желтый совиный глаз.
— Подождем еще чуть-чуть — сказал Несвецкий своей ручной сове, — они придут, я знаю.
Сова радостно клекотнула, щелкнув клювом.
— Полчаса — произнес патер. — Полчаса. А потом я иду арестовывать пани Сабину. Может, тогда этот турок поторопится?!
Внезапно в окно стукнули. Еще раз. Еще. Несвецкий открыл дверь сам, никому не доверяя. Перед ним стоял турок в тюрбане и длинном халате, державший за руку испуганного еврейского мальчишку, худого, большеглазого, в бархатной ермолке, из которой выбивались черные завитки шевелюры и два скрученных ушных локона, не стриженные с рождения.
— Вот вам Мендель Коэн, сын Нехемии Коэна — сказал Леви иезуиту. — Прошу любить и жаловать. А мне ключик и Марицу. Баш на баш, как говорят у меня на родине, ты — мне, я — тебе.
— Входи, сын мой, под сень креста — ласково ответил Несвецкий. — Я ждал тебя.
Мендель поклонился и вошел. Иезуит попросил подождать, зашел в комнату, вернулся и протянул Леви ключ. Потом он кликнул слугу, шепнул ему что-то на ухо.
— Будет сделано немедленно — ответил тот.
— Подойдите к городской тюрьме. Там держат Марицу. Вам ее отдадут. Ступайте, а то заметят.
Леви взял ключ и помчался выручать Марицу. Он успел. Над ее кожей уже занесли раскаленные щипцы, когда дверь пыточной распахнулась. В нее влетел стражник.
— Освободите — приказал он.
Палачи стали спешно одевать Марицу. От страха она онемела и не могла идти. Леви приблизился к ней. Запястья русинки украшали следы от веревок.
Платье было разорвано. На лице виднелись ссадины и ушибы.
— Ты можешь идти? — спросил он.
Марица поднялась, но сразу зашаталась.
— Ладно, — сказал Леви, — я понесу тебя домой.
Он протянул к ней руки и взял худое тело. Что они с ней сделали! Но — жива.
Долго этой электрической ночью Леви нес на руках измученную Марицу, пока не добрался до особняка пани Сабины. Там он постучал в ворота. Залаяли псы.
— Тише, тише — заворчал Леви, свои!
Пани Сабина уже спала, когда Леви принес Марицу. Она проснулась от шума и выглянула в окно. На пороге стоял Леви, держащий на руках Марицу.
— … Если бы вы знали, пани, чего мне это стоило! — сказал Леви, когда служанка уже была передана заботам знахарки и лежала в компрессах.
— Я останусь навсегда вам благодарной, Осман-бей, — сказала Сабина.
На щеках ее блестели слезы.
— Лучшей благодарностью будет ваша любовь, ясновельможная — улыбнулся Леви. И ушел.
Всю ночь у иезуита Несвецкого горел свет. Он расспрашивал Менделя Коэна о вере и традициях еврейского народа, о Каббале и христианстве, обрядах и ритуалах, особенно напирая на то, нет ли в них убийств иноверцев, не добавляется ли в мацу человеческая кровь.
Ключ, который иезуит отдал Леви, был поддельный. Он не открывал железный шкафчик, где рабби Коэн хранил самые редкие рукописи и книги.
21. Львовская битва. Два письма. Мраморный ангел Лычкаревского кладбища
В 1675-м году около 60 тисяч турок и 100 тисяч кримськой конницы ворвались на Подолье, польськую часть Украины. Османы снова стали угрожать мисту Львову.
(Из хроник)Проснувшись в состоянии, близком к забвению, Леви Михаэль Цви первым делом побежал умываться. Вода в лоханке была холодная, и, поливая себя, он тщетно пытался вспомнить, что было вчера. Произошло что-то страшное, припоминал Леви, вытираясь, но что?!
Выйдя на Поганско-Сарацинскую улицу в тюрбане и халате, Леви удивленно заметил, что все турецкие и татарские лавки украсились зелеными полотнищами, испещренными арабской вязью.
Аллах акбар — прочитал он справа налево, привстав на цыпочки.
Ляхистан правоверный — было написано на другом.
Странно, подумал Леви, вроде б сегодня не праздник. Тогда зачем флаги?! Правду львивский букинист узнал скоро. В лавку «Османа Сэдэ» завернул сосед и помимо прочего сообщил: на Львив идут турки, уже соединившиеся с отрядами крымских татар. Город будет взят в ближайшие недели.
— Но… Леви запнулся, подбирая турецкие слова, — а как же Ян Собесский?! Если его войска привлекут союзников, то…
— Собака этот Собесский — сказал турок. — Армия султана Мехмета непобедима! Мы возьмем Львив и на шпиль Ратуши повесим вот это знамя — он указал рукой на болтавшееся зеленое полотно. — А через пару лет падет Вена, затем Варшава.
— Инш’алла — добавил ехидный Леви. — Я бы на вашем месте не радовался: осада обещает быть долгой и кровопролитной.
— Мы платим налоги и сборы неверным — рубанул другой покупатель, и на что они идут? На костелы, на христианские школы, на содержание женщин католических священников, коих — и женщин, и священников — даже приличными словами назвать стыдно!
— С каждым годом с мусульман берут все больше, а права наши тают, словно лед на огне. Плати за все, плати! — присоединился к спору еще один праздношатающийся.
— Будем верить, что владения султана приукрасятся еще одним львиным городом — вздохнул Леви, — а мне пора работать. Видите, дама пришла.
Если Львив станет турецким, Леви кинется в ноги султану и вымолит у него перевода Шабтая Цви из Ульчина в этот город. Он готов ради этого пойти на любую жертву, даже стать евнухом, заложником благонадежности брата, охраняя покой султанского гарема. Тогда. тогда все начнется заново.
Но можно ли переиграть битву? Хватит ли у Шабтая сил вновь вступиться в тяжелую борьбу?! Леви не знал, к чему готовиться. Победа турок означала новую жизнь, вторую, и, наверное, последнюю попытку Шабтая Цви изменить все, что ему не нравилось. Дервишский орден Бекташи — размышлял Леви, всецело на стороне Шабтая. Дервиши придут в Галицию с турками, чтобы тихо сеять семена своего учения, восходящего к наизакрытейшему «Тарикату Ибрахими»[26]. Перебирая агатовые чётки, Шабтай вместе с ними станет мелодично напевать «Теилим» на родном иврите, и никакой Фызыл Ахмед — паша Кепрюлю не помешает ему.
— Это же Львив, Шабти, — скажет ему Леви, — твой город! Здесь возможно все. Дервиш в смешной шапке с лисьей опушкой и маленьким лисьим хвостиком сзади, декламирующий «Теилим» как речитатив Корана, никого не удивит.
Даже если Шабтай будет жить по бумагам, выданным на имя… хм, кого?
Ну, например, православного русина Оленкина — так, кажется, переводится фамилия Цви?! Неужели Мендель, светлая голова, не шутил, обещая в таком случае настоящую «авив ярок» — возрождение авраамического единства, о котором смутно упоминается в каббалистических рукописях Эзры д’Альбы?!
На словах «авив ярок» — зеленая весна Леви осенило.
— Ялла! — вскричал он, — да у меня же в кармане ключ от библиотеки Коэна! Поторгую немного и побегу открывать, пока рабби штудирует Талмуд в синагоге Нахмановичей. Возьму трактат «Эц даат» и незаконченный черновик «Пардес римоним», заверну в талит, отошлю Шабтаю через армянских купцов. Они доставят что хочешь даже в такую глушь, как орлиная страна Албания.
Нехемия Коэн везде искал своего сына Менделя, но не находил.
— Где же он? — беспокоился отец, — в такую позднюю пору?!
Леви Михаэль Цви уверенной походкой победителя спешил к дому Коэна.
Он уже приблизился к двери, подняв руку, чтобы ударить в колокольчик, и тут Леви настиг Коэн.
— Где мой сын! Отвечай! — Нехемия схватил Леви за тюрбан и стал душить.
Он не сомневался — это его рук дело. Старый грузный раввин вполне мог удавить Леви, но ему удалось вырваться.
— С Менделем твоим все в порядке, — тихо ответил Леви, — он в костеле иезуитов готовится принять святое крещение. По римско-католическому обряду — зачем-то добавил он.
Рабби Нехемия Коэн побледнел.
— Что ты сказал, мерзавец? Что ты выдумал?
— Я ничего не выдумал, рабби, — сказал Леви, смотря Нехемии в глаза, расширенные от ужаса и страха. — Все так. Мендель у патера Несвецкого. Если хотите его увидеть, отдайте рукописи д’Альбы.
— Негодяй! — Коэн уже шипел, плохо понимая, что Леви может его обманывать.
— Это вы негодяй, рабби — сказал Леви, немного подумав. Вы знали, что Шабтай Цви рожден для великих свершений, но всегда метили на его место. Вы тоже хотели быть Машиахом. Не спали ночами, думая, как бы от него избавиться.
— Это неправда! — вскричал Коэн.
— Раз задело, значит, правда! — разъярился Леви. — Кто подбросил Шабтаю молодую белую коброчку на дороге в Салоники?! Можете не признаваться, я знаю, что это была ваша затея! Коброчку в плетеном сосуде с крышкой вы купили у индусов, поглотителей огня, и переправили в Турцию, чтобы один опытный убийца положил ее моему брату на шею, когда он спал! Но вы забыли, рабби, что перевернутое «Машиах» читается «нахаш», змей, поэтому Шабтаю никакие змеи не страшны. Коброчка уютно сползла ему на живот, свернулась клубочком и мирно проспала до утра, а потом уползла по своим кобриным делам в можжевеловые заросли. Это вас не остановило! Через несколько лет подло воспользовались случаем, чтобы уничтожить моего брата.
Зрачки Леви сузились, словно у дикой кошки.
— Шабтай Цви оказался умнее — он выбрал жизнь, а не смерть. Вы уже потирали руки в ожидании казни, а тут такая неожиданность! Увидев меня на площади Рынок, испугались, что стану мстить. Если бы вы отдали мне рукописи сами, я не стал отводить Менделя к иезуитам. Почтенный рабби не оставил выбора бедному турку!
— Но что с моим сыном? — спросил Нехемия.
Я же сказал: беседер гамур![27] Он скоро улетит от иезуитов, как и полагается потомственному каббалисту…
— Кстати, этот ключик — ваш? — Леви вытащил ключ, который ему дал Несвецкий.
Не мой — уверил его Коэн. — Он похож на ключ от моего шкафа, но узоры немного не те. Видите, здесь две симметричные капельки. А у меня ручка ключа стилизована под птичье перо с глазом внутри.
— Обманщик! Вот так связываться с иезуитами! Но это уже ваши сложности — ехидно подкольнул Леви Нехемия.
— Взаимно, рабби! — улыбнулся Леви. Злость его прошла.
Он простил Коэну все, хотя говорил в гостях у пани Сабины, что прощают одни христиане. Слезы старика, его растерянность и ужас заставили Леви пожалеть Нехемию.
Все-таки еще ничего неизвестно о Менделе — решил он, мало ли что может произойти, вдруг не он обыграет иезуитов, а они его?!
Фатих-Сулейман Кёпе почти до рассвета не ложился спать. Он сидел на краешке постели, где спала Ясмина, и думал. Войска султана Мехмета уже шли на Львив. Крымчаки точили кривые сабли. Вчера в мечети был объявлен джихад, и Фатих записался. Потому что записались в моджахеды — те, кто творит джихад — всего его друзья с Поганки-Сарацинской. И даже его тесть, отец Ясмины, больной Ибрагим, тоже записался.
Но — вот странно — Фатиху воевать с поляками вовсе не хотелось.
Не только потому, что он недавно женился, и не только из-за того, что Ясмина уже носила под сердцем его ребенка. Не только из-за торговли в лавке, которую нельзя оставлять закрытой. Фатих вообще не думал поднимать руку на львовян, кем бы они ни были: поляками ли, русинами ли, немцами ли и даже евреями.
Это ведь мой город, мой Львив — размышлял турок, смотря на спящую жену.
Ну, зачем мне убивать ту же пани Сабину, в которую влюблен Осман Сэдэ? Она такая милая, смуглая, с ямочками на щеках. Или старого рабби Нехемию Коэна? Что он мне плохого сделал? Напротив, Коэн всегда в нашей лавке покупает. А уж про армян и говорить нечего: мы всех их должники и они все наши должники тоже. Без них наша торговля накроется медным тазом. Идти или не идти?
Солнце поднималось над Львивом, одинаково освещая и турецкие домики
Поганки, и Жидивску Брамку с синагогой Нахмановичей, и владения польской аристократии, и Русскую улицу, и Армянскую катедру, даже уютные немецкие аптеки с булочными, хотя всходило изо дня в день на Востоке. Ясмина была такая теплая, что он даже не стал заворачиваться в одеяло и тут же уснул. А затем он летел — тоже во сне — на старом щетинистом кабане над пропастью, и кабан противно щерился, высовывая желтые клыки.
Мендель Коэн впервые провел ночь вне дома, в христианской части, в жилом флигеле, пристроенном к костелу иезуитов. Патер Несвецкий нарочно запер его на два замка, закрыл снаружи окно и запретил кому-либо входить туда. А то отговорят креститься, переживал он, умыкнут обратно в гетто.
В то время его несчастный отец, Нехемия Коэн, плакал, все еще не теряя надежду, что Мендель стал жертвой заговора саббатианцев и сможет убежать. То, что Мендель сам решил перейти в христианство, раввин не допускал ни минуты. Эта религия была для него совершенно чуждой. Даже к магии египетских жрецов рабби относился более снисходительно, нежели к ереси «ноцрим».
— Этого не может быть, чтобы мой сын сознательно пошел к иезуитам, — плакала ребецен Малка, — его пытают и держат в цепях…
На самом деле юного Менделя Коэна никто в цепи не заковывал.
Он спокойно спал в мягкой кровати, на перине, набитой лебяжьим пухом.
Над изголовьем висело черное распятие: грустный тощий иудей, почему-то без кипы, приколоченный огромными гвоздями к кресту. На терновом венце Мендель увидел знакомые, но сильно искаженные неграмотным мастером, еврейские буквы. Царь Иудейский, который не правил ни дня, но зато царствует над миллионами гойских душ. Осужденный старцами Сангедрина, бывшими ничем не добрее инквизиторов, Йешуа был для иудейского мальчика символом еврейских мук.
— И ведь тоже, поди, в йешиве учился — сказал бы о нем отец.
Скорей бы сбежать отсюда домой, потянулся мальчик, к маме, на запах корицы и лежалых пергаментов, завернуться в талес, который накрывает каждого еврея, словно Г-сподь своей милостью, и каяться, каяться.
В том, что посмел прийти к неверным. В том, что лежит сейчас под запрещенным «целемом» — идолом. В том, что ужинал некошерным.
— Вот так они с евреями — сказал Мендель Коэн самому себе, отводя глаза от распятия, и, прочитав молитву «Мойде ани», вышел к иезуитам.
Там его уже ждали. Крещение иудея — церемония с точки зрения галахического права весьма сомнительная, по планам патера Несвецкого, должно затмить все виденное раньше. Сначала хор мальчиков в белых одеждах с нашитыми на груди золотыми крестами, изображающие ангелов, споет латинский гимн, держа в руках зажженные свечи.
Далее они споют по-еврейски — решил иезуит, ведь крещение Менделя Коэна — не просто обряд, а соединение мудрости Ветхого и любви Нового Заветов. И раз Йешуа любил петь с кучерявыми палестинскими детишками псалмы, то почему бы не заставить мальчиков выучить к субботе несколько строк? Транскрипцию я им дал, мечтал иезуит, выучат. А не то — розги.
Затем я скажу речь… Там будет о том, что мы должны любить еврейский народ, давший нам Спасителя. Но не тех, кто распинал, а тех, кто верил. И Менделя Коэна вместе с ними. Он ведь настоящий серафим! Черные кудри, умные глазищи! Мальчик дорастет до кардинала, клянусь Ченстоховской Мадонной!
Если бы Мендель слышал, как Несвецкий называл его серафимчиком, он бы обиделся. Ведь на иврите шараф — ядовитая змея…
— Подойди сюда, сын мой — сказал Игнатий Несвецкий Менделю. — Дай я тебя благословлю.
Иезуит простер над его головой аристократически узкую длань, приговаривая: во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
— Амен — добавил Мендель. Сын раввина с пеленок привык добавлять «амен» в конце любого благословления.
Кощунство его не покоробило: Мендель не понимал латыни.
— Скоро ты придешь под крыло нашего Господа — улыбнулся Несвецкий, — отречешься от прежних сатанинских заблуждений.
… Осада Львова тем временем разворачивалась, как разворачиваются утром молитвенные коврики в турецкой мечети.
Уже пестрело от зеленых знамен и серебра сбруй турецких коней. Пришли и стали крымские татары. Замковая гора покрылась людской толщей, затмившей зелень лугов. В лето 1675 года по григорианскому календарю на мисто Львив упал снег. Белые мухи засыпали улицы и площади. Померзли цветы. Турки и новообращенные мальчики, входившие в яни чери — новое войско Высокой Порты — кутались в накидки из верблюжьей шерсти.
— Холодно сегодня, а Стась? — спросил на Золочевском шляху один янычар другого.
— Хватит меня Стасем звать, я Мухаммед — недовольно ответил он.
— Ладно, Мухаммед, — согласился его приятель, — сейчас бы молочка теплого. И краюху хлеба прямо из печки. Что ты молчишь?
— Это мой хутор — неожиданно сказал мальчик. — Там мамо и тату жили. Раньше. До набега.
— А ты помнишь, как тебя забрали?
— Нет.
— Мухаммаде, давай завернем на мой хутор! Тут близко! Должны остаться люди, они нам молока вынесут.
— Ладно, Неджиму, зайдем. Я и пруд с ветлами по краям узнаю. Как они разрослись, Неджиму.
— Надо же, и хата наша цела. Смотри, какая-то женщина на нас смотрит.
— Пойдем. Только тюрбан сними, а то догадается, кто мы.
— Тетя, а у вас молочка не найдется? Мы очень замерзли — сказал янычар Мухаммед.
— Хлопчики, а что вы так странно нарядились? — удивилась хуторянка, но вынесла им полный кувшин молока. — Играете, что ли?
— Да, у нас игра такая — смутился Неджим. — С саблями.
— Пейте, дети, я только что корову подоила, еще не остыло.
Янычары выдули молоко и ушли.
— Где-то я их уже видела, — стала припоминать женщина. — Не Остапа ли это сынок? Его турки захватили. То-то он в иноземном и от шмата сала отказался… Точно, Остапов сын. Всю семью их убили, а мальчишку Стася забрали. Эх, грех, грех..
Снег растаял, а женщина все смотрела вдаль.
Правоверный Львив гудел, будто это был не старинный город, окруженный высокими стенами, а встревоженный медвежьей лапой пчелиный улей.
Турки и татары прыгали от предвкушения победы. Особо впечатлительные уже представляли, как приколотят золотые полумесяцы к звонницам католических соборов, вынесут куда подальше статуи Исы и Мариам, уберут иконы, отвинтят скамейки, положат ковры. И в костеле зазвучит правильная месса, начинающаяся со слов БИСМИЛЛА РАХМАН РАХИМ АЛЬХАМДУ ЛИ-ЛЬ-ЛЯЙИ РА-Б-БИЛЬ АЛЯМИН А-Р-РАХМАНИ-Р-РАХИМ МАЛИКИ ЯУМИ-Д-ДИН.
До этого оставалось совсем немного — и все же победили не турки.
Позже историки напишут о Львовской битве, что произошла 24 августа 1675 года, толстые тома, но для жителей семи львиных холмов эти дни были наполнены своим горем. Горевал рабби Нехемия Коэн, переживая за сына. Страдала, изнемогая от ожогов, русинка Марица, отклеивая вместе с кожей пропитанные медовой мазью повязки. Плакала красивая пани Сабина, любившая турка-букиниста Османа, врага польской короны и католической церкви. А незрячая Ясмина вышивала для будущего малыша турецкими узорами маленькую рубашечку, ждала Фатиха, который не сказал ей, что записался в моджахеды. Беспокоился немец-аптекарь Браун, что турки конфискуют его спиртовые настойки и выльют в Полтву. Убивался Леви, раскаявшийся, что причинил столько горя юному Менделю Коэну, не отвечающего за грехи сумасбродного отца.
Суетился иезуит Несвецкий, боявшийся, что Мендель откажется креститься и в суматохе осады убежит, а то и перемахнет к туркам.
— Не зря же говорят, что у евреев и турок веры родственные, — тревожился патер, — сиганет по крышам, ищи его потом. Пойду, проверю, как мой мальчик.
«Мальчик» иезуита Несвецкого примерно изучал Евангелие, усилиями одного крещеного еврея переложенное на древнееврейский язык.
Многие притчи Мендель знал по Талмуду, некоторые фразы ему доводилось слышать на Поганке, когда по пятницам мулла читал большую проповедь у дверей мечети. Поэтому учение Иешуа Менделю не понравилось — он и так это знал.
— Вот было бы здорово, — возмечтался фантазер, — если бы все христиане соблюдали законы этой книги. Тогда люди вроде иезуита Несвецкого даже близко не подошли б к церкви, а сидели б в тюремной башне. А уж такого кошмара, как осада Львова, вовсе не произошло бы!
Круль Ян Собесский готовился к бою. Расстелив кавказский бешмет, он сел на влажную землю Замковой горы, и, достав лист бумаги, стал выводить письмо своей Марысеньке, Марии-Казимире, графине д’Аркьен.
Милая моя Марысенька, пишу тебе с самого высокого холма, смотря на город Львов едва ли не наравне с тучами. Высокий Замок окутывает гору серым туманом, несущим в себе бесчисленное множество мельчайших капель воды. Я целую их, и знаю, что очень скоро эти тучи донесут тебе в столицу дождь, а вместе с ними и мои поцелуи. Не скучай, Марысенька, Ян любит тебя…
По другую сторону, тоже на холме, постелив тонкий верблюжий плащ, писал по-польски своей невесте янычар Мацек, или Эмин уль-дин, родом из мелкопоместных шляхтичей Львовщины. Еще в детстве его обручили с Софией, знатной шляхтенкой, и обещали, что, как только им исполнится 16, они обвенчаются. Но в 9 лет его похитили турки, отдав в корпус яни чери. Янычарам запрещалось жениться. Нареченная оказалась верна ему и ушла в монастырь босых кармелиток.
— Не будет мне счастья без Мацека — сказала София, ступая затвердевшими пятками по выщербленной львовской мостовой. Она увидит своего жениха еще один раз — когда после боя сестры начнут убирать тела убитых. Светловолосый, синеглазый Эмин уль-дин вновь воссоединится с польским народом, оказавшись в общей куче изуродованных трупов, и его холодного лба, как в далеком сне, коснутся обжигающие губы любимой.
Но пока Эмин уль-дин старается не сбиться: это ведь так сложно, писать слева направо, полузабытыми латинскими буквами. Как бы я хотел хоть на минуту перенестись к тебе, моя София, смешаться с ветром, дождями, туманами, чтобы прилететь в наш город Льва и обнять.
На голову Мацека села замерзшая бабочка, павлиний глаз, помахала крыльями, смахнула щепотку пыльцы и улетела. Но что это? Звенит в ушах призыв к бою.
Листок с письмом сброшен ветром, несет его на древние стены Высокого Замка, относит в сторону Краковского предместья. Теперь его никто не прочитает. Эмин уль-дин садится на коня, пристегивает саблю. Его ловкая рука снесет не один десяток польских голов, изрубит редкостных храбрецов. Среди них окажутся и мальчики, с которыми Мацек играл в детстве. Он не помнит их лиц, но они узнают в пылающем яростью турке поляка Мацека.
Кысмет кара. Черная судьба светлоголовых турок… О них не станут вспоминать, вместо заупокойной молитвы польские яни чери услышат слова проклятия. А Мендель Коэн читает в книге, что настанет век, когда исчезнут войны и все люди будут друг другу братьями. Он подходит к окну.
Где-то неподалеку гремят пушки, кричат люди, сизый дым пороха застилает небо. С ужасом иезуит Несвецкий увидит, как сын раввина поднимается от пола и вылетает во внезапно прояснившуюся высь.
Но, то ли Мендель забыл произнести какое-то слово, то ли не хватило ему умений, только полет его оборвался. Мендель упал на каменный тротуар, разбившись насмерть. Кровь его потекла по серой брусчатке. Иезуит принес умирающего Менделя обратно и, начав крещение, отрезал большими ножницами непокорные черные пейсы Менделя Коэна, сына Нехемии Коэна и правнука Давида Алеви, так и не ставшего еврейским мудрецом, асом Каббалы. Протяжно гудели голоса мальчиков в светлых балахонах, певших нахаму, нахаму ами — утешайте народ мой, утешайте.
Рабби Нехемия Коэн и Леви Михаэль Цви рядом, бок о бок, сидели все 7 дней траура, «шивы», посыпая пеплом из печки грязные головы. Они рвали на себе одежду, сняли обувь и стенали. Менделя Коэна, получившего христианское имя Бенедикт, похоронили на Лычкаревском кладбище, рядом с католиками, коих он никогда не жаловал. Скорбящий патер Несвецкий заказал лучшим мастерам Львова роскошный надгробный памятник: белый мраморный ангел длинным крылом утирает нечаянно набежавшую слезу, облокотившись на крест. Черты лица ангела напоминают Менделя. Евреи никогда не навещают эту могилу, только безутешный отец, рабби Нехемия Коэн, приходит сюда в глухую ночную пору поплакать. Нигде в еврейских хрониках не найдете упоминаний о том, что у рабби Нехемии Коэна, отца 12 детей, был сын Мендель.
— Народ мой остался безутешен — сказал Шабтай, смотря в узкое окно башни Балшига. Вестей от Леви не было.
Львовская битва, подарившая христианской Европе лишние 400 лет, длилась долго. На что будут потрачены эти лишние 400 лет, не знал даже Ян Собесский.
22. Покаяние рабби Нехемии Коэна. Армянская служба доставки
Когда семейство Коэнов рыдало по нелепо погибшему Менделю, рабби Нехемия рискнул провести все 7 дней траура вместе с Леви, виновником смерти сына. Непримиримый враг Шабтая Цви, львовский раввин Коэн в приватной беседе даже сожалел, что в 1666 году разыграл перед султаном дешевую комедию, приведшую к непоправимым последствиям.
— Это было так, тихо признался Нехемия Леви, сидя в разорванной рубахе на грязном, усыпанном печной золой, полу. Губы его были мертвенно бледны, лицо желто, борода за эти дни стала еще седее. — Рано утром я позвал первого попавшегося турка и дал ему золотой динар за турецкое платье с тюрбаном. Переодевшись, побежал просить аудиенции у султана. Это обошлось мне еще в десяток золотых монет.
— Дело государственной важности, свет правоверных! — сказал я ему. — Разрешите открыть глаза на злодеяния одного моего соплеменника, измирского раввина Шабтая бен Мордехая Цви?
— Разрешаю, презренный еврей — ответил мне султан.
И я наплел ему… Господи, чего же я наплел! И что Шабтай Цви чернокнижник, и что он отдал турецкий престол своему брату Эли, собираясь свернуть султана, и что призывает всех евреев ехать в Иерусалим, где на камнях мечети Омара обещает за 3 дня возвести иудейское святилище, Бейт-ха-Микдаш.
— На камнях, говоришь? — султан меня едва за плечи не схватил, душу вытрясая, — на мечеть Омара покушался?
— Да, — говорю, — он еще давно в Иерусалиме это пытался вытворить, такую истерику закатил: разрушу все до основания, камня на камне не оставлю!
А сзади мне в ухо шипит еврей, Хайяти-заде — тварь, мол, сволочь сволоченная, Иуда из Киръята какого-то, и за полу халата утаскивает, а то повелитель правоверных за себя не отвечает, разозлил ты его страшно.
Я этому Хайяти-заде объясняю: ни разу не был в твоем Киръяте, и я не Иуда, а не Нехемия из Львова, Лембергер фамилия моя.
— Это у христиан такой злодей есть, Иуда из Киръята — ухмыльнулся Леви, — что Иешуа из Нацерета римлянам выдал за 30 шекелей. Он потом удавился — совесть замучила — на иудином дереве с фиолетовыми цветками. Простите меня, но на вашем месте я сделал бы тоже самое. Деревьев в Львове растет достаточно, выбирайте любое. Лучше всего вешаться на конском каштане. Неплохо еще висеть на липе: дерево крепкое, приятно пахнущее. Похороны я оплачу. Вы жить с этим дальше не сможете. А веревку — так уж и быть — дам свою, принесу с Поганки, шелковую, с цветными нитями…
— А 30 шекелей?! — с рабби Нехемией случился припадок. — У меня 11 детей! Как же мне вешаться?! Кто о них позаботится?!
Он истерически хохотал, катаясь по полу, выл и скребся, точно пес, без конца поминая эти злосчастные 30 шекелей. Леви безучастно наблюдал за ним.
— Успокоитесь, и я скажу, как можно это исправить — утешил его Леви. — Не валяйтесь по полу, здесь кругом просыпана зола.
— … Простите меня, если сможете — Нехемия упал перед Леви на колени.
— Я давно простил вас, рабби — ответил Леви.
Леви получил все рукописи Эзры д’Альбы — и «Эц даат»[28], и «Пардес римоним»[29], и даже те, о существовании которых слышал впервые.
Все это, аккуратно завернув в талит, он отнес на Армянскую улицу.
Там сидел старый купец Ованес, отправляющий подарки с торговыми караванами. Маленькое помещение под вывеской «Международная армянская доставка» было завалено почти под потолок тюками, ящиками и коробками.
— В Стамбул? — привычным голосом спросил Ованес у Леви, покосившись на его тюрбан.
— Чуточку подальше, в Албанию — ответил он.
— Адрес? — Ованес вынул заложенное за ухо перо и обмакнул его в чернила.
— Ульчин, двор Балшича, для Азиз Мухаммеда Цви.
— Двор Балшича я не знаю, — возразил армянин, — это где? Южнее мечети холостяков?
— Нет, это тюрьма — признался Леви. — Каменная башня.
— В места заключения отправка дороже — предупредил его армянин.
— Ничего, я заплачу — улыбнулся Леви и выложил мешочек золотых монет.
Армянин пересчитал монеты, положил их обратно, добавив: через месяц, не беспокойтесь, доставим в целости и сохранности.
Леви не знал, что Шабтай Цви умрет за день до того, как получит трактаты д’Альбы, потому что в Бессарабии разразятся сражения с турками и купеческий караван пойдет в обход, застрянет на Балканах. Тюки с посылками пролежат все лето в овчарне серба Миленовича, спрятанными в грудах состриженной шерсти. Вместо месяца посылка проблуждает почти год. Но армянские купцы в этом нисколько не виноваты.
Все во власти Аллаха, и армянская служба доставки тоже.
23. Леви объясняется с пани Сабиной. Львов, 1675 год
Этот разговор должен был состояться еще раньше, но осада Высокого Замка перенесли его на осень. Именно тогда, когда зеленые листья дикого плюща на Кальварии стали бордовыми и выпустили мелкие ядовитые гроздья ягод, туда пришли Леви и Сабина. Вредный львовский змей поворызник, скелет собрата которого едва не стоил им жизни, поспешил отползти в сторону. Сейчас не время мешать влюбленным — решил он и спрятался в уютную ямку. Птицы внезапно перестали петь, когда, приподнимая длинный подол шелкового платья, пани Сабина из рода Пястов взбиралась на Кальварию.
Леви Михаэль Цви уже ждал ее.
— Осман-бей! — сказала Сабина, — посмотрите, какой вид на Львив!
— Да, вид замечательный — улыбнулся Леви. — Но вы еще лучше, моя ясновельможная.
Сабина вздохнула. Помните? Обещали раскрыть мне тайну?
— Помню. Но сначала я скажу, что давно и безнадежно люблю вас, пани Сабина. Никогда еще мне не доводилось встречать такую прелестную шляхтенку. И очень жаль, что нам не суждено быть вместе — прибавил Леви.
— Но… я тоже люблю вас, Осман-бей!
— Я не Осман-бей. Меня зовут Леви Михаэль Цви.
— Цви?! — пани Сабина очень удивилась. — Вы родственник того самого Шабтая Цви?!
— Да, пани. Наши отцы родные братья. А по одной из линий семья Цви пересекается с царем Давидом. Если кого и ставить на иерусалимский престол, то кроме меня и Шабтая никого не найдете. Мы одни такие остались, всех остальных мальчиков из рода Давида убил выродок Ирод, сын раба и к тому же гой. Вы, наверное, припоминаете эту печальную историю?
— Припоминаю — ответила Сабина. — Но почему вы называете себя турком?
— Сложно сказать — смутился Леви. — Вы часто говорите, что можете претендовать на польскую корону? Стыдитесь этого, стесняетесь?
— Иногда, — призналась польская аристократка, — тяжело ощущать свою избранность. Все вокруг плебеи, а ты — голубая кровь.
— Вот и я не люблю в этом признаваться. Царство мое принадлежит султану, дворец разрушен, корону и то переплавили. Какая уж мы аристократия! — сказал Леви. — Турком, знаете ли, проще. Не чувствуешь груза ответственности. Давайте лучше я вас поцелую.
— Но погодите — пани тонкой ручкой отстранила голову Леви, уже приближавшуюся к ее лицу, — как же нам быть? Кто нас обвенчает?!
— Ватикан не согласится — произнес Леви. — Я мусульманин, вы католичка. Лет сто назад здесь сожгли армянина и его любовницу-польку. За беззаконную страсть. А они ведь были христианами, только из разных церквей! С тех пор мало что изменилось.
— Это правда. Единственный выход, — сказала Сабина, — это уехать отсюда. У меня есть имение под Каменцом, его захватили турки, и христианские законы там не действуют. Пока не действуют. Если Собесскому придет мысль отбить у турок и те края, то мной и тобой, Леви, займется святейшая инквизиция.
— Надо торопиться, пани — предупредил ее Леви. — Уедем как можно скорее.
— Уедем, Леви — Сабина прильнула к нему.
Фиолетовый поворызник ехидно вынырнул из своего укрытия, но никого, кроме красивой польки и невысокого, хромающего турка в тюрбане, не увидел. Они удалялись из львиного города, чтобы всегда быть вместе.
Поворызник пополз за Сабиной, намереваясь цапнуть ясновельможную кралю в нежную пяточку, но влюбленные спускались с Кальварии быстро, и вскоре совсем скрылись с горизонта.
24. Такие разные львовяне. Травля рабби Коэна
… Поздней осенью 1675 года, когда Ян Собесский радовался изгнанию воинов Блистательной Порты, турчанка Ясмина родила Фатиху сына Ахмеда.
Мальчика записали в большую книгу жителей Поганки-Сарацинской, которая хранилась почему-то в городском магистрате.
Фатих внес малыша в кабинет, где сидел польский чиновник, пан Ухвятовский.
— Фамилия? — спросил пан.
— Кёпе — ответил Фатих.
— Имя?
— Ахмед.
Ухвятовский вздохнул, и, скривившись как от зубной боли, произнес длинную тираду.
— Вот, смотрите, панове, какие у Львови громадяне нарождаются! Кого я сегодня я записал! Ахмеда Кёпе, Джузеппе Валтисио, Сурена Аграмяна, Марысю Ярузельску и Шолома Бескина, а так же Ивана Сидорова и Янину Городецкую. Где, я спрашиваю, шляхта?! Где отпрыски Потоцких, Вишневецких, Володыевских? Это не детишки, а сплошное кровосмесительство! Пан уже занес кулак, чтобы стукнуть им по столу.
Дверь распахнулась, и в кабинет тихо вошла высокая женщина.
Фатих не обратил бы на нее никакого внимания, если бы не одна деталь: она была с шоколадного цвета кожей, белейшими зубами и копной искрученных спиралями черных жестких волос.
— Юзя, — сказала негритянка пану Ухвятовскому, — а чего ты не обедаешь? Сидишь тут с утра голодный!
— Это Маурика, моя супружница — расплылся в улыбке Ухвятовский. — Из Венеции привез, она невольницей была, попала в служанки, а я сжалился и выкупил.
— Детишки-то у вас есть? — поинтересовался любопытный Фатих.
— Трое, ответила лучезарная уроженка далекой Африки — Казя, Яся и Адам.
Фатих развернул одеяльца и вытащил голенького младенца.
— Смотрите, какой беленький крихитка! Не то что наши — щеткой не отчистишь. — удивился пан Ухвятовский.
— Чистый турок — улыбнулся Фатих.
… Леви Михаэль Цви уже обдумывал, кому продать лавку и мечтал побыстрее переехать в имение пани Сабины под Каменцом, где ему бы жилось намного вольготнее, но обстоятельства снова оказались сильнее.
Вернувшись с Кальварии, пани Сабина узнала, что ее пропавший без вести муж Гжегож жив.
А рабби Нехемию Коэна львовские евреи изгнали с поста главы общины.
Если бы только это. Его пытались приговорить к архаичнейшему из всех наказаний — к съедению собственного языка, приготовленного на огне со специями. Врагов Коэна, бывших одновременно друзьями Шабтая Цви, воодушевило признание мудрецов Талмуда: злоречие — лашон ра — хуже вероотступничества, скотоложства и прелюбодеяния, вместе взятых.
И раз злой язык Коэна привел к непоправимым последствиям, значит, он должен быть отсечен, изжарен и проглочен самим же Коэном.
Намеки на применение этого жестокого ритуала противники Коэна обнаружили в йеменском трактате, никогда еще не переводившемся, и поспешили применить в Львове, упорно считавшимся европейским городом.
Правда, имелась одна загвоздка: рабби Нехемия должен был сам попросить старосту общины отрезать ему язык в знак наигорьчайшего раскаяния.
А заставить Коэна признать свою неправоту — это все равно что уговорить каменных львов плясать, занятия одинаково бесполезные. Но нет таких сложностей, с которыми бы не справилась еврейская диаспора!
Коэну решили создать невыносимые условия существования.
Переход от всеобщей любви и поклонения к всеобщей же травле и презрению произошел мгновенно. Нехемии припомнили все — и что в турецкие хроники он попал как мусульманин, и что сначала поддерживал Шабтая Цви, соглашаясь с великим дедом Давидом Алеви, и что всегда стремился единолично управлять общиной.
Коэн никогда не обращал внимания на мнения других — осуждали его.
Коэн расходовал общинные деньги не так, как нужно.
Коэн врал нам насчет той истории с турками.
Коэн полдня проводил на Поганке.
Коэн сочувствовал еретикам-караимам.
Коэн плохо воспитывал своего сына Менделя, раз он сбежал к иезуитам.
Если Нехемия приходил в еврейскую пекарню, ему не продавали кошерного хлеба. Если Нехемия молился в синагоге Нахмановичей (которую позже назовут «Турей захав» в честь книги его деда), все отворачивались.
Он плакал один, смотря на биму, куда больше никто из Коэнов не взойдет.
Еще неделю назад евреи считали за честь накладывать тфиллин рядом с ним, а теперь Коэна окружала пустота. Шойхет перестал приносить в дом Коэнов кошерное мясо. Его жену Малку женщины чуть не столкнули с галереи синагоги. Мальчишки бегали за старым раввином наперегонки и, догнав, ядовито спрашивали, почему он не таскает с собой молитвенный коврик. Сплетни о мнимом его мусульманстве никогда не исчезали, но еще недавно такие шутки были немыслимы. Голодный Нехемия Коэн вынужден был покупать еду на Поганке, в лавках, где висела криво намалеванная табличка «халяль», хотя он всегда уверял, что мусульмане режут птицу неправильно, а говяжьи и бараньи туши разделывают вообще кошмарно.
— Брахат ахад ло маспик[30] — пытался объяснить он турку, но турок рабби не понял.
— Я как положено, с бисмилла всю живность режу, не придирайтесь! оправдывался мясник.
Расчет евреев был верен: довести сильного духом каббалиста до такой степени отчаяния, когда он будет готов понести любые мучения, вплоть до смерти, лишь бы избавиться от преследований со стороны своих же единоверцев. Он приползет, умоляя на коленях отрубить язык и поджарить! Будет мести бородой грязные мостовые, валяться в ногах, целовать краешки ботинок, и сам выложит язык на плаху.
Но соперники Коэна забыли одно: рабби Нехемия, человек открытый и мудрый, за свою долгую жизнь успел приобрести друзей за пределами еврейского гетто. Его знали турецкие и татарские торговцы с Поганско-Сарацинской, армяне, греки, не забывшие покровительства караимы, которых Коэн однажды спас от изгнания. Нехемии было куда идти.
Поэтому, устав встречать неодобрительные взгляды на Староеврейской улице, Нехемия перемахнул во двор семьи Кёпе. Как обычно, он пришел в лавку Селима посмотреть, не привезли ли новую партию манускриптов и не завалялись ли редкие предметы еврейской старины. Покупать, правда, Нехемия Коэн не собирался: денег у него уже не было. Но изменять привычке Коэн не рискнул. Затренькал колокольчик, несмазанные дверные петли скрипнули, и рабби проскользнул в приятный полумрак.
— Салям алейкум! — это Фатих подменял заболевшего отца.
— Алейкум ассалям — ответил Нехемия. — Фатиху, как здоровье почтенного Селима?
— По-прежнему, хахам-баши[31], сказал Фатих, — по-прежнему…
— Я больше не хахам-баши, поправил его Нехемия, — зовите меня теперь просто хахам…
— Ну что вы! — Фатих удивился. — Я еще мальчишкой носился по Поганке, дразня котов, а вы уже были хахам-баши. Оставайтесь им и сейчас. Для нас рабби Нехемия Коэн всегда хахам-баши. А еврейские размолвки — дело временное.
— Спасибо, утешили — раввин грустно вздохнул. — Знаете, что за казнь они мне придумали? Съедение собственного языка, пожаренного на масле со специями!
— Ужас! — Фатих представил, как шипит раскаленное масло, а в середине большой сковороды сморщивается клок мяса, бывшего когда-то знаменитым языком Нехемии Коэна. Это они по вашему закону придумали, по шариату Мусы[32]?
— По дурости — сказал рабби, шариат тут не причем. Откопали какой-то сомнительный трактат, якобы один раввин в Йемене 300 лет назад приговорил другого раввина за клевету к этой изощренной казни. Йеменская школа вообще странная, они и свинец вливают за клятвопреступление, и камнями побивают за блуд.
Рабби помолчал немного, потом добавил:
— Боюсь, что потом эта разница приведет к большим бедам. Прямо вижу мальчика, из приличной йеменской семьи, который… нет, не буду портить вам настроение, Фатиху, не буду.
— Вы видите будущее?
— Не вижу, а предполагаю. Из плохих семян наивно ждать хороших ростков.
— Да. — Фатих посмотрел в окно. Над входом в лавку мелкий львовский дождь поливал зеленое полотнище с белой арабской вязью, означающей — джихад Ляхистану объявлен. Было время, я тоже мечтал о славе и вот к чему пришел: как жили под христианами, так и живем. Нам опять налоги подняли.
— И нам.
— Собесскому дорого обошлась эта победа, вот и дерет со всех.
— Мне не себя, мне Львив жалко — произнес рабби Нехемия. — Век за веком здесь селились лучшие каббалисты Европы, сочиняли поразительные книги, учили своих сыновей. В нищете, в унижениях, под приглядом изуверов, они открывали тайны Творения, облекаясь не в бархатную мантию с золотыми звездами, а в убогое рубище, испещренное мелкими дырочками.
Мы не всегда находили масла, чтобы пожарить на обед кусок рыбы, но зато заправляли лучшим оливковым свои ханукальные светильники и большие меноры в синагогах. А сейчас я, старик, стоящий уже перед судными вратами, с ужасом вижу, как евреи сходят с ума, готовясь потратить дорогое масло на жарку моего языка…
Фатих смущенно молчал, стоя у прилавка.
— Это моя вина, — продолжал рабби Нехемия, — я виноват в том, что дожил до такого. Надо было мне умереть. Прав Осман Сэдэ, когда предлагал удавиться на своем цветном шнуре.
— Не говорите так.
— Увы, увы. Иудейский Львив прославится в веках не постижением Каббалы, а распрями. Мы каждый день кого-нибудь осуждаем, кому-нибудь объявляем херем, про кого-нибудь злословим. Мы евреи, нация раскольников. Вот вы, мусульмане, едины. Как джихад Собесскому объявили, встали как один и поскакали туркам помогать. А мы три часа в синагоге Нахмановичей спорили, чуть ли не за бороды таскали, кого поддержать, поляков или турок?! Кажется, в арабском языке есть слово, похожее на наше древнее «питнот», распри?
— Фитна — распря — вспомнил Фатих.
— Именно это. Львив будет городом фитны. Не только еврейской — всеобщей. От чего мне больнее всего. Так хочется мира, покоя, согласия!
— Поэтому вы Шабтая Цви преступником назвали?
— Поэтому. Боялся, что, верни он Израильское царство, начнется война с турками, арабами, персами. Я считал Шабтая авантюристом. Б-г свидетель, я ошибся. И за это действительно надо язык отсечь.
— Не надо — Фатих испугался, как рабби Нехемия будет жить без языка.
— Ничего, мне пришьют змеиный — пошутил Коэн. — А теперь пойду. Нет, не язык резать. Домой. К Малке и 11 коэнятам. Надо же их подымать.
— Вы держитесь, хахам-баши — сказал на прощание Фатих. — Турки на вас зла не держат.
— Еще не хватало евреям с турками поцапаться, тогда совсем конец бы настал — вяло улыбнулся Коэн.
Дождь усиливался, и зеленое полотнище несостоявшегося джихада висело мокрым как тряпка. Звеня браслетами, по Поганке прошла Ясмина, держа на руках толстощекого Ахмеда. Рабби Нехемия Коэн быстрыми шагами пошел обратно в гетто. После разговора с Фатихом он впервые почувствовал себя не совсем проигравшим.
25. Святые грешники Бекташи. Благородная птица «хасида». Алия
"Когда время покоя — покой; когда время сотрудничества — сотрудничество; где нужно усилие — усилие."
Суфийское изречение.Стража разрешала Шабтаю Цви немного походить по вытоптанному тюремному дворику, но лишь тогда, когда начальство не видело. Все остальное время он проводил взаперти на верхнем ярусе башни Балшича. Разжалованного Мессию выводили темной лестницей в сжатое пространство, отгороженное высокими стенами. Внизу была ржавая, плотная земля, а вверху — невозможно голубое небо. Изредка по каменной стене проползала юркая медная ящерица, останавливалась, в тревоге поднимая маленькую змеиную головку, и, вскользь посмотрев на Шабтая, убегала. Ни кустика, ни деревца, ни цветочка. Здесь, на политой кровью казненных за плохое поведение узников земле, даже трава не росла.
Но однажды в железные ворота тюремного дворика постучал дервиш ордена Ходжи Бекташи. Он был пыльный, оборванный, с посохом в смуглой руке и в остроконечной шапке, на которую зачем-то пришил яркую тряпицу. Рубище дервиша подпоясывала живая змея, держащая в изящном ротике длинные чётки из черного агата.
Дервиш вежливо поклонился стражникам и сказал:
— Мир вам.
— Мир тебе, добрый странник. Кого ищешь в нашей мрачной темнице?
— Мне нужен Хызр — ответил дервиш.
— Такого не держим — возразил стражник. — У нас есть только Азиз Мухаммед Цви, преступник, посягнувший на власть султана.
— Он и есть Хызр — уверенно произнес дервиш. — Позвольте мне его увидеть.
Стражники посовещались и осторожно впустили дервиша в тюремный дворик.
В отдаленном углу он увидел высокого, красивого мужчину.
Лучи солнца падали так, что зеленый халат и зеленый тюрбан Шабтая Цви казались светящимися волшебным сиянием. Тайный учитель Мусы, в ряде иудейских и мусульманских эзотерических трактатов, называемый Хизр (Хызр), покровитель всех ищущих Света, муж, одетый в зеленое.
Никто не знает, кто он. Забытый пророк? Существует поверье, что Хызр живет столь же долго, как вечный жид. Он помнит египетских фараонов, успел славно погулять с самим Искандером Зулькарнайном[33] в Среднюю Азию. На сломе эпох, когда умирают последние умные люди и пытливым юношам не от кого становится черпать знания, Хызр является в этот мир. Встретить мужа, облеченного в зеленые одежды дано единицам. Хызр является, когда его перестают ждать. Его не призывают — Хызр приходит сам, в наиболее неподходящий для этого момент.
Дервиш упал перед Шабтаем Цви на колени.
— Святой учитель Хызр, поделись со мной своим светом! — взмолился он. — Я и не мечтал увидеть тебя…
— Бедный дервиш, — ласково сказал Шабтай, — встань с колен. Великим не нужны унижения малых. Встань, встань! А то змею свою задавишь.
Дервиш поднялся, смотря на Шабтая с уважением и страхом. Живая змея тоже любопытно взирала ему под ноги, сверкая черными бусинками глаз. Чётки из пасти она не выронила.
— Я научу тебя, — обещал Шабтай Цви, — только верь мне, как веришь себе. Может, мои слова и деяния покажутся тебе странными, но не бойся этого. Как зовут твою змею, дервиш? — спросил Шабтай.
— Мою змею?! — удивился тот, — никак не зовут.
— Нельзя так, — поучительно сказал еретик, — Адам дал имена всякой живности, включая червей, а ты не удосужился подобрать имя змее, которая держит твое ветхое одеяние. Я назову ее Шфифон.
— Шфифон — хорошее имя для моей гадючки — улыбнулся дервиш, оставшийся пока безымянным. Учитель Хызр ему понравился.
… Так Азиз Мухаммед Цви стал наставником одного дервиша, ученики которого затем создали новый орден, мусульманский и иудейский одновременно.
Летом 1675 года Шабтай Цви отправил этого дервиша проповедовать в Львив, чтобы он нашел Леви и подготовил почву для открытия нового текке (обители) в окрестностях города. Дервиш с радостью взялся исполнять поручение того, кого он совершенно искренне считал Хызром.
Он искупался в холодной реке Осумь, напялил новую хламиду, правда, тоже дырявую, но почище, подвязался Шфифоном, водрузил на голову другую шапку и сказал: я готов.
— Молодец, — обрадовался Шабтай Цви, — а теперь иди в Львив. Пешком. Ты не должен садиться ни на коня, ни на осла, и уж тем более на мула. Применять силу я тебе тоже запрещаю.
Но меня же поколотят! — хотел сказать он.
Учитель прочел его мысль и ответил:
— Пусть, тебе это даже пойдет на пользу. Настоящий дервиш — битый дервиш.
И дервиш пошел. Ему не преградили дорогу Балканы и Карпаты, бурные реки с сильными течениями, омуты и болота, лихие люди и кровожадные волки. Он не держал во рту ни росинки по несколько дней, глодал кору, спал на голой земле, падал в пропасти, садился в темноте на муравейник, был трижды укушен барсуками, когда в ливень пытался спрятаться в их уютные норы, устланные сухими и мягкими травами. Дервиша били мальчишки, потому что приняли его за беглого инока из христианского монастыря. Дервиша чуть не забодали до смерти косули, объевшиеся ядовитых грибов, в пути он стер пятки едва ли не до костей, но все-таки дошел до Львива.
Ранним зимним утром в конце 1675 года, аккурат перед Рождеством, на заснеженной улице появился босой нищий. Он стал прямо на паперти костела Марии Снежной и протяжно запел древний псалом, пританцовывая, прибавляя в конце каждой фразы — подайте страннику на пропитание.
Выходившие с утренней мессы католики заслушались его мелодичным голосом. Желающим дервиш показывал глубокие следы барсучьих когтищ на своих руках и ногах, уверяя, будто их нанесла громадная птица Рух.
— Она предпочитает питаться слонами! Монахи у птицы Рух идут на сладкое, мясо их жирно и нежно — засмеялись горожане, ничего ему не подав.
— Красиво поет — сказала одна паненка и вытащила бархатный мешочек, где лежали злотые. — На, странник, злотый, помяни меня в своих молитвах.
— А ей?! — дервиш показал рукой на змею, ежившуюся от легкого морозца, она тоже кушать хочет!
— И тебе злотый, змейка!
Шфифон радостно схватил монетку пастью, спрятав за щекой.
— Забавно! — возмутились другие попрошайки с паперти Марии Снежной, — эдак он нас совсем без выручки оставит!
Они окружили дервиша и хорошенько его поколотили, приговаривая:
— Это наше место, это наша паперть!
Избитый, без двух злотых, которые у него в драке отобрали, дервиш со змеей уныло брел по холодному Львиву. И правильно они меня отдубасили, размышлял он, собирать подаяние для Бекташи — последнее дело. Я ведь умею предсказывать будущее, пускать кровь и заговаривать боль. Неизвестно, что было с ними дальше, закоченел бы от холода, наверное, если б не Леви Михаэль Цви, узнав дервиша по клочку ткани, нашитому на шапку.
— Бекташи! — удивился он, — здесь?! Босой?! Тоже мне, странствующий кармелит выискался! Львов — это не теплая Албания, ноги отморозит! Хоть бы чулки напялил, чучело бекташийское!
Леви догнал дервиша, и, выпытав подробности, устроил ему теплое место в том же доме, где жил. Дервиш рассказал о Шабтае Цви немало интересного: что стража приняла его за колдуна, выполняет иногда мелкие поручения, но не за деньги, а из суеверия, боясь, как бы Шабтай не сглазил их, что он подружился с ласточкой и прикрепил на ее светлое брюшко записку для своих друзей в Иерусалим. Но не упомянул, чтобы тот получил трактаты Эзры д’Альбы и высчитал дату своего возвращения.
Это странно, поразился Леви, я заплатил большие деньги, а рукописи все не дошли.
Но, наверное, Шабтай не захотел делиться со своим учеником сокровенным, ведь манускрипты д’Альбы касаются только нас, или забыл сказать об этом. Всю зиму дервиш прожил на Поганке, помогая своим странным обликом заманивать покупателей в лавку Леви. Дела его шли плохо: многие богатые клиенты обеднели или даже разорились после осады Львива, кое-кто даже стал погорельцем: несколько преуспевающих греческих купцов, подумав, что турки вот-вот вломятся в город, спешно пожгли склады. Паника прошла, но имущество не вернешь, все обратилось в пепел. Горело и еврейское гетто. Три дома с Татарской улицы магистрат передал армянам, так как прежние владельцы ушли с армией султана под Каменец.
Ходили слухи, будто скоро из Львива выселят всех мусульман, кроме крестившихся в католичество, Турецкую мечеть превратят в костел, а Поганку сделают либо греко-армянским, либо мещанским польским кварталом. Татарские ворота собирались разрушить: шутники увесили их на Рождество черными от гнили свиными головами, которые, как считалось, переносят холеру. Снегу навалило столько, что поутру дервиш с трудом открывал дверь. Жутко подорожали дрова, хворост, свечи. Той зимой в Турецкой мечети по мольбам замерзших молящихся соорудили печку, облицованную гуцульскими кахлями (синие завитки на белом фоне), затем похожие печки стали строить во многих богатых домах за пределами Поганско-Сарацинской улицы.
— Когда же настанет весна? — поинтересовался у Леви пригретый им дервиш.
— Неужели тебя не согревает внутренний огонь?
— Здесь ужасная погода — ворчал адепт Бекташи, — это самое противное из всех испытаний, что выпадали на мою долю. Гораздо лучше было лежать голышом в карпатском муравейнике. Да и у барсуков в норе тоже было весело, под теплыми шерстяными боками. Правда, они кусаются пребольно…
— Не жалуйся! — разозлился Леви, — вот прилетит благородная птица, называемая хасида, тогда будет тепло.
— А что это за птица? — удивился дервиш.
— Аист. Она изящная, с длинными тонкими ногами и красивым узким клювом. На своих крыльях аисты приносят весну. Тогда мы поедем на старом возу по окраинам Львива, где возникнет галицийское текке. Я покажу тебе водопады, рассыпающиеся алмазными каплями, древние папоротники на замшелых валунах, черных саламандр, смазанных ядом, кручи и курганы, заросшие фиолетовыми крокусами, лавандой, мятой.
— Неужели они вырастут после такого снега?
— Вырастут. И то, что посадим мы, тоже прорастет и зазеленеет! — убеждал дервиша Леви.
— Махровыми цветами?! Как крокус?!
— Махровыми, бекташи, махровыми. А сакральным знаком этого станет благочестивый аист, птица добрая, заботливая. Может, в честь нее и назовут наш новый орден.
Польский каббалист Иегуда, прозванный позже ха-Хасид поверил в скорое наступление эпохи чудес и основал группу "хасидим", благочестивых. Произошло это вскоре после прибытия в Львив дервиша Бекташи, когда разрозненные общины саббатианцев находились на грани отчаяния.
Одни верили Шабтаю Цви, предсказывая его возвращение в 1706 году в городе с львиным гербом. Другие, не желая даже упоминать имя вероотступника, искали новые пути приближения дней избавления. Подражая аистам, странствующим птицам, каббалист Иегуда путешествовал из города в город и в синагогах, со свитком Торы в руках, призывал народ к плачу, покаянию, непрерывным постам, чтобы ускорить пришествие Мессии. У него оказалось много последователей, которые, бросив семьи, возложили на себя тяжкие обеты, скорее уместные для христианских отшельников, чем для иудеев. Испытания, которым подвергались дервиши ордена Бекташи, казались аскетам — «хасидам» слишком легкими.
Бекташи, говорили поклонники Иегуды, выбрали самое простое — добровольное безумие.
Подумаешь, переночевать в обитаемой барсучьей норе, это не испытание! Они изображают юродивых во имя Всевышнего, но сомневаемся, что такой обман угоден.
— Сходить с ума надо правильно! — решили наиболее рьяные «хасиды».
Они стали скитаться полураздетыми и босыми, не оставаясь на одном месте больше двух дней, называя это вечным странствием. Подолгу постились, почти целыми днями читали покаянные молитвы, где обличали себя самыми бранными словами. Народная молва рассказывает о раввине Шимшоне, голодавшим около 6 лет и умершем в полном истощении. Его тело ничем не отличалось от мощей. Нашлись те, кто уверял, будто католики ночью вырыли только что похороненного раввина Шимшона из могилы и отвезли в одну из обителей. Затем исхудалый труп разделили на части, чтобы заменить ими мощи христианских святых. (История совершенно бредовая, но точно выражающая настроения галицких евреев)
Другие «люди-аисты» решили пойти пешком в Иерусалим, завернувшись в белые саваны, чтобы напугать турецкого султана и заставить его отдать евреям Эрец Исраэль. Если бы эти странники заранее спросили у христиан, то узнали, что подобные «крестовые походы живых мертвецов» уже не единожды проваливались, а турки ничуть не боялись пилигримов в саванах и продавали их в рабство. Но они не стали спрашивать, пошли налегке в сторону Валахии, надеясь через пару лет, минуя Трансильванию, Балканы и Адриатику, попасть через Средиземное море на Ближний Восток[34].
По дороге к ним присоединялись все новые и новые люди, странники шли, распевая псалмы, держа вышитые шелком знамена со львами, оленями и оливковыми ветвями. Свой поход фанатик Иегуда объяснял как «алию», восхождение евреев из болота рассеяния на прекрасные холмы утерянной Родины. Сами скитальцы называли себя «олим» — совершающие восхождение. Большинство «олим» не достигли Святой Земли, сгинув в дороге. Иегуда ха-Хасид умер в Иерусалиме через три дня после того, как его иссохшая левая нога ступила на Масличную гору. Правую ногу ему отрубили топором в глухой арабской деревне, так как каббалиста нечаянно укусил скорпион, и началась гангрена. Опираясь на костыль, Иегуда воплотил свою мечту. Похоронив его, паломники разбрелись по всему Востоку.
Часть их влились в общины еврейских мусульман «денме», часть осталась в Тверии и Цфате изучать лурианскую Каббалу, несколько совсем отчаянных присоединились к еврейскому племени бедуинов «рехавия», решив дожидаться Мессию поближе к Иерусалиму. Они кочевали на верблюдах, и, если б не иврит, ничем другим не отличались от арабских соседей.
Но, несмотря на это, движение благочестивых продолжало развиваться…
26. Возвращение пана Гжегожа. Выбор Сабины
История, приключившаяся со шляхтичем Гжегожем, может показаться невероятной, но она была на самом деле. Когда счастливый пан вышел из костела с юной супругой и услышал о нападении турок, Гжегож подумал, что отлучка его не будет долгой. Вылазки небольших турецких отрядов в Подолию тогда происходили достаточно часто, иногда по несколько раз в месяц, шляхта стремительно отбрасывала турок к одним и тем же рубежам, допуская лишь мелкие стычки. Опасного боя никто не ожидал.
— Быстренько выполню свой долг, отгоню турок с татарами, чтобы они не посмели пойти дальше, к Львову, — обещал он, — и сразу же вернусь к семейному очагу. Это дело трех-пяти дней, дорогая.
Пани Сабина кивнула. Ей оставалось только наблюдать, как муж садится на коня и исчезает. Все эти три года о пане Гжегоже не было никаких вестей. Его не объявили ни мертвым, ни живым, не встречали среди пленных, но и не находили мертвого тела.
И вдруг, внезапно, как гром среди ясного неба, пан Гжегож вернулся живым, но с перерубленной острым клинком левой рукой, ставшей сухой, тонкой, слабой. Не было при нем и старинной, еще прадедовской, сабли, черного арабского скакуна, да и одежда вся с чужого плеча, не по росту, рукава длинные, рубаха широкая, сапоги тесные, шитые не на его большую ногу. Первыми, кто увидел Гжегожа после исчезновения, стали родители Сабины, коротавшие зиму в имении около Злочева. Потерянный зять приехал к ним в поздний час, даже не стучась в дубовые ворота, а тихонько проникнув сквозь тайную калиточку. Осторожность Гжегожа понятна: человеку, возвратившемуся от турок, лучше не показываться на глаза святой инквизиции и отцам иезуитам, коими кишел Львив.
Да и старые друзья могли испугаться, решив, будто Гжегож восстал из мертвых, если он явится перед ними, не предупредив заранее.
Родители пани Сабины сделали все, чтобы поскорее развеять опасения Гжегожа, будто за эти несколько лет, проведенных в местах, взятых турками, ему придется расплачиваться подозрениями в предательстве.
— Ты ни в чем не виноват, — заявили ему тесть и теща, — ни перед нами, ни перед Сабиной. Если же из-за этого у тебя будут какие-нибудь неприятности, то мы их уладим, не переживай! Только расскажи нам честно, ничего не утаивая, обо всех своих испытаниях.
— Что вы, я обманывать не буду, да и все случившееся трудно выдумать — сказал Гжегож. — Мы обороняли каменный мост, единственную переправу на другой берег бурного, разлившегося после весенних паводков, ручья, начал он свою историю. Брода поблизости не было. Местные жители ничем не смогли нам помочь, они подходили, мерили глубину шестами, и огорченно говорили, что из года в год эта река мелела, была ручьем, а в ту весну ее как никогда раньше переполнили талые воды. Только по мосту пройти можно, только по мосту. А его отчаянно, даже с остервенением и злобой, удерживали турки, не пропуская никого. Проходит день, второй, третий. Искали брод и ниже, и выше по течению — бесполезно. Воды в той проклятой реке все прибывает, плыть нельзя, течение сильное, и камни, камни!
Тогда, разъярившись, пошли мы на турок конной атакой, все вместе, с саблями, с криками, с гиканьем, лишь бы с моста их сбросить. Завязалась схватка, горячая, сильная, но недолгая. Много шляхтичей было ранено, немало и турок полегло, но с моста они не сдвинулись, ни на шаг. Вынуждены были немного отойти от моста, перевести дух. К вечеру вновь мы к мосту подошли — а мост тот крепкий, широкий, два обоза свободно разъедутся, колесами не сцепившись, и продолжили отгонять турок.
Рубился я с одним турком долго, до кровавого пота, но все уходил он от моих ударов, пригибался, отскакивал, уклонялся. Устал я неимоверно, весь в изнеможении — а тут другой турок ему на подмогу подоспел, ударил меня по голове ручкой своей кривой сабли, потом еще обоюдоострым мечом полоснул, раздвоенным, как змеиное жало.
Пан Гжегож отхлебнул из фарфоровой чашечки травяной настой, и, промокнув батистовым платочком выступившую на лбу испарину, продолжил свою историю.
— Я потерял равновесие, голова закружилась, в ушах зазвенело, в глазах потемнело — и свалился с моста в ледяную воду, да еще и о камни стукнулся. Но не захлебнулся, нос над водой держал, хотя сил становилось все меньше и меньше, а течение бросало меня из стороны в сторону. Холодная вода остановила кровь, но слабея, не сумел уцепиться ни за опору моста, ни за подводные камни, и меня отнесло потоком. Удивительно, что не утонул.
Пришел в себя только несколько дней спустя, в жалкой хижине лесничего, чернобородого отшельника Якуба, назначенного тогдашним владельцем этих мест, коронным гетманом Сенявским, следить за его лесами, чтобы никто в них не рубил и не охотился. Далеко меня забросило от каменного моста, далеко, я не ожидал, что окажусь оторванным ото всех, в глуши, да еще и с тяжелой, требующей долгого лечения, раной.
А о том, что Подолия, вместе с Хотином, Каменцом и Меджибожем стала владением султана, он мне даже сказать не пожелал.
— Наверное, чтобы ты не волновался понапрасну — предположил тесть, — представляю, каково это — очнуться под турками! Которых, казалось, уже изгнал! Мы вот так тоже проснулись без каменецкого имения…
— Якуб — даром что человек скрытный, отшельник, не желающий ни с кем общаться — слыл там за знахаря, хотя лечить брался редко, — сказал Гжегож. — Думаю, меня он вытащил из воды не из жалости, а в надежде, что за спасение богатого шляхтича получит щедрое вознаграждение. В домишке этого странного человечка, больше похожего на привидение, чем на лесника, я чувствовал себя спокойно. Турки туда вовек не заглядывали, ага с янычарами разместились в Меджибожском замке, а в лекарском умении Якуб был не хуже дипломированных докторов, тех, что разъезжают по имениям с алхимическими сосудами, полными пиявок, и устрашающими наборами для кровопусканий.
Если бы этот Якуб не отсиживался в лесу, охраняя чужие угодья, он, наверное, стал бы вторым Менахемом Эммануэлем де Йоной, что пользует Яна Собесского. Турок едва не перерубил мне руку, разрезав сухожилия, задел кость, поэтому лишь искусство Якуба сохранило ее.
— Постепенно, — вспоминал пан Гжегож, — я выздоравливал, хотя рука болела, и еще несколько месяцев не мог ее согнуть. Оглядываясь по стенам его хижины, не заметил там ни распятия, ни изображения Девы, вообще ничего, что украшает дома даже самых бедных католиков, и спросил об этом Якуба.
Тот пробурчал мне нечто непонятное, мол, если вам нужно лечение, то не стоит обращаться к ксёндзу, а если вам нужна молельня, то не надо искать в ней лечения. У меня сразу же появились нехорошие предчувствия, что Якуб либо еретик, либо чернокнижник, это одинаково дурно, бросало тень на все его травки, примочки и мази. Остальное — завтра, я очень хочу спать.
— Уже поздно, Гжегож, — зевнула пани.
На следующее утро, ожидая карету, Гжегож признался, что лесничий Сенявских, Якуб, точно вел дела с нечистым. Потому что вместо пары-тройки месяцев, вполне достаточного срока, чтобы оклематься после тяжелой раны, пан Гжегож провел в его хижине больше трех лет!
— Я не замечал течения времени, — оправдывался он, — думал, что прошло два месяца, а, оказывается, застрял на три года! Может, Якуб поселился в ведьмином круге?!
— Инквизиторы тебе не поверят, Гжегож, обвинят в причастности к черным деяниям этого Якуба. Сейчас все друг друга в измене винят. Лучше переждать еще немного — решил отец Сабины.
Ясновельможной красавице, когда она узнала о возвращении мужа, пришлось выбирать между беззаконным счастьем с Леви и законным несчастьем с Гжегожем, человеком, которого она почти не знала.
Сабина колебалась.
— Убежать в Подолию с любимым, чтобы заслужить проклятия родных, лишиться наследства?! Забыть Леви, став верной женой Гжегожа — и до последнего своего земного часа жалеть, что в ее жизни никогда не было любви?! Нет, я так не могу — призналась паненка, положив холеные руки на плечо еврейского турка Леви. — Гжегож и по закону, и по правде не муж мне. Любой епископ объявит этот брак недействительным. Если бы я не любила тебя, тогда бы осталась с мужем. Но я люблю, люблю, люблю…
— А ведь турки, в стране которых я родился и вырос, отняли у тебя, пани, каменецкое имение! Они ободрали шелковую обивку со стен, увезли ее в подарок султану, прихватив еще немало золота и серебра. Ограбили семейный костёл, переплавив чаши на подвески, кольца и браслеты, выковыряли драгоценные камни и жемчуга. Это люди, чью веру я исповедую, пани! Подумай, что ждет твоих близких, если ты убежишь со мной, еврейским мусульманином Леви Михаэлем Цви. Тебя объявят мертвой, а одно твое имя станет символом позора.
Сабина посмотрела на Леви.
— У тебя такие же карие глазищи, как и у меня — сказала она. — Если б ты был чужим мне, откуда такие глаза? В них отражается моя душа, Леви, в них живу я! Или ты хочешь, чтобы я умерла без тебя?!
— Нет, Сабина, не хочу, — ответил Леви, — но я знаю, как нам можно быть вместе. Няня рассказывала тебе сказку о принцессе, уснувшей мертвым сном, и о храбром рыцаре, разбудившем ее?
— Да, Леви, я слышала эту сказку. Злая колдунья подсыпала ей сонное зелье, принцесса лежала в хрустальном гробу, подвешенном на цепях в пещере. Шли годы, а она была словно живая: алые губки, розовые щечки — прошептала Сабина, холодея от страха. — Но ведь такого зелья нет, Леви!
— То зелье продается в аптеке герра Брауна «Под серебряным оленем». Ты купишь флакончик, выпьешь все его горькое содержимое на ночь и не проснешься. Но этот сон не будет похож на смерть, пани. Ты будешь дышать редко-редко, сердце будет биться, кожа станет чуть теплой, и это продлится несколько дней. Когда я разбужу тебя, мы будем уже в Каменце, и ни один христианский король не посмеет мне помешать жениться на пани Сабине из рода Пястов. Вот, смотри, как называется это зелье.
Леви вытащил из подкладки халата смятую бумажку, на которой четкими буквами было написано на латыни научное название сонной отравы.
— Герр Браун хорошо разбирается в этом, ты просто подашь ему эту бумажку, он все поймет.
— А как же ты заберешь меня из дома? — удивилась Сабина.
— Придумаю что-нибудь — убедил ее Леви. — Я могу переодеться знахарем и унести тебя на руках, чтобы в полном уединении провести оживительный обряд, прогнать сон. В горе родители вряд ли станут мне мешать, они уцепятся за эту соломинку, считая, что ради твоего спасения надо соглашаться на любые способы лечения. Я понимаю, насколько это нехорошо, но ведь ты очнешься…
— А если нет? Если аптекарь что-то перепутает?
— Зелье безопасно, пани, я сам несколько раз его принимал и не умер. Там намешаны восточные травы, сушеные пауки, змеиные сердца. Гадость, конечно, но ради нашего счастья, думаю, можно проглотить и вяленую лягушку. Я скажу тебе, когда будет все готово, и тот же вечер ты выпьешь сонного зелья.
— Согласна, — сказала Сабина и побежала прочь.
27. Новые испытания рабби Коэна. Инквизиция возобновляет следствие
В «асире»[35], маленькой комнатке при синагоге Нахмановичей, куда запирали раскаявшихся грешников, стенал Нехемия Коэн. Еврейская община придумала для него новое, менее жестокое, чем отсечение языка, наказание — лишение совместной молитвы. Рабби Коэн теперь не имел права зайти в родную синагогу, где еще в середине века начинал службу его дед, Давид Алеви, где прошла вся его жизнь, где он произнес свою первую проповедь, через резные двустворчатые двери, украшенные двумя львами. Отныне старый раввин должен был появляться в синагоге с черного хода, через маленькую убогую дверцу, прячущейся где-то на заднем дворе, среди кучи дров. Открыв ее, Нехемия шел не в общий молитвенный зал, а, поплутав немного извилистыми коридорами, входил в низенькую комнатушку, в «асиру». Чтобы попасть туда, нужно было совершить нечто очень плохое, многократно нарушить иудейский Закон, крупно поссориться с уважаемыми наставниками, быть разбойником, клятвопреступником, кровосмесителем. Только для таких злых сердец открывалась страшная дверь в «асиру», и только там мог скоротать дни в уединенном раскаянии закоренелый преступник.
Потеряв возможность молиться и беседовать со своими единоверцами, наказанный вынужден был изо дня в день предаваться грустным размышлениям. Сидя в шутовском кресле, обитым противной кабаньей кожей и увешанном длинными ослиными хвостами[36], осужденный маялся в одиночестве. Своды комнатки почти нависали над головой, везде царил полумрак. Неприятность сидения в «асире» довершала узкая полоска дневного света, что выбивалась из круглого, частично замурованного, окошка. С внешней стороны, выходящей на оживленную улицу, окошко украшала решетка — паутинка.
До человека, сидящего в комнатке, доносились бойкие голоса торговцев, стук лошадиных копыт и беззаботные разговоры. Но он не мог к ним присоединиться.
Грешнику от общины выделялась только тонкая свеча на оловянной тарелочке, и молитвенные принадлежности — талит, тфиллин, сидур, если у наказанного не водилось своих. Ничего кроме этого брать в «асиру» было нельзя. Чем серьезнее были проступки, тем дольше осужденный проводил там, вспоминая прошлое и ища ответы на мучившие его вопросы. Талмудисты Львова, многие из которых уступали Нехемии в знаниях и опыте, тем не менее, сочли грех Коэна настоящим преступлением, ведь последствия его маленькой лжи оказались огромными. Пусть посидит, подумает, до чего его гордыня довела, постановила еврейская община, а там посмотрим, достоин ли Коэн прощения или надо изгнать раввина из города.
Нехемия Коэн проводил в «асире» почти все дни, с раннего утра и до вечера, приходя домой лишь на ночь. Он постился, читал «Теилим», в отчаянии бил себя по рукам и спине бичом со скорпионьей колючкой на конце, не зная, какие мучения ему уготованы в ближайшие недели.
Игнатий Несвецкий вовсе не собирался успокаиваться после гибели Менделя Коэна. Отслужив по несчастному юноше все положенные мессы, иезуит вновь взялся за старое. Его план приговорить рабби Нехемию к смерти за изведение колдовством графа Липицкого оставался в силе, он был лишь отложен на время. Теперь инквизитору гораздо проще подобраться к Коэну. Он уже не уважаемый всеми раввин, а презираемый изгой, осужденный на унизительное томление в темной клетушке. Евреи больше не придут к нему на помощь, не откупятся дарами, не начнут искать заступников у поляков, армян или греков, потому что Нехемия Коэн для них уже никто. Даже защититься методами Каббалы раввин не сможет, ведь в отчаянии он отдал Леви свою коллекцию редких манускриптов.
От страданий и голода способности Коэна едва ли не исчезли, он уже не сумеет ни взлететь ввысь, ни стать невидимым, ни парализовать приемами древней восточной магии своих противников, как это однажды удалось Леви сделать с Несвецким.
Исход схватки предрешен — заявил иезуит, я сожгу Нехемию Коэна, а перед этим сам отрублю ему руки и ноги, раз уж евреи не смогли отсечь его зловредный язык. И брошу в огнь еретические писания, я знаю, что Коэн много лет подряд пишет тайный труд, озаглавленный по первой строчке «Негед эмунат-ноцрим»[37], что значит «Против христианского вероучения». Это мне поведали его враги, может, и врут, а может, и правда.
— Это будет суд не над одним Коэном, — кивали Несвецкому в иезуитской коллегии, а громкий процесс над всей иудейской лже-религией. Пора разоблачить ее, доказать, что настоящий иудаизм — это доктрина римско-католической церкви, а все принимаемое за иудаизм евреями — такая же шизма[38], как греческая или басурманская веры.
— Но Коэн умен, — опасались иезуиты, — он обожает диспуты, да к тому же убежден, что иудеи — большие христиане, нежели носящие кресты. Он все наши слова перевернет по-своему, и публика поверит Коэну.
— Тогда сделаем суд закрытым, — сказал Несвецкий, — проведем его в стенах нашей коллегии, за семью замками, в присутствии инквизиторов и высшего священства. Я даже приглашу кардиналов из Ватикана…
— А обвинять в ритуальных кровопролитиях будем? — поинтересовались у Несвецкого.
— Надо розовой мацы испечь, с красящим соком, чтобы она казалась замешанной на христианской крови. Я соберу все, что говорил Коэн о христианах, и этого вполне хватит, чтобы взвести его на костер — хвастался иезуит.
Этим утром Нехемия Коэн, как обычно, проскользнул в «асиру» через черный ход и сел на позорное кресло из кабаньей кожи.
— Г-споди, прости меня, грешного — прошептал он, начиная водружать на голову обруч тфиллин с маленькой коробочкой. Коэн уже обмотал руку тонким черным ремнем, как дверь комнатки распахнулась.
— Раввин Нехемия Коэн Лембергер? — спросили его иезуиты.
— Я — сказал Коэн.
Нехемию Коэна вели в темницу на глазах всей Староеврейской улицы, прямо в полосатом молитвенном одеянии, накинутом на плечи. Кто-то сочувствовал ему, кто-то злорадствовал.
— Коэн расплатится за содеянное. Он заслужил смерти.
— Коэн станет мучеником и тем самым смоет свой главный грех, клевету на Шабтая Цви.
— Коэн избежит костра, раз ему ничего не стоило орать на весь Стамбул, что он мусульманин — шипели саббатианцы. Он найдет способ договориться с инквизицией.
Процесс мог бы и не состояться, если бы незадолго до иудейской Пасхи, ранней весной 1676 года, из богатого дома шляхтичей Любомирских не пропала шестилетняя Злота, незаконная дочь горничной[39]. Злоту держали в черном теле, заставляя выполнять грязную работу, и гоняли по городу с мелкими поручениями. Лавочники Львива хорошо знали эту маленькую, светлоголовую девчушку с большими синими глазами, одетую в старые платья, прибегавшую к ним купить то свечей, то мыла, то соли.
О ее происхождении судачили, что Злота — дочь одного влиятельного магната, что она слишком изящна и мила для простолюдинки. За это девочку нещадно били не только господа ее матери, но и прислуга Любомирских, которая вроде бы должна была жалеть Злоту.
И вот в конце марта Злота пропала.
Кухарки послали ее за смоквами для десерта, но прошло полдня, а девчонка все не возвращалась. Сначала подумали, что она попала под лошадь, или заблудилась в хитросплетении греческих лавок, или даже убежала от постылой жизни куда-нибудь за город. Ее мать — раньше, кстати, Злоту не жаловавшая и называвшая ее не иначе как «мое проклятие», вечером отпросилась у Любомирских, побежав по лавкам. Греки и армяне единодушно сказали, что сегодня Злота к ним не заходила.
Предположили, что у девчонки, пока она шла за смоквами, кто-то отнял деньги, и она до ночи не покажется, опасаясь трепки.
— Придет еще, — сказала горничная, — плачет где-нибудь в закоулке.
Но ни следующий день, ни через неделю Злота не объявилась. Начали розыск. Нашлись свидетели, видевшие, как маленькая девочка одна входила в Жидовские врата и с тех пор бесследно исчезла. Во всем еврейском гетто устроили повальные обыски. Заглядывали не только в убогие жилища, но и проверяли подвалы, сараи, выгребные ямы, вскрывали полы, разбивали стены. Нашли много чего, только не Злоту.
Тем временем приближался Пейсах. На Староеврейской улице вытряхивали хлебные крошки и устраивали великую уборку. Ни единой частички квасного не должно оставаться в доме всю неделю. Кипела работа в пекарне: пекли мацу. Портные не успевали расправиться с ворохом заказов: беднота справляла себе обновки к празднику. Вечером 14 нисана домочадцы, чистые и в новых костюмах, садились за стол с первой звездой.
Семь дней Пейсаха — это единственные семь дней, когда еврей Львива считает себя господином.
В Пейсах он сам себе Чарторыйский и Собесский. Он сидит, облокотившись в кресле, словно пан, и радуется побегу из Мицраима. А лайла азе кулану месубим, напевает он, поглощая со старинной тарелки сладкие яблочки, растертые с орехами, медом и корицей.
Дверь открыта. По поверью, в дни Пейсаха дома праведников навещает Элияху-ха-нави, Илья-пророк. Хрустят тонкие лепешки мацы, хлеба бедных.
Вспоминает тонны жаб, свалившихся с неба, воды Нила, вскипевшие в кровь, песьих мух, затмивших солнце. И 40 лет блужданий по Синаю. В Израиль, конечно, можно было прийти за месяц, но нация рабов не имела права ступить на Землю Обетованную. Израиль — страна свободы. Когда евреи станут по-настоящему свободными людьми, Б-г вернет их домой.
А пока — желтые шапки, ворота гетто, подкинутый в синагогу трупик синеглазой Злоты. Его найдут завернутым в свиток Торы.
И начнется новое судилище. Раскалятся решетки жаровен, заработают дыбы, заскрипят щипцы и клещи. Не остановить патера Несвецкого. Обывателей, со страху бежавших в предместья, он прикажет отлавливать и доставлять в подвалы инквизиции, а имущество их отбирать в казну. Спасти евреев Львиного города может только сам Нехемия Коэн, если согласится взвалить на себя все обвинения и взойти на костер.
28. Яцек и его совесть. Леви похищает Сабину
Вечером пани Сабина, закутавшись в турецкую шаль, выскользнула из дома и побежала в аптеку герра Брауна «Под серебряным оленем» за сонным зельем. Незадолго до того ей передали записку от Леви, где было написано только одно слово — сегодня.
Волнуясь, пани дернула ручку дубовой двери.
— Я не очень поздно? Вы не закрываетесь? — спросила Сабина у герра Брауна.
— Что вы, пани, — ответил немец, — в это время мы как раз и нужны.
— Мне, пожалуйста, вот это — и пани подала аптекарю бумажку.
Герр Браун прочитал ее, мрачнея.
— Что, нет?! — испугалась ясновельможная.
— Есть, есть, — поспешил успокоить ее аптекарь, — только это средство очень редкое и дорогое. Вы уверены, что хотите его попробовать?
— Я уверена — сказала Сабина.
— Яцек! — позвал герр Браун своего помощника, — принеси госпоже сонное зелье.
— Мигом — сказал Яцек и скрылся в подсобке. Признаемся: Яцек был шалопай отменный. Фармакология давалась ему с трудом. Он путал этикетки, умудряясь, например, на склянку с анисовыми каплями наклеить надпись «касторка», а сушеных аспидов засунуть в одну коробку с гомеопатическими шариками. В шкафчике с ядами и сильнодействующими снотворными у него царил абсолютный беспорядок. Посетители, впрочем, этого не замечали, считая, что все лекарства разложены по своим флакончикам и снабжены правильными этикетками. Но то был обман: аккуратно разложенные по полочкам баночки были безбожно перепутаны. Мышьяк и ядовитые коренья лежали вперемешку с безобидными пастилками против запоров, этикетки были наклеены косо, а надписи на них — неразборчивы.
Герр Браун давно уже плюнул на свою мечту выучить Яцека аптекарскому делу, и держал его здесь только ради спокойствия его больной матери.
Разгром за бардак в шкафичке с ядами хозяин устроил Яцеку недавно, и тот вроде бы прибирался, перелив яды в скляночки, надписи на которых лучше всего соответствовали, по его нечетким представлениям, их содержимому.
Но как! Где именно был тот или иной яд, и куда его перелили, теперь не знал никто. Яцек почесал затылок, смотря на четкую надпись на листке.
— Сонное зелье, — шептал он, — где ж оно?! Может, вот это? Или это, в синем стекле? Наверное, оно.
Яцек принес пани Сабине синюю склянку. Она расплатилась, поблагодарила его и ушла. Через минут 5 Яцек вдруг вспомнил: в синем стекле — настоящая отрава, цианид, а в зеленом — то самое сонное зелье, приготовленное по восточным рецептам! Он испугался.
— Яцек, — отчетливо сказала ему до того мирно дремавшая совесть, — беги немедленно за пани и отними у нее цианид! Отдай ей зеленую баночку! Отдай, иначе я буду терзать тебя вплоть до смертного часа! Яцек, ты слышишь?!
Яцек настолько испугался голоса своей совести, что сорвался и побежал, держа в руках зеленую скляночку.
— Пани! — закричал он, догоняя Сабину, — пани!
Сабина остановилась.
— Извините меня ради всего святого, пани, я дал вам не ту баночку. Вот это зелье, возьмите! А то — яд, выпив его, вы умрете!
Сабина отдала ему синюю склянку и взяла зеленую.
— Ты шутник, мальчик, — сказала она Яцеку, — скажи герру Брауну, чтобы он тебя в следующую субботу хорошенько выпорол.
— Скажу — потупился Яцек. Его пороли еще и по средам, но это не помогало.
Пани Сабина вернулась домой незамеченной. Час был поздний. Сидя на постели, она задумчиво рассматривала зеленую склянку. Тягучая, вязкая жидкость мало походила на настоящую отраву. Выздоровевшая служанка Марица сидела рядом.
— Ну что, выпьем яду?! — спросила Сабина.
— Выпейте яду, госпожа, это ведь понарошку — ответила Марица.
И пани Сабина хлебнула сонного зелья. Первые минуты она ничего особенного не почувствовала. Пани легла и уснула, как обычно.
Ей ничего не снилось. Может, это все неправда, это не яд, а горькая микстура? — вертелось в голове.
Но утром Сабина не проснулась. Ее долго, отчаянно будили, и лишь ближе к вечеру, испугавшись, что долгий сон перейдет в летаргию, пригласили, как просила Марица, Леви в костюме валашского травника.
Он не стал раздумывать. Под окнами особняка уже стояла нанятая им простая повозка, запряженная двумя черными, насупленными волами. В ноздрях у них висели толстые витые кольца красной меди.
Леви запер дверь комнаты, предупредив, что для оживления уснувшей ему требуется полная тишина и невмешательство.
Пани Сабина лежала спящая, но живая. Леви прикоснулся к ее руке.
Под тонкой, почти прозрачной кожей билась голубая жилка.
— Жива! — прошептал он, но дышит редко.
Леви мигом поднял Сабину с постели, положил ее, словно куклу, на сине-белый персидский ковер, свернул так, что из ковра торчала только ее голова, и раскрыл окно. Аккуратно, с помощью Марицы, пани Сабина была перенесена через окно во двор, а затем — в стоявшую повозку. Сабину присыпали клоками старого сена.
Леви выскочил из окна, попав на дерево, спустился и сел в повозку. Возница резко рванул вперед. Вскоре они уже покинули львиные холмы и летели по направлению к новой границе Османской империи, к Подолии.
Марица молча смотрела им вслед. Объяснения она придумает…
29… И пришли они к источнику. Тайны лесничего Якуба
«Нет страны, где евреи занимались бы столько мистикой, чертовщиной, талисманами, заклинаннями духов, как в Польше».
Из еврейських хроник XVII столетьяРабби Нехемия Коэн, сказав однажды, что его народ — это народ раздоров, к сожалению, нисколько не преувеличивал. Еще три века тому назад еврейский Львив поделился на две враждующие общины — городскую и предместную.
Городские евреи принадлежали королю Речи Посполитой, их свободу защищал привилегий. Евреи предместий вроде Краковского об этом могли только мечтать и стараться накопить денег, чтобы не сами они, а хотя бы их дети или внуки выкупили себе разрешение жить в городе. У двух общин все было порознь: свои синагоги, свои раввины, свои меламеды и резники. Хлеб они покупали тоже разный, и воду брали каждый из своих колодцев. Объединяло их только кладбище. Умерших, при жизни никогда друг другу не сказавших доброго слова, а то и дравшихся, приходилось хоронить в одной земле. Эра раскрытия Мессии обещала прекратить эти распри. Шабтай Цви провозгласил наступление «кибуц галуйот» — объединения всех еврейских общин, где бы они ни оказались в рассеянии. Но ничего не изменилось, напротив, стало еще хуже. Раздоры, начавшиеся в последней четверти 17 века, подспудно продолжались почти весь следующий, став чем-то вроде необъявленной гражданской войны. Линия разлома проходила уже не только по тому, к какой общине, городской или предместной, ты относишься, а признаешь или отвергаешь мессианство Шабтая Цви. Из-за постороннего турецкого еврея Азиз Мухаммеда, дервиша Бекташи, дети покидали дом с родительскими проклятиями, расторгались помолвки и отменялись сделки, дочери лишались приданого, а сыновья — наследства. Человек, никогда не бывший в Львином городе, но пославший туда своего названного брата Леви Михаэля, проповедовал единство еврейского народа. В родном Измире, где враждовали выходцы из Испании и Португалии, с поселившимися ранее романиотами[40], Шабтай Цви нарочно молился один день в синагоге «Португалия», другой — в синагоге испанских евреев, а третий — в самой старой, романиотской. И тут внезапно он, учивший объединять разрозненных, стал невольным виновником конфликта…
Да какого! Если раньше эти склоки считались сугубо еврейским делом, то теперь в них оказались замешаны все. Саббатианцы не ограничивались субботней проповедью в синагогах. Они скандалили в мечетях Высокой Порты, в польских костёлах и армянских храмах, караимских кенасах и греческих церквях. На это у них были основания: обновление иудаизма в дни прихода Машиаха подразумевало обновление всех религий.
Если дергать корни старого дерева, ветвям тоже не поздоровится — учили еретики. В атмосфере неутихающих распрей саббатианская мистика оставалась прибежищем понимающих, третьим путем, о котором нигде не написано, но это вовсе не значит, будто его не существует.
Ересь Шабтая Цви не принимали, как принимают неофиты новую религию.
В нее уходили, погружались с головой, убегали, не оглядываясь, сжигая за собой все мосты, как сжег их Шабтай, спускаясь по лестнице ранним утром 16 сентября 1666 года.
Таким адептом саббатианства стал Якуб, лесничий шляхтичей Сенявских, который, помнится, спас раненого пана Гжегожа в своей далекой хижине. Первая его жизнь казалась однообразной: сирота Хмельнитчины, вскормленный на гроши еврейской общины, неученый и нищий, после бар-мицвы нанялся стеречь угодья богачам. Скромный хлопец, он попросил лишь сапоги и смену платья в год, да немного съестных припасов.
Но зато настоящая, скрытая от профанов вторая жизнь Якуба, потрясала воображение: он — глава раскольников-саббатианцев Подолии. Якуб — связующее звено между «шлухим» Шабтая Цви в Восточной Европе и Османской империи. В своих искусных руках, потемневших, растрескавшихся от щелочей и кислот, Якуб держал тайные нити управления. Он передавал общинам деньги, книги и амулеты, привезенные из Стамбула, Салоник, Измира, Каира и других мест. Даже лекарские умения Якуб применял лишь для того, чтобы войти в дома нужных ему людей и завязать полезные знакомства. Маленькая хижина, вокруг которой рос старый лес, исконное владение шляхтичей Сенявских, идеально подходила для тайных встреч. Кому охота коротать вечера под прохудившейся крышей, выложенной зеленым мхом, грея замерзшие пальцы у жалкого огня?! Кто отважится залезть в такую глушь, к волкам и лисицам?!
Разве что дервиш ордена Бекташи, подпоясанный ручной змейкой.
Опираясь на сучковатую ясеневую палку, дервиш остановился перед маленьким ручейком, заросшим высокой осокой. Сквозь кроны вековых дубов и буков пробивались яркие лучи солнца.
— Полдень — сказал дервиш самому себе, смотря на солнце.
Он наклонился над ручьем, чтобы омыть в ледяной воде лицо и ноги.
Но ручей отразил не дервиша, а незнакомого человека со спутанными кудрями, давно просившими ножниц. Это знак — догадался он.
Дервиш помолился, опустившись на колени в гуще папоротников, и отправился дальше, полагаясь на внутренне чутье. Вскоре внутренне чутье привело дервиша к хижине Якуба. Он сидел на пне и точил выменянную недавно кривую турецкую саблю, затупившуюся о чьи-то железные доспехи. Шаги дервиша застали Якуба врасплох. Тот поднял голову, и, посмотрев на незнакомца, отложил саблю.
— Зачем пожаловали? — грубо спросил дервиша Якуб, — это владение пана Сенявского, господина этих мест.
— Знаю, — ответил дервиш, — я выполняю волю Господина всех мест, не только Меджибожского леса.
— Поди прочь, еретик! — разозлился Якуб, — не нарушай мое тихое уединение! Бродят тут всякие пилигримы, странники и беглые монахи, то поесть им, то попить, то ночлег предоставь, то денег дай! Один свечку украл, другой кувшин утащил, третьего я пинками выпроводил, не дожидаясь, пока еще что-нибудь пропадет. Знаю я вас, святых угодников, врунов и лицемеров!
— Мне не надо ни денег, ни крова, ни припасов — тихо сказал дервиш. — Я пришел научить вас, и только.
— Научить чему?! — переспросил Якуб. — Если врачеванию, то мне известны ваши уловки, я сам себе знахарь и кровопускатель. Проваливайте, почтенный! Мне с вами не по пути.
— Постижению тайн Творения. Такому нигде не учат — ответил дервиш.
— А ртуть в золото превращать умеете?
— Нет.
— А секретом бессмертия не поделитесь?
— Нет.
— Тогда что ж за тайны у вас, если от них нет никакого проку?!
Дервиш Бекташи загадочно улыбнулся. Ему не верили, это не впервые!
— Есть вещи, которые поважнее золота из ртути. Например, спокойствие души. Сейчас вы живете один. Ничьи слова не огорчают. Ничьи чувства не задевают. Никого нет рядом. Полное умиротворение! Но стоит лишь оказаться среди людей, как это умиротворение исчезнет. Якуба будут любить. Якуба будут ненавидеть. Тогда вам понадобиться не золото и не бессмертие, а только чтобы оставили в покое. Вы взмолитесь о тишине и о свободе, о том, чтобы снова поселиться в этом пустом лесу, вдали от хуторов… — говорил он.
— Откуда вы это обо мне знаете?! Что я пытался жить там, но не смог выдержать чужого презрения?! — поразился Якуб. — Вам рассказали это?!
— Нет, — сказал дервиш, — нишмат каддиш;, святая вы душа, Якуб! Я пришел помочь, чтобы, когда снова покинете лес, знали, как защищаться от мерзостей земного бытия. Неужели это лишнее?!
— Нисколько — растаял лесничий, — это пригодиться мне даже если я проведу в Меджибожском лесу всю жизнь. Сразу бы сказали, а то все вокруг да около!
В хижине Якуба дервиш обнаружил самодельное кресло, сплетенное из молодых сосновых веток[41]. Оно приятно пахло смолой, но долго сидеть в нем оказалось невозможно: иглы кололи тело сквозь ветхое рубище.
— Это чтобы не засиживаться, — пояснил отшельник.
Судьба сироты Якуба, если бы он не оказался вовлечен в саббатианскую ересь, могла оказаться более печальной. Встреча с дервишем Бекташи, албанцем по крови, как ни парадоксально, помогла одинокому лесничему вернуться к еврейскому народу, родство с которым он едва не утратил.
Якубу не на кого было больше опереться. Он хотел учиться, но еврейское образование в Речи Посполитой после Хмельнитчины почти прекратило свое существование. Казацкие кони втоптали в землю тысячи талмудистов, умевших толковать Закон. Острые сабли разрубили немало тех, кто мог бы стать гениями Каббалы, и теперь мы можем лишь стоять у заросших травой могил, рассматривая затейливую резьбу, гадая, что открыли б подававшие надежды юноши, не прилети за ними жестокий ангел смерти…
Людей, способных давать мальчикам уроки Торы и письма, осталось крайне мало. Кого-то учили родители, заставшие в своем детстве счастливую эпоху расцвета еврейской учености. А у кого родителей убили казаки, те росли как Якуб, в кругу чужих, в невежестве, волей-неволей заимствуя у поляков или турок их суеверия и мифы. Даже появились неграмотные евреи, не знавшие ни родного, ни польского письма, ставившие вместо подписи невнятную закорючку, а то и крестик. Это были дети резни, выросшие в лесу, смугловатые, с заметными скулами и степным разрезом глаз.
Они умели оседлать коня, испечь хлеб, срубить дерево, помогать родителям в шинке или в лавке. Сильные руки их не брезговали никакой работой, они могли завести пасеку или ковать подковы, ткать полотно, охотиться и рыбачить. Они склонялись перед панами, охотно нанимались управлять чужими имениями, собирать чужие долги и налоги, живя на проценты.
Они получали гойские прозвища вроде Казак, Гайдамак, нисколько не обижаясь, а ведь еще полвека назад за такие слова судились.
Якуб поверил экзальтированному дервишу ордена Бекташи, потому что он представлял не совсем чужой для него мир. Захваченный турками сначала с помощью торговли, а потом и оружием, Меджибож еще в годы детства Якуба стал мусульманским городком. Он вертелся среди турок на восточном базаре, вслушивался в незнакомую речь, пытаясь уловить в ней родные звуки, изредка получал милостыню от сердобольных турчанок, заходил в турецкие дома, когда служил разносчиком.
Попав еще мальчишкой по поручению общины в Львив, Якуб удивился его польскому говору, готической синагоге Нахмановича с яркими люстрами и алым бархатом, европейским бледным лицам и странной тишине. Бредя вместе со своим опекуном по узким, петляющим с холма на холм, улочкам, Якуб вертел головой, недоуменно спрашивая, почему здесь не кричат с высокого минарета муэдзины, почему турки живут где-то там, в отдельном квартале и почему так много каменных львищ? Для Якуба львы были символом Османского султаната, и он очень удивился, когда опекун объяснил, что эти храбрые кошки принадлежат польской короне.
В синагоге Якуб сразу почувствовал себя чужим. Он был малограмотен и многое не понимал, а молились евреи испокон веку только на «лашон кодеш», святом языке. Ошалело сидел на скамейке, озираясь по сторонам, заглядывая в высокие стрельчатые окна, но не присоединяясь к мелодичному голосу кантора.
— О чем они поют? — тихо спросил Якуб, когда они вышли из синагоги.
— Бедный мальчик, бедный… — ответил ему опекун, — это молитва «Авину малкейну»[42]
— Не знаю такой, — сказал Якуб.
После казацких набегов и войн с турками в окрестностях Меджибожа старые еврейские местечки стояли заброшенными, дома зарастали высоким бурьяном, деревья дичали, принося мелкие плоды, куры и козы сами добывали себе пропитание. Богатые купцы поспешили покинуть эти проклятые места, немногие выжившие предпочитали селиться где угодно, только не на кровавом пепелище.
То, что Якуб обитал в лесу, считалось обычным делом. Лишь после перемирия, когда Подолия официально попала под власть Высокой Порты, турецкие чиновники с ужасом обнаружили, что в завоеванных землях осталось мало жителей, и значит, мало налогов пойдет в казну. Тогда, посовещавшись, они решили отправить в Меджибож, Каменец и Хотин несколько еврейских семей из переполненных беженцами кварталов Стамбула, чтобы они открыли торговлю и принесли новые ремесла. Прослышав, что турки помогают переехавшим, евреи со всей Порты ринулись в Подолию, надеясь освободиться от притеснений.
Подолия стала медленно оживать, открылись лавки, строились дома, хуторяне начали устраивать ярмарки, где вновь сновали еврейские перекупщики. Неплохо, если б не одно но: подавляющее большинство переселенцев были ярыми саббатианцами. Некоторое число их облачилось в белые тюрбаны, то есть стало, вслед за Шабтаем Цви, правоверными мусульманами. Некоторые хранили верность иудаизму, но трактовали эту верность еретически, так, что немногочисленные местные евреи наотрез отказывались молиться с переселенцами в одной синагоге.
— Не хотите, и ладно! — обиделись турецкие евреи. — Мы лучше в лесу собираться будем, у водопадов, во мхах и папоротниках, чем в вашей неправильной синагоге!
И пришли они к источнику, из прозрачных вод которого утолял жажду молодой олень, еще не сбрасывавший рогов. Удивительно, но олень не испугался еретиков, не убежал, даже мягким ушком не повел.
Полюбовавшись его стройной статью, маленькими копытцами и беленьким хвостиком, саббатианцы вознесли прямо у источника хвалебную песнь Всевышнему.
В том, что олень появился там не случайно, никто не посмел усомниться. Прибегаю к милости Твоей, Г-споди, как утомленный олень к живительному источнику — шептал Шабтай Цви в последние годы строчку из «Теилим».
Олень скрылся в густых зарослях, и никто его больше не видел.
Шабтай Цви строго приказал дервишу Бекташи скрепить множество разрозненных, иногда вовсе не знающих друг о друге общин саббатианцев в подобие суфийского ордена «Тарикат Ибрахими». Совместное моление «денме» и подольских евреев у оленьего источника положило начало этому объединению. Постепенно название «хасидим» закрепилось за саббатианским движением и стало противопоставляться ортодоксальному иудаизму, «митнагдим». Оно быстро пустило незаметные, но цепкие корни.
30. Сердце удода и пепел его костей. Пульса денура
Леви Михаэль Цви выбрал самое удобное время, чтобы исчезнуть вместе с пани Сабиной из Львиного города, продав свою антикварную лавку. Он не стал свидетелем злодеяний саббатианцев, даже не узнал, что натворили его «многообещающие» любимчики, едва не ставшие причиной нового разгрома Староеврейской улицы. Расследование убийства маленькой девочки Злоты, дочери горничной Любомирских, только началось, однако предчувствия в воздухе витали страшные. Мысль, что незаконнорожденную, нелюбимую матерью Злоту могли погубить Любомирские, просто изведя девчушку тяжелой работой, голодом и холодом, в расчет не бралась.
Смерть Злоты должна быть признана насильственной и умышленной, а ее обстоятельства — только ритуальными, заявил иезуит Несвецкий, перепоручая изучение всех обстоятельств дела своим коллегам. В действительности же никто эту девочку не убивал. Злота, возвращаясь в тот злополучный мартовский день с купленными в лавке смоквами, завернула в тихий дворик, села на край колодца. Липкие, пропитанные сладким соком винные ягоды, которые она с удивлением разглядывала, неожиданно упали в колодец. Испугавшись жестокого наказания, она залезла в колодец, думая, что там не очень глубоко, но скользкие стены не позволили вылезти. Злота захлебнулась в холодной воде и пошла ко дну. Утонувшую девчушку нашли много позже, когда вечером торопящаяся служанка слишком глубоко опустила ведро. Испугавшись, что ее обвинят в убийстве, служанка решила избавиться от тела, пролежавшего в родниковой воде почти в полной сохранности. Темной ночью она отнесла мертвую девочку в лес за город, беспрестанно оглядываясь, как бы кто не увидел.
В тот мрачный час в лесу собирались на свои тайные сходки саббатианцы. Еретики жгли костер, жаря на нем запрещенную живность — поворызников, мышей и жаб, смакуя некошерные кушанья, словно это были нежные телята, барашки или курочки.
В отблесках огня саббатианцы заметили женщину, положившую в заросли можжевельника маленькое тельце, и сразу же исчезнувшую. Сгорая от любопытства, они ринулись туда.
— Будь ты проклят вовек, можжевеловый куст! — выругался Лейба, прозванный «Хемдас Цви», разглядывая страшную находку. Серое, заплатанное платьице Злоты, темный передник, серые грубые чулочки — все в кровавых пятнах. Небольшие ранки от острых камней, которыми выложены стенки колодца, на руках и ногах Злоты вполне могли сойти за следы порезов и проколов.
— Смотри, какая бледная! Ее обескровили особо изуверским способом — предположил его приятель Крысолов, — кололи острыми иглами, резали и били.
— Что ты, малышка утонула — возразили другие, — не видишь разве, какие у нее выпученные глаза, а волосы до сих пор мокрые.
— А пятна крови?
— Исцарапалась об острые камни, так бывает, если колодец слишком узкий.
В головах этих отчаянных людей закопошилась сатанинская мысль: тело девочки можно подкинуть в еврейский квартал и донести инквизиции о ритуальном убийстве! Это добьет рабби Нехемию Коэна, ненавистного им, а заодно больно ударит по новому старосте общины, Авишалому Познеру, тоже мешающему расползанию ереси. А страдания их соплеменников?
Все это злодеев волновало в самую последнюю очередь. Они давно порвали со своим народом и ненавидели евреев не меньше патера Несвецкого.
За что? За то, что евреи оплевывали Шабтая Цви, считая его еретиком.
Люди, предавшие Машиаха и даже покушавшиеся на его жизнь, не могут быть нашей крови, говорили саббатианцы.
Поначалу растерявшиеся еретики, еще не до конца утратившие совесть и сострадание, раздумывали, что им делать с трупиком девочки. Идея инсценировать ритуальное убийство пришлась по душе отнюдь не всем, уж больно это рискованно! С другой стороны, когда представиться еще такой удобный случай поквитаться с Коэном?! Посоветовавшись, они ничего не решили и поодиночке, скрытыми тропинками, блуждая и запутывая следы, покинули ночной лес.
Но двое из них, яростные саббатианцы Лейба «Хемдас Цви» и Матиэль (прозвище Крысолов) остались. Они угрюмо смотрели на тело Злоты, лежащее в можжев ельнике.
— Надо убить удода, самца, — сказал Крысолов, съесть его сердце, пока оно бьется, а саму птицу сжечь до пепла костей. Тогда, выпив пепла в смеси с кровью другого удода, самки, и с кровью невинного ребенка, мы обретем дар ясновидения[43]. Положим рядом мертвую девочку, убедим «как бы случайно» подойти к кострищу патера Несвецкого и скажем, что здесь колдовали евреи…
— Ты совсем рехнулся? — закричал на него Лейба, — зачем тебе удод?!
— Поляки зовут удода еврейской кукушкой, даже верят, будто евреи чтят сатану в образе этой пестрой и глупой птицы — объяснил, не поднимая отрешенных глаз, Крысолов. — Я нашел это в старой польской книге.
— Ну и пеки своих удодов, — зло буркнул Лейба, — а я ухожу.
Лейба плюнул в остывающий костер и ушел, не попрощавшись.
Крысолов остался. Гнездо удодов, отвратно пахнущее, изгаженное, он выследил еще вчера и теперь холоднокровно шел убивать. Схватив оранжево-черного, пестрого петушка, еретик поднял его над гнездом, держа за гребень. Удод вертелся, верещал, пытаясь клюнуть, но руки Крысолова, душившие и не таких чудищ, оказались сильнее. Острым ножом он вскрыл самца и вырвал маленькое, яркое сердце. Сердце удода трепыхалось. Преодолев мгновение отвращения, Крысолов положил сердце удода в рот и разжевал. Оно оказалось горьким. Затем саббатианец понес кровоточащую птицу к костру. Подув на черные ветки, он вновь разжег огонь и бросил удода в самое горячее пламя.
Вонючий петушок начал обугливаться, но пока он прогорел до пепла костей, прошло около трех часов. Еретик то и дело подносил к костру новые ветки, раздувал огонь, тыкал палкой пекущегося удода. Наконец удод сгорел.
Пепел его был аккуратно собран в плоскую глиняную чашечку.
Потушив огонь, Крысолов написал углем на земле вокруг него еврейские буквы, знаки Зодиака и алхимические символы, а после отправился убивать самку удода. Крови с нее натекло мало, на две ложки, но этого хватило, чтобы размешать с пеплом в чашечке и залпом, словно невкусную микстуру из аптеки герра Брауна, выпить. Обескровленную удодиху с оторванной головой Крысолов швырнул прямо на труп Злоты.
После он отнес девочку и удодиху, зная укромные ходы, в синагогу Нахмановичей, на свитки Торы. Инквизицией было найдено кострище, вписанное в гексаграмму, круг и расчерченное каббалистическими сочетаниями букв. На ветвях можжевельника висел серенький чулочек, точь-в-точь такой же, как у Злоты. Видимо, Крысолов потерял его, когда перетаскивал труп из леса в синагогу, не обратив внимания в кромешной темноте. Чулочек напялили на ножку девочки — и он подошел.
Предателю инквизиция обещала полную безопасность, если он будет свидетельствовать против своих соплеменников на суде и подтвердит причастность рабби Коэна к умерщвлению христианских детей.
— Я подарю тебе титул шляхтича Крысинского! — клялся Несвецкий, — только удостоверь, что все было именно так…
Крысолов соглашался с иезуитом. Расправы единоверцев он не ждал.
Как только чудовищные деяния Крысолова стали известны на Староеврейской улице, то злопыхатели, радовавшиеся несчастью Нехемии Коэна, вмиг приумолкли.
Инквизиция по «делу Коэна» могла схватить любого еврея, приписав ему тайные замыслы и сжечь с Коэном на общем костре. Панические настроения усиливались с каждым днем. Никаких сведений из инквизиции не просачивалось, все совершалось в тайне, и даже ксёндзы заговорщицки молчали. В христианской части Львива распространялись слухи, фантастически переделывавшие отголоски реальных событий. Мещане уверяли, будто инквизиторы при обыске в синагоге Нахмановича нашли не одну мертвую девочку, а целую галерею ритуальных сосудов с человеческой кровью, снабженных этикетками и запечатанных для лучшей сохранности. На самом же деле в подсобном помещении синагоги хранили кувшины, где бродила праздничная изюмная настойка. Рядом якобы валялись десятки проткнутых иглами облаток, которые еврейские дети, подстрекаемые старшими, ночами воруют в костелах весь месяц нисан, и сломанные, оскверненные распятия, тоже краденые.
Рассказывали еще, что доносчик Матиэль Крысолов — нисколько не еврей, а поляк, мелкий шляхтич, ставший случайным свидетелем страшных зверств накануне иудейской Пасхи и решивший открыть это честным людям.
В том, что рабби Коэн занимался черной магией и причинил немало зла христианам, поляки не сомневались. Евреи, не сумевшие вовремя покинуть Львив, оставались заложниками гнева иезуитов. В этом тоже обвиняли Коэна: ведь его преступления распространяются на всю общину, и заранее проклинали, считая, что под пытками Коэн припишет своим обидчикам смертные грехи, которые они не совершали. Ужас внушали скрытые рукописи Коэна, невероятно антихристианские, кричали, что их уже обнаружила инквизиция в стенной нише его дома и вскоре они будут предъявлены святому трибуналу, а пока переводятся на польский язык. Отчаяние овладело людьми, все искали укромные места, куда было б можно спрятаться, перепрятывали ценные вещи, а некоторые уже готовили себе саваны…
Выход нашелся неожиданно. Испуганные евреи забыли, что без участия предателя, Матиэля «Крысолова», инквизиция вряд ли сможет развернуть ритуальный процесс. Все обвинения принадлежат его извращенной фантазии, и, если каким-то образом заставить клеветника замолчать, то ксендзам будет нечего предъявить Коэну. Однако Крысолов находится под полной и неусыпной защитой «Ордена Иисуса», иезуиты денно и нощно охраняли главного свидетеля, не оставляя его одного ни на минуту. Проникнуть в здание коллегии иезуитов еврею было невозможно, но.
Есть шанс воздействовать на лжеца издалека, мистическим проклятием, которое древние мудрецы называют «пульса денура», удар огня или удар огненным кнутом на арамейском языке. Слабые намеки об этом встречаются в любимой саббатианцами книге «Зогар», дошли воспоминания о раввине из вавилонского, ныне засыпанного песками, города, превратившем негодяя в груду костей усилием воли. Так почему ж не попытаться убить Крысолова с помощью этого заклятия?!
Пульса денура — это запрос в небесный суд о несправедливом поступке того или иного человека, который угрожает жизни своего народа.
Мы не в силах существовать с ним в одном мире! Рассмотрите все его дела и в течение 30 дней либо оправдайте его, продлив дни, либо покарайте смертью! — просят евреи. Вот что такое пульса денура, не заговор колдуньи, не порча и не сглаз, а просьба разобраться с теми, кто улизнул от земного правосудия. Применяется пульса денура крайне редко, действует только на рожденных еврейской матерью, знают об этом способе единицы, но рабби Коэн, выдающийся каббалист всей Речи Посполитой, разумеется, понимал, как следует проводить обряд.
Он и передал своим единоверцам идею покарать Крысолова, который не позднее чем через месяц отправится в ад, либо лишится языка, а рука его, посмевшая написать ложь, отсохнет.
— Не слишком ли поздно? — тревожились евреи, ведь инквизиция не будет ждать 30 дней!
Если имеется хоть малейший шанс побороть переметчика, надо им воспользоваться — вынесли вердикт старейшины.
Незадолго до полуночи, в лунное затмение, на еврейское кладбище (сейчас Краковский рынок) вышла странная процессия. Возглавлял ее новый глава общины, рабби Авишалом Познер, ровесник и друг детства Нехемии Коэна, одетый в белое и в белой кипе, гордо несущий длинную серебристую бороду. За ним следовали девять избранных знатоков иудейского Закона, старше 40 лет, одетых во все черное и с черными бородами. Луна — то ли испугавшись их, то ли повинуясь своим собственным правилам — скрылась, и стало совсем темно.
Став в круг у могилы, евреи зажгли черные шафрановые свечи, чуть ли не те же самые, при которых проклинали Шабтая Цви. Пульса денура началась. Аль даат Адони хаароним ихье бехерем Матиэль, бен Реувен бешней батей диним бельеним убетахтоним убехерем кдошей эльеним…, читали они все вместе замогильными голосами.
Мимо прошмыгнула большая летучая мышь.
… убехерем срафим веофаним увехерем коль хакаль гдолим уктаним веихью алаф макот гдолот венээманим вехолим рабим умешоним ихье бейто меавон таним…[44], раздавалось в кладбищенском безмолвии.
Луна не показывалась. До ее возвращения еще 11 минут.
— … Коль Исраэль! — произнес рабби Авишалом Познер.
— Омейн! — отозвались девять голосов.
— Омейн! — хотела вымолвить летучая мышь, но из ее пасти вырвался лишь слабый писк, не похожий на звуки еврейской речи. Черные свечи были погашены. Евреи постояли у могилы и вскоре разошлись по домам.
Луна выглянула, освещая уходящую под горку львивскую брусчатку с невысохшими за день лужами. На следующий день предатель Матиэль Крысолов не проснулся. Ангел смерти покарал его. Процесс о ритуальном убийстве девочки Злоты был приостановлен.
Правда, поляки приписали это неожиданное спасение евреев не древнему заклятию, а тому, что служанка, обнаружившая тело Злоты в колодце, на исповеди со слезами поведала все своему духовнику. Она подробно описала колодец, состояние трупа, на котором не обнаружилось никаких «ритуальных» ран, только три мелких царапинки от камней. Значит, ножом Злоту истыкали уже позже, когда служанка бросила ее под можжевеловый куст, и этими злодеями могли быть кто угодно. Инквизиции давно докладывали, будто там, на месте старого языческого капища, ночами летают демоны, а вместе с ними веселятся продавшие душу дьяволу.
Патер Несвецкий, конечно, расстроился, но расследование дела теперь зависело от него гораздо меньше, чем прежде, и пошло по новой, сатанинской, версии. Коэн по-прежнему сидел в темнице, допрашивался и слегка, для отчета, был пытан «стулом правды» (с иглами), но ничего не сказал. К осени Коэна обещали освободить без лишнего шума, если против него не выдвинут новых обвинений.
31. Клепсидра. Польское счастье турецкого еврея
В благородном семействе пани Сабины разразился дикий скандал. Когда выяснилось, что она вовсе не засыпала летаргическим сном, а только разыграла родных, выпив зелье из аптеки герра Брауна, родители, брат и супруг были потрясены. Они ожидали от Сабины любых сумасбродств, зная ее сложный характер, но не побега с турком.
Первым делом решили: это гипноз, мистическое внушение, которое ловкий сластолюбец оказал на беззащитную Сабину, чтобы обладать ею. В пользу этой версии склонялась мама, услышав, что турецкий букинист Осман Сэдэ тайком приторговывал приворотными снадобьями.
— Опоил ее, задурил и увез — плакала она, — на позор и поругание, а потом продаст в гарем какому-нибудь паше.
— Если к крымскому хану увезли ясочку Марысю Потоцкую, синеглазую блондинку, — причитал молодой ксендз Зыгмунд, брат Сабины, — то молва о красоте знатных полек вполне могла породить новую моду на польских жен. Вот турок и утащил ее, польстившись на щечки-ямочки…
Семья Сабины пребывала в трауре. Они много месяцев не получали от нее никаких вестей. Ограничившись ссылкой в отдаленное имение горничной Марицы, которую выпороли и разжаловали в скотницы, родители ничего не смогли поделать. Ни богатство, ни родство с влиятельными магнатами, ни заступничество церковных иерархов — ничто не помогло вернуть сумасбродную пани в родной дом Пястов. Отец ее прибыл в Жолкву, королевскую резиденцию, чтобы лично пожаловаться Яну Собесскому на похищение дочери. Но тот сухо ответил, что Подолия по мирному договору теперь передана турецкому султану и спасать Сабину, пусть даже его дальнюю родню, он не станет.
— Тем более, — намекнул круль, — до меня дошли разговоры, будто ясновельможная паненка сама завязала роман с турком и убежала по доброй воле. А раз так, Бог ей судья.
Шляхтич едва не сгорел от стыда, отходя от пышного трона Собесского под насмешки своих давних врагов. Выходка пани Сабины стала началом семейного упадка. Понимая, что здесь задета честь Пястов, родители вынуждены были объявить Сабину безвестно исчезнувшей в «турецкой стороне», скрывая обстоятельства похищения, и развесить на львивских стенах, по старому обычаю, смертные объявления — клепсидры.
На тонких листиках рисовались песочные часы, клепсидра, песчинки дней жизни в которой иссякли. Это означало смерть. Вывесив такое объявление у ворот дома и на окрестных улицах, скорбящая семья открывала свои двери для визитов родственников. Зажигая свечи над трунной парсуной — портретом умершей, нарисованным еще при жизни, они оплакивали пани Сабину. Однако костлявая не спешила забирать яркий цветочек Пястов. Сабина осталась жива — и более того — была счастлива.
Доскакав до Каменца, Леви успел разбудить свою суженую, окунув в холодную воду, и, стряхнув с нее прилипшие травинки, радостно обнял. Действие сонного зелья кончилось, паненка открыла глаза. Теперь им ничего не угрожало, влюбленные добрались до турецких владений, правоверный Леви мог взять в жены католичку Сабину.
В Каменце многое изменилось. У недостроенного костела возводили высокий каменный минарет. Кладка его была настолько крепка, что, когда город вновь перешел под польскую корону, минарет разрушить не смогли. Его пытались разобрать, взорвать, но потом оставили в покое, установив золотую статую Девы Марии вместо острия золотого полумесяца.
На башнях городской крепости веяли зеленые османские знамена. Роскошные костелы Каменца, выстроенные на щедрые пожертвования грешной шляхты, теперь смотрелись совсем невзрачно, хотя их не закрыли и не разграбили. Во многих богатых особняках, брошенных на произвол судьбы, со всей обстановкой, коврами, посудой, поселились турецкие чиновники.
Турки спали на лебяжьих перинах, еще хранивших тепло ясновельможных, ели баранину из тончайшего фарфора, раздавали своим женам брошенные шляхтянками наряды. И не переставали поражаться тому, что шановное панство, объявившее турок зверями апокалипсиса, нелюдями, разрывающими христиан на части, не отказывало себе в удовольствии носить турецкие шелка, лакомиться турецкими сладостями, украшать дома в стиле «османли».
— И не стыдно им, — возмущался Леви, — черноглазым, раскосым потомкам сарматов[45], воевать с близким по крови турецким народом? Ведь не о вере радеет шляхта! Только доходы с имений волнуют знатные польские семьи! Лишившись этого, они жалобно просят отбить Подолию, чтобы вновь предаваться нежным наслаждениям!
Пани Сабина деликатно промолчала. Стоило ли бежать от религиозных противоречий, подумала она, если Леви может разочароваться во мне из-за богатства Пястов, которое я потеряла так же, как осуждаемые им Чарторыйские, Сенявские и Замойские с Ходкевичами?
… Венчали их дважды: сначала Леви женился на Сабине по мусульманскому обряду, а затем, на всякий случай, Сабина привела Леви в старинный костел и уговорила ксендза провести повторную церемонию. Ксендз, разумеется, сначала не соглашался, ведь Леви в праздничном тюрбане, шальварах и халате никак не напоминал истинного католика, но, после долгих раздумий, нехотя перевенчал странных влюбленных. Католическая церковь в Подолии оставалась заложницей султанского милосердия, ее терпели, как терпели в Стамбуле греческие и армянские церкви, преследуя, но разрешая окормлять свою паству. Правила категорически запрещали подобные браки, однако здесь турецкий Каменец, а не Рим, и кто знает, чем для молодого ксендза обернется отказ обвенчать турецкого еврея Леви?
В крайнем случае, подумал находчивый священнослужитель, оправдаюсь тем, что меня заставили венчать польку с турком под угрозой смерти, и архиепископ простит. Совершив вдвойне святотатственный обряд — ведь пани Сабина формально была женой Гжегожа — ксендз внес имена новобрачных в толстую книгу в черной матерчатой обложке, закрывавшуюся на серебряные застежки. Когда же, наконец, Леви стал господином прелестной паненки, он едва не впал в панику, испугавшись…. ее одежды. Дело в том, что Сабину приучили носить корсет, хитроумное изобретение из зашитых в ткань китовых пластин. Знатная дама Речи Посполитой никогда не смела показываться без корсета, привыкая к китовой броне, словно это ее вторая кожа.
Впервые обняв Сабину за талию, Леви изумился, ощущая под рукой не молодое горячее тело, а какие-то подозрительные ребра. В голову сразу стали заползать нехорошие мысли, вроде той, что в сказках герою доставалась милая жена, но не из плоти и крови, а бестелесный дух, который даже обнять толком не получится. Леви не на шутку испугался. Дух, обернувшийся красавицей, снимал на ночь голову, чтобы было удобнее расчесываться, не ходил, а летал по земле, не имея ног. Пани Сабина тоже ходила быстро, почти летая, жаловалась Леви, что ей тяжело расчесывать свои густые черные волосы.
— Что, если она — суккуб? — мучился сомнениями Леви. — Пришлось ждать ночи. Ночью станет ясно, кто она, моя Сабина — земная женщина или призрак, обманувший мои надежды?! — решил Леви. — Впрочем, свадьба с суккубом — достойное наказание для такого грешника! Я недостоин любви.
И вот эта ночь настала. Леви пытался снять с Сабины платье, нащупывая пальцами жесткие, прямо не человеческие, «ребра» корсета.
Точно кости — похолодел он, скелет!
Длинное бордовое платье упало к ногам Леви. Он поднял глаза и увидел Сабину, облаченную в совершенно чудовищное, по его представлением, нижнее белье. Тело ее в боках и в груди стягивал бежево-серый, немного приукрашенный тонкими нитками узора, корсет. Померещившиеся Леви «кости» были выступавшими пластинами китового уса, неприятными на ощупь. Помимо всего, пани Сабина щеголяла в смешных панталончиках, обшитых оборочками, а к панталончикам лентами привязывались чулочки.
— А как же это снять?! — присвистнул Леви, понимая, что жена его вовсе не суккуб и не инкуб, а вполне нормальная полька, одетая по своей странной моде.
— Я сама не умею — растерянно призналась Сабина, — там, на спине, должны быть крючочки…
Леви никогда раньше не доводилось расстегивать крючочки на корсетах полек. Может, он слишком переволновался, или не догадался, как расцепить сцепленные застежки, только снять китовый панцирь с Сабины ему удалось не сразу.
— Пойду на кухню за ножом — сказал Леви, отпуская Сабину. Он принес большой острый нож для разделки рыбы, и аккуратно отодвинув края корсета от нежной смугловатой кожи, разрезал тугую ткань.
На пол полетели обрывки невероятно плотного китового уса, ошметки ткани, разрубленное полотно кружев..
— Считай меня восточным деспотом, Сабина, — сказал Леви наутро, — но больше чтоб никаких корсетов! Я едва не умер со страху, нащупав эти жуткие кости, и подумал, будто ты — суккуб! Есть же нижние сорочки, носи их.
— А суккуб — это призрак?
— Да. Суккубы умеют снимать голову.
— Я так не умею, — ответила Сабина, — можешь не волноваться.
Зима в Каменце выдалась снежной. Под толстой шапкой белых хлопьев даже высокие причудливые холмы Подолии стали казаться меньше.
Турки приостановили строительство большого моста: раствор на яичных белках и козьем сыре, скрепляющий камни, в мороз терял свои волшебные свойства. Леви в тот день шел в волчьей шубе, сгибаясь под тяжестью налипшего на злую шерсть снега. Ему приходилось вертеться, умудряясь держать в городе сразу две лавки и кофейню, но теперь Леви и не надеялся получить такую же прибыль, как от львовской торговли под именем Османа Сэдэ. Все-таки Каменец — это не Львов, рассуждал он, но зато там нет инквизиции, и есть Сабина, за любовь к которой его никто не сожжет.
Возвращаясь с бесплодных переговоров, не купив ни кофе, ни муки, Леви набрел на стихийную толкучку. Польские крестьяне, сбившись в кучу, дрожали и приплясывали рядом с такими же озябшими воробьями.
Поляки продавали контрабандные товары, привезенные из Речи Посполитой в обход границ и договоров. Леви уныло рассматривал ряды глиняных горшков, деревянные мелочишки — шкатулки, сундучки, игрушки, домотканые полосатые и узорчатые коврики, которые вряд ли купят правоверные турки.
Вдруг к нему приблизился незнакомец, он называл Леви «пан», прося «поглядеть на одну забавную вещицу», «шляхетскую забаву». Он увидел резные двухместные сани, чье глубокое сиденье было обито синим бархатом и прикрыто от стужи медвежьей полостью. Сани изображали китайского дракона, вырезанного со всеми чешуйками, перепончатыми крыльями, когтистыми лапами, длинным хвостом из дорогой древесины, отлакированного и гладкого. Зубатая пасть дракона щерилась, но не злобно, а вполне дружелюбно, ноздри его раздувались от холодного ветра, спина изгибалась, зауживающийся к концу хвост служил для торможения.
— Купите, пан, эти сани! — просил его замерзающий крестьянин, — я вырезал их вместе с сыном три года. Это шляхетские сани, легкие, быстрые!
— Вижу, сани отличные, — сказал Леви, — но разве водятся такие драконы?! Кто научил тебя?!
Крестьянин ответил ему:
— Я видел дракона в Львове, когда китайцы несли его, склеенного из цветной бумаги, с тряпичным языком и глазами-фонариками, по дальним улицам за Татарскими воротами. Смешная куколка, подумал я, запомнил и три года сидел над ними долгими вечерами. Купите, пан, не пожалеете! Эти сани можно сделать и колыбелькой…
При слове «колыбелька» Леви улыбнулся. Пани Сабина уже говорила ему, что скоро надо будет покупать колыбельку, а Леви, как обычно забегавшись, не успел ничего присмотреть. Поторговавшись и сбавив цену почти в половину, Леви купил драконьи сани.
В них он сажал Сабину, подталкивал — и пани летела вниз с высоких холмов, держа за уздечку, продетую сквозь ноздри змеевидного оборотня.
Только мысли приходили к ней не слишком радостные: Сабина мучительно думала о родителях и брате. Прокляли ли ее, или тайно оплакивают?!
В дракона сыпался снег, раздуваемый полозьями, светило яркое зимнее солнце, а внизу, под горой, неприкаянно бродил Леви. Он уже несколько месяцев не получал вестей от брата. Первое время Леви успокаивал себя тем, что, переехав внезапно, он не оставил своего нового адреса человеку, иногда передававшему письма, и тот теперь его ищет.
Подкупая стражников, Шабтай вел из башни Балшича оживленную переписку на иврите со своими адептами. Письма его не сохранились — или, вероятно, дожидаются подходящего часа в частных собраниях. Касались они вопросов кабалистики, суфизма, изредка — семейных дел, так как за плохое поведение Шабтая разлучили с женой Йохевед. Поверить, что его брат внезапно перестал отправлять письма, Леви не решался.
Стражники сменились, что ли? — размышлял он, или заболел?
Ответ пришел, но не в письме Шабтая, а в короткой записке от Эли, другого брата, давно порвавшего с сектантскими сборищами[46] и мирно продолжившего торговлю английскими товарами в лавке Измира.
Эли сообщил, что Шабтай Цви умер судным днем прошлого года, похоронен на берегу ручья или речушки. Известия из Ульчина, глухого угла Албании распространялись медленно, даже семья узнала об этом поздно, по чужим словам. Эли прибавил, что мусульмане не захотели хоронить своего единоверца на хорошем кладбище, считая Азиз Мухаммеда Цви еретиком, и, если б не дервиши Бекташи, отверженное тело нашло б свое пристанище среди христианских могил. Дервиши зарыли его в месте, куда сваливают умерших бедняков, а так же албанцев, называемых полуверами — ни мусульман, ни христиан, чтобы не осквернить ими порядочные кладбища.
Слова великого визиря Фазыл Ахмед-паши Кепрюлю, обещавшего похоронить Шабтая Цви вместе со свиньями, могильщики Ульчина восприняли буквально и даже хотели кинуть туда дохлую свинью, но дервиши отогнали их палками и сами засыпали яму землей.
Леви отнесся к смерти Шабтая спокойно. Хотя бы потому, что брат всегда говорил не «умереть», а «перебраться на другой берег», и злился, если кто-нибудь с умным видом принимался рассуждать о смерти, будто он там уже не раз побывал и вернулся обратно. Шабтай не любил траура, долгих прощаний, предсмертных страхов. Это отношение к смерти передалось Леви. Он перешел, ему там лучше — отвечал на слова соболезнования.
Слова казались Леви излишними. Саббатианцы ждали возращения Мессии в 1706 году. По расчетам, это должно произойти в городе под львиным гербом: либо в Иерусалиме, либо в Львиве. На всякий случай Шабтая ждали и там, и там. Оставалось немного. Леви, сомневаясь в глубине души, все-таки к ним присоединялся. Он хотел еще раз увидеть своего названного брата…
32. Властелины Священных Имен. Коэна изгоняют из города. Ясмина видит
В истории любой секты смерть ее первого основателя становится незримым рубежом, после которого эта секта или тихо угасает, или вступает в новый этап своего развития. Шабтай Цви ушел внезапно, не оставив распоряжения, которое могло бы пролить свет на будущее его движения. У Шабтая не было сына, но остались ученики и последователи, среди них особо выделялся его родственник, Ицхак Керидо. Он лучше всех усвоил Каббалу, внимательнее прочих вслушивался в слова учителя, да к тому же был последним, кому суждено было увидеть Шабтая Цви живым.
Что он успел ему передать, никто не знал, но многие считали, будто Шабтай готовил себе преемника и выбрал именно Керидо, называя его «мой возлюбленный сын».
Ловкий молодой человек сразу поспешил этим воспользоваться. После траура по Шабтаю Цви Керидо объявил себя его законным продолжателем. Рукописи и книги Шабтая так же попали к Ицхаку, но умел ли он толковать их?! Измирский каббалист придумал свой способ шифрования записей[47], чтобы его интересные мысли не попали в чужие руки. Разобраться в лабиринтах закорючек мог только сам автор. Шабтай Цви никого в эти тайны не посвящал, и посвящать не собирался. Скрывая незнание этого шифра, Ицхак Керидо ночами просиживал над рукописями учителя, пытаясь их прочесть. Но тщетно! Все известные шифры, коды и перевертыши не помогали открыть содержание. На третий месяц Ицхак сдался.
Отчаявшись, он придумал оригинальный выход, позволявший не только сохранить свой авторитет, но и продолжить дело Шабтая Цви.
Ицхак написал огромный труд, якобы раскрывавший истинное учение саббатианцев по заметкам Шабтая, а на деле — свою вольную фантазию, смешавшую отрывки из разных трактатов цфатской школы, черновиков загадочного Лурии, и того, что он успел запомнить из слов учителя.
Но, раз никто не расшифровал настоящее содержание этих рукописей, то обман Керидо удался. Его трактат даже сравнили с трудами польского каббалиста Натана Шпиро (Шапиро), последователя лурианской Каббалы, а такая похвала многого стоит. Конкурентов, тоже заявивших себя наследниками узника башни Балшича, Ицхак разогнал куда подальше.
Кого отправил в Стамбул руководить общинами «денме», кого послал по христианским странам проповедовать, а кому-то он приписал нехорошие дела и лишил своей поддержки, изгнав из секты. Оставшись один, Керидо развернулся на полную мощь.
Куда же делись те, кто не признал Ицхака Керидо законным преемником Шабтая?! Они ушли туда, куда еще при жизни им велел идти учитель — в два львиных города, чтобы там ждать его в новом воплощении.
Лесничий Якуб тоже услышал этот призыв и пришел из Меджибожского леса, который ему больше не требовалось охранять, в Львив. Якуб хотел совершить то, о чем давно мечтал: исцелить больных волшебными сочетаниями Имен Всевышнего. Если раньше, в пору рассеяния, евреям запрещалось произносить сакральные Имена, ограничиваясь лишь словом Адонай — Господин, то в эру избавления эти ограничения Шабтай Цви объявил недействующими. Он и его последователи целыми днями могли повторять Имена, число которых — 99, писать их на чем угодно, от свитка телячьей кожи до женских амулетов. Впервые произнеся эти Имена, они радовались как дети, которым строгие родители позволили засунуть руку в банку с вареньем. Все попытки устыдить их оставались безуспешными.
Херемы они не признавали, слезы набожной родни их не останавливали. Поэтому, когда саббатианец Якуб пришел в Львив, называя себя Баал-Шем, то есть Властелин Имени, его ожидала холодная встреча влиятельных раввинов — и наивное любопытство неученой бедноты, упрямо ждущей чуда. Строгий рабби Коэн, который мог противостоять Якубу, об этом так и не узнал… Жизнь Нехемии Коэна охранял лично приставленный к нему ангел.
Пытка «стулом правды» и беспрестанные допросы не сломили его. Даже в подвале инквизиции старый раввин держался со шляхетским гонором, если можно так выразиться об ортодоксальном иудее. Обвинение в ритуальном убийстве маленькой Злоты рассыпалось, хотя иезуиты не торопились признавать ее смерть несчастным случаем. Им не хотелось освобождать Коэна, пока старейшины еврейской общины не поклянутся, что немедленно изгонят раввина. Лишь поздней осенью 1676 года Коэна выпустили из тюрьмы, не признав ни его вину, ни его безвинность, повелев евреям срочно выслать рабби за пределы городских стен вместе со всем семейством, а дом и имущество конфисковать — в пользу нуждающихся.
При ежегодной проверке семью Коэна в 13 душ — он, Малка и 11 детей — «забыли» внести в списки жителей гетто. Это означало немедленное лишение всех прав горожанина вольного миста Львив. Прогоняли Коэна, Малку и коэнят ночью, опасаясь, что он напоследок выскажет предавшим соплеменникам все, что о них думает. Шел мелкий снег.
Раввин сгибался под тяжестью узлов с постелью и посудой — хоть это ему разрешили унести. Ребецен Малка несла не менее тяжелую ношу — годовалого Элхонана, а за подол ее цеплялись, как цыплята за наседку, кучерявые малыши постарше, уже умевшие ходить. Дети плакали. В руках они держали книжки и перья. Девчонки ежились, неся узелки с куклами без лиц и одежонкою. Приданое, собираемое отцом, у них отняли. Бургомистр подгонял изгнанников. Дойдя до границы города, он зло пнул ногой в спину Коэна, но промахнулся.
— Прощайте, жиды — сказал бургомистр, — надеюсь больше никогда вас не видеть ни здесь, ни там, ни в будущем году!
— Будьте вы прокляты! — произнес Коэн, — и вы, пан бургомистр, и этот город! Вы сгорите заживо — так, как мечтали сжечь меня! Вас загонят за ограду как стадо баранов потомки тех, кто меня травил, и поведут в пекло[48]. От вас даже костей не останется!
— Что он мелет? — испугалась Малка, — никогда его таким не видела!
— А Шабтай Цви прав был, пес турецкий, — сказал Коэн, и глаза его налились кровью. — Он разочаровался в вас, потому что вы продадите даже Машиаха, если тот все же отважится прийти на эту (непечатное) землю! Может, с сыновьями Ишмаэля ему проще будет ужиться, они пере адам, порождения земли, наивные души, не испачканные европейским коварством!
Он прав[49], этот еретик из Измира, поганый «хитаслеми»! Вы его волоска не стоите, твари! Смотри, Авель — тут Коэн взял на руки предпоследнего сына, двухлетнего карапуза, первый и последний раз я произношу эти слова, первый и последний! Вы больше никогда их от меня не услышите! Никогда!
Это мой народ, сынок, это твой народ! Я ненавижу его и люблю!
Ненавижу за то — Коэн срывался в крик, разносившийся в ночи, что он не исполняет Завет и ежечасно предает все написанное в скрижалях.
Но люблю, потому что когда-нибудь Всевышний сжалится над своими дурными чадами и пошлет избавление!
Рабби Нехемия Коэн плакал, идя по заснеженному полю в предместной деревне. Никогда еще ему не доводилось столь изощренно материться, но, помня, какие мучения выпали на долю этого старого каббалиста, простим его резкие слова. Куда ушел он, никто не знал. Одни говорили, будто видели Коэна с детьми в Жолкве, другие якобы встречали его в Хотине или в Бучаче на ярмарке, третьи уверяли, что Коэн вплоть до смерти учительствовал в одной маленькой школе, где не слышали о его изгнании. Еще ходили слухи, что он совсем сошел с ума, и замерз насмерть в поле, охраняя панские мельницы, вдова пошла в услужение некой богатой еврейке, а детишек разобрали родственники, увезя кто куда, и дальнейшая судьба их неизвестна.
Тем временем еретик Якуб устроил в Львиве настоящее представление, свидетели и участники которого не поняли, было ли это колдовство, случайное совпадение или итог самовнушения. Хорошо осведомленный в новинках медицины — недаром спасенный им от неминуемого увечья пан Гжегож сравнивал Якуба с королевским доктором — он стал ходить по окраинам города и предлагать свои услуги задешево. Брать высокую плату Якуб стеснялся. Ему нужно было не собрать с бедноты гроши и исчезнуть в предрассветном тумане, но сделать так, чтобы визит Якуба запомнили все. Фатих-Сулейман Кёпе, львовский турок, давно уже перестал думать о том, что любимая жена его, Ясмина, незрячая. Если в тот день, когда мама сообщила Фатиху о скорой свадьбе со слепой дочерью букиниста Ибрагима, он очень переживал и даже хотел сбежать в Стамбул, то теперь слепота Ясмины почти не волновала его. Очарование, исходящее от встреченной на Поганке турчанки с курицей, заслонило ее недуг. Глаза Ясмины не отличались от глаз здоровых людей, многие даже не подозревали, что она ничего не видит.
Но подрастающему Ахмеду было больно видеть незрячую маму.
Сначала мальчик не понимал этого, пока однажды его не стали дразнить старшие ребята во дворе — сын слепой, сын слепой! Ахмед лез в драку, но обидчики оказались намного крупнее и сильнее его. Они обзывали его, били и быстро разбегались, если видели на улице кого-нибудь из взрослых. Нахалята болтали, будто Ахмед тоже обречен ослепнуть, а что он еще видит — досадное недоразумение.
— Давай выколем тебе глазки! — пошутили ребята и начали гоняться за Ахмедом с сапожным шилом…
Это стало последней каплей. Зареванный Ахмед побежал к отцу в лавку, и, захлебываясь слезами, кричал, что он — сын слепой, и никто более.
— Ничего, Ахмед, — сказал Фатих, — пройдет время, в Львив приедет доктор, который вылечит маму. Он протрет ей глаза целебным раствором из заморских трав, и она будет видеть!
Фатих сам не знал, откуда в его голове появилась эта мысль. И еще долго он рассказывал Ахмеду об этом выдуманном докторе, который скоро приедет из темного леса за дальними горами, который лечил самого короля и важных панов, и султана с женами.
Фантастический лекарь этот существовал лишь в воображении Фатиха, он просто утешал плачущего сына, не догадываясь, что затем все воплотится в явь. Маленький Ахмед тем зимним утром побежал по Поганско-Сарацинской, чтобы проверить застыла ли за ночь налитая им ледяная горка. Улицы Львива, особенно в кривой нехристианской части, дыбились непокорными змеями, создавая немало удобных для катания спусков. Один из них находился в конце Поганки, и вел в низкое, на зиму замерзающее, болотце. Если вечером залить спуск водой, то ночные морозы превратят его в изумительно гладкую горку, с которой лететь — сплошное удовольствие.
Добежав до горки, Ахмед увидел, что снизу, со стороны болотца, навстречу ему идет какой-то странный человек, в пушистой лисьей шапке, но босой и раздетый вплоть до длинного холстяного балахона. За спиной незнакомец нес заплатанный мешок. Ахмед даже помахал ему рукой, но тот все приближался и приближался. Увидев мальчишку, знахарь Якуб обрадовался. У детей всегда выведаешь, кому надо помочь, расскажут все, только умей слушать. Якуб заговорил Ахмеду зубы, наплел с три короба той чуши, которую нередко плетут взрослые, чтобы дети выполнили их неприятные требования. Он назвал себя волшебником, а, узнав, что турчонок живет в доме, чья стена примыкает к еврейскому гетто, заулыбался. Якуб плохо помнил львиный город, поэтому заплутал, попав немного не туда. Мальчишка подскажет мне, как перелезть через стену, прикинул Якуб, а уж там я свой. Услышав, что Якуб волшебник, Ахмед испугался.
Но тотчас же он подумал, что волшебник наверняка сумеет исцелить маму. И… рассказал все, что знал. Знахарь призадумался. Если Ясмина родилась зрячей, ослепла из-за искр, попавших ей в глаза при пожаре много лет назад, то почему бы не попробовать мои глазные капли? По крайней мере, они ей не навредят, а вернется ли зрение — зависит не только от меня.
— Пойдем, мальчик, к твоей маме — уверенно произнес Якуб, — я постараюсь ей помочь.
… Ясмина, ни на что особо не рассчитывая — столько докторов пытались лечить ее глаза! — купила у странника флакончик с каплями, и, записав, когда следует закапывать их, обещала это исполнить. Ахмед проводил Якуба до арки, ведущей в дворик Староеврейской улицы, и с тех пор его больше не встречал. Ясмина аккуратно закапывала капли, полагая, наверное, что сыну попался бродячий шарлатан, всучивший флакончик с обычной водой.
Якуб так и не узнал, что красивая турчанка, которой он дал флакон с глазными каплями, стала видеть. Ясмина прозрела внезапно, сама того никак не ожидая. Вечером, неся свечу, она заметила, что видит неяркий свет.
Это ее очень изумило: в глазах всегда царила чернота. Подумав, что она заболевает и этот свет мерещится, Ясмина легла спать. Фатиха в те дни дома не оказалось — он уехал в Краков за товарами для лавки.
Но наутро свет не исчез. Так продолжалось несколько дней подряд, с каждым днем чернота все убавлялась, а свет, наоборот, прибавлялся. К возвращению Фатиха она уже различала контуры предметов. Ясмина призналась, что слепота ее медленно тает, словно снег на ярком мартовском солнце, и она понимает, где черное, где белое. Фатих поразился. Визит странного человека в лисьей шапке, говорившего по-польски, вмиг напомнил ему выдуманные для сына «утешалки». Фатих тщательно изучил надпись на флакончике с каплями, понюхал его, а затем пошел к герру Брауну, владельцу аптеки «Под серебряным оленем». Он, тайный помощник львовских алхимиков, должен знать все лечебные капли, снадобья и эликсиры, решил турок. Однако герр Браун — даром что отличный фармацевт, учившийся не один год — ничего ему не объяснил.
— Это травы, родниковая вода. — развел руками немец, — шарлатанством не назовешь, но и от медицинской науки далеко. Лучше б вы ее в Неметчину свозили.
Озадаченный Фатих решил ждать. Прошло несколько месяцев, и Ясмина благодаря каплям Якуба вернула себе зрение, не очень острое, но вполне достаточное, чтобы не налететь на острый угол или угодить под колеса экипажа. Теперь она была не слепа, а всего лишь слаба глазами.
33-1. Туга львовска, туга гдола…
Казалось, что в турецком Каменце, напоминавшем ему родной Измир, с шумными базарами и высокими минаретами, Леви Михаэль Цви абсолютно счастлив. Ведь это Османский султанат, его дом, с которым его — как и всех турецких евреев — связывают незримые узы сопричастности. Но Леви вспоминал Львив. Те несколько лет, что пришлось провести там, в поисках загадочных манускриптов Эзры д’Альбы, сделали его настоящим львивцем, страстным обожателем серой брусчатки польских улиц, лабиринтов восточных двориков, песочных срезов Змеевой горы и старого Высокого Замка. Леви полюбил даже омелу, цепкими присосками опутывающую галицкие деревья, и бледно-зеленые папоротники, прораставшие в сырых углах, чьи молодые побеги разворачиваются как священные еврейские свитки.
— Почему ты грустишь? — спросила пани Сабина, укачивающая на руках маленькую дочку Лейлу-Каролю-Магду-Августу (как и полагается знатной польке, девочку нарекли сразу четырьмя именами).
— Я скучаю по Львиву… — ответил Леви.
— Не говори об этом, — вздохнула она, — хорошо было бы вернуться туда! Ты же знаешь, нет ничего невозможного для Пястов. Мы поедем во Львив тайно, под чужими именами! Поверь, нас никто и не узнает!
— Ну вот, — возмутился Леви, — стоило тебе войти в семью Измирского авантюриста, сразу стала перенимать наши безумства! Опомнись, Сабина! Во Львиве нас никто не ждет. Это не город, а призрак, существующий только в пылком воображении, во снах и мечтах тех, кто когда-то там был! Нельзя вернуться в свое прошлое, нельзя.
… Ночью Леви приснилось: он идет темными львивскими улицами, Татарские ворота закрыты, домой не попасть до рассвета. Леви видит больного, дряхлого льва, охраняющего лестницу у Нижнего Замка. Львиная грива спутана космами, глаза слезятся, когти затуплены, кисточка хвоста уныло волочится по земле.
— Садись на мою спину, — шепчет ему лев по-еврейски, — садись, не бойся, клыки мои давно сточились.
Леви чувствует теплую, шерстяную спину старого льва. Почему-то перед ними оказываются Львиные врата Иерусалима, закрытые до явления Мессии.
— Видкривай — шепчет ему лев уже по-местному, — видкривай, будь ласку!
Леви со страхом ударяет в железо, выкованное еще при Салах-ад-Дине, кулаком — и просыпается. На мгновение ему чудится, будто дряхлый лев стукнул Леви по носу кисточкой хвоста.
Пани Сабине тоже снится Львив. Она поднимается по длинной узкой лестнице, зная, что на самом верху увидит Высокий Замок. Но лестница все не кончается и не кончается, уже устали ноги, хочется присесть.
Польского Львува, того, где живет пани Сабина, давно нет на свете.
Нет и яркого еврейско-турецкого-татарского Львива, армянского Аръюца, итальянского Леополя. Только во сне, иногда, украдкой, словно опасаясь, что снова исчезнет, и то этого мгновения мало.
Львиные пасти надежно сомкнуты.
Львиные врата не открываются.
Мессия так и не пришел во Львов.
33-2. Ад. День открытых дверей. Львив, 2004 год
… Олеся Духманович приехала у Львив вечером 24 ноября 2004 года.
Еще несколько дней тому назад она вовсе не собиралась путешествовать: на носу зимняя сессия и страшный зачет по сравнительному религиоведению, предмету, который вел очень лютый дядечка. Но внезапно, на телефон комендантши в общежитие позвонила львовская бабушка Олеси.
— Приезжай у Львив, — просила она, — приезжай, родная! Когда еще я тебя увижу? Может, этот год последний.
Вообще-то бабушка о «последнем годе» говорила уже несколько лет подряд, но Олеся решила ехать. Она сама соскучилась по львиным холмам.
А сравнительное религиоведение можно подучить и у бабушки, прислонившись спиной к изразцовому боку польской печки, лишь недавно переведенной с дров на газ.
Олеся сошла с поезда. По пути Олесе встретились клоуны и люди в оранжевых одеялах. Они были обкурены и взбудоражены.
Сев в 6 трамвай, Олеся понеслась на старую польскую улицу, ныне носившую имя Мельника. Трамвай заносило на резких поворотах, казалось, что он сейчас вот-вот сойдет с рельсов. В магазинах уже зажигали подсветку. Учебник гулко бултыхался в сумке.
— Почитаю завтра — подумала девушка, — еще будет время.
В квартиру бабушки, маленькую, выгороженную из бывшей коммуналки, вела брама — парадные ворота, двустворчатые, вырезанные из крепких дубовых панелей. Ручки им заменяли львиные головы, держащие в пастях металлические кольца. Олеся вступила на широкую, с низкими гладкими ступеньками, винтовую лестницу, опираясь на удобные, тоже гладкие, перила. Неожиданно ей на голову упал здоровенный черный котище. Свалился он тихо, аккуратно, без непременного скрежета когтей о перила и истошного мяуканья.
Олеся даже не сразу поняла, что произошло, только почувствовала, что стало тяжело нести голову. Кот улегся, свернувшись кругом, и не собирался слезать.
— Ой, а что это за черная беретка у тебя? — спросила бабушка у Олеси.
— Беретка? Черная? — Олеся подняла руку к голове.
Кота не было, вместо него лежал черный бархатный берет.
— Купила на барахолке — сказала она, чтобы не пугать старушку.
Олесе померещилось, будто беретка дернула хвостиком и еле заметно мяукнула. У бабушки было спокойно, тепло. Грелся древний фаянсовый чайник, разрисованный крупными синими розами, на столе стояли любимые Олесей чешские чашки — бежевые с розоватыми и серебристыми узорами.
— Кушай, кушай — бабушка пододвинула к ней большое блюдо с тортом из взбитых сливок и шоколадной крошки.
Дальше Олеся помнила только то, что легла спать в нишу.
О, благословенный польский дом! Что там держали при Пилсудском — корзины с грязным бельем или пианино?!
Снилось ей нечто невообразимое. Беретка ожила, замяукала (совсем Булгаков!), заговорила на чистом русском языке о прежнем домовладельце, Генрике Эбере, чье имя выбито на кафельных плитах в подъезде и в ванных комнатах. Затем у черной беретки проступил еврейский акцент.
Смешно, но Олеся никогда не знала, как звучит этот акцент. Она понимала слова котищи, который вел ее куда-то далеко по коридору к черной лестнице.
— Я не хочу на черную лестницу, — прошептала девушка беретке, — там соседи сверху план курят.
— А мы за дверку, за дверку, вот туда! — ласково промурлыкал котище, вырастая на глазах.
— Какую дверку? Зачем? — упиралась Олеся.
— В аду, как и во всяком заведении общественного призрения, — пояснил кот, — есть день открытых дверей, йом далетот птухот. И сегодня как раз он настал. В этот день все души, оказавшиеся между раем и адом, не попавшие ни туда, ни сюда, должны выйти сквозь двери и попытаться изменить свою участь.
— Бред какой-то, — буркнула она, — не верю. Я сплю, и мне снится…
Котище привел Олесю к стене, оклеенной обоями десятилетней давности.
В стене образовалась дыра, точно вывалилось несколько кирпичей, с неровными, обожженными краями, и из нее стали выходить призраки.
Может, это были люди, но старомодные и потрепанные, с бледными лицами. Первым пределы ада покинул господин Франк, тезка чернокнижника Якуба из Меджибожского леса. На шее у него сидел горностай в зимнем наряде: белое тельце, черненькая половинка хвоста. Красная турецкая феска была прибита к черепу гвоздем, и по феске до виска струилась свежая красная струйка.
Франк тащил какой-то странный стул черного дерева с полировкой.
Сиденье его ровно посредине прорезали змеиные позвонки, от которых расходились кобриные изгибы. Ножки стула тоже напоминали змей, а одна из них украсилась ехидной головой демона, похожего на бульдога, с мощными челюстями и выпученными глазами. Франк оглянулся и сел на свой стул. За ним последовали невзрачные люди, похожие друг на друга, как адепты одной секты. В руках они держали подсвечники, сплетенные из трех змей с ямками в головах.
— Это его соратники — шепнул Олесе черный кот, вновь обернувшийся береткой.
В конце проследовала красивая, но бледная женщина с черными волосами.
— Ева, дочь и наложница Франка — сказал котик, — участница страшных ночей тьмы, которые Франк устраивал со своими друзьями. Они гасили свечи, чтобы не узнать друг друга, и предавались блуду прямо на расстеленных священных свитках.
— А кого они ждут? — спросила Олеся.
— Шабтая Цви, неудавшегося Мессию. Он должен появиться здесь с минуты на минуту и попытаться изменить участь тех, кого невольно обманул, считая себя великим реформатором.
Беретка вытащила непонятно откуда Олесин учебник по религиоведению и ткнула ее носом в абзац на странице 217.
«… Шабтай Цви, раввин и каббалист из города Измир (Османская империя, ныне Смирна, Греция), в 1648 году провозгласил себя Мессией, создав иудейско-мусульманскую эзотерическую группу. Ее последователи ожидали конца света в 1666 году и страшного суда, однако Шабтай, желая избежать ответственности за свои слова, перешел в ислам… Будучи одновременно каббалистом под псевдонимом Амирах и дервишем ордена Бекташи по имени Азиз Мухаммед Капыджи-баши, по легенде оказался не принят после смерти ни в один из разделов преисподней…»
Олеся точно помнила: в учебнике такого текста не было!
Но котище продолжал читать. «… Шабтай Цви неоднократно пытался внедриться в разных людей (это должно произойти в городе — или около него — под гербом Льва), но был изгнан. Известен случай вселения его в тело женщины в 1903 году (Иерусалим).»
Олеся смотрела на дыру в стене. Из нее осторожно выглянул высокий темноглазый мужчина, с головы до ног облепленный летучими мышами всевозможных видов и цветов.
— Заходи, Шабтай, не бойся, все свои — протянул ему лапу кот.
— Первые 300 лет, сказал Шабтай (он говорил на иврите, но Олеся почему-то его понимала), — я изводил адских стражников просьбами пересмотреть мое дело и отправить из прихожей в какую-нибудь комнату. Но они только насмехались надо мной, уверяя, будто ад — это не наказание, а образ жизни, который мы выбираем по доброй воле. И я не якобы недостоин этот выбор сделать. Тогда они обвесили меня летучками, не дававшими покоя ни днем, ни ночью. Снимите их, пожалуйста!
Олеся начала отвешивать летучек от Шабтая. Но они плотно прицепились к одежде и снимались с трудом.
— Это навсегда — сказала она, они не отклеиваются.
— Придется ходить так — согласился Шабтай.
Олеся с любопытством рассматривала выходца из преисподней.
— Вы, правда, никогда обо мне не слышали? — удивился он.
— Никогда — призналась Олеся, — мы изучали только мировые религии.
Беретка пискнула:
— Пропиши его в квартиру бабушки, у него турецкий паспорт и тогда Шабтай Цви попадет в свой вожделенный ад. Видишь, как он измучился!
— Замолчи — Франк грубо оттолкнул котищу от Олеси. — Не слушайте его, пани, он ересь плетет. Пропишите лучше меня. Как только я получу привязку к земному месту.
Шабтай ударил Франка по спине.
— Молчи, еретик, извратитель! За твои дела ты надежно запрятан в католическом аду, а потом еще лет 700 будешь мерзнуть с мусульманами! Нашел к кому лезть, собака!
Франк попятился.
— Ты чистая, наивная душа, — произнес Шабтай Цви, обращаясь к Олесе.
— Вы принесете меня в жертву? — покорно спросила она.
— Это зачем?
— Ну, в кино всегда так: мертвецы и девушка, которую они убивают.
— Это не кино, возразил Олесе Шабтай Цви, вот, котик подтвердит.
Беретка кивнула.
— Все гораздо серьезнее, Олеся, — вздохнул Шабтай. — Только незаинтересованный человек, который ничего про меня не знает, и не может встать ни на мою сторону, ни согласиться с моими врагами, способен изменить горькую посмертную жизнь. Пропиши меня у Львиве, в этот дом на улице Мельника, и тогда я смогу вернуться к тому, с чего начал.
— Но как же бабушка?
— Бабушка ничего не узнает — уверил ее котище. — Вот соседи твои прописали на своих 34 метрах 129 узбекских нелегалов, а никто об этом не слышал. Зайди в домоуправление к Эльвире Тарасовне, она пропишет кого угодно. Тебе всего полдня возни, а ему — спасение.
— Я подумаю — попятилась Олеся, мечтая проснуться. Никогда не догадывалась, что борьба за квартиру в польском доме может довести людей до такого… Прописать покойника!
— Сами вы покойники — сказал Шабтай, — я по-человечески прошу, пани Олеся, пропишите. На колени встану, ясочка моя, золота дам на взятку Эльвире Тарасовне..
И Шабтай Цви, все еще облепленный летучками, упал на колени, целуя руки. От летучек пахло медовыми коврижками, сладко, сладко.
Олеся проснулась. На одеяле сидела черная беретка, валялся бархатный мешочек с золотыми пиастрами.
— Просыпайся, Олеся, полдень уж.
Бабушка зашла к ней в нишу.
— Умаялась, бедная, устала. Но вставай, я ватрушек напекла. И к зачету подготовиться надо.
Беретка не шевелилась, а мешок оказался кинутым вчера второпях банным халатиком.
— Нет уж, — решила Олеся, — на улице Мельника я никого не пропишу!
От ее рук сильно пахло медовыми коврижками.
На кухне бабушка с отвращением отцепила висящего на шторе нетопыря и швырнула его в форточку.
Если кому-то что-то не понравилось, автор претензии не принимает.
Часовня Боимов открыта, Размкнулись львиные уста. Но мисто Львив опять нависло Проклятьем древним… Навсегда?весна 2008- зима 2010.
Примечания
1
Тише, тише! (Ивр.)
(обратно)2
По другим данным ее звали Эстер.
(обратно)3
Царство! (Ивр.)
(обратно)4
Авторская переработка польских и литовских преданий о происхождении Радзивиллов.
(обратно)5
В одном из замков, который принадлежал Радзивиллам, еще в XVIII веке, как вспоминают очевидцы, хранилась страшная металлическая птица, похожая не то на ворону, то на цаплю, не то на доисторического птеродактиля.
(обратно)6
Внутренности сельди (польск.).
(обратно)7
Мальчик, младенец (ивр.).
(обратно)8
Обрезание (ивр.).
(обратно)9
Точная дата неизвестна.
(обратно)10
«Нун» — конечная (ивр.).
(обратно)11
Местное название ядовитой змеи.
(обратно)12
Самые Богатые евреи мира передавали Шабтаю Цви пожертвования на восстановление Израиля.
(обратно)13
Страстный, тот, что жаждет Цви (ивр.).
(обратно)14
До конца XVII века шестиконечная звезда не была чисто еврейским символом.
(обратно)15
Где я? (Ивр.)
(обратно)16
Сабатианцы сделали это благословение своим «фирменным знаком».
(обратно)17
Запрещено (ивр.).
(обратно)18
Сейчас начинается зеленая весна, зеленая весна возрождения, мы построим Израиль и станем свободными (ивр).
(обратно)19
Распространенная хасидская песня.
(обратно)20
Большая тоска (ивр.).
(обратно)21
Начало разрушения Высокого Замка приходится на середину XVII века.
(обратно)22
Так званый «херем рабби Гирсона»
(обратно)23
Сильна как смерть любовь (ивр.).
(обратно)24
Мой друг (ивр.).
(обратно)25
Не переживай (ивр.).
(обратно)26
«Путь Ибрахима/Авраама» — эзотерический орден иудейско-мусульманского характера. К нему принадлежали, согласно сомнительных сведений, Шабтай Цви и Якуб Франк, а также немало других известных людей. Существует до сих пор.
(обратно)27
Все в порядке(ивр.).
(обратно)28
«Древо познания» (ивр.).
(обратно)29
«Гранатовый сад» (ивр.).
(обратно)30
Самого благословения не достаточно (ивр.).
(обратно)31
Титул главного раввина в мусульманских странах, а также уважительное обращение к старейшине у евреев-сефардов и караимов.
(обратно)32
Название сборника иудейских религиозных законов в мусульманской традиции.
(обратно)33
Александром Македонским.
(обратно)34
Окружной маршрут был выбран намеренно.
(обратно)35
От ивритского «асир» — заключенный.
(обратно)36
Вепрь на аллегорическом языке той эпохи символизировал похоть и чревоугодие, а осел — тупость и упрямство. Кроме этого, шкурами этих животных евреям запрещалось обивать мебель.
(обратно)37
Стандартное название ряда иудейских трактатов, посвященных критике христианства. Были ли подобные тексты у Коэна на самом деле, неизвестно.
(обратно)38
Ересь, раскол (польск.).
(обратно)39
В основу этого эпизода легла так называемая Сандомирское дело 1698 года.
(обратно)40
Романиоты — название евреев Византии.
(обратно)41
Именно такое кресло, «трон», смастерили ученики для рабби Исраэля Бешта (Баал-Шем-Това).
(обратно)42
Широко известная иудейская молитва.
(обратно)43
Древний магический рецепт, хорошо известный в Галичине.
(обратно)44
По закону нашего Господа, проклинаем Матиэля, сына Реувена, перед лицом святого собрания, всеми проклятиями.... Проклинаем утро и день его, проклинаем входы и выходы дома его, проклинаем тысячи мест, куда ступит его нога.... Пусть поглотят его мириады ящеров...
Настоящий текст пульсе денура тщательно скрывается. Здесь приводится дилетантская реконструкция проклятие, взята с оккультного сайта.
(обратно)45
XVII века. — пора расцвета «сарматизма».
(обратно)46
По воспоминаниям современников, Эли (Элия) Цви разочаровался в идеях брата, покаялся и вернулся в лоно ортодоксального иудаизма.
(обратно)47
Возможно, этим объясняется то, что рукописи Шабтая Цви до сих пор не найдены, остались только три приписываемых ему субботних гимна.
(обратно)48
Коэн покинул город из пригорода, где в XX веке нацисты сделают Яновское гетто.
(обратно)49
Согласно преданию сабатианцев, Коэн перед смертью сожалел о своей вражде с Шабтаем Цви и отчасти признал его правоту.
(обратно)



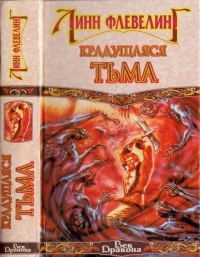
Комментарии к книге «Львив», Юлия Мельникова
Всего 0 комментариев