Часть первая. Дикие земли
Глава 1. Обоз
Укатанная дорога, ведущая от Новгорода на Псков, петляла среди густых, ароматных сосновых боров, мимо вспаханных полей и поросших молодой весенней травой пастбищ, временами перекидывалась через ручьи и неширокие реки, пересекала болота. По состоянию тракта сразу было видно, что, в отличие от иных пограничных земель, эти ни разу не попадали под власть жадно поглядывающих на богатые русские земли немецких рыцарей и жмудинов, а потому и ямские станции стояли здесь через каждые десять-пятнадцать верст, болота были надежно загачены, упрямо лезущий на дорогу кустарник — беспощадно вырублен, а через речушки имелись прочные бревенчатые мосты.
Впрочем, неспешно ползущий по дороге обоз явно не нуждался в сменных лошадях. Шесть присыпанных сеном телег, на которых сонно развалились полтора десятка опрятно одетых в похожие рубахи и шаровары мужиков, да пятеро всадников во главе. Первым двигался невысокий, широкоплечий, кареглазый монах — во всяком случае, именно такая мысль приходила в голову при виде черной сутаны и откинутого на спину капюшона. Однако, оскаленная собачья голова, болтающаяся у одного стремени, и пышная метла, прицепленная к другому, а также короткая стрижка и длинная окладистая русая борода, лежащая на груди, доказывали, что монах сей на деле принадлежит к числу избранной первым московским царем, государем Иваном Васильевичем, тысяче служилых людей — тех, кого спустя пару веков историки станут называть опричниками. Черная сутана, метла и собачья голова свидетельствовали еще об одном: опричник оделся для торжественного случая — когда и за собакой поохотиться не лень, и доспех без опаски скинуть можно, и метла у стремени не мешает.
Следом за опричником покачивалась пара: стройная синеглазая остроносая девушка, голову которой не по обычаю покрывал не убрус или хотя бы платок, а немецкий бархатный берет с одиноким разноцветным пером. Несмотря на теплую погоду, на плечах ее болталась шитая алым и синим картулином и подбитая горностаем зеленая душегрейка, расстегнутая на груди. Снизу проглядывал не привычный русский сарафан, а черный шелк платья, ворот которого застегивался сбоку; на груди алела умело вышитая роза. Ноги ее так же скрывала не юбка, а пышные шаровары из тонкой шерсти, уходящие в низкие яловые сапожки.
Рядом с девушкой гарцевал рыжий кудрявый боярин в нарядном сиреневом с золотом зипуне, опоясанный широким кожаным ремнем с глубоким тиснением. Следом за парой молодых людей двигались не менее нарядно одетые пожилой боярин и еще один, немного помоложе.
Все бояре обоза ехали без оружия, что лишний раз свидетельствовало о мирной цели их путешествия: на Руси, в отличие от диких западных земель, Разбойный приказ строго следил за безопасностью торных дорог, и от станишников их давно очистил. Потому и не имели русские люди привычки постоянно таскать у себя на боку сабли или шестоперы. Разве только кистень на всякий случай за пазухой припасут, да засапожный нож рядом с ложкой сунут.
На первый взгляд, создавалось полное впечатление, что обоз сопровождает молодых, переезжающих в новое поместье. И одеяния про это намекали, и взгляды, которыми обменивалась едущая впереди парочка. Вот только смерды, развалившиеся на телегах, казались неестественно широкоплечими и рослыми, даже в сравнении с опричником — а государь, как известно, хлюпиков в избранную тысячу не звал.
В двух сотнях саженей за обозом ехали еще трое всадников: боярин в потрепанном налатнике с несколькими вошвами и двое смердов в тулупах. Эти тоже были без оружия — во всяком случае, на виду. И что странно — не имелось у всадников ни заводных коней, ни чересседельных сумок. Да и не торопились они никуда, хотя верховому двигаться куда как быстрее по силам.
С каждой верстой дорога все реже огибала болота и овальные лесные озерца, под копытами все больше струился песок, вместо травы по земле стелился сухой синеватый мох, а вокруг потрескивали, качаясь от ветра, высоченные сосны. Наконец, перевалив очередной холм, путники обнаружили впереди широкие поля, перемежающиеся отдыхающими под «паром» землями, сенокосными лугами и пастбищами.
— Почти добрались, — подал голос пожилой боярин. — До темна на месте будем.
Опричник сладко зевнул, оглянулся, но вслух ничего не сказал.
Дорога свернула в густую березовую рощу — такие часто поднимаются на местах бывших пожарищ. Верховые и один из возничих торопливо перекрестились, а вот смерды на повозках не отреагировали никак.
Обоз миновал дружелюбно шелестящий березняк, снова оказался среди возделанных полей — но теперь впереди стали видны могучие стены древнего Пскова, остроконечные шатры башен, высоко взметнувшиеся кресты православных храмов. Чуть отступя от стен, выстроилось множество собравшихся в кучки сараев, над крышами некоторых из них тянулись к небу сизые дымки.
Топили явно не ради обогрева: теплое майское солнце уже успело развеять память о недавних морозах. Люди занимались делом: ковали оружие, лили колосники и решетки, мяли кожи, вываривали грязную одежду. Псков трудился и богател. Как ни старались многочисленные орденские и литовские шайки едва не каждый год одолеть его стены да разорить окрестные земли — но самый могучий после Новгорода город Европы громил одного захватчика за другим, продавал еще недавно хваставшихся силой врагов в закуп, а то и вовсе туркам или татарам, перековывал их кирасы и мечи в кольчуги и гвозди, да продолжал как ни в чем не бывало заниматься своими делами. И так успешно, что все купцы, жившие на запад от Чудского озера, всеми правдами и неправдами, сражаясь с витальерами и раздавая мзду чиновникам, рвались к пристаням Нарвы — торговать «с Россией», получить доступ к идущим со Пскова в нарождающуюся Европу товарам.
Тут выяснилась еще одна странность бредущего со стороны Новгорода обоза: он не стал въезжать в гостеприимно распахнутые ворота, а повернул на узкую колею, ведущую в сторону рыбацкой деревушки Ершово.
Видано ли дело: оказаться вблизи богатого торгового города — и не заехать! Пусть не поторговать — просто новости узнать, товары посмотреть, о ценах справиться, а то и приглядеть что, для хозяйства нужное. Но обоз невозмутимо затрясся на жестких валунах дороги, на которую никто не собирался тратить тяжелые рубли ямского тягла, а смерды и бояре лишь с любопытством скользнули взглядами по зубцам высоких стен.
Чудо безразличия повторилось спустя четверть часа — появившийся на дороге в сопровождении двух смердов боярин перекрестился на церковные купола и… повернул в сторону Ершово.
Впрочем, скучающие в надвратных башнях стрельцы мало интересовались странностями в поведении проезжающих мимо города купцов и крестьян.
Оружием не бренчат, не богохульничают, заторов не устраивают — и ладно. Их дело ворога вовремя разглядеть, ворота захлопнуть, внутрь не пропустить. Все остальное — мелочи.
Не возникло никаких подозрений и у купца Анастаса Полинского, выезжающего из русского города с двенадцатью бочонками первосортного пушечного сала, и у одинокого монаха, бродящего то по ливонским, то по русским пределам, без особого успеха неся слово Божие. Ну, покатил еще один обоз в глухие лесные дебри, ну и что? Чай, не к Юрьеву или Колываню направляется!
Потому-то ни один доносчик и не сообщил о новых людях на западном пределе Руси ни псковскому наместнику Турунтаю, поставленному три года назад взамен проворовавшегося князя Шуйского, ни великому магистру Готарду Кетлеру, который сменил постаревшего барона фон Фурстенберга, ни полновластному властителю западного берега Чудского озера — дерптскому епископу.
А обоз задолго до темноты добрался до деревушки в семь домов и остановился у рубленой церкви. К новоприбывшим уже торопился староста — одетый в рубаху и темные шаровары ширококостный старик с большими заскорузлыми ладонями. Остановившись за пять шагов до опричника, он приложил руку к груди и низко поклонился:
— Здрав будь, Семен Прокофьевич.
Появление в здешних местах государева человека Семена Прокофьевича Зализы старосту особо не удивило: поставленный Иваном Васильевичем охранять рубежи и порядок обширной, но малонаселенной Северной Пустоши, служивый человек нередко появлялся в самых неожиданных местах, на самых заброшенных тропах, следя за тем, чтобы не шалили на них лихие людишки, чтобы не появлялись лазутчики, нехристи-проповедники, али иные незваные гости.
Правда, обычно Зализа ездил без обозов, верховым и оружным, но коли вдруг решил обойтись без сабли — так оно и спокойнее. Стало быть, после зимнего разгрома Ливонского Ордена опасности порубежник более не чувствует. А оно — и простому рыбаку спокойнее.
— И ты здравствуй, Агарий, — спустился с коня опричник. — Приютишь гостей на ночь?
— С радостью, Семен Прокофьевич, — выпрямившийся старик не подобострастничал, не суетился, явно ощущая за собой правду и гнева государева человека ничуть не боясь. — Да только свечерело ужо, улеглись соседи. Разве к себе на двор могу всех впустить, а вас, Семен Прокофьевич, и бояр с боярыней в горнице положить.
— А и на двор пойдем, — легко согласился гость. — Ты уж харч какой нам справь, а в уплату мы тебе телеги свои оставим. Чай в хозяйстве пригодятся?
— Отчего не пригодиться? Сгодятся в хозяйстве, — не стал спорить староста.
Такой подход государева человека его вполне устраивал: Зализа не требовал взять его со свитой на постой, старосте не придется раскладывать нежданную тяжесть на односельчан, выслушивая их недовольство. Раз гости расплатятся, стало быть можно и самому погреб маленько распотрошить, не в убыток пойдет. — Женка аккурат пироги днем справила, с грибами и убоиной. Вы к крайнему дому правьте, сейчас ворота отворю.
Зализа тоже ничего не терял: телеги эти ему все равно более не понадобятся. Староста, получив подарок, хвастаться лишний раз не станет, а потому и молва о появлении опричника со служилыми людьми на западном порубежье далеко не уйдет.
— Вода теплая в кадушке стоит, сено там же, на дворе. Распрягайте, а снедь я сейчас принесу.
В избу никто из путников не пошел. Хотя высокие мужики в похожих рубахах и могли считаться смердами Зализы, поскольку жили на его земле; а спешившиеся бояре были помещиками в седьмом колене, однако и те и другие успели дважды вместе сходить в поход, вместе проливали кровь на узких тропах близ Ижоры и на льду Ладожского озера. Обитатели рюриковской Руси не знали рабства ни в жестоком европейском обличии крепостничества, ни в образе откровенной турецкой работорговли, а потому не видели непреодолимой пропасти между владельцем земли и пашущим ее смердом. И коли мужчина вышел в поход с оружием в руках, коли готов встать животом на защиту родной земли — считался он уже не крепостным или барином, а человеком служилым — равным среди равных. Потому никто и не счел для себя возможным уйти в натопленную избу в то время, как сотоварищи его оставались на холодном дворе — даже Зализа, поставленный на рубежи Северной пустоши самим государем, а потому по праву считавший себя воеводой их небольшого отряда.
Особняком держался только Прослав, попавший в закуп к боярину Батову всего полгода назад, а потому еще не полной мере осознавший себя полноценным русским человеком. Он старательно чистил шкуру верной Храпки, сумевшей вместе с ним благополучно пережить зимний поход, и время от времени недоверчиво трогал торчащий из-за пояса клевец, выданный ему барином.
Настоящий клевец! Всего полгода назад его, раба дерптского епископа, за подобную наглость — владение оружием — любой монастырский стражник или заезжий рыцарь без всяких проволочек повесил бы на ближайшем дереве! А здесь — выдали и за почесть не сочли, хотя в поход взяли не воином, а обычным проводником.
Прослав даже подумывал: а не встать ли ему в общие ряды, когда бояре начнут рубиться с епископскими воинами? Ведь топором работать ему приходилось с младых ногтей, рубить он умел хорошо, а чекан оказался даже легче обычного крестьянского инструмента… Но перед глазами тут же вставал кровавый лед, скорченные тела затоптанных кнехтов, разрубленные головы, из которых медленно сочился мозг, вывороченные ноги — и он, испуганно крестясь, мысленно шарахался от дурного желания. Нет, воевать хорошо в обозе, можно проводником сходить — но вставать перед конной лавой…
— Господи, помышляю день судный и сокрытый, плачу о содеянных мною грехах и вопию: Ты, Всеблагий Господи Иисусе в час исхода моего не остави меня, но помилуй мя, — мелко крестясь, прочитал Прослав молитву от внезапной смерти и принялся торопливо разносить лошадям свежее сено.
Из избы вышла дородная женщина в сером домашнем костыче, с большим подносом в руках, следом, тоже с подносом, шла девица лет пятнадцати. Бояре громко захмыкали. Девица с готовностью зарделась. Почти сразу следом появились двое пареньков лет десяти с медными блюдами и сам староста с деревянной братиной.
Разумеется, испеченных даже на большую семью пряженцев и расстегаев трем десяткам служилых людей хватить не могло, и рыбак Агарий добавил к угощению копченой рыбы и холодного вареного мяса, а вместо привычного в постные дни сыта или кваса принес сладковатый хмельной мед.
— Вот, чем Бог послал, гости дорогие, — поклонился хозяин, и подтолкнул девицу к избе, подальше от веселых взглядов богато одетых бояр.
Впрочем, путникам и без хозяйской дочки было на кого посмотреть. Все они с интересом следили за поведением ехавшей за опричником парочки: рыжего, русобородого боярина с бесцветными глазами, и худенькой, простоволосой, коротко стриженной девицы, срамно одетой то ли в мужское, то ли в татарское платье.
Молодые люди, ощущая всеобщее внимание, чувствовали себя неуютно, а потому, держась друг друга, прятали глаза. Ночевать на сеновал они забрались тоже вместе, однако легли поодаль, старательно не встречаясь взглядами.
Смерды же, успевшие за день хорошо отлежать бока, укладываться не торопились, освобождая телеги, проверяя целостность спрятанных под сеном чересседельных сумок, обматывая ремнями продолговатые свертки, прилаживая ремни темно-зеленых брезентовых рамных рюкзаков. Угомонились они только глубоко заполночь, благо весенний день долог и позволяет успеть очень многое — поднялись с первыми утренними лучами, и тут же принялись поднимать заготовленную поклажу на спины едва успевших попить воды и пожевать овса лошадей.
Появилась хозяйка дома, внесла большой глиняный горшок, полный пахнущей грибами гречневой каши. Служилые люди, доставая из-за пояса или из-за сапожного голенища завернутые в чистые тряпицы ложки, потянулись к угощению. Походный закон суров: зазевался — ходи голодным.
Впрочем, как гласит древняя присказка: на Руси от голода не умирают. Некоторые путники с утра просто есть не любили, и лишь попили на дорогу теплой водицы с разведенным в ней медом, некоторые и вовсе предпочли ледяную колодезную водицу. День долгий, будет еще и обед, и ужин. Не пропадут.
К тому времени, когда солнце развеяло утренний туман, и деревенские рыбаки потянулись к своим лодкам, путники, ведя лошадей в поводу, вышли из ворот двора и двинулись дальше, по ведущей вдоль берега узкой тропе.
Староста проводил их до околицы, остановился:
— Счастливого пути, Семен Прокофьевич. Вот, возьми в дорогу рыбки копченой, — староста протянул два больших берестяных бурака, источающих густой запах дыма.
— Прослав! — окликнул опричник батовского смерда. — Прими.
Он подождал, пока мужичонка в потрепанном полушубке заберет туеса, после чего благодарно кивнул:
— Спасибо, Агарий. Оставленные у тебя на дворе телеги можешь забрать, мы назад другой дорогой пойдем.
— Благодарствую, Семен Прокофьевич, — поклонился староста. — Будете рядом, заезжайте.
Опричник не ответил, спустился по тропке к густому ивовому подлеску и ступил в лесной полумрак.
Дороги вдоль берега богатого Чудского озера отродясь не имелось. Да и зачем она там, где от одного поселка к другому всегда можно летом проплыть на лодке, а зимой проехать по льду? Это еще от Ершово к близкому Пскову рыбаки накатали колею, по которой, пусть с трудом, проходила одна телега или могли проехать бок о бок два всадника. А те селения, что стояли от города не в десятке, а в нескольких десятках верст, посуху ни на торжище, ни в церковь и в мыслях не думали добираться. Потому-то у семей многих имелось по две-три лодки, но ни единой телеги.
И тем не менее, селений вдоль рыбного озера хватало, и время от времени кто-то по нужде, по лени или по глупости пытался пройти от одной деревни до другой пешком. Десятки ног постепенно натоптали извивающуюся мимо бездонных топей или пахнущих кислятиной, подернутых изумрудным слоем ряски вязей тропу, проходимую для конного или пешего, но уже недоступную для повозки или волокуши.
Среди путников теперь не осталось верхом ни единого человека: на спинах вялых меринов и понуривших головы лошадей покачивались объемные сумки и тюки, да и у людей рюкзаки легкими не казались. Потому болтать на ходу никого не тянуло — шли молча, тяжело вдавливая ноги в сырую землю, временами выжидательно поглядывая на небо.
Тропа то выводила путников к самой воде, позволяя полюбоваться безграничным озерным простором, то отворачивала в глубину леса, огибая прибрежные болота, то насквозь прорезала шелестящие камышовые заросли. Наконец берег озера повернул к западу, и путники окончательно углубились в светлый редкий березняк.
После полудня опричник дал отряду возможность отдохнуть. Лошадям отпустили подпруги, давая возможность пощипать хрусткой тонколистой осоки, людям Прослав роздал копченых лещей. Получилось по полрыбины на человека — обед, может, и не сытный, но быстрый и вкусный.
Подкрепившись, двинулись дальше. Теперь тропа шла практически по прямой, лишь изредка огибая пятна неглубоких заиленных луж, редкие, но густые ольховники, перегибаясь через полусгнившие древесные стволы. Временами под ногами начинало чавкать, но высоко вода не поднималась, и дело ограничивалось намокшими сапогами.
Когда люди уже начали подозревать, что весь окружающий мир состоит только из осоки, берез и хлюпающей под ними жижи, земля вдруг пошла наверх, между деревьями появился просвет, и вскоре они вышли к далеко вытянувшемуся в длину свежевспаханному полю, по краям которого стояли два дома.
— Боровиково… — с облегчением передернул плечами Зализа. — Стало быть, не заблудились.
Задерживаться в селении путники не стали: пока день не кончился, нужно пройти как можно дальше. Хозяева, не доверяя незваным гостям, из изб даже не выглянули — так и разминулись, не увидев друг друга, случайные прохожие с отвыкшими в глуши от общения хозяевами лесной деревеньки.
— Теперь недалеко! — Пока отряд двигался вдоль поля, опричник успел обогнать длинную колонну и теперь шел во главе. — К озеру выберемся, сразу на ночлег и встанем. Тут комары сожрут.
Ему никто не ответил, хотя люди все-таки слегка взбодрились, предвкушая обещанный отдых. Солнце уже заметно опустилось к горизонту, и до привала в любом случае оставалось совсем немного времени.
Зализа поглядывал на небо тревожно. Он знал, что если они до темноты не успеют дойти до Желчи, то ночевать придется на болоте, что сулит больше мучений, чем отдыха. От Ершово до речушки с желтоватой болотной водой немногим больше трех десятков верст. Расстояние для пешца большое, но одолимое. Тем паче, что люди все отдохнувшие, ни в дальнем переходе, ни на работах, ни в бою вчера незанятые. Однако солнце опускалось все ниже, в лесу становилось прохладнее, над травой начал виться вечерний туман, в воздухе загудели оголодавшие комары.
— Не пора ли останавливаться, Семен Прокофьевич? — нагнал его пожилой боярин. — Место нужно отыскать для ночлега, пока не стемнело.
Евдоким Батов, собравшийся в поход вместе с осевшими в Кауште иноземцами и государевым человеком, был опытным воином, ходил в походы и на Литву, и на Казань, прикрывал южные рубежи от турецко-татарских набегов, и к его мнению стоило прислушаться. И все же… И все же, по лесным тропам вкруг Чудского озера ходить ему не приходилось, и мест здешних он совершенно не знал.
— Еще немного, боярин Евдоким, — покачал головой Зализа. — Место впереди должно быть хорошее.
Тропа уперлась в реку в тот час, когда опричник уже отчаялся ее увидеть и начинал опасаться, что заблудился в однообразном березняке. Бурая лента воды ничем не выделялась на фоне остального леса — ни кустов по берегам, ни склонившихся над руслом плакучих ив. Просто зеленый травяной слой немного понижался и сменялся темной торфяной водой. Перепутай они направление — могли бы неделю идти вдоль русла на расстоянии полусотни шагов, и не заметить.
— Брод где-то здесь, — опричник торопливо разделся. Скинув рясу и порты, скатал их в плотный рулон, положил на голову и вошел в воду. — Ух, холодная!
Глубина сразу у берега оказалась выше колен, но дальше увеличивалась не торопясь, на самой стремнине добравшись только до пояса.
— Нормально, — удовлетворенно кивнул опричник, выбравшись на другую сторону, и поворачиваясь к остальным участникам похода. — Он самый. Лошадям едва по брюхо будет. Переводите.
Мужчины начали раздеваться, совершенно забыв, что среди них присутствует девушка. Та, громко фыркнув, демонстративно отвернулась.
— Может, тебя верхом перевезти, боярыня Юлия? — поинтересовался русобородый витязь, ехавший с ней всю дорогу бок о бок.
— Ты, Варлам, лучше посмотри на том берегу, чтобы любопытный кто не остался, — покачала головой девушка. — Да сам не оглядывайся!
Впрочем, все путешественники слишком устали за долгий переход, чтобы заниматься мелким шкодничеством и, перебравшись через реку, мужчины оделись, подняли рюкзаки обратно на плечи и двинулись дальше. Вскоре березняк заметно погустел, среди расчерченных белыми полосками стволов появились кряжистые клены, высокие тополя, островки ольхи. Осока под ногами сменилась густыми голубыми полями цветущих колокольчиков, перемежающихся ослепительно-белыми ландышами. Тропа пошла резко наверх и в быстро сгущающихся сумерках впереди раскинулось бескрайнее Чудское озеро.
В лицо ударил свежий ветерок, снося комариные стаи обратно в заболоченный лесок, и люди, не дожидаясь команды, стали скидывать рюкзаки, снимать поклажу с лошадей, ставить палатки. К тому времени, когда к лагерю вышли Юля и боярин Варлам, вдоль невысокого обрыва вытянулось рядком восемь синих, оранжевых и красных капроновых куполов вперемешку с расстеленными на земле медвежьими, волчьими и бараньими шкурами.
— Ты не замерзла, боярыня? — спросил Варлам.
— В общем-то, еще не отогрелась, — пожала плечами та. — А что?
— У меня шкура медвежья есть. Хочешь, можешь в нее завернуться.
Девушки покосилась на него с некоторым ехидством.
— Да нет, боярыня, — покачал головой Варлам. — Это не в откуп, это просто, чтобы согреться.
Нынешней зимой, во время похода встреч ливонцам местные бояре попытались девушку высмеять и заставить выполнять при рати женскую работу. Однако она подбила самого нахального из воинов на спор — кто лучше стреляет — и наголову разгромила. Так и получилось, что женскую работу, по закладу, должен был теперь выполнять проигравшийся сын боярина Батова Варлам. Смущенный боярин, боясь позора и насмешек, предложил назначить откуп, и Юля его простила — но вот откуп так до сих пор и не назначила. Никак ничего придумать не могла. А потому каждый вопрос боярина со словом «хочешь?» носил явно двусмысленный характер.
— А сам-то как?
— У меня зипун теплый…
— Да ладно, — пожала плечами девушка. — Можем ведь и вместе лечь, теплее будет. Ты ведь со срамными намерениями лезть не станешь?
— Упаси Господь, боярыня Юлия, — испуганно перекрестился сын боярина Батова. — И в мыслях не имел!
Девушка вздохнула. Это точно, срамных мыслей в ее отношении Варлам не имел. Может, как ехидно предсказывали Зинка с Ингой, девок в своих деревнях он и вправду брюхатил, но в ее отношении вел себя в высшей степени уважительно. Даже когда они почти неделю только вдвоем путешествовали через зимний лес. И когда она обещала, что готова на любую благодарность после подаренного им перстня. И когда намекала, что ночует одна в целой избе. Пожалуй, единственным способом определить, насколько страстен бывает боярин середины шестнадцатого века, оставалось согласиться на его предложение и выйти за Варлама замуж. Однако, боярин желал обзавестись не меньше чем пятью сыновьями, и такая перспектива воспитанную в совершенно других традициях Юлю изрядно пугала.
— Если у тебя плохих мыслей нет, то заночуем вместе, — на губах Юли заиграла коварная ухмылка. — Только знаешь, у меня после перехода через реку одежда подмокла немного, так я без нее лягу, а она пусть подсохнет, хорошо?
— Конечно, — кивнул Варлам, но голос его предательски дрогнул.
Девушка отвернулась от него и мстительно улыбнулась. Пусть помучается!
Увы, она даже не подозревала, что эта коварная шалость на всю ночь оставит без сна обоих. Потому как, зарывшись обнаженным телом в густой мех, она неожиданно ощутит на своем бедре руку боярина и замрет, не решаясь отбросить ее, но и не давая повода для больших вольностей, в ожидании: решится ли Варлам свершить рискованный поступок. Однако и сын Евдокима Батова, ощутив под ладонью ничем не прикрытую горячую кожу лучницы, так же замрет, боясь неожиданным движением обратить на себя внимание девушки и лишиться даже права даже на это нечаянное прикосновение. И всю ночь они проведут, тяжело дыша, так ни разу и не шелохнувшись и не сомкнув глаз.
* * *
Светло-желтый «Икарус» шестнадцатого маршрута остановился возле пятнадцатого дома по Пулковской улице и приветливо отворил двери. Костя Росин, поддернув куяк, вышел на улицу, обогнул ларек на остановке и вошел в магазин, утонувший в глубине между двумя девятиэтажками. Поделенный на секции, магазин торговал сразу всем: косметикой, хозтоварами, булкой, хлебом, колбасой, пивом и лимонадом. Костя хотел купить сарделек. Желательно свиных, не вызывающих у детей аллергии. Он прошелся по секциям, нашел колбасную, вошел туда.
Мясными продуктами торговал какой-то азербайджанец. На предложение продать свиные сосиски он неожиданно взъярился и громко заорал:
— Руссише швайн! Дуи ист козел безмозглый!
Услышав полунемецкую речь, Росин слегка опешил и попятился к дверям.
— Ду ист полный думкопф и аномальное явление третьего порядка! — продолжал изголяться айзер. — Магомет запрещал иит порк!
— Слушай ты, козел безрогий, — не выдержал Костя, отступая, и обнажая меч. — Ты не в своих диких пещерах живешь! Приехал в варяжские земли, значит и жри, что приличные люди предлагают.
— Дизес арбайт шиссен! — перепрыгнул кавказец прилавок, сжимая в одной руке кривую саблю, а в другой небольшой круглый меч. — Ты есть раб! Ты будешь кушать кокаин, работать и лизать мой зад, а я брюхатить твой жена и трахать твой дочь! А ты есть нарушай международный право!
У айзера неожиданно обнаружились большие грузинские усы и голубая каска на голове. Однако амуниция ООН Росина отнюдь не впечатлила. Он принял сабельный удар на щит, выбросил вперед меч, который наткнулся на маленькую алюминиевую тарелку, саданул окантовкой щита ооновца по ребрам, ударил мечом второй раз, теперь уже навершием в выпирающую небритую челюсть, наступил ногой на живот:
— Ну, тварь белокурая, продашь мне сардельки за достойный выкуп?
— Это не есть гуманитарная акция, — отозвались снизу. — Вы есть нарушитель политкорректность.
В этот миг кто-то со всей силы саданул Костика в спину, да так, что острие копья вылезло из груди на полметра вперед.
— Рус-сишь, рус-сишь, — успокаивающе закричали продавцы сбежавшимся прохожим, Росин завалился на бок и… проснулся.
Перед самыми глазами тихонько гудел туго натянутый капрон желтой одноместной палатки, и высоко задирался край волчьего тулупа. Снаружи сонно всхрапывал конь, слышался мерный плеск. И Костя, уже в который раз засомневался — а проснулся ли он? Что, если сейчас он выйдет, и увидит стоящие на краю игрового полигона «нивы» и «жигули», редкие столбы линии электропередач, пронизывающие всю Россию вдоль и поперек, если запищит призывно оставленный в рюкзаке сотовый телефон, и его предупредят, что в понедельник можно прийти на работу на полтора часа позже?
Росин немного выждал, не решаясь расстегнуть молнию палатки: может, это и вправду был всего лишь дурной сон? Вся эта странная история про то, как все они, больше двухсот человек, всем игровым полигоном из четырех реконструкторских клубов, не считая индейцев варау, провалились в прошлое, прямым ходом в тысяча пятьсот пятьдесят второй год, ныне уже сменившийся тысяча пятьсот пятьдесят третьим. Ведь не может же такого случиться наяву?
Ну никак не может!
Костя помнил, что из двухсот провалившихся рядом с ним ныне осталось всего четыре десятка человек — кто-то подался в Новгород заниматься торговлей, кто-то в современную прибалтику, надеясь вступить в настоящий Ливонский Орден, индейцы вообще собрались смыться к побратимам в Америку… Но ведь все это происходило во сне?
Поколебавшись пару минут, он все-таки решился и потянул замок молнии снизу вверх, открывая полог. И увидел начинающийся от самых ног озерный простор, накатывающиеся на берег серые предрассветные волны, длинную песчаную косу, украшенную редкими камышовыми стеблями. У Росина еще оставалась надежда на то, что все это окажется обычным игровым полигоном, на котором они вчера излишне поддали, из-за чего ночью и налезла в голову всякая чушь, но уже спустя минуту он разглядел успевшего облачиться в юшман опричника и тяжело вздохнул: если что-то и являлось странным сном, так это далекий двадцатый век.
— Не вздыхай, боярин Константин, вызволим мы вашу сладкоголосую девицу, — расслышал его Зализа. — Теперь недолго осталось.
— Да я и не сомневаюсь, — покачал головой Росин, окончательно приходя в себя. Теперь он с полной ясностью вспомнил все: и то, что дерптский епископ похитил племянницу Игоря Картышева, выпускницу Гнесинки, попавшую к ним на фестиваль совершенно случайно, но провалившуюся в прошлое вместе со всеми, и то, что боярин Батов вызвался им помочь вместе с шестью сыновьями, и то, что большая часть клуба осталась в Кауште следить за работой поставленных там двух мануфактур. И то, что к этому походу они готовились больше двух месяцев и закончиться неудачей он никак не должен.
— Так что, поднимаемся, Семен Прокофьевич?
— Можно не спешить, — небрежно отмахнулся опричник. — Здесь, от Желчи до Ветвенника, возвышенность. Места сухие, хлебные, несколько деревень стоит. Инородцы забредают редко, потому как топи кругом. Лазутчика ливонского здесь отродясь не случалось, упреждать епископа некому. А коли рано в деревню зайдем, нас и не увидит никто. Мужики по тоням расплывутся, снасти проверять. Потребно ближе к полудню дойти, когда с озера вернутся.
— К полудню, так к полудню, — согласился Росин и двинулся к березняку. Сделав все желаемое, набрал охапку хвороста, вернулся к стоянке вывалил дрова на песчаную проплешину, достал зажигалку.
Газ во французской полупрозрачной безделушке давно закончился, но кремень еще не истерся и давал жирный пучок искр. Росин подсунул в зажигалку пересушенный мох из поясного карманчика, чиркнул, старательно раздул затлевший огонек, подсовывая тончайшую бересту, а когда та расцвела тонким огоньком — запалил от него бересту потолще, которую и подсунул под валежник. Тот радостно затрещал. Оставив костер разгораться, Костя отправился за новой порцией дров, а когда вернулся — над пламенем уже висел котелок с чистой озерной водой.
Лагерь постепенно оживал. Ребята из клуба «Черный шатун» выбирались из палаток, бояре откидывали шкуры и сладко потягивались, поднимались. Из чересседельных сумок извлекались кожаные поддоспешники, кольчуги, зерцала, панцири. На пояса вешались сабли, ножи, кистени, шестоперы. Очень скоро лагерь, поначалу напоминавший туристский, заблестел сталью, зашелестел железом и стал походить на то, чем и являлся на самом деле — воинский стан.
От котла вкусно запахло мясом — но Росин уже знал, что разваривается там завяленное в дорогу мясо, и сколько его ни готовь, по вкусу оно все равно напоминает стоптанную подошву. Кроме запаха к густой каше — никакого толка. Ему вдруг со страшной силой захотелось дешевых макарон, простой вареной колбасы и сигареты «Прима» — но ни того, ни другого, ни третьего в нынешнем шестнадцатом веке еще не существовало. Да чего там колбаса или макароны — даже картошки из Америки никто не догадался привезти! Окромя мяса и пирогов — никакой снеди приличной нет!
Костя поймал себя на том, что даже мысленно вместо слова «еда» употребил «снедь» и покачал головой — вконец обжился! Вот смешно будет, если временной катаклизм всех их обратно в двадцатый век выбросит. Ведь не приживется никто в родном мире, одичали…
Пожалуй, вовремя они с женой развелись. Поначалу казалось, что взбрыкнула она по-глупому из-за его поездок на игрища и фестивали, спугалась, когда увидела, как ребенок меч отцовский начал по квартире за рукоять таскать. Наверное, отошла бы вскоре, назад вернулась… Теперь получалось — вовремя ушла. Слез и истерики не будет из-за его исчезновения, сынишка привык, что папа постоянно где-то далеко. Вовремя… Тридцать лет ему, а пропал — вроде и связей с миром никаких не оборвалось. Как был всегда мысленно в прошлом, так в нем и остался.
Костя отошел к сумке, помеченной угольной полоской, извлек свой куяк, пластины которого были вырублены, страшно сказать — из донышек тефлоновых сковородок, полсотни которых было выброшено в мусорный контейнер возле Звездного рынка из-за облезшего покрытия. А что — прочные и легкие, ничем не хуже стальных! И в бою себя неплохо показали…
Поверх доспеха перекинул через плечо перевязь с мечом. Смастерил он ее на прошлой неделе не ради меча, а ради сорока кармашков, нашитых на лицевой стороне. В кармашки были вложены патроны — бумажные свертки с порохом и жребием. Если стрельцы, несущие службу в Гдове, Копорье или Яме-городе больше пяти штук в берендейке не носили, то «шатуны», многие из которых прошли Чечню, а то и Афган, даже полсотни патронов считали слишком малым числом, норовя нашить карманы куда только можно.
Кроме того, на пояс Костя повесил длинный узкий нож и легкий, грамм на сто, на кожаном ремешке, кистень — на всякий случай, если в бою меча лишится. Щитов «шатуны» более не носили — при использовании мушкетонов, добытых для них опричником, щиты стали скорее помехой, нежели защитой.
Вооружившись, Росин стал убирать палатку. Поступил он так не по глупости, а специально, чтобы успеть попривыкнуть к тяжести на плечах, жить и действовать при доспехе с той же легкостью, что и без него. Дней пять у них еще есть, пообвыкнет.
К тому времени, когда лагерь свернулся, овсяная каша с салом и вяленым мясом уже дошла до нужной кондиции. Воины позавтракали и двинулись вдоль берега дальше.
От места их привала тропа приобрела уже весьма нахоженный вид, и заблудиться на ней было невозможно. Она повернула направо, обогнула густо заросший камышом залив, спустилась к воде, к узкому песчаному пляжу, потом поднялась наверх, и перед путниками открылся вид на деревню из трех домов. Жилье стояло между свежевспаханными полями и широкой прибрежной полосой, на которой лежали четыре полувытащенных на берег крутобоких баркаса, и еще два, отдыхающие поодаль кверху килем.
— Константин Алексеевич, — оглянулся на Росина опричник. — Погодь маленько. И ратников своих одержи.
Вперед двинулись, ведя в поводу коней, только бояре — внушительный Евдоким Батов и его сыновья.
— Чего это он? — не понял Игорь Картышев, скидывая на землю рюкзак. — Засады боится?
— Опрятный ты слишком, — это высказался остановившийся рядом худощавый Сережа Малохин и сел рядом с тропой, откинувшись на своего «Ермака». — Давно в зеркало смотрелся?
— Неделю назад. А что?
— А то, что ты, не в обиду будет сказано, ведешь себя, как истинный офицер. Всегда брит до синевы, вместо портов нормальных штаны плотные состряпал. Смотреть страшно.
— Ну, и чем я тебе не нравлюсь? — Игорь опустил на него тяжелый взгляд.
— Мне-то ты как раз нравишься, — улыбнулся Малохин. — Да только где ты здесь хоть одного боярина без бороды видел? А? А у нас почти все бреются, по старой памяти. К тому же, русские все шаровары носят, али порты свободные. А западные рыцари — чулки. Потому, как в широких штанах в их узенькие железные башмаки, что к доспеху положены, просто-напросто не влезть! Теперь понял? — Сергей сладко потянулся. — Вид у тебя, как у ливонца. Вот Зализа и убоялся, что издалека за разбойников примут. А как он мужикам представится, так и нам можно будет идти…
Бояре неспешно, давая обитателям деревни время приглядеться и определиться с действиями, приблизились к крайнему дому, ослабили лошадям подпруги, пустили их щипать густо разросшуюся у сложенных прямо на жерди недавно окоренных, а потому еще почти белых бревен.
Вскоре из избы вышел мужичок с совершенно седой бородой, одетый поблескивающие на свету кожаные штаны и серую рубаху, почтительно поклонился. Чуть опосля к гостям подтянулись несколько рослых парней от соседних домов.
— Пошли, — решил Росин. — Система опознавания сработала.
К тому времени, когда «шатуны» добрались до деревни, разговор уже состоялся, и мужчины обсуждали последние детали:
— Так значит, Семен Прокофьевич, — решительно тряхнул головой первый из вышедших мужиков. — Мы к Ветвеннику послезавтра к полудню подойдем, да в Рыжкино вестника зашлем?
— Это вы правильно, — поддакнул веснушчатый паренек лет пятнадцати. — Неча им на наши земли соваться. Надоть и заимообразно сходить.
— Сходим, — кивнул Зализа. — Прослав, затяни подпруги, выступаем.
Отряд двинулся дальше. Когда деревня скрылась за зарослями прибрежного ивняка, Росин нагнал воеводу, пошел рядом:
— Ну как, Семен Прокофьевич?
— Как думали, боярин Константин, так и случилось, — кивнул одетой в шелом головой Зализа. — Поля уже засеяли, косить еще рано, иных работ тоже пока нет. Отчего ж мужикам со скуки и не сходить на тот берег, схизматиков не пощипать? Глядишь, и хозяйству прибыток, и себе развлечение. Засосье пятерых выставит, с Рыжкино, глядишь, еще столько же подойдет. Во Дворищье мы сегодня заночуем, оттуда до Заберезья всего несколько верст, сами сговорятся. И лодки у них свои, и интерес свой, и уйдут сами. Три десятка мечей просто сами в руки просятся. Да еще у Ильи Анисимовича на ладье судовой рати два десятка. Он, наверное, ужо в Ветвеннике ждет. Так что, не беспокойся, Константин Алексеевич, сила у нас собирается крепкая. Выручим вашу певунью из полона, не пропадет. Бог даст, дней через пять обнимете.
Глава 2. Голос
Слух о том, что воскресную службу в Йизыкусском костеле будет проводить дерптский епископ, мгновенно разнесся по окрестным селениям, и с самого раннего утра с поселку Йизыку потянулись прихожане.
Занявший место епископа девять лет назад, властитель здешних земель и прежде демонстрировал достаточно жесткую руку, без содрогания требуя положенные Церкви и сюзерену подати, кроваво пресекая всякие поползновения кальвинистов наложить свои грязные лапы на богатые прирусские земли, одновременно с предельным уважением терпя существование православных храмов. Именно поэтому дерптское епископство оставалось островком спокойствия в Ливонии, охваченной пожаром лютеранства и ужасом безвластия.
Но три месяца назад случилось и вовсе невообразимое: епископ внезапно проникся благочестием и любовью к ближнему. Он пресек попытки кодаверских монахов обложить сервов дополнительным налогом на лечение увечных, пострадавших во время Зимнего похода, простил недоимки, запретил впредь за любые долги продавать в рабство сервских детей, облегчил барщину. Среди прихожан поползли слухи о снисхождении на правителя благодати Божией — да тут еще и во время богослужений в присутствии епископа стали твориться истинные чудеса: звучал голос самого Господа, призывающий к молитве, песнопения возникали сами собой, поражая своей мощью: болящие исцелялись, увечные начинали ходить, слепые — прозревали. Неудивительно, что весть о визите господина епископа побудила сорваться с места и устремиться в храм жителей Мяэтагузе и Куремяэ, Охаквере и Иллуке, и обитателей еще многих, многих десятков деревень и хуторов на десятки миль вокруг.
К рассвету вокруг костела собралась уже почти трехтысячная толпа, нетерпеливо гудя перед запертыми воротами. А с первыми лучами солнца на идущей со стороны Тудулинна дороге показалась кавалькада из семи всадников.
— Едет! — прошелестело по толпе, и прихожане один за другим начали опускаться на колени.
Первым мчался худощавый мужчина с гладко выбритым скуластым лицом в коротком, немногим ниже талии, плотно облегающим тело красном шерстяном пелисе, подбитым коротким мехом нутрии и испанских пуховых кальсесах, спускающиеся до самых сапог. Следом на ним, сидя в седле по-дамски — свесив обе ноги на одну сторону, скакала столь же худощавая женщина в темно-коричневом сюрко с разрезом впереди, и со шнуровкой на груди. Волосы епископской спутницы украшал бархатный обруч с крупными жемчужинами, с которого свисала густая темная вуаль, закрывающая лицо и плечи. Из-под длинного подола выступали кончики туфель, на которых поблескивало серебряное шитье.
За дамой следовали пятеро всадников, одетых в толстые кожаные куртки, способные выдержать скользящий удар стрелы или меча. Все они имели на луке седла небольшие щиты в форме прямоугольника со скругленным нижнем краем, на головах их поблескивали овальные железные шапки, на ремнях болтались короткие, в руку длиной, мечи. Едущий первым, помимо прочего, придерживал поднятое вверх копье, под острым наконечником которого развевался флажок с гербом Дерптского епископства.
Впрочем, прошли те времена, когда правитель западного берега Чудского озера всерьез опасался за свою жизнь в своих собственных землях. За последние месяцы отношение сервов к нему сменилось на прямо противоположное, и теперь охрана куда чаще сдерживала порывы излишне восторженных подданных, а не защищала его от униженных и разоренных.
Сейчас, когда прихожане мирно стояли на коленях, никакой опасности для епископа не предполагалось, а потому воины несколько поотстали, позволив правителю подъехать к вратам костела в гордом одиночестве. Своим шансом немедленно воспользовалось трое калек из более чем двух десятков, собравшихся у храма.
— Исцели, исцели… — на разные голоса заскулили они, протягивая свои грязные руки.
Господин епископ шагнул было мимо, но вдруг остановился и покосился на пахнущего кислятиной уродца в выцветшем рубище.
— Ты хочешь исцеления, смертный? — священник усмехнулся. — Тогда смотри на меня. Ты слеп, ты должен видеть то, что недоступно зрячим… Ну же, смотри!
Нищий, только что с мольбой тянувший руки, внезапно отпрянул, в ужасе закрывая глаза и бессмысленно хрипя:
— Демо… демон…
Дерптский епископ довольно расхохотался и шагнул в медленно расползающиеся высокие створки. Следом неслышно скользнула дама. А нищий продолжал метаться из стороны в сторону:
— А-а-а! Тьма! Надвигается тьма! Демоны в рясах, всадники с чашами грядут…
— Что, что ты видел? — заинтересованно стекалась к нему толпа.
— Я видел демона, — рвал на себе волосы нищий. — Наш епископ — демон!
— Богохульник! — попыталась дотянуться до него одна из прихожанок, гневно сжимая кулаки. — Богохульник, бейте его!
— Я видел демона! — продолжал метаться нищий, распихивая людей в стороны ладонями с растопыренными пальцами. — Я видел, видел, видел…
Он на секунду замер, таращась на свои заскорузлые пальцы, и внезапно из его глотки вырвался еще более громкий крик ярости, невероятным образом перемешанной со счастьем:
— Я видел… Я прозрел!!! Люди, я прозрел! Прозрел, прозрел, прозрел!
Тем временем епископ, в сопровождении мелко семенящего, сгорбившегося приходского священника, вышел в центр костела, вскинул голову к куполу:
— Ха-а! — правитель здешних земель прислушался к эху, сделал еще несколько шагов и снова крикнул: — Хо-о!
Священник испуганно втянул голову, перекрестился и поцеловал нагрудный крест.
— Да, — уверенно кивнул епископ, повернулся к местному пастырю, ткнув ему в грудь тонким и длинным указательным пальцем: — Отведи мою гостью наверх, на галерею под куполом. Когда вернешься, переоденься для службы.
Вскоре ворота костела медленно, величественно распахнулись, прихожане торопливо ринулись внутрь, растекаясь по храму.
Теперь дерптский правитель стоял перед распятием в алом баррете — четырехугольной шапочке епископа. Светский пелис сменился красным гауном на теплой меховой подкладке, с откидными от локтя рукавами, и бобровым, без застежки, воротником, поверх которого лежал тяжелый золотой крест. Молитвенно сложив руки и опустив подбородок, он дождался, пока шум за спиной утихнет, после чего громко произнес:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
— Аминь, аминь… — неуверенно поддакнули прихожане.
Дерптский епископ выступил вперед, к небольшому деревянному пюпитру с лежащим на нем Евангелием, остановился, словно уперся в вожделенные взгляды прихожан, скромно улыбнулся:
— Благодать Господа нашего Иисуса Христа любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет с вами!
Собравшиеся перед ним смертные принялись креститься. Креститься. Перед ним. Еще никогда за время своего существования он не чувствовал себя Богом до такой степени. В этом был какой-то странный парадокс — чтобы почувствовать себя Богом, ему пришлось вселиться в тело смертного. Да, на этот раз с воплощением демону воистину повезло.
— Братья и сестры, — громко, нараспев произнес он, вскинув правую руку. — Осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить Святое Таинство.
Прихожане пробормотали в ответ нечто неразборчивое. Епископ отвел им на краткую молитву немного времени, после чего продолжил:
— Да помилует нас Всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к вечной жизни. Аминь!
Он поднял взгляд к куполу, ткнул туда пальцем.
— Господи, помилуй, Господи, помилуй! — громогласно прокатилось по храму, и многие сервы и дворяне от неожиданности пригнули головы, неистово крестясь. — Христе, помилуй, Христе поми-и-илуй!
Многократно отраженный от каменных стен, усиленный куполом голос оглушал. Казалось, он несется с разверзшихся небес, взрываясь прямо в голове каждого прихожанина.
— Господи, помилуй, Господи, поми-ил-у-уй…
Голос, пометавшись от стены к стене, медленно затих и в костеле повисла мертвая тишина.
— Господь да будет в сердце твоем и в устах твоих, — повернувшись, к приходскому священнику, епископ размашисто его перекрестил и отступил в сторону, — чтобы ты достойно и надлежаще возвещал Его Святое Евангелие.
Священник поцеловал святую книгу, тихо ответил:
— Слова Евангелия да изгладят наши согрешения, — после чего начал чтение.
Дерптского епископа святые слова не интересовали. Ему уже не один раз приходилось встречаться с этими текстами в предыдущих воплощениях, и хотя каждый раз они оказывались у разных народов из разных концов света, но название всегда было одно: Книга. Что-то в Книге было истиной в высшем смысле, что-то — заведомой ложью. Но во всех мирах этот странный текст завораживал смертных, вел за собой, заставлял жертвовать собой, отказываться от радостей жизни, любви, от своего прошлого и будущего — и этого епископ понять не мог. Точнее, уже не епископ, а демон, выкупивший себе тело священника на обычный, не очень большой срок.
Впрочем, сам он от маленьких радостей, даруемых ему воплощением, отказываться не собирался. Одной из этих радостей был слух: способность различать звуки — шелест листвы, пение птиц. И высшая красота — звучание хорошо поставленного человеческого голоса в способном сохранить его мощь пространстве. А потому он не стал произносить положенную после евангельского чтения проповедь, а лишь взмахнул рукой, осеняя толпу крестом и одновременно давая знак под купол.
Сольем в молитве голоса, И их расслышит Тот, Кому осанну в небесах Хор Ангелов поет.Мощный глас обрушился на прихожан, перекрыв появившиеся среди уставших от монотонного бормотания приходского священника людей, заставил их содрогнуться от неожиданности и от восхищения невероятного чуда, свидетелями которого им довелось стать. Ибо подобный глас может быть только гласом небесным.
Сольем в молитве голоса, И пусть звучит хвала Тому, за Кем все чудеса, Все славные дела.Звук хорала наполнял храм, как вешняя вода, поднимаясь, наполняет собой все ямы, и долины, закрывает поля и лесные тропы — унося всю грязь, мусор, накопившуюся гниль, и оставляя только чистоту. Так и молитвенное песнопение проникало в души, очищая их, возвышая, наполняя искренней верой.
Пускай Он царствует в сердцах И обновляет их, Низвергнув боль, тоску и страх В пучину вод морских. Пусть хлеб народу ниспошлет И долгий мир для всех, Сословью всякому — почет И всем делам — успех.Голос смолк, и в храме повисла напряженная тишина. Дерптский епископ сделал знак священнику, чтобы тот поднес высокий золотой кубок с облатками. Смертные потянулись к причастию.
От предложенного йизыкусским пастырем скромного угощения правитель отказался — жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на аскетизм. Он торопливо переоделся в пелис, более подходящий для теплой весенней погоды, потом подал руку таинственной даме в вуали, вместе с нею вышел из распахнутых настежь ворот храма.
На этот раз четверо охранников ожидали своего господина и метнувшихся к правителю нищих более не подпустили. Дерптский епископ помог даме сесть в седло, потом сам легко поднялся на ослепительно белую кобылу. Та испуганно всхрапнула, слегка попятилась. Всадник успокаивающе потрепал лошадь по шее, потом пятками тронул бока, и она неспешной рысью пошла вперед.
Спустя минуту его нагнал небольшой отряд телохранителей. Епископ вопросительно покосился на одного из них.
— Флор еще до службы ускакал, — пояснил тот.
Правитель здешних земель кивнул, придерживая лошадь, дождался всадницы и положил руку ей на колено. Женщина откинула вуаль и улыбнулась в ответ. Епископ сильно хлопнул ее скакуна по крупу, переводя в галоп и помчался следом.
Миль через десять стремительной скачки по лесной тропе отряд вынесся на берег озера и, разбрызгивая воду, помчался по мелководью, по направлению к взвивающемуся над низким ельником сизому дымку. Там, на зеленой поляне, вдающейся в лес, один из телохранителей крутил над огнем нанизанный на длинный вертел жирный свиной окорок. Увидев отряд, он отступил от огня, раскупорил глиняный кувшин и поставил его на расстеленную вышитую тряпицу, на которой уже красовались два серебряных кубка и поднос с очищенными и поджаренными орехами.
— Обед готов, господин епископ, — почтительно поклонился воин.
— Спасибо, Фрол, — спрыгнул правитель с кобылы, после чего подхватил за талию и снял девушку.
Телохранитель принял скакунов под уздцы, отвел с сторону.
А дерптский епископ направился в первую очередь не к огню или накрытому столу, а к берегу, с наслаждением зажмурился, подставляя лицо солнцу и ветру, обильно насыщенному свежестью и влагой. Потом он присел у среза воды, упустил руки в волны, плеснул себе в лицо.
— Холодная?
Епископ обернулся.
— Холодная водичка? — девушка подступила ближе. — Я тоже хочу ножки помочить. С прошлого года не купалась!
Она подняла руки к груди и дернула золотые оконечники шнуровки.
— Мы, господин епископ, — кашлянул Фрол, — у тропы подождем.
Правитель молча кивнул, и телохранители, повернув лошадей, торопливо помчались прочь. А дама тем временем разобрала шнуровку, сдвинула плечи платья в стороны, позволила своему сюрко упасть на траву и осталась в одной короткой рубашке из тонкого белого полотна. Присела, сняла с ног мягкие коротконосые пулены. Потом, после небольшого колебания, скинула и камизу и, обнаженная, вошла в воду.
— А-а-ай, как хорошо! — она часто-часто сжимала и разжимала пальцы, двигаясь в волны. — Сейчас купальный сезон откроем…
Священник с усмешкой следил за спутницей и, вроде, даже собрался последовать следом — пелис, во всяком случае, расстегнул и кинул на траву. Однако, стоило волнам добраться даме до бедер, как ее решимость тут же испарилась и она предпочла отступить назад, на сушу.
Кавалер, уже снова в кафтане, присел у огня, срезая с окорока верхние, зарумянившиеся ломтики, тут же отправляя их в рот. Увидев, как поежилась девушка, он поднялся, наполнил кубки вином, один протянул ей. Сделал глубокий глоток, блаженно зажмурился, снова подставляя лицо озерной свежести.
— Все-таки хорошо быть человеком, Инга, — покачал он головой. — До чего прекрасно ощущать ветер, тепло и прохладу, вкус вина или горячего мяса!
— Тебя интересует только мясо?
— Ну почему же? — Священник медленно опустил руку, задержав ее на талии певуньи. — Есть много не менее прекрасных вещей… Да ты совсем замерзла!
Он повернул Ингу и прижал ее к себе. Осушил кубок, отбросил в сторону, поправил кончиком указательного пальца выбившийся локон, потом скользнул рукой по подбородку, по шее.
— Нет, в этом мире есть еще очень много прекрасного и желанного…
Рука опустилась еще ниже, крепко сжав грудь, а потом снова соскользнув на бедро.
— Сейчас… Сейчас, согреешься…
Священник скинул свой меховой пелис, расстелил его у костра, оставшись в одной рубашке и кальсесах — но завязку штанов он тоже развязал. Инга послушно опустилась на теплую куртку, легла на бок подставляя свое тело огню. Дерптский епископ сел рядом, а рука его жадно скользнула по розовой от отблесков костра коже: по крупной высокой груди, ровному животу, забралась в курчавые волосы внизу живота и надолго застряла там.
Девушка вздрогнула, прикусила губу, полуприкрыв глаза.
— Но самое прекрасное, Инга, — прошептал епископ ей в самое ушко, — это твой голос. Это истинное чудо, это невероятное совершенство, это истинное колдовство. Как ты заворожила сегодня в храме христовом эту толпу! Она едва не потеряла рассудок!
— Да, мой господин… — похоже, девушка уже не понимала, о чем ей говорят, и соглашалась на все.
— Спой мне, Инга. Спой… Дай услышать твой голос, дай услышать хорал не издалека, а рядом с тобой… В тебе…
— А… А… — Инге понадобилось приложить некоторое усилие воли, но голос ее все-таки зазвучал, раскатываясь далеко над водным простором:
Споем во славу Господа спасенья, Ему по нраву радость восхваленья. Споем во славу!Дерптский епископ ослабил веревку штанов и быстро скинул их с себя, после чего опрокинул певицу на спину.
Как в горнем свете, в звуке обитаем, В святом Завете силу… обретаем, Мы, Божьи дети!Последние слова сорвались с ее губ с особенной страстью, поскольку ее господин совершил то, к чему она была готова всей своей плотью.
Нас наполняет… благодарность… Богу, И воспаряет… к Твоему чертогу Та песня, что из сердца… истекает. Наступит… время счастьем… упиваться: Ты будешь всеми… вечно… воспеваться. О… легкое, о… сладостное… бремя!Дерптский епископ резкими толчками проникал в нее все глубже — девушка вздрагивала, мотала головой из стороны в сторону, скребла пальцами землю, но продолжала петь, окрашивая слова древнего хорала неожиданными, неведомыми ранее эмоциями…
* * *
В полумиле от костра Фрол натянул поводья и его лошадь закружила на месте, высоко поднимая копыта.
— Какой голос у госпожи, — пораженно покачал головой один из воинов. — Воистину ангельский. Земным людям Господь такого не дает…
— Да, — кивнул другой и перекрестился. — Истинно благословение Божие. — Он прислушался к стелящимся над волнами словам, и уважительно добавил: — Молятся…
* * *
В эти самые минуты в небольшой рыбацкой деревушке Ветвенник, что стоит на самом берегу Чудского озера на десять верст южнее Гдова, отделенная от древней крепости чавкающим, непроходимым болотом, собралось необычайно много народа. В большинстве это были бородатые мужики и молодые парни, одетые в темные, нечищеные кольчуги поверх толстых холщовых стеганок, в шлемах или толстых, часто прошитых проволокой и набитых конским волосом «бумажных шапках», с топорами и кистенями за поясом, — хотя многие могли похвастаться и самыми настоящими мечами на боку.
Среди оружных рыбаков царило оживление: им и раньше приходилось, спасаясь от зимней скуки или от вынужденного безделья между запашкой земли и первыми летними работами, ходить в набеги на близкие лифляндские волости или на юг, к извечным ворогам — жмудинам. Однако не так уж часто сии походы возглавляли умелые бояре, а уж тем более — человек государев, самим Иваном Васильевичем из многих ратников служилого сословия избранный. Одно это сулило явный успех набега и богатую добычу — а потому и собралось из ближних и дальних деревень не в пример больше народа.
В глубокой, удобной бухте, напротив пяти причалов из потемневшего дерева покачивался, ако поглотивший Иова левиафан, новгородский морской корабль, способный и полтораста сотен пудов товара в трюмы принять, и два десятка судовой рати, не считая корабельной команды, на борту унести. Крупные рыбацкие баркасы казались рядом высунувшимися из глубин озерными сомами — достойной добычей сами по себе, но слишком мелкими по сравнению с настоящей рыбой.
На берегу потрескивали костры, над которыми зажаривались заколотые по такому случаю два кабанчика, рядом жмурились на огонь двое пареньков лет пятнадцати — в новеньких длиннополых стеганках с нашитыми на грудь широкими железными пластинами.
— Тоже, стало быть, в поход собрались, — задумчиво кивнул Зализа. — Впервой, надо думать…
— Что говоришь, Семен Прокофьевич? — не расслышал сидящий рядом купец, одетый в шерстяные шаровары и подбитый ватой суконный кафтан с короткими рукавами. По виду он не сильно отличался от других членов корабельной команды, перевозящих на борт ладьи снятые с лошадей чересседельные сумки — вот только под окладистой бородой заметно выступал солидный, приличествующий званию округлый животик, а на пальцах поблескивало несколько золотых, с крупными каменьями, перстней.
— Говорю, время сейчас хорошее для похода, Илья Анисимович, — обернулся на него опричник. — И не померзнем без костров, и не жарко, коли хороший поддоспешник под броню надеть. Еще месяц протянуть, так в броне хуже, чем в печи жарить начнет.
— Это да, — согласился купец. — По мне, так лучше мороз, нежели пекло. По холоду налатник накинешь, поддоспешник войлочный добавишь — и хоть в снегу спи. А от жары никуда не спрячешься. О, еще парус!
Из-за поросшего соснами мыса показался баркас, лихо лег набок, едва не черпнув бортом воды, повернул в бухту, выпрямился. Белый треугольник быстро пополз вниз. Дальше баркас двигался только по инерции, но маневр оказался рассчитан настолько точно, что остановилось суденышко только у самого причала. С него на округлые жерди настила спрыгнул мальчишка, торопливо намотал веревку на выступающую сваю.
— Ай, хороший кормчий, — приподнялся купец. — Вот мне такого на вторую ладью надоть…
— Когда она будет-то? — усмехнулся опричник. — Третий год про нее слышу, а видеть чегой-то не довелось.
— Нонешней весной артельный закончить обещал, Семен Прокофьевич, — расплылся в довольной улыбке купец и запустил руку в мешок со снетками. — Как с твоим делом закончим, так за товаром и поеду. Ужо и команду новую сговорил.
Из баркаса на причал выбрались один за другим четверо мужиков, сошли на берег.
— Ага, — Зализа кинул в рот пару рыбок и, торопливо их прожевывая, поднялся, блеснув на солнце начищенными пластинами юшмана.
Следом за ним поднялись сидевшие поблизости купец Баженов, председатель клуба «Черный шатун» Костя Росин и его друг Игорь Картышев.
В этом мире Игорь привлекал куда меньше внимания, нежели в двадцатом веке. Уж очень любил «красный петух» посещать русские города, слободы и деревни. Как ни зарекались от него люди — и кузни с мастерскими в сторону от жилья выносили, и овины в стороне ставили, и топить запрещали без воеводского дозволения — а все равно в каждом столетии всякий город выгорал дотла по три-четыре раза. Мелкие пожары и в счет не шли: выгорела улица — слава Богу, дальше не перекинулось. Потому покрытое ярко-красными пятнами заживших ожогов лицо удивления не вызывало: ну пересидел где-то в охваченной пламенем избе, не уберегся, добро али детей малых спасти пытался — бывает. И даже скажи им кто, что горел Картышев не в избе или сарае, а в танке на узкой афганской дороге — так ведь мало ли кто где горел? Дело обычное…
— Здрав будь, воевода Семен Прокофьевич, — сняв шапки, дружно поклонились подошедшие от баркаса мужики. Двое из них были в кольчугах, один в стеганке с нашитым на живот большим кольчужным куском, один — в любовно начищенном колонтаре. — Слышали мы, собираешь ты дружину, лифляндских схизматиков уму-разуму поучить. Сами мы будем из Стрекотово, черные пахари, Мелкошины, челом бьем.
— И вам здоровья, добрые люди, — кивнул одной головой опричник. — Дружину я не собираю, ибо для схизматиком много чести будет, но за зимний набег наказать желаю, и в деле этом любому охотнику завсегда рад.
В воздухе повисла тишина — гости осознавали услышанное. Разумеется, ничего нового для себя они не узнали. Коли смерды черные, то есть государевы — они могли считаться вольными от всяких закупов и недоимок, от Юрьева дня. Стало быть, вступив в дружину государева человека, они становились служилыми людьми, тягла государева имели право более не платить, и даже сами рассчитывать на жалование. Такого Зализа позволить себе не мог. Другое дело — охотчие люди. Эти в поход идут только ради веселья или добычи, по своей воле, и облегчения иных повинностей ждать не должны.
Правда, ничего другого Мелкошины услышать и не ожидали — смердов на Руси в походы никто и никогда не верстает, это удел служилого сословия. Разумеется, простому человеку ход в служилые не заказан: хочешь, в стрельцы записывайся, хочешь, в черные сотни по призыву иди. И коли стоящие перед опричником пахари по сей день в деревеньке своей обитают — стало быть, сами на воинскую службу не рвутся. А решили ради скуки и прибытка у соседей пошалить — другое дело. Ради этого тягла никто снимать не станет.
— Спасибо за честь, Семен Прокофьевич, — ответил за всех мужик в колонтаре. — Мы люди охотчие, но надолго от хозяйства оторваться не можем. Потому определи нам воеводской волей место при дружине, да долю свою назови.
Зализа улыбнулся, услышав речь бывалого человека. Никаких лишних жалоб, наивных надежд. Место при дружине, да доля воеводы в добычи — это все, что нужно знать охотнику в лихом набеге. Да еще предупредил, что рассчитывать на них надолго нельзя — тоже спасибо. Пожалуй, на этого ратника положиться можно, не подведет.
— Идем мы гостевать на один день, — так же четко и ясно ответил опричник. — Место ваше будет за ладьей, последними. Как вблизи берега ладья парус спустит, к борту подойдете, да четырех латников к себе примете, и с ними высадитесь… Хотя нет, — оборвал себя Зализа. — Иначе сделаем. Илья Анисимович сказывал, кормчий у вас зело хорош…
— Сын мой младший, — не удержавшись, перебил воеводу охотник.
— Потому, — сдержал раздражение опричник, — до темна примете на борт меня с тремя латниками, и пойдете вперед. Надобно высадиться тайно, дабы шума раньше времени не поднять. А на счет добычи… Ничего просить не стану. Но коли девки вам справные попадутся: Илье Анисимовичу на ладью отдайте. Он знает, что с ними опосля сделать.
— Благодарствую за честь, Семен Прокофьевич, — приложив руку к груди, поклонился Мелкошин. — Все сполним.
Отступив, он отдельно поклонился купцу и, махнув рукой односельчанам, повел их к деревне.
— Первыми пойдем! — услышал его радостное сообщение Зализа и довольно улыбнулся:
— Ну вот, почитай, семь десятков ратников под рукой имеем.
— Да какие это ратники? — хмуро огрызнулся Картышев. — Мужики сиволапые.
— Да ладно тебе, боярин, — незлобливо покачал головой опричник. — Их на рать никто и не посылает. А подмога неплохая получится. Ты не мучайся, боярин, выручим мы твою родственницу из полона.
— Правда, Игорь, — неожиданно поддержал Зализу Константин. — Все в точности по плану идет. Пока даже лучше, чем ожидали. Вытащим мы Ингу от епископа, ни хрена он сделать не сможет!
— Слишком хорошо все получается, — поморщился Картышев, зачерпнул целую горсть снетков, поднялся и пошел вдоль берега.
— Нервничает, — извиняющимся тоном произнес Росин.
Впрочем, Зализа это и сам прекрасно понимал. Когда у тебя единственная родственная душа прямо из дома исчезает — это беда. Когда ты узнаешь, что она у дикарей-схизматиков в полоне томится — это беда столь же страшная. А боярину Картышеву с бедой такой, почитай, три месяца жить пришлось — пока узнали, пока к ответному набегу изготовились. Понятно, душа у служивого не на месте.
Опричник прихватил из раскрытого мешка еще немного рыбки, и поморщился: снетки. Рыбка мелкая, почитай сорная — но местные рыбаки догадались подсаливать ее и вялить целиком, отчего стало получаться лакомство — не лакомство, но угощение приставучее, хуже семечек. Пока все не съешь — не успокоишься. Ужо и брюхо набито, и в горло не лезет — а руки все едино ко рту тянут.
Ветвенникские рыбаки с готовностью выставили желанным гостям сразу пять мешков: угощайтесь! В итоге за полдня все бояре объелись так, что думали только о воде. А хитрые смерды к собственной выдумке не прикоснулись — дождались, пока кабанчики поспеют.
— Ну что, Илья Анисимович, — решительно отодвинул мешок Зализа. — Пора нам к тебе на ладью перебираться. Рыбакам на баркасы сесть быстро, а нам на твоей лодчонке раз десять метаться придется.
— На ладью с причала садиться надобно, а не с мелководья, — покачал головой купец. — А коли причала высокого нет, никуда не денешься. На лодке придется переплывать.
— Тогда, Константин Алексеевич, — кивнул Росину опричник, — поднимай своих ратников, отправляй на борт. Батовы следом пойдут. Пока соберемся, охотники как раз подкрепиться успеют, следом и тронутся.
Глава 3. Кодавер
На Чудском озере русский берег от лифляндского отделяет всего тридцать верст. Небольшая флотилия из одной ладьи и двух десятков баркасов преодолела это расстояние еще до сумерек и легла в дрейф вне видимости берега. Возможно, не на всех судах кормчие были одинаково опытны, но родные места отлично знали все, а потому, сгрудившись вокруг флагмана, достаточно уверенно указывали на ровную линию горизонта:
— Кодавер прямо. Монастырь там у схизматиков, и деревня большая. Коли севернее брать, то к Сассуквере попадем. Там селение из четырех дворов, и все. А южнее — Пярсикиви. Там поселок большой, кабак монастырский, церковь богатая. К Пярсикиви идти треба, пока сила у нас. Там есть что на меч взять. А в Кодавере монастырь, стража.
Зализа стоял, опершись локтями на борт и слушал — слушал внимательно, не отмахивался. Однако и решения своего вслух не произносил. Как назло, погода стояла ясная, спокойная. В такую погоду на ровной, отблескивающей лунным светом поверхности озера корабли видно ой, как далеко! А ливонцы, хоть и схизматики, но не дураки, и засеку с малым отрядом непременно должны выставить.
Опричник отступил к мачте, сграбастал за ворот Прослава:
— Повтори, что про засеки сказывал?
— Промеж Кодавером и Пярсикиви болото лежит. Потому стража и там, и там, возле топи. А далее токмо перед Ранной. За ней опять топи начинаются.
— И более нигде?
— На монастырской колокольне. Но с нее озера за топью не видать, холм там крутой. Потому и засеку у берега поставили.
Зализа отпустил проводника и, ощущая на спине холодок ужаса, принялся неторопливо расстегивать крючки юшмана. Этот острый холодок с бегающими по спине мурашками он испытывал каждый раз, заранее готовясь к сече, или мчась в атаку на рыхлые татарские орды — и именно этот холодок, смешиваясь с решимостью пройти свой путь до конца и вызывал у него то щемящее чувство восторга, которое заставляет воина искать для себя схватки, вступать в бой, из которого обязательно выйдешь победителем: потому, что русских воинов хранит Бог, и они могут погибнуть, но проиграть — никогда!
— Смотри, Прослав, — предупредил он смерда. — От слова твоего ноне жизнь твоя зависит. Не ошибись.
— Почто доспех снимаешь, Семен Прокофьевич? — удивился купец.
— Звенит он, Илья Анисимович. Ночью, почитай, за версту услышать можно, — опричник перевел взгляд на Росина. — Со мной пойдешь, Константин Алексеевич. И ты, боярин Малохин.
Костя хмуро кивнул. Лично он никакого восторга от схваток не испытывал, и сражаться не любил. И каждый пораженный в бою враг вызывал в нем чувство вины за отнятую жизнь. Но он прекрасно понимал, что без этой тяжкой работы русской земле не обойтись, а потому выполнял ее честно, не отлынивал и за спины одноклубников не прятался.
— Вот черт, доспех заранее надеть поленился, — Сережа, видимо, радости от предстоящей вылазки тоже не предвкушал. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, почему опричник выбрал именно их: оба стояли на палубе судна в одних стеганных куртках, без железа. — Мушкетон брать?
— Нет, бояре, — покачал головой Зализа. — Начнем тихо.
Он протянул свою броню, превратившуюся в бесформенную груду железа, старшему Батову и перегнулся через борт:
— Ну, где тут Мелкошин со своим кормчим?
— Здеся мы, воевода! — на одном из баркасов взметнулось в воздух весло, послышался громкий плеск. Масса суденышек пришла в движение.
— А нам когда выступать? — поинтересовался купец.
— До полуночи выждете, а потом к краю топи правьте, к Кодаверу, — распорядился Зализа. — Дорогу тебе рыбаки укажут, не впервой.
К борту с гулким стуком приткнулся баркас, и опричник кивнул Прославу:
— Прыгай.
Потом бесшумно соскользнул сам, отодвинулся, освобождая место еще двум воинам. Рыбацкое суденышко заметно просело, но на гладкой воде небольшой перегруз особого вреда принести никак не мог.
— На Пярсикиви правь, к болоту, — кивнул сидящему на корме мальчишке Зализа и поправил саблю, подтягивая ее вперед. — И торопись, полной темноты нам ждать ни к чему.
С этим опричник рассчитал совершенно правильно: одинокая лойма, возвращающаяся в сумерках с озера к соседней рыбацкой деревушке, не привлекла внимания кодаверского патруля, греющегося у костра почти на самом берегу. В Пярсикиви растянувшийся на траве латник удивился, что идущая явно к ним лодка вблизи берега почему-то исчезла — но тревоги поднимать не стал. Какая может случиться беда от одной-единственной заблудившейся лоймы? Тем паче, что вот уже четвертый год язычники с русского берега ни разу не пытались потревожить владения дерптского епископа. Видно, сам Господь берег церковные земли, отводя беды войны либо далеко на юг, в полуязыческую Литву, либо обрушивая свой гнев только на русские пределы.
Тем временем баркас, едва не ткнувшийся носом в заболоченный берег, повернул на север и поднял парус, заметно завалившись на левый борт. Не сместись все пассажиры на правую сторону — глядишь, и перевернулась бы лодчонка. Однако, уравновесившись, лодка помчалась со скоростью хорошего рысака, стремительно скользя мимо поросшего осинами болота.
— Версты две будет, не более, — шепотом предупредил Прослав, сжав острие клевца с такой силой, что захрустели суставы. — Как ельник начнется, так и засека епископская недалече.
Над озером стремительно сгущался мрак, и мир разделился на две части: лес, под кронами которого сгустилась непроглядная тьма, и озера, на волнах которого легкая рябь играла отблесками яркой луны, словно шелковая нарядная рубаха.
Впереди, за округлыми осиновыми кронами, проглянули острые еловые пики.
— Ты, Мелкошин, пока останешься здесь, — наказал Зализа одетому в колонтарь охотнику. — А остальные — за мной. С нами Бог, бояре.
Особо не таясь, опричник спрыгнул в воду. Плеск от его ног растворился среди мерного шума накатывающихся на берег волн, и ничьего внимания привлечь не мог. Следом за ним баркас покинул Прослав, а потом и остальные воины.
Выбравшись на сушу, опричник сразу двинулся вглубь берега. Ему, поставленному государем хранить рубежи Северной Пустоши, было хорошо ведомо, куда в первую очередь станет смотреть поставленный в секретную засеку ратник, куда не стоит показываться ни в коем случае. Только углубившись в чащу на пару сотен шагов, он пропустил вперед себя Прослава, родившегося в здешних местах, и знавшего каждую тропинку наизусть.
— Ну, показывай.
Проводник кивнул, двинулся дальше вглубь леса, уверенно петляя между вековых елей, пока не вывел отряд на узкую утоптанную тропу.
— Туда, — махнул он в сторону озера.
Зализа кивнул, снова обгоняя бывшего ливонца, положил правую руку на саблю, хотя оружия пока не обнажал. Прослав тоже схватился за чекан, но шаг у него получался какой-то уж очень короткий, и его обогнали сперва Росин с Малохиным, а затем и охотники из Стрекотово.
Опричник тем временем замедлили шаг, повел носом:
— Никак костер жгут?
Такой беспечности от лифляндских караульщиков он никак не ожидал. Ведь единственное достоинство засеки — это ее потаенность. Увидеть ворога до того, как он увидит тебя, успеть упредить воеводу, ближние селения, пока их не застали врасплох. И первое, чем выдает себя врагу тайная стража — это огонь. Дымок над кронами, запах гари, потрескивание поленьев — все это может стоить жизни малочисленному воинству.
Да, разумеется, его засечники тоже жгут костры, когда стоят на страже Невы и ее берегов. Но схрон для отдыха делают куда как далеко от самого поста. Да и нет у них другого выхода, от Невской губы до ближайшего жилья — полдня пути, не набегаешься. А здесь, чуть не в самом поселке лежбище устраивать…
Зализа жестом подозвал охотников и Малохина, указал им дальше по тропе, шепотом уточнил:
— Разойдитесь до воды, да зрите в оба! Коли вестник к монастырю побежит, не упустите!
Сам же в сопровождении Росина, свернул к кустарнику и стал тихонько пробираться вперед — туда, где за переплетением ветвей просвечивал живой темно-красный свет. Прослав, некоторое время помявшись на тропе, повернул следом за опричником.
Сторожей оказалось трое. Один лежал, вытянувшись у огня и подперев голову рукой, еще двое сидели, жмурясь на пламя и зажаривая что-то на длинных оструганных веточках. Неподалеку стояли прислоненные к низкой ольхе копья, мешающие сидеть короткие мечи-кошкодеры лежали в траве. Такого момента Зализа упустить не мог, а потому, не раздумывая, выхватил саблю и ломанулся вперед.
Стражники, за долгие годы привыкшие к безмятежности и скуке своей службы, вместо того, чтобы хвататься за оружие, похожим движением вскинули ладони к глазам, пытаясь вглядеться в темноту:
— Кто там?
Громко зашипели мокрые сапоги: опричник сгоряча выпрыгнул прямо в костер, со свистом рассекла воздух сабля — р-раз, и еще раз. Латники, уронив в пламя ветки с нанизанными на них ломтями хлеба, отвалились на спину.
— А-а! — лежащий воин перекувырнулся на живот, попытался на четвереньках доползти до оружия, но третий удар сабли снес ему голову, которая, бесшумно распахнув рот, покатилась к кустарнику.
— Скорей! На берегу караульщик быть должен! — рванулся вперед, через невысокий холмик Зализа.
Костя, только сейчас успевший выхватить меч, кинулся следом.
У селения Кодавер и ближайших поселков еще оставался шанс уцелеть, спасти если не дома, то хотя бы жизни и самое ценное из имущества своих обитателей — но откинувшийся на крутом берегу молодой мальчишка, посланный старшими воинами наблюдать за извечно спокойным простором озера, вместо того, чтобы, услышав странный шум и крики, мчаться к монастырю, вопя во все горло, всего лишь удивленно поднялся, прислушиваясь к происходящему за холмом. Потом подобрал копье и стал пробираться вверх по склону.
Его силуэт пропечатался на фоне светлой озерной воды со всей ясностью, и первый русский набег, который оказался на его памяти, стал для молодого воина последним — Зализа, опасаясь испортить клинок о кирасу, рубанул его по ногам, и последний караульщик покатился вниз по склону, оставляя за собой широкую полосу хлещущей из перерезанной артерии крови. К тому мигу, когда лицо его коснулось холодной воды, латник был уже мертв.
— Константин Алексеевич! — уже не таясь, крикнул опричник. — Поверху пройди! Может, еще кто прячется. А Прослав пусть у костра ждет.
Проводник, выбравшийся из зарослей следом за Росиным, уже ощупывал с надеждой рты и пояса еще истекающих кровью караульщиков, но на этот раз его ждало жестокое разочарование: ни золота, ни серебра латники в дозор не взяли.
— Слышишь меня, боярин Росин?
— Слышу, Семен Прокофьевич, — так же громко ответил Костя.
С шумом и треском они двинулись в сторону селения, надеясь выпугнуть незамеченных караульщиков на таящихся вдоль тропы охотников — но больше на берегу никого не оказалось. Бояре дошли до рыбаков, после чего все вместе вернулись к разгромленному вражескому лагерю. Перекрестившись над убиенными, рыбаки принялись деловито раздевать их, деля трофеи: толстые ремни с висящими на них ножами, огнивами, флягами от крови отмывались без труда, и могли послужить новым хозяевам так же справно, как и прежним. Прямой меч, конечно, не сабля — но для мужика сгодится и такой, коли вдруг схизматики затеют набег учинить, али лихой человек окрест деревни появится. Опять же, и скотину заколоть пригодится, и яму расковырять, чтобы кол для загородки вкопать. Из немецких кирас выходят отличные лопаты и лемехи, любой кузнец за пару часов перекует, было бы из чего. Да и сапоги хорошие бросать жалко, пропадут без всякой пользы. Малохин же, поведя носом и пройдя вокруг, поднял из травы полотняный мешок, развязал:
— О, лещи копченые! Жирные… А то я уже третий одними снетками питаюсь.
— Второй, — попытался поправить его Росин, но Сергей упрямо тряхнул головой:
— Третий! Полночь позади.
— Позади, говоришь? — прищурился на небо Зализа. — Эй, охотники! Собирайте добычу, возвращайтесь на лодку, да сюда ее перегоните. Сейчас остальная рать подойдет, пусть видят, куда чалиться.
Разумеется, подходящую к берегу большую флотилию из Пярсикиви заметят обязательно, но значения это уже не имеет. Прямого пути на Кодавер оттуда нет, а вкругаля ни один конник не успеет. Разве только в Дерпт вестников пошлют — но это даже хорошо. Пусть посылают.
— Где там твои лещи, боярин Малохин? — опустился на землю опричник. — Подкрепимся маленько, пока время есть.
Баркасы подошли далеко заполночь — но зато разгрузились охотники и бояре споро, не боясь промочить в темноте ноги или уступить первенство в высадке безродному рыбаку. Евдоким Батов принес опричнику оставленный на судне юшман, угрюмые низкорослые мужики из купеческой судовой рати передали Росину и Малохину тяжелые мушкетоны.
— Слушай меня, — повысил голос Зализа, застегивая на груди последние крючки. — Сигналом для всех будет огонь на доме, что против монастырских ворот. На весь день поселок ваш, делайте что хотите. Но к завтрему утру чтобы ни одного охотника тут не осталось! Ясно говорю?
— Да, Семен Прокофьевич, как скажешь, — послышались нестройные голоса.
— И раньше времени ни звука чтобы никто не издал! — добавил опричник. — Караульный на колокольне монастырской стоит. Разглядеть вас на темной земле он не разглядит, но услышать может…
Прослав уже выбрал ведущую к сердцу поселка тропу и семенящим шагом заторопился по ней. От засеки до крайних домов было не более полуверсты, поэтому времени последний переход занял немного, и вскоре воины вышли к поселку.
Кодавер спал. В затянутых выскобленной рыбьей кожей окнах не светилось ни единого огонька, из сараев доносилось сонное похрюкивание, то в одном, то в другом конце селения бестолково тявкали собаки. На всем пути отряда только одна псина залилась истошным лаем, переходящим в хрипоту, но и той надолго не хватило.
— Вот он, — указал вперед проводник, и отступил в сторону. — Кодаверский монастырь.
Сложенный из красного кирпича высокий, с одноконьковой крышей, с ближнего края которой вздымалась вверх звонница, с узкими окнами и тяжелой дверью монастырь напоминал крепость, и стоял, как крепость — в гордом уединении от всех прочих построек, за которыми мог спрятаться крадущийся к воротам враг; поодаль от леса и густых кустарников, окаймляющих заборы ближних домов.
— Константин Алексеевич… — попытался отдать команду Зализа, но на этот раз уже Росин, повысив голос, жестко сказал:
— Мы между забором и кустарником засядем, оттуда наилучший сектор обстрела. И нас в тени не видно будет.
— Хорошо, боярин, — согласился опричник. — Эй, Мелкошины! Крышу дома, что за вами, палите!
— Эй, кто здесь? — тревожно окликнули сверху.
— То я, Прослав из Сассуквере! — отозвался проводник.
— Так тебя же, сказывали, убили зимой, в походе рыцаря Ивана? — удивились из темноты.
— Живой, живой.
— А кто это там с тобой по ночам бродит?
— То друзья мои новые, домой проводить хотят.
— Ветвенникские все, вместе с Прославом ступайте! — громко распорядился Зализа. Теперь, когда языки пламени уже заплясали над соломенной крышей стоящего напротив монастыря дома, скрываться смысла более не имело.
— Пожар! — завопили со звонницы. — Прослав, кто там еще?! Пожар!
Откуда-то со стороны озера послышался и сразу смолк предсмертный собачий вой. Потом еще и еще — но уже совсем с другой стороны. Мохнатые защитники домов, отважно и бездумно кидаясь на незваных пришельцев, гибли первыми. С треском распахнулись ворота, и четверо охотников ринулось во двор горящего дома, торопясь схватить хоть что-то, пока до этого не добралось беспощадное пламя.
Со стороны монастыря послышался тяжелый гул: бум-м… Бум-м…
Караульный сигналил поселку о нависшей над ним опасности — но Кодавер уже проснулся — проснулся в ужасе от смертного собачьего воя, треска ломаемых дверей, звона мечей, рубящих подпорки полатей, от сорванных с безмятежно спящих детей, женщин, мужчин одеял, и многие из них, еще не поняв, наяву они, или попали в странный ночной кошмар, успевали увидеть только веселую бородатую рожу, да блеск обнаженного меча — после чего для них наступала вечная мгла.
Засевшие в кустарнике одноклубники, тревожно переглядываясь между собой, прислушивались к доносящимся крикам.
— Земли разорили, — негромко произнес Росин, пристраивая тяжелый ствол мушкетона на развилку можжевелового куста, и снова повторил. — Земли разорили.
Прислушиваясь к доносящимся из-за спины крикам и треску, лошадиному ржанию и перепуганному хрюканью, он раз за разом напоминал себе, что происходящее сейчас отражалось в летописях короткой фразой «ходили к ворогам, да земли окрестные разорили», и считается для нынешнего времени делом совершенно обычным. Тебе хочется досадить соседу, и ты вырезаешь его крестьян. Просто и эффективно. Но его разум человека двадцатого века отказывался воспринимать, что вот так, запросто, скуки ради, с шутками и прибаутками можно стереть с лица земли целую деревню. Не верилось, что нечто подобное происходит везде и всюду по рубежам современной Руси — Руси тысяча пятьсот пятьдесят третьего года.
— Все готовы? — поинтересовался он у занявших позиции вокруг друзей. — Только не торопитесь, без команды не стрелять!
— Не дрейфь, Костя, все будет нормально, — откликнулся кто-то издалека.
Собственно, за способности своих ребят Росин больше не волновался. Это год назад, когда они всем фестивалем ухитрились ухнуться в шестнадцатый век, большинство разряженных в титановые латы и гроверные кольчуги ратников не решались поднять руку на человека, даже если этот человек вспарывает тебе живот или насилует твою подругу. Однако излишне гуманитарные личности оказались вырезаны очень быстро, и в живых ныне остались только те, кто знает, что право на жизнь нужно доказывать.
Первое убийство — это как брачная ночь. Страшно только до момента лишения девственности. А потом… Потом отнимать чужую жизнь становится все легче и легче. Стычка за Кронштадт, потом сеча у Невы, битва на Луге, у Гдова, у Ям-города. И это всего за один год! Нет, теперь уже ни один одноклубник не побоится нажать на спусковую скобу мушкетона только потому, что перед его стволом стоит живой человек. Шестнадцатый век быстро воспитывает в человеке истинные ценности.
— А-а-а! — в освещенное пожарищем пространство выскочила босая простоволосая женщина, кинулась к воротам монастыря и принялась колотить кулаками в толстые створки.
Следом подбежал мужик в распахнутой на груди стеганке, ухватил ее за волосы и, опрокинув сильным рывком, потащил за собой.
— У-а, — некоторое время женщина и вправду волочилась, помогая себе ногами, но потом вдруг извернулась и вцепилась обидчику в руку зубами.
— Ах ты сука! — воин стряхнул ее с руки, и с размаху рубанул мечом по спине. Потом неспешно вытер окровавленный клинок о ее же подол и пошел назад к горящему дому.
Никто вокруг на зрелище никак не отреагировал.
— Это просто разорение земель, — еще раз напомнил себе Росин. — Ходили под Юриев и разорили окрестности… Обычное дело… Повседневная тактика мирного сосуществования…
Тренькнула тетива — мужик споткнулся, упал. Послышался еще один щелчок — стрела выросла из земли чуть выше его головы. Охотник вскочил. Прихрамывая, кинулся прочь — но третья стрела вошла ему в спину по самое оперение. Рыбак сделал пару неверных шагов, развернулся лицом к монастырю, широко перекрестился и рухнул на спину.
И опять никто из сидящих в кустарнике воинов никак не отреагировал.
— Чего мы тут ждем? — нетерпеливо спросил Малохин. — У моря погоды?
— Зализа сюрприз задумал, — ответил кто-то вместо Росина. — Так что не дергайся. Успеешь еще за бабами набегаться.
— Очень надо, — хмыкнул Сергей.
Перед воротами, сыто хрюкая, промчался поросенок, за ним — невысокий мальчишка. То ли один из рыбачьих детей гнался за добычей, то ли оба улепетывали от кого-то третьего.
Колокол смолк, послышался громкий деревянный стук, и в воротах монастыря приоткрылась калитка. Мгновением спустя она распахнулась нараспашку, и из нее один за другим выбежали два десятка латников — с копьями в руках, с мечами на перевязях, в шлемах и кирасах. Нестройной толпой они ринулись вперед, хорошо видимые в отблесках полыхающего дома…
Настоятель кодаверского монастыря не был дураком, и не был излишне гуманным правителем, готовым любой ценой защитить несчастных сервов. Просто язычники с восточного берега совершали точно такой же набег пять лет назад, семь лет назад, десять лет назад. Они приплывали разбойничать каждые три-четыре года — со скуки, по жадности, а иногда и просто спьяну. Два-три десятка дурных необученных дикарей, размахивающих ржавыми мечами — чтобы спугнуть их, а частью и перебить всегда вполне хватало маленького монастырского гарнизона. И настоятель никак не мог предположить, что на этот раз набегом руководит опытный воевода, не вылезавший из сражений последние пять лет.
— Огонь! — Росин нажал спусковую скобу, и тлеющий фитиль уткнулся в запальное отверстие. Секундой спустя мушкетон оглушительно грохнул и больно ткнул его в плечо, едва не опрокинув на спину. Пространство впереди заволокло густым белым дымом. Костя отступил, выставив оружие перед собой и с напряжением вглядываясь в молочную пелену.
Готовясь к походу, они с ребятами насадили на стволы трофейных мушкетонов самодельные трехгранные штыки, и теперь, даже разряженные, доисторические ружья представляли из себя грозное оружие.
Как назло, ветер стих, и дым медленно, очень медленно расползался, смешиваясь с редким предутренним туманом. Когда на поляне развиднелось, стали различимы скрюченные тела монастырской дружины, частью искалеченные крупнокалиберным жребием, частью посеченные стрелами. Видать, засевшие с другой стороны бояре успели добить стрелами тех, кто уцелел после близкого залпа пятнадцати мушкетонов, и назад к спасительным воротам не успел добежать никто. Если там находилась Юля со своим хахалем — пять-шесть человек они вдвоем могли выбить за минуту.
Зализа, ничуть не таясь, выбрался из кустарника, и остановился спиной к воротам:
— Константин Алексеевич, не присмотришь до утра за монастырем? Там еще воев пять сидеть осталось, как бы не сбежали.
— Отчего не присмотреть, Семен Прокофьевич? — так же выступил из-за укрытия Росин. — Присмотрю.
— Благодарствую, боярин, — кивнул опричник и торопливо зашагал в сторону разграбляемого поселка, откуда которого все реже доносился жалобный скулеж и мычание, и все чаще — человеческие вопли.
Росин опустил мушкетон прикладом на землю, выдернул из-под ствола шомпол, прошелся внутри ствола засаженным на кончик толстой палки ершиком, удаляя остатки недогоревших и, упаси Боже, еще тлеющих частиц. Потом вынул из кармашка перевязи бумажный патрон, скусил перетянутый ниткой кончик, высыпал порох в ствол. Потом втиснул внутрь заряд прямо в бумаге, хорошенько прибил его ко дну ровным краем шомпола, сыпанул из острого носика пороховницы затравочного состава в запальное отверстие и на полку. Теперь из мушкетона можно стрелять снова. Костя Росин присел на землю и положил оружие к себе на колени.
Вскоре, устав торчать в кустах, к нему подошел и уселся рядом худощавый Сережа Малохин, потом краснолицый Игорь Картышев, невысокий и упитанный Миша Архин, кучерявый Алексей — и вскоре перед окнами монастыря сидело, небрежно направив двадцатимиллиметровые кованные стволы в сторону узких окон, полтора десятка стрелков.
Трудно понять, какое впечатление произвело на монахов это зрелище — но никаких признаков жизни божий храм больше не подавал.
* * *
Сассуквере отделяет от Кодавера всего полторы версты, а потому колокольный звон прозвучал здесь так же громко, как рядом с монастырем. Сонные обитатели рыбацкой деревушки в четыре двора выбрались из домов, вглядываясь в далекое зарево.
— Пожар… — высказал вслух общую мысль Кунт, сын сгинувшего в зимнем походе Бронеслава. — Видать, у кого-то уголь из печи выскочил.
Бесславный поход сына великого магистра унес с собой в небытие не только глав трех поселковых семей, но и всех трех лошадей деревни, а потому мчаться помогать соседям бороться с огнем было просто не на чем — не пешком же бежать в такую даль!
— Интересно, чей бы это дом мог быть? — прокашлялся в кулак дед Акакий, отец пропавшего зимой вместе с остальными Харитона. — Как бы тепло на дворе-то. Пошто топили?
Помявшись немного на улице, жители стали разбредаться — назад, к еще теплым постелям. До рассвета еще оставалось время, и каждому хотелось немного отдохнуть перед тяжелым новым днем.
По счастью, для рыбака крепкая лодка значит куда более хорошего коня, а потому с исчезновением небольшого местного табуна жизнь в Сассуквере не рухнула. У Бронеслава успело подрасти двое сыновей, уже умеющих поднять парус и выпростать за борт сеть, у Харитона в доме жил отец — еще крепкий старик. Тяжелее пришлось Калине, совсем еще юной вдове Прослава, оставшейся с двумя малыми девчонками на руках. Она за ради пропитания продала весной мужнины снасти и кое-какой инструмент, но одной продажей долго не протянешь. Впрочем, на красивую бабу, да с еще крепким хозяйством, уже заглядывались соседские мужики, иногда предлагая то поправить забор, то перестелить кровлю. Так что, и для нее жизнь могла перемениться в лучшую сторону. Посему деревеньку нищающей назвать никак было нельзя — трудом рук человеческих, потом их она продолжала крепнуть несмотря на тяжелую потерю.
Колокольный гул вскоре стих, над окрестностями монастыря пронесся весенний гром слитного залпа — но рыбацкий поселок уже успел сонно затихнуть, и только собаки никак не успокаивались, заходя звонким лаем.
— Нас то чего Семен Прокофьевич отослал? — недовольно буркнул один из подходящих к поселку рыбаков. Кольчуга его была порвана в нескольких местах, а потому не одета поверх кожаной куртки, а пришита к ней толстой суровой ниткой. За поясом красовался большой плотницкий топор. — Мужики, небось, уже полные баркасы набили.
— Не бойтесь, на всех хватит, — оглянулся на них проводник. — Вон тот дом, что второй от берега, мой, а остальные ваши.
Разглядев в предрассветных лучах нетронутое селение, охотники повеселели и устремились вперед, вытаскивая из-за поясов топоры и обнажая мечи.
Прослав присел, просунул руку под калитку и сдвинул нижнюю, потайную щеколду, закрывавшуюся на ночь, толкнул калитку и отпихнул напрыгнувшего с радостным визгом пса.
— Не до тебя, Черныш, — и он загрохотал кулаками в дверь бревенчатой избы, показавшейся после русской, подаренной боярином Батовым, удивительно крохотной.
— Что там, кто?
— Открывай, Калина!
Послышался стук, дверь распахнулась, и простоволосая баба в одной рубашке с накинутым на плечи сатиновым платком кинулась ему на шею:
— Прослав! Прославушка мой! Живой, вернулся, вернулся родненький, вернулся… — по щекам ее текли крупные горячие слезы, капающие на порог, обжигающие его лицо.
— Дети дома? Коня не покупала? — на мгновение обняв жену, торопливо спросил вернувшийся хозяин.
— Начетник замковый надел наш отобрал, — прижав к губам кулаки и хлюпая носом пожаловалась женщина. — Сказал, коли некому и не на чем пахать, то и земля ни к чему. А меня в ягодник на работы назначил… четыре дня в неделю…
— Скотину не забила?
— Ой, что же это я? — всплеснула руками хозяйка. — Входи же, входи! Милый мой, вернулся…
— Так есть скотина на дворе, или нет?! — рявкнул Прослав.
Со стороны послышался громкий треск, тревожный вскрик, и неизбежно сопровождающий человеческие схватки жалобный вой получивших тяжелые раны собак. Зашлась в крике ужаса какая-то женщина.
— Что там? — испуганно схватила Калина воскресшего мужа за руки.
— Скотина есть во дворе?.. — зарычал Прослав.
— Две свиньи, козы, гуси, кур десяток… Черныш еще… — хозяйка испуганно прислушивалась к происходящему вокруг.
— Это хорошо, — с облегчением кивнул Прослав. — Не пропадет. Вещи собирай. Детей, рухлядь, вещи — все. Детей поднимай.
— Что это? — женщина впервые увидела чекан за поясом мужа. — Откуда?
— Просыпайся, Калина! — затряс Прослав жену за плечи. — Очнись, дура! Собирайся, мы уезжаем! У меня дом на Руси, земля, пашня! Я в закупе, я свободный серв! Скорее!
— Господи, святи, — испуганно перекрестилась она. — Не может быть?!
— Баба! — в сердцах сплюнул муж, отпихнул хозяйку в сторону и ринулся в дом. Подбежал к составленным вместе лавкам, на которых, укрытые красивым лоскутным одеялом, непонятливо хлопали глазами малышки примерно пяти и четырех лет. Прослав наклонился, торопливо поцеловал одну, другую. — Девочки мои… Поднимайтесь, вы уезжаете с папой.
Он встал на приступку печи, провел рукой под потолком и сжал в кулаке несколько холодных монет.
— Эти целы… — он повернулся к одергивающей на плечах платок жене, сунул деньги ей: — На, за щеку спрячь, а то мне дальше идти! Да одевайся же ты, дура! Детей одень! Вещи к лойме тащи! Ну!
Он метнулся на двор, распахнул двери сарая, выгнал на свет коз и свиней, потом кинулся назад в дом, хватанул в углу кадушку, воду выплеснул на пол, внутрь кинул топор, висящее на стене тряпье, сбегал и приволок несколько ребристых скоб, сыпанул сверху гвоздей, сбил с рукояти и приткнул сбоку длинную, наполовину сточенную косу. Сгреб под мышку разрисованную членами прялку вместе с кипой висящей на зубцах шерсти. Выбежал через ведущую к озеру, к его причалу, калитку…
— Господи ты Боже мой, разорви меня котами!
Лойма, которую восемь месяцев назад, перед ледоставом, он самолично выволакивал на берег, так до сих пор и лежала кверху брюхом у среза воды. Прослав, бросив поклажу на траву, привычно бросился за помощью к соседям.
У харитоновского двора поперек распахнутых ворот лежал, оскалив пасть, его мохнатый Чопик. Дальше, в луже крови, плавал годовалый кабан с разрубленной головой. Окно избы оказалось разорвано, а дверь надрублена и переломана посередине.
Все семейство в одних рубахах стояло посреди избы — дед, харитоновская жена, дочка Христина пятнадцати годков, двое сыновей восьми и десяти лет, и испуганно жмущаяся к матери шестилетняя Липа. Двое из пришедших с набегом охотников рылись в открытом сундуке, а третий, безбородый, сжимая в правой руке меч, левой с видимым удовольствием щупал покорную Христину.
— Мужики, помогите лойму на воду спустить, — громко попросил Прослав.
Все оглянулись на него.
— Так это ты, тварь?! — неожиданно сообразил дед и, вытянув перед собой руки, кинулся. Однако ветвеннский охотник успел взмахнуть мечом — тяжелый клинок обрушился серву на затылок и на удивление легко, с еле слышным чмоканьем, рассек, войдя на всю ширину лезвия.
— А-а! — женщина, вцепившись ногтями себе в лицо, упала на пол, и на коленях поползла к замертво рухнувшему родичу. Так же жалобно взвыли дети, но стронуться с места не отважились.
— Так поможете? — судорожно сглотнув, переспросил Прослав. — Всего-то перекинуть, да к воде десять шагов столкнуть.
— Лоймы? — встрепенулся один из охотников. — У них же лодки есть! Фома, Родион, правда, подмогните. Полонянок возьмите. Да нам тоже лойму присмотрите какую.
— Ну-ка, пошли, — пнул безбородый рыдающую женщину, потом махнул мечом детям: — И вы тоже.
Все вместе они вышли на берег. Охотники — сами рыбаки, толк в лодках знают — одобрительно хмыкнули.
— Калина, сюда! — крикнул Прослав, подступаясь к борту. — Быстрее!
— Не отлынивать! — угрожающе прикрикнул на пленников охотник, убирая меч в ножны. — Ну-ка, взяли!
Широкая лодка дрогнула, начала медленно подниматься.
— Давай, давай… — женщины и дети, не доставая борта, отступили назад, а мужчины, перебирая руками по сиденьям, продолжали толкать. — Ну!
Лодка, соскочив с чурбаков на песок, облегченно скрипнула и ухнулась на днище.
— Теперь вперед!
Люди навалились на лойму, толкая ее к озеру — та на удивление легко заскользила и вскоре закачалась на глубокой воде.
— Калина, к причалу ее подводи! — приказал жене Прослав, и указал охотникам на стоящую у причала лодку Бронеслава, которую сосед сшивал почти пять лет и спустил на воду только в прошлом году. — Эту тоже я беру.
— Почему это? — возмутился безбородый. — Их четыре на всех, а ты хочешь себе две хапнуть!
— Я дальше ухожу, а вам воевода хочет монастырь оставить, — походя выдал чужую тайну Прослав.
— Правда?! — обрадовался охотник. Грабить монастырь — это не в нищих мужицких избах шарить. — Тоды ладно. Но тогда ты и девок сам забирай. Семен Прокофьевич ладных девок на свою долю спрашивал. Эта вроде сочная…
Он схватил Христину за волосы и повернул лицом к проводнику.
— Не-ет! — мать стремительно кинулась вперед, и сжала девушку в объятиях.
— Не отдам!
— Пусти… — попросил Прослав, с сожалением наблюдая, как оба ветвенских охотника убегают к стоящим поодаль причалам с лодками Харитона и Сарота.
— Нет! Не дам! Не отдам дочку!
— Пусти! — Прослав дернул Христину к себе. — Да отдай, гадина подколодная!
От тупого упрямства соседки он неожиданно озверел, выхватил чекан и саданул ее по голове — правда, не острием или обухом, а боковой стороной. Скулеж моментально оборвался, и женщина кулем осела на песок. По ушам ударил одновременный детский крик, но Прослав, не обращая на вопли внимания, запустил пятерню девке в волосы и поволок за собой на лодку Бронислава, столкнул на сложенные на дне сети, спрыгнул следом. Нашел пеньковый конец какой-то веревки — этого добра в рыбачьих суденышках всегда с избытком — торопливо смотал полонянке руки за спиной и наскоро привязал к скамье. С облегчением перевел дух и двинулся назад к дому.
— Христина, Христина! — мчались навстречу харитоновские мальчишки.
Вконец озверевший Прослав саданул одного ногой в живот, второго ударом кулака в ухо смахнул в воду:
— Вон отсюда, щенки! Еще появитесь — утоплю!
Поминутно оглядываясь — как бы братья, оклемавшись, и вправду не освободили пленницу — он заскочил на свой двор, рявкнул на бестолково метящуюся жену:
— Детей в лодку неси, раззява! — а сам погнал в открытую калитку немногочисленное стадо.
С загрузкой удалось управиться только когда солнце поднялось уже довольно высоко над горизонтом. В свою лойму он перетащил мотки заготовленных для плетения сетей ниток и поплавки, кухонную посуду, котел и несколько чугунов, кое-какой уцелевший инструмент, покидал скотину, которой пришлось-таки перевязывать ноги. Посадил туда Калину и обеих дочерей. Сундук с накопленным за долгие годы барахлом они перетащили на брониславовскую лодку. Потом он сбегал на соседские дворы — но ветвеннские охотники уже успели выгрести оттуда все самое ценное, и ему осталось только несколько глиняных кувшинов, пара небольших чугунков и незамеченная налетчиками пила.
Еще Прославу в лойму приволокли двух девок, брониславовскую и старшую саротовскую — младшую второпях неосторожно зарезали. Все это время у бывшего обитателя Сассуквера на душе было муторно, но вскоре он заметил, что жена его давнего друга и соседа Харитона дышит, а потом начала шевелиться. На сердце отлегло. С чистой совестью Прослав зацепил нос своей лодки с еще не поставленной мачтой к корме новой и крепкой лоймы Бронислава, поднял парус и двинулся назад, в Кодавер.
Вскоре следом поплыли и ветвеннские охотники.
* * *
— Тихо, тихо, заметят! — предупредил, погрозив женщине кулаком, серв и тут же испуганно перекрестился: — Прости Господи за грех сквернословия и злобу в мыслях…
Он отодвинул рукой еловую ветвь, поднырнул под нее и, низко пригибаясь, перебежал прогалинку, присев на кустами шиповника.
В укрытии уже сидело несколько сервов из Кауды и две незнакомых нищенки. Одеты они были довольно однообразно: на мужчинах сапоги из свиной кожи, суконные чулки, выцветшие шерстяные долгополые накидки без рукавов поверх рубах с обтрепанными верхними краями вместо воротников и кожаных чепчиках, похожих на подшлемники; на женщинах — огромное количество юбок, по паре одноцветных платков на плечах, и по одному на голове.
— Ну что, земляки, — шепотом переспросил новоприбывший. — Не молились?
— Молились, — перекрестился один из Каудских мужиков, — но тихо. Сам, видать, благодарствия возносил, без ангела.
— Ангел без молитвы не может, — покачал головой новенький. — Стало быть, еще станет.
Мог ли он, бесправный раб Церкви из Верикелы, всего год назад помыслить, что станет тайком пробираться к замку своего господина, чтобы помолиться рядом, чтобы услышать голос его и его ангела-покровителя?! Нет, год назад он мечтал о том, как встретит раз храмового ключника на узкой тропе, да и выпустит ему кишки на мягкий лесной мох. Мечтал об этом с самого детства, отдавая ему по осени то самолично поднятого с подстилки новорожденного жеребенка, выкормленного до годовалого жеребчика, то ласкового телка. Он до сих пор помнил, сколько пролил горьких слез, когда у него, девятилетнего мальчонки, отбирали для толстого щекастого ключника телочку, с которой от чуть не спал в обнимку все лето…
Но в последние месяцы дерптского епископа словно подменили. Он с милостью относился ко всем, кому удавалось пробиться к нему с жалобами на управство местных ключников и начетников, запретил продавать за долги мужицких детей и накладывать лишние тяготы. Он научился исцелять больных и увечных, он самолично проводил службы в разных концах епископства. Он снискал на свои земли благословение Господа, и весна прошла без сильных паводков, не снеся ни одного дома или сарая, не потопив скотины и не смыв озимых. И если раньше, требуя подати или вызывая сервов на работы начетники угрожали им штрафами или поркой, то ныне говорили другое: «Не станете честно платить Церкви, господина епископа снимут, и отправят в другой приход». И сервы платили…
Причину таких изменений в правителе приозерных земель все видели еще в одном великом чуде: рядом с епископом начал звучать голос Господень. Такой великий и могучий, что принадлежать мог только ангелу, и никому более. Значит, и вправду простер Бог свою длань над измученным народом, освятив душу его господина.
Присев за кустом, серв снял с плеча холщовую сумку, достал завернутою в нее краюху хлеба, несколько луковиц и печеную брюкву, разломал:
— Не желаете откушать, чем Бог послал? — предложил он, хотя угощения на всех хватить явно не могло. Но Бог велел делиться и здесь, вблизи замка святого дерптского епископа, нарушать его заветы казалось особо тяжким грехом.
— Благодарствуем, сыты, — отказалось большинство людей, и только одна из нищенок вороватым движением схватила ломоть хлеба. Новоприбывший с женой уселись рядом с тряпицей и, кратко помолившись и испросив благословения на скудную трапезу, принялись есть.
Подул легкий ветерок, принеся запах жаркого, и паломники принялись кушать торопливее, совмещая жесткую безвкусную брюкву с приятным ароматом — словно питались в какой-нибудь монастырской трапезной.
День прошел, грядет покой. О, отец Небесный мой, Взор на дом наш обрати И грехи мои прости…Внезапно пронеслось над зарослями. Сервы поперхнулись едой и торопливо побросали объедки на тряпицу, нищенки упали на колени и принялись неистово креститься, отбивая поклон за поклоном, каудские мужики, наоборот, привстали на цыпочки, пытаясь рассмотреть среди ветвей замок:
— Молится!
Верю, Ты не будешь строг: Милосердия залог — И Господня доброта, И Святая Кровь Христа… Снизойди… к моей родне И ко всем… кто… дорог мне, Чтобы вся-я-як, велик и мал, Слову Божьему внимал! Боли… сердца… у-у-утоли, Бедных… счастьем надели… Пусть в покое под луной… Мир! Уснет! Вослед за мно-о-ой!!!Дерптскому епископу несказанно понравились гимны, слагаемые в честь нового Бога, и именно их он предпочитал слушать в последние дни. И не просто слушать — а принимать в их исполнении самое активное участие. Голос певицы, начинающей терять контроль над своими эмоциями и своим телом, придавал священным хоралам удивительную эмоциональность и насыщенность.
Инга, обнаженная, полусогнувшись стояла перед окном, ощущая своего господина внутри себя, а его хозяйскую руку у себя в волосах, и мерные толчки заставляли ее все чаще сбиваться с ритма и забывать слова.
Вечер, свет… звезды в окне! Семь… пар ангелов при мне… Двое… Двое ангелов… Двое парят в головах! Двое… Двое, чтобы усыпить! Двое… чтобы… пробудить… Ну, а двое, чтобы мне Рай небес… раскрыл… во сне…— М-м… — отпустив волосы, господин епископ опустил руки ей на бедра и резким толчком прижал к чреслам, завершая молитву торжественным аккордом!
— А-а-а! — певица выпрямилась и, повернув голову, нашла своими губами его губы.
— Какое же ты чудо… — правитель обессилено упал в кресло и протянул руку к кубку с белым вином. — Почему тебя не существовало раньше?
— Потому, что я появлюсь только через триста пятьдесят лет, — потянулась, по-кошачьи выгнув спину, выпускница Гнесинки. — Вас к этому времени уже не станет, мой господин.
Она развернулась и кокетливым движением выставила вперед правую ногу.
— Поэтому торопитесь пользоваться тем, что есть.
— Не бойся, я своего не упущу, — улыбнулся хозяин замка. — Оденься, простудишься.
— Я вам не нравлюсь?
— Нравишься, — кивнул господин епископ и пригубил кубок. — Но обнажать тебя мне нравится еще больше.
Теперь, когда на северные земли пришло тепло, стол с резными ножками сместился от камина к высокому, забранному от возможных лазутчиков железными прутьями окну. Правда, несколько густых меховых шкур и три персидских ковра, расстеленные по требованию епископа на полу его залы так и остались на своем месте, а кроме того — в углах помещения и на столе появились пятирожковые ажурные медные подсвечники. Правитель более не любил ютиться в полумраке и не желал экономить на своих глазах.
В дверь вежливо постучали.
— Входи, Йоганн, — разрешил правитель.
Дверь тихонько скрипнула, одна из створок отворилась и служка, высунув от напряжения язык, внес большой поднос с утопающим в розовой, мелко нашинкованной капусте огромным, покрытым сухой коричневой корочкой гусем.
— Вот, господин епископ, — поставил он поднос на стол и с облегчением вытер лоб. — Повар сказал, соли не клал вообще. Сверху натер полынью и майораном, внутри яблоки и виноградные листья, под грудку корень сельдерея с луком добавил, для… для… для…
— Для здоровья, — закончил за него правитель. В новом мире о многих понятиях люди предпочитали вслух не говорить, и эта игра в намеки и недомолвки его очень забавляла.
— Да, мой господин, — с облегчением кивнул служка и потрусил назад к дверям.
— Боже мой, как я проголодалась! — певица сцапала кончиками пальцев щепоть капусты, кинула себе в рот, взяла со стола нож, торопливо отпилила сбоку ломоть гусиного мяса, тоже перекинула в рот, хлебнула вина, отрезала еще кусок.
— Что такое? — удивилась она тому, как хозяин замка укоризненно покачал головой. — Плохо себя веду? Так вилок в этом доме, кажется, не подают!
— Ты ешь так, словно поставила своей цель как можно быстрее набить свое брюхо, — край верхней губы священника брезгливо дернулся. — Неужели тебе совершенно не интересен вкус твоей пищи?
— Просто я очень сильно проголодалась, — Инга не без ехидства уточнила: — От большого количества физических упражнений.
— Идем со мной, смертная! — епископ схватил ее за руку и поволок к камину.
Они вошли в узкую дверь рядом с очагом, спустились по круто закрученной лестнице вниз и оказались в теплом полумраке пыточной камере, освещаемой только красноватыми отблесками теплящихся на двух жаровнях углей.
Инга, которой уже довелось провести здесь в ожидании мук целую ночь, моментально притихла. Но господин епископ повел ее не к опустевшему андреевскому кресту, а к ближайшей стене — благо и стены, и пол подвала были выложены человеческими черепами и выбора у него хватало. Священник положил руку на выбеленные временем кости, пошел вперед, скользя по ним пальцами. Обнаружил то, что хотел, и остановился:
— Ее звали Зарицей, — он нежно погладил лобную кость. — Она была знахаркой, и прожила довольно долгую жизнь. Последние годы Зарица не уходила в лес при набегах соседей, а оставалась на скамеечке. Такая старуха все равно никому была не нужна. Литвины ее не трогали, но когда пришли рыцари, то первым делом перерезали ей горло. А это, — правитель сделал шаг вперед, — это Червеница. Она просто шла по дороге, когда навстречу попался конный отряд. И ее затоптали, чтобы не мешалась. А эту девочку звали Барузда. Когда рыцари захватили Юрьев, ее долго насиловали, а когда надоело, засунули во врата наслаждения горящую головню. Но она умерла не сразу, а только через четыре дня, когда живот распух почти вдвое и весь почернел. А вот эту женщину нашли на чердаке. Когда ее стаскивали вниз, она кусила рыцаря за руку и он вспорол ей живот.
— Зачем, — сглотнула певица. — Зачем мне все это?..
— А что ты сейчас делаешь, Инга? — повернулся к ней епископ.
— Н-ничего, — поежилась девушка, которой мгновенно стало холодно.
— Нет, неправильно, — покачал головой хозяин замка. — Ты дышишь. Ты делаешь то, чего они уже никогда, совсем никогда не смогут сделать. Делаешь то, ради чего их бессмертные душа готовы отказаться от своего бессмысленного бессмертия. Ты можешь пить, способна видеть, умеешь ощущать на себе солнечное тепло или дуновение ветерка, ты умеешь понимать вкус пищи… Ты способна объяснить вот им, — дерптский епископ погладил черепа, — ты способна объяснить, почему, владея таким сокровищем, ты отказываешься пользоваться им?
— Я просто была голодна, — уже в который раз тихо повторила певица.
— Я знаю, — кивнул священник. — Но они не способны даже на чувство голода… Иди, Инга, сейчас я поднимусь следом.
Хозяин замка проводил девушку взглядом, после чего подошел к нюрнбергской деве и несильно стукнул по ней кулаком. Изнутри послышался тихий вскрик.
— Ты жив, алхимик? — перекосил губы епископ. — Значит, тебе опять не повезло.
— Но я… Я…
— Ты пытаешься меня обмануть, — закончил вместо него хозяин. — Письмо твоей красивой и образованной любовнице отправлено почти два месяца назад, а она до сих пор так и не явилась.
— Но я…
— Какая разница, что с тобой? — пожал плечами епископ. — Важно, что со мной. А мне хочется разнообразия. Певица, конечно, хороша, но мне хочется попробовать других женщин. Тоже красивых, но более светских, хорошо воспитанных, образованных.
— Я сказал правду…
— Я тоже всегда говорю правду, и только правду. Мы договаривались, что ты приманишь сюда жену твоего друга из Гапсоля, за что получишь самый роскошный обед и смерть. Женщины до сих пор нет. Если она не появится до завтрашнего вечера, то послезавтра палач снова начнет спрашивать тебя про Мадук. Я лишусь одного удовольствия, зато получу другое. Подумай об этом. Возможно, тебя посетят мудрые мысли…
Правитель приозерных земель снова стукнул кулаком по нюрнбергской деве и стремительно поднялся этажом выше, в выстеленный шкурами и коврами зал. Инга сидела в кресле у окна, обнимая обеими руками кубок с вином.
— Что грустишь, прекраснейшая? — хозяин положил руку ей на плечо, а потом, словно невзначай, скользнул ею под вырез камизы, на упругую грудь.
— А что вы все о смерти, да о смерти? — недовольно буркнула девушка.
— Потому, что о ней забывать нельзя, Инга, — епископ опустил в вырез вторую руку. — Потому, что она подстерегает тебя зачастую в самый неожиданный момент. Она может оказаться стрелой врага, ядом в бокале, ты можешь подвернуть ногу и удариться головой о камень, под тобой может взбеситься слон, или ужалить ядовитая змея… Подумай, к тебе вдруг прикоснется ее обсидиановый жезл и ты окажешься перед лицом Создателя. И что ты ему скажешь о последних мгновениях своей жизни? Что ты скучала?
В дверь залы оглушительно забарабанили. Епископ от неожиданности отдернул руки, выпрямился и громко разрешил:
— Входи, Флор!
— Простите, господин епископ, — ворвался начальник охраны и с трудом остановился перед густым персидским ковром с витиеватым черно-бежево-красным узором. — Русские напали на Кодавер!
— Ну и что? — безразлично пожал плечами хозяин замка.
— Вы не понимаете, господин епископ, — загорячился Флор. — Это не просто набег, как всегда. Гонец из Пярсикиви сказывал, слышно, как из пушек палили. Судов разных полсотни видели. Стало быть, не просто набег. Стало быть, воевать пришли.
— Воевать, это плохо… — поморщился хозяин замка. — Смерть, кровь, голод, страдания. Я не хочу этого переживать.
— Да, господин епископ, — согласно кивнул начальник охраны. — Я уже послал гонцов в окрестные монастыри и вассальным рыцарям. Сегодня к вечеру они соберутся в Дерпте, завтра утром мы двинемся к Кодаверу и уже к вечеру с Божьей помощью скинем язычников назад в озеро.
— Что ж, — кивнул правитель, — это правильное решение.
— Разрешите, я сам поведу рать, — приободрившись, спросил Флор. — Я стану присылать гонцов, как только обнаружу ворога, и когда начнется сеча. И, Бог даст, с вестью о победе.
— Хорошо, — кивнул епископ.
— При замке я оставлю Кирилла, Касьяна и Анисима. Они воины опытные, покой ваш оберегут. Привратник еще останется и молодой Антоний на страже.
— Хорошо, — кивнул хозяин.
— Благодарю вас, мой господин, — низко поклонился воин и умчался отдавать насущные распоряжения.
— Вот так, — повернулся правитель приозерных земель к Инге. — Зови смерть, не зови, а она так и норовит до левого плеча дотянуться.
* * *
По селению временами еще проносился изредка отчаянный человеческий вопль, но теперь в большинстве непонимающе хрюкали свиньи, блеяли овцы, мекали козы. Довольные удачным наскоком охотники то и дело пробегали в сторону озера с добычей.
Еще бы! Действуй они как всегда — караульщики из засеки, заметив чужие лодки, успели бы поднять тревогу. Жители, похватав самое ценное и отогнав скотину, скрылись бы за стенами монастыря. И достались бы участникам набега только дурные куры, которых вечно не согнать, да гуси, неизменно улепетывающие к воде, а не наоборот. Ну, прихватили бы что из брошенной хозяевами утвари, зацепили пару неудачников, прозевавших тревогу или на успевших к поселковой цитадели. Вот и все. Да еще и стража монастырская задержаться не дала б. А сейчас… Да, проводник, да хорошая прикидка будущего боя — это самая важная воинская справа, ее ужо ничто не заменит. В кои веки в руках лихих охотников оказалась деревня со всеми жителями до единого, со всеми их припасами и схронами, и не взять этого — ну просто грех!
Зализа, держа на всякий случай руку на рукояти сабли, прошел по единственной улице Кодавера к берегу. Местных баб победители сгоняли сюда — частью в одних рубахах, а то и вовсе голышом. Полонянки скулили в полный голос, но опричник прекрасно знал, что никого из них никто не тронул. Ну, разве помяли чуток, потискали, тряпье оборвали — разве есть для любого мужика большее удовольствие, нежели девку оголить, да по белым телесам пятерней съездить? Но на большее времени у грабителей не имелось — во первую очередь любой воин золотишко в захваченном селении смотрит. Во вторую — серебро. В третью — еще чего хорошего из барахла. От полонянок тоже никто не откажется — но это потом, когда добыча выбрана и поделена, когда на больших кострах зажаривается несчастная скотина и льется без счета дармовое вино. Вот тогда и бабенку можно у огня разложить, с полонянкой сладкой побаловаться. А коли с этого начинать станешь — без добычи вернешься, всю без тебя выберут.
Так что бабы скулили больше со страху, да со стыда — голые и простоволосые. Присматривали за ними трое мужиков из баженовской судовой рати. Им, в отличии от рыбаков-охотников, лопаты, кадушки да сундуки были ни к чему — на ладью лишнего барахла не сложишь, чтобы потом до дома месяц везти. Морские воины ждали более удобной добычи — поменее размером, да дороже в цене. Они знали, что добыча такая появится — план набега Зализа с Ильей Анисимовичем обговаривал в мелочах.
— Почто девок на борт не отправите? — кивнул на полон опричник.
— Не на чем, Семен Прокофьевич, — развел руками один из ратников. — Рыбаки прям ополоумели все, до поселка дорвавшись. Не слышат ничего. Своего баркаса у Ильи Анисимовича нет, а ладью к берегу не подвести. Мелко.
— Мелко, мелко… — поморщился Зализа, и неожиданно громко заорал: — Мелкошин, подь сюда! Мелкошин, воевода тебя зовет!
— Да оглохли они все, Семен Прокофьевич, — усмехнулся ратник. — Как тетерева на току.
Зализа сплюнул, спустился к воде, прошелся вдоль покачивающихся на мелководье лодок. Чего на них только не лежало! Горшки, корыта, лавки, вилы… Хотя, с другой стороны — зачем сколачивать лавку самому, коли можно взять готовую?
Солнце уже поднималось над ровной линией горизонта, и от него под ноги государева человека тянулась яркая слепящая лента. День разгорается — время уходит. Зализа недовольно выдернул саблю из ножен, немного поиграл ею на свету, спрятал обратно: где там этот Прослав?! Без проводника в чужих землях — сгинешь могом, и отчего не поймешь.
— Звал, Семен Прокофьевич?
Опричник не без удивления повернулся, и обнаружил деда Мелкошина, прибежавшего-таки на зов.
— Звал, — кивнул Зализа. — Собери своих сельчан, да перевези полонянок на ладью, пока дело не началось.
— Дык, Семен Прокофьевич… — жалобно оглянулся охотник на разоряемый поселок.
— Ты не туда смотри, а меня слушай, — наставительно посоветовал Зализа. — Больше проку будет.
— Ага, — мгновенно понял намек дед. — Счас, соберу.
Он умчался бодрой трусцой, а опричник поднялся к полонянкам.
— Значит, ратники, — поднял он баженовских воинов. — Всех баб нам не взять, так что давайте так. Отводите в сторонку вот эту, эту, эту…
Не обращая внимания на поднявшийся крик — женщины всегда кричат и плачут, хоть замуж, хоть в рабство, хоть в монастырь — Зализа выбрал из полона самых молодых и красивых с виду девок, каковых получилось всего десятка два, а остальных приказал привязать к деревьям: пусть мужики повеселятся, когда разорение закончат. Как раз подошли стрекотовские охотники, которые, плохо скрывая раздражение погнали выбранных пленниц к воде.
— Эй, Мелкошин! — окликнул деда Зализа. — Как с полоном закончите, сосну потолще срубите. Так, чтобы два десятка ратников поднять смогли.
— Сделаем, Семен Прокофьевич! — весело откликнулся тот.
Опричник вышел на один из причалов, выходящих далеко в озеро, присел на выпирающую сваю, с нетерпением вглядываясь вдоль берега, и временами поднимая голову к небу. Долгожданные паруса появились, только когда время стало приближаться к полудню.
— Ну, Прослав, выпороть бы тебя, — с явным облегчением поднялся Зализа. — Ладно! Стало быть, пора. Думаю, таран Мелкошины ужо вырубили, а у судовой рати мечи с самого вечера чешутся. Пора.
* * *
— Как думаешь, Сергей, — повернул голову Росин. — Про наш набег в летописях написано?
— Отчего не написано? Раз набежали, то должно быть написано. — Малохин от волнения втягивал щеки, отчего казался еще худощавее. — Напишут, коли не написано. Нужное дело, коли написано.
— Да нет, ты не понял, — поморщился Костя. — Понимаешь, во многих справочниках указано, что на Котлине в начале шестнадцатого века стояла шведская застава. А когда Петр Первый основывал Кронштадт, то жилья там не было. Получается, что это именно мы шведов в прошлом году выбили? И крепость после этого существовать перестала. Значит, наше существование здесь, наш провал в прошлое уже отражены в учебниках по истории?
— Учебники нам нужны, — согласно кивнул Малохин. — Учебники читать нужно. Всегда пригодится. Никогда не знаешь, когда пригодится. Но пригодится всегда. Поэтому нужно читать. Заранее.
— Понятно…
С подобными вопросами Росин обычно обращался к задумчивому Игорю Картышеву и находил если не ответ, то хотя бы взаимопонимание. Но после того, как дерптский епископ похитил у него племянницу, Игорь как-то потемнел лицом и почти совершенно перестал разговаривать. А Малохин, хотя парень обычно толковый, перед схваткой всегда начинал нервничать и совершенно дурел. В двадцатом веке дурел перед соревнованиями или игровыми поединками, в шестнадцатом — перед схватками. Сам Серега называл это «боевым безумием». Возможно, он и прав — во всяком случае, проигрывал он куда реже, чем выигрывал, а после провала в прошлое все еще жив, но факт остается фактом: в предчувствии стычки разговаривать с ним совершенно невозможно.
— Миша, Архин, а ты как думаешь? — повернулся к другому соседу Росин.
— Я так думаю, историю следовало учить, — хмыкнул упитанными щеками Миша, поднял руку, чтобы поправить волосы, но наткнулся на шлем. — Учить, и поподробнее. Знал бы, что в следующем году случится, пошел бы в оракулы работать. А так, кроме того, что смута в конце века случится, ничего не помню…
* * *
— Боярин Константин!
Росин не без облегчения понял, что долгое ожидание закончилось. На ведущую к воротам монастыря тропинку тяжело вышли кряжистые, в толстых кожаных куртках моряки с ладьи купца Баженова и несколько охотников, несущие на толстых жердях неошкуренный сосновый ствол в два обхвата толщиной.
— Подъем, мужики! Запаливай фитили! — председатель клуба первым раздул потухший было в замке льняной фитиль. — Смотреть по окнам монастыря! Где шевеление заметите, стреляйте не раздумывая, после чего мушкетоны пулями заряжайте. Все готовы?
Ратники Баженова, впрочем, на его слова особого внимания не обращали, занося хвост бревна поперек ворот и метясь комлем в самую середку. Росин с минуту наблюдал за их стараниями, потом спохватился и принялся шарить стволом по окнам. От тяжести левая рука быстро устала, Костя опустился на колено, поставив левую руку на колено другой ноги. Стало заметно легче. Он смотрел по окнам справа налево, потом назад, по крыше, на колокольню, снова по окнам… Лучник!
Палец руки успел отреагировать даже прежде, чем мозг, мушкетон оглушительно грохнул, и Росин увидел, как справа и слева от окна, в котором померещилось шевеление, жребий выбил из стены каменную пыль. Потом вырвавшееся из ствола облако распухло перед глазами и он принялся перезаряжать ствол, закатив на этот раз в него почти пятидесятиграммовую пулю. Послышалось еще несколько выстрелов, гулкий удар. Сквозь рассеявшийся пороховой дым стали видны ратники, отступающие для нового таранного разбега, совершенно невредимые ворота и одинокий охотник, скрючившийся на ковре из подорожников со стрелой в животе.
Сбоку грохнул мушкетон, еще один. Послышались радостные крики. Ратники снова побежали вперед, комель сосны гулко врезался в ворота: бум-м! Но створки даже не дрогнули.
— Юля, ты где?! — закричал Росин, крутя головой, и увидел, как возле кустарника с другой стороны площади ему помахали рукой. — Ты с Варламом?! Прикройте! По окнам смотрите.
Костя, передернув плечами, вышел вперед, оглянулся на своих:
— Мужики, у кого пули в стволах?! За мной! — Росин, настороженно поглядывая на окна, двинулся вперед. Следом потянулось еще десяток одноклубников. — Слушай сюда! Засов примерно посередине ворот. Лупим залпом в самый центр. Хоть половина пуль, но наверняка в него попадет. Разлохматим засов, ворота вылетят, как картонные.
Он еще раз окинул взглядом окна, но лучников в них более не появлялось.
Костя опустился на одно колено, удобно перехватил мушкетон:
— Целься! Пли!
Залп грохнул довольно дружно, и прежде, чем ворота заволокло дымом, Росин увидел, как из створок вылетают крупные щепки.
— А-а-а! — начали новый разбег ратники.
Комель сосны коснулся ворот, послышался легкий, какой-то ненатуральный треск: и бревно полетело дальше, во двор или молитвенный зал — что там у них внутри?
— Ур-ра-а-а! — ринулись вперед мужики, обнажая мечи.
Монастырь — это вам не мужицкая изба. В монастыре есть оклады, кубки, кресты, ризы, парча, подсвечники серебряные, а то и золотые. Там есть за что посражаться, проливая свою и чужую кровь.
— Жребием заряжаем! — скомандовал Росин, затушивая пальцами фитиль в замке. — Пригодится…
— Константин Алексеевич! Боярин Росин!
Костя, по инерции хорошенько прибив заряд, поднял глаза и увидел Зализу с сумкой через плечо, Юлю с Варламом и остальных бояр рядом с ним, одноклубников, подтягивающихся к общему отряду.
— Извини, Семен Прокофьевич, оглох я совершенно с этой стрельбой, — порох в запальное отверстие Росин все-таки засыпал, после чего повесил мушкетон на широкий ремень себе на шею, привычно, как на автомат положил на него руки. — Вот зараза какая, «Калашников» раза в четыре легче будет.
— Уходим, боярин, — кивнул Зализа. — Прослав ужо вернулся.
— Понял, уходим, — Костя кинул на монастырь прощальный взгляд и присоединился к отряду.
Из распахнутых ворот за его спиной слышался громкий металлический звон — но не шум схватки, а звуки сваливаемой в общую кучу посуды. Судовой рати и охотникам с восточного берега озера еще хватит веселья в захваченном Кодавере на остаток дня, и на всю ночь, и даже на утро. А отряд из государева человека, бояр рода Батовых, пятнадцати членов военно-реконструкторского клуба «Черный шатун» и одного бывшего патрульного милиционера, ныне бредущего с пищалью на плече и бердышем за спиной, уходил по дороге в сторону древнего русского голода Юрьева, ведомый бывшим сервом Прославом, родившимся и выросшем в здешних краях. Пройдя по дороге примерно полторы версты, проводник свернул на узкую неприметную тропинку, и следом на ним весь отряд растворился в темных лесных зарослях.
Глава 4. Инга
Добраться до города Юрьева, который пришельцы с запада упрямо называют Дерптом, можно двумя путями. Либо по хорошей дороге через Аовере, Сааре, Борвики, и далее — прямо к озеру, на монастырь; либо через Рилку, Ачутку, Метсакиви и Коосу, через незагаченные болота, узкими извилистыми тропами. Если вокруг, то путь получается, почитай, в пятьдесят полновестных верст. Через болота — на треть короче. Но конному по короткому пути дороги нет, а уж тем более серву с телегой или купцу с товаром, а потому кратким путем никто из местных и приезжих господ не пользовался, да и сервы в большинстве туда не совались. Потому, как коли в Юрьев и ехать, так товар везти надо — холсты домотканные, рыбку копченую, свинину, гусей пожирнее. Да и назад нужные в хозяйстве покупки на спине не унесешь — на повозке везти надобно. Вот потому-то и забывался потихоньку короткий путь, по которому легконогие предки хаживали в княжескую столицу в те далекие времена, когда железо было в диковинку, а костяные остроги и каменные топоры вольные русичи делали из подручных материалов; когда хозяйство горожанина мало отличалось от деревенского двора, и главной его задачей было поднять и укрепить стены, за которыми в лихую годину сможет отсидеться весь род.
Однако, что забывается одними, быстро становится оружием других — а потому к тому моменту, когда Дерпт закрыл на ночь ворота, приняв в себя последних рыцарей епископа, собравшихся, согласно вассальной присяге, на зов своего господина, Прослав уже подводил русских воинов к Гадючьим болотам.
— Вот, боярин, — повернулся он все-таки не к опричнику, а к своему барину, Евдокиму Батову. — За этим бором топь начнется. По ней еще верст пять, и Кауда будет. А от нее до Юрьева всего верст пятнадцать станется, если через Лобицкую вязь идти.
— А если не через вязь? — поинтересовался, тяжело дыша, Зализа.
— Нет другого пути, Семен Прокофьевич, — развел руками Прослав. — Разве только назад и округ, через Путаливу.
— Что же ты нам тогда… — не договорив, опричник махнул рукой. — Ладно. Пять верст через болото до темноты пройти не успеем. Привал.
Бояре без сил попадали на землю, одноклубники тоже устало опустили тяжеленные мушкетоны и скинули рюкзаки. Росин вместе со всеми растянулся на траве, отлежался минут пять, потом поднялся:
— Архин и Малохин: в дозор. Остальные: хворост собирать. Игорь, с тебя костер. Эй, Прослав, здесь воду набрать можно? Хоть чайку брусничного заварить.
— У болота несколько ручьев, — поднялся проводник. — Я покажу.
Они с Костей взяли вытряхнутые из рюкзаков котелки и отправились к топи. Поскольку и хвороста, и воды, и времени до темноты хватало, путники решили не жевать сушеное мясо всухомятку, а сварить из него похлебку с грибами, в избытке растущими в приболотном осиннике.
— Однако, крепкие у тебя воины, Константин Алексеевич, — признал Зализа, когда Росин позвал его к котлу с готовыми щами. — А меня ноги не держат.
— Это потому, Семен Прокофьевич, — отказался от похвалы Костя, — что ты всю жизнь лошадиными ногами пользуешься. Вот и задохнулся с непривычки. А мы в большинстве пехом бегаем. И по горам с амуницией за тридцать кило скакать приходилось, и через леса с рюкзаками пробиваться. Прогресс, елы-палы, называется…
Опричник, как это не раз случалось в разговорах с осевшими на его земле иноземцами, половины произнесенных боярином слов не понял, но переспрашивать не стал, вытянув из-за голенища тряпицу с ложкой, развернул главную драгоценность любого русского человека и потянулся ею к соблазнительно пахнущему вареву.
— Вы как замок епископа брать собираетесь?
Опричник и Костя вздрогнули.
— А это ты, Игорь, — кивнул Росин. — Заговорил… Ничего, еще пару дней, и выдернем мы твою племянницу из замка.
— Как? — жутковато отливая молодой кожей в вечерних лучах, Картышев опустился рядом и тоже потянулся к котлу.
— Так же, как в Кодавере, боярин, — не поленился в подробностях пересказать Зализа. — Про то, что мы побережье пощипать пришли в Юрьеве уже знают. Наверняка ополчение поднимут, ратников соберут, помчатся нас выбивать. В замках ливонских и так гарнизоны больше двадцати латников не стоят, а ноне и тех к озеру отправят. В замке у епископа больше пяти-шести воев не останется, крест святой положить могу, — опричник размашисто перекрестился. — Против нашей рати им не устоять. Рвов вокруг замков схизматики не роют, ленятся. Мостов подвесных перед воротами не ставят. Их и ранее мужики псковские ватагами грабили, а ноне, когда государь пищали стрельцам выдает, наряды большие при войске завел — так и вовсе не устоят. Константин Алексеевич ратников своих перед воротами выстроит, несколько залпов дадут, пока мы с боярыней Юлией, да братьями Батовыми стрелами вас прикроем. Потом тараном выщербленные ворота ударим, и внутрь войдем.
— Долго и шумно, — поморщился Картышев.
— Слушай, Игорь, — вздохнул Росин. — Ты нам загадки не гадай. Хочешь сказать, говори толком, а не цеди по два слова через зубы.
— Пока вы по воротам залпами лупить станете, епископ пленных может перебить.
— Это почему? — не понял опричник.
— Долго будет стрельба длиться, — пояснил Картышев. — Епископ увидит, что замка ему не удержать, и пленных перебьет.
— Зачем? — опять не понял Зализа.
— Чтобы не достались никому.
— Кто?
До сознания уроженца шестнадцатого века никак не доходила цель убийства людей, которые не первый день находятся в твоей власти, наверняка уже работают по хозяйству или посажены на землю. Страсть потомков, пришедших на планету спустя четыре века после его рождения, к бессмысленным убийствам не находила места и понимания в разуме привыкшего к схваткам и крови опричника. Перебить пленных со зла, после боя — бывает. Зарубить жадного селянина, не желающего признавать право победителя на добычу — сам виноват. Сварить живьем в вине или на кол посадить — так такое только по судебному приговору возможно. Сам он без колебаний вешал станишников — но сие есть их собственное желание. Не хочешь висеть — не разбойничай. А убить просто так, чтобы не освобождать или не отдать другому? На такое даже безбожные татары никогда не решались — и после взятия кованой конницей казанских и астраханских городов и селений, после казачьих набегов на Крым русский полон в большинстве возвращался домой в целостности.
— Епископ, поняв, что его замок вот-вот возьмут, может приказать перебить пленников, — упрямо повторил Картышев.
— Я понимаю, Игорь, ты за племянницу беспокоишься, — мягко начал Росин, но его внезапно перебил Зализа:
— Прости, Константин Алексеевич, но боярин дело сказывает. Пальбу нашу в городе услышат, и подмогу к замку могут послать. Так что предлагаешь, Игорь Евгеньевич?
— По-тихому замок взять. Через стену перемахнуть, или в окно влезть и ворота открыть.
— Как? Лестниц у нас нет, а вязать долго.
— Веревку забросить, или шестом подняться.
— Постой… — опричник вытянул шею. — Прослав! Подь сюда. Ты замок епископский видел?
— О прошлом годе видал, — кивнул, подходя, проводник. — Агромадина изрядная.
— А поподробнее нельзя? — попросил Росин.
— Ну, с виду он на избу похож. Но каменную. В длину саженей пятьдесят будет, да в ширину сорок. По бокам стены саженей пять в высоту будут, окна узкие. Крыша черепицей крыта. А спереди, где ворота, стена широкая очень, а в высоту саженей десять. И башня сделана. На ней знамя епископское, и караульный всегда стоит.
— Угу, — подергал себя за ухо Росин. — Черепица кладется поверх досок. Так что, даже если на крышу и забраться, то ее так просто не разобрать. А в это время сверху с башни лучники бить станут. Не пойдет. Постреляют, как буржуинов в тире.
— Караульного мы грохнем, — покачал головой Картышев, — не в счет.
— Думаешь, не услышит никто, как ты крышу ломаешь? — покачал головой Росин. — Найдется, кому пристрелить. Так что, бесшумно не получится. А если шуметь: так проще со всех стволов по воротам долбануть, и тараном разнести. А от городского подкрепления потом из-за стен отобьемся.
— А как уходить станем, если обложат? — Картышев задумчиво подвигал нижней челюстью из стороны в сторону. — Веревку стрелой через стену перекинуть, и забраться.
— Десять саженей минимум, — напомнил Росин. — Пятиэтажный дом. Ты в доспехах на такую высоту по веревке влезешь? Или даже без них, просто с мечом?
Зализа молчал, прислушиваясь к разговору. Он отнюдь не считал себя новичком в воинском деле, но странные иноземцы уже показали дивную сноровку и хитроумие в пользовании пушками и пищалями, не раз высказывали странные непривычные мысли, приводившие к успеху, а потому он предпочитал слушать и запоминать — авось, пригодится. Коли глупость предложат, запретить всегда успеет. А коли хитрое что — так пусть делают. Полонянка их, животы у них тоже свои — почему и не позволить?
План, как взять Кодавер и монастырь в нем, как выманить епископское воинство подалее от замка Зализа замыслил сам, и удачей своей гордился. Покамест получалось все, как хотелось. Но взять замок без шума, пусть даже в нем сидит всего пять-шесть воев… Хоть план такой услышать, и то занятно.
— Окна есть? — повернулся Игорь к Прославу.
— Есть, — кивнул проводник. — Те, что сзади, узкие, в две ладони шириной. И от земли в трех саженях. А те, что спереди, решеткой забраны. Сказывают, покои там епископское. Палаты красивые, горницы.
— Широкие окна?
— Угу, — кивнул проводник и развел руки в стороны. — Но решетка в них вмурована.
— От земли высоко?
— Сажени четыре.
— Слыхал, Костя? — довольно усмехнулся Картышев. — Третий этаж. Допрыгнуть можно!
— Там прутья в окно вмурованы, — еще раз напомнил Прослав. — В два пальца толщиной. Снизу доверху.
— Значит, даже не решетка, а прутья?
— Железные, в два пальца толщиной, — на этот раз не выдержал даже Зализа.
— Как ты их одолеешь, Игорь Евгеньевич?
— Ну, положим, хорошей стали никто на решетку не поставит, — пожал плечами Катышев. — Наверняка сыромятину вмуровали. И потом, Семен Прокофьевич, все вы слишком верите в железо. Точно так же, как в мое время верили в компьютеры и витамины. А ведь самое совершенное создание Господа в этом мире, это не железо и не атомная энергия. Самое совершенное создание — это руки человеческие.
И Картышев продемонстрировал опричнику свои ладони.
— Что же ты, Игорь Евгеньевич, — засомневался Зализа, — руками эти прутья рвать собираешься?
— Почти. У меня на палатке капроновый шнур к колышкам привязывается. Он полтонны нагрузку держит. Сложу вдвое — будет тонна. Чего еще надо?
И опять государев человек Семен Прокофьевич Зализа не понял половины из сказанных боярином Игорем слов. Но в словах иноземца звучала такая уверенность, что опричник — поверил.
* * *
Проведя ночь на мягком, пружинящем ковре из опавшей хвои, ранним утром путники попили кипяченой воды с разведенным медом, подкрепились копченой рыбой и двинулись дальше. За три часа они преодолели Гадючье болото, лесом обогнули Кауду, и двинулись дальше, к полудню уткнувшись в Лобицкую вязь. Здесь они стали на дневку, сварив нормальную, густую пшенную кашу с салом, после чего отправились дальше, узкой чавкающей тропой через топь, а потом, по ее краю, вокруг Юрьева, к епископскому замку.
— Еще версты две, и на месте будем, — пообещал Прослав.
— Тогда стой, — скомандовал Зализа. — Неча нам, усталым, на стены кидаться. До утра отдохнем, а ужо спозаранку в гости наведаемся. Монастырские сотни, поди, как раз в Кодавере носятся, ворога ищут. — Опричник негромко рассмеялся. — Ранее завтрашнего вечера не вернутся.
— Две версты? — Картышев опустил на землю мушкетон, с облегчением сбросил рюкзак. — Тогда мы, пожалуй, на разведку налегке сходим. Посмотрим, что и как, и решим окончательно.
— Идите, — махнул рукой Зализа. Однажды решившись позволить иноземцам делать все так, как они сами хотят, он уже более не вмешивался. Следил только, чтобы на рожон не поперли — но ратники боярина Росина и сами явно погибать не собирались.
Вернулись Росин и Картышев вместе с проводником, угрюмые, с уже срубленной тонкой березкой саженей пять в высоту.
— Не получается, что, Константин Алексеевич? — поинтересовался опричник.
— Все получится, все как всегда, — вздохнул боярин. — И как всегда первыми начнут резать случайных людей. А не зарезать никак — шум поднимут, раскричатся. Сопутствующие потери…
* * *
Аве Мария Как молиться тебе, я не знаю Аве Мария Спаси от печали, невзгод и беды Аве Мария На земле все живут, как чужие Аве Мария Помоги мне прожить дни и ночи Аве Мария Тебя я молю!Ангельский голос смолк.
Серв, тяжко вздохнув и перекрестившись, поднялся с колен, низко поклонился нищенками и остающемуся за кустами старику с бельмом на глазу.
— Прощевайте, люди добры. Хозяйство у нас, надолго оставлять нельзя.
Следом за ним святым людям и епископскому замку поклонилась, мелко крестясь, его жена. Сервы отступили, таясь за темными молодыми елями, прокрались к дороге, и дальше отправились уже в открытую, муж впереди, а женщина немного поодаль.
Еще через минуту тяжелые еловые ветки колыхнулись снова, и из-за них на оставшихся нищенок и старика метнулись одетые в кирасы воины с короткими, широкими мечами в руках. Несчастные не успели толком понять, что происходит, кто и за что явился их покарать — а холодная сталь уже погрузилась глубоко в мягкие тела, и только старик успел издать изумленный предсмертный крик.
Тем не менее, караульный на башне услышал посторонний шум, остановился за зубцом, пристально вглядываясь вниз. Однако более ничего не происходило — тихо шелестела листва яблони с привязанными к ней ленточками, поскрипывали, качаясь, сосны, гулко перемещался от цветка к цветку большой мохнатый шмель.
Успокоившись караульный снова неспешно двинулся по кругу, со скукой поглядывая по сторонам. Положенное ему на посту копье он прислонил к одному из зубцов — какой от него прок на такой высоте, пусть даже опасность случиться? Рядом лежал и тяжелый ясеневый щит.
— Юленька… — прошептал Картышев.
Спортсменка кивнула и натянула на правую руку двупалую перчатку. В левую взяла лук и неспешно вытянула стрелу с граненым бронебойным наконечником. Рядом надел наперсток Варлам. Стрелковым наручем он побрезговал.
— Готовы? — поинтересовался Игорь. — Часового видите?
— Кого? — растерялся боярин.
— Ну, ливонца на башне…
— Саженей сто будет, не более, — кивнул воин.
— Прослав, ступай, — хлопнул Картышев проводника по плечу.
Тот, вытянув из-за пояса чекан и кинув его на землю, кивнул и, ничуть не стесняясь, ломонулся через кусты к замку.
— Эй, кто таков?! — встрепенулся караульный.
— Слышь, земляк, — серв продолжал приближаться к замку, и дозорному, чтобы лучше его видеть, пришлось подойти к самому краю смотровой площадки, выглянув между зубцами. — Как мне на Камбию пройти? Что-то заплутал я немного…
— А ты кто таков, окель будешь? — сурово поинтересовался караульный.
— Прослав я, из Сассуквере, раб кавалера Хаккана, — честно ответил проводник. Ну откуда мог дозорный епископского замка знать по именам сервов далекого озера, а уж тем более — про из судьбу на зимней войне? — Меня господин начетник с письмом послал.
— Правильно идешь, раб, — расслабился караульный. — Еще миль семь по этой дороге.
Он выпрямился, четко показав сидящим за кустами лучникам свой силуэт на фоне проплывающего по небу белоснежного облака. Звучно щелкнули тетивы. Одна стрела пробила воину горло, вторая, с гулким цоканьем пробив кирасу, вошла в грудь. Несчастный, все еще не понимая, что с ним произошло, заскреб пальцами пыльный парапет, отступая за каменный зубец, но Варлам, приученный к торопливой стрельбе во время конной атаки, успел выпустить еще четыре стрелы, две из которых бесполезно чиркнули по темному железу, оставив глубокие борозды, одна пробила боковину панциря, войдя глубоко в тело, и еще одна прошила насквозь руку умчавшись куда-то вдаль. Юля же, которую почти пятнадцать лет натаскивали на то, что каждый выстрел должен приносить команде победные очки, за тоже время успела сделать только один выстрел — граненый наконечник пробил голову караульного под левым глазом и выскочил из затылка, уперевшись в задник немецкой каски.
И все-таки молодой дозорный не умер сразу. У него хватило сил на то, чтобы отступить за толстый и прочный зубец башни, присесть на присыпанный прошлогодней листвой пол и только здесь, в полной безопасности, он перестал дышать. К этому моменту Картышев, повесив на плечо кусок толстого капронового шнура, обеими руками оперся на конец березового шеста и начал разбег к широкому фасадному окну. В полуметре от стены он подпрыгнул, уперся ногами в стену и продолжил свой бег, подталкиваемый стараниями шести одноклубников. Спустя считанные секунды он зацепился рукой за один из прутьев, переступил ногой на подоконник, внимательно вглядываясь внутрь помещения.
Это был самый ответственный момент: окажись сейчас в главном зале хоть один человек, и он немедленно поднимет тревогу! Но в главных залах любого замка редко требуются хозяйственные работы. Во время осады, а иногда и постоянно, здесь спят слуги, воины, явившиеся на хозяйственные работы сервы, которые днем расходятся по назначенным местам. В залах случаются торжественные приемы, принесение вассальной присяги, возведение в рыцарское звание. Празднества, в конце концов. Но обширные помещения, окна которых никогда не знали стекол, трудно натопить, поэтому для обычных, повседневных нужд хозяина маленькой крепости существуют другие, куда более скромные и уютные залы и комнаты. Вот и сейчас: толстый слой соломы на полу, безмятежно попискивающие где-то в углу мыши, потухшие факела в настенных держателях. Но больше ничего. Тихо…
Картышев захлестнул сложенной вдвое веревкой соседние прутья, связал шнур, оставив небольшую слабину, сделал на ней петлю. Потом скинул ремень с мечом, просунул рукоять в петлю и, вращая меч за ножны, принялся скручивать веревку. Поначалу крутить было легко, потом труднее и труднее — но соседние прутья, стягиваемые с усилием никак не меньше полутоны, стали выгибаться серединами один к другому, пока не соприкоснулись. Игорь сдвинулся немного в сторону, захлестнул веревкой прутья с другой стороны. Начал скручивать. Вскоре между средними вертикальными прутьями просвет вместо двух ладоней достиг четырех и Картышев, просунув в него голову и левое плечо, протиснулся внутрь.
— Меня давай, — засуетился внизу маленький Архин. — Я маленький, я пролезу.
Он ухватился за конец шеста, разбежался вместе с толкающими его одноклубниками и стремительно взметнулся к окну, не без труда протиснув округлый живот между прутьями.
— От черт, получается и мне нужно скакать, — поморщился Сергей Малохин. — Тощий я…
Он так же уперся на шест и с разбегу вознесся к лазу.
— А ну, бояре, дозвольте и мне попробовать, — неожиданно решился один из батовских сыновей.
Особых возражений у ребят из «Черного шатуна» его желание не вызвало. Хочет человек, так пусть забирается. Поправив шелом на голове и сдвинув саблю немного назад, ратник взял шест подмышку, слегка наклонившись в его сторону, побежал. Прыгнув ногами на стену, он так же торопливо застучал подошвами по камню, как делали кауштяне до него, не в силах сдержать крика восторга, увидел перед собой решетку и схватился на нее. Перевел дух, утерев рукавом чистой полотняной рубахи лот со лба, перекрестился, посмотрел вниз.
— Господи помилуй, — перекрестился он снова, после чего принялся старательно протискиваться внутрь. Хотя все русские — да и не только русские люди шестнадцатого века уступали провалившимся в прошлое одноклубникам в росте едва не наголову, да и по сложению заметно, но под панцирной кольчугой у боярина имелся обязательный поддоспешник, сама кольчуга тоже лишний сантиметр в толщину давала, так что между прутьями боярину пришлось туговато, хотя он и выдохнул весь воздух и втянул живот.
— Господи, спаси помилуй и сохрани… раба твоего… Григория… навеки тут останусь…
Но Бог дал отважному рабу своему Григорию достаточно сил, чтобы прорваться через препятствие, и тот с глухим железным звоном спрыгнул вниз.
Внизу, у замка, бояре заторопились к воротам, а одноклубники — к лесу, за оставленными там мушкетонами. Проникшие внутрь лазутчики, обнажив оружие, устремились к дверям. За роскошными дубовыми створками обнаружилась неприлично узкая деревянная лесенка. Картышев удивленно чертыхнулся, побежал вниз. Лестница вывела в темный раздваивающийся коридор. Игорь, а следом за ним и Миша Архин повернули налево, боярин Григорий с Малохиным — направо. Одетому в железо воину бежать оказалось тяжеловато и он перешел на шаг. Слева с промежутками в две сажени мелькали узкие высокие бойницы, за которыми в полусотне шагов шелестели низкие, с округлыми кронами яблони. Справа шла сплошная каменная стена.
— Постой, боярин! — вскинул палец Григорий Батов, скинул шелом, прижался ухом к стене. — Никак, кони ржут… Конюшня там.
Он отступил, оглядывая стену:
— Ворота во двор вести должны… Во двор нам надоть, к конюшне.
Позади послышался топот. Боярин и Малохин развернулись, выставив клинки, но это догоняли свои:
— Спуск там дальше, — сообщил, тяжело дыша, Картышев. — И овощами воняет. Погреб, похоже.
Батов кивнул, двинулся дальше по коридору. Неожиданно проход снова раздвоился. Точнее, обнаружился отходящий вправо коридор. И опять боярин с напарником повернули направо, но на этот раз сразу за собранной из тонких еловых стволов дверью по глазам ударил свет: они оказались во дворе замка, ярко освещенном из узких бойниц противоположной стены — она никак не отгораживалась, просто вдоль амбразур шел неширокий помост для стрелков. Во дворе густо пахло пряностями и тушеным мясом. Прямо от ног до земли спускалась лесенка без перил, но с широкими ступенями.
— А-а-а! — в ужасе заорала при виде незнакомых воинов поднимавшаяся по лесенке с подносом в руках дородная тетка. Боярин легким движением резанул сверху вниз, и крик оборвался. Служанка откинулась на спину, а запеченные фазаны, лежащие на подносе оттопырив пышные хвосты, рассыпались в кровавой луже коричневыми комками.
— Ворота! — с облегчением выдохнул Батов и бегом припустил через двор. Малохин кинулся было за ним, но краем глаза заметил выбирающегося из охапки сена бородатого мужика с кошкодером на боку. Игорь остановился и повернулся навстречу врагу.
Из седых, мелко закрученных волос ливонца и из короткой, но густой бороды во все стороны торчала пересохшая трава, ворот толстого кожаного поддоспешника расстегнут, серые глаза смотрели хмуро, и без всякого страха.
Малохин ринулся вперед и, в нарушение всех правил боя на мечах, рубанул врага из-за головы, торопясь покончить с ним, пока тот не успел приготовиться к бою. Но неожиданно тяжелый меч напоролся на преграду, обрушившись не на голову ливонца, а соскользнув в сторону, а оказавшийся обнаженным кошкодер обратным движением резанул Малохина поперек груди. Сергей отпрянул, но ощутил как натяжение куртки на груди резко ослабло и по телу поструилось нечто липкое.
— Ах ты! — он попытался нанести прямой удар, но ливонец отбил и его, ответив легким уколом в бок, потом попытался ударить в горло, и Малохину только невероятным усилием удалось подставить под смертельный выпад свой клинок. А кошкодер уже скользнул вниз, больно резанув ногу.
Сергей с ужасом понял, что его гордость, его великолепный толстый и широкий, сужающийся к концу русский меч, сделанный аутентично образцам десятого века слишком тяжел, чтобы отбивать удары менее страшного с виду, но куда более легкого клинка века шестнадцатого. Он не успевал, он катастрофически не успевал за движениями ливонца! И понял, что сейчас будет убит.
Понял это и ливонец. В глазах его появились веселые искорки, он уже не торопился убить незваного гостя, он просто тихонько подкалывал его то с одной, то с другой стороны, задорно хмыкая при каждом вскрике Малохина. И тут… И тут у него из груди выросло стальное острие.
Старик так и не понял, что убит. С веселым выражением лица он попытался подколоть противника еще раз, но потерял равновесие и с потухшими глазами завалился набок.
— Это ты, Миша? Откуда?
— Крик услышали, и назад вернулись. А тут ты рубишься… — Архин перевел взгляд на убитого воина и его передернуло. На миг показалось — вырвет, но Миша справился, наклонился и выдернул из тела свой клинок. — Никак привыкнуть не могу, как легко… Тык его в спину, и насквозь…
— Уж лучше так… — сунув свой тяжелый меч в ножны, Малохин подошел к врагу, наклонился и вынул из его руки легкий кошкодер. — Пригодится.
Он выпрямился, и перед глазами завертелись белесые мушки. Сергей замер, давая им возможность улечься и удивляясь внезапной слабости, но мухи никуда не делись, а сам он медленно и расслабленно осел на землю.
У ворот схватка с подбежавшим монахом закончилась куда быстрее: боярин Григорий, увидев, как выскочивший из угловой двери святой человек метится мечом ему в живот, чуть согнулся и повернулся боком, позволив лезвию безвредно прошелестеть по кольцам панциря, а потом быстро чиркнул черноризника саблей по горлу. Затем неспешно преодолел последние четыре шага и отодвинул засов. Калитка замка гостеприимно отворилась, и внутрь хлынули вооруженные саблями и мушкетонами ратники.
Последними вошли Росин и опричник. Костя посмотрел на распластавшегося с перерезанным горлом монаха, на лежащую немного поодаль мертвую женщину, поморщился, покачав головой:
— Это же сколько душ мы загубили, пока сюда дошли?
— Как ты можешь, боярин? — мягко укорил его Зализа. — Мы человека русского из полона освобождаем, а ты крови убоялся! Грех.
* * *
— Забудь, забудь про все, — епископ поднес кубок к губам, закрыл глаза и втянул теплый цветочный аромат. — Представь себе, что этот виноград зрел на ветвях целый год, пропитываясь солнечными лучами, омываемый дождем, замерзающий холодной ночью, согреваемый сухими теплыми ветрами. И каждое жаркое утро, каждая капля дождя оставила в нем свой след, меняя вкус, аромат, цвет…
Однако Инга не разделяла стремление своего повелителя раствориться целиком и полностью в каждой мелочи, способной доставить человеку удовольствие. Она то и дело вздрагивала и крутила головой, пытаясь понять, откуда доносятся неожиданные выкрики, звяканье, стук, нарастающий топот. Обычно в замке царила если и не полная, то относительная тишина.
— Послушай меня, прекраснейшая из женщин, никогда не торопись выхлебать за раз весь сосуд вина целиком. Запомни, этот напиток живой, в нем есть душа. Эту душу нужно узнать, с ней можно поговорить, слиться с ней в единое целое… — хозяин замка сделал маленький глоток, вскинул подбородок, позволяя напитку раствориться во рту, после чего продолжил: — Попытайся узнать из его вкуса, какое у него настроение, какая у него была жизнь. Что за год, единственный в его жизни, выдался на долю этого…
Громко хлопнула дверь. На этот раз оглянулась не только певица, но и сам владелец замка — а по шкурам и драгоценным персидским коврам к ним шли бородатые мужчины, частью одетые в доспехи, частью — просто в рубахах.
— Игорь! — радостно взвизгнула девушка, вскочила с кресла и, промчавшись половину зала, повисла на шее у одного из воинов. — Дядюшка приехал!
— Постой, малышка, — прямо с висящей на шее девицей ратник дошел до стола с поднявшимся на ноги хозяином. — Это он, что ли?
— Да, дядюшка…
— Угу, — Картышев поставил Ингу на пол, а сам со всего размаха врезал ливонцу в челюсть. Дерптский епископ звонко клацнул зубами, со всего размаха грохнулся на спину и обмяк, свалив голову на бок. Из уголка рта потянулась тонкая розовая струйка. — Вот так тебе, с-сука.
Он обошел кресло и взялся за меч двумя руками, примериваясь для удара, но тут Инга неожиданно перепрыгнула кресло и накрыла недавнего господина своим телом:
— Нет! Не дам! Не смей!
— Уйди! — Игорь закружил вокруг, примериваясь добить похитителя, но найти даже щелочки для удара ему никак не удавалось. — Уйди, кому сказал! Инга, уйди дура!
— Не дам!
Один из бояр присел рядом, взглянул в лицо епископа, разочарованно сплюнул:
— Погорячился ты, Игорь Евгеньевич. Его бы поспрошать сперва надобно. Где казну держит, где схроны тайные.
Витязь выпрямился, поднял со стола кубок, проглотил налитое в него вино одним глотком, налил еще:
— Хороша медовуха епископская!
— А-а-а! — в голос завыла Инга, и все мужчины невольно вскинули руки к ушам. — Уби-или-и-и!!!
— Ты давай, собирайся, — с облегчением спрятал меч Игорь. — Домой пойдем.
— Мерзавцы, негодяи, убийцы! — размазывала слезы по щекам Инга. — Кто вас звал? Зачем вы приперлись?
— Да чего ей собирать, Игорь Евгеньевич? — удивился боярин. — Полонянка ведь. Хорошо хоть, одежонка есть, в чем идти.
— Тогда пошли.
— Погодь, боярин, — развел руками витязь. — Замок ведь взяли! Казну надо найти, золото, серебро. Как с пустыми руками возвращаться? Соседи же засмеют! Ты певунью свою успокой, а мы мигом.
Воины, убедившись, что ворогов в покоях у епископа нет, потихоньку потянулись к дверям. Картышев, устав уговаривать племянницу пойти домой добром, поволок ее силой, больно ухватив за руку. В помещении наступила тишина.
Вскоре послышался болезненный кашель. Господин епископ поморщился, еще немного прокашлялся, попытался приподнять голову, застонал и уронил ее назад на пол.
— Нет, я лучше полежу, — одними губами прошептал он и закрыл глаза.
Глава 5. Сопиместкий фогтий
В первую очередь все искали епископского начетника — но тот как сквозь землю провалился. Сгоряча младшие Батовы немного порезали двух сервов, едва не сбросили с башни прачку, повесили служку в колодце вниз головой и здорово помяли обнаруженного среди бочек латника — но у того хватило ума не хвататься за меч, а потому до смерти никого не зарубили. Больше всех старался Прослав, еще помнящий на своей шкуре лютость замкового начетника. Пусть не здешнего, а преданного слуги кавалера Хангана — но все они одинаковы, и всех нужно вешать на деревьях в первую очередь.
А вот члены «Черного шатуна» сбором добычи занимались вяло, еще не привыкнув к прямолинейным обычаям сурового тысяча пятьсот пятьдесят пятого года. Больше отъедались на обратную дорогу, благо повар, поглядывая на их огромные мечи и тяжелые мушкетоны, сам поторопился предложить самое вкусное.
Не найдя начетника, воинам отряда пришлось ограничиться несколькими золотыми подсвечниками из замковой часовни, серебряным окладом одной из икон и столовым серебром. Нашлось несколько небольших золотых стопочек и две тарелки, Юля неожиданно потребовала персидский ковер — но разве это добыча для замка правителя целого епископства?! Еще в конюшне нашлось две тонконогие кобылы, по виду арабские и один жеребец. Опричник, глядя на них, восхищенно зацокал языком, но Росину они не понравились: тощенькие, с узкими спинами. Даже ослабевшего от потери крови Малохина не удалось устроить лежа на спину, как на обычного боевого коня, и пришлось сажать в рыцарское седло с высокими луками. На двух кобыл навязали тюки со взятым барахлом и рюкзаки с припасами — воины предпочли вернуться без всякого рода медных кувшинов с ажурной чеканкой и тонкими горлышками или резных французских бюро, но зато налегке.
Как ни странно, самому господину епископу повезло: те, кто побывал в малом зале, знали, что там находится злой боярин Картышев, а Игорю, едва не пинками выгоняющему племянницу домой, было не до стаскивания с тощих пальцев священника дорогих перстней и не до обшаривания углов.
Однако задолго до сумерек Зализа, с опаской прислушиваясь к шелестящей на улице листве, потребовал прекратить разграбление замка, и отряд покинул дом местного правителя, вежливо прикрыв за собой ворота и ничего не запалив.
Где-то через час после отбытия гостей из ворот разбежались окровавленные сервы и перепуганная служанка, а чуть погодя выскочил и побежал в сторону города безоружный латник. Однако гарнизон Дерпта ушел к чудскому озеру вместе с поднятыми в ополчение рыцарями, и посылать в помощь замку ему было некого.
До подхода первого вернувшегося из Кодавера отряда из двух десятков всадников прошло еще почти два часа и к замку вплотную подступила ночь. На этот раз в окнах замка правителя не вспыхнули никакие огни, не звучали песни и молитвы, не слышались голоса слуг, отдыхающих перед сном после долгого трудового дня. И топот копыт по мягкой грунтовой дороге показался оглушительным в сгустившейся вокруг тишине.
То, что ворота приоткрыты, Флора насторожило сразу. Он спрыгнул на землю, выхватил палаш и обошел замок по кругу, вглядываясь в окна. Ничего подозрительного не обнаружил, а потому знаком приказал спешиться остальным воинам, резко распахнул калитку и они всем скопом ворвались внутрь.
— Ушли! — начальник стражи сплюнул и спрятал оружие. — Как есть ушли. Эрнст! Снесите мертвых в часовню, сегодня больше ничего сделать не успеем. Алексей, тебе на ночь в дозор, на башню. Завтра отоспишься. И не дремли, видишь, что творится!
— Может, затаились где? — неуверенно предположил один из воинов.
— Никто не затаился, — Флор самолично распахнул ворота и пошел к своему скакуну. — Это те же дикари, что и Кодавер грабили. Разгромили, и в последний момент ушли. А пока мы туда на выручку мчались, здесь поразбойничали, и опять ушли.
Поход к озеру не принес дерптскому войску ничего, кроме усталости. На берегу они нашли две дочиста разоренные деревни, в которых уцелело всего десяток жителей на обе, да два десятка детей, которых теперь придется продать в Литву или к туркам — кто же их вырастит без родителей? В выгоревшем монастыре оказались перебиты все монахи и оставшиеся там с зимней войны тяжелые раненые. Может, из мести за зимнее разорение русские обозлились? Давно от них такая беда на земли Церкви не приходила…
А вот теперь, оказывается, что побережья язычникам оказалось мало, что они в самое сердце решили ужалить… И самое обидное: ни погони сейчас не снарядить, ни гонцов с приказами заслоны на дорогах поставить. После длинного перехода вымотаны и люди, и кони, а единственных свежих скакунов, любимцев епископа, налетчики увели с собой.
Однако, и русские ночью, да еще с добычей, далеко уйти не могут. А утром, когда все хоть немного дух переведут, можно и погоню снарядить!
— Латоша! — повеселев, окликнул одного из латников Фрол. — Возьми трех воев, да осмотрите замок внимательно! Может, и вправду где дикарь перепившийся спит. Знаю я их… Кирилл, коня прими.
Теперь оставалось самое страшное — малый зал. Воин даже подумать боялся, что способны сотворить язычники с правителем здешних земель. Покалечить могли, ранить, увести в плен. Могли убить… Но про это Фрол старался не думать. Тем более, что оружия в покоях дерптского епископа отродясь не имелось, а безоружного русские трогать не станут. Вот с собой увести — это да… Но господина епископа в таком разе можно либо отбить, либо выкупить потом с Божьей помощью. Был бы жив, остальное поправимо.
Он бочком протиснулся в приоткрытую дверь, неслышно ступил на толстый ворс ковра…
— Господин епископ! — начальник стражи кинулся к столу, упал на колени. — Господин епископ, вы живы?!
— Ой! — вскрикнул от толчка правитель и приоткрыл глаза. — Это ты Флор? Никогда не думал, что человеческое тело способно причинять такую боль… Там вино на столе еще есть?
Начальник стражи вскочил, заглянул в один кубок, в другой, тряхнул кувшином:
— Есть!
— Давай его сюда и приподними мне голову. — На этот раз епископ пил торопливо и с жадностью, а когда из горлышка вытек последний глоток, с надеждой спросил: — Ты их перебил, Флор?
— Темно сейчас, мой господин, — забрал кувшин начальник стражи. — Готовлю утром погоню.
— Сбегут!
— Не сбегут, господин епископ. Они ушли недавно, далеко скрыться не могли. Утром нагоним. Гонцов, опять же, пошлю кордоны предупредить, чтобы не выпустили. Коли навстречу мне не попались, стало быть, к Печорам идут. А туда три дня пути, и только одна дорога. Помочь вам подняться, мой господин?
— Нет, я поднимусь сам, немного попозже. А ты отправляйся, готовь воинов. И чтобы перебил всех до единого!
— Завтра к вечеру я привезу вам их головы, господин епископ! Клянусь!
* * *
— Где они?! — еще ни разу в жизни Флор не видел своего правителя в такой ярости. — Ты обещал привезти мне их головы еще вчера! Ну, где они? Где?!
— Их нет на дороге к Печорам, мой господин, — это было все, что мог сказать нервно покусывающий губу начальник стражи.
— Ну и где они? Где?!
— Я упредил все кордоны на дорогах, господин епископ, — попытался оправдаться воин. — Я снова собрал ополчение. Прошел гоном дорогу на Московию. У русских нет другого пути назад, а их на тракте никто не видел. Если бы они пошли к озеру, я бы их встре…
— Это я уже слышал! — священник треснул кулаком по столу. — Теперь я хочу видеть! Головы!
— Мы нашли проводников, — облизнул губы Флор. — Они показали прямую тропу на Кодавер. Там следы кострищ. Русские пришли именно оттуда, они были пешие, числом три десятка…
— Трех арабов увели… Певунью… Девку, в конце концов! Я не хочу знать, сколько их! Я хочу вернуть все! И содрать с них живых кожу, порезать на куски, сварить в кипящем масле, скормить крокодилам, залить лаком или… — священник подошел к своему воину в упор и заглянул в самые глаза: — Или хотя бы твердо знать, что они мертвы!
— Если они пешие, то никак не могли уйти далеко, — сглотнул Флор. — Они где-то здесь…
— Так найди их!
— Да, господин епископ! Только…
— Что «только»? — голос правителя внезапно стал тихим и спокойным, даже ласковым, и от этой перемены у воина по спине побежали холодные мурашки.
— Раз они тайной тропой прошли…
— Ну?
— Значит… Значит, у них проводник хороший есть… — Флор опять судорожно сглотнул. — И он может спрятать их в тайном месте… Или увести… Тайной дорогой…
— И ты не знаешь, где их искать? — после долгой, очень долгой паузы уточнил епископ.
Побледневший начальник стражи кивнул.
Священник задумался, вперившись взглядом ему в переносицу. Воин ощутил, как на переносице выросла и потекла вниз крупная капля едко-соленого пота. А дерптский епископ прогулочным шагом отошел к столу, взял с него дорогой батистовый платок, вернулся обратно:
— Дай твой меч, Флор.
Начальник стражи непослушными руками вытянул из ножен палаш и протянул его рукояткой вперед правителю.
— Теперь протяни вперед левую руку ладонью вверх.
Воин исполнил и это приказание.
Тогда священник резанул ему кожу немного выше запястья, а потом принялся старательно вымачивать платок в хлынувшей ручьем крови.
— Пожалуй, хватит, — он опер палаш острием об пол, прислонив его рукоятью, словно к дереву, к ногам Флора и едва не побежал к узкой двери у камина.
Начальник стражи с облегчением вздохнул, опасливо покосился на дверь, за которой скрылся правитель и попытался зажать кровоточащую рану ладонью.
Священник тем временем быстро спустился по лестнице, пересек пыточную комнату и, небрежно отшвырнув занавеску, ворвался в тайный закуток. За пологом находилась небольшая естественная пещера с низким потолком и неровным полом.
На одной из ее стен застыл распятый в бронзе Христос, а с потолка свисал белый полупрозрачный камень. Под камнем стоял трехногий медный столик, с нацеленным вертикально вверх бронзовым острием, а под столом, вмурованное в такой же полупрозрачный камень, таращилось наружу странное существо: вытянутая вперед, похожая на спелый кабачок голова с круглыми глазами и чуть приоткрытой пастью; скрюченное, покрытое короткой шерстью тело; ноги с огромными когтистыми ступнями и слегка разведенные в стороны мохнатые крылья на спине.
На странное существо священник не обратил никакого внимания, а вот нацеленный вверх стержень погладил едва ли не с нежностью:
— Ну, здравствуй… Как тебя называют здесь смертные? Лу-ча-щий-ся… Светлейший ты наш…
Неожиданно сталактит наполнился чистым внутренним светом — не очень сильным, но достаточным, чтобы разогнать мрак.
— Ты узнаешь меня… — с удовлетворением в голосе кивнул дерптский епископ. — А у меня для тебя подарок…
Он протянул руку вперед и позволил одной кровавой капле упасть на острие стержня. Свет мигнул.
— Я рад, что мы понимаем друг друга, — и священник негромко, дружелюбно зарычал. — Я расскажу тебе много интересного, но сейчас… Сейчас ты обязан мне помочь.
На острие скатилась еще одна капля.
— Сегодня я был так зол, что едва не бросил это тело, чтобы кинуться за смертными, чтобы догнать их и заставить перебить друг друга. Но у меня впереди еще два месяца, и мне очень не хочется их терять. Мир так изменился…
Камень погас почти полностью, потом вспыхнул вдвое ярче.
— Да, — дерптский епископ подарил стержню еще каплю. — А потом еще несколько раз по два года. А ты все бесплотен и бесплотен. Ты слишком жалеешь смертных.
Свет приобрел голубоватый оттенок.
— Нет, раз уж ты там, а я здесь, помоги мне. Где смертные? Те, что оскорбили меня и ограбили мое тело? Отвечай, и ты получишь немножечко жизни…
Тягучие капли с платка начали падать одна за другой, и епископ еле успевал читать складывающиеся из букв слова.
— Соосулла. Улила. Озеро…
Вскоре священник поднялся в зал, небрежным движением швырнул окровавленный платок в холодный камин и повернулся к начальнику стражи:
— Они находятся посередине между селениями Соосулла и Улила, на берегу какого-то озера.
— Знаю! — радостно вскинулся воин. Усомниться в том, что слуга Божий, на которого сошло благословение может ошибаться Флору и в мыслях не пришло.
— Но на этот раз я поеду с вами, — дерптский епископ брезгливо посмотрел на свои перепачканные руки. — А то опять упустите…
* * *
И все-таки три длинных пеших перехода подряд сыграли с отрядом жестокую шутку. Если на второй и третий день непрерывного скорого похода ноги просто болели, то на четвертый, после того, как они чуть не до полуночи улепетывали от разгромленного замка, утром никто просто не смог встать. Люди двадцатого века еще кое-как передвигались, но бояре, ходить ногами вовсе непривычные, лежали пластом и могли только жалобно стонать.
По счастью, до темноты Прослав успел вывести их на берег безлюдного лесного озерца, на широкий заливной луг, поросший высокой ароматной травой. Здесь они и попадали на ночлег.
Впрочем, Зализа всеобщей немощью особо не обеспокоился. Он с самого начала знал, что так просто им уйти не дадут, что все пути отхода перекроют, а потому выбрал ту дорогу, на которой русских налетчиков никто и никогда искать не станет: в сторону Риги, на Феллин. Не доходя Феллина он предполагал повернуть на Вайсенштайн, прикупив по дороге несколько телег и какого-нибудь товара, спрятать среди него основное оружие и спустя несколько недель уже открыто вернуться к Чудскому озеру якобы со стороны Гапсоля или Колываня, когда лифлянское возбуждение после набега несколько поуспокоиться. Имея под рукой два с половиной десятка крепких воинов, он мог особо не беспокоиться за любопытство воинских патрулей или дорожных застав. Окажутся слишком дотошными — понять не успеют, как в сырой земле окажутся.
А если к этому добавить, что от замка уходили они не торными дорогами, а известными только местным сервам тропами — ничего страшного в двух-трех дневном отдыхе опричник не видел. Пусть думают, что русичи уже домой вернулись, через кордоны тайно просочившись. Оно же и спокойнее окажется.
Костя же Росин откровенно изумлялся тому, что такое обширное и рыбное озеро не заинтересовало никого из местных жителей, что никто не поставил над пусть коричневатыми, но все равно прохладными, манящими волнами крепкого высокого дома, не огородил себе огородик и не вспахал поле под озимые. Хотя… С одной стороны поросшее березняком болото, с другой — окаймленной ивняками заливной луг. Может, тут во время половодья затопляет все вокруг так, что только уткам впору выжить?
Правда, поодаль от озера среди светлых лиственных деревьев выделялось темное пятно ельника и уже на следующий день одноклубники потянулись туда за лапником — чтобы на влажной земле больше не спать. На костер сгодились и березы, многие из которых, завалившись от старости или поваленные ветром, застряли среди соседних деревьев и успели хорошо просохнуть, словно специально в ожидании дровосека.
Прослав, не имевший никакого груза, кроме чекана за поясом, а потому самый бодрый, с разрешения Картышева расплел капроновый шнур на нити и прямо на глазах воинов связал небольшую сеть, натянул на гибкие березовые ветви и тут же полез с получившейся вершей в воду. В итоге к полудню к углях запекалось по паре небольших плотвиц на каждого воина, а боярин Батов, гордый мастеровитостью своего смерда, прилюдно даровал ему право ловить рыбу в Оредеже невозбранно и безоброчно отныне и пожизненно.
Но в большинстве ратники просто валялись на толстой еловой подстилке, морщась от острой боли в перетружденных ногах, или спали, наверстывая упущенные во время стремительного перехода часы. Даже дозорные не стояли в зарослях, внимательно вглядываясь в подступы к лагерю, а удобно лежали на облюбованном елями взгорке, с которого открывался хороший вид на обширные заросли низкорослого ивового кустарника. И утром третьего дня они обнаружили вдалеке возвышающиеся над колышущимся зеленым морем темные фигуры.
— Конница! Конница идет!
Торчать на взгорке смысла более не имело, а потому воин бегом помчался к лагерю.
— Вот и отдохнули, — Зализа с досадой сгреб в пригоршню ближайшую траву и вырвал из земли. — А у нас даже копий нет. Как узнали? И рожон поставить не успеем.
— Фитили запаливай! — в первую очередь громко скомандовал Росин, приглаживая жесткие прямые волосы. А то как бы привычные к ружьям и автоматам одноклубники не забыли, что мушкетон без открытого огня не стреляет. — Поднимайся, Семен Прокофьевич, отходите.
— Куда отходить? — нервно отмахнулся опричник. — Конные они, догонят.
— По тропе. Прослав, дорогу показывай! Бояр уводи, раненого, дуру Картышевскую.
— Не гневись, Константин Алексеевич, но жертвы твоей не приму, — мотнул головой Зализа. — Все одно нагонят. Вместе встанем, вместе и смерть примем, коли Бог отбиться не даст. А поодиночке…
— По тропе метров… шагов сотни две пройдете, и рубите березы, валите поперек пути. Лучше так, чтобы стволами на дороге лежали…
— Перескочат на коне, копьями собьют. Вместе нужно, плотный строй и конному одолеть непросто…
— Да послушай же меня, Семен Прокофьевич! — чуть не со слезами взмолился Росин. — Пуля дура, она правильного боя не приемлет. Пятнадцать стволов у нас, отобьемся, коли близко не подпустим. Ну поверь же мне, времени объяснять нет! Тебя слушать стану, когда патроны кончатся. А пока, Семен Прокофьевич, уводи людей, да завал рубите. Три-четыре дерева завалить успеете, больше не надо. Мы чуть позже подойдем. Поверь мне, Зализа, Христом Богом прошу, поверь!
— М-м-ж-ж-х, — утробно рыкнул опричник, мотнув головой, потом повернулся к Батовым: — Боярин Евдоким, поднимай сыновей! Раненого на кобылу сажайте! Прослав, жеребца под уздцы бери, дорогу указывай.
— А как же кауштинские людишки служилые? — возмутился старший Батов. — Одних бросить?!
— Я здесь воевода, я здесь кому жить, кому помирать решаю, — жестко отрезал Зализа. — Топоры есть у сыновей?
— Да прихватили двое…
— Они со мной последними пойдут.
Вскоре лошади с торопливо перекинутыми через спину и незакрепленными пока баулами следом за проводником втянулись на узкую тропу, огибающую озеро. За ними, постоянно оглядываясь на остающихся на поляне одноклубников, отступили бояре, толкая перед собой недовольную Ингу.
— Ну, что делать хочешь, Костя? — проводил их взглядом Картышев, следы ожогов на лице которого от волнения проступили ярче обычного. — Костьми станем ложиться?
— Не дури. Я тебе не Сталин, и сейчас не сорок первый год. Нас четырнадцать человек. Поляну нам не удержать, но затормозить ливонцев сможем. Про плутогоны петровские все помнят? Встаем перед тропой в три ряда, пять, пять и четыре человека в первом ряду на колене. Первый залп дает задний ряд, и сразу уходит назад, потом залп второго ряда, потом лупит первый ряд, и все смываемся. Четырнадцать стволов по десяток с лишним картечин, это пять магазинов из «Калашникова» за десять секунд. Они минут двадцать очухиваться станут.
— Да в общем, мало не покажется, — кивнул маленький Архин, ноги которого выше колен утопали в траве, отчего он начал походить на живой колобок, с руками и головой, но без ног.
Одноклубники, косясь в сторону колышущейся коричневой стены ивняка, двинулись к тропе следом за скрывшимися боярами, неторопливо выстроились в три шеренги. Росин, достав пороховницу, сыпанул из острого кончика немного порошка в запальное отверстие и на полку — хотя она и закрывалась специальной крышечкой, а порох все равно высыпался, коли поносить мушкетон несколько часов без дела. Остальные стрелки последовали его примеру.
Внезапно стена ивняка раздвинулась, и на поляну выступил вороной конь, в седле которого возвышался с пикой у стремени гладко выбритый, а потому кажущийся совсем молоденьким воин. Увидев в сотне шагов перед собой плотно сбитый отряд врагов, он в растерянности остановился, не в силах отрывать взгляда от сверкающих на солнце новеньких штыков. Одноклубники также ничего не предпринимали, досыпав пороху и изготовившись к бою.
Ивовая стена снова раздвинулась, и следом за первым всадником появился второй, бородатый, загорелый, в покрытой мелкой чеканкой кирасе. Этот не остановился, а проехал на несколько шагов вперед, потянул левый повод, поворачивая коня, отъехал немного в сторону и остановился на противоположной стороне поляны. Конь его всхрапнул, тряхнул головой и принялся переступать копытами на месте, словно в нетерпении.
Затем из зарослей появился еще один всадник, в сутане, потом еще и еще: какой-то мужик совершенно разбойничьего вида, в овчинном тулупе с большими петлями для пуговиц, самый настоящий рыцарь в сверкающих доспехах — кирасе, латной юбке, поножах. Вот только рукава у него были кольчужные, да на голове вместо шлема с пышным плюмажем темнело нечто, похожее на кольчужный чулок. Затем еще один всадник — бритый, в чеканной кирасе и ярко-алых русских сапогах.
— Ну, мужики, хватает для залпа, — прошептал Росин, опускаясь на правое колено. Рядом опустился Картышев, за ним еще кто-то.
В недрах накопившейся конницы тоже произошел некий надлом — она зашевелилась, загудела. Кирасир в алых сапогах обнажил палаш:
— Именем Господа, на язычников, — он с силой пришпорил коня, посылая его с места вскачь — А-а-а!
— Задний ряд! — Костя почувствовал, как в горле резко пересохло. — Залп!
Над головами оглушительно прогрохотало — и кони начали кувыркаться с колен. Кто-то из всадников вылетел из седла назад, но большинство улетало через голову, перемешиваясь с тяжелыми конскими телами. Вылетевший из стволов дым еще не успел рассеяться, вытягиваясь, подобно ватным указателям в сторону ливонцев, как второй ряд, пользуясь последними мгновениями видимости, выпалил во всадников, маячивших позади первых.
Б-бах! — на этот раз все пространство перед стрелками заволокло дымом.
— Еще чуть-чуть… — попросил Росин. — Пусть подбитые опадут, а живые высунутся. Ну, с Богом… Пли!
Б-ба-бах! — последний залп был произведен совершенно наугад, но Костя пребывал в абсолютной уверенности, что их жребий нашел свою жертву.
— Все, уходим…
Росин отступал последним и пройдя несколько шагов., оглянулся на плотные облака дыма. И тут из этого дыма, словно посланец потустороннего мира вырвался сверкающий латами рыцарь и, взмахнув палашом, помчался прямо на него. Костя мгновенно сделал то, чему не раз учил молодежь, готовя для показательных схваток, или для инсценировки сражений поздних веков — вскинул ружье горизонтально над головой, лишая конного возможности для широкого рубящего удара.
А вот рыцаря к встрече с пехотинцем-мушкетером не готовил никто, и он рефлекторно сделал то, чего ему его учили с самого детства: рубанул. Палаш самой серединой клинка столкнулся с кованной сталью ствола, жалобно тренькнул и неожиданно брызнул, словно упавшее на пол зеркало, множеством осколков. Росин, завершая стандартный прием, довернул мушкетон и с силой двинул им вперед.
Толстый трехгранный штык, увлекаемый инерцией почти двадцатикилограммовой массы мушкетона, легко пробил миллиметровую сталь простенькой кирасы и вошел внутрь на всю длину.
Костя рванул оружие к себе и отступил. Рыцарь начал медленно заваливаться набок.
Послышался тихий шелест, потом еще и еще, причем иногда этот шелест прерывался тупым стуком. С некоторым запозданием Росин сообразил, что это шуршат пущенные наугад стрелы. Он пригнулся и помчался к своим, выглядывающим над сложенными одна на другую березам, с разбега перескочил завал и рухнул на влажную траву.
— Ну ты молодец, боярин, — восхищенно покачал головой Зализа. — Видать, и вправду русский.
— А я что говорил? — тяжело дыша, усмехнулся председатель клуба, выдернул из-под ствола шомпол, торопливо пробанил мушкетон и вбил свежий заряд. — Русские мы, свои… А ты, Семен Прокофьевич, все иноземцами, да иноземцами кличешь.
Он отсыпал в запальное отверстие и на полку немного пороха и, перевернувшись на живот, приподнялся на колено и выглянул через березовые стволы.
Дым над тропой почти полностью рассеялся. Стали видны бьющие ногами воздух кони на поляне, суетящиеся над ними латники.
— Не удержать нам этой засеки, Константин Андреевич, — предупредил Зализа. — Ни рожна, ни частокола. Любой мерин три бревна перескочит. Прорвется конница, да мечами на месте и посекут.
— Не пройдут, Семен Прокофьевич, — обернулся Росин. — По тропе не прорвутся, лишь бы сбоку не обошли.
— Тут в десяти шагах озеро, — махнул рукой вправо опричник. — А с другой стороны болото.
Ж-жу-у-ть — чиркнула в воздухе стрела.
— Садись! — дернул Зализу вниз Росин. — Подстрелят! Ей, а вы куда?!
По тропе приближались о чем-то переговариваясь, Юля и боярин Варлам.
— К вам, — пожала плечами спортсменка. — Оборону держать.
— Юленька, ну ты-то должна понимать… — вздохнул Костя. — Подстрелят.
— Что же мне теперь, в обозе с этой дурой всю жизнь торчать?
— Юля, ну сама подумай: ты из лука только стоя стрелять можешь, а мы из пукалок этих — лежа за бревнами. Ну ни хрена ливонцы нам сделать не смогут, а вас пристрелят обоих, и этим все кончится.
Опричник внимательно выслушал предназначенную девушке лекцию, покосился в сторону завала, на лежащих за бревнами стрелков, на тянущуюся от них к поляне тропинку. В голове бывшего черносотенца явно происходил некий мыслительный процесс, сопровождающийся переоценкой привычных приоритетов.
— На миру и смерть красна, — сурово ответил Варлам. — От нее все равно не скроешься. От сечи бегать мы непривычные. Ставь в строй, боярин, все одно не уйду.
— Отойдите шагов на тридцать, — скомандовал Росин, — выберите деревья потолще, встаньте за ними и приглядывайте за баррикадой. Ливонец прорвется, стреляйте.
— Я за спинами отсиживаться не привык! — вскинул подбородок сын боярина Батова, и борода его нацелилась Косте точно в грудь.
— Я тебя не за спину ставлю, а в прикрытие! — повысил голос Костя. — Ты нашу жизнь спасать будешь, коли епископские бойцы прорвутся. Про послойную организацию огня слыхал?
Председатель клуба невольно улыбнулся — чего меньше всего ожидал младший сержант Росин, увольняясь в запас, так это того, что его навыки по организации обороны отделения пригодятся боярам Ивана Грозного.
— Ступай на тропу, боярин Варлам, — кивнул Зализа. — Константин Андреевич верно говорит.
— Семен Прокофьевич, — попросил Росин. — Пока остальные Батовы сюда не вернулись, сходи, попроси их на пару сотен саженей позади еще один завал сделать. Очень прошу.
Со стороны поляны послышалось лихое гиканье, крики, на тропу выскочило трое всадников и помчались вперед один за другим — бок о бок они просто не помещались. Росин и рта раскрыть не успел, как грохнул выстрел, и первый из атакующих, раскинув руки, полетел назад, а его пегая в яблоках лошадь шарахнулась в сторону и завалилась между деревьев, подняв тучу брызг. Следом почти одновременно бабахнуло еще два мушкетона, снося второго всадника — и третий сам повернул обратно, едва не застряв, разворачиваясь на узкой тропе.
— Вот и вся конная атака, — кивнул Росин. — Если ливонцы не дураки, то сейчас начнут штурм пешим порядком, прячась за деревья и подбираясь все ближе для броска. А мы их станем стрелять. Эх, растяжек бы парочку на тропу…
Однако, вместо того, чтобы честно идти в атаку, ливонцы принялись метать вдоль тропы стрелы, и одноклубники спрятались за стволы. По лесу покатился стук топоров — видать, опричник догнал бояр и поставил их к делу.
— Идут! — Росин так и не понял, кто заметил ливонцев первым, поскольку загрохотало сразу со всех сторон. Он вскинулся, положил ствол мушкетона на березу, выискивая цель в медленно расползающихся сполохах дыма. В одном из просветов ему померещилось шевеление — он повернул оружие в ту сторону и нажал на курок.
Бабах! — удар в плечо, и новое дымное облако закрыла только что образовавшийся просвет.
— Сколько их было? Кто видел? — он присел за завалом, и принялся перезаряжать мушкетон, решив на этот раз закатать в ствол пулю.
— Да человек двадцать ринулось, толпой, — Архин помахал рукой, разгоняя дым. — Конному-то толком не проехать. Вот, видать, и решили пешей кучей прорваться.
— Может, бегут еще, за дымком? — Росин, забив пулю, вставил шомпол на место.
— Не, шагов не слышно… — Миша усмехнулся. — Думают…
Да, не хотел бы сейчас Костя оказаться на месте ливонского командира. К середине шестнадцатого века в Европе стрелка из мушкетона, аркебузы или пищали воспринимали как ходячую пушку: ему придавали специального помощника-носильщика, его прикрывали специальные копейщики, он делал с сошки один выстрел, после чего обычно просто покидал поле боя, позволяя обычным воинам доделывать начатое им.
Трудно даже представить себе, каково должно быть состояние воеводы, обнаружившего, что крепостью может быть не только каменная или деревянная стена, не только частокол или засека, но и просто лежащее поперек дороги бревно; что мушкетоны могут оказаться основным орудием ведения боя; что с них вообще можно стрелять лежа!
Учитывая то, что в Европе приклады мушкетонов и аркебуз при выстреле зажимались под мышкой — подобное должно показаться полнейшей фантастикой!
— Что же, давайте подождем продолжения… — дотянув мушкетон за наплечный ремень, который тоже еще не изобрели, Росин выглянул наружу. В воздухе тут же прошелестело одна за другой две стрелы. Однако в прочном шишаке они не показались такими уж страшными, да и выпущены были, скорее всего, наугад. — Интересно, что делать станут? Если нас по всем правилам осады брать, то нужно или сапу рыть, или стену ставить. Артиллерию подтаскивать. Этак у них неделя уйдет, а без пушек и месяц. В атаку ломиться — мы у них не один десяток народа положим. Тоже не самый вкусный вариант.
— А ты бы что сделал, Константин Алексеевич? — спросил подошедший Зализа.
— Я? — Росин оглянулся пожал плечами. — Я бы без пушки, или хотя бы пары длинноствольных пищалей, даже в малый поход ныне не ходил. Но этого пока еще не все понимают.
— Святый Господи! — перекрестился Зализа. — Благодарю тебя за благоволение к земле русской.
— Что так? — удивился неожиданной реакции Костя.
— Государь наш, Иван Васильевич, в первом походе на Казань, после утопления на Узе двадцати пушек приказал поход оборвать, и назад воротиться. Воеводы уговаривали, но государь, хоть и юн был, но с малым нарядом татар воевать не захотел…
— Бегут!!!.
Костя снова повернул головы в сторону поляны, и с изумлением обнаружил, что ливонцы, словно саранча, сплошной массой рвутся вперед по тропе, шлепают через окружающие заросли, ломая мелкий молодой кустарник и громко чавкая ногами по воде, временами проваливаясь глубже колена и с трудом выбираясь обратно, и даже от просвечивающей справа через лес водной глади доносится торопливый плеск.
— Уходи, Семен Прокофьевич! — рявкнул Росин, направляя ствол в самую середину набегающей толпы и нажимая на спуск. — Н-на!
Пуля в полсотни грамм, выпущенная с расстояния трех десятков шагов должна была пробить двух-трех человек, хоть в кирасах, хоть в майках. Рядом громыхнули еще несколько мушкетонов, потом еще и еще. В первые секунды Костя еще увидел, как начинают валиться с ног сжимающие мечи атакующие ливонцы, но потом все пространство уже привычно заволокло дымом, и последние выстрелы одноклубники производили уже наугад.
— Уходим, уходим! — подгонял товарищей Костя, сам вместе со всеми отбежал на полсотни метров, остановился и заученным движением начал чистить ствол, вглядываясь в покинутую баррикаду, которая теперь казалась едва ли не родным домом. Выдернул из кармашка патрон, надорвал зубами бумагу и высыпал порох в ствол, прибил картечный заряд.
На поваленный поперек дороги березовый ствол вскочил воин в светлой стеганке с нашитыми на грудь пластинами, закрутился, не понимая, где находится враг. По сторонам звонко щелкнули тетивы, и в животе победителя мгновенно оказалось две стрелы. Он согнулся и повалился вперед. В белесой дымке промелькнул еще силуэт, и опять туда умчалось две стрелы.
— Справа смотрите, там кто-то чавкает! — предупредил Росин, снимая с пояса пороховницу и зубами выдергивая затычку. Теперь на брошенном укреплении суетилось уже несколько врагов, но лучников среди них не имелось, а с мушкетоном оставалось дел всего на пару секунд. — Давайте, отходите со всеми!
— А ты, Костик?
— Я за вами!
— Они тебя заметили!
Полтора десятка епископских воинов ринулись по тропе прямо на Росина. Юля выступила из-за дерева, не таясь вскинула лук и выпустила стрелу. Первый из латников откинулся с коротким оперенным древком во лбу, второй получил в грудь два — но явно не от Юли.
— Всё! — Костя засыпал полку и вскинул оружие. Ливонцы мгновенно прыснули в стороны, едва не ломая на своем пути молодые деревца. Росин, удерживая тяжелый мушкетон в направлении врага, начал пятиться быстрым шагом. — Бегите, черт! Тяжело…
Удерживать левой рукой массивный кованный ствол было дело далеко не простым, и он стал все более и более отклоняться к земле. Росин, неожиданно перехватив его правой рукой за середину, развернулся и задал стрекача. Позади послышались радостные вопли. Пробежав метров пятьдесят, Костя резко развернулся и нажал спуск, поднимая мушкетон к плечу — иначе отдачей его может зашвырнуть вообще незнамо куда. Он успел заметить совсем неподалеку растерянное безусое лицо над отлогим белым воротником, но попал в него или нет, так и не узнал, сразу после выстрела бросившись бежать. До следующего завала оставалось чуть больше ста метров, и Росин промчался их на одном дыхании. Правда, сил запрыгивать уже не осталось — он упал на стволы и его торопливо втащили в укрепление за шкирку, отпихнув на мокрую траву. Загрохотали выстрелы, но немного — пять или шесть, после чего все затихло.
— Выдохлись? — поинтересовался Костя, но ему никто не ответил.
Председатель клуба немного отдышался, потом подтащил к себе оружие и принялся за привычную работу.
— Что делать далее намерен, Константин Андреевич? — подступил к нему Зализа. — Как поступать?
— Точно также, — дыхание у Кости еще не установилось, и он отвечал короткими фразами. — Мы прячемся в укрытии, они на виду. Мы их стреляем, им в нас не попасть. Они атакуют, несут потери. Берут укрепление. Мы его бросаем, бежим к следующему. Им опять приходится атаковать. Обычная тактика при значительном численном перевесе врага. И так до тех пор, пока у них не кончится терпение, или у нас — патроны. Побеждает тот, кто дольше выдержит.
— Занятно…
— Ливонцы еще бодрые, Семен Прокофьевич, — напомнил Росин. — Так что, пора новый завал рубить. На полтораста саженей дальше.
Атакующие на некоторое время затихли, если не считать отдельных лазутчиков, пытавшихся обойти препятствие со стороны озера. Однако выбраться на тропу у них не получалось — вязли в рыхлом прибрежном торфянике и либо попадали под стрелу, либо сами отступали назад, в воду. Прошло не менее часа, прежде чем воины епископа набрались духа и ринулись в новый самоубийственный штурм.
И опять повторилась все та же ситуация: жестокая стрельба почти в упор и стремительное бегство, пока враг ослеп от дыма, а под ногами у него стонут десятки раненых друзей. Однако на этот раз отряд не остановился у срубленного боярами завала, а двинулся дальше, нагоняя маленький обоз из трех лошадей, проводника и одной спасенной из плена певицы.
— Сразу на завал они не кинутся, побоятся, — кратко пояснил Росин. — Значит, у нас есть около часа, чтобы удрать подальше и, если повезет, спрятаться.
Согласно кивнув, Зализа нагнал идущих впереди коней:
— Эй, Прослав! Тут места, чтобы схоронится, есть?
— Болота вокруг, воевода, — остановился проводник, и развел руками. — Остановиться негде, не то кабы спрятаться. А впереди, через полверсты, поля и луга улилские начнутся. Там все открытое, далеко видать.
— Что скажешь, Константин Андреевич? — оглянулся на Росина опричник.
— Скажу, что мы уже треть патронов спалили, — поморщился Костя. — Окажемся вместо узкой тропы на широком поле, окружат и перебьют, ничего сделать не сможем. Лесом уходить нужно. Да попетлять, если получится. Авось со следа собьем.
— К Керевере повернуть можно, — подал голос Прослав. — До нее от Улилы верст пять лесом будет. Там дорога от Юрьева на Феллин идет…
Опускались сумерки, но радости это не вызывало — все понимали, что отдыха не предвидится, и ночь предстоит долгая и тяжелая.
Болото вскоре закончилось, узкая влажная тропа превратилась в относительно широкую натоптанную дорожку, с которой Прослав вскоре свернул в сторону нескольких темнеющих на пригорке домов. Тратить время на разорение деревеньки бояре не стали, обогнув ее под аккомпанемент залившихся лаем псов, и через версту снова углубились в лес.
Высокие сосны, растущие вперемешку с березами, жадно поглощали и без того бледный свет едва народившегося полумесяца, и путникам волей-неволей пришлось становиться на ночлег. Перекусили они всухомятку, вяленным мясом с озерной водой, которую одноклубники накипятили в дорогу. Привычно срубили, повалив поперек тропы, четыре дерева и, выставив охранение, легли спать.
Вопреки ожиданиям Росина, подняли его с мягкой постели из еловой хвои не выстрелы из мушкетона по атакующему врагу, а мягкое касание к плечу:
— Вставай, Костя, пора.
И опять, дабы не выдать своего положения, путники не стали разжигать костров, добив взятые в дорогу припасы копченостей и двинулись через лес, стремительно превращающийся в болотину. Правда, тропа здесь оказалась куда более торной, нежели приозерная, по ней можно было идти бок о бок вдвоем, а местами втроем, и хотя под ногами местами начинало хлюпать, и из мягкой земли проступала вода, в целом идти получалось куда быстрее, чем раньше.
Преследователи пока не появлялись, но Росин не обольщался — немного времени ливонцы потеряли у первой ложной баррикады, еще немного, пока разобрались, куда повернул русский отряд, еще немного у баррикады в начале тропы. Однако воины епископа конные — а значит, вскоре наверняка догонят.
— Деревня, Константин Андреевич, — вырвал его из задумчивости голос опричника.
— Что? — не понял Росин.
— Селение впереди, — повторил Зализа. — Вышли мы на юрьевский тракт. Привал нужно сделать, а то на голодное брюхо далеко не уйдем.
— Понял, — кивнул Костя, и громко позвал: — Игорь, Миша, Андрей! Остаемся здесь, в прикрытии. Завала делать не станем. Коли ливонцы подойдут, отстреляемся и к деревне отступим, станем в ней отбиваться.
Но никто не появился, и через полчаса Костя увел людей к селению — здесь ратники уже захватили два дома, выгнав растерянных сервов на улицу.
Впрочем, грабить их никто не собирался — воины нуждались только в еде и припасах для дальнейшего пути. Они выгребли из погребов пару кадушек с солеными грибами, быстро перекидав их в мешки и приторочив жеребцу на спину, прихватили несколько окороков, и закололи двух свиней. Одна, нанизанная на длинную жердь, уже запекалась над огнем, а вторую споро разделывали бояре и его ребята.
Росин покачал головой, вспомнив, как год назад, на игровом полигоне, он оставил своим голодным подопечным честно купленного в соседней деревне барана, а сам ушел на совет мастеров. Когда он вернулся спустя три часа в предвкушении свежего жаркого, барашек продолжал жизнерадостно щипать травку, а голодные одноклубники тоскливо грелись у догорающего костра. Год назад… Подумать только, год назад никто из его ребят не решился поднять руку даже на барана! А ныне они не дрогнув колют мечом в живот обитателям братской Эстонской республики, рубят немецких рыцарей, а перерезать горло подросшему хряку и вовсе воспринимают обыденным делом.
— Не хочу! Сами жрите эту жвачку! — скандалила возле лошадей Инга, которую дядя пытался покормить. — Я спать хочу! Устала я!
Картышев что-то ей говорил, а прочие воины предпочитали держаться от голосистой скандальной бабы подальше. Бояре Батовы и одноклубники расселись вперемешку, уже совершенно не делясь на своих и чужих и только Юля с Варламом оказались немного поодаль от всех.
Костя вынул меч и свой поясной нож, подошел к румянящейся над костром туше, наколол ножом мясистый край над ребрами и подсек его клинком. Пламя затрещало, заискрилось от закапавшего вниз жира. Костя отступил и впился в добычу зубами. Несоленое, неперченое горячее мясо все равно показалось удивительно вкусным и сочным. Съев отрезанный кусок, он подошел к огню и оттяпал себе еще.
Так они и завтракали — свинья постепенно худела, когда от нее отрезали внешние ломти, оказавшиеся снаружи мясные слои быстро пропекались, и их тоже срезали, пока от массивной откормленной хрюшки не остались одни косточки. На место первой водрузили вторую, но ее успели объесть только наполовину — Зализе померещились над лесом вспугнутые птицы, и он приказал выступать.
Путники, икая от сытости и зевая до хруста за ушами, потянулись к ведущей в сторону Феллина дороге — им всем было ясно, что мимо Юрьеву их маленькому отряду все равно не прорваться.
Росин поймал на себе внимательный взгляд опричника, и тряхнул головой. У него появилось давно забытое ощущение долгого и нудного экзамена. Словно сейчас не тысяча пятьсот пятьдесят третий год, а тысяча девятьсот восемьдесят восьмой, и он опять младший сержант, которому на учениях дали вводную, что лейтенант убит, и командовать взводом придется ему.
И вот он уже который день уходит от преследования, таится, устраивает засады, а рядом идет посредник, с внимательным, как у Зализы, взглядом, готовый в любой момент объявить: «Вы уничтожены, вас накрыло минометным огнем, раздолбало штурмовиками, обнаружили вражеские ударные вертолеты…». Но посредник молчит, и они продолжают свое учебное бегство — день за днем, час за часом…
— Дорога круто поворачивает, — указал вперед Костя. — Нужно положить пару бревен сразу за поворотом. Пятерых мушкетонщиков положим впереди, под липами, остальных за бревна. Когда ливонцы появятся на дороге, первые дадут залп. Они устремятся вперед, в атаку, и этот момент мы откроем огонь им во фланг. Они этого не ожидают, смешаются и отступят. Пока будут готовить новую атаку, мы успеем уйти.
— Это орешник, — кратко поправил Зализа и торопливо пошел вперед.
«Посредник» готовый в любой момент прекратить учения и принять командование на себя, снова дал ему карт-бланш.
* * *
В первый момент Флору показалось, что русские наконец-то сглупили и подставили себя под удар. Он первым выхватил меч и с громким криком ринулся вперед, увлекая за собой растерявшихся всадников дерптского гарнизона. Орешник стремительно приближался — и командир собранного на скорую руку ополчения уже прикидывал, куда пустить коня между высокими кустами, где можно пригнуться, чтобы проскочить вперед и дотянуться кончиком меча до проклятых язычников. И тут снова оглушительно грохнуло. Вороная кобыла, клички которой он так и не успел узнать, оступилась — воин перелетел через ее голову и с треском вломился в заросли кустарника. Только здесь, больно врезавшись плечом в вытянувшуюся поперек пути ветку с руку толщиной, потеряв ляхтскую железную шапку и дарованный епископом меч, едва не сломав руку, он сообразил, что стреляли сбоку.
Перекувырнувшись еще раз сбоку на бок, накатившись спиной на толстый корень, Флор расслабился и, слегка приоткрыв глаза, затих. Он прекрасно понимал, что в таком состоянии вряд ли сможет хоть мгновение выстоять против мало-мальски толкового бойца, и единственный шанс выжить — это не привлекать внимания и немного придти в себя.
Язычники собирались уходить. Они поднимались, отряхивали шаровары от налипшей листвы, вешали мушкетоны на шею. Флор впервые видел, чтобы мушкетоны носили на шее. Ландскнехты носили их на плече, удерживая за приклад. Русские стрельцы возили у седла, или держали в руке. А эти: повесили на шею, да еще и руки сверху положили. Привычно так, словно всю жизнь с немецким огненным оружием дело имели… А может, и не русские мужики вовсе? Вон, как справно воюют. И уходят не на восток, а на запад. Может, ландскнехты после зимнего разгрома несколько месяцев раны где зализывали, а теперь назад двигают, да добычу себе на прокорм собирают?
— Может, перезарядим?
— Костя сказал, сразу уходить…
Значит, все-таки русские… Ливонец сквозь ресницы проводил уходящих воинов взглядом. Потом повернулся на бок и, помогая себе руками, сел, привалившись к замшелому валуну. Бегло осмотрел себя сверху вниз: крови нет, все члены на местах. Значит, даже не ранен… Флор ощутил страшное разочарование — он бы предпочел углядеть хорошую рваную рану, сочащуюся и влажную. Тогда он смог бы с чистой совестью вернуться в Дерпт и там месяц, а то и два спокойно лежать в постели, никуда не мчась и никого не трогая. Пусть господин епископ разбирается со своими ворогами сам.
А поначалу все казалось легким и быстрым: нагнать три десятка грабителей, порубить всем прочим в назидание, да украденное назад вернуть. Но как только они вышли к лагерю разбойников…
Наскоро собранный в погоню отряд из трех сотен всадников уже потерял треть коней, полтора десятка кнехтов и двух рыцарей убитыми и скоро сотню воинов ранеными. И если поначалу обещание епископа выплатить по десять золотых за голову каждого убитого язычника заставляло латников очертя голову бросаться вперед, то теперь, успев натолкнуться на стреляющие бревна, на укрепления, которые никто не защищает, но взятие которых стоит жизни хоть одному человеку, поняв, что желанных русских голов им не удается даже увидеть — воины приуныли, и заставить их ринуться на очередное бревно удавалось с большим трудом. И с каждым разом — все труднее и труднее.
Больше всего на свете Флору хотелось сейчас превратиться из начальника охраны в маленького, ни за что не отвечающего серва — лишь бы не видеть, как правитель западного берега Чудского озера в ярости скрипит зубами и колотит кулаками ни в чем неповинные деревья.
И все-таки он встал и, покачиваясь, выбрел из леса. Слева от него темнели две поваленные поперек дороги сосны; впереди, в двух сотнях шагов, выстроилась поперек дороги епископская конница. А у самых ног валялись в беспорядке лошадиные и человеческие тела — причем большинство живых существ все еще пыталось дышать. Ливонец осторожно переступал через них, одновременно считая, потом приблизился к отряду:
— Латоша, поезжайте с городскими вперед, уберите бревна. Язычники уже ушли. Эрнст, Кирилл, соберите раненых и мертвых и отнесите к деревне. Потом заберем или похороним.
Войско разделилось на несколько отрядов, каждый из которых помчался по своим делам, а Флор подошел к правителю:
— Мы потеряли еще шесть воинов и восемь коней, господин епископ…
— Тебе нужен конь? Возьми моего, — глаза священника смотрели не на начальника охраны, а сквозь него, словно рассматривали траву за спиной латника. — Но моих «арабов» и певунью верни. Ты понял меня, Флор? Верни!
— Да, господин епископ… — ливонец прекрасно понимал, что услышит именно эти слова, но в глубине души продолжала теплиться крохотная надежда: а вдруг пощадит? Вдруг разрешит возвращаться?
Не пощадил…
— Алексей, коня! — сурово рыкнул Флор, разворачиваясь к ожидающим команды двум полусотням.
— За мной!
И они, промчавшись мимо очищающих дорогу кнехтов, кинулись в дальше в погоню.
— Вроде, как дымом пахнет? — негромко удивился скачущий рядом с командиром Алексей. — Откуда? До Лаевы еще больше мили.
Однако вскоре они убедились, что от скромной деревеньки в четыре двора их отделяет не только миля пути, но и ярко полыхающий мост…
* * *
Уходя от преследования, они запалили два моста, и на ночлег встали за вторым, цинично разогревая в пламени уничтожаемого строения взятые в дорогу из захваченной деревни полупропеченные куски свинины. Река со смешным названием Юрикашка, как и большинство других, пробивающих себе путь через вековые болота, ширину имела маленькую, зато глубину — человеку по шею станется. Да и берега получались крутые. Когда глубокой ночью к реке вышли епископские сотни, их отогнали от останков моста несколькими выстрелами, не давая приступить к ремонту и относительно спокойно дождались рассвета.
Разумеется, противник мог ринуться через реку под огнем — но идти в доспехах по илистому дну, при глубине только-только нос высунуть, при хорошем течении… Скорее утонешь, чем прорвешься. Противник мог обойти их далеко в стороне, и переправиться в спокойной обстановке — но на это требовалось время. И в ночном мраке подобный маневр осуществить не так-то просто. Потому и ночевали оба отряда в виду друг друга, на расстоянии полета стрелы, одновременно и близкие, и недоступные.
С первыми предрассветными лучами путники опять устремились по тракту на запад, предоставив преследователям чинить мост, незадолго до полудня миновали Торенурму, прихватив на обед неосторожно выбредших к дороге четырех гусей, а после полудня, обогнув притихшую за запертыми воротами и закрытыми ставнями Полтьму, вышли к мосту через довольно полноводную Миликвере. Здесь от накатанного тракта отворачивала на север куда более узкая, но вполне ухоженная дорога.
— А это шоссе куда ведет, Прослав? — остановил проводника Росин.
— На Вайсенштайн.
— Отлично, — Костя, уже не спрашивая совета опричника, дал Архину отмашку: — Поджигай мост!
— Эй, Костик, а мы? — встревожилась Юля.
— Что мы? — устало повернулся к ней Росин.
— А мы как же, здесь останемся? Перед мостом?
— А что ты подумаешь, если гонишься за кем-то, и утыкаешься в очередной зажженный мост?.. Вот то-то… А мы уйдем на север и переждем. Авось, потеряют, отвяжутся.
Новая дорога медленно, но неуклонно шла вверх. О болотах и ивах речи здесь больше не шло — по сторонам громко шелестели, помахивая трехпалыми ладошками, клены, поскрипывали на ветру вязы, растопыривали ветвистые кроны дубы. Разве только береза, с аскетичным спокойствием растущая как среди болот, так и на каменистых холмах, встречалась здесь столь же часто, как и ранее. Заросшие высокой — в пояс — травой луга густо пахли медом. Казалось и пчел не нужно — иди, да облизывай языком влажно поблескивающие разноцветные цветки. О присутствии человека напомнили несколько делянок, наполовину скошенных — но сено еще лежало нетронутым, медленно увядая на солнце.
Потом дорога повернула в исконно русский сосновый бор, немного попетляла по нему, опять вернулась в луга, на которых тут и там стояли редкие дубы или собравшиеся в небольшие рощи клены.
— Смотри, Семен Прокофьевич! — первым заметил опасность сын боярина Батова Григорий. Он указал в сторону одной из мелких рощиц, над которой поднимался к небу сизый дымок. В несколько мгновений дым загустел и непроницаемо почернел, словно на костер кинули пару старых автомобильных покрышек. — Сбегать посмотреть?
— Без толку, — отмахнулся Зализа. — Будь конным, может караульщика бы и нагнал. А пешим… Ну, Константин Андреевич, что теперь делать разумеешь?
— Ничего, — Росин приподнял мушкетон и, поведя плечами, сдвинул ремень немного назад. — Епископ вперед нас разведку сюда заслать не мог. Значит, кто-то своих односельчан об опасности упреждает. А мы не за добычей идем, пусть прячутся.
Однако в душе Костя все-таки встревожился, а потому не стал давать команды на привал, хотя люди уже часов семь находились на ногах. Он заторопился вперед, надеясь обогнать неведомую пока опасность.
Луг сменился несколькими свежевспаханными делянками — хотя жилья в пределах видимости по-прежнему не попадалось. Потом дорога нырнула вниз, во влажно пахнущий тенистый овражек, выбралась наверх, пересекла узкую заросшую осокой верею, повернула в густой орешник, понизу которого чахлый шиповник пытался растопыренными ветками найти хоть немного солнца. Здесь-то они и наткнулись на ровную стену щитов, перегораживающую проход.
Прямоугольные, похожие на древнеримские, щиты в рост человека стояли на земле. Над ними поблескивали металлом разномастные шлемы, большинство из которых относилось к рыцарским «ведрам» и «армэ». Еще выше покачивался ровный ряд копейных наконечников. Числом двадцать семь штук.
— Вот и жопа пришла, — лаконично высказал всеобщее мнение Архин, погладив живот, снял с шеи мушкетон и открыл полку, чтобы подсыпать на нее пороху.
Впрочем, одноклубникам сразу стало ясно, что мягкая свинцовая пуля еще способна пробить толстый деревянный щит, но даже если стрелять ею в упор — убойной силы, чтобы нанести серьезную рану стоящему за щитом человеку, у нее уже не хватит. А когда на том еще и доспех…
Росин затравленно оглянулся назад. Чего сейчас не хватало для полного абзаца, так это появления позади конных епископских сотен.
Прослав вместе с лошадьми торопливо отступил назад, на узкую и длинную полосу вереи, туда же Картышев отвел замученную долгим переходом Ингу.
Путники медленно выстраивались перед стеной щитов, на расстоянии пары десятков шагов, прикидывая свои шансы.
У местных длинные копья, у путников — сабли и штыки на мушкетонах. На тесном пространстве зажатой между густыми кустарниками дороги короткое оружие удобнее, если только…
Если только удаться проломить стену и не напороться на острые жала длинных копий, которые к этой стене способны просто не подпустить.
Даже с учетом того, что залп из мушкетонов выбьет кого-то из плотного строя, шансы на успех получались не очень великими. А то, что пробиться без потерь не получится при любом исходе — ясно было каждому.
— Кто вы такие, латники, и какого хрена делаете на нашей земле? — строго спросили из-за стены щитов.
— А-а?! — удивленно встрепенулся Росин и предупреждающе положил ладонь на плечо Зализы, уже раскрывшего рот для ответа.
— Глухие, что ли? — голос из-за щитов зазвучал громче. — Какого хрена, говорю, сюда приперлись, и кто такие?!
— Да, блин, расклад у нас стремный получается, — холодея от невероятного предчувствия заговорил Росин. — Местный епископ на хвост упал, когти рвать приходится, как протону на ускорителе…
— На чем? — стена щитов раздвинулась, и вперед выступил высокий рыцарь в любовно начищенных доспехах, с высоким султаном на шлеме «амбрэ» и с длинным белым плащом за плечами. Он откинул крючки, поднял шлем, красиво положив его на локоть согнутой руки и тряхнул головой. — Кого ты разгонять собираешься? Повтори.
Росин тоже выступил вперед.
— А я тебя знаю, — показал на него пальцем рыцарь. — Ты мастер из питерского «Шатуна».
— И твое лицо мне знакомо… — задумчиво зачесал нос Костя. — Видел я тебя.
— Еще бы! — звучно расхохотался рыцарь, разводя руки. — Витя Кузнецов из «Ливонского креста»! Свои!
* * *
— Егор, выпей! — Кузнецов протянул кубок слуге, и тот покорно осушил немалую посудину.
— Что, боишься, отравят? — усмехнулся Костя.
— Нет, — жизнерадостно расхохотался рыцарь, снявший в своем замке кирасу, и оставшийся в бархатном колете с прорезями на боках, сквозь которые проглядывала шелковая подкладка. — Просто ходит тут трезвый, как укор совести. Пусть тоже выпьет.
Пир еще только начинался. Гости и хозяева вперемешку расселись за длинным столом из поставленных на козлы дощатых щитов.
Многие друг друга узнавали, вспоминая встречи на ролевых играх или военных инсценировках, а то и совместные пьянки в самом Питере — и далекое прошлое, оно же будущее, теперь казалось всем чем-то вроде массовой галлюцинации.
Кувшины с вином, блюда с жаренными петухами и целиком запеченными косулями еще стояли нетронутыми, а стол гудел множеством разговоров так, словно хмельные напитки успели изрядно развязать языки. Только братья Батовы собрались на конце стола в молчаливую кучку, но сам боярин Евдоким, желая подчеркнуть родовитость, уселся рядом с хозяином замка. Государев человек Семен Зализа, защищая царский статус, уселся по другую сторону, и Кузнецову приходилось разговаривать с председателем клуба «Черный шатун» через их головы:
— Ну, как устроились, рассказывай?
— Нормально вроде. Вот, Семен Прокофьевич, — Зализа с достоинством кивнул, — место нам на Суйде отвел. Построились мы там, хозяйством обзавелись, две мануфактурки небольшие поставили, по выдувке стекла и выделке бумаги, летом хотим еще пороховую мельницу организовать. Половина мужиков там осталось, работают. А вы как в замке оказались? Давайте, про себя рассказывайте.
— Ну, что, — Витя отхлебнул из кубка и вальяжно откинулся в кресле. — Как от вас откололись, Сашка наш, Великий Магистр, сюда нас повел. Говорил, небольшая фогтия, людей мало, рыцарей мало. Мы при оружии и доспехах, неплохих по здешним меркам. Вот и примут. А получилось малехо наоборот: рыцари как врюхались, что мы русские, решили разоружить да и продать куда-нибудь на сторону. Ну, Сашка лапки кверху задрал. Они, говорит «великие ливонские рыцари», раз так решили, надо смириться и подчиниться. Но тут эти засранцы еще и баб наших лапать начали. Неля, вон, даже из баллончика кому-то прыснула. Они за мечи схватились, ну и мы тоже. Короче, порубили мудаков в капусту, и сели в замке. Великий Магистр наш приссал, что Орден за них мстить примчится, и свалил куда-то, а мы остались.
Он наклонился вперед, отхватил ножом от косули большой кусок ляжки, зажевал, запил вином и продолжил:
— Но мстить никто не пришел. Прискакали пару раз какие-то придурки. Штук десять, кого-то спрашивали. Мы их на хрен послали, и все. Правда, поначалу нас и вправду воевать ходили, но не сюда, а деревни дальние пограбить. Ну, крестьяне к нам жалиться прибежали, мы мозгами пораскинули, мечи-доспехи напялили и пошли к соседям «в войну играть».
Кузнецов мечтательно закатил глаза.
— Добрели до соседа, в Тюрскую комтурию, но деревни трогать не стали, а прямо к замку. Запалили ему бордель. Рыцари, знаешь ли, для своих блядей избы прямо к стене пристраивают. В общем, запалили бордель, покидали факелов в окна, стали двери рубить, щитами прикрываясь. Через пару часов хозяева сами из окон заорали, что сознают свою ошибку, больше не будут и даже отступного чуть не кило золота отсыпали. Мы пару дней отдохнули, и к другому соседу в гости… Короче, Костя, бардак во всей этой Ливонии полнейший, даром, что немцы заправляют. Мы, блин, целую фогтию захватили — а всем по барабану. Законы все, как у нас: пришел рэкет, обложил всех, как захотел. Пришел другой, дал первому по голове, и сам всех обложил, вот и вся конституция. Особо крутые мэны самих бандитов обкладывают, чтобы по мелочам не распыляться. Королевская власть называется.
— Здесь же Орден? — удивился Росин.
— Вообще тут ни хрена нет! — отмахнулся Витя. — Может, когда и было, но не сейчас. Никто на нас даже цыкнуть не рискнул. Приходили письма, в поход нас собирали. Мы их на хер послали, и ничего, умылись. Орденский оброк в своей фогтии отменили — и тоже съели. Церковную десятину отменили — только один попик ныть приходил, да и то как-то вяло.
— Немцы, что возьмешь, — презрительно хмыкнул боярин Батов. — Завсегда трусоваты были.
А внимательно слушавший рассказ Зализа нервно сгреб свою бороду в кулак и сильно подергал, хотя вслух ничего не сказал.
— В общем, мы как в тему въехали, — продолжил Кузнецов, — сразу стали и стрелки забивать, и границы раздвигать помалеху. В конце концов, раз попали в такую струю, так чего не оторваться? Мы ведь в рыцари с самого начала шли, чтобы мечом помахать, кровь разогреть. Короче, слабаки они тут все. Драться всерьез никто не хочет, вызовов не принимают, сразу извиняются, деньгами откупаются. В общем, соседей мы на место поставили, часть крестьян ихних себе увели, девок мужикам набрали. Не аскетов же им теперь остаток жизни изображать? Нижний зал легкими загородками на комнаты разбили, по паре на каждого. А то раньше тут только фогтий отдельную комнату имел, остальные вповалку спали. А теперь все чин-чинарем. Нормальное рыцарское семейное общежитие получилось. Только фогтий с дамой сердца отдельно в башне ночуют.
— А кто фогтий? — не сразу сообразил Росин.
— Как кто? — снова расхохотался Витя и по всему было видно, что новой жизнью он несказанно доволен. — Я!
Он размахнулся и от всей души грохнул кулаком по столу:
— Я, Виктор Кузнецов, ливонский рыцарь, по праву питерского происхождения и крепкого меча есть единственный фогтий Сопиместкой провинции! На том стояла, и стоять будет русская земля.
Глава 6. Осада
Когда Флор увидел россох перед сожженным мостом, он понял все. Про рыцарей Сопиместкой фогтии уже почти год ходили самые дурные слухи. Сказывали, что у воинственных служителей Господа окончательно помутился разум, и они начали рубиться с соседями с неуместным безумием, на битвы идут со смехом, законов более не блюдут, изгнали от себя как честных католических служителей, так и лютеранских еретиков, целибата не соблюдают, но и с женами не венчаются.
Если в набег на замок епископа пришли именно они, то становилось понятно и кощунственное разграбление служителя церкви, и то, что уходили они не в сторону Руси, а на запад, и кровавое бешенство, с которым они то дрались за бревна на болотной тропке, то вдруг бросали все и уходили прочь.
И все-таки командир дерптских сотен не стал поворачивать в дурные земли сразу, а остановил войско на отдых, отправив за реку только малый разъезд.
Всадники вернулись к вечеру, сообщив, что никаких следов русских разбойников на дороге не обнаружили, а потому на рассвете Флор первым повернул коня на узкую ухоженную дорогу.
Вскоре по сторонам от скачущих рысью воинов потянулись к небу темные дымы.
— Предупреждают… — недовольно пробормотал епископский телохранитель, пришпоривая жеребца.
От тракта до замка сопиместкого фогтия было всего шесть миль. Если поторопиться, то даже предупрежденные об опасности хозяева не успеют толком подготовиться к отражению нападения.
Однажды в Королевстве Польском Флору довелось подойти к шляхтскому замку в тот момент, когда хозяева были на охоте. И вернулись они прямо в объятия обложивших укрепление ландскнехтов. Хотя… Если епископа грабили именно сопиместкие рыцари — к осаде они наверняка подготовились заранее.
Начальник стражи еще наддал коню хлыстом, отрываясь далеко вперед от своего отряда и, проскакав мимо густого яблоневого сада оказался ввиду замка.
Резиденция местного фогтия немногим уступала по размерам замку дерптского епископа. Сложенная из темно-красного кирпича, она прикрывалась единой двускатной крышей из покрытой мхом черепицы. Фасад, смотрящий в открытое поле, украшала круглая башня со множеством бойниц, с каменными зубцами и пустым флагштоком наверху. Как и в доме епископа, над узкими бойницами на высоте полутора человеческих ростов шел ряд широких и высоких окон, забранных толстыми стальными прутьями.
— Эй, вы, в замке! — прогарцевал он в паре сотен шагов перед запертыми воротами. — Если вы немедленно вернете господину епископу его скакунов, певунью и прочее добро, взятое в его замке, и заплатите тысячу талеров отступного, то господин епископ смилостивится и простит ваш набег!
— Да пошел ты в задницу! — крикнули из бойницы. — Повесь своего епископа себе на яйца, и крась на пасху! Вали, пока цел!
Флор, не дожидаясь, пока кто-нибудь начнет стрелять, повернул коня и отъехал на пару сотен шагов, спешился. Он не очень надеялся на согласие сумасшедших рыцарей вернуть добычу, но изложить условия мира следовало обязательно. После начала осады фогтий наверняка призадумается, что выйдет ему дороже — упрямо держаться за награбленное, или лишиться своих деревень, которые будут разорены ищущими поживы кнехтами, потерять замок и многих из своих воинов. Наверняка уже через неделю он захочет поторговаться и снизить сумму отступного, а если осада пойдет удачно — то согласится и на отступное.
Начальник епископской стражи не знал, как подступаться к лежащим на дороге и ощетинившимся мушкетными стволами деревьям — но уж замки ему приходилось обкладывать не один раз.
— Латоша, Кирилл, — начал он быстро и четко отдавать распоряжения подошедшим воинам. — Возьмите полусотню, ступайте в деревню, что на том конце поля. Разбейте там сараи, дома разберите и несите бревна сюда, будем осадную сену ставить и флешь к воротам вести. Алексей, возьми два десятка дерптских латников, ступай в лес и свалите хорошее дерево для тарана. Притащите сюда, обтешите его на виду, пусть фогтий знает, что мы не шутим. Эрнст, вы с рыцарями и их кнехтами обойдите замок и станьте дозором с той стороны, дабы тайными ходами местные крестоносцы пользоваться не могли и вестников каких не послали.
Усталых лошадей наконец-то расседлали и пустили пастись в сад. Как ни хотелось Флору потравить местные поля, но на них еще не появилось ни ростка, и коняги не испытывали желания бродить по пустой пашне. Латники бродили между снятых вьюков, разминая затекшие ноги, кое-кто уже начал развязывать походные сумки. Среди прочих сидел на поставленном на землю седле дерптский епископ, сверля замок ненавидящим взглядом. Начальник стражи подумал было подойти к нему, доложиться о начале осады, но ноги как-то не понесли. Отказались приближаться к правителю приозерных земель, и все! Словно волны исходящей от ограбленного священника ярости хлестали, минуя сознание, прямо по обутым в толстые юфтовые сапоги конечностям, наполняя их страхом.
— Неудачный поход, — тихо пробормотал себе под нос телохранитель. — Половину людей и коней уже побило, три десятка насмерть убило. Как проклятие какое-то над нами. И еще эти мушкетоны…
Ему уже приходилось мчаться в атаки на польские ручницы и они не произвели на ливонца особого впечатления: стреляют шумно, но близко, доспеха не пробивают. Лук страшнее — стрела с граненым наконечником с двухсот шагов насквозь прошить может, да и стреляет лучник не в пример быстрей и сноровистей.
И огненно-свинцовые смерчи на узких лесных тропинках оказались для него настоящим шоком — после них среди пошедших в атаку воинов не оставалось почти ни одного целого. И хотя доспехи от смертельных ранений спасали, счет раненым каждый раз шел на десятки.
Впрочем, лесные тропы остались позади, а ныне перед ним стоит обычный провинциальный замок. И взять его можно без особых потерь — дело привычное. Сперва подвести косую стенку, которую ни один мушкетон, и даже арбалет пробить не сможет, потом поставить толстый навес перед воротами, дабы сверху на голову воинам никто ничего сбросить не мог, вынести под навес таран, и расколотить ворота. Неделя-другая — и они окажутся внутри.
* * *
— Господин фогтий, дымы! — ворвался в залу пожилой воин. — Опять с юга!
— Вот как? — Кузнецов уселся в постели, тряхнул гудящей после вчерашнего обеда, затянувшегося далеко за полночь, головой, потом решительно откинул одеяло и подошел к окну.
— Что там? — Неля из-под одеяла вылезать не стала, но голос ее звучал тревожно.
— Два дыма, — Витя зевнул. — То ли конные, то ли много очень народу идет. Ну да ладно, посмотрим. Никодим, буди гостей. Наверняка они хвост привели. Помнится, даже говорили про что-то вчера… — он опять зевнул. — Не помню.
Фогтий начал торопливо одеваться. Оставшаяся после двадцатого века одежда успела обтрепаться — на добытые у соседей «откупные» деньги рыцари «Ливонского креста» купили новую, и теперь ничем не отличались от прочих дворян своего времени: снизу льняные рубахи и тонкие шерстяные чулки, которые привязывались к рубахе шнурками; сверху — бархатные, суконные, парчовые кафтаны, дублеты, манто. Женщины получили настоящие баскиньи и вестидо — и теперь на любом историческом фестивале могли бы смело претендовать на приз за аутентичность наряда. Причем довольны оказались не только три дамы, провалившиеся в прошлое вместе с фестивалем, но и местные сервки, взятые рыцарями в наложницы — они и в тайных мечтах не могли представить, что когда-нибудь станут носить богатые дворянские платья.
— Ты спи, Неля, — успокоил Кузнецов женщину, и перекинул через плечо перевязь с мечом. — Заварушка еще не скоро начнется.
Когда он спустился в зал, где вместо стоявших днем столов было насыпано сено, в котором гости и ночевали, те поднялись уже почти все. Видать, известие о появлении неизвестного отряда встревожило их куда сильнее, чем обитателей замка.
— Ну что, «шатуны», — хмыкнул фогтий. — Рассказывайте, кто тут за вами гонится?
— Я же тебе вчера говорил, — поморщился Росин, ощупывая лоб, — дерптский епископ украл племянницу Игоря Картышева. Мы ее отбили, и теперь за нами гонятся его прихвостни.
— Сколько?
— Думаю, боярин, сотни две епископ послал, — подал голос Зализа.
— Всего? — хмыкнул Кузнецов. — Пожмотился епископ, недооценивает. Полтора десятка ваших ружей, да несколько луков и наших арбалетов, да полсотни мужиков. Мы же их в порошок сотрем!
— У дерптского епископа воины умелые, — покачал головой опричник. — С земли взятые, да в монастырях обученные. И рыцарей не меньше десятка. Правда, зимой большинство из опытных воев мы повыбили, но многие еще остались.
— Ерунда, — отмахнулся Виктор. — Каменную стену никакой опыт не заменит. Мы в крепости, они на улице. Мы русские, они немцы. Мы с ружьями, а здесь по замкам я даже пистолета захудалого ни у кого не видел. Нет у них никаких шансов. Нуль голимый. Еще и пленников возьмем, а потом выкуп потребуем.
Росин только головой покачал — вот уж не думал, что обычный слесарь способен так быстро превратиться в матерого пса войны.
— Эй, вы в замке! — послышался голос с улицы.
— Вот и гости подоспели, — кивнул фогтий. — У вас пукалки-то заряжены? Небось по полчаса заряд запихивать надо?
— За пару минут управляемся, — обиженно на морщился Костя, забирая от стенки свой мушкетон. — Чай, не от сохи в армию пришли. Подстрелить конного?
— Да пошел ты в жопу! — заорал Кузнецов, и тут же спохватился: — Извини, Костя, это я не тебе. Повесь своего епископа себе на яйца, и крась на пасху!
— Вали пока цел! — добавил азартно подпрыгивающий у соседнего окна Миша Архин.
— Стреляй, — разрешил Витя, но всадник уже успел отъехать далеко в сторону.
— В следующий раз, — Росин привычным движением достал пороховницу и обновил затравку на полке.
Из окна было видно, как из-за яблоневого сада непрерывным потоком выхлестывает конница и растекается перед замком.
— Егор! — заорал Виктор. — Клепатник, ты где?!
— Здесь, господин, — оказывается, слуга вместе со всеми спал в зале, на сене в углу.
— Егор, поднимай мужиков, пусть вооружаются. И мое железо принеси… — Кузнецов прищурился в окно. — Поножи не надо, за ноги тут никто кусать не станет. Только кирасу с юбкой и наплечники. И шлем.
Преследователи пока еще только расседлывали коней, раскладывали на земле упряжь, однако было видно, как прискакавший первым всадник, активно жестикулируя, отдает приказы.
— На деревню показывает, с-сука, — с посвистом выругался фогтий. — Разорят деревню, мужики наверняка все барахло попрятать не успели. Да и сюда, за стены никто не прибежал.
— Так война ведь, — пожал плечами Зализа. — Завсегда деревни в первую голову разоряют.
— Это пусть чужие разоряют, — зарычал Кузнецов. — А меня эти мужики кормят. Я им «крышу» крою! Стало быть, всяким проходимцам на их добро зариться не дам.
— И что делать? — спросил Росин.
— На веревку привязать. Чтобы начальник ихний каждый меч при себе держал и от лагеря не отпускал.
Но пока перед замком происходило обратное: пришельцы дробились на небольшие отряды и деловито расходились в стороны.
— Ну, мужики, — выдохнул Витя, надевая принесенную Клепатником кирасу и стягивая боковые ремни. — Вы их за собой притащили, стало быть вместе и отдуваться будем. Их там чуть больше полусотни перед замком осталось. Сейчас ворота отворим, и все разом по ним вдарим. Тогда ваш епископ быстро все войска в один кулак соберет. Побоится, что перебьем по частям.
— Ну наконец-то! — с облегчением стукнул по стене кулаком Григорий Батов. — А то все бегаем, и бегаем. Я уж забыл, как саблю из ножен вынимать! Заскучалось ей, кровушки попить просит.
— Сейчас все выпьем, — Кузнецов закрыл наруч вокруг предплечья и затянул ремень. — Ну, пошли вниз.
* * *
— Вылазка! — первым заметил опасность один из молодых кнехтов, пришедших с кавалером Эриком из Сепалы.
Флор выругался — уж очень неудачный момент выбрали крестоносцы. Лагеря еще нет, укреплений никаких, воины разбрелись — а из ворот уже выбегают плотным отрядом рыцари, среди которых он отметил и ратников в русских доспехах, и мушкетеров. Краешком сознания он успел удивиться: обычно стрелки в бою не участвуют, уходя в тыл сразу после залпа и расчищая пространство для копейщиков или конницы, но раздумывать было некогда — расстояние между атакующим отрядом и лагерем стремительно сокращалось.
— Сюда! Все сюда! Все в строй! Копья в первый ряд! — он сам подхватил с земли чью-то пику, которую спешившийся всадник с собой носить не стал, призывно поднял руку: — Сюда! Все сюда!
За то время, пока осажденные преодолевали четыре сотни шагов от ворот до лагеря, перед разбросанными седлами и тюками выросла прочная, ощетинившаяся копьями и пиками стена в три ряда глубиной и двадцати шагов шириной.
И тут произошло нечто вовсе дикое и невероятное: атакующие замедлили бег, остановились в двадцати шагах от строя и подняли свои мушкетоны. Флору показалось, что самое меньшее три ствола, несущих неумолимую смерть смотрят точно ему в лицо, и еще мгновение — все, его не станет. Он во всех подробностях видел каждый восьмигранный кованный ствол — сразу три! Видел, как слабеньким, еле заметным дымком курится заправленный в замок фитиль, как замок начал медленное движение вперед и вниз, к насыпанному на полку пороху…
— А-а-а! — у епископского телохранителя просто подогнулись ноги и он медленно и плавно повалился вниз, но еще у многих и многих десятков кнехтов близость смерти, такая ее ясная видимость и ощутимость породила одно желание — бежать! И они, бросая копья, ринулись назад, сбивая с ног тех, у кого хватило воли устоять на месте, глядя будущему в глаза, или просто зажмуриться, встречая неизбежное и надеясь на Господа. — А-а-а!
Ба-бах! — словно сам Дьявол сделал выдох над его спиной, и в следующее мгновение Флор вспомнил самое главное, что за множество прошедших на службе лет стало главным смыслом его существования:
— Господин епископ! — он вскочил, загребая пальцами землю, побежал вперед, стремясь спасти, увести с собой, закрыть своим телом правителя церковных земель. — Господин епископ!
Дерптский епископ сидел на том же седле, и в той же позе, в какой оставил его телохранитель и взирал на сцену побоища с полным безразличием. Спокойствие правителя подействовало на Флора, как опрокинутая на голову кадушка с ледяной водой. Он устыдился всплеска возникшего глубоко в душе ужаса, и желание бежать со всех ног, волоча за собой господина моментально улетучилось. Он выпрямился, развернулся и встал перед господином с обнаженным мечом, теперь действительно готовый сражаться за него до последней капли крови, умереть, но не отступить ни на шаг.
Но на него никто не нападал. Крестоносцам и затесавшимся в их ряды русским вполне хватало жертв в виде в ужасе улепетывающих кнехтов, которых они с радостью били в спины, подсекали ноги, дотягивались кончиками мечей и сабель до соблазнительно беззащитных шей.
Кое-где, правда, воины начинали приходить в себя, разворачиваться и отбиваться. В двух местах рыцарям даже удалось собрать вокруг себя небольшие отрядики и придать им подобие строя. Но на отряды крестоносцы и их стрелки не нападали, вступая в схватки только с одиночками, да и то не со всеми.
Флор с облегчением увидел, что из-за замка спешит на помощь поставленный в наблюдение отряд, а от леса бегут отправленные за тараном воины — но крестоносцы уже отступали, пятясь спиной и держа наготове оружие. Еще немного — и тяжелые, толстые дубовые створки замкнулись, укрыв собой завершивших вылазку ратников. Все. Теперь о случившемся напоминали только залитый кровью лагерь, да скрючившиеся тут и там тела. Войско дерптского епископства потеряло еще три десятка человек, не считая раненых, способных ходить. А значит… Значит, у него под рукой остается всего две полноценные полусотни против пятидесяти осажденных крестоносцев. Из этих ста воинов он должен выделить людей на обложение — поставить за замком хоть один отряд, который станет следить, чтобы осажденные не получали вестей, продовольствия, чтобы не выбрались с дальней стороны на тайную вылазку. Должен выделить фуражиров, которые разойдутся по ближним деревням в поисках продовольствия для войска, должен выделить строителей на флеши, должен выделить отряд прикрытия, который не позволит осажденным сделать вылазку и перебить строителей, а заодно разрушить возводимую ими стену. И только отряд прикрытия должен составлять не меньше ста воинов — иначе бешенные крестоносцы ничего не убоятся и все равно выйдут и перебьют строителей.
— Нам нужно подкрепление, господин епископ, — громко признал Флор. — Хотя бы две полусотни. Иначе мы ничего не сможем сделать.
— Вам ничего не нужно, — хмуро ответил правитель.
— Нужно еще две полусотни, — повернулся к нему начальник стражи. — Этого будет достаточно, чтобы провести правильную осаду, обложить замок и подвести флешь и таран. Мы возьмем замок за две-три недели. Самое большее — за месяц.
— Вы никогда его не возьмете, — покачал головой дерптский епископ. — Вам никогда не победить этих людей, смертный. Ни через месяц, ни через год, ни через столетия. Будь вас хоть сто, хоть тысяча, хоть сотни тысяч. Вам никогда не удастся победить этих людей. И я даже не уверен, что вам удастся их просто убить, — правитель встал. — Прикажи оседлать мне коня, я возвращаюсь в замок. Потом снимай осаду и уводи войско.
— Но, господин епископ, — оглянулся на замок Флор. — Я могу стоять здесь лагерем, не выпуская их из замка, могу разорить их деревни. Им не удастся столь малыми силами отогнать нас не смотря на все хитрости. А когда подойдет подкрепление… Еще хоть пару сотен воинов…
Правитель поднялся с седла, и в недоумении огляделся, не видя оседланного скакуна.
— Латоша! — рявкнул начальник стражи, поняв, что священник не желает ничего даже слушать. — Коня господину епископу! Позвольте выделить вам охрану, мой господин?
— Нет.
Снятие осады не потребовало много времени. Епископские воины собрали и перевязали раненых, оседлали коней, привязали им на спины убитых. Вскоре после полудня последний из отъезжающих всадников придержал коня и бросил последний взгляд на непокорный замок.
Эрих де Салки вспомнит это взгляд восемнадцать лет спустя, когда, оставшись в результате Ливонской войны нищим и бездомным, он поддастся на приглашение принца Морица Оранского и вступит в нидерландскую армию — наемником.
Командуя полутысячным отрядом кулевринщиков и двумя сотнями копейщиков, де Салки окажется на пути пятнадцатитысячного корпуса маршала Тюрена — и на протяжении двух недель станет изматывать испанцев непрерывными защитами легких фашинных укреплений и отходами на новые укрепления до начала решительной рукопашной схватки. И когда принц приведет на помощь кулевринщикам десятитысячный корпус конницы, усталый испанский маршал предпочтет уйти из Нидерландов без боя.
Часть вторая
Глава 1. Лосицкая вязь
Едва последняя из епископских лошадей, взмахнув хвостом, скрылась за изгибом дороги, как по замку прокатилась волна радостных воплей:
— Есть! Мы сделали их! Турнули гадов!
— Ну, что я говорил! — фогтий с силой хлопнул Росина по плечу. — Один хороший штыковой удар способен разом вправить мозги любому европейцу. Клепатник! Вина! Сегодня мы гуляем…
Замковые слуги принялись отгребать к стенам сено и укладывать дощатые столешницы обратно на козлы. Несколько молодых девушек — видимо, те самые наложницы, о которых рассказывал Кузнецов — внесли кувшины. Как всегда на Руси — главное, чтобы было что выпить. А уж с закуской как-нибудь обойдемся.
— Ну, мужики, — Витя сам набулькал себе, Росину, Зализе и еще нескольким ближайшим соседям полные кубки. — За победу!
— За победу! — Костя выпил, с грохотом поставил опустевший кубок на столешницу. — Будут знать, как русских девок воровать!
— Одно мне странно, — крякнул, чуть картавя, от окна Игорь Беря. — Как так получается, что мы здесь всех лупим в хвост и гриву, а на юге как раз сейчас татары русские деревни грабят, девок в полон продают, на витязей наших палки кладут?
— Ну, не знаю, кто и что у вас кладет, — скрипнул зубами Зализа. — А вот я вот этой самой рукой пятерых татар к их богам уже отправил. Шустрые они, как тараканы, и вертлявые. Поймать их трудно. Сцапают добычу, как отвернешься, и тикать. Но коли порубежный разъезд татар заловит — ни один не уйдет, то я вам голову на отсечение даю!
— Тараканы, это беда, — покачал головой Кузнецов, заглянул в пустой кувшин, удивленно приподнял брови, сграбастал соседний, удовлетворенно кивнул и принялся разливать вино: — Ну, мужики, за Россию, за Русь Великую!
Теплое терпкое вино скатилось в желудок, и Росин ощутил, как бархатисто-ласковый хмель наползает на сознание. Еще бы! С утра не жрамши, да еще мечом помахав, да не меньше полулитра залпом вылакав… Не мудрено.
— А закуска будет? — с интересом пробормотал он.
— Закуска? — фогтий завертел головой: — Клепатник! Ты где?
— Здесь я, господин, — слуга поднес полный кувшин вина и поставил его перед Кузнецовым. — Горячее еще не поспело, а холодное вчера все употребили. Гостей встречать не готовились, наготовили мало…
— Ладно, подождем, — махнул рукой Витя и наполнил свой кубок: — На, выпей.
— А я знал, знал, — горячо доказывал усевшийся в середине стола, между двумя кувшинами, Архин, широко размахивая руками. — Так завсегда получается, когда цивилизации разного уровня дерутся. Соотношение примерно один к десяти в пользу более развитых получается. Казаки в Сибири туземные племена громили, имея сил раз в десять меньше, китайцев громили имея сил меньше раз в сто. Янки во Вьетнаме в семь раз меньше местных потеряли, наши в Афгане тоже примерно так же по потерям соотносились, с чехами точно так же получается, с татарами и монголами та же петрушка…
— Это да, — опричник услышал мишину речь и не смог промолчать, — под Тулу нас государь повел, татар было, как песка текучего… Раз в пять более, а то и еще того… Эх, хороша была сеча!
Зализа неожиданно выхватил саблю и положил ее на стол:
— Трех татар на этот клинок под Тулой взял. Под Казанью еще двоих.
Сталь холодно блеснула под падающим из окна вечерним светом, темные тонкие завитки выдали в нем настоящий московский булат.
— Коли татар считать… — боярин Батов обнажил свой клинок и положил его рядом с зализовским. — Еще троих добавьте.
— А что так мало? — пьяно хмыкнул Архин.
— А мы все больше на Литву ходим, — пожал плечами боярин.
— Пока одного.
— И ты, Варлам? — послышался изумленный Юлин выдох.
— Один раз под Казанью был, одного на пику взял, — чуть не повинился сын боярина Батова, протискиваясь к столу и выкладывая свой клинок.
— Вот бли-ин… — восхищенно сглотнул фогтий, простирая руку над лежащими перед ним клинками, но так и не решаясь к ним прикоснуться. — Клепатник! Вина всем налей! Мужики, слушай меня. Давайте выпьем за счастье наше… За то, что родились на земле русской. За то, что кровь великих предков в жилах наших течет. За то, что всегда мы такими, как есть остаемся. И здесь сейчас, и в нашем сорок первом году, и в девяностых, и Бог даст в трехтысячном году чтобы дети наши такими же остались. Ну, давайте!
Воины чокнулись кубками и осушили их до дна.
— Егор! — тряхнул головой Кузнецов. — Горячее сырым не бывает. Тащи все как есть, а то уже в голову ударило…
— Ты мне скажи, — опустился на скамью Росин. — Почему ты, коли патриот такой, в Ливонию подался, в Орден? Почему с нами не остался?
— Костя, ну ты вопросы задаешь, — хмыкнул фогтий, присаживаясь рядом. — Кто же знал? Наверное, потому, что заигрался. Потому, что в реальность так до конца и не поверил. Потому, что рыцарей только по картинкам видел, да по «Айвенго» знал. И самому уж очень на Айвенго походить хотелось. Ну, оказалось, что братва-братвой, ну и что? Замок теперь бросать, земли наши этим уродам назад отдавать? Я вот что думаю, Костик: давайте лучше вы к нам. Мы тут сидим прочно, замок, деревни, границы на замке. Ребята вы крепкие, да еще и оружием хорошим обзавелись. Мы обе ближние комтурии быстро себе подгребем, вы в них и сядете. А что? Тут сейчас бордель полнейший. Хватай что хочешь, греби под себя. Главное, удержать суметь. А мы, коли вместе будем, хрен у нас кто чего оттяпает.
— Хороший ты парень, Витя, — со вздохом покачал головой Росин, — но только не получится у нас ничего. Мы ведь тоже осесть успели. И, вроде, при деле все. Кое-что из знаний своих вспомнили, дело запустили. Если хорошо пойдет, то лет через пять уже буржуинами станем. Чай, головы не пустые. Производство, сам понимаешь, расти будет. Если не лениться, на всех хватит. А на землю сесть… Ну, будешь ты графом, а я при тебе графинчиком. А остальные? Крестьянами да бюргерами? В нищей-то Европе? Ты заезжай, посмотри, как у Зализы смерды живут.
— Ерунда, Костя, — понизил голос Кузнецов. — Если кулак хороший собрать, Ливонию всю подгрести можно. Ничейная она сейчас, мамой клянусь. Просто подобрать ее, позаброшенную, поляки да шведы ленятся. Пользоваться моментом надо. Будете вы все дворянами. По замку каждому гарантирую!
— Разбойный у тебя характер, Витька, — засмеялся Костя. — Настоящий крестоносец! Вот только… — он опять понизил голос. — Юлю помнишь? Вон она, у окна с боярином в кольчуге. Захомутала, похоже, парня. Игоря Картышева видишь? Все племянницу свою дурную уговаривает? Хорошее стекло варит, зараза. А вон, мужика с бердышем помнишь? Из ментовки, нас на фестивале от хрен знает чего охранял. Бабу себе сосватал из Еглизей. Сама крепкая и хозяйство такое же. И службу, самое смешное, сохранил, патрульно-постовую. Просто теперь при Зализе служит, при опричнике. А я вот этими самыми руками бумажную мельницу пустил. И теперь скажи, чего ради нам это все бросать? Ты хоть помнишь, что Польша и Литва скоро объединятся и тут Баторий со стотысячной армией шастать начнет? И что ты тут тогда с полусотней бойцов сделать сможешь? Пресмыкаться, да милости просить? Нет, Витя, лучше на Руси крестьянином быть, чем в Европе дворянином. У нас расклад простой: хочешь удаль показать — иди в армию служи, воюй, Родину защищай. Неохота голову под пули подставлять: плати тягло, да сиди, делом своим занимайся. Землю паши, мануфактуры строй. И ни о чем не беспокойся.
— Ну да! Ты можешь вспомнить год, когда Русь ни с кем не воевала?
— Это Русь, Витя, — вздохнул Росин. — Русь. Когда война в кургузой Европе начинается, где все страны размером с помещичью усадьбу, ее быстро от моря до моря затаптывают. А у нас… Россия в мире, это как волк в курятнике. Поклевать ее еще можно, а вот вред весомый причинить…
— А как же татары?
— «Казань брал, Астрахань брал, Шпака… Шпака не брал», — начал цитировать Костя, загибая пальцы. — Но попадется: и Шпака возьмем.
— А теперь, бояре, — вернув саблю в ножны, поднял кубок Зализа, — выпьем за здоровье государя нашего, Ивана Васильевича, да будут годы его долгими, а царствие благополучным.
Бояре Батовы дружно перекрестились.
— А что? — поднялся сапиместкий фогтий Виталий Кузнецов. — За Грозного выпить можно. Великий был царь. Почитай, именно он нашу Россию и создал!
Кузнецов одним махом осушил кубок и зашарил ладонью по столу — но никаких закусок не нашел.
— Клепатник, мерзавец твою мать! Ты где?
Но на этот раз слуга не откликнулся.
— Ладно, черт с ним, — отмахнулся фогтий. — В одном ты, Костя, прав. Сейчас в Европе такого фарта, как здесь, больше нет. Куцая она, все земли уже раздерганы. И сесть здесь в замке, застолбить право сильного: это последний шанс для нового человека стать истинным рыцарем и потомственным дворянином. Упустите — больше не появится.
Росин тоже поднялся с кубком в руках, оглядел своих одноклубников.
— За здоровье государя! — опрокинул он в себя вино, занюхал его рукавом и упрямо мотнул головой.
— Нет, Витя, русские мы. Никуда со своей земли за счастьем не пойдем. Сами выстроим.
— Ох, шатуны-шатуны, — махнул рукой фогтий. — Бесполезно с вами о рыцарском кодексе говорить. Придется самим крутиться.
— В Испанию можно податься, — неожиданно напомнил Миша Архин. — Они ведь недавно Америку открыли. Там тоже можно земли застолбить.
— В Америке рыцарей отродясь не было, юноша, — покачал головой Кузнецов. — И не будет. Да и через Европу сейчас лучше не ходить. Купцы французские, когда вино привозили, проболтались, что холера там гуляет. Города вымирают пачками… — он пьяно зевнул и упал назад на скамью. — Итальянцы все, говорят, в Крым от эпидемии свалили, англичане с кораблей сходить боятся. Скоро, наверно, и до нас доберется. Сейчас май, холодно. Вибрион в такой воде дохнет. А как потеплеет, так и на Руси падеж начнется… Тьфу, эпидемия, хочу сказать, будет.
Фогтий поднялся, нетвердыми шагами добрел до окна, сделал несколько глубоких вдохов свежего воздуха.
— Вот такие-то пироги, шатуны. Вы после июня-июля со своих мануфактур лучше не высовывайтесь. Подхватите этакую дрянь, всем клубом сдохнете. Я своих сервов уже упредил, чтобы во второй половине лета из фогтии ни ногой, и к проезжим купцам-молодцам даже пальцами не прикасались.
— Погоди… — поднялся Росин и пошел за ним следом. — Так ведь делать нужно что-то?
— А ничего не сделаешь, — снова зевнул фогтий. — Прививки против холеры неэффективны, антибиотиков нет. Водоемы дустом засыпать? Так и дуста тоже еще не существует. Единственное средство: карантин. Да и то я не уверен, что какой-нибудь носитель на наши земли не забредет. Границы ведь колючей проволокой все не заплетешь. Так что: не пейте сырую воду, мойте руки перед едой и молитесь. Молитва, она как витамины. Когда больше ничего не помогает, надеяться остается только на нее. И не шляйтесь нигде. Наши широты, вообще-то, холеростойкие, холодные. Сами не завезете, так и не подхватите.
— А юг? Юг России? Там что будет? Волга, Дон? Орел, Елецк, Тамбов, Воронеж?
— Вымрут, — устало пожал фогтий плечами, привалился спиной к стене и сполз вниз. — Ой, вымрут…
— А Москва?
— И Москва…
— Что такое? — крепко ухватил Зализа Росина за плечо. — Что он про Москву говорил?
— Эпидемия, говорил, идет. Холера.
Опричник испуганно отдернул руку и перекрестился. А Костя заметался вдоль стола мимо удивленных одноклубников, прослушавших половину его разговора. В затуманенном вином сознании возникали и тут же рушились планы один фантастичнее другого, но с каждым разом Росину становилось все яснее, что фогтий прав: останавливать холеру им нечем. Ее и в двадцатом веке с трудом гасили, а уж сейчас…
— Семен Прокофьевич, — резко остановился он. — А иностранцев у нас на границе ловить сподручно? Ну, подержать их месяцок в карантине, чтобы заразу какую не привезли?
— Так больных, Константин Андреевич, и так не пущают.
— Больных мало, — мотнул головой Росин. — Здоровых нельзя. Какой у холеры инкубационный период? Блин, не помню!
— Что-то типа недели, — почесал в затылке Андрей.
— Неделя… Ладно, пусть две. — Росин снова остановился перед опричником. — Всех иностранцев, на Русь приезжающих, нужно на границе останавливать, и под замок на две недели сажать. Обязательно! Если не заболеют за это время — отпускать. И так до первых холодов.
Фогтий что-то неразборчиво пробормотал, всхрапнул и медленно завалился набок.
— Как можно, боярин? — пожал плечами Зализа. — То ж купцы, посольские люди, бояре едут. Почто их под стражу сажать?
— Чтобы холеру не провезли! — Росин сжал и отпустил кулаки. — Тайно чтобы не привезли, понял?
— Как можно бич Божий тайком, ако золотой за щекой, протащить? — покачал головой Зализа. — Не дело говоришь, боярин. Где же это видано?
— Я, я знаю, Семен Прокофьевич, — ударил себя в грудь Костя. — Ты мне поверь просто. Лето подступает, жара скоро встанет, поздно может быть. Нужно до середины лета все сделать, до самого пекла.
— Все в руке Божьей, Константин Алексеевич, — широко перекрестился опричник. — Милостью его живем, он мора не попустит.
— Да ты чего, Семен Прокофьевич? — не поверил своим ушам Росин. — Холера ведь! Ты хочешь, чтобы в Москве холера была?
— Господь не допустит, боярин Константин, — опять перекрестился Зализа. — Что ты такое говоришь?!
— Да не Господь, люди допустить не должны! Люди! Ну, Семен Прокофьевич, ты хочешь, чтобы царь умер?
— Да ты что, боярин!!! — Зализа повысил голос и изменился в лице. — Речи охальные ведешь…
— А ведь может, — Росин понял, что попал в больную точку и решил давить ее до конца. — Может царь умереть. Знаю я, что против него вся эта мерзость придумана, для его уничтожения лазутчика подбирают…
— Нислав! — во всю глотку рявкнул Зализа. — Сюда!
— А?! — бывший патрульный милиционер, сбивая по дороге столы, ринулся на призыв командира.
— Верно ли говоришь, Константин Андреевич, — пересохшим, как присыпанная из печки зола, голосом переспросил Зализа. — Верно ли, что крамола тебе известна, супротив государя нашего Ивана Васильевича затеянная?
Росин понял, что перегнул палку, и хмель из его головы улетучился в считанные мгновения.
— Верно ли… — не дождавшись ответа, начал повторять вопрос опричник.
— Да вы чего, ребята? — первой спохватилась Юля. — Мало ли, что спьяну человек сболтнул? Да пошутил он!
— Да правда, не надо так сразу… Всерьез-то… — послышались с разных сторон другие голоса, и даже боярин Батов, приблизившись к государеву человеку, успокаивающе положил руку ему на плечо: — Полно тебе, Семен Прокофьевич…
— Да… — в нарастающем гомоне никто не понял, что короткую фразу из двух звуков произнес Росин, и ему пришлось повторить: — Да, ведомо мне о крамоле. Знаю!
В зале повисла тишина всеобщего ошеломления. Первым пришел в себя опричник, и закончил свой так и не отданный приказ:
— Нислав, отныне боярин Константин Андреевич под стражей. Доглядывай за ним, ибо головой отвечаешь. Сбирайтесь в дорогу, бояре. Ныне дело государево у нас, а оно спешки требует. Выступаем немедля.
* * *
До замка дерптский епископ домчал за два часа, бросил повод взмыленного, загнанного едва не насмерть коня новому привратнику, взятому начетником из молодых сервов, стремительно поднялся в малую залу, с яростью метнул в стену серебряный колокольчик, стоявший на столе рядом с высоким и тонкогорлым, чем-то похожим на лебедя, кувшином. Пока покатывающиися по полу сладкоголосый звонок издавал жалобно-удивленный перезвон, правитель сбежал вниз, в пыточную, перехватил с верстака широкий нож для снятия кожи, кроваво блеснувший в темно-красном свете жаровни, так же торопливо поднялся наверх.
— Вы меня звали господин епископ? — Служка стоял уже здесь, зябко кутаясь в коротковатую рясу.
— Да, — хозяин замка подступил к нему, сжимая в правом, крепко сжатом кулаке нож, указательным пальцем левой руки приподнял мальчишке подбородок.
Служка мгновенно посерел, став похожим на древние каменные стены, но правитель всего лишь покачал за подбородок его голову из стороны в сторону, вглядываясь в лицо.
— Родинки на теле есть?
— Д-да, господин епископ, — дрожаще кивнул служка.
— Раздевайся.
Мальчонка послушно скинул рясу, под которой оказался совершенно обнаженным.
— Г-господин н-начетник велел п-прачке отдать, — заблаговременно попытался он оправдать отсутствие исподнего, но дерптского епископа этот вопрос интересовал менее всего. Священник обошел мальчишку кругом, заметил на боку расположенные треугольником крупные родинки, измерил пальцами расстояние между ними.
— Руки подними…
На руках у служки тоже ничего не оказалось.
— Опусти руки. Одевайся. Возьми у начетника кадушку и большой бурдюк молока, чтобы наполнить ее хотя бы наполовину. Вели оседлать двух лошадей. Поедешь со мной.
— Н-но у нас в замке… Нет коровы… — осторожно напомнил служка.
— Иди сюда, — поманил его правитель, схватил за загривок и повернул лицом к стене. — Видишь тень от решетки? Когда след этого прута опустится на пол, ты должен стоять здесь с молоком и кадушкой. Иначе ни ты, ни начетник этой тени больше уже никогда не увидите. Пока еще не знаю, почему…
Но мальчишка мгновенно понял, что ничего хорошего подобное обещание ему не сулит, и опрометью кинулся выполнять приказание. Правитель замка подошел к колокольчику, подобрал его, хозяйственно поставил на стол. Подул на ладонь, словно ожегся о серебряную безделушку, потом повернул кресло к тени, на которую указывал служке и уселся, положив руки на подлокотники и следя за перемещением темной полосы с таким интересом, словно перед ним танцевало не меньше десятка полуобнаженных турчанок.
Тени оставалось до пола еще никак не менее двух пальцев, когда в зал ввалился запыхавшийся служка:
— Кони оседланы, господин епископ. Молоко и кадушка приторочены к седлу.
— Что же, ты очень расторопен, — кивнул дерптский правитель. — Сегодня вечером ты получишь за это достойную награду. Какое здесь ближайшее болото?
— Лобицкая вязь, господин епископ.
— Очень хорошо. Мы едем туда. Ты покажешь дорогу.
Расстояние в десять миль застоявшиеся в конюшне войсковые лошади одолели с восхитительной легкостью, почти не запыхавшись. Двое всадников свернули с дороги на некошеный луг, проскакали по нему еще около полумили и остановились неподалеку от низких ивовых зарослей, застилающих пространство на сотни шагов вперед.
— Это именно то, что нужно, — спешился дерптский епископ, подошел в кустарнику, закрыл глаза и развел руки в стороны, ладонями вперед. Некоторое время он стоял неподвижно, потом начал тихонько покачиваться в такт ветру.
Служка ощутил, как у него пересохли губы. Он попытался облизнуть их, потом потянулся к фляге, в которой плескалось слегка подкисленная уксусом вода.
— Не делай этого, — внезапно предупредил правитель здешних земель. — Бери молоко и кадушку и ступай за мной.
— Там же вода! Болото!
Однако священник, не меняя позы, двинулся прямо в заросли. Мальчишка волей-неволей спешился и двинулся следом за ним. Как ни странно, хотя впереди постоянно поблескивала вода, но под ногами не хлюпало, словно епископу удалось нащупать те редкостные в здешних местах кочки, что не проваливаются мгновенно, стоит на них ступить человеческой ноге.
Кустарник закончился, началась рыхлая травяная подстилка, что плавает поверх темной болотной воды, колтыхаясь от мелких волн и проваливаясь от прикосновения обычной жабы — но и здесь священнику удавалось каким-то чудом угадать место, где под тиной и травой скрывается твердая земля. Служка, с полной ясностью сознавая, что по сторонам от проложенного правителем пути таится бездонная топь, старался ступать след в след.
Наконец впереди показался холмик, похожий на человеческую лысину, окаймленную редкой порослью травяных волос. Дерптский епископ выбрался на него, сел, поджав под себя по-турецки ноги, подставил лицо вечернему солнцу. Служка с ужасом понял, что за все это время его господин так и не открывал глаз.
— Садись, отдыхай, — разрешил правитель. — Скоро темнота. Ночью по болотам ходить не надо. Ночью здесь случаются беды.
— Но как же м-мы…
— Не бойся. Скоро все закончится. Осталось совсем чуть-чуть. Я обещаю тебе, все будет хорошо и закончится еще до полуночи. А я всегда выполняю свои обещания.
— Д-да, господин епископ, — согласился мальчишка. — Вот только… Комары… Они нас до утра съедят… М-мы ведь не сможем возвращаться в-в т-темноте?
— Комаров не будет, — дерптский епископ повернул руки ладонями вверх. — Здесь очень свежий ветер. Неужели ты не чувствуешь?
Служка и вправду почувствовал — но ветер показался ему отнюдь не свежим, а темным и затхлым, словно дохнуло холодом из темного зева погреба. И промозглой, пронизывающей до самых костей сыростью… Хотя, какой еще может быть воздух на болоте?
— Да у тебя озноб, мой мальчик? Ты совсем замерз… — удивился дерптский епископ, так и не открыв глаза. — Ладно, в Питхалагарти ночь, так что ничего страшного. Ты видишь меня?
— Да, господин епископ… — удивился странному вопросу служка.
— Это правильно, — кивнул правитель и наконец-то открыл глаза. — Джетс вирст ду стербен, унд ди сееле дайне вирд сих ауф небеса емпортраген, плоть вирд дайне ин ди эрде, инд дас блут возопит ебер нью обители веггехен.
— Что вы говорите? — не понял мальчишка.
— Ты совсем продрог, устал, голоден и хочешь пить, — улыбнулся ему правитель. — Сразу все человеческие муки вместе. Нужно поскорее заканчивать, и избавить тебя от этих неудобств. Встань, и возьми кадушку под днище.
Служка поднялся, выполнив приказание священника. А правитель тем временем принялся рассматривать перстни, украшающие пальцы. Поднял глаза на мальчика:
— Какой из них нравится тебе больше всего?
— Вон тот, красненький в окружении зелененьких.
— Да, он действительно красив, — епископ снял перстень, не такой массивный, как остальные, но куда более дорогой, поскольку его украшал крупный рубин в окружении восьми маленьких изумрудов.
— Что же, если он тебе так понравился, то теперь он станет твоим навсегда, — священник уронил украшение в кадушку.
— Ой! — мальчишка пожирал подарок глазами, но достать его из кадушки не мог, поскольку держать снизу ее приходилось двумя руками. А правитель взял бурдюк с молоком, откупорил и опрокинул в деревянную емкость. — А-а…
— Потом, — остановил его непонимающее бормотание священник. — Инда верден мих ди альтерть-млихен гейсте унд харвинген дизер эрде црен.
— Что, господин епископ?
— Ставь его на землю. Осторожно.
Служка низко наклонился, ставя кадушку с молоком на землю, а дерптский епископ, положив ладонь ему на затылок, умело резанул ножом по горлу. Кровь хлынула в емкость, покрывая белую жидкость рисунком булата, мальчишка захрипел, пытаясь то закрыть рану рукой, то оттолкнуться руками от земли.
— Осторожней, ты меня забрызгаешь, — попросил его епископ. — Успокойся, все уже позади. Зато теперь ты перестанешь мерзнуть и бояться.
Поток живительной молодой крови иссяк, и одновременно обмяк служка, безвольно упав на колени.
Правитель здешних земель оттолкнул его в сторону, позволив телу медленно сползти в воду, а сам остановился над наполненной до краев емкостью, зябко засунув руки в рукава и громко призывая:
— Коммен зи хирхер алле, фер труцицх инд тирхц мих нихт, вер сиет нуд сиенд нихт, вер аух вей акц не знает, придите живые и мертвые, айлукси ерегти нерожденные, коме кновинг анд нот кновинг…
В его речи путались русские и немецкие слова, французские и английские, слова вовсе неведомых на Земле языков, а многие призывы и вовсе не произносились вслух, предназначенные для совершенно иных ушей. Но не смотря ни на что призыв был услышан и понят, и вскоре в воздухе захлопало великое множество крыльев.
Первыми примчались мохнатые крылатые малыши — анчутки, похожие расцветкой и повадками на кошек, но только с человеческими руками и ногами, и рогатой головой. Они тут же устроили воздушный хоровод, ныряя вниз и тыкая мордочки в предложенное угощение. За ними примчались неотличимые от летучих мышей криксы, и почти одновременно полезли из воды пухлые розовощекие младенцы-мавки и голые зеленоглазые лопатницы. Неведомо как возникла золотоволосая полуденница, зачерпнула молоко ладонью, затем еще и еще, но вскоре отступила под напором более голодных гостей. Появился монах-болотник и, раздвинув корявым посохом прочую нечисть, наклонился к кадушке. Примчались веселые берегини с прозрачными стрекозиными крыльями, выбрался на холмик одетый в белые развевающиеся одежды жыцень, несколько толстокожих леших, жадно зашипела неотличимая от болотной гадюки рохля. За более крупными существами подошли маленькие неповоротливые баечники, и мохнатые овинники, помахивающие длинной голой рукой. Зашебуршалась вверх по стенкам кадки всякая мелкая шушера вроде бурых и зеленых моховиков, одетых в травяные юбочки луговых, сереньких лесавок. Под конец появилась ленивая бабка-коровница, обычно ленящаяся ходить сама и тайком катающаяся на телегах от деревни к деревне. Она сунула вперед руки-грабли, согнула их к себе и принялась старательно облизывать.
Вскоре на лысой болотной кочке выросла огромная куча-мала из дорвавшихся до редкостного лакомства самых непохожих существ. Под конец дерптского епископа едва не столкнули в воду — но, по счастью, пир начал потихоньку затихать, а количество собравшихся на острове существ — уменьшаться. После полуночи правитель западного берега Чудского озера остался здесь и вовсе один.
Господин епископ поднялся, подошел к кадушке и достал со дна оказавшийся ненужным никому из нечисти перстень. Добродушно хмыкнул и одел его обратно на палец.
Он прекрасно знал древних обитателей этой планеты, поскольку в шкуре кое-кого из них ему тоже довелось побывать.
Знал, что большинство из них к роду двуногих совершенно безразличны, некоторые доброжелательны, а некоторые и враждебны. Но знал он и то, что два человеческих изобретения оказались несказанно вкусны для древней нежити: хлеб и молоко. Именно ради маленькой порции молока и горбушки хлеба готовы помогать хозяину в его делах овинники, домовые и кикиморы, именно их годами выжидает в темных углах терпеливый рохля, именно за их отсутствие мстят банники, криксы и баечники. Только молоком можно выманить к ненавистному человеческому жилью лесавок, болотников или мавок.
Но знал дерптский епископ и то, что молоко можно отравить — живой кровью. Живая кровь находит себе новую обитель, а душа нежити — пристанище в молочном амулете. И силе этого амулета не сможет противостоять никто из таящихся обитателей подлунного мира.
Священник повернул перстень камнем вовнутрь и сильно сжал, согревая живым теплом. А потом резко вытянул руку вперед и приказал:
— Приведите их к моему дому!
* * *
По иронии судьбы, первой пострадала Инга. Она шла следом за лошадьми, подгоняемая дядюшкой, и внезапно вскрикнула, схватившись за шею.
— Что опять? — недовольно буркнул Картышев.
— Меня кто-то укусил!
— Подумаешь, комары…
Но тут певица поднесла руку к глазам и испустила такой истошный вопль, что все люди мгновенно оглохли, еще минут десять пребывая в блаженной тишине — ладонь девушки оказалась настолько окровавленной, что темные черные капли падали с нее на сочную, изумрудно-зеленую траву, прибивая листву к земле.
Почти одновременно вскрикнул от боли идущий замыкающим Алексей и с ужасом воззрился на змею, вцепившуюся мертвой хваткой ему в голень — но оглохший отряд его не услышал. Парень попытался перебить гадюке спину прикладом, потом отрубил голову мечом — но голова продолжала стискивать добычу, а обрубок с внезапной быстротой выпростал новую голову и вцепился в ногу рядом со старой.
— А-а-а… — воин попятился назад и тут получил самый неожиданный, хлесткий удар: низкой веткой липы по лицу. — А-а-а…
Он рубанул ветку мечом — та бессильно упала на землю, а его принялись жарко охаживать другие. Алексей направил в сторону дерева мушкетон, нажал на спуск, потом еще и еще, и только тут вспомнил, что у оружия не зажжен фитиль.
Всхрапнули и понесли в сторону лошади — Прослав повис на поводьях первой, успевший более-менее оклематься после ран Малохин натянул поводья другой, но чистокровный арабский жеребец, высоко взбрыкивая задними ногами, унесся в чащу.
В воздухе загудело, и на отряд из крон ближайших деревьев ринулись крылатые, рогатые кошки. Они злобно шипели, вцепляясь когтями в руки и лица, хватая людей зубами, пытаясь ударить крыльями. Пожалуй, они смогли бы разорвать людей в клочья, но Зализа перед выходом из замка приказал одеть доспехи — чай, по чужой земле идут — и холодное железо смогло неплохо защитить воинов даже от бесовских когтей.
— Руби, их, руби! — столкновений с мечами и саблями крылатые кошки не выдерживали: они разваливались на куски, в их телах открывались широкие влажные раны, перепончатые крылья рвались в клочья. На несколько мгновений воздух расчистился, и одноклубники, привыкшие больше доверять огнестрельному оружию, торопливо запалили фитили.
— Алексей, что с тобой? — Росин подбежал к вырвавшемуся из объятий липы товарищу.
— Нога… — чуть не плача, ответил тот.
Костя присел, чертыхнулся, увидев висящую на ноге змею, выхватил нож
— Я пробовал… Головы новые отрастают.
— Сейчас… — Росин взялся сперва за голову: всунул нож под верхнюю челюсть, повернул, выдавливая зубы из раны, кинул голову на землю, придавил ее ногой, и тут обратил внимание на тихий зловещий шорох: это расползались в стороны из травы уже изничтоженные было кошки. На телах некоторых из них еще сохранялись следы ран, но большинство казалось совершенно целыми! Крылатые кошки торопливо забирались по стволам обратно в кроны.
— Что там, Костя?! — окликнул его Картышев.
— Сейчас… — гадюку Росин ухватил за хвост, потянул, отрывая тело от земли, и только после этого повернул подсунутый под зубы нож. Змея, судорожно дергаясь из стороны в сторону, закачалась головой вниз и Костя, раскрутив ее над головой, зашвырнул далеко в лес. Почти одновременно в кронах снова возник гул.
— Берегись! — Костя, не успев достать другого оружия, вскинул над головой нож, который тут же вошел на всю длину в пятнистую бело-рыже-черную кошку, но та в ответ вцепилась зубами и когтями передних лап в руку, а задними принялась старательно драть рукав рубахи и кожу под ней. Кровь заструилась ощутимым ручейком, затекая подмышку.
— Ах ты… — Росин свободной рукой сжал кошке горло, но та на явно смертельную хватку не отреагировала никак, продолжая жадно пережевывать руку. Он ухватил ее сверху за голову, сжал челюсти с боков, раздвигая их, а потом резко развернул голову на сто восемьдесят градусов… А потом еще и еще. Голова крутилась, словно была закреплена на шаровой опоре, и временами резко дергалась, пытаясь уколоть его короткими, но острыми рожками.
— На землю положи!
Костя присел, опуская кошку к земле, и Алексей несколькими сильными ударами приклада размазал ее в бесформенную кучу.
Грохнул выстрел, потом еще и еще. Росин повернул голову, и увидел, как воздухе кружатся клочья шерсти, обрывки крыльев. Еще выстрел — горсть крупнокалиберного жребия попала точно в цель, и летающую кошку разорвало, словно это было не живое существо, а снаряд праздничного салюта. Хотя… Костя посмотрел вниз, на отползающий в сторону липы бесформенный комок шерсти. Живое ли это существо?
— Дракон!
Это было уже слишком: по тропе, с которой они свернули на эту самую поляну, двигалась огромная шестилапая тварь, с восемью красными глазами по сторонам от огромных челюстей, полностью заменяющих ей голову. По темно-бурой спине тянулись ровные ряды шипов, больше похожих на акульи зубы.
Люди попятились к краю поляны — и по спинам их тут же захлестали ветви деревьев. Сквозь доспехи их удары почти не ощущались — но вот то, что ветви пытались выхлестнуть глаза, заставило всех выскочить назад на траву.
Приближающееся чудовище зарычало и смрадно дохнуло пламенем.
— Господи, ежы и-и-си, да приблизится царствие твое, да пребудет милость твоя… — боярин Батов, держа перед собой в далеко вытянутых дрожащих руках нательных крест, читал молитву, путая слова и целые фразы.
Росин, больше доверяя тяжелому свинцу, наконец-то схватился за огниво и запалил фитиль мушкетона.
— Отче наш, Иже еси на небесах! — голос боярина зазвучал уже более уверенно. — Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нал долги наша, якоже и мы…
Костя поднял оружие и с изумлением понял, что дракон тает — становится полупрозрачным, местами обрывочным.
— Морок!
Под ногами с тихими смешками раскатились в стороны серые и бурые комочки, а в воздухе опять зашелестели крылья — на них ринулись летучие мыши. Впрочем, после котов они показались совершенно нестрашными, несмотря на всяческое желание куснуть маленьким ртом или царапнуть лапками. Люди просто отмахивались от них, с ужасом взирая на окружающие деревья, неожиданно оказавшиеся смертными врагами. И прислушивались к тихому шелесту, с которым забирались обратно в кроны воскресшие снова крылатые коты.
— Сюда, дети мои, идите за мной, — показался на краю поляны лысый монах с одутловатым лицом. — Торопитесь, пока не пришла ночь.
Монах повернулся и неспешным шагом двинулся в самую чащу — и ни одно дерево его не тронуло. Люди рванулись следом — ни одна веточка, ни один листок не шелохнулся. Воины вздохнули с облегчением, вытягиваясь в цепочку за новым проводником.
Вскоре чаща стала редеть, деревьев вокруг становилось все меньше и меньше, что, с учетом последних событий, казалось благом, не смотря на то, что вокруг стали проглядывать черные бездонные окна, поджидающие беспечные жертвы, а под ногами непрерывным ковром стелилась тонколистая болотная осока.
— Святой отец, — окликнул проводника Прослав. — А куда мы идем? Нам бы к северу повернуть…
Монах никак не отреагировал, продолжая уверенно шагать по широко раскинувшейся топи.
— Святой отец!
Монах ускорил шаг.
— Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный, — забормотал Батовский смерд, тихонько осенив себя крестом. — Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь… — и Прослав перекрестил спину идущего впереди монаха.
Тот внезапно рассыпался в комок тины, потом медленно вырос до прежнего вида, но уже лицом к смерду и гневно прокричал:
— Что бы у тебя рука отсохла, сын мой!
Под мужиком разверзлась хлябь, и он провалился сразу по грудь.
— Это болотник! — заорал Прослав, в отчаянии лупя руками по разлетающейся в стороны ряске. — Не монах, болотник!
Росин моментально вскинул мушкетон и нажал на спуск. Грохнул выстрел, заряд картечи вырвал у монаха половину бока, обнажив состоящее из тины и водорослей нутро.
— Да пропадите вы пропадом, — сплюнул серым лягушонком монах, раскинул руки в стороны и упал на спину, расплескав в стороны холодную воду, и моментально в ней утонув.
Одновременно люди почувствовали, как опора под ногами исчезла, и они стали проваливаться в рыхлый влажный торф, моментально с жадностью облепивший подаренную нечистью добычу.
— А-а! — теперь уже от предсмертного ужаса кричали почти все.
В воздухе опять зашелестели крылья, крылатые кошки и мыши опять накинулись на практически беззащитных воинов, кусая их за носы и щеки, раздирая когтями руки. И одновременно с этим нечто странное стало происходить снизу, в глубине.
Костя Росин ощутил, как по бултыхающимся в вязкой жиже ногам пробежало нечто колкое, их развели в стороны, остановили, потом чьи-то зубы впились в бедро.
Он взвыл, задергался — в этот миг тонкая травяная пленка раздвинулась и снизу появилась очаровательная девичья головка с большими зелеными глазами и длинными волосами, неотличимыми от стелящейся вокруг травы.
— Какой милый, — хихикнула девушка, взметнула из черной жижи руки, схватила Костю за уши, подтянула к себе и крепко поцеловала. Потом ухнулась вниз, и Росин ощутил острую, непереносимую боль в паху. Он рванулся вверх и вперед, молотя руками, как трепещущий на ветру флажок, и каким-то чудом смог выползти на поверхность.
Сверху тут же спикировала крылатая кошка, чиркнул когтями по щекам и снова взмыв в высоту. Опять спикировала — Костя почувствовал сильный рывок под подбородок, и сзади в волосах тут же кто-то запутался. Росин схватился за голову, вырвал какое-то маленькое мохнатое существо зеленого цвета, в ярости отшвырнул его далеко в сторону, запоздало поняв, что с него сорвали шлем.
— Ты забыл, милый… — на этот раз боль пришла от ягодиц.
Росин обернулся, и обнаружил, что высовывающаяся до пояса из воды девушка держит в руках мушкетон и пытается уколоть его штыком еще раз. Он выхватил меч — и тут же получил сильнейший удар в лицо, от которого опрокинулся на спину.
— Плохо ведете себя, дети мои! — монах ходил между воинами и лупил всех узловатым посохом куда не попадя. Сверху падали кошки и мыши, снизу носились какие-то мелкие разноцветные твари, то тут, то там из воды выпрыгивали обнаженные девушки, кого-то кусая, кого-то целуя, в кого-то тыкая потерянным оружием. Все это можно было бы принять за дурной сон — если бы не боль между ног, не текущая на глаза кровь, не холод от мокрой одежды.
Сзади кто-то маленький влез под подол рубахи и пополз вдоль спины, сдирая с нее кожу. Росин взвыл, закатался с боку на бок, пытаясь раздавить нового врага, но ничего на получалось, да вдобавок болотница, весело хихикая, продолжала подкалывать его штыком. Он вскочил, отбежал на несколько шагов и принялся со всей силы плашмя лупить себя мечом по спине. И тут вдруг возникло такое ощущение, словно он вогнал себе под ребра раскаленный костыль. Костя захрипел, упал на колени — и из тины тут же вынырнула все та же девица:
— Ты ко мне, мой милый? — она снова ухватила его за волосы и сладко поцеловала, просунув в распахнутый от боли рот свой длинный, мерзлый язык и обмахнув им ротовую полость. Рот мгновенно наполнился чем-то липким и волокнистым, его не удавалось ни закрыть, ни продохнуть. Теперь, давясь до тошноты и задыхаясь, Росин забыл и про меч, и про боль в спине, и про падающих сверху кошек. Схватившись за горло, он привстал и, полусогнувшись, кинулся бежать, не разбирая дороги, сопровождаемый пинками и уколами. Далеко не сразу он сообразил, что дрянь изо рта можно просто вынуть, остановился и принялся выгребать сочную, зеленую тину, пропитавшуюся его слюной и ставшую вязкой и слизистой.
— Как ты мог, милый? — внезапно вырвалась из-под ног болотница и снова его поцеловала.
Он попытался снова вырвать изо рта тину, не слыша задорного детского смеха кружащихся вокруг девушек, но едва ему удалось сделать вдох, как к губам опять прижались бесцветные холодные губы, а во рту зашевелился чужой язык.
Костя, тряся головой и ковыряясь пальцами во рту снова бросился бежать — бежать, бежать, бежать, не разбирая дороги и не глядя под ноги. Он даже не понимал, что ступает на подернутые ряской лужи, пересекает топкие окна, проносится по скрывающей ямы тонкой траве — никуда не проваливаясь и не замачивая ног. Краешком сознания он осознал, что впереди тянется темная полоска леса: места, где болотных тварей нет, и быть не может, и Росин со всех ног мчался туда, пока со всего хода не врезался головой в толстый ствол низкорослого кряжистого дуба. От удара он отшатнулся на несколько шагов и рухнул на землю.
— Ух-ху! — неожиданно гыкнул дуб. — Чужак!
— Чужак, чужак! — поддакнули окружающие деревья и принялись хлестать человека ветвями. Росин попытался прикрыть лицо руками, но дуб вытянут из земли толстый, похожий на бычий кнут корень и с громким щелчком ударил гостя так, что удар пробил и доспех, и поддоспешник, и остро отдался в груди. Второй удар обрушился на ноги, и Косте показалось, что они переломаны, раздроблены, перестали существовать. Корень стал подниматься для нового удара, и человек, загребая землю руками, попытался отползти в сторону. К его удивлению, Росину удалось подняться сперва на четвереньки, потом и на ноги. Он отбежал в сторону, но и тут деревья, угрожающе покачиваясь, начали приговаривать: — Чужак, чужак, чужак, — и тянуть из земли свои корни.
Подгоняемый непрерывными ударами, Костя бежал, падая и вставая, всю ночь, и день, и еще ночь, пока неожиданно не оказался на открытом пространстве — и бесконечная пытка не оборвалась. Его разум оказался еще способен испытать нечто, похожее на удивление — и он удивился тому, что на поляне собрался почти целиком весь отряд ушедших в набег витязей, выглядящих так, словно их пропустили через мясорубку. Удивился тому, что стоящий на краю поляны замок ему странным образом знаком. Но тут последние силы в истерзанном теле иссякли, и он рухнул среди своих друзей лицом вниз.
* * *
В общем-то, зрелище того, как окровавленные русские храбрецы сами со всех ног выскакивают из леса и падают оземь у его замка дерптскому епископу понравилось. Поначалу они выскакивали по одному, потом по двое, затем непрерывной чередой. Однако вскоре поток начал иссякать, и правитель понял, что прибежали все.
Он спустился вниз, позвав с собой как раз вернувшегося от Сапиместки Флора, вышел из замка. Анчутки в это время подносили и скидывали у ворот вооружение налетчиков, и священник с усмешкой услышал как охнул за спиной его главный телохранитель. Однако Флор был достаточно храбр, да и навидался на службе всякого, а потому в бега не ударился, всего лишь спрятавшись за спину господина и мелко крестясь.
Правитель прошел вдоль тяжело дышащих, изможденных людей, и понял, что триумф его безнадежно испорчен — побежденные находились в таком состоянии, что просто не осознавали своего ничтожества и своего поражения. Убей их — только обрадуются, поскольку смерть принесет им долгожданный отдых.
Пытай — они слишком истерзаны, чтобы лишняя боль вызвала достаточный в качестве наказания страх. Он нашел певунью в разодранном в клочья платье, поднял за плечи, жалостливо покачал головой:
— Эк тебя… Ладно, сейчас станет легче.
— Мой господин, — узнав епископа, прошептала Инга и облегченно улыбнулась. — Вы нашли меня…
— Флор! — щелкнул пальцами правитель. — Согрейте кадку воды, и мою постель, приготовьте чистые тряпицы. Затопите в малом зале камин. Всех остальных — в подвал. Оружие соберите, да отдельно бросьте. Посмотреть хочу, чем воевали вороги.
— Всех вместе согнать, господин епископ? Али баб… — Флор откровенно ухмыльнулся. — Али баб отдельно?
— Баб? — правитель еще раз окинул взглядом лежащих пленников, и увидел только одну. — Девку ко мне в подвал. На Андреевский крест привязать.
— Слушаюсь, господин епископ.
Встреча со своим повелителем придала Инге немного сил, и она смогла дойти до малого зала своими ногами, лишь немного опираясь на руку священника. Однако, стоило ее телу погрузиться в теплую воду кадки для купания, как глаза тут же сомкнулись, и она заснула.
Дерптский епископ приказал позвать замковых прачек, и они с предельной осторожностью отмыли девушку от крови, замыли раны и кровоподтеки и перенесли ее в постель. Стало ясно, что ни сегодня, ни завтра она не сможет ни петь, ни даже ходить. Прочие пленники находились в не лучшем состоянии, и о допросах или развлечениях с ними на ближайшие дни стоило забыть.
Да и какие тут могут быть развлечения с пленниками? Ни ямы с крокодилами нет, ни цепных тигров. Ни даже камеры со змеями, в которых обреченные часами скребут ногтями стенку, стремясь забраться повыше от ядовитых тварей, или сутками стоят на одной ноге в окружении гибких тел, боясь на кого-нибудь наступить.
Впрочем, бывают и более утонченные способы времяпровождения. Например, беседовать с посаженным на кол раджой о красоте весенних цветов, обещая за каждый неучтивый ответ сажать рядом на колышек по его ребенку. Или расспрашивать у раздавливаемого камнями, что он видит и чувствует, вступая в царство мертвых. Благодаря этим тщательным научным изысканиям его монахами даже была написана великая — можно не бояться этого слова — «Книга Мертвых». А смерть многих обреченных оказалась далеко не напрасной, послужив средством постижения неизвестного, подвигнув развитие науки. Интересно, уцелела ли она, эта книга? Или смыта беспощадными потоками времени?
Дерптский епископ вздохнул: приключение, начавшееся, как неприятность, продолжившееся напряженным преследованием и закончившееся безусловной победой, осталось позади. Давненько он так не взбадривал свою кровь! Разве войну начать? Но война — это совсем другое. Это большие армии, неожиданные удары, крупные сражения, где можно потерять свое тело. Нет, с маленьким приключением, охотой на отрядик, неспособный дотянуться до него через головы сотен воинов, подобную опасность не сравнить. Вот разве просто охоту организовать…
Но пока в распоряжении правителя имелись только вино и вытянувшая вдоль подноса грустную мордочку, целиком запеченная лань.
Глава 2. Ниточка
— Все-таки, ты диво, как хороша, Инга, — с улыбкой покачал головой епископ, и привлек ее к себе, посадив на колени. Провел костяшками полусогнутых пальцев по виску, поправляя локон, поморщился, обнаружив там все еще не заросшую ссадину.
— Что? — моментально почувствовала перемену его настроения певица. — Что там?
— Ничего, — он прикоснулся губами к ее виску, потом глазу, щеке, прильнул к губам. — Ты удивительно прекрасна, Инга.
— Мой господин, — немного отодвинулась она и облизнула пересохшие губы. — Мой господин, вы не станете казнить моих друзей? Они ведь не знали, что я нахожусь здесь добровольно. Они хотели спасти меня из плена.
— Казнить? — пожал плечами священник. — Хорошо, если ты этого просишь, то не стану. Их можно продать туркам или французам в рабство, можно оставить сидеть в подвале, можно отдать на суд Ордену.
— А отпустить нельзя?
— Отпустить? — дерптский епископ рассмеялся. — После того, как они разграбили замок и убили многих моих кшатриев? Если их отпустить, то увидев безнаказанность твоих друзей, это захочется сделать кому-нибудь еще. Должно пройти хотя бы несколько лет, прежде чем смертные забудут их преступление.
— Несколько лет, — вздохнула девушка. — Как долго…
Хозяин замка, глядя на нее, тоже покачал головой: какая чудесная игрушка! Какой голос, какая красота… Такие рождаются раз в тысячу лет. Что станет с ней через полтора месяца, когда по договору его право на это тело истечет, и он на два года снова станет покорным рабом? Что станет с обитателями подвала или пыточной камеры он примерно представлял. Но что станет с ней?
— Спой мне, Инга, — попросил он.
— Спою, — она поднялась, скинула с плеч платок и закружилась в танце:
Гаснет в зале свет и снова Я смотрю на сцену отрешенно. Рук волшебный всплеск — и снова Замер целый мир заворожено. Вы так высоко парите, Здесь, внизу меня не замечая. Но я к вам пришла, простите, Потому, что только вас люблю…Под чудесные слова еще не родившегося Резника она плыла по залу, гибкими пальцами распуская шнуровку корсажа, позволяя падать пышным юбкам и раскрываться лифам. Когда последний куплет угас, она замерла перед креслом, обнаженная и смущенная:
— Я все еще некрасивая, да? В синяках и ссадинах?
Против этого смущения и самоотдачи было трудно устоять, и священник поднялся с кресла, расстегивая крючки колета, а потом обнял сказочную певунью и опустил ее на густую медвежью шкуру.
Она оказалась так счастлива его вниманию и близости, что на этот раз он совершенно забыл о своем удовольствии, упиваясь ее эмоциями и ее наслаждением. А когда Инга затихла, снова вспомнил о том, что эта женщина на свете не одна такая, что должны быть еще чистые и красивые существа. Интересно, насколько они отличаются от певицы?
Он осторожно вытянул руку у девушки из-под головы, поднялся, оделся, спустился в подвал и остановился перед пленницей, привязанной к широко расставленным перекладинам андреевского креста. Взял с полки над очагом запасной факел, зажег его в жаровне, осветил несчастную получше. Разумеется, никому и в голову не пришло ни помыть ее, ни переодеть. За прошедшую неделю часть кровяных потеков на ее теле отсохла и теперь свисала лохмотьями, разодранная едва ли не на ленты и лоскутки одежда также частью свисала, частью настолько пропиталась кровью и прикипела к телу, что казалась с ним единым целым. Картина получалась столь ужасающая, что придумать и нарисовать подобное оказался не способен ни один художник и ни один проповедник — хотя святые книги всех веков горазды описывать самые непереносимые ужасы. Волосы тоже слиплись и теперь напоминали застывших от холода змеи, разлегшихся у нее на плечах и груди.
Хозяин замка занес было руку, чтобы коснуться соска — и тут же опустил. Никакого чувства, кроме отвращения пленница у него не вызывала. Даже замковые прачки или лоснящиеся дерптские горожанки не порождали в душе такого чувства отторжения.
— Ты знаешь, что с тобой станет? — поинтересовался он. — Я расскажу. Твое гнездо похоти мы выжжем пламенем, а потом поместим туда серебряного ежа. Он будет сидеть внутри, раздирая все вокруг себя, но не даст там ничему загноиться. Потом станем вырезать из твоего тела тонкие кожаные ленточки, а раны посыпать солью, и скоро ты станешь похожа на распустившейся бутон лилии. Потом раздробим пальцы. Каждую косточку, каждый сустав, и станем так подниматься выше и выше, пока руки не станут…
Но во взгляде девушки не читалось никакого страха или волнения, и господину епископу внезапно стало скучно. Он прекратил пересказ подслушанной в этой самой камере речи, отошел к верстаку, поднял нож. Может, просто заколоть ее и выбросить, чтобы перед глазами не маячила? Нельзя, он обещал певунье, что не станет трогать ее друзей.
— Ладно, — хозяин замка разжал руку и выронил нож на темные доски. — Пусть этим через полтора месяца занимается сам…
— Господин епископ! — прозвучал со стороны лестницы запыхавшийся голос. — Там у ворот стоит дама. Она утверждает, что приехала к вашему гостю, барону Анри дю Тозону.
— Вот как! — круто развернулся священник. — Так это же прекрасно! Сбегай на кухню, и пусть они принесут сюда горячее жаркое, пару разных салатов и вина трех… Нет, четырех сортов. Даму я провожу сюда сам.
Грубый привратник, еще неделю назад вместе с отцом пахавший землю, не упустил возможности показать знатной даме свою власть, и не пустил ее даже во двор. Она так и стояла на улице, рядом с небольшой усталой лошадкой, больше смахивающей на пони.
Дерптский епископ, погрозив грубияну кулаком, вышел на улицу и почтительно приложил правую руку к груди, оглядывая гостью с головы до ног.
Голову дамы украшали ее собственные волосы, перевитые голубой лентой и уложенные поверх темного платка с золотым шитьем по самому краю. Платок, в свою очередь лежал на золотой диадеме. Румяные щеки, чуть вздернутый носик. Над правым ухом сверкает жемчужный, сделанный в виде лилии аграф, который дополняют жемчужные же серьги. От вечерней прохлады ее оберегало синее атласное платье, поверх которого было одето парчовое сюрко без боков с длинным шлейфом, причем юбка имела спереди высокий разрез — видимо, специально для удобства верховой езды. Рукава тоже имели разрезы, показывающие светлый шелк подкладки. Правая рука ее лежала на поясе, и на ней соблазнительно поблескивали алым и зеленым светом камни нескольких перстней.
— Господин епископ, если не ошибаюсь? — мило улыбнулась дама.
Хозяин замка протянул руку, и гостья, полуприсев, почтительно прикоснулась к ней губами.
— Проходите, госпожа…
— Регина Болева, — дама сделала книксен, склонив перед правителем голову. — Я ищу барона Анри дю Тозона. Он сообщил мне, что имеет честь гостить в вашем замке.
— О, не то слово, — дружелюбно рассмеялся хозяин. — Он просто не может собраться с силами, что бы его покинуть. Ну, да вы сами в этом вскоре убедитесь. Я прикажу слугам перенести ваши вещи.
— Я без вещей, господин епископ, — виновато развела руками гостья. — Как-то вдруг возжелалось отправиться в путь… Не захотелось тратить время на сборы. Купила лошадку на рынке, и сразу отправилась.
— Привратник примет коня, — кивнул господин епископ, подавая ей руку, — не беспокойтесь. Идемте, я отведу вас к барону. Наверное, вы голодны? Я прикажу накрыть вам обед на двоих.
Молодая женщина с интересом покосилась на кавалера, и доброжелательно улыбнулась, понимая, что хозяин замка посвящен в их с французским дворянином маленькую тайну.
Они поднялись по лесенке, вошли в выстеленный шкурами и коврами малый зал, пересекли его. Гостья с интересом покосилась на отдыхающую на полу обнаженную девицу, которая при их приближении прикрылась краем медвежьей шкуры — втянула щеки, сдерживая эмоции: однако весело тут епископ с бароном проводят время! Что-то ей пораскажет дорогой Анри по этому поводу?
Следом за правителем Регина шагнула в дверь за камином, спустилась в подземелье и испуганно вскрикнула, увидев выложенные черепами стены и неровный белый пол. Повсюду стояли устройства, назначение которых не вызывало ни малейшего сомнения: усеянное гвоздями кресло, тиски, верстак с различными ножами, щипцами и металлическими масками. На поставленном вертикально андреевском кресте шевельнулась освещенная мрачным светом жаровни женщина, подняла голову. При виде свисающих с нее ошметков кожи, Регина охнула — у нее перехватило дыхание, и гостья смогла только испуганно поднести руку ко рту.
— Проходите к столу у стены, госпожа Болева, — гостеприимно предложил ее кавалер. — Сейчас слуги принесут угощение.
— А-а, — попыталась что-то ответить женщина, но ни единого слова произнести не могла.
Дерптский епископ с наслаждение наблюдал за тем, как у нее изменилось выражение лица, как побелела кожа, как она лихорадочно пытается что-то решить для себя, и что-то произнести вслух. Какой разгул эмоций! Какая сила переживаний! Вот тут есть с чем поразвлечься… Не то, что пленная русская девка, бесчувственная, как бамбуковая палка.
— Присаживайтесь, — хозяин замка поднялся на возвышение, на котором стоял его письменный стол, приглашающе отодвинул стул. — Сейчас помощник палача выпустит господина барона из нюрнбергской девы и он составит вам компанию. Или, точнее, вы составите ему компанию, поскольку именно для него накрывается обед. Он, знаете ли, поставил именно роскошный обед с вином, фруктами, салатами и жаренными куропатками условием того, чтобы пригласить сюда очередную грешницу.
— Какую грешницу? — у гостьи наконец-то прорезался голос. Правда, теперь он стал тихим и очень сиплым.
— Виновную в супружеской неверности, — с готовностью пояснил хозяин. — Я, видите ли, являюсь епископом Дерпта и окрестных земель, и поставлен Господом следить за соблюдением его заветов и заниматься борьбой с грехами человеческого рода. Согласитесь, кто-то же должен за этим наблюдать, и карать отступников от Божьих заветов? Вы садитесь, садитесь. Вот видите, Анастас уже несет поднос с салатами.
Женщина послушно опустилась на предложенный ей стул.
— Так на чем мы остановились? — задумчиво почесал нос правитель. — А, на грехах. Вот эта девица, например, преступила заповедь «не укради», — епископ указал на распятую у креста Юлю. — Как вы думаете, она теперь раскаивается в своем грехе? Несомненно! Еще неделя-другая мук, и она несомненно очистится от прегрешения искренним покаянием и душа ее сможет предстать чистой пред Господом нашим. Так что, я смогу спасти бессмертную душу человеческую от власти Диавола. А даже одна спасенная душа — это великий подвиг на ниве служения. Посмотрите на кресло святого Иллариона, уважаемая госпожа Болева. Вы только подумайте, сколько душ смогло очистить лишь оно одно! Правда, сейчас оно пустует, но это ненадолго.
Женщина уперлась взглядом в утыканное гвоздями кресло, и ее начала бить мелкая дрожь.
— Не пугайтесь, так, дорогая Регина, — ласково погладил ее по голове хозяин замка. — В нем совсем не больно. Когда грешнику начинают дробить суставы на пальцах или кости ног, он совершенно забывает про нежное прикосновение гвоздей, уж поверьте моему опыту…
Господин епископ улыбнулся, ощутив, как дрогнула гостья под его рукой. Он увидел, как в пыточную спустился помощник палача, призывно щелкнул пальцами и указал ему на нюрнбергскую деву:
— Выпусти дю Тозона и помоги ему подойти к столу. Когда он откушает… — хозяин улыбнулся и снова обратился к женщине: — Вы знаете, сегодня у господина барона знаменательный день. Он искупил свои грехи за занятие богопротивным ремеслом и общение с Нечистым, пособничавшем в его гнусных опытах, и готов предстать перед Богом. Когда он отобедает, Курт поможет ему принять последнюю муку, достойную муки искупления грехов, принесенной Господом вашим, Иисусом Христом и предстанет перед его светлым ликом. Так что, возрадуйтесь вместе с нами этому великому деянию, проводите его в последний путь, ну, а потом… — хозяин многозначительно замолчал… — Да, ну, об этом потом. Извините, я вас покину. Как вы верно заметили, меня ждут выше этажом.
— Вы… — тихо пискнула гостья и тут же испуганно замолкла.
— Да? — с готовностью остановился правитель.
— Вы, — еле слышно продолжила она. — Вы караете других… А сами…
— Что поделать, — развел руками хозяин замка. — Человек слаб. Вы даже не представляете, госпожа Болева, какое огромное наслаждение умеют доставлять некоторые женщины. За эти минуты любой человек согласится гореть в аду целую вечность. Хотя… Я надеюсь, что Господь зачтет мне старания по истреблению греха на земле нашей, множество спасенных из объятий Диавола душ и не станет карать меня столь уж строго.
Он пошел к выходу, жестом подозвав к себе помощника палача и тихо приказал:
— Курт, я обещал алхимику, что если он вызовет сюда эту женщину, то получит вкусный обед и смерть. Я никогда не нарушаю своих обещаний, а потому он должен вкусно поесть и сладко попить, сколько только сможет или пожелает, и умереть. Правда, я не говорил ему, какой станет эта смерть, а потому постарайся, чтобы наша гостья очень сильно не захотела оказаться на его месте.
— Как прикажете, господин епископ, — поклонился кат.
Ступни епископа бесшумно коснулись каменных ступеней, и вскоре он оказался в зале.
— Кто это был? — спросила Инга, стоило правителю показаться из дверей.
— Так, одна злостная грешница, — пожал он плечами.
— Зачем она тебе нужна? Что ты хочешь с ней делать?
Певица успела одеться, а потому вопрошала с гневом, выпрямившись во весь рост, не чувствуя свойственной всякой наготе незащищенности.
— Да ты, никак, ревнуешь? — приподнял брови правитель. — А не ты ли называла себя моей рабой и соглашалась быть тем, кого я пожелаю, и принимать любые мои пожелания, как счастье?
Дерптский епископ подошел к столу и уселся в кресло.
— В данный момент я хочу поесть. Уж очень аппетитно выглядел накрытый внизу стол. Ты что-нибудь имеешь против?
— Нет, мой господин, — после долгого мучительного колебания признала поражение певица и села в кресло с другой стороны стола.
— Отлично. Тем более, что мы уже очень давно не пробовали жаренных куропаток и красного вина.
Вышколенных за годы службы слуг в замке, стараниями русских налетчиков, почти не осталось, но и вновь набранные выполнили пожелание правителя довольно быстро. Дерптский епископ не спеша обсасывал косточки маленьких птичек, запивал их мелкими глотками вина и прислушивался к происходящему в подвале.
Он пытался представить себе, какие танталовы муки испытывает сейчас сбежавшая от мужа гостья, какие эмоции, какие переживания, какой ужас роятся в ее душе, и на губах его невольно возникала легкая улыбка. Он настолько погрузился в сопереживания со своей жертвой, что даже забыл про существование певуньи, про свое обычное желание восхищаться ее голосом снова и снова — и Инга, почти не прикасаясь к еде, осушала один кубок за другим.
До чего все-таки интересно играть со смертными в игры, которые они сами придумали, и от участия в которых так и не научились получать истинного удовольствия!
Пожалуй, выиграй сейчас госпожа Болева этот заход, не поддайся на его правила, не сверни в единственные оставленные незамкнутыми ворота — он только порадовался бы вместе с ней и искренне восхитился ее мужеством. И может быть, даже отпустил бы, вознаградив за твердость — потому, что другого удовольствия от нее получить бы не смог, а ломать столь совершенное произведение Создателя, как человеческое тело просто так, без всякого смысла он не мог. Вся его сущность, нацеленная на поиски плоти и обладание ей, наслаждение доступными материальным существам возможностями — хоть на протяжении несколько кратких мигов их существования, все это не позволяло демону калечить и истреблять смертных с той легкостью, с какой они сами осуществляют подобные деяния.
Скрипнула узкая дверца за камином, и в малую залу вошла белая, как январский снег, гостья барона дю Тозона и остановилась, не доходя до стола несколько шагов.
— Вы уж отобедали, госпожа Болева? — удивился хозяин замка. — Значит, никаких дел в этом мире у вас больше нет?
— Я… — хрипло начала она, запнулась, сглотнула и попыталась еще раз: — Я могу… Я могу доставить очень большое наслаждение…
— Вот как? — не поверил господин епископ. — Интересно, каким образом?
— Лю… — она опять запнулась. — Любым…
— Вот как! — Инга с громким стуком поставила кубок на стол. — Ты решил завести себе новую подружку?!
— Еще не знаю, — пожал плечами правитель. — Ведь таких прекрасных девушек, как ты, в мире больше не существует. Ты красива от пальцев ног и до кончиков волос, у тебя сказочный голос и горячее сердце, ты ласкова, как теплый весенний ветер и преданна, как моя собственная плоть. А кто такая она? Обычная грешница, которой надлежит гореть в Аду, но которую можно от этого спасти, пусть даже вопреки ее собственному желанию.
Дерптский епископ думал, что белее снега не бывает ничего, но гостья побелела еще сильнее. Инга же зарумянилась, вновь взяла кубок со стола, и правитель понял, что с ее стороны никаких возражений больше не последует. Во всяком случае, в ближайшие минуты. Итак, госпожа Болева не выдержала испытания и проиграла игру в первом же выходе. С одной стороны, священник испытывал разочарование, с другой — он понимал, что наконец-то получил женщину приятную как внешне, так и готовую выложиться целиком и полностью во имя его наслаждения. Будет интересно сравнить ее с певуньей. Вот только сделать это нужно так, чтобы сама Инга не испытала обиды или уколов ревности — терять ее саму или даже ее любовь или преданность хозяину замка никак не хотелось.
— Может быть, она умеет танцевать? — спросил то ли себя, то ли певицу господин епископ. — Давай, попробуй. Станцуй!
Женщина, бесшумно ступая по шкурам и коврам, принялась кружиться, подходить и отступать, слегка приподнимая длинные юбки, поворачиваться, взмахивая руками. По всему было видно, что ей не хватает кавалера — она танцует с воображаемым партнером.
— Ничего не вижу… — недовольно поморщился священник. — Только руки мелькают. Ни шагов, ни движений. Ну-ка, скинь эту одежду!
Гостья дернулась было что-то произнести, но тут же подавила возражения в зародыше и принялась расшнуровывать корсаж. Вскоре сюрко упало на пол, следом за ним туда же легло атласное нижнее платье, и дама осталась в одной камизе. Некоторое время она колебалась, с надеждой глядя то на хозяина, то на его подругу, а потом скинула лямки рубашки и выступила из нее вперед полностью обнаженная.
Теперь дерптский епископ смог оценить подарок алхимика в полной мере. Госпожа Болева имела не очень большую, но высокую и молодую грудь, которую приятно стиснуть в ладони, которая не болтается в ней опустевшим кожистым мешком. Не очень широкие бедра — но и костяшки не выпирают из-под кожи, как у изможденного голодом ослика. Легкий теплый жирок ощущается и на талии — не портя фигуру, а лишь делая ее формы мягкими и покатыми. Та самая красота, которую можно считать идеальной — не приторная, но и ощущаемая в каждом изгибе тела. Пожалуй, новая женщина оказалась даже красивее Инги. Хотя, конечно, никак не могла обладать хоть одним столь же уникальным даром.
— Так что ты умеешь делать? — на всякий случай поинтересовался правитель. Вдруг Создатель решил подшутить над ним и преподнести еще один неожиданный подарок?
— Все, что прикажете, мой господин, — все еще тихо, но уже вполне установившимся голосом ответила госпожа Болева.
— Что же, посмотрим, — кивнул дерптский епископ. — Инга, раздвинь, пожалуйста, ноги.
— Я что, «лесби», что ли? — немедленно возмутилась певица.
— Вопрос не в твоем желании, а в ее послушании, — спокойно сообщил священник.
Как ни странно, но для изрядно подвыпившей девушки этот аргумент показался вполне достаточным, чтобы раздвинуть ноги и поддернуть наверх подол.
Гостья жалобно посмотрела в сторону священника, но тот только поднял со стола кубок и отхлебнул немного вина, полуприкрыв от удовольствия глаза. Госпожа Болева, все еще не веря в серьезность отданного ей приказания, подошла к подруге хозяина замка, опустилась на колени, в последний раз покосилась в сторону развалившегося в кресле мужчины, опустила голову и засунула ее Инге под подол.
Теперь дерптский епископ стал наблюдать за поведением певуньи. Поначалу та сидела с полным безразличием во взгляде, потом облизнула губы, дернулась вперед всем телом. Замерла, откинулась назад, издала жалобный стон. Поставила кубок на стол, едва не уронив его, прикусила губу, откинув назад голову. Глаза ее закрылись, она тяжело задышала, поминутно облизывая постоянно пересыхающие губы.
«Пожалуй, будет интересно попросить ее спеть хорал именно в такие минуты, — подумал священник. — А еще интереснее будет понаблюдать и послушать это со стороны.»
Но теперь просить девушку петь было уже бесполезно — она вряд ли слышала сама себя и чувствует что либо, кроме языка госпожи Болевой. А потому священник отставил вино, распустил штаны, обошел предельно занятых женщин, опустился на колени позади своей гостьи, проверил рукой, насколько она готова к вторжению и, убедившись, что именно этого ей хочется сейчас более всего, вошел в нее сильным глубоким толчком.
* * *
Пленных русичей замковой страже пришлось переносить в погреб на руках. Они никак не реагировали ни на приказы, ни на удары, ни на угрозы. Наверное, если бы Флор зарезал парочку для устрашения прочих — остальные поползли бы сами в указанную сторону, но господин епископ приказал всего лишь кинуть их в подвал, и лишать кого-то из налетчиков жизни самовольно начальник стражи не рискнул.
Воинам маленького отряда и вправду было все равно, бьют их, тащат куда-то или убивают — после двух суток во власти лесной нечисти все остальное, что бы ни придумали ливонцы, казалось всего лишь досадной мелочью.
Холодный замковый подвал, пахнущий вековой сыростью, благодаря толстым стенам показался надежным, благостным убежищем, и почти на сутки пленники провалились в наполненный кошмарами, но все же восстанавливающий силы сон. А потом еще день просто приходили в себя, прежде чем начали подниматься и прогуливаться от стены к стене.
Подземелье, куда их бросил епископ, скорее всего было обычным погребом, хранилищем овощей, к весне опустевшим и теперь по случаю использованным для хранения совсем другого имущества. Именно имущества — а кем еще могли быть пленники в добром тысяча пятьсот пятьдесят третьем году? Хотя, конечно, если здешний правитель уж очень сильно обозлился набегом, он вполне способен казнить всех пленников публично и с соответствующими случаю истязаниями. Но скорее всего, практичность и жадность исконного европейца возобладает, и рядовые воины будут проданы в рабство, а за бояр и командира отряда он затребует из Москвы выкуп. Либо командира и родовитого боярина казнит, а всех прочих продаст.
В общем, как ни кинь — а к осени погреб свой дерптский епископ освободит, причем большинство воинов скорее всего попадут в турецкие или французские невольники, а Зализа и боярин Батов либо поедут домой за деньги немалые, либо на эшафот на немалые муки.
Подобное будущее не нравилось никому, однако, разобрать, подобно графу Монте-Кристо каменную кладку, скрепленную раствором на куриных яйцах, оказалось невозможным; за толстой дверью из сосновых досок, чем-то подпертой снаружи, постоянно дежурил караул из нескольких вооруженных воинов; а низкое узкое окно во двор перегораживали три коротких, но толстых железных прута.
— Ну что, боярин, — кивнул Зализа Картышеву на окно. — Ты, вроде, знаток по железу. Что скажешь?
— Скажу, что железо железу рознь, — Игорь, поморщился, отчего следы ожогов на его лице пошли складками, словно смятый пергамент, дотянулся до прутьев, пощупал пальцами. — Это, например, полное дерьмо. Сыромятина. Прослав, у тебя от моего капронового шнура нитки еще остались?
— Несколько штучек, боярин, — мужик сунул руку за пазуху и вытянул клубок, явно закаченный себе на потом, в хозяйство.
— Отлично, — Картышев примерил расстояние между прутьями. — Если два вынести, то можно пролезть.
— Как? — подступил боярин Батов.
— Как обычно: двое подсаживают, остальные поодному вылезают.
— Вынуть как? — переспросил Зализа.
— Песок нужен. Лучше кварцевый, но тут не до жиру… — Игорь поднял с полу грязь, растер между пальцами, поморщился: — Могли бы и нормальную отсыпку сделать.
Он поплевал на нитку, обмазал грязью и перекинул через крайний прут. Принялся старательно елозить нитью туда-сюда, временами снимая ее, поплевывая и добавляя поднятого с полу песка. Где-то через час, устав, скинул нитку и попросил опричника:
— Посмотри, Семен Прокофьевич, видно чего-нибудь?
— Блестит, — заглянул сбоку Зализа. — Начистил ты его, как шишак перед царевым смотром.
— Экий ты… — Картышев, похоже, хотел добавить пару слов, более привычных для двадцатого века, но сдержался. — Это означает, что абразив снял верхний, окислившийся слой металла. То есть, малехо потоньше прут уже стал.
Зализа недоверчиво покачал головой, ковырнул блестящую полосу ногтем и вдруг оживился:
— А ведь верно Игорь Евгеньевич сказывает, есть царапина! — потом снова погрустнел: — Только сколько времени нам этак елозить придется?
— А ты куда-то торопишься, Семен Прокофьевич? — подошел к окну Костя Росин. — Давай-ка, Игорь, я теперь поработаю.
— Не, это не дело, — покачал головой Картышев. — По одному прутику мы и вправду до осени ковыряться станем. Давайте так: встаем четверо, каждый берет по нити, два соседних прута трем сверху и снизу. И человечка у окна, песок добавлять, да наружу выглядывать, от греха. Как устанем, меняемся. Нужно только нити длинные брать, чтобы не у самого окна стоять, а в глубине подвала. Тогда снаружи, со света, не видно будет, чем мы тут занимаемся. А нитки и так тонкие. Заметано? Прослав, гони мои нитки!
Поначалу пленники взялись за работу без особого азарта, не столько с надеждой на успех, сколько от вынужденного безделья. Однако к вечеру выяснилось, то им удалось «протереть» прутья больше, чем на толщину ниток, и теперь Картышеву пришлось даже успокаивать излишне рьяных работников:
— Силу! Силу не применяйте! Нитку порвете. Тут дело не в силе, а в частоте движений. И песок не забывайте добавлять. Помните, это не нитка железо режет, это абразив работает. Без него толку не будет.
Стража относилась к пленникам, как к скотине — впихивала один раз в день большое корыто с какой-то овощной баландой, кадку воды, и больше не появлялось. В качестве отхожего места приходилось использовать дальний угол подвала, хлебать варево прямо из корыта — благо хоть ложки были у каждого либо за поясом, либо в сапоге. Зато больше днем никто к ним не заглядывал и делать свое дело не мешал.
После того, как нити углубились в толщу прута больше, чем на пару миллиметров, дело пошло еще веселее — теперь добавленный под нить песок не осыпался, постоянно оставаясь в «рабочей зоне». Обычная грязь постепенно выкрашивалась, и оставался только прочный, хорошо царапающий железо песок. Ровно через неделю, день в день, первая из ниток проскочила через узкую щель и повисла в руках Георгия Батова. Еще через пару часов закончила свое дело еще одна нить.
— Хорош выпендриваться, — остановил работу Картышев. — То, что осталось, рукой сломать можно. Теперь решить надо, когда вылезать станем?
— Я думаю, ночи дождемся, да и сдернем отсюда, — предложил Росин. — Юлю только найти нужно…
— Плохо ночью, — покачал головой Зализа. — Темно, дороги не видно, в замке тоже тьма. Куда идти, мы не знаем, а сослепу и вовсе заплутаем. К тому же, ночью стражу завсегда получше выставляют, все двери и ворота на запоре. Шум поднимется раньше, чем найти чего успеем. Перебьют, али назад загонят.
— А если сейчас?
— В замке стражи латников двадцать, — пожал плечами опричник. — Воина четыре, а то и пятеро за дверью нас караулят, эти не сразу наружу кинутся. Пока неладное поймут, пока нас хватятся. Еще пятеро наверняка отдыхает. Кто-то еще на посту стоит, кто-то на выходе по делам. Думаю, латников пять супротив поначалу будет, а то и меньше получится. А коли оружие найти успеем, так и со всем гарнизоном справимся. Чай, ливонцы одни, не впервой.
— Голосовать не станем… — Картышев взялся за один из надпиленных прутьев, качнул вперед-назад, обломил тонкую недопиленную перемычку, прикинул в ладони тяжесть сыромятного железа. — Берешь в руку, маешь вещь…
Он протянул кусок прута Зализе, потом выломал второй и заскреб ногами по камню:
— Да подсобите же кто-нибудь!
Росин рванулся вперед, сложил руки в замок и подставил их Игорю под ногу. Архин подошел к окну с другой стороны и подставил плечо. Картышев, упираясь, как на ступеньки, выполз в окно и, не вставая, откатился под стоящую неподалеку распряженную телегу. Минутой спустя рядом оказался Зализа, следом выбрался уже окрепший Малохин.
— Ну?.. — шепнул он.
— Жарким пахнет, — так же шепотом отозвался Картышев. — Кухня, похоже, вон в том сарайчике. Давайте за мной…
— Ты чего, самый голодный? — шепнул Сергей, но Игорь уже выбрался из-под телеги и побежал вперед. Опричник кинулся за ним. — Ну ладно, хоть пожрем напоследок…
Как на любой приличной кухне, главной гордостью поварской хибарки в замке дерптского епископа был открытый очаг со стоящим на нем огромным котлом. Повелитель бульонов и приправ, в одних полотняных портах и длинном переднике из тонкой кожи, негромко напевая, вылавливал из котла мясо специальным поварским крюком — длинным, почти метровым стальным прутом с тяжелым трезубцем из круто изогнутых шипов на конце. Готовил он явно не для хозяина, а для дворни — сам господин епископ ныне предпочитал более тонкие кушанья, а потому не стоило зазря тратить мясо только на похлебку, если из него можно сделать еще и нарезку в паренную капусту.
Появлению в дверном проходе какого-то человека повар не удивился — кухня, это такое место, куда, как магнитом, тянет всех и каждого. Не удивился он и тому, что мужчина оказался ему незнаком — на работы в епископский замок постоянно вызывают то одних, то других сервов из ближних и дальних деревень. И тому, что незнакомец, коротко взмахнув рукой, со всей силы ударил его в висок коротким железным прутом повар тоже не удивился. Просто не успел.
— О, вот это мне нравится куда больше, — наклонился Картышев к упавшему ливонцу и забрал у него из руки длинный прут с крючьями на конце. Деревянная рукоять как влитая легла в ладонь, и он с удовольствием пару раз рассек новым оружием воздух. — Чего смотрите? Выбирайте… — кивнул он подбегающим одноклубникам и боярам на поварской стол и стену над ним. Тут имелись и ножи разных форм и размеров, и топорики для рубки мяса, и топоры для укорачивания хвороста, и колуны для дров. Пожалуй, поварскими инструментами замковой кухни можно было вооружить целую армию.
Уже не особо таясь, воины побежали к воротам. Постоянно оглядываясь по сторонам. Усыпанный соломой двор словно вымер — ни единой души, ни слуг, ни служанок, ни привратника у ворот. Малохин громко постучал рукоятью тяжелого тесака, еще не отмытого после шинковки капусты, в калитку:
— Откройте скорее! Телеграмма господину епископу!
Неопытный привратник, широко зевая, вышел из ведущих на лестницу дверей — Картышев, притаившийся у стены, широким взмахом рубанул его по голени, а когда несчастный с криком боли рухнул на землю — безжалостно добил его крюком по затылку.
— Не везет последнее время дворникам дерптского епископа, — причмокнул боярин Батов, бросая нож и снимая с ливонца пояс с палашом. — Долго не живут. Спустимся к нашей страже в подземелье?
— Сперва епископ…
Дорогу в малый зал Картышев уже знал, а потому поднимался быстро и уверенно, ударом ноги распахнул створку и во главе прочих освободившихся воинов вломился внутрь. Посреди устланного коврами и мехами помещения, рядом с богато накрытым столом, сидела в кресле его племянница, откинув назад голову, и громко, страстно стонала. Из-под ее мерно шевелящейся юбки доносилось громкое чмоканье, а сам хозяин замка, пристроившись сзади к ласкающей певицу бабе, драл ее с примернейшим старанием и воодушевлением.
— Чем вы тут занимаетесь?! — Игорь коротко саданул племяннице по юбке. Копошащаяся там женщина вывалилась наружу и распласталась на полу.
Застигнутый врасплох правитель попятился, вскочил, блестя своим влажным напряженным достоинством, закрутил головой, ища оружие, спохватился, схватился за перстень на руке…
— Только шевельнись! — подскочил к нему Малышев и приставил к горлу тесак для рубки капусты.
— Даже не дыши.
— Сейчас я вызову упырей, и они сожрут вас всех до единого… — пообещал епископ.
— Они нас, конечно, сожрут, — согласился Сергей, — но тебе будет уже все равно. Если здесь появится хоть одна некрасивая тварь, будь она хоть бабушкой кухарки, я сразу перережу тебе горло, а с остальным станем разбираться потом. Я ясно излагаю свою мысль?
— Хорошо, — успокаивающе поднял руки священник. — Хорошо, я не стану никого вызывать… Только не нужно портить мое тело.
— А руки убери за спину. Вот так… Тут у тебя из штанов веревочки торчат, так я попользуюсь, ладно? — и Малохин уже более весело добавил: — А штаны, чтобы не падали, ты руками подержишь, сзади. Как раз в удобном месте связаны…
— Боярыня где? — первым вспомнил про Юлю Варлам, кинулся к правителю и стиснул ему горло: — Где? Что ты с ней сделал?
— Внизу… — прохрипел священник. — Дверь у камина.
Боярин вместе с подоспевшим Росиным ринулись туда, и вскоре вернулись, неся девушку на руках — Варлам под плечи, а Костя за ноги.
— Что ты с ней сделал?! — опустив девушку на шкуры, молодой Батов схватился за уже окровавленный железный прут.
— Я в порядке, — слабым голосом произнесла Юля, но Варлам ее не слушал:
— Ты, схизматик!
— Тихо-тихо-тихо-тихо, — обхватив епископа за горло, Малохин начал пятиться, волоча его за собой. — Козла не трогать, он нам живой нужен!
— Да в порядке я, Варлам! — уже громче высказалась Юля. — Ничего он мне не сделал! Просто руки-ноги затекли, неделю у креста простоять… И дышать тяжело. Отлежусь только пару часиков, нормально все будет.
— Все в порядке с твоей кралей, боярин, — выставил вперед тесак Сергей. — Иди к ней, с ней все хорошо…
— Что ты так об этом выродке заботишься? — остановился-таки младший Батов.
— Потому, что домой хочу, в Каушту. И если господин епископ проводит нас до границы и отпустит на все четыре стороны, помахав на прощание рукой, я отпущу его целого и невредимого. А если он сам, или его люди начнут валять дурака, то перережу горло и будем отбиваться как в прошлый раз. Авось уйдем. Может, если ему кишки выпустить, то и нечисть к нам приставать не станет?
— Не трогайте его! — наконец-то пришла в себя певица и кинулась на выручку своему господину — Картышев еле успел поймать ее за руку:
— Ты куда, дура?! Он же тебя украл!
— Нет, я сама! — забилась Инга, пытаясь освободиться. — Сама! Не трогайте меня! Сама к нему пришла! Его не троньте!
— Дура, он же колдун! Он тебя заколдовал просто. Понимаешь? Заколдовал!
— Я люблю его, — заплакала Инга и опустилась перед дядюшкой на колени. — Отпусти меня к нему, Игорь, отпусти… Хочу быть с ним…
— Да не любишь ты его, дура! Это колдовство. Колдовство это. Он колдун, тебе каждый подтвердит. Знаешь, чего нам по его милости вытерпеть пришлось?
— Люблю…
— Вы не можете меня убить, — тихо сообщил епископ, глядя на это зрелище. — Только выпустить. И тогда я перебью вас всех, до единого.
— Хочешь, проверим? — Малохин поднес нож к его горлу и ощутимо нажал.
— Не нужно, — покачал головой священник. — Мне нравится это тело, и я собираюсь оставить его еще лет на двадцать. Я доведу вас до границы и отпущу на Русь, если вы сохраните мое тело в целости и сохранности.
* * *
Замкового начетника опять не нашли. Как сквозь землю провалился. А сам епископ заявил, что про казну свою ничего не знает, хранит ее начетник и никому про это не докладывает. Ему мало кто поверил, но пытать не стали. Отчасти потому, что обещали не трогать, а отчасти опасаясь, что не выдержав пытки, колдун созовет окрестную нечисть, предпочтя мукам смерть. Всю прочую дворню — и воинов, и челядь, загнали в подвал, в погреб, соседний тому, в котором сидели сами, и заперли там, задвинув засов и подперев парой высоких кухонных чурбаков.
Грабили обитель дерптского епископа на этот раз обстоятельно и рачительно, укладывая выбранное барахло на телеги. Собрали не только золото и серебро, но и самые красивые кубки и кувшины из меди и латуни, кое-какую одежонку и все оружие. Специально для Юли, которая после недельного стояния на кресте все еще не могла ходить, скатали в зале хозяина все ковры, а самого хозяина замотали в медвежью шкуру — дабы и не замерз, и не дергался понапрасну.
Караван из семи телег выехал из ворот рано утром, но двинулся не в сторону Псково-Печерского монастыря, где налетчиков наверняка ждали до сих пор, и где им пришлось бы прорываться силой, с вероятной необходимостью бросить добычу. Нет, Зализа приказал Прославу вести обоз на Пярсикиви, куда они и вышли тем же днем в поздние сумерки.
Разбежаться из рыбацкой деревни народ, вестимо, не успел, сопротивляться тоже не мог: ну куда засечному наряду в десяток престарелых латников супротив трех десятков крепких воинов кидаться? Позапирались в избах, понимая, что против топора либо тарана дверь все одно не защитит.
Но на этот раз нищета рыбацкая русских не заинтересовала ничуть. Гости лихие выбрали три баркаса покрепче, и принялись перегружать на них содержимое обозных телег. Среди прочего имущества выгрузили и дерптского епископа.
— Руки развяжи, — попросил священник Малохина. — Затекли, не чувствую совсем.
— А не учудишь?
— Да где уже теперь? — хмыкнул епископ. — Я свое слово выполнил, до границы вас довез.
— Кто кого?
— Инга! — окликнул певунью здешний правитель.
Девушка вывернулась из руки дядюшки, кинулась к нему и повисла на шее.
— Ты куда?! — кинулся следом Игорь.
— Оставь, Картышев, — покачал головой священник. — Дай хоть попрощаться…
— Ты на нее чары наведешь, а мне потом…
— Все равно увозишь! Попрощаться дай.
— Не подходи! — по змеиному зашипела, обернувшись, певица.
Игорь что-то недовольно буркнул, но оттаскивать племянницу силой не стал.
— С тобой хочу остаться, с тобой, — лихорадочно начала целовать лицо дерптского епископа певица.
— Я тебя найду, — пообещал правитель. — Обязательно. Услышишь мой голос — не бойся. Это я. Года через два сам найду. Или позову. Руки мне развяжи…
Инга повернулась к Сергею, выдернула у него из ножен косарь, располосовала стягивающие руки священника веревки. Тот, морщась, поднес ладони к лицу, покрутил кисти в суставах. Потом снял один из перстней и одел его певице на палец:
— Вот, на память. Коли беда с тобой случится, камнем внутрь поверни и согрей немного. Мне он более ни к чему. А через месяц и вовсе… Не выбрасывать же? И не бойся, я про тебя помню. И найду.
Священник прижал ее к себе и крепко поцеловал. Потом приказал:
— Ступай.
— С тобой хочу остаться! — громко, да так, что с ближайших деревьев посыпались листья, выкрикнула Инга.
— Будешь, — кивнул епископ. — Я тебе обещаю, что будешь. Ты ведь знаешь, я всегда выполняю свои обещания. Просто потерпи немного, дай мне набраться сил. А теперь: ступай.
И она пошла. Ни разу не обернувшись — словно боясь, — что отвернуться от своего господина второй раз уже не сможет.
— Ответь мне, Малохин, — оглянулся епископ на своего пленителя. — Правда ли, что вы попали в этот мир из будущих веков?
— Да, вообще-то… — насторожился Сергей. — Вообще-то, да.
— Издалека?
— Четыре с половиной века вперед.
— Скажи, Малохин, а какие из городов Европы уцелеют к этому времени?
— Многие. Париж, Мадрид, Дрезден, Берлин, Вена, Прага.
— А в них сохранились библиотеки?
— Не знаю… За эти века по Европе столько войн прокатилось, что все наверняка в пух и перья разнесло. Вот разве в Лондоне. Англия — это остров, чужие на нем последние несколько веков не бывали.
— Спасибо, Малохин, ты мне очень помог.
— Да не за что, — пожал плечами Сергей. Он увидел, что баркасы уже загружены, люди перебрались на них и пора отчаливать. — Ну ладно, поехали мы…
Он протянул было правителю здешних земель руку, но вовремя спохватился, отдернул и побежал на причал.
— Зря ты его не зарезал, — как-то беззлобно сказал Картышев, сбрасывая в воду причальную веревку. — Сейчас шторм поднимет, и потонем все к ядреной фене.
— Не поднимет, — покачал головой Сергей. — Запал, похоже, на твою племяшку. Побоится, что вместе с нами потонет.
Дерптский епископ, провожая взглядом уходящие в ночь суда, потянулся за ними, войдя в воду выше колен и остановился. С ним происходило нечто странное, непривычное — видать, человеческая душа и тело накрепко въедались в бессмертное существо, смешивались с ним, заставляя испытывать непривычные, неведомые ранее чувства и эмоции. Но демон не видел в этом для себя ничего страшного: ведь именно ради этих странных и нелогичных переживаний, недоступных вечным бестелесным существам, он так любил вселяться в человеческую плоть. Хотя… Хотя раньше телесные удовольствия значили для него куда больше душевных переживаний. Видимо, что-то меняется. Либо — люди, либо — он сам.
Глава 3. Государево дело
До Ветвенника отряд добрался к вечеру следующего дня — идущий в первом баркасе Прослав вывел всю эскадру точнехонько ко входу в залив, а уж к причалам все вставали сами, кто как умел. Зализу местные встретили с восторгом — не столько соскучившись по государеву человеку, сколько стремясь похвастаться хорошей добычей, взятой чуть ли не месяц назад, и тому, что на этот раз набег на орденские земли прошел почти без потерь. Правда, двоих мужиков из Рыжкино стрелами все-таки посекло, но не насмерть. Да и в этих царапинах виноваты сами оказались — не послушались опричника, застряли в Кодавере еще на полдня, вот конница епископская примчаться и успела. Хорошо хоть, вовремя опасность заметили и до баркасов добежать успели — но стрел им вослед литовцы высыпали от души. Один погиб в Кодавере, у монастыря. И тоже сам виноват: нечего из-за бабы смазливой близко к вражьим крепостям подбегать. Один получил стрелу в живот при штурме монастыря, но все еще не умер — а значит, теперь уже наверняка должен выкарабкаться.
По заведенному на Руси обычаю, гостей попотчевали хмельным медом, стопили баньку, от пуза накормили копченой и печеной рыбой, солеными грибами, вареной убоиной, уложили спать на пряно пахнущих сеновалах в соседних избах.
Поутру рыбаки сами оседлали братьям застоявшихся в конюшнях коней. Старший же Батов, прежде чем подняться в седло, отозвал в сторону опричника.
— Я уже стар, Семен Прокофьевич, — негромко проговорил он, поглядывая в сторону остальных воинов. — Мне бояться более нечего. И мыслю я, не слышали мы никаких слов от Константин Андреевича. Молод, глуп. Мало ли что по пьяному делу сболтнул?
— То не просто сболтнул, то дело государево, — покачал головой Зализа. — Крамола супротив царя.
— Сколько верст мы с ним бок о бок прошли. Как он от ливонцев нас со своими иноземцами отбивал… — Боярин вздохнул. — Ну, как знаешь, Семен Прокофьевич. А мы с сыновьями никаких слов не слышали. Между собой говорили, и что там боярин Константин сбрехал, не слышали…
Он резко отвернулся, отошел к коню, легко запрыгнул в седло.
— Во Пскове увидимся, Семен Прокофьевич, — он хлопнул свою вороную кобылу по крупу. — До встречи!
Одноклубники вместе с опричником двинулись на юг на захваченных в дерптском епископстве лоймах. Да и как иначе вывести добычу из исхоженных приозерных деревень? Не на телегах же по болотным тропкам тащить?! Одноклубники управлялись с парусами, правда, не лучшим образом, но, копируя действия Прослава и правя за ним, кое-как вперед все-таки продвигались. Вскоре после полудня флотилия миновала узость, выше которой Чудское озеро обычно именовали Псковским, ночь провела на якорях в виду берега, а ранним утром, помахивая длинными тонкими веслами, вошла в устье темной, как и все болотные реки Северной Пустоши, реки Великой.
В вольный город Псков Зализа наезжал всего пару раз, а со стороны реки видел его и вовсе впервые. Стены здесь стояли не в пример ниже внешних, саженей пять в высоту, не более. И выглядели куда как древними. Впрочем, если стены, обращенные к полям, по приказу государя Ивана Васильевича, недавно перестраивали, спрямляя для удобства пушечной стрельбы — то вдоль реки они и так тянулись, как по ниточке, и спрямлять их явно не требовалось. Вот, разве округлые, под деревянными шатрами башни теперь выступали темными бойницами не раз на треть версты, а через каждые триста шагов. Видать, и здесь стояли литые московские чугунные пятнадцатигривенные пищали, либо короткие бронзовые тюфяки, накрепко примотанные к бревнам.
Что поразило опричника — так это обилие вдоль речного берега причалов, и ладей возле них. По влажным дощатым помостам постоянно сновали мужики с объемными тюками, мешками, бочками, где разгружая, а где и загружая корабли. Подъезжая к городу по обычной дороге, подобного оживления Зализа не видел ни разу.
Он привстал, внимательно вглядываясь в отдыхающие у берега суда, задумчиво облизнул губы:
— Что-то не видно ладьи Ильи Анисимовича… Уж не продал ли старый разбойник полонянок на рынке, и не отправился ли снова бороздить холодное Варяжское море? Ну, я ему тогда устрою родные реки!
Лоймы прошли вдоль всего города, но приметной баженовской ладьи так и не заметили.
— Ладно, Прослав, — решился опричник. — Правь к свободному причалу, там разберемся.
С веслами одноклубники управлялись куда более ловко, нежели с парусами, а потому без особого труда поставили свои лоймы борт о борт с лодкой Прослава, быстро увязавшись носами и кормами, чтобы не развернуло течением.
От городской стены к ним тут же устремился мужик в черных полотняных штанах, легкой белой сатиновой косоворотке с шитым алой лентой воротником, и с большой окладистой, иссиня-черной бородой.
— Доброго вам здоровья, гости дорогие, — с готовностью поклонился он, и указал опричнику на болтающуюся на поясе саблю. — Ты меч-то на кораблике оставь, а то кабы стража не осерчала. У нас, чай, не Европа, лихих людей опасаться не след.
— Я человек государев, Семен Зализа, слыхал? — вскинул подбородок опричник. — А ты кто таков, чтобы в саблю, Ивану Васильевичу целованную, пальцем тыкать?
— Прости Бога ради, не узнал, — поклонился мужик вдвое ниже, и трижды испуганно перекрестился, вытянул нательный крестик, поцеловал. — Крестом-Богом клянусь, не узнал. Гостей торговых каженный день по полсотни приходит, глаз совсем замутился…
— Ладно, — остановил его причитания Зализа. Опричник с полной ясностью подозревал, что пскович вообще ни разу в глаза его не видел и о существовании не подозревал, но боиться сказать прямо, что приехавший воевода в богатом вольном городе — всего лишь мелкий безызвестный боярин. — Кто таков?
— Артельный я, Кондратом Репиным кличут. Товары грузим, склады-погреба сдаем, лавку можем присоветовать с купцом честным…
— А Баженов Илья Анисимович тебе известен?
— А как же! — выпрямился во весь рост мужик, и Зализа не без обиды понял, что богатого купца уважают здесь поболее, нежели воеводу, живот свой за Русь Святую не жалевшего. — С месяц назад с мелким товаром и крупным полоном пришел, но полон продавать не стал, цену ждет. А ладью свою воском и шпабами загрузив, с кормчим в Нарву расторговываться отправил.
— Это дело, — с облегчением кивнул опричник. — Причал чей?
— Хамовной сотни купца Ерофея Ругова. Я его сей час покличу.
— Не нужно, — остановил его опричник. — Пусть он сразу к Илье Анисимовичу идет. Я Баженову доверяю, пусть вместо меня дело ведет. Где он остановился?
— Постоялый двор за часовней святой Варвары, — перекрестился артельный. — Во Пскове, недалеко от ворот, направо повернуть, шагов двести будет.
Зализа кивнул и, пройдя вдоль длинной стены по утоптанной тропинке, повернул налево, вышел к воротам и шагнул в тенистый проход. Стоявшие в воротах стрельцы окинули его презрительным взглядом: пеший, да с саблей, ако ландскнехт какой-то. На Руси, где каждый смерд по три-пять коней в сараюшке держит, коли пеший — так лучше рубище одень, да побираться ползи, а не оружием бряцай. Однако остановить — не остановили, что опричника удивило.
Он двинулся дальше по глухому каменному коридору шириной в полтора десятка шагов, и со стенами саженей в десять. Улитка сия была приготовлена для ворогов, кои первые ворота сломать могут — до вторых им придется почти двести шагов идти, избиваемыми защитниками с обеих сторон коридора и не имея никакой поддержки снаружи.
У вторых ворот оружного гостя ждал караул из двоих одетых, несмотря на жару, в ватные тегиляи стрельцов с бердышами и их воеводы в красном суконном кафтане с высоким воротником и с саблей на боку. Лицо его показалось Зализе знакомым, и опричник приложил руку к груди:
— Здравы будьте, люди служивые, и ты здрав будь, боярин.
— И тебе того же, гость дорогой… — похоже, воевода тоже узнал Семена, и то же только в лицо, а потому и приказа разоружить пришельца не давал, но и дорогу загораживал.
— Казань! — наконец-то сообразил Зализа. — У ворот на Арское поле. Вы за окопами, под рукой Шиг-Алея стояли!
— Точно, — с облегчением кивнул псковский караульный воевода. — Было такое.
Правда, общее участие в казанском походе еще не означало, что служивому человеку можно расхаживать по мирному городу с острой кривой саблей.
— Вы наместнику Турунтаю про меня не докладывайте, — решил опричник облегчить караульщику муки сомнений. — Ноне я не Семен Зализа, государем за рубежами Северной Пустоши приглядывать поставленный, а просто прохожий, что на лодке мимо проплывал. Лодку продать хочу, а коня купить. Пешим путем до Невы воротиться собираюсь.
Это объясняло все: и право на саблю вне привычной царской службы, и отсутствие лошади под служивым человеком.
— Коней ноне хороших нет, — посетовал воевода, освобождая проход, — Жмудинский купец две с половиной сотни в Литву увел. Всех, что татары из Твери на продажу пригнали.
— Купца Баженова спрошу, — пожал плечами опричник. — Илья Анисимович калач тертый, не может быть, чтобы скакуна хорошего не добыл.
— Не добудет, — улыбнулся воевода. — Цены, говорят, в Литве вдвое супротив нашего подпрыгнули. Кто же здесь от таких денег откажется?
Постоялый двор «у святой Варвары» мало отличался от прочих раскиданных по Руси других подобных дворов: высокий частокол из жердей в руку толщиной, за которым скрывался высокий бревенчатый дом в два жилья, обширная конюшня на полсотни лошадей, да скотный сарай напротив. На дворе трое молодых безусых пареньков сноровисто разделывали подвешенную за задние ноги тушу бычка, рядом сгружал с повозки сено низкорослый угрюмый смерд. Хотя мясники своей работы явно еще не закончили, но по двору уже тянулся соблазнительный запах мясной похлебки.
— Знатно устроился Илья Анисимович, — покачал головой опричник, заметив, что обычной в постоялых дворах и придорожных ямах суеты с приезжающими и отъезжающими гостями нет. — Никак, один все комнаты занял?
— Семен Прокофьевич, милый, ну наконец-то! — одетый в темно-бордовую шелковую рубаху и черные штаны купец выбежал на плечо и широко раскрыл объятия. — Бояре Батовы ужо второй день отсыпаются, а тебя все нет и нет. Ну, заждались мы тебя, гость дорогой!
— Что так заскучал, Илья Анисимович? — удивился Зализа, позволив купцу немного потискать свое усталое тело.
— Да разорят меня твои полонянки вконец, Семен Прокофьевич! Хнычут все время, жрут за десятерых, четыре комнаты занимают. Продать бы их, и дело с концом!
— Все бы тебе только продать, Илья Анисимович, — рассмеялся опричник. — Ну да ладно, продавай. Три баркаса у причала Ерофея Ругова стоят. Товар с них на телеги сгрузить можно, а сами лоймы продай. Мне они ни к чему.
— Добычу взял, Семен Прокофьевич? — глаза купца жадно сверкнули. — Так, может, расторговаться сперва? Во Пскове цену хорошую дадут, и телег менее потребуется.
— Не хочу, Илья Анисимович, — мотнул головой Зализа. — Заскучал. Алевтине в глаза давно не заглядывал, в постели своей не ночевал, рубежи, государем доверенные, лично не объезжал. В золоте и серебре нужду ныне сильную не испытываю, и ждать торговли удачной не хочу. Покупай повозки, Илья Анисимович, грузи товар и полон. Домой едем. Все, домой…
* * *
Обоз из пятнадцати телег полз до Раглиц целых три дня. На ночлег Зализа специально останавливался не в ямах, а в лесу, по всем правилам организуя дозор и охранение, а девок укладывая вместе с кауштинскими иноземцами на одну поляну. Однако ничего не происходило. Пару раз он даже не выдерживал и прямо кивал служилым людям на полонянок: «Добыча ведь, развлекайтесь», но те блюли чистоту, словно давали своим богам клятву целибата. Так и нетронутые пленницы, поначалу испуганно жавшиеся друг к другу, несколько успокоились, повеселели, и выглядели не живым товаром, а обычными деревенскими девками, отправившимися с односельчанами на прогулку.
От Раглиц бояре ушли вдоль реки вверх, к броду, а Зализа, собрав у местных смердов лодки, принялся отправлять набранный во владениях дерптского епископа груз вверх по течению. Платы с него не взяли — местные жители еще помнили, как зимой опричник остановил орденскую рать всего в нескольких десятках верст от здешних стен.
Разумеется, верховые бояре добрались до Замежья первыми, сообщили Алевтине о возвращении мужа, и она прислала навстречу смердов с вьючными лошадьми. Последние восемь верст, очередной брод, уже через Рыденку — и в надвигающихся сумерках Семен, бросив медленно бредущий караван, вскочил на одну из лошадей верхом, умчался вперед и, влетев в ожидающе распахнутые ворота усадьбы, наконец-то обнял свою единственную и самую желанную на свете женщину, укрыв лицо поцелуями, не давая сказать в ответ хоть слово, и сам бормоча что-то неразборчивое.
Обоз пришел уже в глубокой темноте — разбираться по комнатам или ставить палатки усталые путники не захотели и, пользуясь теплой погодой, улеглись спать в сено, разворошив во дворе две приготовленные для скота копны.
Пожалуй, Зализа с удовольствием задержался в родной усадьбе еще на пару дней — но остальные участники похода от долгого отдыха категорически отказались, и ему волей-неволей пришлось ехать дальше: опричник имел смутное подозрение, что странные кауштинские иноземцы, предоставь он им волю, захваченных в Лифляндии баб просто отпустят по домам.
От Замежья к Кауште за последний год дорогу натоптали изрядно, и теперь, не в пример прежним временам, проехать здесь можно было и конному, и на повозке. Поэтому полонянок посадили на телеги вперемешку с обосновавшимися на Суйде иноземцами. Добыча, правда, осталась во вьюках: к братьям Батовым в их лесное урочище, окромя лесных троп, дороги не имелось. Правда, полноводный Оредеж позволял подходить туда довольно крупным торговым лодкам, так что особой беды они в этом не видели.
Себе из взятого у епископа добра Зализа оставил примерно четверть, из коей выделил Ниславу персидский ковер и пышное иноземное платье — его Матрена, коли еще не родила, вот-вот должна была разродиться. Ей дурной, но роскошный подарок от невенчанного мужа должен понравиться.
Остальное отдал Батовым, шедшим вместе с кауштинцами охотниками. Иноземцы певунью свою выручать собирались — они своего добились, и на лишнее добро претендовать не могли. Правда, по молчаливому согласию Батовых и Зализы, оставшиеся пять ковров отдали Юле. Лучница и в походе отличилась, и пытку, в отличие от прочих, приняла. Ковры ей зело понравились, дом она отдельный обживать пыталась. Коли хочет для тепла и уюта на пол постелить, да по стенам развесить — отчего не дать хорошей девке поразвлечься?
С телегами, да неспешным шагом ленивых меринов за день до цели добраться не смогли и встали на ночлег вблизи Костынки, но к полудню следующего дня обоз все-таки выбрался из леса на Кауштин луг и медленно потащился к поселку.
Зализа, гарцуя на отвыкшем от седла туркестанском жеребце, вытянул шею, пытаясь разглядеть, насколько изменился за прошедшие месяцы поселок. Над бумажной мельницей неспешно крутились широкие крылья — боярин Росин, помнится, объяснял, что самое главное для хорошей бумаги — это тщательно перемолоть весь мусор, и то старье, что свозится с окрестных деревень и усадеб. Жернова и специальные зубчатые барабаны справляются с этим без особого присмотра, а потому основную работу делают ветер, да время. Люди нужны только раз в несколько дней, готовую массу на сито разложить, да под пресс сушильный загнать. Вроде, и не занят при деле никто, а старое тряпье скоро придется с Новагорода, да Пскова возить, местное все извели.
По тому же способу — дабы само работало — иноземцы устроили лесопилку: по наклонному желобу бревно под своим весом накатывалось на гуляющие из стороны в сторону баженовские двуручные пилы. Речное течение накатывалось на лопатки мельничьих колес, заставляя дергаться длинную железную штангу, которая и таскала пилы. И опять инструмент, казалось, работал лениво, неспешно, пара плотников быстрее бы управились — но «речная» справа не уходила на обед, не уставала, не просила прибавки, не нуждалась во сне — а потому и доски уже не уносились сразу в избы, не настилались на пол и не приколачивались к стенам поверх толстого слоя теплого болотного мха, а складывались под высокие навесы и сушились в тени под порывами теплого ветерка. Благодаря самопильному устройству, хитрые иноземцы и сами навесы вместо дранки широкими досками «чешуей» покрыли, и загоны для скота — видано ли дело! — не из жердей, а из досочек сколотили.
Справно вился дымок над стекловарней — и здесь заместо подмастерьев мехи качала река, приводя с помощью длинного ремня в движение деревянное колено. Правда, на стекловарне несколько мастеровитых иноземцев постоянно возились с формами, трубками и горячими раскатанными листами. А вот в остальных местах получалось, что ремесленники как бы и не делают ничего — только лес, да тряпье с соломой подвозят, да готовые изделия вынимают.
Новым строением оказалась и кухня — кауштинцы поставили навес, да большую печь сложили, несколько котлов рядом на отдельные очаги поставили. Видать, по-прежнему, и трапезничают вместе, и готовят три кухарки на всех. Не разбрелись по домам — по семьям. Ну да ладно, не все сразу.
Жеребец под опричникам заржал, привлекая внимание, и сонная жизнь поселка изменилась в один миг:
— Наши вернулись! — сельчане сорвались со своих мест и кинулись к обозу. Кауштинцы из отряда ринулись навстречу. Начались радостные крики, объятия, торопливые бестолковые расспросы.
В этот миг Зализа позавидовал своим иноземцам лютой завистью — ибо самого его никто, кроме жены да матери, так никто никогда не встречал. Дворня уважала, может и любила, как слуга господина. Друзья встречам завсегда радовались — но солидно, без щенячьего откровенного восторга. А здесь — даже боярыня Юля, позабыв про своего Варлама, без оглядки кинулась в общую толпу.
— Детей хочу, — неожиданно понял опричник. Чтобы любили, не за что-то, а просто так. Чтобы радовались, обычаев и приличий не соблюдая. Чтобы на шее висли после долгой разлуки. Чтобы не только за царя, за землю — за детей живот класть. Коли сыновья подрастают — не страшно. Коли дети есть — смерти более не существует. Потому как в них остаешься.
— Что кажешь, Семен Прокофьевич? — отозвался Евдоким Батов.
— Детей, говорю, нет, боярин. — потрепал жеребца по шее Зализа. — Нислав мой, вроде, разродится вот-вот. Хоть они с Матреной кого-то заимеют. А здесь… Полсотни народа почитай, год живет, а ни одного малого нет. Беда просто.
— Это точно, — согласился, усмехнувшись, боярин. — Порою, сам не озаботишься, так и вовсе опустеют деревеньки. Ладно, Семен Прокофьевич, давай прощаться. Я с сыновьями, коли коней пришпорю, тоже засветло до усадьбы успею. А то уж забывать стал, как выглядит.
— А Прослав твой где, проводник наш? — удивился Зализа, оглядываясь на вьючных коней.
— Сей хитрый смерд, — погладил бороду боярин, — условием закупа, видно, доволен, коли бабу свою и малых перетащить решил, а потому разрешил я ему лодку, в Раглицах купленную, взять, и вкруголядь, через Лугу и Оредеж к усадьбе воротиться. В деле этом он толк разумеет. Пусть рыбу ловит, да по нужде нашей или своей по реке плавает. И мне прибыток, и сам новых смердов для детей моих сытыми вырастит. А от земли откажется — другого полонянина куплю. Ныне Иван Васильевич границы Руси на юг сдвигать взялся, да рьяно. Много пленников оттуда идет.
— От татар какая польза? — пожал плечами опричник. — При конюшнях, да в холопы только и годятся. Работать не умеют. На землю лифлянцев или литву хорошо сажать… А не сбежит?
— Прослав-то? — боярин хитро усмехнулся себе в бороду. — Жаден больно. Я ему за проводничество честное подарок в усадьбе обещал. Вернется. Да еще рыбу в реке ловить дозволил невозбранно, да еще хозяйство поднимать начал… В землях западных кому такое скажи — сами в полон сдаваться прибегут. Голытьба…
Боярин Батов приложил руку к сердцу, коротко поклонившись, и дал шпоры коню. Вскоре маленький отряд русских витязей промчался между домов поселка и унесся к дальнему краю длинного Кауштина луга.
Зализа, спрыгнув с коня, махнул рукой полонянкам — за мной следуйте, и двинулся к боярину Росину. Первая ярая радость в односельчанах спала, и сейчас они спокойно двинулись к часовне, разбившись на небольшие группы.
— Константин Андреевич!
— Да?! — боярин бросил несколько слов встречавшему его огромному плечистому Симоненко и чумазому Качину, после чего повернул навстречу опричнику. — Надеюсь, Семен Прокофьевич, ты с нами отобедаешь?
— Домой хочу, Константин Андреевич, — Зализа опять ласково потрепал морду коню. — Загулялись мы все. Надобно, ако Самсону, к земле ненадолго припасть. Силы набраться.
— Как же на пустой желудок, да в такую даль?
— Охота пуще неволи. — Опричник отпустил повод, позволяя жеребцу отойти на несколько шагов, потом кивнул в сторону пленниц. — Полон свой я пока тебе оставлю. Пристрой к делу. Коров подоить, кур попасти, грибов-ягод в лесу к общему столу набрать, опорос принять. Они к такому хозяйству привычные, молодые, справные. В тягость не станут.
— Н-ну, хорошо, Семен Прокофьевич, — пожал плечами Росин. — Пусть побудут, коли надо.
— И вот еще… — опричник оглянулся, не услышит кто произнесенных им крамольных слов. — Вместе мы, почитай месяц, шли. Смерть видели, плен, нечисть, радость вместе испытали, слов много услышали. Некоторые и позабыть можно. Ты меня понял, боярин?
Зализа, тяжело выдохнул, словно скинул с души тяжелую ношу, еще раз опасливо оглянулся, потом перехватил уздцы под самой мордой.
— Удачи вам, Константин Андреевич, отдыхайте, живите. Скоро Баженов со своей ладьей пожалует, али уже с двумя. Глядишь, и прибытком каким порадует. С Богом.
Опричник развернул коня, поставил ногу в стремя.
— Я говорил это…
От брошенных в спину слов Зализа едва не упал, застряв алым сафьяновым сапогом в стремени, запрыгал на одной ноге, но вывернулся, остановился, повернулся к Росину.
— Я это говорил, — повторил Костя, глядя ему прямо в лицо. — Ведома мне крамола супротив государя. Верная крамола, супротив жизни его направленная.
— Крамола… — повторил опричник страшное слово. — Зачем она тебе, Константин Андреевич?
— Потому, что русский я, — сглотнув неожиданно появившуюся слюну и отчаянно пытаясь побороть предательский холодок, растекающийся между лопаток, сказал Росин. — Русский я. И знаю, что слово мое государю, может, пользы и не даст, но земле моей, миллионам собратьев моих, в разных концах земли нашей живущих, жизнь спасет точно. Я это знаю, Семен Прокофьевич, спасет. Тысячи, десятки, сотни тысяч людей…
Он повторял эти слова снова и снова, как заклинание, но холод не отступал, а растекался все дальше и дальше по телу.
— И что они для тебя, Константин Андреевич? — спросил Зализа, видящей перед собой не мифические тысячи, а одного-единственного человека, которого он обязан немедля скрутить и отправить в Посольский приказ.
— Потому что русский я. И все они, как и земля эта, и страна, такая же часть меня самого, как рука или нога. Я не хочу терять их, пусть даже не видел в глаза никого, и никто из них не узнает имени моего. Все равно не хочу.
— Я возьму тебя под стражу и отправлю в Москву.
— Я знаю.
— Тогда… Почему? — мотнул головой Зализа.
— А ты помнишь, за что мы пили в Сопиместком замке, Семен Прокофьевич? За Русь Святую пили. Так ты думаешь, пить только можно? А бороться за нее другие должны?
— Пытке тебя подвергнут, Константин Андреевич…
— Знаю… — Росин неожиданно сорвался и громко заорал, брызгая слюной опричнику в лицо. — Знаю, знаю, знаю! Ты что, запугать меня хочешь?! Так радуйся, я и так боюсь. До коликов в животе и поноса по три раза на дню! Чего тебе еще надо?!
— Но зачем ты тогда беду на себя кличешь?
— Потому что русский я! — Костя сгреб Зализу за шитый катурлином воротник и с силой затряс. — Русский я, ты понял, урод?! Русский, а не иноземец! И всегда русским был! И если не получается ничего иначе в дебильной стране нашей, если все всегда через жопу делаем, она все равно моя, ты понял?! А иди ты на хрен!
Росин отпихнул от себя опричника, развернулся и быстрым шагом пошел к поселку. И о чудо — государев человек Семен Зализа не схватился за саблю, не порубил в куски человека, обращавшегося с ним как с холопом и кидавшим в лицо оскорбительные слова. Нет, он поднялся в седло и нагнал боярина, поехал чуть позади и негромко, только для него одно сказал:
— С хозяйством мне в усадьбе разобраться нужно. Рубежи объехать, тропы лесные. Жалобы от смердов принять, с офенями и купцами заезжими поговорить. Через неделю. Нет, через две недели приеду. Коли сбежишь: в Москву, в Поместный приказ отпишу, чтобы розыск объявили. Коли останешься, со мной в стольный город поедешь. Да.
Зализа с такой силой потянул левый повод, что едва не разорвал губы чистопородного жеребца, а потом с яростью вонзил ему в бока свои пятки. И впервые пожалел, что не носит шпор.
Глава 4. Сказавши слово
По тропе послышался дробный топот, и из-за угла дома показался всадник, ведущий в поводу двух коней. На солнце блеснули начищенные пластины юшмана, притороченный у седла шелом, заправленные в бычьи сапоги кольчужные чулки, за спиной развевался темно-синий плащ.
Сгружающий на сеновал сено мужик, щурясь против света, прислонил вилы к телеге и опустил руку на пояс, на неброско свисающую петлю кистеня.
— Все в трудах, Нислав, в работах? — конный спрыгнул на землю. — Ну, показывай.
— Семен Прокофьевич, — с облегчением кивнул мужик, отпустил кистень и снова взялся за вилы, переставив их расщепленными и широко разведенными в стороны деревянными остриями вверх, довольно улыбнулся. — Пойдем.
Они поднялись в избу, свернули в горницу. Зализа, увидев постеленный на полу персидский ковер, довольно расхохотался:
— И как, теплее?
— Ты по нему босиком пройди, Семен Прокофьевич, — посоветовал бывший милиционер. — Пяточки щекочет, и ворс… Как у газона английского.
— Газон англицкий… Где ты видел такой, Нислав?
— Не видел, — пожал плечами хозяин дома. — Но рассказывали. По «ящику».
— По ящику? — опричник расхохотался еще громче. — Это с заливным яблочком? Ну ты, оказывается, мастер сказки сказывать. И зубы заговаривать. Но все одно не отстану. Веди.
— Матрена, — тихонько позвал мужик. — Вы там не спите? Гость у нас.
— Кто там? — бледная простоволосая женщина в одной поневе вышла из угла комнаты, держа на руках младенца.
— Неважно, кто там, важно, кто здесь, — выступил вперед Зализа. — Ну, покажи.
— Как, уже? — испуганно охнула женщина. — Пора?
— Нет, еще не пора, — опричник перекинул плащ себе на грудь, чтобы прикрыть железо, а потом решительно принял ребенка. — Через два дни только… Мальчик?
— Само собой, парень! — хвастливо заявил Нислав.
— Ну, почин хороший, — кивнул Зализа. — Воин растет.
— Пахарь, — поправила Матрена.
— Или мент, — тихо усмехнулся Нислав. Малой зашлепал губами, сморщился и тихонько заныл.
— Иди, иди к мамке, — вернул малыша Зализа.
— И вот что, Марьяна… — он снял с пояса небольшой кошель. — Не радуйтесь, это медь. Мужика я твоего послезавтра заберу, а самой тебе управиться трудно будет. Коли что понадобится, соседа попросишь, али купить пошлешь. Пойдем, Нислав.
Остановившись на улице, опричник хозяйственно распорядился:
— Ты ноне с пашней не заморачивайся. Я Алевтине накажу, коли до урожая не вернемся — пошлет косцов, хлеб уберут. Скотину заколи, закопти и в погреб. Лошадей с собой возьми, нам заводные сгодятся. Одну оставь, на всякий случай. Курей оставь, с ними хлопот мало. Поросенка одного разве… Иначе не управится с малым. Сена заготовил?
— Мало…
— Ну, это она купит. А дрова?
— Более-менее…
— Это хорошо. Лето впереди, но мало ли?.. Да и коли к зиме не вернемся, запас имеется. В лес ей ездить никак нельзя. Неровен час… И с собой ребятенка не возьмешь, и одного не оставишь. Ладно, готовься, два дня еще у тебя есть. А третьего дня к полудню в Каушту отправляйся, там встретимся.
— Понял, Семен Прокофьевич.
— Ну, давай, папаша, — хлопнул его по плечу Зализа и вскочил на коня.
Настроение у него ныне было, как никогда — первый, почитай, ребятенок при нем на его пожалованной земле рождается. Причем мальчишка. Причем крепкий мальчишка. Да еще у хорошего мужика. Хорошая примета. Если бы в других деревеньках так же заладилось… Глядишь, и детям поместье останется уже не из средних, а из крепких, способных и лихолетье выдержать, и ополчение царю сильное выставить, и свои рубежи уберечь. Теперь за Алевтиной очередь. Пусть рожает наследника, пора уже.
С этой мыслью и въехал он в ворота усадьбы, с ней и жену обнял, а затем решительно поволок наверх, в опочивальню, опрокинул на прикрытую балдахином кровать и полез под юбки.
— Что ты делаешь, Семен? — вяло попыталась отпихнуть его жена — День на дворе, пятница. Людей постыдись!
— А что, есть кого? — он влез головой под юбку и прижал ухо к животу.
— Нет пока, но…
— Но будет, — пообещал Зализа и принялся торопливо выпутываться из доспехов — крючки, застежки, ремни.
Алевтина не удержавшись, хихикнула в рукав:
— Вот так и останешься… С задранным подолом, и нетронутая…
Опричник только зарычал, спихивая кольчужные штаны вместе с кожаными подштанниками и путаясь в излишне плотных штанинах. Женщина присела в постели, вытянула руки и скользнула ими снизу под рубаху, погладила грудь, живот.
— Какой ты горячий… Кромешник…
Зализа наконец-то выбрался из штанов, шагнул к ней, снова опрокинул и наконец-то вошел, застонав от нетерпения, пытаясь пробиться как можно глубже, словно ища в силе своих толчков возмещения слишком долгим и частым отлучкам. Но непривычное к женскому теплу тело обмануло — и взорвалось восторгом через считанные, до обидного краткие мгновения.
— Ну что, охальник? — добродушно растрепала Алевтина волосы на его голове. — Обедать-то будешь? Тебя еще офеня почаповский искал…
— Не хочу, — Зализа вытянулся рядом с женой и сквозь сарафан сжал ей грудь. — То есть, офеню не хочу, обедать немного, а больше всего… Не пойду никуда отсюда! Два дня всего осталось, и опять в дорогу. Тебя хочу. Не для того замуж брал, чтобы только вспоминать на привале. Хочу, чтобы со мной была. И чтобы сына мне родила. Поскорее.
— Так возьми с собой, на Москву-то. Чай, не в Дикое поле собрался? — она немного выждала и, не получив ответа, мягко толкнула в лоб. — Эх ты, «поскорее», «чтобы рядом». Ладно, порты натяни. Пойдем, потчевать тебя буду, как муженька ненаглядного. А там, глядишь, и пятница кончится.
— Мне можно в пятницу, — внезапно вспомнил опричник. — Тем, кто на службе, Господь пост прощает.
Алевтина остановилась в дверях, с интересом оглянулась:
— Так что, можно не кормить?
— Почему не кормить? — Зализа поднялся, сгреб ее в объятия и крепко поцеловал немного ниже уха. — Кормить. Но «…не хлебом единым жив человек.»
* * *
Когда Зализа прибыл в Каушту, Нислав ждал его уже здесь. Опричник попал как раз ко времени обеда, и мог своими глазами убедиться, что обычаи его поселенцев — называть своих людей иноземцами ему более не хотелось — что обычаи эти по-прежнему мало отличались от монастырских.
Пользуясь теплым временем, они поставили возле своей уличной кухни еще один навес, а под ним — два стола. Жители поселка ныне сидели за этими столами все вместе, под мерный скрип лесопилки разбирая по тарелкам содержимое больших котлов. Пахло мясом, свежей стружкой и вареными грибами.
В глаза опричника сразу бросилось, что полонянки сидят отдельно, плотной стайкой в конце одного из столов, переглядываются и переговариваются только между собой. Правда, одна ливонка ковырялась на кухне у очага — но это ровным счетом ничего не меняло.
Нислав примостился между двух местных девок — Юлей и упитанной кухаркой. Помнится, Зинаидой ее звали. Служивый что-то им оживленно рассказывал. Судя по жестам — о младенце. Бабы завистливо смеялись и наперебой давали какие-то советы.
Боярин Константин, увидев гостя, заметно изменился в лице и встал.
Однако Зализа, делая вид, что и вовсе его не замечает, спрыгнул с коня, перекинул повод через бревно коновязи, отпустил подпругу, после чего спокойно подошел к столу и втиснулся между Ниславом и Зинаидой.
— Вы ему этого мха в штанишки напихивайте, и пускайте, — размахивая руками, советовала женщина. — Он впитывает все, как губка. И дезинфекционными качествами обладает. А потом нового напихаете.
— Нислав, зачем они пытаются напихать тебе в штаны болотный мох?
— То не мне, — зарделся воин под взрыв женского смеха. — То они малышу предлагают в штанишки пихать.
— Чьему?
— Моему.
— Так он же маленький совсем! — удивился опричник. — Ему полугода нет. Откуда штанишки? Кто же раньше пяти лет ребенку штаны одевает? Они же все писаются!
Женщины почему-то снова дружно захохотали, а замеченная опричником полонянка с кухни поднесла и поставила перед ним тарелку каши с мясом и грибами.
Зализа вытянул из-за пояса завернутую в тряпицу ложку, зачерпнул угощение, набрал себе полный рот.
— Вкусно!
Ему внезапно вспомнилось, как менялся его стол за последние два года. Когда он приехал сюда с двумя друзьями и они все вместе только-только пытались разобраться с житьем и законами помещичьего хозяйства, то на столе обычно стояла рассыпчатая каша на воде, да краюха хлеба, которою съедали целиком, и не морщились. Когда маленько приспособились, каша стала пахнуть салом, а на ломтях хлеба нет-нет, да и появлялся кусок убоины. Потом государеву власть почуяли местные офени и купцы, и каша стала разбавляться грибами, иногда свежей рыбой, к столу начали подаваться пряженцы и расстегаи. Когда он выследил и частью посек, а частью развесил вдоль дороги для успокоения путников две станишные ватаги — одну у тракта Новгородского, а другую у летника через Кипень, бояре начали привечать его и зазывать в гости, на столе стояла уже убоина, пироги и печеная птица. Хлеб они пользовали как тарелки, после чего скармливали собакам. Дома же Лукерия стала варить кашу уже только с мясом, и только по средам и пятницам Великого поста — с рыбой. Теперь же, окончательно осев в усадьбе боярина Волошина, он и вовсе начал забывать, каково это — питаться кашей? Ноне опричник баловался то свининкой свеженькой, то рыбкой копченой, то ушицей из яблок, да пряженцами. Такая вот получалась история его службы государю Ивану Васильевичу.
— Полонянки как, работают, не увиливают? — спросил он, ни кому особо не обратясь.
— Да помогают, стараются, — признала Зинаида.
— Со скотиной у них хорошо получается управляться, — добавила Юля. — Это мы, городские, все никак у быка вымя от хвоста отличить не можем.
— А мужики ваши не обижают?
— Не, как можно, — замахала руками Зина. — Что они, насильники какие-нибудь? И пальцем никто не прикоснулся!
— Угу, — кивнул опричник, быстро доел кашу и, похвалив ее еще раз, поднялся из-за стола.
Боярин Константин, увидев, как он поднимается, тоже вскочил — но Зализа снова сделал вид, что Росина не замечает и пошел ко второму столу:
— А ну, девки, вставайте и ступайте за мной.
Полонянки послушались и опричник, отойдя шагов на триста, повернулся к ним, оглаживая голову:
— Кто я знаете? Хозяин я ваш, на саблю свою всех вас взявший. Все вы мои пленницы, и хочу, отпускаю, хочу, дарю, хочу дальше продам. Это ясно?
Девки закивали, оглаживая подолы.
— А еще я хозяин здешних земель и этого поселка. И сильно меня беспокоит, что живут мужики, как сычи, семей нет, детей нет. Так пойдет, лет через тридцать и на мануфактуре управляться станет некому, и в лес пойти, и поле вспахать, и скотине корм задать. Понятно говорю? Вот и хорошо. Теперь скажу еще яснее: коли вы мужикам здесь не нужны, то и мне то же. Сейчас я в Москву отправляюсь. Вернусь к осени, а то и к зиме. Кто из вас к этому времени без мужа, али хахаля останется — продам татарам.
Полонянки мгновенно притихли, а опричник, неспешно обогнув кучку молодых девок, подошел к боярину Росину со стороны спины и положил ему руки на плечи:
— Ну что, Константин Андреевич, пора.
— Ты чего, Костя? — кинулся сбоку Картышев.
— Все в порядке, Игорь, — вымученно улыбнулся Росин. — Я только объясню людям про эпидемии, про правила проведения карантинных мероприятий, и все.
— И все?
— Не беспокойся, Игорь, — Росин выбрался из-за стола и успокаивающе помахал ему рукой. — Точно говорю, все в порядке.
Нислав сам сообразил, что настала пора отправляться в путь, первым подошел к коновязи, подтянул подпруги.
— Ну что, руки сковывать станете, или мешок на голову одевать? — поинтересовался Росин.
— Вот уж делать больше нечего, — хмыкнул Зализа. — Ты, Константин Алексеевич, если бы захотел, раз сорок сбежать уже мог. Сдается, отпусти даже я тебя на все четыре стороны, ты сам в допросную избу явишься, и дыбу требовать начнешь. Потому и поедешь с нами как есть, при мече и в седле. Дабы от крамольников своих отбиться бы смог. Ну, бояре, — опричник тоже поднялся в седло. — В путь!
Разумеется, первую остановку с долгим ночлегом они сделали в боярской усадьбе близ Замежья. Поздним утром, поев и приторочив к седлам небольшие сумки с дорожным припасом и подарками, все трое двинулись в сторону Новгорода. Зализа, напяливший долгополую монашескую рясу, опоясанный саблей, с высокой рогатиной у колена, луком на крупе коня, с собачьей головой и метлой у стремени выглядел настолько зловеще, что собственные мужики, когда он проезжал через поселок, предпочли запереться во дворах, с опаской поглядывая через узкие щели воротин.
Нислав, хорошо сознавая, что находится на службе и отправляется в столицу, надел поверх новенькой косоворотки с вышитым Матреной цветком на плече свой видавший виды бронежилет, забил кармашки самодельного патронташа зарядами с крупнокалиберным жребием и до блеска отдраил ствол пищали. За спину закинул бердыш, широкий полумесяц которого и без того сверкал, как вечерняя луна. И только Росин, не испытывая от предстоящего путешествия особого восторга, оделся так же, как работал: самодельные поршни, суконные штаны, да простая полотняная рубаха. Командирские часы свои он оставил в поселке, дабы хитрым устройством москвичей не смущать, а меч и нож повесил на ремень только по настоянию опричника.
Путники поднялись на две версты вверх по течению, вброд пересекли Рыденку, затем лесной приболоченной тропой дикого зверья и бродяг-коробейников двинулись прямо к торфяному озеру Тигода, и за него, к деревеньке торфокопальщиков Кересть. Этот небольшой переход в двадцать верст занял время почти до полудня, Зато от Керести до самого Новагорода шел уже накатанный широкий тракт.
Не желая показывать лишним глазам взятого под стражу боярина, торговый город Зализа обогнул, выйдя на главную проезжую магистраль Руси возле Воробейки, где и потребовал от раскрасневшегося возле пышущего жаром самовара смотрителя подорожную. Вид черной рясы государева человека, бердышника за его спиной и магические слова: «Государево дело» заставили упитанного бородача забегать, как после солидного бакшиша, и вскоре всадники, оставив усталых скакунов на казенной конюшне, помчались дальше на перекладных.
До сумерек они успели проскочить два яма, остановившись на ночлег в третьем. Дорожные станции на московском тракте, не в пример псковской дороге, размером были с хорошую деревню: обширные конюшни вмещали до трех сотен лошадей, ночлежный дом в два жилья немногим уступал неприступной крепости Копорье, для кухни ежедневно закалывали свиней и бычков целыми стадами, дымили очагами своя кузня, коптильня. Обширные склады наполняли горы овса, ржи, ячменя, а сенные скирды поднимались высотой с сам дом.
— Думаю, — усмехнулся, спешиваясь, Зализа, — чтобы отбить у лифляндцев да жмудинов охоту Русь воевать, им хоть один раз дорожный ям увидеть надобно. Они такие путевые станции за крепости али города считают, а у нас и оборонять подобную мелочь воеводы поленятся. Да только не дойти им ни в жисть ни до одной русской проезжей дороги. Ноги коротки.
Кормили на станции сытно и обильно, но без разносолов: каша с мясом, рыбка вареная, хмельной мед для крепкого сна. Пост Господь путникам прощает, а потому и скоромных блюд в трапезной не предусматривалось. Спать, правда, уложили в одну комнату, да еще на слежавшиеся травяные тюфяки, которые и пахли кисло, и комками в ребра давили. Зато клопы, про которых так часто поминали бывалые путешественники, никого тревожить не посмели — видать, помимо сена, в постели щедро добавляли пижму и горькую полынь.
Хотя, может быть, комковатые тюфяки делались смотрителями специально — потому как залеживаться в яме путникам не захотелось, и ранним утром, наскоро перекусив, пока конюхи седлали им лошадей, путники отправились дальше.
Зализа, более-менее знакомый с ямской службой, гнал скакунов нещадно, потому, как когда они уже начинали ронять пену изо рта, на дороге обнаруживалась новая станция. Путники спешивались, разминали ноги и спины, помахивали руками — тем временем их седла и сумки перекидывались на свежих лошадей, и вскоре они опять, яростно втаптывая копытами лежалую пыль, неслись дальше. Восемь станций, триста с гаком верст, один день пути — и впереди показались богатые подмосковные селенья.
Столица никак не вмещалась в отведенные ей стены, и сколько ни строй государь новые валы, ни раскидывай округ китай-города, ни дозволяй монастырям расширять дворы и заниматься мирскими делами, а все равно не хватало места разрастающимся округ Москвы мануфактурам, обширным кузням, литейным и пушкарским дворам. Приближение города издалека ощущалось по запаху дыма, по низкому повсеместному гулу работающих мельниц, стучащих молотов и печатных станков, горящих горнов и очагов. Истоптанная миллионами ног и копыт дорога расширилась до доброго десятка саженей, и все равно по ней было не протолкнуться из-за множества ползущих к городу и от города повозок, мычащих коровьих стад и жалобно блеющих овечьих отар, обреченно хрюкающих кабанчиков, набравших, на свою беду, хороший вес. Редким богатым боярским каретам приходилось ехать в сопровождении немалых конных отрядов пышно разодетой дворни, палками и кнутами прокладывающих свободный путь своему господину.
Зализа начал казаться себе малой соринкой, попавший в стремительный и неодолимый водоворот полноводной реки, из которой уже никогда не выбраться, не добиться своего — и остается только молить Бога, чтобы стихия не утянула тебя на самое дно, а вышвырнула на тихий теплый берег.
Впрочем, троим всадникам пробираться оказалось куда легче, чем неповоротливым телегам и саням — а встречались на дороге и сани, и волокуши. Отчасти благодаря вертлявости коней, отчасти благодаря черной рясе государева человека, но опричнику постоянно удавалось обнаружить впереди достаточный просвет, куда можно направить коня широкой грудью и провести за собой обоих спутников.
Однако, как ни торопился Зализа, но в ворота Москвы они въехали уже затемно. Опричник понял, что в Посольский приказ ехать поздно и повернул к дому своего друга, благо жилище Андрея Толбузина посещал не раз, и как найти его помнил хорошо.
В Москве завсегда все получается не по общерусскому обычаю, и боярские дети здесь — отнюдь не мелкие помещики, способные вывести на смотр только себя, да пару сыновей али оружных смердов, а привеченные царским вниманием знатные вельможи, способные походя купить или растратить имения размером со всю Северную Пустошь. Потому-то и жил боярский сын Толбузин не в малой избушке вблизи подмосковного монастыря, а возле кремля, в обширном дворе, выпирающем наружу прочными бревенчатыми стенами.
Ворота двора были уже замкнуты, но Зализа, спешившись, громко застучал кулаком в ворота.
— Кто боярина беспокоит в такое время? — послышался вскоре сонный голос.
— Государев человек Семен Зализа из Северной Пустоши приехал! — крикнул в ответ опричник.
— Государев, государев… — без всякого почтения, но тихонько буркнул привратник, а потом уже во весь голос прокричал: — Боярин Толбузин почивать изволят. Завтрева приходите!
— Доложи немедля! — потребовал Зализа. — Не то быть тебе завтра же на конюшне поротым нещадно. А ну, доложи!
— Почивает, сказываю, барин… — уже не так уверенно откликнулись из-за ворот.
— Ты еще здесь? — грозно удивился опричник. На некоторое время за воротами стало тихо, но вскорости тяжелые створки скрипнули и стали расходиться.
— Ты ли это, Семен? — якобы почивавший боярский сын Толбузин стоял сразу за воротами, одетый в алые сапоги, красные атласные шаровары и кубачовую рубаху. На плечах лежала тяжелая соболья шуба, крытая сверху багровым сукном с шелковыми вошвами и густой синей вышивкой.
Зализа, ведя в поводу коня, переступил границу двора и тут же был заключен в крепкие дружеские объятия.
— Зализа! Воевода наш северный, свенов и литовцев о прошедшие два года побивший?! Ну, порадовал, порадовал, — боярский сын говорил громко, словно слова его предназначались не гостю, а кому-то еще, невидимому в сумерках неосвещенной улицы. — Какими судьбами в стольном граде?
— Крамола супротив государя служилым человеком услышана была, — кивнул в сторону Росина Зализа. — В Посольский приказ привез, но засветло не успел…
— Немедля в поруб крамольника! — грозно рыкнул Толбузин, и дворня, словно собачья стая, кинулась сдергивать Константина с седла. Председатель «Черного шатуна» не особо и сопротивлялся, а потому задачу свою смерды выполнили быстро и с честью, быстро поволочив пленника вглубь двора.
— А это воин мой, Нислав, — на всякий случай предупредил опричник, указывая на потянувшегося к бердышу бывшего милиционера. И, опасаясь, как бы служивый не оскорбил хозяина дома, въехав во двор верхом, предупредил: — Давай, спешивайся, заходи.
— Коней примите, — небрежно махнул рукой хозяин, ни к кому особо не обращаясь. — Стол накройте в трапезной. Друг ко мне приехал.
Толбузин обнял Зализу и повел его к дому. От боярского сына вкусно пахло терпким вином, пряностями и чем-то копченым. Семен почувствовал, как рот наполняется слюной, и в брюхе тут же забурчало.
— Сейчас, сейчас, — рассмеялся боярин Андрей. — Сейчас за стол сядем.
— Служивый мой… — неуверенно произнес Зализа. — Крамолу слышал, но мужик хороший.
— Нет, — покачав головой, остановил его Толбузин. — Коли крамольник, должен в порубе сидеть. Вина хорошего могу ему послать, убоины, сластей. Но сидеть должен в порубе, и поутру сразу же — в допросную избу. Не дай Бог кто услышит, что с крамольником разговаривали, не под засовом держали — враз государю донесут. И понять не успеешь, за что на дачу новгородскую за реестровыми людьми присмотреть отослали.
Зализа вздохнул. У себя, в Северной Пустоши, он успел подзабыть жестокие столичные нравы.
— Человек-то твой служивый откуда, Васька да Феофан где?
Они вошли в дом, и хозяин с явным облегчением скинул на сундук жаркую шубу, которую спеси ради демонстрировал проходящим за воротами зевакам. Без этого в Москве тоже нельзя. Поленишься из-за жары шубу лишний раз потаскать, горлатную шапку одеть, на санях с тройкой вороных по булыжной мостовой промчаться — и тут же слухи пойдут, что, дескать, обеднели кладовые боярского сына Толбузина, веселья в нем не стало, удали молодецкой. Не иначе немилость царскую почуял, не иначе думы черные гнетут…
— С деревеньки Еглизи на службу сам попросился, — безразлично пожал плечами Зализа, намеренно опуская подробности, делающие биографию бывшего патрульного милиционера излишне подозрительной. — Я поначалу сомневался, но мужик изрядное мастерство в огненной справе показал, бердышом работает лихо. А что саблей да мечом не владеет — так и зачем оно стрельцу?
— Да, огненная справа, дело превеликое, — причмокнул Толбузин, садясь во главу длинного пустого стола и указывая опричнику место подле себя. — Мир-то как вокруг меняется, Семен, уследить не успеваешь! Сам посмотри: Иван Васильевич, дед нашего государя с моим дедом ливонцев ходили воевать, так за всю компанию выстрела ни единого не громыхнуло! А ноне? Под Казань с нарядом из ста двадцати стволов ходили, на Литву — со ста пятьюдесятью. В каждой новой крепостице царь по полсотни тюфяков оставляет, да пищали со стволами, что голова моя пролезает! Под Казанью — всего годков-то назад несколько, пушки в ямки земляные прикапывали, клинышками на стены наводили. А ноне они уже на лафетах деревянных лежат, да с колесами, чтобы с места на место без задержки катать. Мы с тобой татар да литовцев стрелами секли, а ноне государь вольных людей в стрельцовые тысячи без устали набирает, ни одна сеча без того не начнется, чтобы жребием ворога не посечь. Да что мы, татары в набеги с пушками турецкими, да турецкими стрелками ходить начали! Дым со всех сторон клубами валит. Чую, полста лет пройдет, а внуки наши и забудут уже, как луки выглядели, на сабельный удар сойтись с ворогом не смогут, все издалека пулять станут. Куда все это катится, Семен? Дед мой не знал, как ствол пищальный выглядит, внук про лук тугой и точный забудет, а хитроумие человеческое никак не кончается. В монастырях заместо писцов машинки хитрые книги начали строчить. Одна польза, Домострой государев тыщами штук переписали. Проволоку кольчужную железные воротца тянут, ткани новые мельницы прядут, охотники на зверя с огнестрелами ходить начинают. Этак лет через сто заместо живых коней деревянные летающие появятся, а заместо писем буквы сами по тропинкам от города к городу бегать станут. — Толбузин тяжело вздохнул и покачал головой. — Давай, выпьем.
Слуги уже успели принести на стол пироги, блюдо с холодной, целиком запеченной птицей, ровно порезанной бужениной и залитые соусом куски убоины. Разумеется, появились здесь и высокие кубки вместе с пузатыми кувшинами.
— Ты представить себе не можешь, как изменилось дело воинское за пять лет, — ответно вздохнув, кивнул Зализа. — Веришь, нет, но два месяца назад крамольник, что в порубе сидит, с пятнадцатью мушкетонами три сотни ливонской конницы несколько дней удерживал, немало схизматиков в землю уложил, а все мы ни единого охотника не потеряли. Потому и жалею его. Ох, хитер в огненном деле. Хитер, разумен, храбр. В поле сметку проявляет недюжинную. С хорошим нарядом половину войска заменит. Жалко, коли сгинет. А коли не веришь, Нислава спроси. Он вместе с нами на дерптского епископа ходил, сам все видел. Где он, кстати?
— Придет, — небрежно отмахнулся боярин. — В моем доме всем служилым людям, что Русь животом защищают, место завсегда за хозяйским столом полагается. В людскую не погонят. А ты, стало быть, опять в порубежье отличился?
— Да то заслуга невелика, — небрежно отмахнулся опричник. — Орден ныне рыхлый, как копна сена сухого. Любой ветерок подует, размечет враз. Чудо, что во Свению или к ляхам еще не ушел. Ничейная, почитай, земля. Сражаться за нее некому. По зиме Орден всего тысячу воинов выставил, да и то треть ландскнехты наемные. Два десятка русичей, баловства ради в замке Сопиместском о прошлым летом засевших, по сей час выгнать некому. В вере разброд, клятвы свои кавалеры рвут, жен в замки берут и по лютеранской ереси венчаются. Над магистром своим смеются и ни во что не ставят…
Зализа осекся, поняв, что взгляд боярского сына стал холодным и трезвым, и слушает он крайне внимательно.
— Вести, стало быть, добрые привез, — огладил курчавую бороду Толбузин. — Ты это все государю в подробностях повтори, ибо купцы ганзейские да ливонские все кляузы ему пишут, на наших торговых людей жалуются, льгот просят, плаванье в порты наши запретить угрожают. Видать, настала пора ганзейских купцов русскими делать, дабы место свое истинное узнали и торговлю на равных со всеми вели. И про огненную затею расскажи, как пятнадцатью стволами три сотни конницы остановить можно. Обязательно расскажи, Зализа! Потому, как бояре ближние все про ополчение царю на ухо шепчут, про конницу кованную, что любого ворога затоптать способна. Я уж не знаю, что за стержень литой в душе государя нашего, но пока он советчиков таких хоть и слушает, но все верстает и верстает в стрельцы мужичков расейских. Домик каждому с землей дает, от тягот всех избавление, тегиляй, да пищаль с сабелькой вострой. Дабы, случись беда изрядная, огненным зельем нашу конницу поддержать могли. Рахмет! — неожиданно поймал он за ухо раскосого служку. — Служилый человек гостя моего где? Долго нам еще его ждать?
— Да спит он, барин! — отскочил мальчишка и обиженно потер враз покрасневшее ухо. — До пищали нас своей не допустил, сказал сам в покои отнесет. Мы опосля заглянули, а он и почивает, кафтана не снямши. Поднять?
— Не надо, — добродушно откинулся на спинку кресла Толбузин. — Завтра баньку ему стопите, одежку новую дадите. Они, почитай, четыре сотни верст от Северной пустоши отмахали. Пусть отдохнет. Да и ты, думаю, умаялся, Семен? Тем паче, завтра вставать рано, крамольника к боярину Савельеву везти. Задержимся после первого луча — царю всенепременно про укрывательство донесут…
* * *
Костя Росин думал, что ночь эту не уснет — но как только, отдав ремень с оружием и скинув поршни, упал на солому, сваленную в темном, без окон, порубе прямо на пол, то мгновенно провалился в сон. Ему опять снилась Пулковская улица и автобус шестнадцатого маршрута, снился знакомый, разделенный на секции магазин. Он шел по длинному, бесконечному коридору, видел по сторонам все те же рожи кавказской и немецкой национальности, но никто более не обкладывал его матом, не называл свиньей и не требовал отдать кошелек и больше не соваться в эти земли. Наоборот, продавцы приветливо улыбались, махали руками и звали к себе:
— Заходи, земляк! Гостем будешь. Бери, чего душа просит, все задешево отдам. Штучка пятачок, горстка доллар, ящик — двадцать восемь испанских таллеров!
И чувствовал себя Росин натуральным санитарным инспектором, ни разу в жизни не бравшим взяток, а потому убитым еще до окончания детского садика.
— Вставай, крамольник!
Костя дернулся от неожиданности, прищурился, пытаясь заслониться от бьющего из распахнутой двери яркого света.
— Очухался? На, вина из кувшина выпей, да цыпленка боярин Толбузин дать тебе велел. И поторапливайся, повезем скоро.
Дверь захлопнулась, и полуподземная камера наполнилась приятным сумраком. Росин принюхался к кувшину, хлебнул глоток. Похоже, в последний путь его решили проводить приятным, чуть подкрепленным сухоньким. Костя прилип к горлышку, кадык на горле часто-часто задвигался. Потом он перевел дух и взялся за холодного, вчерашнего цыпленка, тщательно обсасывая каждое ребрышко, выгрызая из костей костный мозг, перемалывая зубами хрящики. Когда птичка кончилась, он жадно допил остатки вина и с облегчением откинулся на солому. От полного желудка расползалась приятная истома, голова слегка кружилась и будущее уже не представлялось таким страшным. Он даже снова задремал — когда дверь вдруг распахнулась снова, в поруб ввалилась толпа парней, на Росина навалились, перевернули на живот, связали руки за спиной.
— Вязать-то… Зачем… — прохрипел он, раздавленный шевелящейся массой, но мнение пленника мало кого интересовало.
Костю выволокли во двор, кинули в телегу. Правда, на мягкое — повозку заботливо выстелили свежим сеном. Росин увидел над собой лошадиные морды, а еще выше — хозяина дома, вчера встречавшего их у ворот, и хмурое лицо Зализы.
— Вязать-то зачем? — повторил Росин свой вопрос.
Опричник сделал вид, что не слышит.
— Я что, убегать собираюсь? — повысил голос Костя. — Или сам умышлял? Свидетель я. Просто свидетель…
— Ты сам этого хотел, — глядя в сторону, буркнул Зализа и внезапно помчался куда-то вперед.
— Н-но, родимая! — послышался до боли родной призыв и телега затряслась.
— Вот, блин, — выругался Росин, больно ударившись головой а выпирающую в сторону деревянную палку. — Шестнадцатый век, а дороги, как в двадцатом остались.
Мимо проплыли створки ворот, телега повернулась и мелко затряслась. Костя смотрел на проплывающие высоко в небе облака, и думал о том, что в дождливую погоду сидеть в темнице было бы не так обидно. И еще о том, что хорошо бы эта дорога не кончалась никогда.
Однако вскоре они въехали в другой двор, и над телегой обнаружилась темная бревенчатая стена метров семи высотой. А может и не семи — глядя снизу вверх высоту определять трудно. Росина надолго оставили в покое. Он даже понадеялся, что и вовсе забыли — но нет, подошли два дюжих, пропахших сальным потом молодца, молча подхватили его под руки и поволокли к дому.
Вопреки ожиданию, отвели его не в подвал, в которых так любят снимать кино про средневековые ужасы, а в большое светлое помещение с затянутыми тонкой пленкой окнами под потолком. Там же, под потолком, проходила толстая балка, с которой свисало несколько веревок. Громко и уютно потрескивал открытый очаг, перед которым, помимо привычной кочерги, лежали еще клещи с длинными рукоятками, грубой работы ножницы, почерневшие от пламени ножи и трезубцы.
— Вот он, боярин, — Росина поставили перед длинным столом, за которым сидели в монашеских рясах Зализа и боярский сын Толбузин, а также незнакомый ему старик с совершенно седой бородой, зябко ежащийся под накинутой поверх полотняной рубахи шубе. Чуть поодаль с громким скрипом черкал по бумаге пером подьячий со скуластым лицом и жиденькой, со считанными волосками, бороденкой.
Косте на миг подумалось, что пишет он, быть может, по изготовленной им самим бумаге, которую купец Баженов грозился задешево в государевы приказы продавать, но тут он ощутил, как кто-то возится за спиной, привязывая поверх уже накрученных веревок еще одну.
— Готово, Иосиф Матвеевич.
Старик кивнул. Притащившие Росина парни ушли и в помещении повисла долгая тишина. Незнакомый старик с интересом вглядывался в лицо стоящей перед ним жертвы, Зализа нервно покусывал губу, Андрей Толбузин крутил на пальце массивную золотую печатку.
За спиной послушались шаги. Костя нервно вздрогнул, попытался отшатнуться, но плечистый мужик всего лишь подошел к стене, к вбитым в нее колышкам, освободил одну из веревок, повесил кнут. Кнут, от которого Росин уже никак не мог оторвать взгляда…
Толстый, сантиметра полтора, он был загнут вокруг рукояти и напоминал не ленту, а длинный, длинный желобок. Но что более всего поразило Костю: края этого желоба были остро, тщательно отточены, превращая обычную плеть в гибкое, длинное, обоюдоострое лезвие. Теперь председатель военно-исторического клуба понял, каким образом заплечных дел мастера умудрялись одним ударом перерубать быкам хребты и спускать людям кожу со спины. Но изменить все равно ничего не мог. А что еще поразило Костю, так это то, что палач был обут в лапти. Это оказались первые лапти, увиденные им в древнем шестнадцатом веке.
— Начнем, — кашлянул старик. — Начнем допросные листы снимать. Семен Прокофьевич, так каков навет твой, на раба Божьего Росина Константина Андреевича будет?
— Признался мне Константин Андреевич, — Зализа тоже закашлялся. — Признался мне Константин Андреевич, что ведома ему крамола, супротив государя нашего, Ивана Васильевича, немецкими колдунами измысленная, кою нынешним, али будущим летом они применить готовятся.
— Верно ли это, раб Божий Константин? — перевел старик холодный взгляд на Росина.
— Верно, — кивнул Костя и перевел дух. В горле запершило, и он тоже начал судорожно кашлять.
— Подкинь дров, Савелий, — попросил старик. — Зябко что-то здесь.
Палач кивнул, и прошел за спиной Росина к очагу, отчего между лопаток потянуло потусторонним ледяным холодком.
— Так, говоришь, ведома тебе крамола, Константин Андреевич? — переспросил боярин.
— Да, — кивнул Костя.
— В чем же умысел тайный состоит?
— Извести царя земли русской они хотят, — сделал пару шагов к столу Костя. — На людей разных, купцов, посольских, ремесленников всяких, в сторону Руси едущих, заклятье они задумали накладывать, чтобы через месяц заболевали они черной немощью, и всех вокруг этой немощью заражали. Надеются они, что кто-то из людей этих, в Москву приехав, здесь болезни посеет, и на государя она так же попадет. Сами околдованные про заклятие ничего не знают, потому, как первыми погибнуть должны, но заклятий колдуны собрались накладывать много и мыслят, что хоть кто-то, но смерть до Ивана Васильевича донесет.
— А как не успеет купец до Руси за месяц доехать, и немощь черная в самой немечии разразится?
— Ради истребления русского царя многими своими людишками они пожертвовать готовы не колеблясь, — выдал Росин заранее заготовленную фразу.
— Схизматики, они таковы, — поддакнул Андрей Толбузин. — Только и слышно из Европы, как сами своих режут без жалости. Кровь в жилах стынет, Иосиф Матвеевич, что про них заезжие люди рассказывают.
— И холера в немецких землях уже началась, — добавил Зализа. — Это Константин Андреевич верно говорит.
— Коли вам поговорить охота, то могу вас, бояре, рядом с рабом Божиим поставить, — лениво предложил старик, и оба мгновенно притихли.
— Я так думаю, — торопливо предложил Росин, — на границах нужно карантины установить. Каждого въезжающего на пару недель под замок сажать. Коли не заболеет за это время, пусть дальше едет. А заболеет — значит, заклятие на нем.
— То мы сами опосля размыслим, раб Божий Константин, — размеренно ответил старик. — А ты скажи, откель тайну сию сокровенную узнал?
— Когда мы с сотоварищи Березовый остров от свенов отбили, приплывал туда купец гамбургский, — ответ на это вопрос Росин тоже приготовил заранее. — Втайне от людей моих встретился со мной и на службу императору звал. А когда я отказался, грозил, что не станет вскоре и вовсе Руси, что государя русского они начисто изведут, народец весь болезнями затравят, а опосля папа римский посланцев сюда пришлет и в веру богопротивную выживших обратит навеки.
— Могло ли быть такое, Семен Прокофьевич? — не поворачивая головы, поинтересовался старик.
— Подтвердить могу сказанное тем, Иосиф Матвеевич, что самолично оных воинов на службу государю с Березового острова призвал. Саблю на верность Ивану Васильевичу они целовали с радостью, живота, защищая рубежи расейские, не жалели, на призыв откликаясь с превеликой охотою. И про крамолу немецкую Константин Андреевич рассказал мне сам, без малейшего понуждения, и на слове своем стоял твердо. А по зиме на рубежи наши рать ливонская приходила, и треть рати сей войска епископа дерптского составили, а еще треть — ландскнехты, на его золото нанятые. О том в подробностях пленные в Бору и Гдове поведали. — Зализа облизнул пересохшие губы. — Кваску бы сейчас…
— Стало быть, услышать про крамолу сию раб Божий мог, — подвел итог старик. — Но вот слышал ли?
— А зачем мне врать? — пожал плечами Росин. — Какая польза? Правду истинную говорю.
— Может, умысел тайный имеется, чтобы ложь богопротивную до ушей царских донести? — задумчиво пробормотал старик. — Хулу про порубежников наших пустить, что свободный проезд в земли русские запретят? Гордыню свою знатной выдумкой потешить? Правду ли говоришь, раб Божий, как узнать?
— Правду!
— Признайся сразу, — предложил Иосиф Матвеевич. — Не лжешь ли на спросе государевым именем. Не лжешь ли царю?
— Нет.
— Савелий, — кивнул старик.
Костя ощутил, как некая сила потянула его связанные за спиной руки вверх, понуждая отступить назад и согнуться.
— Вы чего, чего дела…
Руки тянуло вверх все сильнее и сильнее. Поначалу он попытался встать на цыпочки, но длины пальцев вскоре не хватило, и он повис в воздухе. Вывернутые в неестественное положение плечевые суставы заныли, лопатки болезненно сомкнулись над позвоночником. Росин висел в глупой и неудобной позе, перебирая в воздухе ногами, а его поднимали все выше и выше, едва не к потолочной балке, и отсюда он мог обозреть все помещение — заготовленную в углу кипу соломы, кадушку с водой, длинный стол для бояр и еще один, чуть в сторонке. Ката, подвязывающего туго натянутую веревку к одному из колышков на стене. Хотя, этот колышек больше напоминал глубоко вколоченный костыль.
Палач покосился на него, на стол с боярами, а потом сделал неприметное движение рукой, и Росин рухнул вниз.
— А-а-а! — взвыл Костя, видя, с какой скоростью приближается утоптанный земляной пол, как вдруг краем глаза заметил, что выбравшая слабину веревка превращается в прочную тетиву, сознание захлестнула волна понимания и ужаса… — А-а-а!
Рывок остановил тело в сажени над землей, оборвав крик и выдернув руки из суставов кистями вверх. Росин немо хлопал беззвучным ртом, не зная, будет ли он теперь дышать, или вся эта жизнь осталась далеко позади. Он чувствовал такую боль, словно руки оторвало напрочь, после чего рану, спасая больного от инфекции, старательно обварили кипятком. Костя было абсолютно уверен, что рук у него больше нет, и саднящее ощущение в пальцах, пробравшееся к разуму через стену непереносимой муки вызвало больше непонимания, чем радости. Потом в легкие ворвался воздух, и Росин понял, что продолжает дышать. Странно…
Старик, прищурясь, внимательно наблюдал за его муками, выжидая окончательного примирения с поселившейся в теле болью, после чего устало спросил:
— Так правду ли ты сказал нам, раб Божий?
Росин сглотнул, невнятно засипел. Старик, недовольно крякнув, поднялся, обошел стол, повернул ухо к самому рту испытуемого. Ничего не разобрал и повернулся к кату:
— Один раз, Савелий.
Палач кивнул, взмахнул кнутом.
— А-а-а! — прорвала боль шоковую немоту. Кнут наносил удар не по спине, нет — он обнимал все тело вокруг, словно ласковая любовница. Вот только след прикосновения продолжал пылать огнем и после того, как объятия спали.
— Правду ли ты сказал нам, раб Божий? — повторил старик свой вопрос, глядя в распахнутые от ужаса глаза пленника. — Правду?
— Да, — выдавил из себя Костя.
— Не лги нам, раб Божий, — предупредил, качая головой, старик. — Не лги, ибо кара за грех сей на небесах страшнее боли земной будет. Не лги, признайся и покайся, от мук и страданий вечных себя избавив. Правду ли сказывал ты нам и Семену Прокофьевичу про крамолу немецкую?
— Правду… — прохрипел, хватая воздух широко раскрытым ртом, Росин. — Правду.
— Еще пять, — распорядился старик, повернув голову к палачу.
— Правду, я хочу слышать правду, — раз за разом повторял старик, и после каждого Костиного кивка на тело обрушивалась все новая и новая волна муки. Каждый раз Росин думал, что это предел, что больнее быть уже не может — и каждый раз обманывался, поскольку страдания продолжали нарастать, никаких пределов не зная, пока вдруг в один прекрасный миг он не оказался в длинном коридоре магазина на Пулковской, и не увидел приветливые лица.
— Ну вот, теперь ты наш, — говорили продавцы, — теперь ты наш навсегда. Не возвращайся, не нужно. Мы дадим тебе картонную коробку и станем каждый день кормить большой брюквой и гнилой луковицей. Зато тебе не станет больно. Совсем-совсем. Не уходи…
Но кто-то уже тянул за ниточку из небытия в явь и Росин воспротивился этому до глубины души.
— Н-е-ет! Нет, не хочу-у-у!
Холод! Отфыркиваясь, он затряс головой, и все вернулось — старик, боль, стол, оторванные руки, на которых продолжали тупо саднить пальцы.
— Ты что-то сказал, раб Божий? — глаза старика хищно вперились ему в самые зрачки. — Что «нет»?
— Нет, — облизнув распухшие губы, повторил Костя. — Не лгу.
— Еще два, — разочарованно отступил старик, и кнут снова принял его истерзанное тело в свои объятия.
* * *
— А-а! — Инга присела на кочку и заплакала.
Все обрушилось разом — мечта, любовь, богатство. Сколько раз она мечтала о принце, хорошо понимая, что это всего лишь мечта, как вдруг… Шестнадцатый век, всесильный правитель, замок, полный преданных и раболепных слуг, немое обожание со стороны хозяина и всех прочих смертных, услышавших ее голос. Ковры и шкуры на полах, роскошные платья, подарки… И что? Приходит дядюшка, и выволакивает ее из всей этой сказки, приговаривая, что спасает из плена?
Она обиженно пнула ногой корзинку.
Колдун, колдун! Даже если он заколдовал ее насмерть, даже если чары наложил, почему она должна из выстеленного коврами зала с камином и всегда щедро накрытым столом возвращаться к коровьему загону, бревенчатой избе и каждодневной каше, лоснящейся от свиного сала?
Опять бродить с корзинкой по мокрым кочкам в поисках первых сыроежек? А теперь еще и ногу подвернула!
Всхлипнув, Инга потерла ступню, и взгляд ее остановился на блеснувшем на пальце перстне.
Кольцо подарил он. Господин, имени которого она никогда не произносила, да и не знала. Зачем? Ей хватало его жадной страсти, его обожания ее голоса, ненасытности в обладании ею самою. Почти полгода для нее не существовало никого, кроме него. Так зачем же нужны имена?
Кольцо подарил он. На прощание. Что он тогда говорил? «Коли беда с тобой случится…». Вот она и случилась, беда. Она подвернула ногу. Может, и вправду поможет?
Инга повернула кольцо камнем внутрь и сжала кулак, согревая камень теплом живого тела. И с интересом заметила, как зашевелился мох, и выглянули из черноты несколько сверкающих глаз. Неужели он и вправду колдун, и может прислать своих слуг прямо сюда?
Из нутра кочки стали выбираться небольшие существа, внешне удивительно похожие на сам мох, но только с глазками, крохотными ручками и ножками, обутыми в тончайшие сапожки.
— Ступня болит! — капризно вытянула ногу певица.
Малыши засуетились, забегали. Кто-то приволок листы травы, принялся разжевывать ее и втирать в кожу, кто-то торопливо потащил мох, оборачивая им вывихнутую ступню, кто-то принес снятый с какого-то дерева лубок, кто-то притащил содранное с ближайшей ивы лыко и тут же принялся приматывать лубок к ноге. Поврежденному место стало тепло и легко.
Инга посмотрела на пустую корзинку и повелительно ткнула в нее пальцем:
— Хочу полную корзину грибов!
Существа принялись носиться из стороны в сторону, возвращаясь с подосиновиками, белыми, красными грибами, забираясь по стенке корзинки и сбрасывая свою добычу внутрь. В считанные минуты емкость оказалась наполнена до краев, да еще и с горкой.
— Инга, ау-у!
— Не хочу! — вскинулась певица. — Не хочу, чтобы они меня нашли.
В тот же миг между Ингой и ушедшими вместе с ней за грибами девушками возникла стена дрожащего марева, и без того рыхлая и влажная почва заметно просела вниз, между нитями мха и стебельками осоки заблестела вода. Инга поняла, что с этого мгновения находится на острове.
— А еще дальше в болото я отойти могу?
Из влажной травы, простужено покашливая, поднялся одутловатый плешивый монах, ударил посохом по воде, подняв тучу брызг:
— Туда иди.
Инга, доверившись разрешению, поднялась с кочки, прихватив корзинку, отважно ступила на воду — и пошла по ней, не оставляя позади даже волн! Минут за десять она добрела до небольшого поросшего соснами холмика, поднялась на него, присела на выпирающий из земли камень. Вокруг из-под толстого слоя хвои тут же принялись выбираться уже знакомые ей существа, рассаживаясь перед ней полукругом.
— А вы можете… Вы можете дать мне поговорить с ним?
Малыши рассыпались, но вскоре вернулись, неся над собой свернутый в кулек лист кувшинки, полный воды. Инга склонилась над листом, и увидела дерптского епископа. Увидела так, словно сидела после очередных любовных игр, положив голову ему на колени и заглядывая на своего повелителя снизу вверх.
— Мой господин?
Священник вздрогнул, растерянно поводил глазами, пытаясь найти нежданную собеседницу, потом опустил их вниз. Взгляд потеплел, на глазах заиграла легкая улыбка:
— Инга… — он откинул голову, прикрыв глаза, потом снова поднял ее и взглянул прямо на девушку. — Ты?
Певица видела только его лицо. Она не знала, что он сидит в кресле, разведя ноги, а перед ним стоит на коленях госпожа Болева уже в который раз всеми возможными путями зарабатывая себе право на жизнь. Она не позволила себе дрогнуть, услышав, как епископ завел с кем-то разговор, хотя в зале находились только они двое, не подняла на своего хозяина глаз, со всем тщанием выполняя очередную его прихоть.
— Инга… — священник взял со стола кубок с вином и взглянул в него. — Как я по тебе соскучился…
— А эти существа, — певица развела руками. — Они могут отнести меня к тебе?
— Не нужно, — попросил священник. — Не нужно. У меня осталась всего одна неделя. Нам придется ждать два года. Ты сможешь?
Он опустил пальцы в вино, погрузив их примерно на треть — и Инга увидела, как из поверхности воды выступила часть его руки. Певица стремительно наклонилась вперед и прикоснулась к протянутым пальцам губами. А потом увидела, как его губы приближаются к воде, и наклонилась навстречу.
— Инга… Жди… — она ощутила легкое прикосновение, и священник исчез.
Она не знала, что соприкосновение разорвалось потому, что ее господин допил из бокала вино, одновременно запустив пальцы другой руки в прическу миловидной женщины и застонав от наслаждения. Впрочем, это отнюдь не значило, что дерптский епископ стал относиться к ней хуже, что променял ее на кого-то другого. Просто он помнил, насколько хрупка плоть и мимолетно его пребывание в человеческом теле. А потому стремился получить как можно больше наслаждений за отведенное ему в этой обители время.
Инга, просидев несколько минут над листом, ставшим просто лужицей болотной воды в лепестке кувшинки, перевела взгляд на мохнатых малышей:
— А дом мне построить вы можете?
Те заметались, непонятно щебеча, и с сосен вниз посыпалась кора. Потом отвалились в сторону и рухнули в жадно чавкнувшую жижу кроны, а деревья с громким сухим треском начали падать чуть ли не ей на голову, одновременно переламываясь на отдельные куски. Части разных деревьев прямо в падении начали переплетаться одна с другой, и в результате земли коснулся уже готовый сруб, пока без окон и дверей. Но с земли на стены уже перетекала темная лента муравьев и каких-то жучков, ложилась тонким наброском будущих дверей, на глазах светлела от сыплющихся вниз опилок. Наверху сплетались в единое целое гибкие ветви ивового кустарника, на окнах, создавая полупрозрачные дрожащие стекла, трудились паучки. А пол просто рос наверх, превращаясь в укрытую толстым слоем мха мебель: кровать, стол, стулья, вместительный сундук.
Мелкие существа еще возились, вбивая в зазоры между бревнами влажный мох, но певица уже шагнула внутрь дома, огляделась и довольно рассмеялась:
— Хорошо… А теплее сделать можно?
Сосновые стены немного потемнели, и от пола вверх поструились ощутимые потоки жара.
— А если я есть захочу?
Дверь со скрипом отворилась, внутрь просунулась волчья морда со свисающим с зубов зайцем. Хищник положил добычу на пол и отступил наружу.
— А готовить на чем? — вместо ответа она ощутила запах дыма, выскочила наружу и увидела пляшущие над камнем языки пламени. — Да, это хорошо…
— Вы позволите, госпожа? — обнаженная девица с зелеными волосами подняла с пола зайца, держа его за уши, спустилась к воде, ненадолго опустила вниз и извлекла уже полностью освежеванного. Сноровисто натерла полынью и положила на камень. Языки пламени осели, зато дичь начала покрываться румяной корочкой.
— Я хочу написать письмо! — объявила Инга.
Моментально несколько моховиков поднести ей тонкую широкую бересту, острое стило, одно из существ раздавило в ладонях горсть алых ягод, подставило ей жирно перепачканные руки. Макая кончик деревянной палочки в эту странную чернильницу, Инга быстро написала: «Вот теперь ты меня точно не найдешь!», поставила свою подпись и положила бересту в корзинку:
— Я хочу, чтобы вы отнесли эту корзину в Каушту и подсунули в стекловарню. Сможете?
Корзинка исчезла.
— Ужин скоро будет готов, госпожа, — Инга увидела рядом с собой тело, покрытое крупными каплями воды, и невольно зябко передернула плечами. — Вы позволите, я расчешу вам волосы, госпожа?
— Дозволяю…
Певица поднялась на холмик, уселась рядом с излучающим тепло камнем, тряхнула головой, распуская волосы, ощутила ласковое к ним прикосновение. Она прищурилась на закатное солнце и поймала себя на том, что снова чувствует себя спокойной и счастливой.
Инга сладко потянулась и в голос, от всей души, запела:
Понимаешь, это странно, очень странно, Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, И с собою мне не справиться никак. Люди едут за деньгами, Люди посланы делами, Убегают от обиды и тоски А я еду, а я еду за туманом, За туманом и за запахом тайги.Она осознала, что вокруг воцарилась странная тишина, и смолкла. Маленькие существа, побросав свою работу, собрались вокруг, изумленно приоткрыв маленькие ротики. На деревьях расселись крылатые разномастные коты вперемешку с летучими мышами, устроившимися неправильно — головой вверх. На берегу стояли монах, некое вконец несуразное чудище из сучьев, коней и волочащихся длинных водорослей, несколько мохнатиков размером с собаку, но на задних ногах, из воды выглядывали девичьи головы.
— Спой еще, госпожа, — попросил один из малышей.
— Вам понравилось? — спросила Инга, и все зрители — и на земле, и на деревьях, и в воде дружно закивали головами.
— Еще никогда со своего порождения я не слышал ничего подобного, — признался монах.
Инга задумалась, глядя на них с некоторым сомнением, потом медленно повернула перстень камнем наружу.
— Вам нравится, как я пою?
— Очень нравится, госпожа, — сказала болотница, по-прежнему расчесывающая ей волосы. — Нам никто и никогда не пел, госпожа. И уж тем паче так красиво, как вы.
Девушка рассмеялась, снова залюбовавшись епископским подарком. И первыми словами, что пришли ей в голову, были слова Владимира Высоцкого про этих самых обитателей славянских лесов.
В заколдованных дремучих, Старых муромских лесах, Нечисть там бродила тучей, На проезжих сея страх, Будь ты конный, будь ты пеший — Заграбас-стают, Ну а лешие так по лесу И шас-стают Стра-а-ашно, аж жуть. А мужик, купец, иль воин, Попадал в дремучий лес, Кто по делу с перепою, Али с дуру в чащу лез, По причине по какой, Беспричин-н-ноли Только все как их видали, так И сгин-н-нули Стра-а-ашно, аж жуть. В заколдованных болотах Там кикиморы живут, Защекочут до икоты, И на дно уволокут…Зловещие куплеты озорной песенки далеко растекались над болотами Северной Пустоши, подхватывались эхом в сосновых борах и дубовых рощах, катились над укрытыми вечерним туманом полями и стелились над озерами, превращаясь в долгое переливистое завывание, но так и не утихая насовсем, находя слушателей везде — от древних славянских капищ над берегами Одера, до неведомых пока бородатым казакам Амура и Колымы.
Забился, услышав грозный голос тайги, поближе к печке усталый вепс, перекрестился застигнутый на дороге одинокий монах, испуганно сжал бердыш стрелец островной крепости Орешек, дрогнули и разметались дымки над могилой Отца варягов, сами собой зазвенели колокола Сергеева посада. И только один-единственный человек не встревожился услышанным звукам: дерптский епископ, поставив кубок и отодвинув Регину, подошел к окну, оперся руками на толстые железные прутья, улыбнулся:
— Инга…
Он вздохнул, вернулся к столу и тряхнул серебряный колокольчик. Госпожа Болева, понимая, что сейчас в залу кто-то войдет, стыдливо навернула на себя шкуру.
— Латоша, — узнал вошедшего воина хозяин замка. — Флора сюда позови.
Сам дерптский епископ спустился в подземелье и вскоре вернулся с книгой в одной руке и небольшим мешочком в другой.
— Вы меня звали, господин епископ? — шагнул в малую залу начальник стражи.
— Да, я звал тебя, Флор. — Хозяин замка оперся обеими руками на стол, угрюмой тенью нависая над древней книгой. — Ты служишь епископу верой и правдой уже второй десяток лет, не жалея своей жизни для спасения его от опасностей и выполнения его приказов.
— Да, господин епископ, — кивнул ливонец, не очень понимая, почему правитель говорит о себе, как о постороннем человеке.
— Я убедился в твоей преданности, а потому хочу доверить величайшую ценность, которая только есть в этом замке, — хозяин с нежностью провел пальцами по тисненому кожаному переплету. — Завтра ты отправишься в Лондон, найдешь там королевскую библиотеку и передашь ей от моего имени этот щедрый, этот ценнейший, этот величайший дар.
Дерптский епископ подобрал с кресла свой бархатный плащ, приподняв книгу, расстелил его на столе, завернул свое сокровище в него и протянул воину.
— Если хочешь, можешь взять с собой любую охрану, но книга обязана любой ценой добраться до Лондона и попасть в королевскую библиотеку. Ты меня понимаешь, Флор?
Стражник совершенно не понимал, откуда такая торжественность по поводу пересылки какой-то старой книги, но все равно кивнул: ему приказали, его дело исполнять, а не думать.
Съездить в Лондон — это не на русские мушкетоны кидаться, ничего страшного.
— Вот, возьми, — епископ положил поверх бархатного свертка кошелек. — Здесь двадцать испанских дублонов и немного серебра. Это тебе на дорогу, и надеюсь, что для выполнения поручения такой награды должно хватить…
У Флора округлились глаза: двадцать золотых дублонов! Да на эти деньги можно сбежать на Русь, купить там хорошее поместье и жить-поживать, забыв про все беды и заботы!
— Я щедро вознаграждаю преданность, — глядя ему в глаза, раздельно произнес дерптский епископ. — Но и жестоко караю измены. Эта книга должна попасть по назначению, и тогда все остальное меня не станет беспокоить. Но если она не доберется до цели… Тогда тебе лучше не умирать, Флор. И не рождаться.
— Я понял, господин епископ, — сглотнул латник.
— Даю тебе ночь на сборы, — правитель протянул книгу и кошелек воину. — Если не управишься, можешь поехать днем. Но чтобы к вечеру в пределах дерптского епископства тебя уже не было!
— Слушаюсь, господин епископ, — поклонился Флор и попятился за дверь.
Хозяин замка вернулся к столу, остановился, прислушиваясь к чему-то внутри себя, потом вытянул вперед руку. Кисть заплясала в воздухе, словно дворянский вымпел на свежем ветерке. Правитель усмехнулся, взялся за кувшин, отодвинутый на самый край стола — но даже попасть вином в кубок трясущимися руками оказалось весьма непросто.
— Регина! — рявкнул он, подзывая зарывшуюся в меха женщину. — Налей!
Двумя руками он поднес кубок к губам, осушил до дна, потом потребовал еще. После второго на душе стало немного легче, и он опустился в кресло, борясь с желанием побежать и посмотреть, что там делает смертный с «Книгой Магли». Но он сдержался — главный шаг сделан, он смог расстаться с сокровищем и отправить его в библиотеку. Теперь остается только ждать. Смертные любопытны…
Епископ прикрыл глаза, что-то зашептал, по очереди сгибая и разгибая пальцы. Получалось, пять дней. Вчера было шесть, сегодня пять, завтра четыре. Нет, неправильно. Четыре дня, потому, как сегодняшний уже кончился. Всего четыре дня. Четыре дня солнца, ветра, сочных ароматов расцветшего мира, вкуса вина и мяса, шелеста листьев и красок цветов. А ведь только-только начинает теплеть, и волны ближнего озера начинают напоминать своими прикосновениями горячий южный океан.
— Надо съездить завтра на берег, — задумчиво произнес правитель. — Хочу омыться в нем, пока есть возможность.
— Зачем? — пожала плечами женщина. — Если нужно, я полью водой из кувшина.
— Что бы быть чистым, — презрительно дернул краешком верхней губы епископ. — Целиком.
— Вы можете заказать хорошие духи. Из Франции, — предложила госпожа Болева.
Хозяин замка промолчал, но мысленно решил, что заставит ее вымыться целиком, с ног до головы, и не просто умыться, но и оттереть тело песком. Страсть обитателей здешних земель к грязи поражала его до глубины души. Единственной женщиной во всей стране, стремящейся мыться при каждой возможности, оказалась Инга — и ту русские назад уволокли. А остальные… Поначалу он думал — это только в Дерпте провинциальные горожанки такие. Оказывается, нет: благовоспитанная дама из приморского Гапсоля тоже боится смыть нанесенную месяц назад пудру. Обычай такой. И за четыре дня его не переломить даже в одном человеке.
Но на следующее утро зарядил дождь, и правитель никуда не поехал. Он приказал затопить камин, и сидел перед ним, словно пытался впитать в себя столько тепла, чтобы его хватило на положенные по договору два года службы. Госпоже Болевой повезло — она так и осталась немытой, поскольку тучи разошлись только к концу четвертого дня, и епископ долго стоял у темнеющего окна, вглядываясь в просветы голубого неба. Ему оставалось времени только до первого луча, и он знал, что в ближайшие двадцать четыре месяца, семьсот тридцать дней всего этого он больше не увидит.
— Мне холодно, — пожаловалась госпожа Болева.
— Иди в комнату над лестницей, — распорядился правитель. — Ложись в постель. Я поднимусь позднее.
Женщина с удовольствием выполнила приказание, убежав из продуваемого сквозняком зала наверх и нырнув в мягкую, нежную перину под теплое одеяло.
Дерптский епископ разбудил ее незадолго до рассвета, уже раздевшись и вытянувшись рядом.
— Сядь сверху, — приказал он, не удосужившись какими-нибудь ласками.
Регина, усилием воли разгоняя остатки сна, принялась целовать его грудь, шею, живот, возбуждая не столько господина, сколько оживляя в себе необходимое для близости состояние. Опустила руку ему на низ живота, убедилась, что главный рабочий орган напрягся до предела, перекинула ногу через священника, и мягко опустилась сверху, ощущая его проникновение. Потом принялась слегка подниматься и опускаться, временами поигрывая бедрами вперед и назад или из стороны в сторону.
Дерптский епископ закрыл глаза и отринул все мысли сместившись всем своим существом вниз, туда, где рождается высшее во вселенной наслаждение. Именно это состояние он желал испытывать в свои последние мгновенья.
Небо осветилось первым предутренним сполохом, и вечную сущность потянуло, потянуло, словно исчезла опора под ногами и он начал рушиться из прочного, материального, уже обжитого тела в темную холодную бездну…
— А-а-а!
Регина облегченно откинулась, перевела дух:
— Вам было хорошо, мой господин?
— Да, хорошо, — рассеянно кивнул правитель, поднес к своим глазам ладони, покрутил их перед лицом, перевел взгляд на свое тело, на лежащую рядом женщину, потом неожиданно громко расхохотался и вскочил на ноги, принявшись отплясывать какую-то дурную джигу.
Шум привлек внимание слуг — в дверь громко постучали.
— Кто там?
— Вам что-нибудь нужно, мой господин? — заглянул, приоткрыв узкую щелочку, воин.
— Латоша?! — ткнул в него тонким длинным пальцем хозяин замка.
— Да, мой господин…
— Принеси мою сутану, рыцарский завтрак, уберите перину и верните мою постель. А эту, — он указал на Регину, и щелкнул пальцами, словно забыв нужное слово. — А эту: повесить.
Глава 5. Цена слова
Нислав сидел на крыльце, жмурился на солнышко и краем глаза наблюдал, как Зализа, прогуливаясь по двору, играет своей булатной саблей, описывая вокруг сверкающие круги, обрывая их в стремительные выпады, а то, подойдя к сметанному близ ворот стогу, принимался подрубать самым кончиком выпирающие во все стороны травинки.
Расставленные вокруг двора, задними стенами на улицу, сараи, конюшни, скотные навесы, рубленные склады хорошо гасили городской шум, и было слышно, как клинок со свистом режет воздух. Дворня на всякий случай попряталась по углам, лошади и свиньи перестали издавать всякие звуки, словно предвкушая — а на ком пожелает опробовать опричник острие круто изогнутого оружия.
Барин нервничал. Больше недели в Москве, а к царю так и не позвали. Хотя и по службе стыдиться нечего, и рубежи крепки, и крамолу раскрыл. Не привык, видать, еще к службе. Нислав, прежде чем гикнуться в эти времена, успел отработать в патрульно-постовой службе несколько лет, и четко усвоил основной закон: сделаешь чего хорошего, никто не заметит. Нашкодишь — вызовут к начальству и вставят пистон. Потому и понимал, что нервничает командир зря. Раз не вызывают — значит довольны, все хорошо.
— Едут, едут! — закричали откуда-то с чердака, и внезапно засуетились подворники, кинулись к воротам, скидывая тяжелый засов.
Опричник вложил саблю в ножны, отошел к бадье, в которой грелась вода для скота, зачерпнул обеими ладонями, плеснул себе в лицо:
— Хорошо!
Андрей Толбузин влетел во двор в сопровождении еще четырех конных, спрыгнул на утоптанную землю, небрежно отшвырнув поводья:
— Уф, получилось! Сказывал я сегодня государю и про крамольника твоего, и про тебя. Ты уж не обессудь, Семен, но про бой огненный, что боярин супротив войска конного учинил, пришлось пересказать. Потешил я Ивана Васильевича этим, потешил… Завтра видеть тебя желает. Уф… Ну, чего здесь паришься? В трапезную пошли.
Они вошли в дом, в обширную пустынную комнату с длинным столом. Зализа сел рядом с боярином, провел рукой по скатерти:
— Не потчует никто… Ты пошто по сей день не женился, Андрей?
— Не жалует этого государь, — сморщившись, мотнул головой боярин. — Ой, не жалует в своей избранной тысяче. Хочет, чтобы думы все только о Руси были, а не о гнезде своем.
— А как же мне подарок к свадьбе прислал?
— Ну, сравнил, — Толбузин стряхнул с плеч шубу. — Ты где? На рубежах дальних. Только и слышно, то свенов побил, то ордынцев ливонских, то, вот, епископа ощипал. Про супругу ничего неведомо, а про подвиги постоянно вести приходят. Потому и позволяется многое. А здесь: весь на виду, как уж на крыше. Слабости никакой не спустят. Тут же царю на шепчут.
— А правду говорят, — подал голос Нислав, — что царь Иван Грозный чуть не каждый день людей казнил или пытал вся…
Закончить фразу ему не удалось, поскольку пришедшаяся в ухо оплеуха опрокинула его со скамьи, под ребра пришелся пинок ноги, в воздухе сверкнула сабля.
«Убьют», — понял милиционер, проклиная свой невоздержанный язык, и скребя пол ногтями, пытаясь отползти назад, подальше от занесенной Зализой сабли.
— Стой! — перехватил оружную руку Толбузин. — Я государю сказывал, ты вместе со служилым, бой видевшим, придешь. Нехорошо получится, коли признаем, что за слова охальные намедни его зарубили, или запороли, как положено.
— От блин, — прошептал бывший патрульный. — Теперь понятно, как обет молчания люди дают.
— Откель знаешь? — навис над ним хозяин дома.
— Читал… — Нислав осекся. Не мог же он сказать, что его этому в сельской школе учили?!
— В письмах подметных?
— Ага, в них, — тут же схватился за подсказку патрульный, покосился на Зализу и уже от себя добавил: — Когда в Иван-город заезжали, у причала видел.
— Выбросил кто-то листок поганый, — опричник еще раз саданул его под ребра, — а ты читаешь.
Нислав воспринял пинок с облегчением — кажись, пронесло, резать не станут.
— Вставай, — разрешил Толбузин, возвращаясь к столу. — Семен, крикни в дверь, распустилась дворня вконец! Привыкли, что в кремле трапезничаю, так теперь и вовсе кормить перестали. Крикни, жрать барин хочет. Сей час пирогов на столе не станет, запорю каждого второго к песям собачьим! Новых куплю, посноровистей. А ты, — повернулся он к Ниславу, — тебе вот что скажу, служивый… Дети есть? Отца с матерью помнишь? Так вот государю нашему, когда ему всего семь годков стукнуло, бояре мать отравили. Князя Телепнева, которого он за отца почитал, у него на глазах убили, бабок всех, нянек повитух, что с детства выхаживали, кого поразогнали, кого зарезали. И остался он один, как щенок в лесу диком брошенный. И общались с ним бояре, как скоморохи с медведем лесным — как народу показать, так принарядят, как не нужен — так на цепь и в чулан. Хорошо, перед совершеннолетием, как заколоть его собирались, митрополит Макарий головой рискнул, да его именем боярина Воронцова из темницы выпустил, да князей Глинских призвал. Отстояли юного царя, спасли… Так вот слушай меня, Нислав. Коли государь на улице пальцем на кого укажет, и молвит: «Помню его», я того выблядка голыми руками на месте разорву. За муки, мальчонке невинному учиненные, за предательство стола всероссийского, за кровь на руках их, за подлость душевную. Сразу разорву, приказа спрашивать не стану.
Нислав представил себя на месте царя — как бы ему, первоклашке пришлось бы увидеть смерть матери и отца. Представил, каково сынишке-несмышленышу придется, прирежь кто его с Матреной у мальчонке на глазах, и ладони его невольно сжались в кулаки:
— Прости меня, боярин… Не знал…
— А ты знай! — грохнул Толбузин кулаком по столу. — Знай! Знай, через что государь твой прошел к помазанию Божьему! Милостив наш царь, только самых поганых тварей наказал, одного Андрея Шуйского казнил, остальных изгнал с глаз долой. Разбежались они по становищам татарским, по дворам европейским, и стонут в голос, выродки, как мучили их на Руси и истребляли, как плох наш Иван Васильевич, что шею свою из-под сапога их вонючего вынул. Да письма подметные боярам пишут, про долю тяжкую народа русского, Богом избранного.
Двери трапезной распахнулись, и слуги хлынули внутрь, неся сразу много кубков, кувшинов, блюд с пирогами, да мясом, да рыбой, да зеленью.
— Диссиденты, — понимающе кивнул патрульный. — Всегда одинаковы.
— Благодарить Господа нужно, что царя такого нам дал, — спокойно, но в полный голос продолжил Андрей Толбузин. — Душой не ожесточился, умен, отважен. Когда Казань брали и ратники наши дрогнули, самолично на улицы окровавленные бросился, на сабли татарские, за собой ополчение повел, гибели ничуть не страшась.
— Под Тулой самолично нас в атаку повел, — добавил от себя Зализа. — Помню, все обогнать его пытался, да не смог…
— А коли царь на кого укажет, — неожиданно перебил их Нислав, из головы которого все не уходил образ первоклассника, стоящего возле мертвых родителей, — Вы мне тоже скажите. Рвать таких нужно. Каленым железом выжигать, чтобы другим неповадно было. Всех.
* * *
Для поездки в царские палаты слуги заложили карету. Попытки Зализы и Нислава предложить верховую поездку боярский сын отмел сразу — на прием к государю только в запряженном цугом экипаже, и никак более! Зато опричник так же категорично воспротивился попытке одеть его в шубу:
— Нет, Андрей. Я — нищий порубежник и в такую жару пускать пыль в глаза никому не стану. Мне Иваном Васильевичем ряса монашеская дана, в ней и поеду.
Нислав обошелся серединка-наполовинку. От алой шелковой рубахи и новых шаровар с мягкими яловыми сапогами он не отказался, а шубу ему никто и не предлагал.
Последним камнем преткновения стала попытка Зализы прицепить на пояс саблю.
— Ты еще пищаль Ниславу дай, — хмыкнул Толбузин, и опричник отступил.
Забрались в карету с бархатными занавесками вместо стекол, уселись. Заскрипели ворота.
— Эй, голытьба, дорогу боярскому сыну! — это помчались вперед, расчищать проезд, подворники. Следом тронулась и повозка. Нислав поначалу пытался осматривать деревянную Москву через щели между занавесками и рамой, но вскоре занятие это бросил: не разобрать ничего. Занавеси отдернуть Толбузин не позволил: не по чину. Нечего, ако немцы пучеглазые, разинув рот, во все стороны таращиться.
Так и приехали к царскому крыльцу, словно с завязанными глазами. Лестница в два пролета, укрытая матерчатым навесом, вела сразу на второй этаж, и перед каждым пролетом стояли яркие, как на картинках стрельцы: в красных тегиляях до пят и картузах, отороченных каракулем, с буденовскими перехлестами-застежками на груди и высокими бердышами в руках. Видать, любил государь свою новую, созданную им самим, гвардию, и гордился ею. Перед нижними ступеньками лежала кипа соломы, но на самих пролетах — ковры, и Нислав поймал себя на ощущении, что поднимается в музей.
В самом дворце было сумрачно и прохладно. Свет еле сочился через слюдяные окошки, состоящие из множества кусков, зажатых в рамы из тонких реечек. Гладкие стены — то ли дощатые, то ли оштукатуренные, украшала роспись под хохлому: сочные синие и золотые краски, неведомые цветы и гривастые жар-птицы. Под ними бродили бояре с тяжелыми, смахивающими на боевые, посохами, в высоких бобровых шапках, в долгополых шубах со столь длинными рукавами, что руки приходилось просовывать в прорези с внутренней стороны. Встречаясь между собой, бояре величаво раскланивались, столь плавно, словно боялись расплескать поставленные на головы аквариумы. Впрочем, нередко между ними мелькали молодые ребята в легких кафтанах или рясах — теперь Нислав и не знал, опричники ли, али просто монахи.
— Государь молится, молится, молится… — пронесся по палатам тихий шепот, и Андрей Толбузин встрепенулся:
— Значит, от хлопот насущных освободился, сейчас позовут.
Толпа в высоких шапках качнулась в одну сторону, Зализа и Нислав двинулись было за ними, но Толбузин удержал:
— По старшинству, по родовитости заходят. А мы кто? Мелюзга безродная. Нам последними входить.
К тому времени, когда настала их очередь миновать наряженных в золото рынд, бояре успели рассесться на длинных скамьях по сторонам от трона, и сидячих мест более не оставалось. Молодежь, замеченная Ниславом, мялась по углам напротив трона, у стены с дверью.
Трон патрульному не понравился — прямая высокая спинка, квадратные подлокотники, толстые ножки. Грубая работа, тяжеловесная. Телевизор из такого кресла не посмотришь — быстро и спина, и ноги затекут. Зато царь… Мальчишка! Натуральный мальчишка лет восемнадцати, у которого еще ни усов, ни бороденки толком не растет! И даже огромная мохнатая шуба не делала его ни на йоту солиднее!
— Господи, — впервые в жизни перекрестился Нислав.
— Это кто там на меня, как на икону молится?! — поднялся с трона паренек, следом за ним поднялись со своих скамей родовитые бояре.
— То человек государев Семен Зализа со своим служивым человеком до твоей милости, государь, — приложив руку к груди, слегка поклонился Толбузин.
— А-а… — опустился на трон мальчишка, но едва бояре, следуя его примеру, коснулись скамей своими широкими задами, как он снова вскочил: — Так сие и есть тот служивый, что своими глазами бой огненный видел?
— Да, государь.
— Угу, — мальчишка сел, но мгновением спустя снова вскочил, и Нислав никак не мог понять — то ли он специально над боярами издевается, то ли у него взаправду шило в одном месте растет. — Так пусть расскажет!
Царь спустился с ведущих к трону ступеней, приблизился к гостям. Нислав ощутил болезненный удар Толбузина локтем в бок и спохватился:
— Да, было. Чего там сложного? Дорожка узкая оказалась, ливонцам деваться некуда, а у нас пятнадцать стволов, двести картечин в залпе. Как жахнет — с тропы всех, как корова языком слизывает. А пока очухиваются, как раз пищали перезарядить успевали.
— Ладно сказываешь, — кивнул царь, с гордостью оглянувшись на сидящих у стенки бояр. — А в чистом поле как, устояли бы?
— Пятнадцать, супротив трех сотен? — задумчиво протянул Нислав, и тихонько покачал головой из стороны в сторону.
— Ну а, скажем, сотня стрельцов супротив трехсот конных?
— Сперва залп, потом на бердыши уцелевших принять… Устояли бы, государь. Правда, боюсь, потеряли бы в рубке многих.
— А скажи мне, человек служивый, — отступил мальчишка, и забросил руки за спину. — А зачем нам конницу кованную, да родовитую держать, коли сотня простых стрельцов атаку трех сотен бояр сдержать может?
— Скажу, — кивнул бывший милиционер, не испытывая особой робости перед безусым юнцом. — Затем, чтобы убегающего врага догнать, за которым стрельцы не поспеют. Чтобы быстрым обходом врагу в спину или в бок ударить, чтобы лавой оборону слабую смести. Стрельцы, они как стена. Где поставишь, там врагу хода нет. Но чтобы гнать его, обходить, запугивать — это только конница может. Если ты обороняться собираешься, стрельцы хороши. Наступать — только конница.
Бояре одобрительно закивали, очень похоже оглаживая бороды.
— У меня все стрельцы на конях, — чуть ли не обиженно заявил мальчишка.
— Воюют пешими, — парировал Нислав. — В плотном строю с пищалями отбиваться хорошо. А атаковать бесполезно. Черепахой себя чувствуешь.
— Верно, верно бает, — не удержались от одобрения у стены.
— Ишь, как боярам понравилось, — хмыкнул мальчишка. — Не хотят стрельцов в войско набирать.
— Как же без них? — испугался Нислав. — Это же, блин, крепость передвижная! Что конница расчистит, туда придет и встанет. И хрен их с места сковырнешь, наших-то!
— Это с ним ты на епископа ходил? — с улыбкой обратился к Зализе паренек.
— Мир, на полвека подписанный, ноне кончился, государь, — напомнил опричник. — Грех не пощипать соседа было.
— Кто в походе участвовал?
— Стрелки вместе с боярами ходили, государь, напополам… — втиснулся с ответом Толбузин и осекся, таким холодным и жестким взглядом осадил его мальчонка: «Не тебя спрашивают, молчи!»
Увидев, насколько резко изменилось лицо паренька, каким твердым и неприступным он способен быть, Нислав понял: перед ними действительно настоящий царь.
— Полтора десятка ремесленников я взял из своего поселка, с мушкетонами. И боярин Батов со мной пошел, с сыновьями. Взрослые они уже, шестеро. Засиделись в отцовской усадьбе. Одна девка пошла. Уж очень справно с лука стреляет, зимой с боярами состязалась — всех обошла. Шли, правда, пешими. Но управились. В Лифляндии народец одичал совсем, воинской справы надлежащей нет, огненным боем пользоваться не умеют, единой власти не признают… — Зализа запнулся, пытаясь вспомнить, все ли рассказал. Получалось, что все.
Мальчишка задумчиво кивнул, отошел. Потом снова оглянулся:
— А не холодно ли тебе, Семен Прокофьевич?
— Спасибо, государь, тебя увидеть, так и везде хорошо!
— Вот как? А пусть будет еще лучше, — царь подошел к опричнику, и быстрым движением смахнул шубу, перекинув ее Зализе на плечи.
— Шуба, шуба царская, — завистливо зашептали по углам. — Шуба с государева плеча.
Без шубы Иван Васильевич показался Ниславу настолько щуплым мальчишкой, что он опять не удержал язык за зубами, и спросил:
— А правда, что ты в Казани самолично испугавшихся ратников на штурм города повел?
В палатах повисла гробовая тишина. Мальчишка подступил к Ниславу в упор, посмотрел снизу вверх, рассмеялся:
— Нет, служивый, такого размера шубы у меня нет! И на лесть я не падок, не старайся.
Вокруг облегченно захохотали, ломая шапки, кидая их об пол и приговаривая:
— Ох, хитер! Ну, хитер служивый…
— За ним числишься? — кивнул паренек в сторону Зализы. — Вот и служи. Воевода знатный, за ним шубу быстро выслужишь.
Царь развернулся и пошел к трону, а Нислав, все еще не веря, смотрел ему вслед. Умом он понимал, что такие же пареньки призываются военкоматами на срочную службу, что именно они одни выволокли на себе Русь из афганской, и из чеченской, и из многих других войн, что они будут держать на запоре таджикскую границу, они вцепятся в амурские острова, когда Союз рассорится с Китаем, и раз за разом будут отстаивать их от наскоков с другой стороны. И все равно никак не мог представить себе этого мальчишку с саблей наголо, несущегося во главе кованной конницы на татарский строй, или зовущего за собой бородатых, закованных в броню ополченцев на полыхающие улицы Казани.
— Ну, Нислав, своей смертью ты не умрешь, — тихо пообещал в самое ухо боярский сын Толбузин, отволакивая патрульного с центра зала в угол. Кто-то тут же попытался рассказать служивому, что именно при нем царь делал то или это, как он сам бежал следом за царем на пушки, но государь уже опустился на трон, и взмахнул рукой:
— Ведите.
Разговоры моментально стихли. Двери палат раскрылись, и двое монахов ввели третьего, в котором Нислав далеко не сразу признал Костю Росина, что они привезли в Москву. Председатель клуба зарос щетиной, заметно побледнел и странно сутулился при ходьбе.
— Знакомец твой, Семен Прокофьевич, насколько я слышал?
— То ремесленник с деревни моей новой, Каушты, — выступил вперед опричник. — В писчую книгу включен, потому как стрелок знатный. В зимнем походе нарядом большим командовал, в поле… — Зализа сделал небольшую паузу, пережидая удивленный гомон, потом повторил: — Да, в поле. И огненную потеху епископским сотням тоже он устроил, стрелками прочими командуя. Оный ремесленник сотоварищи неведомо откуда приплыл, крепостицу на Березовом острове у свенов отбил. Там я его на службу твою призвал, государь, и пошел он на нее с радостью. И про крамолу, в иных землях услышанную, без понуждения мне рассказал.
— И на трех опросах с пристрастием от слов своих не отрекся, — закончил за опричника государь. — Так в чем крамола состоит, служивый человек Росин?
— Ведомо мне, — Костя расставил ноги пошире и теперь мог стоять без поддержки сопровождающих монахов. — Ведомо мне, что колдуны немецкие задумали заклятие на людей, сюда едущих, накладывать, дабы через месяц они черной немощью заболевали, и заражали все вокруг.
Бояре на скамье загудели, переглядываясь и громко постукивая посохами.
— И надеются они, что кто-то из приезжих до Москвы доберется, здесь болезнь распространит и она царя поразит насмерть.
— Нехристи! — вскочил ближний к трону боярин.
— Схизматики воистину в веру сатанинскую перекинулись! Ни перед чем не успокоятся, пока Москву, Третий Рим, миазмами ядовитыми не задушат!
Однако криков никто более не поддержал, и боярин, враз успокоившись, уселся на место.
— Благодарствую тебя, Константин Андреевич, за упреждение, — одной головой кивнул царь. — Какую награду ты у Руси просишь за столь важную весть?
— Установите на границах карантин, — торопливо выпалил Росин. — Чтобы всех приезжих под замком месяц выдерживали, и только потом дальше пропускали.
— То не просьба, — покачал головой мальчишка. — То забота твоя честная о Руси Святой, и мы ее приняли. Себе чего просишь?
— Себе? — вскинул брови Росин. — Себе… — тут он вспомнил момент, который не давал ему покоя уже несколько месяцев: торговлю мехами на Новгородском рынке. Раскидывались ими промысловики, как макулатурой какой-нибудь, запросто и бездумно.
— Заметил я, что русские мужики меха совсем не ценят. Продают купцам вдесятеро дешевле, чем они в Европе ценятся. Прошу, раз такое дело, установите запрет меха мимо казны продавать! Пусть государство торгует. Да по ценам, что на западе приняты. Не хрен им все время у нас на шее сидеть!
— Записал? — привстал на троне правитель, и кинул взгляд в дальний угол. Только теперь Нислав заметил, что там торопливо скрипит гусиным пером монах, занося на свитки все, происходящее на приеме.
Следом за царем дружно поднялись знатные бояре, и так же вместе опустились.
— Мыслю я, — огладил подбородок мальчишка, — прибыль от этого казне получится, но не тебе, раб Божий. Себе что просишь?
— Пошли в Прибалтику хороший отряд! — неожиданно осенило Росина. — Охренели они там совсем, фашистские режимы устанавливают, русских за людей не считают. Пусть узнают, кто в доме хозяин!
— И сие дело тоже государево, — кивнул царь.
— Ты сам чего хочешь, Константин Андреевич? Скажи просто, без прикрас и раздумий!
— Есть хочу!
По палате прокатился добродушный смех.
— Ну, это дело поправимое, — улыбнулся и мальчишка. — Приглашаю завтра к себе на обед званный, в синие палаты.
— Не получится, — причмокнул Росин. — Допросники твои так руки оборвали, что еле пальцами пошевелить могу. Ни ложки, ни кружки до рта не донести. Так что и на твоем пиру голодным останусь. Разве только, ты мне руки новые дашь?
— Загадки решил позагадывать, раб Божий, — нахмурился паренек на троне, и в воздухе повисла предгрозовая тишина. Но царь вдруг усмехнулся и кивнул: — Ладно, милостью Божией и моей, будут тебе руки. Кто там дальше?
Зализа вышел на середину зала, ненавязчиво обнял Росина за пояс и увел к Ниславу и Андрею Толбузину.
— Как думаешь, Семен Прокофьевич, поверил? — с тревогой спросил Росин.
— Конечно, поверил, — серьезно кивнул опричник. — Ты три допроса выдержал, как же не поверить? Не имея правды за собой, такую муку никому не вынести. Поверил.
Место Росина заняла пожилая боярыня, с неприятной яростью обличавшая местного воеводу. Следом за ней — боярин, и тоже с жалобой на воеводу, но уже другого, потом еще и еще. Царь слушал, кивал, дьяки принимали ябеды. Оживление вызвала только нижайшая просьба донского казачьего старшины, присланная с усатым безбородым воином, прислать коням сена, потому, как из-за татарского набега своего селяне накосить не успели. К удивлению Нислава, мальчишка отнесся к просьбе со всей серьезностью, тут же приказал построить в Казани четыре струга, нагрузить сеном и овсом, и отправить бедолагам вниз по Волге до Царицыно, откуда посуху перекатить на Дон.
Наконец прием закончился. Царь поднялся и ушел в неприметную дверь за сводчатым проемом меж двух колонн, следом за ним шмыгнул писец и дьяки с жалобами. Чинно двинулись к выходу бояре.
— Ну, все, — расхохотался Толбузин, — ой, придется Зализе шубу для Нислава шить!
— Почему это? — не понял постовой.
— Разве ты не слышал? Царь сказал — у этого воеводы шубу заслужишь. Стало быть, как следующий раз приедете, при шубе должон быть. А с Семеновского плеча тебе не подойдет, мала будет. Придется новую шить!
— Я его в деревне оставлю, — хмуро пообещал опричник. — Или язык вырву.
— Так ведь спросит государь! — продолжал веселиться боярский сын. — Ты ведь врать не станешь?!
Добрались до кареты, на этот раз радуясь предусмотрительности Толбузина, безрукого Росина посадили первым, сами как придется разместились вокруг. Не спеша, чтобы не растрясти больного, доехали до дома, где хозяин приказал поднести боярину Константину две стопки — чтобы боль отпустила. Потом перенесли в дом и поставили дворовую девку растирать ему плечи и руки настоянной на мяте водкой.
— Интересно, — задумчиво пробормотал Росин, — каким образом царь собирается мне руки вернуть?
* * *
Синие палаты отличались от царских в основном размерами: зал метров двадцать в ширину и полтораста в длину разгораживали резные деревянные колонны, поддерживающие высокий потолок из множества мелких сводов, а вот роспись была все та же — цветы, птицы, сказочные звери. Промеж колонн, поперек зала тянулись длинные столы — простые деревянные столы из плотно подогнанных досок, и без всяких украшений. В воздухе витали запахи восточных пряностей, на столах во множестве стояли медные кубки, чарки, высокие кувшины, блюда с крупно порезанным хлебом, с кусками мяса и целиком запеченными птицами, крупными осетрами и щуками, обложенными обычными и мочеными яблоками. Пирогов почему-то не было: похоже, угощение предполагалось начинать сразу со вторых блюд.
Между слюдяными окнами во множестве стояли подсвечниками с толстыми свечами, огонь которых покамест терялся в ярком дневном свете. Дворня, до жути похожая на кабацкую прислугу, встретила боярского сына Толбузина у дверей, проводила ко второму от входа столу — близкие к возвышающемуся едва не до середины стены трону, видимо, предназначались родовитым боярам.
Большинство мающихся в ожидании людей были одеты, несмотря на жару, в дорогие шубы, но попадались среди них и гости в странных, непривычных взгляду, иноземных кафтанах и тонких чулках, отчего напоминали цыплят-переростков: кругленькие на тонких ножечках. Не меньше одетых в шубы русичей бродило меж столами, глотая слюнки, раскосых степняков в стеганных цветастых халатах, так же украшенных шелковыми и бархатными вошвами и драгоценными пуговицами. Поскольку на этот раз даже Зализа щеголял в шубе с царского плеча — скромная ряса, выданная в пытошной избе взамен истерзанной одежды, согревала одного только Костю Росина из более чем трехсот гостей.
— Слава, слава государю! — заревели в дальнем конце зала, и гости, оставшиеся по эту сторону, тотчас подхватили: — Слава, слава! — после чего дружно устремились к столам.
— Ну как, бояре? — поинтересовался Толбузин, усаживаясь за стол, и тут же подтаскивая к себе блюдо с большим гусем. — Царского угощения давно не пробовали?
Он вцепился украшенной перстнями рукой в лапу, умело ее открутил и жадно вцепился зубами. Зализа прихватил огромный кусок коричневого мяса, лоснящегося от жирного соуса, положил его на хлеб, поставил перед собой и принялся кусать, удерживая большим и указательным пальцем, оттопырив остальные, прожевывая и откусывая снова, иногда кладя его обратно на хлеб. Нислав, не решаясь последовать их примеру, взялся за кувшин, плеснул себе в кубок вина. Толбузин, косясь жадным глазом, пододвинул ему свой. Патрульный налил, и тут же услышал, как мычит набитым ртом опричник, указывая бородой на свою чарку.
Боярский сын доел лапу, поцыкал зубом, вычищая навязшее мясо, ухватился сальной рукой за кубок и выжидающе вытянул шею, вглядываясь в сторону трона.
— Слава, слава! — неожиданно возникла там новая волна голосов и покатилась по залу.
— Слава государю Ивану Васильевичу! — громогласно заорал Толбузин, поднимая кубок, и клич его мгновенно подхватили сидящие вокруг стола бояре и татары.
Они торопливо осушили свои емкости и снова взялись за еду. Андрей Толбузин, отпихнув гуся, принялся раздирать вытянувшегося с выпученными глазами осетра. Нислав, опять разлив вино по кубкам соседей, покосился вдоль стола: ножами никто не пользовался — как, разумеется, и вилками, и ложками. Сверкать лезвием в одиночку милиционер не рискнул, а потому, махнув на приличия рукой, тоже потянулся за белорыбицей.
— Слава, слава, слава! — покатился новый клич.
Костя, с обвисшими руками, участия в трапезе не принимал, от скуки оглядывая зал. Царь Иван сидел на троне с блюдом на коленях, что-то говорил, о чем-то шутил, смеялся — отсюда не слышно. Иногда делал глотки из украшенного крупными каменьями кубка. У его ног крутились два иностранца — бритые, в тощих кафтанах. Наверняка что-то выпрашивали.
На старания иноземцев прочие гости внимания не обращали — под сводами палаты раздавалось непрерывное громкое чавканье. Росин смотрел на все это, и никак не мог поверить, что перед ним те самые люди, потом и кровью которых, государственной мудростью и беспримерной отвагой была из ничего создана та самая Россия, карту которой они видели в школе на стенах различных кабинетов. Что, приняв из рук предков княжество, немногим превышавшее размеры Московской области, именно они оставили потомкам державу, раскинувшуюся от Балтийского и Северного до Черного и Каспийского морей, от Днепра до Амура, сделав Русь сильнейшей и богатейшей державой мира. Он смотрел на молодых ребят, только-только отпустивших бороды, жрущих рыбу и мясо сальными пальцами, упивающихся вином, громко переговаривающихся и откровенно, от души ухохатывающихся над плоскими шутками соседей. Смотрел — и не верил, одновременно понимая, что других витязей, бояр, служилых людей и воевод у страны нет. И царя другого — тоже. Получается — и вправду они?
— Слава, слава, слава! — опять поднялись над столами кубки. Гости выпили, и Толбузин успокаивающе замахал над столом руками: — Тихо! Тихо! Царь говорить станет.
— Так не слышно же ничего, — хмыкнул Росин.
— Не боись, боярин, услышишь…
— Милостью своей, и по нижайшей просьбе дьяка Данилы Адашева, прощаю я князя Симеона Ростовского, подметные письма Сигизмунда польского читавшего, и многим боярам про них сказывавшего… — говорил царь и вправду негромко, но слова его тут же подхватывал стоящий рядом глашатай, донося до самого дальнего конца зала. — …коли князь Симеон на Библии поклянется супротив моей особы крамолы более не умышлять!
— Милостив государь наш, — высказался невысокий усатый татарин в синем атласном халате. — Слава Ивану Васильевичу!
— Милостью своей, и по нижайшей просьбе князя Василия Серебряного, прощаю я Петра Шуйского, подметные письма короля польского Сигизмунда читавшего…
Похоже, начиналась официальная часть торжественного обеда, когда царь во всеуслышанье казнит или милует, утверждая свою высшую волю. Гости перестали есть, ограничиваясь время от времени глотками вина и, не в пример собраниям времен росинской комсомольской юности, слушали внимательно.
— Милостью своей дарую князю Дмитрию Вишневецкому и потомкам его в поместье город Белев, за честную службу.
— Вишневецкий? Литовский князь? — непонимающе закрутил головой усатый татарин.
— Он самый, Владимира Святого праправнук, — не без гордости подтвердил Толбузин, — Под московскую руку перешел, земле русской честно служить желает.
— Милостью своей дарую воеводе Юрию Пронскому-Шемякину земли сурские в поместье и повелеваю ноне же, войско московское взяв, идти на хана Ямгурчерея, клятвы свои преступившего и посла нашего в поруб посадившего.
Из-за одного из средних столов поднялся довольно молодой боярин, низко поклонился на все четыре стороны и начал пробираться к выходу.
— Милостью своей дарую боярину Варламу Батову, земли корочаевские по правому берегу Донеца в поместье, боярину Григорию Батову земли корочаевские по левому берегу Оскола в поместье, боярину…
— Да это же… — дернулся Зализа. — Да это же Батовы! Братья Батовы, с Оредежа!
— Они самые, — кивнул Андрей Толбузин, поднимая кубок. — Ты же сам царю ябедничал, что повзрослели они, что у отца засиделись и руки к делу ратному чешутся. Вот и поместья и получили. Богатые, да только на самом Изюмовском шляхе. Там сабля в ножнах долго не залежится. Давай Семен, за милость и мудрость государя нашего выпьем.
— Милостью своей приказываю с сего дня всех иноземцев, с западных земель прибывающих, в порубежных ямах удерживать месяц, и далее пропускать, поежели за месяц этот болезней никаких у оных иноземцев не окажется…
— Есть! — кивнул Зализа. — Ну, Константин Андреевич, услышал тебя государь, и крамоле, тобой замеченной, на земли святые дороги более нет.
— А так же повелеваю, с сего дня меха любые за рубежи земли нашей более не продавать! — здесь царь, а следом за ним и глашатай, ненадолго смокли. — Купцам русским повелеваю меха, на рубежи привезенные, торговать в казну, а купцам иноземным, купить оные желающим, в казне меха любые по выбору покупать. А буде нарушит кто запрет этот — торговать в землях русских и вблизи рубежей наших, запретить накрепко, а товары в казну изъять.
— Милостив к тебе государь, Константин Андреевич, — кивнул Толбузин. — Поежели еще и рать на земли лифлянские пошлет…
— А также дошло до меня, — продолжил Иван Васильевич, на почтительном расстоянии, в шубе и на троне выглядевший достаточно солидно, — что немцы, Лифляндскую волость мою заселяющие, тягла исправно не платят, за пятьдесят лет недоимки накопили и погашать не желают. А посему повелеваю хану черемисскому Шах-Али немедля выступить в оные земли и подданных моих непонятливых вразумить!
Сидящий рядом с Толбузиным татарин внезапно подскочил, принялся торопливо сгребать со стола все, до чего успевал дотянуться, запихивая в рот и глотая, не жуя рыхлые ломти рыбы, куски гусячьей тушки, давясь остывшим мясом, поверх всего этого выхлебал оставшееся в кубке вино и вскочил. В разных концах зала вскакивали другие черемисы, которых Росин поначалу так же принял за татар и, поклонившись в сторону трона, торопились к выходу вслед за своим ханом. Зал заметно опустел.
— Кажется, все, — кивнул боярский сын. — Нислав, наливай. Сейчас опять здравицы зазвучат.
И вправду, спустя несколько мгновений, после того, как все поняли, что царь перестал отдавать приказы и раздавать милости, сразу несколько голосов закричало: «Слава!».
Гости выпили, вернулись к трапезе, заставив желудок Росина обиженно зарычать. Костя сделал попытку протянуть руку к столу, но рукав рясы лишь слегка дернулся, а оба плеча немедленно заныли со страшной силой.
Возможно, ему было бы легче, знай он, что порубежный карантин простоит на страже Руси почти полтора века, до самого воцарения Петра, не пропустив из Европы ни одной эпидемии и сохранив жизни миллионам представителей всех сословий, что введенную Иваном Грозным государственную монополию на внешнюю торговлю пушниной, за полтысячелетия буквально озолотившую русскую казну, отменит только первый президент России Борис Ельцин, что главным упреком дикости русичей, который станет звучать в устах западных гостей, станет то, что царь после встречи с иноземцами всегда моет руки, что Шах-Али через полгода вернется в Москву с ошеломляющим известием: ливонцы не желают сражаться, сдаваясь целыми городами, и он не знает, как поступить со столь неожиданной и совершенно неподъемной добычей — но все это будет потом. А сейчас ему хотелось просто есть, просто выпить густого красного вина — а вместо этого он получал только тупую бесконечную боль.
— Сыт ли ты, Семен Прокофьевич?
— Благодарствую, государь, — моментально вскочил со своего места Зализа, и низко поклонился. — Вкусен стол, хорошо вино, не оторваться.
Андрей Толбузин, как и все прочие гости, сидящие за этим столом, также поднялись и поклонились подошедшему юному царю.
— Рад, рад, что угодил, гость дорогой, — усмехнулся правитель. — Когда назад, в Северную Пустошь собираешься?
— Завтра, с рассветом, государь. Потому как с крамолой дело разрешилось, и у боярина Савельева спроса на меня более нет.
— Поезжай, — кивнул царь. — Знаю я, черемисы мои воины хотя и преданные, но уж шаловливы сильно, и опасаюсь, как бы буянство не учинили вблизи рубежей, тобою охраняемых. На наших землях.
Зализа низко поклонился, развернулся и принялся расталкивать гостей.
— Да нет же, Семен Прокофьевич, — со смехом остановил его правитель. — Завтра поезжай. А сегодня пей вино за здравие, угощение мое пробуй. Гостем будь. Как соберешься, в Казенный приказ заедь, ввозные грамоты на бояр Батовых возьми. С твоих ведь земель братья, из Северной Пустоши? Будут через Москву проезжать… Слышишь, Андрей? Как Москву проезжать станут, пусть ко мне зайдут, посмотреть хочу на витязей лихих. А ты, Константин Андреевич? Доволен ли ты указами моими, все ли обещания я выполнить успел?
— Вроде все, — попытался пожать плечами Росин и тут же сморщился от боли.
— Ох, опять лукавишь боярин, — покачал головой царь. — Про самое последнее желание не говоришь… Никак обидеть боишься? Ну, да ладно, все равно будь по-твоему, с Богом, — и, обращаясь сразу ко всем, закончил: — Вы пируйте, гости дорогие, пируйте. В моем доме добрым людям всегда рады.
Милостиво кивнув головой в ответ на глубокий поклон подданных, правитель ушел, а возле стола осталась стоять молодая женщина лет двадцати, в низком кокошнике и одетом поверх скромной полотняной рубахи сарафане, шитом бисером и мелкими жемчугами. Она скромно потупила голубые глаза, отчего небольшой курносый носик показался еще курносее. Плотные румяна, намазанные поверх толстого слоя белил, не могли скрыть гладкости юной кожи щек, а чуть пухловатые губы придавали лицу выражение недоумения и обиженности.
— А это еще кто? — развел руками боярский сын Толбузин. — Уж не меня ли ищешь, красавица?
— Боярина Росина ищу, — признала гостья.
— Меня, что ли? — удивился Росин
— Анастасья я, вдова боярина Салтыкова, — поклонилась ему, едва не коснувшись пола рукой, женщина. — Повелел мне государь, руками твоими быть, боярин, пока свои силу не наберут. Поить, кормить, постель стелить, помогать во всем, коли еще что понадобится…
Даже сквозь румяна стало видно, как она покраснела.
— Ай да государь у нас! — радостно-восхищенно воскликнул Толбузин, хватаясь за кубок. — Разгадал-таки загадку Константин Андреевича! Слава Ивану Васильевичу! И боярину Росину налейте, отныне у него руки есть!
Глава 6. Клушта
Юля драла лыко. Как-то так получалось, что стадо кауштинское потихоньку все увеличивалось и увеличивалось в размерах, став уже не просто «стадом», а «стадами». Потихоньку расползалась вырубка, освобождая новые места для пастбищ, следом за ними раздвигались загородки для скотины, ставились новые навесы и скотные дворы. За пахоту питерские горожане пока не брались, но косить сено уже насобачились неплохо, и всякую брюкву, свеклу, лук в грядки руками и лопатами посадить смогли. К тому же, вокруг постоянно крутился зализовский смерд, посаженный опричником на другой край огромного луга, и уж он по случаю с готовностью приводил кобылку и, с помощью выкованного Симоненко острого плуга, вспарывал целину, облегчая дальнейшую работу.
Однако разводить скотину людям двадцатого века показалось куда легче, нежели растить хлеб — а когда в хозяйство влились руки больше чем трех десятков полонянок, привычных к уходу за опоросами, да к дойке, одноклубники стали не только обеспечивать себя мясом, но и норовили продать кое-что на приходящие за мануфактурным товаром ладьи купца Баженова. В отличие от прочих хозяйств, кауштинцы не спускали всякое дерьмо в реку. Андрей Чохин недаром носил звание инженера — придумал выкопать две большие ямы, выложив понизу толстым слоем глины, и сваливать нечистоты туда. Он клятвенно обещал, что с каждой заполненной до краев и заваленной сверху глиной ямы поселок сможет по три года получать настоящий биогаз, как с очень большого газового баллона, а потом в ямах останется чистейшее удобрение.
Все это было бы хорошо, коли не один пустяк: гвозди по цене оказались столь кусачими, словно ковали их если не из золота, то по крайней мере из серебра. В результате доски, которыми плотно обшивали сараи по обе стороны опорных столбов, для тепла забивая пространство между ними все тем же сеном, одноклубники приспособились сажать на косые деревянные шипы, всякого рода стойки и поперечины привязывать ивовым лыком — содранной с заготовленных жердей корой, — а длинные кованные гвозди квадратного сечения вколачивать только туда, где более дешевыми путями не обойтись, где соединение особо важное и должно быть заведомо прочным. Или просто там, куда с шипами, долотами и лыком не подобраться.
Поэтому Юля сидела на крыльце возле выделенной ей в единоличное пользование избы и драла лыко, обдумывая — а стоит ли новый куриный приплод, для которого предполагалась небольшая отдельная загородка, таких мук? Может, стоило дать пинка курице, да и сварить все яйца на хороший, сытный завтрак?
Хотя нет, наседку сварить надо, как цыплят высидит, — чтобы дурь такая в голову больше не приходила. Всадник, промчавшийся мимо двора с часовней — поверит ли кто, что все их селение начиналось всего лишь с этих двух изб и одного сарая? — направился прямо к ней. Конь, жалобно заржав, остановился, и одетый в расстегнутую на груди простенькую косоворотку, потемневшую от пота, коричневые шаровары и низкие серые сапоги боярин спрыгнул на землю.
— Здрава будь, боярыня! — поклонился он, тяжело дыша.
— Здравствуй, Варлам, — кивнула Юля, откладывая нож. — Коня-то вконец загнал, парень! Ты чего?
Она подошла к буланому жеребцу, ласково погладила его по морде:
— Ну-ну, хороший, успокойся.
Тот всхрапнул, опустил голову, подставляя ласке — даром что скотина, а женскую руку чует, милуется!
— Радость у меня, боярыня…
Юля с удивлением подняла голову. Вид у гостя был отнюдь не радостный. Скорее, наоборот — словно любимую собачку схоронил.
— Загонишь так коня, — девушка погладила скакуну лоб между глаз. — Вконец загонишь.
— Поместье мне государь жалует. Втрое большее, нежели у отца, с пятью деревнями.
— Ну, так поздравляю, Варлам, — кивнула Юля, продолжая задумчиво водить рукой по белому пятну. — Богатеешь на глазах. Скоро в князи выбьешься.
— Поместье новое под Осколом. По ту сторону княжества Московского, на южных рубежах.
— Далеко, — кивнула Юля. — Зато юг, тепло. Тюльпаны по весне дикие цветут: вся степь, как ковром красным выстелена. Арбузы, дыни. Хорошо.
— Откель знаешь, боярыня? — удивился Варлам.
— На соревнованиях бывала… Ты хоть подпругу отпусти, хозяин!
Гость послушно выполнил указание, и конь тут же потянулся к лежащей возле крыльца копенке.
— Когда во владения вступать поедешь, Варлам?
— Летом надобно, — пожал плечами тот. — К зиме дом поставить, сена запасти, дров. Может, скотиной обзавестись, двор обнести. Осенью урожай снимать станут, амбар загрузить. Первый год в любом разе тяжело, а там посмотрим.
— Да, на пустом месте тяжело, — согласилась Юля.
— Мы с братьями мыслим, неделю на сборы взять, да и отправляться. Государь нам всем, младшим пятерым, поместья бок о бок отписал.
— Через неделю, значит, — задумчиво кивнула девушка.
— Через неделю, — повторил гость. — Ты откуп-то мне придумала, боярыня?
— Да нет еще, — пожала плечами Юля. — Ничего в голову не приходит.
— Что же делать? Уезжаю я…
— Не знаю. Не с тобой же ехать?
— А ты замуж за меня выходи! — встрепенулся Варлам. — Люба ты мне, боярыня. Всегда люба была. Верным мужем стану, выходи.
— Десять детей рожать? — усмехнулась, припоминая давние слова, Юля.
— А как же без детей, боярыня? — не стал отпираться Варлам. — Без них семьи нет.
— Десять детей… — задумчиво покачало головой Юля, прошла вдоль коня, погладив его по шее, положила руку на седло, резко повернулась к гостю, оказавшись с ним глаза в глаза. — Да только если уедешь ты, кто же желания мои исполнять станет?
— Так пойдешь за меня, боярыня? — лицо девушки обожгло жарким дыханием.
— Пойду, — она зажмурилась, и потянулась навстречу его губам…
Потом открыла глаза — Варлам уже успел затянуть подпругу и заскочить в седло, да так вдарил пятками под ребра коню, что выбил воздух из его легких, заставив скакнуть с места вперед метров на семь.
— Ты чего, глухой? — растерянно пробормотала Юля. — Согласная… Согласна! Варлам!!!
Но шапка боярина уже мелькала далеко у леса, перед поворотом на ведущую к Оредежу тропу.
— Варлам! Стой! Идиот, козел, мудак безмозглый, скотина, тварь подколодная! — она со злостью пнула лежащие возле крыльца жерди, схватила нож и метнула в стену — тот вошел рядом с дверью едва не на половину лезвия и мелко задрожал. Юля еще раз пнула жердины, потом рванулась в дом и вскоре выскочила оттуда в своих старых, потертых джинсах и джинсовой куртке поверх чистой поневы. В руках она сжимала лук, из-за спины торчало оперение десятка стрел.
Девушка стремительно пересекла поселок, едва не сбив по дороге сосредоточенно волокущего охапку высохших свиных шкур маленького Архина.
— Ты чего с цепи сорвалась? — рявкнул тот, пытаясь удержать закачавшуюся кипу.
— Заткнись, застрелю!
— Э-эй, — Миша решительно скинул шкуры на землю, нагнал девушку, схватил ее за плечо. — Юля, что случилось?
— Отвяжись! На охоту иду.
— Да нет, правда, что ты в самом деле? Скажи, может разберемся вместе?
— Отстань!
— Юлька! Перестань. Мы тут все вместе, заодно. Так что нечего дурочку позаброшенную изображать! Давай, говори, что случилось.
— Варлам, сука, — лучница неожиданно всхлипнула. — Приехал предложение делать…
— Ну так что? Отказала, а теперь жалеешь?
— Согласилась! — отчаянно рявкнула спортсменка. — А он, ублюдок, как услышал: сразу на коня, и такого стрекача задал, что чуть часовню не снес.
— Сбежал? — прыснул в кулак Архин. — Так ч-чесанул?
Юля рванула из-за спины стрелу, и Миша, подавившись хохотом вскинул перед собой руки:
— Нет, Юленька! Я хотел сказать… Мне очень жаль… Он, наверно, чего-то не понял… Все будет хорошо, все разрешится…
— Уйди, убью к лепеням абачьим! — Юля опустила лук и быстрым шагом направилась к лесу.
— Да… Не хотел бы я оказаться медведем, что окажется на ее пути, — тихонько захихикал Миша, и принялся собирать шкуры.
* * *
Когда на тропинке зазвенели бубенцы и показались украшенные разноцветными лентами пары лошадей, гривы которых также красовались вплетенными в косички ленточками, то первыми сообразили о сути происходящего ливонские полонянки и ринулись вдоль дороги, обгоняя поезд из трех саней.
— Сваты! Сваты едут!
От таких воплей при деле мог оставаться только мертвый — и очень быстро почти все обитатели поселка собрались вблизи центрального двора: часовни и двух домов.
— Кого сватать-то собираются? — не понял Симоненко, развязывая фартук.
— Да уж не полонянок, наверное… — Игорь Картышев свой фартук догадался оставить в стекловарне и теперь стоял в одних портах, обнаженный по пояс — что по летней жаре было вполне естественно. Второе исчезновение племянницы он перенес более спокойно: во всяком случае, судя по записке, она ушла добровольно. Разве только серьезнее стал, более хмурым. — А кроме них у нас только…
— Знаю! — охнул Миша, хватая его за руку. — Знаю. Юльку сватать едут. Она мне сама три часа назад проболталась, что Варлам ей предложение делал, а она согласилась. Вот за ней сватов и присылают. Убей меня кошка задом: за ней!
— Черт, подъезжают уже, — Картышев растерянно захлопал себя по голому животу. — Как встречать, обычая никто не помнит? Вот, блин… И Росин в Москве… Отца еще… Никодим где? Иеромонах наш? Ищите скорее, пусть за отца будет! Блин! Хоть переодеться надо… Он-то обычай знать должен…
Полонянки остались на своих местах, с любопытством ожидая продолжения, одноклубники в панике разбежались переодеваться и приводить себя в порядок.
Санный поезд остановился перед воротами центрального двора. В первых, солидно отставя посох, увитый белыми и синими летами, сидел Зализа, в шубе с царского плеча, в горлатной шапке м горностаевыми хвостиками, в алых сафьяновых сапогах. Похоже, именно он и был в процессии старшим сватом.
Из вторых саней выбрались боярин Иванов с сыном, из третьих — бояре Батов и Абенов. Они подошли к первым саням: Зализа величественно поднялся, ступил на землю, снял шапку, поклонился вознесенному над часовней кресту, несколько раз перекрестился, принялся тихо бормотать какую-то молитву. Остальные сваты, одетые хоть и празднично, но более легко, последовали его примеру.
Спустя несколько минут опричник надел шапку на голову, подошел к распахнутым воротам, перекрестился:
— Мир этому дому, — вошел во двор, поворотил к часовне, шагнул внутрь и, обходя церквушку, по очереди крестился и молился перед каждой иконой. Икон было не очень много, но пока сваты обошли все, минуло не менее получаса, и одноклубники успели, переодевшись и найдя прибившегося к отряду еще в Кронштадте отца Никодима, бродящего по берегу Суйды, собраться снова, на этот раз распределив роли и примерно вспомнив, кто и что должен говорить или делать. Тамара, забрав с собой нескольких полонянок, ушла на кухню готовить праздничный ужин, Зинаида осталась в доме изображать юлину мать.
Наконец сваты вошли в дом. Опричник, скинув шапку и неистово крестясь, поклонился на все четыре стороны и громогласно спросил собравшихся вокруг людей:
— Кто хозяин в доме сем богатом, и да будут долгими его дни, да даст ему Бог здоровья богатырского, детей многих, прибытков многих и разных?
— Милостью Господа, в места сии скудель мою поворотившего, — перекрестился отец Никодим, — Здоровья и вам, гости дорогие. — Откуда Бог несет?
— Из дальней сторонушки, — тяжко закряхтел Зализа и громко стукнул посохом об пол. — Издалека мы сюда прибыли и вестимо не без дела.
— Просим милостиво, — с легким поклоном указал отец Никодим на лавку, но первым уселся сам, оставив опричнику немного свободного места. Остальные сваты расселись по другим скамьям.
— Благодарствуем за встречу ласковую, — погладил бороду Зализа, откашлялся и продолжил: — Прибыли мы сюда по делу, по торговому.
— Да торговому человеку у нас завсегда рады, — развел руками иеромонах, входя в роль. — Есть у нас для него доски струганные, мясо парное да копченое, стекла дивные прозрачные, да кубки красивые цветов всяческих. В место вы хорошее прибыли, гости дорогие, место прибыльное. Дай вам Бог еще за сто лет здоровия, да вспоминать наш товар станете с радостью. И цену невысокую возьмем, и товар погрузить поможем. Что желаете, люди торговые, леса, али снеди всяческой, али стекла холодного?
— Слыхать, есть у вас другой продажный товарец, — с улыбкою покачал головой Зализа, — а у нас купец. Ваш товар, как мы слышали, дорогой, хороший и нележалый. А наш купец — богатый, хороший и неженатый.
— Купец богатый, хороший и неженатый, это разговор совсем другой получается, — покачал головой монах. — Неженатые молодые совсем другого всегда хотят, это мы понимаем. Есть у нас товар, что и молодому неженатому по нраву придется… — отец Никодим сделал долгую паузу. — Ковер персидский есть, мягкий, что трава лесная.
В толпе одноклубников кто-то прыснул. Кто, возмущенный тупостью иеромонаха, возмущенно начал:
«Да то же сваты, он что…» — но недовольного быстро зашикали.
— Аq, хорошая вещь, ковер персидский, — не моргнул глазом Зализа. — Пусть здрав будет тот, кто хранит редкостную вещь такую в доме своем, да будут здоровы дети его и внуки. Но купец у нас, опять же, редкостный. Купец тот, Батов Варлам, сын Евдокима Батова, соседа моего. И ковры обычные покупать ему как-то невместно.
Когда прозвучало имя Варлама, по рядам одноклубников пронесся короткий вздох. Теперь исчезла даже малейшая неопределенность, и всем стало ясно: из клуба сватают Юлю.
— Да, купец у вас редкостный, — признал монах, покачав головой из стороны в сторону. — Такому ковры персидские и стекло цветное предлагать не по чину. Однако есть у нас тоже товар редкий, чудесный, каковой простому человеку и показать боязно.
— Аи, покажи, покажи товар! — обрадовался Зализа. — Покажи, хорошую цену дам.
— Не покажу, — отмахнулся монах. — Не уговаривай, человек торговый, не покажу.
— Покажи, покажи, — принялись уламывать монаха остальные сваты, но отец Никодим твердо стоял на своем:
— Не покажу!
— А купцу нашему редкостному покажешь? — сделал хитрый и неожиданный ход Зализа.
— Купцу вашему?.. — надолго задумался иеромонах, а потом резко и размашисто махнул рукой, — И-эх, была не была. Привози купца своего послезавтра к полудню, покажу товар редкостный, товар красочный, товар дорогой! Покажу!
— А теперь, гости дорогие, — выступила Зинаида. — Не желаете ли угоститься с дороги, чем Бог послал?
— Отчего же не угоститься, — кивнул Зализа, поднимаясь со скамьи, — от Божьего дара отказываться грех.
Поскольку в Северной Пустоши уже больше полумесяца стояла жара, стол накрыли на улице, под навесом, толпа отхлынула туда. В сутолоке Картышеву наконец-то удалось поймать Зализу за локоть:
— А Росин где, Семен Прокофьевич?
— В Москве остался, — оглянулся опричник. — Да ты не беспокойся за него, Игорь Евгеньевич. Муку он, конечно, прошел, но опосля государем обласкан был. А для избавления от неудобствий, со слабостью связанных, дал царь ему боярыню Анастасию, вдову Салтыкову в услужение. И живет сейчас Константин Андреевич в Москве, в боярских палатах, в полном удобстве и удовольствии.
— Что еще за Салтыкова? — навострил уши Картышев, услышав знакомую со школьных учебников фамилию.
— Анастасия, из рода Телибеевых. С хорошим приданым за боярина Салтыкова, ко двору близкого, замуж вышла. А боярин возьми, да после свадьбы через неделю с коликами свались. Четыре дня в жаре метался, да на пятый преставился. Так она соломенной вдовой и осталась: и женой побыть не успела, и перед Богом супругами заделались.
— Аппендицит, что ли?
— Колики брюшные. Дядья Салтыковские уже подступать стали, в монастырь отправить хотели, да добро изрядное, без пригляда оставшееся, себе отписать, но теперь притихнут. Коли государь на нее внимание обратил, безобразничать не рискнут…
Они вышли за ворота, и Зализа обратил внимание на однообразно одетых пленниц:
— Вы полонянок-то как, обрюхатили? — деловито поинтересовался он.
— Дык… — запнулся Игорь. — Мы как-то…
— А что же? — отказался понимать его смущение Зализа. — Бабы завсегда должны рожать детей. Полонянки — холопов, жены — бояр. А коли не нужны никому: так и продать их татарам, те баб пользовать мастера.
— Почему не нужны? — покачал головой Картышев. — Нужны.
— А коли нужны, ты собственность свою на нее покажи. Хочешь, к ноге привяжи, хочешь, спать рядом клади, хочешь, кольцо на палец одень. Но беспризорных девок быть не должно, срам это. Или пусть вам детей рожают, или татарам, — повторил свою угрозу опричник. — А в монастырь отдавать я их не собираюсь. Убытки это одни.
— Ты, Семен Прокофьевич, прямо как на скотину на них смотришь! — не выдержал Картышев. — «Брюхатость», «опорос»!
— А тебе коли не нравится, — внимательно посмотрел ему в глаза Зализа. — Выбери, кто человеком быть достоин, да под свою защиту возьми. А без мужа, что защитить, приласкать, наказать, али поддержать завсегда может, баба скотина и есть.
— Женщина тоже человек, такой же равноправный, как и мы. У нее тоже разум, тоже честь есть, — попытался утвердить свою мысль Игорь, но опричник только рассмеялся в ответ:
— А коли я любую из них опрокину сейчас, да подол задеру, где ее разум и равноправие будет? У бабы честь есть, пока она под защитой отца своего состоит, мужа, али детей возмужавших. Вся ее честь, все равноправие в мужчинах, что рядом живут, хранится, и нигде более.
* * *
Юля вернулась из леса близко к полуночи, благо летние дни в Северной пустоши стоят долгими, и сумерки наступают поздно. Медведя ей завалить не удалось, но на поясе висели двое длинноухих, а за плечами — небольшой кабанчик. Сваты к этому времени уже давно уехали, захмелевшие одноклубники разошлись по избам, Андрей Калтин и Коля Берзин по поручению отца Тимофея рванули на лодке к Порожку, в ближайшую купеческую лавку, за водкой, и только пара полонянок, негромко переговариваясь, домывала котлы.
Юля угрюмо дошла до кухни, кинула добычу на стол, сама усаживаясь на лавку:
— Вот, разделайте завтра в общий котел. И пожрать что-нибудь дайте, а то жвачка вяленная в зубах навязла.
Полонянки всплеснули руками, метнулись к центральному двору. Лучница проводила их недоуменным взглядом, покрутила пальцем у виска и принялась сама шарить по горшкам в поисках остатков общего ужина. Вскоре ей удалось обнаружить тушеное мясо — она тут же отвалила себе изрядную порцию в уже помытую деревянную плошку и вытащила из заднего кармана брюк алюминиевую ложку, оставшуюся с далекого двадцатого века.
Со стороны двора показалась изрядная делегация, во главе которой бежали пленницы, а за ними шествовали отец Тимофей, Игорь Картышев, семенил Миша Архин, позади поспешала Зина и Тамара.
Теперь Юля встревожилась всерьез, замерев с поднесенной ко рту ложкой, но во здравом размышлении мясо в рот все-таки переправила, решив, что в желудке пользы от него станет больше.
— Дочь моя, — прокашлялся, подступив, иеромонах. — Весть я принес для тебя важную и благую…
— Вы так смотрите, — не выдержала девушка, — словно меня из олимпийской сборной опять поперли.
— Какая сборная! — закричал Картышев. — Сваты приезжали! Тебя Варлам Батов замуж берет.
— Что, опять?! — бросила Юля ложку. — Да пошел он в задницу! Не нужно мне никакого Батова! Да зарасти оно пшеном!
— Как это зарасти?! — рыкнул отец Тимофей. — Я уже согласие дал!
— Вот ты за него замуж и иди! А мне этот Варлам уже вот так, — Юля чиркнула себя пальцем по горлу. — То иди, то тикает, то опять иди!
— Да он не тикал от тебя, дура! — протиснулся вперед Архин. — Он сватов помчался посылать! За сватами! Поняла?
— Не пойду я за этого белоглазого, — фыркнула Юля уже не так уверено. — Не хочу!
— Как это не пойду! — опять подал голос монах. — Я здесь Господом тебе заместо отца поставлен! Да как ты мне перечить смеешь! — он со всей силы грохнул кулаком по столу, а другой протянул вперед висящий на груди тяжелый крест. — Прокляну! От Церкви отлучу! С глаз прогоню навеки! А ну, смири гордыню немедля и отвечай с покорностью: пойдешь по воле моей и Господней за сына батовского Варлама?! Пойдешь, охальница, али воле отцовской перечить посмеешь?!
— Сейчас она даст ему в глаз, — подняв брови, предсказал Миша Архин.
Но Юля в наступившей тишине смиренно вздохнула:
— Ну, коли так… Тогда, конечно, пойду, — и губы ее расползлись в глупой бессмысленной улыбке.
* * *
К полудню третьего, с визита сватов, дня Каушта вымерла: только легкий дымок вился над трубой стекловарни, разбрелись по загонам без присмотра коровы и свиньи, не стучали в лесу топоры, а при звуках бубенцов со стороны дороги и возящиеся на кухне женщины присели за плиту, прячась от посторонних глаз. Отец Никодим, в накинутом поверх рясы овчинном полушубке, Игорь Картышев, Зина — да почти все одноклубники притаились во дворе за запертыми воротами. Бубенцы стихли, и вскоре послышался громкий стук.
— Кто там? — грозно спросил монах.
— Проезжие люди добрые, — откликнулись из-за ворот.
— Что надо?
— С дороги мы сбилися, хозяева! Впустите обогреться.
— А откуда вы, проезжие?
— Сами мы из земель дальних, неведомых. Стоят там горы невиданные. Орел десять дней ввысь летит, до вершины не долетает. Промыты там овраги невиданные. Как камень бросишь, три года до дна самого летит. А купцы там какие, заглядение. Какой товар не предложи, завсегда покупают, о цене не спрашивают.
— Хороши купцы, нечего сказать, — покачал головой иеромонах. — На таких, вестимо, хоть одним глазком, но поглядеть потребно. Отворите ворота!
Створки разошлись, и одноклубникам стала видна довольная физиономия Зализы.
— Проезжие, чай, передрогли с холоду-то, — забеспокоился отец Тимофей. — Зинаида, налей им сбитеньку горячего с дороги.
Женщина, кивнув, сняла с бочки с питьевой водой ковш и из привезенной накануне крынки до краев наполнила крепкой яблочной водкой. Зализа, продолжая сиять, как начищенный умбон, поднес корец ко рту, сделал глоток — глаза его мгновенно округлились, но старший сват устоял и мужественно осушил емкость до дна.
— Ах, хорош сбитенек у хозяев, — заговорил он голосом, ставшим низким и бархатистым. — Может, и товары ваши столь же хороши?
Иеромонах не ответил, следя, как поведут себя другие сваты. Испытание выдержали все, а потому отец Тимофей благожелательно кивнул:
— А что, и товары у нас есть дорогие. Заходите, гости, в амбар, все вам покажу…
Правда, повел он осоловевших от выпитого сватов не в сарай, а в дом, где в большой комнате сидела, повернувшись лицом к стене, Юля, в новгородском вышитом сарафане и прикрыв голову платком.
— У-у, хороша так хороша, — Зализа зашел с одной стороны, с другой, норовя заглянуть под платок. — Ах глаза, какие глаза! Прямо самоцветы самаркандские, а не глаза!
— А губы какие?! — взвыл боярин Иванов, заходя с другой стороны. — Ну чистый яхонт!
— Брови-то соболиные, — поддакнул его сын, — ресницы…
— А ну, кыш, охальники! — взмахнул старым веником монах. — Не для вас, проезжие, красота такая рощена, радость такая воспитана…
— Ой, не ругай, хозяин, — наигранно испугался Зализа. — Ой, не гони! Есть у нас купец, удалой молодец, ходит гоголем, смотрит соколом. Вот он такой товар купить может.
— Ну, ведите купца, — милостиво разрешил иеромонах.
Сын боярина Иванова выхватил у него из рук веник, и принялся старательно выметать дорожку от Юли к дверям, выскочил наружу и вскоре вернулся, ведя за руку Варлама, в синем суконном, шитом бисером кафтане с высоким воротником, и синих же сапогах. Подвел к девушке:
— Глянь, купец, какой товар нам хозяин предлагает. Хороша обновка? Купить, али не купить? Нравится?
Батов промолчал.
— Так что, купец? — скинул отец Тимофей на пол овчинный полушубок. — По душе тебе наш товар?
— По душе, — опустился коленями на овчинный мех Варлам.
— А тебе, краса неписаная, тебе купец по душе пришелся?
— По душе, — кивнула Юля и опустилась на колени рядом.
— Ну, с Богом, — кивнул иеромонах, и перекрестил молодых. — Вот вам благословение Божие… — Зинаида поднесла икону, и второй раз монах перекрестил их уже иконой: — И благословение отцовское.
Подошел боярин Евдоким Батов, теранул ребром ладони темные усы, размашисто перекрестил стоящих на коленях парня и девушку:
— Благословляю вас, дети мои. Живите в счастии и радости, — и снова принялся отчаянно тереть усы и дергать бороду.
— Так что, Варлам, — повернула Юля голову к боярину. — Муж ты мне теперь, получается?
— Жених, — покачал тот головой. — Мужем стану, когда в церкви повенчаемся.
— Есть время передумать, — усмехнулась девушка. — Конь-то далеко?
— Да, — Варлам взял ее за руку и крепко сжал. — А часовня во дворе.
После того, как молодых трижды обвели вокруг аналоя, и божьим соизволением Юля приобрела фамилию Батовой, отец Тимофей вспомнил еще одну важную вещь:
— А ведь я купцу молодому ковер персидский обещал показать! Ой забыл, забыл. Ну, идем за мной…
Иеромонах проводил мужа с женой к Юлиной избе, пропустил внутрь, затем прикрыл дверь и подпер ее колышком.
— Ну, пусть дочь моя купцу ковры показывает, товары расхваливает, а у нас торгового дела в доме нет. Мы можем пока плоть свою пищей естественной подкрепить, да сбитеня горячего выпить. Зинаида, неси угощение к столу!
Собственно, столы были накрыты заранее: миски, пироги, кувшины с самодельным вином, пока еще больше напоминающие обычную брагу. Кухарки, поняв, что свадебный обряд близится к завершению, принялись переставлять на стол блюда с мясными угощениями, и Зинаиде осталось донести только водку. С нее-то заскучавшие по нормальному человеческому напитку одноклубники и начали.
— Горько! — по привычке крикнул Архин, но первым же понял свою ошибку и под общий смех сел обратно за стол, целоваться за которым нынче было некому. — В общем, за здоровье молодых!
Народ дружно выпил, вспоминая теплые ощущения крепкого алкоголя, почти сразу повторил.
— Надо аппарат самогонный собрать, — зачесал голову Картышев. — Дело-то элементарное, а потом гони, хоть из тараканов.
— Ты их сперва заведи, — хмыкнул Малохин. — Вот картошечки бы хоть немного. Как представлю ее, рассыпчатую…
— И закурить, — поддакнул Архин. — Ну что, еще по одной?
— Закусывайте ребята, закусывайте, — напомнила, проходя вдоль стола, Тамара.
— Неправильно это! — мотнул головой Зализа. — За государя нашего, Ивана Васильевича, никто не выпил. Давай, отец Тимофей, добавь мне сбитенька своего горячего.
— За государя нужно, — и не подумали спорить одноклубники.
Пир шел своим чередом, напоминая десятки и сотни других подобных пиров. Захмелевшие после водки одноклубники перешли на свою бражку, большая компания разбилась на множество отдельных групп, каждая из которых вела свой разговор и пила сама по себе. Боярин Иванов вместе с сыном, которым наравне с Зализой досталось по ковшу водки, мирно почивали на травке, но сам опричник и живучий татарин Абенов еще крепились, и даже пытались добавить к уже выпитому понемногу кисловатой бражки.
— Ладно, — спохватился Зализа, глядя в раскосые глаза своего соседа. — Надобно и честь знать.
Он стукнул ладонью по столу и развернул плечи:
— Буду я тут теперь нескоро, а потому желаю полон свой назад получить! Татарам продавать погоню. Ну-ка, все сюда на поляну собирайтесь. Быстро!
Над столом повисла тишина.
— Быстро! — еще раз хлопнул ладонью опричник.
Полонянки, с надеждой озираясь на остающихся на своих местах одноклубников, стали подниматься и собираться перед хозяином.
— Зачем татарам-то, Семен Прокофьевич? — первым возмутился Картышев. — Чего они плохого сделали?
— Не надо их никуда продавать, — поддержали его другие ребята, а кто-то даже предложил полон выкупить.
— Я так вижу, — и опричник снова хлопнул ладонью, — что никому они тут не нужны, а потому и держать их здесь без надобности. Продам татарам, так хоть барыш какой получу.
— Нужны они, нужны, — на этот раз громче всех высказалась Зина.
— Э-э, нет, — покачал головой Зализа. — Обманываете вы меня. Из жалости своей серебра лишить хотите. Вот ты, — он поманил к себе ближайшую из пленниц, и обернулся к столу. — Она хоть кому-нибудь здесь нужна?
Одноклубники недоуменно промолчали.
— Никому, — подвел итог опричник. — Отходи, поедешь к татарам…
— Оставь ее! — поднялся со своего места Сергей Малохин. — Мне она нужна.
— Обманываешь, боярин, — покачал головой Зализа. — Жалеешь просто. Так ведь всех не пережалеешь, пленниц на земле мно-ого.
— Нужна, — упрямо повторил Малохин.
— А коли так нужна, — прищурился опричник. — Готов ли ты ее под руку свою взять, заступаться всегда, кормить трудом своим, детей вместе с ней растить, по гроб жизни все дни вместе провести?..
— Пойдешь, Елена? — спросил у полонянки Сергей. Та, со слезами на глазах, часто-часто закивала. И тогда Малохин, стукнув кулаком по столу, отчаянно заявил: — Готов!
После чего торопливо налил себе большой ковш браги и единым махом выпил:
— Вот так.
— Ну, одна, стало быть, пропала, — признал поражение Зализа. — В другую сторону уходи. А вот эта кому-нибудь нужна?
— Мне нужна, — тут же вскочил кучерявый Алексей.
— А готов ли…
— Да, если Агрипина не против.
— Ну вот, еще одной лишили, — обеспокоился опричник. — А вот эта?
— Мне нужна! — поднял руку Архин.
— И мне! — вскочил на дальнем конце стола Коля Берзин.
— Ну, выбирай, — развел руками Зализа. — Из них к кому пойдешь, или ко мне?
Девушка показала на Мишу.
— В сторону, — недовольно отмахнулся опричник. — А эта кому-нибудь нужна?
Его палец уткнулся в молодую женщину, чуть полноватую, с длинными прямыми волосами и крупным носом с высокой горбинкой. Над столом повисла тишина.
— К татарам, — не стал устраивать долгих разговоров Зализа. — Вот эта кому-нибудь нужна?
Пару раз на девушек выступило по два претендента, но в остальном одноклубники, привыкнув за два месяца к ливонкам, успев познакомиться и немного узнать характер, нрав, а иногда — и кое-что еще, делали свой выбор уверенно, не колеблясь. Хотя, наверное, половину работы выполнил за них Зализа, поставив вместо вопроса «жениться или не жениться», вопрос: «решиться сейчас, или потерять навсегда». Где-то через час без своих «половинок» осталось всего полтора десятка одноклубников.
— Вот и решили, — широко зевнул опричник. — Одна осталась лишняя.
Женщина медленно опустилась на колени:
— Господом Богом прошу, — перекрестилась она, — Иисусом Христом. Не продавайте меня язычникам, нехристям не отдавайте.
— Отстань ты, — отмахнулся опричник. — Не стану я из-за тебя одной на торг тащиться. Оставайся одна. Может, потом куда и приберу.
— Благодарствую… — женщина попыталась подползти к нему на коленях, но кромешник уже забыл про ее существование, отвернувшись ко всем прочим жертвам:
— Чего стоите?! — прикрикнул Зализа на бывших пленниц. — Тюфяки широкие бегите сеном набивать! С сегодняшней ночи с мужьями спать будете. Изб у вас всем хватает. А то развели монастырь, прости Господи: бояре здесь, послушницы там… Тьфу, Содом и Гоморра! Сбитень твой где, отец Тимофей?
— Ты бражки выпей, Семен Прокофьевич, — ласково посоветовал монах. — Хорошая бражка, хмельная. Спится после нее… Ако на полях ангельских…
Спустя час Зализа, заботливо прикрытый шубой, дрых на траве рядом с отцом и сыном Ивановыми.
* * *
Юра Симоненко тоже выбрал себе какую-то упитанную девицу с крупной грудью и толстыми косами, и теперь начинал с ней новую жизнь в одной из комнат оставшихся после артельщиков изб, и Картышев впервые за последний год ночевал в комнате один. Точнее — один в этом времени. Потому как в двадцатом веке его одиночество разделяли только наезжающая из Москвы племянница, да сосед-бизнесмен, каждую субботу отмечающий удачно или неудачно оконченную неделю. А поскольку жена его горести и радости разделяла слабо, с ними он приходил к Игорю. Обычно — раз в неделю, но иногда и чаще.
Поначалу, когда Зализа отвел пришедшим неведомо откуда, но показавшим отвагу в схватке со свенами людям место на берегу Суйды и помог поставить первые дома, они ночевали здесь ввосьмером. Потом зимний поход выбил двоих: погиб Леша Синий, да Юшкин остался выхаживать раненых в Боре, где, видимо, и осел. После того, как часть ребят перебралась в оставшиеся после строивших мануфактуру плотников дома, они оказались здесь втроем. Потом Росин уехал с опричником, а сегодня и Юра сделал для себя новый выбор. Игорь опять остался один.
Картышев перевернулся с боку на бок, и услышал осторожный стук в дверь. Поначалу он подумал, что ему послышалось: ну кто станет бродить по дому за-полночь, да еще стучать, как в приемной райсобеса? Но тут дверь приоткрылась, и внутрь скользнула женщина, едва не проданная сегодня на юг.
— Прими меня, Игорь Евгеньевич, — попросила она. — Не хочу я одна оставаться.
Пока Картышев пытался сообразить, как ему следует поступить в такой ситуации, она торопливо скинула поневу и решительно забрались под одеяло:
— Хоть на время прими. Всю жизнь Бога молить стану.
Игорь взглянул на ее крупный, с горбинкой нос и подумал о том, что этот небольшой недостаток на фоне более молодых девушек сегодня едва не сломал судьбу женщины. Хотя, в ее положении, вряд ли стоило говорить о приятном и благополучном будущем.
Она осторожно подкралась к Картышеву, прижалась обнаженной грудью к его боку, бедрами — к его ноге, и бывший танкист, уже очень давно не ощущавший женщины рядом с собой, понял, что больше не способен думать о судьбе этой несчастной. Скорее, наоборот: он был рад, очень рад, что ее злая судьба привела гостью к нему в постель.
Женщина провела рукой по телу мужчины, нашла самую главную деталь организма, напрягшуюся до последнего предела, и принялась всячески ее оглаживать, то ли не понимая, что вполне может сама сесть на него сверху, то ли специально побуждая своего возможного господина к решительным действиям, заставляя проявить волю, власть и желание. Игорь, после долгого воздержания, долго размышлять над этими хитрыми уловками и дальними помыслами оказался неспособен, он просто подмял полонянку под себя, раздвинув ее ноги своими, и вошел — грубо, торопливо, жадно. Женщина застонала, заскребла ногтями по спине, одновременно обхватив ногами его спину, а Картышев упрямо пробивался к своей цели, забыв про время, ласки и возможность других положении, пока волна наслаждения не смыла блаженный морок с его сознания.
Тяжело дыша, он поднялся, подошел к окну, прикоснулся пальцами к холодному стеклу, раскатанному его же собственными руками.
— Покурить бы счас…
— Принести попить, Игорь Евгеньевич?
— Да уж, до курева тебе не дотопать, — усмехнулся Картышев и ощутил прикосновение к своему плечу:
— Оставь меня при себе, Игорь Евгеньевич… Хоть на время.
— Как тебя зовут-то?
— Мария…
— А лет сколько?
— Осьмнадцать уже.
— А мне тридцать шесть…
Игорь повернулся к ней, обнаженной, провел рукой по волосам. Что могло ждать ее в этом мире? В Ливонии своей отец, а то и хозяин их деревни, отдали бы ее своей волей крепкому мужику, чтобы в сытости жила, хозяйство крепила, детей рожала, за скотиной ухаживала, еду готовила. Теперь, в плену, Зализа с тем же правом повелевать мог отдать ее за любого смерда, и она стала бы рожать детей, ухаживать за скотиной, готовить еду. А мог опричник отдать ее и татарину, и она… Станет рожать ему детей, ухаживать за скотиной, готовить еду. И кажется ей сейчас, что дома куда легче — но муж вполне может поколачивать ее каждый день, не зарабатывать на хлеб для нее и детей, и на ней же срывать всю злость. А в персидском гареме ее станут одевать в шелка, одаривать золотом и ласками, кормить сластями и фруктами — недаром старик Грибоедов описывал, как многие русские пленницы отказывались возвращаться домой, в послепетровскую нищету… А могут и засадить не понравившуюся рабыню в скотный сарай, чтобы там и ухаживала, там и жила. Прав Зализа, доля женщины зависит только от везения. И везение это — мужчина, что рядом всегда будет.
— Оставишь, Игорь Евгеньевич?
— А чего мне еще тут искать? Замуж возьму. Пойдешь?
— У-у… — пискнула она, подпрыгнула и повисла у него на шее. Вообще-то, Картышев понимал, что именно этого она и добивается, но все равно — радости такой не ожидал.
— Жалко, Росин в Москве, — хмыкнул он, запуская пальцы в волосы выбранной навеки жены. — Останется холостяком.
* * *
— Чего ему от нас нужно? — Костя с непониманием осмотрел собравшихся в небольшой палате с расписными стенами бояр и нескольких женщин, в обязательных кокошниках, длинных пышных юбках и коротких душегрейках. Каждый раз, когда он видел торжественно одетых бояр, у него возникало ощущение, что наступила зима. Хотя Росину и в рясе из тонкой шерсти было жарковато.
— Государь видеть желает, насколько здоров ты после мук перенесенных, — заученно повторил Андрей Толбузин.
— Он что, доктор? Осматривать станет?
Из распахнутых наружу окон лилось яркое солнце, освещавшее два сундука и высокий, витой бронзовый подсвечник, составлявшие все убранство палаты. Да и была она, судя по всему, просто проходной комнатой: двери с одной стороны, двери с другой.
— Настя, складку у шеи поправь, натирает, — повернулся Росин к боярыне Салтыковой, и та запустила свои тонкие прохладные пальчики к нему под ворот.
— Государь Иван Васильевич следует! — распахнулись обе двери, и бояре торопливо выстроились рядком от стены до стены. Толбузин, потянув Костю за собой, приткнулся в общий ряд.
Правитель появился слева. От шубы, похоже, государю удалось отвертеться, но шитый золотыми нитями кафтан царедворцы ему все-таки надели. В сопровождении двух монахов и какого-то знатного, судя по одеждам, князя, олицетворяющий Русь паренек прошел до середины палаты, остановился:
— Ведомы мне ваши заботы, бояре, — обратился он сразу ко всем. — Указал я ныне в Поместный приказ земли путивльские в поместья раздать. Мыслю, дети ваши еще до зимы ввозные грамоты получить должны, и к весне мои дачи под свою руку принять.
— Благодарствуем, государь, — принялись кланяться бояре.
— Ябеду твою, боярыня Алевтина, — шагнул дальше царь, — в Поместном приказе со всем тщанием и прилежанием изучили, и крамолы в деяниях воеводских не нашли.
Женщина молча поклонилась, перечить не рискнув, но и не благодаря.
— А ты, Константин Андреевич, — миновав Толбузина, остановился Иван. — Как руки твои? Одеяния все монашеские носишь?
— Да вроде шевелятся уже… государь, — ответил Росин. — Слабость только сильная. А ряса удобной больно одеждой оказалась. Особенно, когда пальцам с застежками всякими не совладать.
— А руки, мною взамен твоих даденные, как? — широко улыбнулся наделенной государственной властью паренек.
— Хороши… — признал, смутившись, Росин, а стоящая рядом Анастасия густо покраснела.
— У тебя боярин живет? — приподнял кончиками пальцев подбородок женщины царь и пытливо заглянул ей в глаза.
— У меня, государь…
— Невенчанным? Грех это, — правитель отпустил Анастасию и обернулся к сопровождающим его монахам: — Повенчать сегодня же…
После чего милостиво кивнул склонившейся в поклоне женщине, остолбеневшему Косте и пошел дальше. Двери закрылись, явление царя народу закончилось. Бояре, загалдев, двинулись к выходу, оставив хлопающего глазами Росина, его «руки» и Андрея Толбузина в палатах.
— А… А если я не хочу? — выдавил Костя.
— Что ты, Константин Андреевич? — всплеснула руками Настя. — Воля же государева!
— Тык… Это… Как так?
— Милость царская, Константин Андреевич, — одернул его Толбузин. — Ты чего?
— Я… А я? А меня спросить? — хлопал ртом, словно вытащенная на берег рыба, Росин.
— Ты, боярин… — Толбузин оттащил его немного в сторону и горячо зашептал в самое ухо: — Да ты обезумел, боярин! Царь же тебе не девку, он тебе все добро ее отдает! Дачи новые под Новгородом, имение у Твери, поместья под Тулой и Смоленском, казна богатая, дома в Москве и Варшаве. Ну, не нравится баба… — боярский сын покосился на Анастасию. — Ну, не нравится, в монастырь опосля отправишь. А добро-то, царской волей даденное… Никто покуситься не посмеет.
— Как это, в монастырь? — еще больше возмутился Росин. — Настю в монастырь? Как у тебя язык повернулся, после всего, что она для меня…
— Истинно умом помутился, — тряхнул головой боярский сын Андрей. — Ее же не отнимает никто, ее тебе в жены дают.
— А нас спросили? — он обогнул Толбузина, приблизившись к боярыне: — Ты что делать собираешься?
— Воля государева… — слабым голосом ответила та.
— Мы к моим, на Каушту рвануть можем. Там скумекаем чего-нибудь. В лес уйти. Я теперь опыта набрался, в любой чаще с удобствами обустроиться смогу, и от шантрапы всякой отбиться. Или в Америку свалить. Ее только-только обживать начинают.
— И повенчаться тайно, — добавил из-за спины Толбузин. — Ты себя-то слышишь, безумец? Ты от кого с боярыней бежать собрался? Вас государь волей своей и так вместе оставляет!
— Я под чужой волей ходить не привык, — огрызнулся Росин. — По своим желаниям жить хочу, по своему выбору жениться.
— Ужели так противна я тебе, Константин Андреевич? — обиженно шмыгнула носом боярыня.
— Да не в этом дело, Настя, — продолжал бушевать Росин. — Почему за нас кто-то решает?
— Не слушай его боярыня, — жалостливо вздохнул Толбузин. — Жар у него, и разум помутился. Видать, от радости.
— Да я…
— Государь, отец наш милостивый, — сухо произнес боярский сын, положив тяжелую ладонь Росину на загривок и крепко ее сжав, — в заботах непрестанных о детях своих, дарует тебе, недостойному, добро немалое, а боярыне Анастасии, одной оставшейся, в лице твоем, опору и защиту от невзгод жизненных. И коли ты, Константин Андреевич, от болезни своей еще не отойдя, понять этого не способен, то я об исполнении воли царской позабочусь, и в храм тебя самолично отведу, и на вопросы батюшки за тебя отвечу. И дурак ты, боярин, изрядный, коли милости от кары отличить не способен: вот что тебе, Константин Андреевич, скажу.
— Руку убери, больно.
— Это хорошо, что больно, — злорадно улыбнулся Толбузин, усиливая нажим, и в такт нажимам начал приговаривать: — Государь к тебе милостив, милостив, милостив, а ты, грубиян, даже поклониться ему побрезговал.
— Отпусти его, боярин, — попросила Анастасия. — Болезный он.
— А может, и вправду, — отпустил боярский сын Росина, — пойдешь, кинешься царю в ноги? Отважен Константин Андреевич, коли крамолу чрез муку остановить решился, но безроден ведь? Где же это видано, чтобы служивому человеку родовитую боярыню в жены отдавали? Проведу я тебя. Где государь, знаю. Рынды меня пропустят…
— Я думаю, глупо выглядеть будет, — подал голос Росин, — если Настя сама себе кольцо одевать станет. Я ведь не смогу.
— Понимать хитростей твоих и недомолвок не желаю, — сурово вымолвил Толбузин, отгораживая от него боярыню. — Прямо отвечай: принимаешь ли волю царскую всем сердцем и животом своим, или мысли иные в душе держишь?
— Ты хоть соображаешь, Андрей, — поморщился Росин. — Что пути мне назад после этого уже не будет. Вообще никуда назад: ни домой, ни в Каушту, никуда? Ну как так сразу?
— Ничего разуметь не хочу, — стоял на своем Толбузин. — Прямо ответь: волю царскую принимаешь, или хитрости собираешься измышлять?
— Что ты меня ломаешь, как хребтом через колено?
— Прямо отвечай.
— Ну, в этом во всем…
— Нет, прямо мне ответь, Константин Андреевич, принимаешь волю государеву, или не желаешь ее над собой иметь? — Толбузин отвел руку назад, и задвинул Анастасию себе за спину.
— Ты меня еще на дыбу повесь.
— Надо будет, повешу!
— Не боюсь я ее. Прошел уже.
— Я знаю, — кивнул Толбузин. — Так принимаешь волю государеву?
— Принимаю.
— Принимаешь? — похоже, боярский сын и сам не ожидал, что упрямый собеседник сдастся. — Сердцем и животом?
— И сердцем, и душой, и жизнью. Отдай Настю и перестань тянуть из меня жилы.
— Перекрестись! — продолжал сомневаться Толбузин.
Росин красноречиво опустил глаза себе на руки, и боярский сын спохватился:
— А, ну да… — он отступил, все еще неуверенно посмотрел на Росина, на боярыню. — Так я к Селивестру сейчас схожу, спрошу, где и когда венчать вас станем?..
— Ступай.
— А вы?..
— Мы здесь подождем.
Толбузин потоптался еще немного, потом вышел. Росин попытался согнуть руку в локте, но осуществись желание смог только наполовину.
— Ладонь мне подними, Настя. Щеки твоей хочу коснуться.
Женщина с улыбкой подняла ладонь и прижалась к ней щекой.
— Я про все это в справочниках и учебниках читал, — продолжил Костя. — Осадить, оженить, к месту привязать. И всегда дикостью и варварством считал. А на себе попробуешь… — он усмехнулся, — нормальная жизнь получается. И даже вполне удачная. И сюзерену действительно благодарен, и честно служить готов. Хорошо, что мы с тобой встретились.
— Воля государева…
— Все ты «воля», да «воля». А я тебя просто любить буду. То есть, не так. Я люблю тебя, Настенька, больше всего на свете. И очень тебя прошу: выходи за меня замуж. Ты согласна?
— Да.
* * *
Вечером на Москву обрушился дождь. Плотный, густой ливень, водопадами скатывающийся с крыш, превращающий ручьи в полноводные реки, а немощные улицы — в глинистое, грязевое месиво.
Впрочем, по скользкой глине запряженные цугом сани скользили только лучше, а потому свадебный поезд быстро домчал молодых до огороженного частоколом двора и они торопливо метнулись из-под кожаного навеса саней под крышу крыльца. Дворня что-то закричала, но из-за шума дождевых струй разобрать слова было невозможное.
— С Богом, — благословил, не выходя в грязь, спины супругов монах. — Дождь-то какой, боярин.
— Ништо, — с улыбкой отмахнулся Толбузин. — Им ближние дни из почивальни выходить ни к чему. Пусть льет, хлеба поднимает. Хорошее лето выдалось. Спокойное.
* * *
Подходил к концу семь тысяч шестьдесят второй год от сотворения мира, именуемый немытыми схизматиками тысяча пятьсот пятьдесят третьим. Мирный год — потому, как слабые наскоки Ордена и Литвы с Польшей, занятых своими спорами, без труда отбили порубежники и местное ополчение, весьма удачно ответные визиты нанеся. Впрочем, на западных границах для Руси соперников давно уже не существовало, как и на восточных, где, пользуясь мирным временем, стрелецкие рати удачно замирили взбунтовавшихся было после ухода Казанского ханства под Русь удмуртов и башкир. Присягнули Руси по воле своей, безо всякого царем принуждения, сибирский хан Едигер, черемисы и черкесские князья. Вяло сопротивлялось малочисленным, но сильным духом отрядам воеводы Пронского-Шемякина ханство Астраханское, и внимание Руси приковывало теперь необъятное Дикое Поле, по весне колышущееся волнами высокой сочной зелени, заливаемое, словно кровью, алыми головками тюльпанов — и к концу года превращающееся в сухой ровный стол, по которому катаются из края в край белые шарики верблюжьей травы.
Именно из этого зеленого моря накатывали черными штормовыми валами орды жадных крымских татар, захлестывали Русь — разбиваясь, как о камни, об остроги и крепости, обтекая города, обращаясь в прах при столкновении с отрядами кованной конницы, и отлынивая назад, снося вместе с собой все то, чего не успели жители спрятать за крепостные стены или укрыть в непроходимых чащобах: людей, скотину, старую рухлядь и нестареющее золото. И как ни хвалились татары своей удалью, как ни угрожал турецкий султан страшной карой всем, кто руку на его крымских союзников поднимет, но Русь от близости и алчности этой стихии начинала уставать.
Глоссарий
«Большой наряд» — артиллерийские части на Руси как в крепостях, так и в полевой армии.
Братина — русский шаровидный сосуд XVI–XVII веков для питья на пирах «на всю братию». Изготавливался из дерева, меди, серебра, золота.
Бурак — сосуд из бересты, туес, туесок.
Витальеры (братья-витальеры) — объединение пиратов Балтийского (опорный пункт — остров Готланд), позже Северного (остров Гельголанд) морей.
Воевода — военачальник, совмещавший административную и военную функции. Это слово появилось в X веке и часто встречается в летописях. До XV века оно обозначало либо командира княжеской дружины, либо руководителя народного ополчения. В XV–XVII веках так именовали командиров полков и отдельных отрядов. В XVIII веке указом Петра I звание В. было отменено. Помимо чисто военного чина, были и городовые В., являвшимися правителями города.
Вошва — нашитый на одежду для украшения лоскут аксамита, бархата или тафты в виде четырехугольника или круга. В. вышивались золотыми, серебряными, шелковыми нитями, украшались дробницами, жемчугом и драгоценными каменьями.
Гарнизон — воинское подразделение, расположенное в населенном пункте или крепости. В средневековых дворянских замках всей Европы в мирное время Г. редко превышал полтора-два десятка человек, а если господин отправлялся куда-то со свитой — то и эта численность заметно уменьшалась. Даже в военное время счет защитников замка средней руки шел на десятки и редко доходил до сотни воинов.
Горлатная шапка — шапка, сшитая из горлышек какого-либо пушного зверя, например соболя.
«Государев человек» — человек, подчиняющийся лично государю и выполняющий его указы. За время безвластия (Иван Грозный вступил на престол в возрасте трех лет и, естественно, долгое время не мог являться реальным руководителем) русское дворянство привыкло к бесконтрольности и вело себя наподобие польской шляхты. В 1550 году царь Иван учредил личную тысячу, в которую вошло 6000 вольных людей всех званий, каковая и стала выполнять исконно дворянские обязанности: нести воинскую службу и осуществлять административно-управленческие функции. «Тысяча» подчинялась лично государю, опричь прочих, зачастую враждебно настроенных руководителей. Позднее, начиная примерно с XVIII века, этих людей начали называть опричниками.
«Государево тягло» — налоги.
Гроверная кольчуга — кольчуга, собранная для фестиваля или ролевой игры из обычных гроверов, что кладутся под болты, дабы они не отворачивались. Хотя аутентичным доспехом Г.К. назвать нельзя, она выдерживает выстрел из пистолета Макарова.
Дача — земельный надел, данный царем. Например, для строительства загородной усадьбы (как это делал Петр), или обеспечения призывного контингента в ряды кованной рати (как это делал Иван Грозный). От современных дач царские отличаются тем, что нередко давались вместе с деревнями и рабочими людьми.
Жребий — крупнокалиберная дробь, забиваемая в пищаль.
Изюмский шлях — на протяжении веков крымские татары ходили в набеги на Русь по шести основным дорогам — шляхам. Близ Оскола проходил Изюмский шлях, причем на землях, дарованных братьям Батовым, к нему примыкали еще Муравский, Ново-Кальмиусский и Кальмиусский шлях.
Камиза (камиса) — нижняя одежда с длинными рукавами. В XVI веке — женская рубашка с длинными рукавами, из дорогого тонкого белого полотна.
Китай-город — город, обнесенный китайской стеной. Стена состояла из поставленных бок о бок кит: срубов, заваленных для устойчивости камнями и засыпанных землей.
Клевец — боевой топор с узким клювообразным клинком и молотковидным обухом, предназначенный для пробивания особо толстых доспехов. Распространен на Руси с глубокой древности и вышел из употребления только в концу XVII века.
Кокошник — старинный головной убор замужних женщин, в основном праздничный — на твердой основе в форме гребня.
Колонтарь — доспех без рукавов из двух половин, застегивавшихся на плечах и боках латника железными пряжками.
Колосник — решетка в топке печи, сквозь которую зола высыпается в поддувало.
Костыч — будничный короткий сарафан.
Кухня (во дворе замка) — в средние века, во избежание пожара, К. всегда ставились отдельно от прочих строений, во дворе замка или крепости из соображений пожарной безопасности.
Куяк — пластинчатый доспех. Изготавливался путем нашивания прямоугольных или круглых металлических пластин на кожаную или суконную основу.
Лойма — большая лодка, расcчитанная на десять человек. Л. удавалось проходить к Неве через мелководный Финский залив.
«…мальчишка безусый» — на момент описываемых событий Ивану Грозному было 23 года. Останавливал бегущих ратников на улицах Казани он в 21 год, вел кованную конницу в атаку на осадивших Тулу татар — в 19.
«Мирские дела» (монастырей) — в XVI веке монастыри занимались не только землепашеством, но и печатали книги, промышляли рыбу и зверя, производили сукно и даже лили пушки. В начале века в монастырях мужчины и женщины жили вместе.
Наперсток (лучника) — усилие натяжения боевого лука достигало 100 кг. В Европе тетиву оттягивали двумя согнутыми пальцами, средним и указательным, между которыми помещалась стрела. При этом рука защищалась от порезов специальной перчаткой. На востоке тетиву оттягивали большим пальцем, который придерживался от разгибания средним и указательным. При этом палец защищался специальным наперстком.
Начетник — человек, ведавший в замке, помимо прочего, сбором податей с принадлежащего господину населения и распределением повинностей.
* * *
Нежить (нечистая сила) — существа без плоти, потусторонние силы. Н. это существа особого рода: домовые, кикиморы, водяные, лешие и т. п. Нежить не живет и не умирает, она была всегда и всегда будет. Среди нежити есть добрые и злые существа:
Анчутка — злой дух, бесенок, обитающий в болоте, имеет крылья. Помощник водяных и болотных.
Баечник — злой домашний дух. Появляется только ночью и не любит, чтобы за ним наблюдали. После страшных разговоров и историй можно слышать его тихий плач и глухие стоны. Представляется маленьким старичком.
Берегини — воздушные девы, живущие возле дома и оберегающие дом и его обитателей от всех злых духов. Веселые, шаловливые и привлекательные создания, поющие чарующие песни. Ранним летом, лунной ночью Б. кружатся в хороводах на берегах водоемов.
Болотница (омутница, лопатница) — дева-утопленница, живущая на болоте. Б. готова завлекать людей в болото, чтобы защекотать до смерти. Б. могут насылать на поля бури, проливные дожди и град. Похищают у заснувших без молитвы женщин нитки, холсты и полотна.
Болотняник — дух болота, живет в большом каменном доме с женой и детьми. Жена — болотница. В родственных связях с водяным и лешим. Пугает идущих через болота резкими звуками и вздохами. Иногда оборачивается монахом и заводит в самую трясину.
Коровья смерть — дух смерти рогатого скота. Является в образе безобразной, злобной старухи, у которой руки с граблями. Чтобы уберечься от Коровьей смерти, деревенские женщины совершают по осени древней обряд опахивания деревни.
Лесавки — лесные духи, родственники лесовика, старики и старушки. Маленькие, серенькие, похожие на ежей. Живут в прошлогодней листве, бодрствуют с конца лета до середины осени.
Лихорадка — дух болезней. Простоволосая женщина неприятной внешности. Чтобы задобрить ее, часто называли добрыми ласкательными именами: добруха, кумоха, сестрица, тетка, гостюшка.
Луговой — дух лугов, маленький зеленый человечек в одежде из травы, помогает косить травы во время сенокоса.
Мавки (майки, мевки, навки) — злые духи, в которых превращаются умершие до крещения младенцы. М. бестелесны и не отражаются в воде, не имеют тени. Иногда представляются в образе толстощеких детей с распущенными волосами, либо в образе красивых девушек.
Моховой — маленький дух зеленого или бурого цвета, живет во мху и наказывает тех, кто собирает ягоды в неурочное время. Представляется в образе сильного, крепкого и здорового старика, одетого в бараний тулуп (кожух), с глазами без бровей и ресниц, зелеными волосами, волосатым телом и длинными ногтями. Показывается и исчезает внезапно. М. поет без слов, хлопает в ладоши, свищет, аукает, хохочет, плачет, прикидывается путником: без шапки, волосы зачесывает налево, кафтан или тулуп запахивает направо.
Ночницы (криксы) — ночные демоны, нападающие на младенцев до крещения и не дающие им спать.
Овинник (гуменник) — дух, живущий в овине. Весь лохматый, но одна рука голая и длиннее другой. Голой рукой он наказывает нерадивых хозяев.
Полевик (полевой, житный дед, жыцень, гречуха) — дух, охраняющий хлебные поля. Иногда появляется в образе старца в белых одеждах и пугает людей
Полудница — дух хлебных нив и полей. Красивая и высокая девушка с золотыми волосами. Летом, во время жатвы, она бродит по полосам ржи, и если кто в самый полдень работает, того берет за голову и начинает вертеть, пока не доведет до обморока.
Рохля — существо, которое живет в подполье. Часто представляется в виде змеи, забравшейся в дом, в подпол или под печь.
* * *
Панцирь — кольчуга специального плетения, в которой половина колец лежала плашмя, а половина стояла вертикально, образуя толстую стальную подушку.
Пелис — узкая одежда типа куртки из белого полотна или шерстяной ткани на меху, носилась поверх рубашки. В XVI веке это плотно облегающая фигуру куртка с длинными рукавами или без них. К этому времени П. стали украшать вышивками, продольными разрезами, которые скреплялись небольшими пряжками, иногда с драгоценными камнями.
Поместный приказ — центральное государственное учреждение в России в середине XVI века. Наделял дворян поместьями, контролировал изменения в сфере землевладения, производил описания земель и переписи населения, а также сыск беглых крестьян. Центральная судебная инстанция по земельным тяжбам. Закрыто в 1720 году.
«…посеченные стрелами» — всеобщим заблуждением эпохи огнестрельного оружия является как то, что стрелами били в цель, стремясь убить врага наповал, так и то, что кольчуга этими стрелами легко пробивалась. Чаще всего в сражениях использовались стрелы с широкими наконечниками и остро отточенными краями. Этими стрелами противник методично забрасывался, причем даже легкое, поверхностное касание наконечником тела приводило к длинным резаным ранам. В результате воин терял много крови, ослабевал, утрачивал воинский дух. Отсюда появился и сам термин «рать посекли стрелами», а не «перебили стрелами». Впоследствии, использование кольчуги дало против подобной тактики простую и эффективную защиту.
«…прялка, разрисованная членами…» — мужские половые органы — основной художественный мотив для украшений этого инструмента. Испокон веков П. считалась предметом эротическим, и была предметом всяческих двусмысленных шуток и намеков. На ней гадали, верхом на ней катались зимой с ледяных горок девки на выданье и ее украшали пошлыми рисунками.
Пулены — остроносая мягкая обувь с загнутыми вверх носками.
Пятница — постный день, согласно православным канонам.
«…решетка в замковых окнах…» — уже начиная с XV века, в Европе при строительстве замков начали думать не только об обороне, но и о красоте, о количестве проникающих во внутренние покои света. Поэтому узкие бойницы все чаще стали оставлять лишь в наиболее ответственных местах — в надвратных башнях, в наружных стенах, машикулях. Окна жилых комнат и залов делались большими, а чтобы в них не проникли злоумышленники, или враги не воспользовались широким проходом при осаде — эти окна забирались железными решетками или вертикальными прутьями.
Рожон — заостренный кол, вкопанный в землю с некоторым наклоном в сторону предполагаемого противника. Таким образом, для XVI века идиома «лезть на рожон» имела вполне конкретное практическое значение.
Ручница — огнестрельное оружие, имевшее ствол меньшей длины, нежели мушкетон, меньший калибр, заряд воспламенялся фитилем от руки. Зачастую Р. не имела приклада. Р. состояли на вооружении польской армии в первую половину XVI века, и только во второй половине века, при короле Батории начали заменяться аркебузами.
Рынды — царские телохранители, вооруженные бердышами, размером немногим более плотницкого топора.
Рюриковичи — династия русских князей, в том числе великих князей киевских, владимирских, московских и русских царей, находившихся у власти с (примерно) конца девятого века и по шестое января 1598 года.
«Сольем в молитве голоса…» — хорал Пауля Герхарда (1607–1676).
Стрелковый наруч — небольшая пластина с бороздкой для прицельной стрельбы из лука на большие расстояния (из русского лука на соревнованиях били по мишеням, отстоящим на 723 метра).
Трехполье — севооборот с чередованием культур: пар, озимые, яровые. Применялся в крестьянских хозяйствах России с XV–XVI веков.
Хамовная сотня — слобода ткачей и суконщиков.
Холера — инфекционное заболевание, имеющее инкубационный период в одну неделю, но Иван Грозный ввел карантины на месячный срок.
Щи — любой суп, сваренный с мясом, на Руси называли Щ. Похлебка без мяса (с рыбой, фруктами, овощная похлебка) назывались ухой.
Юшман — кольчужная рубашка с вплетенным на груди и спине набором горизонтальных пластин. На изготовление юшманов обычно шло около 100 пластин, которые монтировались с небольшим припуском друг на друга. Ю. имел полный разрез от шеи до подола, надевался в рукава, как кафтан, застегиваясь застежками — «кюрками» и петлями. Иногда «доски» Ю. «наводились» золотом или серебром; и вес Ю. достигал 12–15 кг.
Ябеда — письменная жалоба.
Ям — станция на важном тракте, где путник мог сменить усталого коня на свежего, поесть или остановиться на ночлег. Ямская служба появилась на Руси в IX веке, и благодаря ей скорость передвижения стала зависеть только от выносливости человека, достигая порою 30 км/ч.
Ямгурчей — правитель Астраханского ханства, в 1553 году решил рассориться с московским соседом и искать милости Стамбула. Я. оскорбил русского посла и посадил его в темницу. В результате уже в следующем, 1554 году, летом, Астраханское ханство было присоединено к Руси.



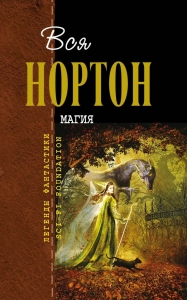
Комментарии к книге «Царская дыба », Александр Дмитриевич Прозоров
Всего 0 комментариев