Джеймс Брэнч Кейбелл Сказание о Мануэле. Том 2
Серебряный жеребец (Комедия спасения)
Властители, правившие Пуактесмом во времена дона Мануэля
Десять членов Братства Серебряного Жеребца:
1) Дон Мануэль, граф Пуактесмский, владел Сторизендом и Бельгардом, городом Бовилажем и крепостью Лизуарт, а также всем Амнераном и Морвеном;
2) Мессир Гонфаль Нэмский, маркграф Арадольский, владел Верхним Нэмузеном;
3) Мессир Донандр Эврский, тан Эгремонский, владел Нижним Нэмузеном;
4) Мессир Керин Нуантельский, синдик и кастелян Басардры, владел Западным Валь-Ардрейем;
5) Мессир Нинзиян Яирский, бейлиф Верхней Ардры, владел Валь-Ардрейем на Востоке;
6) Мессир Хольден Неракский, шериф Сен-Тара, владел Бельпейзажем;
7) Мессир Анавальт Фоморский, мэр и губернатор Манвиля, владел Бельпейзажем Ле Ба;
8) Мессир Котт Горный, ольдермен Сен-Дидольский, владел О Бельпейзажем;
9) Мессир Гуврич Пердигонский, гетман Ашский, владел Пьемонтэ;
10) Мессир Мирамон Ранекский, сенешаль Гонтарона, владел Дуарденуа.
Существовали также фьефы дона Мёньера, графа Монторского, свояка дона Мануэля. Мёньер не принадлежал к этому Братству, он владел Жьеном, а Нижним Дуарденуа правила его супруга.
Отмар Чернозубый, которого некоторые называли Отмаром Беззаконным, долгое время владел Вальнером и Огдом, пока его не разбил Мануэль; впоследствии эти деревни с большей частью Бовьона оставались бесхозными.
Гельмас Глубокомысленный, после наложения на него чар в 1255 году, владел по-своему возвышенностью Брунбелуа. Но остальной Акаир, когда была захвачена Лорча и сожжен Склауг, оставался ничейной землей. На Верхнем Морвене также жили весьма нелояльные личности, бросавшие вызов любому закону и благочестию.
«Пуактесм в песнях и легендах»,
Г. И. Бюльг. Страсбург, 1785, (с. 87-88).
* * *
Сим начинается история зарождения и триумфа великой легенды о Спасителе Мануэле, коего Гонфаль считал развеянным прахом, а Мирамон – самозванцем и коего Котт отказывался признавать из-за своей любви к истине. Но коего принимал Гуврич посредством двух разновидностей благоразумия; коего Керин принимал в качестве заслуживающего уважения недостатка, а Нинзиян – в качестве трогательной и полезной шутки; коего Донандр принимал всем сердцем (к вечной радости Донандра) и коий к тому же был принят Ниафер и ростовщиком Юргеном с небольшими оговорками личного характера. И ниже описывается, как эти люди оказались поглощены сей великой легендой.
Книга Первая Последняя осада Братства
«Вот, я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима.»
Захария, 12, 2– Et la route, fait eile aussi un grand tour?
– Oh, bien certainement, e'tant donne qu'elle circonvient a la fois la destinee et le bon sens.
– Puisqu'il faut, alors! dit Jurgen; d'ailleurs je suis toujours dispose gouter n'importe quel breuvage au moins une fois.
«La Haulte Histoire de Jurgen»Глава I Уста младенца
Рассказывают о том, как дон Мануэль, который являлся возвышенном графом Пуактесмским и повсеместно расценивался как самый удачливый и наименее щепетильный мошенник своего времени, исчез из своего замка в Сторизенде без всякого повода и предупреждения в праздничный день Святого Михаила и Всех Ангелов. Рассказывают также о смятении и испуге, поднявшихся в краях дона Мануэля, когда стало известно, что Спаситель Мануэль, названный так потому, что спас Пуактесм от ига норманнов с помощью Мирамона Ллуагора и его великой, кровавой магии, исчез совершенно необъяснимо из этих краев.
Куда ушел Мануэль, ни один человек не мог сказать с полной определенностью. В Сторизенде последней его видела младшая дочка Мелицента, заявившая, что папа, сев на черного коня, отправился на запад вместе с Дедушкой Смертью, скакавшем на белом коне, в какой-то далекий край по ту сторону заката. В целом это казалось совершенно невероятным.
Однако дальнейшие расследования лишь еще больше углубили тайну исчезновения дона Мануэля. Дальнейшие расследования раскрыли, что единственным человеком, видевшим (или притворявшимся, что видел) дона Мануэля после того, как Мануэль покинул Сторизенд, был маленький мальчик по имени Юрген, сын Котта Горного. Юный Юрген, получив от отца во всех отношениях необычайную порку, убежал из дома, и его не могли поймать до следующего утра. Этот паренек сообщил, что в сумерках на Верхнем Морвене он стал свидетелем страшного причастия, в котором весьма ужасным образом участвовал Спаситель Пуактесма. Потом, гласил рассказ мальчика, последовало некое преображение, и предсказание относительно будущего Пуактесма, и вознесение дона Мануэля в обагренные лучами заката облака…
Эти последние подробности при первом рассказе Юрген пробормотал почти нечленораздельно. Ибо сразу после вводных пассажей предполагаемого романа родители Юргена, находясь в восторженном состоянии по случаю обнаружения потерянного сокровища, конечно же, в типичной манере родителей обратились к таким нравственным высотам и прибегли к таким телесным наказаниям, кои бедственно повлияли на россказни предполагаемого лжеца. Затем, по прошествии нескольких дней, когда в Пуактесме все еще тщетно ждали возвращения великого дона Мануэля, ребенка посчитали необходимым допросить вновь. И маленький Юрген, подувшись немного, пересказал историю без заметных изменений.
Определенно, все звучало весьма невероятно. Тем не менее это было единственным объяснением утраты, предложенным кем бы то ни было. И люди начали наполовину всерьез относиться к нему с должным вниманием. Говорите что хотите, но сей незрелый, отшлепанный евангелист рассказал историю, изобилующую подробностями, которые ни один мальчик его возраста, по-видимому, не смог бы придумать сам. Поэтому множество людей начало мудро ссылаться на уста младенцев и многозначительно кивать. Более того, ребенок, допрошенный еще раз, распространился о последнем предсказании Мануэля относительно будущей славы Пуактесма, что делало неверие довольно-таки непатриотичным. И Юрген сделал еще более ужасной свою историю о том, как Мануэль спас свой народ от причитающихся наказаний за разнообразные грехи, совершенные до того вечера исключительно.
Следующий из этого вывод, что повсюду вплоть до сего дня можно не нести ответственности за свои проступки, среди которых дон Мануэль взял на себя труд придать особый характер таким неблаговидным деяниям, как гуляние по ночам без разрешения родителей, являлся договоренностью, которую все, при ближайшем рассмотрении нашли весьма желательной. Добросердечные люди повсюду начали (в сущности свободно выбирая между верой и недоверием) предпочитать вложение наверняка выгодного доверия в историю, рассказанную с таким убеждением этим милым, незапятнанным грехом ребенком, нежели в доводы придурков-материалистов, которые, в конце концов, могли лишь говорить (находясь вдали от Котта Горного), что этот юный Юрген впоследствии, похоже, отличится или на кафедре, или на виселице.
Между тем один прискорбный факт в любом случае оставался неопровержимым: сказание об этом тихом, преуспевшем в свое время архиворе Мануэле закончилось непоследовательными, а то и невероятными историями этих двух детей. И могучий, косой и седой Мануэль с высоко поднятой головой ушел из Пуактесма неизвестно куда.
Глава II Расчетливость Горвендила
А между тем жена Спасителя, госпожа Ниафер, призвала к себе девятерых властителей, которые вместе с доном Мануэлем образовывали Братство Серебряного Жеребца. И все они встретились в Сторизенде, как приказала им Ниафер, на заседании, или, как более формально это называли, при осаде, предпринятой этим орденом.
Братство вело свое название от знамени, под которым так опустошительно сражалось. На этом черном знамени был изображен серебряный жеребец, вставший на дыбы и взнузданный золотой уздой. Дон Мануэль являлся предводителем этого братства, состоявшего, кроме него, из девяти баронов, которые под началом Мануэля правили Пуактесмом. У каждого из них было по два великолепно укрепленных замка, а также прекрасные лесные угодья и луга, которыми они владели, приняв присягу на верность дону Мануэлю. И каждый из них славился своей доблестью.
Четверо из этих добродушных убийц служили под командованием графа де Тохиль-Вака еще в первой, крайне разрушительной кампании Мануэля против норманнов. Но все девять баронов были с Мануэлем со времени великой битвы при Лакре-Кае и на протяжении разнообразных неприятностей, возникавших у Мануэля с Орибером, Фрагнаром, графом Ладинасом, Склаугом и Ориандром – этим слепым и безучастно злым Пловцом, являвшимся отцом Мануэля. И во всех остальных сражениях Мануэля эти девять баронов были с ним до самого конца.
А деяния властителей Серебряного Жеребца не далеко ушли от собственноручных деяний Мануэля. Разумеется, Ориандра убил именно Мануэль – это являлось делом семейным. Но Мирамон Ллуагор, сенешаль Гонтарона, был героем, подчинившим себе Фрагнара и наделившим его отличительными чертами, создававшими помехи его действиям. И именно Керин Нуантельский – синдик, а впоследствии кастелян Басардры – взял в плен и старательно сжег Склауга. Затем во время подавления бунта Отмара Чернозубого Нинзиян Яирский, бейлиф Верхней Ардры, убил на одиннадцать мятежников больше, нежели поразил меч Мануэля. Именно Гуврич Пердигонский, а не Мануэль, лишил жизни великого араба Аль-Мотаваккиля. А в знаменитой битве с монголами, в результате которой была освобождена Мегарида, именно Мануэль завоевал львиную долю славы и, как говорят, на три ночи – обладание телом младшей сестры короля Теодорета. Но сведущие люди заявляют, что лучше всех в тот день дрался Донандр Эврский, тогда всего лишь мальчишка, которого Мануэль впоследствии сделал таном Эгремонским.
Однако Хольден Неракский, шериф Сен-Тара, был храбрее всех и был способен взять верх в единоборстве с любым из перечисленных выше. Котт Горный никогда не покидал поле брани побежденным, а учтивый Анавальт Фоморский и беспечный Гонафаль Нэмский, обладавшие самой дурной славой в этой компании, будучи друзьями и коварными совратителями женщин, также повергали своих соперников наземь в изрядных количествах.
Одним словом, неважно, где властители Серебряного Жеребца поднимали свое знамя против врагов: именно там они и обрекали этих врагов на погибель. Ибо никогда, во все времена, не существовало более суровой шайки забияк, чем Братство Серебряного Жеребца в те дни, когда они сотрясали землю лязганьем мечей и затмевали небеса дымом разграбленных городов и когда по всему миру люди рассказывали о чудесах, творимых этими героями, под предводительством дона Мануэля. Теперь же они остались без вождя.
И вот герои съехались в Сторизенд. А вместе с госпожой Ниафер они, конечно же, встретили Святого Гольмендиса. Этот блаженный совсем недавно прибыл из Филистии, чтобы утешить графиню в ее горе. Но они также обнаружили при ней того молодого рыжеволосого Горвендила, в качестве вассала которого дон Мануэль, в свою очередь, владел Пуактесмом, но условия этого договора так никогда и не были обнародованы. Некоторые говорили, что этот самый Горвендил – друг и посланник Сатаны, тогда как другие заявляли, что его происхождение таится в более языческой мифологии. Все знали, что юноша владеет поразительно странной магией, неизвестной Мирамону Ллуагору и Мудрецу Гувричу.
И этот самый Горвендил сказал девяти героям:
– Сейчас Братство Серебряного Жеребца начинает свою последнюю осаду.
Донандр Эврский был из них самым молодым. Однако он заговорил вполне благочестиво и отважно:
– Но мы привыкли, мессир Горвендил, начинать каждую осаду с молитвы.
– Эта осада, – ответил Горвендил, – тем не менее должна начаться без подобных религиозных мероприятий. Ибо это осада, при которой, как и предрекалось, вы станете чашею исступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима и Фив, Гермополя, Аваллона, Брейдаблика и всех остальных мест, производящих Спасителей.
– Клянусь честью, но я не понимаю, кто здесь господин! – воскликнул Котт Горный, крутя длинный нос. Этот жест являлся верным знаком предстоящих неприятностей.
Горвендил ответил:
– Господин, правивший Пуактесмом в соответствии с моими прихотями, скончался. На его месте сидит женщина, а его наследник – маленький ребенок. Так что начинается новый роман, затевается новый орден.
– Однако Котт в своих неустанных поисках разнообразия задал вполне разумный вопрос, – сказал Гонфаль, могучий маркграф Арадольский. – Кто будет нами командовать, кто теперь даст нам указания? Или на войну нас поведет госпожа Ниафер?
– Это разные вещи. Командует госпожа Ниафер, но именно я, раз уж вы спросили, выдам вам все указания и к тому же приговоры и время их свершения, а после этого я дам жизнь вашим именам. В общем вам, Гонфаль, я указываю на юг.
Гонфаль посмотрел на Горвендила с искренним удивлением.
– Я уже собирался отправиться на юг, хотя определенно, никому об этом не говорил. Вы, мессир Горвендил, выказываете поражающую меня мудрость.
Горвендил ответил:
– Это лишь дар предвиденья, который я разделяю с Валаамовой ослицей.
Но Гонфаль оставался более серьезным, чем обычно. Он спросил:
– И что я найду на юге?
– То, что все люди находят под конец жизни в том или ином месте, будь то с помощью ножа, веревки или преклонного возраста. Однако уверяю вас, эта находка не станет для вас нежелательной.
– В общем, – пожал плечами Гонфаль, – я реалист. Я принимаю приходящее в том облике, в котором оно приходит.
Тут вновь взорвался Котт Горный.
– Я тоже реалист. Однако я не позволю ни одному выскочке, будь он рыжий или нет, указывать мне какие-либо направления.
Горвендил ответил:
– Я скажу вам…
Но Котт, тряхнув лысой головой, ответил:
– Нет, меня так просто не запугаешь. Я мягкий человек, но не подчинюсь смиренно подобному шантажу. К тому же, по-моему, Гонфаль намекал на то, что я обычно задаю неразумные вопросы!
– Никто не пытался…
– Не отрицайте этого мне прямо в лицо! Эдак вы просто называете меня лжецом! Повторяю, я не подчинюсь этой непрекращающейся грубости.
– Я только говорил…
Но Котт был неумолим.
– Я не приму никаких указаний от того, кто набрасывается на меня и не сохраняет должного достоинства в час нашей скорби. В остальном дети в своих сообщениях сошлись на том, что дон Мануэль (вознесся ли он на золотое облако или ускакал, что более благоразумно, на черном коне) двигался на запад. Я отправлюсь на запад и верну дона Мануэля в Пуактесм. Я, к тому же, откровенно советую вам, когда он возвратится править нами, отбить охоту от дурачеств и причудливых увлечений у всех людей, чьи мозги перегреты их волосами.
– Тогда пусть запад, – очень тихо сказал Горвендил, – станет вашим направлением. И если люди там не найдут вас таким большим человеком, каким вы себя мните, не вините в этом меня.
Это была речь Горвендила слово в слово. Много позднее сам Котт гадал, не совпадение ли это…
– Я, мессир Горвендил, с вашего позволения отправлюсь на север, – сказал Мирамон Ллуагор. Кудесник единственный из всех находился с Горвендилом в близких отношениях. – У меня еще остается на сером Врейдексе Подозрительный Замок, в котором меня ждет известная судьба.
– Верно, – ответил Горвендил. – Пусть жестокий Север и холодное лезвие Фламбержа принадлежат вам. Но вы, Гуврич, в качестве своего направления примите теплый, мудрый Восток.
Такая участь не была воспринята с радостью.
– Мне достаточно уютно у себя дома в Аше, – сказал Мудрец Гуврич. – Вероятно, как-нибудь… Но, на самом деле, мессир Горвендил, у меня в настоящее время в работе большое количество важных чудес! Ваше предложение расстраивает все мои планы. У меня нет никакой необходимости в путешествии на Восток.
– Со временем вы узнаете эту необходимость, – сказал Горвендил, – и охотно ей подчинитесь, и охотно встретитесь лицом к лицу с самым жалким и ужасным из всего существующего.
Мудрец Гуврич ничего не ответил. Он был слишком мудр, чтобы спорить с людьми, рассуждающими настолько глупо. И он был слишком мудр, чтобы спорить с Горвендилом.
– Однако при этом, – заметил Хольден Неракский, – направления исчерпаны. И для остальных из нас направлений не осталось.
Горвендил взглянул на Хольдена, по праву звавшегося Смелым, и улыбнулся.
– Вы, Хольден, уже приняли тайные указания в живописной манере от одной царицы…
– Давайте не будем об этом говорить, – сказал Хольден с фальшивой улыбкой весьма встревоженно.
– …И, в любом случае, вас будет сопровождать она, а не я. Вас, Анавальт Фоморский, тоже вскоре настойчиво позовет еще одна царица, и вы, по праву называемый Учтивым, не откажете ей ни в чем. Так что Хольдену и Анавальту я не дам указаний, поскольку невежливо препятствовать женщине и ее просьбе.
– Но у меня, – сказал Керин Нуантельский, – у меня в Огде молодая жена, которую я ценю выше всех женщин, на которых я когда-либо женился, и намного выше каких-то там венценосных цариц. Даже мудрого Соломона, – сообщил им, прищурившись, Керин со своеобразным тихим восторгом ученого мужа, – когда этот иудей подбирал женщин в сем мире, не сопровождала царица, подобная моей Сараиде. Ибо она во всех отношениях превосходит то, что каббалисты пишут о царице Нааме, этой благочестивой дочери кровожадного царя Аммона, и о царице Джараде, дочери идолопоклонника египтянина Нубары, и о царице Билкис, рожденной Сабейским князем и женщиной-джинном в облике газели. И лишь по приказу своей дорогой Сараиды покину я свой дом.
– Вы тем не менее очень скоро покинете дом, – заявил Горвендил. – И это произойдет по приказу и по личному побуждению вашей Сараиды.
Керин склонил голову набок и вновь прищурился. Он владел трюком дона Мануэля, при размышлениях вот так открывая и закрывая глаза, но кроткий взгляд темных глаз Керина очень мало напоминал мануэлево проницательное, ясное и весьма осторожное рассмотрение дел.
Затем Керин заметил:
– Однако, как сказал Хольден, все направления уже заняты.
– О, нет, – сказал Горвендил. – Ибо вы, Керин, отправитесь вниз, туда, куда за вами никто не посмеет последовать и где вы наберетесь мудрости, чтобы не спорить со мной и не докучать людям непрошенной эрудицией.
– Из вашей логики следует, что я, – засмеялся Донандр Эврский, – должен отправиться вверх, к самому Раю, так как больше направлений не остается.
– Похоже, – ответил Горвендил, – это верно. Но вы окажетесь намного выше, чем думаете, а ваша судьба будет самой странной из всех.
– Тогда должен ли я удовлетвориться некой второсортной, заурядной гибелью? – спросил Нинзиян Яирский, единственный член братства, еще не вступавший в разговор.
Горвендил посмотрел на благочестивого Нинзияна и смотрел он долго-предолго.
– Донандр – довольно набожный человек. Но без Нинзияна Церкви будет не хватать прочнейшего и по-настоящему богобоязненного столпа, который есть у нее в этих краях. Это было бы чертовски неудачно. Посему указание вам – оставаться в Пуактесме и на благо мира утверждать поучительный и прекрасный девиз Пуактесма.
– Но девиз Пуактесма, – с сомнением сказал Нинзиян, – «Mundus vult decipi», и он означает, что мир хочет быть обманут.
– Это высоконравственная мысль, которую, уверен, вы признаете и доказываете. Поэтому для вас, такого благочестивого, я слегка перефразирую Писание; и я заявляю вам всем, что больше не сдвину ноги Нинзияна с земли, которую определил вашим детям; так что они будут внимать всему, что я им прикажу.
– Это, – сказал Нинзиян, которому было заметно не по себе, – весьма очаровательно.
Глава III Как оплакивал Спасителя Анавальт
Затем поднялась госпожа Ниафер, в черном платье и с ввалившимися глазами, и она произнесла заупокойную речь по дону Мануэлю, которому по доброте, чистоте души и мягкости характера не осталось, по ее словам, равных в сем мире. Это был панегирик, от которого все присутствующие воины стали весьма серьезными и очень взволнованными, поскольку осознавали и разделяли ее горе, но не вполне узнавали описываемого ею Мануэля.
И Братство Серебряного Жеребца заявило о своем роспуске, поскольку закон Пуактесма гласил, что всегда и все там считалось десятками. Но не существовало ни одного воина, который был бы способен занять место Мануэля. А братство с девятью членами, как указала госпожа Ниафер, являлось незаконным.
– Однако может быть, – предложила она, косясь на Горвендила, – что какой-нибудь другой, особо святой человек, хотя и не воин…
В тот же миг Котт сказал с пугающей решительностью:
– Вздор!
Его собратья ощутили явную неучтивость этого вмешательства, но к тому же ощутили и то, что согласны с Коттом. И вот так братство было объявлено распущенным.
Затем заупокойную речь по поводу кончины этого благородного ордена, чьи ряды поредели, произнес Анавальт Фоморский, и Анавальт также оплакивал Дона Мануэля, восхваляя его дерзость и храбрость, внушавшие в битвах страх его врагам. Герои кивнули в знак согласия с такими вразумительными речами.
– Мануэль, – сказал Анавальт, – был дерзок. Ни одному сопернику не стоило его задирать. Когда совершался такой безрассудный поступок, Мануэль превращался в змея, обвивающего вражеский город: он захватывал предместья, скот и лодки на реках. Он осаждал город со всех сторон, он поджигал сады, он останавливал мельницы, он не давал пахарям пахать землю. И люди в этом городе голодали, и они ели друг дружку, пока выжившие не решались сдаться дону Мануэлю. Тогда Мануэль воздвигал виселицы, высвистывал палачей и выживших среди этого народа больше не оставалось.
И Анавальт также сказал:
– Мануэль был хитер. С помощью какого-то пера он обманул трех королей, но королев, которых он разыграл, было намного больше трех, да и надувал он их далеко не перьями. Никто не мог провести Мануэля. Желаемое он брал, если мог, своей сильной рукой, а если нет, то использовал свою мудрую голову и ленивый, льстивый язык, да и остальные члены тоже, так что человек, которого он вводил в заблуждение, давал Мануэлю все требуемое. Считалось, что быть обманутым Мануэлем – все равно что напиться меду. Думаю, рядовому человеку не делает чести быть великим мошенником, но вождь должен знать, как обманывать людей.
Затем Анавальт сказал:
– Мануэль был страшен. В нем не было ни мягкости, ни колебаний, ни жалости. В рядовом человеке это тоже не является добродетелью, но в вожде это вполне может быть благословенно. Мануэль так вел дела, что ни один противник не беспокоил Пуактесм вторично. Он правил нами как тиран, но лучше иметь одного господина, которого знаешь, чем вечно менять господ в мире, где лишь сумасшедшие резвятся по собственной воле. Я не плачу по Мануэлю, поскольку он никогда бы не плакал по мне или кому-либо еще. Но я сожалею об этом железном человеке и о защитнике, которого потеряли мы, сделанные не из железа, а из простой плоти.
Воцарилось молчание. Однако по-прежнему герои с серьезным видом кивали: в словах Анавальта это был Мануэль, которого они все узнали.
Впрочем, госпожа Ниафер чуть приподнялась со своего кресла, когда благочестивый изможденный Святой Гольмендис, сидевший рядом с ней, протянул к ней руку. После этого она ничего не сказала, однако было совершенно ясно, что, по мнению графини, Анавальт восхвалял Мануэля не за те добродетели.
С требуемыми церемониями был зажжен огонь. Знамя великого братства сожгли, и властители Серебряного Жеребца сломали свои мечи и бросили обломки в огонь, чтобы эти мечи никогда не могли защищать цвета какого-либо иного флага. Когда погас огонь, погибла юность этих девятерых мужчин и первый пыл, и первая вера их юности; и они это знали.
Затем герои покинули Сторизенд. Каждый поехал к себе домой, и они приготовились, каждый по-своему, к новому порядку правления, который с уходом Мануэля устанавливался в Пуактесме.
Глава IV Поднимающийся туман
Гуврич, Донандр и Гонфаль ехали на Запад вместе со своими слугами одной компанией до дома Гуврича в Аше. И пока эти три властителя ехали среди печальной ноябрьской природы и сгущающегося тумана, они вели беседу.
– Жаль, – сказал Гонфаль Нэмский, – что пока подрастает наш маленький граф Эммерик, этот край должен управляться хромой и болезненной особой, у которой никогда не было мозгов и которая уже начинает командовать. С другой стороны, в краю, которым правит вдова, привыкшая к определенным развлечениям, можно найти и забаву, и выгоду.
– Полно, – сказал верноподданный Донандр Эврский, – госпожа Ниафер – целомудренная и праведная женщина, преисполненная благих намерений.
– У нее есть еще одно качество, которое в правителе любой страны даже более ужасно, – ответил Мудрец Гуврич.
– И какой же повод для цинизма вы нашли теперь?
– Боюсь, скорее чрезмерное благочестие, нежели ее посредственная внешность и дурацкие благие намерения. Эта женщина повсеместно превратит все в сплошные серые развалины.
– На самом деле, – с улыбкой сказал Гонфаль, – этот поднимающийся туман мне очень напоминает церковные курения.
Гуврич кивнул.
– Да. Я считаю, что, будь это возможно, госпожа Ниафер сохранила бы и осквернила братство, поставив на место дона Мануэля этого святого Гольмендиса, который ныне является ее поводырем во всех духовных вопросах и который вскоре – обратите внимание на мое пророчество! – поставит во главу угла ее государственной политики ханжество.
– Хорошо известно, что именно он сочинил для нее, – сказал Гонфаль, – те стенания по дону Мануэлю.
– Каталог проповеднических добродетелей, – сухо сказал Гуврич, – который мне не сразу напомнил хвастливого прелюбодея и отцеубийцу, которого мы все знали. Таким образом, этот самый Гольмендис уже ввел в моду лицемерие.
– Он станет главным советником Ниафер, – вслух размышлял Гонфаль. – Он напористый и энергичный малый. Интересно…
Гуврич вновь кивнул.
– Женщины предпочитают получать советы в спальне, – заявил он.
– Полно, Гуврич, – вставил благочестивый Донандр Эврский. – Полно, каким бы чересчур милосердным ни было его мнение о нашем покойном господине, этот Гольмендис – святой. И мы, истинно верующие, не должны говорить о святых дурно.
– Я ничего не имею против веры, да и против лицемерия тоже – в разумных пределах. И я ничего не имею против святых, когда они на своем месте. Только если святой, и особенно зачатый, вскормленный и возведенный в этот ранг в Филистии, начнет когда-либо править в Пуактесме и в спальне дона Мануэля, – задумчиво сказал Гуврич, – этот святой не будет находиться на своем месте. А наш век, мои друзья, подойдет к концу.
– Он уже подошел к концу, – сказал Гонфаль, – насколько это касается Пуактесма: этот туман слишком сильно пахнет ладаном. Но туман, поднимающийся над Пуактесмом, не покроет всю землю. Лично я отправлюсь на Юг, как указал мне Горвендил и как я уже сам задумал. На Юге я не найду никого настолько забавного, как этот прекрасный, великий, косой, тихий негодяй Мануэль. Однако на Юге объявлен конкурс на соискание руки Морвифи – смуглой царицы Инис-Дахута. И теперь, когда моя жена умерла, я, возможно, найду забавным спать с этой юной царицей.
Остальные рассмеялись и перестали думать о легкомысленном бахвальстве этого самого Гонфаля, который был всемирно знаменитым повесой.
Но в течение месяца стало известно, что Гонфаль Нэмский, маркграф Арадольский, действительно оставил свои владения и отправился на Юг. И он стал первым из членов этого великого братства (после дона Мануэля), ушедшим из Пуактесма и больше никогда туда не вернувшимся.
Книга Вторая Математика Гонфаля
«… И безрассудно расточает слова».
Иов, 35, 16Глава V Несчастный случай с героем
Теперь история о том, как Гонфаль странствовал на Юге, где жили Фундаменталисты. Рассказывается, как был объявлен конкурс и как, в стиле тех дней, рука Морвифи – смуглой царицы Инис-Дахута и остальных четырех Чудесных Островов была обещана герою, который принесет сокровище, наиболее ценное для нее в качестве свадебного подарка. Говорят, что к жертвеннику Пиге-Ипсизига принесли восемь мечей, чтобы их надлежащим образом после краткого и откровенного ритуала освятил имам Булоту. Восемь соответствующе пылких влюбленных высоко подняли мечи и присягнули на верность царице Морвифи и поискам, наградой за которые станет ее красота.
Таким образом, все шло как и следовало до тех пор, пока влюбленные не стали вкладывать мечи в ножны. Тут один герой из этой компании совершенно необъяснимо толкнул локтем своего соседа и по несчастью уронил меч, пронзивший его левую ногу.
Затем на узких улочках и на бронзовых и изразцовых крышах затрубили трубы, и семеро просителей руки царицы Морвифи надели доспехи и отправились в течение года и одного дня лишать мир его главных богатств.
Не поехал же с остальными Гонфаль Нэмский. В самом деле, прошло три месяца, прежде чем его рана была залечена и он смог вставлять ногу в стремя. Но к этому времени, как он с сожалением рассудил, богатства мира должны были быть уже собраны с такой тщательностью, что какому-то калеке едва ли стоило куда-либо ковылять и выставлять себя на посмешище бесчувственным чужеземцам. Его боль (признавался он) при таком суровом повороте фортуны была почти невыносима. Однако ничего не достигнешь, закрывая глаза на очевидные факты, а Гонфаль являлся (в чем он тоже признался) реалистом.
Таким образом, Гонфаль оставался при дворе на протяжении всего года и безмятежно жил на варварских Чудесных Островах. Гонфаль устроился далеко не роскошно, но уютно, тогда как все его соперники искали приключений на лугах, изобилующих магией, и поднимались на горы, превосходившие всякое правдоподобие, в краях, весьма благоприятных для невообразимого. Но, похоже, достаточным утешением для Гонфаля являлось то, что он сидел, все чаще и чаще, рядом с царицей.
Однако маркграф Арадольский единственный из поклонников Морвифи был уже немолод. Зрелость, по-видимому, овладевала своего рода умением в обращении с разочарованием и урегулировала проблему сравнительно легко. И поэтому (рассуждала царица Морвифь) маркграф Арадольский, вероятно, мог нести крест негероического спокойствия, даже при его естественном отчаянии, что он теперь потерял всякую надежду добиться ее руки, с большей стойкостью, нежели любой из остальных.
Кроме того, остальным еще нужно было добиться знаменитости, их подвиги пока оставались блистательными, но неопределенными магнитами, притягивающими их к будущему. Но этот самый Гонфаль, появившийся на Инис-Дахуте после такой примечательной службы под командованием Мануэля Пуактесмского и под непобедимым знаменем Серебряного Жеребца, в свое время, как знала молодая Царица, участвовал в восьми военных кампаниях при достаточном количестве легкой партизанщины. Он убил приличное число драконов, захватчиков и великанов-людоедов и к тому же несколько лет назад женился на златовласой, звездноглазой и лебединошеей принцессе, являвшейся обычной наградой каждого героя за его отчаянную храбрость.
Теперь, в полдень Гонфалева дня, при покойной принцессе и всех потерянных королевствах, которые он с ней делил при его сюзерене графе Мануэле, тоже ушедшем из этого мира, и знамени Серебряного Жеребца, цвета которого больше никто не защищал, теперь этот высокий Гонфаль расхаживал на Инис-Дахуте слегка в стороне от своих коллег. Однако бородатый мужчина к тому же расхаживал с улыбкой, как человек, забавляющийся игрой, которая, по его мнению, не очень важна. Ибо он, по его словам, реалист, даже на варварских Чудесных Островах.
А Морвифь, смуглую царицу пяти Чудесных Островов, раздражали добродушные подшучивания ее меланхоличного поклонника. Она этого не любила; она выбросила из головы вопрос, похоже, совершенно невероятный, огорчен ли этот мужчина своей безнадежной страстью или чем-то еще в отношении нее. Но этот вопрос возвращался к ней, и Морвифь привычным легким и прелестным жестом поправляла волосы и вновь шла переговорить с Гонфалем, чтобы разрешить частным образом и для собственного удовлетворения эту проблему. Кроме того, у этого мужчины были довольно приятные глаза.
Глава VI Власть взаймы
По прошествии года, когда ласковый, но настойчивый апрельский ветер вновь подул с Юга, герои вернулись – каждый со своим сокровищем. Каждый принес Морвифи свадебный подарок такой же удивительный, какими являлись и приключения, посредством которых он был приобретен. И все эти приключения были до невероятности сверхъестественными.
На самом деле, как заметила Царица в частной беседе, рассказы претендентов едва ли были правдивы.
– Однако, по-моему, этот жизнеутверждающий эпос основывается на фактах, – ответил Гонфаль. – Каждый из этих людей хитрый и непригожий младший, третий королевский сынок. Существует закон, согласно которому подобные непредубежденные карлики должны преуспеть и попрать разнообразнейшее зло на Чудесных Островах и во всех остальных потусторонних краях.
– Но разве честно, мой друг, и разве уважительно по отношению к величественным, освященным веками силам зла, что эти молокососы?..
Гонфаль же ответил:
– Никто не спорит, уверяю вас, что подобные легкие состязания вполне благородны. Тем не менее они являются прерогативой третьего сына короля. Так что, будучи реалистом, сударыня, я волей-неволей признаю, что фортуна в здешних краях смотрит на этих третьих сыновей с натужно одобрительной ухмылкой. Даже лисы и муравьи, печи и метловища откладывают в сторону свою обычную неразговорчивость, чтобы облагодетельствовать этих августейших отпрысков бесценным советом. Смею сказать, что все великаны и трехглавые змеи должны противостоять им, наполовину ощущая вину за совершение самоубийства. А на каждом повороте дороги их ждет очаровательная златокудрая принцесса.
Не все из этих трюизмов показались взгляду темных глаз Морвифи удовлетворительными.
– Блондинки быстро стареют, – сказала Морвифь, – и я царица.
– Верно, – признался Гонфаль. – Я не уверен, что любой третий принц преуспеет в общении с царицей. Мне не приходит по этому поводу на ум ни один авторитет.
– Мой друг, нет сомнения, что эти бесстрашные герои преуспеют повсюду. А у меня совсем другая забота – решить, кто из них принес самое ценное сокровище, достойное стать свадебным подарком.
Гонфаль надул необычайно алые и нежные на вид губы. Он какое-то время внимательно смотрел на царицу, и при этом у него было странное выражение лица, как у человека, разглядывающего нечто забавное, но совершенно несущественное.
– Сударыня, – сказал затем Гонфаль, – я бы смог выбрать самое ценное сокровище. Чтобы быть самой ценной, вещь должна в первую очередь быть самоценна.
Тонкие брови Морвифи поднялись при этих словах.
– Но на этом столике из черного дерева, мой друг, находится могущественная магия, которая управляет всеми богатствами мира.
– Не оспариваю этого. Я просто дивлюсь, будучи, вероятно, непрактичным реалистом, как такое богатство может считаться подарком, когда, по большому счету, это лишь ссуда – нечто, данное на время.
– Так расскажите же мне, – приказала Морвифь, – что это значит!
Но Гонфаль, прежде чем ответить, какое-то время рассматривал трофеи, являющиеся добычей героизма его более молодых и энергичных соперников. Эти трофеи, в самом деле, были достаточно примечательны.
Здесь, к примеру, лежал добытый из огнедышащей сердцевины ужасного семистенного града Ланхи суетливым принцем Лорнским Хедриком после бесконечного числа выдающихся подвигов тот самый агат, который в давно минувшие времена оберегал могущество древних императоров Македонии. На этом странном камне виднелись обнаженный мужчина и девять женщин, прорисованные жилами агата. И этот агат обеспечивал своему владельцу победу в любой битве. Войска варварских Чудесных Островов были бы способны по первому зову патриотизма или религиозной веры опустошить или ограбить самые богатейшие царства в этой части света, если б Морвифь выбрала этот агат в качестве свадебного подарка.
Но, однако, Гонфаль, отложив камень в сторону, с грустью произнес лишь одно слово: «Бунхум!» – на каком-то чужеземном языке, которым овладел во время своей карьеры странствующего рыцаря.
Затем Гонфаль взглянул на оникс. Это был оникс Тоссакена. Его владелец обладал силой, способной вытянуть из кого угодно душу, даже из самого себя, и заточить эту душу внутрь полого оникса. И владелец камня мог, между прочим, беспрепятственно пройти куда угодно.
За мрачным мерцанием оникса виднелся зеленый блеск изумруда, на котором были выгравированы лира и три жука, а также дельфин и бычья голова. Никакие неудачи и несчастья не могли войти в дом, где находился этот Самосский самоцвет.
Но ярчайшим из всех заколдованных камней, разложенных на столике из черного дерева, был бриллиант Лунед, обладатель которого мог по своему желанию становиться невидимым. И этому Кимрскому чуду Гонфаль отдал должное, пожав плечами.
– Этот бриллиант, – сказал затем Гонфаль, – есть дар, который рассудительный человек мог бы верноподданно предложить своей царице, но едва ли будущей жене. Я говорю, сударыня, как вдовец. И уверяю вас, что принца Оркского Дуневаля мы можем скинуть со счетов как чересчур пылкого любителя опасности.
Морвифь подумала, что с его стороны это очень умно, дурно и цинично, но улыбнулась и ничего не сказала. А Гонфаль дотронулся до подарка напыщенного маленького Торньи Вижуаского. То был серый сидерит, который при погружении в проточную воду и надлежащих жертвоприношениях говорил тонким детским голоском все, что желал узнать его владелец. Военные и государственные тайны всех времен и народов, тайны ремесел и торговли становились известны обладателю серого сидерита.
Гонфаль осторожно дотронулся до лунного камня Наггар-Туры, режущей кромки которого не могло выдержать ни одно вещество, так что прочные двери вражеской сокровищницы или стены укрепленного города можно было разрезать этим самоцветом, как ножом яблоко.
Однако равным образом сверхъестественным, но в другом роде, был сосед лунного камня – сияющий алым самоцвет с фиолетовыми полосками. Все необходимое для гарантии успешного результата любого предприятия было высечено на этом камне и проявлялось утерянной краской под названием тингарибин. Для обладателя этого камня – осколка, как свидетельствуют самые уважаемые заклинания, памятника, который Иаков воздвиг в Вефиле – было невозможно провалить какое-либо начинание.
Однако Гонфаль также отложил его в сторону, вновь заговорил на иностранном языке, незнакомом Морвифи. Он произнес слово: «Хохкум!»
И тогда, но не раньше, ответил Гонфаль царице Морвифи.
– Я имею в виду, – сказал он, – что своими собственными глазами видел, как тот дюжий плут, дон Мануэль, достиг вершины человеческих желаний, а потом ушел, сбив всех с толку, в никуда. Я имею в виду, что благодаря этим амулетам, талисманам и остальным самым ужасным проявлениям литомантии монарх может сохранить на более долгий срок, нежели Мануэль, множество денег, земель и всевозможной власти и может удерживать все эти прекрасные вещи десять или двадцать, или даже тридцать лет. Но никак не сорок лет, сударыня. Ибо к этому времени богатства и почести сего мира должны покинуть любого смертного, и от величайшего императора или ужаснейшего завоевателя через сорок лет останутся лишь кости в черном ящике.
И, Гонфаль также сказал:
– Таково сейчас положение Александра, когда-то владевшего этим агатом. Ахилл, обладавший сидеритом и прославившийся у стен Трои, правит не в большем царстве. А в отношении Августа, Артаксеркса и Аттилы – не будем продвигаться дальше по алфавиту – приложимы точно такие же замечания. Эти люди очень лихо расхаживали по земле, пыл их поступков был поистине героичен, а звучание их имен стало бессмертным, словно звучание ветра. Но сорок лет прошли, и всемирная их прижизненная слава исчезла, как пыль, сдуваемая ласковым, но настойчивым ветром, который сейчас дует с Юга и приносит новую жизнь на Инис-Дахут, но ничто мертвое не оживляет. Именно так всегда должны исчезать все почести, как пыль.
Затем Гонфаль сказал:
– Именно так, своими собственными глазами, я видел, как дон Мануэль свалился с возвышения своего трона, который всепопиравший мошенник заполучил и удерживал без всякой щепетильности. И я видел, как его власть превратилась в пыль. Такие случайные триумфы справедливости, сударыня, наводят на серьезные размышления… Поэтому мне кажется, что эти господа-соискатели предлагают вам не дар, а всего лишь ссуду. Как реалист, я с должным сожалением волей-неволей считаю, что условия конкурса не выполнены.
Царица тщательно обдумала его высокопарную речь. И она посмотрела на Гонфаля с улыбкой, которая сейчас походила на его улыбку и которая, по-видимому, не совсем прямо была связана с тем низведением и приземлением, которым он занимался.
Затем Морвифь сказала:
– Верно. Ваша логика восхитительна, поскольку неопровержимо сочетает благочестие с пошлостью. На Инис-Дахуте не существует ни одного общеизвестного Фундаменталиста, да и на любом другом из Чудесных Островов тоже, который бы посмел оспорить то, что богатства сего мира – лишь ссуда, поскольку это доктрина Пиге-Ипсизига и всех даровитых вероучений. Эти деловитые, напористые, уродливые паразиты, нахально разъезжавшие по свету и повсюду делавшие все по-своему, оскорбили меня. По праву, – сказала царица, довольно-таки уверенно, – по праву мне следует отрубить им головы?
– Но эти героические отпрыски – принцы, сударыня. Таким образом, удовлетворение вашего естественного возмущения привело бы к войне с их отцами. А ввязываться в семь войн, подсказывает моя логика, было бы весьма неудобно.
Морвифь поняла справедливость его слов и сказала со слабым вздохом:
– Отлично! Я одобряю вашу математику. Я прощу их наглость с великодушием, подобающим царице. И я продлю конкурс еще на один год и на один день.
– Это, – оценил решение Гонфаль, по-прежнему странно улыбаясь, – будет прекрасно.
– И кроме того, – добавила она, – у вас появится шанс вместе с остальными!
– Это, – согласился Гонфаль без следа улыбки или какого-либо другого проявления энтузиазма, – также великолепно.
Но Морвифь улыбнулась, привычным жестом поправляя волосы. И она послала за семерыми героями-поклонниками и поговорила с ними, как она выразилась, начистоту.
Глава VII Второй удар рока
Итак, все началось заново. Лица у героев недоуменно вытянулись, а простой люд был разочарован, упустив бесплатные развлечения, сопутствующие царской свадьбе. Но священнослужители, уважаемые миряне и знатные налогоплательщики рукоплескали решению царицы Морвифи как самому великолепному образцу поведения в такие смутные дни бездуховного материализма.
Так что вновь восемь поклонников Морвифи встретились в соборе, чтобы их мечи должным образом освятил имам Булоту. И этот благодетельный и по праву любимый всеми старый священник, перерезав горло трем избранным мальчикам, начал церемонию с молитвы Пиге-Ипсизигу – Тому, чьи превращения сокрыты во всех храмах, опекаемых самыми уважаемыми людьми, сказав, как требовали обычай и вежливость:
– Высота тверди подвластна Тебе, о Пиге-Ипсизиг! Твой престол так высок! Узоры на седалище твоих голубых шаровар суть яркие звезды, что никогда не меркнут. Каждый человек совершает подношения той части Тебя, которая открыта, и Ты есть Сидящий Хозяин, которого помнят на небесах и на земле. Ты есть сияющее благородство, сидящее выше всех благородных, Ты постоянен на Своем высоком месте, Ты утвержден в Своей неумолимой верховной власти и Ты – каллипигейный Князь Сообщества Богов.
Никто, конечно, не верил этим словам, но на Инис-Дахуте, как и во всех остальных краях, Фундаменталисты надлежащим образом гордились своим племенным божеством и, когда бы ни тратили время на религиозные отправления, выжимали из превозношений этому богу сколько только могли. Теперь они совершили Пиге-Ипсизигу прекрасные подношения из перепелов, корицы и бычьих сердец и запели Гимн Усыпанного Звездами Зада, тогда как на жертвеннике стояли два кувшина с кровью детей.
Таким образом, поначалу все шло достаточно гладко. Но когда компания поклонников Морвифи с обнаженными мечами приблизилась к жертвеннику для их освящения и покуда они поднимались по ровным порфирным ступеням, хромающий Гонфаль споткнулся или поскользнулся. Как бы то ни было, он выронил меч. Высокорослый герой поспешно поймал падающий меч, схватив его за недавно заточенное лезвие. И он вцепился в него с таким необъяснимым рвением, что разрезал себе правую руку до кости, а к тому же порезал все пальцы.
– Решительно, – сказал Гонфаль с кривой усмешкой, – в этом есть некий рок и соискание руки Морвифи не для меня.
Он говорил чистую правду, ибо дням, когда он носил меч, пришел конец. Гонфаль должен был искать врача и бинты, в то время как освящались мечи его соперников. Царица заметила, что он ушел, и, движимая то ли благодушием, то ли религиозными угрызениями совести, сказала вполголоса:
– Волей-неволей приходится восхищаться этим реалистом.
Она услышала вдалеке стихающее эхо трубных звуков и поняла, что еще раз семь героев-поклонников царицы Морвифи отправились лишать мир его главных богатств. Но бородатый Гонфаль остался на варварских Чудесных Островах, даже под той же крышей, что и Морвифь, и не беспокоился ни о каких богатствах, кроме красоты Морвифи, которую он лицезрел ежедневно. Со временем руку ему вылечили, но пальцами на этой руке он больше двигать не мог. А в остальном, если люди и перешептывались там и сям, сплетни не выходили за пределы достаточно известные при расчетах дворцовой жизни.
Глава VIII Как хвастались принцы
И вот, когда вновь прошел год и на Инис-Дахуте вновь подул южный ветер, возвратились семеро поклонников и привезли с собой другие раритеты, добытые героическими подвигами.
Тут, к примеру, была фигурка птицы, вырезанная из нефрита и сердолика.
– С помощью этой бесценной птицы, – объяснил принц Лорнский Хедрик – тот, который на самом страшном из обитаемых полуостровов, если ему верить, вырвал этот талисман у Морского Царя, – вы сможете попасть на Морской Базар и сможете свободно разгуливать среди народа, живущего в домах из кораллов и черепаховых панцирей, крытых рыбьей чешуей. Мудрость морского народа превосходит сухую и бесплодную мудрость земли, их знание насмехается над вымыслами, которые мы называем временем и пространством, а их дети лепечут о тайнах, неведомых ни одному из наших главных пророков и самых искусных геомантов.
– Это что! – воскликнул принц Таргамонский Балейн. – У меня есть дымчатая завеса, расшитая крохотными золотыми звездочками и роговыми чернильницами. И она позволяет проходить через пылающие врата Ауделы – страны, лежащей по ту сторону огня. То царство Слото-Виепуса: в том краю нет горя, а счастье и непогрешимость привычны для всех, поскольку Слото-Виепус – великий мастер искусства, которое вытравляет и выжигает любую ошибку, будь она человеческая или божественная.
Принц Оркский Дуневаль не сказал ничего. Он молча совершил свое подношение, оказавшееся квадратным зеркальцем вершка в три поперечником. Морвифь посмотрела в это зеркало. Увиденное в нем мало походило на великолепную смуглую девушку. Она поспешно отложила в сторону этого блестящего и чересчур мудрого советника, а лицо царицы стало встревоженным, поскольку не было нужды спрашивать, что за зеркало привез ей Дуневаль из Антана.
Торньи Вижуаский не любил молчать. А следующим соискателем был он.
– У подобных безделушек, которые я замечаю у ваших ног, моя принцесса, – заявил Торньи Вижуаский, – есть свои достоинства. Никто и не отрицает этих достоинств. Но я, который теперь могу обратиться к вам с откровенностью, которой следует присутствовать между двумя, в сущности помолвленными, людьми, я принес тот сигил, который дал мудрость и власть Аполлонию, а позднее Мерлину Амброзию. Он представляет собой, как вы видите, глаз, окруженный скорпионами, оленями и, – он кашлянул, – крылатыми существами, у которых обычно нет крыльев. И он управляет девятью миллионами воздушных духов. Мне больше ничего говорить не нужно.
– А мне нужно, – вступил в разговор принц Гурген, – сказать, что у меня здесь сияющий треугольник Торстейна. А сказать это – значит сказать намного больше, чем сказал Торньи. Ибо этот треугольник – господин мудрости извергов и всех народов, обитающих под землей. Более того, сударыня, если этот треугольник перевернуть – вот так, он сделает вас способной по своей воле благословлять и проклинать, беседовать с умершими жрецами и владеть силой и семью таинствами луны.
– Подобной подпольной мудрости, подобным созданиям пещерных людей и в особенности вашим лунным испарениям я заявляю во всеуслышанье, словно птица с конька крыши: «Дешевка, дешевка!» – заметил принц Клофурд. – Ибо у меня здесь, в этой шагреневой шкатулке, знаменитый, могущественный и несказанно священный перстень Соломона, подданными владельца коего являются джинны, ослоногие нацикины и четырнадцать самых благоразумных и верных серафимов Яхве.
Принц Гримок же сказал:
– У Соломона была своя архаичная мудрость, достаточно пригодная для повседневных дел, но весьма ограниченная, так как отмерялась иудейским богом. Но у меня здесь жертвенник, высеченный из куска селенита. Внутри этого жертвенника вы можете услышать движение и сухое шуршание какого-то бессмертного. Давайте не будем говорить об этом бессмертном: ни солнце, ни луна никогда не освещали его, а его имя далеко не привлекательно. Но это Жертвенник Противника, и владелец этого маленького жертвенника может за определенную плату возвыситься до мудрости, бросающей вызов сдерживающим началам и выходящей за границы, начертанные любым богом.
Таковы были дары, принесенные Морвифи. И по двум причинам царица затруднилась сказать, какое из этих подношений достойно стать свадебным подарком.
Глава IX Мудрость взаймы
Но Гонфаль, когда царица совещалась с ним наедине, как она уже привыкла решать все вопросы, высокий статный Гонфаль пожал плечами. Он сказал, что на его взгляд, без сомнения, взгляд непрактичного реалиста, ее поклонники еще раз привезли не подарки, а всего лишь ссуды весьма сомнительной ценности.
– Ибо я видел, как дон Мануэль заполучил уйму подобной мудрости из весьма небезопасных источников. И я к тому же видел, что из этого получилось, когда седовласому плуту пришлось в назначенное время возвращать свою мудрость. Да, сударыня, у всех должна быть отнята любая мудрость. Эти мудрецы, обладавшие в старину всеми своими знаниями… сохраняют ли они их сейчас? Вопрос абсурден, поскольку земля, которой стал Соломон, содержит в себе не больше разума, чем грязь, которой стал третий помощник Соломонова повара. Упорные люди до сего дня заполучили мудрость Ауделы или Морского Базара; и та Фрайдис, с которой дон Мануэль жил некоторое время в некромантическом беззаконии, и та неописуемая Иродиада, бывшая дочерью Таны, – эти женщины когда-то достигли мудрости Антана. Но смогли ли они взять эту мудрость с собой в могилу?
– Понятно, – задумчиво сказала Морвифь и улыбнулась.
– Равным образом, – продолжил Гонфаль, – где теперь ваш Торстейн или ваш Мерлин? Все, что сегодня осталось от любого из этих чудотворцев, вполне возможно, в этот самый миг несет над нами вместе с пылью ласковый, но настойчивый ветер, дующий над Инис-Дахутом. Но волхв движется неопознанным, непочитаемым, бессильным, и он движется по воле ветра, а не по своему выбору. Ах, нет, сударыня! Эти причудливые, архаичные игрушки могут на короткое время дать взаймы мудрость и понимание. Но тем не менее через сорок лет…
– О, достаточно вашей арифметики! – попросила его Морвифь. – Она служит хорошую службу, и я одобряю вашу математику. Я действительно считаю совершенно чудесным то, мой милый, как быстро вы, реалисты, можете выдумать подходящие трюизмы. Но точно так же я начинаю ненавидеть этот ветер. И я бы лучше поговорила о чем-нибудь другом.
– Тогда давайте поговорим, – сказал Гонфаль, – о том, насколько отлично от всех остальных женщин я отношусь к вам.
– Эта тема не нова. Но она неизменно интересна.
Так, некоторое время они обсуждали этот вопрос. Затем они перешли к другим вопросам. И Морвифь спросила Гонфаля, уверен ли он, что уважает ее так же, как всегда, и Морвифь поправила волосы и призвала к себе имама Булоту, а также послала за премьер-министром Масу.
– Мудрость сего мира – лишь несомая ветром пыль, – сказала Морвифь. – Сохраняют ли мудрецы, обладавшие в старину мудростью, ее сейчас?
Затем она с похвальной точностью повторила остальные замечания Гонфаля.
И ее слушатели с неподдельным чувством уважения похвалили ее.
– Ибо такое проникновение в вопрос, который Пиге-Ипсизиг не считал нужным раскрывать, мне всегда казалось небезопасным, – заметил премьер-министр.
– По сути, притязания науки, так называемой…– начал имам и говорил свои обычные двадцать минут.
Таким образом, все было назидательным образом улажено. Подношения королевских сынков были объявлены неистинными подарками; вновь был объявлен конкурс; и еще раз семь героев разъехались по свету. И мысли не было, что высокий Гонфаль отправится вместе с молодыми соперниками, ибо калека, который не мог держать меч, не годился для дела лишения мира его сокровищ. Вместо этого бородатый Гонфаль остался на Инис-Дахуте и безмятежно жил на варварских Чудесных Островах. И если люди теперь говорили кое о чем открыто, то чему тут удивляться: любая царица никогда не может и надеяться быть совершенно свободной от критики.
Глава X О голове Гонфаля
Следствием уже описанных двух ударов рока явилось то, что, когда вновь пришла весна и когда еще раз над Инис-Дахутом задул южный ветер, Гонфаль Нэмский сидел у ног Морвифи, положив красивую голову ей на колени, и ждал возвращения ее менее невезучих поклонников.
– Интересно, какие подарки они принесут мне, – сказала царица Морвифь, – примерно в этот же час завтра?
И Гонфаль, не двигаясь, важно вздохнул и ответил:
– Мне, сударыня, они принесут горькие дары. Ибо, кто бы ни победил в этом конкурсе, я проиграл; и что бы он ни принес вам, мне он принесет отделение от сути, и мне он принесет мучительный, хотя и короткий промежуток одиночества, прежде чем вы решитесь отрубить мне голову.
Тут она по-матерински погладила его по голове.
– Что за мысль! – сказала Морвифь теперь, когда мужчина сам заговорил о приближающемся исполнении общественного долга, угроза которого уже какое-то время беспокоила ее. – Будто, мой милый, я вечно только об этом и думала!
– Вне сомнения, это произойдет, сударыня. Замужество влечет за собой выполнение множества обязательств, и не все они приятны. В частности, царицам приходится соблюдать приличия, им приходится гарантировать свободу действий тех, кому они доверились.
– Знаете, – с грустью произнесла она, – именно это и сказал мне намедни мой дорогой старый имам. И Масу говорил о том, что замужняя женщина должна религии, и о прекрасных образцах нравственности.
– И, однако, кажется странным, наслаждение моих наслаждений, что я брошу вас – ради палача – без настоящего сожаления. Ибо я удовлетворен. Пока мои хитрые собратья разъезжали по свету в поисках власти и мудрости, я решил, будучи непрактичным реалистом, следовать красоте. Разумеется, я следовал ей, выражаясь языком этого нелепого юного Гримока, платя определенную цену. Однако за эту цену я достиг, искалеченный и обреченный, красоты. И я удовлетворен.
Царица натянула на лицо соответствующую случаю застенчивую мину.
– Но что же такое, мой друг, в конце концов, чистая красота?
И он ответил с честностью, которой она весьма не доверяла:
– Красота, сударыня, это Морвифь. Не легко описать ни одно из этих самых дорогих и ослепительных синонимов, о чем свидетельствуют горы испорченной бумаги!
Она ждала, по-прежнему гладя его, и ей на ум пришел странный вопрос: возможно ли, что даже сейчас этот мужчина над ней насмехается?
Она сказала:
– Но не огорчит ли вас нестерпимо, мой милый, что вы увидите меня женой другого мужчины? И не будет ли по-настоящему добрым поступком…
Но бестолковый малый не стал рыцарственно сглаживать ее путь к грядущему исполнению общественного долга. Вместо этого он ответил достаточно странно:
– Морвифь, которую я вижу и по-своему почитаю, не может быть ничьей женой. Все поэты узнали эту истину по ходу своего беспокойного продвижения в направлении реализма.
И еще какое-то время юная царица молчала. А потом она сказала:
– Я не вполне вас понимаю, мой дорогой, и, вероятно, никогда не пойму. Но я знаю, что из-за своей любви ко мне вы дважды себя калечили и откладывали в сторону, словно это пустяк, свой шанс добиться почестей, огромного богатства и всего того, что наиболее ценят эти слабые людишки…
– Я, – ответил он, – реалист. Конечно, за три крайне приятных года надо платить. Но реалисты платят не хныча.
– Дорогой мой, – продолжила царица, теперь учащенно дыша и со своего рода счастливыми всхлипываниями, которых, по ее мнению, требовал случай, – вы единственный из всех мужчин, так много болтающий и рисующийся, вы один подарили мне искреннюю и безраздельную любовь, даже не сопоставляя свою собственную честь рыцаря и всемирную славу с абсолютностью этой любви. И, конечно, именно как и говорит имам, если б я когда-нибудь вышла замуж за кого-то другого, что я обещала сделать – в известном смысле, – то все же не потому, что не могла бы махнуть рукой на приличия, а просто не хочу, чтобы ее отрубили! Ибо такая весьма самозабвенная любовь, как ваша, дорогой Гонфаль, есть дар, достойный стать моим свадебным подарком. И безотносительно к тому, что говорит кто-либо, именно вы будете моим мужем!
– А как же объявленный конкурс, сударыня? – ответил он. – И ваши обещания этим семи идиотам?
– Я расскажу этим отвратительным третьим сыночкам, и имаму, и Масу, и всем, – сказала царица, – довольно весомую и действительно священную истину. Я расскажу им, что нет более великого подарка, чем любовь.
Но красивый мужчина, теперь поднявшийся перед ней, ни в коей мере не разделял ее возвышенных чувств. И был явно виден его испуг.
– Увы, сударыня, вы предлагаете совершить чудовищное преступление! Ибо мы все в такой крайней степени являемся рабами своих лозунгов, что все бы с вами согласились. На то, «что скажет кто-либо», нет никакой надежды. Придурки повсеместно скажут, что вы выбрали мудро.
Тут Морвифь выпрямилась на своем диване из слоновой кости.
– Я уверена… я, в самом деле, совершенно уверена, Гонфаль, что вас не понимаю.
– Я имею в виду, сударыня, что, в то время как ваше предложение, конечно же, очень милосердно и благородно, я вновь должен, из чистой справедливости, я должен кое-что пояснить. Я имею в виду, что, по-моему, вы знаете, как и я, что любовь не подарок, который можно дарить, да никто и не надеется его надолго сохранить. Ох, нет, сударыня! Мы пожмем плечами, мы с улыбкой оставим романтикам их лозунги. Между тем, для таких реалистов, как мы с вами, остается несомненным, что любовь тоже лишь ссуда.
– Так вы вернулись, – заметила царица, начиная раздражаться, – к своим вечным ссудам!
Он слегка развел руками.
– Любовь – это та ссуда, моя дорогая, которую мы берем с наибольшей благодарностью. Но в то же самое время давайте признаем, как рациональные люди, непрочность всех тех вещей, что обычно вызывают эротические эмоции.
– Гонфаль, – сказала юная царица, – сейчас вы говорите ерунду. Вы говорите с опасным недостатком чего-то более важного, нежели благоразумие.
– Моя любовь, я опять-таки говорю как вдовец. – Затем какое-то время он молчал, и Морвифи показалось, что этот непостижимый и неблагодарный человек дрожит. Он же сказал: – И по-прежнему я говорю о математической определенности! Ибо как вы можете надеяться всегда оставаться предметом любви? Через десять лет, самое большее через двадцать, вы станете либо полной, либо морщинистой; ваши зубы сгниют и выпадут; ваши глаза потускнеют; ваши бедра весьма несоблазнительно раздадутся вширь; ваше дыхание станет неприятным, а ваши груди превратятся в висящие мешки. Все эти ухудшения, повторяю, моя дорогая, произойдут с математической определенностью.
На такой жуткий и неуместный вздор царица с достоинством ответила:
– Я не ваша дорогая. И я просто дивлюсь вашим наглым мыслям в отношении меня.
– Значит, к тому же, – задумчиво продолжил дурно воспитанный негодник, – вы не слишком рассудительны. Это довольно неплохо, поскольку рассудительность в юности, по тем или иным причинам, плохо влияет на волосы и портит фигуру. Однако пожилая женщина, глупая, как госпожа Ниафер или еще одна женщина, которую я нередко вспоминаю, совершенно невыносима.
– Но что, – спросила она его вполне здраво, – у меня общего с глупыми старыми женщинами? Ведь я – Морвифь, я – царица Чудесных Островов. У меня есть таинственные предметы, управляющие любым богатством – если бы мне когда-либо пришлись по душе такие вещи – и к тому же любой мудростью. Не существует красоты, подобной моей красоте, да и власти, подобной моей власти…
– Знаю, знаю! – ответил он. – И в настоящее время я, конечно же, вас обожаю. Но, тем не менее, согласись я с вашим самым ужасным предложением и разреши вам поместить себя, совершенно открыто, рядом с собой на высоком троне Инис-Дахута… что ж, тогда через весьма непродолжительное время я стал бы не против того, что вы глупы, я бы действительно не замечал вашей ветшающей внешности, я бы благодушно воспринимал все ваши недостатки. И я был бы вполне удовлетворен вами – той, которая когда-то являлась отчаяньем и радостью моей жизни. Нет, Морвифь, нет, мое дитя! Я, который когда-то был поэтом, не могу вновь вынести жизни в довольстве вместе с глупой и ворчливой женщиной, которая еще и непривлекательна внешне. И, совершенно определенно, через двадцать лет…
Но царственный жест приостановил столь безумные речи, и Морвифь, тоже встав, сказала:
– Ваша арифметика начинает утомлять. Можно позволить себе почитать трюизмы в соответствующее им время и о подходящих людях. Но существует, и всегда должен существовать, предел диапазону такого избитого философствования. У вас больше нет публики, мессир Гонфаль. И это ваша последняя публика, поскольку я считаю вас последней скотиной.
Гонфаль поцеловал властительную ручку, прогоняющую его.
– Вы же, моя дорогая, – заявил он, – в любом случае, прежде всего человечны.
Глава XI Расчетливость Морвифи
И вот так получилось, к огромному облегчению имама и, как казалось благочестивому доброму старику, вероятно, в качестве непосредственного ответа на его молитвы о том, чтобы этот вопрос был приемлемо улажен во всех отношениях и без каких-либо неприятностей, что на следующий день, в полдень, как раз когда семь героев возвращались с подарками, слуга принес царице Морвифи отрубленную голову Гонфаля.
Это происходило в зале Тотмеса со сводчатым потолком, постройка которого имела знаменитую историю и о великолепии которого странники по возвращении домой рассказывали без всякой надежды, что им поверят. Там и находилась Морвифь, сидя в короне на высоком престоле. И в это ясное апрельское утро трубы на узких улочках и на бронзовых и изразцовых крышах не оповещали о том, что самые могучие и самые хитрые герои приближаются к Инис-Дахуту из всех царств земли, мечтая о юной царице Чудесных Островов, чья красота – диво дивное и легендарна в далеких краях, неизвестных Морвифи даже по названиям.
Вот так и сидела Морвифь, а у ее ног покоилась отрубленная голова Гонфаля. На роскошной бороде запеклась кровь, но мертвенно-бледные губы по-прежнему улыбались чему-то, казалось, совсем несущественному. И Морвифь задалась прежним вопросом: возможно ли, что даже сейчас этот мужчина над ней насмехается? И возможно ли, гадала она (так как внезапно вспомнила их первый разговор), что блондинки порой чертовски хорошо сохраняются и что какая-нибудь полинявшая безответственная принцесса могла бы, так или иначе, даже находясь в могиле, одержать победу над великой Царицей?
В общем, великой царице пока не было нужды думать о могилах и их весьма неприятном содержимом. Ибо Морвифь пока сидела высоко – величественная, юная и всемогущая – в своем прекрасном дворце, о котором вздыхало так много ее поклонников, а над которым дули ласковые апрельские ветры… Никто не отрицал, что этот очень утомительный ветер каждый год будет прилетать с Юга (размышляла прелестная девушка, начав в задумчивости тыкать ногой в то, что осталось от Гонфаля) и что точно так же этот настойчивый ветер будет дуть над Инис-Дахутом, когда здесь больше не будет ни Морвифи, ни дворца… Никто не отрицал этого, и никто, кроме сумасшедших и весьма грубых людей, вообще не думал серьезно о таких трюизмах.
Для действительно благочестивых особ достаточно того, что в юности у них есть одолженное им блестящее убежище от безжалостного, настойчивого ветра, уносящего все, словно пыль. Если человек то и дело чувствовал себя чуточку подавленным, то не по какой-то определенной причине. А Морвифь, которая пока, в отведенное ей время, была царицей пяти Чудесных Островов, слышала трубы и герольдов, возвещающих о прибытии принца Лорнского Хедрика…
Значит, он вернулся первым из всех этих совершенно отвратительных зануд, которые из-за любви к ней, теперь уже в третий раз, лишили весь мир его богатств. А у него довольно-таки приятные глаза. И Морвифь поправила прическу.
Книга Третья Блестящие пчелы Тупана
«…И пчелы, которые в земле Ассирийской, – и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам».
Исайя, 7, 18-19Глава XII Заслуженный волхв в отставке
Теперь история более не о Гонфале, который из властителей Серебряного Жеребца погиб первым. Вместо этого история рассказывает, что во время приключений Гонфаля на Инис-Дахуте еще три героя этого братства покинули тот Пуактесм, который при правлении госпожи Ниафер менялся день от дня. В самом деле, Котт Горный уехал на Запад в тот же самый месяц, в который Гонфаль отбыл на Юг. С Коттом спорить всегда было бесполезно. Поэтому, когда он объявил о своем намерении вернуть дона Мануэля в Пуактесм, который женщины, святые и лживые поэты (как доказывал Котт) делают совершенно непригодным для житья, никто не спорил. Котт отправился на Запад, и ему никто не мешал и его никто не отговаривал. И некоторое время о нем ничего не было слышно.
А в один прекрасный майский день того же года Керин Нуантельский, синдик и кастелян Басардры, исчез даже более необъяснимо, чем дон Мануэль, ибо об уходе Керина не было даже слухов. Керин, насколько стало известно, пропал в темноте ночного времени без посторонней помощи так же, как эта темнота сама пропадает в свою очередь, и с точно такими же легко исчезающими следами своего ухода. Горе молодой жены Керина, госпожи Сараиды, было таково, что дюжины дюжин поклонников не смогли бы утешить ее во вдовстве, что сразу же стало ясно. И о Керине тоже какое-то время больше не слышали.
И Мирамон Ллуагор, который при Мануэле являлся сенешалем Гонтарона, тоже покинул Пуактесм; спокойно и совсем нетаинственно отбыл вместе с женой и ребенком, сидящими рядом с ним на спине пожилого, совершенно ручного дракона, к себе в старый дом на Севере. Именно там Мирамон впервые повстречал дона Мануэля в те дни, когда Мануэль еще пас свиней. И именно там Мирамон Ллуагор надеялся провести остаток своей жизни, который разрешен ему судьбой, в настолько непритязательным уюте, какой только можно где-то устроить для семейного мужчины.
В других отношениях, на более светлой стороне предписанной ему отвратительной судьбы он не видел ничего, что бы его беспокоило. Ибо Мирамон Ллуагор чудесным образом преуспел в магии; он был, как говорится, осчастливленным больше, чем мог просить любой благоразумный человек. И самым вопиющим из этих излишеств ему казалась его жена.
Рассказывают, что Мирамон являлся одним из Леших, происходящим из народа, который не относится ни к людям, ни к бессмертным, и что дом его предков был построен на вершине горы, называвшейся Врейдекс. На Врейдекс Мирамон Ллуагор и вернулся после роспуска Братства Серебряного Жеребца, и Мирамон перестал забавляться величием Мануэля и другими представлениями о Пуактесме.
Повествуется, что этот волшебник оставил карьеру странствующего рыцаря, в которой сенешаль Гонтарона, посредством своего искусства являвшийся также повелителем девяти разновидностей сна и князем семи безумий, никогда не показывал своих сильных сторон. Он больше не боролся со злом, а с погодой сражался не чаще, чем подобало герою, подверженному ревматизму, и он никоим образом не рисковал своим уютом, чтобы приостановить процветание несправедливости. Вместо этого он поддерживал на отвесных скалах Врейдекса спокойное уединение, присталое ветерану-кудеснику, в своей башне, выдолбленной в одном из клыков Бегемота; и содержал также значительную свиту разнообразных ужасающих иллюзий для охраны подходов к его Подозрительному Дворцу. В нем, как к тому же рассказывает история, этот волхв возобновил свои прежние занятия и опять создавал сновидения.
Вот так, на спине пожилого, совершенно ручного Дракона Мирамон вернулся к своим прежним занятиям и практике, которую он – в своей потрясающей манере изъясняться – называл искусством ради искусства. Эпизод с Мануэлем, относящийся к низшей области чисто прикладного искусства, был достаточно забавен. Этот глупый, высокий, меланхоличный позер, собравшись спасти Пуактесм, нуждался просто в толике элементарной магии, которую Мирамон приберег для него, чтобы утвердить Мануэля среди великих мира сего. Как следствие этого Мирамон послал несколько вышедших из употребления богов, чтобы изгнать из Пуактесма норманнов, тогда как Мануэль ждал на побережье к северу от Манвиля и разнообразил свое безделье задумчивыми плевками в море. После чего Мануэль владел этим краем к восхищению всех, но в особенности Мирамона, который вообще не мог согласиться с Анавальтом Фоморским в оценке умственной одаренности дона Мануэля.
Да, было забавно служить под началом Мануэля, играя роль властителя Гонтарона и Ранека и рассматривая вблизи этого высокого, серьезного, седого, пучеглазого самозванца, который научился только гениально молчать… Ибо в этом (думал Мирамон) и заключалась тайна Мануэля: Мануэль не спорил, не объяснял, не увещевал; он просто в любое тревожное или смутное время хранил молчание; и это молчание поражало ужасом его вечно болтающий народ и обеспечивало туповатому, но хитрому малому, который лишь скрывал отсутствие каких-либо мыслей и планов, жуткую славу за непостижимую мудрость и безграничную изобретательность.
– Помалкивай вместе с Мануэлем! – сказал как-то Мирамон. – И все остальное приложится. Очень жаль, что у моей жены нет сноровки в разгадывании истинной природы таких типчиков.
Да, четыре года стали забавным эпизодом. Но сны и создание сновидений были по-настоящему серьезными материями, к которым Мирамон вернулся после каникул на свежем воздухе с резней и управлением государством.
И здесь опять же, как и везде, ему противостояла жена. Пристрастия Мирамона в искусстве состояли в обильной романтике, подслащенной абсурдом и прибавленной всем табуированным. Но у его жены Жизели были совершенно иные взгляды, целый набор взглядов, и ее философией являлся воинственный индивидуализм. И кудесник, чтобы сохранять мир и покой по крайней мере в промежутках между наиболее язвительными и многословными выступлениями жены, должен был по необходимости создавать такие сновидения, какие предпочитала Жизель. Но он знал, что эти сны не выражали тех небольших дум и фантазий, которые таились в сердце Мирамона Ллуагора и которые погибнут под ударом судьбы, если он не превратит эти фантазии в сновидения, которые, будучи бестелесными, смогут ускользнуть от плотоядного времени.
Он превосходил других создателей образов, живущих в этом мире. Он являлся опасным властелином (из-за своей свиты иллюзий) всей страны вокруг Врейдекса. Но в собственном доме он не был опасен и не отличался превосходством над кем-либо. И Мирамон жаждал утерянной свободы холостяцкой жизни.
Его жена тоже была недовольна, поскольку пути Леших казались этой смертной непристойными. Судьба, на которую были обречены Лешие, ей, родившейся в народе, которого предопределение, похоже, не беспокоило, мнилась отдающей дурным вкусом. По сути, Жизель все время раздражало, что ее маленькому Деметрию суждено убить отца заколдованным мечом Фламбержем. Такое предопределение Жизель не находила событием, которое бы хотелось иметь грозящим вашей семье. И она чувствовала, что чем быстрее поговорить совершенно откровенно с седыми Норнами, прядущими судьбу всех живущих, тем лучше будет для всех заинтересованных лиц.
Ее раздражал один вид Фламбержа. Так что, когда, почистив по обыкновению меч в четверг утром, она вошла в башню Мирамона из слоновой кости, чтобы повесить роковое оружие на положенное место, ее тревожили мысли не о шелке и меде.
Вместе с Мирамоном под зеленым балдахином с кистями сидел человек, которого Жизель увидела здесь без удивления. Ибо сегодня с Мирамоном наедине совещался Нинзиян, бейлиф Яира и Верхней Ардры который из всех властителей Серебряного Жеребца особо славился своим благочестием. Ужасная необходимость и особая причина, из-за которой Нинзиян был благочестив и человеколюбив, не являлись общеизвестными, но Мирамон Ллуагор знал о них и поэтому должным образом использовал Нинзияна. В действительности, в тот самый день они вдвоем рассматривали то, что Нинзиян нашел в земле Ассирийской и приобрел для кудесника по дорогой цене.
Глава XIII Расчетливость Жизели
В этот момент госпожа Жизель тоже посмотрела на то, что Нинзиян достал для ее мужа по дорогой цене. Она посмотрела на это в целом чуть с меньшим неодобрением, чем после на обоих мужчин.
– Добрый день, да благословит вас Господь, мессир Нинзиян! – сказала госпожа Жизель и протянула руку, в которой она сжимала тряпку, для поцелуя и расспросила достаточно любезно о его жене, госпоже Бальфиде. Затем она заговорила совсем другим тоном с Мирамоном Ллуагором: – И чем же ты собираешься захламить дом на этот раз?
– Ах, женушка, – ответил Мирамон, – здесь, весьма тайно вывезенные из земли Ассирийской, те самые пчелы, о которых есть пророчество, что они усядутся по всем кустарникам. Это блестящие пчелы Тупана – сокровище, находящееся за пределами слов и мыслей. Они не такие, как остальные пчелы, ибо с виду похожи на сверкающий лед. И они беспокойно ползают, как ползали со времени падения Тупана, по этому кресту из черного камня…
– Очень подходящая история, чтобы рассказать ее мне, видящей, что у этих отвратительных тварей есть крылья, и они могут разлететься, когда им заблагорассудится! И, кроме того, кто такой этот Тупан?
– В этом мире он никто, женушка, и мудрее о нем не говорить. Достаточно того, что во времена Предков он сделал все таким, какое оно было. Потом из Идалира появился Кощей Бессмертный, отобрал власть у Тупана и сделал все таким, какое оно есть сейчас. Однако трое слуг Тупана продолжают жить на земле, где они, бывшие когда-то повелителями Вендов, сейчас не имеют никаких привилегий, кроме как скромно ползать в облике насекомых. Крылья отказывают им повиноваться здесь, среди всего, созданного Кощеем, и их неизменно удерживает заколдованный камень. Но, женушка, существует одно заклинание, которое освободит их… заклинание, которое пока еще никто не обнаружил, а его первооткрыватель будет одарен всем, чего он только сможет пожелать…
– Очередной вздор из старых сказок, где выполняется три желания и ни от одного из них нет никакого проку!
– Нет, моя любовь, поскольку я направлю их на совершенно иные, практические цели. Ибо ты должна знать, что, когда я найду это заклинание, которое освободит пчел Тупана…
Жизель дала понять, что глупости супруга ее не волнуют. Она вздохнула и повесила меч на привычное место.
– Как я устала от этого бесконечного колдовства и занятий пустячными сновидениями!
– Тогда, женушка, – сказал Мирамон, – зачем ты постоянно вмешиваешься в то, чего не понимаешь?
– Думаю, – тут же заметил Нинзиян, ибо Нинзиян тоже был женат, – думаю, мне лучше уйти.
Но внимание Жизели было целиком уделено ее мужу.
– Я вмешиваюсь, как ты это очень важно назвал, поскольку у тебя нет представления о том, что правильно и прилично, и нет представления о морали, и нет чувства целесообразности, и, по сути, вообще нет никаких чувств.
Мирамон же сказал:
– Ну, дорогая!..
Нинзиян поспешно взялся за шляпу.
А Жизель продолжала изливать тот неодолимый и опустошительный поток, который свойствен приливным волнам и языку жены, говорящей для блага своего мужа.
– Женщинам повсюду, – сообщила Жизель, – приходится тяжело, но мне особенно жаль женщину, вышедшую замуж за одного из помешанных художников. У нее нет даже наполовину мужа, у нее есть лишь малый ребенок с длинными ногами…
– Оказывается, сейчас немного позднее, чем я думал, на самом деле уже…– безрезультатно заметил Нинзиян.
– …И у меня могла бы быть дюжина мужей…
Мирамон сказал:
– Но наверняка ни одна женщина с таким высоконравственным поведением, как твое, моя дорогая…
– …Я могла бы, как ты отлично помнишь, выйти замуж за самого графа Мануэля…
– Знаю. Не могу забыть, как ты чуть не собралась выйти за него замуж. Он был тупым, бесчувственным и весьма нечестным олухом. Но удача никогда не оставляла Свинопаса Мануэля, – сказал со вздохом Мирамон, – даже в те дни!
– А я тебе говорю, что могла бы выбрать из дюжины действительно выдающихся и видных воинов, у которых хватило бы такта вспоминать о годовщине нашей свадьбы и о моих днях рождения и которые, в любом случае, не торчали бы дома по двадцать четыре часа в сутки! Вместо этого теперь я привязана к бестолочи, тратящей свое время на выдумывание снов, которые, так или иначе, никого не волнуют! И однако, даже при этом…
– И однако, даже при этом, как ты, без сомнения, собираешься отметить, моя дорогая, даже при этом, поскольку твой монолог имеет отношение к предметам, которые предположительно могут не интересовать нашего гостя…
– И однако, – сказала Жизель с сильным и убийственным ударением, – даже при этом, если б ты только отнесся разумно к своим дурацким затеям, я могла бы примириться с тем неудобством, что ты каждую секунду путаешься у меня под ногами. Людям нужны сны, чтобы помочь им пережить ночь, и никто не наслаждается по-настоящему хорошим сном, как я, когда у меня на него есть время, при миллионе и одной заботе, которыми я обременена. Но сны должны быть благотворны…
– Моя дорогая, в общем, в качестве предмета эстетики, фактически…
– …Но сны должны быть благотворны, они должны быть осмысленны, они должны учить возвышенной морали, и они, определенно, не должны являться непостижимым, неубедительным вздором, который никто не может понять и наполовину. Они должны, одним словом, дать почувствовать, что, в конце концов, этот мир – довольно приятное место…
– Но, женушка, я в этом не уверен, – кротко сказал Мирамон.
– Тогда тебе еще больше должно быть стыдно! И, мягко выражаясь, тебе лучше держать подобные представления при себе, а не тревожить ими наслаждение других людей!
– Я использую свой природный дар, я выражаю самого себя, а не других. Розовый куст не дает зерна, да и льна тоже, – ответил кудесник, устало пожав плечами. – Короче, чего ты хочешь?
– Шибко тебя волнует, – розовый куст! – что я предпочитаю! Но если б у меня и было желание, твое дурацкое создание сновидений отобрали бы у тебя, и мы смогли бы жить в некотором роде благопристойно и здраво.
Все то время, пока Жизель разумно и спокойно увещевала своего мужа ради его же блага, она лихорадочно вытирала повсюду пыль, просто чтобы показать, какой рабыней она является, и поскольку Мирамона раздражало, когда его личные вещи вот так тыкают и пихают. И сейчас, продолжая говорить, Жизель злобно шлепнула тряпкой по черному кресту. И случившееся изумило бы бесчисленных волхвов и чародеев, посвятивших века поиску заклинания, освобождающего пчел Тупана. Ибо сейчас без всякого применения магии тряпка смахнула с камня одно из насекомых. Сообщают, что Кощей, создавший все таким, какое оно есть, постановил, что эта блестящая угроза должна быть выпущена на волю лишь самым очевидным образом, поскольку знал, что этим методом любой ученый муж воспользуется в последнюю очередь. Затем какой-то миг стены башни из слоновой кости дрожали, словно раздуваемые ветром занавески. А пчела, сверкая, приблизилась к окну и пролетела сквозь прозрачное стекло закрытого окна, оставив в нем маленькое круглое отверстие, и это существо отправилось к Плеядам, чтобы присоединиться к семи своим сестрам.
Глава XIV Последовавшие перемены
Теперь, когда восьмая блестящая пчела присоединилась к семи своим сестрам в Плеядах, парящий в пустоте Тупан открыл свои древние безжалостные глаза. Джаси вернулся в свои прежние владения на луне. Все растения и деревья повсюду завяли, а море утратило свой зеленый цвет, и больше не стало изумрудов. А Звездные Воители и Стражи Миров заволновались и стали звать Кощея, изобретшего Их и поместившего на посты, чтобы вечно надзирать за всем, какое оно есть.
Однако Кощей по каким-то своим резонам не ответил.
Затем Джаси прошептал Тупану:
– Грядет час твоего освобождения, о Тупан! Грядет час падения Кощея. Ибо среди всего, какое оно есть, нигде не останется зелени, а без зеленого никто не может сохранить здоровье и силу.
Тупан ответил:
– Я унижен. Мои кости стали как серебро, и мои члены превратились в золото, и мои волосы словно ляпис-лазурь.
– Твой взор не изменился, – медленно прошептал Джаси. – Направь свой взор, о Тупан, на творения Кощея, поносившего Предков и создавшего все таким, какое оно есть.
– Хотя он и признает оба этих злодеяния, какая нужда беспокоить мои глаза, во всяком случае пока?
Тогда Джаси ответил:
– Направь свой взор, о Тупан, чтобы мы, Предки, могли возрадоваться ужасу твоего взора.
Тупан ответил:
– Я существовал прежде Предков. Моя душа существовала прежде мысли и времени. Это душа Шу, это душа Хнума, это душа Аха; это душа Ночи и Запустения, и существует предположение, что моя душа смотрит глазами каждого змея. Моя душа одна хранит все знания о той мрачной пагубности, которая повсюду окружает произведения Кощея, создавшего все таким, какое оно есть. Поэтому что за нужда беспокоить мои глаза, во всяком случае, пока?
Но Джаси вновь сказал:
– Помоги же Предкам! Твои пчелы уже выпущены на волю, и они усядутся по всем кустарникам, и не останется зелени. Направь же и свой взор, в коем знание, в котором отказано Кощею!
И Тупан ответил:
– Время моего освобождения еще не подошло. Тем не менее, когда еще одна пчела будет выпущена на волю, я встряхну свою душу, я направлю свой взор, так, чтобы все смогли ощутить его ужас.
При этом Звездные Воители и Стражи Миров вновь позвали Кощея.
И тогда Кощей ответил Им:
– Потерпите! Когда Тупан будет освобожден, я погибну вместе с Вами. Меж тем, я создал все таким, какое оно есть.
Глава XV Страшный гнев Мирамона
В тот самый миг, когда восьмая блестящая пчела присоединилась к своим сестрам в Плеядах, Мирамон Ллуагор, испуганно стоя в своей башне из слоновой кости, ощутил некое прикосновение к своему лбу, словно по нему провели влажной губкой. Потом он осознал, что после раздражительного высказывания желания его чертовой женой он забыл секрет своего превосходства над остальными.
Говорят, он еще мог вспомнить кое-что из магии Пурина и разбросанных камней, Коня и Водяного Быка, и большая часть учения Апсар и Файдинов осталась ему подвластной. Он по-прежнему мог ухитряться, как он знал, управлять блуждающим Ламбойо, наводить страшный мост Белых Владычиц или выдумывать танец Корриган. Он сохранил связь с Нексой и Паральдой, этими верховными Первоэлементами. Он удерживал господство над опустошающими Шедимами, пугающими Шехиримами и разрушающими Мазикинами. Не потерял он и контакта с Небесными Распорядителями, из которых в то время высшей властью обладал Ох, и именно его обычно вызывал Мирамон Ллуагор для кратких профессиональных консультаций каждое воскресное утро на рассвете.
Но подобные достоинства, как понял с отчаяньем Мирамон, являлись орудиями ограниченных волшебников-ремесленников, это были азы для любого по-настоящему искусного кудесника. А высший секрет, делавший Мирамона Ллуагора господином всех сновидений, полностью был утрачен.
Он очень рассердился. Он еще более разозлился, когда увидел своего рода испуг и смущенное раскаяние на глупом лице жены и с отчаяньем понял, что сейчас начнет ее успокаивать.
– Проклятая баба! – воскликнул Мирамон. – Теперь в самом деле, твой здравый смысл завершил то, что начало твое ворчание! Вот судьба всех художников связавшихся с благовоспитанными женщинами. Верно было сказано, что брачное ложе есть могила искусства. В общем, я со многим в тебе мирился, но это подвело черту, и я не буду мириться с твоим увлечением добропорядочным и здоровым образом жизни, и я желаю, чтобы ты оказалась в середине следующей недели!
С этими словами он выхватил грязную тряпку из рук Жизели, шлепнул ею по одной из оставшихся пчел и смахнул ее с черного креста. И эта пчела улетела, как и первая.
Глава XVI Касающаяся Плеяд и бритвы
Когда блестящая пчела улетела, как и первая, Тупан расправил крылья и приготовился воззреть на творения Кощея. А в тот миг, когда Тупан пошевелился, миры в этой части вселенной начали плавиться и течь по небу. А Гаураси сгреб их остатки в одну кучу и образовал солнце, неизмеримо более крупное, чем потерянное им, и получился буйный, безумный пожар, который ни в чем не сообразовывался с произведениями Кощея.
И тогда Гаураси дружелюбно крикнул Тупану:
– Грядет час Твоего освобождения, о Тупан! Грядет час возвращения Предков, грядет час падения Кощея!
Тупан ответил:
– Час моего освобождения еще не пробил. Но пришел час моего взора.
Тут Гаураси заревел, сгребая и остальные миры в ненасытное пламя своего ужасного греха.
– Я зажег для Тебя прекрасный свет!
И теперь боги, которым поклонялись в оставшихся мирах, также стали звать Кощея. Ибо теперь, в невыносимом сиянии испепеляющего солнца Гаураси, они показались непрочными и несостоятельными созданиями. И, более того, боги поняли, что, если последняя пчела будет освобождена с креста, будет образована десятка Плеяд, а Тупан выпущен на волю и вернется власть Предков; и что грядет день, предсказанный многими пророками, день, в который все боги должны побриться выданной им бритвой; и что после исполнения этой ужасной и постыдной необходимости божественное благоденствие повсюду закончится навсегда.
Меж тем, взгляд Тупана шарил среди Звездных Воителей и Стражей Мира. Именно Они под руководством Кощея придали форму землям и водам, и скрепили вместе горы, и сделали все остальное таким, какое оно есть. Именно Они соединили небеса и вложили в каждого бога его душу. Они были создателями времени, и творцами дней, и поджигателями огня жизни, и Они являлись пилами, чьи тайные, поддерживающие жизнь имена не были известны ни одному из людских божеств. Однако теперь взгляд Тупана шарил среди Звездных Воителей и Стражей Мира, и Тупан рассматривал их одного за другим. И где бы ни останавливался взгляд старых глаз Тупана, там не оставалось ни мира, ни охранявшего его Стража, а лишь мгновенно вспыхивала мельчайшая спираль прозрачного пара.
И те, кого еще не уничтожил Тупан, жалобно звали Кощея, который изобрел Их и поместил на посты, чтобы вечно надзирать за всем, какое оно есть.
Пока Тупан осматривал произведения Кощея, тот в манере всех художников откашлялся и слегка заерзал на месте. Но когда Стражи и Звездные Воители звали его на помощь, Кощей, не шевельнув и пальцем, лишь сказал:
– Эх, господа, потерпите! Ибо я создал все таким, какое оно есть, и теперь говорю вам: гарантия успеха заключается в том, что я создал все парным.
Глава XVII Брак в миниатюре
Но Мирамон в своей башне из слоновой кости на Врейдексе знал лишь, что его желание выполнено, ибо Жизель исчезла, как лопнувший мыльный пузырь, и сейчас находилась где-то в середине следующей недели.
– Слава Богу, избавились! – сказал Мирамон. Он повернулся к Нинзияну, этому улыбающемуся крупному филантропу. – Ибо слышали ли вы когда-либо подобные оскорбления?
– Ох, очень часто, – ответил Нинзиян, который тоже был женат. – Но что вы сделаете дальше?
Мирамон сказал:
– Я хочу вернуть секрет моего искусства.
Но Нинзияну это решение показалось не таким уж очевидным.
– Вы можете это достаточно легко сделать, освободив третью пчелу, которую правдами и неправдами я достал для вас в земле Ассирийской. Да, Мирамон, вы можете таким образом возвратить свое искусство, но при этом вы также останетесь беззащитным перед назначенной вам судьбой. Так что, мой друг, советую вам вместо этого произнести заклинание, что вы сперва и намеревались сделать, и обеспечить себе вечную жизнь, пожелав, чтобы Фламберж исчез из этого мира людей.
И Нинзиян махнул рукой в сторону меча, которым, согласно предписанию Норн, великий Мирамон Ллуагор будет убит собственным сыном.
Павший кудесник ответил:
– Но что стоит жизнь, если она больше не породит сновидений? – И Мирамон также сказал: – Интересно, Нинзиян, где точно середина следующей недели?
Благочестивый Нинзиян заговорил, уверенный в своей необыкновенной эрудиции.
– Она совпадает со средой, но никто не знает где. Олибрий утверждает, что она сейчас в Арату, где все входящее туда одето, как птица, в перья, а из еды в этих бессменных сумерках только пыль и глина…
– Жизели бы это не понравилось. У нее всегда был очень нежный желудок.
– Тогда как Асиний Поллион предполагает, что кажется вполне правдоподобным, что она ждет за Слид и Гьёлль в голубом доме Ностранда, где Середа отбеливает нерожденные среды под крышей из переплетенных змей…
– Боже мой! – сказал Мирамон, безутешно потирая нос. – Это никогда бы не подошло женщине, испытывающей почти болезненное отвращение к пресмыкающимся!
– …Но Сосикл заявляет, что она оказывается в Шибальба, где Сипакна и Кабракан играют в мяч, а землетрясения находятся на попечении няни.
– Там бы она была немногим счастливее. Ее не интересуют дети, она бы ни на минуту не примирилась с капризными маленькими землетрясениями, и она бы сделала для всех все весьма неуютным. Нинзиян, – Мирамон кашлянул, – Нинзиян, я начинаю бояться, что немного погорячился.
– Вот она, моральная неустойчивость, типичная для всех вас, художников, – ответил деловой человек. – Так мой совет насчет Фламбержа не пригодится?
– В общем, понимаете ли, – сказал Мирамон очень печально, – или, вероятно, мне следует сказать, что тогда как, конечно же, все же, когда начинаешь смотреть на это более внимательно, Нинзиян, в действительности, я имею в виду тот факт, как мне кажется…
– Факт тот, – ответил Нинзиян с подавленной, но понимающей улыбкой, – что вы женатый человек. Как и я. В общем, у вас остается одно желание и не больше. Вы по своей воле можете вернуть власть над утерянной магией или вернуть жену, властвующую над вами…
– Да, – мрачно согласился Мирамон.
– А на самом деле, – бойко продолжал благочестивый Нинзиян с оптимизмом, припасаемым для дилемм своих друзей, – на самом деле вам просто необходимо иметь четкий выбор. Никто не может преуспеть на стезе как художника, так и супруга. Я не защищаю ни одну из этих карьер, поскольку, по-моему, искусство – неблагоразумная госпожа и, по-моему, жена тоже подпадает под подобное определение. Но я уверен, что ни один мужчина не может служить обеим этим дамам.
Мирамон вздохнул.
– Верно. Не существует достойной супруги для создателя сновидений, поскольку он постоянно творит более прекрасных женщин, чем предлагает ему земля. Прикосновение к плоти не может удовлетворить его, укладывающего сверкающие волосы ангелам и лепящего грудь у сфинги. Существует, конечно, женщина, разделяющая с ним постель, но во многом она не лучше, чем одеяло или подушка, и все они лишь помогают создать уют. Но что у творца сновидений, что у этого встревоженного индивидуума, живущего внутри существа, которое он видит в зеркале, общего с женщинами? В лучшем случае, эти твари дают ему образцы для идеализации за пределами не имеющей значения правды: как если б я создал роскошный бред, начав всего лишь с ящерицы. А в худшем случае, эти твари не могут прожить и получаса, не вмешиваясь в то, чего не понимают.
Тут Мирамон умолк. Он перебирал волшебные краски, которыми делал первые наброски своих сновидений. Тут была белая краска, являющаяся затвердевшей океанской пеной, и черная, которую он выжал из сгоревших костей девяти императоров. Тут была желтая слизь Скироса, и малиновая киноварь, полученная из перемешанной крови мастодонтов и драконов, и тут был ядовитый голубой песок Путеоли. И Мирамон, который уже не являлся могущественным кудесником, думал о той красоте и том ужасе, вызвать которые этими пигментами он мог еще минуту назад; он, который теперь не имел власти давать жизнь своим созданиям и который владел умением, достаточным лишь для того, чтобы выкрасить в полоску вывеску парикмахера.
И Мирамон Ллуагор сказал:
– Было бы грустно, если б я никогда вновь не управлял сном людей и не дарил им сновидений, насыщенных и ясных, красивых и соразмерных, нежных, правдивых и изысканных. Ибо, нравятся они им или нет, я-то знаю, что для них полезно, к тому же сны эти привносят в их голодную жизнь то, чего им не хватает и что следует иметь.
И Мирамон также сказал:
– Однако было бы еще грустнее, если б моей бедной жене позволили вечно распекать дрожащие землетрясения в середине следующей недели. При чем здесь то, что мне она не особо нравится? Мне и в самом себе очень многое не нравится: моя мягкотелость и вздернутый нос, делающий мое лицо смехотворным. Но хочу ли я превратиться в здоровенного рыцаря на коне? Рассматриваю ли я хобот слона с завистью? Что ж, Нинзиян, я поражен вашими глупыми речами! Какая мне нужда в совершенстве? Что бы у меня было общего с тем, кто терпит меня и высоко расценивает мои деяния?
Мирамон с некоторой твердостью тряхнул головой.
– Нет, Нинзиян, вы тщетно докучаете мне своими непрерывными разговорами, ибо я так же привык к недостаткам своей жены, как и она к моим. Я отношусь к ее вспышкам раздражения со смирением, которое распространяется и на капризы погоды. Они неприятны. Любые ураганы неприятны. О да, но, если б жизнь стала бесконечным ясным майским днем, мы бы этого не вынесли – мы, когда-то исхлестанные бурями и штормами, будем пересекать сушу и море в поисках снега и града. Точно так же, когда рядом Жизель, я постоянно пребываю в раздражении, но сейчас, когда она исчезла, я несчастен. Нет, Нинзиян, оставьте свои речи, вам больше не нужно говорить, ибо я просто не смог бы примириться с жизнью, обладающей всеми удобствами.
Нинзиян терпеливо выслушал его, поскольку они оба были женатыми мужчинами. Потом Нинзиян, пожав плечами, сказал:
– Тогда выбирайте, Мирамон: жена и больше никаких сновидений или искусство и одиночество?
– Такие пожелания были бы чересчур расточительными, – ответил Мирамон, смахивая третью пчелу. – Поскольку я не могу вынести разрыва ни с женой, ни с искусством, неважно, насколько разрушающе они воздействуют друг на друга, я желаю, чтобы все оказалось там, где оно находилось час назад.
Третья пчела сделала большой круг и вернулась на крест. Утерянные Мирамоном знания опять оказались у него в голове.
Глава XVIII Раздосадованный Кощей
Утерянные Мирамоном знания опять оказались у него в голове, а жизнь вновь пробудилась и во всем остальном, что погибло за этот час. Исчезло злобное солнце Гаураси, и стертые и испепеленные миры вместе со всеми спутниками вращались без всяких повреждений точно на надлежащих местах. И боги, которым поклонялись в этих мирах, радовались на небесах, поскольку Плеяд опять было лишь семь. Предки снова погрузились в сон; все на какое-то время оставалось таким, какое оно есть; и даже Тупан сейчас казался достаточно безопасным… Ибо закрылись глаза, в которых таилась неугасимая и несговорчивая пагубность, и воспоминания обо всем, что было до времени Кощея, и неразглашенное знание, которое лишенный сил Тупан разделял с одним лишь проворным молодым Кощеем. Никто не мог с уверенностью говорить об этом. Но шептались, будто они оба отлично знали, что в самом конце Предки вернутся и что только Тупан знал, как и когда…
Но над богами, радующимися на многочисленных небесах и в несметных раях по случаю вновь обретенного всемогущества, намного выше этих пирующих богов стояли Звездные Воители и Стражи Миров, каждый на предназначенном ему месте, и каждый вновь заступил на вечную охрану всех вещей, какие они есть. И Звездные Воители и Стражи Миров рассудительно сказали Кощею:
– Сударь, ваша охрана на посту. Вы охраняетесь в качестве руководителя всего существующего и всего, что еще не сотворено. Вы охраняетесь в качестве обитателя царства, вращающегося вокруг Тех, кто находится надо всем Сокрытым. Ибо сейчас Предки вновь спят, и нигде ничто новое никогда не получит власти над вами, являющимся нашим единственным властелином. И все, какое оно есть, навсегда останется вашим.
Кощей довольно-таки рассеянно ответил:
– Какая нужда была беспокоиться? Разве я не сделал свои создания мужчинами и женщинами? И разве я не создал уз между ними – связей, которые я сплел из любви и ненависти? Эх, господа, это прочные связи, и хотя все-все висит на них, эти плетения выдерживают любой груз.
Они же ему ответили:
– Несомненно, ваши плетения, сударь, выдерживают любой груз. Однако вы не радуетесь, как мы.
– Но, – сказал Кощей, – но я терпеть не могу явной неучтивости! И осмотрев мои произведения, этот малый вполне мог бы сказать что-нибудь разумное. Никто не против честной критики. Просто же ничего не сказать – это, знаете ли, довольно-таки глупо!
Ибо говорят, что Кощей тоже, по-своему, был художником.
Глава XIX Полное урегулирование
Но менее крупный художник, Мирамон Ллуагор – вновь могущественный кудесник в своей башне из слоновой кости и вновь превосходящий всех создателей сновидений в этом мире – ничего не знал о том, какой беспорядок он произвел в произведениях Кощея, создавшего все таким, какое оно есть. Мирамон лишь знал, что на черном каменном кресте беспокойно жужжали три пчелы, у которых теперь не было ни блеска, ни власти, чтобы исполнить чьи-либо желания; и что его жена Жизель тоже шумит – не просто беспокойно, а в бешеном гневе.
– Милую шутку ты со мной сыграл! – сказала она. – О, мне жаль женщину, вышедшую замуж за художника!
– Но зачем ты постоянно вмешиваешься в то, чего не понимаешь? – спросил он так же беспокойно, какими были проклятые пчелы, так же сердито, какой была несносная женщина.
И они продолжали жить во многом так же, как и прежде…
Они продолжали жить во многом так же, как и прежде, поскольку, по выражению Мирамона, Норны, несмотря на всю свою силу, были неспособны выдумать для него судьбу более непоколебимую, чем он сам (как любой другой женатый мужчина, удерживающий свое положение без крови) выдумал при всей своей слабости. То, как умрет Мирамон Ллуагор (сказал он), предписано и неизбежно, поскольку он – один из Леших. Но то, как он живет (обнаружил он, покраснев от стыда), равным образом предписано и неизбежно, поскольку он также был и супругом. Короче, он питал неприязнь к этой женщине; она стесняла его жизнь, она мешала его искусству, и с ее дурацкими представлениями о его искусстве она теперь растратила его бессмертие. Но он к тому же обожал ее, и он к ней привык.
Мирамон, так или иначе, прибег к своей знаменитой поговорке, гласившей, что секрет успешного брака заключается в том, чтобы уделять как можно больше внимания чужим женам. И из этой аксиомы он извлек предельно возможное утешение. Он мог бы (размышлял он) быть женатым на этой болезненной, увечной, невзрачной Ниафер, которая на Юге опрокинула все известные обычаи Пуактесма своим неослабевающим благочестием и которая действительно навязала своим близким такой добропорядочный и здоровый образ жизни, о котором Жизель в худшем случае только говорила. Похоже, Ниафер, в самом деле, стала совершенно ненормальной. До Мирамона доходили весьма любопытные истории, касающиеся вздора, который эта женщина несла – помимо прочих безумных фантазий! – о том, как ее пучеглазый муж должен вскоре вернуться в другом воплощении… Или Мирамон, вместо своего пропавшего товарища, Керина Нуантельского, мог бы жениться на этой крошке Сараиде, которой удалось настолько искусно избавиться от мужа каким-то необъяснимым образом и которая теперь обеспечивала беднягу Керина сонмом внебрачных наследников… Да, Мирамон размышлял (в отсутствие Жизели), что ему могло бы быть, по крайней мере умозрительно, гораздо хуже. Однако чуть позднее, по возвращении Жизели, эта вероятность казалась все более и более сомнительной.
Одним словом, они продолжали жить во многом так же, как и прежде. И Мирамон, превосходя всех создателей сновидений в этом мире, был страшным властелином. Но у себя дома он не был страшен и весьма определенно не отличался превосходством над кем-либо.
Затем, когда пришло назначенное время, с Мирамоном случилось то, что было суждено, и его убил собственный сын Деметрий заколдованным мечом Фламбержем. Ибо это, как говорят, давным-давно было предписано Норнами, прядущими судьбу всех живущих; им было безразлично, что Мирамон Ллуагор превосходит всех создателей сновидений в этом мире, поскольку Норны никогда не спят; и ни один кудесник, какой бы беспорядок и кавардак он ни устроил в избранных расчетах Кощея, в конечном счете не обладает такой властью, чтобы противостоять Норнам.
Затем Деметрий отправился за море в Анатолию. И там он женился на Каллистион, а еще он заслужил прекрасную репутацию за свою смелость и хитрость. И в последующие годы он (какое-то время) беспрестанно процветал и благодаря шутке о Приапе сбил спесь с одного языческого императора, чтобы возвысить вместо него другого императора с более развитым чувством юмора. Деметрий обладал большой властью и множеством земель, и он был безжалостным господином всей страны между Квезитоном и Накумерой. Там он представлял верховную власть, так же как на Врейдексе верховную власть сосредоточил в своих руках Мирамон Ллуагор. Деметрий хвастался, что не боится никого ни в одном из миров ниже и выше себя, и это хвастовство было правдой.
Однако ни одно из этих превосходных качеств не смогло пригодиться Деметрию, когда пришло время и когда судьба поразила Деметрия таким образом и в такой миг, какие избрали Норны, и когда он, лишивший жизни отца огромным мечом, в свою очередь расстался с жизнью благодаря тонкой проволоке. Ибо это тоже, как говорят, было предписано Урд, Верданди и Скульд, сидящими за пряжей под Иггдрасилем рядом с резной дверью Дома Силана. И к этой присказке любящие поучать добавляют, что ни один воин, какой бы беспорядок и кавардак он ни устроил в человеческих расчетах, в конечном счете не обладал такой властью, чтобы противостоять Норнам.
Именно этот Деметрий женился помимо многих других женщин на старшей дочери дона Мануэля Мелиценте, о чем повествуется в сказании о ней.
Книга Четвертая Котт в Поруце
«И наполнилась земля его идолами; они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их».
Исайя, 2,8Глава XX Идолопоклонство ольдермена
Теперь рассказ опять о Котте и о том, как Котт отправился на Запад, чтобы вернуть дона Мануэля в Пуактесм, который, как утверждал Котт, тощие женщины, святые люди и лживые поэты сделали совершенно непригодным для житья. Вероятно, Котт таким образом более или менее говорил о самой графине Ниафер, а также о Святом Гольмендисе и благочестивом Нинзияне и о самой добродетельной, но далеко не тучной госпоже Бальфиде, жене Нинзияна, поскольку эти трое теперь во всем стали советчиками госпожи Ниафер. Несомненно, что в те дни дон Мануэль уже стал легендой. И поэты повсюду восхваляли его доблесть, мудрость и превосходные качества во всех житейских делах.
Но Котт Горный покрутил усы, с неодобрением покачал своей большой лысой головой и очень быстро уехал ото всех этих преобразований Пуактесма и его господина, которого его сердце помнило и желало. Котт Горный отправился на Запад без спутников, странствуя в одиночку по суше и по морю. Вначале Котт прервал свое путешествие в Сорче, где он стал спутником Кредхи Рыжеволосой; оттуда он отправился на Остров Горбуний, и на этом острове (в действительности полуострове) он пережил множество и наслаждений, и неприятностей с одной шлюхой по имени Бар, женой Эгира. Но ни в одном из этих царств Котт не получил никаких достоверных сведений о доне Мануэле, хотя повсюду и ходили слухи о его недавнем уходе. Затем в Кушавати, сумрачном месте с шелестящими листьями и очень нежным колокольным звоном, Котт нашел с помощью госпожи Абонды атлас, который впоследствии и служил ему проводником.
Короче, Котт двигался все время на Запад со случайными остановками, чтобы отдохнуть, или совокупиться, или подраться, – с естественными сопутствующими обстоятельствами любого путешествия. В некоторых краях он находил лишь ничем не подкрепленные сообщения, вроде тех, что такой человек, как дон Мануэль, проходил тут совсем недавно; в других краях сообщений и вовсе не было. Но после того что Абонда показала ему в том уединенном месте под шелестящей листвой, у Котта имелась причина твердо верить атласу и картам.
Так он продолжал путешествие на Запад с разными, достаточно занятными приключениями, случавшимися с ним в Лейме, Скеафе и Адрисиме. Он был сильно опечален в Мурнифе, Стране Клейменых Тел из-за распространенного там религиозного обычая и девушки по имени Фельфель Расиф Иедуя; а в Ран-Райгане одноногая царица Зелела на какое-то время заточила его в свой гарем из пятидесяти красавцев-мужчин. Однако, в основном, Котт продвигался вполне успешно, отчасти потому что повсюду чтил религиозные обычаи, но главным образом благодаря картам и своим природным данным. Последние делали его способным сносно вести дела со всеми мужчинами, затевающими ссору, и со всеми женщинами, которых он считал нужным задобрить или удивить. И до самого Нижнего Ярольда, и даже до Красного Хайкара карты служили ему верными проводниками, пока Котт волей-неволей не перешел через границу последнего и не попал в страну, которой не было на картах; и таким образом, он подошел, хотя и не знал об этом, к городу Поруце.
А близ Поруцы Котт нашел каменное изваяние, стоящее в пустынном поле, поросшем перцем. Среди этих растений повсюду, весьма удручающе, были разбросаны обугленные бедреные кости, ребра и другие более мелкие принадлежности человека. А перед изваянием на большом жертвеннике с высеченными на нем черепами находились остатки других сожженных подношений.
Это изваяние представляло собой сидящего и почему-то недостаточно одетого великана, высеченного из черного камня. В уши его были вдеты золотые и серебряные серьги, лицо было раскрашено пятью поперечными желтыми полосами, а в пупок был вставлен огромный сверкающий самоцвет, который мог запросто оказаться изумрудом. Таково было сдержанное облачение этого великана. Кроме того, в правой руке изваяния находились четыре стрелы, а в левой – любопытное опахало, сделанное из зеркала, окруженного зелеными, желтыми и синими перьями. Котт никогда прежде не видел таких идолов.
«Впрочем, в этой незнакомой мне религии, – размышлял Котт, – без сомнения, существует огромное количество неизвестных богов. Они могут не иметь большого веса, но госпожа Абонда научила меня, что в религиозных вопросах путешественник ничего не теряет, будучи учтивым».
Котт опустился на колени. Он присягнул изваянию на верность и в молитве попросил у него защиты при поисках своего пропавшего сеньора. Котт услышал, как чей-то голос сказал:
– Твоя присяга принята. Твои просьбы будут исполнены.
Котт, по-прежнему стоя на коленях, поднял голову. Он увидел, что громадное черное изваяние рассматривает его живыми глазами и что рот этого изваяния сейчас представляет собой подвижную пурпурную плоть.
– Твои мольбы будут исполнены в полной мере, – продолжало изваяние, – поскольку ты первый человек с бледной кожей и в любопытной одежде, перешедший через границу карты и поклоняющийся мне. Подобные благочестивые инициативы следует поощрять. И я щедро тебя награжу. Лысый человек с длинными усами, обещаю тебе, поклявшись Звездными Воителями и даже Словом Цици-Миме, что ты будешь править всей страной Толлан. Так и договоримся. А теперь расскажи-ка мне, кто ты такой.
– Я – Котт Горный, ольдермен Сен-Дидольский. Я следовал за доном Мануэлем Пуактесмским, о котором поэты в наши дни говорят так много возмутительной лжи. Я следовал за ним до тех пор, пока он ехал на Запад в дальние края по ту сторону заката. Сейчас я по-прежнему следую за ним, поскольку верен своей клятве. И я появился на Западе не для того, чтобы править этим заморским краем, но чтобы добыть сведения о моем господине и вернуть его в Пуактесм.
– От меня ты не получишь таких сведений, ибо я никогда не слыхал об этом Мануэле!
– В таком случае, какое же ты божество!
– Я – Яотль, Капризный Владыка, Враг с Обеих Сторон. Это мое Место Мертвых. Но я обладал властью повсюду в этом краю, и я получу обратно всю власть в этом краю, когда изгоню Пернатого Змея.
– Тогда позволь сказать тебе, мессир Яотль, что ты мог бы с большой выгодой добавить к своей власти знание, являющееся достоянием всех цивилизованных людей. Негоже такому божеству никогда не слышать о моем сеньоре Мануэле, величайшем из военачальников и основателе Братства Серебряного Жеребца, членом которого имею честь быть и я. Подобное невежество кажется мне допустимым для простых смертных. Для божества же оно совершенно недопустимо.
– Я лишь сказал…
– Не надо меня перебивать! Какой ты бог, если вмешиваешься в религиозные обряды людей, стоящих перед тобой на коленях! В моей привычке, сударь, появляясь в чужой стране, относиться учтиво к богам этой страны. И поэтому я неплохо изучил манеры, подобающие божествам при таких обстоятельствах. Когда люди молятся божеству, следует проявлять более учтивые манеры и определенную благовоспитанную сдержанность.
– Убирайся прочь! – сказало изваяние Яотля. – И прекрати меня поучать! Иди в Поруцу, где живут тольтеки и где, возможно, слыхали о твоем доне Мануэле, поскольку тольтеки тоже дураки и поклоняются Пернатому Змею. А когда ты станешь императором страны Толлан, возвращайся и помолись мне более учтиво!
Котт поднялся с колен в сильном негодовании.
– Я присягнул тебе на верность, будучи свободным от предрассудков в религиозных вопросах. Это лишь малая толика вежливости, рекомендованная госпожой Абондой, и я вовсе не имел в виду…
Изваяние ответило:
– Никого не волнует, что ты имел в виду, важно лишь то, на что ты присягнул. Я принял твою присягу, и делу конец.
– …И ни на каких условиях, – продолжил Котт, – не согласился бы я стать императором этого заморского края. Что же касается всего остального, скажи мне немедленно, что ты имел в виду, говоря: «Тольтеки тоже дураки», поскольку я не понимаю этого «тоже».
– Но, – устало сказало изваяние, – но ты должен стать императором, раз я поклялся клятвой Звездных Воителей. Не отрицаю: я погорячился, но, несмотря на это, я сказал так и дал нерушимую клятву, и с этим покончим.
Котт же ответил:
– Чепуха!
– Теперь ты, – продолжало изваяние Яотля, – находишься под моей защитой, и чтобы удостоверить это, я обязан наложить на тебя три условия воздержания. Мы сделаем их очень легкими, поскольку это чистая формальность. Я прикажу тебе воздерживаться от таких поступков, которые ни один нормальный человек никогда и не мечтал совершить при любых обстоятельствах. И, таким образом, никому не будет причинено неудобство.
Котт же крикнул:
– Ерунда!
– Итак, ты не должен посягать на божественные привилегии и не ходить при людях голым; ты должен избегать любых дел, связанных с зелеными перцами, которые видишь вон там, по той причине, что они – священные растения моего бесценного пасынка Цветочного Принца; а третье условие воздержания, которое я сейчас накладываю на тебя, я не открою, поскольку ты определенно найдешь его даже еще более легковыполнимым, чем остальные два. Я все сказал.
– Я отлично знаю, что ты все сказал! Но ты сказал галиматью. Ибо, если ты думаешь, что я испугаюсь тебя и твоих идиотских условий!..
Но тут Котт увидел, что изваяние закрыло глаза и невозмутимо окаменело, больше не обращая на него внимания.
Глава XXI Выгоды торговли перцем
От подобной неучтивости Котт переменил негодование на ярость. Какое-то время он обращался к идолу в выражениях, которые ни одна личность, божественная или человеческая, не смогла бы назвать почтительными. Он собрал с растений вокруг себя охапку зеленых перцев, разделся донага и оставил одежду на жертвеннике с черепами. Он вошел в город Поруцу совершенно голым, уселся на базаре и стал кричать:
– Покупайте зеленые перцы!
Никто из тольтеков не препятствовал ему, поскольку горцы из Уро, Ипаля и Тиапаса обычно приходили в Поруцу одетые почти так же легко. И было совершенно очевидно, что этот бледнокожий чужеземец с голой, большой, круглой и розовой головой пришел без оружия, если не считать природного снаряжения.
Котт продал перцы и стал ходить по базару, расспрашивая о доне Мануэле, но никто из этих черных, как смоль, или бронзоволиких людей, похоже, никогда не слышал о седовласом герое. Когда базар закрылся, Котт поднялся на холмы, окружающие Цацитепек, в сопровождении полногрудой, кареглазой, прелестной девушки, продававшей на базаре жеруху. Она оказалась очень бойкой, и Котт провел с ней четыре дня к их взаимному удовольствию.
На пятый день он возвратился, по-прежнему совершенно голый, в чем мать родила, на базар в Поруцу. И там он опять продавал зеленый перец, чтобы надменный Яотль мог не сомневаться в отношении того, как оценил Котт покровительство этого бога.
И какое-то время все шло довольно хорошо. Но вскоре на базаре появилось семеро солдат, подошедших к тому месту, где Котт как раз раскладывал последнюю дюжину перцев. И командир солдат сказал:
– Наш император желает говорить с тобой.
– Ну что ж, – ответил Котт, – сегодня я закончил работу и вполне могу уделить ему пару минут.
Он охотно пошел с этими солдатами, а они привели его к императору Уэмаку.
– Кто ты такой? – спросил первым делом император. – И что ты делаешь в Поруце?
– Я чужестранец по имени Котт Горный, торговец зеленым перцем, а пришел я сюда продавать зеленый перец.
– Но почему ты вошел в мой город, не имея на себе ни накидки, ни набедренной повязки и, по сути, ничего, кроме хмурого вида?
– Из-за условий воздержания, наложенного на меня одним опрометчивым черным мошенником со стрелами и опахалом с зеркалом внутри, назвавшимся Яотлем.
– Будь благословенно имя этого бога! – сказал благочестивый император Уэмак. – Хотя мы поклоняемся Пернатому Змею, а не Капризному Владыке.
Затем Уэмак продолжил объяснять, что его единственная дочь пять дней назад рассматривала Котта сначала из окон дворца, а позднее спустилась, накинув вуаль, на базар – для того, чтобы вблизи обозреть этого, в сущности, розового человека. Вернулась она ошеломленная, в некотором возбуждении и попросила отца отдать этого странно покрашенного и необычайно одаренного продавца зеленого перца ей в мужья. Уэмак согласился исполнить ее просьбу, поскольку никогда ни в чем не отказывал своей дочери и страстно желал внука. Но когда послали разыскать розовокожего торговца перца с большой, безволосой, розовой головой, его нигде не нашли.
Принцесса Уцума перенесла это разочарование, при одновременном откладывании свадьбы, крайне тяжело. Короче, как сказал Уэмак, девушка заболела от любви, шесть врачей были не в силах что-либо для нее сделать, и никто не может ее вылечить (заявила она), кроме того прекрасного подкрашенного и во всех отношениях изумительного торговца перцем.
– Знаете что, вы должны объяснить бедной девочке, что у меня уже есть жена, – сказал Котт, – даже не считая взаимоотношений с торговкой жерухами.
– Не вижу, – признался Уэмак, – никакой связи. В Толлане мужчине разрешено иметь столько жен, сколько ему нужно, конечно же, в разумных пределах.
– Браки не подчиняются разуму, – сказал Котт.
– Затем, в качестве супруга моего единственного ребенка, – сказал Уэмак, – ты будешь править Толланом вместе со мной.
– Ох-хо-хо! – сказал Котт. Ибо, поскольку он пунктуально во всем не повиновался Яотлю, он понял, что это наверняка совпадение, и оно казалось весьма странным.
– И в конце концов, – сказал Уэмак, – если ты будешь упрямиться при такой по-настоящему благоприятной возможности, предоставляющейся торговцу зеленым перцем, нам придется тебя переубедить.
– Но как, – осторожно спросил Котт, – как вы меня переубедите?
Уэмак поднял загорелую руку. Вошли люди в масках, внеся с собой свои орудия и здоровенного раба. Они продемонстрировали свои методы убеждения, и после того как останки раба наконец затихли, Котт тоже на некоторое время притих.
– Из двух зол, – сказал он потом, – выбирают более знакомое. Я женюсь.
Он позволил себя искупать, подровнять себе усы, выкрасить тело черной краской, надушить и установить у себя на большой лысой голове венец из белых перьев несушки. Чресла ему обмотали красной тканью, на ноги какой-то жрец надел раскрашенные сандалии с золотыми колокольчиками, а на благоухающее тело Котта накинули желтую вязаную мантию с неотразимой бахромой.
– В общем, – сказал Уэмак, – когда поужинаешь, иди и утешь мою дочь в ее болезни!
Котт повиновался и обнаружил принцессу, оказавшуюся, как все жгучие брюнетки, очаровательной девушкой, лежащей и плачущей на основательной двухспальной кровати. Котт повесил на крючок в стене свой венец из белых перьев несушки, кашлянул и вновь посмотрел на плачущую принцессу.
Котт сказал:
– Я тронут, моя дорогая, такой привязанностью ко мне. Привязанность ко мне в этом краю полулюдей есть показатель здравого ума. – Он вновь кашлянул, вероятно, чтобы скрыть свои чувства, и добавил: – Привязанность ко мне весьма стесняет меня. Поэтому потеснись немного!
Принцесса, по-прежнему плача, освободила ему место. Он сел на кровать и стал утешать принцессу. Она в свою очередь начала выражать ему признательность за его утешения. Он повесил на крючок желтую мантию и красную набедренную повязку.
Наутро от недомогания принцессы Уцумы не осталось и следа, не считая основательной, но приятной усталости. И еще до полудня Котт женился на принцессе Уцуме и был препровожден в храм Пернатого Змея, а там получил императорское имя Товейо и был коронован как соправитель всего Толлана наряду с Уэмаком.
Однако после этого священнослужителями и всем населением Поруцы была разыграна довольно любопытная церемония, называющаяся, как осведомила Товейо его смуглая прелестная невеста, Праздником Метелок, для того чтобы гарантировать плодовитость брака их принцессы.
– Я считаю эту церемонию излишней, – сказала Уцума, все еще зевая. – Но эта церемония предписана свыше Богиней Грязи. И я к тому же считаю, мой чудесный розовый красавчик, что особам нашего высокого звания подобает поощрять все истинные религиозные чувства и, как правило, позволять исполняться воле богов.
Между тем, эти обряды открылись обезглавливанием очень миловидной молодой женщины, с тела которой затем сняли кожу – двумя половинами, словно ужасающие корсет и панталоны. В качестве таковых их носил остаток церемонии один жрец. И чем меньше будет сказано здесь об этом Празднике Метелок, тем лучше, но нельзя не сказать, что окрещенному именем Товейо большая его часть показалась патологически нескромной.
Глава XXII Пляска Товейо
Первым официальным действием Товейо стала отправка послов к соседям-королям – Кокошу, Напальцину и Акольхуа (второму с таким именем), но ни один из них не сообщил ему никаких сведений о доне Мануэле. Между тем, Котт лелеял свою молодую жену и обращался со всеми окружающими также в соответствии со своей природой.
О его в некотором роде замечательном поведении на войне с Какатом и Коатом, о том, как во время очередного припадка гнева он разрушил мост со стоящими на нем людьми и о том, как он убил десятерых своих подданных мотыгой, здесь нет нужды говорить. Но так уж получилось, что еще до окончания медового месяца молодоженов депутация от тольтеков стала умолять Уэмака как бы ненароком убить своего зятя.
– Невозможно, – сказали они, – больше выносить его и его вспышки гнева.
– Таково, – согласился Уэмак, – и мое мнение. Боюсь, правда, что если мы его убьем, моя дочь расстроится, ибо она, похоже, открыла в нем какую-то грань огромной и неисчерпаемой привлекательности.
– Лучше, ваше величество, чтобы она поплакала, чем бы мы все сошли с ума. Гордыня и самомнение этого человека невыносимы.
– Никто не знает это лучше меня. Он задирает меня в моем собственном дворце, где я не привык позволять ездить на себе никому, кроме своей дочери. В создавшемся положении мы должны поступить довольно хитро. Первым делом мы должны сделать так, чтобы этот Товейо оказался унижен в глазах моей дочери. После этого, насколько я ее знаю, она позволит нам от него избавиться.
Тут один из наиболее смуглых тольтеков, назвавшийся Таль-Кавепаном, сказал:
– Сейчас этот всевластный Товейо находится на базаре. Следуйте за мной, и вы увидите его униженным и в глазах его жены, и в глазах всех окружающих.
Все последовали за ним, спрашивая друг у друга, кто такой этот громадный Таль-Кавепан, что говорит так смело. Никто не помнил, чтобы видел его прежде. Между тем, Таль-Кавепан подошел к тому месту, где Котт и его августейшая жена Уцума торговались с одним лотошником из-за дыни. Таль-Кавепан положил руку Котту на плечо и надавил на него. Котт начал становиться все меньше и меньше, так что вскоре Таль-Кавепан наклонился и подобрал этот источник неприятностей, который здесь называли Товейо, и вот так показал тольтекам их грозного угнетателя в качестве розового карлика не больше четырех вершков ростом, стоящего на черной ладони Таль-Кавепана.
– Пляшите, ваше величество! Пляши, ужасный властелин! – сказал Таль-Кавепан. И Котт стал плясать для всех. И пока он плясал, то жутко ругался, но его голосок напоминал писк птенца.
Вокруг него собралась толпа, поскольку таких чудес прежде в Поруце не видывали. Таль-Кавепан весело крикнул императору Уэмаку:
– Разве это дурачится не ваш зять, униженный в глазах его жены и всех окружающих?
Уэмак крикнул своей охране:
– Убейте этого кудесника!
Солдаты повиновались императору. А принцесса Уцума схватила своего крохотного мужа и сунула от греха подальше за лиф своего пурпурного платья, пока этого Таль-Кавепана с энтузиазмом отправляли на тот свет.
Глава XXIII Прискорбное поведение трупа
Теперь громадное тело Таль-Кавепана лежало там, где было брошено, и оно мгновенно начало разлагаться, испуская потрясающую вонь.
– Уберите эту чертову падаль из моего города! – приказал Уэмак стражникам. – Как бы она не породила в Поруце чумы.
Но когда все вновь попытались подчиниться приказу императора, то обнаружили, что тело очень тяжелое и никакой силой не оторвать его от земли. Поэтому тольтеки в беспомощности оставили труп на своем базаре. А чума в виде небольшого желтого вихря втихомолку понеслась по городу, и многие сотни людей умерли.
Оставшиеся же в живых оказались не в силах помочь друг другу, и молили о помощи Пернатого Змея, и на каждом из семи святых мест ему приносили в жертву грудных младенцев, украшенных лентами и полосками из соответствующе раскрашенной бумаги. Но чума продолжала свирепствовать.
Тогда тольтеки совершили еще более значительное жертвоприношение: сердца откормленных, действительно ценных рабов и военнопленных, каждый из которых был должным образом раскрашен голубыми и золотыми полосами, поднесли древним и в чем-то старомодным богам – Убийце-Левше и Творцу Ростков. Затем, когда чума принялась свирепствовать еще сильнее, тольтеки отчаялись и на пробу обезглавили восемь наименее знатных придворных, предварительно содрав с них кожу, в честь нового бога, называвшегося Яотль, Капризный Владыка, Враг с Обеих Сторон.
При этом мертвый Таль-Кавепан воскрес и сказал:
– Привяжите ко мне канаты, сплетенные из черных и красных жил, вы, почитающие Пернатого Змея! И когда пятьдесят человек сделают то-то и то-то, – он очень подробно оговорил, что они должны делать друг с другом, – тогда перетащите мое тело к Месту Мертвых, которое является местом Яотля. Там сожгите мое тело на жертвеннике и тогда чума закончится.
Тольтеки повиновались. Пятьдесят человек, образовав круг, стыдливо совершали необходимые непотребства, и пятьдесят человек тянули двухцветные канаты, но труп по-прежнему не двигался с места. И вновь заговорил Таль-Кавепан:
– Приведите императора Уэмака, приговорившего меня к смерти!
Явился Уэмак, а вместе с ним пришла и его дочь.
– Приветствую тебя, Уэмак, сын Имоса по линии Чана и из рода Чивима! – сказал труп. – Кажется, эти хилые сироты, ослабевшие от долгого поклонения Пернатому Змею, не в силах после одного незначительного жертвоприношения Капризному Владыке сдвинуть меня с места. Поэтому необходимо, чтобы их широкоплечий, сошедший с небес император оттащил мое тело к Месту Мертвых и там сжег его на жертвеннике Яотля.
– А что станет в Месте Мертвых со мной? – спросил Уэмак.
Труп улыбнулся.
– С того святого места император отправится в долгое путешествие. После над всем Толланом, как и предсказывалось, будет царствовать его зять. Ибо император Уэмак будет странствовать далеко отсюда, он будет путешествовать между двух гор и за логовом змеи и крокодила, вплоть до Девяти Вод, которые он пересечет на спине красной собаки. Да император Уэмак никогда и не вернется из этого путешествия!
Уэмак слегка задрожал. Но он сказал:
– Справедливо, что скорее император должен умереть, чем его народ погибнуть. Я не буду уменьшать свое тело, но твое тело я оттащу в Место Мертвых, и я стерплю все последующее.
Тут, словно щебечущий птенец, из-под платья своей жены закричал Котт:
– Такие речи очень хороши, но где уверенность, что эта куча навоза говорит правду?
Труп ответил:
– Тебе, Товейо, я клянусь, что, когда император Толлана оттащит мое тело в Место Мертвых, чума прекратится. И я клянусь также, что император никогда не вернется. Так что вместо него будет царствовать его зять, точно как и предсказывалось.
– Ого! – сказал Котт. – Все так, как я и думал, и никто ничего не гарантирует, кроме тебя! Честное слово, брось нас стервятникам, если нас хоть как-то волнует исходящее из твоих уст! Какой клятвой может поклясться падаль, чтобы все ей внимали!
Огромный труп при пискливых насмешках карлика беспокойно зашевелился. Но голос Таль-Кавепана лишь произнес:
– Клянусь клятвой Звездных Воителей и даже Словом Цици-Миме.
– Ах-ах! – сказал Котт. – Опусти меня, дорогая женушка! – Тут Котт, крошечная розовая кукла, пошел к дурнопахнущему черному трупу, а смуглая любящая Уцума последовала за ним. Котт встал в величественную позу, облокотившись о подъем ноги своей жены и крутя ус. Котт сказал: – Ты поклялся, Яотль, своей нерушимой клятвой, с которой и начались все эти неприятности. Отлично! Я соправитель Толлана. Я такой же император, как и Уэмак. И именно я оттащу тебя для сожжения, которого ты вполне заслужил; и именно мне твоя клятва помешает вернуться в эту адскую Поруцу, где с человеческим ростом совершают такие неуместные вольности, а люди к тому же слишком любят пляски.
– Но, – сказал труп, – я имел в виду другого императора!
Котт ответил:
– Ерунда! Никого не волнует, что ты имел в виду, важно только то, в чем ты поклялся.
– Но, – сказал труп, – но ты, зловредный розовый прыщ!..
Котт же ответил:
– Не отрицаю, что ты говорил легкомысленно. Но при всем при том, ты поклялся нерушимой клятвой, и делу конец.
Котт ухватился крошечными пальцами за двухцветные канаты. Но когда он дернул за них, Котт начал расти. И чем сильнее он тянул за канаты, тем больше становилась его фигура, чтобы честь Капризного Владыки смогла оставаться неопозоренной и Яотля бы изгнал из Поруцы не карлик. И тут труп сдвинулся с места. И тольтеки увидели упрямо тянущего эти черно-красные канаты высокого, хотя и коротконогого героя с необычайно большой и блестящей розовой головой. Перед ними несся маленький желтый вихрь, а позади него волочилась ужасная черная гниющая куча. Вот так Котт прошел через восточные ворота города.
– Исполнилась воля богов! – сказал Уэмак. – Особенно если учесть, что это во всех отношениях замечательное избавление. – Все согласились с его благочестивым высказыванием. – Заприте городские ворота! – приказал затем Уэмак. – Поставьте на них новые засовы, чтобы мой зять не вернулся к нам вопреки воле богов. А ты, моя милая Уцума, поскольку ты одна что-то потеряла в этом деле, хотя наверняка – к счастью, ты получишь другого мужа более приличной величины, а по сути, ты можешь получить столько мужей, сколько пожелаешь, моя дорогая, чтобы вырастить для нас в Поруце наследника и императора, который после меня станет править всем Толланом.
Уцума же ответила:
– У меня есть повод верить, уважаемый отец, что вопросу о наследнике уже было уделено внимание. Я буду сожалеть о моем розовом Товейо и его великих природных дарованиях, которые для меня являлись неиссякаемым источником наслаждений. И я буду чтить его память, всегда выходя замуж за людей, похожих на него, если только возможно разыскать их в этой вырождающейся стране. Между тем, я совершенно согласна с вами, что особам нашего высокого звания следует поощрять все истинные религиозные чувства и, как правило, позволять исполняться воле богов.
Глава XXIV Расчетливость Яотля
В Месте Мертвых Яотль сел и задумчиво потер нос. Капризный Владыка уже сбросил зловонную внешность Таль-Кавепана. Сейчас у него был вид, который он имеет на небе, называемом Тамо-Анчан. И когда он сидел напротив черного каменного идола, не было разницы между Яотлем и изваянием Яотля. В пупке бога также сиял зеленый самоцвет, лицо было выкрашено в желтую полоску, а в уши были вдеты золотые и серебряные серьги. Из других нарядов на нем вообще ничего не было надето, но в одной руке он держал стрелы, а в другой – магический кристалл, окруженный длинными перьями трех цветов.
– Теперь, – сказал Яотль, – я открою тебе третье условие воздержания, наложенное на тебя: ты не должен никогда ни под каким предлогом подчиняться моим приказам.
– Это, – с жаром возразил Котт, – нечестное условие. Оно не дает мне шанса обращаться с тобой, как ты того заслуживаешь. Это условие непосредственно бьет по доктрине свободной воли. Условие вероломное и подлое! Если ты хоть одним глазом посмотришь… ты, черный и беспредельно тупой повелитель плясок!.. даже ты увидишь, что, приказывая любому уважающему себя человеку делать прямо противоположное твоим наиболее абсурдным и деспотичным пожеланиям…
– Я так и думал, – сухо сказал Яотль. – Мне было совершенно необходимо хотя бы как-то защитить свои истинные интересы в краях, над которыми я осуществляю божественную власть. – Тут Капризный Владыка погрузился в молчание, но вскоре послышалось его хихиканье. – В общем, ты обманул меня достаточно тонко, когда я чуть не сделал тебя единственным правителем этой страны. И я к тому же собирался приятно провести время с этим самым Уэмаком! Но все же я сделал тебя императором. И я во всем сдержал клятву Звездных Воителей. Так что делу конец: я освобожден от клятвы, а ты теперь можешь вернуться к себе домой, где люди каким-то непостижимым образом научились тебя терпеть.
– Я не брошу своих исследований Запада, – упрямо ответил Котт, – до тех пор пока не найду своего сеньора, которого намерен вернуть в Пуактесм.
– Но этого никогда не будет, поскольку мы действительно должны сохранять в окрестностях хоть какой-то порядок! А ни один человек и ни одно божество не могут надеяться на настоящий покой в Толлане, пока ты тут неистовствуешь, как лысый розовый бык… Так что позволь обдумать мысль Самого Высокого Места Богов и посовещаться с волей Теотеш-Калли. К примеру, насчет твоего дона Мануэля…
Яотль некоторое время сидел совершенно неподвижно, думая о чем-то и глядя в магический кристалл. И его мысль, которая являлась мыслью Самого Высокого Места Богов Толлана, воплощалась в облачко серого дыма; и понемногу это облачко превратилось в высокого седого мужчину, одетого в серебряно-серые доспехи и имеющего на своем щите серебряный герб Пуактесма. И в Месте Мертвых Яотля Котт встал на колени перед своим господином.
Глава XXV Последнее обязательство Мануэля
– Котт, – произнес Мануэль, – самый упрямый и извращенный из всех служивших мне! Котт, всегда служивший мне с ворчаньем, с большой неохотой и с еще большей доблестью! Так неужели это ты, Котт, действительно ли это ты, лысый грубиян и брюзга?
Котт ответил:
– Это я, господин. Я пришел вернуть вас в Пуактесм. И я принимаю очень близко к сердцу, позвольте сказать вам совершенно откровенно, сударь, что вы выражаете удивление, видя меня на моем месте, выполняющим свой долг! Я следую, в соответствии со своей клятвой, за старейшиной Братства Серебряного Жеребца. Мне сказали, что братство распущено по приказу вашей жены. В общем, мы оба знаем, что такое жены. Мы, более того, знаем, что я поклялся следовать за вами и служить вам. И насколько я понимаю, подобное удивление, исходящее от вас, не украшает старейшину, и, господин вы или нет, я хочу, чтобы вы это хорошенько поняли.
На это Мануэль сказал:
– Ты следуешь за мной по всему свету и за край света из-за своей клятвы, ты докучаешь этим богам и вызываешь меня из моего последнего пристанища, а потом начинаешь немедленно мне грозить! Да, это Котт, что служит мне сейчас точно так же, как служил в старину. А что другие, поклявшиеся вместе с тобой, Котт?
– Они процветают, мой господин. Они процветают, и они слушают юных поэтов, устраивающих кошачьи концерты в вашу честь, в своих прекрасных фьефах и замках, которые вы им дали.
– Но только ты, наименее почтенный и наиболее буйный из моих баронов, последовал за мной вплоть до этого далекого Места Мертвых! Котт, однако у тебя тоже есть земли и два замка.
– Ну, они-то сохранятся! Что вы имеете в виду, намекая, что кто-то в мое отсутствие посмеет сунуть нос в мою собственность? Разве я не приобрел здесь империю вообще безо всяких забот? Вы бросаете тень, сударь, на мою доблесть и на мои способности, которые, должен сказать вам совершенно откровенно и для вашего же блага!..
Но Мануэль заговорил довольно-таки грустно:
– Котт, сделанное тобой из-за данной клятвы было совершено благородно и с героическим безрассудством. Котт, ты – герой, но остальные – мудрее.
– Мой господин, существовала же клятва, – голос у Котта чуть дрогнул. – Мой господин, это не только клятва. Существует также великая любовь в вырождающейся стране, где правят мелкие людишки и не осталось никого, подобного Мануэлю.
Но Мануэль сказал:
– Остальные – мудрее. Ты по-прежнему следуешь за тем Мануэлем, который прежде расхаживал по Пуактесму. Сейчас в Пуактесме все забывают того, прежнего Мануэля, и наши поэты заняты совершенно иным Мануэлем, и моя собственная жена построила огромную гробницу для этого другого Мануэля… Котт, так происходит всегда. Любовь, а не легкомысленность просит нас забыть своих умерших, чтобы мы могли любить их более искренне. Нежелательные воспоминания должны быть перекрашены и переделаны, ошибки и промахи, свойственные всем людям, должны быть выкинуты из головы, и к образу усопшего должны быть добавлены чужие достоинства, пока смесь ничем не станет напоминать покойного. Таков путь любви, Котт, дабы сохранить любовь бессмертной… Котт, о бедолага Котт! – сказал Мануэль очень нежно. – Тебе даже не хватает такта почтить своих скончавшихся любимых людей в приличной и благоразумной манере! '
– Я следую за истинным Мануэлем, – ответил Котт, – поскольку поклялся это делать. Здесь присутствует, не могу этого отрицать, сударь, некая страсть, – Котт вздохнул. – В остальном меня не интересует эта новомодная красивая ложь, которую теперь о вас распространяют.
Затем воцарилась тишина. Ветерок разгуливал среди растущего перца и, казалось, шептал обо всем погибшем.
Тут Мануэль сказал:
– Котт, повторяю тебе, остальные – мудрее. Я ушел – навсегда. Но иной Мануэль пребывает в Пуактесме, и он питается этими небылицами. С каждым годом он становится все выше – это Мануэль, спасший Пуактесм от тяжелого ига норманнов и непристойной дикости. Этот Спаситель Мануэль уже стал самым знаменитым героем без страха, упрека и любого другого недостатка. И с каждым поколением его доброжелательность возрастает. Именно этого драгоценного Спасителя Пуактесм будет любить и стремиться подражать ему. Люди будут смелее, потому что этот Мануэль был таким смелым; и люди в тот или иной миг искушения воздержатся от глупости, потому что его мудрость была так хорошо вознаграждена; и, по крайней мере, несколько человек также воздержатся и от подлости, потому что вся его жизнь была незапятнана.
– Я, – с трудом сказал Котт, – что-то не помню такого Мануэля.
– И я его не помню, старый брюзга. Я не могу забыть лишь того, кто обходился с каждым обязательством по возможности наилучшим образом, и это всегда было весьма безрезультатно. Я вспоминаю множество поступков, которые бы предпочел не вспоминать. И я вспоминаю изможденного бойца, который блуждал, переходя от одной наполовину решенной загадки к другой, несговорчивого и раздражительного, очень ревниво скрывающего свою боль… В общем, лучше такого человека забыть! И я пришел из своего последнего пристанища освободить тебя от твоей клятвы. Я освобождаю тебя от нее навсегда, дорогой Котт, и прошу тебя поступать так же, как все остальные, и отдаю тебе свой последний приказ. Я приказываю тебе тоже забыть меня, Котт, как забыли те, кто мог знать меня лучше, чем ты.
Котт заговорил со странными звуками в горле, которые ошеломляюще напоминали рыдания:
– Я не могу забыть самого дорогого и восхитительного из земных владык. Вы, сударь, требуете невозможного.
– Тем не менее необходимо, чтобы ты – лысый реалист! – тоже служил этому другому Мануэлю и забыл, как забыли твои собратья, того бестолкового и не всегда достаточно умелого борца, этого человека с бычьей шеей, который ушел из жизни, из действительности и из памяти всех людей. Ибо сейчас на меня накладывается последнее обязательство: чтобы от личности, которой я был в этом мире, нигде не сохранилось ни единой частички; и я принимаю это обязательство, и я подчиняюсь обычной доле всех людей, больше уже не сопротивляясь.
Котт сказал:
– Вернитесь к нам, дорогой господин! Вернитесь, и служением прекрасной истине вы положите конец хвастовству и тщетной лжи вашего народа!
Но Мануэль сказал:
– Нет. Ибо Пуактесм теперь имеет, как и должна иметь любая страна, свое вероисповедание и свою легенду, чтобы руководить людьми более благородно и более доблестно, чем когда-либо в прошлом. Я был силен, но у меня не было сил породить эту легенду. Но она сотворена, Котт, она сотворена глупостью женщины и безумным лепетом напуганного ребенка, и она не прейдет.
Котт отрывисто сказал:
– Но, мой господин, мы – люди сего мира, мира, сделанного из грязи. О, мой дорогой господин, мы пробираемся по этой грязи по возможности наилучшим образом! Результаты никого не должны удивлять. Результаты довольно часто необъяснимым образом получаются весьма восхитительными. И этой истиной нужно пренебречь ради тщеславной мечты?
И Мануэль ответил:
– Мечта лучше. Ибо из всех животных только человек обезьянничает в отношении своей мечты.
Глава XXVI Поражение реалиста
Тут Яотль прекратил размышлять и отложил в сторону магический кристалл. И его мысль сосредоточилась уже не на Мануэле, а в Месте Мертвых не было видно ничего, кроме Яотля, изваяния Яотля и Котта, стоящего здесь в императорском облачении, одинокого, маленького и необыкновенно покорного на вид, между огромными, черными, обнаженными близнецами.
– Кажется, – сказал Яотль, – некоторые люди не сговорчивее богов, когда дело касается выполнения клятвы. Так что Товейо надолго запомнят в этом краю.
А Котт очень тоскливо и тихо ответил:
– Да, такие дураки, как мы с тобой, мессир Яотль, повсюду создают одни неприятности. В общем, я теперь тоже освобожден от своей клятвы! И мой господин говорил ужасно здорово. Известность Мануэля – лишь легенда да громкое звучание слов, которые порой, действительно, звучат неплохо; это тщеславие и неудержимая болтовня его жены и моих седовласых собратьев. И однако этот вздор, возможно, подбодрит людей и всегда будет служить им лучше всякой правды. А моя вера – глупость, потому что из-за какой-то клятвы вроде твоего Слова Звездных Воителей и Кого-то-Там-Еще, сударь, я следовал за истиной по этой ветреной планете, на которой все питаются разновидностями лжи.
– Каждый в соответствии со своими убеждениями, – сказал Яотль. – Так люди выбирают между надеждой и отчаянием.
– Однако убеждения значат очень мало, – ответил Котт темнокожему богу, по-прежнему говоря почти шепотом. – Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из всех возможных миров, а пессимист боится, что это правда. Поэтому я не выбираю ни одного ярлыка. Я просто знаю, что в конце всех моих странствий мне останется только обосноваться в своих уютных замках там, в Пуактесме, и жить в довольстве вместе с красавицей-женой Азрой и сыном Юргеном – этим невинным парнишкой, которого вскоре его старый лицемер-отец, без сомнения, заставит подражать некоему Мануэлю, который никогда не жил! И я знаю к тому же, что это не тот конец, который бы я выбрал для своего сказания. Ибо, полагаю, я также должен теперь скатиться к сытому покою и возвышенным раздумьям, а я бы предпочел правду. – Котт немного поразмышлял, пожал плечами и невесело рассмеялся. – Капризный Владыка; умоляю тебя, скажи, какого рода тварями кажутся богам люди?
– Давай подумаем о более приятных вещах, – ответил Яотль. – Лично я уже думаю о способе, которым смогу быстрее всего доставить тебя, о ненасытный брюзга, в твой далекий дом и убрать из своей, слишком долго страдавшей страны.
Он повернулся огромной обнаженной спиной к Котту для того, как предположил Котт, чтобы предаться размышлениям. Однако Котт почти мгновенно был выведен из заблуждения неким чудом.
Книга Пятая «Mundus Vult Decipi»
«…не только в сем веке, но и в будущем…»
Послание к Ефесянам, 1, 21Глава XXVII Преображенный Пуактесм
История, по той или иной причине, не увековечивает чудо, которое сотворил Яотль. Боги Толлана всегда были склонны обескураживать людей своими диковинными представлениями о юморе. Вместо этого история рассказывает о том Пуактесме, в который Котт, перенесенный тем благодатным, хотя и зловонным ветром, который создал и направил Яотль, теперь поневоле вернулся один.
За годы Коттова отсутствия произошло много перемен. Официально над этим краем властвовала графиня Ниафер, но она, похоже, во всем управлялась Святым Гольмендисом Филистийским. О близости между графиней и ее тощим, но крепким советником уже больше не было ни сплетен, ни пожиманий плечами: люди привыкли к этому союзу точно так же, как примирились с реформами и запретами, явившимися его плодами.
Котт обнаружил, что теперь, когда тот Мануэль исчез, времена менялись к лучшему с самой неутешительной скоростью. Котту Горному эти дни казались порождающими мелких людишек, которые, разумеется, если вас волнуют такие пустяки, – теперь, когда из Филистии со своими чудесами прибыл этот всеподавляющий Святой Гольмендис, – жили более благопристойно, нежели их отцы. Ибо этот блаженный нигде бы не смирился с каким-либо беспорядком и едва ли вынес бы малейшие проявления чудотворчества у кого бы то ни было. Даже Мудрец Гуврич, который в старые и более откровенные времена принимал участие в колдовстве дона Мануэля, теперь нашел нужным ограничить свое чародейство исключительно частными занятиями.
В общем, можно было проходить по Пуактесму целый день и не встретить ни колдуна, ни феи. Народ Ауделы лишь изредка выходил из огня, чтобы позабавиться над человечеством. И хотя многие люди украдкой занимались чародейством у себя дома, все дела с духами приходилось вести тайком. Короче, в Пуактесме общепринятым стало самое что ни на есть благопристойное поведение, поскольку нельзя было угадать, когда Святой Гольмендис займется тобой ради твоего же собственного блага. И запуганная провинция, как и предрек Гуврич, превратилась во владения буйного блаженного – зачатого, вскормленного и возведенного в святые в Филистии.
Но существовало еще одно выбивающее из колеи сильное воздействие на умы, бесчестно делавшее всех ханжами и паиньками (сказал Котт): Котт обнаружил, и от этого сам мучился, что весь край охвачен всепоглощающей легендой о Спасителе Мануэле. Котт обнаружил также, что самым священным местом края сейчас является величественное надгробие, которое в отсутствие Котта графиня Ниафер воздвигла в Сторизенде в память о своем муже. И даже Котт признал, что это архитектурное клятвопреступление достаточно красиво.
Нижняя половина гробницы с витиеватой резьбой по камню состояла из восьми альковов, в каждом из которых помещались реликвии того или иного святого. Верхняя часть являлась пьедесталом очень изящной конной статуи дона Мануэля, изваянного с поднятым копьем, в полном боевом облачении, но без шлема, так что было видно лицо героя, сидевшего на коне и смотревшего на Север. Таким образом, казалось, что Мануэль вечно охраняет от всякого врага страну, которую он когда-то освободил от норманнов. И никогда не существовало более великолепного на вид богатыря, чем этот монументальный Мануэль, ибо доспехи этого изваяния были украшены драгоценными каменьями всех разновидностей и расцветок.
Каким образом госпоже Ниафер, известной чрезвычайной скупостью, удалось заплатить за все самоцветы, никто определенно сказать не мог, но считалось, что их добыл с помощью какого-то благочестивого чуда Святой Гольмендис. Котт Горный с раздражением обозвал их поддельными и заявил, что поддельные драгоценности вполне соответствуют фальшивому погребению. В любом случае, Спаситель Пуактесма удостоился самой величественной гробницы, которую когда-либо знали в этих краях.
И Котт нашел все эти драгоценности и кропотливую резьбу по камню вполне восхитительной в качестве произведения искусства, если интересоваться такими пустяками. Но в качестве могилы он посчитал ее лишенной, по крайней мере, одной существенной мелочи: ведь она была пуста.
Однако для большинства людей пустота великой могилы представляла собой особую святость. Эта обширная и надменная пустота для большинства людей являлась постоянным напоминанием о тем, что дон Мануэль живым вознесся на небо, не будучи подверженным унижению смерти, взяв с собой всю героическую плоть и кость, да и самые крохотные сухожилия неповрежденными. Это чудо, – разумеется, не большее, чем надлежало великому Спасителю, – весьма удовлетворительно и весьма жутко объясняло отсутствие трупа, точно так же как отсутствие трупа являлось твердым доказательством чуда. Тут переплетались величественные истины. И чудо поднялось выше всяких придирок, когда оно впервые было открыто благодаря мудрости Небес, посредством незапятнанной невинности ребенка, поскольку в этом мире при таких людях, какие они есть, любой безбожник мог бы не доверять свидетельству взрослого евангелиста.
Котт, услышав эти аксиомы, неопровержимо признанные в качестве аксиом за семь лет его отсутствия, стал задумчиво смотреть на маленького Юргена, чьей крайней молодости и сравнительной невинности принадлежало это откровение. Юноша неуклонно приближался к возмужалости. Ему во многих отношениях не хватало добродетелей, подобающих евангелисту, и он признавался, что очень смутно помнит ужасное событие своего детства. Хотя подобное едва ли существенно (размышлял Котт), когда Пуактесм так искусно лелеял и разукрашивал историю, которую родной отпрыск принес с Верхнего Морвена, чтобы объяснить свое отсутствие ночью дома.
– Есть только один Мануэль, – замечал про себя Котт, – и – подумать только! – мой Юрген его пророк. Это жалкое вероучение, похоже, теперь всех удовлетворяет, когда сорванец уже больше не спешит с извинениями за гуляния по ночам.
Глава XXVIII Любимый девиз патриота
В самом деле, за время тщетных поисков Коттом настоящего Мануэля повсюду неуклонно распространялась легенда. Котт приходил в бешенство, когда слышал о непогрешимом и совершенном Спасителе, с которым он прежде жил в ежедневном общении неизбежно скандального и неучтивого свойства. И он к тому же обнаружил, что его собратья по Серебряному Жеребцу, еще оставшиеся в Пуактесме, Нинзиян и Донандр, по крайней мере, начали врать о Мануэле с таким же благочестивым отсутствием меры, как и все остальные. Мудрец Гуврич, конечно же, чопорно соглашался со всем, что утверждали достойные уважения люди, поскольку эгоцентричного старого плута никогда по-настоящему не волновало, что думают остальные. Тогда как было известно, что Хольден и Анавальт всегда стараются перевести разговор на другую тему. Короче, эти стареющие герои сталкивались в лице этой легенды об их прежней славе и привилегиях с непобедимым противником, с которым им, каждому в соответствии со своей натурой, приходилось искать компромисс.
Ибо великий Спаситель Мануэль, который сперва физически спас Пуактесм в битве с норманнами, а затем спас Пуактесм на более возвышенных полях брани, при своем уходе взяв на свою гордую седую голову все грехи своего народа, – этот Мануэль должен был вернуться и вновь принести с собой золотой век, который, как все утверждали, царил в Пуактесме при правлении Мануэля. Это была сладостная, притупляющая рассудок, манящая легенда, это было предсказание, переданное юным шалопаем Коттом, теперь всей душой обратившимся к пророчествам и юбкам. Не было смысла спорить с таким пророческим фанфаронством, поскольку оно обещало всем незадачливым людям то, во что они предпочитали верить. Повсюду в мире люди ожидали последующего пришествия того или иного сомнительного мессии, который устранит те неудобства, с которыми сами они либо из лености, либо по неумению не в силах справиться. И никто ничего не мог добиться, принимая позицию стороннего, вечно недовольного наблюдателя.
Даже Котт это видел. Так что лысый реалист проинспектировал свой погреб и предпринял сходную процедуру в семьях своих вассалов на предмет подающих надежды девушек. Он выдал такие распоряжения, которые казались наилучшими в свете обеих проверок. И он устроился настолько уютно, насколько это было возможно, чтобы дожить до преклонного возраста в этой стране дураков. Он, на худой конец, мог получать искомые удобства, проистекающие из этих бочек, и благосклонности дружелюбных, сообразительных наперсниц. Азра утомляла его не больше, чем любая жена, а его юный Юрген, в конечном счете, мог оказаться лучше, чем казалось.
Так что в итоге Котт позволил плаксивым полоумкам заявлять все, что им заблагорассудится о славном пребывании на земле и втором пришествии Спасителя Мануэля, и Котт отвечал им, в худшем случае, нечленораздельным рычанием. Но о том, что любовь старого грубияна к Пуактесму осталась неизменной, свидетельствовал пыл, с каким он теперь повелел обильно украсить два своих дома гербами Пуактесма, так что при любом повороте головы взгляд падал на вставшего на дыбы серебряного жеребца и знаменитый девиз этой страны: «Mundus vult decipi». Такой патриотизм, как говорили все, свидетельствовал, что, несмотря на придирчивость, сердце у Котта на своем месте.
Глава XXIX Эволюция брюзги
А рассказ по-прежнему о Котте и повествует теперь о том, как он избежал двора Ниафер, а также внешних приличий и благочестия, которые были там в моде, и как он благоразумно предавался излишествам в своих собственных цитаделях.
Котт больше не сражался, но у него не было недостатка в иных удовольствиях. Он охотился в Акаирском Лесу и частенько разъезжал по полям Руаня в своей богатой лисьей шубе, с гончими и соколами. Он устроил превосходную медвежью яму, в которой дикие кабаны и медведи дрались и убивали друг дружку для его развлечения. Когда стояла теплая погода, он пил и забавлялся игрой в кости и в триктрак у себя в ухоженном саду. Зимой он уютно располагался у своего огромного камина. И на благо его здоровья ему ставили банки и пускали кровь, а ольдермен Сен-Дидольский тихо и неутолимо пил горькую.
К тому же Котта то и дело забавляло приведение в исполнение приговоров его вассалам на изящной виселице – эта знаменитая виселица стояла на четырех столбах, хотя его ранг ольдермена позволял ему иметь только два столба, – поскольку эта малая толика надменности в вопросе двух лишних столбов являлась постоянным источником раздражения его формального повелителя – госпожи Ниафер. Но, в конце концов, свое главное занятие на досуге Котт нашел в стремлении превзойти очень древних и весьма известных монархов, Юпитера и Давида, постоянно меняя женщин. И прекрасные пуактесмские девушки оставались, как и всегда, его вечной отрадой.
И к тому же ежедневно ольдермен Сен-Дидольский бранился с женой и сыном, а так как он везде мог обнаружить благодатные основания для придирок, то находил в этом достаточное утешение.
В этот период он, со своими сардоническими наклонностями, забавлялся, замечая, как степенно процветает Пуактесм благодаря фанатичной вере в спасителя Мануэля, который в прошлом уничтожил все заботы и обязательства и который вскоре придет вновь и без сомнения для того, чтобы подобающим образом подчистить всеобщее моральное состояние. Поэтому не было настоящей необходимости беспокоиться о будущем, да и о любых мелких личных проступках (которые еще не стали общеизвестными), поскольку они, конечно же, подпадут под общую амнистию, когда Мануэль возвратится, чтобы заняться делами своего народа.
Но, однако, существовала еще одна, более тревожная сторона этого дела. Молодежь тут и там начинала в меру сил стараться превзойти того Мануэля, который никогда не жил. Это Котт тоже видел довольно ясно. Он видел, как молодые люди – тут и там – проявляют черты характера и привычки, достаточно чуждые, а то и вовсе неизвестные опытному старому распутнику. Например, повсюду распространялась весьма тошнотворная эпидемия вежливости: красивые сильные парни, разошедшиеся во мнениях по тому, или иному, или еще какому-то поводу, вместо того чтобы благоразумно прибегнуть к дуэли, остужали пыл, сев рядком, чтобы изучить чужую точку зрения, а после этого зачастую вообще отговаривали друг друга от поединка. Это происходило из-за прославленной вежливости Мануэля, которую мошенник, в самом деле, выказывал, извлекая из нее превосходную выгоду.
Или можно было увидеть, как люди извинялись и даже помогали тем, кто их оскорбил или обидел, они поступали так из-за прославленной мануэлевой терпимости к своим ближним. И повсюду также распространилось совершенно беспочвенное и тошнотворное представление относительно отбирания, при большом желании, чужой собственности. Можно было увидеть, как здоровенные молодые люди избегали обычных удовольствий юности или, во всяком случае, их ограничивали как в среде своих сверстников, так и в постели из-за известных примеров трезвенности и целомудренности дона Мануэля. Короче, повсюду слонялись бесхарактерные люди, забросившие все действительно чудесные пороки из-за клеветнических слухов о пристрастии Мануэля к добродетели.
Не то, чтобы эти молодые идиоты – во всяком случае, не всецело – думали, что они многого добьются такими крайностями. Но их почему-то искушал этот вздор о добродетельности Мануэля. И потом они – по-прежнему как-то совершенно необъяснимо – находили в этом определенное удовольствие. Котт воспринимал все это весьма мрачно: молодые люди получали спокойное и сдержанное, но истинное удовлетворение, будучи добродетельными. Значит, наверняка где-то в глубине человеческой природы таится определенная склонность к извращенным наслаждениям, получаемым от такого отрицания и обуздания человеческих желаний. И поскольку сравнительно умные и грешные люди извлекали пользу из возросшей воздержанности своих собратьев, все кругом получали выгоду.
Это проклятое новое поколение из-за своих ненормальных устремлений было счастливее своих отцов, живших в царстве прямоты и здравого смысла. Эта бредовая легенда о Мануэле, разумеется, не породила повсеместного нестерпимого совершенства, но бесспорным было и возрастание спокойствия и довольства всего Пуактесма. Котт это тоже видел.
Он вспомнил то, что сказал ему его настоящий сеньор в Месте Мертвых. И Котт признавал, что (говорите что хотите о Мануэле, который действительно жил) косоглазый негодяй, как правило, знал, о чем говорил.
Глава XXX Отказ от дурных привычек
Известия о делах при дворе и на окраинах провинции доходили теперь до Котта, в два его логова в О-Бельпейзаже, редко и с опозданием. Однако от него не укрылся слух, что Анавальт Учтивый покинул Пуактесм, предупредив об этом лишь близких, как и другие властители Серебряного Жеребца: так Гонфаль, Керин, Мирамон да и сам Котт уходили из страны после кончины Мануэля.
Эти ночные бегства, по-видимому, вошли в привычку (сказал Котт своей жене Азре), и ей лучше лелеять его в ночное время, пока она может, а не нести всякий вздор насчет его холодных рук. Она ответила с присущими женам обобщениями относительно ноющих медведей, каймановых черепах и дикобразов, которые действительно не были некстати. А вскоре пришли сведения об Анавальте Учтивом и загадка его бегства была разгадана, но лишь много позднее были получены известия относительно его кончины, которую Анавальт встретил близ мельницы в Эльфхеймской Чаще при ухаживании за хозяйкой этого зловещего места.
– Это в его-то возрасте! К тому же с женщиной чересчур тощей, чтобы его согреть! – сказал Котт. – Это хорошо показывает, мой дорогой сын, к чему приводят развратные привычки, и я верю, что ты можешь извлечь из них выгоду, ибо мир полон подобного обмана.
И Котт для пользы Юргена благочестиво указал на девиз, который встречался почти на каждой стене двух домов Котта наряду с поднявшимся всеми членами на дыбы жеребцом.
Впрочем, Котт был менее счастлив, чем хотел это показать. Он любил Анавальта в те дни, когда они вдвоем служили под знаменем Серебряного Жеребца. Котту казалось, что в темной Эльфхеймской Чаще статный, красноречивый и добрый негодяй попался в ловушку и погиб ни за что ни про что. Не радовало его и осознание того факта, что теперь в живых оставалось лишь пять членов великого братства… Между тем, при воспитании в сыне рассудительности следовало придерживаться надлежащего тона.
И Котт также услышал, примерно в то же время, о чарах, наложенных на короля Гельмаса Глубокомысленного – того монарха, которого, как говорили, в стародавние времена мистифицировал дон Мануэль, что дало Мануэлю в жизни отличный старт. Котт слышал о том, как эти чары были наложены на Гельмаса его собственной дочкой Мелюзиной, и о замечательном перемещении королевского дворца, его лично и всего антуража из Албании на возвышенность Брунбелуа в непроходимом Акаирском Лесу, где, как говорили, весь злосчастный двор Гельмаса так и оставался заколдованным.
И Котт вывел отсюда определенную мораль.
– Это показывает, чего могут ожидать родители от своих детей, – заметил он, бросив недоброжелательный взгляд на обожаемого им Юргена. – Это показывает, к чему приводит привычка баловать детей.
– В общем, отец…– сказал юноша.
– Прекрати кричать на меня! Как вы смеете пытаться меня запугать, сударь! Ты принимаешь меня за еще одного Гельмаса!?
– Но, отец…
– Уйди с глаз моих, склочный щенок! Так не заткнешь мне рот. Возвращайся к своей Доротее! Тебя же больше никто не волнует, – сказал ревнивый старый Котт.
– В общем, отец…
– Ты все еще со мной споришь! Думаешь, мое терпение беспредельно? О чем тут спорить? Щенок идет за сукой. Все естественно.
– Но, отец, как вы можете!..
– Уйди с глаз моих, пока я тебе все кости не переломал! Возвращайся к этому холодному ханжескому двору и к своей пылкой девке! – сказал Котт.
Однако все время, пока он говорил так гневно, на душе у Котта было тревожно. Конечно, при воспитании в сыне рассудительности следовало придерживаться надлежащего тона. Тем не менее Котт в душе чувствовал, что, возможно, пошел в отношениях с сыном не тем путем и стал почти бесцеремонным.
Но Котт есть Котт. Такова его судьба. У него только один путь.
Глава XXXI Другие отцовские апофегмы
Теперь Юрген очень часто бывал при дворе, поскольку юноша двадцати одного года был по уши влюблен во вторую дочь графа Мануэля, которую звали Доротея ла Желанэ. Котт видел ее лишь раз. И вдобавок к его гневу при мысли, что он делит Юргена с кем-то еще, его значительный будуарный опыт побудил Котта высказать одно не совсем вежливое пророчество. При этом разговоре с Юргеном, происходившем в главном зале Бельгарда с дюжиной людей вокруг, Котт был беспощадно точен как в отношении качества Юргенова ума, так и в заявлении, что не желает никаких невесток.
Отец и сын устроили жаркую перебранку. Теперь это было не в новинку. Разница состояла в том, что в эту ссору Юрген вложил всю душу. Поэтому наглый, властный, дерзкий и юный негодяй был выставлен из дома и отправлен на службу к видаму де Суаэкуру. А до конца года Котт услышал, что эта самая Доротея ла Желанэ вышла замуж за сына Гуврича Михаила.
– Этот Михаил – лишь первое блюдо из приготовленных для ублажения широкой публики, – такова была эпиталама Котта.
И множество слухов достигло О-Бельпейзажа относительно поведения Юргена в Гатинэ, и хотя все они оказались достаточно безвредными, не все из них отец был рад слышать. Котт считал, например, что Юрген поступает неосмотрительно, столь поспешно делая Котта дедушкой при содействии третьей жены видама де Суаэкура. Мужья печалятся, когда их провоцируют таким потомством, на совершенно нелогичном основании, что провокация не носит взаимного характера. Все же молодежи надо как-то развлекаться, а мужья, согласно опыту Котта, не очень опасное племя. Однако стареющего ольдермена действительно раздражало, что подобные истории доходят до него случайно, а от самого Юргена ничего не слышно.
К тому же из Бельгарда и Сторизенда приходили и другие сплетни относительно того, что старшая дочь Мануэля, госпожа Мелицента, была помолвлена с королем Теодоретом, а накануне венчания исчезла из Пуактесма. А затем прослышали, что она живет в нехристианской роскоши далеко за морем в качестве – если вам угодно выразить это более изящно, чем сие делал Котт, – жены сына и убийцы Мирамона Ллуагора Деметрия.
– А почему бы и нет? – спросил Котт. – Почему бы смуглому парню курносого Мирамона не заводить себе девок, когда заблагорассудится? Отцеубийство – не препятствие для блуда. Это грехи, совершаемые абсолютно различным оружием. Между прочим, многие сыновья намерены сделать то, в чем он так преуспел. К слову сказать, как дон Мануэль, этот ваш знаменитый Спаситель, обошелся с собственным отцом, Пловцом Ориандром?
Его жена Азра поспешно объяснила, что это лишь часть самопожертвования и самоотречения великого Спасителя. Это искупление грехов и принесение в жертву своего единственного, любимого отца для того, чтобы загладить более крупные грехи Пуактесма…
– Заглаживать грехи одного человека, убивая другого, – ответил Котт, – это не искупление. Это вздор.
Но далее было пояснено, что сие искупление – великое и священное таинство. И в качестве такового к нему нужно подходить скорее с благоговением, чем с обычной рассудительностью. Однако это возвышенное таинство искупления без сомнения должно символизировать то обстоятельство, что для достижения совершенства Мануэль сбросил узы со своей плоти…
На это Котт сказал, задумчиво глядя на свою жену Азру:
– Я видел эту схватку. Он сбросил узы со своей плоти, а голову Ориандра с его плеч с таким удовольствием, какого Мануэль не выказывал ни в одном поединке. И многие сыновья такие же. Разве у нас нет сына? Почему ты продолжаешь мне докучать?
– Я лишь имела в виду…
– Прекрати мне противоречить! – Но очень быстро Котт добавил, словно что-то проглотив: – …моя дорогая.
Ибо Котт менялся. Он больше не охотился, он закрыл медвежью яму. Казалось, он предпочитает находиться в одиночестве. Азра частенько видела его развалившимся в кресле – ничего не делающего, а просто о чем-то думающего. И тогда он смотрел на нее диким взглядом, ничего не говорил. И она уходила от него, ничего не говоря, поскольку она тоже для собственного утешения обычно думала об их сыне.
Глава XXXII Всеразъедающее время
Затем достиг совершеннолетия Эммерик, и, как говорили, правление госпожи Ниафер закончилось, поскольку граф во всем подпал под влияние своего кузена, епископа Айрара Монторского – того самого, что впоследствии стал Папой Римским.
– Молодая церковная крыса выжила старую, – сказал Котт. – Теперь хромоножка Ниафер должна обходиться без ночника и спать без нимба на подушке.
Но верховенство Айрара длилось недолго, и, в конце концов, Святой Гольмендис оставался при дворе, поскольку как раз в это время худощавый Хольден Смелый появился в Сторизенде с красивой молодой сероглазой чужестранкой по имени Радегонда, которую он представил как вдову царя царей Эльфанора. Люди чувствовали, что этой Радегонде, пережившей мужа на более чем тринадцать веков, следует кое-что объяснить, но ни она, ни Хольден этих объяснений не дали.
История любви Радегонды и Хольдена описана повсюду, и на сей раз она останется нерассказанной. Но теперь, по истощении этой любви, Радегонда нашла благосклонность в жадных глазах графа Эммерика и вышла за него замуж. И впоследствии, в течение всей жизни Радегонды, никогда не ставился вопрос, что это за ветреная особа правит Пуактесмом и Эммериком. А Радегонда – после очень мило, но откровенно высказанной оговорки относительно божественного права князей, делающего их и их жен ответственными непосредственно перед Небесами, а больше ни перед кем, которую, в чем она была уверена, дорогой мессир Гольмендис прекрасно понял, – Радегонда благоволила Гольмендису и его чудодейственным реформам, затрагивающим интересы соответствующего класса людей, поскольку считала, что его нимб – чистое украшение, а практикующий святой при дворе придает этому двору, как она выразилась, должный вид.
Котт обо всем этом слышал. И он кивал огромной куполообразной головой с удовлетворением.
– О дереве можно судить по плодам. Сейчас в Англии длинноногий ублюдок дона Мануэля и королевы Алианоры вернул свою молодую жену в детскую. Сегодня он, как мне рассказали, – в типичной манере всех сыновей – пирует при иностранных дворах вместе с дочерью лорда Бальмера. Короче, он искренне намерен, пока бароны разворовывают его Англию, породить собственных ублюдков…
– Но ты тоже, муженек…
– Перестань затыкать меня своими разговорами на неуместные темы! В Филистии драгоценный отпрыск дона Мануэля и королевы Фрайдис использует в своих целях методы языческого беззакония и уже заточил в позорный Антан собственную мать, пожив с ней какое-то время в кровосмесительной связи…
– Тем не менее…
– Азра, у тебя выработалась, говорю для твоего же блага, скверная привычка перебивать людей, и эта привычка совершенно невыносима. О дереве, повторяю тебе, можно судить по плодам! Это общеизвестно. У нас в Пуактесме прирост семьи дона Мануэля пока дал двух проституток и обжирающегося рогоносца…
– Но даже при этом…
– Ты несешь вздор! О дереве, говорю тебе, можно судить по плодам! Я считаю, это рисует весьма красноречивую картину истинной природы нашего Спасителя.
Азра ничего не ответила. А Котт уставился, довольно-таки угрюмо, на свой девиз.
– Не то, чтобы я намеревался, – продолжил он вскоре, сумев превозмочь себя, – нагрубить тебе, моя дорогая. Но я ненавижу дураков, и в частности упрямых дураков.
Здесь также следует упомянуть, что в ночь бракосочетания Радегонды старый Хольден ощутил нестерпимое желание умереть. Все было совершено его собственной рукой, без чьей-либо помощи, но дело замяли. Таким образом, семейная жизнь графа Эммерика началась с намного меньшего скандала, нежели тот, что послужил ее кульминацией.
Котт и об этом тоже слышал. Взглянув на девиз, он вспомнил о любви, которую питал к Хольдену во времена, когда Котт еще кого-то любил. И слегка удивился, что Хольден в его возрасте все еще разделял заблуждение, что одна девка намного желаннее другой. В основном (думал Котт) у них лишь одно применение, для которого любая из них сгодится, если тебя еще интересуют подобные пустяки. Лично он становился все воздержаннее и чаще всего весьма раздражался, когда кто-нибудь из его вассалов женился, и ожидалось, что ольдермен Сен-Дидольский исполнит свой долг сеньора с новоиспеченной женой. Все повсюду приходило в упадок и вырождалось.
Даже великое Братство Серебряного Жеребца злоба и алчность времени неуклонно сводили на нет. Донандр Эврский оставался единственным из баронов Мануэля, который еще то и дело разъезжал по свету в поисках достойного поединка и красивых женщин. Лучшие же члены братства умерли и исчезли, остались лишь одни лицемеры и дураки (сдержанно оценил Котт). Ибо он да этот парень Донандр, по крайней мере, не были лицемерами…
И к тому же Котт частенько смотрел на свою жену Азру и вспоминал девушку, которой она была во времена, когда Котт еще кого-то любил. Она и сейчас ему весьма нравилась. Но ощущалась некоторая утрата в том, что у нее уже не было настроения ругаться, как в их счастливейшие дни. Уже более двух лет Азра не бросала в его сторону не то что по-настоящему возбуждающих колкостей, но даже тарелок. И Котт жалел глупую бедную женщину, ежесекундно беспокоящуюся об этом юном негодяе Юргене, который, как говорили, выдавал себя за поэта и – в компании, как кто-то слышал, одной великой герцогини – буйствовал по всей Италии, ни слова не написав родителям. Котта теперь вообще не волновала сыновняя неблагодарность. Не менее двадцати раз на дню он указывал жене, что лично он никогда и не думает об этом распутном бродяге.
Жена печально ему улыбалась. А когда старый Котт особенно бранился на Юргена, она молча гладила узловатую, крепкую, покрытую веснушками руку своего мужа или его напрягшуюся щеку или одаривала той или иной абсолютно непрошенной лаской, словно это нелогичное, разбитое горем существо думало, что у Котта какие-то неприятности. Хотя эта женщина никогда его не понимала…
Потом Азра умерла. И Котт остался один. Ему казалось странным, что тот Котт, который когда-то был бесстрашным героем, венценосным императором и равным соперником Высших Божеств, должен запереться в этой тихой комнате и плакать, словно маленький, испуганный, наказанный ребенок.
Глава XXXIII Расчетливость Котта
В последующие месяцы у Котта был вид расстроенного, сбитого с толку человека. Его слуги сплетничали, что он почти непрестанно беседует сам с собой. Но это, как говорили они, была бессвязная, нехарактерная для него болтовня без всякой ругани… Котт наконец-то почти бросил к чему бы то ни было придираться. Он был просто сбит с толку.
Ибо жизнь каким-то, пока не окончательно определенным образом его надула. Казалось невозможным, чтобы при повсеместно честной игре жизнь предоставляла бы тебе в качестве итога и окончательного урожая не более, чем вот это. Не оставалось никаких удовольствий: девушки, найденные именно для известных занятий, оставляли тебя совершенно холодным; от вина тебя рвало. Ныне ты хотел, словно на холодном кладбище желаний, лишь одного…
Однако сын Юрген, которого помнило и желало суровое сердце Котта, по-прежнему резвился в злачных и знаменитых местах этого мира, не собираясь терять время в застойном Пуактесме. И Котт весьма подозревал, что даже теперь, при этом болезненном, невообразимом одиночестве, вернись Юрген, уже редко гневающийся Котт набросился бы на мальчишку и выставил того за дверь.
Ибо таков путь Котта. У него лишь один путь… Теперь он задумался о том, что Юрген уже далеко не мальчишка. И, на самом деле, вполне возможно, что этот гуляка в оспинах и с засаленными волосами закончит свою жизнь с кинжалом чьего-либо мужа между ребер. Хотя последние сведения о Юргене гласили, что он пел песни в Византии при содействии некой беглой аббатиссы, у которой не было мужа. И, в любом случае, Юрген никогда бы не вернулся, поскольку Котт встал между юношей и плотоядной, горбоносой проституткой из Аша, о которой сообщалось, что по количеству партнеров в своих играх она побила рекорд бедной вдовы Керины Сараиды.
– Дерзкая пиратка в мужских делах; жалкая шлюпка, плавающая под «Веселым Роджером»! – таков был вердикт Котта, повторенный подслушивавшим пажом. – У этой мадам Доротеи в гостях побывало больше…– тут он начал мямлить, и кое-что утерялось, – чем деревьев в Акаире. А все деревья в Акаире ценятся по их плодам. Эта Доротея – весьма соблазнительный плод с буйно разросшегося дерева Спасителя. Эта Доротея унаследовала от дона Мануэля такую похотливость, которая вполне подходит воину, но не идет молодой женщине. Весьма жаль, что эта легкомысленная трясогузка, похоже, навсегда встала между мной и Юргеном.
Котт произнес эти слова без какого-либо гнева. Он просто был сбит с толку.
Ибо казалось, что все повсюду пропали и бросили его. Котт в свое время стал героем, но ни одно из тех далеких приключений, похоже, теперь не имело значения, да он и сам не мог полностью поверить, что все это произошло с усталым старым человеком, слоняющимся, бормоча что-то себе под нос, по уединенному Шато-де-Рош и поддерживающим в себе жизнь кашей-размазней и ячменным отваром. Эта трясущаяся хрупкая развалина, конечно же, не являлась тем Коттом, который одним ударом убил трех турков в Лакре-Кае и который похитил толстого Кипрского короля, а в Пиае на виду у двух армий повесил на терновник корону еще одного короля, и который сам был императором, и который удерживал Белую Башню в Скеафе от нападения компрачей, и который замечательно обхитрил влюбленную в него одноногую тиранку Ран-Райгана, и который участвовал в таком множестве других великолепных переделок.
В этих переделках присутствовал сонм женщин – прекрасных женщин, не прибегавших просто на свист, как эти белобрысые Доротеи, которых расплодили повсюду нынешние ханжеские времена, чтобы они вставали между отцом и совершенно беззащитным сыном. И ни одна из этих драгоценных женщин не имеет сейчас никакого значения… Кроме того, неверно сказать, что Юрген совершенно беззащитен. Юрген с самого начала был неистов и своеволен. Это тоже печально, но Юрген пошел в мать (размышлял старый Котт), а его мать всегда была неблагоразумна, как балуя, так и наказывая Юргена, а в итоге Юрген теперь представляет собой компендиум непотребства.
И к тому же тот Мануэль, которого любил Котт, теперь ушел и окончательно вытеснен из памяти всех людей блистающим надгробием в Сторизенде, где некоего Мануэля, который никогда не жил, почитают как бога. Однако это тоже не имеет значения. Это нелепо. Но весь мир нелеп. И ничего с этим не поделать усталому, бормочущему под нос старику.
Без сомнения, люди жили более тихо и более пристойно благодаря этому выдуманному Мануэлю, которого они любили и не без помощи изможденного велеречивого Гольмендиса, которого они боялись. Но для Котта это тоже не имело никакого значения. Люди ныне были такими дураками, что (как расценивал Котт) их поступки и плоды этих поступков равным образом были неважны. Если они преуспевали в проползании червями в рай, существуя здесь так же бездуховно, как черви, Котт не возражал, поскольку сам был приписан к аду и сообществу своих сверстников, живших в более мужественные времена.
Котт получал мало удовольствия от размышлений об аде и о прекрасных великих грешниках, которые уступят ему там место, зная того Котта, который когда-то жил, и о веселом, радушном пламени, в котором никому не будут докучать болтовней про их проклятого Спасителя всякие бесхарактерные людишки. А Мануэль – настоящий Мануэль, тот косоглазый, чванливый, седой подлец, чьи кражи, ублюдки и убийства несметны, – тот Мануэль также будет, конечно же, там. И они с Коттом превосходно повеселятся, обсуждая те реформы, которыми заманивают в рай бесхарактерных людишек, хотя и высокой ценой разрушения Пуактесма Коттовой юности.
Ибо прежние героические дни завершились. Из великого братства оставались, кроме являвшейся Коттом скорлупы, лишь Гуврич, Донандр и Нинзиян. Говорили, что Донандр Эврский сейчас находится в далеком Марабонском царстве, сочетая удовольствия рыцарских странствий с благочестивым паломничеством к могиле Святого Фомы. И хотя Котт всегда восхищался Донандром как своеобразной боевой машиной, в остальных отношениях Котт считал его жалким молодым идиотом, да и придерживаясь такого мнения в течение двадцати пяти лет, Котт не был готов его изменить. Нинзиян являлся елейным лицемером, нерешительным малым, который ограничил себя одним-единственным бедным и блеклым прелюбодеянием с женой ростовщика и который процветал в ханжеской атмосфере этого отвратительного времени, потому что теперь раболепствовал перед Гольмендисом точно так же, как прежде низкопоклонничал перед Мануэлем. Этого чопорного и осторожного Гуврича, которого люди называли Мудрецом, Котт всегда от всей души ненавидел. А когда Котт услышал – от кого-то, как он смутно припоминал, но чересчур хлопотно вспоминать от кого, – что старый Гуврич теперь тоже отбыл из Пуактесма, то и это, похоже, не имело значения.
Вероятно (рассуждал Котт), один из этих встревоженных с виду слуг рассказал ему, что Гуврич умер. Почти все умерли. И, так или иначе, в отношении Гуврича это не имеет значения. По-настоящему больше ничто не имеет значения…
Все, что Котт когда-либо любил, ушло из его жизни. Седой Мануэль, самый величественный и восхитительный из земных властителей (как бы часто этот человек ни нуждался в небольших искренних беседах для его собственного блага), и неуживчивый, мягкосердечный, благоразумный Мирамон, и учтивый Анавальт, и педантичный, добродушный Керин (который привык моргать, глядя на тебя, словно самый большой друг сов, прежде чем выдать свое мнение по какому-либо предмету), и Хольден – самый смелый среди бесстрашных, и ленивый, веселый Гонфаль, которому можно было даже разрешить, в определенных пределах, иронизировать над тобой, потому что Гонфаль был всемирно известным повесой, – все они ушли, самые дорогие товарищи, которых знал когда-либо любой воин, в то утраченное далекое время, когда члены Братства Серебряного Жеребца сотрясали землю лязганьем своих мечей и затмевали небеса дымом разграбленных городов и когда по всему миру люди рассказывали о чудесах, творимых этими героями под предводительством дона Мануэля.
И в небытие ушло к тому же множество великолепных женщин. Эти дни производят теперь лишь сплетниц Мелицент, да Доротей, да тому подобную дрянь. Сейчас нет таких женщин, как Азра, как Гуннхильда, как Муирна Болотная… или как пухленькая, пылкая, смуглая Уцума, или Оргелеза, та гордая владычица Кипра, которая, однако, под конец сдалась, или как Азра… И Котт, задумчиво пережевывая пустоту ввалившимся, беззубым ртом, думал также о великодушной госпоже Абонде, и о маленькой Флеретте, и об Азре, и о Кредхе, той веселой, хотя и чрезвычайно требовательной ирландской девушке, и о высокой Асгерде, и об Азре, и о Бар, той вероломной, но прелестной морской деве, и об Орианде, и о бедной Фельфель Расиф Иедуе, которая отдала все волосы с тела, а потом и жизнь, чтобы сохранить его жизнь, и об Азре.
Он вспомнил ту девушку, которой была Азра, и без всякой радости подумал о десятках других усладительных особ, которых Котт знал давным-давно. Все эти женщины ушли из жизни. Парочка из них, вероятно, еще делает вид, что выжила в отвратительной коже, похожей на сморщенные старые уродливые мешки, и в каком-нибудь темном углу, возможно, еще с трудом жует – ввалившимся, беззубым ртом, таким, какой и у него, – пустоту. Ибо пустота теперь их паёк. А тех любвеобильных, великолепных, пресыщенных, постоянно падающих в обморок девушек, которых Котт помнил в нескромных подробностях, сегодня больше уже нигде не существовало.
А Юрген, тот бесподобный ребенок, и тот свернувшийся калачиком мальчик, лепечущий свою детскую ложь о доне Мануэле, его вознесении на небо и другой вздор, чтобы избежать порки, и тот красивый, честный и прямой юноша, как раз вступивший в пору угрей, которому Котт так обрадовался, когда вернулся из Толлана и с трона Толлана, – его Юрген в дюжинах дюжин этапов роста – теперь все эти дорогие образы его сына ушли в небытие. Остался лишь беспутный и бессердечный прожигатель жизни, воющий рифмованный вздор и носящийся по свету – везде, где с ним нянчатся великие герцогини и аббатиссы. Котт взглянул на свой девиз.
Значит жизнь в пределе, когда все ценности жизни собраны и ты – уважаемый, процветающий ольдермен, сводится вот к этому. Ничего не дало то, что ты был нежным и внимательным отцом, или исполненным долга и много выстрадавшим сыном, который, правда, избил своего отца, когда последний раз уходил от него, но лишь после существенной провокации… или любящим и верным мужем в рамках человеческой неустойчивости, или бесстрашным героем, убивающим мускулистых противников, как мух, или даже императором, увенчанным тем странным мягким золотом Толлана и тащившим черных, разлагающихся богов по большим дорогам. В конце жизни ты, тем не менее, ссохшаяся скорлупа – без гордости, и без надежды на удовольствие, и без настоящего желания, живущего в тебе. И тебе вечно холодно, даже когда ты клюешь носом вот здесь у камина. И не с кем поговорить, кроме этих смущенных с виду слуг, которые никогда не подходят к тебе чересчур близко…
Если б у тебя только был сын, все могло бы быть по-другому… Тут Котт вспомнил, что, в сущности, у него где-то есть сын. Эта мысль мгновенно вылетела у него из головы. Но он очень стар, а старики все забывают. Да, красивый парень. И он вскоре придет ужинать – страшно опоздав на ужин, со шляпой, сильно сдвинутой на затылок, и в очень грязных башмаках – и Азра будет его распекать… Только Котту казалось, что Азра, или какая-то еще женщина, умерла. Жаль, но слишком хлопотно вспоминать все сожаления и всех умерших в этом мире. И еще хлопотнее старику удерживать эти утомительные вопросы у себя в голове. И, кроме того, все умерли. В мире существует конец всех приключений. И ничего с этим не поделаешь.
Но, по крайней мере, еще одно приключение предстоит тому Котту, который не мог достичь льстивых компромиссов с вымыслами, посредством которых жили дураки и сохраняли как дурацкую надежду, так и показушное удовлетворение. Ему казалось, что порой он был весьма груб с этими дураками. Но все это тоже закончилось. Они пошли своим путем, а он – своим. И когда это последнее приключение будет успешно завершено, ты можешь надеяться уютно обосноваться вместе с чванливыми и великодушными грешниками и расположиться не слишком далеко от того седого, косоглазого грешника, который был самым дорогим и восхитительным из земных властителей; и вечно оставаться с этими красивыми мошенниками среди веселого, бушующего пламени, в котором больше нет одиночества, и нет холода, и нет мелочных разговоров о том или ином Спасителе, несущем общее бремя, и где испуганные слуги больше не шпионят за тобой…
Герольды не возвестили об этом последнем приключении, ибо Котт умер во сне, пережив жену своей юности ровно на четыре месяца.
Книга Шестая В доме Силана
«А вам самим время – жить в домах ваших украшенных, тогда как Дом сей в запустении?»
Аггей, 1, 4Глава ХХХIV Что-то не так – почему?
Теперь рассказ о Гувриче Пердигонском, как правило, называемом Мудрецом, который после ухода Анавальта в Эльфхейм был главным из властителей Серебряного Жеребца, еще оставшихся в Пуактесме. И история рассказывает о том, как Гувричу Пердигонскому показалось, что что-то не так.
Ни на что конкретно он пожаловаться не мог. На самом деле, в Пуактесме не существовало барона более могущественного и почитаемого, чем Мудрец Гуврич. У него не было нужды волноваться по поводу каких-то выдумок о Мануэле, которые никак не влияли на благосостояние Гуврича Пердигонского, и он не вступал в противоречие с более степенным и религиозным порядком вещей, преобладавшим теперь в Пуактесме. Как бы эти времена ни были холодны, Гуврич приспособился к ним и замечательным образом процветал.
В качестве гетмана Ашского он по-прежнему владел, с такой же педантичностью, как и в золотые дни Мануэля, плодородным Пьемонтэ между рекой Дуарденес и Пердигоном. У него были деньги и два замка, жил он в красоте и роскоши, у него были благоразумие, знатное имя и самые лучшие виноградники в этих областях. У него имелись все причины гордиться высоким, преуспевающим сыном Михаилом, удручающе достойным молодым человеком, чьи чересчур обильные добродетели, с такой ревностью сформированные по образцу легенды о Мануэле, заставляли Гуврича рассматривать амурные дела жены Михаила (и дочери Мануэля) с тихим, далеким от восторга изумлением. А сам Гуврич ладил со своей женой так (льстил он себе), как любой мужчина мог только надеяться ладить, оставаясь глухим к ее словам, но явно этого не показывая.
Однако что-то, чувствовал чопорный и осторожный Гуврич, где-то было не так. Вещи, даже такие прозаичные и заурядные, как стул, на котором он сидел, или его собственные руки, движущиеся перед ним, становились порой сомнительными и какими-то отдаленными. Люди говорили более тонкими голосами, а их тела то и дело мерцали, словно были цветными парообразными призраками. Деревья в буйнорастущих лесах Гуврича порой вытягивались и утончались на ветру, как струйки дыма. Стены прекрасного дома Гуврича в Аше, а также и в его большой крепости в Пердигоне приобрели привычку, что с раздражением как-то заметил их консервативный владелец, сдвигаться на толщину волоса, когда на них не смотришь, и менять положения и углы так же неуловимо, как смещаются облака.
Нестабильность таилась повсюду. Без всякого предупреждения ставшие привычными лица исчезали из величественного домашнего хозяйства Гуврича. Оставшиеся рыцари и лакеи, казалось, не замечали этого, словно на самом деле не знали своих пропавших коллег.
И Гуврич обнаружил, что сказание, которое сложили и приукрасили под его присмотром уважаемые всеми местные барды, дабы сохранить для потомства славные подвиги и поучительные награды Мудреца Гуврича, уменьшалось в размерах и теряло выразительность. На следующий вечер та или иная строка, а то и целый абзац, необъяснимо пропадали, какое-нибудь яркое приключение теряло краски, а какое-нибудь славное достижение становилось менее четким. И возвышенные, неистовые деяния, в которых Гуврич принимал участие в качестве властителя Серебряного Жеребца, начали, в частности, становиться почти неузнаваемыми. В таком случае люди вскоре могли разувериться в том, что Мудрец Гуврич жил беспримерно героично и добропорядочно и каким-то непостижимым образом преуспевал во всем.
И это крайне раздражало Гуврича. Словно он или любое из его владений и человеческих связей превращались в фантомы. И рассматривать любую из этих метаморфоз казалось занятием малоприятным.
Гуврич крепко запер изнутри двери коричневой комнаты, в которой он уже долгие годы занимался магическими исследованиями и чародейством. Он выдвинул на середину стол, на крышке которого красовались надписи, начертанные знаками трех алфавитов. Он надел белое одеяние, на сморщенную шею повесил гирлянду из фиолетовой вербены, также называемой «травой креста». Из семи колец он выбрал – поскольку было воскресенье – золотое кольцо с хризолитом, на котором была выгравирована фигурка змея с львиной головой.
Когда это кольцо было подвешено над столом на рыжем волосе, выдернутом давным-давно из хвоста одной девственной мары, и когда должным образом была вызвана бледная Владычица Перекрестков, Гуврич зажег свечку, отлитую из жира сарацинских женщин и кормящих сук, и злое пламя этой свечки поднес к волосу. Рыжий волос со слабым злобным шипением загорелся; золотое кольцо упало и покатилось по столу – оно крутилось, оно вертелось, оно, блистая, двигалось между буквами трех алфавитов, проползая, словно пытаемый червь, от одной идеограммы к другой, и оно открыло Гувричу жуткую истину.
Силан, которого звали Хват-Без-Хребта, оказался с Гувричем не в ладах. И это не являлось обстоятельством, которым любой человек, одаренный рассудительностью и своекорыстием, мог позволить себе пренебречь.
Глава ХХХV Путешествие Гуврича
Определенно, Мудрец Гуврич, заботившийся о себе, не пренебрег этим обстоятельством. Чопорный и осторожный человек надел доспехи и поехал на восток за Мегариду. И он упорно двигался все дальше на восток, миновав Страну Вдов и страшный Остров Десяти Плотников. Потом у Колодезя Искандара Гуврич снял защитные доспехи. Он снял даже шлем, а вместо него надел головной убор из совиных перьев. Он миновал заоблачные безводные пастбища и стену Саманидов, а затем, натерев ноги коню лимонным соком, проехал безостановочно по широкому и мелкому озеру и вот так прибыл к Дому Силана. И сперва все шло достаточно хорошо.
Гуврич боялся, к примеру, что Норны запретят ему входить в это злосчастное место. Но когда он благополучно привязал красивого коня, на котором Гуврич больше уже никогда не скакал, то обнаружил, что седые пряхи не препятствуют ему. Они сказали, что никогда и не замышляли для Гуврича какого-либо будущего. И им было безразлично, отправится ли он вперед навстречу своей погибели или отважно вернется назад к жене.
– Но разве вы не прядете сказания и судьбы всех людей? – спросил он их.
– Только не твои, – ответила тощая Скульд, подняв на него бледные холодные и ясные глаза.
Гуврич, таким образом, миновал изможденных дочерей Двалина. И гордый человек двинулся дальше – обеспокоенный, но никем не задерживаемый. А в серой передней находились прародители Гуврича, развлекающиеся, каждый в причудливой манере прежних дней, и разговаривающие бесстрастными, увядшими голосами о стародавних временах.
Поскольку ни один из этих праотцев никогда не слышал и не думал о Гувриче, они не обратили на него ни малейшего внимания. Но их внешний вид почему-то его встревожил. У одного из этих незнакомцев был тонкий, с горбинкой нос Гуврича, а у другого – его длинные тонкие пальцы, а у третьего – его чопорный рот, а у четвертого – его превосходные широкие плечи. Гуврич мог различить, как все эти фрагменты его тела движутся необъяснимым образом по серой комнате. Он знал, что невидимо, но не менее реально, по этой серой комнате расхаживают его вкусы и врожденные отвращения – его маленькие дарования, слабости и устаревшие пристрастия: его математический талант, его склонность к рисованию, его способность быстро простужаться и его любовь к сластям и щедро приправленным блюдам.
Здесь была смешана всякая всячина, принадлежащая этим не обращающим на него внимания людям, и этой почти случайной смесью и являлся Гуврич. Эта мысль была унизительна. Он подумал, что ведь в этой серой комнате находится еще один Гуврич, только этот другой Гуврич не целен, а двигается отдельными фрагментами. Эта мысль показалась такому крайне эгоцентричному человеку, как Гуврич, весьма неутешительной.
Поэтому Гуврич миновал своих праотцов. Без промедления гордый человек чопорно прошествовал мимо этих никчемных людей, случайные интрижки которых сотворили его и дали ему жизнь и все его превосходные качества и которые не посоветовались относительно его пристрастий и даже вовсе не думали о нем.
Глава ХХXVI Предписанный враг
Он подошел к двери, рядом с которой сидел, дремля над косой, мрачный кастрат. Гуврич отважно схватил его за чуб и дернул, вынудив угрюмого стража вскрикнуть от боли:
– Достаточно!
– Для времени достаточно значит достаточно мало, – сказал Гуврич, – а если ты достаточно мал, я могу благополучно пройти, не убивая здесь время. И несомненно, я так и поступлю, потому что тратить время значит продлевать жизнь.
– Давай-давай, – проворчал древний страж, – но эти цирюльничьи вольности и эти дурацкие речи кажутся мне весьма странными…
– Время, – ответил ему Гуврич, – в конце концов все уравняет.
Затем Гуврич обошел старого евнуха против движения солнца и так вошел в комнату, оклеенную черными с серебром обоями. А в этом помещении находился маленький, прекрасного телосложения, мальчик с кристальным неподвижным взглядом змея.
Мальчик поднялся и, отложив в сторону жезл, на котором цвели черные маки, каждый с серебристым сердечком, сказал Гувричу:
– Необходимо, чтобы ты возненавидел.
При виде этого незнакомца Гуврича объял необъяснимый, неистовый восторг. И, осенив себя знамением Речного Коня и Письмен Ло, он спросил у этого мальчика его имя.
Но тот лишь ответил:
– Я – предписанный тебе враг. Между нами существует извечная ненависть. И если б наши тела встретились, мы бы стали сражаться как героические соперники. Но что-то здесь не так: наши сказания извращены, а наши души пойманы в ловушку Дома Силана, и наши жизни истощаются.
– Давай, давай же, мой враг! – воскликнул Гуврич. – Ненависть – раз ты говоришь мне, что это ненависть, – бьет в меня как в барабан. И я хотел бы, чтобы мы с тобой могли сразиться!
– Этого произойти не может, – ответил мальчик. – В Доме Силана я являюсь лишь фантомом. Я живу в качестве новорожденного в Дании, я пока еще дремлю в пеленках и в этот миг вижу сон о предписанном мне враге. Однако в жизни, которая есть сейчас у тебя, ты никогда не отправишься в Данию. А когда я вырасту, и буду в состоянии держать в руках меч, и замысливать, как навлечь на тебя беду, и окружать тебя со всех сторон непристойными извращениями, тело, которым ты владеешь сейчас, у тебя отнимут.
– Очень жаль, – сказал Гуврич, – ибо за всю свою жизнь, даже в суровые старые времена превознесенного ныне Мануэля… конечно же, я имею в виду, что хотя и обладал привилегией участвовать в земных трудах Спасителя, за всю свою жизнь я до сего дня никого не презирал. Некоторых людей я просто не любил, примерно так же, как не люблю холодную телятину или мух – без настоящей страсти. И зачастую эти люди были мне полезны, так что посредством сдержанной лести и несущественной лжи я поддерживал хорошие отношения. Но теперь я понимаю, что на протяжении всей жизни, в которой ближние мне рукоплескали и завидовали, я нуждался в некоем возбуждающем противнике, чтобы возвеличить свою жизнь страстным и героическим отвращением.
– Знаю, дорогой противник! И я так же знаю, что вся жизнь, которой я сейчас обладаю, должна истощиться из-за неутоленной тоски по предписанному мне врагу. Но вскоре дела пойдут намного лучше, если мы выберемся из Дома Силана!
– Ого! – громогласно произнес Гуврич. – Я отсюда вовсе не выбираюсь. Наоборот, я только вошел сюда и иду в самую сердцевину этого злосчастного места. И ты должен пойти со мной.
Но паренек покачал своей прелестной, с озлобленным выражением лица, головкой.
– Нет, Гуврич. Теперь, когда, как мне сказали, Силан вот-вот станет человеком, в сердцевине Дома Силана обнаружатся жалость и ужас. А они должны навсегда остаться для меня неведомыми.
– Но почему? – спросил Гуврич. – Какая нужда в том, чтобы эти катарсические средства, крайне высоко ценимые Аристотелем, оставались, в частности для тебя, неведомыми?
– Ох, – ответил мальчик. – Это тайна. Я знаю лишь одно: предписано – и предписано, коли на то пошло, во имя Элохима, Мутратона, Адоная и Семифора, – что мой жезл, так как он впервые был поднят в Гоморре, должен обладать совершенно иными добродетелями, чем жезлы Иакова и Моисея.
– Ах, в Гоморре! Так ведь именно в этом порочном городе в долине Иордана, мой милый мальчик, впервые обошлись без жезла! Все понятно. А разве этот жезл нельзя использовать… вот так?
И Гуврич показал сдержанным, но красноречивым жестом, что он имел в виду.
Паренек бесстрашно все ему объяснил.
Глава ХХХVII Слишком много ртов
И Гуврич покинул предписанного ему врага. А у следующей двери сидел в подавленном настроении человек с неважным, судя по цвету лица, пищеварением, в венце и старом саване, согнувшийся, словно от боли, над надгробием с очень тонко выгравированным гербом, именем, родословной и титулами Гуврича Пердигонского. Лишь дата и причина кончины Гуврича пока отсутствовали. Венценосный труженик отложил в сторону резец и подобострастно улыбнулся Гувричу.
– В действительности, я должен быть более осторожен, – заметил этот страж, охая, ерзая и тряся лишенной плоти головой, но по необходимости все время улыбаясь, поскольку у него не было губ. – Понимаете, мне предписано не знать меры в своей диете. Я должен есть как овец, так и ягнят. А потом я обнаруживаю, что от смерти нет лекарств.
Не выразив сочувствия, Гуврич вынул из кармана горсть монет и выбрал среди талеров и пистолей недавно отчеканенную марку. Эту монету он подал стражу, и мастер надгробий с любовью принял сверкающую марку. Затем Гуврич обошел против движения солнца и этого стража. А когда царь ужасов был таким образом обманут, Гуврич вошел в следующую комнату. Сладкий, острый и тяжелый запах проник вместе с Гувричем и пристал к нему, напоминая благоухания бальзамирующих снадобий.
Обои в этой комнате были белые с золотом. И в этой комнате толстый обнаженный мужчина с одной лишь митрой на голове молился девяти богам. Он поднялся и, отряхнув пыль с покрасневших коленей, сказал Гувричу:
– Необходимо, чтобы ты уверовал.
– Я хочу уверовать, – ответил Гуврич. – Однако когда я спрашиваю… В общем, вы знаете, что всегда происходит.
– Таково, мой дорогой заблудший сын, праведное наказание за грешное любопытство. К нему нужно, в равной мере, прибегать и его бежать. Главное же – верить.
Гуврич весьма уныло улыбнулся под своим головным убором из совиных перьев. Он сказал, будто бы следуя знакомому ритуалу:
– Почему я должен верить?
На руках, груди, животе – повсюду на теле обнаженного мужчины в митре раскрылись красные, точь-в-точь как настоящие, рты, и каждый рот отвечал на вопрос Гуврича по-разному, и пока все они говорили одновременно, ни один из ответов невозможно было разобрать. Гуврич смог различить в этой сумятице голосов лишь некий пискливый лепет о Спасителе Мануэле. Затем рты закончили говорить, закрылись и стали невидимыми. Мужчина в митре теперь казался похожим на любого другого благожелательного, изрядно упитанного господина средних лет и с виду уже не был ужасен.
– Вот видите, – сказал Гуврич, пожав плечами. – Видите, что всегда происходит. Я спрашиваю, и мне отвечают. Затем под впечатлением этих необычайных явлений меня обычно подташнивает. Но я, тем не менее, не знаю, в какой из ваших бесчисленных ртов я должен иметь веру и какой подкупить, чтоб он мне улыбался и предрекал только хорошее.
– Это вообще не имеет значения, сын мой. Тебе лишь нужно верить по твоему выбору в любое божественное откровение относительно того, что несравненный Спаситель придет завтра, и тогда ты станешь жить счастливо и безбедно и больше не будешь фантомом в Доме Силана.
– Ого! – сказал Гуврич. – Но это же вы фантом, а не я!
Призрак с минуту молчал. Затем он тоже пожал плечами.
– Ни одна вера не интересуется мирскими мнениями относительно таких несущественных и чисто личных вопросов.
– Я, – указал Гуврич, – не думаю, что этот вопрос существен. В любом случае, все ваши рты отвечали мне с одинаковой убежденностью и громкостью. В результате я не понял ничего, сказанного ими.
– Да ну?! – удивленно воскликнул толстый мужчина в митре. – Это порой случается, как мне рассказывали, когда Силан с кем-то не в ладах. Но лично я держусь подальше от Силана – теперь, когда Силан вот-вот станет человеком, поскольку подозреваю, что в сердцевине Дома Силана пребывает нечто слишком жалкое и слишком ужасное, справиться с чем ни один мой рот не поможет.
– Я ничего не знаю о вашей помощи в подобных или каких-то иных делах, – ответил Гуврич. – Но я знаю, что даже если вы не пожелаете меня сопровождать, я намерен противопоставить магии Силана свое чародейство; и мы очень скоро увидим, что из этого выйдет.
Глава XXXVIII Предписанная возлюбленная
У следующей двери сидел свирепый и ревнивый разрушитель с ущербным нимбом вокруг почтенной, семитской формы головы. Верхняя часть его тела напоминала янтарь, а нижняя – светилась, словно от тусклого огня. Он казался одиноким и несказанно изнуренным. Он без всякой любви взглянул на Гуврича и сказал:
– Ахих ашр ахих.
– Ни одно божество не смогло бы выразить свои чувства прекраснее, сударь, – ответил Гуврич. – Я чту это обстоятельство. Тем не менее, я заметил ваше число: 543.
Затем Гуврич опять-таки против движения солнца обошел этого стража, совершив полный круг.
– Иссахар – осел с крепкими членами, – рассудительно сказал Гуврич. – Он преклонил плечи для ношения бремени. Однако ему присуще хождение по кругу.
С этими словами Гуврич двинулся дальше. А вокруг Гуврича теперь мерцали бледные ореолы, ибо в этот миг он находился очень близко к Богу и к ступням пристало сияние Божьей славы.
По комнате с розово-зелеными обоями разгуливали белые голуби, клевавшие ячмень. Посреди комнаты какая-то женщина сжигала на новеньком земляном блюде фиалки и лепестки белых роз. Она с улыбкой поднялась, оставив это занятие. И ее прелесть не являлась следствием лишь цвета и формы, как бывает сплошь и рядом в материальном мире. Скорее, эта прелесть была светом – живым и добрым.
Удивительная женщина начала, как и все:
– Необходимо…
– Мне кажется, сударыня, нет никакой необходимости объяснять, какие человеческие способности вы призовете меня применить.
Гуврич сказал это с галантной фривольностью, но, однако, не без душевного трепета.
Некоторое время женщина почему-то печально разглядывала его, а потом спросила:
– Значит, ты меня не помнишь?
– Странно, сударыня, – ответил он, – очень странно, что я должен мучительно вспоминать ту, которую до сего дня никогда не видел. Ибо я потрясен старыми ужасными воспоминаниями, я встревожен величием прежних потерь, которые никогда не возместить, в тот самый миг, когда я не могу – хоть убей! – сказать, что это за воспоминания и что за потери.
– Ты любил меня… не один, а много-много раз, предписанный мне возлюбленный.
– Я любил множество женщин, сударыня… хотя я, конечно же, всячески избегал скандалов. И было весьма отрадно любить женщин, не раздразнивая предрассудки их признанных и законных владельцев. Это позволяет сочетать физические упражнения с духовными. Но происходящее сейчас далеко не восхитительно. Наоборот, я напуган. Я стал соломинкой, несомой широкой рекой. Мне не доставляет никакого удовольствия подобное времяпрепровождение. То, что оказалось сильнее, чем я мог себе вообразить, мчит меня к тому, о чем я не ведаю.
– Знаю, – ответила она. – Время от времени так с нами и бывает. Но что-то стало не так…
– А произошло то, сударыня, что Силан оказался не в ладах со мной и жаждет, как сообщила мне моя дактиломантия, пары вещей, которыми я владею.
– Силан вот-вот станет человеком. Поэтому-то твое сказание извращено, и это причина того, что ты пойман как фантом в ловушку Дома Силана…
– Эх, значит вы, сударыня, тоже прогоняете меня как фантома!
– Как же, конечно, ведь ни одно тело не может войти в это злосчастное место! Тело, которое есть у меня сегодня, предписанный мне возлюбленный, принадлежит очень старой женщине в Катае, клюющей носом среди множества детей и внуков и грезящей о любви, в которой эта жизнь мне отказала. Это прыщавое и сморщенное тело цвета гниющего яблока. А тела, которыми мы сейчас обладаем, никогда не смогут встретиться. Поэтому наша жизнь истощается, и жизни, которыми мы сейчас обладаем, должны остынуть, как разлитый кипяток. И этому сейчас не поможешь – сейчас, когда Силан с тобой не в ладах.
– Я иду противопоставить его магии свое чародейство, – решительно сказал Гуврич.
– Ты идешь, мой дорогой, встретиться лицом к лицу с самым жалким и ужасным из всего, что только есть на свете! Ты идешь навстречу своей собственной погибели!
– Тем не менее, – сказал Гуврич, – я иду.
Однако он по-прежнему смотрел на эту женщину. И тонкие, четко очерченные губы Гуврича непрестанно двигались. Он вздохнул. Он повернулся и молча пошел дальше. Его лица не было видно под головным убором из совиных перьев, но его широкие плечи слегка опустились.
Глава XXXIX Оставшийся необойденным страж
У следующей двери лежал огромный белый жеребец. И когда Гуврич приблизился к этой двери, она отворилась. Из-за коричневой портьеры вышел двусмысленный молодой человек по имени Горвендил, с которым Гуврич, время от времени, имел важные отношения в течение сорока лет своих занятий чародейством.
Жеребец поднялся, прежде чем Гуврич смог его обойти против движения солнца, и величаво ушел прочь. А Горвендил задумчиво смотрел вслед благородному животному.
– Он тоже, – сказал Горвендил, – расхаживает здесь как фантом. Разве не жаль, Гуврич, что этот самый Калки придет не в наши дни и что мы никогда не узрим его полновесной славы? Я плачу по тому Калки, который однажды вернет на предписанные им места возвышенную веру, горячую любовь и ненависть и который присмотрит за тем, чтобы человеческие страсти всегда находили надлежащее выражение в речах и деяниях. Я громко плачу по Калки! Маленьких серебряных фигурок, которые кандидаты в его орден создают и почитают, вполне достаточно. Но Калки – конь иной масти.
– Я пришел в это отвратительное место не за тем, чтобы говорить о конях и кошмарах, – ответил Гуврич, – но чтобы принять участие в борьбе со злом, замысливаемым неким Хватом-Без-Хребта, который со мной не в ладах и который извратил мое сказание.
Горвендил на мгновение задумался. Он сказал:
– Значит, после стольких лет вы по собственной воле пришли на Восток, точно как я и предрекал, чтобы встретиться лицом к лицу с самым жалким и ужасным из всего существующего?
Гуврич ответил весьма настороженно:
– Я не могу позволить, чтоб извращали мое сказание.
Тут Горвендил заявил:
– Тем не менее я считаю, что из-за сказания любого властителя Серебряного Жеребца не стоит ссориться. Ваши сказания в конечном счете все должны быть извращены и поглощены великой легендой о Мануэле. Неважно, как вы будете бороться против этой легенды, она все равно победит. Неважно, как вы поступали и страдали в жизни, мой обреченный Гуврич, ваше сказание все равно будет переправляться до тех пор, пока во всем не станет сообразным легенде, порожденной воображением испуганного заблудившегося ребенка. Ибо люди не смеют встречаться лицом к лицу со Вселенной, опираясь лишь на собственные силы. Все живущие, все, кто волей-неволей бродит по этому миру, словно потерявшиеся, заблудившиеся дети, защитник которых еще не пришел, имеют жизненную потребность верить в эту поддерживающую их легенду о Спасителе. И ничья порочность и глупость не одолеют глупость и фальшивый оптимизм всего человечества.
– Эти афоризмы, – признал Гуврич, – возможно, разумны; возможно, ценны; возможно, даже обладают неким рациональным зерном. Но в любом случае они не оправдывают того, что моя жизнь перевернута вверх дном и целиком перемешана каким-то распутным, бесстыдным силаном, у которого нет даже скелета.
Горвендил ответил:
– Не вижу никакого изъяна в вашем образе жизни. Вы главный среди баронов Эммерика – теперь, когда обглоданные кости Анавальта покоятся в Эльфхейме, у вас есть богатство, а власти – намного больше, чем у самого Эммерика, теперь, когда ваш сын зять Эммерика, а бедный Эммерик женат на некой вдове. Вы уважаемый чудотворец, и вы, в самом деле, после смерти Ллуагора непревзойденны в своем искусстве. И вы также, как мне рассказывали, обладаете заслуженной репутацией благодаря мудрости и учености – теперь, когда Керин спустился под землю. Чего еще можно требовать?
– Я требую большего, нежели подобная предусмотрительность и вторичное превосходство. – Гуврич странным образом казался отчаявшимся. Говорил же он теперь голосом, который ни в чем не был чопорным и осторожным: – Я требую человека, которого могу ненавидеть; священника, которому могу верить; и женщину, которую могу любить!
Но Горвендил тряхнул рыжими кудрями и усмехнулся несколько кривовато:
– Преуспевающие люди, мой бедный, благополучный Гуврич, не могут позволить себе такой роскоши. И они по ней тоскуют. Я-то знаю. Силан тоже является, по-своему грубо и наивно, преуспевающей личностью. Сейчас он почти человек. Поэтому он лелеет фантомы, и подозреваю, эти фантомы потревожили вас своей бессмысленностью, поскольку хорошо известно, что одни лишь иллюзии обитают в коридорах этого злосчастного места, куда могут войти только фантомы.
– Однако я же сюда вошел, – указал Гуврич.
– Да, – уклончиво ответил Горвендил.
– А сейчас я вхожу, – заявил Гуврич, – в самую сердцевину этого места, чтобы противопоставить магии Силана свое чародейство.
Глава XL Расчетливость Хвата-Без-Хребта
Затем Гуврич сходным образом вошел в следующую дверь. И вот так, со светящимися ступнями и в сопровождении запахов похоронных снадобий, Гуврич попал в комнату, в которой находился Силан. Хват-Без-Хребта спокойно поднял голову от своей писанины. Хват ничего не сказал, он просто улыбнулся. Воцарилась полная тишина.
Гуврич заметил одну странную вещь: в этой комнате были коричневые обои, книги и картины, показавшиеся знакомыми. А потом он понял, что эта комната во всем напоминает коричневую комнату в Аше, в которой он многие годы занимался магическими исследованиями и чародейством; и что в этом злосчастном месте, несмотря на все его тяжелые путешествия через Страну Вдов, страшный Остров Десяти Плотников, высокую Стену Сасанидов, здесь он по-прежнему видел в хорошо известных окнах знакомую страну вокруг Аша и сверкающую реку Дуарденес, а за ней длинную Амнеранскую равнину и дремучий Акаирский Лес. И Гуврич увидел, что у этого самого Хвата-Без-Хребта, сидящего тут, улыбаясь Гувричу, под головным убором из совиных перьев лицо пожилого мужчины, долгое время просиживавшего в этой комнате; и что Хват-Без-Хребта ничем не отличается от Мудреца Гуврича.
Гуврич заговорил первым. Он сказал:
– Это сильная магия. Это нравоучительная магия. Меня предупреждали, что здесь я встречусь лицом к лицу с собственной погибелью, что здесь я встречусь с самым жалким и ужасным из всего сущего. И столкнусь здесь с тем, что сам я сделал в жизни, а жизнь из меня. Я содрогаюсь. У меня в голове проносятся самые страшные мысли. Тем не менее, сударь, я должен высказать предположение, что простая и ясная аллегория как форма искусства в чем-то непристойна.
Хват-Без-Хребта ответил:
– Что у меня может быть общего с формами искусства? Я нуждался в форме из плоти и крови. Мне необходимо было человеческое сказание из самой что ни на есть безжалостной пряжи Норн. Мы, силаны, обладаем властью и привилегиями, но не являемся детьми какого-либо бога. Так что, когда мы проживаем дозволенные нам века, мы должны погибнуть, если не можем исхитриться стать людьми. Поэтому я мучительно нуждался во всех человеческих неудобствах, чтобы душа, сдобренная карами и гнетом, смогла пустить во мне росток и сумела, при соблюдении правил игры, сохраниться в вечном блаженстве и никогда не погибнуть, как погибаем мы, силаны.
– Все слышали эти общеизвестные факты о вас, силанах, – нетерпеливо ответил Гуврич, – и твою кражу, таким подлым образом, моих собственных, особенных человеческих качеств я считаю недопустимой…
– Да-да, – сказал Хват с неким удовлетворением, – это сделано посредством редчайшей магии, причем сильной магии, для которой нет противоядия.
– Это мы посмотрим! Ибо случившееся со мной несправедливо…
– Конечно, – подтвердил Хват. – Судьба, теперь оказавшаяся твоей, не честнее моей вчерашней судьбы – справедливо ли погибнуть как сорняку или старому коту?
– …И поэтому я пришел сюда противопоставить мое непревзойденное чародейство твоей вздорной магии и заставить тебя возвратить мне украденное…
– Я не возвращу тебе, – заявил Хват, – ничего. А взял я все. Твое сказание теперь мое сказание, твои замки – мои замки, твой сын – мой сын, а твое тело – мое тело. Внутри этого тела я намерен жить добродетельно, умерщвляя плоть и подавляя страсти, в течение хотя бы десяти лет. А потом это тело умрет. Но к тому времени душа пустит во мне росток, бессмертная душа, которую, можешь быть уверен, я сохраню незапятнанной, поскольку я, по крайней мере, знаю, как ценить такую достойную собственность. А когда твоя могила станет моей могилой, эта душа, конечно же, вознесется к вечному блаженству.
– Но что, – презрительно сказал Гуврич, – если я не соглашусь с тем, что у меня украли спасение, гарантированное шестьюдесятью годами благополучной и добропорядочной жизни? И что, если я заставлю тебя?..
– Думаю, что в твоем случае не нужно говорить о принуждении кого бы то ни было. Да это и не всецело моя заслуга, что твой дом теперь является Домом Силана. Эгоцентричный и самодовольный человек, у тебя не оказалось больше ни сил, ни настоящих желаний, а осталось лишь множество мелких привычек. Вообще ничего прочного не осталось по-настоящему твоим, даже тогда, когда я впервые распространил свою магию. Да, а потом ты стал легкой добычей. И человеческие качества, которые ты удерживал так слабо, очень легко ускользнули от тебя, так долго жившего без любви, ненависти и веры. Ибо на протяжении этого чересчур беззаботного житья сила и желание вытекли из тебя, и вся твоя жизнь истощилась. Мне лишь пришлось завершить это истощение. И следовательно, – Хват сделал весьма изящный жест длинными тонкими пальцами Гуврича, – следовательно, ты расхаживаешь в качестве фантома.
Гуврич воочию увидел эту прискорбную истину. Он увидел, что существовала лишь легкая сероватая дымка, сквозь которую он без помех смотрел на знакомый ковер; что теперь он колебался и колыхался посреди этой комнаты, где в течение многих лет проводил свои исследования без намека на достижение подобного парения. Однако ничего не изменилось. Гуврич Пердигонский сидел на прежнем месте – за дубовым столом с медными уголками, занимая свое привычное место, – вполне материальный, чопорный и осторожный; настолько энергичный, насколько только было возможно в его возрасте; почитаемый и состоятельный, и требовать от его положения большего в том смысле, в каком люди оценивают процветание, было нельзя.
И дальнейшая жизнь Гуврича протекала совершенно размеренно: со всеми удобствами, и рукоплещущими повсюду людьми, и отсутствием предосудительных и всевозможных эмоциональных крайностей. Именно с этого уравновешенного и достойного положения в жизни бесчестный Силан собирался сместить Мудреца Гуврича; и оставить Гуврича просто фантомом, вещью, такой же преходящей и сомнительной, – и конечно же, можно сказать, такой же свободной, и похотливой, и нестареющей, – какой сущность Силана была всего лишь вчера… Ибо эти отвратительные грабители и похитители девушек не утрачивали энергичности, не старели и не уставали. Вместо этого, когда пробивал назначенный час, они просто исчезали…
– Ну и ну! – сказал Гуврич; теперь он мерцал в сидячей позе, готовый к общению. – Такого рода лишение всех человеческих качеств неожиданно, своевольно, плачевно и так далее. Но нам следует, даже когда все потеряно, сохранять присутствие духа…
Силан позволил ему говорить…
И Гуврич продолжил:
– Итак, тебя не разубедить, и ты решил, ценой возможного конфликта между моим чародейством и твоей магией, оставить меня невоплощенным ни во что рассудком! Однако ты, без сомнения, предпочитаешь собственный рассудок…
Силан позволил ему говорить…
Но Гуврич приостановился. Ибо рассудок Силана, в конце концов, сделал Хвата способным достичь – каким-то незаконным методом – всего возможного, чего здравый разум мог искать в области успеха, удовольствия и будущей известности, после того как Хват-Без-Хребта вознесется к вечному блаженству, гарантированному благополучным и добропорядочным прошлым. Рассудок Силана добыл ему самое лучшее, на что только мог надеяться любой человек. Таким образом, не было ни малейших оснований, благодаря которым человеческое существо могло непочтительно относиться к рассудку Силана… Разве только то, что эти силаны, всегда такие прискорбно похотливые и проворные, никогда не утрачивали энергичности, не старели и не уставали. Они никогда, разве что по собственному желанию, не становились отвратительными, чопорными старыми педантами. Вместо этого, когда пробивал назначенный час, они просто исчезали…
– …Ибо ваш рассудок кажется мне весьма ужасной разновидностью рассудка, – продолжил Гуврич, – и у меня нет сомнений, что ваша магия того же пошиба. Мое слабосильное чародейство не имело бы шансов в борьбе против такой магии и такого разума. О, боже мой, нет! Поэтому я признаю свою беспомощность, мессир Хват, не оседлывая игривого и высокого коня благородного негодования. Я избегу неподобающего пререкания между коллегами-художниками. И, прося вас возвратить мне привычные награды за бережливое, добродетельное и во всех отношениях успешное существование, я могу уповать лишь на ваше милосердие.
– Я, – сказал Силан, – им не обладаю.
– На это я надеялся…– тут Гуврич кашлянул, – Тоска, острая тоска, сударь, лишает меня надлежащего контроля за речью. Ибо я, конечно же, намеревался сказать, – Гуврич продолжил на более трагичной ноте, – что на это я надеялся тщетно! Теперь исчезла всякая надежда. С этих пор вы человек, а я лишь непочитаемый никем смутный Силан! В общем, все это ужасно, но полагаю, ничего нельзя поделать.
– Ничего нельзя поделать, если вы предпочитаете не добиваться кое-чего худшего с помощью этого чародейства.
Гуврич был уязвлен.
– И это происходит между коллегами-художниками! – заявил он. – О, нет, дорогой Хват, такого рода открытое, показное соперничество, ради чисто материальных выгод, всегда кажется прискорбно вульгарным.
– Тогда, если вы меня извините, – почтительно сказал Силан, подражая вежливой манере Гуврича, когда тот имел дело с незначительными людьми, – я прошу прощения, что не могу продолжать эту весьма приятную беседу. Вероятно, как-нибудь в другой раз… Но я действительно сегодня утром очень занят. И кроме того, сюда в любую минуту может зайти ваша жена, чтобы позвать меня обедать.
– Не буду назойливым. – Парообразно поднявшись, Гуврич улыбнулся с вновь возникшим оттенком сочувствия. – Ужасная женщина, вы это скоро обнаружите! И, Господи, как молодой Гуврич ее обожал! Сегодня она является одной из бесчисленных причин, приводящих меня к вопросу: будет ли ваше одушевление совершенно счастливым при нависших над вами небесных удовольствиях. Понимаете, она несомненно отправится на небеса. И Михаил тоже… Знаете, по-моему, вы также найдете Михаила большим занудой. Он ожидает слишком многого от своего отца, а когда эти ожидания окажутся под угрозой, он посмотрит на вас, точно обиженная, надменная корова! Теперь именно вам придется жить с его представлениями и представлениями этой излишне доверчивой, раздражительной, глупой женщины, и именно вы будете волноваться из-за вездесущего ощущения, словно что-то предано и потеряно!.. Но вы будете жить, тем не менее, в соответствии с их идиотскими представлениями! И не сомневаюсь, что, как вы и говорите, гнет и кары пойдут вам на пользу.
Силан твердо ответил:
– Бедный, неглубокий, недоученный, эгоистичный дурак! Именно эта любовь и гордость, их вера и ревность скрывают ваши недостатки, именно эти вещи, над которыми вы так глумитесь, сотворят во мне душу!
– Без сомнения…– Тут Гуврич поспешно продолжил искренним, одобрительным тоном: – О да, мой дорогой коллега, в этом нет никакого сомнения! И я уверен, вы обнаружите, что родовые муки вознаградятся. Небеса, как мне все говорят, очаровательное местечко. Между тем, если вы не против, всего минуту прошу вас не кривить мое лицо так неподобающе, пока я здесь. Видеть, что праведные размышления и добропорядочное нетерпение вместе с фривольностью могут сделать из моего лица, и часто делали из моего лица, – размышлял вслух Гуврич, роскошно выплывая из знакомого окна, словно дым, – даже сейчас немного унизительно. Но это значит, что самые благотворительные уроки неизменно и самые шокирующие.
Глава XLI Удовлетворительные последствия
Таким образом, истинный Гуврич стал неведом людям. А поддельный Гуврич собрал бумаги, снял головной убор из совиных перьев и начал переодеваться к обеду…
Жена и сын Гуврича с того времени наслаждались его чуткостью и сердечностью. И все заметили еще одно чудо: Гуврич Пердигонский с возрастом перешел от холодной сдержанности в вопросах религии к весьма активной благотворительности и набожности. Легенда о Мануэле теперь нигде не имела более пламенного приверженца и пропагандиста, поскольку Хват питал свою развивающуюся душу всевозможными религиозными удобрениями. Да и его доброта не ограничивалась разговорами о ней самой: праведные деяния Хвата были многочисленны и чрезвычайно щедры, так как у него было все, чего только можно достичь, и при серьезной материальной собственности Гуврича он мог позволить себе быть весьма великодушным.
Старый господин, таким образом, стал первым любимцем Святого Гольмендиса. И именно Хват, в то время когда старый товарищ Гуврича Керин Нуантельский вернулся в Пуактесм, помогал Гольмендису обращать Керина к великой легенде о Мануэле.
Короче говоря, Хват жил неузнаваемым в теле Гуврича и сохранял его в состоянии добродетельности, поскольку благоденствующий дворянин после шестидесяти лет является предметом нападок крайне малого количества искушений, которые нельзя удовлетворить тихо и без скандала. Он умер с гарантией на блаженное воскрешение, которого, без сомненья, достиг.
Что касается истинного Гуврича, то о нем совершенно ничего определенного не было известно. Однако отмечалось, что впоследствии в течение многих лет некий любовный демон инкогнито разгуливал по холмам за Пердигоном. Девушки из Вальнера и Огда сообщали, что присутствие этого демона можно определить по трем приметам: во-первых, он источал сладостный и довольно пикантный запах, весьма похожий на запах снадобий бальзамировщика; во-вторых, было замечено, что в сумерках подошвы у него светятся. Третий неизбежный знак его нахождения поблизости они, краснея и хихикая, открыть отказались.
Книга Седьмая Желание Сараиды
«…Ни одно из них не преминет придти, и одно другим не заменится…»
Исайя, 34, 16Глава XLII Огдские обобщения
Дальше история рассказывает, что зимой, после встречи Гуврича с Силаном, в Пуактесм вернулся Керин Нуантельский, чтобы стать еще одним новообращенным приверженцем великой легенды о Мануэле. Рассказывают также и о том, как впервые люди узнали, почему и как Керин ушел из Пуактесма.
А посему история возвращается к очень древним дням, в май месяц после кончины Мануэля, и повествует о том, что Керину Нуантельскому показалось, будто он понимает свою третью жену не лучше, чем предыдущих. Но несмотря на этот, вероятно, неизбежный недостаток семейной жизни, он тогда жил вполне благополучно со своей Сараидой, которую многие называли ведьмой, в ее пользующемся дурной славой восьмиугольном доме неподалеку от сухого Огдского Колодезя. Это был серый дом с соломенной крышей, в изобилии поросшей дикими цветами и мхом. На коньке крыши свила гнездо чета аистов. А сам дом стоял в зарослях бузины.
Место было тихое и спокойное, и в нем, по мнению Керина, двое людей вполне могли жить безмятежно – теперь, когда распущено Братство Серебряного Жеребца и со славными походами юного Керина под знаменем дона Мануэля покончено навсегда. Сам Керин, мягкий и вечно щурящийся, не сожалел об исчезновении Мануэля. Этот человек неизменно заставлял всех сражаться, будь то с монголами, или с норманнами, или с Отмаром Чернозубым, или со старым подозрительным Склаугом, или с Мануэлевым отцом, слепым Ориандром. Такая жизнь не оставляла времени на какие-либо культурные мероприятия. Керину нравилось сражаться – в умеренных пределах – с людьми, заслужившими признанную репутацию. Но Керин, после четырех лет разъезжания по всем краям земли по приказу неугомонного Мануэля, невыносимо устал от убиения незнакомцев, которые ни в коей мере Керина не интересовали.
Поэтому ему казалось облегчением избавление от Мануэля и полученная возможность еще раз жениться и обосноваться в Огде, в восьмиугольном доме под сенью бузины. Однако, даже в такой прелестной тиши, подчеркивает история, третья жена Керина еженощно беспокоилась, а следовательно, беспокоила и мужа из-за великого множества непостижимых вопросов.
О происхождении Сараиды здесь нечего сказать полезного и пристойного. Достаточно заявить, что сомнительные родители дали этой самой Сараиде талисман, с помощью которого опознавалась истина, когда обнаруживалось что-то похожее на нее. И прежде всего Керин не мог до конца понять в своей жене ее постоянных жалоб на то, что она так и не отыскала истину о чем бы то ни было, а в частности истину относительно самой себя.
– Я существую, – обычно говорила она мужу, – и я, в основном, такая же, как и другие женщины. Следовательно, эта Сараида несомненно является природным феноменом. А в природе, по-видимому, все предназначено для той, или иной, или еще какой-то цели. На самом деле, после беглого осмотра молодой женщины, известной под именем Сараида, неизбежно делается вывод, что такое совмещение красоты, ума и страсти, красок, ароматов и нежности далеко не случайно; и что это сочетание с усердием создано, чтобы служить какой-то цели. И я хочу узнать об этой цели.
А Керин отвечал:
– Как тебе угодно, моя дорогая.
Так что юная Сараида, которую многие называли ведьмой, искала из ночи в ночь желаемое знание в широком и разнообразном окружении – у священнослужителей, купцов, поэтов и злодеев; и пробуждала в своем талисмане все цвета, кроме того единственного золотого свечения, который бы объявил о нахождении истины. Этот чистый, нежный желтый луч, как она объяснила Керину, должен вызываться только в ночное время, поскольку днем его сияние можно не заметить, и ощущение истины будет потеряно.
Керин, во всяком случае, мог понять здравый смысл этих рассуждений. Так что юная Сараида, неустанно ободряемая своим любящим мужем, продолжала свои ночные изыскания.
– Не унывай, женушка, – обычно увещевал ее Керин, как он увещевал ее одним распрекрасным весенним вечером, – ибо женщины и все присущее им, без сомнения, имеют какое-то предназначение, которое вскоре будет открыто. Между тем, моя драгоценная, что у нас сегодня на ужин? Ибо этот вопрос, что ни говори, действительно важен…
Но Сараида лишь сказала в своей шустрой и непоследовательной детской манере:
– О Керин, властелин моего сердца, я так хочу узнать истину обо всем этом и обо всем остальном!
– Полно-полно, Сараида! Давай не отчаиваться в отношении этой истины. Ибо, как мне рассказывают, истина лежит где-то или на дне морском, или на дне колодца, а в сущности, у дверей нашего дома находится довольно симпатичный, хотя и давно высохший колодец. Наше местоположение, таким образом, вполне благоприятно, надо лишь набраться терпения. А истина, рано или поздно, выплывет на свет божий, как мне обещают, – возможно, из тьмы этого самого заброшенного Огдского Колодезя – потому что истина могущественна и, рано или поздно, восторжествует.
– Несомненно, – сказала Сараида. – А все это долгое время, мой Керин, ты лишь будешь высказывать подобные мысли!
– …Ибо истина диковиннее вымысла. Да и, как говорит нам Лактантий, однажды истина изойдет даже из уст Дьявола.
Сараида поежилась. А ее ангельские уста раскрылись в зевоте.
– Истину нелегко найти, – продолжил любимый ею Керин. – К истине трудно подстроиться: у роз и истины есть шипы.
– Вероятно, – сказала Сараида. – Но против банальностей у замужней женщины никогда нет защиты.
– Однако истина…– продолжил Керин, по-доброму ее подбадривая, – может зачахнуть, но никогда не погибнет. Исидор Севильский увековечивает прекрасное изречение: хотя злоба может затмить истину, она не в силах ее погасить.
– Дорогой супруг, – сказала Сараида, – порой я нахожу тебя настолько мудрым, что диву даюсь, как сподобилась выйти за тебя замуж!
Но Керин скромно отмахнулся от ее признания.
– Просто я тоже восхищаюсь истиной. Ибо истина – наилучший щит. Истина не стареет. Истина, говоря словами Тертуллиана, не прячется по углам. Истина заставляет краснеть самого дьявола.
– Господи Иисусе! – сказала Сараида и совершенно без повода топнула ножкой.
– …Так что всем, в каком угодно окружении, следует быть верными истине, что я сейчас и делаю, моя крошка, замечая, что уже давно прошло время нашего обычного ужина, а у меня сегодня был весьма тяжелый день…
Но Сараида покинула его, будто бы в задумчивости, и направилась к каменному ограждению большого и бездонного Огдского Колодезя.
– В этих общих замечаниях насчет дьяволов, щитов и времени ужина я нашла лишь одно, которое, вероятно, может оказаться полезным. Истина лежит, говоришь ты мне, на дне колодца – как раз такого, как наш.
– Это утверждают и Клеант, и насмешник Демокрит.
– Значит, истина может и не лежать, как ты предположил, на дне именно этого колодца? Ибо одна Жар-Птица знает истину обо всем, а я припоминаю древнюю легенду про то, что птица, обладающая истинной мудростью, обычно гнездится в этой части Пуактесма.
Керин перегнулся через ограждение огромного и бездонного Огдского Колодезя, всматриваясь в его глубины.
– Я считаю невероятным, дорогая женушка, что Жар-Птица, повсюду известная как самая мудрая и самая древняя из всех птиц и вообще среди всех живых созданий, выбрала бы для гнезда такую безрадостную на вид дыру. Все же этого нельзя сказать с полной уверенностью. Мудрость любит глубину. А известно, что этот колодец превосходит по глубине человеческие знания. Природа, как сообщает нам Цицерон, «in profundo veritatem penitus abstruserit…»
– Господи Иисусе! – вновь сказала Сараида, но с более сильным ударением. – Тогда слазай туда, как добрый малый, и добудь для меня истину.
Сказав это, она хлопнула его обеими руками по спине и столкнула мужа в огромный и бездонный Огдский Колодезь.
Глава XLIII Молитва и девы-ящерицы
Неожиданность случившегося – как выходки Сараиды, так и потрясающего открытия, что можно упасть с высоты в сотни и сотни эллей, не получив даже ссадины, – несколько смутила Керина, когда он оказался на дне сухого колодца. Он радостно крикнул:
– Женушка, я ни чуточки не ушибся! – поскольку это обстоятельство казалось ему чрезвычайно счастливым и необъяснимым.
Но тут же вокруг него начали падать камни, словно Сараида, услышав его голос, стала в отчаяньи швырять эти камни в колодец. Керин подумал, что это весьма оригинальный способ подстрекания на поиски знаний и истины, поскольку пылкость Сараиды, выраженная посредством булыжников, неизбежно привела бы к его гибели, не отыщи он проем, который по счастью имелся в южной стене. Действительно, трудно понять этих женщин, выходящих за тебя замуж, размышлял Керин, пока полз какое-то время на четвереньках до расширения проема, где он смог выпрямиться в полный рост.
Но этот проход вскоре привел Керина к подземному озеру, заполнявшему всю пещеру, так что он не рискнул идти дальше. Вместо этого он присел к самой кромке мрачных и бесконечных вод. Он видел эти воды благодаря множеству блуждающих огоньков – тех, что называют еще «кладбищенскими свечками», – которые мерцали и плясали повсюду над темной поверхностью озера.
В такой гнетущей обстановке Керин начал молиться. Он лояльно отдал первенство разному вероисповеданию и прочел сначала все молитвы своей церкви, которые только смог вспомнить. Он обращался к таким святым, которые казались ему наиболее подходящими для данного случая, а когда после живейшего описания затруднительного положения Керина шестнадцать святых не смогли заметным образом вмешаться в это дело, Керин попробовал обратиться к Ангелам, Серафимам, Херувимам, Престолам, Господствам, Силам, Властям, Началам и Архангелам.
Однако позднее, когда ни один из членов небесной иерархии не удостоил его ответом, Керин сделал вывод, что падая он, без сомнения, сошел во еретические области и в гнусные владения нехристианских божеств. Поэтому теперь он молился всем ненавистным языческим богам, которых мог вспомнить как самых могущественных в таких темных местах. Он молился Аидонею Несмеющемуся, Всеполучающему, Собирателю Людей, Непобедимому и Отвратительному; неумолимым Керам, этим самым ужасным обитательницам пещер, питающимся кровью убитых воинов; мрачным странницам Эриниям, Седым Девам, Похитительницам Трупов; а наиболее горячо – Коре, этой сокрытой и весьма прелестной девушке в трауре, которой принадлежал, как говорили, весь сумрачный подземный мир.
Но ничего не произошло.
Затем Керин направил свои молитвы в новые мишени. Он обратился к Сусаноо, императору тьмы, который обычно порождал детей, пережевывая меч и выплевывая его куски; к Экчуа, Черному Старику, который, по крайней мере, ничего не жевал своим единственным зубом; к Марутам, возникшим из частичек разбитого божественного зародыша; к Оннионту, громадному, рогатому желто-бурому змею, чье логово вполне могло находиться неподалеку; к Тетре, еще одному владыке подземных царств; а также к Апопу, и Сету, и Серкет, Предводительнице Скорпионов; и Камасоцу, Правителю Летучих Мышей; Фенриру, волку, ожидавшему в какой-то пещере, очень похожей на эту, грядущего времени, когда Фенрир сбросит и проглотит Всемогущего Бога-Отца; Сраоше, который управляет всеми мирами в ночное время.
Но по-прежнему ничего не произошло. И Керин видел лишь бесконечные воды, а над ними монотонный танец блуждающих огоньков.
Керин, тем не менее, хорошо знал, будучи верным сыном Церкви, действенность молитвы. И теперь он начал, как следствие, молиться блуждающим огонькам, поскольку те могли, как рассудил он, являться божествами в этом весьма гнетущем месте. И Керин испытал значительное облегчение, когда после пары молитв некоторые из этих парящих огней поплыли к нему. Но его удивление еще более усилилось, когда он увидел, что каждая из «кладбищенских свечек» представляет собой живое существо, во всем похожее на крошечную фосфоресцирующую девушку, кроме головы ящерицы.
– Какова ваша природа? – спросил Керин. – И что вы делаете в этом холодном и темном месте?
– Если б мы ответили на любой из этих вопросов, – сказала одна из маленьких страшилок пронзительным голоском, будто разговаривал сверчок, – для вас это было бы хуже всего.
– Тогда, пожалуйста, не отвечайте! Вместо этого расскажите мне, можно ли найти поблизости знания и истину, ибо именно их я и ищу.
– Откуда мы знаем? Мы попали сюда не по своей воле и не за тем, чтоб заниматься подобной роскошью!
– Тогда как отсюда выбраться?
Тут они все защебетали разом, порхая вокруг Керина и пища:
– Отсюда нельзя выбраться.
Керин не воскликнул в раздражении, как сделала бы Сараида: «Господи Иисусе!» Вместо этого он сказал:
– Боже мой!
– Да мы и не хотим покидать это место, – сказали маленькие женщины-ящерицы. – Эти воды удерживают нас здесь темной прелестью рока. Мы впали в постоянную немилость этих вод. И страх не позволяет нам их покинуть. Человеку не представить жестокость этих вод. А пока мы танцуем, мы все время думаем о тепле и еде, а не об этих водах.
– А что, у вас здесь нет ни еды, ни тепла, даже нет серы? Ибо я помню, что там наверху, в Пуактесме, наши священники обычно пугали…
– Нас больше не волнуют священники. Но своего рода бог обеспечивает нас предназначенной нам едой.
– Вот-вот, так-то намного лучше. Ибо, как я толь ко что говорил жене, после весьма тяжелого дня ужин – жизненно важный вопрос… Но кто этот бог?
– Не знаем. Мы лишь знаем, что у него девятнадцать имен.
– Мои дорогие дамочки, – сказал Керин, – ваша информированность оказывается такой ограниченной, а ваш блеск таким всецело материальным, что я не решаюсь спросить, не знаете ли вы, по какому поводу звучит тот далекий гонг, который я слышу?
– Звуки гонга означают, сударь, что предназначенная нам еда готова.
– Увы, мои дорогие подруги, но совершенно невыносимо, – заявил Керин, – что пища находится на том берегу темного озера, а я, перенесший весьма тяжелый день, нахожусь на этом.
– Нет, нет! – уверили они его. – Это не невыносимо, ибо мы, по крайней мере, не против этого.
Тут писклявые маленькие создания улетели от Керина, порхая, паря и мерцая над широкими водами, казавшимися отталкивающе холодными и ужасно глубокими. Тем не менее, Керин в отчаяньи – теперь, когда ни один бог не ответил на его молитву и даже блуждающие огоньки бросили его, а с Керином в темноте оставался лишь сильный голод, – поднялся и бросился резко как ныряльщик, в эти недружелюбные с виду воды.
Результат оказался неожиданным и довольно болезненным: как оказалось, эти воды были глубиной не более полуэлля. Керин встал, чувствуя себя глупо, мокрый с ног до головы, потер лоб и побрел вперед по широкой мелкой луже, о которой не было нужды заботиться какому-либо богу.
Керин, таким образом, без помех добрался до суши и до места, где сияющее скопление женщин-ящериц принялось уже нечто кусать, грызть и глотать. Керин, поняв природу предназначенной им пищи и содрогнувшись, поскорее миновал это место и пошел к свету, который он обнаружил впереди на уровне чуть выше собственного роста.
– Ужин, – заметил он, – вопрос жизненно важный. И, в самом деле, всему есть предел.
Глава XLIV Прекрасное радушие Склауга
Как оказалось, Керин в темноте поднимался по лестнице из девятнадцати ступенек. Так он попал в громадный серый коридор, по левой стене которого располагалось девятнадцать ниш. Каждая ниша была заполнена книгами, а рядом с каждой нишей стояла зажженная, довольно высокая свеча толщиной с туловище жеребца. И удивлению Керина не было предела, когда он обнаружил у первой ниши того самого Склауга, с которым, что не без удовольствия вспомнил Керин, он имел столько хлопот и великолепных рыцарских поединков, прежде чем несколько лет тому назад этот Склауг был убит и старательно сожжен.
Тем не менее, этот старый подозрительный господин находился здесь, целый и невредимый, без устали ползая по-волчьи на четвереньках, что он любил делать и раньше. Но, издав удивленное рычание, он выпрямился. И потирая длинные тонкие руки, пальцы которых соединялись перепонками, как на лапах лягушки, Склауг спросил, что привело Керина в глубины подземного мира.
Керин же в этот миг чувствовал себя чуточку неловко, поскольку совершенно не знал, какому этикету нужно следовать при встречах с личностями, которых до этого убил. Однако Керин всегда был готов, как никто другой, забыть старые обиды. Поэтому он откровенно рассказал свою историю.
Тогда Склауг обнял Керина и радушно его принял. И Склауг смеялся тоненьким, непринужденным, похожим на ржание смехом пожилого человека.
– Что касается происшедшего в Лорче, дорогой Керин, не думайте больше об этом. Тогда в некотором отношении это было действительно весьма неприятно. Но, в конце концов, вы сожгли мое тело, не вбив предварительно мне в бунтарское и изобретательное сердце осиновый кол, и поэтому с тех пор мне не занимать забав. А что касается знаний и истины, которые вы ищете, то все знания здесь, в этих книгах, которые я охраняю в данной Нараке – в промежутках между своими небольшими забавами – для своеобразного бога.
Керин почесал затылок под жесткими на вид, черными кудрями и начал осматривать этот коридор.
– Ничего не скажешь, книг огромное количество. Но Сараида, по-моему, желала, насколько я мог ее понять, получить все знания.
– Давайте заниматься вещами по мере их сложности, – ответил Склауг. – Сперва приобретите все знания, а потом уж надежду на понимание.
Затем учтивый старик подал Керину белое вино и ужин, намного более приятный, нежели ужин блуждающих огоньков. И положил перед Керином одну из книг.
– Давайте сначала поедим, – сказал Керин, – ибо ужин, в любом случае, жизненно важный вопрос, тогда как знания и истина могут обернуться всего лишь женской причудой.
Они поужинали. Затем Керин, после весьма тяжелого дня, уселся поудобнее и принялся читать.
Книга, данная Керину, являлась книгой, написанной патриархом Авраамом на семьдесят первом году жизни. И вскоре Керин поднял голову и сказал:
– Я уже узнал из этой книги одну вещь, которая является несомненно истинной.
– Вы быстро продвигаетесь вперед! – ответил Склауг. – Очень хорошо!
– В общем, – признал Керин, – таков один способ описания предмета. Но, без сомнения, другие вещи в равной мере истинны. А оптимизм, так или иначе, ничего не стоит.
Глава XLV Обобщения гусака
Так для Керина началась привольная жизнь. Девятнадцать свечей постоянно, как и в первый раз, равномерно освещали огромный прямой коридор, горя, но не сгорая и не дымя, и с них даже не нужно было снимать нагар. И Керин пробирался от одной свечи к другой, прочитывая в каждой нише все книги до единой. Когда Керин уставал, он ложился спать. Пока он бодрствовал, он все свое время отдавал приобретению знаний. У него не было ни необходимости, ни возможности отличать дневные занятия от ночных.
Склауг периодически уходил, а возвращаясь, приносил Керину еду. Склауг приходил, как правило, с губами и подбородком, испачканными кровью. Когда Склауг отсутствовал, Керину оставалось довольствоваться компанией словоохотливого крупного гусака, жившего в коричневой клетке.
К тому же иногда появлялись необычные существа, многие из которых были непохожие на людей, но только во время отлучек Склауга, – которого они, похоже, по той или иной причине недолюбливали, – и они вызывали гусака, платили ему, и в результате следовали некие церемонии. Чересчур занятый Керин, конечно же, не мог тратить много времени, предназначенного для чтения, на эти орнитомантические и, вероятно, языческие обряды. Однако он переносил подобные перерывы философски, поскольку, на худой конец, как он рассудил, они на какое-то время прекращают страшно слащавое и весьма отвлекающее пение гусака.
И вот так прошло несколько лет. И Керину никто не мешал, кроме гусака. Эта никчемная птица настойчиво и с глупым, заслуживающим осуждения шармом самоутверждалась своим пением; и поэтому постоянно прерывала добывание Керином знаний гусиными рапсодиями о красоте, тайне, святости, героизме и бессмертии, и о других разнообразных ненаучных материях.
– Ибо жизнь изумительна, – любил замечать гусак, – и земным чудесам нет конца.
– В общем, я бы так не сказал, – ответил Керин, добродушно поднимая голову от книги, – поскольку за последнее время геология сделала большой рывок вперед. Так что, мессир Гусак, я бы этого не сказал. Скорее, я бы сказал, что Земля – это планета, кишащая фауной, лучше всего приспособленной для выживания на данном этапе существования планеты. Во всяком случае, я давным-давно покончил с землей и со всеми обычными земными феноменами, такими как землетрясения, образование континентов, подъем островов, а также со звездами, метеоритами и всеобщей космографией.
– И из всех существ человек самое изумительное…
– Изучение антропологии, конечно же, важно. Благодаря этому я и узнал все про человека: про его рождение и устройство, его изобретения и занятия искусством, про его государства в целом и про влияния звезд, которые управляют гороскопом и действиями каждого человека как индивидуума.
– …Дитя бога, брат животных!..
– В общем, теперь я тоже ставлю под вопрос научную ценность зооморфизма. Однако допускаю, что факты из жизни животных весьма интересны. Например, существует две разновидности верблюдов; возраст оленя можно определить по его рогам; период беременности у овец равняется ста пятидесяти дням; а на хвосте у волка есть маленький пучок волос, являющийся лучшим приворотным зельем.
– Вы каталогизируете, бедный Керин, – сказал гусак. – Вы коллекционируете обрывки знаний: так сорока собирает блестящие камешки. Вы трудитесь, двигаясь от книги к книге, так же методично, как червь прокапывает свои ходы. Но вы не узнаете ничего за то потерянное время, когда уходит ваша молодость.
– Наоборот, я в этот самый момент и узнаю все что нужно, – ответил Керин. – Я узнаю о разновидностях камня и мрамора, включая известняк, песок и гипс. Я узнаю, что художниками, превзошедшими других в скульптуре, были Фидий, Скопас и Пракситель. Последний, как я к тому же только что узнал, оставил сына по имени Кефисодот, унаследовавшего отцовский талант и создавшего известную прекрасную «Группу борцов».
– Вы и ваши борцы, – сказал гусак, – глубоко абсурдны! Но время – царь борцов, и оно уже готовится схватиться с вами.
– На самом деле, эти «Борцы» совсем не абсурдны, – ответил Керин. – А доказывает это тот факт, что они уже давно являются особой достопримечательностью Пергама.
На этом гусак отстал от Керина и, немного пошипев, сказал:
– Отлично, каталогизируйте и дальше факты о Пергаме, рогах оленя и планетах! А я буду петь.
Керин какое-то время смотрел на своего сокамерника с кротким неодобрением, а затем сказал:
– Однако я каталогизирую истины, которые доказаны и гарантированы. Но вы, живущий в коричневой клетке, запрятанной глубоко под землей в этом сером коридоре, вы не можете обладать информацией из первых рук относительно красоты, тайны, святости, героизма и бессмертия, вы подвигаете людей на дела, в которых несведущи, и вы поете о рвении и восхищении, и кроме всего прочего о будущем, о котором вы не можете ничего знать.
– Вполне может статься, что поэтому-то я и пою об этих вещах так трогательно. И в любом случае, я не стремлюсь копировать природу. Наоборот, я творю для собственного развлечения такие мечты и верования, которые, существуя среди людей, приводили бы к разрушению. А так поклонники покидают меня, опьяненные моей могущественной музыкой. Они храбро шагают по этому серому коридору, и они лишены страха и мелочности. Ибо воздействие моего пения, как любого великого пения, заключается в наполнении моих слушателей чувством их значительности как высоконравственных существ и величия их судеб.
– Но, – сказал Керин, – но я давным-давно покончил с различными учениями о нравственности, и теперь я, как уже говорил, занимаюсь петрологией. Да я и не стану прекращать обучение до тех пор, пока не приобрету всех знаний и всех истин, которые смогут удовлетворить мою Сараиду. А она, мессир Гусак, чрезвычайно проницательная женщина, для которой ваши романтические иллюзии не имеют ни малейшего значения.
– Ничто, – ответил гусак, – ничто во вселенной не имеет значения и не существенно для любых серьезных ощущений, кроме романтических иллюзий. Ибо человек – единственное животное, которое обезьянничает в отношении своей мечты. Эти аксиомы – бедный, глухой и слепой расточитель! – тем не менее стоят того, чтобы их процитировать.
– Да и они, подозреваю, – сказал Керин, – цитируются не часто, будучи сущей ерундой.
На этом он вернулся к книгам, а гусак возобновил пение.
И так прошло еще много лет. Наверху родилась и расцветала легенда о Мануэле, и перед лицом ее превозвышения шумные, суровые, грубые и веселые времена, которые знал Керин, медленно уходили из Пуактесма, чтобы никогда не вернуться. Наверху правил граф Эммерик – достаточно бездарно, но, по крайней мере, с заметной склонностью к справедливости, милосердию и доброте, навязанными ему легендой, – там, где дон Мануэль правил согласно своей собственной воле. Наверху госпожа Ниафер и Гольмендис строили повсюду монастыри и богадельни; и теперь начинали мало-помалу преследовать с помощью весьма безжалостного чародейства фей, демонов и всех остальных неортодоксальных духов, исконно живших в этом крае; и начали к тому же искоренять и людей-еретиков, которые тут и там проявляли такой недостаток патриотизма и религиозной веры, что ставили под вопрос легенду о Мануэле и даже само запредельное будущее Пуактесма.
Необходимость заниматься этим огорчала Ниафер и Гольмендиса, а также ограничивала часы их досуга. Но тем не менее, будучи трезвомыслящими филантропами, они честно смотрели в лицо требованиям справедливой веры в любой уже открытой религии, согласно которым все неверующие должны рассматриваться, в любом случае, как пропащие и им нельзя позволять жить и дальше, разве что в качестве источника загрязнения и захламления бессмертных душ остальных людей.
Между тем гусак превозносил романтические иллюзии, а Керин все читал. Его глаза, покуда Керин удобно сидел в кресле, пропутешествовали по миллионам и миллионам страниц. И за исключением страшно слащавого и весьма отвлекающего пения гусака, Керину ничто не мешало, и ничего не волновало его, кроме усиливающейся с возрастом немощности.
Глава XLVI Выход Керина на белый свет
Затем старый Склауг сказал Керину, выглядевшему уже намного старше, чем сам Склауг:
– Пришло время нам с вами распрощаться с учением. Ибо вы прорыли себе, как червь, ход сквозь все здешние ниши, и вы прочитали все написанные когда-либо книги. А я увидел, что сила, сгубившая меня, уничтожена. Я отправлюсь в другую Нараку. А вы, всеведущий Керин, должны теперь вернуться в мир людей.
– Хорошо, – согласился Керин, – потому что, в конце концов, я очень долго отсутствовал дома. Да, это действительно неплохо, хотя я буду сожалеть о расставании с книгами того бога, о котором вы мне рассказали… и которого, между прочим, я еще не видел.
– Я сказал – своеобразный бог. Должен заявить вам, что ему не поклоняются ни ученый, ни тупица. Однако! – Склауг продолжил после крохотной паузы. – Однако мне интересно, нашли ли вы в этих книгах знание, которое искали.
– Полагаю, да, – ответил Керин, – потому что я приобрел все знания.
– А отыскали ли вы к тому же истину?
– О, да! – сказал Керин, говоря теперь без колебаний.
Керин снял с полки самую первую книгу, которую дал ему Склауг, когда Керин был еще молод, – книгу, написанную на коре дерева с помощью божественного сотрудника патриархом Авраамом, когда ужасная тьма пала на него в дубраве Мамре. Книга эта объясняла мудрость храма, различные слова, приносящие удачу, семь способов нарушения неизбежного хода событий и одну вещь, являющуюся несомненно целиком истинной. И Керин открыл эту книгу на картинке, изображающей старого голого евнуха, отхватывающего косой ноги обнаженному юноше, все тело которого покрывало множество небольших ран; затем перелистнул ее, попав на картинку, изображавшую распятого змея; и, пожав плечами, отложил книгу.
– …Оказывается, – сказал Керин, – что, в конце концов, лишь одна вещь несомненно истинна. Я нигде не нашел иной истины. И эта единственная истина, открытая нам здесь, есть истина, за пренебрежение которой в своих более широко читаемых произведениях патриарха никто не станет винить. Тем не менее, я переписал все слово в слово на этот клочок бумаги, чтобы показать его дорогим ясным очам моей юной жены, обрадовав их.
Но Склауг ответил, не глядя на протянутый листок:
– Истина не имеет значения для мертвых, которые покончили со всеми начинаниями и не могут ничего изменить.
Затем он попрощался с Керином. И Керин отворил дверь, через которую Склауг обычно выходил на поиски своих скромных забав. И в тот же миг дверь исчезла, а Керин оказался один в сумрачном, опустошенном зимой поле, касаясь пальцами уже не медной ручки, а только холодного воздуха.
Вокруг него поднимались лишенные листьев заросли бузины, а менее чем в двадцати шагах от Керина находился Огдский Колодезь. А за полуразвалившимся каменным ограждением, добрую половину которого кто-то спихнул в колодец, в зимнем полумраке он увидел восьмиугольный серый дом, где когда-то жил с юной Сараидой, которую многие называли ведьмой.
Глава XLVII Расчетливость Сараиды
И мимо зарослей бузины Керин двинулся к своему дорогому дому. Он увидел, как в двери серого дома появилась тень какого-то человека, а затем она проследовала в полумраке по правую руку от Керина. Но у двери стояла в ожидании женская фигура. И Керин, по-прежнему идя вперед, ноябрьскими сумерками вновь пришел, таким образом, к Сараиде.
– Кто этот человек? – первым делом спросил Керин. – И что он тут делает?
– Разве это так важно? – ответила ему Сараида без вскрика или какого-либо другого признака удивления.
– Да, по-моему, важно, что голый мужчина с красным сиянием вокруг тела уходит отсюда в такой час посреди зимы, ибо это может вызвать большой скандал.
– Но его же никто не видел, Керин, кроме моего мужа. И определенно, мой муж не захотел бы поднимать скандал вокруг моего имени.
Керин почесал седую голову.
– Да, – сказал Керин, – это кажется разумным и согласуется с наилучшими из моих знаний. А слово «знания» напоминает мне, Сараида, что ты послала меня на поиски знаний о том, для чего людям дана жизнь, чтобы в свете этих знаний ты смогла бы должным образом распорядиться своей молодостью. В общем, я решил твою проблему, и ответ таков: «Никто не знает». Ибо я приобрел все знания. Со всем, что когда-либо знал какой-либо человек, я теперь знаком – от медицинских свойств коры аабек до фактов биографии мифического царя Яяти. Но я нахожу, что ни один человек никогда не знал, с какой целью ему дана жизнь, да и каким намерениям он может посодействовать или помешать своими передвижениями по земле и воде.
– Я припоминаю, – сказала теперь Сараида, будто слегка изумившись. – Я хотела однажды, когда была молода и когда на мне задерживался взгляд всякого мужчины, я хотела знать истину обо всем. Однако истина, в действительности, неважна для молодых, которые и так счастливы и которые, во всяком случае, не обладают ни проницательностью, ни властью, чтобы что-то изменить. А теперь все это кажется мне странным и незначительным. Ибо ты ушел давным-давно, мой Керин, и я прожила много лет со множеством случайных друзей, покуда ты там внизу получал величайшие знания от птицы, которая обладает истинной мудростью.
– О какой такой птице ты говоришь? – спросил Керин в недоумении. – О да, теперь я тоже припоминаю! Но, нет, это не имеет ничего общего с той старой сказкой, моя дорогая, и в Огдском Колодезе нет Жар-Птицы. Вместо нее там прекрасная научная библиотека. И все знания я приобрел там и, таким образом, решил твою проблему. Но это не конец истории. Ибо ты хотела получить не просто знания, но также и истину. И поэтому я отыскал для тебя одну вещь, которая – будучи высказана, согласно божественному сотруднику Авраама, в мгновение чрезвычайной и, полагаю, похвальной искренности – несомненно истинна. И эту истину я тщательно переписал для тебя на этот клочок бумаги…
Но действительно, трудно понять этих женщин, посылающих тебя на рискованные и довольно-таки продолжительные поиски. Ибо Сараида прервала его без малейшего признака восхищения и удовлетворения или хотя бы гордости за мужнины подвиги, что показалось бы вполне естественным, сказав:
– Для пожилых людей истина неважна. Какой толк от этой истины тебе или мне теперь, когда все годы нашей молодости прошли и в жизни ничего нельзя изменить?
– Вот так! – удовлетворенно заметил Керин, обходя молчанием ее недостаточно высокую оценку своих трудов. – И большая часть нашей жизни ускользнула от нас с тех пор, как я соскользнул с края этого колодца! Но, разумеется, как летит время! Ты что-то сказала, моя дорогая?
– Я застонала, – ответила Сараида, – от того, что ты вновь вернулся со своими избитыми фразами и своей опустошительной пошлостью. Но это тоже неважно.
– Да, конечно. Ибо все, как говорится, хорошо, что хорошо кончается. Поэтому доставай свой талисман, и давай оживим золотое сияние, которое подтвердит истину, что я принес тебе!
Она ответила весьма задумчиво:
– У меня больше нет того талисмана. Он потребовался одному мужчине. И я его отдала.
– Такая щедрость – великая добродетель. И я не сомневаюсь, что ты поступила правильно. Но кому, Сараида, ты отдала камень, который в юности считала бесценным?
– Разве теперь это важно? А на самом деле, откуда я помню? Со мной было так много мужчин, Керин, в эти буйные и веселые годы, ушедшие навсегда. И все они…– Тут Сараида глубоко вздохнула. – О, но я же их любила, мой Керин.
– Наш христианский долг – любить своих ближних. Поэтому я опять-таки не сомневаюсь, что ты поступала правильно. Все же человек устанавливает различия, человек руководствуется, даже в филантропии, инстинктивными предпочтениями. И поэтому мне интересно, по каким таким особым причинам ты, Сараида любила этих людей.
– Они были так красивы, – сказала она, – так молоды, так уверены в том, что должно случиться, и так жалки! А теперь некоторые из них ушли в далекие края земли, а другие ушли под землю в черных узких гробах, а скорлупа оставшихся в округе диковинна: степенна, сморщена и больше неважна. Жизнь – карнавальное шествие, которое проходит очень быстро, поспешно двигаясь из одной тьмы в другую, и путь ему указывают лишь блуждающие огоньки. И во всем этом нет никакого смысла. Я узнала это, Керин, не корпя над книгами. Но жизнь – прекрасный, страстный спектакль. И я любила актеров, участвовавших в нем. И я любила их молодость, их храбрость, их беспочвенную веру и их странные мечты, мой Керин, о собственной значительности и о величии уготованной им судьбы, пока ты занимался – подумать только! – поисками истины.
– И все же, если ты вспомнишь, моя дорогая, именно ты сама говорила, и без сомнения это не забыла, как раз когда толкнула меня…
– Полно! Теперь я говорю, что слишком любила эти безрассудные прекрасные вещи, что даже сейчас не могу разувериться в них полностью. И я удовлетворена.
– Да-да, моя милая, мы оба можем быть удовлетворены. Ибо мы наконец можем хорошенько обосноваться и жить здесь безмятежно, без чрезмерного потакания филантропии. И мы одни будем знать единственную истину, которая несомненно истинна.
– Господи Иисусе! – сказала Сараида и добавила без всякой связи: – Но ты же всегда был таким!
Глава XLVIII Золотое сияние
Затем они молча перешли из полумрака в темноту дома, который они делили в молодости и в котором теперь не было ни молодости, ни звука, ни света. Однако мерцание мертвенно-бледных угольков, не вполне различимое там, где все остальное казалось мертвым, подсказывало, где находится камин. И Сараида сказала:
– Забавно, что мы еще не видели лиц друг друга! Керин моего сердца, дай мне эту глупую бумажку, чтобы я смогла практично ее использовать и зажечь лампу.
Слегка опечаленный Керин повиновался. И Сараида коснулась нижних, красных углей этой бумажкой, изрекавшей единственную вещь, являющуюся несомненно истинной. Бумага вспыхнула. Керин видел, как быстро исчезает плод долгих трудов Керина. Сараида зажгла лампу. Лампа испустила во все стороны золотое сияние. И при этом чистом и нежном желтоватом свете Сараида подложила дров в камин и прибралась у очага.
После этих мелких хозяйственных дел она повернулась к мужу, и они посмотрели друг на друга впервые с тех пор, как были молоды. Керин увидел сгорбленную, подвижную, далеко не злую ведьму, глядящую на него проницательным взглядом поверх метловища. Но Керин также увидел, что от горения этой бумажки их маленький восьмиугольный дом стал уютным, теплым и милым на вид. В нем присутствовал даже дух долговечности. И Керин рассмеялся тонким, непринужденным, похожим на ржание смехом пожилого человека.
Ибо, в конце концов (размышлял он), никому не приносит выгоды распознавание – будь то в молодости, в преклонном возрасте или после смерти – того, что время, словно старый завистливый евнух, должно бесконечно уродовать и калечить, и класть конец всему, что молодо, сильно и красиво или хотя бы мило; и что именно такова единственная истина, которая наверняка открывается любому человеку. К примеру, Сараида, похоже, отыскала для себя где-то на полях филантропии единственную вещь, являющуюся несомненно истинной; и она, похоже, предпочитает к тому же ей пренебрегать ради незначительных, поверхностных, сиюминутных житейских дел… В общем, Сараида, как всегда, была права! Вершина настоящей мудрости заключается в обращении с единственной вещью, являющейся несомненно истинной, так, словно она вообще неистинна. Ибо истина беспокоит, и от нее нет лекарств, и она всегда слишком холодна и чужда, чтобы встречаться с ней лицом к лицу. Между тем в знакомом и поверхностном, в умеренных телесных наслаждениях человек находит определенную радость…
Керин сдержанно поцеловал жену и не менее сдержанно спросил:
– Моя дорогая, а что у нас сегодня на ужин?
Глава XLIX Род Нуантелей
Таким образом, в ноябре, после встречи Гуврича с Силаном, Керин Нуантельский вернулся в Пуактесм, чтобы стать еще одним новообращенным приверженцем легенды о Мануэле.
Керин был обращен в веру почти немедленно. Ибо, когда стало известно о возвращении Керина, Гольмендис тотчас же отправился в путь, творя по дороге весьма опустошительные чудеса среди разнообразных злых и двусмысленных духов, что еще затаились в сельской местности. Теперь святой без какого-либо милосердия и без разбора заточал всех подобным образом выявленных бессмертных в стволы деревьев, сухие колодцы и освященные бутылки и высылал их в скудные и печальные места ожидания священного Дня Суда. С Гольмендисом, в качестве помощника в этих похвальных трудах, разъезжал призрак Мудреца Гуврича.
И когда Святой Гольмендис и Хват-Без-Хребта (в украденном теле Гуврича) поговорили с Керином Нуантельским о великом культе Спасителя Мануэля, созданном во время подземных поисков Керином знаний, и показали ему святую гробницу в Сторизенде и сверкающую, украшенную драгоценными каменьями статую Мануэля, и поведали о вознесении Мануэля на небо, старый Керин лишь прищурил кроткие, внимательные и усталые глаза.
– Очень похоже на правду, – сказал Керин, – так как именно Мануэль дал нам, пуактесмцам, закон, что все всегда должно считать десятками.
– Но что, – спросил Хват в явном, но дружелюбном изумлении, – тут общего?
– Я узнал, что немалое количество людей попало живыми на небо. Я, конечно, подразумеваю Еноха, чей запах херувимы нашли настолько неприятным, что отворачивались от него на расстоянии в пять тысяч триста восемьдесят лье. Я подразумеваю также Илию, раба Авраама Елиезера, царя Тирского Хирама, ефиопа Авдемелеха, сына князя Иегудия Иависа, дочь фараона Вирсавию, дочь Асира Сару, сына Леви Иешуу, который вошел туда не через врата, а перелез через стену. И я считаю, вполне похоже, что дон Мануэль решил сделать из этой компании, как он поступал со всем остальным, десятку.
Тут Гольмендис с большим сомнением произнес:
– В общем!..
И Гольмендис заговорил снова о Мануэле…
– Это тоже кажется достаточно похожим на правду, – согласился Керин. – Я узнал, что такие вестники богов посылались на землю к нашему роду с завидной регулярностью каждые шестьсот лет. Енох, о котором я говорил лишь минуту назад, стал первым из них в шестисотом году от рождения Адама. Затем, в качестве счастливого итога любовной связи между одной монгольской императрицей и радугой в этом мире появился Фу-си – через шестьсот лет после Еноха. А через шестьсот лет после Фу-си к индусам был послан Бхригу. Через такой же промежуток времени или около того к персам пришел Зороастр, а потом к египтянам Трижды Величайший Тот, потом к евреям Моисей, а потом к народам Китая Лао-цзы, а потом к язычникам Павел из Тарса, а потом к исламским народам Мухаммад. Мухаммад процветал как раз за шестьсот лет до нашего Мануэля. Да, мессир Гольмендис, тут также достаточно похоже, что Мануэль решил стать десятым.
Затем благочестивый и кроткий старый Хват-Без-Хребта начал говорить с радостью и благоговением о триумфе второго пришествия Мануэля…
– Без сомнения, дорогой Гуврич. Ибо я узнал, что все великие военачальники приходят вновь, – сказал Керин почти что устало. – Существуют Артур, Ожьер, Шарлемань, Барбаросса, сын Кумалла Финн – короче, в каждой стране существует предсказание о герое, который вернется в предписанное ему время и принесет с собой великолепие и процветание. Также должны вернуться принц Сиддхартха, Саошьянт, Александр Македонский, и, к примеру, также ожидается возвращение Сатаны для его последнего веселья незадолго до Страшного Суда. Поэтому здесь я вновь считаю, весьма похоже, что дон Мануэль может решиться и стать десятым.
Одним словом, старина воспринял Пуактесмское богоявление очень спокойно… Хват был удовлетворен по причине того, что обращение в веру для всех ангелов рая – приятная прогулка. Но было очевидно, что Святому Гольмендису не совсем нравилось такое положение вещей… Конечно, нельзя было выявить в таком безразличном приятии какого-либо неверия. Да и нельзя человека, зашедшего слишком далеко, называть скептиком. Скорее всего, было так, что Керин рассматривал истину без всякой радости; словно Керин каким-то образом уже был хорошо знаком с высшими истинами о Спасителе Мануэле, прежде чем о них услышал; и поэтому слушал их, в конце концов, без надлежащей приподнятости и жизнерадостности. Керин просто признал эти грандиозные истины и, по-видимому, в целом больше интересовался незначительными, поверхностными, сиюминутными житейскими делами и едой.
Гольмендис наверняка ощущал, что конкретных недостатков здесь не обнаружить. Во всяком случае, он потряс головой, обрамленной нимбом, и, заговорив на языке родной Филистии, сказал что-то Хвату-Без-Хребта – чего Хват вообще не мог понять – о «так называемой интеллигенции». Но Гольмендис не прибег к какому-нибудь жуткому чуду, от которого бы напуганный им старый Керин пришел в более соответствующее обстоятельствам возбуждение и радость…
Однако Керин Нуантельский ощутил безграничную радость и, на самом деле, радость, удивившую всех окружающих, когда он увидел и обнял прекрасного сына по имени Фопа, которого Сараида родила на пятом году подземного учения Керина. Ибо знания Керина открыли ему, что столь сильно затянувшийся период беременности неминуемо возвещает о будущем величии младенца, – факт, доказанный рождением Осириса, некоторых других богов и всех слонов, – и он сделал вывод, что его сын, так или иначе, достигнет всемирного превосходства.
И такое заключение оказалось довольно-таки истинным, поскольку именно Фопа де Нуатель возглавлял войска графа Эммерика в злосчастные дни мятежа Можи д'Эгремона и правил Пуактесмом вместо сына Мануэля до тех пор, пока не пришла подмога от графа де ла Форэ. По крайней мере, в течение двенадцати лет этот сын Керина имел превосходство над всеми своими сотоварищами, а двенадцать лет – значительный кусок жизни для любого человека. А старшим сыном Фопа де Нуантеля был тот самый Ральф, что женился на госпоже Аделаиде, дочери графа де ла Форэ и внучке дона Мануэля, и построил в Нуантеле огромный замок с семью башнями, сохранившийся до сих пор.
Книга Восьмая Откровенный след
«Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего».
Псалтирь, 88, 52Глава L Неосторожность бейлифа
Дальше история рассказывает, что в день рождения первого сына графа Эммерика в законном браке при вспомоществовании жены его Радегонды было произнесено столько тостов и здравиц, сколько в Сторизенде никогда прежде не слыхивали. История свидетельствует о знатном банкете, где на каждую пару персон приходилось по двенадцать блюд при огромном количестве вина самого лучшего качества и пива. На галерее менестрелей разместились скрипачи, трубачи и барабанщики, и подбрасывавшие бубны, и игравшие на флейтах. Меж тем десяток поэтов прославляли подвиги дона Мануэля, в живейших красках доказывая неминуемость второго пришествия Спасителя в Пуактесм во главе ужасного небесного кортежа. А между тем собравшиеся выпивали и закусывали, а стихи опьяняли наряду с красным и белым вином.
Поскольку поэмы были довольно длинными для бейлифа Верхней Ардры, все увеселения привели в итоге к тому, что он отбыл домой, икая и находясь даже в более благодушном настроении, чем обычно, и не осознавая, что этот неверный шаг ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на земле.
Ибо Нинзиян Яирский и Верхне-Ардрский не всецело порвал с героическим духом тех лет, когда Пуактесмом правил дон Мануэль. Это казалось весьма прискорбным хотя бы потому, что Нинзиян, бывший всегда благочестивым и великодушным человеком, с возрастом должен был остепениться. Теоретически он одобрял все реформы, проводимые повсеместно графиней Ниафер и утверждаемые графиней Радегондой. А на практике Нинзиян, конечно же, являлся верным союзником своего благого и близкого товарища, Святого Гольмендиса, во всех целительных крестовых походах против эльфов, сатиров, троллей и других выживших неканонических существ из неортодоксальной мифологии и против вольнодумцев, ставящих под сомнение легенду о Мануэле, и в гонениях святого на демонов, и в казнях еретиков, и во всех других богоугодных делах. Но тем не менее было бесспорно, что в добродушном и пышущем здоровьем бейлифе Верхней Ардры сохраняется некий пережиток буйных обычаев мануэлева земного рая.
Как следствие, Нинзиян не пропустил на банкете, устроенном графом Эммериком, ни одного тоста и не оставил ни одного своего друга без здравицы. И Нинзиян пил вина орлеанские, анжуйские и бургундские; осерские и бонские; сен-жанские и сен-порсенские. Пил он мальвазию, монтроз, вернаж и рюни. Пил он греческие вина: как патрас, так и фарнес. Пил он имбирное пиво, пил он мускатель, пил он ипокрас. Он не пренебрег как обычным сидром, так и грушевым. К сладким белым игристым винам Вольнея он признавал и выказывал свое особое пристрастие. И он также обильно пил эльзасский херес и венгерский токай.
После чего Нинзиян возвратился домой с очаровательным рядком в голове, который – у такого свободного от предрассудков участника всех благочестивых деяний и преследований – могли простить Святой Гольмендис и все остальные, кроме лишь одной особы. Дело в том, что Нинзиян был женат.
Глава LI Странная птица
На следующий вечер Нинзиян с женой прогуливался по саду. Они представляли собой приятную пару, а возвышенные чувства, которые они испытывали друг к другу в молодости, стали предметом воспевания для многих поэтов. К тому же эти чувства пережили свои лучшие годы лишь с незначительными потерями, и Нинзиян за долгое время после данных обещаний вечной верности, как известно, породил только одного внебрачного отпрыска. Но даже это, как он обстоятельно объяснял, произошло исключительно из соображений благотворительности. Ибо уважаемый всеми, богатый и старый Петтипа, ростовщик из Бовилажа, жил, не имея детей, с полногрудой молодой второй женой почти три года, пока Нинзиян, в минуты досуга, не одарил заслуживающую того чету юной наследницей.
Но, в основном, Нинзиян предпочитал свою худую и набожную супругу всем остальным женщинам даже после стольких лет, прошедших с того времени, когда он завоевал ее в расцвете своей полной приключений молодости. Теперь они, дожившие до вечера своих лет, освещались золотыми лучами заката, идя по вымощенной белыми и голубыми плитами дорожке. А с обеих сторон их обступали глянцевые листочки и алые цветы ухоженных кустов роз. Вот так они ожидали Святого Гольмендиса, своего коллегу по разнообразной церковной деятельности и улучшению общества, ибо блаженный обещал с ними поужинать. И Бальфида (так звали жену Нинзияна) сказала:
– Посмотри-ка сюда, мой милый, и скажи, что это такое?
Нинзиян исследовал клумбу у дорожки и ответил:
– Моя дорогая, кажется, это след птицы.
– Но наверняка в Пуактесме нет пернатых с такими огромными ногами!
– Нет. Но в это время года ночью по пути на юг множество перелетных чудовищ минует Пуактесм. И очевидно, одна из представительниц какого-либо редкого вида остановилась здесь отдохнуть. Однако, как я тебе говорил, моя хорошая, у нас сейчас в руках…
– Но подумай, Нинзиян! Отпечаток величиной с человеческую ступню!
– Полно, моя драгоценная, ты преувеличиваешь! Это след крупной птицы – здесь остановился орел или, вероятно, рух, или, может быть, Жар-Птица, – но в этом нет ничего необычного. Кроме того, как я тебе говорил, у нас уже есть на руках для поучения верующих лоскут косынки Марии Магдалины, левый безымянный палец Иоанна Крестителя, комплект белья дона Мануэля и один из самых маленьких камней, которыми забили Святого Стефана…
Но Бальфида, как он видел, решила не продолжать разговор о церкви, которую Нинзиян построил в честь Спасителя Мануэля и которую Нинзиян снабдил самыми что ни на есть священными реликвиями. Вместо этого она, тщательно подбирая слова, заявила:
– Нинзиян, по-моему, она величиной со ступню взрослого человека.
– Пусть будет так, как тебе угодно, моя хорошая!
– Но от меня так просто не отделаешься! Встань рядом на клумбу и, сравнив отпечаток твоей ноги и птичьей, мы легко увидим, какой из них больше.
Нинзиян уже не был таким румяным, как прежде. Однако он сказал с достоинством и, как он надеялся, довольно-таки непринужденно:
– Бальфида, будь благоразумна. Я не намерен пачкать свои сандалии в грязи, чтобы решить такой дурацкий вопрос. След точно такой, как размер человеческой ступни, или он больше человеческой ступни, или он меньше человеческой ступни… он, короче говоря, любого размера, который ты предпочтешь. И давай на этом закончим.
– Так ты, Нинзиян, не наступишь на эту недавно вскопанную землю? – весьма странно спросила Бальфида.
– Конечно, я не буду портить даже свои старые сандалии по такой дурацкой причине!
– Ты вставал сюда вчера в своих самых лучших сандалиях, Нинзиян, по той простой причине, что накачался. Я видела твой отпечаток при свете дня, Нинзиян, когда ты только пришел с попойки вместе с самим святым и куролесил по моему саду. Нинзиян, страшно узнать, что, когда твой муж ступает в грязь, он оставляет следы, словно птица.
Тут Нинзиян поистине раскаялся во вчерашнем излишнем потворстве своим желаниям. И Нинзиян сказал:
– Так ты обнаружила мою слабость, несмотря на всю мою осторожность! Очень жаль.
Бальфида ответила с холодной уклончивостью всех жен:
– Жаль или нет, но теперь тебе придется рассказать мне всю правду.
Эта задача, по сути дела, казалась настолько отвратительной и неизбежной, что Нинзиян взялся за нее с такой легкостью, которая бы предупредила любую жену на свете, насколько ему можно доверять.
– В общем, моя дорогая, ты должна знать, что, когда я впервые появился в Пуактесме, я появился здесь скорее не по своей воле. Нет нужды говорить тебе, что наш друг, Святой Гольмендис, еще во времена воплощения дона Мануэля в бренную человеческую плоть установил в округе такой высокий моральный дух (да и сейчас святой со всеми своими чудесами весьма порывист, когда кто-либо расходится с ним в религиозных вопросах), что перспективы казались далеко не самыми заманчивыми. И было необходимо, чтобы здесь, как и повсюду, находился представитель моего князя. Так что я прибыл из… в общем, оттуда…
– Я знаю, что ты прибыл из южных стран, Нинзиян! Все это знают. Но мне кажется, это не извиняет того, что ты ходишь как птица.
– Словно, моя дражайшая, мне доставляет удовольствие ходить как птица или как целая стая птиц! Наоборот, я всегда находил, что это мое маленькое достоинство отдает дурным вкусом. Оно требует постоянных объяснений. Но с очень давних пор те, кто служит моему князю, в качестве особого отличия наделяются таким следом для того, чтобы могли быть подчеркнуты воистину дурные черты, сохранена прекрасная мужественность, а также чтобы наши противники в великой игре могли нас узнавать.
Тут широко открытые, скорбные и испуганные глаза Бальфиды уставились на него. Затаив дыхание, она сказала:
– Нинзиян, я понимаю. Ты – злой дух, и ты вышел из ада в человеческом облике, чтобы насаждать в Пуактесме порок!
И его Бальфида, как он видел с безумно мучительным сожалением, была ужасно взволнована и огорчена, узнав то, что так долго скрывал от нее муж. И Нинзиян начал ощущать стыд из-за того, что раньше не доверил ей свою тайну, раскрывшуюся теперь. В любом случае, он мог бы попытаться объяснить.
– Дорогая, – сказал он рассудительно, – ни одна благоразумная жена никогда не станет совать нос в то, кем был или что делал ее муж до женитьбы. Ее забота – его проступки после брачной церемонии. И по-моему, у тебя нет веских причин жаловаться. Никто, даже при всем желании, не может утверждать, что в Пуактесме я не вел себя честно и безупречно.
Она с негодованием сказала:
– Ты страшился Гольмендиса! Ты проделал такой длинный путь, чтобы заняться своей дьявольской работой, а потом у тебя не оказалось смелости посмотреть ему в глаза!
Нинзиян нашел эти слова достаточно близкими к истине, чтобы из-за них раздражаться. Поэтому он заговорил теперь с легкой снисходительностью.
– Драгоценная моя, несомненно, что этот тощий человек может творить чудеса, но, не желая показаться хвастуном, я должен сказать тебе, что владею более древней и более черной магией. О, уверяю тебя, он не смог бы, не попотев основательно, изгнать из меня духа, отлучить меня от церкви или испытать на мне любой другой из своих священных фокусов! Все же мне казалось, что лучше избегать таких мучительных сцен. Ибо при возникновении неприятностей с этими святыми в дело склонны вмешиваться союзники с обеих сторон. Небеса чернеют, земля сотрясается, смерчи, метеориты, грозы и серафимы, как правило, переворачивают все вверх дном. А подобное выглядит довольно-таки неуместным и старомодным. Так что, в действительности, кажется более благоразумным и исполненным хорошего вкуса уважать, при любых обстоятельствах, религиозные убеждения человека, имеющего добрые намерения, которые, знаю, ты разделяешь, моя хорошая, короче, – сказал Нинзиян, пожав плечами, – необходимо приспосабливаться! Понимаешь, улаживать все вокруг, моя дорогая, выказывая надлежащий интерес к церковным делам и ко всему, чего, похоже, ожидают в моем окружении от добропорядочного человека.
Но Бальфиду это не смягчило.
– Нинзиян, для меня ужасно узнать все это! Не было мужа, который бы лучше знал свое место, и единственный ребенок, которым ты меня огорошил, был тот ребенок ростовщика, и у Святой Церкви никогда не было более верного слуги…
– Да, – тихо сказал Нинзиян.
– …Но ты оказался отвратительным демоном из глубин ада, а человек, которого я любила, всего лишь фальшивая видимость, и в тот миг, когда Святой Гольмендис достигнет вечного блаженства, ты намерен продолжить свои мерзкие непотребности. С твоей стороны глупо на это надеяться, поскольку я, конечно, никогда этого не допущу. Но при всем при том!.. Ох, Нинзиян, моя вера и мое счастье похоронены теперь в одной могиле, и между нами все кончено!
Нинзиян по-прежнему очень тихо спросил:
– И ты думаешь, моя милая Бальфида, что я покину тебя из-за какой-то вытоптанной клумбы? Могла ли горсть земли разлучить нас, когда из-за своей великой любви к тебе я сражался в Эвре с семью рыцарями одновременно…
– Какой шанс был у несчастных в схватке с дьяволом?
– Это основа всего, моя дорогая… как и математика. К тому же, я продолжаю отмечать, что ты ни за что бы не бросила мне в лицо грязь, когда я ради тебя уничтожил герцога Орибера и его прискорбный обычай с котом и змеем и скинул в Лорче с высокого холма Опороченный Замок.
Она же безжалостно ответила:
– Тебе посчастливится выбраться из этой грязи целым и невредимым. Ибо именно в этот вечер Святой Гольмендис слушает мою исповедь, и я должна буду исповедаться во всем, и ты знаешь, как и я, о его опустошительных чудесах.
После неудачи с обращением к лучшим чувствам жены Нинзиян стал апеллировать к ее здравому смыслу.
– Бальфида, моя ненаглядная, в конце концов-то, в чем ты меня упрекаешь? Ты не можешь не чувствовать, что без сомнения неблагоразумный бунт, в котором я принимал участие в молодости, несметное число эонов до того, как появилась эта Земля, имел место достаточно давно, чтобы о нем забыть. Кроме того, ты знаешь по опыту, что мной слишком легко руководят другие, что я так и не научился, как ты это красноречиво выразила, проявлять твердость характера. Да я, в действительности, и не вижу, как ты можешь сегодня требовать наказаний за преступления, которые, признай это, я никогда не совершал, но – как ты предполагаешь без каких-либо оснований – лишь смутно размышлял о скором совершении которых, а возможно, и не в самое ближайшее время, моя обожаемая, надувшаяся детка, потому что этот строгий Гольмендис кажется жестким, как подошва…
Оправдывания Нинзияна смолкли. Он видел, что Бальфиду ничто не трогает.
– Нет, Нинзиян, я просто не могу вынести мужа, ходящего как птица, которого распознают во время следующего же дождя. Я буду об этом думать день и ночь, а люди станут болтать. Нет, Нинзиян, это совершенно бесспорно. Я сейчас же соберу твои вещи, и ты можешь по своему выбору отправляться в ад или к этой хихикающей, дурно воспитанной подружке в мерзкую лавку ростовщика. И я оставляю на твоей совести, что, после того как столько лет я ишачила на тебя, ты нашел право так несправедливо и предательски меня разыграть.
И Бальфида также сказала:
– Ибо эти великие несправедливость и предательство, Нинзиян Яирский, отняли у меня такую любовь, равной которой не найти ни в одном из благородных уголков сего мира до конца жизни и времени. Твои уста изрекали мудрость и произносили сладкие речи, в серых глазах Нинзияна Яирского светилась доброта, твои руки были сильны в обращении с мечом, и ты выглядел самым великодушным из всей этой компании в течение многих дней, да и ночей тоже. Я получала от всего этого истинное наслаждение, я все это уважала. Я не думала о низком болоте, я не видела, какие ужасные следы ты оставляешь повсюду.
Затем Бальфида сказала:
– Пусть вместе со мной плачут все женщины, ибо теперь я знаю, что любви каждой женщины предписан подобный конец. Ни одна женщина не отдает мужчине все без остатка, но женщина растрачивает свою сущность в спальне и на кухне ради некоего ненасытного незнакомца, и ни одну жену не минует горький час, когда ее огорошит подобное открытие. Так что давай пожмем друг другу руки, и пусть к тому же наши губы расстанутся по-дружески, поскольку наши тела так долго были друзьями, покуда мы ничего не знали друг о друге. Да, пусть они расстанутся, Нинзиян Яирский, из-за великих несправедливости и предательства, которые ты совершил по отношению ко мне.
Сказав это, Бальфида поцеловала его. Потом она пошла в дом, который уже больше не был домом Нинзияна.
Глава LII Чертовы угрызения совести
Нинзиян сел на каменную скамью с высеченными по краям лежащими сфинксами, стал ждать, когда за тополиной рощей погаснет солнечный свет. Это мгновение не могло не показаться кому угодно чреватым всякими опасностями. Должен был прийти Гольмендис, и Гольмендис вскоре бы услышал исповедь Бальфиды, а эти святые чересчур часто становятся жертвой легкой возбудимости, наносящей ущерб их делу.
Этот порывистый Гольмендис вполне способен немедля прибегнуть к необузданному совершению чудес и Небесным огнем уничтожить своего ведущего помощника в попытке альтруистического вмешательства, даже не приостановившись на секунду, чтобы здраво подумать, какой погибелью окажется в итоге этот скандал для реформ и подъема собственного авторитета Святого Гольмендиса. Впоследствии Гольмендис без сомнения пожалеет об этом, но не получит сочувствия от Нинзияна.
А между тем Нинзиян любил свою жену так сильно, что длительное существование без нее казалось ему немыслимым. Его жена, какой бы она ни бывала, всегда оставалась для Нинзияна самой милой на свете. И теперь, когда он оглядывался в прошлое, на ту безумную любовь, которую он питал к своей жене в Ниневии, Фивах, Тире, Вавилоне, Риме, Византии и во всех остальных городах, воспитывающих прекрасных женщин, и когда он оценивал исчезновение этой любви, ускользнувшей от него через несколько тысячелетий, Нинзияну казалось прискорбным, что его пора земного удовлетворения должна вот так пресечься в самом расцвете и безвременно увянуть.
Кроме того, Нинзияна тревожила совесть. Ибо бес не был с Бальфидой откровенен до конца, и Пуактесм ни в коей мере не являлся ареной первой неудачи уступчивого, беспечного малого. Так что теперь он с грустью думал о том, насколько же он не преуспел в своей миссии на Земле начиная с того времени, когда впервые появился на горе Каф, чтобы принести людям несчастье во времена задолго до Потопа; и он уныло просмотрел отвратительный перечень добродетельных поступков, в которые втянули его женщины.
Причиной каждого падения Нинзияна всегда являлась одна из них. Он неосторожно болтал с какой-нибудь прелестной девушкой, и его дьявольское красноречие так воздействовало на нее, что девушка неизменно выходила за него замуж и безудержно принималась делать из своего супруга добропорядочного гражданина. Возражения ни к чему не приводили. Казалось, женщины нигде не сочувствуют предназначению Нинзияна на Земле. Они, похоже, обладали инстинктивной тягой к Небесам и публичным признаниям всех добродетелей. Точно так же, как в случае с беднягой Мирамоном Ллуагором (размышлял Нинзиян), жену Нинзияна совсем не волновала карьера ее мужа и надлежащее развитие его дарований.
Затем Нинзиян внезапно вспомнил причину беспокойств, осложнявших его жизнь. Он вынул кинжал и, сев на корточки посреди мощеной дорожки, заровнял этот компрометирующий его отпечаток ноги.
И в тот же миг Нинзиян исчез.
Глава LIII Продолжение ужасного благочестия
И в тот же миг Нинзиян исчез, но он появился из небытия как раз вовремя, чтобы удариться ни во что иное, как в энергичную крепкую плоть Святого Гольмендиса, идущего этим прохладным вечером по дорожке сада. Внезапно появившись, Нинзиян толкнул святого достаточно грубо. Поэтому Нинзиян извинился за свою неловкость и объяснил, что завтра собирается на рыбную ловлю и сейчас копает червей. И Нинзиян ощутил беспокойство, ибо не знал, насколько много этот вспыльчивый и чересчур возбудимый святой из Филистии видел и подозревал и не может ли он в следующий же миг предпринять какое-нибудь свое топорное чудо.
Но Гольмендис дружелюбно сказал, что кости целы, и заговорил дальше с холодящей душу жизнерадостностью священнослужителя, дабы произнести какую-нибудь гнетущую шутку насчет ловцов человеков.
– И я потому здесь, – сказал святой, – что сегодня вечером госпожа Бальфида должна исповедаться мне во всем, что отягощает ее совесть.
– Да-да, – любезно согласился Нинзиян, – но мы оба знаем, мой дорогой почтенный друг, что у Бальфиды необычайно восприимчивая совесть – совесть, которая чувствительна к неверным шагам других, как натертый мизинец ноги.
– Такой следует быть совести всех людей, – ответил святой, продолжая говорить о добродетельной женщине, являющейся венцом своего супруга. И он провел резкое различие между прекрасным и возвышенным достоинством Бальфиды и бесстыдством грязной нищенки, которую прямо у ворот святой поразил параличом и божественным огнем за чересчур легкомысленную болтовню о втором пришествии Мануэля.
Нинзиян поежился. Он, конечно же, с сочувствием сказал, что пошлет слуг убрать обугленные останки, и что это должно послужить хорошим уроком, и что нет и разговоров о том, куда зайдет мир, если здравомыслящие люди не предпримут решительных шагов в надлежащих направлениях. Тем не менее ему не нравились жесткий, сжатый ротик и блестящие, бледно-голубые глазки этого изможденного святого. А нимб над густыми седыми волосами Гольмендиса начинал сиять все ярче и ярче по мере сгущения сумерек. Нинзиян чувствовал себя неуютно наедине с этим чудотворцем. Благочестие так непредсказуемо. И Нинзиян неподдельно обрадовался, когда Бальфида вышла из их милого дома, который уже не был домом Нинзияна, и когда Бальфида придержала дверь для Гольмендиса, а Нинзиян уже больше не мог туда войти.
Однако милосердность женщин настолько живуча, что даже после того, как Гольмендис вошел, госпожа Бальфида попыталась в последний раз здраво и по-доброму поговорить с мужем.
– Свинья с ослиной головой, – сказала она, понизив голос, – прекрати смотреть на меня как больной теленок и уходи прочь! Ибо я должна исповедаться, в каком грехе жила, будучи женой дьявола, а у меня мало веры в твою черную магию, и ты знаешь, как и я, что не определить, в ствол какого проклятого дерева, в какую освященную бутылку или еще во что он может тебя заточить до Дня Суда точно так же, как он поступил со всеми остальными злыми духами,
Нинзиян ответил:
– Я никогда не покину тебя по собственной воле.
– Но, Нинзиян, получается так, словно ты сам лезешь в бутылку! Ибо, если я не расскажу всего этому язвительному старому мешку с костями, – она перекрестилась, – я имею в виду, этому всеми любимому и благословенному святому, он же никогда и не почует, или скорее, я хотела сказать, что его вера в своих собратьев слишком велика и восхитительна, чтоб он когда-либо стал подозревать тебя, и ты сам видишь, как обстоят дела!
– Да, моя самая жестокая любовь, – сказал Нинзиян, – получается так, словно ты сама заталкиваешь меня в бронзовую бутылку, ибо знаешь, что мне необходимы прогулки на свежем воздухе, и ты словно накладываешь на нее несокрушимую печать Сулеймана-бен-Дауда своими собственными руками. Но тем не менее!..
Он взял ее руку и галантно поцеловал в кончики пальцев.
При этом она ударила его в челюсть.
– Не надейся, что ты меня одурачишь! Нет, больше никогда, после всех-то этих лет! О, я тебе покажу!
Тут Бальфида вошла в дом, где изможденный святой готовился выслушать ее очередную ежемесячную исповедь.
Глава LIV Запущенная магия
Робкий, не по годам беспечный Нинзиян сел на каменную скамью, будучи теперь изгоем в своем собственном саду. И он какое-то время думал о безжалостных чудесах, которыми этот Гольмендис, травил в Пуактесме фей, эльфов, саламандр, троллей, калькаров, суккубов и все остальные вполне миролюбивые непотребства; и об опустошительных крестовых походах этого святого против моральной распущенности, свободомыслия и о скоротечных выводах, которые он делал с помощью веревки и огня, в отношении существования ереси. Казалось весьма вероятным, что, имея дело с дьяволом, этот неистовый и нетактичный Гольмендис пойдет еще дальше и отбросит всякую жалостливость, если Нинзиян не сможет с ним как-нибудь справиться.
Поэтому Нинзиян решил действовать более безопасно, немедля уничтожив этого малого. Нинзиян вынул из кармана каменный эматиль и срезал ветку с куста роз. Цветущей веткой розы Нинзиян обвел свою елейную особу широкой окружностью, сказав при этом:
– Я инфернализирую радиус в три элля вокруг себя!
Тут им трижды был начертан знак Саргатанета. Затем Нинзиян продолжил:
– С Востока, Главраб; с Запада, Гаррон; с Севера…
Он приостановился и почесал затылок. Он знал, что северным словом власти было или Кабинет, или Кабохон, или Каприкорн, или что-то в этом роде. Но что именно, Нинзиян точно забыл. Ему придется попробовать нечто иное.
Поэтому Нинзиян решил свергнуть Гольмендиса хладом и жаром. Нинзиян сказал:
– Я вызываю Тебя, который существует в пустом ветре, ужасного, невидимого, всемогущего создателя разрушений и вестника опустошений. Я поднимаю пред Тобой этот прут, из которого проистекает ненавистная Тебе жизнь. Я вызываю Тебя посредством Твоего настоящего имени, благодаря чему Ты не можешь меня не услышать – ИОЕРВЕТ-ИОПАКЕРВЕТ-ИОВОЛХОСЕТ…
Но тут он прервался. Это жуткое, труднопроизносимое, непристойное имя, как вспомнил Нинзиян, имело еще одиннадцать составляющих. Но в смущенном мозгу Нинзияна все они перепутались и безнадежно перемешались.
После этого весьма встревоженный бейлиф изменил подход к делу. И теперь он пытался войти в контакт с Невиром, фельдмаршалом и генеральным надзирателем Ада. Но опять-таки в руках Нинзияна эта магия оказалась прискорбно запущенной.
– Агла, Тагла, Мальтой, Оариос…– затараторил он достаточно ловко и еще раз завяз в отвратительно длинных и незапоминаемых словах. Черная магия не являлась знанием, в котором можно оставаться сведущим без постоянной практики. А Нинзиян, к сожалению, пренебрегал инфернальными искусствами последние пять столетий, если не больше.
Поэтому в таком отчаянном положении он волей-неволей обратился к элементарному, азбучному заклинанию, которым пользовались простые волшебники. И бейлиф Верхней Арды довольно-таки позорно произнес:
– Князь Люцифер, самый ужасный господин всех мятежных Духов, прошу Тебя не отказать мне в просьбе, которую передаю Твоему могущественному министру Люсифюжэ Рофокалэ, желая заключить с ним некоторое соглашение…
И по крайней мере, это обращение Нинзиян закончил вполне гладко, хотя и слегка переставил заключительные слова Великой Ключицы.
Несмотря на это, заклинание сработало даже слишком хорошо. Ибо вместо ожидаемого появления добродушного старого Люсифюжэ Рофокалэ, приемлемо источающего свой обычный запах, к Нинзияну из благоухающих кустов роз вышел надменный на вид господин в черном с золотом одеянии. И весьма смущенный Нинзиян очень низко поклонился своему сеньору Люциферу, Князю всех Падших Ангелов.
Глава LV Князь Тьмы
Возникший господин помолчал, словно читая мысли во встревоженном мозгу Нинзияна, а затем сказал:
– Понятно. Суркраг, которого смертные здесь называют Нинзияном! О неверный слуга, ты должен быть наказан за то, что предал веру, которую я вложил в тебя. Теперь грядет скорое воздаяние от этого хищного святого, который безжалостно избавится от тебя, ибо твои заклинания опозорили бы даже младенца в пеленках. Ты давным-давно забыл все те крохи, которые знал. И когда Гольмендис схватит тебя одной рукой и изгонит из тебя духа другой, едва ли останется хоть горстка золы.
Нинзиян это сам знал, одиноко находясь между гневом зла и злобой святости, собравшихся его уничтожить. Он сказал:
– Имейте терпение, мой князь!
Но Люцифер твердо ответил:
– Мое терпение исчерпалось. Нет, Суркраг, у тебя нет надежды, и ты становишься бесстыдным в своем вероломстве, постоянно делаясь все лучше и лучше. Когда-то ты презирал малейшее отклонение от веры, которой мне обязан. Но мало-помалу ты находил компромиссы с добродетелью из-за своего глупого желания жить в мире со своими женами, и это постоянное потворство женским взглядам выдавило из тебя последнюю каплю порочности. Пятьдесят веков тому назад ты был бы потрясен какой-нибудь доброй мыслью. Двадцать веков назад у тебя, по крайней мере, сохранялось надлежащее чувство к Десяти Заповедям. Теперь же ты помогаешь всем этим реформам и не краснея строишь церкви. Существует ли сегодня, мой заблудший, пропащий Суркраг, откровенно говоря, существует ли какая-нибудь возвышенная добродетель, существует ли возмутительная порядочность или какая-либо форма набожности, от которых тебя тошнит? Нет, мой бедный друг. Ты пришел сюда развратить человечество, а вместо этого тебя сделали подобным обыкновенным людям.
Ангел Тьмы умолк. Он говорил, как и подобает такому знатному господину, очень сдержанно, без гнева, но также и не скрывая печаль и разочарование. И Нинзиян с раскаянием ответил:
– Мой князь, я знаю, что не всецело придерживался веры. Но женщина всегда искушала меня странными представлениями о том, что наши забавы следует начинать с религиозного обряда, и вот так меня то и дело соблазняли жениться. А моя жена, неважно, какие глаза, волосы и цвет кожи она имела в то время, всегда была склонна иметь мужа, уважаемого ближними. А при таких обстоятельствах у бедного дьявола нет никаких шансов на успех.
– Так что эти женщины стали твоей погибелью, и даже сейчас самая последняя из них выдает твою тайну этому неумолимому святому! Я считаю, что это инфернальная справедливость, ибо со времен Каюмарса ты в этом месте не нашел мне ни одного последователя и открыто жил в добродетели, тогда как должен был расширять мою власть на Земле.
Сказав это, Люцифер сел на скамью. Тогда Нинзиян тоже сел и наклонился к другому бессмертному во все сгущающихся сумерках, и полное лицо Нинзияна стало грустным.
– Мой князь, какое это имеет значение? С самого начала я позволил своей любимой жене командовать мной, поскольку это ей льстило и не порождало никакого настоящего добра. Какое значение имеют эти человеческие взгляды, пусть и в такой милой форме? Немного времени спустя не будет ни Яира, ни Верхней Ардры, ни сверкающего священного надгробия в Сторизенде, и весь Пуактесм будет забыт. Немного времени спустя эта Земля станет холодной, как лед, золой. Но мы с вами по-прежнему будем заниматься своей работой, будем по-прежнему играть Вселенной, используя звезды и светила в качестве фишек. Действительно ли для вас имеет значение, что в течение того времени, пока существует эта крошечная вертлявая Земля и на ней имеются женщины, я прекратил играть в великую игру, чтобы воспользоваться этим удачным случаем?
Люцифер ответил:
– Меня тревожит только потерянное тобой время, твое увиливание от выполнения инфернального долга и твой херувимский недостаток серьезности. Только подумай, сколько тысяч женщин прошло через твои руки!
– Да, словно нить жемчуга, мой князь, – с любовью сказал Нинзиян.
– Не детская ли это забава для тебя, привыкшего получать удовольствие от великой игры?
Но Нинзиян сейчас собрался с духом и заговорил быстро и непринужденно:
– Вспомните стародавние времена, мой князь, – заявил он с соответствующей обстоятельствам дрожью в голосе, – когда мы оба были лишь херувимами и из наших кудрявых головок еще не выросли тела! Вспомните веселую возню и игры на поцелуи, которыми мы занимались, будучи крошечными ангелочками, так прелестно забавлявшимися среди небесных золотистых облаков без всяких забот, а лишь с воротником из крыльев, так чудно щекочущим уши! Позвольте же воспоминаниям коснуться вас, вплоть до незаслуженного потакания своим слабостям. У меня возникла, странная прихоть в отношении этой неприметной сферы из камня и грязи: мне нравятся женщины, блистая красотой расхаживающие по ней. О, я признаю, что у меня неоспоримо дурной вкус…
– Я не спорю, Суркраг. Я просто указываю, что разврат, как правило, нигде не служит оправданием добрых дел.
– Но то и дело, – сказал Нинзиян, развивая свою мысль, – самые добросовестные из всех скатываются в благодеяния. И, в любом случае, какое имеет значение, что я делаю на Земле? Честное слово, мой князь, по-моему, вы воспринимаете это место чересчур серьезно. Веками я наблюдал за служащими вам, разгуливающими по этой планете в причудливых личинах и любопытных масках, которые непроницаемы для того, кто не знает, что слуги вашего превосходительства ходят по вашим поручениям поступью птиц…
– Да, но…– начал было Люцифер.
–… Веками, – продолжил Нинзиян, не обращая внимания на его попытки, – я видел, как много времени ваши эмиссары тратят на всякие хитрости, искушая людей совершить грех. И с какой целью? Человек поднимается из грязи, он вышагивает с напыщенным видом по жизни и падает обратно в грязь. Вот и все. Как этот карлик может сотворить добро или зло? Его добродетельность тут же забывается, словно неубедительное пустословие. Самое большое, чего он достигает в своих непотребствах, так это потворства неблагоразумному превышению требований долга посредством уничтожения пары людей, которых время, в любом случае, очень скоро уничтожило бы само. Между тем его симпатии склоняются на толщину волоса – уж я-то знаю – в сторону Небес. Да, но какое это имеет значение? Разве это комплимент Небесам? Ох, князь, будь моя воля, я бы оставил людей гибнуть в их совершенно никчемной, изнуряющей добродетельности, не поднимая всей этой суматохи из-за пустяков.
Нинзиян видел, что произвел на Князя Падших Ангелов ощутимое впечатление. Но спокойный таинственный Люцифер покачал головой.
– Суркраг, абстрактно рассуждая, ты, может быть, прав. Но война ведется не посредством рассудка, и сдача чего-либо Противнику, пусть это не более чем Земля и ее обитатели, может создать опасный прецедент.
– Полно, князь, подумайте, за сколько первоклассных созвездий нужно бороться, а они состоят из светил, являющихся действительно желанными приобретениями! Обратите свой прекрасный ум, сударь, на рассмотрение их достоинств! Рассмотрите Кассиопею, Быка и милый маленький Треугольник! Подумайте об Орионе, содержащем такие звездные шедевры, как Беллатрисса, Бетельгейзе и Ригель, и самую величественную туманность из известных где-либо! Подумайте также о том весьма интересном тройном светиле, называющемся Мизар, в Большой Медведице – настоящее сокровище для знатока! И позвольте этой Земле забавлять меня!
Люцифер ответил не сразу. В это время из гнезд вылетели летучие мыши, зигзагами двигаясь по саду. В воздухе повеяло ароматом покрывающихся росой роз. И где-то в полумраке начал свою захватывающую долгую и жалобную песнь желания соловей. Окружающее двух демонов пространство было самым что ни на есть успокаивающим. И Ангел Тьмы рассмеялся без следа прежнего негодования.
– Нет-нет, старый льстец! В этой великой игре нельзя пренебрегать даже самой несущественной мелочью. Кроме того, я честолюбив, признаюсь в этом, и понимание того, что Земля целиком и полностью отдана добру, меня бы не порадовало. Однако, в конце концов, я не могу расценить как непростительное благодеяние продолжение твоей добродетельной жизни здесь со своим сералем, пока какое-то время еще существует эта планета. Такие небольшие отпуска освежают работников для последующих трудов. Так что, если хочешь, я прикажу Амемону, или Баалзебубу, или возможно Суккот-Бенофу немного позабавиться, и они устранят этого ничтожного святого.
Но Нинзиян, казалось, колебался.
– Мой князь, боюсь, что в таком случае здесь появятся некоторые из этих назойливых архангелов. И одно повлечет за собой другое, а моей жене совсем не понравятся какие-либо сверхъестественные сражения в саду среди ее любимых роз. Нет, как я всегда говорю, намного лучше избежать этих мучительных сцен.
– Твоя жена! – сказал Люцифер в крайнем изумлении. – И ты берешь в расчет эту тощую, выцветшую, благочестивую негодницу! Но твоя жена отреклась от тебя! Она поймала тебя на измене и поэтому предала тебя этому жестокосердному святому!
Нинзиян позволил себе улыбнуться в полумраке…
Глава LVI Расчетливость Нинзияна
Нинзиян позволил себе улыбнуться в полумраке при такого рода холостяцких речах. Люцифер действительно мыслил бы чуть шире, был бы не столь откровенно наивен, если бы не оставался всегда упрямо предубежденным противником брака лишь потому, что это священное таинство. Для того чтобы усовершенствовать истинные знания о человеческой природе, а к тому же и обезопасить повсюду всеобщее благополучие (размышлял Нинзиян), Люциферу требовалось лишь раз жениться на какой-нибудь на все способной женщине…
Поэтому Нинзиян улыбнулся. Но Нинзияну ничего не нужно было говорить, ибо в этот миг из двери вышла Бальфида и – не видя в сумерках Князя Тьмы – крикнула, что на столе стынет ужин и что она действительно хотела, чтобы Нинзиян попытался бы стать чуть более внимательным к людям, особенно когда у них гости.
И Нинзиян, поднявшись, хихикнул. – Моя жена была вот такой же, когда Сидон еще был деревушкой. Время от времени она меня разоблачает. И еще никогда она не выставляла меня на всенародное обозрение. О, если б я это мог объяснить, я бы, вероятно, менее о ней заботился. Отчасти, вероятно, это означает, что она меня любит. Отчасти, боюсь – оглядываясь в прошлое, – это означает, что ни одна действительно совестливая особа не позаботится доверить кому-то наказание своего мужа. Конечно, все это чистая теория. Несомненно же то, что моя жена исповедалась весьма умеренно и что мы с вами присоединяемся к бессмысленным беседам со Святым Гольмендисом.
Но Люцифер еще раз покачал головой.
– Нет, Суркраг, я не брезглив, но мне нет никакой пользы от святых.
– В общем, князь, я бы не стал чересчур поспешно с вами соглашаться. Ибо у Гольмендиса есть неоценимые преимущества. Во-первых, он совершенно искренен, во-вторых, энергичен, а в-третьих, он никогда не прощает никого, отличающегося от него. Конечно, он целиком за то, чтобы люди были лучше, чем они умудряются быть, а своими рассказами о втором пришествии Мануэля он просто пугает людей… Ибо они, мой князь, значительно видоизменили эту легенду. Сегодня Мануэль должен принести с собой не только славу и процветание: похоже, он должен вернуться также с большим грузом наказаний и мук для всех тех, кто каким-то образом не согласен со взглядами Гольмендиса и Ниафер.
– Ах, старая история! В действительности, поразительно, – с искренним удивлением заметил Люцифер, – когда встречаешь повсюду эту легенду о Спасителе в такой форме. Кажется, тут проявляется какой-то инстинкт.
– Но, – терпеливо продолжил Нинзиян, – она дает им нечто предвкушаемое. Она обещает удовлетворить все их врожденные желания, включая жестокость. И, прежде всего, она позволяла им не сойти с ума и верить, что кто-то где-то присматривает за ними. В любом случае, – как я и говорил, – этот изможденный Гольмендис запугивает Пуактесм до состояния всеобщей благочестивости. И все же всегда остаются углы, спальни и другие укромные места, в которых, так сказать, нарушается целомудренное равновесие. Воздержание и страх чудесно возбуждают аппетит. Так что, в конце концов, я сомневаюсь, есть ли у вас где-либо на Земле более услужливые друзья, чем эти святые, которые не смирятся ни с чем, не достигающим их особого рода совершенства.
Люцифера это не убедило.
– Конечно, ты пытаешься оправдать своих друзей и товарищей последних двадцати лет. Тем не менее, все эти речи в защиту порочности добродетели являются обычными банальностями юности. И ни один безбородый циник, даже пристрастившийся к стихам, еще никогда долго ими не увлекался.
– Но, – ответил Нинзиян, – но здесь я не просто теоретизирую. Я говорю со всей ответственностью. Ибо вы помните, князь, что по правилам нашей игры, когда любой смертный собирает для вас сотню последователей, Яхве штрафует его, ставя в то же положение, что и остальных из нас. И, в общем, сударь, вы можете увидеть здесь в грязи, как раз там, куда я столкнул Гольмендиса с дорожки…
Люцифер сделал светящимися кончики своих пальцев и поднес их, словно пять свечей, к отпечаткам ног святого. Затем Ангел Тьмы поклонился Небесам с настоящим уважением.
– Наш Противник, надо отдать Ему должное, ведет честную игру. Суркраг, это потрясающе! Это весьма трогательно указывает, что великая игра ведется нашим дорогим другом искренне и мужественно. Между тем я определенно должен поужинать с вами. Великая игра далека от завершения, если я еще оказываюсь четвертым в компании с фанатиком, женщиной и лицемером.
– Ах, князь, – сказал слегка потрясенный Нинзиян, когда они заходили в тихий, уютный дом, – разве вы не должны более тактично сказать: с тремя вождями реформ?
Книга Девятая Над раем
«…он бил восхищен в рай и слышал неизреченные слова…»
Второе послание к Коринфянам, 12, 4Глава LVII Созданные Можи неприятности
Дальше история повествует о мятеже Можи, являвшегося сыном Донандра Эврского, тана Эгремонского. Ибо младшая дочь Мануэля Эттарра, родившаяся после кончины отца, теперь достигла поры полного расцвета своей диковинной красоты. И именно в это время Эттарра была помолвлена с Гироном де Роком из знаменитого дома Гатинэ, что в итоге привело к тому, что двое молодых людей потеряли рассудок, четверо покончили с собой и семеро женились. И также именно в это время юный Можи д'Эгремон прибег к более существенному утешению, чем то, которое можно найти в слабоумии, смерти или замещении одной женщины другой. Он похитил и увез Эттарру, Его отряд из десяти человек преследовали граф Эммерик и Гирон с двадцатью своими сторонниками. И после стычки в Бовьоне девушка, целая и невредимая, была освобождена.
Но Можи при этом бежал. А после он поднял настоящий мятеж против графа Эммерика и захватил те твердыни в Тауненфельсе, которыми когда-то долгое время владел Отмар Чернозубый, сдерживая атаки самого графа Мануэля.
Короче, история, кажется, почтила банальность, повторив самое себя лишь с некоторой разницей: мрачный Можи был в равной мере великим военачальником и великим влюбленным и во всех отношениях более отвратительным, чем Отмар, тогда как Эммерик нигде, кроме банкетов, вообще не вызывал отвращения. Более того, Эммерику в те дни не хватало сильного родственника, на которого можно было опереться, ибо его зять, гетман Михаил, находился в Московии, молодой граф Менторский умер, а Айрар де Монтор перебрался ко двору короля Теодорета. Эммерик, таким образом, имел в качестве полководцев лишь Фопаде Нуантеля и неблагоразумного Гирона, ожидавшего, что их поведет в бой сам Эммерик.
Поэтому Эммерик колебался, он ставил условия, он даже посмотрел сквозь пальцы на взятие Гирона в плен пиратами Каер-Идрина, лишь бы избавиться от этого беспокойного позера, настаивавшего на втягивании Эммерика в такие весьма неутешительные сражения. А Можи, поскольку эти условия не содержали его обладания Эттаррой, вскоре их разорвал. Таким образом, в Пуактесме теперь началась война между вожделением Можи и вялостью Эммерика, тянувшаяся в течение многих утомительных и лихорадочных лет.
Затем из-за моря вернулась госпожа Мелицента со своим вторым мужем, графом де ла Форэ – господином, в значительной степени на дух не переносящим разбойников и мягкотелость. Этот самый Перион де ла Форэ занялся делами с такой решительностью, что Гирон вскоре был освобожден из плена, Можи подавлен и убит, а Эттарра, которую он желал себе же во вред, вышла замуж за Гирона, и граф Эммерик устроил в честь этого события банкет. Вот какова была порывистость Периона.
Об этих событиях история повествует походя. Ибо история теперь о Донандре Эврском, являвшемся отцом Можи и не нарушавшем присяги на верность Эммерику, который недостойно сидел на месте того великого господина, привилегией служить которому в его смертной жизни обладал Донандр. Ибо Донандр был единственным из властителей Серебряного Жеребца, принявшим с радостью и необузданной верой легенду о Мануэле и всей своей жизнью свидетельствовавший о ней.
Донандр Эврский был в братстве самым молодым, ему, только что ставшему вдовцом, в это время было за сорок, и недостаток блистательного ума он искупал безжалостностью в битве. Однако в этой войне он решил не показывать свою удаль, поскольку борьба велась между сыном дона Мануэля и сыном самого Донандра. Вместо этого он выбрал изгнание.
Хотя сперва он отправился в Сторизенд и, стоя перед священным надгробием, какое-то время смотрел снизу вверх на спокойную и величественную статую Мануэля, парящую на вечном посту, охраняя родную страну Донандра, и сверкающую всеми драгоценностями мира. Донандр встал на колени и сотворил молитву в этом священном месте, как он знал, в последний раз. Затем Донандр, не жалуясь и не огорчаясь из-за смерти своей жены, выехал из Пуактесма безземельным человеком. И он благочестиво стал служить принцу Балейну Таргамонскому (тому самому, что двадцать лет назад добивался руки царицы Морвифи, незадолго до злосчастных дней, когда ее вначале заточили в темницу, а потом отрубили голову), грабившему теперь язычников норманнов.
Таким образом, получилось, что и Донандр наконец покинул Пуактесм – не по собственной воле, – чтобы встретиться лицом к лицу с самой странной из всех судеб, выпавших на долю властителей Серебряного Жеребца после кончины дона Мануэля.
Глава LVIII Показывающая, что даже ангелы могут ошибаться
Эта судьба начала осуществляться на широком поле под Ратгором, когда вперед выехал Палнатоки и начал хвастаться:
– Я – герой Ансов. В странах Севера нет никого сильнее меня. И если где-то и живет более сильный человек, это еще не доказано. Кто здесь попытается сразиться со мной?
Позади него стояла в ожидании армия язычников – несметная, ужасная и прискорбно грубая. Она тут же заорала:
– Мы вызываем смельчака на смертный бой! Кто сразится с Рыжим Палнатоки, владыкой Лебединой купальни, убийцей великанов в Нёнхире?
Тут из стоящих напротив рядов вышел, бряцая оружием и сверкая доспехами, Донандр Эврский. И он сказал:
– Я, каким бы недостойным вас ни казался, мессир, тот человек, который изволит выйти с вами на бой. Я до сегодняшнего утра тоже сражался. Под знаменем Серебряного Жеребца дона Мануэля я делал все, что мог. То же самое я вновь буду делать здесь сегодня и каждый день вплоть до священного Дня Суда.
После этого христианская армия заорала:
– Самый сильный – Донандр! Но он просто скромничает!
Но Палнатоки презрительно крикнул:
– Твоя величайшая воля этим утром тебе не поможет! Позади меня собрана вся мощь Ансов, недосягаемых богов, обитающих над Лерадом, и их сила будет выказана посредством меня.
– Позади начинаний любого верного сына Церкви, – сказал Донандр, – благословенные святые и блистательные архангелы.
– На самом деле, Донандр, это, возможно, действительно так, – ответил Рыжий Палнатоки. – Сегодня встречаются старые боги и боги Рима. И мы – их мечи.
– Твои боги признают свою слабость, мессир Палнатоки, выбрав наилучшее оружие, – учтиво ответил ему Донандр.
Обменявшись любезностями, они стали драться. Нигде на земле не нашлась бы пара более дюжих воинов. Каждому не было равных нигде между гор, кроме его противника. Они, в самом деле, столь соответствовали друг другу, что после получаса невероятной схватки показалось достаточно естественным, что они одновременно убили друг друга. А потом, когда обнаженные души покинули умирающие тела, произошла злосчастная ошибка.
Ибо тут с Севера появился Кьялар, великодушный проводник языческих воинов к вечным наслаждениям в Чертоге Избранных. А из зенита устремился вниз, словно сияющий отвес, Итуриил, чтобы доставить душу храброго героя Христианского мира к блаженствам золотого града со стенами из нефрита Господа Бога Саваофа. Оба эмиссара достигли поля брани до того, как там образовалась их добыча. Оба, как закаленные виртуозы войн, получили удовольствие от этого необычно красивого поединка. И, находясь в возбужденном состоянии, каждый из них каким-то образом совершил ошибку, забрав добычу, предназначенную другому. И вышло так, что душа Донандра Эврского отправилась на Север, сияя на ладони Кьялара, тогда как Итуриил переправил душу Рыжего Палнатоки в Рай Яхве.
Глава LIX Новообращенный Палнатоки
Оплошность Итуриила, что можно с удовлетворением отметить, не имела в итоге существенного значения. Ибо тогда Христианский мир горячо спорил о разных теологических вопросах, не очень понимаемых в Раю Яхве, где, как следствие, не осмеливались принимать решений по поводу заслуг противоборствующих сторон. И ежедневные поступления христианских героев и мучеников всех сект допускались к блаженству с такой же скоростью, с какой они убивали друг друга.
Более того, Рыжий Палнатоки был, в соответствии с догматами своей суровой Нордической веры, фаталистом. Когда он обнаружил, что произошло, и узрел странное спасение, уготованное ему, религиозное сознание уверило его, что это тоже предопределено своенравными Норнами, и он благочестиво не стал жаловаться. Вечная жизнь, которую он унаследовал – без поединков и с напитками не крепче молока, – не отвечала ожиданиям кого угодно, но могучий морской разбойник давным-давно обнаружил, что отвечает им весьма немногое. Между тем он, в любом случае, мог предвкушать ту обещанную последнюю великую битву, когда достойные военачальники Гог и Магог (как понял Палнатоки, с большим отрядом прекрасных воинов) нападут на четырехугольный город, и тогда у Палнатоки опять появится шанс испытать истинное удовольствие при защите стана святых.
А между тем его также заинтересовали местные девушки. В лучшем случае, кому угодно с его религиозным воспитанием казалось совершенно необъяснимым нахождение в раю женщин, а эта особая пара показалась Палнатоки чрезвычайно чудным выбором для исключительного фаворитизма. Он мог лишь предполагать, что в небесные расчеты вкралась некая ошибка, сходная с той, что обеспечила его допуск сюда, особенно когда он не видел нигде вокруг других женщин.
И Палнатоки размышлял, что беременная дама с орлиными крыльями и короной из маленьких звездочек, за которой с трогательной преданностью повсюду следовал вроде как ручной дракон, не могла еще в течение нескольких месяцев вознаградить затраченные на нее усилия. Но другая очень миловидная брюнетка с золотой чашей в руке, в великолепных одеждах с ярлыком на лбу, только что привезенная семиглавым багряным чудовищем, поразила воображение Палнатоки. Походило на то, что эта девушка не была жеманницей. Она прошла невдалеке от него, подмигнув ему, как подмигнула и в тот момент, когда обернулась. Так что эта Великая Вавилонская Блудница (это, как ему рассказали, было именем второй дамы) позволила ему предвкушать еще кое-что.
Без тени раздражения Палнатоки решительно отправился на свой первый урок в класс арфы. И вместо возражений вежливо распевал аллилуйю.
Ибо, предвкушая два прекрасных грядущих дня, Палнатоки был вполне доволен. И поэтому в Раю Яхве все шло надлежащим образом и так же плавно, как Рыжий Палнатоки в данный момент покидает эту историю.
Глава LX В Чертоге Избранных
Когда Донандр Эврский проснулся в Северном раю, он тоже оказался вполне доволен. Место, правда, было весьма странное, далеко не самое уютное – чертог с золотой крышей и пятьюстами сорока дверями в версту шириной. А чудовища в облике оленя и козы, расхаживавшие по зданию и постоянно объедавшие нижние листья великого древа, называвшегося Лерад, показались Донандру превосходящими по величине любых заморских тварей – животные, под копытами которых только весьма неблагоразумные люди воздвигли бы свою резиденцию. Однако, как и Палнатоки, Донандр Эврский являлся бывалым воякой, который мог сносно обосноваться где угодно. Да он и не открыл для себя среди язычников ничего нового, поскольку в смертной жизни Донандр странствовал по всему свету, а более половины его достойных врагов и соперников во множестве восхитительных поединков были неверными.
– Не считая их злосчастных религиозных ересей, – обычно признавался он, – у меня нет никаких претензий к языческим особам, которых я и в дневных и в ночных столкновениях находил точно такими же дружелюбными и общительными, как и должным образом крещеные дамы.
Короче, он довольно неплохо уживался с соломенноволосыми призраками этих северных королей, скальдов, ярлов и викингов. Они выпучили глаза, а некоторые даже захохотали, когда Донандр устроил небольшую раку, в которой благопристойно молился каждый день в надлежащие часы о втором пришествии Мануэля и благоденствии души Донандра в священный День Суда. Однако, в конце концов, эти северные призраки признали, что в их раю, как нигде в другом месте, человеку нужно позволять во всем следовать собственным вкусам – даже в богатой поэтическими образами эсхатологии. А когда они несли свой действительно жалкий вздор о том, что они гости Свидрира, Ткача и Ключаря, и о вечной счастливой жизни в Чертоге Избранных благодаря его щедрости, приходила очередь Донандра пожимать плечами. Даже не будь других разногласий, ведь все знали, что у настоящего Рая не пятьсот сорок золотых ворот, а лишь двенадцать входов, каждый из которых вырезан из одной жемчужины, и на нем выгравировано имя колена Израилева.
– Кроме того, кто этот Ткач и Ключарь? – спросил Донандр. – Определенно, я о нем никогда прежде не слышал.
– Он – Король и Отец Ансов, – сказали ему. – Он повелитель того невообразимого народа, что обитает в Идалире; он не убивает своих уродливых и слабых детей, как обычно делаем мы, а вместо этого выкидывает за выточенные из слоновой кости стены Идалира всех подобных выродков, чтобы они стали богами людей не светловолосых и не нордических.
Донандр, будучи верным сыном Церкви, смог лишь покачать головой над подобным вздором и другими бесчисленными ошибками, посредством которых эти язычники были обречены на вечную погибель. Вслух же Донандр повторил свой окончательный вердикт относительно притязаний этого Свидрира:
– Я о нем никогда прежде не слышал.
Тем не менее Донандр без какого-либо неудовольства пребывал среди наслаждений Северного рая и принимал участие во всех местных забавах. Сообща с остальными мертвецами он ел неиссякающее мясо вепря, и с ними же он пил крепкий мед, державший их постоянно во хмелю. И он спокойно выезжал вместе с остальными каждое утро на луга, где эти блаженные владыки варваров весело сражались друг с другом до полудня. В полдень звучали раскаты грома, убитые и раненые воины внезапно оживали, их раны затягивались, руки, головы и ноги соперников, потерянные в игре, присоединялись к туловищам, и вся компания по-братски возвращалась в чертог с золотой крышей, где они ели, пили и хвастались, пока не засыпали.
– Однако не выиграют ли наши банкеты, господа, – предложил Донандр примерно после столетия таких суматошных удовольствий, – будучи благоприятно приправленными некоторыми наслаждениями, вызываемыми женским обществом, хотя бы на десерт?
– Но ведь одно из предписанных нам блаженств – покончить с женщинами и их глупостями! – воскликнули викинги. – Теперь, когда мы попали в рай.
И Донандр, который всегда отличался страстностью натуры и который энергично служил такому множеству дам, похоже, огорчился, услышав столь нерыцарственное высказывание. Впрочем, он ничего не сказал.
Так прошло немало времени. И миры изменились. Но во взоре Донандра Эврского, как и во взорах всех пирующих в Чертоге Избранных, не было ни осмысленности, ни боязни времени, поскольку эти блаженные мертвецы находились теперь постоянно во хмелю. И, как подобает верному сыну Церкви, Донандр в окружении, которое Небеса, исходя из небесной мудрости, выбрали для него, без жалоб ждал второго пришествия Мануэля и священного Дня Суда.
Глава LXI Прелестная владычица Регинлейва Ванадис
Затем с самой высокой части Северного рая, из невообразимых тисовых долин Идалира, поднимавшихся над самыми верхними ветвями древа, называвшегося Лерад, сошла в голубом одеянии Ванадис – дорогая сердцам Ансов владычица Регинлейва. Она в пылкой мифологической манере уже избавилась от пятерых незадачливых мужей, но все же ее обуяли одиночество и желания. И с вечным оптимизмом вдов она отправилась искать шестого супруга среди этих мускулистых героев, насмехающихся над женами и их уловками.
Но Донандр Эврский был человеком, который по двум причинам мгновенно нашел благосклонность в ее взоре, когда она наткнулась на Донандра, отдыхающего после утомительных, но приятных утренних единоборств и принимающего ежедневную ванну в сверкающих водах реки Гипуль. Именно так называли мертвые поток, струящийся с рогов чудовищного оленя, который вечно стоял, пощипывая и жуя листья, на крыше Чертога Избранных.
«Вот чрезвычайно подходящий мужчина!» – подумала Ванадис. Вслух же она сказала:
– Привет тебе, мой друг! Неужели такой статный и красивый малый с твоим ростом и сложением избегает работы или все же он ищет работу?
Дюжий Донандр вылез из чистого потока Гипуль. Он направился, с улыбкой и необыкновенным восхищением, к первой женщине, которую увидел за семьсот лет. А женская природа настолько постоянна, что божественная Ванадис посмотрела на Донандра с таким же задумчивым удивлением, с каким более семисот лет назад язычница Уцума взглянула на базаре в Поруце на Котта.
Донандр спросил:
– Что вы имеете в виду, сударыня?
Ванадис ответила:
– У меня есть желание, которое, как сообщило мне прекрасное знамение, совпадает с твоим желанием.
Затем Ванадис с божественной откровенностью высказала это желание. И так как натура у Донандра была страстная, он достаточно легко согласился с предложениями этой довольно пылкой и чрезвычайно миловидной молодой женщины, которая так необычно разъезжала в повозке, запряженной двумя котами, и которая по-язычески и образно представила сама себя как богиню. Он лишь оговорил, как только оделся, что они должны добропорядочно сочетаться согласно законам о браке ее страны и епархии.
Ансы в таких вопросах обыкновенно не церемонились. Тем не менее они посовещались – Адуна, Орд, Хлейфнер, Рённ, Гейрмифаль и другие лучезарные сыновья Свидрира. И именно они выдумали незатейливую церемонию со свечами, обещаниями, музыкой, золотым кольцом и всеми остальными атрибутами, которые, по-видимому, ожидались странным супругом, приведенным из Чертога Избранных их любимой Ванадис. Но ее сестры не участвовали в церемонии по причине того, что считали такие публичные прелиминарии неслыханными и бесстыдными.
Таким образом Донандр оказался допущен к благам Идалира – страны, находящейся выше Лерада и всех остальных небес и раев. И через семьсот лет безбрачия Донандр достаточно мило зажил вместе с молодой женой в великолепном дворце. Ванадис же обнаружила, что она, в некотором смысле, тоже жила со своими пятью прежними мужьями в безбрачии.
Глава LXII Демиургия Донандра Вератюра
Одним-единственным изменением, которого потребовал Донандр, стало устройство в этом самом Регинлейвском дворце часовенки. Там он бывал ежедневно в надлежащие часы, насколько их можно было вычислять в бесконечном дне, и там он молился о втором пришествии Мануэля и о благоденствии души Донандра в священный День Суда.
– Но, на самом-то деле, сердце мое, – увещевала его Ванадис, – ты же мертв уже так долго! А если посмотреть здраво, эти твои образы кажутся такой потерей вечности!
– Прекрати, моя дорогая, нести свой языческий вздор! – отвечал Донандр. – Неужто я не знаю, что на небесах нет браков? Как бы тогда небеса стали таким местом, где двое живут дружно и счастливо?
Между тем языческим жрецам повсюду, где поклонялись Ансам, было откровение о шестом и всецело успешном браке Ванадис. Ее супруга должным образом обожествили, и были построены новые храмы в честь блистательной владычицы Регинлейва и Богочеловека Донандра Вератюра, ее энергичного избавителя от тщетного желания и телесного горя. А над мирами втихомолку, как река, текло время, изменяя их и стирая. Но для Донандра все было так, словно он по-прежнему жил в тот трижды счастливый день, когда женился на своей Ванадис. Ибо поскольку все, что желают Ансы, должно происходить немедленно, Идалир знает лишь один бесконечный день. И неизмеримо ниже его сияния – во многом так же, как медленная, набухшая от дождей река течет под мостом, на котором в лучах апрельского солнца встретились юные влюбленные, – происходило совершенно не замечаемое никем в Идалире протекание времени и разрушение им всего сущего.
И к тому же после огромного множества эонов, которым пренебрегает Идалир и которое люди не могут себе вообразить, получилось так, что Донандр увидел одного из своих младших свояков за чудным занятием. Донандр задал ему кое-какие вопросы. И узнал, что этот смуглый, бойкий маленький Кощей играет в игру, в которую обычно играют юные Ансы.
– А как в нее играют? – спросил затем Донандр.
– Так-то и так-то, сердце мое, – ответила жена. Любящая Ванадис была рада найти для своего мужа хоть какое-нибудь занятие на свежем воздухе, которое отвлекло бы его от этой непроветриваемой часовни с ее мрачными картинами пыток и удушливым запахом ладана.
Затем Донандр сорвал ветку с дерева под названием Лерад, произнося при этом соответствующее слово власти. Сидя у пятой реки Идалира, он срезал ножом с зеленой рукояткой, данным ему Ванадис, полоски коры с этой ветки и разбросал их вокруг. Он воистину обнаружил, что те кусочки коры, которые коснулись воды, стали рыбами, те, которые он кинул в воздух, стали птицами, а те, которые упали на землю, превратились в животных и людей.
У него, в самом деле, почти мгновенно оказалось достаточно созданий, чтобы населить некий мир, но, конечно же, не такой мир, где можно жить и размножаться. Поэтому Донандр уничтожил эти создания и поместил одну из вирд на жука Кару. Это громадное добродушное насекомое тут же стало лепить из грязи шар и наносить на него горы, равнины и долины. Затем Кару прорыл в центр этого грязевого шара некий ход. И из этой дыры, в которую вполз Кару, вышли все виды живых существ, необходимых для многообразия мира. И они начали размножаться, и убивать друг друга, и строить удобные для них норы, гнезда, логова и целые города.
Это настолько взволновало еще одного жука по имени Хепри, что он вообще проявил себя в манере, которую здесь просто неудобно описывать. Но благодаря его замечательному поведению зародилось великое множество живых существ, растений, ползучих тварей, да и люди тоже появились – из слез, пролитых Хепри.
Такова была вторая демиургия Донандра Вератюра. Затем с помощью золотого яйца Донандр создал еще один мир. А еще один он вытянул из внутренностей паука. Из мяса падшей коровы он создал пятый мир. А при содействии ворона Донандр создал еще один мир. Так он и продолжал, по очереди испробывая каждый метод, которым когда-либо пользовались Ансы.
Эти забавы развлекали Донандра достаточно долгое время и даже еще немного. А Ванадис, не говоря уж о ее естественном удовольствии от увеличения сил, которых Донандр набирался при длительных занятиях на свежем воздухе, блистательная Ванадис улыбалась, глядя на его игры, как любая жена, обнаруживающая, что ее муж всецело занят менее предосудительными делами, чем можно ожидать от этого существа. А сыновья Свидрира улыбались пока еще не исподлобья, когда проходили мимо Донандра, занимавшегося своими игрушками. Даже сестры Ванадис лишь сказали: «Действительно – подумать только, и, конечно же, мы только этого с самого начала и ждали». Таким образом, все оставались довольны достаточно долгое время и даже еще немного.
А в течение этого времени Донандр работал над своими мирами, освещая их молниями и извержениями вулканов, усердно избавляя их от перенаселения той или иной эпидемией, очищая ураганами и постоянно отмывая ливнями и потопами. Он с любовью относился к своим игрушкам и содержал их в отличном состоянии. Между тем его умение возрастало по мере вникания в суть демиургии, а о чем-либо еще Донандр думал мало. Теперь ему не нужна была помощь воронов и жуков. Он обнаружил, что ему стоило лишь возжелать появление нового мира, и тотчас же его желание воплощалось в реальность: свет отделялся от тьмы, воды собирались в одном месте, появлялась суша и начинала кишеть живыми тварями – все это в один миг, полный удовлетворения и восхищения собой. Ранее созданные звезды, кометы, светила и астероиды Донандр Вератюр начал уничтожать, отчасти в раздражении, отчасти в настоящем изумлении при виде архаичных, топорных методов, из которых он уже вырос. На их местах он создавал новые вращающиеся, блистающие и пульсирующие планетные системы, которые, во всяком случае, некоторое время казались ему чрезвычайно искусными изделиями. И повсюду в мирах, созданных им и пока еще не уничтоженных, люди поклонялись Донандру Вератюру. И в своем милом доме в Регинлейве, высоко-высоко над Лерадом и любым другим небом и раем, Донандр поклонялся богу отцов и всех добропорядочных ближних Донандра Эврского, и в таком языческом окружении, которое Небеса благодаря небесной мудрости выбрали для него, ожидал второго пришествия Мануэля и священного Дня Суда.
Глава LXIII Расчетливость Свидрира
Затем внезапно вместе со своими волками, резвящимися вокруг него, появился светящийся Свидрир Вавуд, Ткач и Ключарь. Он появился в своей широкополой шляпе, решительно надвинутой на глаза. Он подошел к своей дочери Ванадис и заявил, что, покуда терпение является добродетелью, существует такая штука как переусердствование, неважно, насколько мало его самого могут волновать разговоры о праздных хлопотунах, потому что, сколько бы она ни спорила, а это она всегда делала с детства, уподобившись в этом и во многих других неблагочестивых качествах своей матери, даже при всем том ни один благоразумный Анс не смог бы отрицать, что поведение ее мужа смехотворно. И это (сказал Свидрир Вавуд) не подлежит сомнению.
– Не шуми так, сердце мое, – ответила Ванадис, – по поводу природных обстоятельств. Все мужья смехотворны. Кто может быть более уверен в этом, чём я, имевшая шесть мужей, если только не ты, который в облике козла, синицы и березы являлся мужем шестисот женщин?
– Все это замечательно, – сказал Свидрир, – в дополнение к тому, что мы обсуждали совсем не это. Твой Донандр сейчас является одним из Ансов. Он – Анс в зрелом возрасте, и ему не к лицу создавать миры. Вот что мы обсуждаем.
Однако какие божественные руки, – спросила Ванадис, – не замараны демиургией?
– Мы обсуждаем и не это. Когда вы, мои отпрыски, были детьми, у вас были игрушки, и вы играли ими, и вы их ломали. Никто этого не отрицает, поскольку вы все, от Рённа до Адуны и даже самый младший Кощей, перебесились подобной ерундой. Взгляни-ка на самого красивого и здравомыслящего малого, несмотря на все его шалости, и спроси Кощея, что он думает о твоем муже! А ты вместо этого предпочитаешь уклоняться от обсуждаемой темы, поскольку знаешь, как и я, что для детей подобные игры вполне естественны и, кроме того, постоянно оберегают молодежь от серьезных несчастий. Хотя, разумеется, прямо скажу тебе, моя Ванадис, оберегают не очень долго и не всегда, ибо взгляни к тому же, в качестве наиболее горестного примера, на то, как скоропалительно и неизящно ты уничтожала своих мужей!
– Донандра Вератюра я никогда не уничтожу, – с улыбкой ответила Ванадис, – из-за любящего человеческого сердца и сводящих с ума человеческих поступков, которые он вынес из своего Пуактесма, и еще по двум причинам.
– Тогда я положу конец, если уж не ему, то, по крайней мере, этой его ерунде. Ибо твой Донандр по-прежнему играет со звездами и планетами, запускает кометы и взрывает светила, а заниматься этим ему не подобает.
– Ну-ну, ты – Отец и Хозяин Всего Сущего, поступай с ним по собственной воле, пока можешь, – ответила Ванадис, по-прежнему улыбаясь каким-то своим воспоминаниям. Она уже слишком долго жила со своим шестым мужем, у которого было человеческое сердце и человеческие поступки.
Глава LXIV Овальное окно
Затем Свидрир отправился к Донандру. Но тут Ключарь обнаружил, что нельзя немедленно принудить Донандра Вератюра к некоему осознанию своей греховности, так как Донандр Эврский давным-давно умер и стал Ансом. Люди, как заявил Донандр, такими вещами не занимаются; когда люди умирают, они отправляются либо в Рай, либо в Ад. И дальнейшие препирания с Донандром, похоже, ни к чему определенному привести не могли. Ибо Донандр, будучи верным сыном Церкви, с сожалением пожимал плечами, слыша от своего тестя этот языческий вздор. Он гладил по голове волков Свидрира, он слушал Ткача и Ключаря со снисходительностью, приберегаемой для слабоумных. И он сказал, немного смакуя слова, что мессир Свидрир станет мудрее в священный День Суда.
Затем Свидрир Вавуд стал Свидриром Иггом, Размышляющим и Ужасным. Затем Свидрир принялся за такую магию, которую ему не приходилось использовать с первого появления на вечных тисовых долинах Идалира. Одним словом, Свидрир открыл в Регинлейве овальное окно, выходящее в пространство и время, на замерзшую золу, которая когда-то была мирами; солнцами и звездами, которые создавшие их творцы уничтожили, когда один за другим Ансы расставались с детством и игрушками.
Среди этих обломков претенциозно вращались еще живые миры, созданные Донандром. Эти игрушки, видимые вплотную благодаря магии овального окна, ощетинились шпилями храмов и соборов, в которых пока еще живущие в этих мирах имели обыкновение молиться. Во всех этих церквах люди взывали к Донандру Вератюру. Через это заколдованное окно впервые его ушей достигли крики его священников и мирян: нигде не было и разговоров о другом боге; даже там, где из множества миров исходили разъяснения страшных представлений предков о Богочеловеке Донандре, Избавителе от Тщетного Желания, Хранителе от Телесной Печали, доказывавшие, что никого подобного не могло существовать. А Донандру, выглядывавшему из окна в Регинлейве, все это казалось копошением муравьев или ползанием очень маленьких личинок по мирам, которые он создал для собственного развлечения. И на лице, так же как и в сердце Донандра, пробудилось беспокойство.
– Если это правдивая картина, – вскоре сказал Донандр, – покажите-ка ту Землю, что является моим домом.
После небольших поисков Свидрир нашел ему плывущий шлаковый шар, что когда-то был Землей. На его искрящейся обнаженной поверхности не осталось ни одного живого растения и ни одного дышащего существа. День Суда давно миновал, и земные дела были свернуты. Ни на одной планете никто не помнил бога, которому поклонялся Донандр, – теперь, когда Яхве закончил игру и его игрушки оказались сломаны или выброшены. Но на многих планетах существовали храмы Донандра Вератюра и поднимающийся дым от жертвоприношений ему и слышались крики почитавших его, когда они убивали друг друга в спорах по вопросам теологии, которых Донандр не мог понять.
Да он и не думал об этом. Вместо этого Донандр Вератюр, который последним из Ансов занимался этой невыгодной забавой – демиургией, вспомнил дни и лунные ночи своей молодости и славных тривиальных людей, которых он тогда любил и уважал. Он не думал о двух женах, которые были у него на Земле, да и о своем сыне Можи или о проявлениях донандровой мужественности. Он подумал, вообще без всякой причины, об убогом маленьком сельском священнике, конфирмировавшем его, и об отце с матерью, которые были мудры и способны защитить его от любого несчастья, и о высокой девушке, чьи губы когда-то, прежде всех остальных губ, оказались слаще радостей Идалира. И он думал о множестве других бесполезных вещей, которые, как сейчас оказалось засвидетельствовано, всегда были бесполезны, но которые давным-давно казались очень важными юноше, что, служа знаменитому Мануэлю Пуактесмскому, так храбро вставал в позу в крошечной провинции вымершей планеты.
И, заломав бессмертные руки, Донандр сказал:
– Если это правдивая картина, кем же стал я, который больше не может ничто ни любить, ни уважать! Который не может волноваться из-за какого угодно Дня Суда! И которому космос открывает лишь жизнь этих неразличимых, грязных и сумасшедших насекомых!
До него донесся крик молящихся ему:
– Ты есть Бог, Творец и Хранитель всех нас, Твоих детей! Ты есть Донандр Вератюр, в Коем наше твердое упование! Ты есть Богочеловек, Который дарует нам справедливость и спасение в священный День Суда!
– Так эти маленькие существа, – спросил Донандр, – говорят о Мануэле?
– Мы не знаем никакого Мануэля! – ответила ему Вселенная. – Мы знаем лишь, что Ты есть Бог, наш Творец и Хранитель.
Затем, вновь понаблюдав за паразитами, кишащими в его мирах, Донандр спросил слегка испуганно:
– Разве Бог такой?
Ему ответили с любовью и уважением:
– Как Бог может быть не таким, как Ты?
При этом Донандр вздрогнул. Но в тот же миг он сказал:
– Если это правдивая картина и если я, в самом деле, бог и хозяин всего сущего, человеческое сердце, сохранившееся во мне, желает теперь сотворить тот завтрашний день, которого эти несчастные, да и я тоже, так долго ждали.
Тут Свидрир указал настолько спокойно, насколько мог позволить его разгневанный здравый смысл:
– Все же… все же ты говоришь ерунду! Как Анс может сотворить будущее?
Донандр в свою очередь спросил:
– А почему бы и нет, если вы всемогущи?
– Именно потому, что мы всемогущи. Поэтому в Идалире существует лишь один день, из которого даже в воображении ни один Анс не может убежать. Ибо, что бы ни пожелали Ансы, даже будь то завтра, все должно мгновенно произойти и существовать. И это должно произойти сегодня. По-моему, это достаточно ясно.
– Нет, не ясно, – ответил Донандр, – хотя я и допускаю, что излагаемое вами звучит логично. Поэтому, если таково, в самом деле, всемогущество, и если здесь никто не может убежать из сегодняшнего дня, и если я – пленный и ограниченный в правах бессмертный и хозяин лишь того, что есть сегодня, тогда пусть сейчас же все это кончится! Ибо сердце у меня остается человеческим. Сегодняшний день не знает рун довольства моего сердца. Мое сердце не будет удовлетворено, если оно не войдет в то завтра справедливости и спасения, которого повелители людей, как вы мне сказали, не могут ни желать, ни планировать. Так что, если это действительно правдивая картина, пусть все кончится!
В мгновение ока Донандр увидел, что, пока еще он говорил, космос оказался очищен от жизни. Там теперь нигде не было никаких людей. Никто больше не ждал грядущего дня, который должен предельно удовлетворить их гарантированным, блестящим наследием, предугаданным в мечтах, которые бесконечно таились и насмехались над всей человеческой жизнью и обрекали сердце каждого на бытие, чуждое удовлетворению на этой стороне завтрашнего дня. Эта нестареющая мечта о завтрашнем дне и о грядущем спасении – завтра – улетучилась, как улетучивается дымок благовоний. А с ней также ушли из жизни те, кого она питала и поддерживала. Нигде больше не было людей. Донандр видел лишь золу, плывущую в унылом одиночестве. А Донандр Эврский должен был жить вечно в качестве Донандра Вератюра, одинокого и непонятого бессмертного, среди множества равных себе.
– Так будь же благоразумен, зятек, – сказал Свидрир Вавуд, произнося слово власти, навсегда закрывшее это безрадостное окно, из которого больше никто никогда не выглянет, – будь благоразумен, если, на самом деле, в тебе еще есть капля здравого смысла. И живи впредь более подобающе, чтя репутацию жениной семьи. И выкинь из головы эту золу, этот пепел и этот шлак, что являлись надлежащей забавой твоей юности. Таков конец сказания любого мудреца.
Глава LXV Награда за веру
После этого Король и Отец Ансов ушел, вполне довольный уроком, преподанным этому мальчишке. А Донандр тоже улыбнулся и с удовлетворением обозрел радующие глаз долины вечного Идалира.
«Все же ни за что на свете, – размышлял Донандр, – я бы не поменялся местами с этим старым кудесником. И просто стыдно, что у меня такой тесть».
Ибо, будучи верным сыном Церкви, Донандр не сомневался, что чудеса, которые ему только что продемонстрировал Свидрир, были лишь иллюзией, выдуманной с помощью какого-то злого духа, чтобы искусить Донандра и отвратить его от добропорядочности и истинной веры. Именно поэтому Донандр Вератюр, который являлся Творцом и Разрушителем всего, кроме человеческого сердца, выжившего в нем, отправился в Регинлейвскую часовню. Там он благопристойно сотворил привычные молитвы, а молился он о втором пришествии Мануэля и о благоденствии души Донандра в священный День Суда.
Книга Десятая У могилы Мануэля
«Что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь севе гробницу?»
Исаия, 22, 16– Salut, ami, dit Jurgen, si vous etes une creature de Dieu.
– Votre protase est du bien mauvais grec, observa le Centaure, car en Hellade, nous abstenions de semblables reserves. D'ailleurs mon origine vous interesse certes moins que ma destination.
«La Haidte Histoire de Jurgen»Глава LXVI Преклонный возраст Ниафер
Теперь рассказ об искалеченной старой госпоже Ниафер, преобразившей тот Пуактесм, который спасал ее муж, и о думах, одолевавших ее в последние дни жизни. До последнего времени Ниафер, при вечном засилье срочных дел, редко приходилось о чем-либо размышлять. Но на старости лет госпоже Ниафер больше ничего не оставалось делать. Радегонда за этим проследила.
Сероглазая распутница правила всем и вся. Взирать на это ее свекрови было не очень-то приятно, особенно после того, как сама Ниафер правила Пуактесмом почти двадцать лет и за это время выкорчевала с корнем фривольность и беспорядок. В первую очередь, ни одна мать не могла искренне радоваться, видя, как ее собственному сыну завязывает глаза и навязывает беспутный ночной образ жизни жена, от которой в ее тысячу триста с чем-то лет можно было ожидать большей рассудительности. Во-вторых, Ниафер могла управляться с делами, да несомненно, и с бедным Эммериком, с неизмеримо большей выгодой для всех, да и для здравого смысла.
Все эти войны с Можи, к примеру, являлись печальной ошибкой. При ее регентстве (размышляла с удовлетворением престарелая Ниафер) тут и там раздавалось ворчание – ведь люди, будучи такими, какие они есть, не имеют ни малейшего представления о собственном благе, – но никогда не происходило вооруженного мятежа. Когда люди неудовлетворены, посылаешь за ними, они приходят, рассудительно с ними беседуешь, и отыскиваешь, что в действительности не так, и все исправляешь в той мере, в какой исправление кажется наиболее благоразумным. Дополняешь это лаконичной безвредной лестью, и дело с концом. Ни один воин, находясь в здравом уме, не пошел бы воевать с умной, старой дамой, которая считает его таким исключительно прекрасным малым.
В общем, если б в самом начале этого бедного Можи – который был очень милым ребенком, пока не исхудал от постоянных заговоров и убийств, да и родители его многие годы были хорошими знакомыми – пригласить на обед вместе со всей семьей, то потом всех этих убийств, поджогов и побудок ни свет ни заря из-за ночных нападений заблудшего юноши на Бельгард можно было бы избежать.
Но Ниафер участвовать в обсуждении этого, конечно же, не позволялось. Ей не позволялось участвовать ни в каких обсуждениях той женщиной, которая прибавила ко всем своим злодеяниям вечные невыносимые заботы об удобствах матушки Ниафер. И при такой вынужденной праздности графине было весьма одиноко – особенно теперь, когда умер Гольмендис. Почти семь лет назад этот надежный и верный друг отправился в крестовый поход вместе со Святым Людовиком. И эта пара прошествовала от развалин Карфагена к вечной славе при значительном содействии дизентерии. Ниафер очень тосковала по Гольмендису после трех десятилетий тесной дружбы и близких отношений, о которых люди говорили непристойные вещи, о чем старой графине было достаточно известно и что ее совершенно не волновало.
Конечно, у нее оставались ее дети. Было особенно приятно, что вернулась Мелицента после всех этих лет полной неизвестности, тактично ли обращается ребенок со своим похитителем в этой далекой Накумере. Но у детей теперь свои дети и свои дела. И никто не был склонен позволять Ниафер заниматься ни теми, ни другими в Пуактесме, где в течение восемнадцати лет она занималась всем и вся. В остальном госпожа Ниафер знала, что пророчество, высказанное давным-давно Головой Беды, теперь исполнилось: у нее не было места в миропорядке, она являлась лишь едва переносимой незваной гостьей в жизни ее детей, и все повсюду как можно быстрее забывали о ее посещениях.
Ниафер не винила детей. Наоборот, она признавала с практичностью, непостижимой для мужчин, что их поведение весьма благоразумно.
– Если б они разрешили, я бы вечно во все вмешивалась. Зачастую я всем надоедаю. А та часть пророчества о плаче украдкой – совершенный вздор, поскольку плакать не из-за чего, и даже нечему и удивляться, – радостно заявляла госпожа Ниафер.
И к тому же, если порой после того или иного противодействия ее по-прежнему упрямой воле свергнутая старая правительница Пуактесма тихо ковыляла к себе в покои и оставалась там достаточно долго запершись, а потом выходила оттуда с красными глазами, никто особо этого не замечал. И если она в свои лучшие годы вела светскую жизнь в обществе самых изысканных из монархов, то теперь казалось, что в целом она предпочитает одиночество. Она постоянно, совершенно не рисуясь, прихрамывая уходила подальше от любых семейных сборищ. Матушка становилась слегка странноватой: все по этому поводу с пониманием пожимали плечами и мирились с этим. Бабушка еще минуту назад смеялась и разговаривала вместе со всеми, а в следующее мгновение неожиданно куда-то уходила. И ее случайно находили одну в каком-нибудь тихом углу, сгорбленную и ничем не занимающуюся, а просто о чем-то думающую…
Госпожа Ниафер думала обычно о своем муже. Ее доля оказалась самой славной из судеб всех женщин, поскольку она являлась супругой Мануэля. Те чудесные пять лет, что она разделила со Спасителем Мануэлем, составляли не самый продолжительный период в ее жизни, но она полагала, что только эта часть по-настоящему и шла в счет. Лишь из-за ее человеческой слабости она намного чаще вспоминала Гольмендиса, являвшегося простым святым, чем своего Мануэля. Теперь она находила, что довольно тяжело – и к тому же неблагоразумно – вспоминать определенные подробности о ее сверхъестественном муже: ввиду удобной отдаленности это был лишь высокий седой бог в огромном золотом сиянии. Все это было чудесно, вдохновляюще, но к тому же и очень печально. Но эти беспричинные слезы даже доставляли ей радость.
Так думать о своем Мануэле было лучше всего. Вдаваться в частности, останавливаться на подробностях неблагоразумно. Такой, вероятно, богохульственный склад мыслей намекал, к примеру, на то, что после второго пришествия Спасителя дела хотя бы поначалу пойдут чуточку нескладно.
Не то чтобы Мануэль стал ей совершенно чужим, да даже и Всеведущий, конечно же, не знал всего о Гольмендисе. По отношению к свободному от предрассудков покровителю Церкви задача Всеведущего – быть немного близоруким. В этом отношении земное прошлое дона Мануэля не так далеко ушло из памяти жены, чтобы он мог стать единственным человеком, говорящим о моральной неустойчивости. Нет, отрицательная сторона, скорее, заключалась в том, что после возвращения ее мужа в неумолимой славе ей придется снова привыкать ко множеству забытых вещей… Ниафер надеялась, во всяком случае, что при втором пришествии он не возьмет с собой раздражающую ее привычку простужаться по малейшему поводу. Ибо, вероятно, нельзя быть благопристойным человеком и одновременно обвинять духовного Спасителя в том, что он никогда не проветривает комнату и запирает все окна и двери, боясь сквозняков, да и нельзя смотреть на него снизу вверх с должным благоговением, если он все время чихает и кашляет… А если он ожидает, что при переупорядочении человеческих дел эти его Алианора и Фрайдис устроятся где-то поблизости от его законной жены…
Против этой безумной случайности, однако, нельзя принять никаких мер, и тут Ниафер сменила несомненно богохульственное направление своих размышлений. Ее Мануэль во всем был совершенен. Он вновь вернется в невообразимой славе, и он вознесет ее – свою избранницу, свою единственную невесту, настолько недостойную его, – к совместному вечному блаженству, которое – после того, как к нему привыкнешь и устроишься с вновь выросшими волосами, полным набором зубов и всеми остальными преимуществами юности – будет весьма приятным. Подробности подождут. Подробности, когда на них останавливаешься, раздражают. Подробности, хоть как-то относящиеся к этим шлюхам, без сомнения подсказаны непосредственно силами зла.
И после таких рассуждений Ниафер обычно шла помолиться у надгробия, которое она построила в честь Мануэля.
Глава LXVII Совершенно разные женщины
Дальше история рассказывает, что однажды весной старая Ниафер сидела вот так у могилы своего мужа и, случайно подняв голову, обнаружила еще одну пожилую женщину, стоявшую рядом с ней.
– Приветствую вас, Английская королева! – сказала Ниафер с большей, чем следовало, вежливостью.
– Вот как! – сказала другая женщина. – Вы, стало быть, его жена. Да. Я помню вас по той встрече близ Висанта. Но как вы меня узнали?
– Разве у вас на глазах нет слез? В живых не осталось никого (после того, как двуличная Фрайдис справедливо получила по заслугам), – очень спокойно ответила Ниафер, – кто бы лил слезы над могилой Мануэля. Лишь мы одни помним его.
– Верно, – сказала Алианора. И вообще без какой-либо причины она слегка улыбнулась. – К тому же о нем теперь так часто слышишь.
– Мир научился ценить моего мужа, – согласилась Ниафер. Она не всецело одобряла улыбку госпожи Алианоры.
Тут Королева сказала:
– Он был весьма славным юношей. И я не отрицаю, что когда-то он меня очень сильно взволновал. Но при всем при том, моя милая, об этом чуде света написаны поэмы и исторические труды, его увековечивают статуи и раки, и из простого приличия его приходится вспоминать!
– Я уверена, что совершенно не понимаю вас, госпожа Алианора. – И Ниафер взглянула без всякой любви на Английскую королеву, которая в стародавние времена находилась в столь прискорбной близости с доном Мануэлем.
Но Алианора продолжила своим вызывающе приятным голосом:
– Нет, вы не поняли шутки. Вы неправильно оцениваете работу своих рук и своего воображения. Но эта легенда, которую главным образом вы, опираясь на тщеславие и глупость Пуактесма, тихо и неустанно лелеяли все эти годы, распространилась по всему известному человеку миру. Наш Мануэль со своей храбростью, мудростью и другими совершенствами встал вровень с Гектором, Артуром и Шарлеманем. Наш Мануэль должен вновь прийти во всей своей прежней славе! И я, помнящая Мануэля совершенно отчетливо, – и не отрицаю, что у него по моей доброй воле оказались преемники, – говоря вполне откровенно, моя милая, нахожу эти представления довольно-таки чудными.
На такие речи Ниафер ответила достаточно резко:
– Я не вижу никакой причины, по которой вы говорите о моем муже как о «нашем» Мануэле.
– Моя милая, я уверена, что он превосходно позаботился о том, чтобы вы никогда ничего подобного не узнали. Но все это закончилось давным-давно. И нам с вами нет нужды ссориться из-за парня, получавшего удовольствие как с нами, так и с королевой Фрайдис, и еще, никто не знает, с каким множеством женщин, который, надо отдать ему должное, доставлял каждой партнерше добрую половину удовольствия.
На нестареющую миловидную Алианору был брошен возмущенный взгляд.
– Не думаю, сударыня, что следует намекать на такие легкомысленные предметы здесь, у его могилы.
– Хотя, в конце-то концов, – заявила Алианора, – он же здесь не похоронен. У вас, мечтательных пуактесмских хвастунов, не было даже трупа, когда вы начали создавать свою красивую легенду. Нет, все в целом – чистая выдумка. И легенда очень точно символизируется этим величественным надгробием, под которым ничего нет.
– Хотя, если б Мануэль поистине был похоронен здесь, что бы сему миру дала эта хладная могила? – спросила Фрайдис. Ибо Ниафер увидела, что поблизости также находится и Фрайдис. Эта Фрайдис была ведьмой, с чьего молчаливого согласия дон Мануэль в стародавние времена сотворил отвратительные изваяния и значительный скандал. – Никто этого не знает, – продолжила Фрайдис. – Даже мы, утверждающие, что любили Спасителя Мануэля в его смертной жизни, ничего не знаем о Мануэле. Что за существо жило внутри этой косоглазой, высокой, сильной оболочки, дарившей нам ласки? Я частенько об этом задумываюсь.
– Моя милая, – сказала Алианора, – неужели вы действительно думаете, что это имеет особое значение? Уверена, что мы в свое время никогда не задавались этим вопросом, поскольку, по совести говоря, для общения этой оболочки хватало. Да, можете говорить о Мануэле что угодно, но в нашем узком кругу можно признать тот факт, что в некоторых отношениях мы с вами знали его просто чудесно.
Именно в этот момент пожилая Английская королева взглянула на сияющую статую человека, которого эти три женщины так по-разному любили. Мануэль возвышался над ними, ослепительно сверкая в лучах майского солнца, – спокойный, неизменно героический, в расцвете сил, давным-давно попользовавший и бросивший своих сожительниц. И казалось, он рассматривает какие-то возвышенные материи, несказанно далекие от их земных жизней и понимания бренными человеческими умами. Но морщинистая жизнерадостная Алианора с любовью и отчасти с насмешкой улыбнулась этому величественному Спасителю.
– Вы меня поняли, – сказала Алианора, – а я вас. Но мы говорили не об этом.
– А я говорю, что никто не понимал Мануэля, – ответила Фрайдис. – Я говорю: как странно, что мы втроем должны продолжать жизнь Мануэля и истинную природу существа, жившего внутри этой оболочки, и что мы втроем должны все еще оставаться в неведении относительно того, что мы приносим грядущим временам. Ибо Мануэль уже вернулся, и он будет и дальше возвращаться снова и снова, ничего не спасая и без всяких чудес…
Алианора заинтересовалась словами Фрайдис.
– Но объясните же, моя дорогая…
– Умерший Мануэль снова живет в вашем высоком косоглазом сыне…
– Да… и только представьте себе, милая Фрайдис, на какие мысли это наводит мать, учитывая своеобразные представления Мануэля о браке…
– …И в четырех детях, которых родила ему Ниафер, – продолжила Фрайдис, – и в детях их детей возобновится жизнь нашего Мануэля, а после этого – в их внуках. И жизнь Мануэля и истинная природа Мануэля будут вот так продолжаться во множестве тел, пока люди глупо ведут себя днем и порочно ночью. И в образах, которые я помогла ему создать и одушевить огнем Ауделы, в них тоже, когда они будут отправлены жить среди людей, – по моей прихоти и не более благоразумно, чем уже живут двое моих старших сыновей, Слото-Виепус и Рембаут, – в них тоже будет жить наш Мануэль.
– Понятно, – сказала Алианора. – И признаю, что ваше объяснение его второго пришествия и его двухтысячного пришествия кажется мне весьма правдоподобным. Да, понятно. Мануэль уже вернулся. И он будет возвращаться вновь бесконечное количество раз.
Фрайдис же задумчиво спросила:
– И для чьих выгод и удовольствий?
– Моя дорогая Фрайдис! Не сомневайтесь, что в любом случае два человека получат немало удовольствия, приуготавливая для этого определенные условия. И подобное, – сказала Алианора, – как и все остальное, что может случиться с этими людьми, имеющими в себе склонности и природу Мануэля, будет лишь еще одним событием в «Сказании о Мануэле». Мы с вами начали разыгрывать не имеющий завершений набор комедий, в которых, главным действующим лицом будет Мануэль. Можно сказать – в нашем узком кругу, мои дорогие, – что мы сотрудничали с этим славным юношей в создании бесконечной серии Мануэлей без какой-либо гарантии, что этот поступок принесет добро или удовольствие кому-либо, – говорите что угодно, мои милые, – кроме разве какой-нибудь любвеобильной молодой женщины. Ибо мы не знаем точно, даже сейчас, кем был этот Мануэль и в качестве кого, благодаря нашему сотрудничеству, будет жить дальше. Да, теперь я поняла вашу мысль, моя милая Фрайдис. И она действительно любопытна.
Однако Алианора вновь улыбнулась статуе Мануэля, словно между ними существовала какая-то тайна. А у Ниафер больше не хватило терпения переносить эту плотоядную и порочную старую шлюху.
– Весь мир знает, – с достоинством сказала Ниафер, – кем был мой муж, ибо мой Мануэль известен во всех христианских странах.
– Да, – согласилась Алианора, – он известен как образец всех христианских добродетелей и как Спаситель, чье возвращение восстановит счастье и славу его народа. И с этой шуткой, моя милая Ниафер, я поздравляла вас пару минут назад.
– Он известен своей верностью, отвагой и мудростью, – сказала Фрайдис. – Я часто слышу об этом. А вспоминаю высокого испуганного идиота, который предал меня и которого в самом конце я пощадила из чистого сострадания к его никчемности. И все же, я щажу, сохраняю и лелею его жизнь в своих детях, поскольку несомненно, что женская глупость никогда не умрет.
– Тем не менее я знаю, как воспользоваться женской глупостью, – сказал Горвендил, ибо теперь госпожа Ниафер поняла, что этот странный рыжеволосый Горвендил также стоит у могилы ее мужа, – и детским лепетом, и нежеланием людей встречаться лицом к лицу со Вселенной, опираясь лишь на собственные силы.
Затем Горвендил посмотрел на Ниафер со своей юношеской, несколько кривоватой улыбкой. И Горвендил сказал:
– Получается так, что Сказание о Мануэле и сказания обо всех властителях Серебряного Жеребца преобразованы глупостью и фальшивым оптимизмом человечества. И эти сказания теперь во всем согласуются с тем наиболее важным романом, что оберегает нас от безумия. Ибо именно так я и сказал много лет тому назад одному из этих забавных обеленных и облагороженных мошенников. Все живущие, все, кто волей-неволей бродит по этому миру, словно потерявшиеся, заблудившиеся дети, защитник которых еще не пришел, имеют жизненно важную потребность верить в эту поддерживающую их легенду о Спасителе и о власти Спасителя, способной сделать служащих ему справедливыми и совершенными.
– А вы еще худший мошенник! – воскликнула госпожа Ниафер. – Вы такой же негодяй, как и эти женщины. Но я не стану слушать никого из вас, как и ваши ревнивые и гнусные богохульства!..
Тут госпожа Ниафер проснулась, обнаружив, что находится у великой могилы одна. Но приближались чьи-то реальные шаги, и они оказались шагами человека более желанного для нее, чем этот ухмыляющийся Горвендил или эти наглые и подлые женщины, которых видела во сне госпожа Ниафер.
Глава LXVIII Практичная Радегонда
Ибо в этот момент к госпоже Ниафер приближался Юрген, сын Котта, пришедший к могиле Мануэля по небольшому профессиональному делу. Юрген – теперь уже преображенный безжалостными возрастными ухудшениями и живший в бурном браке с дочерью Нинзияна (которую родила жена состоятельного Петтипа) – со времени женитьбы влил новую жизнь и свежие связи в дело его номинального тестя и сегодня являлся ведущим ростовщиком Пуактесма. Вполне естественно, что именно к Юргену обратилась жена графа Эммерика в эти тяжелые времена, последовавшие за долгой и опустошительной войной с Можи д'Эгремоном.
Графиня посмотрела на гробницу Мануэля, как она выразилась, по-настоящему практичным взглядом. Гробница была великолепна и во всех отношениях делала честь семье великого героя. И все же, как указала Радегонда мужу, эта статуя Мануэля украшена десятками красивейших самоцветов, которые, по сути, пропадают зря. Если бы – конечно, не предавая такое улучшение вульгарной гласности – эти драгоценности можно было бы заменить кусочками стекла подходящего цвета, зрительное воздействие осталось бы тем же самым, гробница была бы столь же красивой, как и всегда, и никто бы не был мудрее графа Эммерика с Радегондой, которые посредством этого дельца стали бы немного богаче.
Эммерик ответил с соответствующим негодованием, что вот так ограбить могилу его отца-героя – все равно, что опорочить его великое имя.
Но, с другой стороны, именно Эммерик, как сам он при этом узнал, опорочил память отца-героя, предположив, хотя бы на мгновение, что блаженный покойник волнуется из-за такой тщеты, как рубины и сапфиры, и хочет, чтобы его невинные внуки умирали с голоду в канаве. А в остальном, может, он лучше оценит эту пачку векселей и не будет сводить всех с ума своим высокомерным вздором.
Эммерик посмотрел, мельком и с нескрываемым отвращением, на не такую уж большую стопку неоплаченных счетов, с которой он уже давно свыкся.
– Тем не менее, – сказал Эммерик, – это был бы мерзкий поступок, и если б вся история вылезла наружу…
– Она не вылезет, мой милый, – ответила жена, – ибо мы предоставим все сделать Юргену, который является воплощением осторожности.
– …И я не могу позволить себе участие в этом деле, – добродетельно сказал Эммерик.
– Тебе ни в чем не нужно принимать участия, – уверила его жена, – а лишь принять добрую половину вырученной суммы.
Так что Радегонда послала за ростовщиком Юргеном и попросила его оценить драгоценности на статуе дона Мануэля и назвать их приемлемую цену.
Вот так Юрген оказался у могилы Мануэля, потревожив сон госпожи Ниафер.
Глава LXIX Расчетливость Юргена
– Ты, – начала трясущаяся старушка – как показалось Юргену, достаточно истерично, – ты был последний, кто его видел. Очень странно, что именно ты должен теперь прийти и положить конец моему сну. Я воспринимаю твой приход, жулик, как знак.
Затем госпожа Ниафер начала рассказывать ему про свой сон. А Юрген слушал с терпением и даже уважением, которое, похоже, всегда вызывало в нем напряженное состояние очень старых людей.
Юрген был в превосходных отношениях с госпожой Ниафер, к которой, по библейским причинам, он привык обращаться как к Центуриону.
– Вы говорите одному: «Пойди», и он идет; а другому: «Приди», и он приходит, – объяснял Юрген. – Короче, вы самая что ни на есть ужасная особа. Но, когда вы говорите мне: «Пойди», я не повинуюсь вам, сударыня, поскольку вы к тому же просто душка.
Ниафер рассматривала подобное поведение как явную дерзость, однако оно ей весьма нравилось.
И она рассказала Юргену про свой сон… И госпожа Ниафер допустила, что, возможно, сон слегка неверно представлял этих жалких женщин, поскольку хорошо известно, что эта змеиноглазая Фрайдис, получив по заслугам от друидов и сатириков, должным образом и с позором заточена в Антан, тогда как эта лицемерка Алианора являлась сейчас монахиней в Амбресбери. Но во сне госпожи Ниафер эти шлюхи оказались в равной мере освободившимися из заключения как в бесчестии, так и в обители. Они, казалось, были заключены в намного более страшную темницу скептицизма…
– Сударыня, – сказал Юрген по окончании ее рассказа, – какая, в сущности, нужда беспокоиться из-за такого несерьезного сновидения? У меня самого всего лишь в прошлом месяце, в канун Вальпургиевой ночи, был намного более пространный и волнующий сон. И он тоже ни к чему не привел.
Графиня ответила:
– Я старею. А с возрастом человек менее уверен в чем бы то ни было. О, я знаю достаточно хорошо, что эти похотливые, самодовольные шлюхи в своей клевете были глубоко неправы! И все же, Юрген, все же, дорогой мой жулик, некий таинственный шепоток говорит мне, что время намерено все у меня отнять. Я теперь одинокое, бессильное, старое существо, но я по-прежнему жена Мануэля. У меня остается только это: быть единственной любовью и горделивой женой великого Спасителя Пуактесма. Теперь же, в самом конце жизни, шепот говорит мне, что время должно отнять также и это. Мой Мануэль, подсказывает мне шепот, не был великолепнее других людей; он не сотворил никаких чудес, и не будет никакого второго пришествия Спасителя. Шепот говорит мне, что я всегда это знала и что все эти годы я лгала. По-моему, шепот несет вздор. И однако, с возрастом, Юрген, с возрастом и в ожидающем всех одиночестве преклонного возраста человек становится менее уверен в чем бы то ни было.
– Сударыня, – сказал Юрген с самым рассудительным видом, – давайте рассмотрим этот действительно очень интересный вопрос с наихудшей из возможных сторон. Давайте – с надлежащими извинениями, принесенными его великой тени, и просто для более быстрого разгрома клеветников – предположим, что дон Мануэль, в сущности, ничем не был замечателен. Давайте вообразим, что безумный культ Спасителя, распространившийся по всей нашей стране, обязан своим существованием преувеличению и непониманию и зародился, в сущности, на пустом месте. Остается тем не менее фактом, что этот героический, благородный и совершенный Спаситель – существовал он в действительности или нет – теперь почитается, и, в разумных пределах и в рамках человеческих слабостей, его достоинствам повсюду, по крайней мере иногда, стремятся подражать. Однако его совершенство пока не оказалось заразным: он никого нигде не сделал абсолютно безупречным. Но тем не менее – в определенных рамках, в неизбежных пределах – люди становятся несравненно лучше благодаря примеру и учению этого Мануэля…
– Люди также стали счастливее, Юрген, благодаря предсказанию о втором пришествии, которое он произнес в твоем присутствии в последнюю ночь своей жизни и которое ты принес с Морвена.
Юрген кашлянул.
– Это всегда большое удовольствие – посильным образом содействовать благоденствию своих сородичей. Но – вновь подхватывая непосредственную нить моих рассуждений, – если этот высший и самый добродетельный пример в действительности не был подан доном Мануэлем из-за давления семейных обстоятельств и состояния дел, если этот пример в действительности всецело ваша личная выдумка, тогда вы, о ужасный Центурион, могли бы стать одним из самых способных художников-творцов. И я заявляю, как поэт в отставке, что такой возможности вы должны не стыдиться, а лишь ею гордиться и благодарить за нее Господа.
– Не говорите мне своей льстивой ерунды, молодой человек! Если б моя жизнь была посвящена распространению историй о некоем Мануэле, который никогда не жил!..
Ее слабые старые сморщенные руки беспомощно дрожали в своего рода тщетном неистовстве. Она всплеснула ими, при этом каждая ладонь, казалось, ловит другую. А Юрген ответил:
– Я напуган. Я должным образом устрашен вашей раздражительностью и польщен вашим выбором прилагательного. Тем не менее, рискну заметить, что я, дорогой Центурион, встречал в писаниях какого-то многоученого автора, чье имя сейчас вылетело у меня из головы, поразительное утверждение, причем претендующее на истинность, – утверждение, которое, на самом деле, было любимо моим безгрешным отцом: что дерево можно всегда оценить по плодам. И дети дона Мануэля, таким образом, потрясающе доказывают это утверждение. Граф Эммерик, – тут Юрген опять кашлянул, – граф Эммерик, известный своим радушием…
– Эммерик, – сказала госпожа Ниафер, – был бы достаточно хорош, если бы его всю дорогу не водила за нос жена.
Юрген пожал плечами и развел руками, чтобы выказать нежелание принимать участие в обсуждении старушкой его теперешнего клиента – госпожи Радегонды. Но Юрген не стал оспаривать ее утверждение.
– Госпожа Мелицента, – рассудительно продолжил Юрген, – разожгла довольно разрушительные войны за морем точно так же, как госпожа Эттарра явилась причиной еще одной долгой войны у себя дома, и в этих войнах многие господа завоевали большие почести, а сотни более смиренных граждан получили возможность достичь вечного блаженства, соответствующего их более низкому званию. Подобные войны пробуждают благородное чувство патриотизма, они подвигают людей на самопожертвование, и они, как свидетельствуют мои гроссбухи, чрезвычайно хорошо сказываются на делах. Что же касается госпожи Доротеи, то пока она не возбудила ни славных общенародных человекоубийств, ни поджогов, но она облагораживает и делает более приятным существование половины пуактесмских дворян…
– И что же, жулик, ты имеешь в виду?
– Я намекаю на орган зрения без каких-либо анатомических экскурсов. Я имею в виду, что созерцание столь совершенной красоты делает жизнь более приятной. Более того, госпожа Доротея пробудила к жизни прекрасную поэму, не умирающие жажду и мечту, и смех, что издевается слишком безжалостно над своим источником…
Тут голос у Юргена изменился, и старушка посмотрела на него более пристально. У Ниафер была превосходная память. Она, у которой не было заблуждений в отношении своей дочери, в совершенстве помнила ослепленное страстью увлечение Юргена. И Ниафер на миг задумалась о неизлечимой романтичности мужчин.
Но Ниафер лишь сказала:
– Я никогда не слыхала о такой поэме.
И Юрген завершил заклинание общепринятым третьим покашливанием.
– Я ссылаюсь на эпическую поэму, до сих пор остающуюся неопубликованной. Это вариации на темы легенды о Граале, сударыня, но поэма имеет отношение к поиску несколько иного сосуда. Однако в отношении других детей дона Мануэля, – ваши мнения касательно матерей которых, мой обожаемый Центурион, в равной мере делают честь и вашей устойчивой нравственности, и вашему мастерству в искусстве страстной прозы – мы имеем мессира Рембо – очень известного и уважаемого поэта, мы имеем Слото-Виепуса, ставшего богом Филистии. Поэты, конечно же, могут родиться в любой семье, и винить тут некого, тогда как на бога, сударыня, как выражаются риторы, рукой не махнешь. Более того, мы имеем Эдварда Длинноногого, одного из самых любимых всеми монархов, которых когда-либо знала Англия, поскольку он так сжато воплощает в своей крупной особе все типичные недостатки и изъяны своего народа. Таким образом, сударыня, мы можем оценить, что дети тела дона Мануэля производят весьма достойное впечатление.
– В сказанном тобой что-то есть, – признала госпожа Ниафер. – Однако что это за вздор насчет «детей его тела»? Разве у мужчин есть какие-то другие приспособления, неизвестные их женам, с помощью которых можно производить детей?
Юрген просиял. Было очевидно, что ему в голову явилась весьма привлекательная идея.
– Существует совершенно иное отцовство, достигаемое без всякой необходимости тревожить и волновать какую-либо женщину. Поэтому для полного раскрытия наших доводов мы должны рассмотреть также духовных детей дона Мануэля, тех властителей, что были членами Братства Серебряного Жеребца и чей героизм сформирован в точном соответствии его прекрасному образцу.
Ниафер, слегка смущенная, ответила:
– Они были замечательными и благочестивыми людьми, которые посланы во все края земли в качестве апостолов Спасителя и которые вновь вернутся вместе с Мануэлем… Но расскажи, что ты имеешь в виду!
– Я имею в виду, что это были грубые и безбожные вояки, которых пример дона Мануэля сделал несравненными героями. Было время, сударыня, – время, к которому мы теперь можем при должном умонастроении относиться без какого-либо неуважения, – когда их наслаждение от битвы было так же сильно, как и неопределенны их моральные принципы; время, когда они насмехались над святынями и когда их целомудренность оставляла желать большего.
Графиня кивнула.
– Я помню то время. Недоброе время, без следа добропорядочности. И я так и говорила с самого начала.
– Однако посмотрите, что пример и учение дона Мануэля сделали в итоге с его спутниками жизни! Посмотрите на святые деяния Гольмендиса и Анавальта и на то, как Нинзиян долгое время являлся здесь оплотом всей религии!..
– Нинзиян – святой человек, и даже среди апостолов Мануэля он, вероятно, был самым преданным. Тем не менее…
Но теперь Юрген стал более обстоятельным.
– Посмотрите, как всего лишь четырнадцать лет тому назад Донандр погиб жертвой конфликта с язычниками норманнами, доказав потерей земной жизни ложность и порочность их предрассудков, когда на виду у двух армий Донандра вознесли на небо семь ангелов в тот самый миг, когда Дьявол утащил его противника на Север!
– Это чудо засвидетельствовано. Однако…
– Посмотрите, как святой Гонфаль также погиб мучеником среди нечестивцев Инис-Дахута после целомудренного сопротивления непристойным атакам их царицы! Этот пример, сударыня, должен особо взволновать вас, поскольку вам, брюнеткам, сопротивляться нелегко.
– Да ну тебя, жулик! Мой взгляд остается еще достаточно острым, чтобы видеть, что волосы у меня белые.
– Затем также благочестивый Мирамон Ллуагор, что хорошо известно, обратил в истинную веру сотни язычников вокруг Врейдекса великим чудом, которое он сотворил, когда Кощей Бессмертный, и Герцог Хаоса Тупан, и Владыка Стран Слез Молох, и Начальник Тайной Полиции Сатаны Нергал и еще несколько тысяч других представителей сил зла, чьи имена и инфернальные звания выскочили в данный миг у меня из головы, вылетели роем из Ада в виде гигантских пчел.
– Известно, что такой благосклонности Небес были удостоены вера и молитвы Мирамона. В самом деле, Нинзиян присутствовал там и рассказал мне об этих жутких насекомых. Каждое размером с корову, но язык у них намного страшнее. Тем не менее…
Но Юргена уже понесло.
– Затем Гуврич…– указал он. – Гуврич Пердигонский, в котором старая закваска сохранялась дольше, чем в других, так что какое-то время он совершал несерьезные проступки, как говорится, на стезе гордыни и себялюбия… Гуврич полностью избавился от этих издержек после знаменитого путешествия в страну Востока, чтобы без посторонней помощи одолеть выдающуюся ересь пагубного и зловещего Силана. Никогда на земле не было более доброго, более благородного и более любимого всеми святого, чем Гуврич после изгнания духа из этого языческого ересиарха, от которого остался лишь хребет. И таким дорогой гетман оставался до славного часа своей ангельской смерти.
– Верно. Я вспоминаю эту перемену в Гувриче, и она была весьма поучительна.
– Вспомните также, сударыня, как почтенный Керин отправился под землю учить истине о Спасителе в глубочайших твердынях ошибок и заблуждений! И как он там опроверг одно за другим легкомысленные научные воззрения надзирателей Ада – с терпением, усердием и обстоятельностью, удивительными даже в апостоле – в споре, длившемся двадцать лет!
– Тоже верно. Кстати, его собственная жена рассказывала мне об этом. Тем не менее…
Но Юрген по-прежнему говорил.
– И наконец, сударыня, мой любимый отец Котт, как общеизвестно, отправился евангелистом к неверующим Толлана с темной кожей и черными душами. Он показал им преимущества цивилизации и истинной религии. Он научил их прикрывать свою дикую наготу. И, подобно святому Гонфалю, Котт смирял как возбудитель плотского желания, так и свой уд – не один, а множество раз, – когда Котт искушался настолько извращенной принцессой, что одна мысль о ней заливает краской мои щеки.
Графиня задумчиво сказала:
– Ты и твои щеки… Однако продолжай!
Изумленный Юрген тряхнул прилизанной головой.
– Вы требуете невозможного. На остальных бесчисленных благочестивых подвигах Котта я, будучи его всецело недостойным сыном, не могу останавливаться, чтоб не показаться тщеславным. Это было бы весьма недостойно. Ибо скромность моего отца такова, сударыня, что, должен вам сказать, даже со мной, своим собственным сыном, он никогда не говорил на эти темы. Скромность моего отца такова, что – как недавно открылось в видении одному набожному человеку – даже сейчас мой отец считает себя недостойным небесного блаженства, даже сейчас совесть тревожит его в отношении пустячных проступков прежних, греховных дней и даже сейчас он решает оставаться в том месте, которое, образно выражаясь, можно определить как наименее удобные условия вечной жизни.
– У него, без сомнения, есть привилегия следовать своему выбору. Ибо его священные деяния удостоверены. Тем не менее…
Тут госпожа Ниафер на какое-то время задумалась. Эти факты несомненно относились к властителям Серебряного Жеребца, которых она сама помнила по тем далеким дням своей юности как сравнительно несовершенных людей. Деяния апостолов являлись фактами, записанными в наиболее уважаемых летописях; эти факты были известны даже детям; эти факты теперь, по прошествии времени, наряду с другими назидательными фактами из жизней безгрешных властителей Серебряного Жеребца заняли надлежащие ниши в качестве составных частей великой легенды о Мануэле. И поскольку она высоко ценила эти факты, старая графиня прониклась силой Юргеновых доводов…
– Да, – наконец признала Ниафер, – да, сказанное тобой верно. У этих святых людей имелись недостатки, когда они впервые были избраны моим мужем в качестве его спутников. Но благодаря близким отношениям с доном Мануэлем и силе его примера они очистились от этих недостатков, они сделались справедливыми и совершенными. А после исчезновения Спасителя они без страха и упрека странствовали по свету, и являлись его апостолами, и несли ту веру, которой его жизнь научила их, во всех направлениях, по всей земле. Эти факты занесены во все исторические книги.
– Так вы же все отлично понимаете, милый Центурион! Могу лишь повторить, что, согласно любимой аксиоме моего почтенного отца, о каждом дереве нужно судить по плодам. Подвиги Братства Серебряного Жеребца я расцениваю в качестве первых плодов культа Спасителя. Люди с достаточно сомнительными принципами, которыми руководствовались эти апостолы в юношеские годы, – и я это должным образом истолковываю – такие люди чудесным образом сделались справедливыми и совершенными! Из этого я делаю вывод, что мы можем объявить культ Спасителя Мануэля божественно вдохновленным и во всех отношениях восхитительным, поскольку он чудесным образом производит из сырой материи человеческой природы подобных апостолов. Этот культ, сударыня, уже прошел догматическую проверку в святых жизнях и возвышенных кончинах властителей Серебряного Жеребца: культ работает.
– Кроме того, – сказала Ниафер с присущим женщинам эллипсисом и их пристрастием к чему-то более конкретному, – существует последняя картина вхождения моего мужа во славу и страшного причастия, свидетелем которой ты, еще ребенком, стал на Верхнем Морвене. Я никогда не могла понять, почему тогда не присутствовало ни одного ангела, тогда как за Донандром прилетело целых семь. Даже при этом ты был свидетелем священного и сверхъестественного происшествия, которым небеса никогда бы не удостоили кончину рядового человека.
– Воображение ребенка…– начал Юрген, но осекся и лишь добавил: – Несомненно, сударыня, ваша логика сильна, а ваши доводы неуязвимы.
– В любом случае…– Тут Ниафер внезапно умолкла.
Но через некоторое время она продолжила говорить, и ее увядшее лицо казалось лицом человека, расстроенного и сбитого с толку, как и у старого Котта под конец жизни.
– В любом случае, эти шлюхи мне всего лишь приснились. И, в любом случае, наступило время обеда, – сказала госпожа Ниафер. – А люди в сем мире должны видеть сны и обедать, а когда мы уйдем из него, мы должны принять то, что найдем в мире ином. Вот и все. У меня нет воображения ребенка. Я стара. А когда стареешь, лучше ничего не воображать. Старикам лучше не видеть никаких снов. Старикам лучше не думать. Для стариков хорошо только одно: то, что избавляет их от одиночества, дурных снов и обилия дум.
Ниафер не без труда поднялась. И сгорбленная, хромая, очень старая вдовствующая графиня Пуактесмская медленно и задумчиво пошла прочь от Юргена.
Глава LXX Недоумение в самом конце
Оставшись один, Юрген влез на великое надгробие. Он стоял теперь на нем, держась за шею коня, на котором восседало скульптурное изображение Мануэля. Каменное лицо, обращенное поверх Юргена куда-то вдаль, вблизи оказалось загаженным птицами и гротескно грубым, а пустые глазные яблоки придавали ему отвратительное выражение полнейшего идиотизма. Но Юрген находился тут для оценки не лица, а украшений возвышающегося над ним героя, и, по сути, Юрген смотрел лишь на самоцветы, покрывающие знаменитую скульптуру.
Тут Юрген без какого-либо глубокого удивления присвистнул. Для его опытного глаза стало достаточно очевидно, что самоцветы, которыми госпожа Ниафер чудесным образом украсила статую своего мужа, были все до единого – и, по-видимому, изначально – блестящими стеклышками разных цветов. Стало быть, графиню Радегонду много лет назад опередила в расчетливости и практическом взгляде на это надгробие графиня, построившая его.
Но Юрген почему-то не был этим сильно удивлен. И единственным словесным выплеском явилось произнесение одного из его любимых выражений. Он сказал: – Ох, уж эти женщины!
После чего он слез вниз с осторожностью, подобающей человеку сорока с лишним лет. Он пригладил седые волосы, глядя вверх с характерной смесью лукавства и сожаления. Теперь, видимый с надлежащего расстояния, Мануэль Пуактесмский вновь казался блистательным и во всех отношениях величественным. Он сидел на коне, чопорный, самоуверенный и благородный, чтобы, похоже, вечно охранять спасенную им страну, в которую, как говорили, он должен вернуться…
Юрген постоял так какое-то время, рассматривая огромное надгробие – пустое внутри, а снаружи украшенное никчемной блестящей мишурой, но которое все еще оставалось самым священным местом и, точно как и указывал Юрген, ракой действительно вдохновляющей героический культ Спасителя…
Юрген раскрыл было рот. А потом его закрыл.
Ибо Юрген вспомнил, что всего лишь в прошлом месяце оказался вовлеченным в некое волнующее переживание, высказав экспромтом похвалу Дьяволу. Так что в отношении Спасителя Юрген решил, так или иначе, не принимать на себя рискованных обязательств. Пожилому ростовщику казалось более мудрым держаться подальше от всевозможных потусторонних дел… Даже при этом карнавальное шествие мыслей искушало его поиграть с ними, поскольку об этом парадоксальном надгробии можно было сказать, с известной осторожностью, несметное количество прекрасных слов. Эти мишурные безделушки на взгляд рассудительного человека были достойны уважения не из-за своего блеска, а из-за вызванных ими деяний. И эта пустота являлась священной благодаря вере, которую вкладывали в нее люди. И то, что эта блистающая бессодержательность могла, по сути дела, творить чудеса, было теперь полностью подтверждено. Ибо она заставила Юргена замолчать.
Нет. Никогда нельзя, пожав плечами, отделаться от мыслей об этом надгробии как, в целом, от зловредной подделки, распространяющей лишь глупость, нетерпимость и преследование слепыми близоруких. По сути, эта сторона дела была относительно неважна и при соблюдении соответствующей осторожности никогда никого не тревожила. А в сорок с хвостиком становишься осторожным.
Между тем было известно, что эта сверкающая штуковина к тому же является породительницей такой благотворительности, воздержанности, храбрости и самоотречения – и такого странного, такого тревожаще непостижимого удовлетворения ее почитателей, – что она почему-то пугала Юргена. Ибо Юрген лишь минуту назад трогал руками, вероятно чересчур интимно, этот действительно опасный источник всех возвышенных и прекрасных мерил, которыми пожилой ростовщик привык непритворно восхищаться с подспудной мыслью относительно ужаса их достижения. Он ощущал, что было бы чертовски ужасно, если бы в деловой жизни он обнаружил такие взгляды на противоположной стороне своего прилавка.
С эстетической точки зрения, конечно же, доставляло наслаждение рассматривать такие превосходные образчики силы и святости Спасителя в этих великолепных властителях Серебряного Жеребца, о которых Юрген только что говорил. Это были облагораживающие и витиеватые размышления о том, что человеческая природа как-то поднялась до таких высот; что простые смертные благодаря вере в великого Спасителя и контакту с ним очистились от всех недостатков и плотских слабостей и жили безупречно, и совершали благотворные чудеса, когда такая линия поведения казалась необходимой. Юрген подумал, что творить чудеса, наверно, очень забавно. Во всяком случае, весьма приятно просто думать о героях и святых минувших дней и завидовать их жизненной доле и гарантированному достойному месту в истории.
Юрген, к примеру, думал о мягком и великодушном старом Гувриче, безрассудно делящемся земным богатством со всеми нуждающимися; и о стоящем на коленях Мирамоне, вокруг которого роятся семь тысяч жутких пчел, издающих инфернальные угрозы, но бессильных потревожить спокойного, распевающего псалмы и не подверженного их укусам святого. Юрген. думал о Керине, так отважно противостоящем отвратительным когортам любящих поспорить злодеев и усмиряющем их так называемую науку убедительными библейскими цитатами; и о благородном, добродетельном Гонфале, крепко держащем одной рукой свою ночную рубашку, а другой отталкивающем влюбленную в него – и к тому же, говорят, очень миловидную – царицу Чудесных Островов Морвифь, когда та атакует его целомудренность. Такие картины вполне достойны увековечения в истории. И Юрген рассматривал их с теплым, доставляющим удовольствие трепетом чисто эстетического свойства.
Ибо, опираясь на практическую точку зрения, Юрген смутно ощущал, что неудобно быть столь совершенным и возвышенным. Или лучше выразить это так: вероятно, это не те условия жизни, которые действительно почитаемый человек, обладающий лавкой, женой и другими обязательствами, мог бы сознательно себе пожелать. О любом, если можно так выразиться, беззащитном главе семьи, которого всемогущий Спаситель явно и бесспорно выбрал для героической и святой апостольской жизни, конечно же, был бы совершенно другой разговор…
И Юрген гадал, что же в действительности видел и слышал на Верхнем Морвене ребенок, которым когда-то был Юрген. Сейчас он не был уверен во всем, о чем рассказывал: фантазии ребенка так безответственны, так богато приукрашены всяческими добавлениями… Однако свидетельство этого ребенка, похоже, сделало больше, чем что-либо иное, для установления верховенства дона Мануэля над всеми людьми, которых когда-либо знал Пуактесм. На самом деле, если принять во внимание все благоприятствующие влияния, весь культ возвращающегося Спасителя начался со свидетельства этого ребенка. И, вероятно, было достаточно естественным (в этом поистине любопытном мире), что Юрген сейчас оставался единственным человеком на свете, который чуточку сомневался в свидетельстве этого ребенка…
Как бы то ни было, мальчик Юрген принес когда-то с Морвена очень полезное и вдохновляющее предсказание, которое подняло настроение людей в этом поистине любопытном мире. А жизнерадостность – явная выгода. Причем, Юрген заключил, что тот факт, что ничто нигде не дает на нее права, лишь делает из этой жизнерадостности еще более явную выгоду…
Кроме того, вполне могло существовать нечто, на чем все это основывалось. На самом деле, здесь из соображений скромности возникал вопрос, мог ли Юрген – в том нежном возрасте и задолго до полного созревания его душевных и телесных сил – беспардонно выдумать от начала до конца нечто настолько великолепное и далекоидущее. И этот вопрос он скромно оставлял без ответа. Между тем (несмотря на все это недоумение) было несомненно, что Пуактесм, как и остальной Христианский мир, заимел свое в целом удовлетворительное вероисповедание и свою весьма благотворную легенду.
Компендиум главных исторических событий
(сокращенный текст выкладок Бюльга)
1239 Спаситель Мануэль отбывает из Пуактесма в сентябре этого года. Последняя осада предпринята Братством Серебряного Жеребца в день Святого Климента Римского. Ниафер названа регентом вместо своего мужа вплоть до возвращения дона Мануэля либо до исполнения двадцати одного года их сыну Эммерику.
1240 Гонфаль попадает на Чудесные Острова. Котт отправляется в Сорчу и далее на Запад. Керин исчезает в мае этого года. Мирамон Ллуагор покидает Пуактесм.
1243 Казнь Гонфаля приблизительно в день Тибуртия и Валериана.
1244 Сверхъестественное рождение Фопа де Нуантеля.
1245 Мирамон Ллуагор освобождает пчел Тупана, но не извлекает из этого большой выгоды. Котт попадает в заточение на Ран-Райгане.
1247 Котт достигает Поруцы и становится императором Толлана. Котт переносится обратно в Пуактесм.
1250 Смерть Мирамона Ллуагора. Побег отцеубийцы Деметрия в Анатолию.
1252 Святой Фердинанд достигает вечного блаженства. Анавальт отправляется в Эльфхейм и там погибает.
1253 Мученичество Орка и Горрига среди этиопов.
1254 Женитьба предполагаемого сына дона Мануэля принца Эдварда в возрасте пятнадцати лет на малолетней дочери Святого Фердинанда.
1255 Мелюзина накладывает чары на короля Гельмаса и переносит его двор на возвышенность Брунбелуа. Помолвка Мелиценты и короля Теодорета.
1256 Перион де ла Форэ под чужим именем появляется в Бельгарде. Юрген уезжает в Гатинэ. Доротея выходит замуж за сына Гуврича Михаила.
1257 Мелицента бежит из Пуактесма и попадает к Деметрию. Юрген развлекается с третьей женой видама де Суаэкура.
1258 Окончание регентства госпожи Ниафер именем Мануэля с формальным вступлением на престол в июне этого года в день Святых Петра и Павла графа Эммерика IV.
1260 Изображение царицы Радегонды становится женщиной во плоти и кладет конец близости с Хольденом, начавшейся в Лакре-Кае в 1237 году. Граф Эммерик женится на Радегонде. Смерть Хольдена. Смерть Азры.
1261 Гуврич отправляется на Восток, чтобы встретиться с Силаном. Котт умирает во сне. Керин возвращается в Пуактесм после двадцати одного года, проведенного под землей.
1262 Рождение первого сына Эммерика. Нинзияна разоблачает его девятьсот восьмидесятая жена и посещает Люцифер.
1263 Похищение Эттарры и немедленное освобождение ее Гироном. Можи д'Эгремон поднимает мятеж. Донандр покидает Пуактесм и погибает в поединке с Палнатоки.
1265 Керина убивают разбойники. Продолжение мятежа Можи.
1268 Смерть Папы Римского Климента IV и последующее вступление на престол в декабре месяце Айрара де Монтора. Юрген посещает Шато-де-Пизанж и там знакомится с женой виконта.
1269 Рождение Флориана де Пизанжа.
1270 Гольмендис покидает Пуактесм и умирает в Африке. Назидательная кончина Гуврича. Юрген возвращается в Пуактесм и женится на Лизе – официально дочери старого ростовщика Петтипа. Граф Эммерик не в ладах с Папой Римским.
1271 Вступление на папский престол Григория X. Продолжение бедственного мятежа Можи и поджог Бельгарда.
1272 Смерть Бальфиды. Исчезновение Нинзияна. Вступление предполагаемого сына дона Мануэля на английский престол.
1275 Перион и Мелицента возвращаются в Пуактесм. Конец мятежа Можи и приведение в исполнение справедливого смертного приговора. Эттарра выходит замуж за Гирона де Рока, который на следующий год становится преемником своего брата в качестве принца де Гатинэ.
1277 Юрген в канун Вальпургиевой ночи видит странный сон. Другой странный сон посещает Ниафер в день Святого Урбана. Смерть Ниафер в июне этого года.
1291 Алианора умирает в Амбресбери и захоранивается по частям: там же в Бенедиктинской обители и в Лондоне в Миноритском монастыре.
1300 Графа Эммерика убивает его племянник Раймондин де ла Форэ, который ищет убежища в пользующемся дурной славой Колумбьерском лесу и там женится на чародейке Мелюзине.
Domnei (комедия женопочитания)
«En cor gentil domnei per mart no passa».
Совокупность мнений и идей, привязанностей и привычек, которая побуждала рыцаря посвятить себя служению прекрасной даме и с помощью которой он стремился доказать свою любовь к ней и заслужить ответное чувство, на языке трубадуров выражалась одним словом «domnei», производным от слова «domna», которое восходит к латинскому «domina», что означает «госпожа», «возлюбленная».
Ш.К. Фориель.
«История провансальской поэзии»
Нормандец Никола раз написал (Для отдыха души, как думал он) Рассказ про Мелиценту – идеал, К которому стремился Перион. Какие страсти, сколько чувств и мук, Опасностей, коварства и разлук Из-за девицы глупой мир познал! Томас АпклиффКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Никола де Кан, один из самых выдающихся французских романистов, родился в Нормандии в начале XV века, а умер около 1470 г. Мало известно о его жизни, кроме того, что часть своей юности он провел в Англии, где был приближен ко двору вдовствующей королевы Иоанны Наваррской. Исходя из того факта, что два его произведения посвящены Изабелле Португальской, третьей жене Филиппа Доброго, герцога Бургундского, можно сделать вывод, что он был близок ко двору этого монарха. Никола де Кан не был широко известен и не очень ценился как своими современниками, так и писателями последующего времени, но в наш век он наконец получил признание как за свой необыкновенный дар рассказчика, так и за великолепное знание людей, их обычаев и умонастроений. Таким образом, его книги, несмотря на языковые трудности, интересны в качестве образцов французского рыцарского романа, изобилующих живыми подробностями того времени…
Никола де Кану приписывается множество романов. Но современная критика считает, что только пять из них несомненно принадлежат его перу:
1) «Приключения Адельмара Нуантеля», весьма незрелый роман в стихах, около семи тысяч строк;
2) «Мадок и Эттарра», также стихотворное произведение на основе известной пуактесмской легенды;
3) «Король Амори», отличное произведение в прозе, хорошо известное английским студентам по яркому переводу Ватсона;
4) «Роман о Лузиньяне», воскрешающем миф о Мелюзине (большая часть этого произведения утеряна);
5) «Десяток королев», сборник псевдоисторических новелл, со стихотворными вкраплениями.
Еще шесть произведений приписываются перу Никола де Кана, но они утеряны. Возможно, он написал и «Румяного рогоносца» и сделал несколько переводов Овидия, которые до сих пор не опубликованы. Сатиры же о «Братстве Серебряного Жеребца», приписываемые Никола, как доказал Бюль, были созданы в XVII веке.
Э. Ноэль Кодман.
«Указатель литературных первопроходцев».
Никола де Кан – один из милых, наивных и в то же время весьма тонко чувствующих свою эпоху и время писателей, которых мы любим за то, что они являются подлинными представителями золотого века… Никола писал о своем Короле и о своей Даме, а точнее о своем Боге. Он чувствовал, что мир вокруг него с каждым днем погружался все глубже во мрак и неопределенность, но в то же время он ощущал незримую защиту и поддержку в каждом трепетном дыхании этого мира и, словно сквозь дымку, он видел голубое небо над головой и живых людей вокруг. Самая отважная и воинственная натура уживается со страхом и прямодушным доверием, как это бывает у ребенка. Наблюдая подобное, наиболее раскрепощенные умы, скрывая улыбку, невольно восклицают: «Святая простота!»
Поль Вервиль.
«Заметки о жизни Никола де Кана».
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вот так, посредством Женопочитанья, Разбойники ведут себя честней, Не обращают кесари вниманья, Что царства их становятся бедней, А рыцари горят одним желаньем — Достойным Мелиценты стать скорей, В сравненьи ангелы с которой грубы: Изящен так взмах рук, изгиб бедра, Сапфиры – ее очи, Жемчуг – зубы, В перстах – туманный отблеск Серебра, И алые Рубины – ее губы, А кудри – Меди с Золотом игра. Но мало видит кто, как хороша Ее благочестивая Душа. Сэр Вильям Оллонби* * *
Роман о Лузиньяне забытого сочинителя, писавшего по-французски, а именно мессира Никола де Кана.
Вот повесть, которую рассказывают в Пуактесме о госпоже Мелиценте, дочери великого графа Мануэля.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЕРИОН
Как Перион на пиршестве вельмож
Угрюм и на себя был не похож.
Поскольку Мелицента замуж шла
За старого, больного короля,
Благоразумье он отбросил прочь,
Себя уже не в силах превозмочь:
Огонь желания его объял,
И он в Венерином костре сгорал.
ГЛАВА I
Как разоблачили Периона
В последствии Перион вспоминал о двух неделях, проведенных в Бельгарде, так, как выздоравливающий вспоминает о своей болезни: словно это была некая лихорадочная дрема, наполненная нестерпимым светом и непрестанным смехом. Он многое познал и увидел в гостеприимном доме графа Эммерика: отверженный вошел в радостный мир благородных людей, светских женщин и даже был представлен королю. Но все это время он отчасти находился в состоянии умственного расстройства, хорошо зная, насколько рискованно самозваному виконту де Пизанжу сохранять равновесие, так сказать, на золоченом камне, брошенном на мелководье между бесчестьем и забвением.
Сейчас, когда король Теодорет освободил всех от своего зловещего присутствия, молодой Перион проводил ежедневно не менее семи часов, по сути, наедине с госпожой Мелицентой. Где-то на расстоянии вытянутой руки веселились люди, развлекавшиеся тем или иным способом, но эти двое, казалось, лишь отчужденно наблюдают за ними: так царственные особы забавляются нанятыми комедиантами, не проявляя к ним какого-либо участия. Они были вместе, и вся эта толкотня, вся эта земная суета могла надеяться, самое большее, стать предметом их безразличного любопытства.
Они сидели, как думалось Периону, вместе в последний раз, среди публики, перед которой братство Святого Медара разыгрывало спектакль в жанре маска «Рождение Геракла». Епископ Менторский тем вечером вернулся в Бельгард вместе со своим братом, графом Ги, и они привезли из Эгремона этих затейников. Одетый в пурпур епископ ехал на коне впереди и играл на лютне, и это не совсем подобающее духовному лицу поведение, кроме его утонченного брата, никого не удивило.
Вот при каких обстоятельствах Перион начал свою речь. Говорил он с трудом, так как был поражен красотой и чистотой Мелиценты, а также мешала ему медленная, тягучая музыка, под которую танцевали Фивейские девы. Наконец он прервал свой шепот. Мелицента молчала, будто бы придирчиво рассматривая затоптанные зеленые камыши, покрывавшие, подобно ковру, пол в этом зале.
Затем Мелицента сказала:
– Вы говорите, что вы не виконт де Пизанж. Вы говорите, что вы приближенный покойного короля Гельмаса, подозреваемый в убийстве. Вы – человек, похитивший королевские сокровища… преступник, которого разыскивает половина христианского мира…
Вот так начала свою речь Мелицента. И он не мог вынести взгляда этих огромных и нежных глаз, фиолетовый оттенок которых как бы говорил о присутствии Всевышнего.
И Перион сказал:
– Да, я тот самый, повсюду травимый Перион Лесной. Настоящий виконт – это мошенник, от ран впавший в белую горячку, чему мы были свидетелями всего лишь в прошлый вторник. Да, на пороге вашего дома я напал на него, сражался с ним – но честно, сударыня! – и похитил бриллиантовые украшения вместе с его бумагами. Затем в силу необходимости я вынужден был устроить этот маскарад. Насколько я смыслю в танцах, я могу лишь сказать, что танцевать, не чуя под собой ног, довольно отвратительное занятие, особенно для самого танцора. Две недели безопасности до отплытия «Траншмера» я оцениваю по-своему. Вечером, сударыня, корабль встанет на якорь у Манвиля.
Мелицента же весьма странно спросила:
– Возможно, вы не такой уж презренный человек, каким хотели бы показаться?
– Возможно, я больший глупец, чем подозреваю, поскольку в то время, как обстоятельства благоприятствуют мне, я решил высказать всю голую и неприглядную правду. Объявите об этом и увидите, как недавнего виконта Пизанжа выволокут из зала и после соответствующих пыток через месяц повесят!
Тут Перион расхохотался.
Затем оба замолчали. Представление же тем временем продолжалось, и Амфитрион вновь вернулся с войны и пел под окном Алкмены утреннюю серенаду. Госпожа Мелицента внимала ему.
А через века, как показалось Периону, мягкие, прелестные губы вновь пришли в движение, и юная Мелицента сказала:
– Вы оскорбили своим невероятным мошенничеством, которому нет прощения, каждого присутствующего в этом зале. А мне вы нанесли наиболее глубокую рану. И, однако, признались вы только мне одной.
Перион наклонился вперед. Понятно, что по необходимости они говорили шепотом. И было удивительно видеть веселье вокруг. Меркурий прощался со служанкой Алкмены в середине быстрого танца.
– Но вы, – усмехнулся Перион, – милосердны. И поскольку я негодяй, я хочу воспользоваться этим. Я заперт в крепкой золотой клетке, я попал в прочный золотой капкан, я даже не могу раздобыть проводника до Манвиля. Я не могу взять лошадь из конюшен графа Эммерика, не вызвав подозрений. Я должен добраться до Манвиля к рассвету, иначе буду повешен. Я ставлю на карту все ради этого, и вы должны или спасти меня, или отдать в руки палача. Очевидно, как очевидно то, что есть Бог, мое будущее зависит от вас. Я совершенно уверен, вы не сможете жить спокойно, даже имея на своей совести убитого комара. Или я и впрямь не отпетый мошенник?
– Не напоминайте мне, что вы негодяй, – сказала Мелицента. – Нет, только не сейчас!
– Лакей, самозванец и вор! – упрямо ответил он. – Здесь весь мой послужной список, все мои титулы. И несмотря на это, по причине, которую я до конца не понимаю, мне приятно быть непростительно откровенным и вручить вам мою судьбу. Вечером, как я сказал, «Траншмер» встанет на якорь возле Манвиля. Достанете мне лошадь – и завтра я отправлюсь резать глотки на службу к разоренному греческому кайзеру, с которой я, похоже, никогда не вернусь. Проговоритесь – и меня повесят, не пройдет и месяца. Госпожа Мелицента взглянула на него, и в этот миг Периону было щедро отплачено за все глупости и ошибки его жизни.
– Что плохого я сделала вам, мессир де ла Форэ, что вы так позорите меня? До этого вечера я была счастлива, веря, что вы любите меня. Могу сказать это сейчас, поскольку, как я думаю, вы не тот человек, которого я мечтала полюбить. Вы только оболочка того человека. Но вы заставляете меня обойти закон, стать сообщницей разыскиваемого вора или, в противном случае, убить вас!
– К этому все идет, сударыня!
– Тогда я должна помочь сохранить вашу жизнь любым способом, который только взбредет вам в голову. Я не буду вам мешать. Я обеспечу вас проводником до Манвиля. Я даже прощу все ваши прегрешения, кроме одного, поскольку таким подлецом вас сотворили небеса.
Девушка была прекрасна в своем гневе.
– Потому что вы любите меня. Женщины это знают. Вы любите меня! Да!
– Без сомнения, сударыня.
– Посмотрите мне в глаза и скажите, какая ужасная причина привела вас к бесчестью и возможно ли от нее избавиться.
– Я низок, – ответил он, – однако не настолько низок, как вы полагаете. Нет, поверьте мне, я никогда не надеялся добиться даже такой презрительной доброты, с какой вы, например, относитесь к вашей болонке. Я лишь украдкой осмеливался взглянуть на Небеса и только так, как смотрел на Небеса библейский Богач. Низменный и подлый, я никогда не мечтал о том, что на пути к мерзости и грязи, которые впредь станут моим неминуемым уделом, меня будет сопровождать ангел.
– Представление закончилось, – сказала Мелицента, – а вы все говорите, говорите, говорите… и становится ясно все коварство вашей мнимой правды… Хорошо, я пошлю к вам надежного человека. А сейчас, ради Бога… нет, ради дьявола, который владеет вами… позвольте мне никогда вас больше не видеть, мессир де ла Форэ.
ГЛАВА II
Как веселился виконт
Затем последовали танцы и роскошный ужин. Виконт де Пизанж в тот вечер был признан самым блестящим кавалером. Он с удовольствием общался с пирующими гуляками и всегда находил точный и остроумный ответ на любую шутку, отпускаемую по поводу предстоящего бракосочетания госпожи Мелиценты и короля Теодорета, и в то же время не забывал, что полцарства обложило разбойничьи притоны, вылавливая Периона де ла Форэ. Источником бурного веселья Периона являлось то, что на следующее утро все в этом замке вдруг обнаружат, насколько опрометчиво они давали в долг, и что Мелицента уже сейчас не может не восхищаться дерзостью этого повсюду разыскиваемого преступника, как бы ни было глубоко отвращение, с которым она относилась к нему. Подумав об этом, Перион громко расхохотался.
– Вы сегодня веселей, чем обычно, мессир де Пизанж, – заметил епископ де Монтор.
Этот достойный молодой человек, как мы уже говорили, прибыл тем вечером в Бельгард из своего поместья в Жьене и пересек по пути темный Акаирский Лес. Именно он устроил свадьбу Мелиценты с королем Теодоретом. Епископ сам был влюблен в свою кузину Мелиценту, но, приняв духовный сан и потеряв возможность жениться, он с присущим ему коварством решил использовать красоту кузины, как использовал и многое другое, для своего собственного возвышения.
– Сударь, – ответил Перион, – вы известны как поэт и потому, конечно, знаете, что «веселей» рифмуется с «день сей», тогда как «гнетущий» – со словами «день грядущий».
– Но ваше веселье, мессир де Пизанж, лишь словесная круговерть, а «круговерть», – епископ жестко взглянул своими серыми глазами на Периона, – имеет весьма избитую рифму.
– Воистину это мрачная рифма. Она заставляет замолчать другие стихи, – согласился Перион. – Лучше я посмеюсь просто так, без всякой рифмы или причины.
Молодой священнослужитель настойчиво продолжал:
– Но у вас есть прекрасный повод для веселья. Ведь вы ужинаете в такой близости от Небес.
И он многозначительно взглянул на Мелиценту.
– Нет, нет, – ответил Перион. – У меня совсем другая причина для веселья. Ведь завтракать мне придется в Аду.
– Ну, что же. Как говорят, хозяин этого заведения воздает каждому по заслугам, – и епископ, пожав плечами, удалился.
– Дьявол несомненно воздаст каждому по заслугам, – проговорил вслух Перион.
ГЛАВА III
Как ухаживала Мелицента
От этих мыслей, от напрасных сожалений туман поплыл у него перед глазами. Периону привиделось, что дверь отворилась и в мрачную, обитую дубовыми панелями комнату осторожно вошла сама госпожа Мелицента, ему показалось, что Мелицента остановилась напротив камина и отблески огня играли на ее лице и платье, а ее слегка встревоженные глаза походили на глаза только что разбуженного ребенка.
И казалось, прошло много времени, прежде чем она заговорила и спокойно призналась в том, что все рассказала Айрару де Монтору, и по причине любви к ней епископа так подстроила нужный исход беседы – «подло», как выразилась она, – что было обещано, что порядочный человек зайдет в три часа за Перионом де ла Форэ и проводит вора до незаслуженной безнаказанности. Все это она проговорила совершенно спокойно, будто по книге, но вдруг голос ее изменился:
– Это правда. Но… Сейчас вы размышляете о том, почему я пришла сюда лично рассказать вам об этом?
– Сударыня, не могу и предположить. Нет, в самом деле, – воскликнул Перион, потому что знал правду и был несказанно напуган. – Не смею и предположить.
– Завтра вы уплывете воевать за море… – начала было она, но сладчайший голос ослабел и затем вовсе замер. Он слышал потрескивание дров и даже учащенное биение собственного сердца, словно наступила самая ужасная и прекрасная тишина на свете. – Возьмите меня с собой!
Перион потом никак не мог вспомнить, что он ответил. И действительно, то были какие-то бессвязные слова, какой-то лепет.
– Я не понимаю, – сказала Мелицента. – Послушайте, я была воспитана в целомудрии, никогда никому не причинила зла, через всю мою защищенную и спокойную жизнь я пронесла истинную любовь к правде и чести. Моя рассудительность допускает, что вы такой, каким себя описываете. И все же есть во мне нечто более властное, чем моя рассудительность, что кажется всеведущим и с легкостью отметает ваши признания как совершенно неважные.
– Лакей, самозванец и вор! Вот список всех моих законных, честно заработанных титулов.
– И даже, если бы я поверила вам, по-моему, мне было бы это безразлично. Вы считаете это странным? Я должна презирать вас. Но даже в этом случае я бы бросила свою честь к вашим ногам, как делаю сейчас, и, лишь отчасти ненавидя себя, умоляла бы вас сделать меня своей женой, служанкой, кем угодно… О! Я думала, что когда придет любовь, она будет прекрасной!
Он сказал на удивление спокойно:
– Это прекрасно. Не было в моей жизни мгновения более счастливого. Вы стоите на расстоянии вытянутой руки, я могу дотронуться до вас, могу овладеть вами, могу сделать все, что захочу. Но я не смею и пальцем пошевелить. Я похож на человека, который долгое время томился в темнице, тщетно стремясь увидеть хоть кусочек неба, и который, когда его освободили, прячет глаза от солнца, поскольку не осмеливается взглянуть на него. Увы! Я недостоин вашего выбора и умоляю вас говорить со мной как можно суровее, сударыня, поскольку, когда ваши чистые глаза смотрят на меня с добротой, а ваши нежные, прекрасные губы находятся рядом с моими, я так возбужден и так счастлив, что боюсь, как бы не заревновали Небеса!
– Не бойтесь… – прошептала она.
– Мне нужно быть смелее? Через минуту разбудить графа Эммерика и смело сказать ему: «Милостивый государь, вор, которого ищет половина христианского мира, имеет честь просить руки вашей сестры»?
– Завтра вы уплывете воевать за море. Возьмите меня с собой!
– Такой подвиг был бы достоин меня! Вы так нежно воспитаны, вы привыкли к роскоши, присущей этому веку. К вам сватался великолепный и могущественный монарх, вполне достойный вашей любви, который разделит с вами много счастливых и светлых дней. А там страна, не знающая законов, обнаженная дикость, где я и мои сорвиголовы хотят обмануть правосудие и сохранить свои трижды пропащие жизни. Вы просите меня помочь вам попасть в эту страну и никогда не вернуться! Сударыня, если бы я послушался вас, сам Сатана запротестовал бы против осквернения своего вечного огня такой мерзкой душой.
– Вы говорите о малом, я же говорю о большом. Любовь поддерживается не только приятной пищей, и ей служат не только люди, одетые в атлас.
– Тогда выслушайте неприкрытую правду! Бесспорно, я поклялся, что люблю вас. Но, сударыня, я слишком опытен в таких делах, как любовь, поскольку редко встречал женщин, которые тем или иным способом не могли завоевать мое сердце. И я признаюсь сейчас, что только вы одна не могли его взволновать. Единственной моей целью было посредством лести выманить у вас коня, а между делом развлечься, милая негодница! Вот и все… Клянусь вам, это все, все, все… – Перион зарыдал, и казалось, он находится при смерти. – Я забавлялся вами. Я отвратительнейшим образом вас надул.
Мелицента ждала окончания этой странной речи, и спокойный ее взгляд, казалось, проникал до самых глубин его сердца и оценивал все, о чем когда-либо думал Перион, к чему стремился он с первого, дня жизни. Эта женщина казалась Периону настолько прекрасной, что в сострадательности к человеческому безрассудству превосходила самых добрых ангелов.
– Да, – сказал Перион. – Я пытался вам солгать. Но даже в этом меня постигла неудача.
Она сказала с чудесной улыбкой:
– Определенно, никогда в мире не было таких сумасшедших, как мы. Я должна ухаживать за вами, будто вы – девушка. А вы отказываете мне и так страдаете, что мне страшно смотреть на вас. Говорят, что вы ничем не лучше любого разбойника с большой дороги; вы сами признались, что вы – вор, а я не верю ни одному из обвинителей. Перион де ла Форэ, – сказала Мелицента, и сочинителям баллад никогда не удавалось описать, каким тоном она это произнесла, – я знаю, что если вы и барахтались в бесчестье, то не чаще чем архангел воровал белье с веревки. Я не гадаю! Поскольку пробил мой час, я знаю! И ничто не посмеет теперь встать между нами…
– Нет… и даже будь все так, как вы полагаете без всяких на то оснований, существует, по крайней мере, слабоумный спотыкающийся плут, который все это смеет делать. Он говорит: «Что в этом грязном мире всего дороже и святее?.. Конечно, это благоденствие госпожи Мелиценты. Тогда позволь мне его хранить, потому что мне было доверено множество бесценных вещей – юность, сила, честь, чистая совесть и детская вера и многое другое – и никто из живущих на свете не промотал их. так легко, как я. Так что вперед! Доверь мне, мой двойник, мой стыдливый и робкий товарищ, добыть и промотать самую главную драгоценность этого мира». Вот так он хихикает и подталкивает меня, этот мошенник, что делит со мной мои малейшие способности, – самый жалкий и подлый негодяй! В былые времена он умудрялся сводить концы с концами, практикуя такие вещи, какие ваше незапятнанное воображение вряд ли может представить. Пока я не встретил вас, я терпел его. Но вы показали, какое это чудовище. Чудовище! Ходячая куча грязи, которую не примет даже Ад!
Стеная, Перион отвернулся от нее и, рухнув в кресло, закрыл глаза, как будто увидел эту мерзость во плоти.
Девушка опустилась на колени рядом с ним.
– Дорогой мой, мой дорогой! Убей ради меня этого другого Периона Лесного.
На что Перион расхохотался, но смех его был не слишком весел.
– В обычае у женщин посылать мужчин на такие подвиги, которые и сам двужильный царь языческих времен Геракл не смог бы совершить. Несмотря на всю мою внешнюю силу, внутри я слаб. Ловкости и умения других мужчин я не боюсь, поскольку не встречал более грозного врага, нежели я сам. Но тот же самый полночный головорез давным-давно выбил меня из седла. Я довольный собой барахтался в трясине, пока не появились вы… Прелестнейшая на свете, зачем вам было нужно меня тревожить? Я хочу сегодня стать таким же чистым, как вы; может быть, я таким никогда не стану. Мною владеют дьяволы, я полон всяческих пороков, у меня не хватает силы, а может быть, воли, вырваться из трясины. Я всегда предавал власть как человека, так и бога, чтобы избежать даже минутного неудобства! И сейчас я не могу поклясться, что в итоге не предам и вас! И пусть хохочет Сатана, и пусть его смех исполнен жалости, потому что он да я знаем причины, почему я не обещаю верности кому бы то ни было! Госпожа Мелицента! – воскликнул Перион. – Вы предлагаете мне такой дар, который и император не смог бы принять без благоговейной благодарности. Я отказываюсь от него. – Он нежно поднял ее с колен. – А теперь, ради Бога, уходите, сударыня, и оставьте этого мота вместе с тем, что у него еще осталось.
– Вы очень храбрый, но в то же время очень глупый человек, который предпочитает встречать трудности лицом к лицу. Для любого мужчины это мучительно; для женщины же, которая его любит, просто невыносимо.
Перион не видел ее лица, потому что лежал ничком возле ее ног, рыдая без слез и обильно вкушая такое горе и раскаяние, которые, по его мнению, известны только в Аду. Не сказав ни слова, она ушла, оставив его лежащим на полу.
А затем он еще долго, положив подбородок на ладони, лежал на полу, смотрел на огонь в камине и думал о том, что Перион де ла Форэ когда-то был и другим. И в том юном Перионе Мелицента несомненно нашла бы подходящего супруга, если бы тот Перион давным-давно не умер. Вот какие мысли терзали его. Нет ничего более печального, как размышлять о том, кем ты был и кем уже не являешься. Перион тщательно рассматривал и взвешивал свои прошлые безумства и всякого рода уловки.
Затем он взял перо и чернила. Это было первое письмо, которое он писал Мелиценте и которое, как вы вскоре поймете, она никогда не прочтет.
Сударыня, Вам приятно будет узнать, что когда допрашивали нас с госпожой Мелюзиной, я сам признался в убийстве короля Гельмаса и в похищении его драгоценностей. Я солгал. Так как делом чести било спасти женщину, которую, на мой взгляд, я любил, а было очевидно, что виновен кто-то из нас.
Сейчас она пребывает на возвышенности Акаира, где, по слухам, у нее великолепные владения. Я ни разу не слышал, чтобы она, так или иначе, вспоминала обо мне – ее орудии. Сударыня, когда я думаю о Вас и об этой вкрадчиво улыбающейся женщине, я пугаюсь собственной глупости.
Когда я пишу эти строки, которым никто не поверит, я ошеломлен своей долговременной слепотой. И какой прок отрицать преступление, которое приписывается мне всеми обстоятельствами дела, и в котором я всенародно признался?
Но вы, надеюсь, поверите мне. Сударыня, мне ничего от Вас не нужно. Я даже никогда Вас больше не увижу. Я удаляюсь в опасное вечное изгнание. А непосредственная близость смерти вряд ли вызовет у человека хоть малейшее стремление к любовной романтике. Посмотрите на меня с самой худшей стороны: да, я родился в благородном, добропорядочном семействе, жил же как никудышный человек и всегда вел себя глупо, но никогда не терял чести. Я ни разу, насколько мне известно, никому не причинил зла, кроме самого себя. Бог свидетель, что я говорю правду. Дорогая моя, поверьте мне! Поверьте! Несмотря ни на что! И поймите, что мое восхищение, моя никчемность и мои страдания при мыслях о Вас настолько безмерны, что не оставляют места для малейшей лжи.
Я благодарю Вас, сударыня, за Вашу бесконечную доброту и прошу: верьте мне!
ГЛАВА IV
Как епископ помогал Периону
В три часа в дверь постучали. Перион вышел в неосвещенный коридор и, держась за плащ Айрара де Монтора, прошел вслед за ним сквозь лабиринт многочисленных коридоров и лестниц, выведший их под недружелюбное ночное небо. Две лошади уже стояли наготове. Мужчины вскочили в седла и умчались прочь.
Только раз Перион обернулся, чтобы взглянуть на Бельгард, черный и бесформенный на фоне неба. Больше он не смел оглядываться, поскольку мысль о девушке, которая сейчас лежала не в силах заснуть в Маршальской Башне, острее кинжала пронзала его сердце. Сжав зубы, Перион следовал за своим спутником. Епископ не произносил ни слова, лишь указывал направление движения.
Они достигли Манвиля и, обогнув город, выехали к Фоморской Отмели, узкой песчаной полоске на берегу. Было темно, не раздавалось ни звука, кроме тихого плеска волн. Неподалеку в море лениво покачивались в такт прибою четыре огонька, показывая то место, где стоял на якоре «Траншмер». Периону все это, похоже, было безразлично.
– Скоро рассвет, – сказал Перион.
– Да, – ответил Айрар де Монтор.
И его голос выказал явное нежелание продолжать разговор. Перион де ла Форэ» представлял собой нечто грязное, с чем епископ мог иметь дело только в силу необходимости и с тем отвращением, с которым страдающий от жажды вытаскивает муху из воды. Перион допускал это, потому что ему было уже все равно.
Привязав лошадей, они уселись на песок и полчаса провели в полной тишине.
Где-то прокричала птица. Перион осознал вдруг что ночь уже не была так мрачна, как прежде, ибо он уже видел изломанную линию пены, которую прилив то бросал на берег, то откатывал далеко в море.
Через некоторое время какой-то огонек опустился на поверхность воды и, покачиваясь в темноте, стал, в отличие от других, по мере приближения становиться все ярче.
Они спустили шлюпку, – проговорил Перион.
– Да, – односложно, как и прежде, ответил епископ.
Какое-то сумасшествие вдруг охватило Периона, и казалось, что он вот-вот заплачет, поскольку все так дурно складывалось в этом мире.
– Мессир де Монтор, вы помогли мне. Я очень признателен, если, конечно, моя благодарность что-то значит для вас.
Епископ заговорил хриплым невнятным голосом.
– Благодарность, насколько понимаю, не входит в условия сделки. Я родственник госпожи Мелиценты. И в моих интересах, и в интересах нашего дома, чтобы человек, которого она посещает ночью, покинул пределы Пуактесма…
– И вы говорите так о самой прекрасной женщине, какую когда-либо создавал Бог! Женщине, которой должен поклоняться весь мир!
– Поклоняться! – смеясь ответил епископ. – Я был бы большим глупцом, если б поклонялся признанной распутнице!
И он начал глумиться над Мелицентой, употребляя такие выражения, которые лучше не повторять. Перион не стерпел и сказал:
– Я самый несчастный из всех живущих на свете, так же как вы наиподлейший из них. В моем присутствии вы позволяете себе хулить госпожу Мелиценту, зная, что я у вас в долгу и у меня нет права возмущаться вашими речами. Вы устроили мой побег и тем самым подарили мне жизнь; и, используя свое преимущество, вы поносите ангела и наносите удары человеку, связанному по рукам и ногам…
В это мгновение у Периона в голове вдруг промелькнула мысль о том, как достойно выбраться из такого запутанного положения.
– Обнажите шпагу, мессир! В самую последнюю минуту я, возможно, если есть Бог, смогу еще вернуть себе право вас убить.
– Ого! Странное проявление благодарности! – ответил епископ. – И хотя я не особенно разборчив, но вот что я тебе скажу, мой друг: я не сражаюсь с лакеями.
– Да вы, мессир, этого и не достойны. Поверьте, не существует ни лакея, ни вора, ни сводника, который смог бы встретиться с вами на равных, не унизив себя. Ибо вы самый большой в мире клеветник; но, мессир де Монтор, у лжи короткие ноги! И я думаю, что менее чем за час превращу эту клевету в пустой звук.
– Негодяй, я подарил тебе жизнь…
– Бесспорно. Но я должен швырнуть этот подарок обратно, чтобы мы, два жалких негодяя, смогли встретиться на равных. – Тут Перион устремился к шлюпке, которой уже можно было достичь вброд. – Кто здесь? Госельм, Роже, Жан Бритауз… – наконец, он увидел того, кого искал. – Агасфер! Вожак, который должен был повести Вольных Соратников за море, изменил свои намерения. Я передаю свои полномочия Ландри де Боннею. Будь добр, сообщи ему о непредвиденных изменениях и передай новому капитану соответствующие сожаления и поздравления от имени Периона де ла Форэ.
После чего Перион направился к берегу, где, пока еще в неверном свете, стали видны очертания холмов.
– Мессир де Монтор, мы можем продолжить наши Деяния. Когда судно отплывет, ничто не сможет продлить мою жизнь еще хотя бы на две недели. Я выплачу вам все долги. Вы будете сражаться с человеком, если вам угодно, уже мертвым, но с другой
стороны, если вы попытаетесь улизнуть, если вы не захотите скрестить шпаги с лакеем, вором и убийцей клянусь честью моей матери, я уничтожу вас без раскаяния, как уничтожил бы гадину…
– Как смело! – усмехнулся епископ. – Лишить жизни себя или, возможно, меня и все из-за одного глупого слова… – сказал епископ, и вдруг в его голосе послышалось рыдание. – Как глупо и как похоже на вас!
Перион удивился, как изменился голос прелата.
– Постойте, господа, – закричал Айрар де Монтор, – подождите, пожалуйста, одну минуту!
Он вбежал в ледяную воду и направился к шлюпке. Он вырвал фонарь из рук Жида и понес его к берегу. Он держал фонарь высоко над водой, так что Перион мог видеть его лицо, и Перион вдруг понял, что каким-то чудом человек в мужском одеянии с фонарем в руке оказался Мелицентой. И странно, что на всю жизнь ему отчетливее всего запомнилась трепещущая на ветру прядь ее волос.
– Посмотри на меня хорошенько, Перион! – сказала Мелицента, – посмотри как следует, никчемный ты человек! Посмотри, загнанный бродяга, и увидишь, как я горда. Я очень горда! Я не сильно восхищаюсь своим высоким положением, своим богатством и даже своей красотой, потому что я знаю, что красива, но самое главное мое достоинство, что ты любишь меня… к тому же, так безрассудно!
– Ты не понимаешь!.. – воскликнул Перион.
– Наконец-то я очень хорошо поняла, что ты и в самом деле лакей, самозванец и вор. Да, лакей своей чести! Самозванец, который пытался – увы, тщетно! – воплотить чужую подлость! Вор, который украл чужое наказание! Я не задаю вопросов. Любить – значит доверять. Но я хотела бы медленно-медленно убить этого другого. Я не задаю вопросов. Я отваживаюсь доверять человеку, которого я знаю, даже если это звучит как вызов. Я осмеливаюсь возразить, что он не вор, а безумно честный человек. Мой бедный, путавшийся мальчик, – проговорила с умиротворяющей нежностью Мелицента, – как же так вышло, что ты забрел в наш грязный мир!
Он ничего не ответил, но уже никак не от безмерного страдания.
– Подойди, подойди же сюда. Разве ты не поможешь мне залезть в шлюпку? – спросила Мелицента. Она тоже была счастлива.
ГЛАВА V
Как обручилась Мелицента
– Не может быть, кузина.
Слова эти были произнесены настоящим епископом Монтерским. Он с пятнадцатью приближенными внезапно появился на берегу как раз в тот момент, когда взгляды Мелиценты и Периона были обращены в сторону моря. Епископ, как обычно, был одет в платье придворного кавалера, и ни одна деталь не выдавала его истинный духовный сан. Он долгое время оставался в седле, глядя на влюбленных, улыбаясь и похлопывая расшитой золотом перчаткой по луке седла. Рассветало.
– Я кое-что услышал, – сказал он. Голос его был ласков, ибо молодой человек с большой любовью относился к своей родственнице, но любовь эта все же уступала той, какую он испытывал к Айрару де Монтору. – Да, я кое-что услышал, но в этот миг я, как мне кажется, увидел сердца всех женщин, когда-либо живших на свете; и они отличаются друг от друга не больше, чем звезды на ночном августовском небе. Ни одна женщина не любила мужчину как мужчину. Ее любовь – любовь матери к своему ребенку. Пусть он создает государство, или пишет бессмертные стихи, или разбойничает на большой дороге, она лишь улыбнется, заметив, как самозабвенно играет мальчик в свои игры; и когда он возвратится с перепачканными руками, она лишь пожалеет его, а если потребуется, притворится сердитой. Она быстренько постирает его одежду и залечит ссадины. Женщины мудрее нас, и в глубине души они жалеют нас тем больше, чем мы сильнее, самоувереннее, чем более хвастаемся своим умом, что только лишь доказывает его нехватку. И благодаря своей непоколебимой вере в то, что мы лучше, чем есть на самом деле, женщины заставляют нас становиться лучше.
Айрар де Монтор спешился.
– Однако хватит проповедей! Что же касается остального, Мессир де ла Форэ, я узнал вас в тот же день, как только вы появились в Бельгарде Но я промолчал. Поскольку вы не убивали короля Гельмаса, как утверждает молва. Я твердо знаю, что он спит в безопасности в Акаире. Но госпожа Мелюзина напустила чары на весь двор отца и волшебством перенесла его замок. Это похоже на нее. Если Мелюзину рассердить, она становится беспощадна. Да-да, ужасная, прелестная женщина, рожденная, как говорят, русалкой! Она мой близкий и полезный мне друг. С ее помощью я надеюсь далеко пойти. Вы видите, я откровенен. Такова моя природа, – епископ пожал плечами. – Одним словом, я принял виконта де Пизанжа, но, естественно, тайно следил, как вы теперь видите, за вашими перемещениями. И до сих пор обман лишь забавлял меня. Но это, – он указал рукой в сторону «Траншмера», – мои любезные друзья, уже не шуточки.
– Вы все говорите и говорите, – вскричал Перион, – а я размышляю о том, что люблю самую благородную даму, которая когда-либо только жила на свете.
– Доказательство вашей любви, – ответил епископ, – если позволите высказать мое наблюдение, весьма необычно. Поскольку вы предполагаете, как я думаю, сделать из нее походную жену, сестру полка. Ведь мы с вами, мессир, хорошо знакомы с войной. Армии при встрече не забрасывают друг друга сластями. Какой дом вы, бездомный человек, можете предложить Мелиценте? Разве есть место для Мелиценты среди ваших Вольных Соратников?
– Не знаю…
Перион повернулся к Мелиценте, и они долго-предолго смотрели друг на друга.
– Хотя я и подлец, но я никогда не собирался ввергнуть женщину в ту трясину и грязь, которые на некоторое время станут моим уделом. Я отправляюсь один. Ты хочешь, чтобы я вернулся?
Девушка была совершенно спокойна. Она сняла с руки бриллиантовое кольцо и надела ему на мизинец, поскольку остальные пальцы были для него слишком велики.
– Я даю обет до конца жизни быть тебе верной и ждать тебя, Перион. Нет нужды говорить о любви.
– Нет нужды… – ответил он. – О Господи, смогу ли я выжить без тебя!
– Я думаю, что меня отдадут замуж за короля Теодорета. Ужасный старик потребовал единственную плату за то, что он не тронет Пуактесм, – мое тело. К тому же на поле бранив он сильнее Эммерика. Эммерик боится его, а Айрару нужна королевская дружба, чтобы стать кардиналом. Вот так родственники торгуют моими глазами, губами и волосами. Но сначала я хочу обручиться с тобой, Перион, здесь, перед лицом Бога. Я прошу тебя вернуться ко мне, потому что я навсегда твоя жена.
– Я вернусь, – ответил он.
Через некоторое время их губы разъединились.
– Закрой мое лицо, Айрар. Возможно, я заплачу. Люди не должны видеть жену Периона плачущей. Закрой мое лицо, так как он уходит, а я не могу этого видеть.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ МЕЛИЦЕНТА
Так Мелиценту привела любовь
в край варваров, где холодела кровь
При взгляде на правителя его,
который не боялся никого.
Тиран Деметрий сразу возжелал
Несчастную и в свой гарем забрал.
Так средь язычников она жила,
И смерть близка, как никогда, была.
ГЛАВА VI
Как Мелицента попала за море
В Пуактесме рассказывают историю, повествующую о том, как началась любовь между Перионом Лесным, вожаком наемников, и юной Мелицентой, дочерью великого Дона Мануэля и сестрой графа Эммерика Пуактесмского. Рассказывают также о том, как расстались Мелицента и Перион, потому что не оставалось другого выхода, и о том, что ради благополучия Пуактесма Мелицента должна была выйти замуж за короля Теодорета.
И история рассказывает о том, как отплыл Перион со своими приверженцами, чтобы служить разоренному греческому кайзеру.
Но предприятие потерпело неудачу уже тогда, когда судно с Вольными Соратниками проходило недалеко от Массилии и попало в штиль. Здесь-то и напали на него три галеры с язычниками, под предводительством наместника Деметрия. Воины Периона, привыкшие сражаться на суше, в море были новичками и потому оказались бессильными перед противником, который со значительного расстояния обрушил на их судно поток жидкого огня.
Затем Деметрий послал шлюпки и снял с пылающего корабля около тридцати пленников. Он всех их сделал рабами, кроме Жида Агасфера, так как узнал, что сей человек поклоняется другому богу. Ведь все знают, как хвалился Деметрий, что воюет только с христианами.
И Агасфер по приказу Периона немедленно отправился к Мелиценте. Принцесса восседала в высоком кресле, спинка которого была украшена большой медной головой льва. Она блестела над головой принцессы, но блеск ее волос был намного сильнее.
Агасфер хладнокровно сообщил о случившемся.
– Я довожу до вашего сведения печальные известия о Вере, Любви, Смерти и прочем. Повторяя их, я служу лишь эхом Периона. А может ли быть эхо безумным? Этот безумец был моим любимым и уважаемым господином, которому не найти равных на полях сражений. Сегодня же его мощные мышцы, которые поддерживали трон, используются для переноски тяжестей. Это смешно. Но я не смеюсь.
– У меня тоже нет времени для плача, – сказала Мелицента.
Когда Жид ушел, юная Мелицента поднялась и направилась в зал, украшенный панно, изображающим историю любви Ясона и Медеи. В этом зале граф Эммерик хранил драгоценности, которым не было равных во всем христианском мире.
Она не колебалась ни секунды. Она не думала ни о своей матери Ниафер, ни о своих сестрах Эттарре и Доротее, которые также своей красотой воспламеняли желание в сердцах мужчин. Мелицента знала только, что Перион в плену и никто ему, кроме нее, не в силах помочь.
Она завязала в голубую салфетку такие изумруды, которые могли бы послужить выкупом и для самого Папы Римского. Она коротко обрезала свои прекрасные волосы, оделась в мужское платье и под покровом ночи выскользнула из замка. В Манвиле она нашла венецианское судно, которое отплывало на родину с грузом вооружения и доспехов.
Она нанялась слугой к капитану судна, назвавшись Жоселеном Геньяром. У нее не было времени бояться или сожалеть о том, от каких благ она отказывается, пока Перион находился в опасности.
Вот так юный Жоселен, хотя и не без трудностей и некоторых приключений, о которых здесь рассказывать не к месту, достиг страны палящего солнца и порока, где томился Перион.
ГЛАВА VII
Как был освобожден Перион
Здесь Мелицента узнала, в каких условиях содержится Перион, и, заплатив большую сумму денег, она смогла, при этом безмерно страдая, увидеть, как Перион проходит через двор Накумеры с цепью на ногах, неся на кухню огромную вязанку дров. Это произошло, когда Жоселен добрался до горной страны, где вход в долину охраняло расположенное на высоком утесе «орлиное гнездо» Деметрия.
Юный Жоселен попросил аудиенции у этого языческого правителя и получил ее, хотя и с какой-то зловещей легкостью.
Деметрий возлежал на диване во Дворе Звезд, который нужно было миновать, чтобы попасть в Сад Женщин и в роскошную тюрьму, где он содержал своих жен. Двор представлял собой правильный круг, в шахматном порядке выложенный красными и желтыми плитами. В центре высоко в небо выбрасывал струю воды фонтан. Двор окружала галерея, алые колонны которой были инкрустированы фантастическими позолоченными узорами. Стены же были цвета красного вина, и на них через равные промежутки располагались золотые пятилистники. Издалека они напоминали звезды и, таким образом, дали название этому помещению.
Деметрий возлежал на длинном диване, покрытом малиновой тканью, и диван этот, не считая двух проходов, полностью окружал Двор. Деметрий, этот большой и сильный человек, до безумия обожал самого себя; он был чуть выше среднего роста и обладал необычайно мощной грудью и широкими плечами. По слухам, он насквозь протыкал яблоко указательным пальцем, а однажды ударом кулака убил норовистую лошадь. У него были большие и дерзкие глаза, цвета оникса, но в общем это был довольно приятный на вид человек, лицо которого портили лишь угри.
Он не произнес ни слова, пока Жоселен Геньяр объяснял, что хочет выкупить Периона.
– И в какую цену ты оцениваешь этого Периона? – наконец без всякого интереса спросил Деметрий.
Жоселен, расписывая их достоинства, показал семь изумрудов.
– Они довольно хороши, – согласился Деметрий. – Но у меня с избытком таких камней.
Он приподнялся на подушках, и при этом движении шитая золотом одежда его засверкала, как чешуя диковинного чудовища. Он лениво снял с головы повязку, которую украшал огромный, с куриное яйцо, хризоберилл.
– Взгляни, своим зеленым цветом он куда более прекрасен, чем любая из твоих безделушек. Я думаю, что он ценен еще и своим огромным размером. Более того, он краснеет при вечернем освещении – становится красным, как кровь. Это замечательный цвет. И однако я не знаю, сколько он стоит. Для меня вообще не существует стоимости чего-либо. Хочешь, я подарю тебе эту цветастую гальку, если конечно, она тебе нравится, потому что твое невежество изумляет меня. Большинство людей знают, что Деметрий не торговец. Он не покупает и не продает. То, что у него есть, он хранит; чего у него нет, он берет.
Юноша, казалось, представлял собой воплощенное отчаяние. Он молчал. Он выглядел очень привлекательно, выделяясь своей мертвенной бледностью среди красных и золотистых тонов, которые царили в этом помещении.
– Так ты не оценил мой несчастный камень? Ты ценишь своего друга выше? Это цитата из Феокрита: «Когда жили в старые времена могучие герои, когда друзья отдавали любовь за любовь». И однако я мог бы поклясться… Давай заключим пари. Покажи, что твое презрение к этой безделушке так же велико, как и мое, и брось этот сверкающий камень в галерею, чтобы первый прохожий мог забрать его. И я оценю твою искренность. Сделай это, и я даже назову цену за Периона.
Переодетая девушка повиновалась без промедления. Повернувшись, она заметила жуткую перемену в пристальном взгляде Деметрия и вздрогнула под этим взглядом. Но через мгновение в глазах Деметрия огонь страсти погас.
Он вежливо сказал:
– Сделка есть сделка. Мои жены прекрасны, но сейчас их ласки мне так же надоели, как прежде они меня радовали. Я долго размышлял и понял, что только одно утешит меня: если возьму в жены христианку, женщину с глазами, словно фиалки, волосами подобными золоту и нежным белым телом. Мужчина быстро устает от черного дерева и янтаря… Добудь мне такую жену, и я с удовольствием освобожу Периона и его товарищей, которые еще живы.
– Но, милостивый государь, – юный Жоселен Геньяр был потрясен, – вы требуете от меня невозможного!
– А мне думается, что вовсе нет. И причина в том, что мужчина бросает камни согнутой рукой, а женщина – прямой.
Воцарилась тишина. Наконец Деметрий ее нарушил.
– Послушай, я веду дела честно. Если бы такая женщина находилась здесь – в гостях у Деметрия Анатолийского, – я ни в коем случае не помешал бы ей покинуть мой дворец, хотя мог бы сделать это с легкостью. Неподалеку от меня есть особа, которая считает необходимым противостоять мне. Если бы эту женщину можно было купить, я мог бы предложить свою цену. А если бы она отказалась от сделки, все равно я не помешал бы ей уйти. Но, вполне возможно, я подверг бы Периона пытке водой. Так забавно видеть человека, который сходит с ума на твоих глазах. Я думаю, что от смеха я смог бы совершенно забыть об этой женщине.
Она же лишь прошептала:
– Господи, молю тебя о справедливости!
– Милая девушка, в Накумере только желания Деметрия являются справедливыми. Но мы попусту тратим время. Ты желаешь купить одну из вещей, принадлежащих мне? Пусть будет так. Слушаю твое предложение.
Пальцы ее рук сплелись, а затем руки упали вниз, будто лишенные жизни. Она удрученно ответила:
– Милостивый государь, я предлагаю Мелиценту, которая была принцессой. Моя цена – алые губы, ясные глаза и прекрасное, нежное тело без единого изъяна. Моя цена – юность, счастье и честь. Все это вы можете иметь в качестве игрушек – все, чем я обладаю, кроме моего сердца, которое умирает на ваших глазах.
– Ты говоришь правду? – спросил Деметрий.
– Это так же верно, как то, что есть Любовь и Смерть. Я не знаю ничего более истинного, чем они, и я молю Бога, чтобы он подтвердил эту истину, – ответила она.
Он, посмеиваясь, сказал:
– Пошлость на ворогу не виснет.
На следующий день цепи спали с Периона де ла Форэ и его товарищей, кроме тех девяти, которых месяцем раньше Деметрий заставил сражаться со львами, когда развлекал Бахарийского султана. Освобожденных искупали, умастили благовониями и одели в богатые одежды.
Галера из флота наместника доставила их до границ христианского мира и высадила две дюжины бывших рабов недалеко от Мегариды. Капитан галеры при расставании вручил Периону голубую салфетку, в которую были завязаны большие изумруды и кусок пергамента, на котором было написано:
«Не эти камни, а тело бывшей принцессы Мелиценты выкупило ваши тела. На эти камни вы купите корабли, оружие, наймете людей и пойдете на штурм моего дома, в котором сейчас находится Мелицента. Приходите, если хотите, и сражайтесь с Деметрием Анатолийским за эту смелую девушку, которая любила грузчика так, как все правоверные должны любить своего Создателя, но обычно не любят. Думаю, это нас всех развлечет».
Перион стоял возле притихшего моря, которое отделяло его от Мелиценты, и кричал:
– Господи! Ты позволил совершить эту страшную сделку. Тогда давай, торгуйся со мной, Отец всего живущего! Я отдам все, что есть у человека.
Вот так он стоял в чистом солнечном свете, и лицо его было неподвижно, будто у изваяния. Обе руки он протянул к голубому небу, как будто давал клятву. Если так, то он не нарушил ее.
И все. Больше ни слова о Перионе.
В это самое время юная Мелицента, завернутая в покрывало цвета пламени и увенчанная майораном, была приведена нарядным юным слугой к порогу, через который ее перенес Деметрий. И тут же раздалась песнь, исполняемая на чужом языке. А потом Мелицента выплатила выкуп.
А хор пел:
– Гименей, о Гименей! Ты, обладающая множеством имен и множеством храмов, золотая Афродита, будь благосклонна к новобрачным! Пусть тот, кто сперва сосчитает на небе количество звезд и всех кузнечиков в траве, сочтет те удовольствия, что вызовет свадьба сия. Гименей, о Гименей! Радуйся свадьбе сей!
ГЛАВА VIII
Как забавлялся Деметрий
Мелицента жила во дворце Деметрия, которого ора не видела с того утра, когда потеряла свою девственность. Прошел месяц. Она все еще не могла усвоить язык людей, среди которых пребывала, но евнух Галаон, когда-то служивший у кардинала в Тоскани, сообщил ей, что наместник находится в Западных провинциях, в которые вторглись войска под предводительством Ранульфа де Мескинэ.
Прошел месяц. Она проснулась как-то ночью, так как увидела во сне Периона (какие сны еще могла она видеть?), и вдруг заметила рядом с постелью того самого Агасфера, который когда-то принес ей известие о пленении Периона.
Он, казалось, был охвачен каким-то весельем. Но речь его была вполне благоразумна.
– Благороднейший из живущих желает вас видеть, сударыня, – мягко сказал он.
Пораженная столь наглым предательством, она воскликнула:
– Ты заранее все обдумал!
– Я всегда все обдумываю заранее. Я плету сети, как паук… А между тем течет время. Как и вы, я сейчас служу Деметрию. Я его посредник в Калонаке. Я покупаю и продаю. Я оцениваю. Я зарабатываю на жизнь. Кто это запретит? – Жид тут пожал плечами. – Итак, Благороднейший из живущих желает вас видеть, сударыня.
Он, казалось, испытывал наслаждение от этого напыщенного оборота, когда с ухмылкой говорил об их общем хозяине.
Мелицента в свободном зеленом платье из коанской материи, излучающей сияние, подобное сиянию меди, следовала за тощим улыбающимся Агасфером. Она босая появилась во Дворе Звезд, где наместник возлежал на диване, как будто и не сходил с него с того самого раза, когда она впервые его увидела.
Сегодня был он одет во все алое, и варварские серьги свисали с мочек его ушей. Они слегка блеснули, когда он движением головы велел Агасферу покинуть Двор Звезд.
Настоящие звезды уже зажглись в это время на небе – такие яркие и такие близкие, что струя фонтана серебрилась от их блеска. Взошла луна. Рядом с тем местом, где лежал Деметрий, на уровне человеческого роста горела лампа.
– Встань поближе к свету, моя жена, – сказал наместник, – чтобы я мог ясно увидеть свое новое приобретение.
Она повиновалась. Какой бы нестерпимой ни была ее жертва, она давала возможность Периону служить Всевышнему и его любви к ней, совершая доблестные и достойные похвалы деяния, и потому она не могла быть причиной печали.
– Я размышляю вместе с теми стариками, что восседали на стенах Трои, – голос его слегка дрогнул и, чтобы скрыть это, он рассмеялся. – Между тем, я вернулся, распяв сотню твоих почитателей, – продолжил Деметрий, и голос его был на удивление нежен. – Да, я победил под Ирогой. Это была добрая битва. Под конец копыта моего коня были красны от крови. Мои выжившие враги, по-моему, были до прискорбия глупы, когда решили сдаться, потому что умереть в битве гораздо менее болезненно. Был там один монах-францисканец, который висел часов шесть на пальме, вертя головой из стороны в сторону. Кровь, которая медленно капала с его ладоней, сверкала, как рубины.
Она ничего не ответила. Деметрий же лениво продолжал:
– И я с интересом подумал, что бы я почувствовал, если бы ты оказалась на его месте… Твоя белая кожа подобна лепесткам цветка. Полагаю, она очень непрочна. Думаю, ты бы долго не вытерпела.
– Молю Бога, чтобы не выдержала! – ответила натянутая как струна Мелицента.
Он получил настоящее удовольствие, что заставил это прекрасное существо издать такой мучительный крик боли. Он привлек ее к себе и положил руку на ее обнаженную грудь.
– Ты не боишься. Как бы то ни было, ты очень красива. Я думаю, что ты еще больше порадуешь меня, когда отрастут твои золотистые волосы. Нет ничего в мире более прекрасного, чем золотистые волосы. Их красота выдерживает даже похвалу поэтов.
У этой белокожей женщины не было сил пошевелиться, но, определенно, не было заметно никакого страха. Ее одеяние при свете лампы сияло, словно опал; ее тело, только частично прикрытое, манило к себе, вся она была необыкновенно соблазнительна. Ее широко открытые глаза напоминали глаза пойманного животного, умоляющего о пощаде, на которую, в действительности, нечего и надеяться. Вот так Мелицента стояла в чистом свете лампы, и лицо ее было неподвижно, будто у изваяния.
В сердце мужчины проснулось некое понимание сути ее любви к Периону, этой высокой и отстраненной страсти, превращающей желание Деметрия Анатолийского лишь в некое неудобство и ни во что более. Но будущее манило. Наместник довольно рассмеялся, и зазвенело золото у него в ушах.
– Решительно, ты доставишь мне много удовольствия и веселья. Иди в свою комнату! Я думал, что в мире уже не с чем бороться и нечем поразвлечься, но, оказалось, что все это предоставит мне дочь знаменитого дона Мануэля, который нынче, в свою очередь, доставляет на том свете развлечение, правда, другого рода, моему знаменитому отцу Мирамону Ллуагору. Так что возвращайся к себе!
ГЛАВА IX
Как бежало время в краю язычников
На следующий день Мелиценту перевели в более роскошные покои. Это был высокий и просторный павильон с тремя портиками из мрамора, украшенными резным тиковым деревом и андалузской медью. Комнаты были устланы златоткаными коврами, стены обиты гобеленами и парчой, с вышитыми на них зверями и птицами, очень естественных расцветок. Таково было сейчас жилище Мелиценты, но не было в нем только счастья. Множество рабов прислуживало ей, и она не испытывала недостатка ни в роскоши, ни в богатстве. Таким образом, по мнению всех живущих в Накумере, она стала самой любимой женой наместника.
Надо также отметить, что с тех пор Деметрий даже не прикасался к ней.
– Я купил твое тело, – гордо говорил он, – ты моя собственность. Меня не интересует то, что можно купить.
Возможно, этот человек никогда не был в своем уме. Не подлежит сомнению, что главной причиной его даже малейшего поступка служила непомерная гордыня. Здесь же он наткнулся на нечто такое, что делало Деметрия Анатолийского лишь временным неудобством и приравнивало его крайние беззакония к жужжанию мухи. И осознание этого воздействовало на Деметрия подобно яду. Мольба или насилие были, по его мнению, его недостойны. «Давай запасемся терпением!» – говорил он себе. Это не так легко было сказать и тем более выполнить, поскольку эта бестолковая красавица посмела разбудить такую страсть, о какой и понятия не имел Деметрий и на какую (насколько он знал себя) он был неспособен.
Как знаток страстей, он бурно возмущался своим унижением и топил Мелиценту в роскоши, уверяя себя, что сердца всех женщин одинаковы.
Его помощниками являлись его теоретические размышления, хитрость и, самое главное, осознание ее красоты. У нее же были воспоминания и чистое сердце. Вот таким образом вооруженные, они и вели свой поединок.
Тем временем другие его жены, подглядывающие за ними из своих спален, люто возненавидели Мелиценту. Не менее трех раз Каллистион, первая жена наместника и мать их старшего сына, покушалась на жизнь Мелиценты, и трижды Деметрий пощадил эту женщину, благодаря заступничеству Мелиценты. Так как Мелицента понимала, поскольку сама любила Периона, что именно любовь к Деметрию, а не ненависть к ней доводила эту озлобившуюся дакианку до крайностей.
Однажды в полдень Деметрий без предупреждения появился в роскошной тюрьме Мелиценты. Он, широко шагая и блистая своим нарядом, миновал проход между раскрашенных колонн и стремительно подошел к ней. Его одежда и в тот день была алого цвета – его он предпочитал всем другим. Золото сияло у него на лбу, золото звенело в ушах, а на шее висела тяжелая золотая цепь с рубинами. На боку красовался меч с крестообразной рукоятью в ножнах из голубой кожи, украшенной затейливым орнаментом.
– Благодари себя, что ты прекрасна, моя жена, – сказал Деметрий. – Благодари свою красоту! Красота всегда пришпоривала доблесть.
Затем быстро и весело он рассказал о том, как флот, снаряженный Кипрским королем, вторгся во владения Деметрия и что в рядах противника находятся Перион Лесной со своими Вольными Соратниками.
– Да, да. Вернулся мой грузчик! Я немедленно скачу на побережье, чтобы встретить его с должным радушием. И молю небеса, чтобы моим противником оказался не слабак или бездарь.
Мелицента гордо ответила:
– Против тебя выйдет известный герой, благородный и умелый воин, знаменитый своим искусством владеть мечом. Никогда не существовало человека с большей охотой ломающего копья и разносящего вдребезги щиты, чем Перион. И не было человека более сострадательного к беспомощным и более беспощадного к трусам и предателям.
Деметрий сухо ответил:
– Я не спорю, что достоинства моего грузчика несметны. Не будем их перечислять. Недавно Агасфер рассказал мне, что, прежде чем ты пришла ко мне со своими ничтожными изумрудами, жизнь Периона находилась в твоих руках? – Деметрий снял с пояса меч, взял руку Мелиценты и положил ее на ножны. – Что у тебя в руках, моя жена? Смерть Периона. В противоположность тебе, я краток.
Она ничего не ответила. Ее мнимое равнодушие рассердило его. Он выхватил меч из ножен с такой яростью, что Мелицента отпрянула. Он показал лезвие меча, сплошь покрытого выгравированными знаками, которые она не смогла понять.
– Это Фламберж, – сказал наместник, – оружие, которое являлось гордостью и проклятием моего отца, Мирамона Ллуагора, потому что этот меч выковал Галас, еще в старые добрые времена, для непобедимого Шарлеманя. Ученые люди говорят, что это заколдованное оружие и тот, кто владеет им, непобедим. Не знаю. В волшебство, по-моему, поверить так же трудно, как удостовериться в том, что все окружающее нас не является чарами какого-нибудь пьяного дьявола… Однако, как мне помнится, именно этим мечом я убил одного довольно могущественного волшебника, и я весьма уверен, что именно этим мечом я убью Периона.
Мелицента долго терпела, но тут не выдержала:
– Мне кажется, вы говорите глупости, милостивый государь. С другой стороны, вы сами заявляете, что Перион лучше вас владеет мечом, поскольку вам для поединка с ним требуется помощь волшебства.
– Так-так, – сквозь зубы процедил Деметрий. – Значит ты думаешь, что я не ровня этому длинноногому парню! Ты бы подумала по-другому, если б он был здесь. Ты будешь думать по-другому, когда я убью его голыми руками. О, очень скоро ты будешь думать совсем по-другому.
Он почти что рычал, его душил гнев. Он бросил меч к ее ногам и, не простившись, удалился. Отъехав лье на три от Накумеры, он вдруг расхохотался. Он понял, что Мелицента, по крайней мере, верила в волшебство и, просто играя на его тщеславии, одурачила его, лишив Фламбержа. Ее находчивость порадовала его.
Но Деметрий уже не смеялся, когда узнал, что флот христиан потерпел позорное поражение в открытом море от эмира Арсуфа и не смог осуществить высадку на берегу. Деметрий затеял ссору с победоносным флотоводцем и убил расстроившего его планы эмира на дуэли, но это не принесло ему облегчения.
«В любом случае, – уверял себя наместник, – если моя жена говорит правду относительно характера Периона, Перион несомненно сюда вернется».
Затем Деметрий направился в священную рощу, что находилась на холме к югу от Квезитона, и поднес ветви мирта, листья роз и ладан Афродите Колиадской.
ГЛАВА X
Как ухаживал Деметрий
Агасфер появлялся, когда хотел. Ничего определенного об этом сладкоречивом человеке не было известно. Возможно, о нем что-то знал наместник, но он никому не доверял никаких тайн. Согласно его указу, Агасфер в Накумере являлся почетным гостем. А глаза еврея, когда Мелицента была рядом, всегда оставались такими же невыразительными, как глаза змеи.
Однажды она сказала Деметрию, что боится Агасфера.
– Но я-то не боюсь его, Мелицента, хотя у меня для этого гораздо больше оснований. Так как я один из всех живущих на свете знаю правду об этом еврее. Тем более, меня забавляет мысль, что он, служивший моему отцу-чародею совсем иным образом, состоит у меня счетоводом и колдует над конторскими книгами.
Деметрий рассмеялся и вызвал Агасфера. В это время они находились в Саду Женщин, в маленькой беседке, резные каменные стены которой были покрыты червонным золотом, а увенчивал ее белоснежный купол. Пол был сделан из прозрачного стекла, сквозь которое была видна вода, а в ней плавали красно-желтые рыбы.
– Выходит, ты опасная личность, Агасфер. Моя жена боится тебя, – сказал Деметрий.
– Благороднейший из живущих, – спокойно ответил Агасфер, – хорошо известно, что у женщин волос долог, да ум короток. Нет необходимости бояться какого-то еврея. Ведь для чего создан еврей? Чтобы дети могли развлекаться, бросая в него камни. Чтобы самые честные могли показать свой здравый смысл, грабя его. Чтобы верующие могли подтвердить свою набожность, сжигая его. Кто это запретит?
– Но моя жена – христианка, вследствие чего поклоняется еврею, – в глазах Деметрия заиграл огонек. – Как ты относишься к тому еврею, Агасфер?
– Я знаю… лишь… что Он был Мессией.
– И однако ты не поклоняешься Ему.
– Он не требовал поклонения. Он просил, чтобы люди любили Его. Но лично меня Он не просил о любви, – ответил Жид.
– По-моему, ты выражаешься весьма туманно, – заметил Деметрий.
– Но это правда, царь царей. Придет время и все станет ясно, но пока это время еще не наступило. Я раньше молился, чтобы оно скорее пришло, а сейчас уже не молюсь: я только жду.
Деметрий оперся рукой о подбородок и прищурил глаза. Некоторое время он о чем-то размышлял, а потом рассмеялся.
– Это не мое дело. Кто я такой, чтобы думать о делах, касающихся мироздания. Возможно, существуют разные боги, но я не настолько тщеславен, чтобы вообразить, что кого-либо из богов интересует мое мнение о нем. В любом случае, я – Деметрий. И пусть придет конец всего, и пусть я окажусь в мрачном потустороннем мире, но я и там постараюсь устроиться так, чтобы не уронить достоинство Деметрия. – Тут наместник пожал плечами. – Ты не развлек меня, Агасфер. Можешь идти.
– Слушаюсь и повинуюсь, – ответил еврей и покинул их.
Деметрий повернулся к Мелиценте и еще раз порадовался тому, что у его движимого имущества золотистые волосы и вообще нельзя ее сравнить ни с одной женщиной, которых он знал до сих пор. Деметрий сказал:
– Я люблю тебя, Мелицента, а ты меня не любишь. Не обижайся. Моя речь груба, но хотя моя искренность и не нравится тебе, я должен высказать всю правду. Ты слишком долго упрямилась, отказываясь дать Киприде то, что положено. Думаю, у тебя закружилась голова из-за лишнего восхищения своим великолепным телом и множества мужчин, которые во вред себе хотели бы им обладать. Я признаю твою красоту, но какое она будет иметь значение через сотню лет?..
– Да, я допускаю, что повторяю избитые истины. Но давай посмотрим на это с другой стороны, более мрачной стороны, потому что через сто лет вся эта красота, которая заставляет меня увидеть в жизни светлые стороны, превратится в тлен. Твои сияющие глаза, которые настолько восхитительны, что это даже трудно описать, превратятся в неприглядные дыры, и только червь станет их украшением. И какое это будет иметь значение через сотню лет?..
– Через сотню лет никто не скажет, что Мелицента более прекрасна, чем Деметрий. Один череп похож на другой, и оба легко рассыпаются под плугом земледельца. Ты будешь такой же безобразной, как я, никто не будет думать о твоих глазах и волосах. Град, дождь и роса будут падать на нас обоих без разбора, поскольку я прикажу, чтобы нас похоронили рядом, и через сто лет и еще через сто. Не нужно хмуриться, ибо какое это будет иметь значение через сотню лет?..
– Мелицента, я предлагаю тебе любовь и жизнь, которая насмехается над глупостью обычной жизни. Независимо от того, подпустишь ты меня к себе или оттолкнешь, какое это будет иметь значение через сотню лет?
Лицо его исказилось, речь его была полна горечи, потому что хоть он и издевался над этой бестолковой женщиной, безрассудная страсть все более овладевала им.
– Не может быть и разговора о любви между нами, милостивый государь, – ответила Мелицента. – Вы купили мое тело. Мое тело в вашем распоряжении, если так угодно Всевышнему.
Деметрий усмехнулся, его пыл охладел.
– Я уже говорил, девочка моя, что меня не интересует то, что можно купить.
Вот так жила Мелицента среди этих ненавистных ей людей и была подобно лилии, вдруг расцветшей на болоте. Она всегда была пленницей, а когда Деметрий появлялся в Накумере – а это случалось не часто, так как шла большая война между христианами и язычниками, – она превращалась в драгоценность, которую он рассматривал, не вынимая из ларца, восхищался ей, а потом, смеясь над своим горячим желанием, запирал, не дотрагиваясь до нее, и отправлялся на поле битвы.
По отношению к ней он был необычайно добр, хотя временами в голосе его звучала издевка, которую Мелицента не могла понять. Он ограбил бессчетное количество генуэзских и венецианских кораблей, известных самыми богатыми грузами – драгоценностями и тканями, шелками и мехами, вышивками и кружевами, чтобы его жена-христианка стала еще привлекательнее. Казалось, что его беспредельно охватило страстное желание обладать ею. И если бы он победил, он мог бы праздновать победу далеко не над слабым противником.
Его подгоняла гордость: так ведьмы гонят простаков к их же погибели. «Наберемся терпения!» – говорил он.
А в это время жены его выглядывали из-за занавесей своих спален и люто ненавидели Мелиценту.
– Наберемся терпения! – тоже говорили они, но куда более зловеще.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДЕМЕТРИЙ
Как Мелицентою ослеплены,
И этим самим объединены,
Плечом к плечу в дрались враги,
И каждый знал взаимные долги.
И не было меж гор сильнее льва,
Чем Перион (такая шла молва);
И ядовитей змея и хитрей,
Чем князь Деметрий в ревности своей.
ГЛАВА XI
Как время обошлось с Перионом
В Пуактесме рассказывают историю, повествующую о том, что приключилось с Перионом де ла Форэ после освобождения из языческого плена. Рассказывают о том, как служил он у Кипрского короля, как был побежден Кипрский король на море эмиром Арсуфа и как Перион, уцелевший в этой битве, с суши освободил гарнизон Яфы и ему было пожаловано дворянство за смелые действия, которые одним ударом сохранили оскудевающие богатства Кипра; и как Периона впоследствии стали называть графом де ла Форэ.
Затем Кипрский король заключил мир с язычниками, и Перион покинул его. Теперь военное искусство Периона предоставлялось любому властелину, который посмел бы померяться силой с Деметрием и волшебным мечом наместника Фламбержем. И это было для Периона де ла Форэ не обычной жаждой битвы, где гибнут тысячи. Он боролся за Мелиценту.
Деметрий был доволен. Его наполняла радость бойца, который вдруг видит, что судьба столкнула его с равным по силе и ловкости.
Единоборство между ними откладывалось из-за разных обстоятельств, шли годы, и ни один из них не мог встретиться с другим и победить. Затем король Теодорет, который, как вы помните, когда-то сватался к Мелиценте, объявил крестовый поход. Перион присоединился к нему в Лакре-Кае. Говорят, что добираясь до Лакре-Кае, он посетил остров Левку и его столицу Псевдополь, где имел беседу с царицей Еленой, наслаждением богов и людей. И Перион согласился, что царица достаточно приятна на вид.
– Она, в самом деле, напоминает госпожу Мелиценту, которой я служу в этом мире и буду служить ей и в Раю, – сказал Перион. – Но у госпожи Мелиценты родинка на левой щеке.
– Жаль, – заметил сопровождающий его греческий воин. – Родимое пятно портит красивую женщину.
– Я говорю, мессир, о госпоже Мелиценте.
– Даже при этом, – ответил греческий воин, – родимое пятно – недостаток.
– Я не могу позволить, чтобы при мне произносились такие слова.
И они начали сражаться, и Перион убил противника, а затем в тот же день покинул Псевдополь.
Вот так поступал Перион.
Далее он пошел но берегу Евксина, где повстречал двух старых друзей, а вскоре он добрался и до короля Теодорета. Король сразу же узнал в знаменитом графе де ла Форэ бывшего виконта де Пизанжа, которого еще в Пуактесме весьма невзлюбил. Но Теодорет и виду не подал.
– Небеса сами выбирают свои орудия, – отметил благочестивый король. – И этот развязный граф де ла Форэ, у которого еще немало имен, носит звание воина, не имеющего себе равных в христианском мире. Давайте вначале победим этого бесчестного наместника, этого противника нашего Спасителя, а затем уж избавимся и от других бесчестных личностей. Возможно, Небеса позволят мне обвинить графа де ла Форэ в какой-нибудь особо отвратительной ереси. Поскольку этот длинноногий головорез похож на схизматика и великолепно будет выглядеть на дыбе.
Король Теодорет расцеловал Периона в обе щеки и присвоил ему звание генералиссимуса королевских вооруженных сил. В день Святого Георгия флот Периона, состоящий из тридцати четырех крупных, но быстроходных кораблей, вышел в море.
– Доставь мне Деметрия в цепях, – сказал на прощание король, похлопывая Периона по плечу, – и все, что есть у меня, будет твоим.
– Вообще-то я намеревался вернуть свою украденную жену, госпожу Мелиценту, – ответил Перион, —
и если удастся, я доставлю вам и Деметрия за то, что вы предоставили мне эти корабли и этих солдат.
– Не думаешь ли ты, – раздраженно спросил Король, – что монархи в наши дни предоставляют оружие и воинов для освобождения женщин, которые уже далеко не молоды и которые всегда отличались тугодумием, свойственным лишь старым свиноматкам.
– Я не могу позволить, чтобы при мне произносились такие слова… – обратился Перион к королю, стоявшему во главе своего войска.
Но Теодорет поспешно объяснил, что это всего лишь общее наблюдение и никоим образом не касается госпожи Мелиценты.
ГЛАВА XII
Как был захвачен Деметрий
Вот так накатилась война на провинцию Деметрия, словно волна на морской берег. После множества успехов и неудач в этой кровавой бойне Периону удалось врасплох захватить галеру Деметрия, когда наместник спал, а судно стояло на якоре в собственной гавани, в Квезитоне.
Обнаженный и безоружный Деметрий яростно сражался с набросившимися на него солдатами и убил двоих, пока не был успокоен Перионом.
Деметрию по приказу Периона был выдан особый меч, а сам Перион снял с себя все доспехи. Они бились так, будто встретились два урагана. А в итоге Деметрий оказался ранен и потерял сознание. Итак, Деметрий стал пленником войска короля Теодорета.
– Но ты моя личная добыча, – сказал Перион, – завоеванная моими собственными руками в честной схватке. Я не собираюсь оскорблять одного из самых знаменитых воинов, каких я только знал, оценивая его слишком низко. Я устанавливаю величину выкупа – это госпожа Мелицента.
Деметрий кусал ногти. Но наконец он заговорил:
– Необходимо сообщить тебе, что если у меня отбирают мою собственность, я стараюсь вернуть ее обратно. Не пройдет и года, как я опустошу любое королевство, которое тебя приютит. Но пока я предупреждаю, что необходимо спешить с выкупом. Мои остальные жены ненавидят франкскую женщину, которая заменила их в моем сердце. Мой сын Орест, мой преемник, будет слушаться во всем свою мать. Каллистион же трижды пыталась убить Мелиценту. Если со мной что-то случится, в Накумере, судя по всему, будет править Каллистион. И она не удовлетворится одним лишь убийством. Не знаю, какую пытку придумает Каллистион, но она уж точно не станет детской игрой…
– Какая низость, – воскликнул Перион.
Он-то уж давным-давно узнал, как изобретательны язычники в пытках, и содрогнулся.
Деметрий молчал. Он тоже был обеспокоен, поскольку этот деспот отлично понимал, что в его величественном доме на другом берегу моря Каллистион могла найти орудия для самых изощренных пыток.
– Мне тяжело было говорить тебе об этом, – сказал Деметрий, – потому что это похоже на просьбу освободить меня. Думаю, что ты собрал достаточно сведений от наших бывших знакомых, что я безрассудно не боюсь смерти. К тому же, я думаю, ты любишь Мелиценту. Что касается остального, нет в Накумере человека столь наивного, чтобы не выполнить моего малейшего желания, пока моя смерть трижды не доказана. Соответственно я, будучи Деметрием, хотел бы услышать клятву, что ты не позволишь Теодорету меня убить.
– Клянусь Всевышним и Римским правом… – воскликнул Перион.
– Но в Риме я не очень-то популярен, – прервал его Деметрий. – Я бы предпочел, чтобы ты поклялся своей любовью к Мелиценте. Я бы предпочел клятву, которую мы оба понимаем, а другой клятвы я не знаю.
Тогда Перион поклялся, как просил Деметрий, и отправился с Деметрием к королю Теодорету.
ГЛАВА XIII
Как восхваляли Мелиценту
Победитель и побежденный сидели на носу корабля Периона. Был теплый, ясный вечер; такой светлый, что звезд не было видно. Перион вздохнул. Деметрий спросил о причине столь явной меланхолии. Перион ответил:
– Меня вынуждают вздыхать, мессир Деметрий, воспоминания о прекрасной и благородной даме. Я не могу забыть эту прелесть, которой нет сравнения. Ей-богу, глаза ее – аметисты, а губы красны, словно вишни. Ее волосы сияют на солнце так же ярко, как подсолнухи; ее кожа белее молока; ее руки – нежнее лебяжьего пуха. Ни на кого на свете нельзя было смотреть с большим наслаждением, и все видевшие ее желали лишь одного: любить госпожу Мелиценту и служить ей.
Деметрий, как обычно, лениво пожал плечами и сказал:
– Она до сих пор красивое создание, ее движения изящны, у нее сладкозвучный голос, и кожа ее мягка, как мех кролика. Вот это и заставляет нас перерезать друг другу глотки. Этот вывод основан на логике, которой руководствуются все мужчины с тех пор, как было обнаружено, что наряду с прямыми путями, ведущими к любви, существуют и обходные дороги. Однако я еще не разобрался до конца, что преобладает: мое влечение или моя ненависть к ней. Меня необыкновенно возмущает ее терпение по отношению ко мне. Мне часто хотелось изуродовать, изувечить и даже убить эту красивую, глупую женщину, которая выставляет меня на посмешище в моих собственных глазах. Я был бы счастливее, если бы смерть забрала эту женщину, которая осмеливается так обращаться с Деметрием.
На что Перион сказал:
– Когда я впервые увидел госпожу Мелиценту, море было спокойным, словно сила его была истощена тщетными потугами соперничать с цветом ее глаз. Морские птицы парили в воздухе, почти рядом с нею, но их движения были менее изящными, чем у нее. На ней было белое шелковое платье, на руках же – серебряные браслеты. Слабый ветер играл ее распущенными волосами, потому что ветер был крепче меня и смел ее любить. Я не думал о любви, я думал лишь о великих деяниях, которые я мог бы совершить и не совершил. Я думал о своей никчемности, и казалось, что душа моя извивается, как угорь на солнце, обнаженная и презренная, не достойная права любить госпожу Мелиценту и служить ей.
Деметрий же сказал:
– Когда я впервые увидел эту девушку, она знала, что поймана, что ее тело принадлежит мне и что ее жизнь зависит от любого моего каприза. Все это она отбросила в сторону, как некое мелкое неудобство. Она вообще не думала об этом, поскольку ничего в этот миг для нее не было важнее того, что мой грузчик еще находится в цепях. Я был всего лишь помехой в ее замыслах и не более: песчинка в туфле причинила бы ей такое же беспокойство, какое причинил я. Вот это, подумал я, и есть здравый. смысл. Девушка приняла искреннее решение, соответствующее ее желанию и не зависящее от выходок мужчин. Она исполняет это желание. Я же оставался для нее лишь мужчиной. И все же есть что-то сродни мне в этой девушке, которая осмеливается так обращаться с Деметрием…
На что Перион сказал:
– С тех пор как она позволила мне служить ей, я не совершил ничего недостойного. Завтра я пошлю на поле брани новые армии, завтра мне доставит большую радость увидеть их палатки на твоих лугах, мессир Деметрий, а затем сотни и тысячи наших воинов встретятся в бою, таком яростном, что об этой битве будут слагать песни, когда нас уже не станет.
ГЛАВА XIV
Как Перион бросил вызов Теодорету
Завтра один из нас должен убить другого. У меня нет времени ненавидеть тебя. У меня вообще нет времени любить или не любить того или иного человека. Вместо этого я должен посвятить все, чем одарили меня Небеса, любви к госпоже Мелиценте и службе ей. Деметрий же сказал:
– Сегодня ночью мы будем болтать под звездами и тщетно мечтать, как это делали до нас другие глупцы. Завтрашний день, вероятно, зависит от воли небес, но что бы ни совершил мы завтра, мессир де ла Форэ, все это будет глупейшим занятием, поскольку мы оба одурманены ясным взором, губами и волосами. Я нахожу все наши поступки смехотворными. Мы отличаемся друг от друга тем, что я в любом зеркале нахожу обильную пищу для веселья, удивления и насмешки. Однако во мне возникает нечто, жаждущее убийства, когда я осознаю, что ни ты, ни она не относитесь ко мне с ненавистью. Неприятная правда заключается в том, что ни один из вас не считает меня достойным своих переживаний. Она невыносимо раздражает меня, потому что никто другой не осмеливался так обращаться с Деметрием. На что Перион сказал:
– Деметрий, твои поступки уже смехотворны, поскольку ты слепо проходишь мимо откровений Небес, ты не замечаешь чуда. И потому там, где ты видишь только уязвленную плоть, я нахожу радость в том, чтобы любить госпожу Мелиценту и служить ей.
Деметрий же сказал:
– Перион, глупец именно ты, если не понимаешь, что Небеса недоступны и сомнительны. Но ясный взор замечает несомненную тупость и радующую сердце доступность любой женщины, если с ней правильно обращаться… даже с такой, которая осмеливается так обращаться с Деметрием.
Вот так они просидели всю ночь на носу корабля Периона, соперничая, словно на турнире трубадуров, друг с другом и красочно расписывая госпожу Мелиценту, до тех пор, пока с наступлением рассвета не погасли звезды.
Мегарида, столица Теодоретова государства, в ту ночь, когда войска во главе с графом де ла Форэ вступили в нее, была освещена огнями костров. Рядом с лошадью победителя молча шел одетый в простую дерюгу Деметрий с руками, связанными за спиной. Однако более мрачным было лицо победителя, поскольку Периона тревожил предстоящий разговор с королем Теодоретом. Вот так они добрались под крики толпы до особняка д'Эбеленов, который предназначен был стать их резиденцией, и в ту ночь Перион спал в одной постели с Деметрием.
На следующий день в час заутрени два вооруженных всадника препроводили связанного Деметрия к королю Теодорету. Перион же важно шествовал впереди них, поскольку, несмотря на свои мрачные мысли, осознавал, что последнюю его победу приветствовал весь христианский мир.
Они вошли в слабо освещенную просторную комнату, со стенами из неотесанного камня и голым полом. В ней было всего лишь одно застекленное окно с железной решеткой. Тут стояла незастеленная кровать с потрепанным зеленым балдахином, расшитым стоящими на задних лапах, сильно потускневшими, серебряными львами. Справа от нее располагалась молитвенная скамеечка. Посреди комнаты, за некрашеным столом в кресле с высокой спинкой сидел сморщенный и неряшливо одетый старик.
Это и был Теодорет, самый набожный и самый скупой из всех монархов. Рядом с ним стояли два священнослужителя: по правую руку брат Баттиста, приор Серых Монахов, а по левую – ближайший родственник Мелиценты, в прошлом епископ, а сейчас кардинал де Монтор, который, как было широко известно, и являлся настоящим правителем этого государства. Одет он был изысканно, как придворный кавалер, и ничем не походил на священника.
Дряхлый король поднялся и пошел навстречу герою, которому удалось совершить то, чего не удавалось сделать многим военачальникам христианского мира. Король обнял победителя Деметрия, как равного себе.
– Мой дорогой друг, – сказал Теодорет, – приветствую тебя, обрубившего занесенную с мечом руку язычества! Сегодня у святых на небесах настоящий праздник. Я не в силах вознаградить тебя, поскольку всемогущ лишь один Господь Бог. Ты можешь пожелать все, что угодно, кроме короны, и получишь желаемое.
Милостиво улыбаясь, старик поцеловал главную свою драгоценность – кусочек Подлинного Креста, висящий у него на шее на золотой цепи.
– Король сказал свое слово, – ответил Перион. – Король поклялся на самой святой реликвии. Я прошу жизнь Деметрия.
Теодорет отпрянул, словно язычок разгорающегося костра от дыхания разжигающего его. Он неприятно рассмеялся и сказал:
– В такой час позволены любые шутки. Но мы не должны превращать в шутку дело, касающееся Церкви. Разве я не прав, Айрар? Этот безжалостный Деметрий, несомненно, тот самый Антихрист, пришествие которого предречено. Я отдаю его Матери Церкви для того, чтобы он был беспристрастно допрошен и крещен, поскольку даже и у него может быть душа, а затем сожжен на рыночной площади.
– Король сказал свое слово, – ответил Перион. – А я сказал свое.
Наступила ужасная пауза. Король Теодорет находился в явном смятении. Наконец он произнес:
– Ты просишь жизнь Деметрия, этого заклятого врага нашего Спасителя, этого исчадия Ада, который ограбил больше моих городов, чем у меня пальцев на руках! Причем сейчас, когда Всевышний особо милостив ко мне!..
Речь короля стала невнятной, он зарычал и забормотал что-то, словно взбесившаяся обезьяна.
Милостивый государь, я сражался с Деметрием, потому что он бесчестным образом держит в плену госпожу Мелиценту, которой я безоговорочно служу в этом мире и буду служить в Раю. Только он один может освободить Мелиценту.
– Ты собираешься выпустить на волю этого злодея! – воскликнул старый король. – Чтобы опять начать всю эту бойню!
– Вспомните, пожалуйста, милостивый государь, как долго я люблю Мелиценту. Поймите, что если вы казните Деметрия, госпожа Мелицента останется беззащитной в стране язычников. Ее убьют, потому что другие жены этого человека ненавидят ее из-за ее неоценимой красоты.
В это самое время кардинал и наместник оценивающе оглядывали друг друга. Казалось, что в этом плохо освещенном помещении, кроме них двоих, никого не было. Они не встречались ранее. «Вот достойный соперник – думал каждый из них, – вот равный мне по хитрости и смелости». И каждый из них страстно стремился проверить другого в каком-либо состязании. И между ними возникло некое понимание.
И, как следствие этого, они испытывали жалость к Теодорету, который правильно считал, что сдержи или не сдержи он клятву, не избежать ему проклятия.
– Ты был неблагоразумен… – пробормотал он. – Я не посмею освободить Деметрия… Моя душа будет в ответе за это беззаконие… Но я поклялся на кресте… И так, и этак погибель! Послушайте, мой отважный полководец, – почти рявкнул король, – у меня есть золото, земли, драгоценности…
– Милостивый государь, я люблю самую дорогую для меня женщину с того времени, когда мы с вами были молоды, и с каждым днем моя любовь к ней удваивалась. Какой прок мне в богатом поместье, если я.не смогу каждый день видеть мое сокровище?
Тут вмешался кардинал де Монтор, и голос его ласкал слух, как шелк ласкает пальцы.
– Милостивый государь, – произнес Айрар де Монтор. – Мое уважение к вам безмерно. Но вы дали клятву, которую ни один из живущих не посмел бы не сдержать.
– Да, это правда, Айрар! – с дрожью в голосе признал король. – Этот забияка зажал меня в угол. – Он вновь повернулся к Периону – злой, напрягшийся, но осторожный, как рассерженный кот.
– Выбирай! Я сделаю тебя самым богатым человеком в королевстве… Сын мой, предупреждаю тебя, что со времен Адама женщины всегда были излюбленной приманкой Дьявола. Видишь, я не сержусь. Я тоже помню, как прекрасна она была. Однажды она искушала меня, как и тебя. Поэтому я прощаю тебя. Я отдам тебе в жены мою дочь Эрменгарду, я сделаю тебя своим наследником, отдам тебе половину королевства…
Его дрожащий голос становился все громче, но внезапно стих, потому что, несмотря на все увещевания, он прочитал в глазах Периона свое проклятие.
– С тех пор как в моем сердце поселилась Любовь, – проговорил Перион, – в нем не осталось места ни для чего другого. Что я могу поделать, если Любовь вознаграждает мое гостеприимство желанием, которое не может покорить мир, но и не покорится ему?
Тогда сухо и отчужденно Теодорет сказал:
– …Иначе я должен сдержать свою клятву. В этом случае ты можешь покинуть нас вместе с этим безбожником. Я даю тебе на это день и ночь. Но если кто-то из вас через двадцать четыре часа попадется мне в руки, я убью его не сразу, а подвергну неслыханным пыткам…
И лучше было не видеть лицо короля в то мгновение. Но взгляд Периона был безмятежен, пока не заговорил Баттиста:
– Я обещаю еще худшее. Библия будет сброшена, колокола зазвонят, а свечи погаснут… О, очень скоро! – он по-кошачьи облизал губы.
Перион был потрясен, так как отлучение от церкви для любого из верующих страшнее смерти, и Перион испугался даже больше, чем был испуган король. И Перион какое-то время думал о Мелиценте, а потом сказал:
– Я выбрал. Я выбираю адский огонь, а не богатства и почести. Я прошу освободить Деметрия.
– Уходи, – сказал Король. – Уходи, богохульник! – Ты наплачешься за это в Аду. Дай мне Бог услышать твои стенания и посмеяться, как я смеюсь сейчас…
Он вышел в сопровождении Баттисты, нашептывающего ему о каких-то паллиативах. Кардинал же остался и пронаблюдал, как с Деметрия снимают цепи.
– Вследствие, как бы я выразился, далеко не христианского решения мессира де ла Форэ, – сказал кардинал, – вполне возможно, мессир наместник, что следующий поход на ваши земли я возглавлю сам…
Деметрий громко расхохотался, а затем сказал:
– Осмелюсь пообещать вашему святейшеству самый радушный прием.
– Я надеюсь на это, – ответил кардинал, и его улыбка сейчас была вполне дружелюбной.
Ради справедливости надо отметить, что он ничего не знал о планах Баттисты.
Все ушли, и кардинал остался в комнате один. Сидя в королевском кресле, Айрар де Монтор с тоской размышлял о прошедших временах, когда он тоже всем сердцем любил Мелиценту. Казалось, это было давным-давно, и он ясно осознал свою зрелость.
Он удалил любовь из своей жизни вместе с другими слабостями, которые могли бы помешать возвышению Айрара де Монтора. И он, как следствие, многого достиг. Он был удовлетворен: дело мужчины прокладывать в этом мире свой путь, и он его проложил.
– Моя кузина – смелая девушка, – произнес он вслух. – Я, конечно, должен сделать все что могу для ее освобождения, как только выдастся возможность послать войска против Деметрия.
Затем кардинал занялся написанием сонета в честь Монны Виттории де Пацци. Отчаяние, что он с удовлетворением отметил, пробудило в нем необычайное красноречие при обращении к этой упрямой женщине, которая вот уже шесть недель противостояла его любовным притязаниям.
ГЛАВА XV
Как сражался Перион
Вот так неожиданно Деметрий и Перион стали союзниками в борьбе против всего христианского мира. Надев доспехи, они, провожаемые проклятиями, выехали из Мегариды, где все еще тлели костры, зажженные в честь Периона. А поскольку брат Баттиста, не откладывая, разнес весть о дилемме короля Теодорета, то вслед им летели угрозы, но, зная, что попытка напасть на этих двух героев может оказаться весьма плачевной, по крайней мере, для дюжины крикунов, последние предпочитали проявлять свою злобу в устной форме.
Деметрий ехал, сняв шлем, чтобы эти запуганные мелкие людишки могли бы наяву увидеть человека, которого они боялись и ненавидели больше всего на свете.
Они миновали крепостные стены и поднялись на холм, а оттуда был прямой путь к лесу Сан-Назаро. Дорога пролегала по скалистому ущелью. Вверху на фоне голубого неба тут и там виднелись первые весенние листочки: апрель был не за горами. Первым заговорил Перион:
– Я думал сохранить тебя в качестве выкупа за госпожу Мелиценту, но боюсь, что это невозможно. У меня нет ни поместья, ни замка, где я мог бы держать тебя под замком. Я искренне хочу немедленно убить тебя в поединке. Но когда твой сын Орест узнает, что ты мертв, то, как ты говоришь, он убьет Мелиценту. Однако, может быть, ты лжешь.
Перион был высокомерным, властным человеком и привык командовать. У него были черные волосы, серые, смотревшие с вызовом глаза и тонкое приятное лицо, которое сейчас вовсе не было приятным.
– Ты знаешь, я не трус… – начал Деметрий.
– Не сомневаюсь, – сказал Перион. – Наоборот, я считаю тебя одним из самых отважных воинов на свете.
– Тогда я могу повторить, что моя смерть предопределит смерть Мелиценты. Орест ненавидит ее из-за своей матери. А так как мы сражались неоднократно, каждый из нас знает, что я не боюсь смерти. У меня есть волшебный меч Фламберж… – Деметрий встряхнулся, как пес, только что вышедший из воды, поскольку вдруг и сам осознал, насколько противоестественна непобедимость с помощью волшебства. – Я, Деметрий, заявляю, что не буду сражаться с тобой. Мне вдруг стала дорога моя жизнь. И я не могу рисковать своей жизнью в поединке, поскольку знаю: как только Орест удостоверится, что меня больше бояться нечего, так сразу же отомстит госпоже Мелиценте за свою мать…
– Докажи!
И с этими словами Перион что есть силы ударил наместника по смуглому лицу. В наступившей тишине можно было услышать, как слабый ветерок колышет верхушки деревьев.
Деметрий не пошевелил и пальцем. Лицо у него стало пепельного цвета, но глаза загорелись, как угольки.
– Думаю, это доказано, – сказал Деметрий и шепотом добавил, – поскольку мы оба по-прежнему живы…
– Договорились, – согласился Перион. – Убежден, что ничего, кроме твоей любви к Мелиценте, не смогло бы помешать вступить в предложенный тебе бой. Когда Деметрий уступает, то я самым первым берусь утверждать, что у него есть на то неоспоримая причина. Двинемся дальше! У меня в наличии только пятьсот цехинов, но этого будет достаточно, чтобы добраться до Квезистона. И поскольку мы недалеко от берега…
– Кажется, еще кое-кто хочет вступить в нашу беседу, – ответил Деметрий. – Посмотри-ка, мессир!
Далеко внизу Перион увидел несколько людей, одетых в белые с пурпуром камзолы. Они поднимались вверх по склону холма.
– Это цвета герцога Сигурда, – сказал Перион. – Мне не по душе их появление. Но как-никак на нашей стороне клятва короля.
Но Деметрий тотчас же истолковал происходящее как приближение их неминуемой смерти. Он с усмешкой сказал:
– Благочестивый Теодорет говорил о двадцати четырех часах и о том, что не пошлет своих слуг в погоню за нами. Но что могло помешать ему шепнуть пару слов своему шурину, потому что вы, слуги Христовы, преуспели в таких хитростях.
– Сейчас едва ли подходящий момент для теологических споров, – заметил Перион. – Что касается остального, то у нас мало времени. И тебе незамедлительно нужно бежать! – Он отдал тощий кошелек с золотом своему заклятому врагу. – Отправляйся в сторону Наренты! Это вольный город и весьма враждебно относится к Теодорету. Если я останусь жив, я непременно найду тебя и буду биться с тобой за Мелиценту.
– Ничего подобного я не сделаю, – спокойно сказал Деметрий. – Разве я могу позволить человеку, которого ненавижу сильнее всего на свете, – тебе, который ударил меня и еще жив! – сражаться в одиночку с двадцатью противниками. Нет, я останусь, поскольку, в конце концов, их только двадцать.
– Я ошибался в тебе, – ответил Перион. – Я думал, что ты, как и я, любишь Мелиценту. Слишком поздно я понял, что ты можешь противопоставить свою гордость ее благополучию.
Они посмотрели друг на друга, и чем дольше они смотрели, тем легче становилось у них на сердце.
– Я все понял, – сказал Деметрий.
Он вонзил шпоры в своего коня и исчез, как трус, убегающий с поля битвы. Это был единственный случай в его жизни, когда он пересилил свою гордость, и об этом не стоит забывать.
Сердце Периона было полно радости.
– Временами, – сказал Перион, – мне хочется полюбить этого бесчестного и похотливого язычника. Затем Перион бросился навстречу подданным герцога Сигурда. Как жнец, убирающий на поле пшеницу, сир Перион взмахивал на солнце своим, мечом и снимал урожай.
В этом узком ущелье не было слышно ничего, кроме звона мечей и тяжелого дыхания сражающихся. Впервые граф де ла Форэ позволил себе во время боя гнев. Не говоря ни слова, он вступил в безнадежную схватку: так пьяница, не задумываясь, хватается за бутылку.
Первым Перион убил Руггиеро из Ламберти, после чего Перион впал в неистовство, словно волк, напавший на стадо баранов. Он зарубил еще шестерых дюжих молодцов: так сумасшедший поражает мечом изображенные на гобелене фигуры. Коня под ним убили, и теперь тот служил ему укреплением, за которым и стоял насмерть Перион. Затем он встретился лицом к лицу с Джакомо де Форио, а в это время Рыжий Джулио бросил свой меч, как копье, и тот вонзился в левое плечо Периона, вызвав обильное кровотечение. Марцио камнем попал в гребень его шлема, и на том порвались ремешки. Тут же Джакомо нанес Периону еще три раны, и Перион упал, а солнце светилось у него в волосах. Противники его одолели. Сняв одежду с трупов, они разорвали ее на лоскуты, из этих окровавленных тряпок скрутили жгуты и связали ими Периона Лесного, которого с трудом победили двадцать воинов.
Он слабо улыбнулся, словно человек, прикованный болезнью к постели, но тут же из-за большой потери крови лишился сознания. Он знал, что Деметрию должно было повезти, поскольку он ушел вовремя. И радовалось сердце Периона тому, что Мелицента вне опасности.
Этот однолюб, который ничего на свете не мог сравнить с благоденствием любимой женщины, был счастлив, поскольку ему не было суждено постичь, каковы в жизни мерила Деметрия.
ГЛАВА XVI
Как размышлял Деметрий
Без всяких помех Деметрий добрался до вольного города Наренты. Он считал, что его император должен был послать галеры в христианские страны, чтобы собрать сведения об исчезнувшем генералиссимусе, но в этом городе купцов никто не слышал о подобных галерах.
Однако в гавани ему удалось найти торговое судно, готовое к отплытию в страну язычников. Уже были подняты паруса и выбирали якорь. Деметрий поторговался с капитаном судна и в итоге заплатил ему четыреста цехинов. Капитан же согласился вечером подойти к Ансиньянской Игле и взять Деметрия на борт. Поскольку у наместника не было никаких бумаг, он не мог миновать служащих Трибунала, которые осматривали все суда в Пиае.
Итак, перед закатом солнца Деметрий ожидал на Ансиньянской Игле прихода корабля. Этот мыс был похож на высеченный из черного камня палец какого-то титана, который ненароком сунул его в воду. День медленно угасал, а ворчащее море беспрестанно смешивало золото с кровью.
Деметрий подумал о том, как он благополучно миновал бесчисленные опасности, и довольно рассмеялся. Он в уме перебрал все достоинства и недостатки своих приближенных, которые ждали его за морем, и стал думать о Мелиценте, которую он любил даже больше, чем свою способность насмехаться надо всем в этом мире. И наместник усмехнулся. А вслух он произнес:
– Я весьма задолжал мессиру де ла Форэ. Я должен намного больше, чем могу вернуть. Потому что к этому времени подонки уже убили мессира де ла Форэ или доставили его к королю Теодорету, который очень благочестиво умертвит этого статного идиота. В любом случае, я буду спокойно наслаждаться и владеть Мелицентой до самой смерти. Решительно, я премного обязан этому самодовольному рослому дурню.
Так он боролся с собственным раздражением. Возможно, этот человек никогда не был в своем уме, так как главной причиной его даже малейшего поступка была непомерная гордыня. Сейчас в нем пробудилась ненависть, исходящая из чувства отвращения к самому себе. Наступило отупение, словно он оказался окружен стеной огня. Невозможно надлежащим образом ненавидеть этого Периона, который ударил Деметрия Анатолийского и, вероятно, еще был жив. Не мог думать Деметрий и о достаточном возмездии этому Периону, который осмелился быть таким высоким, красивым и молодым на вид, в то время как Деметрий не обладал ни одним из этих качеств, и именно этого Периона любила и любит поныне Мелицента. А Деметрий Анатолийский хотел сражаться с таким человеком заколдованным мечом, подвергаясь не большему риску, чем рыбак, ловящий пескарей. Получалось, что Деметрий Анатолийский довольствовался милостыней, данной ему каким-то упрямым комаром. Деметрия трясло от отвращения. В лучах заката его смуглое лицо походило на личину демона Велиала, который возбуждает и старательно пестует плотскую гордыню. – Жизнь Мелиценты зависит от моего возвращения в Накумеру… И что из этого! – громко вскричал он. – Мысль о Мелиценте слаще размышлений о любом боге, но недостаточно сладка, чтобы заставить меня жить и дальше в качестве должника Периона.
И когда спустя полчаса судно подошло к Игле, каменное острие оказалось пустынным. Деметрий немногим раньше отпустил лошадь, скинул доспехи, бросил меч и разорвал одежду. Затем он искупался в первой попавшейся луже. И пешком, в грязных лохмотьях – поскольку никто не обратит внимания на нищего – вернулся он во владения короля Теодорета, где не ждали, что Деметрий придет невооруженным. Увидев, что таким способом легко проникнуть в столицу, что вскоре и было доказано, он обнаружил, что так же легко ее и покинуть.
ГЛАВА XVII
Как появился менестрель
Деметрий вернулся в Мегариду, где в недавно построенном замке Сан-Алессандро томился закованный Перион. Целый час ушел на суд, отлучение от церкви и прочее, так как пришлось унимать подвыпившего инквизитора, который мешал исполнению формальностей пением кабацких песен. Но, в конце концов, к всеобщему облегчению было постановлено, что граф де ла Форэ в день святого Ричарда будет разорван на части четырьмя лошадьми.
Деметрий, услышав об этом в трактире, купил крепкий напильник, алую шляпу и лютню. Амбродисио Браччиолини, главный тюремщик крепости, как выяснил из разговоров с местными жителями Деметрий, был в юности бродячим певцом, и менестрели всегда были желанными гостями в Сан-Алессандро.
Тюремщик был очень толстым человеком с маленькими ледяными глазками. Деметрий снял с него мерку с точностью до вершка, как только Браччиолини возник в дверях.
Деметрий постарался разыграть самую восхитительную простоту.
– Да поможет вам Бог, мессир, – глупо улыбаясь, сказал он. – Я привез драгоценный бальзам, который излечивает все болезни и унимает недомогания как тела, так и души. Поскольку что может быть лучше приятного товарища, который умеет петь веселые песни и рассказывать забавные истории?
– Ты похож на дурачка, – заметил Браччиолини, – но не все спят, кто храпят. Расскажи-ка мне о своих достоинствах!
– Я умею играть на лютне, скрипке, флажолете, арфе и свирели, – Деметрий перевел дух, – также на испанской пеноле, при игре на которой используют птичье перо, на органиструме, который приводится в действие вращением колеса, на трехструнной скрипке, которая очаровывает своим звучанием, на большом роге, который звучит, как гром.
– Это кое-что, – сказал Браччиолини. – А умеешь ты подбрасывать ножи и ловить их, не порезав рук? Умеешь ли ты жонглировать стульями и показывать фокусы? Умеешь подражать пению птиц? Кувыркаться и ходить на голове? Мне думается, не умеешь! Настоящее искусство умирает, а юнцы не хотят усваивать такие необходимые вещи. В мои дни все было не так, тогда артисты гордились своей профессией. Но, как бы то ни было, ты можешь войти.
Когда наступила ночь, Деметрий и Браччиолини, уютно устроившись, распевали песни о любви, радости и сражениях. Ярко горел огонь, а пол был устелен пестрыми циновками. На столе хватало и белых, и красных вин. Затем бражники перешли к песням более непристойного содержания. Деметрий спел о любви Думузи и Иштар, которую тюремщик весьма оценил, но после перекрестился и сказал:
– Ну, парень, ты, наверно, выловил такую мерзость в самой адской бездне!
– Я научился этой песне в Накумере, – ответил Деметрий, – когда был там в плену вместе с мессиром де ла Форэ. Это одна из его любимых песен.
– Да? – спросил Браччиолини и сурово посмотрел на Деметрия, сложив губы трубочкой. Он уже смекнул, что дело пахнет взяткой, но лицо Деметрия выражало сплошное благодушие.
– Итак, значит ты служил под его началом? Я помню, что его как-то взяли в плен язычники, и говорят, его выкупила какая-то женщина.
Деметрий, всегда готовый рассказать сплетню о ком угодно, поведал о жертве Мелиценты. И рассказывал он живо и правдиво, кроме того что себя он выдал за Вольного Соратника.
Браччиолини же под конец рассказа сделал заключение, что наместник поступил глупо, отдав изумруды.
– Он дал врагу оружие против себя.
– Но это оружие никогда не использовалось. Вспомните, что Перион тут же был принят на службу к королю Бернару. Так что Перион спрятал изумруды на черный день., закопал под дубом в Сан-Назаро, как он мне сказал. Думаю, они там покоятся до сих пор.
– Ну и ну, – сказал Браччиолини и замолчал. Деметрий, не глядя на него, перебирал струны лютни.
Браччиолини наконец произнес:
– Ты говоришь, их было восемнадцать? И все совершенно превосходны?
– А? Ах да, изумруды? Да, они безупречны, мессир. Самый маленький был больше яйца малиновки. Но я вспоминаю еще одну песню, которой научился в Накумере…
Деметрий спел о Кальмуре и ее пяти любовниках, которых она удовлетворяла одновременно. Он особенно старался выделить самые пикантные моменты. Но Браччиолини бормотал лишь одно слово: «Замечательно!», находясь мыслями где-то далеко. Затем он якобы вспомнил о каких-то делах и покинул комнату. Деметрий слышал, как тюремщик запер дверь снаружи и стал терпеливо ждать. Вскоре Браччиолини вернулся, одетый в доспехи, в руке у него был обнаженный меч.
– Парень, – его голос был резок, – я уверен, что ты мошенник, и также я уверен, что ты собираешься освободить этого негодяя, графа де ла Форэ. Уверен я и в том, что ты пытаешься дать мне взятку, чтобы я помог графу бежать. Ничего подобного я не сделаю, потому что, во-первых, это будет грубейшим нарушением присяги, а во-вторых, меня за это просто повесят.
– Мессир, я клянусь!.. – воскликнул Деметрий с хорошо разыгранным возмущением.
– К тому же я уверен, что ты мне все время лгал. Я не верю, что ты когда-либо видел графа де ла Форэ. И, конечно, я не верю, что ты являешься другом графа де ла Форэ, потому что в таком случае ты никогда не дошел бы до такого безрассудства, чтобы признаваться в этом. Такое заявление – хорошее основание для того, чтобы повесить тебя дважды. Короче, я уверен только в одном, а именно в том, что ты безумен.
– Говорят, что я лунатик, – ответил Деметрий, – но скажу тебе по секрету: с той стороны луны находится некая мудрость, и вот почему звезды такие радостные и восхитительные.
– Все это ерунда, – заметил тюремщик и продолжил: – Сейчас я собираюсь устроить тебе очную ставку с графом де ла Форэ. Если твоя история окажется ложью, тем хуже для тебя.
– Это правда, но благоразумные люди всегда закрывают двери перед тем, кто говорит правду.
– Ни к чему такие разглагольствования, – сказал Браччиолини и продолжил свою мысль: – В таком случае мессир де ла Форэ несомненно будет очень тронут твоей преданностью и тем, что ты разыскал его в то время, когда весь остальной мир от него отказался. Ты еще долго будешь вспоминать, как эта самая преданность тронула меня до такой степени, что я даровал тебе последнее свидание с твоим бывшим господином. Мессир де ла Форэ, естественно, поймет, что у человека, разорванного на четыре части, нет особой нужды в изумрудах. Он, повторяю, будет весьма тронут. Из наилучших чувств, из благодарности и чистой любезности он откроет тебе, где лежат эти камни, восемнадцать безупречных камней. Ну, а если этот негодяй, граф де ла Форэ, не выкажет надлежащих чувств, скажу тебе откровенно, для тебя будет хуже. А сейчас идем!
Браччиолини указал на дверь, и Деметрий покорно вышел из комнаты. Браччиолини следовал за ним, по-прежнему не убирая меч в ножны. Коридоры были пусты. Главный тюремщик об этом позаботился. Его позиция была проста. Будучи вооруженным, он, естественно, не боялся нападения двух человек: одного безоружного, а другого закованного в цепи. Если этот бродяга солгал, Браччиолини убьет его за такую дерзость. Собственная нелегкая юность научила его, что у бродячего певца никаких прав нет, что его можно безнаказанно бить и грабить, а можно и убить.
С другой стороны, если этот бродяга сказал правду…
ГЛАВА XVIII
Как расквитались Перион и Деметрий
…то возможны два исхода. Или Перион не скажет, где спрятаны изумруды, и в таком случае Браччиолини убьет этого музыкантишку за его же собственную ошибку. Или пленник скажет все необходимое, и в таком случае Браччиолини убьет музыкантишку за то, что он слишком много знает. Браччиолини испытывал самое искреннее уважение к драгоценным камням и считал, что им не место ни под дубом, ни в кармане бродяги.
Размышления о подобной жадности взбодрили Деметрия. Когда хорошо вооруженный тюремщик нагнулся, чтобы отпереть дверь темницы Периона, сильные и ловкие ладони наместника вцепились в горло Браччиолини, словно змеи, заглушив его крики.
Деметрий, который не вышел ростом, поднял тюремщика как можно выше, чтобы дергающиеся ноги не стучали о плиты пола и это не привлекло внимания других охранников, и старательно придушил свою добычу. Ключи, как заметил Деметрий, к счастью висели на поясе и не упали со звоном на пол. Все произошло совершенно бесшумно и заняло всего какие-то мгновения. Затем мечом Браччиолини Деметрий перерезал ему глотку. В этом Деметрий знал толк.
Деметрий вошел в темницу и распилил оковы на Перионе де ла Форэ. Затем он уложил труп тюремщика на койку, смыл все пятна перед дверью, так что не осталось никаких следов. Уходя, он запер освободившееся помещение и ухмыльнулся, наверно, так же, как Сатана, когда пал Иуда.
Благодаря предосторожностям, предпринятым Браччиолини, Деметрий и Перион спокойно выбрались из Сан-Алессандро, а затем и из Мегариды. И вновь они зашагали по знакомой дороге. Перион хотел было что-то сказать, но Деметрий проворчал: «Не сейчас, мессир». К вечеру они подошли к тому проходу в горах, ведущему к Сан-Назаро, где Перион сражался с дюжиной воинов.
Деметрий обернулся. Луна осветила лица воинов, и на лице Деметрия.появилась хитрая усмешка. Оно походило скорее не на лицо гордого правителя, а на вырезанную из дерева образину какого-нибудь старого водяного.
– Мессир де ла Форэ, – сказал Деметрий, – мы квиты. Сейчас наши пути разойдутся до тех пор, пока один из нас не встретит и не убьет другого. Что наверняка произойдет.
Было видно, что Перион глубоко разочарован.
– Ты – мошенник и плут, – сказал Перион, – потому что из-за своей гордыни подверг опасности свою проклятую жизнь – жизнь, от которой зависит жизнь Мелиценты! Тебе нужно было освобождать меня, в то время как твой отпрыск совершал гнусные подлости по отношению к Мелиценте! Я никогда не ненавидел тебя так, как сейчас!
Деметрий был весьма польщен.
– Вот что значит, – сказал он, – подставлять щеку и делать добро тому, кто тебя безжалостно использует в своих целях! Радуйся, рьяный слуга Любви и Христа. Я, без оружия и без гроша в кармане, нахожусь среди людей, которых я при всем желании не могу даже презирать. Вскоре этот сброд может схватить меня и сжечь заживо. Теодорет вполне настроен сделать из меня свечу, которая осветит его путь во владения вашего благородного Спасителя.
– Это правда, – ответил Перион. – Я не могу позволить, чтобы тебя убил кто-то другой, до тех пор пока не найду нужным сделать это сам.
Так беседовали эти двое, волей судьбы ставшие союзниками в борьбе против всего христианского мира. У Деметрия оставалось тридцать цехинов, а у Периона денег вообще не было. И тут Перион показал то кольцо, которое в знак любви дала ему много лет назад Мелицента, когда она была еще юной и не познала горя. Перион дорожил им как ничем другим.
– Как дорого мне это кольцо, когда-то касавшееся пальца моей дорогой Мелиценты, о которой по-настоящему ты ничего не знаешь! Это золото – моя потерянная юность, самоцветы на нем – слезы Мелиценты, которые она пролила из-за меня. Поцелуй это кольцо, Деметрий. Эту милость ты заслужил.
После чего они отправились, неотличимые от других попрошаек, – поскольку никто не обратит внимание на нищих – в Наренту, где продали кольцо, чтобы Деметрий смог пересечь море и сохранить жизнь Мелиценты. Они нашли судно, готовое отплыть в страну язычников. Золото было отдано капитану, а тот в обмен согласился подойти сразу же после рассвета к Ансиньяно и взять на борт Деметрия.
Вот такие планы на будущее составили двое влюбленных в Мелиценту, но не приняли в расчет коварную госпожу Удачу.
ГЛАВА XIX
Как был утерян Фламберж
Двое гонимых и преследуемых провели следующую ночь на Ансиньянской Игле, поскольку там противник не мог захватить их врасплох. Перион стоял на страже до полуночи, пока спал Деметрий. Затем наступил черед Деметрия. Когда Перион проснулся, уже рассвело.
Перион сразу же заметил большую галеру с голубыми и желтыми парусами. По мысу сновали моряки-язычники, сгружавшие с судна всевозможные тюки и ящики. Деметрий, теперь одетый так, как одевались у него на родине, стоял среди матросов, отдавая приказания. В миг пробуждения Периону показалось, что среди них была и госпожа Мелюзина, в которую много лет тому назад он был влюблен. Но когда Перион поднялся и подошел к Деметрию, то нигде ее не увидел и подивился этой странной грезе. Но, как знал Перион, надо было решать более неотложные дела.
Наместник злорадно улыбался. – Это судно когда-то принадлежало мне, – сказал он. – Не находишь ли ты забавным, что Евтикл настолько любит меня, что, рискуя своей жизнью, искал меня? Лично я считаю это нелепым. Что касается остального, то ты спал так крепко, мессир де ла Форэ, что не хотелось тебя будить. К тому же это не велела делать одна особа, которая, как говорят, имеет влияние на морской народ и, вероятно, благодаря которой так удачно подошел этот корабль. Не знаю. Она ушла, как всегда, занятая собственными делами. Мы идем другой дорогой, и думаю, будет умнее не вмешиваться в чужие дела.
– Но Перион, безоружный и окруженный врагами, мало что понял из этих речей. Он понял только, что пропал.
– Я никогда ни о чем не просил тебя, – сказал Перион, – а сейчас прошу. Ради кольца, дай мне, на худой конец, хотя бы нож, мессир Деметрий. Позволь мне умереть в бою!
– Но кто сказал хоть слово о каких-то боях? Именно ради кольца я приказал, чтобы с судна сгрузили все, что представляет хоть какую-то ценность. Это не много, но это всё; что есть у меня сейчас. И прими мои извинения за некоторую разнородность товаров, мессир де ла Форэ. Здесь оружие и самоцветы, камфара и амбра, шелковые ткани, тиковое дерево и драгоценные металлы, йеменская кожа, эмали, и я сам не представляю, что еще. Евтикл, как ты понимаешь, вынужден был прикинуться обыкновенным купцом.
Перион покачал головой и заявил:
– Ты предлагаешь мне достаточно, чтобы стать богатым человеком. Но я бы предпочел меч.
На что Деметрий с гримасой на лице сказал:
– Я надеялся отделаться дешевле. – Он отстегнул меч с крестообразной рукоятью, который теперь висел у него на поясе, и вручил его Периону. – Это Фламберж, – продолжал Деметрий, – волшебный клинок, который в старые добрые времена выковал для Шарлеманя Галас. Именно этим мечом я убил своего отца, и он мне так же дорог, как дорого было для тебя кольцо. Владеющий им непобедим. Не знаю, так ли это, но, в любом случае, я вручаю тебе Фламберж в качестве подарка. Я мог бы догадаться, что это единственный дар, который ты примешь. – Его смуглое лицо просветлело. – А сейчас без промедления выходи и сражайся со мной за Мелиценту! Возможно, меня позабавит начать битву на рассвете, зная, что я не доживу до заката. И уже смешно, что ты, без сомнения, убьешь меня этим самым мечом, который я сейчас держу в руках.
Герои взглянули друг на друга. Деметрий с полной тоски радостью, а Перион с недоброй жалостью. Долго-предолго смотрели они друг на друга.
Деметрий пожал плечами и сказал:
– Для таких, как я, любовь опасна. Для таких, как я, огонь и молния не так страшны, как стрела Афродиты, которая наносит гораздо больший урон. Ведь ты знаешь Еврипида, этого неугомонного лжеца, который порой, хотя и случайно, доходил до самой грубой правды. Так вот, он совершенно прав: эта богиня во время своих полетов над миром со смехом уничтожает все живущее, а ее перемещения так же непрестанны и непредсказуемы, как полеты пчел. И, подобно пчеле, она порою оделяет медом, а порою – раной.
Перион, который не был столь учен, сказал:
– Я горжусь, тем, что мы отличаемся друг от друга. Для таких, как я, любовь является достаточным доказательством того, что человек создан по образу и подобию Бога.
– Ну, у нас нет времени для обмена афоризмами, – прервал его Деметрий. – Я поднимаюсь на борт. – Однако он замешкался и с несвойственным ему смущением добавил. – Послушай, как я могу оставить без гроша тебя, который был так щедр…
Но Перион на это ответил:
– Я могу принять от тебя меч. И я приму его с радостью. Но всего остального принять не могу.
– Таков был бы и мой ответ. Мне повезло, – сказал Деметрий, – мой противник достоин меня. Мы в последнее время вели честный и благородный поединок, в котором пользовались оружием, сделанным вовсе не из стали. Мне бы хотелось, чтобы ты побеспокоил меня как можно скорее, и тогда мы сразимся на мечах и будем биться до тех пор, пока я не избавлюсь от тебя или ты – от меня.
– Будь уверен, я не подведу тебя, – ответил Перион.
Они обнялись и расцеловались. Затем Деметрий отплыл в свою страну, а Перион остался, опоясанный волшебным мечом Фламбержем. Не сразу Перион осознал, что, если верить старым легендам, владелец Фламбержа непобедим, поскольку в логике Перион был не особо силен.
Сейчас же Перион вдруг понял, что Деметрий распространил свое влияние на его будущее – так дают деньги пьянице, заранее зная, как они будут использованы. Теперь наступил черед Периона кипеть от гнева.
– Я как и ты, не собираюсь жульничать! – сказал Перион и, вынув меч из ножен, размахнулся и забросил его как можно дальше, и море поглотило его.
– Сейчас только Бог судья! – воскликнул Перион. – И я ничего не боюсь!
Не имея ни денег, ни друзей, он стоял у моря, а на боку висели знаменитые ножны из голубой кожи с затейливым узором, но они были пусты Он ликующе рассмеялся, потому что будущее представлялось ему светлым и прекрасным. Что касается остального, то он знал, что самая неблагодарное занятие – вспоминать о рукоплесканиях в свою честь.
ГЛАВА XX
Как помогли Периону
Перион покинул Ансиньянскую Иглу и отправился на запад в Колумбьерский Лес. У него не было никакого плана. Он бродил по дремучей чаще, куда еще ни разу не ступала нога дровосека, и ощущал себя зверем, которого внимательно выслеживают охотники.
Вскоре он вышел на поляну, залитую солнечным светом. На ней из-под валуна, покрытого серым лишаем и зеленым мхом, бил ключ. На камне сидела женщина, подперев рукой подбородок, и казалось, что думает она о давно прошедших и приятных событиях. Одета она была во все белое, металлические браслеты украшали шею и руки. А распущенные соломенные волосы, напоминавшие блеклые детские волоски, светились на солнце вокруг ее головы, но там, где они касались камня, они походили на иней.
Она без спешки и без удивления повернулась к Периону, и он увидел, что это госпожа Мелюзина, которую он любил себе во вред (как вы слышали), когда служил королю Гельмасу. Она довольно долго молчала, всматриваясь в честнейшее лицо Периона и сожалея о том, что не видит в нем былого обожания.
– Значит, это в самом деле вы, сударыня, разговаривали сегодня с Деметрием, когда я только проснулся, – сказал Перион.
– Ты можешь быть уверенным, – ответила она, – что тот разговор не был оскорбительным для тебя. Где бы я ни была, Перион, я всегда думаю, что в этот миг ты находишься в Раю. – Тут Мелюзина опять погрузилась в размышления. – Итак, ты больше не любишь и не ненавидишь меня, Перион?
Это прозвучало как странное эхо подобной же жалобы Деметрия.
– Однажды я любил вас, и это истина, о которой никто из нас, я думаю, никогда не забудет, – спокойно ответил Перион – Один я знаю, как беззаветно я любил вас… Нет, это был не я, а тот юноша, который давно умер. Дочь короля, словно высеченная из камня, о жестокая и полная ненависти, о сладкоречивая, улыбающаяся предательница, сегодня никто не помнит уже, как беззаветно я любил вас, так как годы встали словно густой туман между тем юношей и мной. И я не могу уже отчетливо разглядеть сердце того юноши. Да, забылось многое… Но даже и сегодня во мне частично сохраняется преданность вам, и я не могу одарить вас ненавистью, которую вы заслужили своим вероломством.
Мелюзина сердито заговорила своим мелодичным и звонким голосом.
– Но я любила тебя, Перион… Отчасти я любила тебя так, как любят большого, преданного пса. Ты был утомителен и скучен, ты раздражал меня своим себялюбием. Да, мой друг, ты слишком много думаешь о чести Периона. Ты постоянно сводишь счеты с Небесами, причем стремишься изо всех сил удержать счет в свою пользу и стать истинным влюбленным.
И было видно, как Мелюзина улыбалась в тени своих блеклых волос.
– И однако ты очень забавен, когда несчастлив, – заявила она, слегка двусмысленно.
– Я такой, – ответил он, – каким меня сотворили Небеса: существо смешанной природы. Поэтому я вспоминаю без отвращения события, которые сейчас кажутся невероятными. Трудно представить, что мы были так счастливы, когда нас объединяла юность… О Мелюзина, я почти забыл, что если обыскать весь мир между рассветом и закатом, мне не найти ту Мелюзину, которую я любил. Я только знаю, что некая прекрасная незнакомка говорит голосом Мелюзины, что у этой женщины тоже голубые глаза и улыбается она так, как обычно улыбалась Мелюзина, когда я был молод. Я брожу среди призраков, дочь короля, и я ничем не счастливее их.
– Да, Перион, – мудро ответила она, – весна не за горами: время вечного волшебства. Я не менее миловидна, чем прежде, а сердце, по-моему, стало даже нежнее. Ты все еще молод, и ты очень красив, мой смелый пес… И однако никого из нас это вообще не трогает! Для нас весна – выжившая из ума колдунья, забывшая вчерашние заклинания. Думаю, об этом можно пожалеть, хотя я не хотела бы, чтобы было иначе.
Она ждала, сказочная и распутная, и, казалось, обдумывала, как бы поискуснее навредить. Вздохнув, он заявил:
– Да, и я не хотел бы, чтобы было иначе. Затем Мелюзина поднялась и сказала:
– За тобой охотятся, и ты безоружен… да, я знаю. Деметрий сам мне все рассказал, поскольку у сына Мирамона Ллуагора есть причины доверять мне. Кроме того, что-то ведь значит, что моей матерью была Пресина, и я знаю много таких, явлений, которые крадут свет у прошлого, чтобы осветить будущее. Идем со мной! Я у тебя в долгу, мой Перион. Ради того умершего юноши ты можешь, не теряя достоинства, принять от меня коня, оружие и кошелек, потому что по-своему я любила того юношу.
– Я с радостью приму ваш щедрый дар, – ответил он и как бы для очистки совести добавил. – Считаю, что я не вправе отказываться от сделанных от чистого сердца подарков, помогающих мне в служении госпоже Мелиценте.
Мелюзина хотела было что-то сказать, но передумала. Возможно, она знала все о Мелиценте: ведь она не задала ни одного вопроса. Мелюзина только пожала плечами и засмеялась, и они вдвоем пошли на запад. Временами луч солнца падал на ее бледные волосы и делал их серебристыми. Так пробирались они сквозь дремучую чашу, куда еще не ступала нога дровосека?
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ АГАСФЕР
Как состраданье проявил злодей
К горюющей сильнее всех людей,
Он к Мелиценте Обратился так:
«Сударыня, чтоб не попасть впросак
В игре, где ставки выше, чем всегда,
Я вам клянусь, не причиню вреда
Вам боле, и от вас я ухожу,
Хотя и несравненной нахожу».
ГЛАВА XXI
Как защищал свою собственность Деметрий
В Пуактесме рассказывают историю, повествующую о том, как вернулся Деметрий в страну язычников и обнаружил, что там ничего не изменилось. Также рассказывают о том, как он позвал к себе Мелиценту. История описывает и то, как на лестнице, которая вела из Сада Женщин вниз к цитадели, – в народе ее называли Царицыной Лестницей, потому что она была сооружена царицей Рудабой много лет тому назад, когда Накумерой владел император Заль, – обнажив меч, стоял в ожидании Деметрий. Внизу находилось четыре его отборных воина. Кстати, лестница была беломраморная, а охраняли каждую балюстраду сфинксы, высеченные из зеленого порфира.
– Теперь, когда у нас появилась публика, – сказал Деметрий, – можно начать представление.
Заговорил один из воинов. Это был тот самый Евтикл, который (как вы знаете) с риском для жизни отправился в христианские страны, чтобы освободить наместника. Евтикл был выходцем из Западных провинций и с юности следовал за Деметрием.
– Царь Века, – воскликнул Евтикл, – печально слышать, что мы должны сражаться с тобой. Но поскольку твоя воля есть и наша воля, мы должны выдержать это испытание, хотя для нас оно горше алоэ и горячее углей. Господин и повелитель, нет на свете человека, ради которого мы причинили бы тебе вред, и мы будем оплакивать тебя, когда сегодня твой дух пройдет над нами и сквозь нас.
Деметрий ответил:
– Оставьте эти глупости и поднимайтесь! Именно я сегодня постригу свои волосы из-за любви к вам, мои верные плуты. Такое оплакивание залечит ваши раны.
А затем начался бой, и Мелицента осознала, что является свидетельницей далеко не детской игры. Воины напали на Деметрия все разом, и перед таким натиском он слегка отступил. Но его меч сверкал, как молния, и вот, крякнув, он сделал выпад вперед и воткнул меч глубоко в глотку одного из своих наиболее рьяных соперников. Меч прошел насквозь и застрял в золотой цепи, что висела на шее воина, так что Деметрий с трудом вытащил его, в то время как умирающий, спотыкаясь, пятился назад. Поверженный не кричал, хотя и корчился от боли, но лишь хрипел, пока отлетала его душа.
– Давайте же! – крикнул Деметрий. – Подходите и остальные, посмотрим, как вы справитесь со мной! Предупреждаю, что это будет дорого стоить!
Мелицента отвернулась, закрыв глаза ладонями. Она осознавала, что бессмысленная резня продолжалась, слышала удары и стоны, но как будто бы откуда-то издалека, так как в это время молила Пресвятую Деву, чтобы та помогла ей покинуть это отвратительное место.
И тут чья-то рука опустилась ей на плечо и подняла ее с колен. Эти был Деметрий. Он тяжело дышал, но голос его был мягок.
– Достаточно. Не очень-то мне будет нужен Фламберж, когда я повстречаю этого румяного простака, который так дорог тебе.
Он замолчал, а затем вновь заговорил – отчасти насмешливо, отчасти печально.
– Я надеялся, что ты посмотришь и восхитишься моим умением. Мне хотелось быть восхитительным в твоих глазах… Я потерпел неудачу. Я отлично знаю, что всегда буду терпеть неудачу. Я знаю, что когда Накумера падет, в тот же самый день люди в твоей стране скажут: «Эта пожилая женщина была когда-то Женой Деметрия Анатолийского, знаменитейшего среди язычников». Затем они расскажут о том, как я Расколол напополам голову императора, который сравнил меня с Приапом, и как я вытащил его наследника из-за шпалер, где этот мошенник прятался от меня, и как я посадил этого труса на трон, который мне самому был не нужен; они также расскажут о том, как некоторое время успех сопутствовал мне, и как я правил огромными землями, и как устрашал всех в открытом море, и издавал боевой клич в городах, которые не принадлежали мне, и никого не боялся. Но ты не будешь думать об этом. Ты будешь беспокоиться о здоровье своих детей, об обеде, шитье и вышивании, о ведении своего Маленького домашнего хозяйства. И паук сплетет паутину в моем шлеме, который будет висеть в качестве трофея в замке мессира де ла Форэ.
Затем Деметрий с Мелицентой молча прошли в Сад Женщин. Казалось, он обдумывает какое-то решение. И вдруг Деметрий стал рассказывать о том соревновании в великодушии, в котором он участвовал вместе с Перионом Лесным в стране Теодорета.
– Отдавая должное этому длинноногому парню, – сказал в заключение Деметрий, – нужно заявить, что нет на свете более сильного воина. Меня всегда будет интересовать вопрос, избавился бы я от Периона или нет, не вмешайся дочь русалки. Да, у меня прежде были с ней кое-какие дела. Вероятно, лучше поменьше говорить о них. – На некоторое время Деметрий о чем-то задумался, а затем его смуглое лицо просветлело. – Скажи спасибо, жена, что я нашел противника, достойного меня. Он вскоре явится, и тогда уж мы будем биться насмерть. Я с нетерпением жду этого дня.
Хвалебные речи о Перионе, какими бы словами они ни выражались, опьянили Мелиценту. Деметрий увидел, как слегка порозовели ее щеки, как вспыхнули ее глаза. Это подсказало, как вести ему себя дальше. После этого Деметрий часто говорил о Перионе и его деяниях в этом запертом на все засовы дворце, куда не мог проникнуть ни один отзвук внешнего мира, разве что по соизволению наместника.
С неподдельным восхищением он рассказывал Мелиценте о смелости и отваге Периона, заявляя, что не было военачальника со времен Ганнибала, Иисуса Навина и архиепископа Турпена, который обладал бы таким превосходством над другими. И Деметрий поведал о том, как Вольные Соратники в поисках приключений проехали верхом четыре королевства и состояли на службе у множества властителей, но всегда сражались выше всяческих похвал.
Разговоры о Перионе доставляли Мелиценте наслаждение. С помощью таких взяток Деметрий получил то, чего нельзя было купить: Мелицента больше уже не избегала его.
И тут уместно сказать несколько слов сострадания. Чувство, которое владело этим мужчиной, трудно назвать любовью. Скорее это была болезнь, которая отравляла все его существование; государственные дела стали ему казаться скучными, власть – бесполезной, шумные оргии – унылыми. Но больше всего его мучили те мерила, по которым жили Мелицента и Перион. Он хорошенько обдумал эти критерии и обнаружил, что они нерушимы; и Деметрий также понял, что до тех пор, пока он доверяет собственной рассудительности, которой одарили его Небеса, они будут казаться ему в высшей степени глупыми. И, следовательно, ловить себя на том, что рассматриваешь эти сумасшедшие представления со своего рода завистью, было невыносимо.
Опустить Мелиценту до своего уровня или подняться самому до ее уровня, в равной степени было ему не по силам. Временами он ее ненавидел.
Так проходили месяцы, и уже велась летопись событий еще одного года. Но пока ни Перион, ни Айрар де Монтор и никто другой из врагов Деметрия не напал на Накумерский замок, и широкое поле перед цитаделью оставалось пустынным, и только шакалы завывали здесь по ночам.
– Непонятно, почему не появляются мои враги, – говорил Деметрий Мелиценте. – Не может того быть, что они забыли про нас с тобой. Это просто невозможно.
Он хмурился, его мучило, что так долго тянутся дни. В конце концов, он послал четырех лазутчиков в христианские страны.
ГЛАВА XXII
Как на Накумеру обрушилось несчастье
Одним майским утром Деметрий пришел к Мелиценте совершенно разъяренный.
– Все – мошенники! – ворчал он. – Я зря потерял время, родившись в этот презренный век. Где великаны и тираны, где могучие прямодушные герои прошлого? Они мертвы, и кости их сгнили. Мне не суждено больше сражаться. Вместо этого я буду читать и слушать легенды, ибо жизнь в наши дни не стоит ни любви, ни ненависти.
Мелицента спросила, в чем причина его гнева, и он рассказал, что его лазутчики доложили, что кардинал де Монтор никогда не сможет возглавить поход против Деметрия. В ноябре скоропостижно скончался Папа Римский, и было необходимо назвать имя его преемника. Коллегия кардиналов после трех дней выборов не смогла прийти к единодушному решению. Госпожа Мелюзина, как всегда действуя рука об руку с Айраром де Ментором, переговорила с епископом, проверявшим всю пищу, которая доставлялась в покои, где князья церкви должны были томиться до тех пор, пока, без малейшего влияния со стороны внешнего мира, они не выберут следующего Папу.
Кардинал Генуэзский получил на четвертый день заседания цыпленка, начиненного документами на право владения дворцами в Монтичелло и Сориано; кардинал Пармский – сходным образом приготовленную дичь, сделавшую его хозяином епископской резиденции в Порто вместе со всей мебелью и винным погребом; такого же рода блюда подали и кардиналам Орсино, Савелли, Сан-Анжело и Колонны. Такое питание излечило их от нерешительности, и Айрар де Монтор вскоре взошел на Папский престол в качестве Епископа Римского и слуги слуг Божьих. Дни его военной карьеры закончились.
Деметрий оплакивал потерю грозного противника и смеялся над тем, что наместник Бога на земле был назначен шестью курицами. Но особую боль ему доставило известие о том, что Перион обвенчался с госпожой Мелюзиной и уже заимел двух вполне здоровых детей: Бертрама и Бланиферту – и что Перион в огромном Акаирском Лесу, находившемся поблизости от собственного дома Мелиценты, теперь спокойно наслаждался богатством и независимостью Брунбелуа.
Об этом Деметрий рассказал без всякой охоты. Он отвел глаза и упрямо смотрел на одну из малиновых подушек, лишь бы не видеть лица Мелиценты. Она это заметила и была ему благодарна.
Деметрий с горечью произнес:
– Это старая, безвкусная история. Он забыл тебя, Мелицента: так любой умный человек всегда избавляется от мечты своей юности.
На что Мелицента ответила:
– Милостивый государь, мне очень мало известно об этом Перионе, о котором вы мне рассказываете. Я лишь знаю, что тот Перион, которого я любила, меня не забыл.
И Деметрий, испытывая приступ боли, словно при подагре, задался вопросом, почему смысл любой речи столь таинственен. Было майское утро, жаркое и тихое, и Деметрий сидел вместе со своей женой-христианкой во Дворе Звезд.
И Мелицента сказала:
– Возможно, что тот Перион, которого знают люди, забыл меня и службу, которую я с радостью сослужила Периону. Пусть тот, кто хотел бы понять тайну Распятия, сперва полюбит! Я молю, чтобы в память прошлого Перион и его жена изведали преуспевание. Я не завидую ей. Наоборот, мне жаль эту грешную колдунью, потому что прошлой ночью я бродила по некоему лесу рука об руку с юным Перионом, достоинства которого она никогда не узнает так, как Узнала их я.
Деметрий же на это сказал:
– Ты утешаешь себя снами? – И смуглый наместник усмехнулся.
– В этом лесу всегда царит полумрак, – ответила Мелицента, – и свет там ни зеленый и ни золотой а их некая смесь. Вроде уютного покрова для всех тех, кто был несчастлив даже много лет назад. Там находится Изольда, и Фисба, и многие другие, и они там не разлучены со своими возлюбленными… Иногда там верхом на пантере проезжает Венера и ветви хлещут по ее нежной коже. Мы с Перионом выглядываем из-за деревьев, и мы счастливы и слегка испуганы в нашей чаще.
Деметрий же на это сказал:
– Ты утешаешь себя безумием? – Веселость его совершенно покинула.
– О, нет, – ответила Мелицента. – Тот Перион, которым сейчас обладает Мелюзина, просто мужчина… очень счастливый мужчина, да поможет ему Всевышний и все святые. Но мне повезло больше, потому что я никогда не потеряю моего Периона. И хотя я не смогу когда-либо коснуться руки этого юного Периона, увидеть его честное и отважное лицо – самое прекрасное из всех лиц, какие я только видела, я не горюю, потому что ночью мы бродим рука об руку по нашему лесу.
Деметрий же на это сказал:
– Но ночь проходит, и солнце освещает мое лицо – для тебя самое отвратительное из всех лиц!
А Мелицента лишь сказала:
– Милостивый государь, хотя разлучающее нас солнце светит очень долго, я должна быть смелой и достойной любви Периона… нет, скорее той любви, которую он мне однажды подарил. Я не могу горевать, потому что в нашем лесу нет зла.
– Уходи! – сказал наместник, когда она закончила говорить, и заметил ее кроткий, глубокий и преданный взгляд, обращенный на того, кого здесь не было. – Уходи сейчас же, или я тебя убью!
Удивленная Мелицента повиновалась. И Мелицента, слишком гордая, чтобы показать свою боль, подумала: «Я могла бы вынести все это, но я слишком слаба, чтобы выдержать это не жалуясь. Я достойна презрения. Я должна любить Мелюзину, которая, без сомнения, любит своего мужа так же сильно, как люблю его я, – а разве может женщина любить иначе? – и однако я не могу ее любить. Я могу только рыдать из-за того, что я, у которой украли всю радость и у которой нет детей, чтобы меня оплакивать, должна одна, проклятая судьбой, брести к смерти, в то время как Мелюзина смеется вместе со своими детьми. У нее двое детей, как сообщил Деметрий. Я думаю, что мальчик должен быть очень похож на Периона. Наверное, эта грешная колдунья очень счастлива, когда берет сына на руки».
Вот так размышляла Мелицента. Но и ее сильный муж, похоже, не чувствовал себя спокойнее. Он вскоре покинул Накумеру, переполненный гневом, от которого у него тряслись руки, с намерением убивать и грабить: короче, заставить всех разделить его страдание.
ГЛАВА XXIII
Как прощался Деметрий
И однажды, когда наместник после шестинедельного отсутствия вернулся в Накумеру, Агасфер привел госпожу Мелиценту во Двор Звезд. Деметрий возлежал на диване, опираясь на многочисленные подушки, словно и не пошевельнулся с того первого дня, когда принцесса Мелицента предстала перед ним в расцвете юности и красоты.
– Встань сюда, – сказал он, не сделав ни малейшего движения, – чтобы я мог рассмотреть свое приобретение.
И, криво улыбнувшись, Деметрий продолжил:
– По собственной воле я приобрел страдание. А также и смерть. Забавно… Два дня назад в бою, в одной лиге к северу от Калонака, я встретился лицом к лицу с франкским вождем. Он стремился к этому уже давно. Я также хотел этого. Я подумал, что нет ничего приятнее, чем видеть, как копыта моего коня утопают в его крови… Но в первой же схватке он сбросил меня с коня, хотя я далеко не слабак. Не могу понять, как это случилось. Верующие скажут, что я оскорбил Бога, но лично я думаю, что просто мой конь споткнулся. Но сейчас это неважно. Более важно то, что у меня, похоже, сломан позвоночник, поскольку я не могу двинуть ни рукой, ни ногой.
– Милостивый государь, – сказала Мелицента, – вы имеете в виду, что вы умираете!
– Да, – ответил он. – Это меня мало беспокоит, но я вижу, что это слегка тебя взволновало.
Всхлипывая, она трижды повторила его имя. И у нее в голове промелькнула мысль о том, насколько странно, что она горюет о Деметрии.
– О Мелицента, – хрипло проговорил он, – давай покончим с ложью! Этот франкский полководец, из-за которого я умираю, Перион де ла Форэ. Он не колебался ни секунды. Он искал встречи со мной с того дня, когда твои жалкие камешки пошли на его вооружение… Да, я солгал. Я всегда надеялся, что он поступит так же, как на его месте поступил бы я. Напрасно надеялся! Долгие годы этот статный маньяк без устали атаковал Накумеру. Затем дочь русалки, эта странная и своенравная хозяйка Брунбелуа, попыталась заманить его в западню. И это тоже было напрасно. Она потерпела неудачу, как донесли мои лазутчики… даже Мелюзина, которая прежде не терпела неудач в подобных предприятиях.
– Конечно же, злая колдунья потерпела неудачу! – воскликнула Мелицента. Лицо ее чудесным образом изменилось, и она продолжила, но не совсем искренне. – Да я никогда и не верила, что эта подлая женщина могла подвигнуть Периона на измену.
– Нет, безумие этого глупца неизлечимо, как и твое. «En cor gentil domnei per mort no passa» – так поют у тебя на родине… Как упорно я лгал, какие страдания перенес, если б ты только знала! Но сейчас это уже неважно. Любовь, которую питает к тебе этот человек, – рявкнул Деметрий, – дана самим Богом, которому мы по-разному поклоняемся. Любовь, которую питаю к тебе я, человеческая, потому что я всего лишь человек. – И Деметрий рассмеялся. – Болтовня, болтовня и болтовня! В старом гнезде не найдешь новых птиц.
Она положила ладонь на его неподвижную руку и ощутила, как та холодна' и как распухла. Она плакала, видя поверженного тирана, который, по крайней мере, не всегда был по отношению к ней недобр. Страстью был наполнен его взгляд, когда он сказал: – Вот и кончился поединок между нами. Если бы смог, я поприветствовал бы победителя… Мелицента, я ведь до сих пор считаю вас с Перионом глупцами. Мир, в котором мы живем, довольно сносен, и здравый смысл требует, чтобы мы испробовали каждое лакомство, которое этот мир нам предлагает. Однако он – лишь поле для вашей безрассудной страсти, и все, что в нем есть, – как удовольствия, так и страдания – лишь препятствия, которые ваше всепоглощающее безумие оставляет без внимания. Мне не понять этой мании. Тем не менее мне бы этого хотелось. Я всегда больше тебе завидовал, чем тебя любил. И всегда моим желанием было не завоевать любовь Мелиценты, а скорее любить Мелиценту так, как она любит Периона. Вот, думаю, почему я отложил в сторону приобретенную мной игрушку.
Казалось, сказанное озадачило его самого.
– Дорогой друг, эта причина одна из самых благородных. И вы поступили по-рыцарски. По крайней мере, ваш поступок достоин моего Периона.
Так как женщины склонны к прямоте, то возможно, она не поняла, почему Деметрий рассмеялся. Он же сказал:
– Я хочу служить тебе, и я всегда, так или иначе, служил тебе. Да, по-моему, я всегда хотел вернуть тебя Периону. Между тем наблюдение за вашей страстью, хотя и причинявшее боль, настолько забавляло меня, что я изо дня в день откладывал собственное преображение на завтра. – Он скривился от боли. – Мой сын Орест, который вскоре станет моим преемником, уже вызван сюда. Я прикажу, чтобы он сразу же отправил тебя в лагерь Периона… Это рядом с Квезитоном.
– Я не могу оставить вас, мой друг, до тех пор… В его улыбке ясно читалось окончательное решение.
Деметрий заметил:
– У мертвой собаки нет зубов, чтобы служить прекрасной страсти. Мои женщины слишком ненавидят тебя. Ты должна прямо сейчас отправиться к Периону, пока еще жив Деметрий Анатолийский, или уже не выйдешь отсюда никогда.
У нее не было слов. Она плакала скорее не от счастья, что наконец возвратится к Периону, а от печали, что Деметрий умирает. Как любая женщина, она помнила лишь о том, что этот мужчина по-своему любил ее. И, как любая женщина, она не могла не гордиться силой Периона.
Затем Деметрий сказал:
– Я должен изведать сомнительное изгнание. Я был силен и храбр, я громко смеялся, я много пил, но Небеса более не хотят, чтобы Деметрий существовал. Я не могу предаваться унынию, поскольку слишком скоро покину все то, что любил. Я прощаюсь со всеми развлечениями и забавами, с победами в сражениях, с богатыми нарядами из меха и шелка, с шумными пирушками, с музыкой, с тщеславным блеском самоцветов и ярким солнечным светом. Я прошу у каждого лишь сострадания и прощения…
– Я печалюсь, в основном, потому, что должен оставить Мелиценту одну в этом опасном краю, беззащитную перед злобой тех, кто хочет причинить ей вред. Я был знаменитым воином, я был могуч и мог надежно ее защитить. Но Судьба нанесла мне смертельный удар. Необходимо, чтобы я ушел туда, где грешники, неважно, в коронах или в лохмотьях, ищут незаслуженного милосердия. Я прощаюсь со всеми, кого любил, со всеми, кому принес горе, а главное, с тобой, дорогая Мелицента, и в основном у тебя я прошу сострадания и прощения…
– О глаза, волосы и губы Мелиценты, которую я любил так долго, что не испытываю сейчас чувственного желания. Однако на смертном одре я взываю к чистой душе Мелиценты – единственному противнику, которого я, Деметрий, никогда не смог победить. Я был хищным зверем, и, как зверь, я приходил в ярость, видя, что ты так непохожа на меня. И сейчас я, умирающий зверь, прошу у тебя не любви, поскольку это дело прошлого. Я прошу у тебя жалости, которую я не заслужил, и прощения, которого не достоин. Побежденный и бессильный, я прошу у тебя, о душа Мелиценты, сострадания и прощения…
– Мелицента, возможно, когда я умру и ничего не останется от Деметрия, кроме могильного камня, ты поймешь, что я любил, даже когда ненавидел, то божественное, что есть в тебе. Поскольку ты – женщина, ты когда-нибудь возьмешь в свои ладони лицо твоего любимого, как никогда не брала мое, Мелицента, и беззаботно расскажешь ему о моей глупости; и поскольку ты – женщина, ты потом вздохнешь и не откажешь мне в сострадании и прощении.
Она, которая была щедра на милосердие, дала ему и то, и другое. Появился Орест, а за ним по пятам следовал Агасфер, и Деметрий отослал Мелиценту в Сад Женщин, чтобы сын и отец смогли поговорить наедине. Она оставалась там около получаса, как и велел ей наместник, в последний раз повинуясь его извращенной воле. «В последний раз! Разве это не странно», – подумала Мелицента.
Это была не только радость, которой так давно не знала Мелицента. Скорее, это было новое восприятие мира. Мир казался Мелиценте прекрасным.
И в самом деле, Сад Женщин в это утро доставлял наслаждение всем органам чувств. Цветущий жасмин образовывал живые изгороди; дорожки были посыпаны свежими опилками, перемешанными с шафраном, киноварью и перемолотой в порошок слюдой; на деревьях зрели плоды, а под ними струились ручейки. Светило солнце, а со всех сторон раздавалось птичье пение. На деревьях резвились павианы, священные животные Луны. Тут же стояла фигура женщины, высеченная из черного камня, у которой были покрытые эмалью глаза и три ряда грудей, а нижняя часть тела была невидна. На сверкающем пьедестале грелись на солнце хамелеоны с раздутыми зобами. Вокруг Мелиценты благоухали розы и левкои, нарциссы и амаранты, фиалки и лилии.
Таков был мир, в котором жила Мелицента, знающая, что Перион ее любит.
Этот мир казался Мелиценте прекрасным. Он был создан для Вечной Любви, чтобы люди могли здесь достойно служить любви. Были здесь и боль, которую надо терпеть, были и время, и бренность, и лишения – но все это существовало лишь для того, чтобы любовь могла над этим посмеяться; пара морей, которые любовь могла раздвинуть; поверхностная мудрость, которую любовь отрицала; придуманные людьми законы, на которые любовь не обращала внимания, – все это не более, чем физические препятствия. Преодолев их, влюбленные получали право войти, рука об руку, в рай, где правит Вечная Любовь.
Вот о чем думала Мелицента, которая знала, что Перион ее любит.
Она сидела на каменной скамье и расчесывала свои золотистые волосы, не обращая внимания на появившуюся седину. К ней подошел павлин и стал наблюдать за ней блестящими глазками. Он наклонял свою сверкающую голову то в одну сторону, то в другую, словно дивясь еще одному сияющему, красочному существу, которое казалось таким счастливым.
Она не осмеливалась думать о предстоящей встрече с Перионом. Вместо этого она посвятила ему песенку, в которой не было ни единого слова, так что невозможно ее здесь воспроизвести.
Вот так жила Мелицента, которая знала, что Перион ее любит.
ГЛАВА XXIV
Как правил Орест
Мелицента вернулась во Двор Звезд. Когда она входила, Орест снимал красную подушку с лица Деметрия. Глаза стоявшего рядом Агасфера были так же невыразительны, как глаза змеи.
– Великий наместник возложил на меня весьма неудобные обязательства, – сказал Орест. – Великий наместник покинул нас, чтобы своим великолепием усилить сиянье Елизиума.
Она поняла, что молодой человек задушил собственного отца, и убедилась, что Орест был истинным сыном Деметрия.
– Иди, – сказал Орест, – иди и помни, что теперь здесь хозяин я.
– В какую дверь? – спросила Мелицента, еще надеясь на что-то.
Но он, словно устыдившись, указал на вход в Сад Женщин.
– Я не питаю вражды к тебе, чужеземка. К тому же моя мать хочет поговорить с тобой, а мне нужно совершить одну сделку с Агасфером.
Мелицента поняла, кто внушил Оресту мысль об убийстве наместника. Казалось несправедливым, что Каллистион ненавидит ее так сильно. Но Мелицента припомнила нечто, касающееся госпожи Мелюзины, и не удивилась ненависти Каллистион и тому, что совершил ее сын.
– Я должна перенести все неудобства и, может быть, пытки еще какое-то время… Но сегодня у меня есть хорошее средство от любых неприятностей, – сказала Мелицента и величественно, как и подобает принцессе, она прошла мимо Ореста и опустилась на колени перед тем, кто еще вчера был ее хозяином.
– Прощаясь, я не нахожу слов ни для проклятия, ни для восхваления. Тобой трудно восхищаться, Деметрий. Но ты отправляешься в жуткое путешествие, и в моем сердце сохраняются воспоминания о долгих годах, в течение которых ты по-своему был добр ко мне. Нашей сделке пришел конец. Я по собственной воле продала то, что ты купил. Я не смею тебя упрекать.
Затем Мелицента взяла в свои ладони его мертвое лицо: так матери ласкают своих сыновей.
– Если б я сделала это, когда ты был жив, – воскликнула Мелицента, – потому что я понимаю сейчас, что ты по-своему меня любил. И я молю, чтобы ты узнал, что я очень счастлива. Думаю, что это сейчас порадует и тебя. Меня превратят в рабыню, Деметрий, там, где благодаря твоей доброте я жила, как царица. Меня ждут лишения, которые я должна выдержать в одиночестве. А возможно, меня ждет что-то гораздо худшее. Но я узнала наверняка, что любовь не пройдет, что узел, который связывает мое сердце с сердцем Периона, нельзя разрубить. Жизнь – более емкое понятие, чем мы с тобой предполагали! И в моем сердце глубокая жалость к тебе, Деметрий, потому что ты так и не нашел любви, которой я стремлюсь быть достойной. Сама того не ведая, я была проклятьем для тебя, как и ты – сейчас я уверена, – стал, вопреки своей воле, проклятием для меня. Я заключаю с тобой новую сделку и кричу в твои уже неслышащие уши: «Прощение за прощение, Деметрий!»
Затем Мелицента поцеловала губы, которые никогда больше не изогнутся в усмешке, и, поднявшись, гордо и бесстрашно проследовала в Сад Женщин.
Агасфер, однако, настолько сдержанно пожал плечами, что ей стало страшно. Затем страх прошел, поскольку она ясно осознала, что все последующие удары судьбы должны восприниматься совершенно обыденно. Ибо Перион, как она теперь знала, находился совсем рядом – у него чистые руки и единственная цель, а в сердце такая любовь, что Мелицента невольно волновалась при мысли, достойна ли она ее.
ГЛАВА XXV
Как говорили между собой женщины
Госпожа Мелицента гордо прошла через Сад Женщин и вступила в цветущую апельсиновую рощу. Здесь был искусственный пруд, из которого брали воду для поливки деревьев. На берегу лежало тело десятилетнего Диофанта, сына Деметрия и его жены Триферы. Орест задушил Диофанта, чтобы избавиться от соперника в борьбе за трон. Юноша лежал на спине, и его левая рука по локоть была погружена в воду и плавно там покачивалась.
Каллистион сидела рядом с трупом и поглаживала его правую руку. Она ненавидела мальчика всю его короткую и радостную жизнь. И сейчас она думала о том, как похож он на Деметрия.
Она взглянула на Мелиценту широко раскрытыми глазами человека, который вышел из темноты на свет, и сказала:
– Итак, Деметрий мертв. Я думала, что буду с радостью произносить эти слова. Но странно, я совсем не радуюсь.
Она поднялась с трудом, будто дряхлая старуха. На ней было длинное черное платье без пояса, на котором отсутствовали застежки и какие-либо украшения, кроме двух золотых звезд на груди.
– Сейчас, посредством своего сына, в Накумере правлю я, – сказала Каллистион. – Нет никого, кто бы осмелился не повиноваться мне. Подойди поближе, чтобы я смогла рассмотреть ту красоту, что так одурманила Деметрия, которого я, должно быть, любила.
– Удовлетвори свое любопытство, – ответила Мелицента, – и знай, что имей ты и десятую часть моей красоты, ты смогла бы завладеть сердцем Деметрия.
Ибо Мелиценте пришла в голову мысль заставить эту женщину убить ее раньше, чем та приступит к своим изощренным пыткам.
Но Каллистион лишь долго и внимательно изучала гордое лицо Мелиценты и убеждалась, что вряд ли между двух морей найдется более красивая женщина. Время мало повлияло на Мелиценту, и даже если сейчас в ней не было девической прелести, Каллистион все равно нигде не видела женщины более очаровательной, чем эта ненавистная франкская воровка.
– Я никогда не была столь красива, как ты, – сказала Каллистион. – Однако Деметрий любил меня, когда я была привлекательна. Ты никогда не видела его в бою. Я же видела, как он один сражался с Абрадасом и еще тремя негодяями, которые выкрали меня из материнского дома. О, как давно это было! Он убил всех четверых. Он был похож на ужасного непобедимого бога, когда после схватки посмотрел на меня. Он взял меня… весь в крови… Мне нравится вспоминать, как он смеялся и как он был силен.
Женщина отвернулась и, перегнувшись через мертвого юношу, стала пристально рассматривать в воде свое отражение.
– Миловидность, которая так нравилась Деметрию, исчезла. Я бы лучше отдала всю кровь до последней капли, чем позволила бы поранить его палец. Он это знал. Но все было напрасно, потому что у тебя ясные глаза и светлая гладкая кожа. И вот Деметрий мертв. О Мелицента, почему мне так грустно?
Задумчивые глаза Каллистион был сухи, а Мелицента заплакала. Она подошла к этой дакианке и обняла ее, сказав:
– Я никогда не хотела причинить тебе зла. Каллистион, казалось, не обратила на это внимания. Затем она сказала:
– Разве ты не видишь разницы между нами? Они обе стояли на коленях и смотрели в воду.
– Неудивительно, – сказала Каллистион, – что Деметрий любил тебя. В свое время он любил многих женщин. Он любил и мать вот этого куска падали. Но он всегда возвращался ко мне, ложился возле моих ног и клал мне голову на колени, а я перебирала его волосы, и мы говорили о тех временах, когда были молоды. Но он никогда не говорил о тебе. Этого я простить не могу.
– Понимаю, – сказала Мелицента.
Их щеки соприкоснулись, а они, стоя на коленях, смотрели в неподвижную воду. Старшая из них сказала:
– Есть только один учитель, который может дать тебе печальное знание, касающееся природы женской ревности…
– Да, лишь один, Каллистион.
– Должно быть, высокий, и у него, по-моему, густые каштановые, слегка вьющиеся волосы…
– У него черные волосы с отливом, словно вороново крыло.
– У него бледное с румянцем лицо, как у тебя…
– Нет, оно смуглое, как у тебя, Каллистон. Он решителен, как орел. Его взгляд завораживает. Обычно я почти со страхом смотрела на него, хотя и видела, как безрассудно он меня любит…
– Понимаю, – сказала Каллистион. – Все женщины это понимают. О, мы многое понимаем…
Она вытянула руку над телом Диофанта и бросила в пруд камень.
– Посмотри на эту рябь! Сейчас в ней не отражается ни мое старое лицо, ни твоя красота. Волнение, как в человеческом сердце… А сейчас вновь начинает проявляться твоя красота. Но у меня есть еще камни.
– И желание их бросить! – сказала госпожа Мелицента.
– Потому что эта яркая, обворовывающая всех красота уже не принадлежит тебе. Она моя, и я могу сделать с ней все, что захочу… Так же, как еще вчера играл ею Деметрий… Нет, я не убью тебя. У меня есть три настоящих мастера, умеющих превращать красивых детей в страшных уродцев. Правда, они сказали, что не смогут изменить цвет твоих глаз. Жаль! Но один глаз можно и вырвать. Затем с удовольствием посмотрю, как они растянут твой рот от уха до уха, вынут хрящ из носа и превратят волосы в жухлую солому; твоя кожа, которая сейчас, как теплый бархат, касается моей щеки, станет похожа на затвердевшую грязь. Они так же ловко лишат тебя красоты, которая ограбила меня, как я срываю эту травинку… Они уверили меня, что превратят тебя в самое безобразное создание на свете. Иначе я их убью. Как только это будет сделано, ты можешь свободно пойти к своему возлюбленному. Боюсь только, что ты не любишь его так, как я любила Деметрия.
Мелицента ничего не ответила. Тогда Каллистион сказала:
– Все мы, женщины, знаем, моя сестра, о предписанном нам проклятии. Любить мужчину, зная, что он любит лишь губы и глаза, которые дала нам взаймы юность… К тому же ненадолго! Разве это не жестоко? Вот почему мы жестоки… Постоянно в мыслях, а когда представляется случай, то и на деле.
А Мелицента ничего не ответила. Поскольку их любовь с Перионом. – настолько возвышенная и прекрасная, что творила музыку из печали и выжимала новые силы из несомого креста так же, как получают лекарства из горьких трав, – здесь никем, как она знала, быть понята не могла.
ГЛАВА XXYI
Как вершили дела мужчины
В саду появился Орест с Агасфером и еще девятью слугами. Хозяин Накумеры не произнес ни звука, пока прислужники затыкали кляпом рот Каллистион и связывали ее руки. Они молча увели ее из рощи. Один из них нес на плече тело Диофанта, который в тот же день был со всеми почестями похоронен рядом с отцом. Орест весьма чтил традиции.
Все происходило настолько гладко и слаженно, что казалось, подобное уже неоднократно совершалось. Орест небрежно отряхнул ладони, и Сад вновь погрузился в дрему. Невдалеке от него Агасфер выводил пальцем на воде замысловатые узоры, которые, похоже, забавляли еврея.
– Она бы убила тебя, Мелицента, – сказал Орест, – хотя весь Олимп и был бы против. Это было бы неугодно богам. Более того, клянусь Гераклом, у меня нет времени выбирать чью-либо сторону в бабской сваре. С волками жить – по-волчьи выть. Я преследую более высокие цели. И кроме того, совершив невероятный переход, граф де ла Форэ со своими Вольными Соратниками уже стучится в ворота Накумеры…
Сверкнула надежда.
– Ты же знаешь, что если со мной что-нибудь случится, он не пощадит никого. А все твои войска находятся в Калонаке. Господь милосерден! – сказала Мелицента.
– Я не черню чужих богов. Это приносит несчастье. Тем не менее ты напрасно взываешь к своему богу. Даже если бы у меня было всего пятьдесят воинов, Накумеру можно было бы взять только измором. Мы можем спокойно выстоять здесь целый месяц. Да, мои главные силы находятся в Калонаке. Однако мой безумный отец уже призвал их сюда, чтобы они сопроводили тебя в лагерь мессира де ла Форэ. Я использую этих мошенников совсем по-другому. Они прибудут через два дня и появятся как раз в тылу мессира де ла Форэ, который расположился лагерем перед крепостью. Впереди у него неприступные стены, а позади – три меча на один его. И войска де ла Форэ находятся в долине, откуда лишь Дедал с его крыльями мог бы выбраться, но никому другому этого не сделать. Я считаю, что Перион Лесной уже мертв.
И Орест, неуклюже соединяя цепочку выводов, тыкал правым, коротким и толстым, указательным пальцем в ладонь левой руки. Деметрий оставил сына, но не наследника.
Но эта цепь была крепка. Мелицента проверила каждое звено и нигде не нашла слабины. Она уже видела, как будет окружен и разбит Перион.
– И эти войска возвращаются сюда из Калонака ради меня!
– Все происходит очень кстати. Это должно научить тебя не говорить о богах легкомысленно. И также, по совету этого жида, я намерен помочь богам в их трудах. Завтра на рассвете ты появишься на стенах Накумеры в том наряде, в каком впервые увидел тебя граф де ла Форэ. Агасфер утверждает, что в таком случае Перион тем более постарается освободить тебя, что бы ни говорили ему его соратники, поскольку, по мнению Агасфера, ты все еще очень красива.
Мелицента громко воскликнула:
– Моя красота – сущее проклятие для меня и для всех тех, кто желает ей обладать!.
– Но я ее не желаю! – сказал Орест. – Иначе я не продал бы тебя Агасферу. У меня единственное желание – править приграничной провинцией, где я могу каждый день сражаться с врагами и проезжать мимо домов побежденных и ненавидящих меня людей. Агасфер уверяет меня, что император мне в этом не откажет, когда я привезу ему голову мессира де ла Форэ. Походы мессира де ла Форэ уже долгое время действуют на нервы нашему божественному императору.
– Тебя же когда-то носила в своем чреве женщина!.. – пробормотала она.
– Агасфер проницателен во всем, кроме одного. Он упрощает вещи. Любой мудрец знает, что женщина – всего лишь приправа, но не само блюдо. Агасфер не так мудр. Следовательно, у меня есть прекрасные сокровища, чтобы подкупить этого прекрасного Вафилла, которого наш божественный император продолжает противоестественным образом обожать. Моя мать отправляется в темницу, я же правлю своей провинцией.
И Орест расхохотался, уверенный в том, что этот мир создан лишь для него. Затем он ушел, и госпожа Мелицента осталась наедине с Агасфером.
ГЛАВА XXYII
Как откровенничал Агасфер
Когда Орест ушел, еврей не сдвинулся с места и продолжал водить пальцем по воде, будто размышляя о чем-то. Затем он вытер ладони о шафрановые рукава и сказал:
– Чем мы только не пользуемся при необходимости!
– Итак, ты купил меня, Агасфер? – спросила она.
– Да. За сто две мины. Это большая сумма. Хотя ты необыкновенная женщина и стоишь того.
Мелицента молчала. Светило солнце и со всех сторон раздавалось веселое птичье пение. Она любовалась красотой этого сада, который, казалось, спал под высоким голубым сводом, красотой уединенной Накумеры, которая кишела мерзостями, словно гнездо с ядовитыми змеями.
– Помнишь, Мелицента, – спросил еврей, – ту ночь на Фоморской Отмели, когда ты выхватила фонарь у меня из рук? И твоя рука коснулась моей руки, Мелицента.
– Помню, – ответила она.
– Я самый первый понял, что именно эта женщина помогает Периону бежать. А затем, увидев лицо этой женщины, я понял, что Периона очень любят.
Она молчала.
– Я часто думал об этой женщине. И стал думать о ней еще чаще после того, как поговорил с ней в Бельгарде, принеся весть о пленении Периона… Мелицента, – сказал еврей, – я не слагаю песен, не отличаюсь красноречием, не даю торжественных клятв. За меня говорят мои дела. Я работаю без устали! – Он взглянул на Мелиценту, и на его бескровных губах появилась улыбка, но глаза оставались печальными. – Ненависть безумной Каллистион к тебе и к бросившему ее Деметрию стала первым средством для достижения моей цели. По моему совету нога одного известного тебе коня была туго затянута над копытом тонкой проволокой, которая ее немилосердно натирала. Именно на этом коне Деметрий появился в своей последней битве. Конь споткнулся, и наш страшный наместник разбился насмерть. Все это подстроила Каллистион. А я вот так предал Деметрия.
– Ты настолько омерзителен, что Ад не примет тебя, – сказала Мелицента.
Агасфер махнул рукой, показывая полное равнодушие к подобным обвинениям, и сказал:
– Вот так далеко зашли мы рука об руку с сумасшедшей Каллистион. Но сейчас наши пути разошлись. Она хотела лишь отомстить тебе… причем, очень жестоко, Этот замысел никак не совпадал с моим. Пришлось заключить сделку. Я купил тебя – о редчайшая из редчайших! – ценой маленького разумного совета и большого количества золота в придачу. Вот так я предал Каллистион. А кто это запретит?
– Бог спит, – сказала она. – Поэтому ты живешь и – увы! – должен жить дальше.
– Да, ты должна жить и дальше, и я тоже должен жить дальше, – ответил еврей.
Голос его стал громче и задрожал. Впервые за все то время, как Мелицента знала его, она увидела у Агасфера проявление каких-то чувств.
Но он успокоился и сказал:
– А кто это запретит? В любом случае, есть пословица о соловье и баснях. И прошу тебя запомнить, что я никогда еще не колебался, не дрогну и сейчас. Ты презираешь меня. Кто это запретит? Я с самого начала знал, что я тебе отвратителен, и всегда считал, что твое отношение ко мне весьма милосердно. Поверь мне, ты никогда не будешь презирать Агасфера так, как презираю его я. Однако иногда я с нежностью отношусь к этому бедному мошеннику… сегодня, например'
Вот так они и расстались.
ГЛАВА XXYIII
Как Перион увидел Мелиценту
Пытка для Мелиценты была придумана такая.
Незадолго до рассвета Агасфер и Орест привели Мелиценту на самую высокую башню Накумеры, которая уже отчетливо была видна в первых лучах солнца. Внезапно долину залил поток света; мгновенно появилось большое малиновое солнце, как будто перепрыгнув через истекающие кровью ночные туманы. Исчезла тьма и все порожденное ночью. Пеликаны, гуси и кроншнепы, будто по сигналу, подняли невообразимый шум. Трижды по-собачьи тявкнул канюк и по спирали взмыл в небо по правую руку от Мелиценты. Он завис недвижным пятнышком в зените, словно ожидая, когда люди приготовят ему еду. Тепло хлынуло в долину. Сейчас Мелицента могла рассмотреть внизу длинную и узкую равнину. Та поросла высокой травой, колеблемой ветром, и издалека напоминала море, над которым островками поднимались пальмовые рощицы. Вдали шумели и сверкали доспехами готовившиеся к битве Вольные Соратники. Мелицента также увидела – и не узнала – скрытую шлемом голову Периона, отбрасывающую ослепительные солнечные лучи. Перион как раз преклонил в молитве колено, чуть далее расстояния полета стрелы.
Перион заметил женщину, стоящую в лучах новорожденного солнца под многочисленными разноцветными знаменами. Она была одета в белое шелковое платье, а ее руки украшали толстые серебряные браслеты. Ее волосы сияли на солнце так же ярко, как подсолнухи; ее кожа – белее молока; ее руки – нежнее лебяжьего пуха. Ни на кого на свете нельзя было смотреть с большим наслаждением, и все видевшие ее желали лишь одного: любить госпожу Мелиценту и служить ей… Все это знал Перион, влюбленные глаза которого видели не эту женщину на крепостной стене, а юную Мелиценту – такую, какой он впервые узрел ее восемнадцать лет тому назад в далеком Пуактесме.
Вот что видел Перион, преклонив колени перед этой невозмутимой девушкой – серебристо-белой с золотым нимбом развевающихся волос. Желанной и непередаваемо прелестной казалась ему Мелицента, стоявшая в своем одиноком величии под полощущимися стягами на фоне голубеющего неба. Увиденное Перионом напоминало окно, сквозь которое в храм проникает солнечный свет: Агасфер прекрасно знал, какую приманку надо поместить в западню.
Перион вышел на открытое пространство прямо перед замком и трижды позвал ее по имени. Беззащитный перед врагом, когда любой лучник мог его поразить, он радостно запел утреннюю серенаду, которую слышала восемнадцать лет назад Мелицента, когда на подмостках Амфитрион посвящал ее Алкмене, а люди со всех сторон улыбались и Мелицента была юной и не изведала горя.
Перион пел: «Rei glorios, verais lums e clardatz…» или другими словами:
Всевышний царь, всемогущий, излучающий истины свет! Соизволь укрепить веру в душе возлюбленной моей. Ночь, разлучившая нас, была длинна и горька, тьму сотрясали холодные ветры, но вот наступает рассвет!.. …Любимая, добро сохрани в сердце своем! Нас долго пытали кошмарные сны. Добро сохрани, поскольку рассвет уже близок! Восток пробудился. Там узрел я звезду, что возвещает о приходе дня. Я отчетливо вижу ее, ведь наступает рассвет.Песня сама по себе мало что значила, но великолепная самоцельность ее исполнения в таких необычных условиях показалась Мелиценте подвигом. А осознание скудности его слов, при том что Перион играл со смертью, выказывая должное почтение даме, которой он служил, было для госпожи Мелиценты, при всех ее муках, как поворот кинжала в уже смертельной ране и еще более усиливало ее любовь к нему.
А Перион пел:
Моя любимая! Я, твой слуга, молю тебя: «Храни добро!» Взгляни на небо, меркнущие звезды и ты увидишь, что я бдел, как неусыпный страж. И горе непонимающим то, что наступает рассвет… Моя любимая! С тех пор, как меня разлучили с тобой, одна лишь дума была в голове у меня. Я верен был тебе. Тебе не изменил. И ежечасно умолял всевышнего о сострадании. И вот наступает рассвет.«Мой бедный, запутавшийся мальчик, – думала Мелицента сейчас, как и давным-давно, – Как же так вышло, что ты забрел в наш грязный мир? И разве могу я быть тебя достойной».
И тут заговорил Орест. Его голос разрушил ее восторг, словно появление призрака, и она вспомнила, что весь этот суетный мир – ее враг.
– Это уж точно, – сказал Орест, – что он безумец. Я немедленно прикажу своим лучникам уничтожить его на этом самом месте. С такого расстояния они не промахнутся.
Но Агасфер сказал:
– Не надо, милостивый государь. Не советую. Если вы убьете Периона Лесного, его приспешники тут же снимут осаду и отступят к морю. Но они не отступят, пока этот человек жив и командует ими, а у нас в руках Мелицента, поскольку, как вы можете видеть, этот негодяй совершенно одурманен своей похотью. Его смерть прославила бы вас, но провинцию вы сможете получить только уничтожив всех Вольных Соратников. Самое большее через два дня подойдут наши войска, и тогда мы их всех перебьем.
– Верно, – сказал Орест. – Удивительно, как ты быстро соображаешь.
Вот как Агасфер остановил Ореста, а Перион вернулся в свой лагерь целый и невредимый, в чем его заслуги на этот раз не было.
Затем Мелиценту препроводили в ее покои. И евнухи охраняли ее в то время, как разгорелась битва и ради ее красоты во множестве стали гибнуть совершенно неизвестные ей люди.
ГЛАВА XXIX
Как заключили сделку
На закате Мелицента преклонила колена в своей молельне перед образом Девы Марии и, рассказав о своем горе, попросила совета.
Это действительно была часовня, которую с радостью построил для Мелиценты Деметрий. Для этого он разграбил несколько городов, о которых она никогда и не слышала, и полностью опустошил два храма, поскольку мысль о том, что у жены Деметрия должна быть собственная христианская церковь, очень его забавляла. Образ Девы Марии, этот шедевр Пьетро ди Виченцы, Деметрий нашел на корабле захваченного им флота одного из вольных городов. Это была прекрасно выполненная, раскрашенная статуя.
Последние лучи солнца освещали Мелиценту, падая на нее из окна с витражами, изображавшими страдания Христа и двух разбойников. Рассеянный свет создавал вокруг Мелиценты ореол из мерцающих, накладывающихся друг на друга цветовых пятен. Все это заметил Агасфер к сказал:
– Ты плачешься Мариамь из Назарета. А вот там Митре приносит в жертву быка. А я не совершаю жертвоприношений и не молюсь какому-либо богу. Но я – единственный человек в Накумере, который знает, чем кончится этот день.
Женщина поднялась с колен и спросила:
– Чем же, Агасфер?
– Он похож на многие другие дни, что я видел. Спокойно взошло солнце. И, как обычно, закатывается оно на западе. Правда, весь день продолжалось сражение. По небу неслись тучи стрел, и лошади, более разумные, чем их хозяева, пронзительно ржали, потому что эти бездушные твари были напуганы бесцельным пролитием такого количества крови. Многие женщины стали вдовами, а многие дети – сиротами из-за двух глаз, которых они никогда не видели. Увы! Все это старо, как мир. И день этот, во всех отношениях, был похож на многие другие дни, что я видел.
– Перион ранен? – спросила она.
– Может ли ранить собаку кот, которого она загнала на дерево? Сейчас псом является Перион. Нет, этот Перион, который когда-то был моим командиром, и сейчас не имеет себе равного на поле брани. Но в то время, как я говорю с тобой, к этому загнанному на дерево коту Оресту подходит помощь. Любовь же загнала Периона в ловушку, и его судьба предопределена.
На что она с твердостью сказала:
– И моя судьба тоже. Поскольку, если Перион попадет в западню и погибнет, я ненамного переживу его.
– Я знаю, – сказал Агасфер, – У женщин бывают такие настроения! Но когда придет час, я думаю, ты не осмелишься покончить с собой. Потому что, насколько я знаю, твоя вера говорит, что Ад, в частности, служит именно тем местом, куда попадают самоубийцы.
Мелицента помолчала немного, а затем сказала совершенно спокойно:
– Чего мне бояться Ада, если мне уготована более горькая погибель? Я знаю, ты очень бы хотел, чтобы я стала твоей игрушкой. Бесчестие, в котором ты погряз, говорит о многом. Но ты не достигнешь своей цели, если Перион погибнет, потому что пути к смерти всегда остаются открытыми. Я лучше несколько раз умру, чем позволю хоть пальцем притронуться ко мне. Агасфер, у меня нет более слов, чтобы выразить тебе свое презрение…
– Тогда заключим сделку, – сказал он, похоже, зная, о чем она думает.
– Хорошо. Пусть Периона предупредят о тех войсках, которые завтра его окружат. Пусть он спасется. Еще есть время. Сделай это, нечестивец, и я буду жить. Да, я буду жить и во всем тебе подчиняться, мой хозяин, пока я тебе не надоем или пока Всевышний не вспомнит обо мне. Он прищурился.
– Ты подкупаешь меня той же самой плотью, которой однажды подкупила Деметрия? И с такой же целью? Создается впечатление, что консерватизм с возрастом делает тебя рабыней привычки.
На что она с горечью сказала:
– Да помогут тебе Небеса, но что еще я могу продать!
Он ответил:
– Ничего. Как и любая женщина в этот мрачный век, так что успокойся, моя девочка!
Она поспешно продолжила:
– Итак, я вновь предлагаю Мелиценту, которая когда-то была принцессой. Моя цена – алые губы, ясные глаза и прекрасное, нежное тело без единого изъяна. У меня нет больше юности, счастья и чести, чтобы предложить их тебе в качестве игрушек. Все это я давно потеряла. О, так давно! Однако все, что у меня есть, я отдаю на это милосердное дело. Посмотри, как близок ты к победе! Подумай, Агасфер, как украсил бы тебя один честный поступок! Тебя, который предавал каждого хозяина, которому когда-либо служил!
Он же сказал:
– Я с подозрением отношусь к неизведанным путям. Несмотря на все твои уговоры, я не стану связываться с незнакомыми мне добродетелями. Мой план окончательный и изменению не подлежит.
– Ах нет, Агасфер! Подумай только, как я сложена! Нет в этом полном похоти мире более привлекательного животного. Я даже не могу сосчитать, сколько мужчин погибло из-за того, что я настолько привлекательна… – Она улыбнулась, как улыбается тот, кто слишком устал рыдать. – Это тоже старо, как мир. Сейчас, как ни прискорбно, я снижаю цену. За губы, грудь и бедра нужно совершить только один честный поступок, и вряд ли найдется человек, который станет торговаться.
Он же ответил:
– Ты забываешь, что у Периона всегда найдется пара громких слов в отношении твоих сделок. Как ты помнишь, Деметрий заключал сделки. Деметрий был ужасным властелином. Но ему приходилось непрестанно воевать, чтобы сохранить права на твое тело. А у меня нет ни мечей, ни замков, и я не смогу сохранить ни Мелиценту, ни спокойное существование в обозримом будущем. Нет, я не питаю к моему бывшему командиру никакого недоброжелательства, у меня лишь сильное отвращение к тому, что он перережет мне глотку. Я просто знаю, что пока Перион жив, он не перестанет стремиться к тебе. Я же очень тихий человек и ненавижу всяческие распри. Вот почему я буду избегать таких распрей, которые обязательно приводят к перерезанию глоток. Что ж касается остального, то я не думаю, что ты убьешь себя. Поэтому я не изменю своего плана.
Он оставил ее, а Мелицента уже больше не молилась. С какой целью молиться, если у Периона не остается никакой надежды?
ГЛАВА XXX
Как победила Мелицента
В два часа пополудни в спальню Мелиценты вошел Жид Агасфер. Она сидела в постели и увидела, как он, скорчившись от холода, грел пальцы над светильником, и худое его лицо как бы плыло по золотистому озеру среди полной темноты. Она удивилась, что годы, которые миновали с их первой встречи, никак не повлияли на это омерзительное существо. Он мягко произнес:
– Давай поговорим. Некоторое время я тебя любил, прекрасная Мелицента.
– Ты желал меня, – ответила она.
– Поверь мне, я такой же мужчина, как и все остальные, независимо от возраста. Черт возьми! В человеке заключено дыхание Яхве, но в Священном Писании также сказано, что человек сделан из земли. – Еврей выпятил губы, словно что-то вспоминая. – «Ты – великолепный кусок плоти», – подумал я, когда пришел к тебе в Бельгард, чтобы поведать о пленении Периона. Я только это и подумал, поскольку в свое время у меня было столько великолепных женщин, что тебе трудно представить. Потом, по причине, которая касается только меня, я добровольно и верно служил Деметрию. Я служил ему почти так же, как служил королеве Фрайдис, когда привез твоих отца с матерью на Саргилл, где ты и родилась. Однако только сын Мирамона Ллуагора умел великолепно платить мне, причем весьма любопытной монетой. По просьбе Деметрия я соорудил такую грандиозную ловушку, в которую, по-моему, должна была попасться любая женщина на свете. И почему бы мне было не сделать западню для тебя? И кто еще являлся невестой короля, к тому же юной, красивой, одаренной богатством, почестями и всем, что может предложить рай? – Еврей передернулся, словно одежда мешала его изможденному телу. – И ты все это отбросила как ничего не стоящее. Ловушка сработала.
– Но я сделала это ради спасения Периона, – задумчиво сказала она.
– Бесстыжая лгунья, – ответил он. – Ты смело и бессовестно купила у жизни то, что тебе искренне хотелось иметь. Ни Соломон, ни Аристотель, ни Мерлин, ни один другой мудрец, которого обманывали женщины, не получил от жизни большего. Но я увидел и то, что не видел никто другой. Я увидел хитрую и бесстрашную душу Мелиценты. И я полюбил тебя, и я составил свой план…
– Ты ничего не знаешь о любви… – сказала она.
– Однако я воздвигал в ее честь храм, – заметил еврей и продолжал с претящей кротостью: – Восхитительный храм… но нельзя его построить без того, чтобы множество людей не копалось долгое время по пояс в грязи. Именно такое копание в грязи, похоже, необходимо. Так что я играл. Я играл коварную музыку. Гордость Деметрия, ревность Каллистион, жадность Ореста – вот лишь некоторые из отверстий на той флейте, на которой я играл свою коварную, смертоносную музыку. А кто это запретит?
Она жестом велела ему продолжать. Теперь она его не боялась.
– Перейдем тогда к последней ноте моей музыки! Ты предлагаешь сделку, говоря: «Спаси Периона и получишь мое тело». Я же отвечаю: «Щелк!» Поворот ключа решает все. Соответственно я предал Накумеру. Я впустил в крепость Периона и его широкоплечих воинов. Сейчас, когда я говорю с тобой, они убивают Ореста во Дворе Звезд. – Агасфер беззвучно рассмеялся. – Тщеславие не к лицу еврею, но должен отметить, что я сделал все это великолепно. И, следовательно, я дарю Периону не только жизнь. Я дарю ему также победу, множество перерезанных глоток и необыкновенно богатую крепость. Разве я не заплатил твою цену, Мелицента? Разве я честным образом не заполучил шедевр Небес из плоти, волос и прочих телесных мелочей с помощью куска проволоки, кошелька и большого ключа?
– Заплатил, – сказала она. Он же спросил:
– Но будешь ли ты придерживаться условий сделки? Тебе достаточно лишь громко закричать, и ты избавишься от меня: этот замок теперь принадлежит Периону.
– Ты заплатил мою цену, – ответила она.
Еврей, находясь в каком-то жутком возбуждении, воздел руки к небу и сказал:
– О, я почти готов восхвалять Яхве, который создал непобедимую душу Мелиценты. Ты победила: ты, как всегда, выиграла и, независимо от цены, получила то, что желала. И тебя больше ничего не интересует. Но из-за данного тобой слова, если б я приказал, ты бы сейчас встала и пошла за мной по моим темным тропам. Ты не станешь жульничать, даже в таком крайнем случае, когда это было бы так просто! Перион в безопасности. Ничто не сравнится с этим, и ты не нарушишь клятву, даже данную мне. Ты необъяснимая, ты глупая и беспомощная. И снова я вижу ту Мелиценту, у которой не только фиолетовые глаза и желанная плоть.
Лицо у него стало таким, каким она никогда его не видела. Агасфер сказал:
– Мой путь к победе был достаточно прост. Но я не учел одно препятствие: я влюбился в душу Мелиценты, а не в великолепный кусок плоти, в который все мужчины – даже Перион! – так страстно, до безрассудства влюблялись. Я никак не ожидал, что здание, над которым трудился, станет лишь постелью для моих чувственных вожделений. И потому я играл свою коварную музыку… и потому я отдаю тебе праведного и честного Периона, и именно я бросаю тебя в его объятия. Мне жаль, что вследствие человеческой природы они, по сути, ничем не отличаются от объятий Деметрия. Между тем твой герой, должно быть, все еще занимается великодушной резней во Дворе Звезд.
Агасфер встал на колени и поцеловал ее руку.
– Прекрасная Мелицента, такие отвратительные люди, как Деметрий и я, неизбежно похожи друг на друга. Мы отрицаем, высмеиваем, порицаем или даже ненавидим святость любой благородной дамы, но нет у нас возможности избежать поклонения ей. Твой ветреный Перион, который даже не понимает, в каком мире мы живем, не скоро познает душу Мелиценты. Таково наше печальное утешение. О, ты все еще мне не веришь. Пройдут годы, и ты поверишь. Ну, а сейчас – О всепобеждающая и всетерпящая! – сделай свое последнее дело. И – если мой Брат осмелится это допустить – победи Периона!
И он исчез. Она его больше никогда не видела.
Она взяла лампу, которую принес еврей. Она прошла с ней через Сад Женщин, где метались какие-то беспокойные тени, но не было ни души. Она подошла к выходу из Сада. Там шло сражение. Она обошла сражающихся и спустилась по Царицыной Лестнице на балкон, возвышающийся над Двором Звезд. На балконе никого не было.
Под нею тоже шла битва. В дальнем конце двора на желтых и красных плитах (от крови желтые плиты тоже стали красными) распростерлось тело Ореста, а над ним возвышался Перион Лесной. Победитель вытирал меч о тот самый диван, на котором возлежал Деметрий, когда Мелицента впервые его увидела. А Перион, вкладывая меч в ножны, повернулся и увидел знакомую и дорогую его сердцу обитательницу его снов. В руке у нее мерцала лампа.
– О Мелицента, – громко воскликнул Перион, – я достиг своей цели. Подойди же ко мне!
Она тут же повиновалась, так как ее единственная радость – угождать Периону. Спускаясь по лестнице, она думала о том, как похожи эти темные ступени на те временные невзгоды, которые она преодолела, служа Периону.
Он стоял совершенно неподвижно, обливаясь потом: схватка была ужасна. Она подошла к нему, обойдя убитых. Его после такой кровопролитной битвы слегка трясло. Вокруг воины Периона подбирали раненых.
Факелы отбрасывали во все стороны дрожащие, колеблющиеся тени.
Мелицента и Перион смотрели друг на друга, не произнося ни слова.
Думаю, что в первое мгновение Перион был разочарован. Он надеялся встретить девушку, которую когда-то оставил на Фоморской Отмели.
Увидел же он женщину, все еще прекрасную, но женщину, которая была ему незнакома. Так закончились поиски Мелиценты. Их любовь попрала Время и Судьбу. И тогда Время и Судьба решили отомстить: это была не та девушка, которую любил Перион в далеком Пуактесме; эта была не та девушка, за которую он сражался еще десять минут назад. А Перион – как он впервые понял – был уже не тем Перионом, которого просила вернуться к ней та девушка. Легче было представить Периона, который любил Мелюзину…
Затем Перион понял, что, возможно, любовь – сила слишком величественная, чтобы ее обсуждали мелкие люди, которыми она правит. Он посчитал, что это мнение разумно. Не могу сказать, какую такую тайну разгадал Перион. Многие наблюдали восход солнца и удивлялись необыкновенному сочетанию красок. Но безмятежность, благоговение и очищение, связанные с этим ежедневным чудом, огромная самоуверенность, которая каким-то образом излучается, так что созерцающий одновременно и бессилен, и влюблен, не являются всецело делом небесных оттенков. Так случилось и с Перионом. Он познал нечто, что не мог объяснить. Он познал такую радость и такой ужас, которые невозможно выразить. Резко поднялся занавес. И знакомый мир, который был известен Периону, оказался вдруг всего лишь нарисованным на этом занавесе.
И, пораженный, он впервые увидел Мелиценту…
Думаю, он увидел на ее лице образовавшиеся морщины, но он знал, что для него эта одинокая женщина стала этой ночью королевой, которую шумно приветствовал ее народ. Думаю, он скорее обожал, чем любил, как любой мужчина, столкнувшийся с божественным и изумительным безрассудством женского выбора. И однако, я думаю, Перион вспомнил Айрара де Ментора, который когда-то давным-давно сказал о женщинах и их любви так: «Они гораздо мудрее вас, и они всегда заставляют нас становиться лучше благодаря своей непоколебимой вере, что мы лучше, чем есть на самом деле».
Думаю, Перион понял, что юный Айрар де Монтер был прав. Печаль, тайна и красота мира, куда Всевышний – может быть, в насмешку – поместил самодовольного Периона, показались графу де ла Форэ просто невыносимыми. Я думаю, новая, более прекрасная любовь поразила его, как удар меча.
Я думаю, он молчал потому, что словам не было места, Я знаю, что он встал на колени – забыв о победе и сражении – перед этой незнакомкой, которая не была той Мелицентой, которую он искал долгие годы, и все его мысли о потерянной юной Мелиценте исчезли, как туман на восходе солнца.
Я думаю, что это был высший час ее торжества.
(На этом повествование обрывается.)
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Их стародавних жизней суть – любовь,
А созданы, как наши, – из земли
И воздуха горячего. Но вновь
Влюбленные вдвоем ожить смогли,
Когда им я дыхание свое
Вдохнул в уста, отвергнувшие смерть:
Любовь и песня их, они вдвоем
Пребудут здесь, пока над нами твердь.
Вот так, довольно-таки внезапно, обрывается история любви Периона и Мелиценты. Единственная известная нам рукопись кончается так же неожиданно, как и началась, и напоминает отрывок музыкального произведения. Таким образом, возникает догадка, что существовал какой-то более значительный текст. Но поскольку о последующих приключениях возлюбленных можно говорить, так сказать, лишь с точки зрения свободного теоретизирования, то кажется более полезным здесь коротко остановиться на сохранившихся фрагментах «Романа о Лузиньяне», поскольку история Мелиценты и Периона, представленная в этой книге, не более чем перевод на английский, с некоторыми незначительными добавлениями, рукописи, опубликованной впервые в 1546 году.
Поль Вервиль в своей монографии о Никола де Кана считает возможным, что «Роман о Лузиньяне» был напечатан в Брюгге издателем Коларом Мансионом примерно в то же самое время, когда Мансион опубликовал «Десяток королев». Но, пока не будет обнаружен экземпляр этой книги, для нас единственным доказательством того, что роман имеет продолжение, является лишь фрагментарная рукопись № 503 в Оллонбианской библиотеке.
Поль Вервиль. Заметки о жизни Никола де Кана.
Руан, 1911, с. 112.
Среди бесчисленного множества рукописей в Британском музее, возможно, нет ни одной, которая дала бы хоть какой-то намек для дальнейшего расследования. В целом «Роман о Лузиньяне», если доверять внешнему виду, является досужим и претенциозным пересказом легенды о Мелюзине; но в сохранившейся рукописи Мелюзина фигурирует весьма незначительно. У нас имеются только последние главы того, что является первой половиной или, вероятно, первой третью законченного повествования. Рукопись о приключениях Мелюзины фантастическим образом обрывается на эпизоде, происшедшем намного раньше того времени, с которого начинают рассказ хорошо известные версии Жана д'Арраса и Тюринга фон Рингольтингена. Поскольку легенда о Мелюзине, как обычно принято, начинается с усыновления графом Эммериком самого младшего сына Мелиценты Раймондина де ла Форэ и внезапной смерти графа от рук собственного племянника.
Но посредством нескольких элизий эпизодическая история о Мелиценте и любивших ее мужчинах была вырвана из основного повествования. Этот обрывок можно резонно считать завершенным произведением, несмотря на его внезапное начало, так как, хотя нам и не рассказывается ничего определенного о более ранних взаимоотношениях Периона и Мелюзины, они вряд ли так уж важны. Размышления о запутанности хронологии повествования и любопытной обработке легенды об Агасфере, в которых Никола разительно отличается от своих предшественников Матфея Парижского и Филиппа Мускеского, а также о вероятном ходе дальнейших событий полезно отнести на счет великолепной изобретательности Вервиля.
В любом случае почти не остается сомнений, что полный роман охватывает жизнь трех поколений, повествуя о том, как сын Периона Раймондин женился на Мелюзине и стал основателем дома Лузиньянов и как этот дом с трудом избежал разрушения внуком Периона Жофри Большезубым.
Одна черта этого произведения требует особого комментария. События в истории о Мелиценте вращаются вокруг «domnei» – рыцарской любви, «Frowendienst» миннезингеров или, как мы неуклюже перевели слово, не имеющее точных эквивалентов, «женопочитания». Вот почему роман о Мелиценте, ценой потери вразумительности, назван «Domnei».
На самом деле, в современных языках не существует слова или словосочетания, которое могло бы определить или хотя бы обозначить тот особый рыцарский подход к жизни. И дело не в том, что вся жизнь рыцаря была пронизана любовью, а в том, что «domnei» – это не столько предпочитание какой-то одной женщины, сколько своего рода философия.
«Совокупность мнений и идей, привязанностей и привычек, – пишет Шарль-Клод Фориель», – которая побуждала рыцаря посвятить себя служению прекрасной даме и с помощью которой он стремился доказать свою любовь к ней и заслужить ответное чувство, выражалась одним словом «domnei».
И это, конечно, справедливо. Однако необходимо добавить, что «domnei» – это не только сочетание привычек, привязанностей и мнений; это также болезнь и религия, которые совершенно непередаваемым образом переплетались между собой.
И вы найдете, что Данте, если сослаться лишь на самого доступного из средневековых лирических поэтов, не разделяет эти аспекты «domnei». «Domnei» притупляет все чувства, кроме зрения, заставляет бледнеть, вызывает боли в левой стороне груди, вынуждает валяться в постели, «словно побитого плачущего ребенка». То есть всюду присутствует утверждение, что «domnei» является причиной физической болезни. Что же касается другого аспекта, то Данте никогда не устает повторять, что именно из-за «domnei» его мысли обратились к Богу, и искренне видит в Беатриче де Барди возвышеннейшее свечение, которое позволяет узреть человеку только Божественная Милость. «Это не женщина, это один из самых лучезарных небесных ангелов», – искренне говорит он.
С такой же искренностью следует повторить: «domnei» никогда не было, как можно подумать, показным чувством; истории Пейра де Маензака, Гийома де Кебестенга, Жофрэ Рюделя, Ульриха фон Лихтенштейна, Пусиботского Монаха, Понса де Капдейля и даже Пейра Видаля и Гийома де Балауна являются доказательством того, что это абсолютная жизненная реальность. «En cor gentil domnei per mort no passa», – как заявляет сам Никола. Служение «domnei» включало в себя, а по сути, и навлекало на себя страдания. Это мученичество, посредством которого влюбленный поднимается до святости, а прекрасная дама – почти что до уровня божества.
Каноном «domnei», сущностью «domnei», является то, что любимая женщина ставится между обожанием влюбленного в нее и самим Всевышним как живой образ и телесное напоминание о небесном, как символ красоты, святости, чистоты и совершенства. В ней влюбленный видит – воплощенными, открытыми человеческому восприятию – все качества Бога, которые можно постичь нашим ограниченным человеческим сознанием. Мелицента выступает таким посредником для Периона и в несколько иной степени – для Агасфера, поскольку Агасфер, которому из всех божественных черт дано только бессмертие, отличается от всех остальных людей.
Есть достаточно примеров служения «domnei», когда поклонение символу становится самодостаточным и начинает соперничать с поклонением тому, что первоначально выражал символ – подобные примеры мы можем найти в легенде о Тангейзере, или в намерении Окассена сойти в Ад вместе «со своей прекрасной возлюбленной», или (возможно, это наиболее яркий пример) в наивном заявлении Арнауда де Мервейля о том, что каждая частица его сердца принадлежит. Всевышнему и Аделаиде де Безьер. Именно эту темную и мятежную сторону «domnei», религии, подавляемой пышностью и богатством страстного служения, затрагивает Никола, повествуя о Деметрии.
Никола де Кан, посвятивший свою жизнь служению Изабелле Бургундской, везде писал о «domnei» (например, в «Короле Амори») в таких выражениях, которые здесь уместно привести. Вельзевул, как вы помните, потерпел неудачу в попытке заманить в ловушку короля Амори и с отвращением ретировался. «Да порази чума «domnei»!» – рычит в гневе дьявол. А потом продолжает: «Поединок завершен, и я могу говорить совершенно откровенно. Клянусь, что мужчина, трезво смотрящий на вещи, видит, что женщина такое же существо, как и он, и что она тоже подвержена старению. Но когда глупец начинает, путаясь в словах, размышлять о мире, опьяненный обожанием некой безупречной женщины – некоего чудовища, которого, как подсказывает разум, не существует на свете, – он становится неуправляем, как любой другой маньяк. Потому что этот идиот жаждет от жизни настолько возвышенного, что не может даже мельком увидеть самоё жизнь. Настолько увлечен невероятными мечтами, что забывает о пороке. Он ненавидит врожденные и вполне естественные склонности к трусости, непристойности и самообману. Он, короче, неподвластен ни мне, ни любому разумному человеку. И, следовательно, он зачастую вообще не слышит моего шепота. Может быть, другие скажут тебе, почему такая вопиющая глупость должна являться вершиной здравого смысла, но лично я признаюсь в невежестве». «Эта глупость, как ты называешь это состояние и как всегда будут называть его все адовы силы, напоминает одновременно загадку и разгадку, последнее слово Вселенной», – отвечает король…
Никола всем сердцем разделял это убеждение. Мы не можем во всем согласиться с ним, но наше сомнение не делает нас счастливее.
«История провансальской литературы», с. 550.
Дж. Б. К.
Музыка с той стороны Луны (еще одна комедия женопочитания)
Оцени губы тех,
кто восстает против меня,
и их затеи против меня,
Узри, как они встают и садятся:
ведь я их музыка.
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Текст данного издания в основном базируется на поэме Никола де Кана «Мадок и Эттарра», опубликованной впервые в Париже в 1898 году П. Вервилем, который также написал к ней предисловие Однако во внимание были приняты и поправки Фр. Роке, опубликованные в «Исследованиях по романской филологии» после того, как в Ватикане был обнаружен англо-норманнский манускрипт этого романа, а также и два фрагмента более старого Геттингенского манускрипта, напечатанные на следующий год в этом же журнале.
Можно вспомнить, что Эттарра была самой младшей дочерью дона Мануэля, она родилась вскоре после кончины отца. Сказание уже мимоходом останавливалось на обстоятельствах ее похищения Можи д'Эгремоном, единственным законным сыном Донандра Эврского, и последовавших за этим длительных войнах. Затем в 1275 году Эттарра вышла замуж за Гирона де Рока, который позднее стал преемником своего брата Этьена и принцем де Гатинэ. Но ее замужняя жизнь продолжалась недолго.
Второе похищение Эттарры Саргатанетом Бюльг датирует 1287 годом. Это соблазнение, конечно же, было аллегоризировано. Но я отсылаю вас к Вервилю (с. 229—238) для обсуждения теории о том, что Эттарра символизирует весну, какое-то время поглощенную холодом и мраком, а затем освобождаемую солнцем из-под власти зимы.
Меня же сказание об Эттарре вполне удовлетворяет и без этих метеорологических аллегорий.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О МАДОКЕ В ЮНОСТИ
ГЛАВА I Цитата из Книги Бытия
Для желающих я собираюсь рассказать историю про Мадока и часть истории про Эттарру. Это прискорбно знакомая история. Возможно, все началось с Ламеха из Книги Бытия, который первым из уважаемых граждан сказал: «Я убил отрока в рану мне!» И поэты рассказывают нам, что с тех пор множество поэтов, доживших до седин, повторяли это мрачное высказывание, хотя, вероятно, и не всегда соучастницам убийств и спутницам в семейной жизни.
Более того, это прискорбное повествование не имеет конца. Нет здесь и конкретных предсказаний того, что следующее тысячелетие избавит рассказ от этого недостатка, потому что история про Эттарру не кончается смертью телесной оболочки, в которую была заключена ее душа. В конце концов, это прискорбная, но правдивая история.
ГЛАВА II Четыре мнения о поэте
Этот самый Мадок был самым младшим и подающим наименьшие надежды поэтом при просвещенном дворе Нетана, короля Марра и Кетта. И когда наступала очередь Мадока взять в руки бронзовую арфу, которую он носил в сумке из кожи выдры, и сыграть на пиру, у гостей пропадал всякий аппетит. И любящий искусство король, нервно теребя свою длинную седую бороду, говорил: «А для чего еще здесь этот юнец?»
Признанные знатоки утверждали, что песни Мадока пусты и им недостает мужественности, на что жены и возлюбленные этих знатоков лишь отвечали, что юноша весьма недурен собой. Так глупые женщины подтверждали неодобрение знатоков.
Но самым странным было то, что, тогда как поэтов поддерживает чувство собственного достоинства, юному Мадоку его песни совсем не казались чудесными. Они резали ухо Мадока отсутствием мелодии, которую ему никак не удавалось поймать. И все его песни казались ему пародиями на некую волшебную, неземную музыку, отрывки которой он слышал когда-то давным-давно и почти забыл. Полностью же простые смертные ее услышать не могли.
ГЛАВА III Женщина, подобная дымке
Одним майским вечером, когда полная янтарная луна встала за ивами на востоке, юный Мадок, соблюдая старинные обычаи, умылся ключевой водой. Затем он сел у источника с бутылкой разбавленного вина и двумя бутербродами с сыром. И тут к нему подошла, похожая в сумраке на белую дымку, некая женщина.
– Приветствую тебя, моя подруга, – сказал Мадок.
Приглушенно рассмеявшись, она ответила:
– Я не твоя подруга.
– В любом случае, мир тебе! – сказал он. Она же на это ответила:
– Зато для меня, бедный Мадок, не будет более мира, поскольку я явилась к тебе, проделав долгий путь, с той стороны Луны.
И затем женщина поступила очень странно: она приложила руки к своей юной груди, и на ладонях оказалось ее алое сердце, и на струнах души она сыграла некую музыку.
В сумраках ее музыка звучала волнующе и странно. А потом вдруг наступила тишина и женщина исчезла. Мадок потом не мог вспомнить ни мелодию целиком, ни хотя бы одну каденцию, но он не мог и выбросить эту музыку из головы. Более того, его охватили одиночество и тоска по чему-то, чего он не мог назвать.
ГЛАВА IV Что посоветовала мудрость
Тогда Мадок отправился к темной, увитой плющом, башне Ионафана Мудрого. И этот худой и добрый человек применил все свое искусство. Он сжег в высокой жаровне камфару и серу, белую камедь, ладан и соль, он вызвал повелителей молний, вулканов и звездного света, и он прочитал молитву саламандр.
И Ионафан вздохнул и сочувственно взглянул на Мадока поверх очков:
– Женщина, тревожащая тебя – бледная ведьма Эттарра, которой три богини Судьбы (ученые люди называют их Норнами) предписали жить с Саргатанетом, Владыкой Пустыни с Той Стороны Луны, до тех пор пока не пройдет 725 лет ее отравляющего душу музицирования.
– Как поэт может избегнуть чар этой ведьмы и этого волшебника? – спросил Мадок.
Ионафан ответил:
– Поэт беззащитен против их злобы, потому что их оружием является песня, которая сама по себе есть всепожирающий огонь. Однако как один клин вышибает другой, так и один огонь уничтожает другой, и можно что-нибудь предпринять против этой парочки с помощью вот этого.
И худой и добрый Ионафан дал юному Мадоку очень большое перо, выпавшее из черного крыла Люцифера, Отца Всей Лжи.
ГЛАВА V Награда патриоту
Этим пером Мадок начал записывать свои песни, прежде чем их исполнить. И перо создавало неслыханные еще песни. Теперь знатоки высказали одобрение: – Песни полны чувства, что, к прискорбию, так редко встретишь в наши дни всеобщего упадка.
Король Нетан захлопал в ладоши, громко рассмеялся и подарил Мадоку борзую, белый камзол, украшенный зеленой вышивкой, и семь сундуков золотых монет.
Впоследствии у Мадока не было недостатка в наградах, и каждую неделю он менял прекрасных женщин. На всех королевских пирах он пел очередную песню о завидных традициях и сплоченности народа Нетана и о том, насколько презренными кажутся все нации по сравнению с ним. И все хлопали в ладоши, приветствуя правдивость его слов.
Но однажды Мадок отложил в сторону свою арфу, отстранил от себя влюбленную в него графиню и вышел из увешанного щитами зала короля Нетана. Все гости аплодировали ему. Но сквозь крики одобрения он услышал, будто исполняемую на волынке, музыку, высмеивавшую его патриотические притязания, и Мадок понял, что отечество, которое он воспевал, всего лишь незначительный прыщик на широком лице мира и что его история, как и история любого другого народа, только эпизод в истории Земли.
ГЛАВА VI Очень древние игры
Итак, Мадок оставил просвещенный двор Нетана, где наивысшие патриотические чувства были подавлены музыкой, которую творила некая бледная и вредная колдунья в Пустыне с Той Стороны Луны. Он направился на юг, на плодородные равнины Марны.
На зеленом поле, под цветущей яблоней молодая женщина играла в шахматы с человеком в маске. Его лица не было видно, но на серой руке, передвинувшей ладью, было четыре когтя, и она напоминала лапу грифа. Женщина была одета во все голубое, русые волосы обхватывал серебряный обруч, украшенный бирюзой, а на руках были серебряные браслеты.
При виде Мадока женщина поднялась, улыбнулась и сладкоголосо прокричала магическое слово Юга «Берит!» Существо в маске исчезло, а за яблонью мелькнула серая тень убегающего волка.
Прекрасная девушка рассказала юному Мадоку, что она правит этой страной и зовут ее Айнат, а он сказал ей, что он бродячий менестрель. Айнат призналась, что мало понимает в музыке, но она знает, что ей нравится, а среди всего прочего ей особенно понравился облик Мадока.
ГЛАВА VII Пути ко гробу
Да и Мадоку понравился облик Айнат. Нельзя было найти изъяна в ее облике. Она настолько была уверена в собственном совершенстве, что не утаивала от него и малой толики своих прелестей, и она пожелала, чтобы его познания не ограничились одним созерцанием.
Ее щедрость и любовь принудили Мадока не обращать внимания на союз царицы со Староверцами, когда понемногу он начал понимать, что представляет собой противник Айнат в маске и во что играет Айнат. Между тем, с Мадоком она играла по-другому: игры происходили из ночи в ночь внутри резного, искусно разукрашенного саркофага, в котором, когда придет время, Айнат будет предана темной, плодородной земле Марны. И эта предусмотрительная царица намеревалась превратить свой гроб в гостеприимный дом и полюбить его благодаря бесчисленным забавам и любовным утехам, так что (когда придет время) она войдет в этот дом без страха и без всяких неблагоприятных мыслей.
И теперь Мадок помогал Айнат в осуществлении этого поэтичного и мудрого плана, чтобы гроб тот оставался всегда желанным для нее.
ГЛАВА VIII Награда великому оптимисту
А также для царицы Айнат и пастухов, которые служили ей, юный Мадок сочинял полные благородных мыслей песни. Песни, которые он пел на зеленых равнинах страны Марны, были вызваны не уважением к патриотическим чувствам местных жителей, а оптимизмом – общечеловеческим, всеохватывающим чувством.
– Прекрасен этот мир, – пел Мадок, – с любовью созданный для человека. Давайте восхвалим великолепие этого мира и – не обязательно сегодня утром, но, может, завтра днем – начнем совершать добрые дела в этом наилучшем из миров!
Добрые пастухи, сидевшие в обнимку с пастушками, говорили:
– Этот Мадок – царь поэтов, дорогая, ибо он заставляет увидеть, что, в конце концов, этот мир – прекрасное и милое место.
А Мадок с испугом смотрел на их самодовольные лица, которые под венками из боярышника казались ему такими же глупыми, как и морды их овец. Но на лице Мадока самодовольства не было. Потому что пока он сочинял эту приятную музыку, в сердце у него звучала другая, словно исполняемая на волынке, музыка. И она насмехалась над здоровым оптимизмом, который звучал в его песнях и которого не было в иссушенном сердце Мадока, и звала без устали к предначертанной ему судьбе.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ МАДОК В МИРЕ СЕМ
ГЛАВА IX «Храбрейшие – они и нежнейшие»
Мадок покинул страну пастухов и гостеприимный гроб царицы Айнат, где его оставил оптимизм. И отправился он на запад, в горную страну, которой правил император Пандрас. Там он повстречал впечатляющий отряд лучников и копьеносцев, на щитах которых был изображен красный лев. Пред ними в красных доспехах на чалом жеребце ехал сам император. Все они направлялись на войну против страны Етион, что являлось у них ежегодным обычаем.
– Наши древние традиции и наша национальная гордость, – заявлял император, – должны быть сохранены, но тем не менее война в этом году доставляет нам довольно большие неудобства.
И тогда Мадок спел новейшую песню, которую написал своим черным пером. Он очень трогательно пел о том, как много молодых людей будет убито в грядущей войне и какое горе принесет война их матерям.
Копьеносцы и лучники прослезились, и сам император слегка закашлялся.
– У меня есть мать. – сказал один из воинов.
– А у меня нет, – ответил другой, – но она у меня была, так что суть не меняется.
Все согласились, что суть песни превосходна, затрубили отступление, и грядущая война была отложена.
ГЛАВА X Расцвет благотворительности
И еще много других песен спел Мадок для воинственного народа императора Пандраса. Он сочинял изящные волнующие оды о человеколюбии, а также простые песни вроде тех, что поют хором за работой.
Воины обратились от военных походов к строительству школ, больниц, санаториев и храмов для всех своих трех национальных богов. За работой воины распевали песни, которые сочинил Мадок, и песни эти придавали им новые силы. Благодаря песням Мадока все активнее развивались филантропические начинания.
– Стройте, – пел Мадок, – для блага тех, кто придет вслед за вами! Создавайте для них прекрасный и светлый мир! Стройте, как и подобает детям великого Строителя!
Но в то же время он слышал и другую музыку. Он видел, как глупы эти мускулистые, потные люди, которые усиленно работали ради благополучия поколений, возможно вовсе не заслуживающих этого; ради людей, которые ничего не сделали, которые и не ведали о чувстве долга. Песни, привносившие благожелательность и силу в жизнь других людей, казались Мадоку весьма глупыми: он вновь слышал, будто исполняемую на волынке, музыку Эттарры.
ГЛАВА XI Успокоительная музыка
Так случалось с Мадоком во многих царствах, где он побывал со своими благородными песнями, написанными черным пером. Он распевал песни перед многими знаменитостями этого мира. Он пел для Эсриопского султана под пурпурным навесом, расшитым серебряными полумесяцами, для Папы Римского в белом мраморном без какой бы то ни было мебели зале, для Старого Горца в полночь возле костра в сосновом бору. И повсюду люди всех сословий восхищались песнями Мадока.
Где бы ни пел Мадок, даже в воровских притонах или тюремных камерах, его успокоительная музыка пробуждала великодушие в сердцах слушателей. Их переполняли альтруизм и все добродетели разом. Они начали любить своих ближних. Они ликовали из-за того, что они любимые дети и шедевры того, кто являлся их племенным божеством во Вселенной, созданной специально для них.
И Мадок завидовал благим мыслям, которые он пробуждал в людях, но которые сам не разделял. Потому что всегда, как только его музыка достигала небывалой мощи, сразу же он слышал, будто исполняемую на волынке, музыку, которая была полна сомнений и неудовлетворенности.
ГЛАВА XII Загадка всех творцов
Однако казалось, никто не слышал той будто исполняемой на волынке, музыки! Никто не хотел слышать музыку, сомнения и неудовлетворенность которой вызывали лишь острую боль. Вместо нее все стремились слушать подслащенную, напыщенную музыку, которой торговал Мадок и которая, как наркотик, позволяла слушателям самоутверждаться в настоящем и придавала уверенности в отношении будущего.
Они слушали и удовлетворенно ухмылялись, будь то короли или архиепископы, бароны или пахари, которые уже были ходячими скелетами с ухмыляющимися черепами, покрытыми тонкой оболочкой плоти. Они усмехались, в то время как у ног каждого лежала неизбежная мрачная тень, которая все время напоминала о той тьме, что вскоре их поглотит, И однако каждый слушал приятную музыку, которой торговал Мадок, и сердце каждого, созданное из красной пыли, на краткий миг поднявшейся над лугами и канавами, было наполнено ликованием.
Мадок тревожился, когда слышал восторженные отзывы о своих песнях, которые он писал черным пером, и Мадока тревожило, что ни одна из замечательных песен, сочиненных им, не могла заглушить, будто исполняемую на волынке, музыку Эттарры.
ГЛАВА XIII Пути к ящерице
И тогда он пришел к Прекрасногрудой Майе, повелительнице Среды. В то мгновение перед ней стоял янтарный сосуд, отделанный по окружности зелеными каменьями. Внутри него виднелась блестящая ящерица с выпуклыми красными глазками, которые двигались и сверкали, пока она нашептывала Майе о том, что грядет.
Когда появился Мадок, вещунья отстранила свою хладнокровную советчицу и пошла навстречу юному Мадоку с заискивающим выражением на гордом и угрюмом лице. Он нашел ее весьма привлекательной, но ничего об этом не сказал.
Перед ее горящим взором Мадок опустил глаза долу. И поэтому он увидел, как ящерица превратилась в крохотного серебристого поросенка. Затем поросенок превратился в маленькую лошадь, та – в овцу, та – в быка, и преобразования эти напоминали видоизменения облаков. Но Мадок и по этому поводу ничего не сказал.
Он лишь сказал:
– Покажи мне путь, о мудрейшая, который привел бы меня к победе над проклятой ведьмой Эттаррой, опустошающей мою жизнь, не позволяющей великодушию взрасти в моем иссушенном сердце и превращающей в издевательство те замечательные песни, которые я пишу пером из крыла Отца Всей Лжи!
ГЛАВА XIV Как могут изменяться поэты
Майя привела его в одно тихое место, называющееся Помим-Кросс, где на прекрасных лугах паслись всевозможные домашние животные. Овцы, ослы, свиньи, быки и лошади вольготно гуляли в этом тихом краю. У них не было никаких забот и никаких желаний, кроме желания поесть и поспать. Вещунья сказала:
– С помощью известной мне магии, бедный Мадок, ты станешь одним из них, и, будто исполняемая на волынке, музыка Эттарры больше не будет тебя тревожить.
– Они когда-то были людьми? – спросил он. Прекрасногрудая Майя успокаивающе ответила:
– Да, все эти кроткие и полезные твари когда-то были поэтами, встревоженными, как и ты сейчас, и всех их я спасла от музыки, созданной в Пустыне с Той стороны Луны, как вскоре спасу и тебя.
Мадок воскликнул:
– Я прошу не о спасении, я прошу о мщении!
– В мщении нет ни покоя, ни мудрости. Но они есть на Помим-Кроссе, – сказала она.
– Тем не менее я предпочитаю, чтобы ты рассказала, как мне добраться до проклятой ведьмы и положить конец ее музыке да и ей самой, – ответил Мадок.
Угрюмая вещунья, приблизившись к нему, сказала:
– Об этом я никогда тебе не расскажу, поскольку ты мне очень нравишься.
ГЛАВА XV Лечение здравомыслия
Затем Мадок спел несколько песен, написанных пером из крыла Отца Всей Лжи. Он пел о том, как много хорошего даже в худшем из нас, и о том, что в каждом человеческом сердце есть бесценная искра Божия и ее надо заботливо оберегать и лелеять. Упитанные животные, которые когда-то были поэтами, при этом разом встали на задние ноги и, неуклюже пошатываясь, запели:
– Давайте все же будем достойны наследия, от которого мы отреклись! Давайте покинем эти мерзкие луга, где есть лишь спокойствие и обжорство, давайте разрушим мировой покой вместе с его здравомыслием и безжалостной моралью!
Они топтались и пританцовывали вокруг Мадока, который продолжал увлеченно петь, но одновременно думал о том, какими глупыми созданиями кажутся эти заляпанные навозом и неистово чего-то домогающиеся животные.
Но Майя увидела, что ее репутация Мудрейшей находится под угрозой, поскольку взбунтовались все ее перевоплощенные мужья. Она поспешно показала Мадоку дорогу в Пустыню с Той Стороны Луны. Он перестал петь, и домашние животные с удовлетворением вернулись на свои луга к ленивому безразличию и сытому покою, а Мадок отправился навстречу предначертанной ему судьбе.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МАДОК НА ЛУНЕ
ГЛАВА XVI Пути к Луне
Мадок неукоснительно исполнил все, что приказала сделать Прекрасногрудая Майя, пользуясь мечом, раздвоенным на конце прутиком, чашей и пятиконечным талисманом. И тогда появился зверь, похожий на льва, но покрытый перьями и раз в восемь больше, голова же и крылья были точно такие, как у бойцового петуха. На груди этого гиппогрифа росли красные перья, спина была темно-синяя, а крылья – белые.
Таков был многокрасочный скакун, на котором Мадок отправился вперед по незнакомому и страшному пути. Ему досаждали воздушные духи. Мадока долго преследовала Лилит – ужасная и восхитительная Невеста Змея, потому что он ей очень понравился. Несмотря ни на что, он достиг бледных туманов и голого пустынного пространства с той стороны Луны. Эттарра творила свою музыку, и серое пространство колебалось в такт мелодии. Она казалась сердцебиением Вселенной, и ветры, носящиеся между звездами, под стать ей были полны сомнения и неудовлетворенности.
– Повернись ко мне лицом, ведьма, и умри! – воскликнул в ярости Мадок и, обнажив меч, двинулся к Эттарре.
Она прервала свою, будто исполняемую на волынке, музыку и поднялась, и тут он впервые увидел лицо Эттарры. И тогда Мадок понял, что вовсе не чувство ненависти привело его к ней.
ГЛАВА XVII Дальнейшие происшествия на Луне
Он оторвал губы от ее губ и увидел, как изменилась пустыня. Она превратилась в райский уголок. Кругом цвели лилии, и множество роз белело в чистом и нежном сиянии рассвета. Повсюду прыгали белые кролики. Вместо музыки, полной сомнения и неудовлетворенности, слышалось воркование голубков, призывающих своих возлюбленных.
– Это дивное чудо сотворила любовь, – заметила Эттарра без капли сожаления.
– Любовь принесла сюда красоту. И любовь к тому же освободит тебя от всех уз, кроме моих объятий, – ответил Мадок.
Эттарра же на это сказала:
– Ты мне нравишься. Твои объятия сильны и нежны. Но не будет у меня свободы, пока не пройдет 725 лет, посвященных созданию залунной музыки. Нельзя изменить ни слова в приговоре Норн, в котором сказано, что 725 лет будет держать меня здесь Саргатанет, который является и моим учителем, и моим тюремщиком.
Мадок ревниво ответил:
– Чему еще научил тебя Саргатанет, кроме музыки? О нет, не говори, а лучше проведи меня к Саргатанету!
ГЛАВА ХVIII Возвышенные трюизмы
И затем, рука об руку, они пошли к Саргатанету, восседавшему под вьющейся лозой, на которой зрели ягоды пяти разных цветов. Перед порфирным троном Саргатанета преклоняли колени пять повелителей – повелители Голода, Огня, Холода, Тьмы и Безумия. Каждому из них он предписывал, какие неприятности нужно создать на этой неделе.
И когда его слуги отправились на Землю исполнять волю Саргатанета и будоражить человеческие сердца сомнениями и неудовлетворенностью, мрачный владыка Пустыни с Той Стороны Луны наклонился к Мадоку и Эттарре, едва достававшим ему до щиколотки. Он выслушал сливавшиеся в одно угрозы Мадока и его мольбы. И Саргатанет лишь пожал своими крылатыми плечами.
– Нельзя избежать предписанного Норнами, – сказал Саргатанет. – Норны давным-давно написали историю этой Земли, они также составили «Содержание» и «Выходные данные». Ни человек, ни бог не могут изменить ни слова в том, что написали седые Норны. Я бы не огорчился, если бы была найдена возможность что-то изменить, поскольку Эттарра является моей ученицей и моей узницей уже почти 600 лет. А ты знаешь, что представляют собой женщины.
ГЛАВА XIX Запятая любви
Затем Саргатанет поднял их на 592 фута, каждый из которых равнялся году, на каменный стол, что стоял рядом с троном. На столе лежала открытая книга, страницы которой были так же огромны, как и сам Саргатанет. То была книга, в которой Норны записали историю этого мира; все, что случилось на Земле, и все, что когда-либо случится.
– Как я сказал, – продолжил Саргатанет, – мы знаем, что представляют собой женщины. Прирожденными писательницами их никак не назовешь. Их воображение нуждается в редактировании, и они склонны к чрезмерной романтичности. Так что эти седовласые дамы написали огромное количество всякой чуши и уделили чересчур много места любовным интрижкам. Несмотря на это, ни человек, ни какой-либо бог не могут изменить ни слова в этой чепухе, написанной Норнами, так как и люди, и боги являются героями этой книги. И таким образом, эти женщины, как всегда, оставили за собой последнее слово. А тут ясно записано, что Мадок будет находиться у меня, пока не пройдет 725 лет, посвященных созданию залунной музыки.
Мадок прошел по гигантской странице, чтобы убедиться в правдивости сказанного.
– Нет нужды, – сказал Мадок, – изменять какой-либо мир.
С этими словами он вытащил перо, которое выпало из крыла Отца Всей Лжи, наклонился и поставил жирную запятую после цифры «семь».
ГЛАВА XX Перо цензора
А затем, конечно же, – поскольку все, что написано в Книге Норн, должно исполниться, и цифры, в частности, не могут врать, – затем последовало изменение всего, что произошло после семи лет и трех месяцев заточения Эттарры. То есть все случившееся и все существовавшее на Земле в течение последних 584 лет в мгновение ока устремилось в воронку забвения, погоняемое неким всадником на бледном коне. Все это стало неправдой. Двадцать поколений людей, со всеми их неистовствами на суше и на море, пронеслись наподобие песчаной бури перед взором Мадока, и каждая песчинка была, возможно, деревушкой или даже густонаселенным, знаменитым городом, созданным трудом и мучениями этих двадцати шумящих и галдящих, суетящихся и беспокоящихся, а в то же время обуреваемых возвышенными мечтами поколений людей.
Труды и почести, глупость и веру, безрассудство и счастье многих миллионов росчерком пера отправил Мадок в небытие, поскольку все, что написано в Книге Норн, должно исполниться. А сейчас там было написано, что заточение Эттарры должно длиться семь лет и три месяца.
ГЛАВА XXI Возле Иггдрасиля
Никто прежде не пытался обмануть таким образом Норн, и они в своем тихом укрытии возле Иггдрасиля сразу же заметили необычайное исправление ими написанного.
Верданци сняла очки, в которых она читала, чтобы посмотреть, что же там происходит.
– А, понятно! – спокойно сообщила она. – Какой-то поэт изменяет историю Земли.
Сестры оторвались от своей писанины, и они втроем улыбнулись. Урд заметила:
– Ох, уж эти поэты! Они всегда пытаются избежать предначертанной им судьбы.
А Скульд задумчиво посмотрела на сестер-литераторш и сказала:
– Временами их просто жалко. Урд громко рассмеялась:
– Дорогая, ты им сочувствуешь, потому что мы сами – поэты, создавшие Эпос Земли. Лично я допускаю, что мы совершили ошибку, включив в Книгу литераторов. Однако эта ошибка встречается у большинства начинающих. А эта история, как помните, была одной из наших первых попыток. Все неопытные девушки обязательно пишут разную чушь. Вот почему мы включили в эту книгу и поэтов, и смерть, и Бога, и здравый смысл, и, я с трудом вспоминаю, какие еще невероятные вещи.
Они опять рассмеялись, подумав о том, какими они были незрелыми в самом начале своей карьеры.
ГЛАВА XXII Зов Земли
Поэт смел до наглости. Ни в одной мифологии нет и упоминания о боге, который бы так смело обманул Норн, – на удивление спокойно сказал Саргатанет. Мадок тщеславно ответил: – У меня всемогущее перо, ему подвластны как музыка, так и арифметика.
Саргатанет некоторое время смотрел своими бледно-голубыми глазами на двух этих карликов, стоявших возле его золотых сандалий, а затем сказал:
– Твое перо создает такую музыку, которая нравится всем людям. Но оно не может создать мою музыку. Твое перо не может ни написать мою музыку, ни зачеркнуть ее, потому что она предназначена для того, чтобы вечно тревожить поэтов, независимо от их смелости и наглости.
Но пока Саргатанет говорил такой вздор, Мадок уже посадил Эттарру на спину своего гиппогрифа.
– Я покончил со всеми тревогами! – воскликнул Мадок, и сверкающее чудовище, расправив огромные белые крылья, устремилось к Земле.
Гиппогриф несся, словно комета, поскольку его сердце помнило, что на Земле, среди дорогих ему холмов Нёнхира, находилось теплое, свитое из кедров гнездо, в котором сидела на агатовых яйцах его любимая супруга. И на спине чудовища несся с легким сердцем навстречу предначертанной ему судьбе ликующий Мадок.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ О МАДОКЕ ВО ВРЕМЯ ОНО
ГЛАВА XXIII Возвращение старых времен
Вот так Мадок со своей Эттаррой вернулись на омоложенную пером Мадока Землю и зажили во время оно, то есть почти на 600 лет раньше того времени, когда жил Мадок.
В то время Нёнхиром, где гиппогриф оставил своих ездоков, правили норманны. Это были простодушные и суровые люди, чрезвычайно отважные и целомудренные, и их любимыми занятиями были пьянство, пиратский разбой и слагание песен.
Они радушно приняли певца, который мог слагать такие возвышенные и успокоительные песни, выходившие из-под пера, выпавшего из крыла Отца Всей Лжи. Мадок пел им об их значительности, о красоте их повседневной жизни и о том, какое великолепное будущее ожидает благородную нордическую расу. Он сочинял для них музыку, которая очаровывает человека во все времена и способствует его великодушию. Под их крылатыми шлемами румяные лица морских разбойников светились альтруизмом, добротой и всеми добродетелями разом. Они радушно принимали Мадока в своих деревнях и усадьбах и хорошо ему платили. Так что Мадок построил себе в Нёнхире прекрасный деревянный чертог. Они с Эттаррой занялись хозяйством, и ничто не тревожило Мадока, а объятия любимой жены были ему так же дороги, как когда-то объятия Айнат.
ГЛАВА XXIV Отдых конфетчика
И ничто не тревожило Мадока. Долгие годы он слагал песни, и эти песни делали его слушателей лучше и счастливее. Разница заключалась в том, что у Мадока появилась некая вера в свои оптимистичные. и возвышенные песни, и многое, о чем в них говорилось, казалось ему порой почти верным.
Со всеми удобствами благоденствовал Мадок в своем просторном чертоге, со вкусом расписанном драконами и окруженном высоким дубовым частоколом. Самые завзятые воры и убийцы восхищались песнями Мадока и щедро его награждали. Друиды увенчали Мадока священной омелой как короля скальдов. Слава о Мадоке разнеслась по всему миру. И знаменитого поэта ничто не тревожило, и не было у него другой работы, кроме сочинения незамысловатой оптимистичной музыки.
Эттарра же больше музыку не сочиняла.
– Откуда же взялась, моя дорогая, твоя мелодия? – беззаботно спрашивал ее прославленный муж.
– Как я могу помнить музыку, которую узнаю спустя столетия? И кроме того, есть у меня время для таких пустяков, когда на руках куча детей?
ГЛАВА XXV Что же его не тревожило
Мадок знал, что его ничто не тревожит. На самом деле, не могут же тревожить смутные мысли о том, что Айнат, и Майя, и ужасная мертвенно-бледная царица Лилит, похоже, то и дело посматривают на такого уважаемого поэта, каким является теперь Мадок, с насмешкой и жалостью.
Да нельзя назвать тревогой и то, что иногда в таких обманчивых грезах, склонных посещать праздных людей, когда на холмах и в долинах Нёнхира ненадолго остановилась хрупкая весна, женщины, которых отталкивал прежде юный Мадок из-за чар, наложенных на него, казались теперь более дорогими и желанными, чем считал какой-то юнец.
Да не тревожит и то, – а если присмотреться, это доставляет настоящее блаженство, – что любимая женщина беспрестанно занята приготовлением пищи и стиркой белья, отчитыванием слуг и воспитанием детей и что лицо ее приобрело выражение вечного недовольства, являющегося отличительной чертой любой рачительной хозяйки.
Нет, Мадок знал, что его ничто не тревожит.
ГЛАВА ХХVI Слишком много не значит достаточно
Между тем они, сполна познавшие любовь, жили в довольстве и роскоши. Возле их ревматических ног ползали светловолосые внуки. И были у них большие земельные угодья, и рабы, выполнявшие любые их распоряжения, и множество скота. Жизнь подарила им все то хорошее, что только была в силах подарить. И у Мадока не было никаких желаний, кроме желания вкусно поесть и хорошо поспать. И он стал тощим, седым и напыщенным, а также необычайно брюзгливым.
Он редко сочинял новые песни. Но знаменитые пираты и морские разбойники распевали его старые песни во всех концах мира, считая, что хилое молодое поколение неспособно создать подобное. И всех повсюду очаровывали их звуки. Даже еще неоперившиеся поэты допускали, что если б старик ввел в свои песни несколько откровенных любовных сцен, они вполне могли бы удовлетворить и вкусы современных слушателей.
Короче, Мадока ничто не заботило, ничто не интересовало и, совершенно ясно, ничто не удовлетворяло. Он все чаще и чаще просил Эттарру вспомнить, хотя бы для забавы, пару нот той залунной Музыки, которая когда-то сделала его бездомным и несчастным. А жена все с большим и большим раздражением отвечала, что у нее не хватает терпения выслушивать его вздор.
ГЛАВА XXVII Заслуживающий уважения поступок
Затем его жена умерла. Умерла она спокойно, окруженная врачами и священниками и простившись со всей своей многочисленной семьей. И Мадок ощутил одиночество, когда увидел ее белое сморщенное старое тело, – такое чужое в отстраненном равнодушии смерти, – лежащее на аккуратной постели, освещенной четырьмя факелами. Одиночество окатило его, как ушат холодной воды.
Он в замешательстве вспоминал об их великой любви в насыщенной событиями, пламенной юности, об их приключениях из-за музыки не от мира сего, о последующих долгих годах, сквозь которые они прошли рука об руку, деля все плохое и хорошее, и о том, что вот эти бледные уста уж больше никогда не откроются, чтобы его побранить. И тогда он достал черное перо, которым писал всемирно известные песни, и вложил его в холодную руку Эттарры.
– Будьте все свидетелями, – сказал Мадок, – что этот день лишил меня цели в жизни и всякой радости. Будьте все свидетелями, что я больше не напишу ни одной песни, потому что я потерял судью своего сердца и самого придирчивого и откровенного критика своего искусства. И пусть моя слава умрет вместе с моим счастьем! Пусть то, что принесло их, сгорит в одном пламени!
ГЛАВА XXVIII «Воистину не умирает»
Затем Мадок стоял возле погребального костра, окруженный детьми и внуками. Хор одетых в белое мальчиков из храма местной богини плодородия исполнял (как многие считали, это была самая замечательная из множества великолепных песен Мадока) великий гимн поэта человеческому бессмертию и блистательному славному будущему человека, который является единственным и любимым наследником Небес.
Четыре рабыни были убиты и возложены на костер вместе с туалетным столиком Эттарры, всеми ее кухонными принадлежностями и орудиями рукоделия. А потом к костру поднесли факел. Ссохшееся старое тело Эттарры сгорело в этом костре, а вместе с ним и черное перо, которое она держала в руке.
Очень трогательно пели одетые в белое мальчики. Они сладкозвучно и восторженно перечисляли те радости, которые встретятся этой благородной и добродетельной женщине после смерти. Но старый Мадок, слышал другую музыку, не слышанную все те годы, пока Эттарра, лишенная возможности заниматься лунным колдовством, была здесь на Земле его женой. И несчастный вдовец своим громким смехом заставил всех содрогнуться. Он опять слышал, будто исполняемую на волынке, залунную музыку, которой (неважно, слышали ее или нет) было предначертано волновать его, обманувшего Норн.
ГЛАВА XXIX Пути к удовлетворенности
Так пришел конец его процветанию и почестям, и таким было начало его счастья. Старый Мадок побрел как бродяга, слегка безумный и слегка оборванный, но бесконечно довольный тем, что может идти вслед за музыкой, которую никто, кроме него, не слышал.
Та, что творила эту музыку, всегда чуть опережала его и была недостижима. Она держала перед собой то, с помощью чего создавала свою музыку: не громоздкую бронзовую арфу, а сердце с натянутыми струнами души. Он не видел ее лица, но он и не гадал, была ли это Эттарра или его вел кто-то другой. Достаточно было того, что Мадок шел вслед за музыкой, сотканной из сомнений и неудовлетворенности, которая звучала более правдиво, чем любая другая.
Он следовал за милым его сердцу звучанием по переулкам и улицам, на которых домоседы распевали знаменитые песни Мадока. И повсюду улыбающийся старый бродяга видел, что его сограждане живут более счастливо и более достойно благодаря удовлетворенности и возвышенной вере, которыми полны его песни.
Он радовался, что сочинил эти песни, так сердечно воспринимаемые невинными людьми, которые не обманывали Норн. В то же– время – для него, обхитрившего Седых Сестер, – всегда чуть впереди звучала иная музыка, не совсем от мира сего, и вслед за ней вечно брел одинокий бродяга, как и было предначертано ему судьбой.
ГЛАВА XXX Лучший из возможных постскриптумов
Такова история про Мадока, и это лишь малая толика истории про Эттарру. Поскольку рассказ о ней не кончается (как заявляют ученые мужи) смертью телесной оболочки, в которую на какое-то время была заключена душа Эттарры. Да и музыка ее не кончается (как говорят зеленые отроки) независимо от того, что чьи-то уши оглохли от времени и послушания.
Думаю, что нам, старшим, едва ли нужно это оспаривать, поскольку есть много других вопросов, которые можно обсуждать долгими вечерами. И если вдруг послышится залунная музыка, она прозвучит тише, чем треск поленьев в камине, и ее заглушат пронзительные голоса наших детей. Мы, будучи людьми, можем иногда задумчиво прислушаться к забытому звучанию, слышимому лишь юными. Однако мы, ничего не слыша, не чувствуем себя полностью несчастными. К тому же общепринятые приличия не позволяют нарушить покой семейного круга (вспомните этого невоспитанного крикуна Ламеха) воплем:
– Я убил отрока в рану мне!
Белые одежды (Комедия святости)
И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его – истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком.[1]Сим начинается история про того блаженного Одо, коий, как утренняя звезда, зажигающая свет во чреве черного облака, сиял ясными лучами жизни своей и своего учения; коий ослепительным блеском своим вывел на свет тех, что дрожали в тени серого облака смерти; и коий, словно радуга, берущая свет у белых облаков, показал при праведной своей кончине печать завета Господина своего.
ГЛАВА I Об образе его жизни в миру
Блаженный Одо почти год пас овец Гийома Диаса, прежде чем отправился в Друидский лес, называвшийся Бовьон, вместе с Пьером да Шароном. И вот там, под вязом, юный Одо, на котором пока еще лежала пыль мирских странствий, впервые увидел Хозяина Леса.
Этот темный Господин дал каждому юноше волчью шкуру и горшочек с мазью, которой человек мог натирать свое тело всякий раз, когда он уставал в нем обитать. Господин к тому же, после того как они заключили с ним завет и отдали дань обеим его ипостасям, окрестил юношей в соответствии со странной формулой его очень старой религии новыми тайными именами: Красавчик и Щеголь.
Впоследствии эта парочка рыскала по округе в волчьем обличье до одной ссоры, которые к несчастью так быстро разгораются в играх подростков, когда два паренька повздорили как-то ночью из-за одной прекрасной телки. Они подрались, и после того как Одо полакомился двумя деликатесами вместо одного, он охотился уже в одиночку.
Одо обнаружил, что наилучшим временем для его развеселой охоты оказывался час или полчаса до рассвета, когда луна была на ущербе. Избранный им повелитель находился тогда в расцвете сил; а те выскочки, боги и архангелы, которые совершенно необоснованно взгромоздились на Небеса, казались недостаточно могучими, чтобы связываться с бунтовщиками. Именно тогда Одо обычно рычал свою хвалу доброй власти, делавшей его способным без каких-либо помех получить самые глубокие и будоражащие душу наслаждения. Он ликовал, будучи рьяным староверцем, вот так свидетельствуя о силе и проницательности своего темного Господина.
В то время Одо ле Нуар напоминал зверя пониже и покрепче настоящего волка, с небольшой головой, заостренным хвостом и рыжеватой шерстью. Он забавлялся овцами, собаками и всевозможным рогатым скотом, но самой вкусной добычей он считал молодых особей своего собственного вида.
Не возникло ни малейших сплетен, но появились серьезные жалобы по поводу дикого зверя, разоряющего Валь-Ардрей, поскольку при обычной для юных лет пылкости Черный Одо не знал меры в своих развлечениях. Плохо откормленные домашние животные и дети низшего сословия им высоко не ценились. Но в Нунтеле Одо пробрался в дом властителя Басардры и, не найдя там никого, кроме последнего ребенка графини, лежащего в позолоченной колыбели с голубым пологом, схватил и утащил этого действительно важного отпрыска дворянского рода, а вскоре за садовой оградой все, что осталось от детского тельца, было случайно обнаружено самим властителем Басардры. Ни один дворянин не посмотрел бы с удовольствием на такие вольности по отношению к его потомству.
Впрочем, Одо устроил еще больший скандал, когда близ Лизуарта он напал на дочку кастеляна – очаровательнейшую и восхитительнейшую пухленькую молодую даму одиннадцати лет от роду. Ее он также вскоре лишил жизни. Но все поняли, что тут произошло нечто особенное, поскольку ее красно-белое платьице было разорвано не так, как разодрали бы его волки, выношенные в теле волчицы.
Таким образом, некоторое время Одо ле Нуар[2] жил очень весело и не повиновался никому, кроме Хозяина Леса. Этот любящий его господин посвятил юношу в тайны старых и странных развлечений и пообещал ему еще более прекрасное будущее.
– Я замысливаю для тебя великие дела, мой Красавчик, – заверял Господин Черного Одо, – и я стремлюсь к тому, чтобы ты как можно дальше зашел в службе, на которую мы с тобой поступили.
ГЛАВА II О его горячей любви и начале мученичества
В те годы Эттарра жила в облике крестьянской девушки у подножия холмов за Пердигоном, и она нашла пристанище в крытой соломой хижине одной престарелой четы, относившейся к ней как к собственному ребенку. Они любили свою приемную дочь.
Они и не подозревали, что она спустилась из серых пространств с Той Стороны Луны, чтобы жить на земле во множестве тел в качестве вечной жертвы и предмета вечной насмешки всех людей. А по сути, в это время об Эттарре вообще не ходило никаких пересуд, кроме того, что тут и там люди говорили, что она является одной из Амнеранских ведьм.
К тому же в это время, в апреле месяце, какой-то волк посреди бела дня напал на крестьянку Эттарру, когда та пасла корову и четырех овец, но она отважно отбилась от него упавшей с дуба веткой. После чего крепкий рыжеватый зверь отступил назад и сел, как пес, на задние лапы в отдалении, на безопасном расстоянии шагов в двенадцать, и долго-предолго смотрел на нее. Высоко на дереве щебетал дрозд. Через некоторое время волк зевнул и поплелся прочь, а Эттарра за ужином заметила, в качестве любопытного обстоятельства, что у этого зверя заостренный хвост.
И сразу после этого случая молодой Одо ле Нуар начал ухаживать за крестьянской девушкой Эттаррой, которую некоторые считали ведьмой, и теперь юноша повсюду следовал за ней.
– Очаровательнейшая Эттарра! Любовь моего сердца! – говорил он. – Нигде ни у кого нет такого белого и нежного тела, как у тебя.
– Но ты, Черный Одо, на мой вкус чересчур темен.
– Я говорил не о вкусах, Эттарра. Однако твои ясные глаза настолько ослепляют меня, что я не ведаю, что говорю.
– Твои же глаза, Черный Одо, слишком странны и глубоко посажены. Когда же ты смотришь на меня прямо в лицо, хотя это и редко случается, то твои дикие глаза, Черный Одо, становятся жуткими из-за красного огня, что пылает в них.
– Не смейся надо мной, Эттарра. Давай мы вдвоем станем друзьями – так, как дружат звери!
– И мне бы не хотелось, чтобы ты смеялся, черный зверь, ибо зубы у тебя длинные и острые, и мне их вид отвратителен.
– Однако мое желание тебя очень велико…
– А что до этого мне, если ты не нравишься мне гораздо сильнее?
– Давай тогда на прощание пожмем друг другу руки!
– Да добровольно я не коснусь и твоей руки, Черный Одо, ибо ногти у тебя до неприятного длинные и похожи на волчьи когти.
На этом прекрасная девушка убежала от него через луг, поросший первоцветом. И Эттарра больше не слушала его уговоров, но юноша Одо продолжал страстно желать эту крестьянскую девушку.
Однако самые глубокие желания у него были обращены к Хозяину Леса, и к наслаждениям, которые они делили в Друидском лесу, и к еще большим удовольствиям, что должны были вскоре вознаградить бесстрашие Одо.
– Я замысливаю для тебя великие дела, мой Красавчик, – заверял его Господин, – и я стремлюсь к тому, чтобы ты как можно дольше зашел в службе, на которую мы с тобой поступили.
Даже после того как Одо схватили и он был заточен в темницу в Лизуарте, Господин по ночам приходил к нему, ласкал его и повторял свои заверения.
ГЛАВА III О его признании и обращении
И вот Черный Одо предстал перед Яирским судом. Он во всем признался и отклонился от истины лишь в заявлении, что именно злая ведьма Эттарра совратила его, невинного юношу, впервые привела его к Хозяину Леса, три раза натерла его с ног до головы мазью и помогла влезть в волчью шкуру. Но Эттарра после того как ее тоже доставили в Яир, ни в чем не призналась. Ее упрямство печальным образом искушало терпение судей. Однако эти ревностные люди не отчаивались, а лишь вновь и вновь истязали ее белую плоть в долгих и мучительных попытках добиться от неуступчивой девчонки откровенности и раскаяния, пока она не умерла.
Клещи, молотки и раскаленное железо не понадобились при перекрестном допросе Одо, так как он легко признавался во всем, на что намекали его одетые в черные мантии судьи, даже когда они назидательно заходили за границы чисто судейского воображения. Одо, по прозвищу Ле Нуар, был посему найден виновным по всем пунктам обвинения.
Председательствовавший в суде миссир Ги де Пи-занж вынес приговор. Пока он говорил, его длинные пальцы лениво поигрывали большой серебряной чернильницей, стоявшей перед ним. Он указал, что благодаря научному прогрессу в этот просвещенный век, чьи преимущества разделяют все люди, стало известно, что ликантропия, или та форма мании, при которой пациент воображает себя волком и поступает как таковой, является галлюцинацией или, как думают некоторые ученые, некой формой хронического заболевания и, в любом случае, нри здравом рассмотрении оказывается скорее болезнью, нежели преступлением.
Следовательно, вышеупомянутый Одр, по прозвищу Ле Нуар, должен, принимая в расчет его молодость и разлагающее влияние, оказанное на него его покойной любовницей, и принимая в расчет его недостаточное образование, быть послан в Эгремонский монастырь для заточения и воспитания и для восстановления его душевного и духовного здоровья (сказал мессир де Пизанж). Наука, господа (сказал мессир де Пизанж), наука в эти прогрессивные времена наконец показала нам, как по-умному обращаться с безумцами.
После этой весьма тонкой эпиграммы, которая, как чувствовалось, в основном являлась комплиментом присяжным, его коллеги заморгали и закивали, словно сидящие в ряд благодушные совы. Но осужденный юноша немножко всплакнул. Расставание молодости со своими иллюзиями довольно болезненно, а Одо увидел, что приговор произносит не кто иной, как его дорогой Хозяин Леса, облаченный в длинную черную мантию и кудрявый белый парик, и Одо понял, что его Господин – лишь глава шабаша Амнеранских ведьм, простой кудесник, а не то великолепное существо, которым считал его Одо.
И вот так блаженный Одо, на котором пока еще лежала пыль мирских странствий, потерял веру в Дьявола как в своего надежного союзника.
И долгое время Черный Одо не был счастлив в монастыре Святого Хоприга, а ползал по земле на четвереньках, питаясь только той пищей, которую мог найти на земле. Он по-прежнему жаждал наслаждений своей ночной охоты; он особенно много думал о маленьких девочках; и он постоянно надеялся, что пройдет немного времени и у него появится возможность вкусить желанной пищи. Однако вскоре мало-помалу он смирился с тихой и спокойной жизнью в монастыре.
Он стал интересоваться религиозными вопросами. В частности, он получал наслаждение от рассказов праведных монахов о страданиях святых на этой порочной земле: о том, как этих блаженных свежевали, поджаривали и разрубали на котлеты из-за их веры. Слушая эти истории, он сидел ошеломленный, крепко скрестив ноги. И время от времени вытирал с губ слюну.
К тому же юный Одо неустанно обсуждал со своими религиозными наставниками изобретательные пытки, которым вечно должны подвергаться проклятые. А о более интимных подробностях этих пыток он начинал говорить с таким жаром, который поистине казался искренним и весьма благочестивым. Короче, благодать вошла к нему в сердце, и он пожелал стать официально признанным слугой Всевышнего, и орден Святого Хопига с радостью получил эту весьма знаменитую головешку прямо из костра.
Порой, даже после того как новообращенный занялся своей святой деятельностью, Хозяин Леса приходил к нему по ночам, говоря как и в старину:
– Я замысливаю для тебя великие дела, Красавчик.
Но брат Одо не мог забыть, как подло этот Ги де Пизанж обманул его и как темный, ослабевший кудесник воспользовался верой неискушенного юноши, притворившись всемогущим Владыкой Зла. Поэтому Одо крестился, повторял священные латинские слова и, таким образом, вынуждал своего искусителя удалиться.
А старый Ги де Пизанж приговаривал:
– Ты обращаешься со мной очень жестоко, мой Красавчик. Тем не менее я тебя люблю, и из-за завета, заключенного между нами, моя любовь пока будет тебя хранить.
ГЛАВА IV О показанных ему снизошедших святых
Святость в брате Одо возрастала с каждым днем. Он был наделен свыше религиозной страстью, которой Дьявол так ловко подражает с помощью эпилепсии, при которой пренебрежение плотью у одухотворенного юного фанатика заставляло его кусать и царапать тела тех, кто помогал ему подняться с мостовой или тротуара, где он корчился в благоговейном экстазе. Он также был одарен желчностью и расстройством пищеварения, необходимыми для поддержания всевластного рвения, направленного против любых компромиссов с изнеженными и льстивыми воплощениями зла. Речь его постоянно прерывала легкая икота, когда его желудок освобождался от газов. Ему были видения, в которых его наставляло и учило множество святых.
Они приходили, чтобы утвердить блаженного в его вере, показывая, от пристрастия к каким грехам и извращениям они спаслись верой и теперь являются святыми в возвышеннейших дворах Рая.
– Таков был мой обычный, порочный образ жизни в Аугсбурге[3], – сказала Святая Евтропия[4], – прежде чем меня посетила небесная благодать.
– Вот так я заплатила перевозчику, – сказала Святая Мария Египетская[5].
– Такова была отвратительная и противоестественная ласка, которой я, в частности, была обязана за свою славу, – сказала Святая Маргарита Кортонская[6], – прежде чем обратилась к покаянию и истинной вере.
Все эти гнусности благословенные святые искусно повторяли вместе с братом Одо, чтобы он мог сам ощутить, от каких ядовито-сладких и восхитительных мерзостей еще можно спасти и перенести к вечному блаженству большинство отвратительных грешников с помощью истинной веры.
Лучше было придерживаться этих стезей при нежном содействии Небес благоденствию Их любимого и рьяного слуги. Поскольку через некоторое время пользующаяся дурной репутацией ведьма Эттарра, которую когда-то горячо желал брат Одо и которую не выкинуло из головы общение со святыми, теперь тоже пришла к нему из своего небесного местожительства, которое он обеспечил этой прекрасной девушке, став причиной ее мученичества. Она явилась, чтобы уверить его в своей благодарности всеми возможными способами. После этого из ночи в ночь никого на свете не было счастливее брата Одо.
А днем он повсюду проповедовал то, чему научили его благородные дамы, сошедшие с Небес. Он, в частности, осуждал наглость науки – «так называемой науки», как впечатляюще и едко описывал он те западни, которые зло расставляет человеческому самомнению, – и он учил, что только посредством веры и божественного избрания возможно спасение. Он стал гордостью монастыря. Облаченный в белые одеяния аббат заявил, что из его духовных детей Одо больше всех достоин стать его преемником.
ГЛАВА V О дальнейшем возрастании в нем благодати
Да и когда Одо был помазан в качестве аббата Святого Гоприга и надел белую шерстяную рясу, соответствующую этому сану, он не прекратил порицать грешников с неослабевающей суровостью. Однако новый аббат был настолько милосерден, что ни одному преступнику не дозволялось умереть во грехе, если этого можно было избежать. Вместо этого аббат усердно развивал наиболее конкретные доводы Церкви, чтобы дать каждому отступнику и каждому еретику достаточно времени, чтобы покаяться и, таким образом, уклониться от страданий в мире ином.
Аббат сам смиренно приносил свой табурет в камеру пыток и с любовью наблюдал за муками – дабы смерть раньше времени не прекратила их, хотя бы на один миг, – ради настоящего и вечного блаженства его заблудшего брата. Зачастую ему в камеру пыток приносили и ужин, и он ел прямо там, среди далеко не аппетитных зрелищ, криков и запахов, чтобы ни одной минуты не пренебрегать своими духовными обязанностями.
Да и нельзя было нигде сыскать более красноречивого проповедника. Проповеди аббата повсюду обращали людей на путь истинный, поскольку слушавшие его были так напуганы, что ни один из них не рисковал отправиться в Ад, о котором этот изможденный святой рассказывал им с такой любовью. Он говорил о вечном, неугасимом пламени Ада, об адских смоле, сере, жабах и гадюках, об ужасной горячей мгле Ада и о гигантских серых червях, постоянно питающихся поджариваемыми проклятыми, и он весьма эффектно подражал хриплому вою пропащих душ, когда черти подкидывают их навозными вилами. Он говорил обо всем этом с обстоятельностью человека, получающего наслаждение от обескураживания маловерных. Он устрашал свою аудиторию достоверным изображением всех неприятных подробностей, которое представляет собой сущность реализма.
Пыл аббата был так велик, что, пока он призывал грешников к покаянию и говорил о крови Агнца[7], в глазах у него вспыхивали красные огоньки, а с губ капала белая пена. Таким образом, он до того запугивал наиболее впечатлительных людей, что у тех начинались судороги; некоторые умирали от страха; но выжившие трепеща вползали в поддерживающие их объятия Святой Церкви, которая одна могла спасти от этих мучений.
Кроме всего прочего аббат трудился над тем, чтобы убедить старого Ги де Пизанжа в порочности его занятий. Аббат трудился весьма усердно из-за той смутной тоски и той жуткой нежности, которые возникали в сердце у облаченного в белую рясу аббата, когда бы он ни лицезрел этого темного, ослабевшего кудесника. Хотя из-за осмотрительности этого волшебника трудился он безуспешно, и блаженный Одо не мог достоверно доказать, что этот нечестивец является одним из староверцев, до тех пор пока посредством небесной благодати почти отчаявшемуся аббату не было ниспослано откровение по этому вопросу.
– Добро вполне может исходить из того, что разум смертных находит заслуживающим порицания, – однажды ночью заявила Эттарра после того, как аббат Святого Гоприга достиг состояния сравнительного уныния. – Ибо избранные Всевышним служат Его воле и истинному благоденствию своих собратьев всевозможными орудиями. Лишь подумай, мой дорогой, являющийся одним из этих особо привилегированных людей, к примеру, о том, как своим лжесвидетельством ты обеспечил мое вознесение к райским наслаждениям! Поступком, который многие из непосвященных могут расценить как презренный, ты добыл для меня, мой милый Одо, такие радости, которые я оставляю с большой неохотой даже для того, чтобы прийти к тебе.
Тут аббат начал бить и рвать ее белую нежную плоть (но только руками), пока Эттарра не призналась, что нигде в Раю она не нашла больших радостей, чем те, которые они делят вместе. Даже при этом Одо смог постичь силу доводов небесной дамы.
Поэтому за пару часов до рассвета он помчался в Ранек к дому старого Ги де Пизанжа в облике крепкого рыжеватого зверя. Луна была к нему весьма благосклонна. Блаженный Одо сперва не повстречал ни одного живого существа, кроме настоящего волка – девственной самки, которая приняла его за себе подобного. Вскоре они уже мчались вместе, а благодарный аббат рычал хвалу добрым Небесам, которые сделали его способным снова и снова, причем без впадения в грех, получать самые глубокие и будоражащие душу наслаждения. Он ликовал, будучи рьяным церковником, вот так свидетельствуя о силе и проницательности Всевышнего, который смог настолько ловко перехитрить Своих жалких противников.
ГЛАВА VI О его непрерывном усердии и продолжающейся деятельности
На следующий день на заднем дворике дома мессира де Пизанжа был найден изуродованный ребенок, и улик против дворянина с точки зрения здравого смысла оказалось достаточно. Старого Ги де Пизанжа целый месяц пытали, а на суде председательствовал облаченный в белую рясу аббат Святого Гоприга, и обвиняемого должным образом приговорили к сожжению на костре как вервольфа[8].
Мессир де Пизанж не жаловался. Он знал, что истекает предписанный ему девятый год до принесения его в жертву и что он сам вызвал это неизбежное жертвоприношение посредством иллюзий, которые насылал для забавы спящего Одо.
– Я тщеславно замысливал для тебя великие дела, мой Красавчик, – сказал этот темный, ослабевший кудесник на рыночной площади, когда его обкладывали хворостом. – Но мои искусные уловки уходят вместе со мной. Больше не будет святых, наставляющих и хранящих тебя, которые являлись всего-навсего моими ставленницами. Никогда больше, пока ты носишь смертную плоть, не будет никаких красивых посланниц, мой Красавчик, раз Князь сего мира принимает свою жертву.
Аббат встревожился, поскольку теперь понял, что все утешения его набожности являлись подлогом, совершенным этим настойчивым кудесником. Рука аббата поднялась к подбородку, Одо слегка икнул, но ничего не сказал.
Затем темный старый Ги де Пизанж, смотря снизу вверх на аббата Одо своим терпеливым и обожающим взглядом карих глаз, с любовью сказал:
– Однако будет еще одна посланница. Между тем ты, мой милый, в своей белой рясе – которая когда-то являлась всего лишь нарядом безмозглой овцы, – не нуждаешься в моей помощи, чтобы зайти дальше, чем смог я, в службе, на которую мы с тобой поступили.
И вновь жуткие, предательские и отвратительные тоска и нежность встревожили облаченного в белую рясу аббата, когда он посмотрел – теперь уже в последний раз – на связанного по рукам и ногам негодяя, который однажды так подло обманул его, притворившись всемогущим Владыкой Зла, и который теперь еще раз обманул его своими посланницами в образе святых. Но при занятиях любым делом следует соблюдать внешние приличия.
Поэтому записано, что сидящий в белой рясе на престоле аббат лишь слегка нахмурился при этом непристойном вмешательстве в ход впечатляющей церемонии, стать свидетелями которой собралось множество верующих. После чего он дал сигнал факельщикам. Он откинулся на спинку своего высокого мягкого кресла, сделанного из резного тика и обитого йеменской кожей, что стояло под сине-желтым балдахином, необходимость в котором вызвал этот неприятно жаркий день. И Одо задумчиво наблюдал за кончиной всего, что он когда-то любил.
ГЛАВА VII О целительной силе его проповедей
В последствии аббат обнаружил, что мессир де Пизанж, в самом деле, сказал правду. Аббату Одо теперь было отказано в утешениях религии. Видения из Рая больше его не посещали. Никакие святые его больше не наставляли и не учили. Он понял, что все они являлись подложными иллюзиями, полученными благодаря искусности темного, ослабевшего Ги де Пизанжа. Аббат осознал, что он не бессмертен; что не существует ни Рая, ни Ада; что не будет никакой ревизии человеческих поступков; и что вместо этого он движется навстречу своему полному уничтожению. Желчность покинула его, пищеварение стало превосходным – теперь, когда он постиг, что люди погибают точно так же, как и звери, и узнал, что любая религия есть лишь великолепное успокаивающее средство, поддерживающее людей в их неуютном и утомительном пребывании на земле.
Он вполне мог постичь цену человеческой веры, потеряв ее. Он повсюду говорил о любви Бога ко всем людям и о том, как величественных Небес можно достичь покаянием и отказом от дурных привычек. Пытки он теперь применял крайне редко, поскольку в аббате Одо пробудилась страсть избранного человека искусства, с уважением относящегося к художественным средствам… Он размышлял, что дорогой Ги был своего рода художником, ограниченным своими собственными рамками, с чрезвычайно небольшой публикой, состоявшей из одного человека. Да, Ги творил в целом делающих ему честь святых, совершенных в мельчайших подробностях… Но искусство уважающего себя священника по своему диапазону более общо и более благородно, ибо оно повсюду обращается к скудоумным и несчастным.
Сотни людей, раскрыв рты, слушали его, а аббат Одо по своей воле управлял умами паствы, пробуждая радость и веру не фокусами черной магии, да уже и не каленым железом и клещами, но словами любви. Так как он знал, что Ада не существует, он едва ли мог теперь стращать людей адскими муками. Вместо этого он обратился от реализма к романтизму и блестяще сымпровизировал непостижимую любовь и вечные блаженства Рая, являющегося наследием человечества и ждущего каждого причастника по ту сторону могилы. Речи его вызывали у аудитории наилучшие и наичистейшие чувства.
Слава его росла. Его пригласили ко двору. Король был весьма тронут прекрасными проповедями аббата Одо и поклялся животом Святого Гриса, что в животе у этого блаженного пылает священный огонь. Придворные дамы не одобрили эту метафору, но все они нашли аббата Святого Гоприга обворожительным.
– Особенно… – сказала одна из них.
– Но, дорогая, – воскликнула ее подруга, – неужели ты имеешь в виду, что у тебя тоже?..
– Я имею в виду только то, что, если у других мужчин…
– Однако только священник, моя милая, может дать тебе отпущение грехов…
– …Как средство для улучшения пищеварения…
– Ах, но так душевно обедать с уважаемым аббатом».
Вот так болтали эти дамы под своими отделанными горностаем капорами, своими треугольными ажурными шляпами и своими блестящими чепцами из серебряной сеточки. Так что аббат Святого Гоприга добился огромного успеха в обществе, он получил право доступа во все дома, и повсюду он обращал всех на путь истинный.
Ему исповедовалась сама королева. А после того как он тщательно вникнул в личную жизнь этой дочери дома Медичи[9] и с любовью отпустил ей грехи, она немедленно позаботилась о том, чтобы этот чудесный человек стал епископом Вальнерским.
ГЛАВА VIII О добрых порывах его благочестия
В епископском дворце блаженный Одо жил непринужденно и очень счастливо. Он не скучал по обществу своих святых, поскольку множество его прихожан нуждалось в утешении и успокоении епископа, который, в конце концов, начал стареть. И потеря собственной веры оказала ему большую помощь, поскольку теперь его занятием являлось пробуждение веры во множестве других людей. Потеря эта способствовала неизменному наличию такта при отсутствии какого-либо догматизма. Потеря эта избавила его навсегда от тех сомнений, что порой так тревожат духовенство.
Одо Вальнерский жил как художник. В этом он находил удовлетворение. И он удостоверивался в этом, творя удовлетворение в жизни окружающих.
По всему Нэмузену и Пьемонтэ он нежно любил свою паству, как отец любит своих детей, а художник – свою публику. Он заботился об их телесных удобствах, а превыше всего он заботился об их вере. Поскольку он знал, что положение низших слоев общества требует лишь этой веры, которая является (ибо бытие крестьянина или лавочника далеко от благородства) одновременно наркотиком и благотворным ограничителем.
Альтруист поэтому отговаривал бы склонных ко злу от противозаконных грехов, таких как убийство, прелюбодеяние, воровство и поджог, которые, даже практикуемые в международном масштабе под непосредственным покровительством Церкви, всегда стремятся нарушить общественный покой. Альтруист пытался бы, насколько позволяет ему дар воображения, поддержать трусливых и слабоумных, престарелых, больных и нищих, да и всех остальных людей, которые невыносимо страдали от неизбежного действия законов жизни и государственного устройства, надлежащего рода романтическими историями о грядущем наследии, которое сделает временные неудобства этих бедняг в настоящем – с любой по-настоящему здравой точки зрения – совершенно несущественными.
Поэтому сейчас для стареющего епископа, когда бы он ни надевал свою митру и белую льняную мантию, соответствующие его сану, являлось привилегией и наслаждением проповедовать своей пастве веру, надежду и милосердие. Эти напуганные, глупые и, однако же, привлекательные люди так ужасно нуждались – в своей безрадостной, поломанной жизни – в вездесущей угрозе и в вездесущем обещании истинной религиозной веры ради сохранения у них здравого рассудка или, коли на то пошло, сохранения их в качестве приемлемых членов общества. Так что епископ с любовью служил своему искусству, он получал удовольствие от занятий своим искусством: ибо он видел, что религиозная вера крайне необходима для благополучия низших сословий и даже способна сослужить хорошую службу и утешить состарившееся мелкопоместное дворянство.
Но одолевали его и некоторые сожаления. Он то и дело сожалел о пропащей ведьме Эттарре, поскольку ни одна христианка, которую он когда-либо знал, – как бы благодетельна и усердна она ни была – не достигала обаяния этой маленькой красавицы, когда она притворялась святой, сошедшей с Небес. Он сожалел к тому же, что его больше не забавляет охота в волчьей шкуре. Изредка она, конечно же, была необходима – когда не срабатывали доброта, любовь, обычная тарелка супа и одеяло, – для того, чтобы избавиться от какого-нибудь очевидного проявления неверия или порока, подававшего действительно опасный пример всей епархии. Но подобные грешники почти всегда оказывались настолько малокровны и тщедушны, что епископу искренне не нравилась эта сторона его церковной деятельности. Короче, он достаточно охотно признавал, что Одо Вальнерский пересек верхнюю границу средних лет и что основное наслаждение он должен впредь получать от своего искусства.
А иногда он к тому же сожалел, что его искусство не может распространяться и на другие мифологии. Он восхищался отчетливо выписанными характерами богов, которых нашел в этих мифах. Превосходные темы для художника-творца содержались в возвышенных деяниях Зевса – Тучегонителя и Громовержца[10], которого также называли Мускарий, потому что он прогнал мух. А зоологические любовные интриги Зевса давали отличную возможность для обращения к богатой, смелой, романтической манере живописи с использованием приятных телесных оттенков… Затем героическая концепция Рагнарёка[11] этой последней, самой великой из всех битв между добром и злом – в которой скандинавские боги, а вместе с ними вся воинственная скандинавская церковь должны были бесстрашно погибнуть за правое дело, – которая являлась представлением, ужасавшим епископа, словно звук трубы.
Однако это представление являлось весьма опасным: нельзя вот так показывать религию в конце невыгодного предприятия, приведшего к космическому банкротству. И, конечно же, небольшая паства Рагнарёка никогда бы в жизни не оценила его героического трагизма. Нет, нужно подбадривать средний класс перспективами чрезвычайно блистательных наград, которыми будут вечно одаривать в золотом граде, в который входишь через ворота-жемчужины. И все же, просто как тема, Рагнарёк очень нравился епископу…
Затем, как очаровательно было бы один раз – или, вероятно, постоянно в течение всего угнетающего периода поста – изложить с проповеднической кафедры восхитительно причудливые содержания африканской или полинезийской мифологий. Так редко выпадал случай на этом ограниченном и чересчур степенном возвышении развить свой скромный юмористический дар или талант безыскусственности, в чем преуспевали только величайшие мастера. Да, в целом было бы очень приятно рассказать своей небольшой пастве о боге-змее Айдо-Хведо[12]; и о несчастьях Барин-Мутума[13] после того, как это полусущество позаимствовало тело для брачных целей; и о чудесах, которые Мауи-выношенный-в-волосах-Таранги[14] творил с помощью челюсти своей прабабки…
Но, в конце концов, художник должен работать с доступным материалом. В конце концов, христианство показывает множество превосходных моментов и радующих глаз усовершенствований, добавленных после кончины его основателя. А в качестве темы – когда с этой темой обращаются умело и касаются ее с истинным вдохновением, – оно прекрасно служило, чтобы содержать в достаточной удовлетворенности его небольшую паству, заверяя людей в грядущих наградах за благоразумное и добропорядочное поведение. Ни один альтруист не мог бы требовать большего… Епископ улыбался и возвращался к своей христианской проповеди.
Одним словом, в этих краях никогда не существовало более уважаемого и всеми любимого епископа. И весь Нэмузен и Пьемонтэ понесли большую утрату, когда однажды утром блаженный Одо покинул свой епископский дворец, причем он так никогда и не узнал, каким образом.
ГЛАВА IX О предписанной ему награде
По сути дела, Одо проснулся в некотором потрясении, очутившись в совершенно неклерикальной обстановке. Находиться вне дома в одной ночной рубашке было уже достаточно неловко. Но казалось лишенным всякого смысла то, что он в таком неофициальном одеянии должен плыть в серой пустоте на некоем необычайно толстом, мягком, аляповатой расцветки ковре и делить его с этой молодой женщиной.
– Не можете ли вы, сударыня, случаем осведомить меня, – спросил он с учтивостью, которой по праву славился, – каков смысл этого упражнения в остроумии? И кто имел наглость поместить меня сюда?
– Не волнуйся, бедный Одо, – ответила та. – Просто ты, мой милый, наконец тоже умер.
И тут епископ ее узнал. Тут он понял, что каким-то образом некое похвальное чародейство вновь возвратило его к девушке Эттарре. И на данный момент ничто другое, по-видимому, не имело значения. Ибо эта восхитительная девушка казалась прекраснее и даже более желанной, чем когда-либо. Она была рядом с ним. Старость и все успокаивающие недостатки старости чудесным образом покинули праведного епископа Вальнерского.
Однако в следующий миг приятное выражение на его лице чуть изменилось, и он стал выглядеть уже не всецело счастливым, сидя на маленьком золотисто-розоватом облаке.
– Тем не менее, – сказал епископ, – тем не менее ситуация совершенно нелогична. Я припоминаю, что прошлой ночью мучился – чуть-чуть – несварением желудка. Завзятый артист никогда со мной не согласится. И в моем возрасте, конечно… Да-да, для меня умереть во сне достаточно естественно. Однако продолжение жизни моего сознания… каким бы удивительным и приятным ни оказался его итог, – добавил он с галантным поклоном в направлении обаятельного предмета любви своей юности, – является весьма печальным ударом по науке. Оно опрокидывает любую философию, и оно раздражает здравый смысл.
– Мой дорогой, – ответила Эттарра, – сейчас ты совершенно покончил с такими легкомысленными вещами, как здравый смысл, философия и наука. Но благодаря моему, исполненному любви вмешательству, откровенно должна тебе сказать, что для тебя была бы оставлена кое-какая небесная награда.
– Моя очаровательная Эттарра! Любовь моего сердца! – воскликнул епископ. – Давай не будем шутить на профессиональные темы, даже теперь, поскольку здесь, похоже, все совершенно шиворот-навыворот, и я не расположен к остротам и каверзным репликам. Вместо этого расскажи мне, куда несет нас это облако!
Девушка теперь посмотрела на него весьма насмешливо, однако очень нежно.
– Ты спрашиваешь – прекрасно поставленным голосом, который так долго отличал твои публичные выступления, – куда несет нас это облако? В общем, нужно провести различие. Я села на него, чтобы всего-навсего прокатиться. Но ты, мой дорогой, обреченный Одо, в данное время находишься на пути в Рай, который ты прежде обещал своим прихожанам. А по сути, ты уже можешь увидеть – вон там – аметистовые основания стен Святого Города[15].
– Моему удивлению нет предела! – сказал Одо Вальнерский. – Господи, но это же ужасно!
А Эттарра ответила достаточно трезво:
– Как ты обнаружишь, мой милый, с тобой согласятся весьма немногие – там, где ты найдешь вместо этого, что все твои причудливые Небеса дрожат от волнения из-за твоего прибытия. Поскольку при своем необузданном красноречии за время своей деятельности, только что подошедшей к концу, ты обратил на путь истинный множество людей. На самом деле ты заманил на стези вечного спасения – как официально сообщил в утреннем заявлении архангел Орифиил – не менее одной тысячи ста семи душ. Как следствие этого, блаженные повсюду в данный момент готовятся радушно принять дома доблестного героя Небес пением псалмов при участии полного состава небесного хора.
– Увы! – сказал блаженный Одо во второй раз. – Но это поистине ужасно!
И при этом он задумчиво поправил ночную рубашку, натянул более аккуратно на щиколотки красные фланелевые грелки для ног и на минуту впал в раздумья сбитого с толку человека. Ни один человек, обладающий его известной скромностью, не поверил бы, что сумма будет четырехзначной, но его красноречие и поток живейших образов, конечно же, иногда обращали многих людей к принятию утешающих заверений религии. Да епископ не мог обнаружить и в своих поступках чего-то заслуживающего порицания – даже сейчас.
Нет, он поступал логично. Положение низших слоев общества в том мире, который Одо Вальнерский теперь оставил позади, весьма определенно требовало именно такой веры, которая является (ибо бытие крестьянина и лавочника далеко от восхищения) одновременно наркотиком и благотворным ограничителем…
– Одним словом, ситуация приводит в недоумение, – сказал епископ вслух, – и она обладает особенностями, которые ни один священник не мог предвидеть. Однако я по-прежнему убежден, что, если бы я и лгал, в моем поведении не было бы ни единого изъяна.
Теперь очаровательная девушка, прижавшаяся к нему и настолько счастливая, будто еще раз встретиться со своим дорогим Одо вполне достаточно для ее верного сердца, не сказала ничего, пока…
Но уважаемому всеми епископу, отделенному от тела и плывущему в пустоте, а одетому лишь в ночную рубашку и красные фланелевые грелки для ног, показалось чуточку обескураживающим вот так обнаружить, что религиозные представления переходят свои законные границы и преследуют его по другую сторону могилы.
А если подумать, неразумность такого итога его долгой и почетной деятельности была не единственной тревожащей чертой. Теперь Одо Вальнерский посмотрел на приближающийся громадный причал, над которым сверкал вход в Рай. Ворота эти действительно представляли собой огромную жемчужину с отверстием, через которое можно было войти внутрь, а над ним, как сейчас разобрал епископ, было выгравировано имя «Левий»[16].
Одо Вальнерский воскресил в памяти свои библейские штудии. Ему еще больше стало не по себе, и он ткнул пальцем под покрытое нежной, как бархат, кожей ребро своей спутницы по этому маленькому золотисто-розовому облаку.
– Проснись, моя дорогая Эттарра, и расскажи, похоже ли это место на то, которое описано в Священном Писании!
Прелестная девушка послушно села.
– Точь-в-точь! – ответила Эттарра, и ее задумчивая улыбка на менее аппетитных губах показалась бы бесчувственной.
– Ах, в общем, так или иначе, но я не сомневаюсь, что Святой Город модернизировался! И шел, так сказать, в ногу с прогрессом!
– В Раю не существует ни изменчивости, ни тени непостоянства, как ты должен прекрасно знать, поскольку обычно очень любил цитировать в проповедях эти тексты.
– О, Боже мой! – сказал праведный епископ Одо в силу привычки, и благодушие сошло с его мясистого лица.
Теперь наконец его поразило самое что ни на есть искреннее раскаяние. Он подумал о своих прихожанах, о своей введенной в заблуждение пастве, обо всех порядочных, воспитанных и культурных причастниках, заманенных его излишней любовью к риторике в это страшное логово многоголовых драконов и остальных разнообразнейших чудовищ Поскольку эти нелепые звери, похоже, не являлись всего лишь плодами воображения и фигурами речи. Перед ним действительно находилась одна из двенадцати жемчужин, через которые он обещал цвету своей небольшой паствы славный вход в Рай. А Книга Откровения Святого Иоанна Богослова была, вопреки любому рациональному истолкованию, намного хуже, чем просто высокопарная невразумительность, которой приходится притворно восторгаться.
За этими сияющими стенами несчастные крестьяне и горожане, которых предало его ораторское искусство, теперь находились не под присмотром какого-нибудь благодушного епископа, а были брошены на волю несметного числа повелителей с прическами, как у женщин, и ногами, сделанными из меди, которые проводят время, трубя в трубы, и откупоривая пузырьки с разносчиками моровой язвы, и ставя восковые печати на лбы беззащитным покойникам. Его прихожане теперь являлись отвратительными сотоварищами огромной саранчи с человеческой головой, и необъезженных коней с хвостами наподобие змей, и тельцов с глазами в задней части тела. Да и впечатление от ставящих в тупик обычаев и разношерстного животного мира этого царства отнюдь не сглаживалось благоприятными климатическими условиями, потому что каждую секунду или две происходило – причем достаточно близко, насколько епископ мог вспомнить свои священные штудии, – землетрясение или необычайно сильная буря с градом; каждую секунду или две солнце чернело, или луна краснела, или же звезды сыпались вниз, как плоды с отрясаемого ветром фигового дерева; а семь громов беспрерывно вели беседы, по большей части, на весьма неделикатные темы.
И Одо Вальнерский – и он тоже, – который всецело зависел от спокойной, мирной и изысканной обстановки, вскоре будет заточен в это жуткое место не за какой-то серьезный проступок, но просто благодаря его благонамеренным попыткам сделать жизнь его небольшой паствы более упорядоченной и более приятной. А это инфернальное самоходное облако уже пришвартовывалось…
ГЛАВА X О его праведной кончине
А это инфернальное самоходное облако уже пришвартовывалось к блестящему причалу Рая. Епископ и ведьма поневоле сошли на него, так как альтернативы, по-видимому, не было. И теперь позади и ниже несчастного Одо Вальнерского простиралась лишь бесконечная серая пропасть. Под ногами находились большие сверкающие плитки, похоже, сделанные из желтоватого и голубоватого стекла, а перед ним неумолимо маячили ворота, вырезанные в гигантской жемчужине.
– Ну и ну! – сказал вслух почему-то совершенно отчаявшийся священнослужитель. – Но даже сейчас должен же быть какой-то путь бегства из этого существования, которое я обычно, не подумавши, обещал в качестве награды?
– Должен, – ответила ему Эттарра, очень гордая и счастливая, после еще одного крохотного зевка, – поскольку ничто не может противостоять любви. Но неужели ты не понимаешь? Мне разрешено тебя искушать. Конечно, на облаке не чувствуешь себя в полной безопасности. Но здесь мы стоим на твердой яшме и ляпис-лазури. И с помощью таких обольщений, которые ты, мой чудесный и страшно любимый, я верю, еще окончательно не забыл, я собираюсь предохранить тебя от всех разновидностей райских ужасов.
– Эх, разве возможно, даже в самом конце пути, для праведника уклониться от своей судьбы? Разве есть еще какое-то более подходящее место для посмертного покаяния пользовавшегося всеобщим уважением епископа?
Милая девушка сказала ему тогда, по-прежнему с тем весьма трогательным обожанием, которого, по его мнению, он был не достоин.
– Ценой лишь одного крошечного, приятного, но неблагоразумного поступка – даже сейчас, мой возлюбленный, ты можешь вернуться вместе со мной в Языческий Рай. А он совсем не похож на твое старомодное Царство Небесное, но, наоборот, является демократией, где нет недостатка в современных достижениях культуры и цивилизации.
При этом Эттарра начала говорить о своем теперешнем местопребывании в напыщенной манере всех чрезвычайно молодых поэтов. И праведный епископ Одо, глядя на нее с прежним обожанием и с незабываемым наслаждением от ее прелести, увидел в огромных, удивительно сверкающих глазах Эттарры то, что, как он был уверен, никто в этой ужасной восточной фантасмагории никогда не сможет понять с тем сочувствием, которое упорно тревожило его.
Без сомнения, Эттарра приукрасила некоторые подробности. В описательных пассажах так всегда и делают. А он отлично помнил, как маленькая красавица, когда она притворялась святой, лгала ему из ночи в ночь с елейностью заупокойной службы. Даже при этом восхитительная, обнимающая его ведьма являлась женщиной, которую Одо Вальнерский любил в своей далекой благочестивой юности, когда он верил в святых с жаром и разносторонностью, которые никогда окончательно не выкинуть из головы. А в остальном епископ мог, как он теперь чувствовал, – при всем успокаивающем обветшании старости, так чудесно возмещенном, – получив в награду сердечную верность его Эттарры, быть достаточно счастлив в этих культурных, интеллигентных, обладающих широкими взглядами кругах, которые она описала…
Оставалось лишь допустить обычную для девушек легкую неточность в высказываниях…
Таким образом, епископ начал задумчиво оценивать вероятности того, что произойдет, и тут, просто в силу привычки, перекрестился, отведя на мгновение свои темные глаза от удивительно огромных и сверкающих глаз Эттарры и посмотрев вниз; и в течение этого довольно долгого мгновения он наполовину по-отечески гладил нежную и такую прелестную ручку дорогой возлюбленной своей далекой, благочестивой и пылкой юности; а Эттарра прижималась к нему все плотнее и плотнее и восхитительно извивалась в порыве своей искренней и лестной для него страсти.
Как раз в этот момент безмятежность их воссоединения была омрачена появлением еще одного облака. Оно причалило, и с него сошел ребенок: мальчик лет семи или около того, только что умерший и пересекший в одиночку серую пустоту между Небесами и Землей. Этот маленький призрак прошел мимо них, и ребенок неуверенно, но смиренно вступил в Святой Город. Узкие плечики были слегка опущены, поскольку эти плитки из яшмы и ляпис-лазури казались маленьким босым ножкам намного холоднее, чем коричневый ковер в его детской или нежные руки матери, которую он оставил далеко отсюда.
Теперь и Одо Вальнерский поднял свой восхищенный взгляд от окрестностей своих красных фланелевых грелок для ног на огромную и ослепительную резную жемчужину.
– Знаешь, – заметил он с мягкостью, которая не была вызвана какой-то очевидной причиной, – знаешь, а я, как это говорится, умею ладить с детьми. Люди настолько льстивы, что заявляют, будто у меня есть к ним подход. Я действительно верю, что мог бы ужасно развеселить этого угрюмого паренька одной из своих самых простых речей, обычно произносимых на конфирмации, если бы мы путешествовали через эту бездну вместе. В сущности, священник, действительно одаренный и с моим богатым опытом, вероятно, смог бы развеселить так, внутри, любую душу, принимая во внимание, какова должна быть там средняя веселость…
– Несомненно, смог бы, мой чудесный, добросердечный и умный возлюбленный, – ответила Эттарра слегка нетерпеливо, если не с настоящим раздражением. – Но теперь это страшное место, мой драгоценный, является тем, о чем тебе больше нет ни малейшей нужды беспокоиться.
Однако в улыбке Одо Вальнерского теперь виднелась страсть энтузиаста. Затем, всего лишь на одно мгновение, он вновь посмотрел вниз с видом человека, сбитого с толку и колеблющегося, и вновь перекрестился, и сделал глубокий вдох, который, казалось, наполнил его неподдающейся разубеждению решимостью.
Он мягко отстранил любимую своей юности. И с мужественным выражением лица, исполненным откровенности и возвышенности, которое всегда отличало его высокопрофессиональные выступления, заговорил:
– Нет, моя милая. Нет, человек духовного сана не должен быть всецело эгоистичен, а в трудном положении достойный уважения епископ должен выбирать то, что кажется ему более благородным и надежным, нежели счастье, которое ты мне обещаешь. Я верил, что религия является лишь наркотиком и ограничителем для невзгод человека на земле. Я ошибался. Признаю это со смиренным раскаянием. А сердце у меня, Эттарра, пылает далеко не позорной страстью, открыв, что занятие, которому я посвятил все свои скромные способности, – а они именно таковы, моя милая, – должно всегда удовлетворять не просто временные, но и вечные требования моих добропорядочных собратьев. Даже после смерти, как я понимаю, у меня есть привилегия остаться духовным проводником и утешителем своей небольшой паствы…
– Но, мой дорогой, бедняги уже спаслись, и для меня все это звучит нелепо.
– Потому что твои суждения поспешны, моя крошка. Там, за этими сияющими стенами, мой народ нуждается во мне как никогда прежде. Теперь намного серьезнее, чем в смертной жизни, им требуется ощущение того, что какой-то умелый и тактичный человек является посредником между ними и до неловкого близким изобретателем их окружения. Теперь, как никогда прежде в их чисто земных невзгодах, они нуждаются в самых красноречивых заверениях, что эти неудобства тривиальны и вскоре окажутся временными. Они нуждаются – в этом антисанитарном, огнеопасном и решительно неустроенном месте, как они не нуждались в более изысканной атмосфере, которую я всегда стремился создать в своей епархии, – в поддержке целительной веры в грядущую награду за благоразумное и добропорядочное поведение. Так что пойми, моя дорогая, я не могу бесчестно бросить свою небольшую паству после того, как, в некотором смысле, предал их и поместил в данные условия. Все эти веские доводы проносятся у меня в мозгу, моя милая, и они усиливаются моим твердым убеждением, что у Эттарры, которую я помню, – и как простую крестьянку, и как блаженную святую – прежде не было раздвоенных копытец, словно – как бы это выразить? – у кроткой и весьма очаровательной газели.
Но тут Эттарра, которая в своей самой последней смертной жизни являлась прелестнейшей из Амнеранских ведьм и самой очевидной из ловушек Сатаны, слегка отодвинулась от Одо Вальнерского в необузданных печали и разочаровании.
– У тебя, Одо, – заявила она, – мелкая и подозрительная душонка, не говоря уж о лицемерной, многоречивой, жирной внешности, и она всегда была такой. И ты можешь говорить, если тебе угодно, хоть вплоть до Судного Дня, но, по-моему, креститься, когда я изо всех сил стараюсь тебя утешить, жульничество!
– Noblesse oblige[17], – ответил праведный епископ Одо с той выразительностью, которую он неизменно приберегал для замечаний, отчасти лишенных всякого смысла. Затем он медленно, но непоколебимо двинулся к воротам с именем «Левий», высеченным на нем.
Однако он посмотрел назад сквозь пелену невыплаканных, неподобающих епископу, чисто человеческих слез на страдания этой восхитительной и такой прелестной Эттарры. Ее горе из-за этого окончательного расставания стало таким страстным и безутешным, что сделало обворожительную девушку черной и покрытой чешуей и ввергло ее во внезапно вспыхнувшее разноцветное пламя. А Одо вздохнул, заметив эти ухудшения в ее внешнем виде, а также и в ее манерах, когда его потерянная любовь приняла прискорбное обличье дракона и, неистово размахивая хвостом, с криком бросилась в бездну.
После этого он снял свои красные фланелевые грелки для ног как вводящие нежелательную хроматическую ноту. Он привел в порядок свою белую ночную рубашку, чтобы она производила впечатление стихаря. И епископ Вальнерский вошел в эти блистающие, величественные ворота с надлежащим чувством собственного достоинства.
Хотя он оказался чуточку удивлен, когда чей-то нежный голос произнес:
– Добро пожаловать домой, мой Красавчик!
Черный Одо увидел, что эти совершенно неприступные ворота теперь за ним запер темный, ослабевший, но на вид довольный, старый Ги де Пизанж.
1
«И будет препоясанием чресл Его правда…» – цитата из пророка Исайи (II, 5—6).
(обратно)2
Ле Нуар (Le Noir) (фр.) – черный, ужасный, дурной и пр.
(обратно)3
Аугсбург – город в Баварии; в 1530 г. соратником Лютера Меланхтоном было составлено «Аугсбургское исповедание» – изложение основ лютеранства, которое в некоторых пунктах отступало от первоначальных взглядов Лютера ради компромисса с католицизмом; на Аугсбургском рейхстаге 1530 г. оно было отклонено как императором Карлом V, так и рейхстагом.
(обратно)4
Евтропия (Eutropia) (греч.) – (хорошая) предрасположенность.
(обратно)5
Мария Египетская – в христианских преданиях раскаявшаяся блудница, родившаяся в Александрии в V в.; заметив толпу паломников, направляющихся в Иерусалим на праздник воздвижения креста, она с нечистыми намерениями присоединилась к ним, платя корабельщикам за перевоз своим телом, и продолжала блуд в самом Иерусалиме; но там вразумленная невидимой силой, не пустившей ее в храм, она дала обет впредь жить в чистоте.
(обратно)6
Маргарита – в христианских преданиях девственница и мученица, уроженка Антиохии, дочь языческого жреца, проклявшего ее за христианскую веру; восточный владыка Олибрий предложил взять ее замуж ценой ее отречения от христианства; за ее отказ ее жестоко пытали и она умерла в 275 г.
(обратно)7
Агнец – в Апокалипсисе символ Иисуса Христа, добровольно принесшего себя в жертву.
(обратно)8
Вервольф («человек-волк») – в германской низшей мифологии человек-оборотень, становящийся волком и по ночам нападающий на людей и скот; в христианских представлениях Вервольф – слуга дьявола.
(обратно)9
Дочь дома Медичи – это либо Екатерина Медичи (1519—1589), жена французского короля Генриха II, либо Мария Медичи (1573—1642), с 1600 г. жена французского короля Генриха IV.
(обратно)10
Зевс – верховное божество греческого пантеона; «громовержцем» и «тучегонителем» его называл Гомер; Зевс похищает Европу, обернувшись быком, к Леде является лебедем, к Персефоне – змеем; своих возлюбленных, желая скрыть их от гнева своей жены Геры, он тоже превращает в животных: Ио – в корову, Каллисто – в медведицу.
(обратно)11
Рагнарёк («судьба (гибель) богов») – в скандинавской мифологии гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой богов и хтонических чудовищ, в которой погибают все ее участники.
(обратно)12
Айдо-Хведо – в мифах государства Фон (особенно в городе Вида) змея-радуга, создавшая землю и небо; горы – это ее экскременты.
(обратно)13
Барин-Мутум – в мифологии качинов мужской дух – создатель мира; до начала его деятельности существовал только океан, в котором плавала огромная рыба; на нее он насыпал землю, а женский дух отложил на землю гигантское яйцо; оно разделилось на нижнюю половину, оставшуюся на земле, и верхнюю, превратившуюся в небесный свод.
(обратно)14
Mayи – в полинезийской мифологии богатырь, культурный герой, трикстер; его мать Таранга родила сына недоношенным, запеленала в собственные волосы (отсюда его имя Мауи-тикитики) и положила в океанские волны, после чего его воспитывали морские боги; Мауи к тому же демиург, в мифах маори он воспользовался челюстью своей прародительницы и собственной кровью, чтобы выловить из океана землю.
(обратно)15
Святой Город – в Апокалипсисе новый, небесный Иерусалим, имеющий двенадцать ворот по числу колен Израиля и по числу апостолов.
(обратно)16
Левий – одно из двенадцати колен Израиля, представители которого являлись священниками (левитами).
(обратно)17
«Noblesse oblige» (фр.) – положение обязывает.
(обратно)
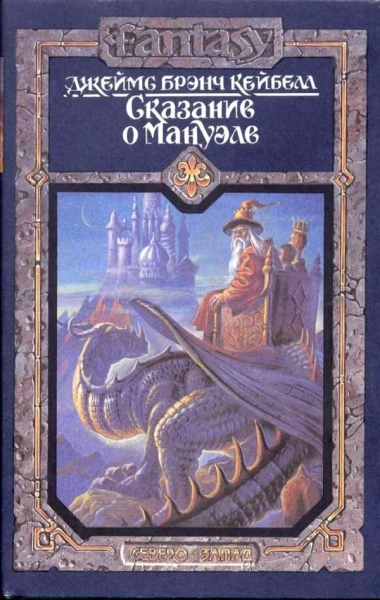




Комментарии к книге «Сказание о Мануэле. Том 2», Джеймс Брэнч Кейбелл
Всего 0 комментариев