Майра Пророк
(Mayra)
И, разгорясь душой усердной, плачу
Так сладостно, как если слепота
Из глаз моих слезами вытекала…
А.С. ПушкинI.
Межутов обвел аудиторию взглядом, – в основном для того, чтобы заглушить внутреннее неудобство. Римма Львовна представила его слушателям так вдохновенно и подробно, что заготовленная дома короткая речь была, вроде бы, уже и не нужна. Все основные этапы его творческого пути оказались изложены, и, вдобавок, красочнее, чем он сделал бы сам, а вдаваться в дальнейшие подробности ему казалось нескромным. В свои тридцать восемь лет он имел за плечами длинный список журнальных публикаций, четыре изданных поэтических сборника и небольшую книгу прозы – что-то вроде дорожных записок, вторая часть которой уже лежала в одном из уважаемых московских издательств и готовилась вскоре увидеть свет. Так что начинающим поэтам, которые собрались в большом кабинете, где регулярно проходили занятия местного литобъединения, он вполне мог казаться маститым автором, мэтром от литературы.
Изрядную часть собравшихся, как с раздражением заметил Межутов, составляли девицы от семнадцати до двадцати пяти – самый подходящий возраст для рифмования смутных эротических порывов и прочей, сопутствующей, так сказать, романтики. Впрочем, были дамы и старше, иногда намного, с печатью уже сбывшихся страстей и общего жизненного разочарования на лицах. Александр не знал, уместно ли называть женщин этого возраста девицами, даже при условии несостоявшейся личной жизни. Все они, за редким исключением, выглядели какими-то неприкаянными и настороженными, как будто так и ждали, что их в очередной раз обманут.
Мужчин здесь было меньше, и в их глазах читалось больше скепсиса, а кое у кого из молодых Межутову почудилось даже ревнивое соперничество. "Может, ты и представляешь из себя что-нибудь, – ясно говорили некоторые взгляды, – но скорее всего, тебе просто повезло. Подожди, вот скоро я издам свой сборник, и все поймут…"
Александр тайком вздохнул, в очередной раз пожалев, что не нашел в себе твердости отказаться от этой встречи. Люди, сидевшие перед ним, не вызывали у него ни тёплых чувств, ни интереса, а нужно было сейчас изобразить и то, и другое. Среди общей, пока однообразной массы лиц его взгляд выделил лишь два или три. Длинноволосый парень у окна, сидящий с намеренно скучающим видом. Бородатый человечек с аккуратной плешью и в толстом вязаном свитере, который смотрелся на нём так, будто был пожертвован кем-то более крупным и широкоплечим. Суетливая остроносая дама неопределенного возраста, время от времени то начинавшая шуршать пестрым полиэтиленовым пакетом, то сморкавшаяся в измятый платочек… Александр никого здесь не знал, кроме Риммы, и чтобы иметь время хоть как-то сориентироваться, решил начать издалека.
Он сошёл с невысокого помоста, на котором днем институтские преподаватели разыгрывали перед своими студентами совсем иные представления; остановился у первого ряда обитых пластиком столов, улыбнулся как можно дружелюбнее и сказал:
– Можно я покину этот импровизированный пьедестал?
И по тому, как в зале расслабились и заулыбались, понял, что выбрал верный тон. Даже длинноволосый парень у окна повернул голову, а по его губам под редкими темными усиками скользнула усмешка: "Ну-ка, ну-ка… И что дальше?"
– Знаете, мне бы хотелось, чтобы вы не относились ко всему, что тут было обо мне сказано, как к списку моих личных заслуг перед культурой и человечеством. Любой, кто так или иначе связан с искусством, знает, как много тут зависит от простого везения. Поэтому когда я говорю, что у меня вышло четыре сборника, я имею в виду не то, что мне дали четыре медали за мою замечательность, а то, что мне четыре раза крупно повезло в жизни.
– Ну, талант-то ведь тоже многое значит! – возразила Римма Львовна, которой за словами Александра почудился, видимо, тайный упрек. – Не может быть, чтобы вашей заслуги тут вообще не было! Если уж есть у человека дар Божий, то его не скроешь.
– Так ведь дар – он потому и дар, что его получают даром, – выкрутился Межутов. – И дается он авансом многим, а добиваются чего-то в искусстве немногие. По разным причинам…
– Например?
Голос от окна прозвучал резко, почти грубо.
– Дима! – угрожающе нахмурилась Римма. И уже спокойнее добавила:
– Вопросы потом!
– Нет, почему же? – быстро возразил Александр, обрадовавшись возможной пикировке. Он был не из тех, кто любит блеснуть остроумием или поразить зрителей эрудицией, но сейчас какая-то полуосознанная жажда спора, или, скорее, даже склоки или ссоры, любого бурного взрыва чувств, настойчиво скребла его изнутри. Как будто такой взрыв, нарушив мерное и обыденное течение его жизни, мог в этой жизни что-то изменить… – Мне, наоборот, кажется, что наша беседа будет намного живее и интереснее, чем мой долгий монолог в тишине!
Римма Львовна, похоже, не одобряла такую тактику, но пожала плечами и кивнула.
– А стихи свои вы нам почитаете? – робко спросила одна из девушек, чуть ли не самая молоденькая. На худосочном личике в обрамлении блеклых волос изо всех черт выделялись только губы, щедро накрашенные яркой помадой. По наивному взгляду светлых почти до прозрачности глаз можно было догадаться, что сборники Александра Межутова девушке ни разу на жизненном пути не попадались, да и само имя она слышит впервые.
– Обязательно. Чуть попозже.
– Вы не ответили на мой вопрос, – снова подал голос длинноволосый Дима. Теперь он откровенно сочился скепсисом и, похоже, подозревал Александра в неискренности. Мол, чего только эти профи не скажут, чтобы завладеть аудиторией!
– А что конкретно вас интересует? Причины жизненных неудач в среде творческих людей? Они, на первый взгляд, такие же, как и у всех других: жена ушла, характера не хватило, приходилось всю жизнь биться за хлеб насущный…
– А на второй?
– Что "на второй"?
– На второй взгляд. Или, по-вашему, поэт ничем от сталевара не отличается?
За внешней наивностью Диминого вопроса Межутову послышалась странная вкрадчивость, и он тут же насторожился, как пес, чей слух уловил в ночи чужие шаги.
– Отличается, почему же. Сталевар – это профессия. При желании человек может переквалифицироваться в кого-нибудь другого и будет вполне счастлив. А поэзия – это определенный взгляд на жизнь, кем бы ты ни работал. Если талант есть, он требует реализации, иначе поэт счастлив не будет.
– То есть вы считаете, что поэтический дар – это определяющий фактор всей жизни?
– Точно.
– Угу, – сам себе сказал Дима с несомненным удовлетворением и вперил взгляд в окно. Александр почувствовал себя одураченным и разозлился по-настоящему. Он уже открыл рот спросить, что же так порадовало его собеседника, но разговор неожиданно переметнулся в другое русло.
– Но ведь таланты бывают разные! – вмешалась коротко стриженая дама в тяжелых квадратных очках. Она была худа, почти лишена груди, говорила хрипло. Сейчас, когда она сидела в зале, Александр мог бы принять ее за мужчину, но точно помнил, что четверь часа назад, во время вступительной речи Риммы Львовны, она, опоздав, прошествовала мимо него в своем глухом, длинном черном платье. – Кому-то больше дано, кому-то меньше. Не все же рождаются Пушкиными или Цветаевыми!
– Или Бродскими! – добавил бородатый человечек с плешью. При этом перед мысленным взором Межутова почему-то ясно возникла забавная картина: как бородач спит, скрестив руки на груди, прижимая ими к себе потрепанный томик стихов покойного поэта-эмигранта. – Есть же люди, которые гармонично в себе сочетают и творчество, и повседневную жизнь. Так сказать, "поле попашут – попишут стихи"…
Остроносая женщина, которую Межутов заметил еще в начале встречи, вдруг громко и нервно зашуршала пакетом, извлекла из него пузырек с аэрозолью, брызнула себе в горло, облегченно вздохнула, повозилась еще чуть-чуть и снова затихла. Александр краем глаза заметил, что Дима, хоть и сидит по-прежнему отвернувшись, все же прислушивается к спору. Это его раззадорило. Раз уж ему пришлось сюда прийти, то не мешало выжать из этой встречи хоть какое-то удовлетворение. Он не собирался играть роль циркового медведя перед собравшейся здесь публикой, а, наоборот, сам был не прочь развлечься.
Он обратился к бородачу, стараясь, чтобы в голосе не выдал сарказма:
– Вы кого-то из таких людей знаете лично?
Послышались одобрительные смешки. Бородач смутился, его щеки и плешь порозовели.
– Нет, собственно… Да я и сам не поэт. Люблю стихи, вот и пришел послушать…
Межутов подавил в себе невольное сочувствие. В бородаче было что-то забавное и трогательное – в том, как он говорил, стеснялся и краснел. Но Александр уже настроился на жесткий словесный поединок, и ему не нужны были подобные "человеческие" помехи.
– Разумеется, степень одаренности тоже имеет значение. Есть та мера таланта, которую можно более или менее удачно сочетать с вышиванием гладью, работой журналиста, цветоводством или еще чем-то. Но и это ведь не просто уголок души, это, как я уже сказал, взгляд на мир. И у него свои требования. До какого-то времени мы удовлетворены тем, что просто пишем, но рано или поздно нам понадобится чье-то мнение о том, что и как мы написали. Потом – глядишь, признание, известность, иногда – если дарование позволяет, – даже настоящая слава… И что же – это все, что нам нужно?
Против его воли последний вопрос прозвучал хрипло. Сам того не заметив, Межутов вплотную подошел к теме, которая мучила его вот уже второй год, мучила по-настоящему тяжело, до бессониц, до сердечных спазмов. Глядя на лица перед собой, он на мгновение почувствовал себя человеком без кожи, болезненно уязвимым и неуверенным. Этим людям, для которых известность и слава были далекими сияющими вершинами, сейчас самыми важными казались совсем другие вопросы. Наверняка, многие из слушателей пришли сюда в надежде узнать какие-то рецепты литературного успеха, попросить содействия у известного поэта, постараться заинтересовать его в их только начинающейся судьбе. Александр не знал ни имен их, ни стихов. Последние два-три года ему приходилось много ездить по творческим и всяким прочим делам, так что он нерегулярно следил за выходящими в свет сборниками молодых авторов, обращаясь к ним только изредка, когда редактору требовался обзор книжных новинок. Да и вообще он жил, в основном, собой и в себе – недуг, который нередко встречается среди творческих людей и обычно внутренне оправдывается какой-то особенной глубиной личности, но в сущности, является порождением банального эгоизма и душевной лени.
То, что по какой-то непонятной причине ему пришлось хоть на миг раскрыться перед этими незнакомцами, вызвало в душе у Александра бунт. И, уже почти не понимая, что делает, Межутов хлестнул по аудитории вопросом, которого совсем не собирался задавать.
– Скажите, а зачем вы вообще пишете?
Поэты запереглядывались, заулыбались. Кто-то возвел глаза к потолку: "Боже, опять!". Александр понял, что Римма Львовна планомерно "работала в этом направлении". Он едва удержался от горького смеха. Может, сейчас он действительно услышит ответ? Ему остро захотелось вышибить этих людей из привычного для них душевного комфорта, из уверенности в какой-то особой внутренней одухотворенности, которая, по их представлениям, выгодно отличала их от всех прочих, выделяла из "толпы". Межутов поймал странно проницательный взгляд Димы, и тревожный голос внутри него зашелся в предупреждающем крике, но остановиться он уже не мог.
– Нет, правда? Для любого творческого человека рано или поздно наступает момент, когда он должен определить, зачем он делает то, что делает. Необходимо ли это для его дальнейшей жизни. Что ему это дает сейчас. Что он надеется получить в будущем. Я знаю, что в начале пути мы все жаждем славы и признания – желательно, прижизненных и всенародных. Но представьте, что у вас уже есть слава и признание. Вы добились того, о чем мечтали. Что же дальше?
Повисло недоуменное молчание. Некоторые из поэтов были явно ошарашены агрессией, прозвучавшей в словах Межутова. Александру даже показалось, что кое-кто сейчас встанет и уйдет. Но никто не ушел. Мужчина с густой седеющей шевелюрой, единственный пожилой из присутствующих мужиков, сказал с иронией:
– А что может быть дальше? Пиши себе, печатайся, живи на гонорары…
Послышались двусмысленные смешки, возможно, вызванные не столько неприязнью к Межутову, сколько стремлением скрыть душевное неудобство.
– И о чем же будете писать?
Остряк пожал плечами.
– Ну… О чем и раньше, все о том же.
– Всю жизнь об одном?
– А что такого? Есенин же вон писал про деревню да про березки. И ничего… Вот и я как Есенин буду писать.
– А потом – тоже как Есенин: "До свиданья, друг мой, до свиданья…"?
Кто-то громко не то хмыкнул, не то хрюкнул с явным одобрением, как над удачной шуткой. Александр понял, что это Дима, но почему-то не обрадовался поддержке.
Седеющий поэт не успел ответить.
– Ничего смешного в этом нет! – послышался возмущенный голос. Межутов посмотрел туда, откуда раздались эти слова и увидел там полную, хорошо одетую женщину с простоватым или, как принято называть, "рязанским" лицом, на котором читалась совершенно нерязанская надменность. Где-то Александр уже видел это лицо, причем, кажется, с точно таким же выражением на нем, но вспомнить, когда и где это было, не смог. – Неужели это обязательно – делать клоунаду из чужой трагедии?
После ее реплики Межутову как раз и стало смешно. Слово "клоунада" показалось ему удивительно подходящим к его нынешней судьбе. Он давно уже чувствовал себя кем-то вроде канатоходца: шел по проволоке день за днем, а она все не кончалась, и путь с каждым шагом делался все бессмысленнее и ненадежнее, и окружающее больше напоминало какой-то чудовищный фарс. Но признаваться в этом Межутов никому из этих людей не собирался. Он вообще уже испытывал досаду на себя и не понимал, как вышло, что он позволил разговору свернуть на такую скользкую и жутковатую тему. Но желание помучить кого-нибудь от этого только окрепло.
– Я не смеюсь, Боже упаси! Наоборот, хочу понять, почему человек пришел именно к такому финалу. Ведь это же важно! – Александр снова оглядел сидящих перед ним. Затуманенный, искаженный взгляд на этот раз отметил девушку с большими серыми глазами, которые, казалось, лучились изнутри. У девушки была пышная пшеничная коса, обернутая вокруг головы, и от всего облика веяло чем-то удивительно чистым и по-хорошему наивным. Межутов вдруг против желания почувствовал даже какую-то небольшую зависть, как мгновенный укол булавки, зависть, молниеносно переплавившуюся в презрение. "Наверное, стихи у этой исключительно про любовь!" – подумалось с неприязнью. Оторвав взгляд от юного лица, он продолжал:
– Раз мы называем себя поэтами, нам важно знать, где проходит граница между состоявшимся автором и несостоявшимся. Я имею в виду не количество изданных книжек, а… какое-то внутреннее удовлетворение, что ли. Знание, что ты делаешь то, что должен делать, то, для чего ты призван. И способность предчувствовать, останется ли хоть что-то из того, что ты написал, после тебя – или вместе с тобой уйдет…
Межутова слушали настороженно, и он никак не мог понять, задевает ли то, что он говорит, хоть чью-нибудь душу. Ему казалось, что от таких раздумий душа должна кричать и кровоточить. Молчание аудитории давило, как могильная плита. Александр едва скрыл облегчение, когда его перебили.
– А мне кажется, наше творчество должно быть нужно прежде всего нам самим! – с неожиданным жаром воскликнула женщина лет тридцати, одетая в безликом, "демократичном" стиле: джинсовый сарафан поверх бледно-голубой водолазки, и то и другое – результат паломничества челноков в Турцию или Китай. На еще свежем, не лишенном привлекательности лице безжалостно отпечаталось высшее образование, может быть, даже искусствоведческое или филологическое. – Ведь читать нас будет интересно только в том случае, если нам было интересно писать! А пишем мы, естественно, о себе: о своих чувствах, проблемах, случаях из жизни, своих надеждах… То есть облекаем в слова то, что живет в нас повседневно, только мы не всегда это осознаем. Наши стихи помогают нам познать себя, понимаете? И этим способствуют нашему внутреннему развитию. Они нужны нам для духовного роста, и пока в нас живет эта потребность развиваться, мы и можем сказать читателю что-то новое и интересное. Или, наоборот, знакомое ему и потому тоже интересное. Я так думаю!
Глядя на женщину, Межутов видел, что все, что она говорит, родилось в ее голове не вдруг, что оно выношено ею, что она действительно долго размышляла над этим. Ему только интересно было бы узнать, что именно понимает она под "духовным ростом" и нет ли у нее сомнений, что, скажем, поэмы Гомера или оды Державина можно уложить в рамки самосовершенствования этих двух личностей.
– Чтобы сказать новое и интересное, нужно чем-то от читателя отличаться, – громко буркнул кто-то из молодых мужчин, кого Александр не сумел разглядеть. – Читатель – он не дурак, он и сам может столько нового и интересного выложить, у-у-у! Как говорится, нам и не снилось…
– Вот и прекрасно! Поделимся с ним опытом, это же здорово! И нам духовная польза, и ему…
– Ну да, – оживился долго молчавший Дима, – и мы им попользуемся, и он – нами!
Римма Львовна, поразительно долго терпевшая все это безобразие, тут не выдержала:
– Дмитрий, здесь не средняя школа и не ПТУ. Фильтруйте базар, как нынче в народе говорят!
– Так, Римма Львовна, на зоне говорят. А народ к этому имеет очень косвенное отношение…
Межутов понял, что пора опять брать ситуацию под жесткий контроль.
– Обмен духовным опытом – это здорово, конечно, – великодушно признал он. – И многие люди, связанные с искусством, общаются с читателями, проводят встречи, переписываются. Это дает им ощущение востребованности их творчества и, наверное, добавляет впечатлений. Ну, а если они не находят аудитории среди окружающих людей? Если они, как принято выражаться, опережают свое время – что тогда?
– Ну, это уж только историей можно проверить! – опять вступил в разговор седеющий поэт. Он теперь сидел, вальяжно откинувшись на спинку стула, и, похоже, был не прочь подробно развить свою мысль. – Лет через пятьдесят-сто ясно будет, кого еще читают, а про кого уже забыли. И потом, мы-то здесь, в основном, люди скромные, провинциальные. На мировые шедевры не замахиваемся, пишем кто как умеет. Самовыражаемся, так сказать.
– А почему вы уверены, что кому-то, кроме вас, интересно и нужно ваше "самовыражение"?
– А почему нет? – поэт так искренне удивился, даже вроде обиделся, что Александр ненадолго увидел в нем большого рыхловатого ребенка, у которого незнакомый ушлый пацан хочет отнять любимый самокат. – Чем я хуже других-то?
– Вот-вот! – не унимался наглец Дима. – Чем мы хуже Некрасовых каких-нибудь? Мы даже лучше, может быть. Местами…
Это уже было слишком. Александр нисколько не сомневался, что сейчас разразится скандал, и сердце у него замерло в каком-то порочном, но непреодолимом сладострастном ожидании. Что будет потом, после ругани или драки, он думать не мог, странным образом лишившись на время способности рассуждать. Он видел, как остроносая женщина с пакетом, вдруг подхватившись, неловко пробирается к дверям, и ее уход показался ему похожим на паническое бегство, что даже немного его отрезвило… Но, видимо, стычки между этими двумя были для большинства завсегдатаев литобъединения чем-то вроде привычной и чуть ли не обязательной приправы к поэзии. Пожилой повернулся в димину сторону, с минуту сверлил его многозначительным взглядом, затем попытался изобразить величественное презрение, что вышло, скорее, кисло… Этим и кончилось. Межутов расслабился, чувствуя одновременно и облегчение, и разочарование. Чего-то не случилось – нужного или страшного, теперь уже было и не понять. Окончательно придя в себя, он обнаружил, что разговор уже продолжается без него и вполне мирно.
Напряжение быстро спадало, посыпались шутки.
– Мы создаем культурное пространство, чтобы люди не превращались снова в обезьян.
– Мы обеспечиваем потомков работой: литературоведов всяких, историков, скульпторов…
– Мы…
О недавнем душевном затмении Межутову напоминало лишь едва заметное дрожание пальцев.
Молодые девицы хихикали. Только та, которая спрашивала Александра, будет ли он читать свои стихи, блеклая и анемичная, с ярко накрашенными губами, казалось, пребывала в каком-то трансе. Она сидела близко, и Межутов постоянно натыкался на нее взглядом. Ему стало не по себе, когда она вдруг, будто не услышав прозвучавших острот, растерянно распахнула свои бледные глаза, казавшиеся безресничными, и спросила:
– Но если не самовыражение, не развитие души, не слава… Подождите… Вы что же, хотите сказать, что мы все… Что всё, что мы пишем… бессмысленно?
Это был нежданный удар поддых. Стало как-то неприятно тихо, и Александра снова поразили глаза Димы – безвозрастно-мудрые, но совсем не сочувственные, а скорее пристально-изучающие. Межутов почувствовал себя зверем в захлопнувшейся ловушке.
Он мог бы сказать "да" – и все бы решили, что и он вздумал пошутить, и никто бы не заметил, что ему, в реальности, очень хочется в этот момент перестать жить. Но он знал, что бледная девочка не примет шутки, и не она одна.
Если бы он ответил "нет", ему пришлось бы давать им ответы, которых у него не было, потому что он то ли не выстрадал их еще, как надо, то ли вообще изначально и навсегда был от них отлучен. Александр смотрел на своих слушателей и с удивлением читал на их лицах свою собственную неуверенность и незащищенность. Пауза невыносимо, недопустимо тянулась. Межутов чувствовал взгляды, как чувствуют царапанье или ожоги, особенно взгляд Димы и девочки, задавшей вопрос. Он боялся, что окружающие заметят, как он близок к тому, чтобы просто малодушно уйти…
Выручила его сероглазая девушка с косой, та самая, про которую он подумал, что она умеет писать только про любовь. Эта девушка сказала, глядя на него, как на недужного, с сочувствием сестры милосердия:
– Александр Николаевич… Почитайте, пожалуйста, ваши стихи!
II.
Домой Александру пришлось возвращаться вместе с Риммой Львовной: они жили в одном микрорайоне, в соседних блочных пятиэтажках бледно-коричневого цвета. Чаепитие, которым закончилась встреча, не развеяло межутовского мрачного настроения, хотя за столом он старался выглядеть веселым и даже рассказал кое-что забавное из своего опыта общения с издателями… Он шел и перебирал в памяти лица увиденных сегодня людей. Чаще всех вспомнинался длинноволосый Дима с его ядовитой усмешкой, потом анемичная девица, задавшая финальный, роковой вопрос, затем почему-то худая дама в очках и молоденькая девушка с косой, и еще одна – по виду вообще старшеклассница… От седоватого поэта в воспоминаниях осталась только шевелюра, как будто в его лице не было совсем ничего примечательного.
– Вы не думайте, Александр Николаевич, это они только с виду ершистые, – нарушила затянувшееся молчание Римма Львовна. – На самом деле многие из них очень ранимы… Да просто-напросто беззащитны!
Она сказала это с жаром, и Межутов вдруг понял, что она чувствует себя виноватой перед ним. Ему тут же стало стыдно.
– Да нет, что вы, я и не думал ни о ком из них плохо! Я сам виноват. Развязывать дискуссии на "вечные" темы при такой разнородной аудитории – это же настоящее самоубийство… А вы всех, кто сегодня был, хорошо знаете?
Римма Львовна задумчиво поправила на плече длинный мохеровый шарф, явно собственное рукоделие. На ней было модное осеннее пальто, и для Александра это выглядело непривычно, потому что до недавнего времени, сколько он ее помнил, она носила темные кожаные куртки, так что многие за глаза называли ее Комиссаршей.
– С некоторыми я знакома еще с их школьной скамьи, с тех пор как организовала первое литобъединение для старшеклассников. Им уже лет по тридцать-тридцать пять, но таких осталось немного: кто уехал, кто женился-остепенился… Георгий Максимович – тот, седой, с которым вы сегодня беседовали, – присоединился к нам недавно и ходит довольно редко, только когда ему хочется поучить молодежь жизни. Я не против, пока это все в приемлемых рамках. У него два сборника изданы – правда, на его же деньги, но все-таки. Стихи, с моей точки зрения, просто ужасные! Это я вам по секрету говорю. Хотя он и так мое мнение знает… Когда он в первый раз пришел и стал у нас читать свои творения, Дима Карнашов его просто по стенке размазал. Я, конечно, старалась, как могла, оградить… Но Димка иногда делается совершенно неистовым, даже страшно смотреть. Впрочем, Георгий Максимыч тоже был хорош, что греха таить! Словом, получилась натуральная свара, мы с девочками с трудом предотвратили грязный мужской мордобой.
– Дима – это тот, что у окна сидел? – на всякий случай уточнил Александр. – Такой… христообразный?
Римма Львовна засмеялась. Смех у нее всегда был слегка неестественный, каждый раз казалось, будто она до этого момента смеяться вообще не умела, а тут решила научиться.
– Вы ему так в глаза при встрече не вздумайте сказать! Он у нас почти верующий, даже в церковь ходит. Стихи, правда, пишет такие, какие верующим, с моей точки зрения, писать не положено. Такое что-то, знаете ли, с рваным ритмом, строчки лесенкой, вроде Вознесенского. Но драйв есть…
– Что, простите?
Римма Львовна посмотрела на него, явно довольная вопросом.
– Драйв. Ну, напряжение, что ли… Это теперь такой в молодежной среде жаргонный термин. В основном относится к музыке, но к стихам, по-моему, тоже можно применить. Бывает, под музыку хочешь не хочешь, а начинаешь двигаться. Вот и у Димки так: нравятся его стихи или не нравятся, но что-то от них внутри царапает, скребет… А хотите, я вам дам почитать? У меня как раз дома его подборка лежит для очередного альманаха. Очень интересный парень, между прочим!
Межутову совершенно не хотелось читать ничьи стихи, тем более "под Вознесенского", но он, застигнутый врасплох, не нашел предлога отвертеться, а через минуту оказалось поздно. Они были как раз возле подъезда Риммы Львовны, и та уже всходила по ступенькам, не оглядываясь, в полной уверенности, что Александр идет за ней. Межутов обреченно вздохнул и стал подниматься следом.
Подъезд являлся почти точной копией его собственного, квартира оказалась двухкомнатной, довольно запущенной, но, как ни странно, уютной. Видно было, что до ремонта у хозяев руки не доходили уже лет пять. Обои местами топорщились, кое-где видны были неловкие попытки их подклеить. На всей обстановке лежал отпечаток старомодности: если абажур, то непременно из ткани и с бахромой, если коврик под ногами, то циновка, а на дверях ванной и уборной – выцветшие пластиковые фигурки: душ с расходящимся веером водяных струй и мальчик со спущенными штанишками. На зеркале в прихожей Межутов заметил темные пятна – там, где время повредило амальгаму: одно на удивление точно повторяло ахматовский профиль, зато другое, рядом, походило на полураздавленную лягушку. В правом верхнем углу под поцарапанную деревянную раму был подсунут длинный конверт с иностранной маркой, новенький и неуместно белоснежный, словно попавший в эту квартиру с другой планеты.
На вешалке "под бронзу" крайний с межутовской стороны крючок был обломан и предательски темнел каким-то гораздо менее благородным сплавом. На следующем крючке висело видавшее виды черное мужское пальто, а точно над ним на полке для головных уборов солидно, по-хозяйски лежала серая драповая кепка. Муж Риммы Львовны в последние годы не выходил из дому. Он был старше жены лет на двенадцать, сейчас ему уже, наверное, было под семьдесят. Во время войны он жил на Украине, прятался по лесам с матерью и двумя старшими сестрами. Однажды им пришлось несколько часов просидеть в реке под обрывом, пока немцы с собаками прочесывали лес в поисках партизан. После этого у маленького Вити начались проблемы с почками, и до Победы он дожил просто чудом. Послевоенное время тоже не располагало к поправке, и хотя многие другие хвори Виктор Сергеевич перерос, хронический нефрит остался при нем навсегда. Сейчас у него страшно пухли ноги, передвигался он с большим трудом и, как Александр слышал от знакомых, большую часть суток проводил в кресле у окна, читая газеты и присматривая за соседскими иномарками.
Чуть только Межутов вошел в прихожую, на него из гостиной выплеснулся бархатный баритон, певший арию мистера Икса.
– Публика ждет. Будь смелей, акробат! – тосковал радиоприемник голосом несчастного циркача, и Александр не сдержал кривой усмешки, вспомнив, в каким настроением он шел сегодня на встречу с подопечными Риммы Львовны.
– Кто там пришел? – ласково пропел похожий баритон, так что Межутов даже не сразу сообразил, что это уже не радио.
– Свои! – в тон супругу ответила Римма Львовна. И обернулась к Александру. – Проходите на кухню, я сейчас.
– Ты с Димкой? – спросили из комнаты.
– Нет, с Сашей Межутовым. С Александром Николаевичем. Он на минуточку. У тебя все в порядке?
Дальнейшего разговора Межутов не слышал, потому что, оказавшись в кухне, деликатно прикрыл за собой дверь. Здесь все носило следы торопливого ухода: посуда в раковине, крошки на столе, мрачный ореол убежавшего кофе вокруг средней конфорки электроплиты. Из распахнутой форточки неслись дворовые звуки. Квартира находилась на пятом этаже, и казалось, что долетающий сюда шум отфильтрован расстоянием до какой-то почти призрачной чистоты. В правом углу, очень высоко, чуть не под самым потолком, как-то неловко и одиноко висела картонная икона Казанской Божьей Матери. На столе, кроме крошек, Александр заметил еще скомканное льняное полотенце с ярким псевдофольклорным петухом и пухлую серую папку с истрепанными завязками, на которой четким и решительным почерком было выведено: "Принято в альманах". Он присел было на табурет, покрытый маленькой лоскутной накидкой, но почувствовал какое-то неудобство: чуть привстал – и извлек из-под накидки пестрый пластиковый фотоальбом, какие продают в любом салоне "Кодак". Машинально раскрыв, наткнулся на большое фото Риммы Львовны, сделанное лет тридцать назад, когда она еще завивала локоны, носила крепдешин в мелкий горошек и смотрела на мир с надеждой и удивлением, хотя в изгибе молодого сочного рта уже чувствовалась непреклонность. Межутов почему-то смутился, как будто вызнал что-то интимное, осторожно закрыл альбом и положил на краешек стола рядом с папкой. И тут же услышал быстрые шаги за кухонной дверью.
– Виктор Димку любит, – Римма Львовна, едва распахнув дверь, продолжила прерванный разговор. – Тот шума много производит, сразу нескучно становится… Тоже, кстати, – пророк. Это я с намеком на ваше сегодняшнее выступление. Как задаст какой-нибудь небытовой вопросец, так и не знаешь, что ответить. Народ на занятии раздухарится, разругается, перья летят! У каждого – мнение и, естественно, самое правильное… А Димка, жук такой, сидит и смотрит, будто кто-то другой всю эту кашу заварил. Не без пользы подобные разговоры, конечно, но ведь надо для них место и время правильно выбирать… Это я не про вас, не подумайте! – ее взгляд упал на фотоальбом. – А, вот он где! Представляете, все утро искала, а он лежит на самом виду! Журналист один задумал цикл статей написать об истории молодежных литобъединений в нашем городе. Попросил кое-какие старые фотографии. Я их специально в отдельный альбом сложила, чтобы не путаться, а утром второпях его не нашла…
Все это говорилось в то время, как руки Риммы Львовны включали бра над столом, наливали воду в захватанный металлический электрокофейник и вынимали из хлебницы растерзанную пачку недорогого печенья.
– Вы чай будете или кофе?
– Я, честно говоря, ничего не буду, меня дома ждут к ужину, – Межутов еще не мог опомниться после чаепития в литобъединении. Там ему все время подливали чересчур крепкий чай, хотя он этого не просил, настойчиво угощали пирогами и печеньем (кажется, точно таким же, как здесь). Справа сидела Римма Львовна, слева – худая дама в квадратных очках. Девушка с косой, так вовремя попросившая Александра почитать стихи, лучилась глазами из дальнего угла. Женщина с рязанским лицом устроилась рядом с седеющим поэтом и что-то говорила ему быстро и недовольно, почти не останавливаясь, так что даже, кажется, чашку свою ни разу не поднесла к губам. Седеющий в ответ то и дело хмыкал, но Александру показалось, что он не слишком внимательно слушает соседку. На Межутова они почему-то старались не смотреть. Шут (или, по версии Риммы, пророк) Дима обхаживал молоденьких девочек, изредка посверкивая взглядом, будто проверяя, не ушел ли Александр, здесь ли. Межутов все ждал с тайным внутренним содроганием, что Дима подойдет к нему с каким-нибудь намеренно каверзным вопросцем, на который сходу и не найдешь, что ответить, но тот так и не подошел. – Мне пора, пожалуй…
Его надежды на то, что Римма забудет дать ему обещанные стихи, не оправдались. Она сразу развязала папку и вынула тонкую пачку листков, скрепленных степлером. Межутов с облегчением увидел, что тексты отпечатаны на принтере. Ему совсем не хотелось разбирать почерк молодого дарования, тем более, что, судя по Диминому темпераменту, почерк у него был еще тот.
– Я вам это даю до вторника! – торжественно и строго сказала Римма Львовна, вручая ему подборку. – Во вторник я должна отдать все тексты рецензенту. Потом уже с этим пойдем в издательство… Ну, и так далее, вы же знаете, какая это волокита.
Александр взял у нее из рук подборку, не в силах побороть недоверчивость. Потом вдруг неожиданно для самого себя спросил:
– А вот эта девушка… С косой вокруг головы… В третьем ряду сидела…
Римма Львовна сразу поняла, о ком он.
– Анечка Стрельцова? Ну, этой замуж надо. Как только сходит в ЗАГС, родит, так и стихи ей уже не понадобятся. А беленькая, худенькая – Галя Мышлова, певица молодежного суицида… Бывает, такое напишет, что я за сердце хватаюсь: как бы ребенок на самом деле не вздумал что-нибудь над собой учинить… Ну, да это у нее возрастное, тоже пройдет. Вы, Александр Николаевич, не забудьте, пожалуйста, про вторник. Я вам еще позвоню накануне, напомню!
По радио, доносящемуся из гостиной, теперь передавали погоду на фоне "Манчестера и Ливерпуля". Межутов бросил в открытый дверной проем суховатое "до свидания", но ответа не получил: видимо, Виктор Сергеевич увлекся прогнозами синоптиков и не расслышал. Зато Римма Львовна была сама любезность, и Александру очень хотелось думать, что дело тут не только в стремлении "пристроить" Диму в литературу по его, межутовской, протекции.
С Риммой у них когда-то, лет двенадцать назад, было одно неприятное столкновение. Хотя с тех пор уже много чего случилось, Александр то и дело вспоминал об этом, сам того не желая. Когда готовился самый первый его поэтический сборник – он назывался "Солнечный причал", – Римма Львовна, бывшая тогда, помимо прочей творческой нагрузки, одним из редакторов издательства местного Союза Поэтов, резко выступила против его выпуска. Межутов имел с ней долгий и очень тягостный разговор по телефону, где она подробно объясняла ему, почему его стихи не могут считаться талантливыми и удовлетворить ее профессиональному вкусу. Книга, в конечном итоге, все-таки вышла, а за ней через год и другая, потом третья, четвертая… И Римма Львовна больше никогда не возражала, а при встречах всегда мило улыбалась. Уже потом Александр узнал, что в тот, самый первый раз, редакторский совет выбирал между двумя проектами – его "Солнечным причалом" и сборником какого-то хрупкого, ранимого юноши из литобъединения Риммы Львовны… Теперь это уже не имело значения, но каждый раз, сталкиваясь с Риммой, Межутов чувствовал неудобство, как будто сам вел себя неискренне или подозревал в неискренности ее. Когда на днях она позвонила и пригласила его выступить перед начинающими поэтами, он так удивился, что даже не смог придумать подходящей отговорки.
Шагая по асфальтированной дорожке к своему дому под порывами пронизывающего ветра, Александр с неудовольствием думал о том, что Димины стихи действительно придется читать, да еще и высказаться о них, а потом Римма Львовна, несомненно, передаст его мнение Диме, и тот съязвит что-нибудь, потому что его стихи наверняка Межутову не понравятся… Словом, не следовало ему соглашаться ни на это выступление, ни на чтение Диминых текстов. Обычно он умел давать отпор чужой навязчивости, а тут, поглощенный своими собственными переживаниями, как-то неосторожно расслабился.
Ну, да чего уж теперь…
III.
Из московского издательства пришли гранки второй книги Межутовских путевых заметок, которая должна была выйти в декабре, и до самого вечера понедельника Александр оказался плотно занят вычиткой. Про Димины стихи он вспоминал с раздражением и легкими угрызениями совести, но в очень неподходящие моменты, когда было ясно, что, грызись не грызись, а взяться за чтение сейчас никак не получится.
Наконец, уже поздно, перед сном, он вынул из стола листки и пошел на кухню читать. Настя, жена Межутова, уже легла, и в квартире стояла теплая, сонная, едва уловимо пахнущая корицей тишина.
На кухне вечерами было уютно. За темным стеклом временами шли полосы света, когда неподалеку проезжали машины, и тогда простенький цветочный узор на коротких занавесках ненадолго превращался во что-то мрачновато-загадочное, не то египетское, не то месопотамское… В такие мгновения невольно делалось радостно, что ты живешь в этом веке, в этом городе и по эту сторону зеркала, в которое ночная тьма превращала окно. Это ощущение тихого, незатейливого счастья подкрепляли ароматы пищи, витавшие в воздухе после ужина и вечернего чая. Александру иногда думалось, что как раз так и проверяется, насколько изменилась за века развития человеческая природа. Да нисколько, в сущности, не изменилась: по-прежнему круг света, крепкие стены жилища, ощущение тепла да запах еды являются для людей символами безопасности и благополучия. И временами кажется, что ничего другого нам и не нужно, и все, что сверх этого, есть некое барство, излишек, надуманная роскошь, а то и навязанная кем-то обуза…
Межутов небрежно, нехотя перелистал странички со стихами. Вид их ему не нравился – черные строчки тревожили своей изломанностью, а изломанности не хотелось, хотелось покоя и домашних булочек с корицей. Названия, набранные вызывающе большими буквами, смотрелись нарочито и тоже говорили сами за себя: "СУМЕРКИ МИРА", "ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ", "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ", "МЕРТВАЯ ЗОНА"… Межутов вспомнил настойчивый голос Риммы Львовны в телефонной трубке, тяжело вздохнул и заставил себя читать.
Некоторые стихи он прочел даже дважды или трижды, стараясь уяснить, что именно его в них не устраивает. Все они его безмерно раздражали. Порой в них встречались драгоценные, по мнению Александра, строчки, но они терялись в навязчивом рОковом ритме, ломались, как спички, на глазах искажались и даже вообще выворачивались наизнанку. Может, как раз в этом и состоял "драйв", о котором говорила Римма Львовна, но смысла его Межутов не понимал, и от всего написанного ему только делалось тоскливо на душе.
В своих стихах он всегда старался сохранить мир в целости. Пройдя через год войны, которая на его глазах день за днем разрывала все его представления о ценности человека – любого! – неповторимости, невозвратности и таинственной, даже мистической необходимости каждого из живущих на этой земле, он утратил всякое стремление препарировать свою или чужую душу творческим скальпелем. Ему казалось, что стоит невзначай повредить некую хрупкую оболочку – и тайна будет попрана, безобразно опрощена, и тогда смысл поэзии, да и любого другого искусства будет навсегда утрачен. Александра всегда приводило в изумление, с какой ухарской бестрепетностью такое вскрытие производят другие, вываливая на всеобщее обозрение содержимое своих душ, которое, как он и боялся, в лучшем случае оказывалось похожим на пластиковый муляж эмбриона или наглядное пособие для начинающих патологоанатомов.
А вот Димины стихи напомнили Межутову какой-то хитрый, сделанный с загадочной целью механизм. Под налетом мальчишеской бравады, между плосковатых рок-лозунгов так и чудилось поблескивание никелированных частей, холодное внимание неживого мозга… Это была жестокая машина, потому что она мучила и ничего не давала взамен, никакой надежды. Инструмент, который резал, но не лечил, а так и оставлял рану открытой, не заботясь даже остановить кровь. Когда Межутов нашел это сравнение, по его коже пробежали мурашки. При этом автора трудно было обвинить в отсутствии таланта. Конечно, парень не был полностью самостоятелен, хватало у него и штампов, и невольного подражательства, и глупого, с точки зрения Межутова, стремления оригинальничать. И все же…
Александр вдруг ощутил в мозгу что-то вроде яркой, болезненной вспышки, так что даже тихо застонал. Вот оно! Этот злосчастный Дима – действительно, как говорила Римма, вроде самого Межутова, такой же мучитель себя и других: задает вопросы и ждет ответа, не понимая, что ответ может прийти только изнутри него самого. Но Диме-то девятнадцать, а Межутову – два раза по девятнадцать, главная часть жизни уже прожита, а оттого и муки глубже, и надежды на избавление – меньше… И если так и умрешь, ничего не поняв – зачем тогда жил, спрашивается?
Чувствуя приближение приступа знакомой, доводящей до исступления душевной маеты, Межутов покинул кухню, натянул старый грубый свитер и вышел на балкон. Как-то так случилось, что он не пристрастился к курению, хотя и в старших классах школы, и в армии, и потом в жизни ему частенько приходилось делать вид, что курит, чтобы не выглядеть белой вороной. Он повертел в руках пачку "Петра I", почти полную и сильно помятую после месячного таскания в кармане пиджака, достал сигарету и закурил. Равновесие возвращалось медленно и, как Александр уже знал по опыту, было недолгим и ненадежным. Он вообще в последнее время жил в каком-то очень ломком, изменчивом мире: то умирал внезапно и скоропостижно кто-то из приятелей, то на экране телевизора "Боинги" рушили спесиво-незыблемые башни небоскребов, то с детства знакомые названия улиц вдруг заменялись новыми, к которым приходилось долго привыкать… Будь у него в душе покой, возможно, это все не действовало бы так угнетающе. В конце концов, люди смертны, а улицам все равно, как называться. Но Межутову все чаще казалось, что за всем этим расползающимся, как гниющая плоть, миром вот-вот откроется что-то мрачное и до жути реальное – гораздо более реальное, чем укладывающийся спать город, на который он смотрел со своего балкона, да и чем он сам…
Вот так вот живешь и пишешь, пишешь и живешь. Печатаешься, получаешь гонорары, читаешь про себя рецензии – не всегда доброжелательные, но все же заставляющие что-то внутри трепетать от тайного восторга. Мол, вот ведь, не прозябаю в безвестности, иных и не ругают, а просто не замечают, а на меня сам К. обратил внимание, ни дна ему ни покрышки за то, что гадость про мой новый сборник написал! И поначалу даже есть в этом какой-то кураж: читатели автографы на встречах просят, светочи нынешней литературы милостиво кивают, и на банкетах в честь очередных Букеров ты свой, так что даже встречают добродушной усмешкой и фразой из анекдота: когда же, мол, ты-то? И можно упиваться этой пестрой жизнью очень долго – пока однажды ночью вдруг не разбудит непонятный экзистенциальный ужас, и ни с того ни с сего не задашься вдруг вопросом: а что же я, в действительности, делаю?
Вот он я, поэт и писатель, привыкший складывать в строку слова, как кирпичи в стену. Обычные слова, которые мы каждый день говорим на кухнях, в троллейбусах, в поликлиниках… И вот я беру и ставлю их как-то по своей прихоти, и что-то такое с ними случается, отчего они начинают жить отдельно от меня, и в какой-то миг я обнаруживаю, что и власть-то моя над ними – только призрачная. Объясните мне этот научный факт с точки зрения диалектики и материализма…
Что же, что я делаю с людьми? Дарю им что-то – или отнимаю? Утешаю или мучаю, лечу или калечу? Выплеснешь вот так на бумагу нечто, "самовыразишься", и только потом задумаешься, что же ты такое в мир от себя отпустил. И едва задашься этими вопросами – все, кончилась безмятежная жизнь! Словно невидимая болезнь разъедает изнутри, так и жжет, и скребет, и дергает, и от привычных, вполне милых и респектабельных лиц и разговоров почему-то становится тошно… "Что-то вас, Саша, давно на заседаниях не видно. Совсем забыли нас, загордились? Шучу, шучу!"… "Куда это вы пропали, Александр Николаевич? Про вас на днях сам М.Н. спрашивал, интересовался, как у вас дела"… А жизнь крутится, как заведенный давно механизм, и вроде бы ничего внешне не поменялось, но ты-то знаешь, что главное колесо изнашивается, изнашивается, да и сломается однажды… И что тогда?
Город вокруг был темным, час стоял поздний. Александр с тоской вглядывался в очертания таких знакомых при дневном свете зданий, потом наклонился – несколько минут пристально и напряженно смотрел вниз, где и видно-то ничего не было. Ветер, мрак, бездна…
Выдрать бы этого Диму за его стихи! Разбередил, паразит, душу. Межутов в сердцах отшвырнул недокуренную сигарету, посмотрел, как она промерцала дугой вниз, и пошел спать. Долго лежал, глядя в темноту, стараясь не ворочаться, чтобы не разбудить жену. Мысли крутились на одном месте, поворачиваясь то так, то этак, и не выводя ни к чему успокаивающему. Заснул от полного внутреннего изнеможения, напоследок вспомнив, что не завел будильник. Но вставать уже не стал. Последнее, что промелькнуло перед затуманенным усталостью мысленным взором – красная звездочка брошенного сигаретного окурка, пунктиром исчезающая во тьме.
Утром невыспавшийся и оттого мрачный Межутов позвонил Римме Львовне и договорился о встрече, чтобы вернуть Димину подборку. Римма пыталась было снова зазвать его к себе домой, но он соврал, что должен немедленно уйти. В результате они договорились пересечься на остановке, откуда Римме нужно было ехать в одну сторону, чтобы передать материалы для альманаха рецензенту, а Межутову – в другую, в издательство: уладить кое-какие собственные дела, о которых, честно говоря, он вспомнил только сейчас. Александру совсем не хотелось объяснять, почему именно ему не понравилось Димино творчество. Его бы вполне устроила какая-нибудь обтекаемая формулировка вроде "неплохо, но не мое" или даже "пока ничего выдающегося, но надежда есть". Он вообще не мастер был оценивать чужую работу, особенно творческую, и твердо верил, что этим должны заниматься специальные люди – критики, литературоведы какие-нибудь… Словом, те, у кого мозги приспособлены анализировать уже созданное, а не мучиться подбиранием слов и выстраиванием сюжета. Себя он относил ко второй категории и воспринимал написанные другими людьми тексты как некие растения, которые авторы долго культивировали – то усиленно окучивали, то старательно подстригали по бокам, чтобы не углубляться в детали и не увлекаться второстепенными линиями, – а потом выставили на всеобщее обозрение. Сам он занимался тем же, поэтому ему всегда было неудобно вмешиваться со своими замечаниями в чей-то интимный процесс выращивания.
Межутову повезло, потому что автобус Риммы Львовны пришел быстро и она заторопилась, так что он сунул ей скрепленные степлером листки, не сказав при этом ничего определенного. Правда, она пообещала ему позвонить на днях, но телефонных разговоров Александр опасался меньше. К тому же, он помнил, как она сама когда-то разговаривала с ним по поводу его первой книги… О том, что непонравившиеся стихи принадлежат не ей, а ни в чем не виноватому Диме, Межутов как-то невзначай успел забыть.
Потом была сплошная невыразительная и малоинтересная текучка: какие-то разговоры, переговоры, дрязги вокруг нового литературного журнала, в котором Межутова вроде бы хотели в редколлегию, подготовка к поездке в Москву, где Гриша Смурнов, хороший приятель, поэт и время от времени лечащийся наркоман, некогда переделавший свою простецкую фамилию на более звучную и загадочную путем замены одной-единственной буквы, выпустил очередной сборник и желал устроить его презентацию со множеством приглашенных. Александр сначала настроился отказаться, но потом ему вдруг ни с того ни с сего захотелось поехать – повидать знакомых. Глядишь, и депрессия отпустит. Сколько можно сидеть в своем углу, в конце концов? Так тебя паутиной заткут, да и забудут совсем…
Незаметно за всеми этими делами подкатила суббота, а в воскресенье Межутов, по недавно заведшейся у него привычке, отправился в церковь на литургию.
IV.
За последние несколько лет в городе открылось много церквей, только в окрестностях межутовского дома их было три. В старом центре стоял еще и собор, но до него нужно было ехать с двумя пересадками. Деревянная, недавно выстроенная церковка, находившаяся буквально в нескольких шагах, казалась какой-то несолидно новенькой, кроме того, там почти не было мужчин, одни пожилые женщины, которые каждого нового человека провожали подозрительными взглядами, поэтому туда Александр не ходил. Он выбрал для себя Покровский храм, тоже небольшой, зато расположенный в старом парке на берегу реки. Летом и в раннюю осень можно было после службы побродить среди кленов или посидеть под деревьями на скамеечке вместо того, чтобы сразу окунаться в деловитую жизнь проспекта, на котором кишели люди и автомобили.
В церкви Александру нравилось, хотя он почти никого не знал. Там стояла густая, прохладная тишина, и даже когда текли службы и люди двигались, производя неизбежные шорохи, эта тишина никуда не исчезала, а просто поднималась выше, под купол, и замирала там, временами упруго подрагивая при звуке голосов хора и священника. Чувство отъединенности от жизни, которая шумной рекой бежала за стеной храма, было таким полным, что у Межутова неизменно возникало ощущение одиночества, но не тягостное, а наоборот, мирное, осмысленное, похожее на неторопливое ожидание.
Он ходил сюда уже три месяца, после того как впервые совершенно случайно попал под этот свод в начале лета. Стесняясь своего любопытства, исподтишка рассматривал прихожан, иконы, приглядывался к священникам. Больше всего ему нравился дьякон – дородный русобородый дядька с богатым басом. Когда дьякон тягуче читал апостольские послания, во рту у Межутова почему-то неизменно появлялся ароматный медовый привкус.
Старинный язык псалмов и молитв вызывал в душе странный, мучительный отзвук. Понять смысл непривычной речи иногда казалось жизненно необходимым, но этот смысл постоянно ускользал, просачивался в прорехи незнакомых слов, в щели тяжеловесного старинного синтаксиса. От этого возникала раздвоенность, как будто одна половина Межутова когда-то знала обо всем, что говорилось, но теперь не могла как следует вспомнить, а другая вообще умела только наблюдать за происходящим с недоверчивым любопытством иностранца. Это одновременное узнавание и неузнавание изматывало, но и завораживало: все казалось, не сегодня, так в следующий раз что-то наконец откроется, произойдет желанное единение души с чем-то огромным и теплым, и вместо нынешнего бесцветного существования пойдет какая-то совершенно другая, настоящая и яркая жизнь. Александр понимал, что для этого нужно сделать усилие, но какое именно, сообразить не мог. Поэтому его хватало только прислушиваться к тому, что выводили хор и дьякон да нараспев читал священник у алтаря за царскими вратами.
В этот день, помимо обычной литургии, был, видимо, какой-то особый церковный праздник: женщины пришли в нарядных платках, и вообще народу в храме набралось больше обычного. На аналое рядом с главной иконой лежал резной деревянный крест, обрамленный венком из живых астр, и все новоприбывшие обязательно подходили, били кто поясные, кто земные поклоны и прикладывались к нему. Межутов тоже подошел, неловко поклонился, коснулся прохладного дерева губами. На мгновение уловил легчайший кипарисовый аромат, а больше не ощутил ничего, и от этого почувствовал себя неуютно.
Над головами бойко и весело затрезвонил небольшой колокол, певчие заняли свои места на клиросе, и началась служба. Поначалу, как обычно, Александр слушал внимательно.
Его поражало, что на этом старинном, угловатом и тяжеловесном языке с многочисленными "аще", "яко же" и "паче" можно петь, что это пение звучит естественно и от него что-то смутное ворочается в душе, даже когда смысла понять невозможно. Сегодня он особенно ясно ощущал чужеродность этого языка, а вернее, наоборот, свою чуждость ему, и это вдруг показалось страшным несчастьем. Шершавые слова царапали слух, мешали, мелкими занозами ныли в сердце. Построение фраз напоминало узор на какой-то жесткой дорогой ткани, вроде парчи или плотного шелка; у этого узора была своя логика, но непривычная, неудобная, как будто и не предназначенная для понимания людьми.
– Человек, яко трава, дние его, яко цвет сельный, тако оцветет: яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает места своего…
Потом Межутова захватили и отвлекли собственные раздумья, так что он ненадолго очнулся, только когда запели второй антифон. Александр стоял, склонив голову, смотрел на носки своих башмаков и не мог понять, что же его так взволновало. Мысли метались суетливо, беспорядочно и как будто захлебывались, ни одну не удавалось додумать до конца.
– …хранящаго истину во век, творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущим…
Горечь не проходила. Напротив, слова псалма усиливали ее, своей чуждостью обостряя чувство отъединенности. Межутов вдруг с тоской осознал, что, не будучи своим здесь, он давно перестал быть таковым и там, в мире, шумевшем снаружи: в кругу прежних знакомых, среди привычных вещей, даже в звучании собственных стихов…
"Господи, господи, что за тайное уродство скрывается во мне? Почему я не могу просто жить и быть довольным судьбой, как все вокруг? Я еще не стар, не жалуюсь на здоровье, у меня хорошая семья, мне в жизни сопутствует удача. Меня окружают неплохие люди… Ты ничем не обидел меня на этой земле. Чего же мне еще не хватает?"
– Господь решит окованныя, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженныя, Господь любит праведники…
"Говорят, поэзия – это дар Божий. Мы так привыкли к этим словам, так затаскали их в кухонных диспутах и высокопарных банкетных речах, что придали им оттенок рутинной пошлости и совсем перестали вслушиваться в смысл. Если это священный дар, то как можем мы использовать его так необдуманно и своевольно, и даже намеренно обращать против Дарителя? Жуть охватывает, когда представишь, какой властью над чужими умами и душами мы обладаем, какие ключи находятся у нас в руках…
Было время, когда творчество приносило мне невыразимую радость, в нем была суть всей моей жизни, любви, надежд: все, что я имел, все, что меня окружало, было неизбежно пронизано им. Почему же теперь все изменилось? Я по-прежнему пишу, я признан современниками, того и гляди, еще при жизни угожу в классики… Читатели обращаются ко мне с благодарностью: многим мои стихи приносят радость и утешение. Отчего же мне кажется, что я мечусь в замкнутом кругу, из которого нет выхода? Откуда этот идиотский вопрос "зачем", на который я никак не могу найти ответа? И почему, почему мне в голову все чаще приходит подозрение, что все лучшее во мне медленно, но неуклонно разрушается, и все настойчивее мне хочется умереть?"
– …распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, един сый Святыя Троицы…
Распахнулись царские врата, священник в праздничном облачении вышел кадить. К прозрачному сладковатому аромату свечей примешался плотный, терпкий запах ладанного дыма. Многочисленные огоньки вокруг заметались от движения воздуха, и иконные лики как будто приблизились, меняя выражение… Александр вздрогнул и тайком огляделся. Здесь было довольно много молодых мужчин, но по их лицам он почти не мог прочесть, что они сейчас чувствуют. Лица женщин, наоборот, казались ему раскрытой книгой, таким умиротворенным внутренним светом лучились многие из них. Люди странно преображались, попадая сюда: Межутову трудно было представить, как большинство их держатся и ведут себя в другой обстановке – на работе, в транспорте, в институтской аудитории… Он хотел понять, что же такое с ними здесь происходит, но ум предлагал какие-то слабые, искаженные версии, от которых делалось не по себе, потому что сердце сразу распознавало фальшь и Александру самому трудно было поверить, что такие отвратительные мысли могли прийти ему в голову.
– Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Блажени плачущие, яко тии утешатся… Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся… Блажени…
"Почему Твои дары бывают так мучительны, Господи? Чего Ты хочешь от меня, в конце-то концов? Видишь, мой образованный ум творческого интеллигента бессилен понять Твой замысел насчет моей судьбы.
А может, все эти метания – просто симптомы депрессии, временное явление? Может, мне лечиться нужно, а не терять время, стараясь соединить разорванные нити, назначения которых я и сам не знаю… Что же, что же случилось? Был талант в радость, а теперь он гложет изнутри, как равнодушный желтоглазый хищник, разъедает душу, как щелочь, и я ничего не могу с этим поделать. Во мне сейчас так много злости и раздражения, Господи, на всех и вся… Ну, если Ты наделил меня даром слова, ведь это же зачем-то было нужно? Ведь не просто так это случилось – не для того, чтобы потешить мое самолюбие, выделив меня среди других, не для моей личной славы, может, и вообще не для меня… Что я должен сказать или сделать? Как мне понять Тебя, ответь же, как?"
– Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас…
"Ну не может человек выскочить из своей шкуры, Господи, понимаешь! Не можем мы дойти до самых важных вещей без подсказки. Много о себе полагаем, мним себе всесильными, все понимающими, а как припрет по-настоящему, так хоть волком вой – никак! Бывает, и о петле с нежностью подумаешь, и о пуле… Не может быть, чтобы Ты этого хотел от меня! Разве я все уже сделал, на что был способен, и мне пора уходить – вот так, отчаянно, по-сиротски? Что же такое этот Твой дар – раковая опухоль, заражение крови, чахотка? Почему мне так больно, почему, за что?"
Дьякон нараспев читал какое-то из посланий апостола Павла. Голос его тек между светлых деревянных колонн, мягкой волной толкался в сердце.
– …потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков…
Горьковатый комок набухал в горле и душил, так что пришлось даже расстегнуть воротник рубашки. Подумалось, что в такие моменты, наверное, большое облегчение приносят слезы, да вот беда: Межутов не умел плакать – с подросткового возраста ни разу не плакал по-настоящему, а уж после того, как вернулся с войны, и подавно. Он снова кинул взгляд по сторонам. Народу еще прибыло, стояли даже в проходе. Теперь батюшка читал из Евангелия.
– Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет… – уносилось под невысокий купол и куда-то дальше, без преград.
"Боже, ведь Ты еще при рождении наделяешь кого-то из нас и пылающим углем, и змеиным жалом, и тем даешь нам возможность иногда – в странной, нечеловеческой тишине – слышать Твой голос. Но приходит день, когда этого становится мало, и вот мы мечемся и бьемся головой о стену – и ничего не можем, потому что нужно еще что-то, чего у нас нет и взять его нам на земле неоткуда. Что же, Господи?"
Он в смятении глядел на престол, на сверкающие золотом рожки светильника, на Книги в драгоценных переплетах. Потом врата закрылись, и ненадолго все как будто погасло. Межутов почти не слышал Херувимской и последующих молитв, но когда мощно зазвучало многоголосое "Верую", вдруг встрепенулся. Он не знал Символ Веры наизусть, да и пел плохо, поэтому просто время от времени шептал, с трудом двигая пересохшими губами. Чего он ждал, на что надеялся, он уже и сам не знал, был как в бреду, но все казалось, чья-то воля ведет его сквозь горячку, заставляя мысли цепляться одна за другую и длиться, длиться, все больше распаляя внутри мучительный жар.
"Почему нам мало человеческих слов, человеческих чувств? Откуда в нас эта страшная, нестерпимая жажда… Пророчества? Так вот как зовется это желание стать больше, чем просто смертная оболочка, желание быть с Тобою и вести к Тебе! Боже мой, Боже, как же такое может сбыться в короткой нашей жизни, и чем же за это должно быть заплачено? И жало, и угль, и сам душевный огонь – ничто, даже хуже того – верная смерть, если однажды Ты не призовешь нас, и если мы не последуем за Тобой"…
– Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне. Осанна в вышних…
Когда наконец вынесли Святые Дары и народ потянулся к Чаше, Межутов отошел в сторону, в изнеможении прислонился к стене, не занятой иконами. В храме было даже не тепло, а жарко, но Александр обнаружил, что теперь его знобит. Под благословение он подошел как во сне и церковь покинул сам не свой.
Он присел на скамейку за оградой, машинально похлопал себя по карманам – в кои-то веки по-настоящему захотелось курить. Как назло, пачка сигарет лежала забытой дома, в ящике стола в кабинете. Оставалось просто откинуться на жесткую спинку, подставив лицо слепящим солнечным лучам, слушая, как прихожане спускаются с крыльца, прощаются друг с другом и уходят, кто по отдельности, кто семьями или небольшими группами. Затихающие в отдалении голоса усиливали одиночество и несчастье Межутова. У него было чувство, что ему только что подписали жесткий приговор, причем не без его собственных активных, хоть и косвенных усилий. Вроде бы он нашел ответ на главный мучивший его вопрос – и это не принесло облегчения, а наоборот, породило множество других, еще более болезненных проблем. Нужно было обдумать все в тишине, но тишина вдруг куда-то подевалась: деревья шумели слишком громко, слишком близко звучала резкая перекличка машин, а в голове царила настоящая какофония, словно кто-то неведомый старался оглушить Межутова и этим довести его до исступления…
Прошло с полчаса или даже больше. Почти все разошлись, появился дворник с метлой и принялся сгребать в кучу опавшие листья. На дворнике была ватная телогрейка, старые джинсы и потрепанные кроссовки. Зато на голове гордо поблескивала пижонская кожаная кепка, а из-под нее на затылке торчал забавный хвостик темных волос, перетянутых резинкой. В долговязой фигуре чудилось что-то знакомое.
Дворник поднял голову, остановился, опершись на метлу – и Межутов узнал Диму.
Странно было не то, что они встретились, а то, что этого не случилось раньше. За три месяца кое-кто из прихожан примелькался Александру, некоторых он даже узнавал, если приходилось сталкиваться где-то еще. Такую приметную личность как Дима и запомнить-то было нетрудно. Но Межутов ни минуты не сомневался, что здесь они видятся впервые.
Дима его тоже сразу признал и от неожиданности изобразил кривоватую улыбку. Александр опять почувствовал себя неловко: он не знал, как правильно поздороваться. Наконец, поколебавшись несколько секунд, сказал:
– Бог в помощь!
Дима в ответ ухмыльнулся шире и подошел. Видно, ему еще не доложили о невнятной реакции Межутова на его стихи.
– Здравствуйте! – светски сказал он, присаживаясь рядом. Александр тут же пожалел, что вообще открыл рот. Ему не хотелось терять то ощущение, которое поразило его в храме, нужно было понять всю важность, все значение того, что с ним там происходило… Но обыденная жизнь, кипевшая даже здесь, совсем рядом с церковными стенами, засасывала стремительно и верно, как трясина. Неужели и шрама не останется на том месте, где недавно болело?
– А я как раз про вас вспоминал!
Александр усмехнулся краешком рта.
– Да ну?
Дима фыркнул. В нем чувствовалась та же ершистость, которую Межутов заметил на встрече в литобъединении, но она была как будто смягчена местом, где они сейчас столкнулись. После пережитого в церкви Александру не хотелось ни лицемерить, ни юлить, ни даже иронизировать. Ему вообще хотелось остаться в полном безлюдье, наедине с собственными переживаниями. Без Димы.
– Вспоминал, правда. Даже вот…
Дима вытащил из кармана ватника один из межутовских стихотворных сборников, предпоследний, изданный лет пять-шесть назад. В левом верхнем углу виднелись библиотечные метки, сделанные фиолетовой ручкой. Чернила слегка расплылись, и надпись уже не так бросалась в глаза, потому что вся обложка книги была выполнена в духе акварельных разводов по мокрой бумаге. Сборник так и назывался "Батумские акварели", в нем была собрана лирика, привезенная Межутовым из круиза по Черному морю примерно за полгода до того, как на Кавказе вспыхнули первые боевые действия. Александр не очень любил эту свою книгу. Во-первых, потому что Кавказа, о котором в ней говорилось – величавого, мудрого и гостеприимного, – уже не существовало. Во-вторых, он никогда – ни до, ни после этого, – больше не писал чистую лирику, поэтому многие стихи из сборника до сих пор звучали для него непривычно – так, как будто в них не хватало чего-то важного.
Межутов испугался, увидев книгу у Димы в руках. Ему было, в сущности, все равно, понравились Диме его стихи или нет, и обсуждать их сейчас и здесь совсем не хотелось. Тем более, что потом наверняка пришлось бы переходить к Диминым творениям, что-то объяснять, высказывать свое мнение, которое начинающему пророку точно бы не понравилось… К счастью, Дима почти сразу убрал книжку: то ли почувствовал смятение собеседника, то ли и не собирался о ней говорить, а просто упомянул к слову.
– Я все смотрел на вас тогда, на нашем сборище, и думал… Потом даже хотел подойти и спросить, когда все закончилось. Вы там говорили, что талант определяет всю жизнь человека… Скажите, а для вас лично писать стихи – это жизненная необходимость?
Межутов подумал с минуту, оторопев. Потом честно признался:
– Нет.
– То есть, вы можете писать, а можете и не писать?
– Ну… вроде того.
– А ведь говорят: "Если можете не писать – не пишите"!
Александр пожал плечами. Он терпеть не мог эту расхожую фразу.
– Мало ли что говорят. Наступает какой-то момент в жизни, когда чувствуешь, что так надо. Можно и не делать, конечно, но стоит попробовать. Я всерьез начал писать только после армии, когда… возникла потребность кое-что осмыслить. Другие способы не подходили.
Дима слушал невнимательно, поэтому Межутов даже засомневался в собственных словах и замолчал.
– Понимаете, – вдруг сказал парень, – Римма Львовна меня хвалит, а я-то вижу: в моих стихах все не так, как мне нужно. И я уже много раз решал, что брошу писать, но получается примерно как с курением – клянешься, что больше никогда, а рука сама тянется к пачке. Как вы думаете, поэзия – это болезнь или естественная потребность вроде дыхания? Может, это лечится как-то? Не помру же я, в самом деле, если вдруг перестану марать бумагу?
Александр поймал себя на том, что начинает проникаться к Диме симпатией. Сам он уже не мог рассуждать на подобные темы так вольно, как раньше – мешало что-то шершавое, болезненное, выросшее в душе за последний год почти непрерывных внутренних терзаний, как невидимая опухоль или нарыв. Но Димины сомнения были чем-то похожи на его собственные, так что ему даже почудилось какая-то близость между их душами. Пусть дальнее, но родство.
– Дыхание – это очень романтично, конечно. Есть ведь и другие "естественные потребности", не менее насущные. Почему бы с ними не сравнить?
Он думал, что Дима обидится, но тот охотно рассмеялся шутке.
– А какая разница?
– Что значит "какая"? Можно писать стихи так же, как дышать, а можно – так же, как в уборную ходить. По-моему, разница ощутимая.
– Ну… наверное, да. Здесь я, похоже, не додумал.
"Знал бы ты, сколько тебе еще предстоит "додумывать!" – пронеслась тоскливая мысль в голове у Александра. Он продолжал, сам не замечая, как увлекается:
– Если пишут не все – значит, эта потребность не так уж естественна. Если даже те, кто пишет, могут и не писать, то, возможно, она – вообще разновидность роскоши. Когда твоя жизнь никак не зависит от того, черкнул ты сегодня несколько строчек или нет – то, значит, это не насущная необходимость, а что-то вроде прихоти. Согласен?
Дима искоса посмотрел на Межутова. В этом быстром взгляде была недоверчивость, но за ней Александру вдруг снова почудилось уже знакомое, холодное, даже как будто инородное любопытство. И усмешка.
– У вас, Александр Николаевич, все слишком просто получается. А как же священное звание Поэта, Божий дар и прочие высокие материи? Жало мудрыя змеи? Угль, пылающий огнем? И неужели все это, – Дима похлопал себя по карману, из которого торчал крешек "Батумских акварелей", – написано легко и быстро, за чашкой кофе?
– Не все, – уклончиво ответил Межутов. Пушкинские слова в устах Димы неприятно его поразили: он услышал в них перекличку со своими собственными мыслями в храме, и ему почему-то стало от этого тревожно. – Хотя и за чашкой, бывало, тоже пробовал. Священное звание – это, конечно, здорово, но, боюсь, не про меня. Я-то просто в себе и в окружающем пытаюсь разобраться. Наверное, это действительно прихоть, но в повседневности все так перепутано: время течет, одно событие наслаивается на другое, смысл их размывается, очень быстро утрачивается. Вот поэтому я в стихах свою жизнь заново перемалываю и смотрю, какая выходит мука…
– Ну, и какая же?
Александр поморщился: заданный с явной иронией вопрос был похож на выстрел и отозвался неожиданной головной болью. Откровенничать расхотелось.
– Серенькая, если честно. То ли жить надо лучше, то ли молоть…
Молодой поэт глубоко вздохнул, вытянул длинные тощие ноги, которые, как с внезапной жалостью почудилось Межутову, отличались от палки его метлы только тем, что были продеты в узкие дудки джинсовых брючин.
– Да уж… А ведь тяжело бывает смириться с тем, что ты – не Пушкин! – вдруг ни с того ни с сего сказал Дима, то ли опять ерничая, то ли всерьез.
Межутов с грустью понял, что говорят они на совершенно разных языках и болят у них совершенно разные места, но спорить не стал: он помнил, как в молодости тоже с трудом примирялся с тем, что каждый талант имеет границы. Ему только все меньше нравилось это настойчивое упоминание Пушкина. С одной стороны, понятно: Пушкин всегда первым приходит на язык, когда начинают рассуждать о поэзии. С другой, ведь и сам он тоже, стоя на литургии, вспоминал именно Пушкина, и именно то стихотворение – про "жало мудрыя змеи" и "угль, пылающий огнем"…
– Это точно. Тут нужно только хорошенько взвесить, смог бы ты за свою гениальность платить по высшему разряду или нет.
Дима пожал плечами, вернее, даже не пожал, а дернул в раздражении.
– Да кто сейчас платит-то? Царя нет, охранки нет, цензуру последнюю и то скоро снимут… В Сибирь за стихи давно уже никого не ссылают. На дуэлях не дерутся. Вот вы за свой талант много платите?
Александр почти физически почувствовал, как Димины пальцы небрежно теребят в кармане телогрейки картонную обложку "Батумских акварелей". Что ответить, он не знал. Попытался пошутить:
– Считается, что это мне за него платят! – но тут же пожалел о сказанном: вышло цинично и пошло, как будто соврал на ходу.
Зато Дима, похоже, был очень доволен ответом.
– Вот-вот, – сказал он с усмешкой. – Мне нравится, что вы про это откровенно говорите. А то, бывает, напустят тумана: дескать, мучаюсь духовными исканиями, а сами просто спиваются. Безволие – вообще болезнь творческих людей. Не сопьется, так застрелится, не застрелится – так повесится или утопится, или наркоты переберет… Или еще бывает – из окон выходят. Чего только не придумаешь по слабости характера! Да, стихи – это такая штука: только заболей ими по-настоящему – сожрут…
Александр с изумлением взглянул на собеседника. Он не ожидал такого резкого поворота в их разговоре и теперь чувствовал, как в сердце вползает незнакомый ледяной трепет.
– Это ты о чем?
– Да как же! О том же, о чем и вы – о свободе выбора! Или о чувстве меры, если хотите. Вы вроде бы в шутку сказали, что поэзия может быть прихотью. Но в этой шутке – большая доля правды. Вот для вас стихи – не жизненная необходимость, вы отвели поэзии какое-то место в своей душе, она там и сидит. Вы – ее хозяин, а не наоборот. Хотите – пользуетесь ею, не хотите – не пользуетесь. И это правильно! А поступи вы иначе – и сгложут вас, высосут и выбросят. Тогда уж точно – только руки на себя наложить…
Межутов тщетно пытался определить, иронизирует собеседник или говорит всерьез.
– Кто сгложет?
Дима повернул к нему лицо. Его зрачки показались Александру неправдоподобно черными и безжизненными.
– А не все ли равно кто?
Повисла странная, зияющая пауза.
– Где они, гении – Блок, Цветаева, Белый и прочие? – продолжал Дима. – Чем закончили, как жили? Отдались на волю сил, которых обуздать не могли. Вы только представьте себе их существование. Как они творили, захлебываясь в собственных стихах, как переставали быть собой в те моменты, когда через них говорила чистая поэтическая стихия…
– Бог?
– Да хоть Бог, если хотите. Сами на себя примерьте – смогли бы вы? Вот это я понимаю – плата за талант!
Говоря это, Дима переменился. На щеках у него теперь горел румянец, в глазах появился яркий блеск, от чего они не утратили бездонности, а как будто даже сделались еще темнее. Александр наблюдал за ним, как завороженный, со все возрастающим интересом. Это был болезненный, нездоровый интерес, но не поддаться ему было почти невозможно.
– Растворение, понимаете? Когда тебя нет, нет поэта, нет материального тела, только вибрации души, и эти вибрации подстраиваются под звуки, которые выше, мощнее и одновременно тоньше, чем возможно здесь, среди этой грубой материи. Когда твоя воля – ничто, и поэтому ты никак не можешь влиять на поток, который течет сквозь тебя, оттуда, с высот, – сюда, на бумагу. Ты сам никогда не смог бы так подобрать слова. Эти образы никогда не пришли бы тебе в голову. У тебя никогда не вышло бы так задеть чужие души. Ты – просто звено в мистической цепи, сам по себе ты ничего не значишь, но именно поэтому через тебя на свет и появляется Поэзия, а не жалкий, искаженный лепет человеческого рассудка… Да, тебе больно. И в груди жжет, и язык уже как будто тебе не принадлежит, и люди смотрят на тебя, как на инородца. Но вот за это – за Поэзию, приходящую в мир, можно и страдать, и умереть!
Александру все хотелось задать вопрос, но он почему-то не мог решиться. И в области сердца теснилось непонятное чувство – жалость пополам с… завистью. Никогда, никогда сам Межутов не переживал в своем творчестве такой полной одержимости, какую иногда подозревал в других, более талантливых, – такой, чтобы все остальное отступило и перестало что-либо значить! Ни книги, ни частые публикации не заставляли его обманываться. Он давно и хорошо знал границы своего дара.
Наконец все-таки удалось вытолкнуть:
– Это у тебя… так?
– У меня? – Дима жестко усмехнулся. Он теперь выглядел старше, не ровесником Александру, конечно, но и не юнцом, которому еще нет двадцати. Смотрел перед собой, словно сам ненадолго сделался медиумом и видел что-то, незримое для собеседника. – У меня – не так. Я когда пишу, то как будто свои внутренности в мясницкое корыто вываливаю. Не любоваться же собственными кишками, правда?
– Эк ты о себе ласково…
– А как иначе? Вот я вас читаю, – парень положил ладонь на карман телогрейки, но тут же убрал, словно обжегся. – Ведь вы красиво пишете! Не спешите благодарить: для меня "красиво" – это совсем не комплимент. Вы своих читателей завораживаете, говорите им, что этот мир прекрасен. А потом они ставят вашу книжку на полку, выходят из квартиры и видят…
Дима повел рукой перед собою. Межутов тоже невольно огляделся, пытаясь понять, что именно внушило его собеседнику такое отвращение. Синий лоскут неба между осенними кронами деревьев казался ослепительным. Ветви в последние дни и ночи успели наполовину оголиться; сквозь жидкую, уже не золотую, а серебристую, тронутую первыми ночными морозами листву тоже просвечивала синь. Через невысокий боярышник, пламеневший длинными резными язычками, металлически поблескивала река. С противоположной стороны, за аккуратно подстриженной лентой кустарника, катилась улица, то и дело мелькая в просветах между ветвей пятнами разноцветных болоньевых курток. Все вокруг казалось почти невыносимо ярким, живописным и мимолетным, и от этой мимолетности и яркости сердце невольно начинало ныть, как в предчувствии тяжелой болезни или смерти.
– Ну, и что же такого страшного они видят?
Дима недоуменно взглянул на Межутова, явно не понимая, о чем тут можно спрашивать.
– Вранье. Пустоту. Распад. Вся красота, которую вы так трогательно воспеваете, смертна и бессмысленна. Она приходит из перегноя и уходит в перегной. Прятаться от этой истины – смешно и недостойно. А вы еще и других от нее уводите.
Александр так глубоко вздохнул, что даже немного заболели легкие. Он мог бы рассказать Диме и про грязь, и про смерть, и про чувство оставленности всеми и вся на каком-нибудь скалистом уступе, лицом в чуждую землю, среди грохота, отвратительного жужжания стальных осколков и гаденького подвизгивания пуль. Но был заранее уверен: его не поймут.
– Я не знаю, почему принято думать, что истина обязательно должна быть грязной, отвратительной и зловонной. Почему красивое не может быть истинным?
– Да потому что сгниет оно рано или поздно, вот почему! И все равно будет вместо красоты – гниль и вонь.
– Но ведь есть же и вечная красота, – Межутов кивнул на блестящий церковный купол.
Дима только махнул рукой.
– Церкви тоже гниют. Нет, Александр Николаевич, не существует в нашем земном измерении ничего по-настоящему прекрасного и долговечного. Все истинное и красивое находится совсем в других местах, далеко отсюда. И прикоснуться к нему можно только так, как я уже сказал. Но для этого нужно быть Поэтом с большой буквы. Вот вы говорите: поэзия, мол, дар Божий…
Александр точно помнил, что говорил эти слова не он, а сам Дима, но не возразил, только слушал. На него вообще напало странное оцепенение, какая-то вялость, как будто в осеннем воздухе от разлагающейся палой листвы невидимо расползался яд. В прелести окружающего пейзажа теперь чудился смутный подвох. С реки повеяло ледяной сыростью.
– О поэзии вообще сказано много красивых слов. Но кого из настоящих поэтов ни возьми – один в нищете умер, другой на дуэли убит, третий повис в петле, четвертый утонул по пьяни… Не рассчитан, выходит, Божий дар на нашу слабую натуру. Мужества он требует, которого у нас нет, нечеловеческого, неземного. Талантом одарили, а с мужество – ищите, мол, где хотите. Негде нам его искать. Высосал талант у перечисленных вами гениев все душевные соки, выжрал все нутро… А мы восхищаемся – мол, какие они молодцы, как писали! Да нам их пожалеть бы – так с ними обошлись!
Мимо пробрела немолодая женщина в каком-то по-деревенски бесформенном сером плаще и теплом платке. Подозрительно взглянула на Александра, словно он показался ей пьяным или больным. Достигнув ворот с деревянным крестом, женщина на ходу повернула голову и с любопытством оглядела через ограду церковный двор. Она явно не была здешней прихожанкой.
Александр машинально следил за ней взглядом и на минуту или две отвлекся, сам того не заметив. Когда очнулся, Дима страстно говорил:
– Тут ведь смотря кто кем повелевает. Если творчество – твоя прихоть, то и ладно. Живи спокойно, смирись с тем, что ты не гений. Не всем дано, в конце концов. Но если тобой правит стихия, если твой талант тебя полностью захватит, то ты больше не будешь себе принадлежать. Ты или его безвольным рабом-алкоголиком, или потенциальным самоубийцей станешь, или…
– Или? – тупо спросил Межутов.
– Или кем-то вроде пророка, – неохотно признал парень. – А что толку? Пророки не лучше прочих кончают. Тот же Пушкин, например. И потом, а что это такое – пророчество? Это же бич и для вас, и для других! Вы думаете, людям нравится, когда их обличают или учат, как надо жить? Вы, может, и не захотите никого обидеть, но стихи у вас такие окажутся, что всякий читатель подумает: "О чем это он говорит? О том, что я чему-то там не соответствую? Идеалу какому-то небесному, призрачному? Да пошел он со своей проповедью!.." Люди, Александр Николаевич – существа низкие и грязные, как бы мы на их счет ни заблуждались. Хотите вы или не хотите, а придется на каждом шагу пороки обличать. Или вам будущее провидеть хочется? Так на это гадалки есть. Смех смехом, но ведь их предсказания иногда сбываются…
Александр с трудом скрыл внутреннее содрогание. Он чувствовал себя крайне неуютно. Дима как будто интуитивно угадывал ключевые слова его, межутовских, размышлений в храме. И рассуждения димины очень мало походили на рассуждения юноши, недавно вынырнувшего из подросткового возраста. Сколько же он должен был пережить, передумать, перестрадать, чтобы такое в нем родилось?
– Ты думаешь, пророчество – это только обличение и предсказание будущего?
Дима небрежно пнул ободранным носком кроссовки кленовый лист, который только что спикировал ему под ноги.
– Да нет. Видимо, еще что-то. Знаете, мне вообще кажется, что если у кого-то вдруг просыпаются пророческие способности, то такой человек не столько предсказывает будущее, сколько его творит. Скажет про другого: "Он завтра умрет!", глядишь, тот вдруг взял – и действительно умер. И не понять, то ли предсказали его смерть, то ли накаркали… Ну, это уже из другой оперы. Мы-то про цену таланта говорим и про свободу творчества. И приходим к выводу, что свобода может быть только тогда, когда творчество – это прихоть. А если не прихоть, то оно – болезнь, уродство. Или, скорее, юродство. Зато вот такой поэт-юродивый, с большой буквы Поэт, действительно может позволить себе все – и не троньте его, не смейте указывать, что и как он должен писать! Вы согласны со мной?
– А душа как же? И его, и читателя…
– Что – душа? Про душу что-нибудь точно узнать трудно. Ее не пощупаешь и под микроскопом не рассмотришь. После смерти она вообще куда-то девается, не разберешь куда. Кто из поэтов в рай попал, а кто в ад, мы не знаем. И про душу читателя, которого не видели и никогда не увидим, мы тоже угадать ничего не можем. Один над стихом поплачет, а другой, прочитав, за топор или веревку схватится. Это от темперамента зависит, вы же за темперамент чужой отвечать не можете. Ну, и где уж тут решить, как правильно поступать, а как неправильно? А в вашем случае, когда стихи – это прихоть, нужно вообще на какие-то жизненные, видимые вещи ориентироваться. Вот у вас книжки выходят, многим нравятся. Мне – нет, но, может, кому-то другому вы своими стихами настроение поднимете, поможете пережить трудные дни. Для этого разве не стоит писать?
– Стоит, наверное…
– Ну, вот!
Александр недоверчиво посмотрел на Диму.
– Тогда зачем ты бываешь здесь? – он снова кивнул на виднеющийся над листвой церковный купол.
Дима покачал головой.
– Ну, я много где бываю. Хожу, смотрю… Здесь у них хорошо, спокойно, конечно. Тишина, как в больнице; красивый древний язык, старинные лица на иконах… Но выйдешь на улицу – и видишь, что вокруг-то все живет и течет совсем по-другому. И думаешь: зачем людям понадобилось настолько отгораживаться от реального существования? Загадка!
Александр слушал его в смятении. Наверное, нужно было спорить, но он не мог. У него вообще было такое чувство, будто его поймали безоружным и теперь размеренно, раз за разом, бьют поддых. Стало жутко: что если Дима прав? И тогда сегодняшняя буря в душе – просто самообман? Поверить в это было мучительно тяжело, но… возможно. Тем более, что толком рассказать о пережитом на литургии Межутов уже не мог даже себе.
На церковное крыльцо вышел медовоголосый дьякон, огляделся в задумчивости. Задержался взглядом на Александре, потом спустился по ступенькам и пошел на задний двор, где располагалась трапезная.
Дима потянулся и поднялся со скамейки. Из взрослого циничного философа он вдруг снова превратился в нескладного паренька в забавном наряде. Смущенно улыбнулся на прощание, видно, чувствуя неловкость от своей чрезмерной разговорчивости.
– Пойду-ка, поработаю немного. Вы не обижайтесь, если я что не так сказал, ладно? И про стихи мои ничего не говорите: я знал, что они вам не понравятся. Всего хорошего!
Он подхватил метлу и, отойдя в сторону, занялся своим нехитрым ремеслом. Межутов посидел еще несколько минут. В душе было пусто, все прежние впечатления будто осенним ветром вымело. Он встал и под мерный шорох Диминой метлы отправился домой.
V.
Из внутренней пустоты родилось недовольство, тяжкая душевная угнетенность. Не то изматывающее напряжение, в котором Межутов пребывал последний год, а наоборот, какая-то неприязнь ко всему, распущенность – от понимания собственного бессилия хоть что-то изменить. Побродив еще с час по городу, Межутов вернулся домой к обеду, заранее чувствуя, что и дома не найдет душевного комфорта. Ел с отсутствующим видом, на попытки жены завести разговор отвечал сухо, а когда та вздумала пошутить над его походами в церковь, взорвался:
– Что ты понимаешь! За все время, что мы с тобой живем, ты никогда ни о чем, кроме денег и тряпок не думала! Только и слышно: дай мне на то, дай на это… Тебе самой-то не тошно?
Уже говоря все это, почувствовал раскаяние: знал, что неправ. Взгляд ежеминутно упирался в знакомые кухонные предметы: уютную клетчатую занавеску в тон обоям, самодельный матерчатый торшер с аппликацией, обшитые пестрой тесемкой прихватки, чистую кружевную салфетку под хлебницей, кастрюльки с едой, знакомые и удобные глиняные чашки… Опомнившись, хотел извиниться, но тут у Насти покраснело лицо, и она закричала в ответ:
– Да? А ты как хотел, интересно? Жить как пан-барон, ничего не делать, только книжечки пописывать? Каждый день одно и то же: подай, принеси, приготовь, обстирай! Еще и в постели обслужи, а то ведь с утра встанешь злой, как собака. А в результате – что? Упреки сплошные! Смотришь на меня как на прислугу…
– Да ты вспомни, сколько барахла ты себе купила на мои гонорары!
– А ты…
Разругались – жутко, безобразно и бессмысленно, как все чаще случалось в последнее время. Только что до биться посуды дело не дошло. Межутов ушел в кабинет, хлопнув дверью, Настя – в спальню, плакать. До самых вечерних сумерек в доме воцарилась гнетущая, холодная тишина. Временами кто-нибудь из супругов выбирался на кухню, нарочито громко звенела ложка в чайной чашке, раздраженно шелестели шаги по недлинному полутемному коридору – и снова все затихало.
Александр сидел за своим столом, пробовал писать – в понедельник нужно было сдать редактору обзор книжных новинок за минувший месяц, – но и эта работа, которая, в сущности, всегда делалась им не без удовольствия и легко, сейчас вызывала отторжение. Чужие имена на книжных обложках казались враждебными, черная на белом графика напоминала изломанных тонконогих пауков. Межутов поднял взгляд от листа бумаги, на котором набрасывал первые впечатления от просмотренных книг (он всегда поступал так, а уже потом, сев за компьютер, по этим наброскам делал материал), и стал бездумно смотреть в окно.
Там, снаружи, теперь было хмуро и ветрено. Хрустальная чистота утра давно растаяла, день на закате куксился, брызгая на стекла каким-то мелким, нелепым дождем, и за окном непрестанно качались электрические провода и мотались то так, то этак сиротски голые, безвольные ветви осин. Уже начинало смеркаться, несмотря на раннее время, и город на глазах подергивался сумерками, похожими на тоскливый серый туман. Дневной свет таял, делался больным и слабым, и от этого, как от зловещего предчувствия, щемило сердце. В домах на другой стороне улицы загорались окна, они казались далекими и несомненно чуждыми, будто по ту сторону их скрывались не люди, а какие-то совсем другие, непонятные и непонимающие существа. Словом, и за окном никакого утешения не было. При воспоминании об утреннем синем небе и трепете осенней листвы всплывало и другое: димины слова о том, что все умирает, гниет, рассеивается… От этого делалось только зябче, усиливалось ощущения несчастья и одиночества.
Межутов включил настольную лампу и задернул тяжелую плотную штору, отгородившись таким образом от промозглого ветрового холода, который царил за окном. Перечитал свои записи, сделанные каких-то полчаса назад, и ужаснулся, такими желчными и несправедливыми они ему показались. Перечеркнул почти все, снова придвинул к себе одну из рецензируемых книжек и стал заново пролистывать, пытаясь вникнуть в суть происходящих в ней событий и ощутить хоть что-нибудь. Не получалось, как будто у Александра неожиданно отказал какой-то очень важный орган чувств. Как будто душа разом омертвела… От этой мысли стало совсем жутко, а тут еще и невидимый ветер за стеклом разгулялся, все ныл, выл, как потерявший подругу хищник. И когда в прихожей зазвонил телефон, Межутов бросился к нему, словно к спасению, и даже обрадовался, услышав в трубке голос Смурнова, донесенный до него из далекой Москвы.
– Здоров, друг Санчо! – крикнул Смурнов. Он давно так называл Межутова, хотя причин для этого у него, если не считать отдаленного созвучия имени, не было. – Ну? Надумал ко мне в гости, или как?
– Надумал, – признался Александр. Он был рад Смурнову, но одновременно растерян, потому что не ждал, что тот позвонит сегодня. Он вообще чувствовал себя так, будто выпал куда-то из того года, что был на календаре, а теперь приходилось возвращаться. – У тебя определилось со временем?
– У меня уже месяц назад определилось, – весело сообщил Смурнов, хотя еще на той неделе не мог сказать Межутову ничего внятного по этому поводу. – В четверг, в восемь. У нас обычно в это время и начинается настоящая жизнь. Когда дети спать ложатся! – он радостно засмеялся, и вообще вел себя как ребенок, которого осчастливили погремушкой, так что Александр даже встревожился.
– Гриша, ты в порядке? Я имею в виду…
Смурнов капризно его перебил:
– Знаю я, что ты "имеешь в виду"! Может, хватит уже няньку изображать? Лучше бы порадовался за меня: я такое место оторвал – закачаешься! Знаешь, где будем гулять? В ресторане "Гольфстрим"! Слыхал про такой?
– Нет…
– То-то! Я сам до вчерашнего дня не слыхал. Вчера меня туда друг свозил, Миша Дубицын. Ты знаешь Мишу Дубицына?
– Что-то знакомое… Он издательскими делами не занимался?
– Мишка? Он чем только не занимался… У него чуть ли не целый полиграфический комбинат был. Его кинули, Саша, представляешь? Подвели под монастырь! Он все продал, чтобы рассчитаться с долгами – квартиру в центре, дачу в два этажа, иномарочку свою…
Смурнов питал нежную страсть к иностранным автомобилям, но представить его за рулем Межутову было страшновато. Видимо, работники ГИБДД разделяли это чувство, потому что права Смурнову так и не дали; Александр уже не помнил точно, чем был мотивирован отказ. Он слушал приятеля со все возрастающей тревогой, уже почти не сомневаясь, что тот под кайфом.
– Гриша, а кто еще у тебя в четверг будет?
Смурнов поперхнулся какой-то очередной подробностью страданий Миши Дубицына и надолго задумался. Наконец сказал устало и бесцветно:
– Да хрен их всех упомнит…
Потом, помолчав, вдруг снова воодушевился:
– Долька Армянова обещала прийти. Костик Инютин со своей новой пассией. Она такая… Ну, увидишь. Не то актриса из Ленкома, не то какая-то секретарша… Блондинка, тощая, как доска. Но в нужных местах довольно выпуклая. Ну, кто там еще? А, ну наша знойная парочка – Жора с Валериком. Ты помнишь Валерика? Ох, он растолстел! Был бы бабой, я бы решил, что он на сносях, чесслово! Из Союза нашего целая команда прикатит, во главе с Борисычем. Он, кстати, про тебя как раз спрашивал, явишься ты или нет. О! Наталка будет! Вот кем тебя можно заманить, ага? Я ее, правда, на днях с мужиком каким-то видел, но это не важно – она всегда при мужиках. Та-а-акая, знаешь…
Смурнов восхищенно хрюкнул в трубку. Межутов представил, как он пытается нарисовать свободной рукой в воздухе соблазнительный силуэт их давней общей знакомой, и невольно вздохнул. Гриша несколько раз начинал лечиться от наркомании, но каждый раз срывался, не пройдя курс до конца, и вскоре принимался за старое. Он был незлой, нежадный человек, но слабый и податливый, как осиновые ветви за окном. В свои сорок два года он выглядел так, словно ему было уже под шестьдесят.
Следующий вопрос Смурнова, выскочивший из какой-то тайной ямы подсознания, застал Межутова врасплох:
– Ты с Настькой своей еще не развелся?
– Почему это я должен был…? – Александр осекся, вспомнив, что Настя дома и может его слышать. Несмотря на участившиеся в последнее время ссоры, он еще ни разу не помышлял о разводе.
– Ну… – Смурнов ненадолго задумался, потом все так же весело сообщил:
– Да мы все еще с той поры, как вы поженились, ждем, когда же ты с ней разведешься! И Наталка ждала, я знаю. Только ей потом надоело. И я, между прочим, ее понимаю!
– Гриша, мы разговариваем уже двадцать минут. Побереги деньги. Кстати, сколько с тебя запросили в этом "Гольфстриме"?
– А, пустяки! Гораздо дешевле, чем в других местах. Но ты не беспокойся: сервис там – закачаешься! Слушай, а как, вообще, у тебя дела? Что-то я все о себе да о себе…
– Потом, Гриша, потом. Лично встретимся, тогда расскажу. Я еще не брал билет, завтра пойду возьму. Сразу тебе позвоню и сообщу, ладно? И умоляю, хотя бы до четверга держи себя в руках. Тебе же надо выглядеть… Ну, пока!
Не слушая протестов на том конце провода, Александр положил трубку. Бесчувственность, безвременность ушли, вместо них нахлынула мука. Он знал Смурнова уже много лет, еще с армейских времен. Когда-то они были очень близки. Никто в то время не мог предположить, что однажды Гриша уедет завоевывать столицу, а кончится все тем, что он там сядет на иглу. Несколько лет назад, только узнав о болезни Смурнова, Межутов и еще один "афганец", Денис Хриплов, устроили его в клинику на лечение. Он ушел оттуда задолго до окончания курса, а после второй попытки закатил им безобразный скандал с криками, что он свободный человек и имеет право жить и умирать по собственному выбору. Денис, у которого бабушка была немкой и с детства учила его, что нужно в любых условиях сохранять лицо, после этого резко отошел в сторону. Межутов уехал домой, и Смурнов получил наконец возможность неограниченно пользоваться отвоеванной свободой. Собственно, Гриша мог протянуть еще довольно долго, но его безволие с годами становилось все заметнее, и Межутов, разговаривая по телефону с московскими знакомыми, все чаще ловил себя на мистической уверенности, что вот-вот услышит весть о его смерти.
После разговора Александр долго не мог успокоиться и снова приняться за работу. Он легонько толкнул рукой стопку книг на столе, так что те веером рассыпались по необъятной ореховой крышке, которая, несмотря на многие годы службы, блестела, как глубокое гладкое зеркало. Там были два стихотворных сборника людей, которых Межутов знал лично, собрание искусствоведческих эссе престарелого Настиного преподавателя, какая-то маловразумительная городская проза неизвестного местного самородка, издавшего ее безо всякой корректуры на собственные деньги, подборка абсолютно не смешных, как показалось Александру, газетных юморесок… Межутову вдруг представились эти люди, по которым он едко и язвительно прошелся в своих заметках. Представились ясно, детально, до выражений лиц, как будто он всех их когда-то видел и мог сейчас обратиться к ним. Ему захотелось спросить их с той наивной прямолинейностью, которая остается, когда тебе уже не нужны изящные философские рассуждения, а нужна только голая истина: "Зачем? Зачем вы писали это? Почему вы стремились к тому, чтобы написанное вами увидело свет? Вы хотели известности, славы – или что-то совсем другое подвигало вас на эти усилия? Почему вы решили, что ваши мысли, чувства, воспоминания должны быть услышаны в этом мире, и так переполненном мыслями, чувствами, воспоминаниями?.." Но они не могли ответить ему, и он не был уверен, что, даже встретив их вживе, услышал бы что-то внятное.
Он подошел к окну, за которым, как разгулявшийся кнут, подсвистывал ветер, чуть отдернул штору. Огни дальних фонарей на улице колебались, их то и дело перекрывали танцующие ветви осин. Окна домов да зажженные фонари, да фары проезжающих внизу машин – и октябрьская промозглая темнота вокруг, и в ней – ветер и дождь. Если спиваются, садятся на иглу, стреляются слабые, то как назвать того, кто внутренне весь сжимается, глядя в осеннюю ночь? Вот Ты, Господи, сказал нам: возьмите крест и идите за Мной. Но как же идти, когда там – секущий дождь, порывы ветра рвут полы пальто, отвратительны слякоть и тьма и страшна неизвестность, а здесь – тишина и тепло, и привычный свет настольной лампы, и уютный ореховый стол, и множество мудрых, неслышно воркующих книг на полках стеллажей? Как же мне идти от всего этого и куда? Ведь мы же не в Иудее начала времен, мы в конце двадцатого столетья, нам нельзя без крова, нам не положено… Что я такое несу, причем здесь "не положено"? Мне просто страшно, Господи, вот и все. А много ли среди нас таких, кто будет верить Тебе до конца, каким бы он ни был? Здесь у нас есть дома, в которых нам уютно, а куда зовешь нас Ты, Господи? Невозможно и думать без содрогания, чтобы вообще выйти за дверь в такой холодный и враждебный осенний вечер…
Межутов наконец сел в кресло, но вместо того, чтобы работать, закрыл глаза. У него была отличная зрительная память, и он мог, только чуть сосредоточившись, представить каждый уголок их с Настей трехкомнатной квартиры, доставшейся им от его деда. Он видел аккуратную прихожую, в которой стоял старинный, еще прабабушкин ларь. Настя хранила в нем несезонную обувь. Он мог мысленно проследовать в кухню, где на стенах, помимо всевозможной утвари, были развешаны семейные фотографии в красивых застекленных рамках. Ему легко представлялась гостиная с ее величественным многоярусным буфетом, по дверцам и стенкам которого вилась старинная резьба "под барокко", с пухлыми креслами и диваном, покрытым пушистой ковровой накидкой. А еще была спальня, и там хозяйкой была Настя, поэтому именно сюда перекочевало из гостиной прабабушкино же трюмо с двумя бронзовыми Меркуриями наверху и специальным потайным ящичком, где барышни некогда хранили любовные записочки и деньги "на булавки"…
Весь дом был полон давно знакомых, родных, осязаемых вещей, а с ними – каких-то многочисленных, хрупких, зачастую полузабытых или плохо осознаваемых связей. Эти вещи со временем стали такой же неотъемлемой частью жизни, как сама квартира, как стихи, как люди вокруг. Они хранили память о прежних поколениях и от этого, казалось, делались еще более значимыми и, желали этого люди или нет, вторгались в душу, требуя себе места в ней…
Все вместе и каждая в отдельности эти вещи всегда были для Межутова символом надежности и домашнего тепла. А сейчас он чувствовал себя пойманным в тайные, невидимые силки, как будто множество тонких, но прочных нитей затрудняли его движения. Все вдруг одновременно потеряло всякий смысл: и дом, и надежность, и вещи, и связанная с ними память…
Боже мой, да неужели и память сама по себе ничего не значит? Тогда зачем мы вообще живем на земле? Вопросы, вопросы, а ответов нет, как не было…
На полке стеллажа, среди папок с газетными архивами и фотоальбомов, стояли межутовские стихотворные сборники. Александр машинально вынул один, перелистал, поставил обратно. "Имя для войны". Книга, в которую он как бы сложил, спрессовав, свои воспоминания об армейской службе. Там были враждебные горы, развороченные от попаданий снарядов машины, зловеще-алые пятна на белом – расцветка госпиталей, пронзительные заунывные песни муэдзинов, разносившиеся далеко по округе, и вдруг – блаженно-равнодушные лики каменных Будд, которым звук рвущихся невдалеке мин нисколько не мешал наслаждаться состоянием самадхи… До этого сборника был еще один, самый первый, но его сейчас почему-то не оказалось на месте. Прошло довольно много времени после возвращения домой, прежде чем Александр смог составить цельную книгу из своих армейских стихов. Он помнил, как все время работы над ней ощущал горечь и сухость во рту, как будто туда попадала мелкая пыль. В ту пору и в прессе, и на кухнях модно было рассуждать о том, что та война была бессмысленной, что люди погибали на ней зря. И на сердце у Межутова было тяжело, пока он не закончил, не увидел готовый сборник, не подержал его в руках и… не поставил на полку. Тогда какая-то эпоха в его жизни окончательно завершилась.
А теперь, когда он вспомнил об этом, ему показалось, что все могло иметь какой-то совсем иной, особый смысл, который он тогда не сумел ни разглядеть, ни открыть другим. Да и сейчас по-прежнему не может…
В памяти Александра всплыл страстный димин монолог о стихии, о Поэзии с большой буквы. На мгновение опять кольнуло в сердце что-то, похожее на зависть, но сразу отступило. Сейчас, когда вокруг была полутьма кабинета, а не красиво умирающая осенняя природа, в словах молодого поэта угадывалось что-то неестественное, некая нарочитая экзальтация. В ней была тонкая горьковатая сладость, которая по-прежнему влекла, но чутье, обостренное размышлениями в одиночестве, предупреждало, что эта сладость иллюзорна. Не потому что Межутов не верил в священное происхождение настоящей Поэзии, а потому что ему не нравились расплывчатая природа того места, откуда она происходила, и человеческое безволие, которого, по словам Димы, требовал ее приход в мир. Он вообще не любил ситуаций, когда от него ничего не зависело.
Александр стряхнул с себя наваждение и обратился к более светлым воспоминаниям
Он вспомнил, как, вернувшись из армии, чувствовал себя не при деле в этом городе, который никогда за всю историю своего существования не слышал бомбовых взрывов. Как временами замирал перед каким-нибудь домом, будто видел его в первый раз, или перед едва начавшим зеленеть деревом в парке, или на деревянном причале, от которого, разрезая воду на две кудрявых пенных полосы, отходил "Метеор". Из таких странных, вроде бы мимолетных, но постепенно сложившихся в его сознании в картину мирной жизни впечатлений и получился самый первый сборник – "Солнечный причал". Межутов огляделся, пытаясь вспомнить, куда он мог сунуть эту книгу, почему ее нет на полке…
Но неожиданное, смутно знакомое, томительное полужелание-полупредчувствие заставило его забыть про сборник.
Александр быстро сел за стол, перевернул исчерканный лист бумаги и едва осознано, почти машинально, стремительными росчерками вывел на нем стихи, пришедшие ему в голову:
– От солнечного причала
Однажды, к исходу дня,
По темным тропам печали
Господь проведет меня…
Продолжение так и просилось на бумагу, но Александр вдруг застыл, не решаясь снова прикоснуться к поверхности листа. Он смотрел на написанное в непонятном страхе, и перед ним как будто таяла какая-то завеса. Его мысленному взору открывалась перспектива, уходящая все дальше во времени и теряющаяся там, в постоянно дрожащей дымке, так что оставался видимым только какой-то небольшой отрезок будущего – его, межутовской, жизни.
Он ясно увидел эти темные тропы. Они были длинными и унылыми, в точности как больничные коридоры, и со всех сторон на Межутова давили тоска и тусклая безысходность, а еще изматывала вялая, ноющая сердечная боль. Потом открылась комната, взгляд переместился через какое-то мутное пятно к всклокоченной кровати. Одеяло ломано морщилось вокруг исхудавшего тела, на неестественно тонких синеватых руках виднелось множество уколов от капельницы, а с жесткой казенной подушки смотрело в пустоту безмерно усталое, серое, безразличное лицо – на лбу испарина, в глубоко запавших глазах уже ни тени узнавания…
Это все было так ясно и четко, что горло Александра сдавил сухой горячий спазм, и от ужаса к самой гортани подступила тошнота. Межутов сидел и знал, что будет именно так, как он увидел, все так и будет. Он смотрел на бумагу и удивлялся, как его разом помертвевшим пальцам удается все еще держать ручку. Слова стучались в его виски, требуя воплощения, а на него нашло болезненное безволие, тело окаменело, только сердце в груди то замирало, то гулко ухало – и каждый раз казалось, оборвется.
Как же это? За что, почему? И если такое, и правда, суждено, то зачем мне заранее знать об этом? Неужели же это… Боже мой! Неужели это и есть то, что я вымолил? Та самая одержимость пророческим даром, стихия, огонь – тот самый бич для людских душ? Или наказание за то, что посягнул на недозволенное, или… Что?
Теперь его бил озноб. Дальнейшие строки все настойчивее просились на бумагу, но он не решался их написать, а точнее, уже сознательно противился им, потому что в памяти вдруг всплыли слова Димы о том, что словом можно творить будущее…
Случится ли все, что я видел, если эти слова не будут написаны – ни сейчас, ни завтра, никогда? Если я не приму их, пусть все сложится по-другому! Пусть я останусь таким, каким был до этой ночи, пусть меня раздирают душевная неустроенность и сомнения, пусть я сдохну от тоски, но пусть все остальное будет по-другому!..
Будет ли?
Он сидел среди ночной тишины, уже не обращая внимания на ветер и дождь за окном. Ему казалось, что поблизости больше никого нет, как будто четыре написанных строки разом перенесли его в другое, необычное, заветное измерение, куда ему раньше очень хотелось попасть. Но теперь он чувствовал только растерянность, а душа его металась в незнакомых сумрачных лабиринтах, и ей было холодно и жутко.
Потом слова начали откатываться назад, как волны, все дальше и дальше. Они ненадолго возвращались, но уже не подходили так близко, и Александр чувствовал, что еще немного – и они исчезнут. Он понимал теперь их вдохновенный вызов, или, точнее, зов, последовать за которым означало наконец обрести тот самый вожделенный смысл всего – и жизни, и творчества. Но он по-прежнему не мог заставить себя писать, мучимый ужасом от того будущего, которое ему приоткрылось.
Как же там было сказано? "Да минует Меня чаша сия…" Господи, пусть минует, пусть! Разве в человеческих силах – знать такое и все-таки продолжать верить? Если бы я не знал, если бы Ты не открыл мне, я бы, может, и… Не слушал бы Ты моей мольбы, пренебрег бы ею, оставил бы меня в моей боли – как было бы хорошо! А теперь – что мне делать и как с этим жить? Как же, как же?… Господи, да ведь это все, что у меня, в действительности, есть! Стихи, успех, творчество – ничего мне не надо, все это не главное, все наносное… Почему Ты выбрал не меня для этих мук? И что я теперь могу изменить, как оспорить, есть ли способ избежать этого?.. Нужно подумать… вспомнить… Как же там было дальше? "Но пусть не как Я хочу, но как Ты"… Боже, Боже…
Было ли Ему так же страшно, как мне сейчас? Что Он чувствовал, когда это говорил? Как смог Он произнести такие слова?
Из полутемных углов кабинета, куда не доставал свет настольной лампы, веяло ледяным холодом. Опять вспомнился Дима, его странный, безвозрастный, изучающий взгляд, мимоходом брошенное, как сорное семечко в придорожную землю: "И церкви гниют"…
Господи, Господи, неужели это ради нас, малодушных, неверных созданий, Твой Сын добровольно пошел на крест? Я так и вижу эту толпу внизу – тех, кто требовал Его смерти. Им ведь было плевать, что Он невиновен, плевать, что казнь будет позорной. Они были озлоблены и алкали жестокого зрелища. Они… Мы. Люди. Мы глумились над Ним, когда Он шел, сгибаясь под тяжестью креста, и бросали камни, и выкрикивали хулу. Но Он же видел наши лица, перекошенные злобой. Он видел наши души – слепые, черствые, не способные ни на понимание того, что происходит, ни на благодарность! И не призвал сонмы ангелов, чтобы спасти Себя, а все равно захотел спасти нас…
Почему? Почему?!
В доме стояла такая тишина, что даже в своем страшном напряжении Межутов услышал негромкий стук. За стеной, в спальне, что-то упало, глухо ударившись о пол, и потом опять стало тихо. Александр вздрогнул, уронил ручку на стол и резко поднялся, чувствуя ненадежность собственных ног. Минуту или две он стоял, как оглушенный, потом, подгоняемый смутной тревогой, все-таки не выдержал и пошел взглянуть, в чем дело.
В просторном коридоре было темно, кухонная дверь равнодушно поблескивала мертвым стеклом. Александр машинально взглянул на ручные часы: без двадцати час. Свет падал только из проема межутовского кабинета да призрачно сочился сквозь плотную розово-золотистую штору, которой был занавешен вход в спальню. Настя всегда ложилась рано, и Межутов удивился, что лампа на прикроватной тумбе все еще не погашена. Он прислушался, но никаких звуков не услышал, за шторой все было неподвижно. Светлая занавесь как будто притягивала к себе и, постояв минуты две в нерешительности, он все-таки подошел и отогнул ее.
Настя спала. Александр почти сразу заметил и причину услышанного из кабинета негромкого стука – рядом с круглым пушистым ковриком у кровати, на котором стояли настины домашние туфли, на паркете лежала маленькая книжка в твердом переплете. Она упала неудачно: раскрывшись посередине, кверху обложкой, так что листки внутри загнулись и помялись. Межутов узнал книгу – это был самый первый сборник его стихов, "Солнечный причал". Видимо, когда он днем, уже после ссоры выходил на кухню поставить чайник, Настя незаметно пробралась в кабинет. Вот почему книги не было на месте.
Он вошел, стараясь ступать неслышно, нагнулся и поднял сборник. Понять, что именно Настя читала, сейчас не представлялось возможным, страницы перелистнулись. Но Александр все знал и так. В "Солнечном причале" было много стихов, негласно посвященных ей. Это, вообще говоря, было дитя их любви – детей из плоти и крови у них не было, так уж сложилось. Настин образ скреплял все впечатления тех послеармейских, послевоенных месяцев, ее присутствие освещало почти каждую набросанную словесно картину, она вообще заменяла там солнце. Лучи, пробивавшиеся сквозь листву, были похожи на пряди ее светло-каштановых волос. Ее голос слышался в отдаленных трамвайных звонках и задорном переплеске волн, накатывавших на берег, когда по реке проходил белый теплоходик. Она жила в тех стихах естественно, как дыхание, как трепетание бликов на стене, как полнота бытия, которую, может, только и ощущаешь по-настоящему, когда ты молод и влюблен…
Александр стоял, держа книгу в руках и испытывая трепет, почти сравнимый с тем, что только что испытал за стеной, у себя в кабинете. Он не сразу осмелился взглянуть на спящую жену, а когда взглянул, от сердца ненадолго отлегло. Он боялся увидеть на подушке то лицо, которое открылось ему в видении – обескровленное смертельной болезнью, измученное и одновременно мучительное. Но это было будущее – близкое или отдаленное, он не знал, – а пока Настя просто спала, положив голову на согнутую в локте руку, и ее волосы лежали на подушке мягким, пушистым золотом.
Межутов осторожно положил книгу на тумбочку, привычно наклонился, чтобы по обычаю поцеловать жену в щеку, но на полпути замер, вглядываясь, как будто над незнакомкой.
Он видел округлый гладкий лоб, который посередине пересекала едва заметная вертикальная складка: Настя была слегка близорука, а очки носить стеснялась и только временами щурилась, сдвигая брови. Тонкие, припухшие от слез веки слегка подрагивали при движении глазных яблок, как будто сон, который она видела, заставлял ее то и дело переводить взгляд с одного предмета на другой. Длинные ресницы были темными и сами по себе, а тут, еще влажные, слиплись стрелками, и по щеке от их кончиков до края губ протянулись по гладкой коже две узкие матовые дорожки. Густые широковатые брови сейчас казались слегка приподнятыми, отчего все лицо сделалось светлее и беззащитнее. Сомкнутые, четко очерченные губы притягивали взгляд. Межутов почувствовал волнение, может быть, такое же, как много лет назад, когда впервые осмелился прикоснуться к ним, – он не помнил точно.
И на этом лице не читалось сейчас ни скорби, ни упрека, ни обиды, а наоборот, лежало такое глубокое, сияющее умиротворение, от которого почему-то перехватывало дыхание.
Настя никогда не писала стихов. Ну, может быть, когда-то в юности, как делают многие девушки на пороге первой любви. Межутов даже не взялся бы назвать жену романтичной или артистичной, или еще как-нибудь в этом же роде. Она работала реставратором по фарфору и стеклу в местной галерее искусств, была неплохим, но редко востребованным мастером своего дела. Большую часть времени проводила дома среди кастрюлек, набора чистящих и моющих средств, множества дел в большой квартире, которые занимали все ее время да, похоже, и мысли. Никаких особых талантов Межутов за женой не замечал, кроме, как он вдруг понял теперь, одного: любить и прощать – без снисходительности и театральности, без требования искупительных материальных жертв вроде обновки или похода в ресторан, а просто как нечто само собой разумеющееся. Он и привык относиться к этому как к само собой разумеющемуся, и только сейчас впервые задался вопросом: что именно давало ей силы на эти терпение и любовь?
Александр вспомнил их ссоры в последние месяцы, чудовищные слова, которые они бросали друг другу в запале. Его глаза мельком скользнули по обложке книги на прикроватной тумбе, по полустертым от частого чтения буквам заглавия – "Солнечный причал".
Как случилось, что то солнце осталось с нею на всю их совместную жизнь, ведь прошло столько лет? Он в растерянности раскрыл сборник и с недоумением смотрел на знакомые строчки – ему казалось, что Настя должна видеть там совсем другое. Для него в этих стихах была свежесть юности, память о возвращении живым, о возрождении дома души на пепелище… Для нее стихи сохранили его лицо – настоящее, любимое лицо, которое когда-то привлекло ее и навсегда стало частью ее жизни. Которое она, наверное, видела даже сквозь теперешние, совсем другие черты, так часто искаженные гневом, усталостью, раздражением. Которое оставалось для нее вечно светлым и неизменным, несмотря на рутину, годы и Бог знает что еще… Ту истину, ради которой можно перетерпеть и снести все на свете, даже муки, даже… даже смерть.
Межутов погасил свет и долго сидел в темноте, оглушенный, почти неживой. Потом встал и медленно двинулся в кабинет. Книга упала с его колен, когда он поднялся, но, видно, попала на коврик – коснулась пола почти беззвучно. Он уже не стал ее поднимать.
После спальни кабинет дохнул в лицо неестественной, книжной затхлостью и одиночеством. Межутов сел за стол, машинально сложил в стопку разбросанные брошюры и придвинул к себе листок со стихами. Каждая из наскоро набросанных строчек звучала теперь немного по-другому, но когда он дошел до последней чернильной точки, перед глазами его снова поплыли все те же, ненаписаннные им, слова. Они теперь двигались неторопливо и величаво, одно за другим проплывали и уходили в темноту, за пределы зрения, но Александр знал, что если он решится их написать, они вернутся и послушно лягут на бумагу. Сейчас он мог разглядеть за ними даже больше деталей. Ему казалось, что он узнает больницу, что мимо по коридору проскользнула знакомая человеческая фигура… Видимое по-прежнему вызывало в нем трепет, но это был уже не трепет страха, а мучительная смесь острой жалости, нежности, любви и бесконечного горя…
Межутов взял ручку и стал писать.
Когда все кончилось, у него почти не оставалось дыхания. Он вздохнул судорожно, так что на миг даже свет настольной лампы для него померк и пропал, а сердце, и без того болевшее, казалось, сжалось в маленькую раскаленную точку. Возможно, теперь написанное следовало сжечь, но он не решился и пока просто спрятал листок в ящик стола. Что-то внутри него стонало и пело, пело и стонало; еще вчера он не мог и представить подобного сочетания.
Довольно долго Александр не двигался, обессиленный, но потом к боли в груди добавилось еще и жжение в глазах. Он прижал веки пальцами, как часто делал после долгой работы за компьютером, и отняв ладони от лица, с удивлением посмотрел на них. Кончики пальцев были мокрыми. Мокрыми были ресницы, когда он моргнул. Что-то мокрое неторопливо ползло по его левой щеке.
Межутов положил голову на руки и впервые за много лет заплакал.


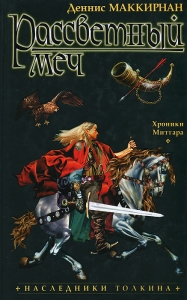

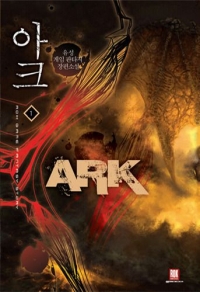
Комментарии к книге «Пророк», Майра
Всего 0 комментариев