Аркадий Застырец Кровь и свет Галагара
Первый урпран
Исполнившийся неизъяснимого трепета над нежным розоватым раздвоенным ростком в грядущем могучей стальноствольной айолы не больше ли того изумится, когда сквозь толщу тончайших преград проникнет в тайну набухшего семени? Взойдя ж в разумении своем по ступеням бесконечного предшествия, и вовсе обомлеешь в попытках постигнуть ведающего начало всех начал.
Так отступим с благоговением и начнем, откуда начнется, ибо не всеведущ рассказчик и не сведущ внимающий ему. Заслонив ладонью хрупкий росток, подхватим разрешившееся семя под корни, чтобы перенести его в новую почву, и не станем напрасно тратить время в попытках открыть тайну тайн. Скажем запросто: здесь начинается книга. И вот тебе шаги для разбега, прежде чем устремишься от урпрана к урпрану. Ведь ты никогда не бывал в Галагаре.
За пятьдесят восемь зим до начала описываемых здесь событий Великий Восточный Край объединился под властью Нотроца Справедливого, сломившего последнее сопротивление и загнавшего мятежное войско Астола в Золотистое болото. Прочный мир обеспечило мудрое правление в землях, простирающихся от подножия неприступных гор Ло до Бурой чащобы. Мер, Хакор и Лифаст путем любви, обмена и бескровных приключений быстро достигли достатка и процветания.
Южный Край от берегов Силитора до хребта Шо четырнадцать зим спустя вывел из пламени распрей юный вождь из рода айзурских дарратов по имени Син Ур. Ему-то и подчинились жители Гатора Холтийского, Саина и Миглы, Ивора и Глиона, готовые по первому зову Син Ура, нареченного Белобровым, отстаивать в бою границы и всякую пользу Цлиянского царства, неотрывными частями коего сделались все эти города и прилежащие земли.
Син Ур заключил мир с Форлийским царством, образовавшимся незадолго до этого в Северной Земле, когда крылатые форлы спустились из своих высокогорных кохулов и, отвоевав этот плодородный край у четырех племен, полностью ими уничтоженных, сделали своей столицей Желтостенный Корлоган.
Примерно в то же время к западу от Шо появилось могучее Крианское царство со столицей в Саркате. Властелин его по имени Цфанк Шан, поддерживая перемирие с Миргалией на севере и Тсаарнией на юге, за сорок одну зиму до начала описываемых событий привел свои корабли вверх по течению Кора под стены форлийской столицы. Благодаря коварству Цфанк Шана и несчастной судьбе крылатого племени, криане завоевали Северную Землю, истребив всех до единого форлов.
Четырнадцать зим спустя, крианские войска вошли в Сарфо и подчинили Саркату Тсаарнское царство, уничтожив правившую там династию и посадив в тсаарнской столице крианского наместника.
А еще через пять зим воодушевленный легкой победой и возросшим могуществом Цфанк Шан при помощи своего флота захватил цлиянские острова в Зеленом море и атаковал цлиянские корабли в бухте Коллара. Разбив цлиян на море, криане пересекли Пограничную степь, отделявшую царство Цли от бывшей Форлии, столкнулись с цлиянским войском у берегов Асиалы и проиграли большое сражение на Плаунном лугу.
Укбатский мир на время закрепил шаткое равновесие между царствами Кри и Цли. По условиям договора цлияне лишились военного флота в Зеленом море и стремительно наращивали свои сухопутные силы. Так или иначе, оба могущественных царства готовились к неизбежной войне.
За семнадцать зим до ее начала цлиянский царь Син Ур Белобровый испытал глубокую скорбь и великую радость. Его возлюбленная супруга Синезубая Дан Бат умерла родами и подарила царю наследника, нареченного именем Фта. Этим событием открывается первый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Накануне рождения царевича Ур Фты было, говорят, в различных местах повсюду в Галагаре немало предзнаменований. Зерварское море у восточного берега вздыбилось белой волной высотою с хорошую гору, а на гребне ее, блистая в солнечных лучах красными плавниками и черной чешуей, плясало и извивалось невиданное чудище. В озеро Ях упала зеленая звезда, и до утра светились воды таинственным светом, поднимавшимся из глубины. Одну из горных долин Шо заполонили неведомо откуда прилетевшие стаи птиц с ослепительным опереньем: уничтожив добрую половину урожая, они взмыли в воздух и навсегда исчезли, подобно закатному облаку, чьи золото и пурпур под вечер плавятся и тают на горизонте. Те, кому довелось своими глазами видеть странные вещи, только дивились и ужасались, и не знали, чего ожидать.
Цлиянский царь Белобровый Син Ур даже не взглянул на новорожденного. Не сдержав рыданий, он сотворил адлигалу, грудью пал на смертное ложе своей возлюбленной супруги Синезубой Дан Бат и обнял ее — словно хотел удержать на пороге вечного мрака. Но смерть уже одолела прекрасную царицу и проложила ей дорогу в Бездвижный Пустой Океан.
— Велика наша скорбь, непобедимый царь, но велика и радость, — сказал тогда мудрый советник Од Лат, приподнимая на вытянутых руках крепкого младенца, сразу, на диво собравшимся, широко раскрывшего большие темные глаза. — Дан Бат родила тебе сына.
— Фта, Фта ему имя! — воскликнул Син Ур, едва взглянув на наследника.
(Можно предположить, что Фта — имя, неразрывно связанное с какими-то скорбными событиями из истории айзурских дарратов. — А. З.)
В тот же лум советник Од Лат, заподозрив недоброе, поднес младенца к полыхающему факелу, пристально вгляделся в его необыкновенные глаза, поводил перед ними ладонью и скорбно запричитал: — О, горе, горе всем нам, великий царь! Наследник Ур Фта родился слепым!
Ни мудрый советник, ни потрясенно притихшие вокруг приближенные и родичи царя, ни сам цлиянский повелитель не знали истинной причины постигшего их несчастья. Син Ур выпрямился, подошел, тяжело ступая, к высокому окну и распахнул ставни. Не слыша рыданий, криков и плача, наполнивших покои, великий царь простер бестрепетную руку на восток и обратился со словом упрека и бесконечной печали к самому дварту Су Ану, щедрому и благородному покровителю Цли. Слово Син Ура было тщательно записано советником Од Латом.
Начальные строки его таковы:
Вот пора, когда горю не загородишь дороги; Вот и радости пора, прекрасная, как ясный рассвет. Приговоров судьбы не оспоришь, как бы ни были строги, Воля дварта — закон, силы выше которого нет. Но случилась пора — гаварду упрямому пара. Принял радость — вдел в правое стремя ступню, Сел верхом и в левое стремя ступил — принял горе! Что же делать теперь? Как выполнить волю твою? О Су Ан, где же путь и поводья?..Так говорил Син Ур, и всяк в Айзуре всей душою вторил ему.
Внимал его Слову и великодушный Су Ан. Ведомы были ему горести Цлиянского царства. И напрасны были упреки, тщетны были вопросы, посылаемые ему Син Уром. Ибо Су Ан в это самое время сошелся в поединке с заклятым и злобным своим врагом, чернородным двартом Ра Оном, чьи вредные козни и страшные заклинания умертвили прекрасную царицу Дан Бат и едва не лишили жизни рожденного ею наследника. Загодя открылось чернородному дварту, что первенец Син Ура станет могучим витязем и единственным существом во всем Галагаре, способным его умертвить. И задумал Ра Он уничтожить грядущую погибель в колыбели. Тут-то и стал у него на пути могучий Су Ан. Высоко в горах Шо на цветущем Лиглонном лугу встретились дварты с угрозами и проклятиями, и не сразу, но все-таки сошлись на одном: стяжавший победу в предстоящем поединке получит право распоряжаться жизнью цлиянского наследника. На этом настоял Ра Он, и его могучий, уверенный в победе противник, сознавая унизительность дальнейших препирательств, наконец, твердо произнес:
— Я принимаю твое условие, синеокий обманщик, исчадье Мокморы, и, хотя не в силах, в отличие от новорожденного Ур Фты, предать тебя смерти — по крайней мере, сумею загнать твое грязное тело в землю до самого подбородка и выиграю поединок.
— Сперва, ублюдок, тебе придется на коленях сползти по склонам Шо, куда я заброшу тебя в четверть лума, — отвечал зловредный дварт, не без опаски посверкивая мертвенно-синими глазами.
— Тому, кто не владеет силой тайного слова, только и остается — изрыгать грубую брань да пустые угрозы, — сказал на это Су Ан. — Однако, ты не стоял предо мною, как теперь, без малого четыреста зим. Быть может, за это время у тебя накопилось несколько новых фокусов? Так показывай мне их скорее, чем упражняться в болтовне! Я просто сгораю от любопытства!
— От любопытства или от чего другого — желаю тебе сгореть дотла, и как можно скорее! — не унимался Ра Он.
Наконец, взмыв над лугом на высоту не менее уктаса, соперники разлетелись в противоположные стороны, развернулись и ринулись навстречь враг врагу. На лету, явившись с легким хлопком, прыгнул в когтистую пятерню Ра Она короткий стальной трезубец, чьи беспощадные острия формой напоминали концы гигантских рыболовных крючков. Захохотав подобно матерому хаци, Ра Он метнул свой трезубец, нацеленный прямо в грудь Су Ану, за сорок керпитов. Но тот, даже не стараясь увернуться, в свою очередь кинул в противника точно такой же, отметил царапинами панцирь Ра Она и сбил его с ног. Что же до первого трезубца — Су Ан пропустил его через себя, и он, извиваясь и визжа, ушел в землю за спиной всесильного дварта.
Едва коснувшись земли, разъяренный Ра Он взмыл вверх на несколько керпитов, завис брюхом книзу, вытянул растопыренные пальцы по направлению к Су Ану и, сжимая и разжимая их, принялся выпускать в него каменные шары. Они летели один за другим, словно камнепад, чудом изменивший направление. Но Су Ан, не двигаясь, встречал летящие камни молниеносными движениями прямых указательных пальцев. Десятки увесистых шаров лопались как пузырьки прибрежной пены, так и не достигая цели.
Очень скоро эта бессмысленная игра наскучила зловредному дварту, и он неожиданно ринулся вниз. Выпрямившись в рост на широко расставленных ногах, Ра Он задрожал и завыл, словно стая голодных порсков. Изо рта у него показалось нечто безобразное, изжелта-белесое, липкое и тягучее — будто побледнел и вывалился язык. В следующий лум он уцепился когтями за нижний край порожденной им бесформенной мерзости и растянул ее — сначала до размеров тсаарнской тонкой корсовой лепешки, а затем, не останавливаясь, — до величины большого плаща или покрывала. Завершив эту пакостную работу, Ра Он вдруг скомкал ее плод и со свистом швырнул его в Су Ана, словно мяч для игры в бозабар. На лету белесый комок ожил, развернулся и с отвратительным шелестом окутал светлую фигуру благородного дварта с ног до головы. Су Ан даже пальцем не пошевелил, и его ненавистник уже разразился торжествующим хохотом, но тут же умолк, в злобном изумлении наблюдая за тем, как рядом с фигурой, окутанной мерзким покрывалом, уже окаменевшим в кристальном блеске, появляется, будто солнце из завесы утреннего тумана, подлинный Су Ан во всем блеске и великолепии своего расшитого ослепительно-радужными лоэрагдами пышного таглона.
Благородный дварт легонько дунул на окаменевшее покрывало, повторившее его очертания, — и оно рассыпалось в мельчайшую серебристую пыль. По мановению руки Су Ана облачко этой чудесной пыли вытянулось, приняв форму копья с двумя пирамидальными щитками и ромбовидным наконечником. Чудесное копье с быстротою молнии устремилось прямо в поганое лицо чернородного дварта — и тот коротко взвыл, уже от бессилия и отчаянной злости. Но копье, достигнув цели не причинило ему особого вреда — вновь рассыпалось пылью, лишь запорошившей глаза чернородному дварту и ослепившей его на несколько лумов. Однако Су Ан не спешил воспользоваться возникшим от этого преимуществом — он стоял неподвижно и удовлетворенно улыбался.
Разъяренный Ра Он немедленно, как только протер глаза, возобновил атаку. На сей раз, что-то пробормотав себе под нос, он щелкнул когтистыми пальцами у себя над теменем — и в тот же лум рядом с Ра Оном выросла прямо из земли его точная копия. Когда он щелкнул второй раз, копия, подобно зеркальному отражению, повторила его жест, и теперь против Су Ана стояли четыре чернородных дварта. Раздался новый щелчок — и Ра Он предстал в восьми одинаковых лицах, еще один — и их стало шестнадцать. В считанные лумы горизонт, простиравшийся перед Су Аном, заполнила целая армия Ра Онов. Заполнила — и двинулась на него, обступая со всех сторон. Кольцо стремительно и грозно сжималось. На расстоянии не более уктаса в руках бесчисленных монстров разом сверкнула смертоносная сталь тяжелых крианских зайгалов. Казалось, ничто не может спасти благородного дварта и затмевающие блеском свет солнца клинки вот-вот обрушатся на его гордую голову, покрытую лишь ниспадающим голубым оперением. Но в самый последний лум Су Ан, презрительно скривив губы, плюнул четырежды — прямо перед собой, влево, вправо и назад через левое плечо. И вкруг него выросла стена ревущего белого пламени до пояса высотой. Языки неумолимого огня сразу же перекинулись на призрачное войско, составленное из двойников Ра Она, взметнулись к небесам невыносимые визг и стон — и наваждение растаяло без следа еще внезапнее, чем появилось. И только подлинник чернородного дварта остался стоять перед Су Аном и вынужден был продолжать поединок.
Он перекувырнулся через голову и, когда встал на землю, уже вращал, словно мельница крыльями в ураган, двумя длинными тонкими мечами. Су Ан не стал дожидаться его приближения и сам двинулся навстречь врагу с таким же, что и у него, оружием в руках. Две сверкающие на солнце свистящие стальные мельницы со звоном столкнулись, разном отпрянули, взлетели и вновь столкнулись. Внезапно движение прекратилось. Мечи скрестились и словно срослись. Поединщики застыли лицом к лицу, изрыгая холодное переливчатое пламя.
— Жалкий трус! — Прошипел Ра Он. — Ты огражден своими чарами, которые, как всякому известно, сильнее моих!
— Никому и никогда не давал повода Су Ан называть себя трусом! — Едва сдерживая гнев, ответил Су Ан. — Если ты полагаешь, что без помощи чар мы будем сражаться на равных — что ж, на время откажемся от них оба.
— Согласен. Откажемся оба, — выдавил из себя Ра Он, и в тот же лум и гений Су Ана, и бес его противника — прозрачной леверкой и темным мохнатым индригом — взлетели над головами своих хозяев. Оружием в последней схватке стали боевые топоры: простые, без украшений и магических надписей, они взмыли над Лиглонным лугом на длинных ребристых рукоятях, словно две неполные луны.
Первым атаковал Ра Он, дважды подряд использовав прием «Крест и крюк». Развернув туловище и слегка пригнувшись, Су Ан сперва ответил защитой «Золотая петля», повторную атаку отбил «Вертикальным мостом» и, перебросив топор в левую руку, сделал стремительный выпад «Зуб гаварда». На свое счастье Ра Он угадал направление удара и, пользуясь положением противника, провел «Косящее крыло», рассчитывая задеть его ноги. Но Су Ан вовремя успел подпрыгнуть и одновременно занес топор над головой, чтобы ударить врага в темя способом «Солнце и колокольня». Однако Ра Он упал ничком, откатился вправо, вскочил и попытался уйти из поля зрения Су Ана и ударить его в спину, завершив таким образом прием «Луч, падающий в ущелье». Слишком поздно он сообразил, что его расчет оказался неверным — только когда сам на целый лум потерял противника из виду. Медлительно слово — стремительно дело. Но коварный и трусливый Ра Он успел пробормотать «Ребев-ребем» и вернуть себе колдовскую силу до того, как Су Ан обрушил на него сокрушительный удар.
Словно сквозь мякоть переспелого хирдрифа, прошел топор благородного дварта сквозь тело Ра Она, не причинив тому ни малейшего вреда. В тот же лум злокозненный обманщик, принявший обличье чудовищного цери, хвостом сбил с ног изумленного предательством Су Ана, наступил на его топор огромной лапой и взревел, мотнув игольчатой головой:
— Моя победа, жалкий Су Ан! Смерть тебе, Ур Фта, выродок Син Ура!
Между тем, прозрачная леверка вернулась в сердце Су Ана, и он возвысил гневный голос:
— Твой обман! Твое беззаконие, гнусный Ра Он! Жизнь и счастье тебе, Ур Фта, великолепный наследник Син Ура!
Трижды пытался Ра Он силою страшных таинственных заклинаний умертвить наследника Ур Фту, и трижды великий Су Ан загонял слова зловредного дварта обратно ему в глотку. Наконец, тот уразумел, что смертоносные заклятия, начинающиеся словом «мо», не будут иметь силы в результате обманом вырванной «победы», и прошептал новое заклинание. На этот раз первым Ра Он произнес слово «ыт». А еще говорят, будто было им сказано и такое: «марах», «кор», «цоф», «терец», «талам»… Но в каком порядке проговорил он эти и проговорил ли другие ужасные слова — никому не известно. Вот и ослеп наследник Ур Фта. А его родитель, могучий витязь Син Ур завел бесконечно печальные речи. Говорил он тогда:
Если свет от наследника скрыло злое слово Из пасти вылетев смрадной, на черной вскипев крови, Справь, ослабь и расславь силу слова злого, Силу доброго крова в ответ на злодейство яви!..Тем временем Ра Он взмыл над Лиглонным лугом и, с хохотом вкрутившись в лиловую тучу, собравшуюся на горизонте, исчез. Су Ан побледнел и, наморщив лоб, уставился в эту тучу, выраставшую у него на глазах и круто закипавшую громадными темными клубами.
— Слово мое вмиг догонит Ра Она в любом уголке Галагара, — произнес он задумчиво, как бы отвечая мольбам и пеням Син Ура, хотя и знал, что тот, находясь за тысячу атроров, не может его услышать. — Но злодей угадал секрет заклинания и отказался от начального «мо». Увы, его заклятию суждено сбыться. Слепота уже поразила младенца Ур Фту, и освободиться от нее сразу ему не удастся. Теперь в моих силах лишь назначить условие его непременного прозрения.
И великий дварт Су Ан произнес новое заклинание. Будто бы и такие слова: «фаладар», «лац», «токомор», «цефьер», «скох», «оклиамала»… А может, и не то, может, иные какие никому не ведомые тайные звуки.
В тот же лум предгрозовую тьму над Лиглонным лугом рассеяло блеском молний, громом прорвало сгустившийся воздух — и заросли желтых и розовых лиглонов прибило к земле хлынувшим ливнем. Так что последних слов Су Ана не расслышал бы никто, доведись ему даже стоять совсем близко. Благородный дварт улыбнулся чему-то своему и не стал пользоваться своей чудесной силой, не поспешил укрыться от проливного дождя. Так и побрел напрямик по Лиглонному лугу, в три лума промокший до нитки, объятый светом великолепных лоэрагдов, пламенеющих в блеске молний.
А в чистом небе над Айзуром сияло покуда щедрое солнце, и единственным из цлиян, не видевшим его ослепительно-белого света, был маленький Ур Фта. Он ловил свои ножки всеми четырьмя ручонками и нечаянно улыбался, а над его ложем голосили и плакали безутешные мамки.
Утопая в этом плаче, и завершается первый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Второй урпран
Семнадцать лет спустя, отряды воинов съехались со всего Цлиянского царства в столицу Айзур для участия в весеннем торжестве. Ночью накануне светлого праздника Золоват всюду под стенами Айзура полыхали костры. Со всех концов Цлиянского царства продолжали прибывать отряды. Скрипели повозки, раздавались крики всадников и возничих, рычание гавардов и хлопанье поднимающихся шатровых полотнищ. Зрелище это и шум были по сердцу Белобровому Син Уру. Да и кому в Айзуре не нравилась эта ночь? Ведь можно было сравнить ее с огромным черным в сияющих звездах флагом впереди свадебной процессии. Там, за спиной у развернувшего флаг на волны ветра пестреет нарядная толпа, ревут зулы и рокочут гаргасты, там — ни на миг не избытое, но уже неотвратимое счастье.
Наследник престола, мужавший во тьме слепоты, не мог вполне разделить эту радость и любовь сородичей к чудесному празднику. Но и он, подобно всем цлиянским юношам, мечтал о том, как примет участие в праздничных поединках, с честью пройдет испытания и будет посвящен в воины.
Син Ур сделал все возможное, чтобы хоть как-то восполнить роковой недостаток. Он подобрал для сына лучших наставников, и те научили его пользоваться слухом как зрением и не чувствовать себя беспомощным в схватке. К своим семнадцати зимам Ур Фта хорошо держался в седле, на звук стрелял из лука, изучил все приемы владения мечом, топором, триострым цохлараном, коротким и длинным копьями и еще добрым десятком видов оружия, включая булаву, серп, крианский зайгал и разного рода кинжалы.
Но отец, хотя и видел его успехи, подмечал также малейшие слабости и ошибки. Болью отзывалось на них его сердце. Боясь позора, великий царь не допускал Ур Фту к испытаниям. Он давно убедил наследника в том, что тот появился на свет двумя зимами позднее, нежели в самом деле, и тщательно старался отвлечь его от празднеств Золовата.
На сей раз великий царь дозволил сыну отправиться на охоту в горы Шо, и Ур Фта с нетерпением ждал праздничного утра, когда он во главе отряда пятнадцатилетних юнцов, коих считал своими ровесниками, впервые отправится за ворота Айзура без присмотра наставников.
— Ты чересчур своенравен, Фта, — говорил Син Ур сыну, стоявшему перед ним на освещенной факелами внутренней площадке Западной башни. — Помни, что за стенами города нас подстерегает немало жестоких опасностей: там рыскают свирепые кронги, в пещерах прячутся кровожадные цери, могут повстречаться и чужаки-агары, желающие нам смерти… Будь осторожен в горах и не отступай ни на шаг от своих товарищей!
— Отец! Я не беспомощный младенец! — С досадой воскликнул Ур Фта. — Так неужели я не сумею постоять за себя?
— Не сомневаюсь в том, что сумеешь. Но ты слеп. Горько и тяжело мне лишний раз произносить это слово. Послушайся моего совета — что бы ни случилось, помни: твоя слепота дает преимущество любому врагу.
Мгновенно собравшись, Ур Фта слегка наклонил голову и тряхнул густыми синеватыми волосами, убранными тонкой клакталовой сеткой.
— Ударь меня, — вдруг твердо проговорил он, обращаясь к царю. — Ударь по-настоящему и как тебе угодно — справа, слева, сверху, снизу, прямо в грудь или по лицу наотмашь… Ударь, и ты увидишь…
Не успел он договорить, как Син Ур, бесшумно подступивший сбоку, почти одновременно ударил его в лицо и в спину. Ур Фта отразил только первый удар. Второй же достиг цели и, хотя Син Ур бил раскрытой ладонью не в полную силу, заставил наследника охнуть и податься вперед. Запнувшись о подставленную царем ногу, он полетел вниз лицом, но упасть сумел правильно, мягко откатился, вскочил и мгновенно повернулся в сторону обидчика, сжав кулаки.
— Верно, дружки подыгрывают тебе во время ваших потешных сражений, — усмехнулся царь.
— Нет, отец, — угрюмо возразил Ур Фта, — ты же знаешь, ни у кого из них нет такого слуха, как у меня. Я слышу не только шелест травы, скрип песка или снега под ногами противника. Мне понятны и свист рассекаемого им воздуха, и каждый щелчок от движения его суставов…
— И все же… — строго напомнил Син Ур.
— И все же ты прав, в одиночку я уязвим, и обещаю тебе не разлучаться с товарищами…
На рассвете, верхом на статных гавардах черной и крапчатой масти, в шерстяных газлагах и плащах из расшитой таранчи, вооруженные луками, мечами и топорами рысью проехали по улицам Айзура юные охотники во главе с Ур Фтою и, выехав за ворота, с криками, посвистом и смехом по дороге, слегка припорошенной снегом, умчались за горизонт.
Вскоре по знаку царя, поднявшегося на самую высокую башню, зарокотали гаргасты, жители Айзура высыпали из своих домов, их гости покинули светлые шатры, и все потянулись к площади Зьаф, где всегда происходили главные события праздника. Айзурские девы еще вертелись и прихорашивались у бронзовых зеркал, вплетая в косы скатную сурь и отборные клакталы, подводя угольком глаза или подтачивая ноготки мабровым брусочком. А юноши, не торопясь, подражая взрослой повадке, вызывая то смех, то возгласы одобрения, уже вышагивали по улицам, направляясь к месту предстоящих испытаний… Короче говоря, как поется в старинном цлиянском эрпарале:
Волны долгого холода — В брызги соли и солода! Стар и молод по зову спешат. Солнца ясного молотом Чаша мрака расколота! Снова светлый пришел Золоват…* * *
Тем временем, отряд под предводительством наследника поднимался все выше в горы, уходил все дальше от столицы, закипавшей весенним празднеством. Прежде царевич Ур Фта ни разу не выезжал за пределы простиравшихся вкруг Айзура лугов, где в сопровождении друзей и наставников доводилось ему верхом гонять серых зудриков, подстреливать на звук и с подсказки чернорылую бириссу или вынимать из капкана зубастого задиру кухалли. Но по рассказам опытных охотников царевич знал, что все эти детские забавы нельзя и сравнивать с промыслом на Приоблачных лугах Шо, там, куда вели от подножия крутые извилистые тропы. Гаварды легко проходили по ним на своих мягких и цепких лапах, унося ввысь цлиянских охотников и возвращаясь в долину с грузом обильной добычи. Наследник Ур Фта всегда с восторгом и завистью притрагивался к свежим охотничьим трофеям: к нежному меху и длинной невесомой шерсти, к ветвистым рогам и гладким, словно отполированным вручную, клыкам убитого горного зверя.
Вестимо, теперь, поднимаясь в горы, не мог он обернуться и созерцать родной Айзур: как раскинулся тот в долине величественной звездою с круглой площадью Зьаф посредине. Зато с наслаждением вдыхал царевич слегка заострившийся воздух, наполненный ароматами дерева ави, поздних трав и цветущей айолы. Он не видел, как перебежала тропу перед самою мордой его гаварда и, переливаясь волнами, брызнула по свежему снегу в колючие заросли серебристо-черная вейра. Но он услыхал ее фырканье, шорох взметнувшегося снега и уловил резкий соблазнительный запах прежде, чем его спутники загалдели, приметив, и заспорили, стоит ли преследовать зверя. Не дано было слепому наследнику цлиянского престола полюбоваться стадом гордых шарпанов, вышедших из лесу и неторопливо поднимавшихся заснеженным склоном. Но он раньше других вздрогнул и выхватил стрелу из колчана за спиной, когда взлетел и раскатился эхом глубокий волнующий рев вожака стада. Эф Тун, находившийся рядом, хлопнул его по руке со словами:
— Не стоит, высочество Фта, они чересчур далеко: по меньшей мере два выстрела будет.
Охота выдалась не слишком удачная. После нескольких тщетных попыток подобраться на выстрел к шарпанам юноши на сей раз отчаялись попробовать их темного сладкого мяса. Так что радость охватила всех, когда случай помог им набрести на небольшое стадо большеголовых сапаров, мирно пасшихся на крошечной лужайке за уступом скалы, и подстрелить четырех. С этой-то добычей, отнюдь не богатой, но все же сулившей сытную трапезу под вечер, они и направились в Ализандовый грот.
Был он излюбленным убежищем цлиянских охотников и находился всего в половине атрора от счастливой лужайки. Его высокие своды подпирались множеством ализанд, толщиною не менее тикуба каждая, чьи тонкие густые ветви вверху стелились одной сплошною розоватою кроной. И оттуда в любое время года свисали на длинных шершавых стеблях и нераспустившиеся бутоны, и белые цветы с едва ощутимым, но дивным ароматом, и съедобные продолговатые плоды, служившие прекрасным дополнением к обычным яствам охотничьего пира. А крепкие и гладкие ализандовые стволы использовались в качестве привратных столбов — к ним в отдалении привязывали гавардов. Ныне уж не сыщешь в Галагаре этих чудесных деревьев, а только говорят еще, будто стволы у них были прозрачными, как речная вода. Да это выдумки, верно.
К тому времени, когда сгустился стремительный сумрак, юноши успели насытиться возле костров, не угасавших благодаря обилию хвороста, всегда по неписанным законам охотничьего братства соблюдавшемуся в гроте, да еще и уполовинили запасы хмельной рабады.
Перед гротом раскинулась большая луговина, где местами торчали из-под снега пучки не успевшей засохнуть звездной травы и черного тара. Сюда-то и потянул царевич дружков, предлагая перед сном размяться и утомить друг друга игрою.
Сперва Ур Фта потребовал, чтобы в него пускали стрелы без наконечников с расстояния в пару уктасов. И он ловил их проворными руками, и хоть не всякий раз это ему удавалось, — примерно две трети пущенных стрел побывали, каждая — в одном из четырех кулаков царевича, озаренного лунным светом.
Когда же наскучила эта нехитрая забава, юноши разбились на пары и пустили в ход мечи.
Сражение получалось нелепое, ибо хмель сделал свое дело — и юнцы с хохотом и криками набрасывались друг на друга, не соблюдая правил и умножая просчеты. Счастье еще, что сражались мечами в ножнах! А не то игра довела бы их до ранений, а кое-кому наверно стоила бы жизни.
Только царевич, не любивший хмельного и позволивший себе выпить не более полурофа, дрался не на шутку и дважды сбил с ног своего потешного противника. Он уже завершал очередную атаку и опрокинул бы беднягу в третий раз, если бы что-то не заставило царевича остановиться. Он замер, опустив меч, и по его приказу замерли все остальные. Как ни мутило хмелем головы его «войску», все до единого помнили о том, что он приходится им не просто товарищем в играх, но и повелителем, требующим беспрекословного повиновения.
— Слышал ли кто-нибудь из вас? — вполголоса, скрывая необъяснимое волнение, произнес царевич.
— Что именно, высочество Фта? — так же негромко переспросил низкорослый Зи Аль, глядевший трезвее прочих.
— Звук. Удивительный звук. Такого я прежде не слыхивал. Высокий и очень красивый… Он доносился оттуда! — Ур Фта вытянул руку в направлении почти отвесной скалы: она возвышалась темной громадой над северным краем луговины.
Но все только прислушивались и недоумевали: верно, померещилось царевичу что-то, а если и не померещилось, если и в самом деле прокричала ночная птица или ветер просвистел в камнях на скале, ничего удивительного в этом нет…
— Высочество Фта! — воскликнул Эф Тун. — А не вернуться ли нам к огню? Сдается мне, обжора Тил Цах с малышом На Олом допивают нашу рабаду вместо того, чтобы подбрасывать хворост в костры.
Все рассмеялись, царевич улыбнулся, махнул рукой, словно избавившись от наваждения, и согласился с Эф Туном.
В Ализандовом гроте, проглотив еще изрядное количество доброй маслянистой рабады, кое-кто склонился к бессвязным разговорам и пустой похвальбе. Особенно усердствовал низкорослый Зи Аль. Он быстро осушил один за другим три полурофа и теперь трещал без умолку, то и дело вызывая взрывы хохота и насмешливые слова, еще больше распалявшие его.
На царевича почти перестали смотреть — только изредка бросали быстрые взгляды, ожидая поддержки и одобрения. Но Ур Фта, погруженный в свои мысли, не слушал глупой болтовни Зи Аля. И лишь когда маленький хвастун вскочил на ноги, горделиво вскинул гладко обритую голову на тонкой шее, выхватил короткий меч и проделал несколько замысловатых выпадов в сторону костра, наследник невольно прислушался к его словам.
— «Луч», «лестница», «кочерга»! Разве плохо у меня получается? А поглядели бы, как я с топором обращаюсь! Тысячу раз уделывал на топорах моего братца, увальня косорукого! — Зи Аль в сердцах швырнул меч себе под ноги. — И вот он сегодня на празднике Золоват, а завтра его назовут воином — то-то он станет нос задирать! А разве это справедливо? Разве так уж важно, что он родился в одну зиму с наследником, а я на две зимы опоздал? Ведь я сильнее, и ловкости у меня на троих, как он, хватит!
Малыш словно поперхнулся последними своими словами и с ужасом уставился на царевича, выросшего вдруг перед ним и больно сжавшего ему плечо.
— Что ты сказал о празднике Золоват? — медленно проговорил царевич. — Повтори. Завтра станет воином тот, кто родился в одну зиму со мною?
— Высочество Фта, простите, — пролепетал Зи Аль и рухнул на колени. — Высочество Фта, я не должен был этого говорить.
— Ты ошибаешься, — возразил царевич. — Именно теперь тебя следовало бы наградить. А прощения просить ты должен вместе со всеми за то, что до сих пор ни словом не обмолвился об этом.
— Простите, простите, высочество Фта, — наперебой загалдели юные бражники.
— Великий царь под страхом смерти приказал нам молчать, — добавил Эф Тун, и все притихли.
— Хорошо. Я не выдам тебя, маленький Зи Аль, — сказал Ур Фта. — И я подумаю, что мне теперь делать.
Последним действием рабады всегда бывает крепкий сон, полный ярких заманчивых видений. Не прошло и рофа, как Ализандовый грот погрузился в сонную тишину. Два костра прогорели и гасли. У третьего сидел царевич и подбрасывал хворост в пламя — в пламя костра и в пламя своей беспощадной обиды. Верно, тогда он старался быть честным с собою и потеснить досаду раздумьем.
Готов ли он в самом деле быть воином, выдержит ли не потеху с мечами в ножнах, а смертельно опасный нескончаемый поединок, устоит ли перед множеством могущественных врагов и перед первым и самым могущественным, чье имя тысячу раз проклято каждым цлиянином, — перед чернородным двартом Ра Оном?
Верно, вспоминал царевич, сидя в ту ночь у костра, все, что с детства рассказывал и пересказывал ему отец, великий Син Ур, о своей встрече с благородным двартом Су Аном в предгорьях Ло, где тот и открыл царю все козни Ра Она, умертвившего Дан Бат, поведал и о своем поединке с ним, и о том, как исход схватки на Лиглонном лугу решил судьбу Ур Фты, и о великом жребии, выпавшем наследнику цлиянского престола — прежде прозреть, а уж прозрев, уничтожить злокозненного Ра Она. Не открыл благородный дварт Син Уру только одного — когда и при каком условии вернется свет в глаза его сына. Не открыл, да и не мог открыть: тайна — условие всех условий. Нарушить ее — значило бы обречь царевича на вечную слепоту. Так говорил Су Ан.
Царевич встал и насторожился. Ночь легко было отличить на слух. Вот сопят и постанывают во сне его спутники. Изредка фыркают и тихонько рычат гаварды. Шипит и потрескивает костер. Далеко-далеко захохотал хаци — видно, запустил когти в добычу. Но главное — тишина. Все обнимающая, все поглощающая.
Говорят, что ночью царит какая-то тьма, а днем какой-то свет. Но царевич не помнил света и тьмы.
— Тишина — вот моя тьма, — прошептал он себе и добавил: — А свет — это звук. Мой свет — это звук.
И в тот же лум он услышал его — тот звук, что воистину был светом и так поразил его накануне, во время потешного боя. Высокий, прерывистый, но яркий и сильный, он звал, он тянул к себе неодолимо. Ур Фта наклонился, отыскал свой меч, вынул его из ножен, высоко поднял над головой и спокойным уверенным шагом пошел навстречь своему свету.
* * *
Царевич вышел на то самое место, где давеча резвились его захмелевшие спутники и где в первый раз услыхал он таинственный звук. Здесь тишина вновь навалилась и обложила его со всех сторон. Имей Ур Фта самое зоркое око — и тогда его ощущения не слишком отличались бы от того, что он переживал теперь, будучи совершенно слепым. Ибо луна спряталась за небольшую тучу, и в кромешной тьме над луговиной закружил редкий снег. Царевич почувствовал его прикосновения лицом и руками. Стало так холодно и одиноко, что он рассек воздух мечом, сделал несколько выпадов в разные стороны, словно пытался отогнать и холод, и одиночество и, не останавливаясь ни на лум, продолжал бой с невидимыми врагами.
Меж тем, полная луна вновь выглянула из-за тучи и осветила его, исполнявшего посреди заснеженной луговины свой смертоносный расчетливый танец. Конечно, царевич не мог об этом знать. Зато он вновь услыхал тот самый таинственный звук и от неожиданности замер. Звук замер вместе с ним на протяжной трепещущей ноте. Ур Фта растерянно опустил меч — и звук, будто привязанный к клинку, тоже опустился, не прерываясь. Ур Фта резко вскинул над головой мерцающее лунным бликом лезвие — и звук взлетел следом, легко и тонко зависнув над луговиной. Вниз и влево — понижение и дрожь. Вверх и вправо — повышение и твердость. Сделав еще сколько-то самых простых движений, слепой царевич убедился, что звук ему послушен. И так его это очаровало, что он, вовсе не чувствуя усталости, проделывал и повторял все новые и новые приемы, выстраивал разнообразные защиты, череду ударов и выпадов, быстрых прыжков, переходов и поворотов, и любовался в душе мелодиями, из неведомого источника звучавшими по мановению его меча. И — чудо! — не было среди этих мелодий ни одной по-настоящему незнакомой. Все они давно жили и двигались в нем, в его мышцах, суставах и сухожилиях. Но только сегодня, только теперь они зазвучали в прихотливых и быстрых изгибах, сливаясь в сплошную и грозную музыку боя.
Царевич не сразу заметил, как это произошло, и потому в первый лум вздрогнул, когда ощутил, что уже не он управляет звуком, но звук управляет им. Поднявшийся было страх обернулся наслаждением. Таким Ур Фта представлял себе наслаждение светом. Словно последняя цепь, сковавшая тело, со звоном лопнула и растаяла в заснеженном горном воздухе. Исчезло и самое чувство преодоления оков. Но и это последнее, легкое, как пух, ощущение свободы растворилось в движении, точном, летящем и непрерывном.
Ур Фта продолжал жонглировать мечом, перебрасывая его из одной — в другую, третью, четвертую руку, и, словно прокладывая коридор в невидимо атакующем войске, по мановению властного звука пересек луговину. Затем наощупь вскарабкался по скале, темной громадой возвышавшейся над ее северным краем, и очутился на ровной площадке выступа у входа в пещеру.
Звук оборвался, и слуха Ур Фты коснулся хриплый, изломанный временем голос:
— Я ждал тебя без малого сорок зим. Кто же ты? Назови твое имя!
— Ур Фта, сын великого царя Белобрового Син Ура, наследник цлиянского престола в Айзуре, — твердо и ясно ответил царевич незнакомцу.
— Как! Сам слепой царевич Ур Фта пожаловал! О, горе мне, глупцу из глупцов! Не однажды я слышал о тебе от пастухов, но мне и в голову не пришло разыскивать тебя вместо того, чтобы сидеть на месте, застыв в ожидании подобно толстокожему тинтеду, выслеживающему рыбу на речном берегу. А ведь не трудно, кажется, было догадаться, что именно слепой и только слепой может вот так, сразу почувствовать музыку боя!
С этими словами старик, — а то был крепкий крылатый старик, с головы до ног покрытый серебристыми перьями, — поднялся, вглядываясь в долгожданного пришельца парой круглых пронзительных глаз, обнял его своей единственной рукой и усадил рядом с собою. Ур Фта, как требовала учтивость, покорно и в то же время с достоинством, приличным его происхождению, опустился на травяную циновку, поджав под себя левую ногу, и в свой черед спросил незнакомца, кто он и как его имя.
— Мое имя, — отвечал тот, — Кин Лакк, я родом из племени форлов. Говорит ли тебе это что-нибудь?
— Я много слышал о твоем племени. И слышал, что все форлы погибли. Отец говорил мне, что, мужественно защищая свои земли, в последнем бою с крианами не уцелел ни один из них.
— Ни один из нас, благородный Ур Фта, ни один из нас, кроме несчастного Кин Лакка, сидящего рядом с тобой. В том последнем бою под стенами Корлогана я потерял правую руку и много нимехов пролежал без памяти на поле позора и смерти. А когда очнулся, тетивой затянул обрубок — и во мне достало крови на то, чтобы взлететь.
— Но как случилось, что столь могущественное племя, способное тучей подняться в небо и сверху обрушиться на врага, целиком погибло в одном-единственном сражении с крианскими воинами, искусными на воде и на суше, но бессильными в воздухе? Отчего спасся один почтенный Кин Лакк? Отчего не взлетели его сородичи над полем боя и не укрылись высоко в горах, дабы набраться сил и продолжить войну в лучшее время?
— Вопросы твои уместны, царевич, — сказал Кин Лакк, печально кивая, — изумление твое законно. И я надеюсь, ты не подозреваешь форлов ни в трусости, ни в недостатке разумения…
— Победы и поражения сменяют друг друга в жизни любого воителя, — сказал Ур Фта. — Уходить от верной гибели не позорно. Идти на верную смерть без надежды победить или хотя бы спасти сородичей — безумие. Но я не сомневаюсь ни в храбрости, ни в здравой рассудительности форлов. Если они погибли все разом, — верно, была тому неодолимая причина. О ней я и хотел тебя спросить.
— О ней и о чудесном звуке, услыхав который, ты вскарабкался по скале и пришел к пещере Кин Лакка?
Ур Фта кивнул и приготовился слушать.
— Я поведаю тебе историю гибели форлов, — продолжал Кин Лакк. — А заодно историю моей военной свирели, чей волшебный голос сегодня свел наши судьбы.
Неприступные горы — родина гордого племени форлов. Там сотворил их Фа Эль, в тайном танце кружась. Там среди скал раскатал он лазурную скатерть И молотом белый валун, мощно ударив, разбил. Женщина вышла на свет, Фа Элем желанная жарко. Плохо умея летать, пылко умела любить. Угодила Фа Элю она — год погодив, одарила Голые веси его — с голову хрупким яйцом.Кин Лакк пересказал царевичу общий смысл этой витволы, произнесенной на форлийском наречии, и продолжал рассказ по-цлиянски.
— Так исстари повествовали о сотворении форлов в своих витволах форлийские клйоклиды. И надо сказать, упомянутый благородный дварт Фа Эль во все времена оставался ласковым отцом и заботливым покровителем племени. В несчастьях взывали к нему с просьбами о помощи, в радости прославляли его и выражали сыновнюю любовь.
Форлы в прежнее время не часто спускались с гор, были миролюбивы и никогда не ссорились с племенами, населявшими цветущие берега Зеленого и Дымного морей и полноводного Кора. Оно и понятно: зачем отвечать враждебностью на враждебность, когда в любой лум ты способен оторваться от земли и унестись как ветер — неведомо куда и даже следов не оставляя?
Напротив, в мирных делах и случайных бедствиях мои крылатые предки стремились поддержать любого, кто в этом нуждался. И они не смотрели, кому помогают — среброкожему вицлу или волосатому сиприку, безносому болафу или большеухому кици. Тебе незнакомы эти слова? Неудивительно. Так назывались племена, населявшие землю Форлии до того, как она стала Форлией.
Так вот, поддерживали форлы всех без разбору, но ни с кем не сходились близко: не братались, не дружили, не менялись именами. Ни войны, ни союза — и никто не позволял себе поднять руку на форла. Их побаивались и уважали за непричастность к усобицам.
Но случилось, когда я был совсем еще мальчишкой, во главе нашего племени встал юный вождь, правнук легендарного Циг Цоха, внук доброго Цох Дьара и сын щедрого Дьар Таба — Таб Рах. Он нарушил древний обычай — сдружился с вицлами, и не просто сдружился, а взял себе в жены луноподобную вицлянку Фалику.
Разве плохо было приобрести друзей? — спросишь ты, быть может. И я отвечу: да, неплохо, но плохо то, что, приобретая друзей, наживаешь врагов.
Десять зим миновало после женитьбы Таб Раха — и форлы сделались воинами, грозными и беспощадными. Одно за другим, истребляли они племена, враждебные вицлам, и благодарили своего покровителя Фа Эля за каждую победу. А настало время — покончили и с вицлами, как, верно, ты, быстрый умом, уже догадался. Таб Рах поссорился со своей впервые за зимы замужества отяжелевшей супругой, подозревая ее в неверности, и — правда или нет — говорили, что сбросил прекрасную Фалику с наследником во чреве в бездонную пропасть. Войско вицлов было разбито в одном сражении и почти без потерь с нашей стороны. Пленные за две зимы сложили из желтого сафа стены Корлогана, где Таб Рах воссел на трон, объявил себя царем Форлии, простиравшейся за пределы горных областей от Дымного моря на западе до Зеленого моря на востоке, от гор Шо и Пограничной степи на юге до скрытых непроходимыми лесами низовий Кора на севере — воцарился и повел сородичей к верной гибели.
И вновь ты спросишь: отчего же на гибель повел тот, кто приводил только к победам? А я отвечу: погибает возгордившийся, в гордости же погрязает не знающий поражений. Вздумалось царю Таб Раху требовать себе таких же почестей, какие воздавались форлами дварту Фа Элю, а после не захотел он и с ним делить свою славу.
— Мы, форлы, сами добывали победу. Мы завоевали цветущий край и очистили его от неприятелей безо всякой сторонней подмоги! — Так возопил безумный правитель в тронном зале, а он умел составить в уме и внести в души внушительную речь. — Кто хоть раз видел призрачного Фа Эля на поле боя? Кто говорит, что он вообще существует? Только выжившие из ума старики да клйоклиды в придуманных витволах! Если бы у нас и в самом деле был такой могучий покровитель, он не позволил бы пролиться даже капле форлийской крови, он не дал бы смерти отнять у нас ни одного воина. Но кровь наша лилась на пути к победе, и смерть унесла в Бездвижный Пустой Океан немало достойных и крепких мужей. Вот вам доказательство того, что никакого Фа Эля в действительности не существует!
Немногочисленны были роптавшие, недолгим был ропот. Форлы приняли новую истину и стали поклоняться только своему царю. Стыдно вспоминать, но я и сам поверил, что Фа Эль — просто выдумка предков, и с восторгом внимал своему повелителю Таб Раху, звавшему в новую битву, в новый простор, обещавшему форлам богатства всего Галагара.
В ту пору Западный край уже полностью был завоеван крианами. На верфях Эсбы они построили могущественный флот. Тридцать два крианских корабля бороздили Дымное море, рассекая таранами волны — и велико было наше опасение, что криане, поднявшись вверх по течению Кора, подойдут к стенам Корлогана. Не имея своего флота, форлы все же могли отразить такое нападение, но для этого потребны были немалые силы. Вот почему, прежде чем уводить войска от столицы в поход на Цлиянское царство (увы, царевич, наши народы были тогда на волосок от смертельной вражды!), — хитроумный Таб Рах решил заключить военный союз с крианским царем Цфанк Шаном. Начались долгие переговоры, и многие предполагали, что в случае их успешного завершения разразится война, причем наши союзники криане атакуют цлиянский флот в Зеленом море, а форлийские отряды лавиной обрушатся со склонов Шо на Айзур.
Наконец, Цфанк Шан (а вернее, тот, кого мы за него принимали) самолично прибыл в Корлоган в сопровождении небольшой флотилии. Когда четыре крианских корабля подходили к нашей столице, около черной дюжины форлов подняли в воздух множество громадных корзин, наполненных благоухающими цветами, и осыпали палубы крианских кораблей потоками белоснежных тиолей и багровых дазиар.
Таб Рах с пышной свитой вышел на временную пристань, возведенную по такому случаю из айоловых бревен и обтянутую голубым цадалом, встретил Цфанк Шана на сходнях и заключил в объятия у всех на виду. Цари (а вернее царь и тот, кого принимали за крианского царя легковерные форлы) побратались, поднесли друг другу по чаше изысканной циды и открыли праздничный пир, продолжавшийся семь дней и ночей. Веселью, играм, ласкам свободных красавиц, неслыханно щедрым дарам на улицах Корлогана, казалось, не будет конца! На восьмой день Таб Рах предложил гостю насладиться зрелищем военных игрищ. При этом тайный замысел нашего повелителя, понятно, заключался не в том, чтобы доставить удовольствие своему временному союзнику, а в том, чтобы внушить ему почтение и страх перед могуществом крылатого форлийского воинства. Именно с этой целью в окрестностях Корлогана были собраны главные силы, почти все форлийское войско, за исключением разве пограничных отрядов и личной охраны Таб Раха, в числе которой в те дни находился и я. По условному знаку царя вспорхнули по цепочке круглые сигнальные флажки — и тучи наших воинов в блеске отборного оружия и кольчатых панцирей взмыли в воздух, заслонив собою свет солнца.
В тот лум я оказался неподалеку от царского навеса и хорошо видел, как лицо Таб Раха засияло злым превосходством, а в глазах седовласого крианского раба, наряженного в царские одежды и изображавшего Цфанк Шана, качнулся непередаваемый ужас.
И тогда, в самый разгар торжества, откуда ни возьмись, вырос перед Таб Рахом разжалованный советник Су Зул. Мужеством он обладал беспримерным, честностью кристальной, вера его была нерушима, как сталь, закаленная в скарельном масле. И он возвысил голос, не дрогнув:
— Радуйся, царь крылатого племени, щедротам завоеванной земли, упивайся могуществом твоего небесного войска, насмехайся над врагом, притворившимся другом, читая в глазах его бессильную ярость и страх! Но знай, что двадцать крианских кораблей на всех парусах приближаются к Корлогану и несут на борту щедрые дары для тех, кто беспечно глядит в Бездвижный Пустой Океан и не видит опасности. Катапульты, сети, арканы, стальные петли, парные ядра, копья, стрелы, зайгалы, мечи, топоры — вот их ответ на твое гостеприимство. Ты погибнешь, нечестивый Таб Рах, и погубишь всех своих сородичей, если теперь же не опомнишься и не призовешь на помощь великого отца и покровителя форлов, щедрорукого и длиннокрылого Фа Эля!
Драгоценная чаша затряслась в руке побагровевшего Таб Раха, и он прохрипел, задыхаясь от гнева:
— Ты оскорбил подозрением нашего величественного гостя и моего названого брата! Мало того, ты упомянул при этом проклятый призрак, от коего я освободил свой народ навсегда! Ты сам себя выдал, грязный Су Зул, да поразит игва весь твой род и потомков до шестого колена! Ты — последний из форлов, кто верит еще в пустоту и смущает храбрые души, призывая поклониться зияющей пропасти вместо того, чтобы идти за своим царем к сияющей вершине!
С последними словами Таб Рах размахнулся и швырнул массивную чашу, усыпанную отборными лоэрагдами, прямо в голову своему бывшему советнику и другу. Су Зул вскрикнул и пошатнулся. Из глубокой раны по лицу его хлынула кровь.
— Опомнись, форл, сын форла! — простонал он, вытягивая дрожащую руку в сторону царя, а тот взревел в ответ:
— Излишняя просьба, вонючий шерпал! Великий царь уже опомнился и сожалеет, что прежде не приказал тебя уничтожить! Эй, форлы! Кто первым успеет навсегда заткнуть глотку Су Зулу, пускай возьмет себе царскую чашу!
Немедленно какой-то юный красавчик из свиты, спеша выслужиться, выхватил из ножен сверкающий парадный меч и попытался снести разжалованному советнику голову, но ударил плохо, неумело — даже до половины шею не разрубил. Советник рухнул, как подкошенный, и, перевернувшись на спину забился в предсмертных судорогах. Я склонился над ним и хорошо слышал, как несколько раз имя Фа Эля вышло из уст его с кровавыми пузырями — словно кипело напоследок.
В тот же лум к подножию царского трона опустился командир одного из трех немногочисленных отрядов, следивших за спокойствием в пригородах столицы. Он был ранен и, у всех на глазах выдернув из своего бедра крианскую стрелу с желтым оперением, положил ее к ногам Таб Раха. Донесение этого отважного воина полностью подтвердило правоту Су Зула: на берега полноводного Кора высадились вооруженные до зубов криане. Они заполоняют нашу землю, жгут наши дома и беспощадно уничтожают всех форлов, в том числе и наших бескрылых женщин. Ужасная весть ураганом понеслась от царского трона в толпу. Черные дюжины крылатых воинов, увидев всеобщую сумятицу, ринулись на землю, готовые немедленно вступить в сражение с вероломным противником. Из общего гвалта поднялся и повис над головами чей-то отчаянный вопль: «Фа Эль мертв! Су Зул говорил правду!»
Воспользовавшись невообразимой суматохой, крианский раб, изображавший царя, кинулся на Таб Раха, ударил его кинжалом в горло и сам тут же погиб от моей руки.
На следующий день, собрав под стенами Корлогана все свои силы, мы были готовы сражаться не на жизнь, а на смерть. Но как только приблизилось крианское войско и наши полководцы отдали приказ к наступлению выстроившимся на желтых зубчатых стенах воинам, — случилось самое страшное. Лучшие мужи Форлии, цвет и гордость ее воинства, они расправили крылья и храбро ринулись со стен вниз на врага, но так и не долетев до своей цели, один за другим попадали, будто сложив крылья, и разбились о землю в десятке уктасов от первых рядов крианского войска. Что произошло с форлами в тот лум — трудно сказать. Может быть, просто изменило мужество, во что не могу я поверить, а может, сбылось пророчество Су Зула и крылатое племя, лишенное покровительства Фа Эля, разучилось летать. Но никто не отважился подняться в воздух после этого страшного падения и гибели храбрейших из нас. И хотя сражались мы самоотверженно и дорого встала врагу победа, она была предрешена вопиющим его превосходством. И теперь тебе ведомо, царевич, почему форлы не взлетели над полем боя, почему не скрылись в горах и приняли смерть все как один.
— Да, все как один, исключая одного! — сказал Ур Фта. — И теперь мне непонятно, отчего это один все же сумел улететь от смерти, а может статься, и по сей день умеет летать?
— Ты прав, царевич, я прекрасно летаю и достаточно долго, хотя и не так долго, как в былые времена, могу продержаться в воздухе. Что же до твоего последнего вопроса, — он мучает меня с тех самых пор, но разгадать эту тайну я не в силах. Конечно, я поклоняюсь Фа Элю и за чудесное спасение благодарю только его. А все же в толк не возьму, почему именно на мне явил свою милость благородный дварт, если он не умер, а просто решил наказать непокорное племя? Ведь несомненно, в тот страшный день многие мои сородичи в отчаянии призывали его на помощь и умоляли о прощении за свое отступничество.
Но, как бы там ни было, поднялся в воздух только счастливчик Кин Лакк. Да и то, уже после сражения, лишенный руки, крови и сил, едва живой и не способный мстить за себя и своих сородичей. Взлетая, опускаясь и снова взлетая, устремился я неведомо, куда и нечаянно оказался за пределами Форлии, объятой пламенем нашествия коварных и злобных врагов.
Я упал в Пограничной степи, ко всем прочим бедам и мукам вдобавок — сломав себе ногу, и приготовился к смерти. Здесь-то меня и подобрали цлиянские пастухи. Добрые агары, они выходили меня как недоношенного младенца. Они вернули мне жизнь, но никто не мог вновь наполнить ее смыслом, никто не мог вернуть мне мою доблесть, мое умение сражаться. Что способен предпринять одинокий безрукий калека, хотя бы и способный подняться в воздух на собственных крыльях, против огромной силы крианского воинства? А в том, что я одинок и в живых, кроме меня, не осталось ни одного форла, я с каждой зимой убеждался все тверже.
Я не остался со своими спасителями и, как только раны мои затянулись, улетел от них навсегда, твердо решив, что одинокому пристало жить в одиночестве. Жажда мести, жажда сражения не угасала во мне, как бы я ни уверял себя в невозможности ее утолить.
И вот, наконец, во время своих скитаний в горах я вздумал смастерить из ветвей дерева ави эту свирель. (Кин Лакк что-то протянул Ур Фте, и тот ощутил в пальцах три связанные между собой полые трубки со множеством отверстий.) В детстве научил меня делать такие отец моего отца. Тоскуя по былому, вспомнил я это искусство и с великим трудом, пуская в ход и ноги, и зубы, сумел-таки изготовить свирель одной рукой.
То, что случилось потом, вроде бы вовсе и не зависело от меня: стоило прижать к губам эту мертвую деревяшку и выдуть из нее первые звуки, как в груди у меня забурлила, сливаясь с ними, все та же жажда — сражаться и мстить! Я играл на свирели, а перед моим мысленным взором неизменно вставали крианские воины. Число их росло день ото дня, они нападали, а я убивал, убивал их звуком моей свирели. Каждый прием, — а я когда-то прекрасно владел множеством видов оружия, — превращался в неповторимую мелодию, каждое движение ноги, руки, головы, всего тела находило в ней отражение. Я сразу представлял себя четырехруким воином, в умениях подобным цлиянину, и потому, что, живя в цлиянском поселке, а затем наблюдая за лучшими вашими воинами в битве на Плаунном лугу, хорошо изучил приемы боя на четыре руки, и потому, что так уж, верно, мечталось мне, однорукому — иметь бы рук побольше, хотя и при паре крыльев. Я снова обрел и даже приумножил однажды утерянное искусство, я снова стал воином, но воином звука. Всего лишь воином звука. Я сражался с призраками. Поначалу и этого было довольно, и это казалось верхом блаженства. Но вскоре первая радость сменилась горечью и досадой. Жажда мести пробудила во мне и стала питать безумные мечты. Почти сорок зим я жил надеждой на то, что встречу великого воина, врага крианам, способного понять мою музыку и превратить сражение с бесплотными тенями в битву с настоящим и грозным противником. И вот я встретил тебя. Ты услышал, ты понял и ты вернешь смысл моей затухающей жизни.
— Твоя история поистине удивительна. Но прошу тебя, сыграй мне еще на твоем чудесном инструменте, — сказал Ур Фта и протянул свирель старому форлу. Недолго думая, Кин Лакк прижал ее ладонью к груди, наклонил голову и заиграл, ловко перебирая отверстия пальцами. Ур Фта вздрогнул, как натянутая тетива, но поборол себя и продолжал сидеть неподвижно, одной парой рук обхватив свои плечи, а другой — опираясь на правое колено.
— Что это значит, благородный Ур Фта? — спросил удивленный Кин Лакк, прервавшись. — Почему ты не двигаешься?
— Это значит, — ответил Ур Фта, гордо вскинув слепое лицо и положив ладонь на рукоять меча, — что наследник Син Ура сам выбирает свою дорогу. Никогда и никому не удастся подчинить себе его волю.
— Ты настоящий воин, — произнес Кин Лакк, придав твердости своему хриплому голосу. — Ты сын своего отца. Поверь, я и не думал подчинить твою волю себе. Да ты и сам теперь доказал, что это невозможно. Напротив, я готов тебе подчиняться. Я стану служить тебе глазами в любом сражении, да так, что ты, слепой воин, станешь непобедимым.
— Хорошо. Но как быть с твоею ненавистью к крианам? Ведь я не собираюсь сражаться с ними. Между нашими царствами давно установился мир.
— Сегодня мир — завтра война. Я потерплю, благородный царевич. Думаю, осталось недолго. Что-то мне подсказывает, что встретились мы недаром.
— Хорошо, — повторил Ур Фта, поднимаясь и старательно скрывая охвативший его радостный трепет. — Я принимаю твое предложение. И если ты хочешь немедленно доказать свою преданность, до рассвета мы должны спуститься в Айзур. Там с твоей помощью я буду участвовать в поединках на празднике Золоват и добьюсь, чтобы меня признали воином. Ты согласен?
— Согласен ли я вновь пережить вместе с тобой волнение юного сердца в первом бою? Согласен ли я вернуться из мира призраков к жизни, бегущей среди опасных случайностей и смертельных угроз? И ты еще спрашиваешь? Конечно согласен! Сегодня же наследник великого Син Ура убедится, что лучшего жизнехранителя, чем моя свирель, поющая у него над головой, ему не найти.
Юные любители рабады с блаженными улыбками на устах почивали в Ализандовом гроте, ни о чем не подозревая. А их предводитель Ур Фта верхом на своем черном, как застывшая смола мубигала, гаварде мчался по горным тропам к Айзуру, то натягивая, то ослабляя узду согласно с простенькой мелодией, которую выводил на своей свирели сидящий в седле прямо перед ним небольшого роста крепкий старик с серебристым оперением.
— Еще налетаюсь сегодня, — сказал он Ур Фте, когда усаживался на это почетное место, и добавил: — Погоняй смелее, царевич, — я вижу как днем в темноте.
И после этих его слов ничего не остается добавить ко второму урпрану книги «Кровь и свет Галагара».
Третий урпран
Накануне вечером было. Взметнулся и pастаял первый день праздника Золоват. Осталась по нем прекрасная память о шумных играх и молодецких забавах. Цвет юности Цлиянского царства с рассвета до заката сверкал под солнцем Айзура. Будущие витязи, хотя и берегли силы для поединков второго дня, уже вовсю старались завоевать участие и поддержку.
В преддверии веселого пира, разнообразно украшенного изысканными яствами, невесомый восторг охватил сердца, вспыхнув беспечным пламенем. От этого заблестели глаза, и лица, открытые навстречь светлому Золовату, озарились улыбками при виде героев первого дня. А те неспешно шагали плечом к плечу, отвечая улыбками на улыбки, и, осчастливленные долгожданным афусом торжества, размахивали яркими гирляндами из цветов айолы и листьев скарела.
В преддверии веселого пира, подобного коему не бывало целую зиму, дыхание участилось, как бы в любовном порыве, и небеса пошатнулись во взорах. Добротревожно зарокотали гаргасты, и девицы, весь день волновавшиеся за своих любимых, разом ахнули и завизжали, узнав героев первого дня. А те неспешно шагали, радуясь друг за друга, и в мечтах возносились на новую и новую высоту, а в ответ на все знаки восхищения, словно бы нехотя и с ленцою размахивали свежими гирляндами, что сплели для них айзурские красавицы из цветов айолы и листьев скарела.
В преддверии веселого пира, обыкновенно не утихавшего целую ночь, радостное волнение закипело подобно морским громадам перед бурей. Торжественно взревели зулы, и цлияне, собравшиеся вкруг площади Зьаф, разом вскочили, приветствуя героев первого дня. А те неспешно шагали по большому кругу, наслаждаясь заслуженным почетом, и в ответ на хвалебные крики то и дело размахивали пышными гирляндами, что сплели для них девицы Айзура из цветов айолы и листьев скарела.
Тонколицый, посверкивающий острым взором Фо Гла пытался разглядеть в толпе своего отца, чья мечта о надежном потомстве сбылась с рождением единственного сына. Но только после того, как он уже заимел трех дочерей, давным-давно повылетавших из родительского гнезда. Седовласый Нирст Фо тоже вытягивал шею, надеясь поскорее увидеть сына. Наконец их взгляды пересеклись — и счастливый возглас старика вырвался из общего гама, чтобы в следующий лум снова в нем утонуть. Отец по праву гордился сыном: из десяти стрел, пущенных Фо Глою, девять угодили в мишень — летящий обруч, обтянутый темною кожей.
Ал Грон, невысокий юноша с раскрасневшимся от возбуждения лицом, с глазами, напоминавшими пару спелых ягод висиллы и довольно большим носом, слегка загнутым книзу, радовался как ребенок, хотя и старался выглядеть степенным. И он сумел отличиться в тот день — разогнав своего гаварда, мечом в правой руке поддел и подбросил одно за другим четырнадцать колец, а копьем в левой поймал все четырнадцать и возложил их к ногам своей возлюбленной Чин Дарт, в смущении потупившей взор.
Смуглое лицо третьего героя цветом и блеском было схоже с отполированным куском речного афата яйцевидной формы, висевшим у него на груди. Гордо повернув и вскинув голову, он растянул острозубый рот в самодовольной улыбке, когда в толпе стали дружно выкликать его имя: Тан Заф!
Тан Заф завоевал всеобщее расположение, когда в разгар традиционной сарпады остался один на один с разъяренным сарпом. Зверь мчался на него, покачивая торчащими из боков и спины древками. Храбрый юноша сумел удержать своего гаварда, едва не вставшего на дыбы и направить его прямо навстречь чудовищу. В последний лум, когда казалось, уже ничто не спасет храбреца, подгоняемый плетью гавард с ревом взвился в прыжке и вместе с Тан Зафом перелетел через сарпа. Пока неповоротливый зверь с ворчанием топтался на месте, не в силах уразуметь, куда подевался его смертельный враг, — Тан Заф умчался керпитов за триста, развернув, остановил своего гаварда, выхватил четыре копья, встряхнул привязанную к ним сеть и приготовился к броску. Как только сарп, наконец, углядев своего врага, сорвался с места, молодец всеми четырьмя швырнул сеть на копьях круто вверх, словно хотел поймать ею облако. Но верным был его расчет. Все убедились в том, когда копья с зубчатыми наконечниками юцазак описали в воздухе каждое по крутой дуге и с низким звоном глубоко ушли в землю, словно обозначив углы невидимого квадрата, а сеть накрыла свирепого сарпа, остановив его тяжелый бег в уктасе (не более!) от невозмутимо восседавшего в седле Тан Зафа. Он, спешившись, подошел вплотную к запутавшемуся в сети сарпу и похлопал его по плоской массивной холке двумя руками. Восторгу созерцавших эту победу не было предела. Вот и теперь они не унимались, выкликая хором:
— Тан Заф! Тан Заф! Храброму — слава!
Рука об руку с Тан Зафом выступал его лучший друг Бер Сан. Круглоголовый, безволосый, он, как всегда, выглядел угрюмым и только изредка поднимал светлые глаза из-под сдвинутых к массивному носу густых радужных бровей. Никто лучше Бер Сана не умел обращаться с метательными ножами. Всего лишь четырежды поднялась и опустилась колотушка, ударяя в большой гаргаст — и этого времени хватило Бер Сану для того, чтобы с расстояния в один уктас метнуть в цель сорок ножей. Невозможно было уследить за четверкой его мелькающих рук с тонкими белыми пальцами. Когда же мелькание прекратилось и Бер Сан отвернулся, скрестив руки на груди, восхищенные сородичи увидели, что все сорок ножей вонзились в щит двумя ровными линиями и их сверкающие на солнце алые рукоятки образовали правильный крест, перечеркнувший белое поле мишени.
Среди героев дня оказались к тому же братья Хи Дап и Хи Гар, бесподобно владевшие мечами, топорами и боевыми косами, жизнерадостный Са Эт, выигравший гонку на колесницах, скромный Ог Лон, не знавший равных в обращении с мягкими копьями и кнутом, и, конечно, силач Тоб Мон, всеобщий любимец, на двадцать тикубов перенесший на спине помост с тремя гавардами.
Спустившийся из-под бархатистого навеса, возведенного на одном из склонов, окружавших площадь Зьаф, великий Син Ур обнял всех по очереди и раздал награды. Но лучшей наградой было слово царя, а он нашел, что сказать каждому, и каждого при этом назвал по имени. И всем названным предстояло отличиться в грядущих войнах.
Вновь запели зулы и зарокотали гаргасты. Солнце скрылось. Вспыхнули, поплыли и закружились по улицам Айзура золотистые огни факелов. Трудный и радостный день завершился шумным застольем. Пировали возле костров в шатерных станах, пировали во всяком доме цлиянской столицы, пировали и во дворце, куда Син Ур с почетом ввел сказанных юных героев.
Но не успели собравшиеся в ногах царя расположиться по старшинству за пиршественным столом, как в высоком дверном проеме показался незнакомец в сером плаще и в сером же куколе, надвинутом на лицо.
— Позволит ли мне великий царь Белобровый Син Ур войти в свой дом и принять участие в пире? — спросил он с легким поклоном.
— Кто бы ты ни был, входи, если не прячешь оружия под плащом и не затаил злобы в сердце. Нынче, в светлый праздник Золоват все двери Айзура открыты, — невозмутимо ответил Син Ур.
— Злоумышленники тебе не страшны — вижу, как в прежние времена, четверка жизнехранителей и в праздник стоит за твоими плечами: никому эти молодцы не позволят поднять на тебя руку, — сказал незнакомец, скинул угрюмый плащ, открыв сверкающие одежды и ясное белоснежное лицо, обрамленное ниспадающим голубым оперением, и продолжал, — но неужели пятнадцать зим разлуки не дают тебе узнать главного жизнехранителя всего Цлиянского царства, неужели все это время ты не мечтал о встрече с тем, кто приводил тебя под крыло победы в сражениях у Глиона и на Плаунном лугу?
Теперь все собравшиеся за пиршественным столом и сам великий царь вскочили и замерли в полной тишине, взорвавшейся счастливыми криками, как только онемевший от радости Син Ур бросился навстречь благородному дварту Су Ану и преклонил перед ним колени.
Всю ночь пировали в Айзуре. Никто не сомкнул глаз — и только те, кому наутро предстояло вновь показать себя, забылись крепким мальчишеским сном в черных шатрах, возведенных неподалеку от площади Зьаф.
Недолго наслаждались трапезой и Син Ур с Су Аном. Отпив по глотку из братской чаши, пущенной затем по кругу, они удалились в укромные покои, где долго беседовали с глазу на глаз. О чем — неведомо, кроме них, никому. А с первым отблеском восходящего нового солнца благородный дварт и великий царь распрощались — и Су Ан, завернувшись в угрюмый плащ, скрылся с глаз, исчез, растаял, оставив по себе нерушимую веру в его невидимое присутствие.
* * *
В тот же час на рассвете в распахнутые по праздничному обычаю ворота Айзура, обеспеченного в границах Цлиянского царства бессонными разъездами и дозорами, въехали Ур Фта и Кин Лакк. Никем не замеченные, промчались они вдоль крепостной стены и спешились возле кузницы старого Нона.
Был он слеп так же, как царевич, но большую часть своей жизни прожил зрячим и знал, какое счастье — видеть своими глазами торжества светлого Золовата. С тех пор, как с ним приключилась беда, старый Нон редко покидал свою кузницу. Ведь потерял он зрение, но не потерял мастерства — мастерство-то в руках осталось. Ур Фта знал, что и в праздник он раздувает горн и стучит своим молотом по наковальне.
Царевич еще в раннем детстве то и дело подолгу пропадал в кузнице. По нраву ему пришлись ее жар и запахи, и звуки. И как-то раз было за три зимы до сказываемых событий — старый кузнец обещал Ур Фте выковать триострый цохларан и шлем и соорудить полный доспех. И был у царевича с кузнецом уговор. По нему и поспешил он в кузницу Нона прежде чем впервые сражаться в поединках на площади Зьаф.
А в это время столица пробуждалась от сна. Начинался второй день празднества. Когда собрался народ и царь приказал трубить в зулы и бить в гаргасты, первыми на площадь выехали юноши, прибывшие в Айзур из Пограничной степи. Они были облачены в желтые одежды с изумрудно-зеленой подкладкой, на их шлемах развевались желтые, белые и зеленые перья, к копьям они прикрепили зеленые с золотою каймой стяги. На щите у каждого был изображен поднявшийся на дыбы черный гавард в зеленом же поле. Степняки из Фатара и Стора открыли выезд рядами по четыре, затем, подгоняя своих гавардов, помчались врассыпную и, наконец, первоначальным строем подъехали к навесу, под которым восседал Син Ур. Подобно проделывали все участники турнира, выезжая на поле своей первой, хотя и не вполне настоящей, но решающей дальнейшую судьбу битвы. Обитатели Междуморья в длинных лиловых плащах, с белым оперением шлемов выглядели ничуть не хуже степняков и несли на щитах свою эмблему: перекрещенные стрелы над скованной цепью волной. Поразил собравшихся нарядностью и красотой и отряд из Восточного Залесья. Их общей эмблемой был матерый цери, попирающий черную птицу, их темно-красные одеяния сверкали золотистою прошвой, а розовоперые шлемы — искусно выкованными волнистыми гребнями. Но, пожалуй, не было на том празднике никого краше юных воинов Айзура. Подчиняясь обычаю вежества, они появились на площади Зьаф в последнюю очередь и вызвали бурю приветственных криков. Все они восседали на белоснежных гавардах, были одеты в отполированные до блеска нагрудные панцири и черные — чернее ночи — плащи в чистых ярко-голубых звездах. На воздетых копьях айзурцев блестели расшитые крупными синдарами темно-синие жесткие прямоугольные стяги, а над черными шлемами колыхались пышные султаны из тонких и длинных белоснежных перьев степной тирвы. Их круглые щиты украшала эмблема Айзура: выходящая из облака и направленная долу шестипалая ладонь с золотыми звездами на кончиках пальцев.
— Наши лучше других, — сказал царь, повернувшись к сидящему подле него советнику Од Лату. Тот улыбнулся и кивнул.
— И царевич великолепен, — сказал великий Син Ур.
— Что ты говоришь? Ведь сын твой на охоте в горах Шо, — сказал на это Од Лат, и в тот же миг его взгляд упал на мелькнувшего среди айзурских всадников черного гаварда. На нем красовался Ур Фта с горделиво поднятым открытым слепым лицом, а перед ним торчала странная фигура в серебристых перьях. Подчиняясь звукам свирели своего спутника, царевич легко обошел строй своих прекрасных ровесников и первым остановил гаварда прямо перед навесом царя.
А надо сказать, что Син Ур в отличие от иных не удивился явлению своего сына на площади Зьаф, ибо поведал ему о том заранее благородный дварт Су Ан.
И вот Ур Фта, оставаясь в седле, поклонился и сказал:
— Прошу тебя, не гневайся, отец. По воле случая мне известно, что нынче настало мое время и, подобно всем родившимся в зиму поединка Су Ана, сегодня я должен испытать свои силы на площади Зьаф.
— Кто же тебе помог сосчитать твои зимы? — спросил царь.
— Это неважно, великий царь, — отвечал Ур Фта, — я уж сказал, что помог случай. Ты скрывал от меня мой возраст, ты думал отвлечь от меня судьбу охотой в Приоблачных лугах. Но судьба распорядилась иначе.
— Мой сын осуждает меня? — сказал Син Ур и сдвинул густые белые брови, делая вид, что разгневан.
— Никто и никогда, тем паче сын и наследник, не осмелился бы осуждать решения великого Син Ура, да не знают поражения в бою семьдесят семь поколений его потомков, — сказал Кин Лакк, и царь взглянул на него так, будто только теперь и заметил.
— Что за птица сидит на шее твоего гаварда и мешается в наш разговор? — сказал Син Ур, по-прежнему обращаясь к царевичу.
— Это мой друг и учитель, — отвечал Ур Фта, — имя его Кин Лакк, он из племени форлов.
Царь на этот раз лишь притворился удивленным, ибо все это ему загодя ведомо было из ночного разговора с Су Аном. А все царское окружение зашевелилось в изумлении непритворном.
— Мы встретились в горах, неподалеку от Ализандового грота, — сказал Ур Фта.
— И я всего лишь обучил наследника великого царя нескольким приемам, весьма полезным в бою. Так что он, конечно, незаслуженно величает меня учителем, — сказал Кин Лакк.
— Добро пожаловать в Айзур, славный форл, — учтиво молвил Син Ур, и Кин Лакк, словно подчиняясь его приветливому жесту, вспорхнул и опустился прямо к ногам царя. И сказал:
— Великий царь, ты видишь в моей руке свирель, чей звук придает силы в бою твоему сыну.
— Колдовская свирель? — спросил Син Ур.
— Нет, нет, простая военная свирель. Ее звучание лишь горячит юную кровь и укрепляет решимость на пути к победе, — отвечал Кин Лакк.
Как бы в подтверждение истинности сказанных слов, он выдул короткую бодрую трель. Ур Фта встрепенулся, но удержался в седле неподвижно, а великий царь только пожал плечами и сказал:
— Юная кровь — на то и юная, что готова разгорячиться по любому и самому малому поводу.
— Отец! — воскликнул Ур Фта. — Позволь мне принять участие в поединках и под звуки военной свирели Кин Лакка испытать свою судьбу на ристалище.
— Нет! Ты еще не готов! — отвечал Син Ур, вновь делая вид, что разгневан. Но не успело разгореться в душе царевича упрямое пламя, как царь еще сказал:
— Ведь гавард у тебя не тот. Замени его белым из моего гавардгала, надень новые доспехи и можешь выезжать на площадь.
Когда отряд черно-голубых айзурских всадников вновь показался на турнирном поле, чтобы сразиться с юными поединщиками из Восточного Залесья, все узнали в красовавшемся впереди царевича. Он не выделялся среди ровесников ни мастью гаварда, ни цветами плаща и доспехов. В глаза бросалось другое — у него не было лица. А когда он достиг середины поля, солнечный луч, пробивший облако, ударил ему в голову и отскочил сверкающим бликом. Так что многие зажмурились или прикрыли глаза рукой. И по склонам, окружавшим площадь Зьаф, заговорили о чудесном шлеме. Самая необыкновенная часть долгожданного подарка, он был изготовлен искусным Ноном из крепкой стали и снабжен сплошным, без единой заметной прорези или отверстия забралом, отполированным до зеркального блеска. Формою и гладкостью шлем напоминал яйцо цери и настолько отличался от обычных таких изделий, что сразу приковал к себе все взгляды. А потому почти никто вначале даже не заметил Кин Лакка, парившего со своей свирелью керпитах в трех-четырех над головою царевича.
Но вот оба отряда заняли свои места и взялись за легкие копья, оставив тяжелые. Под звуки зул и гаргастов они устремились навстречь друг другу, выступив восемь на восемь. Юноши старались копьями сбить перья со шлемов противников. Но и те, и другие довольно искусно прикрывались щитами — и копья, бывшие, собственно, древками без наконечников, никак не могли достигнуть цели. Наконец, Ур Фта, повинуясь понятной только ему свирели Кин Лакка, рванул узду правой нижней рукой, повернул своего гаварда и помчался вдоль фронта, пытаясь обойти соперников. На ходу метнул он копье правой верхней рукой, затем левой верхней метнул ему вслед другое, целясь в перья на шлеме крайнего всадника. Тот щитом отбил первое и уклонился от второго, но к несчастью для себя не заметил, как Ур Фта, продолжавший нестись во весь опор, тут же оказался рядом. Неуловимым движением щита встретил царевич на четверть лума открывшегося противника и выбил беднягу из седла. А когда тот вскочил на ноги и в растерянности завертел головой, Ур Фта, успевший развернуться и вновь пролетавший мимо, сорвал с его шлема розовые перья, просто зацепив их рукой.
— Что ты скажешь на это? — радостно вскрикнул Син Ур, обращаясь к советнику.
— Скажу, что если бы не это стальное яйцо у него на голове, — не менее радостно и возбужденно прошептал мудрый Од Лат, — мне бы и в голову не пришло, будто сын твой ничего не видит.
Меж тем, восьмерка во главе с царевичем уступила место следующей. Игра продолжалась по всем правилам, но столь бодро и горячо, что наблюдать за нею было истинным наслаждением.
Сразу после полудня царь приказал трубить в зулы, что служило для юношей-участников игры — сигналом собраться перед его навесом. Скоро собрались все до единого, и Син Ур приказал угостить их обильной трапезой. А по ее завершении началась самая увлекательная и важная часть турнира. Теперь наиболее храбрым предстояло показать себя в единоборстве.
Правила были просты: соперники съезжались с тяжелыми копьями наперевес, стараясь поразить друг друга, до тех пор, пока один из них или оба враз не оказывались на земле. Дальнейшее зависело от потерпевшего поражение или — в случае одновременного падения — от наиболее пострадавшего. Если он признавал себя побежденным и покидал поле битвы, поединок считался завершенным. Если же он изъявлял желание и сохранял способность на равных продолжать борьбу, бились на мечах, пока один из двоих не упадет, не выронит меч либо не коснется земли рукой или коленом. Хотя в поединках не пользовались боевым оружием — турнирные копья вместо наконечников были снабжены округлыми деревянными болванками, а мечи не вынимались из ножен, — и к тому же некоторые удары — например, в голову — были запрещены, все-таки далеко не каждый осмеливался принять вызов. Страшились не увечий, страшились позора — несмотря на то, что принявшего вызов, независимо от исхода поединка, никто не посмел бы назвать трусом. Но самые храбрые и уже отличившиеся тоже не спешили бросить или принять вызов. Таков был негласный закон, позволявший вперед проявить себя участникам послабее. Вот почему в ходе первой череды поединков вокруг площади Зьаф не умолкали шутливые возгласы и смех, а иной раз и трапеза продолжалась. И только постепенно, по мере вступления в игру все более сильных соперников, утихал смех, возгласы становились горячими и взволнованными, интерес к происходящему нарастал. Так было и в этот раз. Дело приняло воистину нешуточный оборот, когда вызов принял черноглазый Ал Грон, без особенного труда одолел к восторгу своей Чин Дарт одного за другим четверых и в пятый раз выставил щит на средину турнирного поля. Тут желтолицый Фо Гла, подбадриваемый друзьями, взялся было за копье, но взвесил его на руке и отставил в сторону, скромно улыбаясь: вот если бы надо было соревноваться в стрельбе — он не сомневался бы ни лума, а на копьях — это испытание не для него. На этот раз к щиту Ал Грона рысью подъехал угрюмый Бер Сан и уронил его небрежным ударом склоненного копья. Едва ли не с такой же легкой небрежностью выбил он из седла самого Ал Грона, а за ним еще шестерых.
Кин Лакк, давно уже дрожавший от нетерпения за спиной Ур Фты, в очередной раз встрепенулся и мрачно прохрипел:
— В конце концов, скучно вот так сидеть. Не пора ли нам в поле размяться?
— Пора, — ответил Ур Фта, и Кин Лакк, подскочив от неожиданности, развернул крылья.
Трижды съезжались Ур Фта и Бер Сан, ломая копья. На четвертый раз копье Бер Сана скользнуло по умело подставленному щиту, зато копье Ур Фты достигло цели. Бер Сан вылетел из седла, но запутался ногою в стремени, и гавард поволок его по земле, ускоряя бег. Ловкий юноша каким-то чудом уцепился левыми руками за седельную сумку, а правой нижней выхватил за-за голенища нож, собираясь обрезать стремя. Как вдруг плохо закрепленная седельная сумка, не выдержав тяжести, съехала вправо, и Бер Сан от неожиданности разжал пальцы… Шлем его сбился, и бедняга рисковал вот-вот размозжить себе голову. Но в этот лум Ур Фта подлетел на полном ходу и протянул ему левые руки. Бер Сан принял подмогу и, как только вновь оказался в седле, по-братски обнял царевича под общий восторженный гул.
— Это мой сын, воистину мой! — воскликнул Син Ур.
— И я узнаю в нем тебя, — с улыбкой подтвердил советник Од Лат.
Бер Сан отказался продолжать борьбу, сославшись на то, что, кажется, вывихнул ногу. Поэтому Ур Фта установил свой щит и отъехал на край турнирного поля. Услышав, как опустился и снова устроился за его спиной Кин Лакк, он тихо сказал:
— Благодарю тебя, славный форл. Твоя свирель не только воинственна, но и благородна.
— Как же я мог поступить иначе, пресветлый царевич? — расчувствовался Кин Лакк. — Да ведь и не враг же был перед нами, в самом деле. И уж во всяком случае не презренный крианин.
В это время черный Тан Заф поднял копье и, повернувшись к своему лучшему другу, сказал:
— Наследник Син Ура поступил с тобою прекрасно, и ты, Бер Сан, отказавшись от борьбы с ним, тоже сделал хорошо. Но я буду выглядеть трусом, если немедленно не приму вызов, чтобы постоять за тебя.
— Будь осторожен, Тан Заф, — напутствовал друга Бер Сан, — его слепота ничем не хуже нашего острого зрения.
Уже на третьем столкновении, хотя копья вновь разлетелись в щепки, вместе с этими щепками на землю свалился Тан Заф. Однако падение не причинило ему никакого вреда — он в четверть лума вскочил на ноги и поднял меч, показывая, что готов продолжать поединок. Ур Фта спешился, отбросил щит и, в свою очередь, взялся за меч. Продолжение поединка было недолгим: самому царевичу даже не пришлось атаковать — отражая четвертый удар, он выбил оружие из рук соперника. А тот, всей тяжестью продолжая двигаться, оступился и упал на одно колено прямо под ноги Ур Фте. Не торопясь выпрямляться, Тан Заф поднял на него свои серебристые, чуть-чуть навыкате глаза и, как завороженный, вполголоса произнес:
— Тяжко придется твоим врагам, да падут они все, о, Ур Фта, наследник Син Ура! Когда мы сошлись, твой шлем непрестанно являл мне мое отражение. Чем ближе я оказывался к тебе, тем более мне казалось, что я сражаюсь с самим собой…
И потрясенный Тан Заф покинул турнирное поле.
После него испытали на себе действие зеркального шлема братья Хи Дап и Хи Гар. Жизнерадостный Са Эт, выбитый из седла копьем Ур Фты, свистом подозвал своего замечательно статного крапчатого гаварда, вскочил на него и, прежде чем покинуть поле, подъехал к наследнику, чтобы поклясться в вечной дружбе. В очередной раз всех удивил силач Тоб Мон. От удара Ур Фты он рухнул на землю вместе со своим гавардом, чрезвычайно крупным и толстолапым зверем, но не растерялся и ушел с поля, взвалив его на плечо, как игрушку. Потерпели поражение и еще девять юных поединщиков, принявших вызов наследника Син Ура. А всего побил он соперников кряду числом пятнадцать, когда, наконец, гордый за сына царь приказал трубить в зулы, чтобы собрались пред навесом все участники турнира, потому что никто из юношей больше не отваживался испытывать на себе силу царевича. Однако его щит, разукрашенный золотой каймой, все еще стоял на средине турнирного поля. И не успели взреветь зулы, как всадник на дымчато-сером гаварде с опущенным забралом и в одеждах с цветами Восточного Залесья изо всех сил оскорбительно ударил носком сапога в щит Ур Фты, принимая вызов.
А на вид он был таков:
Стройный стан темно-красным охвачен утаном, Словно пламенем тонкий габалевый ствол. Легким искрам подобно, играя, пронзает Гладь и складки одежд золотистая нить. Сталь отменной закалки с жестоким отливом Обняла ему голову, плечи и грудь. У копья на конце лишь на лум затаилась Неустанная в злобе коварная смерть.Син Ур не стал возражать против еще одного поединка. «Что за беда? — подумалось ему. — Нашелся какой-то смельчак и невежа, но вряд ли, сойдясь с Ур Фтою, он продержится в седле дольше других».
С первым же столкновением все увидели, что дело нечисто. Копье царевича сломалось, но удар был точным, и его соперник очутился на земле. Что же до копья, направленного против Ур Фты, — оно не только не сломалось, но пробило его щит и едва не прорвало кольчугу на левой нижней руке. Болванка на конце оказалась вылепленной из хрупкого тайтлана и скрывала наконечник шагайах из тонкой и прочной стали. Ур Фта, едва осознавая, что произошло, сразу отбросил пробитый щит вместе с застрявшим копьем и спешился. Теперь он целиком подчинялся свирели Кин Лакка. Неведомый враг вскочил и, выхватив меч из ножен, шагнул навстречу наследнику.
— Это предательство! — воскликнул Син Ур.
— Это проделки Ра Она, — в ужасе прошептал Од Лат.
— Надо остановить их! Скорее! — В отчаянии царь вскочил и взмахнул рукой, намереваясь отдать приказ, но тут же остановился, услышав голос советника:
— Ни в коем случае! Или ты хочешь вмешательством опозорить сына? Ничего не бойся, он сам постоит за себя.
— Но Ра Он… Разве его злодейские чары не сильнее любого…
Как видно, об этой опасности всесильный дварт Су Ан не смог или не захотел предупредить цлиянского властелина.
Четырехрукий противник Ур Фты тем временем вероломно завершил свое вооружение двумя волнистыми кинжалами, выхватив их из-за спины левыми руками. Вообразив за собой превосходство, он решил атаковать способом «Индриг сплетает кокон». Плоский клинок его меча, разделенный ровным ребром посредине, стремительно описал в воздухе сверкающую двойную петлю. Кинжалы, оба враз, нарисовали тот же узор, но перевернутый вертикально. У царевича не было кинжалов — зато была свирель Кин Лакка, и она вела его к победе кратчайшим путем. Ур Фта взмахнул мечом и ответил врагу приемом «Золотой треугольник», в результате чего выбил кинжал из левой нижней руки. Последовала новая атака — «Арканная петля». Ур Фта встретил ее приемом «Вспыхнувший факел» — и в воздух, вращаясь, полетел второй кинжал, а рука, только что сжимавшая его, повисла, как плеть. За сим преимущество противника было исчерпано. Поэтому Ур Фта, не останавливаясь, провел череду выпадов «Леверка раскрывает бутон», чем заставил врага в замешательстве отступить и уйти в глухую защиту, потом сделал шаг в сторону и замахнулся, как бы собираясь использовать прием «Низкая туча». Во всяком случае, так и подумал его противник и поспешил сделать выпад, называемый «Радужным всплеском», нацелившись в открытую грудь царевича. Но вместо «Низкой тучи» Ур Фта неожиданно резко развернулся, уходя от удара, и в свою очередь нанес врагу удар со спины способом «Падающая звезда». Противник рухнул вниз лицом, выпустив меч, и больше не поднимался. Царевич подобрал валявшийся неподалеку кинжал, опустился рядом с поверженным на одно колено, перевернул его на спину и, подцепив лезвием, откинул ребристое забрало. Раздался негромкий стон.
— Ты что-нибудь видишь? — спросил Ур Фта, склоняя навстречу стону зеркальную голову.
— Вижу смерть в своих глазах… — прозвучал в ответ слабеющий голос.
— У тебя хорошее зрение, — сказал царевич и с нисходящей трелью свирели нанес последний удар.
Раньше других к телу убитого подоспели юноши из Восточного Залесья и не признали в нем своего. Зато когда сняли шлем, на голубоватом лбу мертвеца обнаружили клеймо — изображение замкнутого в кольце темного мохнатого индрига.
— Мохнатый индриг? Поздравляю тебя, сын мой, — сказал Син Ур, принимая наследника в свои объятья, — побежденный тобою — раб Ра Она. Верю, настанет день, когда и его господин примет смерть от твоей руки.
И это слово царя — последнее из сплетенных в третий урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Четвертый урпран
Третий круг завершала массивная братская чаша за пиршественным столом в последнюю ночь Золовата, когда царю сообщили о посланце из крепости Стор. Великий царь, велев продолжаться веселью, удалился в соседние покои в сопровождении одного лишь советника Од Лата. Но холод тревоги не тронул разве самых бесчувственных сердец. Вскоре Од Лат возвратился, прошел вокруг стола и скрылся вновь. На этот раз, повинуясь его негромкому слову, один за другим поднялись и направились в Восточную башню арфанги и старейшие воины Айзура, герои последней войны. Оставшиеся уже не могли беспечно пировать и заговорили о военном совете.
В тот же лум Кин Лакк, сидевший рядом с царевичем, встрепенулся, отговорившись нуждою, стремительно вышел из зала и незаметно покинул дворец.
Прервал трапезу и обеспокоенный не меньше других Ур Фта. Прервал и уединился в своей опочивальне. Сидя на тесной лежанке, он раскурил длинную трубку, набитую отборным саркаром, — и события минувшего дня громкой стремительной чередой закружились в его голове. Но тут предрассветная прохлада, ворвавшаяся в проем окна, толкнула царевича в грудь — и он забылся глубоким сном.
Разбудил его на рассвете хриплый голос неугомонного форла.
— Полно спать, царевич! — говорил Кин Лакк. — Гаварды оседланы. Коцкуты набиты под завязку. Все готово для дальнего похода. Пора отправляться, покуда не заперты ворота!
— Воин Цли в походе всегда. Днем и ночью, верхом и пешком, во сне и наяву, живой и мертвый, — воскликнул по заученному с детства царевич, мгновенно стряхнув оковы сна. — Но что случилось, учитель?
— Случилось то, чего ждет Галагар уж не первую дюжину зим; то, что ничуть не удивляет и напротив — повергает меня в веселый трепет; то, что должно было случиться, ибо вперед начертано на камне судьбы в пещерах Фа Эля! Радуйся, царевич! Началась война! Крианское войско перешло Пограничную степь и, оставив четыре грузные дюжины для осады Стора, приближается берегом Асиалы к стенам Фатара. Укбат и Каллар захвачены еще вчера при помощи кораблей, и нынче утром Фатар уж верно будет заполнен беженцами.
— Ты был на военном совете, — не дрогнув, вымолвил Ур Фта.
— Да, я поднялся на крыльях к бойницам Восточной башни, притаился на балке, слышал все и готов повторить слово в слово.
— Какую же часть цлиянского войска доверил мне великий Син Ур? Куда мы направляемся, к Стору или Фатару?
— Ни то, ни другое, царевич. Ибо великий Син Ур не доверил тебе ни единой полдюжины своих воинов. Советник Од Лат, восхищенный исходом турнира, был на твоей стороне. Кое-кто из арфангов поддержал его в твердом убеждении, что ты способен возглавить не только часть, но и все цлиянское войско. Но царь отвечал им во гневе. Он сказал, что вести несметные силы на поле великого боя — совсем иное дело, нежели для потехи размахивать мечом на турнире. И слепому это дело не под силу.
— Довольно! — воскликнул Ур Фта. — Царь хочет еще доказательств — и я представлю их ему!
— Царевич, я думаю так же! — сказал Кин Лакк и весьма неучтиво схватил наследника цлиянского престола за руку. — Мы вдвоем заменим целое войско, и это не пустая похвальба. Послушай, благородный Ур Фта, мне ведомо, что в тылу у кровопийц Кри в землях Тсаарнии несть числа ненавистникам Сарката, готовым по первому зову с оружием в руках выступить против криан. Мы с тобой перейдем горы Шо через Сакларский перевал и не позднее чем через два дня, прибудем в Набир. Там ты соберешь себе войско и двинешь его на Зимзир и Саркат! Мы возьмем их штурмом, захватим дворец Цфанк Шана и выиграем войну!
— Вдвоем выиграем войну? Прекрасно, — сказал царевич, гордо вскинув лицо. И если бы его глаза не были слепы, они, верно, засверкали бы в этот лум. — Мы отправляемся в путь немедленно!
Кин Лакк не смыкал глаз этой ночью и не терял времени зря. На задах царского дворца у малой пристройки неподалеку от гавардгала их дожидалась пара оседланных и нагруженных всем необходимым гавардов. Это были могучие боевые звери черно-серебристой масти. Фыркая и негромко рыча в утреннем тумане, они нетерпеливо переступали с лапы на лапу, готовые мчаться без отдыха десятки атроров. Вскочив им на спины, легкой рысью подъехали Ур Фта и Кин Лакк ко все еще по-праздничному распахнутым воротам Айзура и, нахлестывая гавардов кожаными плетками, помчались в горы мимо шатров, окутанных сном под стенами цлиянской столицы. А из бойниц Западной башни за ними следил спокойным взором великий царь Белобровый Син Ур. И когда всадники скрылись за поворотом дороги, он повернулся к стоявшему рядом советнику Од Лату и молвил горделиво:
— Мой сын отправился в трудный поход, и нет никого среди агаров или двартов, кто мог бы его остановить на пути к прозрению и победе. Да сбудется предсказанное Су Аном.
— Время пришло, великий царь, отдать приказ, чтобы ударили в большой военный гаргаст, и объявить твоему народу об окончании праздника и начале славных сражений, — отвечал на это советник.
* * *
Целый день Ур Фта и Кин Лакк провели в дороге. Луга сменились редколесьем. Тяжело нагруженные гаварды ступали все медленнее, взбираясь в гору припорошенной влажной тропой. Стволы вековых ави поскрипывали, раскачиваясь на ветру. Солнце, едва пригревая, щедрым светом заливало все вокруг. Вскоре позади осталась неприступная громада пограничной крепости Тайлар, надежно закрывавшая перевал и поблескивавшая на солнце слюдяными вкраплениями в своих стенах из серого мабра. Кин Лакк птичьим взором неспешно обводил открывающиеся дали и время от времени принимался напевать своим хриплым голосом старинную форлийскую витволу:
— Солнце в полете заполнило долы и горы, Вольная воля дороже прозрачных саор. Непроторенным пребудет для черной Мокморы Форлу покорный холодный высокий простор.На слух это звучало так:
— Оло аоло аларда адор ти арада Фолумо фоло тамори глаглада саора. Сазара форлиом рара аоло глиада Тэрда ти граза туоло о харда Мокмора.— Что такое «Мокмора»? — спросил царевич просто для того, чтобы спросить.
Неожиданно для него Кин Лакк всполошился, захлопал крыльями и прохрипел:
— Никогда не произноси этого имени, умоляю тебя, благородный царевич! За ним стоит страшная смертоносная сила.
Ур Фта подумал было, что Кин Лакк не расслышал толком его вопроса и в изумлении сказал:
— Если просишь, не стану. Но разве не это самое слово ты только что растягивал с удовольствием в песне?
— Да разве не ведомо тебе, о благородный царевич, что витвола подобна заколдованной ограде, не пропускающей зла? — Успокоившись, отвечал Кин Лакк и снова запел.
Они проехали еще с дюжину атроров по круто уходящей в гору дороге, и Кин Лакк предложил сделать небольшой привал.
— Думается мне, если мы хотим поскорее достигнуть ночлега, — сказал на это царевич, не знавший голода и усталости, — не следует терять время, рассиживаясь у костра.
— Я знаю эти места, — успокоил его Кин Лакк. — Уверяю тебя, царевич, мы на самой границе Великого Царства Цли и можем немного отдохнуть. До того, как начнет смеркаться, эта дорога приведет нас к распутью Зеленого камня, а оттуда уже рукой подать до Саклара, где мы и заночуем.
Привал и впрямь вышел недолгий. Перекусив у небольшого костра солониной из мяса шарпана, густо приправленной зернами жерфа, и пышными корсовыми лепешками, они выпили по нескольку глотков рабады, забросали огонь снегом и снова двинулись в гору.
Кин Лакк не ошибся. Едва засобирались сумерки, он велел Ур Фте остановиться возле небольшой зеленоватой скалы. Здесь дорога разветвлялась, так что приходилось выбирать, каким путем следовать дальше.
— Вот никем неслыханное дело, — пробормотал Кин Лакк. — Я всегда полагал, что их здесь три и, чтобы попасть в Саклар, надо выбирать ту, которая посредине. Но если глаза мне не изменяют, перед нами четыре дороги. Какая же из них средняя?
Немного поколебавшись, он объявил, что средних по видимости две, и выбрал ту, что была правее. Непрерывно поднимаясь в гору, они какое-то время молча двигались по этой дороге, слушая, как фыркают гаварды да воздух звенит словно тетивы у лихой дюжины натянутых луков. Затем Кин Лакк, выругавшись, опять велел остановиться и растерянно проговорил:
— Отвратительное чудо из отвратнейших чудес! Вроде бы мы все время ехали в гору, а приехали назад. Сомнений быть не может. Вот он, Зеленый камень. А вот четыре дороги, расходящиеся от него. Но почему их четыре, оземь крылья поломав?!
— Что же делать, учитель? — сказал Ур Фта. — Здесь оставаться невозможно. Я чувствую вкус колдовства. Ты слышишь, как звенит воздух? Выбирай дорогу, и попробуем еще раз.
— Надо ехать по средней, — произнес Кин Лакк тоном наставника. — Но поскольку средних, по-видимому, две и по той, что правее, мы уже прокатились, испытаем ту, что левее.
И эта дорога повела их в гору, но вместо деревни Саклар привела назад к развилке у Зеленого камня. Меж тем сумерки сгущались, и уже становилось очевидным, что до темноты в деревню им не добраться. Приходилось выбирать — или продолжить попытки отыскать нужную дорогу, испробовав оставшиеся две, или расположиться на ночлег прямо здесь, у Зеленого камня.
— Почему-то мне кажется, что даже если мы с разгону кинемся в пропасть, на дне ее нас будет ожидать эта же самая растреклятая развилка, — мрачно заключил Кин Лакк, после чего оба спешились и начали собирать костер у подножья скалы.
Но развести они его так и не успели, потому что вскоре послышались щелканье бича, рычание, и к развилке подошло небольшое стадо в сопровождении пастуха — юного горца в мохнатой шапке, длинном плаще из шкуры гаварда и белых катанных сапожках с красными кистями. Он шагал, насвистывая и играя длинным бичом, и даже не глядел в сторону спешившихся всадников, пока Кин Лакк его не окликнул:
— Эй, честной агар, далеко ли до Саклара?
Юнец отвечал на ломаном цлиянском и говорил неохотно, с ленцой растягивая слова и опасливо посверкивая выпуклыми глазами на хорошо вооруженного Ур Фту, тем временем ощупью проверявшего подпругу на своем гаварде.
— Да-а, ногой подать! Дымок уж носом чую.
— А сам-то оттуда будешь? — продолжал бодро выспрашивать Кин Лакк.
— Сакларские мы, вот стадо гоним.
— А нет ли у вас там какого-нибудь заведения на окраине? Нам бы поесть, попить да переночевать… — Голос у Форла сделался вкрадчивым.
— Постоялого двора что ли? Есть, как не быть…
— Так не проводишь ли нас прямиком туда, честной агар?
— Агар агаром, а не тружуся даром, — сказал пастушок и подло прищурился.
— Какую же ты хочешь с нас плату?
Пастушок взглянул на форла, словно прицениваясь, и с готовностью выпалил:
— Два рофа рабады, лухтики в голечном масле, крылышко фогоратки, мясную похлебку с корсовой кашей, ломоть идреца с жерфом и дюжину лацаев с вареньем.
— И это все в тебя влезет? — сказал Кин Лакк и в изумлении окинул взглядом щуплую фигурку.
— Что не влезет, с собой унесу, — проворчал несытый мальчишка.
— Ладно, по рукам! — не скрывая радости, воскликнул форл, и оба с царевичем вскочили в седла.
По какой дороге из четырех погнал провожатый свое стадо, Кин Лакк к вящей своей досаде так и не разобрал, хотя наступившая тьма и не была ему помехой.
— Поторопись, сынок! — прикрикнул он на мальчишку, ступавшего неспешно, словно и не ночь кругом. — Поторопись, не то лухтики простынут!
Но не успели они продвинуться и на один атрор, как дорога круто пошла вниз и в долине засверкали огоньки Саклара.
* * *
— Какие гости! Какие гости! Рад в оба сердца! — заискивающе проговорил хозяин постоялого двора, с трудом подбирая и произнося цлиянские слова.
— Можешь говорить по-своему, агар, — сказал царевич на чистейшем крианском. — Нам ведомо наречие Кри.
— Но не задавай лишних вопросов, — прохрипел Кин Лакк, отдавая хозяину поводья обоих гавардов.
— Что вы, что вы! Какие вопросы? — сказал хозяин, расплываясь в улыбке. — Никогда никаких вопросов не бывает у меня к честным агарам. Лишь бы платили звонкими хардамами за еду и ночлег.
— Ну и славно, — сказал Кин Лакк, извлекая увесистый кошель из седельной сумки и выкладывая в волосатую лапу харчевника блестящие шарики. — Вот тебе четыре хардама. Если все будет ладно, утром получишь еще столько же.
Он мягко подтолкнул царевича к дверному проему, сам шагнул следом и поманил за собой мальчишку-пастуха, уже отпустившего стадо разбредаться по деревне.
Единственный длинный стол и грубые лавки из струганных досок стояли посреди харчевни, утопая в опилках, которыми был густо посыпан пол. В очаге с уютным треском полыхал огонь. Из двери в соседнее помещение доносились соблазнительные запахи. Вскоре явился хозяин, пристроивший в стойла гавардов и задавший им корму. При свете очага и громадной масляной лампы, стоявшей посреди стола, Кин Лакк разглядел его багровое и тоже на редкость масляное обличье.
— Принеси-ка, хозяин, выпить и закусить, а прежде — горячей воды, умыться с дороги, — прохрипел Кин Лакк. Получив воду в чистом котелке и полив царевичу на руки, он услышал недовольное ворчание пастушка, пристроившегося рядом с ними за столом со своим, как видно, излюбленным присловьем:
— Агар агаром, а не тружуся даром.
— Эй, хозяин, а этому юному обжоре подай-ка два рафа рабады, лухтики в голечном масле, мясную похлебку с корсовой кашей, ломоть идреца с жерфом и дюжину лацаев с вареньем.
— И крылышко! Крылышко фогоратки! — утробно проревел мальчишка. Форл усмехнулся, кивнул и с изумлением услышал в ответ:
— Будет исполнено в точности, господин.
Проводив хозяина своим пристальным птичьим взглядом, Кин Лакк тут же наклонился к царевичу и зашептал:
— Не нравится мне эта деревенская харчевня, в которой подают, что ни попросишь. Сдается мне, что нас тут поджидали.
— Ничего не поджидали, — почти закричал мальчишка, неприятно поразив форла своим на редкость тонким слухом. — Это все для охотников наготовили, для охотников из Дигала. Они обещали к вечеру вернуться, охотники-то, и не вернулись.
— А ты откуда знаешь? — страшным голосом вопросил Кин Лакк.
— Да уж знаю, — буркнул мальчишка. Но в этот лум, помешав Кин Лакку углубиться в распросы, к столу подоспел хозяин с кувшином рабады и дымящимися горшочками на темной широкой доске. И как только он разлил рабаду по рофовым кружкам, прежде составив горшочки на стол, входная дверь с треском распахнулась и в харчевню влетел какой-то здоровенный молодец с разорванным воротником из белых цинволевых кружев, всклокоченными волосами и горящим взором. Первым делом он рванулся к окну и высадил его, ударив ногой в переплет. Молодец помедлил, развернулся и стремглав кинулся на обомлевшего хозяина. Ур Фта вскочил из-за стола, лишь только грохнула дверь, и схватился за рукоять цохларана, но Кин Лакк удержал его, ожидая, чем обернется дело и не очень-то сочувствуя багроволицему харчевнику. Меж тем неведомый здоровяк сгреб того за грудки левой рукою, правой выхватил из ножен, болтавшихся у бедра, кинжал с волнистым лезвием и, помахивая им под носом у трясущегося хозяина, ровно и внушительно проговорил:
— Если жизнь дорога, покажи, где укрыться, а этим, — он кивнул в сторону распахнутой двери, — скажешь, что я-де выпрыгнул в окно.
Хозяин часто закивал и, освободившись от железной руки, душившей его его же собственным воротом, провел незваного гостя на кухню. И тут же вылетел обратно, причем похоже было на то, что его подогнали хорошим пинком. Едва бедняга отряхнулся, приосанился и сделал шаг по направлению к двери, как на пороге появились новые посетители. Это были деревенские жители — один постарше, коренастый и грузный, как тинтед на задних лапах, и такой же злой. Двое других, молодые и долговязые, так свирепо размахивали коптящими факелами и сучковатыми айоловыми дубинами, что Кин Лакку не удалось толком разглядеть их лица.
— Где он? — заорал коренастый неожиданно тонким голосом.
— Рех, старина, клянусь тебе, он выскочил в окно, — с подкупающей искренностью пролепетал хозяин. Доверчивые преследователи, все трое, не долго думая, вывалились в оконный проем и с воплями скрылись в темноте.
Харчевник некоторое время глядел им вслед, не двигаясь с места, затем очнулся, бросился к разбитому окну, захлопнул уцелевшие ставни и, тяжело дыша, опустился на лавку.
Немного погодя, незнакомец явился из своего укрытия взорам недоумевающего Кин Лакка, мальчишки-пастуха и до полусмерти напуганного хозяина. Он уже успел слегка пригладить кудрявые волосы, привести в порядок одежду и вложить кинжал в ножны. Подойдя ближе к свету, молодец широко улыбнулся и учтиво поклонился Ур Фте и Кин Лакку. Был он о двух руках, но из тех, о ком говорят: «Двумя все четыре переломает». Ростом керпита в полтора, лицом белее первого снега, с глазами черными и горящими как угли и тонкими губами, красными как свежая кровь шарпана.
Густым бархатистым голосом он произнес:
— Позвольте узнать ничтожному ваши восхитительные имена, почтенные агары.
Что-то в этом голосе и в этих чудесных глазах подсказало царевичу и форлу, что можно не таиться и назвать себя незнакомцу.
— Как! Сам наследник великого Син Ура? Долгие годы мечтал я о счастье встретиться с вами и, как говорится, подносить вам стрелы в бою. И вас, наставник Кин Лакк, я давно почитаю за второго отца. Вот только кто бы мог подумать, что доведется встретиться в этой вонючей харчевне на краю жалкой крианской деревеньки!
— Назовите же и вы себя, благородный витязь, — молвил польщенный форл, поддерживая тон тсаарнского вежества. — Произнесите ваше светлое имя, чтобы мы знали, за что благодарить судьбу, ниспославшую нам эту нежданную встречу, и разделите нашу скромную трапезу.
— Полное имя вашего нижайшего слуги — Нодальвирхицуглигир Наухтердибуртиаль, но вы, дабы не утруждать себя, зовите меня просто Нодаль.
Во время этого учтивого разговора никто не обращал внимания на мальчишку-пастуха, который с ужасом уставился на могучего Нодаля и, сжавшись как затравленный зверек, уже было собрался нырнуть под стол. Однако это ему не удалось. Нодаль кинул в его сторону быстрый взгляд и почти одновременно, схватив мальчишку за волосы, вытянул на свет.
— Ах, это опять ты! — воскликнул он и вдруг, к изумлению своих новых знакомцев, дважды наотмашь ударил мальчишку по лицу, приподняв его за волосы над полом. — Что затеял? Смотри в глаза и отвечай.
Царевич вздрогнул и сжал рукоять цохларана. У Кин Лакка мгновенно вылетели из головы все церемонии вежества. Тем не менее, он сдержался и сумел подобрать слова:
— К лицу ли такому могучему витязю, как вы, почтенный Нодаль, избивать беззащитное существо?
— Оставим церемонии, друзья, будем на ты! — вдруг воскликнул Нодаль, не выпуская мальчишки и расхохотался. — Это он-то беззащитное существо? Погодите, сейчас я вам его покажу.
С этими словами он стал совать пастушку в рот содержимое одного за другим всех горшочков, стоявших на столе. Мальчишка ревел и безропотно сносил это издевательство, так что скоро жаркое залепило ему рот.
— Все ясно! А не хочешь ли хлебнуть глоточек-другой рабады?
Мальчишка умолк и отчаянно забился в руках неумолимого Нодаля, ни за что не желая глотнуть из кружки, только что стоявшей перед царевичем.
— Возможно, питье отравлено, — снова вмешался Кин Лакк, — и возможно, его отравил этот маленький негодяй. Но верно, кто-то его заставил…
Он не успел договорить. Нодаль швырнул мальчишку в опилки, навалился на него, сжал ему пальцами ноздри и, когда тот начал ртом хватать воздух, влил в него остатки расплескавшегося содержимого кружки. Царевич успел выхватить цохларан, но Кин Лакк опять его остановил. С отвращением он глядел на то, как щуплое тельце, простертое на полу, дергаясь в судорогах и извиваясь, чудесным образом изменяется. Руки и ноги на глазах выросли, вытянулись и покрылись рыжей с черными подпалинами шерстью. Затрещала по швам одежонка. С выросшей, словно распухшей, головы, напротив, исчезли все до единого волоски, и она превратилась в обтянутый желтоватой морщинистой кожей череп. Глаза покрылись мутной поволокой, вылезли из орбит и остекленели. На огромном уродливом лбу проступили очертания мохнатого индрига.
Кин Лакк, не в силах более переносить омерзительное зрелище, отвернулся и сказал, обращаясь к царевичу:
— Это был раб Ра Она, у него на лице — знак мохнатого индрига.
— Раб Ра Она? — как ни в чем не бывало поддержал разговор Нодаль. — Возможно. Я этого не знал. Но уж кого-кого, а этого оборотня-хэца я всегда отличу. Вернее, отличал. Надеюсь, теперь он уже никогда не сумеет своими кознями повредить честным агарам.
(Хэц — вероятно, значит «отравитель». — А. З.)
Он пнул ногой окончательно принявшего свое истинное обличье и окостеневшего с выпущенными когтями оборотня, и весело крикнул:
— Эй, хозяин! Отнеси эту падаль подальше. И доставай все доброе из выпивки и закуски. Да смотри, я заставлю тебя попробовать каждое блюдо. Не за одно ли ты с этой нечистью.
— Клянусь вам, господин! — пролепетал все с тою же подкупающей искренностью хозяин, взвалил мертвого оборотня на спину и выволок во двор.
К немалому удивлению Ур Фты и Кин Лакка, когда стол уже ломился от яств, Нодаль сдержал слово и заставил хозяина перепробовать все блюда и напитки.
— Впрочем, это разумная предосторожность, — сказал Кин Лакк, припомнив свои опасения и попытку оборотня заморочить им голову историей с дигальскими охотниками.
— Любезный Нодаль, я и мой друг обязаны тебе жизнью, — торжественно произнес царевич. — Этот подвиг достоин великой награды, и ты получишь ее, когда я воссяду на айзурский престол.
— Благодарю тебя, царевич. Это не потребовало больших усилий. Зато я, кажется, едва не лишился жизни от твоего цохларана, не в обиду будь сказано, — не удержался Нодаль и добродушно рассмеялся. Царевич в смущении молчал, и Нодаль уже серьезно добавил: — Но если припомнить внешние признаки происшедшего, нетрудно прийти к убеждению в том, что тебе присущи истинное благородство и самоотверженность, о царевич!
— Увы, славный витязь, — сказал Ур Фта, — моя проклятая слепота не позволила мне сразу понять, где истина, и вовремя узнать оборотня.
— Не клевещи на себя, о Ур Фта, — вмешался Кин Лакк, — ведь и мне с моим острым зрением не сразу удалось разобраться, что к чему.
— И все же ты понял скорее и, к счастью, не допустил, чтобы я кинулся с оружием на своего спасителя.
— Пустяки! — воскликнул Нодаль и придвинул к себе огромную чашку ароматных золотистых лухтиков. — По твоим мудро вопрошающим глазам, бесценный форл, я вижу, что обязан разъяснить вам, друзья, обстоятельства моего появления в этой убогой харчевне. Но поскольку я с самого утра разгуливаю без единого зернышка корса во рту, вы, надеюсь, не будете против, если мой рассказ послужит приправой к этим замечательным, хотя и недостойным, о Ур Фта, твоего сана, деревенским кушаньям?
Ур Фта и Кин Лакк подтвердили, что и сами не прочь приступить к трапезе, тем более если она не помешает их новому знакомцу поведать свою историю.
Но как только Нодаль осушил кружку рабады и принялся уничтожать одно за другим стоявшие перед ним кушанья, сделалось совершенно очевидным, что он не сможет выговорить ни единого слова, пока не утолит свой богатырский голод. Не упускали своего и царевич с форлом.
Наконец, когда на столе уже почти ничего не осталось, хозяин по требованию царевича принес пару отлично просушенных трубок. Ур Фта извлек сверкающий каменьями кисет и угостил Нодаля своим саркаром. Они раскурили трубки, а Кин Лакк, не ведавший прелести бодрого горечью дыма, принялся, смакуя, потягивать из кружки горячий черный мирдрод. И Нодаль приступил к рассказу.
— Не скрою, друзья, с детства я испытывал необыкновенную страсть к слабой половине Галагара. Мои любовные приключения начались едва ли не в колыбели, и я не стану утомлять вас россказнями о своих победах на полях нежных сражений в разных краях и весях. Происхожу я из Сарфо, но кто мои родители — к несчастью, не ведаю до сих пор. Меня воспитывала в своем убежище посреди Асфорского леса юная отшельница-рарава. Она нашла меня в Сарфо на базарной площади, где я валялся в крязовой корзине, наполненной опилками, и орал во все горло, требуя материнского лелода. И добрейшая рарава сунула мне в губы сосок своей пустой, но крепкой и ладной груди. Она стала моей матерью и возлюбленной одновременно. Я и теперь с благодарностью вспоминаю о ней. Ее крупные бледные губы, семицветные глаза со стрельчатыми зрачками, густые серебристые волосы, свисающие до колен, запечатлены в моей памяти навек и доныне приводят меня в неизъяснимый трепет. Первый раз я ушел от нее в десятую зиму и с тех самых пор скитаюсь по всему Галагару. Остается добавить, что воинскому ремеслу я обучился в Обители Небесного Взора у великого дварта Олтрана, где трижды зимовал в отрочестве. Не стану до поры ничего добавлять к этим ничтожным сведениям о моей жизни, трудной и извилистой, как верхнее течение Зиары. Перейду-ка лучше к событиям прошедшего дня, чтобы поскорее уважить ваше драгоценное любопытство. Сюда я пешком пришел из Зимзира, поверив болтовне одного старого укротителя стриклей, с которым свел там довольно близкое знакомство. Он не раз очаровывал меня рассказом о сакларских красотках, гибких как стволы мубигала, ароматных как айола в цвету, крутобедрых и круглогрудых, нежных мастериц плести любовные клидли и ублажать достойных искусными ласками. И что же? Пройдя две сотни аэталов, сегодня после полудня я вошел в эту убогую деревеньку, заглянул под разными предлогами в добрый десяток домов, полюбовался на здешних жен и девиц, которых, понятно, не принуждают прятать лица от чужих агаров, как в Зимзире и Саркате, и справедливо решил, что зимзирский укротитель стриклей выжил из ума или просто решил надо мной посмеяться. Подобных уродок и грубиянок я не видывал даже среди толстопятых жительниц восточного предгорья Галузы! Как вдруг… Сколь часто судьба одаривала меня этим нежданным лумом, разжигающим ароматное пламя в груди? Не знаю, сосчитать нелегко, но смею надеяться, что чаще, нежели иных агаров. Одарила и накануне вечером. Доведенный до отчаянья переживанием бессмысленности своего похода, сам не знаю как, забрел в один дом, здесь неподалеку. Ничего лучше не придумал, как в третий раз попросить напиться. Во дворе хозяин и двое парней, как видно, его сыновья, работали пилой и топорами, и воздух был наполнен волшебным ароматом опилок дерева ави. Друзья мои, это так много для меня значит! Вспомните, что первое любовное прикосновение я испытал, лежа в корзине с опилками. Так вот, я вдохнул этот запах, окунулся в течение доброй памяти, поднял глаза и вижу: кружку с водой подает мне прелестное существо зим пятнадцати от роду, тонкая и прозрачная как лепесток тиоля, с огромными желтыми глазами и пышным пучком темно-золотистых волос над теменем. И обращается ко мне с учтивой речью. Ее невысокий хрипловатый голосок сразил меня окончательно. Мы перемигнулись и обменялись заветными словечками: я — о любви и о встрече, она — о времени и месте. Такая ее сметливость сразу подсказала мне, что я буду не первым агаром в жизни юной красавицы. Наша встреча принесла новое и уж вовсе неоспоримое тому подтверждение. Хоть все это происходило в овине на охапках корсовой соломы, от наслаждения я был как в залидиолевом сне или на вершине Галузы и думал, что пребуду в этом бреду до рассвета. Но случилось иначе, волшебный сон прервали эти мужланы с дубьем и факелами, ее отец и братья…
— Не понимаю, — сказал царевич, — отчего могучий Нодаль предпочел спасаться бегством от деревенских увальней…
— О, благородный Ур Фта! — с негодованием воскликнул Нодаль. — Ты давеча едва не кинулся на меня с цохлараном, решив, что в опасности тот, кого ты считал беззащитным мальчишкой. Но не полагаешь же ты и в самом деле, что я способен обижать или, чего доброго, убивать насмерть беззащитных существ, да еще и троих кряду!
— Сколько я помню, — сказал Кин Лакк, — вид у них был весьма свирепый, да и дубины увесистые. Как же ты называешь их беззащитными существами?
На это Нодаль только расхохотался и скромно добавил:
— Не сочти за бахвальство, наставник, но, надеюсь, ты когда-нибудь увидишь меня в нешуточной схватке с дюжиной-другой агаров и вспомнишь наш сегодняшний разговор.
— А что ты скажешь о крианском воинстве? — спросил Кин Лакк, испытующе глядя Нодалю прямо в глаза. И эти глаза загорелись таким страшным пламенем, что Нодаль мог бы ничего и не говорить, но он сказал:
— Ненавижу. Криане — двартоубийцы. Они погубили лучезарного Олтрана и разрушили Обитель Небесного Взора.
— Тогда и я надеюсь, что скоро увижу тебя в схватке и возьму свои сомнения назад, — сказал на это Кин Лакк.
— Надеюсь и я, — молвил царевич. — Потому что с этого дня принимаю тебя на службу, храбрый Нодаль. Согласен ли ты?
— Согласен, но при одном условии.
— Каково же условие?
— Время от времени я буду отлучаться и, быть может, надолго. Но в беде не оставлю. Приду по первому зову, и лучшего слуги вы не найдете во всем Галагаре.
— Я уважаю твою любовь к свободе и принимаю условие, — сказал на это царевич. — Ведь я нуждаюсь в таком агаре, который был бы мне верным соратником. Клейменые рабы, подобные рабам Ра Она, лишенным собственной воли, мне без надобности.
— Если позволит царевич, — сказал Кин Лакк, — я хотел бы удовлетворить свое любопытство, испросив у любезного Нодаля ответа еще на один вопрос: каким непостижимым образом удалось ему разглядеть в деревенском мальчишке зловредного оборотня?
Нодаль выпустил колечко дыма и отвечал:
— Есть несколько хитростей, которым обучил меня светлой памяти Олтран. Ну, например, какое бы обличье ни принимал оборотень, подобный этому хэцу, у него вот здесь, — и он, склонившись к форлу, ткнул себя указательным пальцем в середину левой брови, — имеется чуть заметный излом и маленькая такая красная искорка, будто гнилушка светит… Но это разглядеть, конечно, трудно. Тут умеючи надо. А этого хэца я сразу узнал потому, что уж встречался с ним дважды. Он ведь и меня пытался отравить. Так его-то отличить было проще простого. По белому ободку вокруг правого зрачка. В первый-то раз я его сразу раскусил, но прекрасная Сэгань нечаянно заплатила за это жизнью. Нас было трое за столом и пришел ей в голову каприз: чтобы я поил ее мирдродом из своей чарки, а она меня одновременно — из своей. Хэц тогда улизнул и, видать, не подозревал, что я успел его ободок приметить. Недаром Олтран мне говорил: «Гляди оборотню в глаза. В глазу — его особенная примета». И во второй раз это меня спасло. Явился мне хэц в Тиолевом квартале Зимзира. Обернулся такой бизиэрой, каких я прежде не видывал. А уж я повидал их на своем веку, верьте на слово. Сидит на лавке у дома — крупная, статная, почти чернокожая, а руки белыми волосками покрыты, и грива — снег, аж глазам больно! Смотрит на меня, поигрывая цалкаловым веером — как сквозь облако дурмана. Зубки голубые показала и говорит:
— Восемь лицов — и я твоя на всю ночь.
Вывернул я карманы, наскреб всего шестьдесят хардамов. Она пересчитала, а четырех-то не хватает. — Ладно, — говорит, первый без клидля и в расчете. Пойдем.
Меня прямо в дрожь бросило. И пошел я за ней, как гавард в поводу. Но как только она мне кружку за столом поднесла, ободок-то в глазу и засветился. «Э, нет, — думаю, — никакая ты не бизиэра!»
— И чем же кончилось тогда? — спросил царевич.
— Да ничем. Успел в комнату заскочить, проклятый, за дверь, и дверь на засов. Хорошая была дверь, атановая с железной оплеткой и толщиной в два моих кулака. Надо было мне сразу плечом навалиться, а я с разбега вздумал. Ну разбежался, дверь упала, а его уж и след простыл, только занавеска в окне раскрытом плещется да ковер на полу волосами этими снежными усыпан. Кто бы мог подумать, что опять наши тропинки пересекутся?
— Вся эта история лишний раз подтверждает, что наша встреча — счастливое предзнаменование. И ваши судьбы, твоя, царственный Ур Фта, и твоя, храбрый Нодаль, связаны благородными двартами в крепкий узел, — сказал Кин Лакк. — Недаром зловредный раб проклятого Ра Она пытался повредить вам обоим. Одно непонятно — отчего Ра Он в те долгие зимы, что я проводил в своей пещере, не пытался достать и меня, меня, которому ныне довелось служить царевичу глазами. Быть может, Фа Эль охранял меня своей невесомою силой?
— Или Су Ан своим могущественным заклятьем, — сказал Ур Фта. — Но как бы то ни было, не нам судить о делах и решениях двартов. Путь агара лежит под его собственной стопой. Меч агара повинуется его собственной руке. Тайна — условие всех условий. Я не стану разгадывать ее, сидя в безопасном месте. В сражениях проложу себе путь к свету и уничтожу Ра Она.
— Эй, царевич! — вскрикнул Нодаль. — Ра Он и в самом деле не зря подсылал ко мне отравителя! Встретив меня, ты можешь считать, что уже избавился от своей слепоты.
— Не могу допустить мысли, дорогой Нодаль, чтоб ты вздумал шутить по поводу моего рокового увечья. А потому спрашиваю тебя, почему ты сказал то, что сказал, и с трепетом жду ответа.
— В самом деле, любезный витязь, отвечай поскорее, и если путь царевича к прозрению окажется короче, чем я предполагал, что ж, думаю, он, и обретя зрение, не прогонит меня с моею свирелью, и мы еще повоюем как следует.
— Слушайте же, друзья, слушайте и — смотрите, — торжественно вымолвил Нодаль и, развязав ворот, извлек висевший у него на груди голубой самородный кристалл, засверкавший в лучах масляной лампы пурпурными искрами. Нодаль перекинул через голову цепочку и бережно положил камень на стол кверху большой прямоугольной гранью.
— Великий Фа Эль! — воскликнул Кин Лакк, чьи глаза, прикованные к камню, лихорадочно сверкали. — Да ведь это настоящая саора, чистейшей воды, и в ней должно быть, дюжины полторы халиатов весу! Откуда она у тебя, любезный Нодаль?
— В этом, увы, я не смогу удовлетворить твое любопытство, наставник. Откуда — мне неведомо, ибо когда меня нашли в корзине с опилками, эта игрушка уже болталась у меня на шее. Так что смело можно сказать: этот камень принадлежит мне с рожденья. Но взгляни, наставник, на его главную грань.
Кин Лакк склонился над столом и вскрикнул:
— Да! Я вижу царапины, тонкие словно пыльца. Они складываются в знак. И я узнаю его. Это один из знаков листвы.
— Я и не сомневался, наставник, — сказал Нодаль, — в том, что листва тебе ведома. А теперь погляди, что будет, когда я положу камень на ладонь и он напитается ее теплом.
Кин Лакк, не отрываясь, вглядывался в сверкающую грань и говорил как завороженный:
— Да, да! Я вижу! Один знак листвы сменяется другим, другой третьим. Они складываются в слова, слова образуют какое-то изречение. Вернее, вторую его половину. Мне нужно прочесть начало, чтобы уловить смысл.
— Не утруждай себя, наставник, — с улыбкою вымолвил Нодаль. — Запечатленное в камне изречение является буква за буквой от начала до конца и вновь от начала — как являлась бы нашим глазам надпись на кольце, вращающемся перед ними. Я читал эти слова тысячи раз и знаю их как свои шесть пальцев.
Только теперь царевич узнал, а Кин Лакк еще и заметил, что у Нодаля на руках по шести пальцев, и оба сочли это добрым знаком.
— Слушай же, царевич, те строки, что являет моя чудесная саора под действием тепла агарской руки, — сказал Нодаль и произнес нараспев, растягивая и смакуя каждое слово:
— Речи вернет себе дар Вместе со звуками слуху, Если возлюбит агар И поцелует старуху. В зрение дверь отворит Взявший невинность крианки, Если глаза окропит Кровью из девичьей ранки.— Что ж, это очень важное и своевременное указание, — сказал Кин Лакк, — но, хотя среди нас, к счастью, нету немых и глухих, думается мне, что воспылать страстью к беззубой старухе было бы легче, нежели сыскать не лишенную девственности крианку.
— Ты прав, наставник, варвары Кри каждую девчонку чуть ли не в младенчестве подвергают нелепому обряду, который они именуют шаншартом. Случаясь с хорошенькими крианками, я всякий раз переживал эту дикость как личное оскорбление.
Нодаль вновь нацепил дивный камень себе на шею и с досадой грохнул по столу кулаком.
— Но я много путешествовал по землям, что волей судьбы именуются ныне Крианским царством, слушал досужие и нетрезвые речи в харчевнях и на базарах, внимал ворчанию угрюмых старух и болтовне беззаботных бизиэр. Приходилось мне водить дружбу и с ворами, и с дворцовыми стражниками в Саркате. Коротко говоря, я знаю, почем в этих краях капля дождя и крупинка соли. Так неужели мне неведомо, где найти единственную верную девственницу среди крианских красавиц?
— И где же ее можно найти? — нетерпеливо спросил царевич.
— На женской половине столичного дворца, разумеется. Ибо это никто иная, как дочь самого крианского царя, прекрасная Шан Цот. По крайней мере, порукой ее невинности служат дюжина крепких ворот на хитроумных запорах и целое войско стражников, окружающее дворцовые стены.
— Но отчего же царевне удалось избежать обычного шаншарта? — молвил Ур Фта, и в голосе его сквозило смущение.
— Царевна с рождения обручена. Отец ее суженого, властелин Миргалии Ар Гоц не признавал крианских обычаев и, заключая перемирие с Цфанк Шаном, скрепленное обручением детей, потребовал, чтобы крианская царевна девственницей вошла в дом его сына. Цфанк Шан до сих пор опасается жителей Миргальского леса и держит данное слово. Из-за этих опасений он, по смерти Ар Гоца, и уговорил его сына Гоц Фура стать наместником в Корлогане, бывшей форлийской столице. Место покойное и сытное. Но не потому согласился Гоц Фур и дал превратить свою Миргалию чуть ли не в часть Крианского царства. Говорят, он совсем обезумел от любви, просто бредит красотою Шан Цот и предстоящею свадьбой. А Цфанк Шан все водит его в поводу и не спешит закрепить родство — боится, что Гоц Фур, поостынув, изменит. Не царевне, конечно — до этого Цфанк Шану дела нет, — но крианской короне. Полагает крианский властелин, и справедливо полагает, что миргальские лучники и косари только и поджидают, когда вернется молодой Гоц Фур. А уж тогда они нарушат все планы Цфанк Шана.
— Но наших планов, — сказал Кин Лакк, — то, что ты нынче открыл нам, витязь, не нарушит.
— Каковы же они, эти планы, уважаемый наставник?
И форл не спеша изложил Нодалю замысел, на котором сошлись они с царевичем перед тем, как покинуть цлиянскую столицу на рассвете минувшего дня.
— Увы, огорчу вас обоих, — молвил Нодаль на это. — Идти в Тсаарнию поднимать мятеж — сколь опасное, столь и безнадежное дело. В Сарфо и Набире еще с середины зимы свирепствуют отряды наместника Цкул Хина. Главари давно уже схвачены и казнены. Лучших воинов угнали на Черные копи, откуда никому не бывало возврата.
— Что же ты посоветуешь делать, любезный Нодаль? — спросил царевич.
— Как что? Втроем идти в Саркат и похитить царевну. Вернуть свет твоим глазам, благородный Ур Фта — теперь самое главное. А вслед за солнцем да воссияет тебе веселое зарево победы!
И этим благим пожеланием завершается четвертый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Пятый урпран
В то утро, когда герои покидали Саклар, одолело зимнюю стужу дыханием теплого ветра, запела вода на свободе и черным как сажа вдруг сделался путь. И лапы гавардов зачавкали в месиве грязи.
До самого края деревни Нодаль ютился в одном седле с Кин Лакком, пожалевшим его желтые тарилановые сапоги. Но вот Саклар остался позади, и гаварды легкой иноходью проследовали в довольно тесное ущелье, ведущее под гору и кипящее низом ручьями. Здесь Нодаль попросил ненадолго остановиться, прямо со спины гаварда с ловкостью юного шарпана соскочил на скальный выступ и побежал в гору большими прыжками. Но не успел он достигнуть обширной площадки на высоте около десятка тикубов над дорогой, как ушей его коснулся предостерегающий оклик форла. Нодаль обернулся и заметил давешних своих преследователей, все с теми же дубинами рвавшихся к его кудрявой голове. Правда, числом их было теперь поменьше. Молодцы где-то оставили своего отца, того, что был словно тинтед на задних лапах: видать, старика, утомленного бесполезной погоней, одолел сон.
Нодаль, покосившись на них, не повел и бровью. Передвигаясь прежним способом, он очутился на сказанной площадке в то самое время, когда к ней подобрались и его ненавистники. Только им оставалось пройти вдоль склона еще уктаса полтора. Нодаль плечом навалился на обломок скалы, возвышавшийся посреди площадки, и опрокинул его на бок. Затем он склонился и извлек из невидимого снизу тайника большущий стальной посох, тщательно отделанный, покрытый темно-красным лаком и украшенный ближе к одному концу тремя выпуклыми серебристыми кольцами. Нодаль на один лум выставил сжатый двумя руками посох прямо перед собой, слегка согнул ноги в коленях и, глядя на своих преследователей, страшно выпучил глаза. Затем он крутанул посохом над головой и с воплем, раскаты которого переполошили всю живность окрест, опустил его на только что опрокинутый камень. И камень, взорвавшись острыми брызгами, раскололся натрое, словно в него ударила красная молния, ниспосланная каким-то могущественным двартом.
Деревенские мстители застыли на месте с разинутыми ртами, затем глянули в ущелье, где гарцевали на месте двое всадников вида отнюдь не миролюбивого, затем переглянулись, кубарем скатились на дорогу — и кинулись бежать в сторону Саклара. Нодаль, расхохотавшись им вслед, отложил посох и извлек из своего тайника доспехи и сбрую. Надев на себя длинную тонкую кольчугу и отполированные до звездного блеска наручи, застегнув с ременной перевязью изумительный пояс, украшенный пластинами речного афата и приладив посох наискось за спиной, он вложил себе в рот шестые пальцы обеих рук и свистнул так, что мертвый бы, верно, проснулся. Не позднее, чем на третий лум после богатырского свиста, откуда-то сверху с перестуком мелких камней, осыпающихся из-под лап, спустился могучий гавард бурой масти с волной белоснежного крапа, словно иней блестящего на его гладкошерстных боках. Нодаль, быстро и ловко приладив сбрую, вскочил в седло — и вскоре из ущелья на дорогу, ведущую в Дигал, выехали трое вооруженных всадников.
— Позволь-ка взглянуть на эту твою замечательную вещь, — на ходу обратился к Нодалю Кин Лакк и едва не выронил в грязь темно-красное чудовище, любезно протянутое ему витязем.
— Да в нем не менее десятка циалов! — с почтением воскликнул форл и передал посох царевичу.
— Ровно восемь, — скромно уточнил Нодаль.
— Мне не доводилось упражняться с таким оружием, — сказал Ур Фта, внимательно ощупывая посох.
— Как только сумею улучить на досуге время, я с радостью обучу царевича нескольким приемам, — учтиво проговорил Нодаль и с некоторой долей ревности отправил посох на место.
Все трое без устали погоняли гавардов, и около полудня вдали показались острые крыши Дигала, небольшого крианского городка в верховьях Зиары, жители которого с гордостью говорили, что Саркат пьет их воду. Нодаль взялся продать в Дигале гавардов и нанять лодку, чтобы добраться в столицу кратчайшим путем. Ур Фта и Кин Лакк согласились на это не сразу. И особенно усердствовал в сомнениях форл, столь тщательно выбиравший гавардов в царском гавардгале. Все же, наконец, он смирился с предстоящей потерей и согласие было достигнуто. Дело оставалось за малым — благополучно добраться в Дигал. Но это теперь представлялось не столь уж простым делом, ибо со стороны городка на дороге показались всадники, и Нодаль невозмутимо сказал:
— Тагунский разъезд. Числом — дюжина и один. Зайгалами размахивать — мастера.
Ни царевич, ни Кинн Лакк не успели вымолвить на это ни слова, как раздался властный пронзительный голос:
— Кто такие? Стойте и отвечайте, именем великого Цфанк Шана, властелина Кри и Цли!
— Это гнусная ложь и самозванство, — негромко сказал царевич, а в сторону вопрошавшего с достоинством выкрикнул:
— Здесь Ур Фта, сын воистину великого царя Белобрового Син Ура, и его походная свита.
— Твоя воля, благородный царевич, — вполголоса проговорил Нодаль, доставая из-за спины посох, — Но теперь придется перебить всех до единого. Не следует допускать, чтобы в Саркате раньше времени узнали о твоем прибытии.
— А, это ты, слепой вонючий выродок белобрысого айзурского сарпа! — вновь крикнул тот, кто, по-видимому, стоял во главе отряда. — Как же это тебя мамки без присмотра выпустили? Не ровен час, лобик расшибешь!
Царевич ничего не ответил, только скрипнул зубами, быстро надел на голову шлем, грохнув тугою застежкой, и протянул в сторону Кин Лакка левые руки:
— Лук и стрелы! — словно со дна железного колодца донесся до форла голос Ур Фты.
Тагунский командир, меж тем, хохотал, откинувшись в седле, а вместе с ним веселилась и вся дюжина его подчиненных.
— Дозволь, благородный Ур Фта! — воскликнул закипающий гневом Нодаль. — В три афуса я скину их головы в грязь как мячи для игры в бозабар!
— Постой! Мне нанесли смертельное оскорбление, — раздался из-под зеркального забрала далекий голос царевича. — И не ты, славный Нодаль, прольешь кровь, которою оно будет смыто.
Царевич поднял в вытянутой руке черный лакированный лук и, наложив стрелу с наконечником хо отменной закалки, натянул тетиву, словно прицеливаясь куда-то в сторону, далеко от гогочущих всадников. Это еще больше развеселило их начальника, грузного, осанистого крианина в лихо заломленной тагунской шапке с пучком черно-желтых кистей на макушке.
— Глядите-ка! — вновь закричал он во все горло. — Этот урод с железным яйцом на башке еще и стрелять собрался. Того и гляди попадет в кого-нибудь… случайно! Эй, ты, царевич безглазый! А я — Кул Лах, дюжинник тагунской заставы третьего…
Договорить он не успел. Царевич вдруг развернулся, мгновенно прицелился на голос и спустил тетиву. Уныло и коротко просвистев, стрела раздробила крианину верхнюю челюсть и вышла сзади, пробив затылочную кость.
— Убит? — крикнул царевич.
— Убит, — раздался в ответ голос форла.
— Дозволь, благородный Ур Фта! — повторил Нодаль, воспользовавшись лумом панической тишины в рядах противника.
— Дозволяю, — сказал царевич. Тишина взорвалась щелканьем плеток и улюлюканьем тагунов, в тот же лум перекрытыми боевым воплем Нодаля. Он устремился им навстречь, и посох вращался в его руках, словно соломинка в водовороте.
Утекло не более шести афусов — и все было кончено. Искалеченные тела валялись на площади в дюжину круговых уктасов. Причем среди них оказалось четыре гаварда с проломленными черепами и сломанными спинами, которых Нодаль нечаянно задел своим посохом в пылу сражения. Он подъехал к царевичу и, поборов толчки слегка сбившегося дыхания, сказал:
— Дорога в Дигал свободна, благородный царевич. К твоему удовольствию, мы теперь же можем завершить переход.
По пути в Дигал не случилось более ничего примечательного. В городе Нодалю без труда удалось продать гавардов за хорошую цену и нанять лодку до Сарката. Сбрую, доспехи и кое-какой провиант, закупленный тут же на дигальском базаре, сложили на корму под навесом, сплетенным из тонких побегов мубигала. Двое дюжих лодочников согласно кивнули, когда Нодаль после короткого совещания сообщил им, что отплыть решено завтра на рассвете. Но как только они услыхали, что плыть придется весь день без остановок, чтобы успеть в столицу глубокой ночью, оба враз замахали руками и, сделав вид, что ни за что не согласятся плыть на таких условиях, потребовали убрать с их лодки поклажу. Поломавшись немного и добившись от Нодаля удвоения платы, они, однако, вновь закивали, с довольными улыбками и вполне избавившись от страха перед тяготами предстоящего пути.
К вечеру короткая галагарская весна начала двенадцатидневное царствование и воссела на шатком своем престоле. Теплый воздух пронзили пьянящие ароматы. Закатное солнце пригревало как жарко натопленный круглый очаг.
Устроившись на постоялом дворе неподалеку от лодочной пристани, царевич и его спутники вышли в сад, простиравшийся на задах гостиничного пристроя, и уже не пожелали оттуда уходить. Они велели накрыть себе стол в изящной мубигаловой беседке, окруженной густыми зарослями цветущих бирцид. После обильной трапезы, состоявшей из маринованной речной лирды, белых миарбов в лиглоновом уксусе, длинных серебристых рузиавов, вместе с икрою обжаренных в зеленой заливке, и хрустящих палочек лахи-гухи из отборной корсовой муки, все трое принялись смаковать здешний напиток — кисло-сладкую гирану — и заедать питье, как принято в Дигале, темно-синими ягодами клах. Именно этим сочетанием вызывались приятное головокружение и нежный мелодичный звон в ушах. Оцепенение разорвал хриплый голос Кин Лакка:
— Напиток чересчур тонкий и более пристал изнеженным красавицам, погруженным в бесплодные мечты.
— В самом деле, — сказал царевич, отставив резную чарку. — Не пора ли подумать и обсудить, что станем мы делать в Саркате.
— Полагаю, лучше всего — разделиться, — сказал Нодаль, не подумавший выпускать свою чарку из рук, и закинул себе в рот парочку дурманящих ягод. — Мы без особого труда проникнем в город. Это я беру на себя. Затем ты, царевич, и ты, наставник, позаботитесь о гавардах. Надо будет проникнуть в левое крыло царского гавардгала и вывести трех, ибо царевна весит немного, да и в седле ей будет не удержаться.
— Ручаюсь, мы выберем самых крепких, — сказал Кин Лакк. — Но продолжай, славный Нодаль. Ты, верно, тем временем направишься прямо во дворец.
— Вернее некуда, если не сказать — прямо в опочивальню царевны. Вот эти чудесные зернышки набирского залидиоля я вложу ей в ноздри, и до тех пор, пока кто-нибудь не извлечет их обратно — думаю, благородный царевич сделает это собственными устами — царевна будет погружена в безмятежный сон. Затем я выйду с ней из дворца и поспешу к краю Мигоновой рощи у Северных ворот, где вы с гавардами наготове будете поджидать меня и мою драгоценную ношу. После этого я снимаю стражу, открываю ворота — и мы свободны как ветры прилива.
— Что же, прекрасно, — сказал Кин Лакк, — но ни мне, ни благородному царевичу ни разу в жизни не доводилось бывать в крианской столице. Не заплутать бы нам, оказавшись в незнакомом городе, да еще во мраке ночном.
— И об этом не беспокойтесь. Впереди у нас целый день пути. Я успею описать вам каждый закоулок, а для тебя, наставник, изображу Саркат, каким он выглядит с высоты птичьего полета.
— Твой план хорош, — задумчиво молвил царевич. — И мы попытаемся его осуществить. Но как вы думаете, учитель Кин Лакк и быстроумный Нодаль, куда мы направимся, выехав за пределы Сарката с похищенной царевной?
— Быть может, обратно в Дигал, через Саклар — и в войско великого Син Ура? — наобум предположил Нодаль.
— Ошибаешься, любезный Нодаль. Выехав через Северные ворота, мы и отправимся на север. И устремимся, не слишком задерживаясь на привалах, к самой границе Миргалии, туда, где возвысила свои неприступные стены восьмибашенная Эсба.
— Четыре с лишним сотни аэталов, — сказал невозмутимый Нодаль. — Вероятно, будем на месте к концу четвертого дня.
— Замысел царевича осветил мой разум, как солнце в полночь! — воскликнул Кин Лакк. — То, что не суждено свершить нам в Тсаарнии, мы свершим в миргальских землях! И если ты, славный Нодаль, говорил правду о лучниках и косарях из Миргальского леса, жаждущих мятежа, — мы достигнем исполнения желаний. И вернемся в Саркат среди бела дня во главе мятежных отрядов.
— Предположение о том, что сказанное мною о миргальских головорезах не вполне соответствует истинному положению вещей, не соответствует истине, уважаемый наставник, — с великодушной улыбкой вымолвил Нодаль.
Кин Лакк молча кивнул и, поднявшись, предложил прогуляться по саду. Солнце скрылось, и в наступивших сумерках благоухание сделалось почти невыносимым. В буре белоснежного цветения бирцид, чьи маленькие лепестки уже кружились в воздухе на гребнях теплого ветра, все трое вдруг остановились. И Кин Лакк сказал:
— Разное может случиться. И не диво, если удача не всегда будет сопутствовать нам на избранной трудной дороге. Принесем же клятву, славный витязь, теперь, посреди этого прекрасного вертограда, в том, что не отступимся и не предадимся спокойной жизни, станем верно служить благородному царевичу до тех пор, пока он не вернет в глаза свои свет и не уничтожит злокозненного чернородного дварта Ра Она.
Кин Лакк опустился на колени и прикоснулся рукою к руке царевича.
— Скорее погибнем, — сказал Нодаль и сделал то же самое. Позднее были еще сложены об этом такие строки:
Стал на колени последний из племени форлов В чистом, как помыслы, вихре весенних цветов. Рядом склонился могучий боец шестипалый, С девами нежный, в бою беспощадный к врагам. Клятву слепому царевичу дали герои — Следовать рядом туда, где победа и свет. Смяты цветы — но вовек нерушимого слова В логове мрачном страшится злокозненный дварт.Наутро лодка с тремя героями на борту под небольшим прямоугольным парусом, подгоняемая свежим рассветным ветром и плавным течением зеленоватых вод Зиары, заскользила по направлению к Саркату.
Не будем говорить о том, как проводили время в пути царевич и его спутники, ни повторять слова форлийских витвол, которыми веселил сердца Ур Фты и Нодаля славный Кин Лакк, ни пересказывать произносимые тогда для забавы бесконечные истории любовных приключений витязя с посохом, давно заключенные в отдельную книгу, сотрудницу в грезах любвеобильных юнцов.
Перешагнем через день с пристани утра на берег ночи, взлетим на высокую стену из белого сафа вместе с Кин Лакком или, подобно Ур Фте и Нодалю, перелезем через нее по сброшенной форлом веревке из крепких волокон рудлы — пока неусыпные стражи расходятся в разные стороны, повернувшись друг к другу спиной. Оставим двоих у ворот гавардгала и проследим за третьим, крадущимся вдоль стены к восточным воротам сада, окружающего царский дворец.
Ты, верно, спросишь: к чему эти лишние хлопоты? Отчего бы не дождаться ясного дня и не войти в город с толпою жителей окрестных сел, стекающихся на базарную площадь Сарката? Почему бы не купить гавардов вместо того, чтобы красть их, да еще из-под носа у царских гавардиров? Ты недоумеваешь, не в силах подыскать какой-нибудь ответ на эти свои вопросы? Ну что ж, оттого ты и не был никогда в Галагаре, оттого и не стоял в ту ночь рядом со знаменитым Нодальвирхицуглигиром Наухтердибуртиалем, который, крадучись на женскую половину царского дворца, задушил волосяною удавкой одного за другим добрую дюжину отборных стражей, вооруженных топорами на длинных рукоятях, отомкнул не одну дюжину хитроумных запоров и, затаив дыхание, остановился у двери в опочивальню царевны. Прислушавшись и оглядевшись по сторонам, он мягко толкнул дверь и ступил за порог, перешагнув через тело здоровенного евнуха, облаченного в безрукавный тисан и широкие сатьяры из белого и алого цинволя. Нодаль сделал несколько шагов по направлению к невысокому ложу, занавешенному полупрозрачным чидьяровым пологом, — и его сознание помутилось. Но помутилось лишь на один мимолетный лум и, конечно, не от каких-нибудь подлых умыслов. Просто вдохнул он едва уловимый аромат драгоценных курений, витавший в сонных покоях прекрасной Шан Цот, или коснулся тяжелой рукой невесомой волнующей ткани…
Преодолев понятную слабость, Нодаль склонился над ложем и холодно глянул на царевну, окутанную сном. Ее черты, залитые теплым светом, струящимся из множества пристенных фонарей, сияли спокойным совершенством. А все же верный витязь был невозмутим, словно глядел в бревенчатую стену. Пошарив за пазухой, он извлек заветные зерна залидиоля, взял их с ладони в щепоть и протянул руку к погибельно прекрасному лицу. Как вдруг ресницы Шан Цот задрожали, и она широко раскрыла глаза, сверкавшие подобно двум громадным альдитурдам, упавшим на снег. Но отважный Нодаль не дрогнул и спешно пустил свои зернышки в ход. В тот же лум волшебные глаза царевны, неотрывно глядевшей витязю в лицо, подернула томная дымка, и выражение ужаса в них сменилось глубокой волной сладострастья. Однако и эта волна не захлестнула твердое сердце героя. Он не стал дожидаться, пока веки царевны опустятся под тяжестью новой дремы, наспех завернул ее в сорванный тут же чидьяр и кинулся прочь из дворца, неся на плече сокровище, завладеть которым не чаяли и во сне несметные дюжины ловких агаров. А в мягком ларце, где хранилось сокровище прежде, теперь лежал, утопая в пуховых подушках, бездыханный евнух с выпученными глазами и широко раскрытым ртом.
Нодаль двигался быстрым бесшумным шагом по запутанным галереям женской половины дворца, пересекал, держась как можно ближе к стенам, просторные залы, озаренные мириадами светильников. Время от времени слух его чутко улавливал малейшие шорохи и иные подозрительные звуки. Несколько раз он сворачивал не в ту сторону, где, по его разумению, лежал кратчайший путь наружу. То и дело раздававшиеся топот ног и сдавленные крики указывали на то, что подвиги витязя на пути в опочивальню царевны уже обнаружены и следует ожидать серьезного столкновения с целым отрядом стражников за любым поворотом. Теперь это представлялось ему нежелательным делом: ведь надо было прежде всего беречь царевну и постараться выиграть время.
И все же стычки избежать не удалось. В тот лум, когда Нодаль приблизился к концу длинного, едва пропитанного тусклыми отблесками редких светильников перехода, его внезапно ослепило пламенем полудюжины смоляных факелов, и в гуще их шаткого света сверкнули смертоносные лезвия зайгалов.
Не выпуская царевны и только крепче прижав ее к отведенному плечу, славный витязь выхватил из-за спины свой чудовищный посох и провел им с правого плеча свистящую дугу, перечеркнувшую стражников, словно кровавой кистью. Но немедленно им на смену накатила новая полудюжина. Гул впереди нарастал, и Нодаль, отбивая атаку за атакой, одновременно стрелял глазами в поисках выхода из этого узкого места. Теперь действительно надо было торопиться: еще роф-другой — и, обнаружив пропажу царевны, поднимут на ноги весь столичный гарнизон, перекроют все ворота, так что выбраться из Сарката будет не так-то просто.
Наконец он углядел в темной нише слева и сзади то, что искал, или, во всяком случае, очень на то походившее. Не переставая работать посохом и удерживать противников на изрядном расстоянии, Нодаль неожиданно отступил на шаг вправо и, оперевшись плечом о стену, ударил в темную нишу ногой. Дверь, скрывавшаяся в тени, с грохотом распахнулась — и он, пригнувшись, ринулся в проем, не ведая, что там его ожидает.
Удерживая дверь богатырской спиной под нарастающим прибоем размеренных ударов, славный витязь обнаружил, что очутился в кромешной темноте. Но, втянув воздух ноздрями, он без труда определил, что это за место. В трех шагах перед собой нащупав посохом скользкую покатую поверхность, Нодаль точно подгадал между двумя ударами, с ревом сотрясавшими ему спину, и шагнул в сторону, освобождая дверь и закрыв телом свою драгоценную ношу. В тот же лум рев и треск слились воедино и добрая дюжина нодалевых преследователей с беспорядочными воплями, цепляясь друг за друга, отправились вниз по зловонному полукруглому желобу, предназначенному для спуска нечистот.
— Вы ступайте, а я там обойду, где почище, — сказал он, подтолкнув к желобу последнюю пару стражников, сумевших-таки задержаться в дверном проеме, и, не слушая их удаляющихся воплей, кинулся обратно в галерею.
Верхом на лучших гавардах Крианского царства встретили похитители царевны солнце нового дня. И пустившиеся вдогонку царские слуги отставали от них на два атрора. И расстояние это за целый день не сократилось ни на один керпит, а за ночь увеличилось во много раз. Затем солнце вновь поднялось на правом и, прокатившись над головой ушло за левое плечо царевича. И только тогда он и его не ведающие усталости спутники натянули поводья и сделали первый привал. На расстоянии трех керпитов от струившегося из-под земли ключа в мягких травах под сенью одинокого габаля Нодаль расстелил свой белый таранчовый плащ, и царевич бережно опустил на него прекрасную Шан Цот, все еще объятую беспробудной сладостной дремой.
— Теперь она в твоей власти, эта несверленная саора, о благородный Ур Фта, — сказал Нодаль, прикоснувшись к плечу царевича. — Прикажи — и вдвоем с почтенным наставником мы удалимся на положенное расстояние, чтобы стать на страже твоего покоя. А тем временем ты, как говорится, снимешь с девы все сорок сатьяр, осчастливишь ее несмертельною раной и свершишь предреченное талисманом, дабы назавтра увидеть рассвет…
— Сердцу моему отрадна твоя обо мне забота, любезный Нодаль, — отвечал Ур Фта, склонившийся над царевной. — Но я донельзя разгневан твоими словами. Не медля возьми их обратно! Или ты на самом деле решил, что царевич из рода айзурских дарратов способен ради сугубой корысти случиться с благородной царевной без свадебного обряда, наспех, в голой степи, даже не испросив ее согласия и любви, словом, уподобившись какому-нибудь ошалевшему порску, кидающемуся на самку в пору весенней течки?!
— Беру, беру свое слово обратно, о благороднейший из благородных. И да простит меня в сердце своем великодушный царевич за дикий мой нрав и недостаток вежества, столь явный в присутствии достойнейших всякой хвалы. Завершив наш поход, мы непременно войдем в неприступную Эсбу и огласим ее улицы веселым свадебным пиром.
— Это сбудется наяву, если мы не станем тратить время на пустые разговоры, подкрепимся на славу и как следует отдохнем, прежде чем вновь пуститься в дорогу, — сказал мудрый Кин Лакк. — Не следует ли разбудить царевну, чтобы она разделила нашу трапезу и тем поддержала свои телесные силы?
— Что до телесных сил, — возразил с улыбкой Нодаль, — то лучшего для них подкрепления, чем волшебный залидиолевый сон, просто не существует в Галагаре. Верно, тебе, наставник, не ведомы свойства чудесных набирских зерен, а я не однажды испытывал их на себе. Видишь улыбку, что играет на устах царевны? Прекрасная Шан Цот спит, и ее сновидения полны услад и восторгов. Она вкушает любимые яства, поглощает самые утонченные напитки из царских погребов, слушает небесные звуки стострунных крианских тантринов и упивается собранием желанных ее сердцу существ, торопливо исполняющих любое желание царевны. И хотя все эти призрачные события творятся только в безмерных владениях дурмана, они поддерживают в теле жизненный дух и освобождают любого от низменных нужд на несколько дней и ночей.
Покончив с трапезой, царевич положил между собой и царевной свой триострый цохларан, извлеченный из ножен, и мгновенно погрузился в сон. Неподалеку по другую сторону неохватного ствола векового габаля устроился Кин Лакк. Они с Нодалем условились попеременно стоять на страже, и Нодалю по жребию выпала первая половина ночи.
Как только его спутники пустились по волнам ровного дыхания, кромешная тьма обняла витязя на страже, и он ощутил во всем теле неодолимую теплую тяжесть. Но не привыкать было славному Нодалю бороться и с этой напастью. Скинув одежды, он омылся ключевою водой, затем извлек из-за пазухи пурпурный мешочек и, отсыпав часть его содержимого на ладонь, принялся натирать себе грудь и плечи. То был порошок, изготовленный из семян лестерца, называемый в Тсаарнии хуш-раш, или Черное Пламя.
Ветер усилился — и на небе вспыхнули звезды, будто угли ветром раздуло. Стиснув зубы, Нодаль стоял, запрокинув голову, и бормотал себе под нос какие-то страстные речи. Сна — как будто и не бывало.
Минула четверть ночи — и витязь в схватке с новым приливом сладкой сумрачной жажды потянулся было вновь к мешочку с ядреным хуш-рашем — как вдруг воздух наполнился шумом пугающих крыльев. Нодаль схватился за лук и выдернул из колчана стрелу, но в тот же лум руки его сами собой бессильно повисли. На нижние ветви габаля опустилась белоснежная степная сужица величиной в пол-агара, и вся она, словно изнутри, лучилась прекрасным радостным светом. Нодаль не приметил, как от ее крика пробудились Ур Фта и Кин Лакк. Меж тем, чудесная вестница сложила крылья и голосом, хрипотою напоминавшим голос последнего форла, быстро и отчетливо проговорила по-цлиянски:
— Льется ныне кровь недаром — В безопасности Айзур. Верх одержит под Фатаром Над крианами Син Ур. Путь на север выбран кстати: Здесь проложен таруан. Только завтра на закате В годы Ло уйдет Су Ан. Ночи хитрое творенье — Дивноокая Шан Цот: Тот, кому она — спасенье, На беду ее берет.С последними словами сужица развернула громадные крылья, взмыла над темною кроной габаля и растворилась в звездном небе.
Первым воцарившееся молчание прервал Нодаль.
— Что вы на это скажете, мудрый наставник и благородный царевич? Кажется, чудесная сужица принесла добрые вести?
— И добрые, и худые, как показалось мне, — отвечал Кин Лакк, — но можем ли мы вполне доверять словам таинственной птицы?
— Не сомневайся, учитель! — воскликнул царевич. — Правда, не все сужицы в Галагаре служат великому дварту Су Ану, зато нет ни одной, что служила бы его врагам.
— Ну что ж, в таком случае ясно: твоя родина, благородный Ур Фта, пока что вне опасности, хотя и ценою проливаемой братьями крови. Остается сожалеть лишь о том, что победа в битве под Фатаром будет добыта без нашего участия. Зато, если нам удастся осуществить свой замысел и повести Миргалию на Саркат, мы можем рассчитывать на подмогу и при благоприятном стечении обстоятельств соединимся с наступающим войском Син Ура…
— Беспощадный Кин Лакк уже заговорил о подмоге? — изумился царевич. — Разве мы не уговаривались накануне, что выиграем войну вдвоем?
— О, царевич, видит Фа Эль, мой воинственный пыл ничуть не угас! Но разве не противно полководческой мудрости — отказываться от содействия дружественных сил и рваться в бой наугад, доверяясь игре тщеславных стремлений? И разве мы по-прежнему вдвоем? Или ты забыл о славном Нодале? А может, считаешь, что нам должно отказаться от союза с ним?
— Ты прав, наставник, но если позволит благородный царевич, позволь и ты разъяснить, как я понимаю его тревогу.
— Говори, любезный витязь. Кто знает, быть может, мои тревоги понятны тебе более, нежели мне самому.
— Благодарю, великодушный Ур Фта. Я только хотел сказать наставнику Кин Лакку, что, соединившись с войсками непобедимого Син Ура, тебе, царевич, нелегко будет проявлять собственную волю в походе и в битве, волю арфанга, не так ли?
— Да, это так. Ты заглянул мне в самую душу, быстроумный Нодаль. Я готов подчиниться царю, но только после того, как докажу несправедливость слов, сказанных им на военном совете. Только после того, как во главе с собственным войском стяжаю победу хотя бы в одной великой битве!
— Да свершится по слову твоему, и не будем больше об этом, драгоценный Ур Фта, — смиренно проговорил Кин Лакк. — Тем более, что вещая птица подтвердила твою прозорливость в выборе нашего пути. Но не раскроет ли мне кто-либо из вас значения таинственного слова «таруан», произнесенного ею?
— Охотно, учитель, — откликнулся царевич. — Слово это знакомо мне с самого детства. В Айзуре часто говорят, провожая в дальний путь доброго друга: «Да будет дорога твоя таруаном!» Повелось так с незапамятных времен. Но таруан — не выдумка: в последний раз он был проложен великолепным Су Аном от Саина до Айзура, когда Белобровый Син Ур двигался по этой дороге с пышной свадебной процессией, увозя из Междуморья красавицу Дан Бат.
Мятежник Эн Лан, замышлявший во главе лихой дюжины напасть на процессию, погубить царя и завладеть Синезубой Дан Бат, испытал действие таруана на себе.
— Так значит, таруан — это чары, служащие защитой от врагов?
— Таруан — галерея невидимых сводов. Оказавшийся в таруане, двигается он или стоит на месте, поднимается в заоблачные выси или уходит в подводные глуби; спит или бодрствует, живет или умирает — для всех, кто враждебно настроен к нему, просто перестает существовать. Но таруан — средоточие силы Су Ана и не может сохранять свое действие слишком долго…
— Воистину чудо! — воскликнул Нодаль. — А я-то, глупец, истязал себя ядреным хуш-рашем! Очень надо было стоять на страже, когда никакому злоумышленнику не под силу нас обнаружить! Ведь так, царевич? Мы не существуем теперь даже для зловредного Ра Она и всех его оборотней, вместе взятых?
— Никакие злые чары не могут проникнуть под своды таруана, — с улыбкой подтвердил Ур Фта. — Ты мог бы спать себе спокойно.
— Мог бы, но не спал, и — клянусь первозданным яйцом — уснет теперь не скоро!
— Не смею возражать, но почему ты сказал то, что сказал, мудрый Кин Лакк? — в изумлении вопросил Нодаль.
— Неужели ты не помнишь сказанное вещею сужицей? Я затвердил слово в слово и могу повторить: «Завтра на закате в горы Ло уйдет Су Ан». Что это значит?
— А-а! Понятно, — со вздохом вымолвил Нодаль. — Это значит, что завтра на закате своды таруана рухнут. А чтобы их руины не погребли нас под собою…
— Мы должны продолжить поход немедленно и на завтра к вечеру постараться проникнуть за неприступные стены Эсбы, — добавил Кин Лакк.
— Ты прав, учитель, но пока мы седлаем гавардов, я счастлив был бы услышать твое и любезного Нодаля мнения о той части известия, в которой чудесная сужица упомянула Шан Цот.
— Ясно одно, — сказал Нодаль, в сердцах перетянув подпругу, — похитив царевну, мы выбрали единственно верное решение: царевна спасет тебя, царевич, стало быть, прозрение твое не за горами — на исходе первой брачной ночи.
— Кто знает, — проворчал Кин Лакк, уже вскочивший в седло, — спасти-то она спасет и, быть может, не одного царевича: похищали-то мы ее все вместе. Зато и несчастье она нам принесет непременно. Ведь птица сказала: «Тот, кому она — спасенье, на беду ее берет».
— Поздно теперь, учитель, раздумывать и гадать о грядущих бедах, сделанного не переделаешь, минувшего не воротишь, — воскликнул царевич и, прижав к могучей груди спящую Шан Цот, стегнул плеткой гаварда.
И гавард его умчался прочь из пятого урпрана книги «Кровь и свет Галагара».
Шестой урпран
Крепость Эсба, в Миргалии известная также как Восемь Башен, была возведена в правление третьего из миргальских ванобов Зец Неда на громадном холме вблизи того самого места, где воды Таргара делятся на пять рукавов и так впадают в Дымное море. Стены Эсбы, сложенные из привозного темно-зеленого брабида, вздымались над склонами холма на две дюжины керпитов, а из них еще на добрый уктас к высокому небу вытягивались башни с остроконечными кровлями и узкими прорезями бойниц. Холм, на котором стояла крепость, был окружен бездонным рвом, заполненным вечно холодной водою Таргара. На север и северо-запад простирались казавшиеся непроходимыми заросли Лаймирской чащобы. Подойти к крепости с востока не позволял полноводный Таргар. Единственная дорога вела сюда с юго-запада. По ней и подъехал царевич Ур Фта со своими спутниками к небольшому подъемному мосту через ров. Здесь их остановили суровые стражники в простых кованых латах и грубых шишаках с низкими гребнями, вооруженные большими скругленными топорами и железными пиками. Стражники не потрудились поднять мост ввиду малочисленности представшего перед ними отряда, но проехать по нему вооруженным незнакомцам не позволяли. Нодаль без особого труда побросал бы их в ров вместе с пиками и топорами, но дорога за мостом, круто поднимаясь по склону, упиралась в такие ворота, стиснутые с обеих сторон чудовищными контрфорсами, что и Нодалю, и остальным показалось наиболее разумным вступить в переговоры уже здесь, у моста.
В здешних краях все немного умели по-криански, и объясниться с миргальцами было нетрудно.
Услыхав, кто перед ними, стражники вытащили откуда-то заспанного коротышку в лестерцовой рубахе и что-то крикнули ему на своем наречии. Тот не стал тратить времени даром, несмотря на малый рост, с великим проворством умчался по направлению к крепостным воротам и скрылся за ними, протиснувшись в предоставленную ему невидимыми привратниками узкую щель.
Спустя некоторое время из ворот, на этот раз открывшихся гораздо шире, выехали и спустились к мосту через ров всадники числом полдюжины. Одеты и вооружены они были довольно богато, особенно тот, что ехал впереди на черно-серебристом гаварде. На голове этого всадника не было шлема, отважное чистое лицо обрамляли длинные белоснежные волосы и борода; крепкое коренастое тело облегала дорогая тонкой работы кольчуга, укрепленная затейливо изогнутыми наручами и оплечьем вороненой стали. Подъехав вплотную к вытянувшимся стражникам, он приказал им посторониться и шагом пустил своего гаварда навстречь незнакомцам. За ним последовали остальные. Примерно на середине моста он едва заметно натянул поводья и остановился.
— Я — Дац Дар из рода лаалов, второй ортлиц Миргалии и комендант Восьми Башен, — сказал он на хорошем крианском. — Назовите и вы себя, честные агары.
— Здесь царевич Ур Фта, наследник цлиянского престола, и его походная свита — Кин Лакк, последний воин крылатого племени форлов, и славный витязь родом из Тсаарнии по имени Нодальвирхицуглигир Наухтердибуртиаль.
— Чего же ты ищешь под стенами Эсбы, царевич? Мы никогда не враждовали ни с форлами, ни с царством Цли, но Миргалия давно в союзе с крианами, а криане воюют с Айзуром. Наши братья в рядах крианского войска также скрестили сегодня оружие с твоими сородичами. Так не убраться ли тебе по добру, по здорову, покуда я не приказал моим воинам обнажить мечи и поговорить с тобою и твоими на языке военного времени?
Нодаль в этот лум улыбнулся чему-то своему и как бы невзначай похлопал гигантскою шестерней по рукояти своего посоха, сверкавшей серебристыми кольцами в лучах заходящего солнца над правым его плечом.
— Ты не сделаешь этого, отважный Дац Дар! — вмешался Кин Лакк, вытянув единственную свою руку в предостерегающем жесте.
— Отчего же?
— Ты не сделаешь этого по двум причинам. Первая. Ты ненавидишь криан так же, как мы, и ждешь только удобного случая, чтобы разрешить на языке оружия кое-какие разногласия с ними. И вторая причина. Ты, как и все твои, считаешь позором для наследника Миргальского царства сидеть наместником в Корлогане и кланяться крианскому царю.
— Вот в этом ты прав, последний из форлов, клянусь семиствольным видрабом! — воскликнул Дац Дар, и глаза его загорелись недобрым пламенем. — И этот позор тем обиднее, что сын и наследник несгибаемого Ар Гоца обрекает свой народ на сиротство из-за пары крианских сатьяр!
— И то верно! Разве подобает воину и царю забывать свой долг и менять престол на рабское место, хотя бы и в ногах крианской царевны? Но взгляни сюда, вот они, эти сатьяры, о коих ты ведешь столь гневную речь.
— Как? Ты говоришь правду, форл? Эта девчонка на руках твоего господина — царевна Шан Цот? Не в плену ли ты заблуждения?
— Уверяю тебя, отважный Дац Дар, он говорит правду, и заблуждения тут быть не может, — ответил за Кин Лакка царевич. С помощью моих верных слуг мне удалось похитить царевну прямо из дворца в Саркате, и теперь я намерен, свершив положенный обряд, войти к ней как можно скорее.
— И тем самым, заметь, о миргалец, — подхватил Кин Лакк, — раз и навсегда устранить причину вашего позора и повернуть законного наследника Гоц Фура лицом к миргальскому престолу. А кроме того, есть у нас смелые мысли и о том, как поставить на место крианских наглецов. Мы поделимся этим с тобою. И я уверен, найдем общий язык.
— Это полностью меняет дело. Я распоряжусь, чтобы наши женщины уже сегодня начинали готовить царевну к обряду. Молодым будут отведены лучшие покои. Я дарю лихую дюжину сарпов и сорок бочек рабады для пира. Завтра же сыграем свадьбу! Добро пожаловать в Эсбу, благородный царевич! Здесь вы будете в полной безопасности.
Комендант, оставаясь в седле, отвесил церемонный поклон царевичу и посторонился, уступая дорогу. Миргальцы, сопровождавшие его, подражали в этом своему предводителю. Когда Ур Фта и его спутники приблизились к крепости, ворота по знаку Дац Дара широко распахнулись и за ними открылась обширная площадь, окруженная каменными домами в два и три этажа. Кое-где в сумерках вспыхивали и плыли огни факелов, кое-кто с любопытством глазел на неведомых пришельцев, провожаемых самим комендантом, а иные проходили стороной, не обращая на них внимания. Тем временем небольшая процессия продвигалась в сторону Главной башни, откуда вскоре донесся размеренный гром большого данадзона. Так Эсба привечала нежданных гостей.
Разгоряченный стремительным ходом событий и обрадованный легкостью исполнения сокровенных желаний, Ур Фта внес царевну на руках в отведенные для нее покои и пожелал немедленно прервать ее забытье. Но Дац Дар убедил его прежде смыть дорожную пыль и надеть на себя одежды, подобающие случаю, каковые тут же были царевичу поднесены.
Какими бы прекрасными ни были залидиолевые грезы Шан Цот, — явь, представшая ей с пробуждением, тоже была недурна. Просторные покои под резным видрабовым сводом, открывшиеся ее взору, были украшены расстеленными и развешанными повсюду бело-голубыми шкурами миргальских килканов. Здесь и там сверкали прекрасной полировки бронзовые зеркала. Царевну окружали милейшего вида проворные девицы, готовые исполнять любую ее прихоть. Прямо перед нею на изящном столике из черной, резанной в кружево древесины блестели каменьями и золотистой оплеткой кувшины с ледяным зуриалом и драгоценным соком оэлы, теснились на прозрачном блюде нежные плоды белого сердцевника и алые как кровь, спелые ягоды бирциды, соблазняли сладостным ароматом слегка запотевшие пластики цумилиновой гарзилы. А еще рядом с нею был прекрасный юноша с гибким станом и четырьмя сильными руками. Лик его был отважен и чист. Одежды — подобающие царскому роду. Глаза его были велики, темны и неподвижны. Слова — ласковы и учтивы. Он робко притронулся к руке Шан Цот и назвался царевичем Ур Фтою. Капризная, избалованная царевна не могла подобрать слова, приличные случаю. Она была вместе напугана и очарована происходящим и молча приняла из рук царевича легкую чашу искристого зуриала, быть может, полагая, что все еще спит и видит сны, ниспосланные неведомым зельем.
Вскоре царевич, испросив на то дозволения, удалился, а ловкие служанки под руки увели Шан Цот за высокие темные ширмы, где омыли ей тело невесомой водою и умастили его драгоценными притираниями. Не успели они расчесать и убрать царевне волосы, как в покои, низко кланяясь и хихикая, вошла полногрудая темноволосая крианка, одеждами, да и всем своим видом походившая на бизиэру из тиолевых кварталов Сарката или Зимзира. Она принялась без умолку болтать, распаляя в сердцах царевны похоть удивительными историями. Беспечально провела Шан Цот в ее обществе полночи. Игры, песни и увлекательные россказни чередою заполнили время. Наконец, веселая подруга, прощаясь, прильнула устами к плечу Шан Цот и шепотом подтвердила свое обещание — назавтра обучить ее шестнадцати любовным клидлям.
Утомленная царевна откинулась на чуткое белоснежное ложе, смутно догадываясь, к чему ее ловко готовят, и в тот же миг сонным рассудком запуталась в милых сетях, расставленных поворотливой бизиэрой.
На следующий день царевич рассеял сомнения Дац Дара, без гнева и упрямства изъявив согласие взять в жены прекрасную Шан Цот по миргальскому обряду. В крепости вовсю шли приготовления к свадьбе. На бойне под ножами мясников ревели сарпы, обреченные для пира щедрым комендантом. Площадь перед Главной башней пересекли скоро сооруженные столы. Тут и там перекатывали бочки, связками носили битую птицу, снимали с возов корзины, наполненные таргарскими красноперыми жефдефами и пучеглазыми буктами вперемежку с пучками прибрежной зелени. Вскоре после полудня ударили в большой данадзон, загудели миргальские бьолы и рассыпались веселым звоном бубенцы из галузского серебра.
Кин Лакк и Нодаль в праздничных зеленых миргальских одеждах вошли в покои царевича. Ур Фта повернулся на их голоса, и оба увидели, что он уже готов к встрече невесты. Волосы вокруг его головы были заплетены в длинные тонкие косички и собраны на затылке в одну косу, убранную небесно-голубой лентой и четырьмя крупными альдитурдами. Одет царевич был в серебристо-черную куртку из отменного латката, расшитую крупными леверками и перехваченную по талии поясом с бахромой в виде корсовых колосьев. Широкие штаны из белоснежного цинволя были заправлены в синие тарилановые сапоги, доходившие царевичу до колен. Лицо его сияло как полная луна в безоблачном небе. Но уста были стиснуты в жесткую складку, и неподвижные глаза под густыми синеватыми бровями походили на окна, распахнутые в зимнюю ночь.
Следом за верными спутниками царевича на порог ступил Дац Дар, взявшийся вывести жениха навстречь невесте. С низким поклоном он вымолвил:
— Великий вечный солнца данадзон Вниз покатил с полуденной вершины, Сквозь заросли дремучие кручины Влюбленным путь прокладывает он.И прочие слова, обычные для миргальского свадебного обряда.
Когда он кончил положенные речи, взял царевича за руку и вывел за порог, там уже стояла дивная Шан Цот в окружении пышной ликующей свиты. Все, кто мог созерцать ее в тот афус — о, горе! царевич не мог! — вздыхали и отводили глаза, ослепленные свадебным нарядом и сияющей прелестью ее волшебного лика. Волосы Шан Цот, черные как застывшая смола мубигала, впереди свисали до бровей ровною, будто подрезанною ножом, прядью, а сзади вздымались тремя непокорными волнами, собранными на макушке и покрытыми густой клакталовой сеткой. Одета она была в черную фарьязовую кофту с глухим воротом, расшитую белыми и золотыми тиолями; на ее груди сверкали драгоценные амулеты и трехрядное альдитурдовое ожерелье; поверх кофты искрилась россыпью мелких тегаридов легкая чидьяровая накидка; из-под белой цинволевой юбки виднелись оборки полупрозрачных сатьяр и золоченые туфельки, украшенные серебряными бубенцами в виде едва раскрывшихся тиолевых бутонов. Лицо ее было белее, чем снег на вершине Галузы, брови изгибались как смертоносные луки, глаза, казалось, вобрали в себя все воды и бури Зеленого моря, губы раскрылись в улыбке, нежной как лепесток бирциды и победной как сияние рассветной звезды Караньяр. По правую руку царевны стояла давешняя бизиэра. Она шепнула на ушко Шан Цот последнее наставление и слегка подтолкнула ее навстречь жениху.
Празднество продолжалось положенным чередом. Все слова были сказаны, все обряды совершены. Солнце скрылось за крепостными стенами в самый разгар свадебного пира. Сумерки сгустились, но на площади не зажглось ни огонька до тех пор, пока не вспыхнул, как принято у миргальцев, единственный факел в руках Дац Дара, осветившего молодым дорогу в опочивальню. Как только провожатый вернулся и складно сообщил о том, что приблизился лум благополучного свершения главного дела между женихом и невестой, — от его факела по цепочке зажглись все факела и фонари, и на лицах пирующих заплясал мерцающий свет.
Не станем нарушать тайну брачных покоев и повествовать о радостях первой ночи Ур Фты и Шан Цот, промолчим о том, как царевна, распаленная премудрой бизиэрой, плела неумелые клидли, а царевич, обнаружив, что перед ним и впрямь несверленная саора, отважно кинулся в бой с афатовым дротом наперевес и вложил закаленный клинок в таранчовые ножны.
Скажем только о том, что черное вдохновение страсти, впервые отпущенной на свободу, не настолько затенило царевичу разумение, чтобы он забыл спасительные слова, заключенные в талисмане славного Нодаля. Нежною дланью Ур Фта зачерпнул кровавую росу с раскрытого им бутона и омыл в ней слепые свои глаза.
Но лишь наутро, когда солнце стало пригревать и зазвенели серебряные бубенцы и с дозволения царевны в опочивальню вошли проворные служанки с яствами на подносах и поздравлениями на устах, — царевич признался себе, что тьма его не оставила и, верно, оставит нескоро. Обманул талисман, рассыпалась прахом надежда.
— Что ты мрачен сегодня, отчего повесил голову, мой всадник и повелитель? — Молвила царевна, с ласками прижимаясь к нему. — Или ждал ты иного, и пришлась я тебе не по вкусу?
Ничего не ответил царевич, молча встал и потребовал одеваться. не видны ему были слезы в глазах прекрасной Шан Цот. И думать о ней он забыл, когда, призвав своих верных спутников, опустился в широкое кресло во главе щедро накрытого стола и закрыл лицо себе всеми руками.
— Полно, благородный царевич, — увещевал его Кин Лакк. — Жизнь воина всегда состоит из побед и поражений. Но пока я с тобой, горечь последних не часто будет тебя отравлять. Пользуйся моими острыми глазами, как будто они принадлежат тебе и не предавайся бесплодному унынию.
— И то правда, — сказал смущенный, но не поддающийся отчаянию Нодаль. — Прислушайся, царевич, к мудрому слову наставника. И знай, что мы не теряли времени даром даже за свадебным угощением — полночи вели беседу с комендантом Дац Даром и поведали ему о наших сокровенных желаниях. Он согласился быть на твоей стороне и нынче же призвать под стены Эсбы отряды лучников и косарей из Миргальской чащобы.
— Я рад, — негромко заговорил царевич и отнял от лица ладони. — И все же горькая чаша несбывшейся надежды отрезвила меня. Вспомним слова, произнесенные наставником прежде, в ту ночь, когда нас посетила чудесная сужица. Он говорил о том, что отказываться от содействия дружественных сил противно полководческой мудрости. Он был прав, и мы не станем этого делать.
— Что же ты решил, благородный царевич?
— Собрав миргальские отряды под своим началом, соединиться, как ты и советовал, учитель, с войском великого царя, чтобы идти к победе, следуя его указаниям.
— Но как мы достигнем этой цели?
— С твоей помощью, отважный Нодаль! Ты немедленно отправишься в цлиянское войско и поведаешь обо всем Белобровому Син Уру. А мы останемся здесь — дожидаться тебя и тех повелений, что передаст с тобою Великий царь, непобедимый полководец и мой отец.
— Я готов, о царевич, свершить этот трудный поход. Я помчусь на своем гаварде как стрела, перелечу через горы Шо как птица. И мне неведома такая сила, что могла бы меня остановить.
— Все же будь осторожен, — сказал Кин Лакк, — опасайся в пути не открытых ударов, а мудреных зловредных козней. И не забывай о нашей клятве в Бирцидовом саду.
— Поверь, наставник, это излишнее напоминание. Слово мое неотступно как смерть, — гордо вымолвил Нодаль и поднял хмельную чашу, выпрямившись во весь рост, а было в нем, если ты помнишь, полтора керпита от макушки до пят.
— Вот тебе перстень, его узнает любой цлиянин и обязательно тебе поможет. И великий Син Ур, взглянув на него, сразу поймет, что ты — мой посланец, а значит — окажет тебе подобающий прием.
Ур Фта снял перстень с левой нижней руки и протянул Нодалю. Но перстень не налезал ни на один из дюжины богатырских пальцев, и витязь обещал подумать, как лучше его сохранить в дороге. Ничего лучше он не придумал, как нацепить перстень на мизинец правой ноги. Пришелся как раз впору. «Не вполне учтиво, зато надежно!» — утешил себя Нодаль.
Недолгими были сборы. И когда у ворот крепости витязь с посохом, не тратя лишних слов, вскочил в седло, — царевич, услыхавший свист его плетки и рычание гаварда, крикнул вслед:
— Да будет дорога твоя таруаном!
Увы, но благому его пожеланию не суждено было сбыться.
* * *
Накануне вечером было на Буйном лугу под Фатаром. Горесть и уныние охватили стан крианского войска. И вот почему. С рассвета и до заката продолжались единоборства перед строем. Всего лишь троих юных витязей выставляли одного за другим цлияне. То были Бер Сан Остроглазый, Тан Заф Беспощадный и Тоб Мон Гора. И эти трое обрекли на позор или плен две дюжины и двоих богатырей, безуспешно пытавшихся защитить достоинство Кри. А в довершение трое криан по своей же вине избежали позора под сенью смерти. Среди погибших оказался ближайший друг и советник миргальского Гоц Фура по имени Лац Нор. Уединившись в своем шатре и прижав к горячему лбу амулет неотомщенного по смерти друга, корлоганский наместник в скорби и ярости проливал обильные слезы. И когда в шатер проскользнул незнакомый ему воин в длиннополом утане миргальского лучника, Гоц Фур не пытался скрыть своих слез — в Галагаре, да будет тебе ведомо, их не стыдятся. Он лишь поднял на незнакомца затуманенный взор и с трудом разглядел резкие черты его худощавого смуглого лица с глазами голодного порска и длинными тонкими усами, оттенявшими гладкий подбородок, раздвоенный глубокою складкой. И зло прикрикнул:
— Кто позволил тебе войти в мой шатер?
— Тот, кто мне позволяет беспрепятственно проходить везде и всюду, была бы на то его мудрая воля. Могущественный дварт Ра Он, коему служу я верой и правдой.
— И что же нужно теперь от меня — тебе или твоему господину?
— Мой господин, сочувствуя твоему горю, повелел, чтобы я, чем смогу, заменил тебе Лац Нора, павшего геройской смертью.
— По силам ли будет тебе, незнакомец, служить враз двум господам? И не много ли ты берешь на себя, смея предполагать, что способен хоть в чем-то равняться с незаменимым Лац Нором?
— Ты сказал, и да будет, как хочешь. Но выслушай прежде печальную весть, что принес я тебе по веленью Ра Она.
Пришелец поклонился, не опуская глаз, и синеватая искра, сверкнувшая в них, была настолько чужда всему его облику, что Гоц Фуру почудилась в ней сторонняя несгибаемая сила.
— Говори, нежеланный вестник. Уж лучше знать правду теперь, когда моя скорбь такова, что немногое в Галагаре может сделать ее глубже и горше.
— Воистину, наступил ледяной день в твоей жизни. Ты думаешь, что ныне потерял только советника и друга, а в действительности — враг отнял у тебя еще и возлюбленную.
— Что приключилось с моей дивноокой Шан Цот? Неужели и ей пришла пора плыть в тесном клузе в Бездвижный Пустой Океан?
— Нет, господин. То, что с ней приключилось, быть может, гораздо хуже, но лишь для тебя, а для нее — отрадно и сладко. Нынче ночью она сплетет любовные клидли и подарит свою невинность наследнику цлиянского престола, царевичу Ур Фте.
Гоц Фур вскочил, раздувая ноздри, и схватился за меч.
— Так ли я понял тебя, вестник несчастья? Царевна отдалась другому по доброй воле?
— Без всякого принуждения — и прежде позволив свершить над собою положенный обряд.
— В таком случае вероломная Шан Цот заслуживает лютой смерти!
— Если господин позволит мне остаться, я осмелился бы дать пустяковый совет.
— Будь рядом. Я назначаю тебя советником. И говори…
— Имя твоего ничтожного слуги — Цул Гат.
— Говори же, Цул Гат. Но знай, главное, что я хотел бы от тебя услыхать, — как бы мне поскорее отомстить неверной!
— Ты несомненно прав. Царевна Шан Цот заслужила беспощадной казни и в скорейшем времени будет лишена жизни по твоему справедливому решению. Но вспомни, твой главный обидчик — царевич Ур Фта. Он украл у тебя невесту и нынче справляет веселую свадьбу прямо в твоем доме, в стенах восьмибашенной Эсбы. А распорядителем свадебного пира у него — Дац Дар Среброволосый.
— Предатель Дац Дар! Неслыханное оскорбление! И он заслуживает худшей участи!
— И он, господин. Но прежде следует расправиться с наглым цлиянским стренком! Ур Фта слеп на оба глаза, а возомнил себя великим воином. Ты без особого труда заставишь его слизывать прах с твоих сапог. А изменнику Дац Дару повелишь собственноручно перерезать горло похотливой саркатской вейре.
— Да будет так! Немедленно седлай гавардов. Мы отправляемся в Эсбу.
— Гаварды уже оседланы, мой господин. И, кроме того, грузная дюжина миргальских воинов в полной готовности ждет твоего приказа. Они считают тебя своим царем и рады пойти за тобою в огонь и в воду.
— И я отдаю им приказ, которого они ждут. Торопись, Цул Гат! Каждый миг промедления мучителен для меня, ибо ярость испепеляет мне оба сердца!
* * *
В полночь в шатер Цфанк Шана ворвался крианский арфанг по имени Хад Синк и распростерся в пыли у его ног.
— Беда, государь! Форлийский наместник Гоц Фур спешно покинул лагерь и отвел за собой миргальскую грузную дюжину! Это измена! Тылы твои ослаблены и силы сокращены.
— Успокойся, Хад Синк! Грузная дюжина от звездной — не велика потеря. Верно, слабый сердцами наместник не выдержал переменчивых ветров войны и кинулся сломя голову в Лаймирскую чащобу. Да еще и сородичей прихватил! Известно, все миргальцы, хоть и мастера воевать, в душе — жалкие трусы. Пускай прячутся за кустами Лаймирской чащобы. Неужели тебе не ясно, что они никогда не осмелятся повернуть оружие против нас? А мы и без них поставим цлиян на колени.
— О, государь, твои слова преисполнены мудрости и величия. Мне стыдно за суетный страх, что я по глупости выразил пред тобой.
Цфанк Шан слегка наклонился и, возложив руку на плечо своему арфангу, негромко сказал еще:
— А все же надежных соглядатаев пошли вдогонку за миргальцами. Следует знать, что они затевают.
— Не утруждай понапрасну себя и своих соглядатаев, славный арфанг! Гоц Фур не опасен вам вовсе. Что же до мятежной Миргалии, кто бы ни занял ее престол, то и в этом отношении прав, как всегда, мудрый Цфанк Шан: еще не время поднимать тревогу.
Сказавший дерзкие эти слова стоял на самом пороге шатра, придерживая рукой тяжелый узорчатый полог и улыбаясь. Голову его покрывала желтоватая шапочка из катаной свори с кроваво-красной прошвой, надвинутая на самые глаза. На нем были — короткий сигон с высоким воротом, надетый поверх белоснежного тисана и высокие сапоги из мятого бурого тарилана с желтыми отворотами, доходившие до бедра, а на боку висел простой кинжал в гладко отполированных видрабовых ножнах.
— Кто ты такой, чтобы позволять себе подобные дерзости? Эй, стража! — крикнул Цфанк Шан и в тот же миг, побледнев, опустился на колени вслед за своим арфангом.
Незнакомец длинными заостренными когтями на кончиках пальцев сдвинул шапочку на затылок, открыв высокий выпуклый лоб и вперив в лицо крианскому властелину пару больших, круглых и без единой ресницы глаз, излучающих мертвенно-синий свет.
— Я люблю попирать властителей Галагара, когда они вот так простираются ниц предо мной, — сказал он и ухмыльнулся, пихнув Цфанк Шана в бок носком сапога.
— Великая радость, безмерное счастье! — раболепно бормотал крианский царь. — Сам всесильный Ра Он соизволил явиться! Военная судьба повернулась к нам лицом…
Ра Он расхохотался и, еще раз легонько пихнув царя сапогом, сказал:
— Знаю, знаю, и ты меня любишь. Поднимайся, царь, и жалуйся на свои несчастья. Что? Айзурские сосунки поколотили матерых крианских кронгов?
— Тебе ведомо все, о великий Ра Он! — воскликнул Цфанк Шан, нерешительно поднимаясь.
— Полно, полно, царь, поколотили — не беда, а наука. Мы это дело поправим. Да вели-ка поскорей окатить водой твоего боевого арфанга или по щекам отхлестать что ли! А то он со страху-то обмер, как девица на выданье — да и дух вон!
Но Хад Синку не помогли ни ледяная вода, ни хорошие оплеухи. Так его и уволокли из царского шатра в беспамятстве.
С рассветом войска Кри и Цли выстроились на Буйном лугу на расстоянии враг от врага в полатрора. Ра Он в сопровождении Цфанк Шана проехался вдоль крианских рядов верхом на поджаром, легком как вейра полосатом гаварде. Равнодушно скользнул он взглядом по самому цвету крианской гавардерии. Ни на один лум не придержав своего зверя, промчался мимо лучших витязей Кри — кичившихся пестрыми эмблемами на щитах и стягах да сверкавших в рассветных лучах вороненой броней и золочеными шлемами, — и вдруг остановился, врезавшись в расступившуюся толпу пеших ратников.
— Вот этому бывалому воину пускай дадут гаварда поплоше. Назначаю его героем наступившего дня, — сказал Ра Он, с улыбкой стрикля повернув лицо к растерявшемуся Цфанк Шану, и ткнул когтями в сторону какого-то ратника из тсаарнского ополчения. В помятом шишаке, в латанной-перелатанной, короткой и ржавой кольчужке, стоял он, опершись на длинное копье с айоловым древком и грубо сработанным железным наконечником, и переминался с ноги на ногу.
— Ну что, витязь, посрамим цлиянских сосунков?
— Ваша воля, посрамим, — нехотя отвечал ратник, робко поглядывая то на дварта, то на царя, и не в силах понять, к которому следует вперед обращаться. — Только вот прикажите хотя бы топорик выдать.
— Будет тебе топорик, — со смехом отвечал злокозненный дварт. — Да гляди, в седле-то удержись.
— Удержусь, чего там! — бесшабашно крикнул ратник, сунул за пояс новенький топор, протянутый каким-то арфангом, и, кряхтя, взгромоздился на полудохлого облезлого гаварда, которого мигом к нему подвели.
— Славный зверь! — осклабился Ра Он, хлопнув гаварда по костлявой холке. — А теперь поезжай, витязь, вперед, поближе к вражьему строю, побрани хорошенько цлиянское воинство вместе с царем их, Син Уром, и как только увидишь, что кто-нибудь выезжает из их рядов и услышишь ответную брань, — выставляй свое копье, погоняй гаварда и ничего не бойся.
— Какими же словами мне их ругать? Ни разу ведь не приходилось.
— Да ты что, агар?! — взорвался Цфанк Шан. — Слов бранных на врага подобрать не можешь? Скажи им «вонючие выродки», скажи «тинтеды-недоноски», «скопцы вислозадые», скажи «рабы белобрысого сарпа».
— А-а! Так-то мы умеем! Я же думал, витязи там какое-нибудь по-своему перекрикиваются. Крухдрак их разберет!
— Вот глупая скотина!
— Не брани его, царь! — заливаясь хохотом, сказал чернородный дварт. — Приготовь-ка лучше ему награду. Я ведь сказал, он будет героем, и я не шучу.
Под несмолкающий гул, хохот, ободряющие и насмешливые выкрики невзрачный ратник верхом на своем полудохлом легкой рысью отделился от крианских рядов и, приблизившись к цлиянскому войску, остановился за пару уктасов от первых рядов.
Теперь обе противные стороны умолкли и выжидающе уставились на неказистого всадника. Он помялся немного, разглядывая вражьи ряды, потом в один лум решился, плюнул, сдвинул шишак на затылок и, набрав воздуху полную грудь, заорал что есть мочи:
— Эй, вы, тинтеды-недоноски, выродки вонючие, скопцы вислозадые… — тут он на лум остановился и повалил без продыху: — стрикли подкорытные, жварни рыхлогрудые, через пень вас в цур оглоблей! Зудрики бесхвостые, подпорски вонючие, шерудком бы вам наглуздать и к монзам берзы прицепить! И вот что еще, стренки необлизанные, поцелуйте-ка в зад своего белобрысого сарпа!
Словоохотливый бранник умолк и еще больше приосанился. Но тут случилось то, чего он, верно, вовсе не ожидал. Цлияне принялись над ним хохотать чуть ли не все разом. Кто тыкал в него пальцем, кто сгибался в три погибели, а кто и просто валился с ног от смеха. И он, не зная, что теперь делать, поскольку выкрикивать новые ругательства в этой нарастающей буре хохота становилось бессмысленным делом, растерянно обводил глазами лица своих врагов, искаженные приступом безудержного веселья. Наконец кто-то из юных цлиянских витязей, как видно, решил насмешить всех еще больше — разогнал своего гаварда и с поднятым копьем приблизился к потешному всаднику, намереваясь просто кулаком вытолкнуть его из седла. Вытянув руку, он мчался во весь опор. Как вдруг его гавард споткнулся о невидимый барьер, и сам он сначала рукой, затем лицом и всем телом ударился будто в невидимую стену, возникшую между ним и крианским шутом. А тот удосужился заметить, что кто-то его атаковал, когда цлиянский юноша уже рухнул на землю. На глазах у изумленного ратника он со стоном перевернулся на спину и более не шевелился. Изо рта у него тонкой струйкой сочилась кровь, застывшие глаза ничего не выражали — он даже не успел удивиться. Меж тем веселье не прекращалось ни на лум. И лишь когда витязь-замухрышка на своем полудохлом прогарцевал вдоль фронта к другому крылу, а мертвого, как оказалось, юношу оттащили в свои ряды четверо проворных лучников, в цлиянских рядах зародился какой-то неясный гул. И мало-помалу он начал одолевать волны хохота. Когда же еще трое витязей один за другим и уже с копьями наперевес попытались атаковать неказистого крианина и при этом двое погибли, а третий был тяжело ранен, веселье прекратилось вовсе. Зато тревожный гул все нарастал. Самое удивительное заключалось в том, что крианин даже не пытался отбивать атаки, а один раз напротив — попробовал было удирать. Однако, наконец, и он смекнул, что к чему, почувствовал свою чудесную неуязвимость и принялся разъезжать на своем облезлом гаварде перед самым носом у цлиян и поносить их почем зря. Теперь уж было не до смеха. Время от времени кто-нибудь из славных витязей, не выдержав, кидался в бой, чтобы заткнуть глотку обнаглевшему хулителю, и неизменно терпел поражение.
Тем временем Ра Он, нахохотавшись вволю, оборотился к Цфанк Шану:
— Эй, царь, готовы ли твои войска к большому сражению?
— Готовы, всесильный повелитель двартов.
— И как ты намерен действовать?
— Мои соглядатаи во вражеском стане оповестили меня о планах Син Ура на этот случай. Его гавардерия будет атаковать наши фланги, а пешие ратники в центре, делая вид, что отбиваются изо всех сил, и шаг за шагом отступая, станут затягивать наши отряды, словно трясина…
— Можешь не продолжать. Стратегия нехитрая. Что же ты думаешь предпринять?
— Мои арфанги предлагают зеркальную стратегию. Мы сосредоточили гавардерию, усиленную отрядами лучников и косарей на правом и левом крыле…
— И опять можешь не продолжать. Твои арфанги! А где же собственный ум, где отвага? Слушай меня в оба уха и в оба сердца! Теперь неприятель в смятении. Наш забавный герой посбивал с них спесь и уверенность, окрепшую от вчерашних побед. Воспользуйся этим. Немедленно перебрось всю гавардерию на правое крыло. Всех лучников и косарей сосредоточь на левом и прикажи стоять насмерть. В центре сзади поставь тяжелую пехоту, и прикажи ей наступать шагом, не спеша, и до столкновения с неприятелем бегом обходить его центр с левого фланга, а вперед пусти ратников ополчения, чтобы изображали стремительный натиск. Но главный твой удар — запомни хорошенько — по правому флангу в левое крыло Син Ура. Сомни его гавардерию и атакуй его центр с тыла. Не медли, перестрой войска и начинай сражение как можно скорее!
— И я выиграю его?
— Или наголову будешь разбит. Но мой план — это не зеркальная глупость твоих трусливых арфангов. И к тому же о нем Син Ур даже не догадывается. Тогда как вашу стратегию наверняка изучил вдоль и поперек. Ну, вот и все. Теперь я должен исчезнуть. Мне предстоит сражаться с витязем, который один мог бы разогнать всех вас по степи, как серых зудриков. Прощай. И позаботься о герое.
Ра Он указал царю на окончательно возомнившего себя непобедимым богатырем ратника в ржавой кольчужке. И Цфанк Шан вместе со всеми, кто глядел в сей же лум в ту сторону, изумленно вытаращил глаза. Вокруг фальшивого героя отчетливо проявилась полупрозрачная синеватая сфера, вобравшая его в себя вместе с полудохлым гавардом. В следующий лум она развалилась на множество темно-синих шаров, которые с жутким грохотом посыпались в разные стороны, взрываясь и исчезая при столкновении с землею и друг с другом. Странное это дело свершилось так быстро, что никто и глазом не успел моргнуть. Тут же к наделавшему дел крианскому наглецу неспешною рысью приблизился Тоб Мон Гора, двумя руками поднял его в воздух вместе с кольчужкой, копьецом, топориком и полудохлым гавардом, подъехал на своем послушном звере поближе к крианским рядам, бросил все это туда, развернулся и удалился с достоинством все той же неспешною рысью. Рассказывали, что полудохлый гавард издох на месте, зато ратника в ржавой кольчужке только слегка покалечило.
Эта расправа также свершилась в считанные лумы. А когда Цфанк Шан, невольно залюбовавшийся на цлиянского великана, наконец, повернулся к Ра Ону, того уж и след простыл.
Уподобившись чернородному дварту, здесь внезапно тает и шестой урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Седьмой урпран
Память о событиях, канувших в величественную пучину минувших времен, прискорбно разноречива. А порою и вовсе тиха и пуста, как заброшенное гнездо индрига, невесомым пепельным свитком болтающееся на ветру. Ни следа, ни звука, ни малой подсказки о скорби и радостях жизни былой — лишь сухой бездыханный оболок, лишь истертый туманом костяк.
Так никому неведомо ныне, что приключилось с разъяренным Гоц Фуром на пути в Восемь Башен, где и при каких обстоятельствах растерял он добрую четверть своей грузной дюжины, к тому же спешившейся ввиду перехода через горы, кто нанес ему несмертельный удар и слегка рассек левую щеку от брови до подбородка. Известно только, что вот в таком виде — с еще не зажившей и заклеенной соком степного сабирника раной, и вот с такими-то и такими потерями в отряде, несколько дней спустя после бегства из крианского стана, явился наследник миргальского престола под стены величественной Эсбы.
Ур Фта и Кин Лакк возрадовались было, когда услыхали о приближении большого отряда, ибо решили, что это верный Нодаль спешит к ним с подмогой и весточкой из цлиянского стана. Но скоро обнаружилась ошибка, и тревогою наполнились их сердца.
Меж тем Гоц Фур, опередив свой отряд в зеленых утанах, подлетел к мосту через ров и с криком «Прочь, негодяи! Дорогу миргальскому властелину!» раскидал стражу, не ожидавшую нападения от своих. Погоняя гаварда, он в несколько длинных прыжков достиг ворот крепости и ударил в них со всего размаху обухом боевого топора. А поскольку ворота не открывались и никакого ответа из-за них не последовало, он принялся колотить непрестанно, не задаваясь вопросом, возможно ли в таком грохоте расслышать, если кому-нибудь вздумается отозваться на стук. Неизвестно, как долго он продолжал бы разбивать топор о ворота, когда бы случайно не кинул взгляда направо и вверх. Там, слегка повернувшись плечом и с улыбкою глядя вниз, стоял в прорези между зубцами комендант Дац Дар. Был он невозмутим ликом, серебряные волосы его развевало свежим утренним ветром, и весь благородный образ был преисполнен такого достоинства, что возвышенное его нахождение в этот лум любому показалось бы естественным и справедливым.
Гоц Фур, опустив топор, медленно поднял рассеченное и искаженное яростью лицо. Хотя и приходилось ему глядеть снизу вверх, он попытался презрительно смерить взглядом фигуру коменданта.
— Ты узнаешь меня, комендант, меня, своего государя? Не отвечай, я вижу, что узнаешь! Отчего же ты не торопишься открывать ворота и не выбегаешь навстречь с положенными поклонами?
— Я узнаю в тебе, Гоц Фур, недостойного сына великого отца, но не узнаю моего государя. Я предполагал, что весть о событии, происшедшем в крепости, достигнет твоих ушей и ты примчишься сюда без промедления. Но все же не думал, что это случится так скоро.
— Не желаю слушать и понимать твои дерзости, ничтожнейший из агаров! Ты предал меня, и теперь для тебя существует единственный способ добиться моего снисхождения и сохранить себе жизнь. Немедленно впусти меня в крепость и выдай мне головою проклятого Ур Фту, а с ним и вероломную царевну Шан Цот!
— Не бывало еще, чтобы кто-нибудь из рода миргальских лаалов выдал на расправу своего гостя, преступив законы вежества и забыв о долге и чести! — не раздумывая, ответил Дац Дар. — Никогда и не будет такого. Если же ты и впрямь одумался, если действительно явился занять престол, принадлежащий тебе по закону, не пытайся исправить непоправимое, ведь нельзя наказать судьбу! Царевич Ур Фта взял в жены царевну Шан Цот по доброй воле, и все жители Эсбы веселились на его свадьбе, справленной по миргальскому обычаю.
Внизу у ворот раздался стон, больше похожий на рычание. Но Дац Дар продолжал как ни в чем не бывало:
— Примирись же с царевичем, и я первый поклонюсь тебе как властелину Миргалии, чья мудрость ставит дела государства превыше суеты возле женских покоев и запоздалой возни вокруг чужого брачного ложа.
— Ты — предатель, воистину предатель! И лучше было бы для тебя сдать мне крепость теперь же. По крайней мере, тогда я просто прикажу тебя обезглавить. Если же ты предпочитаешь упрямо стоять на своем, что ж, когда я вернусь из Лаймирской чащобы с несметным войском и возьму крепость силой, я прикажу связать твои волосы в один пучок с бородою и за этот пучок повесить тебя живьем на воротах Эсбы.
Выслушивая столь оскорбительные угрозы, Дац Дар не повел и бровью.
— Ты еще молод, Гоц Фур. Речи твои горячи и опрометчивы. Будем считать, что я ничего не слышал и ты ничего не говорил. А теперь о предательстве… Иди, пожалуй, в Лаймирскую чащобу, а не то я и вправду отворю ворота, ведь здесь на площади шесть черных дюжин рвутся в бой. Но так или этак, в чащобе или в крепости, внемли совету, побереги свою бесшабашную голову, ибо миргальцы быстро тебе объяснят, кого из нас двоих они склонны винить в измене — того, кто защищает их от произвола крианских наместников или того, кто, кинув престол и позабыв о своем народе, поклонился крианскому царю и сам служит его наместником в чужих землях!
Гоц Фур собирался было ответить и на эти обидные для него слова. Но на сей раз его остановил советник Цул Гат. Он тронул своего господина за локоть и о чем-то быстро заговорил вполголоса. Гоц Фур отвечал резко, но на лице его слепая ярость уже сменилась сомнением. Советник продолжал говорить. И, наконец, как видно, ему удалось склонить своего господина к новому решению.
— Послушай меня, Дац Дар Среброволосый! — обратился он к коменданту уже совсем по-иному. — Ты прав, пожалуй. Я проделал трудный и долгий путь, и в голове у меня помутилось от усталости и долгой досады. Отказываюсь от своих слов и признаю, что напрасно обвинил тебя в измене. Ты действовал не вполне обдуманно, но заботился о пользе Миргалии…
Гоц Фур остановился, явно переборол себя и продолжал, с трудом выдавливая слова:
— Прости, я понапрасну обидел тебя. Надеюсь, что эта обида не задержится в твоей памяти. Ведь ты — старый боевой товарищ моего отца.
— Забудем о сказанном впопыхах, — приободрил его Дац Дар, — тем более что я уже близок к тому, чтобы признать в тебе истинного государя Миргалии. Вот только еще уладить твою ссору с цлиянским царевичем.
— И в этом, признаться, я был не прав, — по-прежнему нехотя продолжал Гоц Фур. — Сам того не понимая, вздумал подбивать тебя на подлое дело. Но пойми же и ты, что царевич нанес мне страшное оскорбление, которое возможно смыть только кровью. Уверяю тебя, что при этом ни своего, ни твоего достоинства я не уроню. И законов вежества мы не нарушим.
— Верно ли я понял тебя? Ты вызываешь царевича Ур Фту на честное единоборство?
— Да, вернее некуда. Я вызываю царевича на смертный поединок и, если мне уже не суждено владеть прекрасною Шан Цот, то я, по крайней мере, постараюсь доказать, что достоин взойти на миргальский престол.
— Вот слова, которых я ждал от сына и наследника Ар Гоца! Царевич Ур Фта принимает твой вызов, — с радостью сказал Дац Дар и крикнул стражникам: — приказываю открыть ворота!
Очутившись в крепости, Гоц Фур убедился в том, что слова коменданта не были пустой похвальбой: главную площадь заполнили воины эсбийского гарнизона и, по большей части, поглядывали на наследника миргальского престола с недоверием, если не с открытой враждебностью. Из его потрепанного и измученного походом отряда этими силами можно было в четверть лума сделать мясной кучдак.
Полдня посвятил Гоц Фур отдыху и не терял времени даром. Первым делом смыв с себя дорожную пыль и пятна запекшейся крови, он принялся утолять зверский голод и богатырскую жажду. А завершив трапезу, уединился с двумя очаровательными бизиэрами. Они только смазали ему целебным снадобьем царапину на лице да как следует растерли все тело драгоценной вилиалью. И более ничего. Ведь был он не из тех безумных похотливцев, что способны растрачивать силу на любовные клидли даже перед смертельной схваткой.
Прогнав бизиэр, Гоц Фур приказал найти и привести к нему советника Цул Гата. Но то было тщетное распоряжение, ибо никому не пришло бы в голову искать советника там, где он находился.
Подобно черному стриклю, бесшумно и неприметно пробрался Цул Гат в покои царевны Шан Цот и неожиданно встал перед ней, согнувшись в низком поклоне. Царевна вздрогнула, но волнение ее тут же улеглось. В Саркате она привыкла к евнухам, и теперь решила, что никто, кроме евнуха, не отважился бы войти к ней. Пришелец подкрепил ее уверенность, заговорив неприятным высоким голосом:
— Не бойся меня, прекрасная царевна! Я — посланец твоего отца, великого царя Цфанк Шана.
— Ты — посланец царя? — удивилась Шан Цот. — А ему уже известно… ну, что я теперь царевна Кри и Цли?
— Да, дивноокая! Ему все известно, и он почитает за великое счастье такой поворот судьбы. Более того, твое неожиданное замужество положило конец великой распре между двумя царствами. Ныне уже установился вечный мир. Цфанк Шан и Син Ур заключили друг друга в родственные объятья. И скоро пришлют за тобой и царевичем пышную свиту.
— О, добрый вестник, ты достоин высокой награды! Возьми пока что дюжину золотых хардамов и этот перстень.
Цул Гат принял сказанный дар и простерся в ногах царевны со словами благодарности.
— Ты еще не был у царевича? Значит, он все еще ничего не знает! — в волнении проговорила она. — Я сама сообщу ему радостную весть. И это, быть может, придаст ему сил в предстоящем поединке.
— Постой, царевна! Я должен вручить тебе вместе с поздравлением и словами отеческой ласки одну вещицу, залог грядущей щедрости Цфанк Шана.
— Ну что там еще? Вручай поживее! — воскликнула Шан Цот, которой не терпелось обрадовать царевича.
Мнимый евнух извлек на свет и поднял на ладони тончайшей работы браслет из белого золота, сверкавший тегаридами и клакталами. Но как только царевна протянула руку, чтобы взять прелестный подарок, Цул Гат мягко отвел ладонь и вкрадчиво проговорил:
— Великий царь повелел мне собственноручно украсить этим браслетом твое левое запястье, о дивноокая. И нет для меня лучшей награды за все тяготы долгого пути!
— Изволь! — сказала царевна и, гордо выпрямившись, протянула левую руку.
Цул Гат раскрыл браслет незаметным движением и ловко защелкнул его на запястье Шан Цот.
— Вот и все, с церемониями покончено, — негромко и высокомерно сказал он обычным своим голосом. — Ты слышишь меня?
— Да, я слышу тебя, господин. И готова исполнять твою волю, — произнесла царевна, не отрывая от Цул Гата зачарованного взгляда.
— Я доволен тобой. Пока повелеваю только одно — объявить, что желаешь любоваться поединком в одиночестве с каменного балкона Главной башни. Я найду тебя там.
И Цул Гат исчез так же стремительно и неприметно, как явился.
* * *
Солнце клонилось к закату, когда в крепости, наконец, было возвещено о начале поединка. Гоц Фур уже приготовился надеть шлем, как вдруг, словно из-под земли, вырос перед ним его загадочный советник.
— Наконец-то, — проворчал Гоц Фур, — где это вздумал ты пропадать именно в то время, когда я особенно в тебе нуждаюсь?
— Где бы я ни пропадал, господин, ты все же не можешь не признать, что до сих пор, как и теперь, я всегда вовремя появлялся рядом.
— Признаю. И надеюсь, что ты вовремя исполнишь мое распоряжение в том случае, если исход поединка будет неблагоприятным для меня.
— Поединок закончится твоей победой. Или, во всяком случае, не закончится твоим поражением.
— Откуда это известно?
— Тебе ни к чему знать, откуда. И все же ради того, чтобы поддержать твою уверенность, открою тебе одну тайну. Ты думаешь сражаться со слепым воином, но это не так. У царевича есть глаза, по крайней мере, пока он ведет сражение. Эти глаза на крыльях парят у него над головой.
— Ты говоришь о его крылатом спутнике? Я слышал, он — последний из форлов, а имя его — Кин Лакк.
— Вот-вот, негодный Кин Лакк! На этом форле — заклятие. Ни могущественный дварт, ни простой агар не в силах ему повредить и заставить умолкнуть его свирель, повинуясь которой Ур Фта делается непобедимым в любом бою.
— Мы еще посмотрим, так ли это. И пускай однорукий свирельщик подыгрывает ему сколько угодно. Меня такими ухищрениями не испугаешь.
— Я говорю с тобой от имени всесильного дварта Ра Она, Гоц Фур, и должен сказать, что ты непроходимо глуп.
Гоц Фур вздрогнул, но молча проглотил оскорбление, понимая, что тягаться с Ра Оном действительно было бы глупо. А Цул Гат продолжал, не моргнув глазом.
— Ты глуп и быть бы тебе непременно убитым. Ур Фта — великий воин, тебе не чета. Но благодари всесильного дварта. Он отыскал в заклятии брешь. Кин Лакку можно повредить, но только при помощи женской руки.
— Благодарю, и надеюсь вслед за обвинением в недостатке ума не последует новое оскорбление и ты не станешь называть женской вот эту руку!
С последними словами Гоц Фур молниеносным движением воистину не женской руки стиснул советнику горло, да так, что тот только взмахнул руками и беспомощно захрипел. Не отпуская его ни на лум и лишь слегка ослабив стальную хватку, Гоц Фур немедленно проговорил:
— Мое последнее распоряжение касается именно женщин, точнее — одной из них, по имени Шан Цот. Независимо от исхода поединка, эта вероломная тварь должна умереть, и ты позаботишься об этом.
— Клянусь когтями Ра Она! — прохрипел советник, глотнул воздуха, почувствовав, что наконец свободен, и добавил, отскочив на безопасное расстояние: — В этом его желание не расходится с твоим и мне не трудно услужить двум господам сразу, хотя, повторяю, один из них не обременен избытком ума.
Его последние слова заглушил гром большого данадзона, а вслед за ним послышалось затейливое гудение бьол. Гоц Фур надел шлем и, шагнув с дощатого помоста, взгромоздился на своего гаварда, черного как застывшая смола мубигала. Он поправил доспехи, меч и кинжал, с грохотом опустил забрало и принял от оруженосцев червленый щит и длинное видрабовое копье со стальным наконечником в виде серебристого рузиава с растопыренными жабрами.
На другом конце огороженной части Главной площади верхом на пепельно-сером гаварде показался Ур Фта. Щелкнув застежкой своего зеркального шлема, он также принял копье и щит.
Данадзон прогремел во второй и в третий раз, оповещая таким образом о начале смертного поединка — и соперники, пришпорив гавардов, помчались враг врагу навстречь с копьями наперевес. И как ты уже догадался, керпитах в трех-четырех над головою царевича рассекал воздух крыльями и звуком своей свирели отважный Кин Лакк.
В этот лум за спиною царевны Шан Цот, безучастно следившей за ходом поединка, вырос советник Цул Гат.
— Ты слышишь меня? — спросил он негромко, оставаясь в тени.
Царевна ответила утвердительно.
— Хорошо, а теперь возьми-ка вот это и держи покрепче.
Царевна подчинилась и равнодушно оглядела оказавшийся в ее руках небольшой самострел на боевом взводе, заряженный желтой стрелой с округлым опереньем и наконечником крэх отменной закалки.
— Что делать мне с этим? — спокойно спросила она.
— Подчиняйся браслету, он сделает все за тебя.
Царевна вздрогнула, лицо ее вовсе окаменело, в глазах сверкнули синеватые искры. Ее руки вдруг сделались твердыми и сильными. Она вскинула самострел и прицелилась не хуже самого ловкого и опытного стрелка.
Тем временем царевич успел выбить Гоц Фура из седла, разбив ему щит и порвав на боку кольчугу, натянул уздечку, соскочил на землю и отбросил копье и щит. Вращая триострым цохлараном, сверкающим в лучах заходящего солнца и гудящим подобно целому рою белобрюхих этролзов, он двинулся к своему сопернику точно по направлению, подсказанному свирелью. Гоц Фур с трудом поднялся, вскинул забрало и отбросил повисшие на левой руке обломки щита. Выставив меч и кинжал и пошатываясь, он шагнул навстречь Ур Фте и, по счастливой случайности отбив первый удар, с ужасом увидел в зеркальном шлеме отражение своего искаженного злобой лица.
И тогда случилось то, чего нельзя было предотвратить. Но если бы мог, признайся, не остановил бы ты разве в полете стрелу несчастной судьбы? Уж верно, ты скажешь: «Охотно». Оттого-то и не был ты никогда в Галагаре и не стоял рядом, когда царевна, подвластная чарам проклятого браслета, пустила стрелу точно в сердце Кин Лакку. Свирель его внезапно умолкла, захлебнулась последняя трель, и последний из племени форлов камнем рухнул на землю.
Царевич вздрогнул и замер на несколько лумов, потрясенный неумолимостью, с которой его обступила тьма тишины. Как вдруг эту тишину разрезал тяжелый свистящий звук, и Ур Фта не успел отклониться. Удар пришелся в плечо, близко к основанию шеи, рана была чересчур глубока, и кость ему крепко задело. Царевич упал вперед лицом, истекая кровью, и сознание покинуло его.
Меж тем, царевна опустила самострел и снова спросила, не поворачивая лица:
— Не будет ли иных повелений?
— Будет. Единственное и последнее, — твердо сказал советник и поманил ее в тень. Царевна покорно приблизилась, и Цул Гат, прибрав самострел, уставившись ей в лицо, провел по нему потной ладонью. — Повелеваю тебе умереть.
— Какою смертью? — только и вымолвила царевна, и голос ее даже не дрогнул.
— Я помогу тебе, — прошептал Цул Гат, вынул из ножен прямой кинжал, острый как лист видраба и, схватив царевну за волосы, быстрым движением перерезал ей горло. Затем, отерев рукавом лицо, забрызганное теплой кровью, он снял с запястья мертвой красавицы ужасный браслет, усмехнулся и стремительно скрылся, скользнув мимо усердной стражи и прочных запоров.
О печальных событиях этого дня были еще сложены такие строки:
Рухнул на землю последний из племени форлов, И в крови захлебнулась свирели последняя трель. Ранен Ур Фта, и во мрак отступила надежда Вместе с душою прекрасной царевны Шан Цот.* * *
Царевич пришел в себя глубокой ночью. Он едва шевельнулся — и нестерпимая боль пронзила плечо. Кто-то удержал его и прижал к воспаленному лбу прохладную сухую ладонь.
— Знаю, царевич, тебе теперь нелегко, но времени остается чересчур мало.
Ур Фта с трудом разобрал эти слова сквозь медленный гром, наполнявший голову, и узнал голос произнесшего их. То был комендант Дац Дар, и он продолжал говорить.
— Скажи или дай знак, можешь ты хотя бы слушать и разуметь?
— Могу… и говорить, — чуть слышно произнес царевич.
— Твой крылатый друг мертв, убит из самострела. Меткий выстрел, в самое сердце, но кто стрелял — неизвестно.
— Где Шан Цот? — прошептал царевич.
— И ее больше нет. Прости, царевич, беспощадная правда для воина всегда лучше ласковой лжи. А ты — настоящий воин. Царевну нашли с перерезанным горлом.
— Гоц Фур? — вновь шепотом вопросил царевич.
— Нет, не он. Это случилось во время вашего поединка. Я уверен, что кровь царевны на советнике Гоц Фура по имени Цул Гат, который бесследно исчез из крепости. Неудивительно, если он виновен и в смерти Кин Лакка. Но поговорим о тебе, благородный царевич. Ты получил свою рану по причине предательского выстрела. Я сразу уразумел это и, как только ты упал, остановил поединок. Не столько потому, что хотел помочь тебе, — прости и за это, царевич, — сколько из необходимости оградить от бесчестного дела наследника миргальского престола. Ведь если бы Гоц Фур пустил в ход кинжал и оборвал твою жизнь там, на площади, — это было бы не чистой победой, а соучастием в подлом убийстве. Осознав, что именно так и поймут это все свидетели поединка, он в ярости покинул площадь. А я распорядился, чтобы тебе омыли и перевязали рану. Но все-таки Гоц Фуру, кажется, удалось добиться своего и без помощи кинжала.
— Меня казнят?
— Тебя опустят в колодец Ог Мирга. Это равносильно… Нет, это хуже любой смерти. На глубине в полторы дюжины керпитов тебе предстоит медленно умирать, лежа на груде костей твоих предшественников, ибо никто из погребенных в этом каменном мешке не был поднят обратно на поверхность. Поверь, царевич, я сделал все возможное, чтобы спасти тебе жизнь. Но мои планы потерпели крушение. Признаюсь тебе, когда я поддакивал, выслушивая ваши речи о походе на Саркат, я думал о мире, я ждал, что твоя женитьба на крианской царевне вот-вот заставит великие царства сложить оружие, я даже тайно отправил двоих гонцов с радостной вестью в одно и в другое войска, но, увы, оба посланных канули без вести. Теперь царевна мертва. Война продолжается. Миргалия — в союзе с крианским царем. А наш царь — Гоц Фур. И он настаивает на том, что ты — его пленник, ибо он тебя захватил в честном бою, ибо ты находился в миргальской крепости и вместе со своими слугами склонял гарнизон к мятежу и переходу на сторону Цли. И этому есть свидетели. Да что там! Первый свидетель — я сам. Правда, мне и против себя пришлось бы показывать. Но царь уже выслушал мои объяснения, признал, что я лишь добросовестно заблуждался, и назначил меня своим советником… Ты слушаешь, царевич?
— Да… я слышал все, — с трудом подтвердил Ур Фта.
— Поверь, я несколько раз пытался склонить его к милосердному решению. Напоминал о примерах щедрого великодушия к пленным, не однажды проявленного его отцом, великим Ар Гоцем. Соблазнял его щедрым выкупом, который можно потребовать за тебя. Пытался встревожить его отмщением великого Син Ура, с коим тот не помедлит, если мы не сохраним тебе жизнь.
— Благодарю… ты получишь награду за хлопоты… когда я… взойду на престол.
Чтобы разобрать последние слова, Дац Дару пришлось склониться ухом к самым губам царевича, И когда он уловил их смысл, а вернее — полную бессмысленность, то решил, что царевич бредит и, быть может, бредил все время их разговора.
— Доспехи… должны быть со мной, — сказал Ур Фта чуть громче.
Нет, это не было бредом.
«Желание вполне разумное, — подумалось Дац Дару. — Ведь именно благодаря доспехам, если он наденет их на себя, позднее можно будет отличить от чужих костей его останки. Но, конечно, Гоц Фур воспротивится этому, и для того, чтобы выполнить последнюю просьбу царевича, придется действовать тайно, вопреки очевидной опасности».
— Я сделаю для тебя все, что смогу, — сказал он вслух. — И если мне это удастся, если доспехи и оружие будут с тобой, припомни мои слова: не гоже воину заживо гнить, когда в руках у него спасительная сталь. Прощай же, царевич! Я слышу, идут за тобой.
— Прощай… — прошептал царевич и погрузился в беспамятство.
* * *
Очнувшись вновь, он было подумал, что лежит на прежнем месте и после разговора с советником Дац Даром прошло лишь несколько лумов. Во всяком случае, в голове еще звенели его прощальные слова. Но стоило чуть пошевелиться, как под ним хрустнуло, затрещало — и в спину уткнулось что-то острое. Ур Фта мучительным усилием пытался припомнить последний разговор и принялся шарить целыми руками по своему телу и рядом с ним. Дац Дар что-то говорил о костях. Да, это и были кости. Он уразумел, что лежит на груде агарских костей, раздетый донага — только на рассеченном плече царевич нащупал большой липкий комок цинволевой корпии, набухшей кровью и гноем. Он со стоном повернулся на бок и, стиснув зубы, полз по костям, пока не наткнулся на мокрую каменную стену, скользкую и холодную. С громадным трудом, испытывая невыносимую боль, от плеча пронзавшую все тело, царевич пополз в противоположную сторону, медленно оттолкнув от себя мерзкую стену. Всей душой он мрачно предчувствовал, что вот-вот, и перед ним встанет новая преграда. Ведь кругом не было ни ветерка, тяжелый смрад стеснял дыхание, ни звука, кроме постукивания и хруста костей. Как вдруг рука его нашарила впереди что-то округлое, но более холодное, нежели то и дело попадавшиеся черепа. Шлем! Это был его шлем. И все доспехи здесь же рядом. И цохларан, и кинжал. И мешок из грубого цинволя, а в нем — одежда, кувшин и корсовые лепешки. И в тот же лум царевича пронзили давешние слова Дац Дара: «Тебя опустят в колодец Ог Мирга!»
Лежа на боку, он зубами вытащил габалевую пробку из кувшина и отхлебнул глоток оказавшейся в нем рабады. Славный, благородный Дац Дар, он выполнил обещание и спустил все это сюда, быть может, рискуя жизнью. Теперь в памяти, слово в слово, ясно всплывало все говоренное комендантом, нет, теперь уж царским советником. Нет больше Кин Лакка. Погибла прекрасная Шан Цот. Сбылось предсказание вещей сужицы! Спасенье? Да, возможно, царевна принесла и спасенье: ведь если бы не она, которую Дац Дар считал залогом грядущего мира, неизвестно, чем кончился бы их поход на Эсбу. Одно ясно: в крепость они так просто не вошли бы. Но какое значение все это имеет теперь? На беду, на беду взяли они ее из Сарката.
Припомнил царевич и это: «не гоже воину заживо гнить». «Славно сказано, — подумалось ему, и он невольно с нежностью погладил рукоятку и ножны кинжала. — Где-то Нодаль теперь? Добрался ли он до Фатара? Нодаль, Нодаль, на тебя теперь только надежда!» И осторожно откинувшись на спину, царевич через силу разжевал кусок лепешки.
* * *
А с Нодалем задолго до того приключилось. Почти беспрепятственно поднявшись берегом вверх по течению Таргара, он выехал к северному отрогу хребта Шо. Здесь не было высоких пиков, как в центральной части, но не было и ни одного перевала. Конечно, проще было бы пробираться через северный отрог, ближе к берегу Дымного моря. Там горы — не горы, больше, чем на уктас, подниматься бы не пришлось. Но верхом все равно не проехать, если, конечно, до самого моря не дотащишься. И Нодаль рассудил так: от северных перевалов путь к Фатару, а именно там он расчитывал застать цлиянское войско, пролегает через форлийские земли и дальше на юг через всю Пограничную степь. Даже если удастся раздобыть в Форлии хорошего гаварда, для чего необходимо будет, передвигаясь пешком, встретить хоть один военный отряд — а большинство форлийских военных отрядов наверняка стянуто к Фатару — но пусть даже удастся встретить какой-нибудь мало-мальский разъезд и все-таки раздобыть себе гаварда — потом, прорываясь к Фатару через Пограничную степь, очень даже возможно будет встретить отступающее на север крианское войско. Ведь недаром вещала говорящая сужица о предстоящей победе Син Ура под Фатаром! Конечно, Нодаль не боялся сразиться и с целым войском побитых криан. Но это отняло бы слишком много времени, а он торопился исполнить поручение царевича. И потому принял решение — двигаться напрямую, перевалив через горы в тех местах, где они достигают десятка уктасов над уровнем моря, от истоков Таргара к истокам Асиалы. Таким образом он расчитывал выиграть два, а то и три дня. И, наконец, он спустился бы с гор где-то между Айзуром и Стором, в том месте, откуда и до того, и до другого менее сотни атроров по редколесью, а до Фатара чуть больше. Разузнав, где именно находится Син Ур со своим войском и прямиком помчавшись туда на хорошем гаварде, полученном при помощи царевичева перстня, Нодаль мог бы выиграть еще день-два. План показался ему исполненным тсаарнского великолепия. И вот, гордый собой, как сказано уж, выехал он к северному отрогу величественного хребта Шо.
Нежное весеннее цветение уже кончилось, и лето вступило в свои права. Но оно в Галагаре еще короче весны — в каких-нибудь два-три дня деревья и кустарники накрывает волна буйной зелени. Долины зарастают летними травами до пояса высотой, повсюду вспыхивают летние цветы всех оттенков радуги. Но не успеешь оглянуться — как все это легкомысленное богатство стремительно подменяет своими тяжелыми, долго и основательно зреющими сокровищами мудрая царица в красном с золотом одеянии — долгая галагарская осень.
Но пока разыгралась самая краткая и, быть может, потому особенно желанная и любимая Нодалем пора.
Выехав на край луга, заросшего густыми травами и в изобилии украшенного цветами, многие из которых Нодаль даже не знал, как называть, он поглядел вперед и вверх, туда, где высились почти отвесные скалы и гаварду уже было не пройти. Недолго думая, витязь спешился и отвязал седельные сумки, набитые провиантом.
«На таком лугу, — решил он про себя, — зверь не пропадет, по крайней мере, первое время. А там, глядишь, его и отыщет какой-нибудь счастливчик. Пускай тогда забирает вместе со сбруей. Не тащить же мне в горы лишнюю тяжесть».
Взвалив сумки на плечо, он зашагал к скалам, отстоявшим теперь от него всего лишь на полатрора.
Нодаль быстро и ловко, как дикая цурка, вскарабкался на первую скалу, пособляя себе небольшим топором и парой простых кинжалов со стальными лезвиями отменной закалки. Не более полунимеха понадобилось ему, чтобы подняться на громадную высоту. Приближаясь к вершине, он уже подумывал с ликованием, что, пожалуй, ошибся в расчетах и пройдет через горы гораздо быстрее, чем предполагал, и, быть может, еще до темноты нога его ступит на цлиянскую землю. Но когда он добрался до маленькой округлой площадки, выше которой было только чистое небо, объятое пламенем полуденного солнца, и выпрямился, ступив на нее, в полный рост, — лицо его изрядно помрачнело. Слегка прищуриваясь от резких порывов свободного горнего ветра и прикрывая ладонью глаза от ослепительно-яркого света, Нодаль долго смотрел вдаль и не видел конца багровым скалистым грядам, разделенным узкими ущельями и сливавшимся у горизонта в сплошную шероховатую волну. Да, он и впрямь ошибся в расчетах, но только в противном смысле. И все оттого, что никогда прежде в здешнем краю не бывал. Но храбрый витязь с посохом не привык отступать. Ему и в голову не пришло спуститься обратно, отыскать своего гаварда и выбрать какую-нибудь дорогу полегче, хоть бы и через знакомый уже Сакларский перевал. Правда, до него отсюда было все триста атроров.
Нет, Нодаль спустился совсем в другую сторону и упрямо приступил к штурму багрово-каменного моря. Четырежды он спускался и четырежды поднимался вновь по этим проклятым скалам, походившим на стены какого-то заколдованного лабиринта, по которому, вполне может быть, блуждали кровожадные тени гигантских мацтиргов и кронгов. Блуждали и не находили выхода.
Стремясь выиграть время, Нодаль ни разу из первых четырех не спустился до самого дна ущелья. Он всякий раз, как только, ближе к основанию, стены достаточно сближались, взглядом выискивал напротив какой-нибудь куст, деревце или выступ и, перепрыгнув со скалы на скалу, вновь начинал подъем. Во время пятого спуска проделать этот фокус, достойный акробата на сарфоском мосту, ему не удалось. Вперед потому, что ущелье на сей раз было слишком широким, а скала напротив — слишком отвесной и голой. А еще и по той причине, что солнце коснулось гор на западе и, словно от этого, побагровело, еще когда Нодаль стоял на последней вершине. Спустившись с пятой скалы до половины, он с головой окунулся в сумерки и, глянув вниз, понял, что на дне ущелья теперь царит кромешная тьма. И он отважно двинулся ей навстречь, не ночевать же здесь, как птица на жерди. Наткнувшись на сухое искривленное деревце, Нодаль уразумел, что дно совсем уже близко, нащупал ствол деревца, срубил его одним ударом и сбросил вниз. Затем попалась еще пара мертвых стволов, выросших из одного корня. И их он отправил туда же, предвкушая, как затрещат они в жарком огне и рассеется ужасающий мрак, и разбегутся кровожадные тени.
Наконец он встал ногами на ровную, но не очень твердую и очень сырую почву. Под ногами струилась вода — и, склонившись, Нодаль нашел, что она — ледяная и доходит ему до щиколотки. В поисках сухого места, он быстро пересек ущелье, но тщетно. Зато наткнулся на срубленные свои деревца и попытался зажечь одно из них с помощью простого огнива. Куда там! Все в этом ущелье было насквозь пропитано какой-то удивительной безуханной сыростью. Ничто здесь не гнило, но все было мертво.
В сердцах отшвырнув упрямое деревце, Нодаль в четверть лума решил, что лучше ощупью вскарабкаться на скалу, привязать себя к первому попавшемуся кусту и спокойно уснуть, чем оставаться на этом струящемся льду. Он поднял глаза и попытался припомнить, откуда спустился, чтобы не подниматься вспять на ту же скалу. Как вдруг вдали замерцал огонек, очень похожий на огонек костра, только отчего-то был он синеватым, как звезда Вициял. Храбрый витязь не стал задаваться вопросом, кто это может сидеть у костра в столь неподходящем месте. Да и в самом деле, мало ли храбрецов в Галагаре, подобных ему! «Там сухо, там свет», — только и подумалось Нодалю, и он зашагал вдоль ущелья, выставив посох прямо перед собой.
И на кончике его знаменитого посоха повисает и обрывается седьмой урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Восьмой урпран
По мере того, как костер, неведомо кем разведенный среди мрачного ущелья, все приближался, ледяная вода в ногах отважного Нодаля все прибывала и прибывала. Ее мертвый беззвучный поток уже доходил ему до колен и ноги закоченели до бесчувствия, когда славный витязь с изумлением заметил, что до костра-то рукой подать и даже языки пламени различимы. Вот они рвутся кверху и с шипением извиваются, стриклям подобно, и нет в них ни тепла, ни той доброй силы, что влечет и утешает во мраке бредущего путника.
«Вот диво, — подумал Нодаль, — да не в воде же он полыхает!»
Но именно в воде горел себе, не угасая, нехороший костер, прямо из потока восходил, как бы им и питаясь, и синеватые отблески пламени, покачиваясь и дрожа, освещали премерзостную с виду фигуру. Всякий бы ужаснулся, взглянув не нее хоть раз, всякий, кроме того, кто в этот лум с посохом вышел из тьмы.
Храбрый Нодаль не дрогнул и медленным взором окинул стоящего за костром. То был неведомый воин в доспехах из вороненой стали. Шлем в виде черепа кронга укрывал его голову, венчая железную гору пластинчатого панциря. Оплечье, наручи и все остальное изгибом, шипами и гребнями делали его конечности подобными членам громадного индрига, подстерегающего добычу. Руки в кастетных перчатках покоились на длинной железной рукояти, другим концом скрывавшейся в ледяном потоке. Так что нельзя было сразу понять, секира то, палица или что иное.
— Пошел вон, жалкий бродяга! — взревел голос, глухой и бездушный, словно рычание в колодезном срубе. — Я, Страж Костра, говорю тебе: еще шаг — и за твою жизнь я не дам и сплющенной олы!
«Другой бы стал торговаться!» — невесело усмехнулся про себя Нодаль. Конечно, ноги его не слушались, из доспехов была на нем только легкая кольчуга да короткие наручи, скорее напоминавшие широкие браслеты, шлема — и вовсе как не бывало, да и не очень-то был ему нужен этот костер — ни тепла от него, ни душевной радости. Но чтобы Нодальвирхицуглигир Наухтердибуртиаль, которого посылают вон, повернулся и пошел туда, куда его посылают?! Кровь кинулась ему в лицо при этой чудовищной мысли. Никогда!
— Эй ты, мясо в железной бочке! — заорал он изо всех сил и сбросил с плеча свои сумки. — И как ты ее на себе таскаешь? Вылезай-ка, тогда и поговорим.
Вместо ответа раздался страшный рев, и тот, кто называл себя Стражем Костра, двинулся Нодалю навстречь, выдернув свое оружие из потока. И Нодаль увидел, что это гладкая шарообразная булава величиной с хорошую голову и противник его, поигрывая ею, шагает легко, будто и не навешено на нем дюжины-другой циалов железа.
С криком «Помогай, моя саора!» подняв над головой свой посох, витязь тоже подался вперед и сразу понял, что придется ему несладко. Передвигаться по колено в воде, да еще когда ног от холода не чуешь — это тебе не на ярмарке в Сарфо с девчонками динлиганту отплясывать!
Меж тем его противник, обманным движением заведя булаву влево, неожиданно крутанул ею над головой и ударил сверху. Прием этот в Тсаарнии называют «От сердца по уму». Нодаль едва успел отклониться — и гладкий шар булавы, не причинив вреда, скользнул по его бедру и ушел в воду, подняв сноп ледяных брызг, окативший витязя с головы до пят. Впрочем, пятки его до того уж были мокры. Отскочив шага на три и не выпуская Стража из виду, Нодаль с изумлением уставился на его булаву, выпорхнувшую из воды с прибавлением: только что бывший гладким шар густо оброс довольно длинными острыми шипами. И не давая Нодалю опомниться, снова взлетел и опустился способом «Култан падает с ветки». Нодаль присел и увернулся. Слева поднялся новый фонтан брызг. Резкая боль обожгла ему плечо. «Ничего себе шипы, — пронеслось в голове, — кольчугу рвут как тряпку цинволевую! Пора с этим кончать!» Он перехватил посох, собираясь ударить вперед способом «Гром на рассвете», но, кинув взгляд на булаву, глазам своим не поверил. Вынырнув из воды во второй раз, она превратилась в громадный шестопер с острыми как видрабовые листья лопастями. «Да что ж это у него за буздыхан окаянный!» — подумал витязь и из-за этого запоздал с ударом на четверть лума. Страж Костра атаковал способом «Скользящее веретено». Выставив защиту «Весло рассекает волну», Нодаль уже знал, что ему делать. Он мгновенно рассчитал направление, откинул вражий шестопер кверху влево от себя и нырнул под воду, прижимая посох к груди. Теперь настал черед растеряться для его противника. В жалких отсветах холодного пламени, да еще через прорези забрала и не имея возможности наклониться пониже, он не в силах был разглядеть какое-либо движение под темной водой и принялся бить куда попало, вздымая своим шестопером фонтаны ледяных брызг. Но этим он только помог своему недругу. Отчаянно работая локтями, Нодаль прополз по дну и, выскочив за спиной у Стража Костра, способом «Стальная пощечина» нанес ему такой сокрушительный удар, что у кого другого — голова бы вместе со шлемом на три керпита отскочила. А этот — просто зашатался и навзничь бухнулся в воду.
— То-то! — сказал Нодаль, отфыркиваясь. — Вдвоем купаться веселее!
Схватив поверженного за выгнутые крылья оплечья, он приподнял его над потоком и оттащил под скалу, туда, где в свете поганого костра можно было разглядеть его получше. Усадив и прислонив стальную громаду к скале, Нодаль выдернул из ножен свой волнистый кинжал, откинул уродливое забрало и вздрогнул. В мертвящем свете его изумленному взору открылось болезненно красивое лицо: нежная кожа, тонкие черные брови, прямой, чуть приплюснутый нос с изящно очерченными крупными ноздрями и губы, красные как кровь на снегу. Нодаль торопливо отщелкнул застежки и осторожно снял шлем. По вороненому оплечью рассыпались золотистые волны. Сомнения быть не могло. Сам того не ведая, он поднял свой посох на женщину, и она повержена в прах, а если быть точным — в воду.
Тут ресницы красавицы задрожали, и, с трудом приподняв веки, она поглядела в глаза своему победителю взором, исполненным боли и слез.
Не в силах выдержать его на себе, Нодаль со стоном отвернулся и кинулся искать свои сумки. И они нашлись в ледяном потоке на удивление быстро. По настоянию храброго витязя отхлебнув из его кувшина глоток рабады, красавица задохнулась, закашлялась и заговорила:
— О, мой могучий и прекрасный ликом избавитель! Своим великолепным ударом ты разрушил злые чары, тяготевшие надо мною семь долгих мучительных зим. За все это время от моей руки сложили головы в ледяном потоке две дюжины без одного юных и отважных витязей. И вот, наконец-то, пришел ты и теперь я спасена, если только тебе угодно будет сжалиться надо мной и довершить мое избавление.
«Вот оно как обернулось!» — с облегчением подумал Нодаль, а в голос поспешно произнес:
— Разве я в силах отказать тебе, дивная красавица? Повелевай, ибо и самая жизнь моя отныне принадлежит тебе!
— Прежде чем назовешь свое имя, поцелуй меня крепко в уста. Тогда холодный костер погаснет, ледяной поток обмелеет, и никогда уже не вернется ко мне отвратительное обличье беспощадного стража.
Сердце храброго витязя часто и сильно забилось. Он склонился над прекрасною девой и нежно прижал к ее устам свои — в долгом и упоительном поцелуе. А когда он не без труда прервал его, то с удивлением ощутил на языке неведомый пронзительно-кислый вкус и почувствовал, что сознание его оставляет. Но, прежде чем погрузиться в беспамятство, он успел еще раз взглянуть красавице в лицо и содрогнулся: глаза ее светились открытою злобой, а на губах играла омерзительная усмешка.
Об этом подвиге и трагической ошибке славного витязя с посохом сложены многие песни и записан возвышенным лиглагом величественный эрпарал в тысячу двести строк. Но мы не станем приводить здесь эти строки, чтобы не замедлять повествования, ибо славный витязь вовсе не погиб от вероломного поцелуя и его приключениям суждено было продолжаться к радости и доброй науке того, кто читает Книгу «Кровь и свет Галагара».
Не ведая, какое время — лум, нимех или несколько дней — пришлось ему пробыть без памяти, Нодаль открыл глаза и увидал склоненным над собой знакомое лицо красавицы из ущелья Ледяного Потока. И в тот же лум отчетливо припомнились ему все обстоятельства последнего приключения. Красавица улыбалась высокомерно, но не было у нее в глазах той торжествующей злобы, что давеча так поразила отважного витязя, загоревшись в отсветах холодного костра.
Теперь изумительная красота ее лика сверкала совсем по-иному, озаренная ровным немеркнущим светом, что разливался из невидимого источника под белокаменными сводами, оттачивая их жестокие, холодящие сердце изгибы. Ее золотистые волосы были убраны диадемой, составленной из крупных голубых лаэрагдов. Высокую грудь стягивал белоснежный латкатовый лиф, густо усыпанный отборными клакталами. А из-под груди ниспадала в пол прямыми, как стрелы, складками полупрозрачная чидьяровая юбка, чья легкая дымка не могла скрыть от стороннего глаза сладостно-уступчивых очертаний.
— Кто ты? Добрая рарава или безжалостная мерма? И что угодно тебе? Растоптать или вознести меня на волшебную высоту обладания тобою? — произнес Нодаль и, рванувшись вслед за отступившей красавицей, с удивлением обнаружил, что сидит, упираясь спиной и затылком в каменный столб, вкруг которого заведены и крепко связаны его руки. Кольчуги и оружия — как не бывало. Но одежда — в порядке, если не считать сырости, расплывшегося от плеча по рукаву рубахи кровавого пятна и разодранного до пояса ворота. Склонив голову на грудь, он вздрогнул и стиснул зубы: ко всему пропал и его талисман, его загадочная вещая саора.
— Какая тебе разница, кто я на самом деле? — сказала золотоволосая красавица и вскинула тонкие брови. — Ведь ты уже одарил меня страстным поцелуем и самую жизнь свою по доброй воле отдал мне во власть.
— То была всего лишь учтивая фраза. Не вкладывай в нее иного смысла, кроме обычной любезности!
— Ах вот, что! Так, значит, сомнения мои не напрасны, и хорошо, что здравый смысл удержал меня от падения.
— О каком падении ты говоришь?
— Как! Ведь я, повинуясь подсказке безумного сердца, собиралась одарить тебя своей красотой, без стыда отдать тебе на забаву свое искусное тело! С тобою, моим избавителем, намеревалась я разделить власть над тиолевым садом, собранным по всему Галагару и состоящим из ловких и прекрасных собою мастериц по части любовных клидлей! Счастье еще, что ты не пытаешься меня обмануть и честно признался в том, что твои слова — не более чем пустые скорлупки учтивого обращения!
Тут красавица звонко хлопнула в ладоши — и под белые своды плавною вереницей вошли дюжины две юных бизиэр. Перешептываясь и хихикая, прошли они перед глазами у витязя. И не было между ними схожих чертами. Любые две чем-нибудь разительно отличались друг от друга: цветом кожи, волос и бровей, разрезом глаз, цветом и яркостью уст, тем, что одна — о двух, а другая — о четырех руках, ростом, мягкостью и шириною плеч, величиной и округлостью бедер и прочим, чем-нибудь или всем сразу.
У Нодаля закружилась голова и, забыв о своем униженном положении, он вкрадчиво обратился к хозяйке этого цветника:
— О, дивноокая! Почему ты называешь сердце свое безумным? Ведь часто его подсказки настолько верны и полезны, что, кажется, ясно убеждают: сердце умнее ума.
— Ты полагаешь? — пропела красавица и, присев к витязю на колени, правую ручку запустила в его непокорные кудри, а левою принялась ласкать его богатырскую грудь.
— Что ж, я не стану спорить и вмиг подчинюсь воле своего сердца, но при одном непременном условии: ты тоже внемлешь тому, о чем тебя просит твое.
— Но какою ценой выполнимы его сокровенные просьбы? — вопросил Нодаль, сразу вспомнив, что связан, и, как мог, увернулся от нежностей своей притеснительницы.
— Ценою кровавой клятвы, — прошептала она ему в самое ухо, и этот шепот разбудил славного витязя, будто удар грома.
Он вспомнил о клятве в Бирцидовом саду, о том, куда направлялся, и уразумел, что едва не попался в ловушку.
— Я послушен своему сердцу, а сердце мое преисполнено верности уже данной клятве! — воскликнул отважный витязь.
Красавица сразу вскочила у него с колен и прогнала прочь своих бизиэр. А когда она обернулась, лицо ее было искажено уже знакомой ему отвратительной злобой.
— Упрямый глупец! — крикнула она не своим голосом. — Надо полагать, уж если тебя не соблазнишь, то не запугаешь и подавно?
— Справедливые слова, — спокойно сказал Нодаль. — Но соблазнять ты меня будешь теперь или запугивать — прикажи прежде руки развязать. Я тебя и пальцем не трону, верь моему слову.
— Да ты что, и впрямь вообразил, что перед тобой беззащитное существо? — расхохоталась красавица и, высоко задрав чидьяровый подол, широко расставив колени и вскинув подбородок, уселась в высокое кресло из цельного видраба, заваленное блестящими таранчовыми подушками.
— Я тебе не ласковая красотка, я — всесильный дварт, наследник Великой Мокморы и подлинный властелин всего Галагара! Имя мое гремит от гор до гор и от моря до моря, внушая трепет и благоговение самым отчаянным смельчакам. Трепещи и ты, храбрый витязь, трепещи и не опасайся, что это повредит твоей славе, ибо имя мое — Ра Он!
При этих словах волосы с сияющей диадемой, прекрасное лицо, нежная кожа вместе с изысканным одеянием — словом, все обличье мнимой красавицы потемнело и, словно смола мубигала, нагретая в пламени, оплывая, шипя и пузырясь, потекло вниз, к ногам Ра Она, и бесследно исчезло, обнажив его настоящий вид. Был он в том же одеянии, в каком накануне явился в шатер Цфанк Шана: желтая с красным горская шапочка из свори, короткий сигон, высокие тарилановые сапоги с отворотами и простой кинжал на боку. Злокозненный дварт поднялся со своего кресла и взглянул на славного Нодаля вниз с невозмутимым презрением.
— Если бы ты действительно был всесильным двартом, — не растерялся тот, — то не стал бы в страхе перед честным агаром привязывать его за руки к каменному столбу.
— Как тебе в голову-то пришло? — фыркнув, сказал Ра Он. — Чтобы я стал возиться с веревками из страха перед таким мозгляком? Да ты привязан к столбу собственным воображением! Страх сковал тебе руки!
Нодаль рванулся и с удивлением обнаружил что он и впрямь свободен и ничто не мешает ему подняться и размять ноги. Не веря собственным глазам, он повернул перед ними свои запястья, и не обнаружил на них никакого следа от веревок или оков. Затем он храбро посмотрел в лицо чернородному дварту и громко сказал:
— Ты связал меня при помощи чар, а теперь пытаешься вызвать страх и растерянность, которым — ты знаешь прекрасно — вовек не свить гнезда в моем сердце!
— Красиво говоришь, агар, — ответил Ра Он и вновь опустился в кресло. — Отчего ты не хочешь послужить мне, всесильному дварту? Ведь я нуждаюсь в таких храбрецах.
— Я поклялся служить верой и правдой наследнику цлиянского престола до тех пор…
— До тех пор, пока он не смешает с грязью несчастного Ра Она? — усмехнулся злокозненный дварт. — Ладно, не отвечай. Это мы еще посмотрим, кто из нас счастливчик. А скажи-ка мне лучше, Нодальвирхицуглигир… Ведь таково твое имя? Скажи-ка мне, какая такая сила или корысть заставляет тебя служить слепому царевичу?
— Ты вряд ли уразумеешь, зловредный дварт, — прямодушно ответил Нодаль. — Я служу ему, оттого что Ур Фта мне дорог, оттого что я полюбил его.
— Полюбил, как любят мальчиков в Зимзире? Вполне понимаю.
— Страсть, о которой ты говоришь, никогда меня не увлекала. Нет, не о том вовсе речь. Я полюбил царевича всей душою, как друга, как брата. И готов пожертвовать собственной жизнью, лишь бы он достиг исполнения желаний, лишь бы ему не в чем было меня упрекнуть.
— Слыхал я о бескорыстной любви и о готовности к жертвам на благо другого. Слыхал и полагаю, что эта чепуха произрастает в агарских головах от праздности и сытой жизни. Иначе говоря, со скуки! Так вот, теперь я на твоем месте постарался бы слушать внимательней. Бедный Нодаль, твоя бескорыстная любовь терпит крушение по причине отсутствия возлюбленного предмета. Вчера на закате мой верный слуга по имени Цул Гат вложил в нежные ручки царевны Шан Цот самострел, из которого она по моему велению на лету подстрелила Кин Лакка, крылатого прихвостня твоего царевича. Заметь, агар, как я откровенен с тобой. И продолжим. Сверзиться с небес вместе со своей хитроумной свирелью и со стрелой в сердце глупому форлу пришлось как раз во время поединка Ур Фты с тем самым Гоц Фуром, у коего вы по собственной глупости неизвестно зачем украли невесту и коему я вовремя об этом злодействе сообщил. И как только царевич лишился своего помощника в небесах, Гоц Фур в справедливом гневе нанес ему жестокую рану. Правда, он благородно не стал добивать своего соперника на месте поединка. Я предвидел такой оборот и приказал моему верному Цул Гату уничтожить крианскую царевну. Что он и выполнил в точности, кажется, перерезав ей горло. Благодаря этому несложному фокусу царевич Ур Фта из зятя крианского властелина превратился во вражеского лазутчика, и Гоц Фур, которого миргальцы признали своим царем, приказал им спустить своего соперника, истекающего кровью и раздетого донага в колодец Ог Мирга, прелестное местечко глубиной в полтора уктаса, где он и догнивает теперь, удобно расположившись на груде агарских костей.
— Это ложь! Ты непрестанно лжешь и притворяешься! — взорвался Нодаль.
— Ты знаешь, что это правда. Прислушайся к своему сердцу. Да и стал бы я разве лгать с такими подробностями? — спокойно продолжал Ра Он. — Или ты думаешь, мне нет больше дела, как только сидеть и сочинять истории в духе скучнейших цлиянских эрпаралов? Нет уж, поверь мне, бедный влюбленный витязь, все в точности так и есть, как я тебе говорю. И у тебя, бескорыстного ревнителя чужого блага, может существенно поубавиться хлопот, если ты, конечно, по-прежнему будешь упрямиться и не согласишься послужить мне. Подумай, мертвецы ведь не могут потребовать от тебя верности клятве. Да и к чему это им?
— Как же смеешь ты, если все это правда, — взревел Нодаль как раненый гордый шарпан, — предлагать мне службу теперь, после того, как признался, что ты вероломно сгубил моего друга, его молодую жену и наставника?
— Значит, не хочешь? — Ра Он сдвинул брови и постучал когтями по подлокотникам. — Тогда я не могу не позаботиться о тебе, прежде чем мы расстанемся. Ты ведь только и думал в последние дни, как бы помочь царевичу избавиться от слепоты. Я лишил тебя этой приятной заботы — сам избавил его от недуга, а заодно и от бремени жизни. Но хватит тебе хлопотать о других. Погружайся в ту самую тьму, где пребывал Ур Фта, пока был жив, и позаботься-ка теперь о себе. Это помогает избавиться от досужего вымысла, называемого братской любовью.
Ра Он вытянул свои когти, нацелившись точно в глаза славному витязю и произнес несколько страшных слов, из тех, что не укладываются в голове у честного агара. И в тот же лум Нодаля поразила слепота.
— Ну как? — усмехнулся злокозненный дварт. — Несладко, да? Но я не беспощаден. Ты можешь еще отступить обратно к свету. Скажи только «Слушаюсь, господин».
— Будь ты проклят! — воскликнул отважный Нодаль, отнимая ладони от невидящих глаз и сжимая их в кулаки. — Есть в слепоте и свое преимущество, хотя и единственное, зато несомненное!
— Хорошо говоришь, агар! И что же это за преимущество?
— Не видеть твоей омерзительной хари! Ах, если б еще не слышать твоего поганого голоса!
— Мое уважение к тебе безгранично, — злобно прошипел Ра Он. — Я просто хожу в поводу у твоих сокровенных желаний. Ты хочешь оценить и преимущество глухоты? Ну что ж, это можно устроить. Но позволь и мне удовлетворить свое скромное желание — навсегда заткнуть тебе глотку, чтобы из нее не вырывались больше такие наглые речи.
Тут злокозненный дварт подошел к ослепшему витязю вплотную, расположил свои когтистые пальцы по обе стороны от его головы, быстро произнес новое заклинание и дунул ему в лицо. Нодаль отшатнулся, от неожиданности сел и почувствовал, что уши ему заложило и ни один звук больше не проникает в сознание. Не услыхал он ни собственного страшного мычания, когда попытался крикнуть, ни злобного хохота Ра Она, с наслаждением созерцавшего со своего кресла бесконечную растерянность на лице героя, которого, как ему казалось, он превратил в беспомощную тварь. Но это заключение оказалось преждевременным. Нодаль, доведенный до отчаянья своим положением, неожиданно выхватил из-под себя массивный видрабовый ослон, крепко держа за толстую круглую ножку, раскрутил его над головой и швырнул прямо перед собой, да так удачно, что едва не раскроил своему могущественному обидчику голову.
Потирая ушибленное плечо, Ра Он злобно уставился на мычащего и размахивающего кулаками Нодаля и прошипел:
— А-а! Так тебе и этого мало? Ты не встаешь передо мной на колени, не проливаешь слез, беззвучно моля о пощаде? Ну что ж, испробуем еще одно средство.
Он протянул руку в сторону — и прямо из воздуха к нему в когти прыгнул черный бич, сплетенный из прокопченной сыромяти. Нодаль вдруг ощутил, как из внешнего мрака выскочило быстрое жало и обожгло ему лицо, потом еще, и еще раз, грудь, спину, плечи и ноги. Нодаль стоял неподвижно, рассчитывая бросок, и только на пятом или шестом ударе точным движением руки поймал неведомое жало, оказавшееся сыромятным бичом. Но как только он, овладев им, размахнулся, просто чтобы не оставлять внешний мрак без ответа, бич внезапно исчез, будто в воздухе растаял.
Тогда Нодаль, наугад предполагая, в какой стороне находится его мучитель, повернулся туда и сделал руками фигуру, называемую в Тсаарнии «фек-бек», среди криан — «крухдрак по берзам», а в землях Цли — «тын-дагадан».
— И это тебя не берет, — сказал Ра Он скучающим голосом. — Тогда отправляйся на Черные Копи. Пускай добрые криане прикуют тебя там к тележке в дюжину нимехов и используют как рабочую скотину, понужая бичом с утра до ночи. Все, убирайся. Недосуг мне больше с тобой!
Он шевельнул когтями в сторону несломленного витязя, произнес короткое мерзкое заклинание — и тот исчез без следа.
* * *
Не далек был от истины зловредный дварт, в ледяном своем сердце уверившись в том, что царевич Ур Фта, погребенный в колодце Ог Мирга, — все равно что мертвец. И все же в тот лум, когда верный Нодаль разделил его участь и подвергся тяжелейшим испытаниям, царевич был еще жив.
Не тьма его угнетала: что слепому тьма? Не холод, не пытка гноящейся раной на кошмарном ложе его тяготили — ведь вырос царевич не в пуху фогоратки, с младенчества покорные Син Уру наставники воспитывали его как воина, приучая к лишениям, трудностям и телесной боли.
А терзали царевича в страшном колодце черная тоска и холод отчаянья. Не давали ему собраться с мыслями об освобождении уколы беспощадной совести.
Горячо оплакивал Ур Фта верного форла и винил в его смерти себя. Слуга — продолжение господина, и господин за слугу во всем ответчик — так научили его с детства. Пусть Кин Лакк был не просто слугою, пусть сам подбил царевича на этот безумный поход, — теперь стало ясно: когда следовало решать своим умом, Ур Фта слушался то форла, то Нодаля; когда же вернее было испросить совета у них, он диктовал им свою непреклонную волю.
Если бы они остались в Айзуре, то нынче сражались бы против криан под Фатаром, где и смерть почетна, не то, что в этой гнилой и безвестной дыре. Если бы они, похитив царевну, повернули назад и через Саклар — в Цлиянское царство, то царевна была бы теперь жива и под надежной защитой.
Вспомнив о бедной Шан Цот с перерезанным горлом, Ур Фта застонал и заскрипел зубами от ярости и стыда: где уж ему, слепому и беспомощному, уберечь слугу, когда не сумел защитить ту, которую выбрал в супруги! Да и зачем он смял и позволил неведомому супостату растоптать этот нежный тиоль, с какою целью? Разве любовь, не признающая преград и сомнений или хоть ненасытная страсть двигала им, когда он вывез это сокровище из Сарката? Нет, одна лишь корысть и холодный расчет — вернуть себе зрение, разделив с царевною ложе! Но и это упование обернулось одной досадой. Выходит, не только сгубил он царевну, но и сгубил ее понапрасну!
Даже всплывший в памяти бодрый голос Нодаля не пробудил теперь хоть слабой надежды. И славного витязя с посохом он, быть может, обрек на смерть, послав одного в опасный и долгий поход. Нет, жить ему после всего, что случилось, и впрямь не пристало! И казнь, что свершается теперь над ним, справедлива и своевременна!
Царевич вернул себе малую толику сил тем, что сам себя заставил поесть и до дна осушить кувшин с рабадой, в мыслях своих воздавая должное предусмотрительному Дац Дару. Но и после этого облачиться в доспехи стоило ему огромного труда и мучений, которые продолжались не менее полунимеха. И вот, наконец, он уложил перед собою щит внутренней стороной кверху и вниз рукоятью поставил в него цохларан в ножнах. Опершись на него, царевич с трудом приподнялся, встал на колени, а после — и на ноги. Пошатываясь, он приподнял цохларан, осторожно вытряхнул его из ножен и, придержав лезвие, отбросил ножны в сторону. Теперь острие упиралось ему под ложечку. Оставалось приподнять в этом месте щиток и навалиться на цохларан всей тяжестью.
«Дорога прямая и прекрасная, не хуже таруана!» — мелькнуло в голове — и вдруг царевич, уже подавшись вперед, в последнюю четверть лума напряг все силы и, вместо того, чтобы осуществить задуманное, повалился на бок со звоном и треском. Лум или нимех пролежал он без памяти, но когда очнулся, не сразу уразумел, что с ним произошло. И все-таки вспомнил, что с порога смерти его столкнуло единственное, случайно явившееся слово. И это было слово «таруан». В своих мучительных раздумьях он упустил одно удивительное обстоятельство: всесильный благородный дварт укрыл их путь на север, в миргальскую твердыню — таруаном! И это может означать только одно: все, что было затем, произошло с ведома и даже по желанию Су Ана. Выходит, что ведомы и желанны для него были гибель Кин Лакка, убийство царевны, поражение Ур Фты, позор и колодец Ог Мирга!
Царевич похолодел от этой мысли. Тот, кого он с младенчества почитал бесконечно милостивым и могучим покровителем своим и своих сородичей, оказывался на деле коварным и злым соучастником всех его бед. Так зачем отвело от него смерть первое слово в цепочке, ведущей к этому ужасному заключению? Глубокое отчаянье сделалось теперь бездонным. Торопясь оборвать нестерпимую муку падения в эту бездну, Ур Фта рванулся к цохларану, позабыв о телесной боли. И за этим движением вновь погрузился в беспамятство.
А когда очнулся на сей раз, ему показалось, что он уже мертв и скользит по волнам к Бездвижному Океану. Но волны отчего-то были теплыми и нежными, как скомканный чидьяр на постели Шан Цот. Все тело его слегка овевал благоуханный и ласковый ветер. Ни боли, ни тяжести, ни душевных терзаний. Слух его наполняли то чудесные трели неведомых птиц, то тихий шелест листвы над головой. Он вошел в обитель мира. Он погрузился в покой.
— Он пришел в себя! — произнес кто-то не высоким, не низким, а необыкновенно глубоким голосом. Сказано это было без тени тревоги или иного побуждения, просто, ясно и ровно, на очень чистом, исконном цлиянском наречии.
— Ты скажешь ему или мне это сделать? — раздался совсем другой, девичий голосок, добродушный и мягкий, как пушинка габаля.
— Ты скажи, дорогое дитя. Ведь ты ни о чем не забудешь, — отвечал заговоривший первым.
— Милый царевич, дай знать, если ты слышишь и понимаешь, — вновь залепетала пушинка.
— Я слышу, — как зачарованный произнес Ур Фта. — Но что это? Жив я иль мертв? Где нахожусь, и кто вы, говорящие волшебными голосами.
— Ты жив и здоров, — рассмеялась пушинка. — А на другие твои вопросы ответов сегодня нет. Я скажу тебе очень важное. Ты ведь будешь внимательно слушать.
Последнее она легко и даже как-то беззаботно утверждала, как-то, что само собою разумеется. И царевич понял, что это действительно так, что он весь обратился во внимание и не станет более спрашивать ни о чем.
— Милый царевич, тебе пришлось нелегко и, быть может, придется еще не легче, — эти слова были окутаны грустью будто прозрачной дымкой, но она сразу растаяла, и все дальнейшее пушинка пролепетала по-прежнему беспечально. — Но впредь наша помощь тебе уже не понадобится. Ты продолжишь свой путь, как подскажет тебе твое сердце. Только прежде повстречаешься с тем, кому обязательно скажешь:
Трацар крепко держит слово, Трацар помнит отчий дом. Скоро встреча будет снова, Не забыли и о нем.Ты ведь тоже крепко запомнишь эти слова, а все остальное забудешь, милый царевич.
И вновь она говорила, не повелевая, не настаивая, а только беззаботно утверждая простенькую истину. Так дети в Айзуре говорят: «В одном хардаме — две олы». И радуются уже тому, что на это никто ничего возразить не может.
Пушинка умолкла, и тот, первый, глубокий голос произнес:
— Пора прощаться. Ты ведь выпьешь из этой чаши, царевич, и это придаст тебе сил.
Ур Фта протянул руки по причине совершенной несомненности сказанного, даже не потрудившись кивнуть в знак согласия, и принял массивную гладкую чашу. Он отпил из нее несколько глотков чего-то сладкого и тяжелого. И в тот же лум в голове его засверкали разноцветные искорки. Потрясенный царевич решил, что видит, и видит звезды, о которых слыхал не раз и не раз тщетно пытался себе их представить. Но скоро искорки погасли, и воцарилась привычная тьма. Царевич почувствовал, что сидит на земле, прислонившись спиной к дереву, а на коленях у него лежит большой продолговатый коцкут, куда сложены, как сразу же он догадался, его доспехи и оружие. Прохладный воздух был полон ароматами палой листвы и спелых плодов цумилина, из чего можно было заключить, что уже наступила стодневная галагарская осень.
Где он находится и каким образом здесь оказался — об этом царевич не имел никакого представления. Последнее из того, что он помнил, были колодец Ог Мирга и вереница отчаянных мыслей, посетивших его там, на агарских костях. Как ему удалось выбраться оттуда — представлялось неразрешимой загадкой. Вместо ответа на все вопросы, что царевич себе задавал, в голове у него вертелись непонятные строки про какого-то Трацара, который крепко держит слово. И отчего-то повторять их про себя казалось истинным наслаждением.
Он пошевелил руками и с удивлением заметил: не только плечо не болит, но и сил у него столько, что вековые видрабы без топора валить достанет. На себе Ур Фта обнаружил свежие и крепкие одежды: поверх цинволевого тисана укороченный тсаарнский таглон с разрезами на локтях и длинными рукавами, мягкие латкатовые штаны с бахромой, а на ногах — невысокие сапожки из нежной выделки тарилана. Из увесистого кошелька на поясе раздавался золотой звон.
Кто одарил его всем этим? Кто залечил гноившуюся рану? Сколько дней или нимехов прошло с того лума, когда пропадал он в колодце?
В конце концов, царевич махнул рукой на то, чего все равно объяснить не мог, и просто подумал о том, что вот хорошо бы теперь выкурить трубочку саркара.
Он уже не удивился, а только в мыслях вознес хвалу неведомому благодетелю, когда, пошарив за пазухой, извлек оттуда кисет и короткую трубку из корня бирциды, правда, совсем новенькую, необкуренную.
— Три дня не курил, — раздался вдруг у него над самым ухом веселый и бесшабашный голос. — Ты ведь угостишь меня, а то в этих краях не сыскать хорошего саркара.
Конечно, царевич не прочь был угостить незнакомца, хоть и говорил он по-криански, тем более что было в его голосе и в этом утверждении, заменяющем просьбу, нечто приятно знакомое и на редкость располагающее к себе. А все же он решил, что следует соблюдать осторожность.
— Мне, слепому без поводыря, подчас трудно бывает понять, куда это я забрел, — по-криански заговорил Ур Фта, протягивая незнакомцу кисет. — Не подскажешь ли ты, любезный, о каких краях ведешь речь? Или, попросту говоря, где мы теперь находимся?
— Как не сказать! — все с тою же бесшабашностью откликнулся незнакомец и, раскурив свою трубку, передал царевичу огонек на лучинке. — Мы на самом краю цумилиновых садов, принадлежащих Клам Чату Щедрорукому, в окрестностях Эсбы.
Царевич невольно содрогнулся, но виду не показал, а только небрежно заметил:
— Так отсюда недалеко до Восьмибашенной Эсбы? Ну да, надо было мне самому догадаться, ведь только вчера я встретил возы с корсовым сеном. Так агары при них мне сказали, что прямиком направляются в крепость и что будут там до темноты.
— Да нет же, до миргальской крепости отсюда и по прямой-то чуть ли не сотня атроров. Пешком в три дня не добраться. А та Эсба, что поблизости, не миргальская, а крианская, и вовсе не крепость, а город и порт, веселый и шумный. И базар там имеется, и тиолевые кварталы — почти как в Зимзире! Я теперь как раз туда направляюсь, а уж затем — по морю в Корлоган. Там куплю себе гаварда покрепче — и в Пограничную степь, к цлиянам на огонек. Так не желаешь ли со мной до города? Вдвоем ведь куда веселее!
Незнакомец говорил так возбужденно и радостно, точно спешил поделиться счастливой вестью со всем Галагаром. А между тем, не было в его словах ничего особенного. Кроме одного!
— Постой-ка! Ты говоришь, любезный, что собираешься к цлиянам на огонек? Что это значит? Ты хочешь присоединиться к войску Цфанк Шана и воевать против Цли?
— Да что ты! — рассмеялся тот. — Я вовсе не воин. Но дело ведь и не в этом. Откуда же ты пришел, если даже не знаешь о том, что война уже кончилась, что Цфанк Шан, проиграв сражение под Фатаром и получив известие о смерти царевны Шан Цот, предался великой печали, вследствие чего он в Сторе заключил мир с Белобровым Син Уром и отвел войска за горы Шо?
— Откуда пришел? Да я и сам толком не знаю! — сказал царевич, на радостях даже об осторожности позабыв.
— Тебе неведомо не только куда, но и откуда ты явился? — удивленно переспросил его собеседник. — Давненько же ты, как видно, ни с кем не заговаривал! А ведь это странно. Здешние места — не пустыня Лаглаг, чуть не на каждом керпите можно встретить агара.
И в тот же лум к нему вернулась прежняя веселость. Незнакомец повторил радушное предложение вместе с ним прогуляться до Эсбы, на сей раз заботливо предупредив Ур Фту:
— Попадаются здесь, как, впрочем, и всюду, не агары, а сущие кронги. Они зрячего, как слепого, догола разденут и хорошо, если отпустят живым. Что уж о тебе говорить! Твой здоровенный коцкут видать издалека, одежда на тебе добрая, кошелек пухлый. Поверь моему слову, в одиночку тебе далеко не уйти.
Ур Фта опять насторожился. «Может, война и кончилась, но не для меня, — подумалось ему. — И что-то чересчур радушен этот незнакомец. Не слуга ли Ра Ону? Я ведь теперь один. Так лучше себя не выдавать и ото всех держаться подальше. Слишком уж просто меня заманить в любую ловушку». А незнакомцу сказал:
— За меня не тревожься, любезный. Слух у меня тонкий. В случае чего — убегу, а не то и отобьюсь от супостатов.
— Ну, гляди. Ты ведь сам знаешь, что для тебя лучше. А покуда прощай и прими благодарность за славный саркар.
И вновь у царевича что-то дрогнуло в сердце от этого «ты ведь сам знаешь». Он вскочил и еще обратился к незнакомцу, успевшему повернуться к дороге лицом:
— Я хотел бы узнать твое имя, чтобы впредь расспрашивать встречных о тебе.
Незнакомец, ни на лум не задумываясь, беспечно отвечал:
— Криане называют меня Тэр Цатом, а вообще-то я Трацар, Трацар родом из Лифаста.
— Трацар… — изумленно повторил царевич и невольно продолжил:
Трацар крепко держит слово, Трацар помнит отчий дом. Скоро встреча будет снова, Не забыли и о нем.Тут настал черед удивляться для того, кто назвал себя Трацаром.
— Что ты сказал? — не то с ужасом, не то с восторгом воскликнул он. — Ведь ты повторишь эти строки, ведь ты знаешь, что для меня нет ничего важнее!
Ур Фта отметил про себя, что действительно знает об этом, и без промедления повторил загадочные слова.
— Кто ты? — обратился к нему Трацар с трепетом в голосе. — Ведь ты назовешь свое имя и расскажешь мне обо всем, что было с тобой.
Царевич ни лума не сомневался в том, что так оно и будет, и крепко сжал всеми четырьмя руку, протянутую ему Трацаром.
И это рукопожатие — последнее из того, что есть в восьмом урпране книги «Кровь и свет Галагара».
Девятый урпран
Время, не заполненное событиями, кажется, течет медленно, капля по капле. Но когда, оглянувшись, пытаешься нимех за нимехом восстановить в памяти сколько-то дней, проведенных в праздности или делах обычных, это оказывается нелегко. Пустое и безгласное, такое время скатывается за спиною как прорванный гаргаст по склону горы, и лежит в пропасти прожитого, не подавая признаков жизни.
Напротив, каждый нимех времен, исполненных напряжения и опасности, хотя и пролетает стрелою — зато в памяти поет и гремит неустанно, переливается всеми цветами, даже если залит грязью и кровью. А испытавший такое словно получает указание неведомого наставника: «Вот настоящее время, вот настоящая жизнь. Здесь она начинается и здесь кончается».
Эта древняя галагарская мудрость впервые на деле открылась Ал Грону Большеносому в самом начале войны, когда никто еще ведать не ведал, что суждено ей продлиться только до начала осени и воинский пыл кровожадных криан остынет под Фатаром прежде, чем завяжутся черные плоды сердцевника.
А ведь этим летом славный юноша думал сыграть свадьбу. И вот, вместо первой счастливой близости выпало ему и его возлюбленной Чин Дарт унылое расставание. Прощаясь, Чин Дарт молча заключила жениха в объятья и своими руками повесила ему на шею простенький талисман — резную фигурку сужицы, сжимающей в клюве кольцо.
Второй день войны Ал Грон встретил в дороге, во главе небольшого легковооруженного отряда в две дюжины всадников. Выполняя волю Син Ура, они направлялись прямиком из Айзура в Стор, чтобы узнать о судьбе гарнизона, осажденного вражеским войском, и, если понадобиться, оказать ему посильную помощь. Великий царь двинул войска по дороге на Фатар, где раcсчитывал дать большое сражение. Но предполагая, что осада Стора может продлиться хоть до зимы и оттянет значительные силы Цфанк Шана, он послал туда три отряда. Были они немногочисленны и двигались порознь, но именно это позволяло раcсчитывать на успех. В случае, если из Стора прибудут добрые вести, — решил великий царь и мудрый полководец, — черную дюжину Ивора, которая уже спешит соединиться с цлиянским войском, разумно будет направить к Стору в обход через перевал Утешного Грома. Можно не сомневаться в том, что они прорвут осаду и, проникнув в крепость, помогут ей удержаться еще дней сто, не меньше.
Отряд во главе с Ал Гроном мчался, не разбирая дороги, по редколесью в предгорьях Шо. За день быстролапые звери прошли половину пути. Ночью, после небольшого привала отряд продолжал двигаться и к середине следующего дня приблизился к берегу Асиалы. Там, за ее бурными и неглубокими в этих местах водами, высились бастионы Стора. Но разглядеть, что происходит вблизи крепости, отсюда цлияне не могли. Тому помехою были густые заросли сабирника высотою в полтора агара, покрывавшие противоположный берег реки.
Желтолицый Фо Гла по указанию Ал Грона быстро вскарабкался на высоченный развесистый габаль и по прошествии афуса торопливо спустился вниз.
— Надо поворачивать назад, Ал Грон! — сказал он встревоженно, но без страха, и вскочил в седло. — Гарнизон не выдержал штурма или изменил цлиянскому престолу. Криане уже в крепости.
— Ты не ошибся, зоркий Фо Гла? Из чего исходя, пришел ты к столь печальному заключению?
— Своими глазами я видел крианский отряд, неспешно выезжающий из Северных ворот Стора.
— Откуда уверенность, что отряд — крианский?
— Ал Грон! Ты считаешь меня несмышленным мальчишкой? Отряд выезжал под флагом зимзирской гавардерии!
— Зимзирской гавардерии? И как же выглядел этот флаг?
— Э! Да ты просто издеваешься надо мной или разыгрываешь из себя наставника Кта Галя!
— Когда я погибну в схватке, ты займешь мое место и сам станешь принимать решения. А пока этого не произошло, отвечай на мои вопросы ясно и без раздражения! Я должен быть полностью уверен, что донесение, которое мы принесем великому царю, соответствует истине. Как выглядел флаг?
— Три черных алазара в белоснежном поле с голубою волнистой канвой.
— Ты не ошибся, зоркий Фо Гла, поворачиваем гавардов!
Но повернуть они не успели. Вылетев из зарослей сабирника, просвистела поющая стрела. И Фо Гла вскрикнул от боли — стрела вонзилась ему в левый глаз. Вторая поразила Ал Грона в плечо, третья смертельно ранила одного из их отряда, четвертая — второго. Ал Грон вырвал стрелу и даже не почувствовал боли, затем выставил щит и, повернувшись к отряду, взревел:
— Назад! Отходите за деревья!
В тот же лум из зарослей на другом берегу со свистом и гиканьем вылетели дюжины три тагун, обнаживших зайгалы, и вздымая фонтанами брызги, погнали гавардов по воде.
— Слушать приказ! — увидав такое дело, вновь возвысил голос Ал Грон. — Четверо — ты, ты, ты и ты, остаются со мной. Остальные лесом — и в горы! Выполняйте, именем Син Ура!
И тут он услышал голос своего товарища, с коим в мыслях готов был навсегда проститься. Фо Гла в тот лум, когда его поразила тагунская стрела, откинулся навзничь на круп своего гаварда и, раскинув руки, простерся как мертвый. Но тут же пришел в себя и выпрямился в седле. Затем, собрав всю свою волю, одним стремительным движением вырвал стрелу из окровавленной глазницы и отшвырнул ее в сторону. Вид его был воистину страшен: лицо перекошено и забрызгано кровью, багровая струйка стекала по левой щеке к уголку рта. А от его крика похолодело бы нутро у самого горячего воина:
— Здесь Фо Гла, сын айзурца Гла Ина! Цур аррада, крианские твари!
Он обнажил свои триострые цохлараны, молниями сверкнувшие в лучах высокого солнца, и первый помчался навстречь тагунам. Ал Грон и еще четверо храбрецов устремились следом. Все остальные, повинуясь приказу, стремительно отступали. Им было назначено уцелеть, чтобы постоять за Цли в новых сражениях и, быть может, отомстить за тех, кто ценою собственной жизни спасал их теперь.
Шестерых искромсал разъяренный Фо Гла. Пятерым довелось отведать не менее быстрых и острых цохларанов Ал Грона. Но если бы эти двое могли спокойно оглядеться по сторонам, они тут же заметили бы, что прочие четверо не столь удачливы были в этом неравном бою и в первый же афус попадали в бурный поток Асиалы — кто с разрубленным черепом, кто наполы от плеча, а кто и вовсе без головы.
— Какие воины сражаются на стороне Цли! — сокрушался начальник тагунского отряда, наблюдая неравную битву из зарослей сабирника. — Если бы у меня под началом был хоть один из таких!
И он изо всей мочи крикнул своим:
— Хватит! Не смейте еще их поранить! Взять, не медля, живыми! Они того заслужили.
В тот же лум Ал Грон и Фо Гла обнаружили, что вкруг них образуется пустое пространство. Держась на расстоянии в несколько керпитов, тагуны взяли их в кольцо. И тут же со всех сторон полетели арканные петли…
Они попали в плен весной, а теперь уже осень была в разгаре. Но при воспоминании об этих событиях сердце в груди Ал Грона стучало как маленький гаргаст. И он невольно перебирал в памяти слово за словом, шаг за шагом, произнесенные и сделанные в тот день, взвешивал все и мучил себя сомнениями: верно ли он поступил? Быть может, следовало всем отрядом попытаться принять сражение, и тогда им с Фо Глою не пришлось бы теперь гнуть спины, нагружая в тележки тяжелые комья руды и не имея даже слабой надежды когда-нибудь вырваться отсюда. Черные Копи! Прежде он слышал о них краем уха, и они казались ему чем-то далеким и призрачным, как привидевшийся в детстве страшный сон.
И вот они — наяву. Четыре громадные ямы на склоне невысокой горы, называемой Такера, вырытые и ежедневно углубляемые кирками изможденных агаров, узников этого страшного места. Если с рассвета и до заката безжалостный сыромятный бич надсмотрщика опускался на твои плечи не более дюжины раз, можно было считать, что денек выдался счастливый. Были здесь и тсаарны, и жители западного побережья — суровые чарпы, и горцы с юга, и сами криане. Кто попал сюда за участие в заговоре и подготовке мятежа, кто — за неуплату дани в саркатскую казну, а кто и просто за неосторожное слово, достигшее ушей соглядатая где-нибудь на зимзирском базаре. Попадались, правда, и настоящие разбойники, и воры, и фальшивохардамщики, и содержатели харчевен, угощавшие проезжих лухтиками и похлебкой из агарского мяса. И это особенно угнетало Ал Грона в первое время. Ведь он был воином отменного воспитания из довольно знатного айзурского рода. И вот теперь махал киркой рядом со всяким сбродом, так же, как и они изможденный и вынужденный испытывать наравне со всеми нестерпимые унижения и побои.
Поначалу большой поддержкой для него был Фо Гла с его неиссякаемой верой в освобождение. Каждый вечер, возвратившись под черный бревенчатый навес, где узники поглощали жалкую похлебку на скарельном масле, укладывались вповалку и тут же засыпали мертвым сном, не обращая внимания на лай и вой нарочно обученных свирепых порсков, Ал Грон и Фо Гла шепотом обсуждали возможности побега.
Однажды в их разговор вмешался какой-то крианин, заросший изжелта-седыми патлами и еле державшийся на ногах. Он оказался опытным саркатским карманником, на чьем счету было два побега, и назвался Хор Шотом.
Хор Шот объяснил, что отсюда существует единственный путь на волю — в селенье Тахар за семьдесят с лишним атроров по горным склонам. В Тахаре можно раздобыть одежду и даже одного-двух тощих гавардов. А уж тогда — ступай, куда хочешь, только гляди, чтобы по новой не попадаться. Правда, идти надо через Долину Кронгов, что недаром так называется, а на это не всякий смельчак отважится.
Нечего и говорить, что Ал Грон с Фо Глою были как раз из тех смельчаков, которых на пути к свободе не мог остановить страх перед каким-то пустоголовым зверьем. И они твердо решили, как только Фо Гла вполне поправится, последовать совету Хор Шота и бежать в горы.
Меж тем, Фо Гла не только не поправлялся, но и заметно сдавал. Рана гноилась. Его лихорадило, как в приступе игвы. По ночам он не мог хорошо отдохнуть, и вместо покойного сна, забывался в тяжелом и жарком бреду.
Все больших усилий стоило ему на рассвете добираться до своего места в яме, а там поднимать тяжелую кирку; все чаще бич надсмотрщика опускался на его исхудалые плечи. И Ал Грон с тоскою думал о неизбежном. Ему хорошо было известно, какая участь уготовлена больным и не способным более трудиться в яме. Их отводили за пару уктасов от черного навеса, где мученья несчастных обрывались одним ударом, а останки скармливались цепным порскам.
И вот наступил тот ужасный лум, когда верный товарищ Ал Грона выронил кирку и повалился на груду черных комьев, уже не в силах подняться, с каким бы жестоким усердием его ни хлестали надсмотрщики. По счастью, это случилось уже на закате, когда солнце заслонили тучи и немного раньше обычного раздался спасительный крик «Ган тулла!», повинуясь которому изможденные рудокопы поплелись наверх, собираясь в неспешную вереницу, направляющуюся к бревенчатому навесу.
Когда Ал Грон склонился над Фо Глою, почти все уже покинули яму, не дожидаясь удара бичом. Уразумев, что товарищу его на этот раз уже не подняться и заметив надсмотрщика, который направился к ним, удерживая на цепи беснующегося порска, Ал Грон поспешно взвалил Фо Глу к себе на плечи и, с трудом переставляя ноги, потащился по направлению к черному склону. И надсмотрщик, повернув в другую сторону, зашагал туда, где корчился, пытаясь встать на ноги, еще один несчастный.
Преодолев несколько уктасов, Ал Грон выбился из сил и оглянулся. Надсмотрщик был достаточно далеко. Как мог, осторожно, славный цлиянин опустил товарища на черную груду и грязным рукавом размазал по лицу пот. И в этот лум где-то поблизости, совсем рядом раздался звук, заставивший его с изумлением обернуться.
Ал Грон невольно сделал шаг в ту сторону, склонился и внимательно оглядел здоровенную фигуру, прикованную к огромной тележке при помощи обруча и массивной цепи. Неведомый богатырь, развалившийся возле тележки, просто спал, сотрясая воздух тяжелым болезненным храпом.
Прежде Ал Грону доводилось слыхать от разговорчивого Хор Шота о каком-то несчастном, прикованном к своей тележке, которого и на ночь оставляют в яме, но видел его он впервые. Если верить Хор Шоту, бедняга был разом слеп, глух и нем, каковое несчастье, по мнению опытного карманника, следовало приписать зловредным чарам.
Выглядел прикованный богатырь ужасно. Лицо его, заросшее густой бородою, покрывал слой несмываемой черной грязи. Глядя на едва скрепленные между собой черные рваные полосы, свисавшие с могучих плеч, трудно было поверить в то, что когда-то они были белоснежным цинволевым тисаном. В столь же плачевном виде пребывали штаны, особенно в нижней части, где сквозь огромные дыры виднелись разбитые в кровь колени. Даже тарилановые сапоги, как можно было догадаться, хорошей работы, не выдержали и истрепались настолько, что из дырявых носков высовывались грязные пальцы.
Тут богатырь, заставив Ал Грона невольно вздрогнуть и отшатнуться, тяжко вздохнул и повернулся на бок, громыхнув чудовищной цепью. Подметка правого сапога, как видно, и до этого державшаяся на гнилой нитке, совсем отошла и повисла, обнажив сравнительно чистую ступню. А Ал Грону почудилось, что мизинец богатырской ноги в лучах солнца, напоследок прорвавшихся сквозь темные клубы, сверкнул золотою полоской. Не в силах побороть любопытство, он опустился на колени и, бережно придержав ступню спящего великана, оттер с нее грязь ладонью. А затем приблизил глаза к загадочному мизинцу.
На какой-нибудь лум он потрясенно застыл, но быстро очнулся, зачерпнул горсть черной пыли и тщательно замазал то, что ему случайно открылось. Потом он снова взвалил на плечи Фо Глу, издавшего слабый стон, и потащил его по склону вслед за медленной вереницей узников.
— Плохи его дела, — сказал, придержавший место для троих Хор Шот, пособляя уложить охваченного жаром Фо Глу на землю. Ал Грон успел вовремя: как только он со своею ношей ступил под навес, хлынул проливной дождь и снаружи на бревнах повисли, суетясь, холодные струи. А это означало, что надсмотрщики, как всегда напившись допьяна, не высунут носа из своей теплой казармы, чтобы накормить узников, а только на ночь пустят дюжину голодных порсков на цепях вокруг навеса. То был испытанный способ охраны, и желтые клыки полудикого зверя служили надежнее самой высокой ограды.
Хор Шот куда-то исчез и вновь появился, осторожно переступая через бесчувственные тела, лишенные на этот раз даже обычного подкрепления ничтожной похлебкой. На вытянутых руках, крепко прижав локти к тщедушному телу, он нес деревянную плошку с дождевою водой. Вдвоем с Ал Гроном они омыли лицо и грудь несчастному страдальцу и, когда он пришел в себя, дали ему напиться.
— Послушай меня, Фо Гла! — горячо зашептал возбужденный своим открытием Ал Грон. — Ты помнишь о слепоглухонемом великане, про которого говорил Хор Шот?
— Кажется, что-то припоминаю, — едва слышно ответил Фо Гла.
— Так вот, это не простой агар! Это чрезвычайный посланник. При нем — путевой перстень царевича с клакталовой леверкой!
— Не может быть. Ты бредишь, или тебе померещилось…
— Поверь мне, старый товарищ! Я видел перстень своими глазами на мизинце его ноги. Разумеешь? Только потому он и уцелел, что находится в столь странном месте. И мне бы его не видать, кабы подметка сапога вовремя не отвалилась!
Фо Гла почувствовал, что сказанное Ал Гроном очень похоже на правду, и его единственный глаз загорелся твердым сухим огоньком.
— Ты помнишь, чему нас учил премудрый Кта Галь? — произнес он слегка окрепшим шепотом.
— Как же мне не помнить! Его слова не вышибить из наших голов и обухом топора! «Если встретишь владельца перстня живым — служи ему как господину. Если же мертвым — доставь его тело со всем, что на нем, к подножию царского трона!»
— Так вот, я надеюсь, для тебя это не просто слова и ты сделаешь все им согласно.
— Я готов бежать вместе с царевичевым посланником, чтобы доставить его к Син Уру, готов хоть нынче же ночью. Но как же мне быть с тобою?
— Без меня тебе не обойтись, это верно, — прошептал Фо Гла, и его искалеченное лицо осветилось подобием грустной улыбки. Он повел глазом в сторону и обратился к Хор Шоту. — Послушай, друг. Не мог бы ты показать нам теперь же ту вещь, о которой как-то обмолвился, помнишь?
— Вспомнить — нехитрое дело, когда, кроме этой вещицы, иного имущества нет, — глубокомысленно заметил бывалый саркатский мошенник и вновь ненадолго скрылся.
Вернувшись на сей раз, он наклонился поближе к огоньку маленького тайтланового светильника с фитилем из одежных ремков. Этот светильничек питался скарельным маслом и был изготовлен Ал Гроном, который теперь склонился над ним по знаку Хор Шота и увидел, как в неверном мерцающем свете, высунувшись из грязной тряпицы, сверкнуло заточенное железо. Неведомо где отыскав или оторвав от одной из тележек кованную полоску, Хор Шот тайком по ночам терпеливо трудился над нею, и наконец у него получилось нечто вроде укороченного тесака шириною в два пальца. Рукоятка этого примитивного оружия была плотно обмотана засаленной скрученной тряпкой и вполне удобно ложилась в ладонь.
— Вот и ответ на вопрос, — прошептал Фо Гла, с трудом приподняв и тут же уронив голову. — Но следует торопиться. Нынче удобная ночь. Эти проклятые стрикли и не подумают выползать из своей конуры. Дождь смывает следы. И кроме того, вряд ли я протяну до утра, а мертвечиной порсков не приманишь.
— Что ты хочешь сказать, несчастный? Уж не бредишь ли ты?
— Или вы не уразумели, почтенный Ал Грон? — вмешался Хор Шот, с детства не отличавшийся щепетильностью. — Дело-то очень простое. Перережем вашему приятелю горло, пока еще дышит — а он, видать, все равно не жилец, — разделаем труп на несколько кусков и бросим их порскам. А покуда они дерутся из-за агарского мясца…
— Замолчи, безумец! Как только язык у тебя поворачивается говорить такое! — Едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, зашептал Ал Грон в самое ухо Хор Шоту. Ни тот, ни другой не заметили, как Фо Гла, стиснув зубы, дотянулся до самодельного тесака и вцепился в него как утопающий в горстку соломы. Когда они обернулись на слабый хрип, все уже было кончено и только из уст героя вырывалась, чуть пузырясь, последняя струйка живой горячей крови.
— Нельзя терять ни лума! — шепнул Хор Шот, прервав скорбное оцепенение Ал Грона. — Иначе окажется, что он это сделал зря.
Прежде чем свершить кошмарное погребение, цлиянский витязь и саркатский вор на прощание обнялись, ибо Хор Шот наотрез отказался принять участие в побеге — он-де стар, и время ему умереть, и никогда никому он не станет обузой.
Затем они сделали то, что оставалось им сделать. Ал Грон, не обтирая, сунул тесак за пояс, туго скрученный из рубахи погибшего Фо Глы, и в несколько бесшумных прыжков одолел опасное пространство возле навеса. Здесь он остановился на пару лумов, трижды сотворил адлигалу и не сдержал слез, когда сквозь шум дождя донеслось до него ворчание поганых порсков, грызущихся между собой из-за лишнего куска. «Теперь в этих грязных и смрадных утробах навсегда скрывается то, что совсем недавно являло образ юного прекрасного витязя, меткого стрелка и сына, которым по праву гордился старик-отец! Как же превратна жизнь, и как нерушимо в наших сердцах чувство долга!» — так думалось тогда Ал Грону, и рыдания душили его.
А еще — позднее были сложены об этом многие строки, и, к примеру, такие:
Так погиб верный долгу Фо Гла — с беспримерной отвагой Обрекая себя на съедение порскам цепным. И Ал Грон зарыдал над погибшим за общее благо, Но не чувствовал слез на лице под дождем проливным.Опомнившись, мужественный айзурец решил про себя, что — увы! — оплакать погибшего, как подобает, теперь невозможно, а долг перед ним и цлиянским престолом велит как можно скорее освободить царевичева посланника и вести его в селенье Тахар по пути, указанному Хор Шотом.
Когда он, скользя и срываясь, спустился в яму и не без труда отыскал в темноте Нодаля (а ты уж, верно, открыл для себя, что таинственный чрезвычайный посланник, прикованный к тележке на Черных Копях, был не кем иным, как Нодальвирхицуглигиром Наухтердибуртиалем), тот уже не спал, но и не пытался укрыться под тележкой, а сидел на земле под проливным дождем и, мерно покачиваясь, что-то заунывно мычал себе под нос.
Ты, пожалуй, решил, что Нодаль, в котором теперь трудно было признать витязя с посохом, окончательно свихнулся под натиском выпавших на его долю испытаний. Вот оттого-то, при всей своей проницательности, ты и не бывал никогда в Галагаре. Оттого и не довелось тебе стоять на дне черной ямы в ту ночь, когда Ал Грон подкрался к витязю с тележкой и бережно коснулся его руки.
Нодаль в тот лум как бы грезил наяву и вспоминал — а надобно заметить, что только благодаря воспоминаниям он и сохранил в себе жизнь заодно со здравым разумением, — так вот, и вспоминал он на сей раз покойницу Сэгань: про себя нараспев повторял целиком ее дивное заманчивое имя — Сэганьалаталатиль Геалордоцирибур, представлял себе вновь и вновь прикосновение ее нежной, как лепесток тиоля, кожи, ее загадочно прекрасный голос, напевавший податливые или требовательные слова, без которых не бывает любовных клидлей…
Как вдруг совсем иное прикосновение вырвало его из объятий Сэгань. Чья-то шершавая тяжелая ладонь погладила его по руке — раз, другой, третий… Нодаль был искренне потрясен: впервые с того самого рокового дня, когда состоялся его поединок с Ра Оном, внешняя тьма не толкнула, не ударила, не ожгла его бичом, но проявила себя в движении дружественном и многообещающем. Неужели это ему только кажется? А может быть, случайно вынырнув, навсегда канет обратно во тьму, утонет в этом нескончаемом холодном ливне? Спохватившись и не желая ни в коем случае упустить это живое проявление участия и доброты, Нодаль жадно вцепился в неведомую руку. Он прижал ее к груди, стараясь всеми силами выразить свою признательность, и уже было приложился к ней губами. Но в этот лум рука скрылась во тьме так стремительно, словно ее хозяин был чем-то испуган. Однако не успел Нодаль впасть в отчаянье, как неожиданно ощутил, что незнакомец из тьмы осторожно берет в свои его шестипалые ладони и покрывает их поцелуями, затем обнимает его окровавленные колени, сползает вниз, к самым ступням, и, наконец, слегка теребит мизинец правой ноги, высунувшейся из рваного сапога. Затем незнакомец вновь почтительно приложился к нодалевой шестерне и, судя по тому, как зашевелилась и начала мерно вздрагивать цепь, теперь пытался ее разбить каким-то орудием.
«Зачем он прикоснулся к мизинцу моей ноги? Что это значит?» — спрашивал сам себя Нодаль. И тут его осенило. Он вспомнил прощание с царевичем в Эсбе. И перстень! Перстень с клакталовой леверкой, увидев который, любой цлиянин должен оказать ему посильную помощь! Какое счастье, что ему тогда пришла на ум эта вздорная мысль — нацепить перстень на ногу и спрятать в сапог! Какое везение в том, что перстень не пришелся в пору и не налез ни на один из пальцев его богатырских ручищ. Нодаль не задумывался ни о том, куда его поведет чудесный спаситель, повинующийся перстню, ни о том, что будет дальше и как ему избавиться от зловредных чар. Великое благо заключалось уже в том, что неведомый цлиянин освободит его от проклятой тележки и выведет из этого кошмара!
Не менее нимеха провозился с цепью Ал Грон, но пришлось бы ему потрудиться вдвое дольше, кабы не подвернулась, еще когда он только спускался в яму, случайно оставленная кирка. Но вот, наконец, одно из звеньев под ударами разошлось — и привязав цепь довольно длинным, идущим от обруча концом к своему кушаку, Ал Грон крепко взял Нодаля за руку и потащил его за собой.
Покинув Черные Копи, они долго шли в гору, и Ал Грон твердо решил не делать привала, пока им не удастся достигнуть противоположного склона. И это им удалось задолго до рассвета, несмотря на то, что дождь все не прекращался, ноги скользили и время от времени приходилось цепляться за кусты и траву, опускаясь на четвереньки. Как только они перевалили через гору, Ал Грон облегченно вздохнул и прикосновениями попытался передать возникшее у него чувство безопасности своему спутнику. Дождь почти прекратился, тучи рассеивались, занимался несмелый рассвет, и Ал Грон с радостью обнаружил, что спускаться им предстоит, минуя заросли сердцевника, в которых уже поспели тугие черные плоды, а они, надо тебе знать, гораздо сытнее белых весенних, хотя, быть может, и не столь хороши на вкус.
Понятно, изголодавшимся узникам Черных Копей было не до того, чтобы разбираться в своих вкусовых ощущениях. И они устроили под кустами сердцевника настоящее пиршество, вдоволь набив себе животы ароматной рассыпчатой мякотью. Неплохо было бы и вздремнуть хоть четверть нимеха. Но тревога не оставляла их сердца. В самом деле, не так уж далеко им пока что удалось уйти. В любой лум за спиною может раздаться холодящий всю внутренность лай и обнаружится погоня. Спутник Ал Грона, как видно, разделял его опасения, тревожно мычал, потихоньку тянул цепь и знаками показывал, что пора идти. Ал Грон смирился с мыслью о том, что до наступления будущей ночи они все равно пребудут неподвластны благодатному сну, и опять вцепился в богатырскую шестерню.
Весь день они продвигались вперед с небольшими привалами. Вторая гора, вставшая на их пути, была гораздо выше первой и завершалась двумя скалистыми пиками; между ними Ал Грон и повел своего подопечного, следуя указаниям Хор Шота. Последняя часть подъема оказалась не на шутку опасной: пришлось карабкаться по скалам, и дважды Ал Грон срывался и, несомненно, разбился бы насмерть. Но спутник его выручал и оба раза подтягивал к себе на цепи богатырской рукой, ничуть не ослабевшей от каторжного труда на Черных Копях.
Но главная опасность таилась впереди. И когда скалистый перевал остался за спиною, Ал Грон, хорошо усвоивший наставления саркатского вора, узнал в раскинувшейся перед ними долине, заросшей по краям, словно живой изгородью, колючими кустами висиллы, страшную Долину Кронгов.
Здесь останавливаться было нельзя. «Единственное ваше спасение, — говорил Хор Шот, — ноги в руки — и бегом. И если доберетесь невредимыми до скалистого склона Тахи, считайте, что вам здорово подвезло: по скалам кронги не лазают!» Ал Грон так и поступил: как мог, прикосновениями дал понять своему спутнику, что придется долго бежать, и, волоча его за собой, припустил вниз по склону. Меж тем, Нодаль, вопреки попыткам своего спасителя объясниться, ничего не понял и искренне полагал, что они бегут, спасаясь от погони. Сначала бежать было легко. Но стоило им достигнуть самой долины, поросшей густой травой, которая доходила Нодалю до пояса и скрывала чуть не на каждом шагу рытвины и ухабы, — и в них заметно поубавилось прыти.
Все же Нодаль непрестанно чувствовал, как спаситель тянет его за руку, несмотря ни на что, побуждая не замедлять бега. И сердце его переполнялось предчувствием надвигающейся опасности. Так, спотыкаясь и падая, причем чаще всего оба враз, поскольку один увлекал другого, они продолжали свой лихорадочный бег не менее полунимеха.
И вдруг Нодаль почувствовал, как его неведомый друг сильнее сжал ему руку, хотя, уж кажется, и так держался — сильнее некуда. Внезапно цлиянин остановился, замер и вовсе разжал пальцы. Нодаль твердо знал в этот лум, что смертельная опасность, предчувствие которой его не оставляло, совсем близко и что отважный цлиянин, не раздумывая, с нею сразится. Но что было делать ему, несчастному слепоглухонемому? Ведь он даже толком не знал, чего и с какой стороны ожидать.
Меж тем цепочка натянулась и, не давая ни лума на раздумья, повлекла Нодаля за собой. «Схватка уже началась, она в разгаре!» — только и мелькнуло в голове славного витязя. Падая, он вытянул руки перед собой и сам не заметил, как очутился верхом на каком-то крупном и кряжистом теле, да еще и вцепившись при этом пальцами, судя по резким движениям, в чей-то загривок, поросший длинной и жесткой шерстью. Несомненно, это был зверь и он напал на них с простой своей зверской целью — убить и сожрать. Вот он вскочил, почувствовав на себе неожиданного седока, вот извивается и бьет хвостом по спине, пытаясь его сбросить или порвать зубами. Но не тут-то было! Нодаль, еще крепче вцепившись левой рукой в бурдастую башку, вращавшуюся перед ним, как зудрик на вертеле, оторвал и поднял правую руку, до боли сжимая ее в кулак. Поднял — и с выдохом опустил прямо в корень загривка. Потом еще и еще раз. С каждым ударом он ощущал, как под его кулаком что-то хряпает и подается. Но зверь продолжал извиваться. Тогда Нодаль изо всех сил сдавил его гибкое тело коленями, левой рукою дернул башку вверх на себя и не без любопытства потрогал правой острые клыки в громадной ощеренной пасти. Не долго думая, славный витязь применил стародавний прием, которому его обучил еще в юности могущественный Олтран. А именно — он отважно чуть не до самого плеча запустил правую руку в зияющую перед ним пасть, ухватил там внутри что-то непрочное и нежное наощупь и резко рванул наружу, отделавшись легкими царапинами на запястье.
Зверь несколько раз судорожно дернулся и затих навсегда. Наскоро ощупав морду и тушу, Нодаль с удовлетворением отметил про себя: «Кронг».
Об этом подвиге еще потом были сложены такие и прочие строки:
Тьма у Нодаля в глазах, Но он руками кронга видит. Нодаль глух — и хорошо: Не оглушить его рычаньем. Опускается кулак, Как на наковальню молот, Трижды Нодаль кронга бьет — И вот хребет, как ветка, сломан. Запускает руку в пасть — И дух наружу выпускает.И тут Нодаль с ужасом подумал о своем спутнике. Что было с несчастным цлиянином, пока он отделывал кронга? Что с ним теперь? Нодаль ухватился за цепь и сразу нашел своего спасителя. Он лежал навзничь в примятой траве и не двигался. Стоя на коленях, Нодаль ощупал его с головы до ног и обнаружил, что дела плохи. У бедняги была разодрана шея, глубокие следы когтей пробороздили ему бок, и, верно, ребра были сплошь переломаны. Он уж, кажется, и не дышал.
«Он принял первый удар на себя и снова спас мне жизнь, правда, на сей раз ценою своей», — сокрушенно подумал Нодаль, и слезы хлынули у него из глаз.
И в тот же лум поверженный цлиянин едва заметно пошевелился, и Нодалю, склонившемуся над самым его лицом, почудилось легкое колыхание воздуха возле губ умирающего. Затем тот, как видно, собрав последние силы, подтянул руки к груди и попытался снять какой-то талисман на крепкой бечевке. Нодаль понял его движение и пособил ему избавиться от талисмана. Но рука умирающего, не отпуская бечевки, потянулась к лицу славного витязя, и тот, до конца разгадав предсмертное желание цлиянина, поддержал его руку и просунул в бечевку свою кудрявую голову. Сжав талисман у себя на груди, Нодаль уразумел, что это простая фигурка, вырезанная из дерева, вот на нее и не позарились крианские супостаты.
А если бы он мог слышать, то навсегда сохранил бы в памяти слова, произнесенные Ал Гроном перед смертью. Всего два слова, а вернее два имени, прошептал он с последним выдохом: «Айзур, Чин Дарт». И пальцы, сжимавшие бечевку на груди Нодаля, разжались, похолодев.
«Теперь и я пропал, — подумалось Нодалю, едва он сотворил адлигалу. — Беспомощен, как младенец. Куда идти — не знаю. Что делать — не ведаю. Одно утешение — кронги в одиночку не ходят. Верно, вот-вот подоспеет еще парочка, так хоть побарахтаюсь с ними перед смертью».
Распутывая узел, державший цепь на поясе умершего, он и не предполагал, как не далеки от истины его мысли в этот лум. Всего полатрора отделяло его от кронгов, крадущихся в густой траве, и встреча с ними была уж не за горами.
Как вдруг чья-то слабая, но цепкая ручонка схватила его шестерню и потянула куда-то во тьму. Нодаль поддался — а что ему еще оставалось делать? — и тут же уразумел, что снова придется бежать. Но он не предполагал в наличии еще и другого, спасительного обстоятельства: схватиться с кронгом пришлось, когда до скалистого склона Тахи оставалось не более дюжины керпитов. А потому бежать пришлось недолго. Шесть-семь богатырских прыжков — и Нодаль едва не разбил себе лоб о скалу. На нее-то и потянул его за собой новый неведомый спаситель. И славный витязь принялся наощупь карабкаться вверх. Вскоре он очутился на каком-то плоском выступе, затем, подчиняясь все тем же цепким ручонкам, пригнулся, сделал несколько шагов вперед и почувствовал, как на него пахнуло пещерной сыростью.
Во тьме этой пещеры скрывается и девятый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Десятый урпран
Нередко наследник наш и преемник оказывается не тем, кому бы мы предпочли все передать и оставить. Иной раз он безразличен к нашему и до того увлечен своим, что относится к завещанному делу, как мертвый камень к семени видраба. А не то, так проявляет слишком великое рвение — дерзает, где надо стерпеть, рубит с плеча, где надо годами трудиться, — говоря по-другому, становится зыбкой болотистой почвой, где также древу корней не пустить. Но в любом таком случае — будь он камню или болоту подобен — лучше нам при жизни о том ничего не знать. Ибо, ничего не исправив, тут пострадаешь бесплодно.
Крианский государь был несчастен вдвойне: полагая наследника мертвым камнем, по уши угодил в трясину.
Потерпев поражение под Фатаром, Цфанк Шан отделался сравнительно невеликими потерями и отвел войска к Стору. Он все не терял надежды на то, что течение судьбы еще переметнется на его сторону и утолит жажду славы блестящей победой.
Но на следующее утро после прибытия в Стор подоспело донесение о том, что войска Син Ура пополнились четырьмя черными дюжинами с берегов Равизы, грузной дюжиной, составленной галтланами из Альдитурдовой степи и ополчением Миглы, а через два-три дня ожидается подход гавардерии Саина, которая по пути соединилась с полками глионских косарей и вместе они составили с лишним грозную дюжину.
Одна эта весть подорвала его планы настолько, что он задумался над тем, как бы выиграть время. Силы противника вот-вот числом уравняются с крианскими войсками. Обозы — неведомо где. Тсаарнские полки волнуются — того и гляди перейдут на сторону Цли. В таких условиях удержать завоеванные позиции — и то было бы великим благом. Где уж думать о новом сражении!
Возвращение Гоц Фура во главе миргальской грузной дюжины незначительно и все-таки меняло соотношение сил в пользу Кри. Но когда гонец, принесший это радостное известие, сообщил вдобавок о смерти царевны, Цфанк Шан уронил голову, как громом пораженный, и в этот лум понял, что проиграл войну.
Переубедить царя оказалось никому не под силу. Сторский мир поспешно заключенный вскоре, почти все крианское воинство, от последнего ополченца до первых арфангов, сочло позорным. Понимал это и крианский царь, не только согласившийся вернуть захваченные Стор, Укбат и Каллар, но отдавший цлиянам впридачу к огромной дани всю Пограничную степь, мало того — все крианские корабли, находившиеся в водах Зеленого моря в тот лум, когда заключили мир.
Для Цли это была великая и легкая победа. И криане, отступая через горные перевалы на севере Шо и берегом Дымного моря, открыто говорили о том, что Син Ур войдет в Корлоган еще до наступления следующей весны. Удивлялись, отчего это он сразу не потребовал отдать всю Форлию, а главное — острова Зеленого моря. Но великий цлиянский государь прекрасно знал, что ему делать, и не спешил наступать на горло Цфанк Шану.
Да это и в самом деле было бы излишней жестокостью. Всякий, кто видел крианского властелина по пути в Саркат, мог подтвердить, что долго он не протянет. Стенания и слезы наполнили женскую половину дворца в Саркате, когда четверо дюжих жизнехранителей, поднявшись по ступеням, внесли во дворец носилки, укрытые пышным латкатовым пологом. Там, на носилках, лежал осунувшийся, изжелта-бледный и заходящийся в хрипах и кашле Цфанк Шан.
Вскоре из царских покоев, испуганные и заплаканные, выбежали все, кто осмелился там находиться в сей горестный нимех — и по дворцовым коридорам, как эхо в горах, разнеслось:
— Государь просят пожаловать наследника Шан Цвара!
Шан Цвар, скромный болезненный юноша шестнадцати зим от роду, был сыном государевой наложницы и право называться наследником приобрел только по смерти царевны Шан Цот. Он прилежно учился, много читал и никогда не выказывал особого рвения ни к государственным делам вообще, ни, в особенности, к военным.
Когда он явился на зов и решительным легким шагом вошел в царские покои, Цфанк Шан вздрогнул и с трудом его признал, попристальнее вглядевшись.
Обыкновенно Шан Цвар в своем неизменном длиннополом тифсале из темной таранчи жался по стенам, потупив взор и изо всех сил стараясь не попадаться на глаза царю. На сей же раз его грудь сияла золоченым латкатом. Тагунские черные штаны по бокам — ярко-желтою прошвой, а мягкие сапоги — серебристым узором. Горделиво вздернув свой женственный подбородок, покрытый нежным рыжеватым пушком, он взглянул непокорно и ясно и уж только затем в пояс поклонился простертому на смертном ложе Цфанк Шану.
«Какой молодец вылупился из жалкой невзрачной скорлупки, стоило ей только приблизиться к моему трону!» — изумился тот и, повременив, молвил чуть слышно:
— Сын мой, мне радостно созерцать твой царственный вид. Но не слишком ли поспешно ты переменил повадку? Ведь я еще жив и, быть может, народ наш покину нескоро.
— Не слишком ли поспешно? Так вы, кажется, соизволили спросить, батюшка?
Голос наследника, окрепший и звонкий, как ведущая струна тантрина, заставил царя вздрогнуть вторично. Меж тем, он продолжал говорить, вопреки законам вежества и в нарушение всех церемоний не только не отвечая на вопрос, но и своевольно выражая все, что ему ни вздумалось.
— Не слишком ли поспешно? Охотно отвечу — нет, в самый раз. А ответив, спрошу в свой черед: не слишком ли поспешно вы заключили мир с белобрысым цлиянским сарпом? Спрошу — и не стану дожидаться ответа. Все ясно и так: вы торопитесь, когда следовало бы помедлить, и напротив — донельзя медлительны, когда требуется спешить! К примеру, мне ведомо, что на Буйном лугу вы не вняли совету всесильного дварта и отважились начать битву только на третий день после его посещения.
Цфанк Шан задохнулся от гнева и попытался всю свою грозную волю выразить взглядом, что вперил он в наследника в тот же лум. Но вместо грозной воли вышел наружу лишь ничтожный остаток упрямства, избалованного тщеславием и придворной лестью.
Зато Шан Цвар глядел непоколебимо — и царь почувствовал себя так, будто лоб разбил о его высокомерие и в презрении вымазан, как в грязи. После этого он не нашелся, что сказать, и вновь заговорил наследник.
— Так не проявить ли вам, государь, подобающую случаю поспешность и не оставить ли поскорей Галагар в уютном атановом клузе под вопли скорбящих женщин и многозначительное молчание удовлетворенных воинов? А думается мне, в Крианском царстве и ныне настоящие воины превосходны числом, а после вашей кончины станет их еще на одного больше, чем жалких беспомощных трусов!
— Да мой ли ты сын, в самом деле? — пробормотал Цфанк Шан, отворачиваясь.
— И я сомневаюсь в этом, государь, — усмехнулся Шан Цвар, а продолжал уже не шутя, холодно и непреклонно. — Во всяком случае, надеюсь, что не унаследовал тех дурных свойств, что привели вас к падению, и напротив, обладаю достоинствами, в силу которых теперь же готов начать правление, намерен продолжать его с блеском и завершить с бессмертною славой!
— Твоя готовность похвальна, сын мой…
— Не пытайтесь делать вид, что не поняли моего намека! Впрочем, если вам угодно увиливать, как вейра увиливает от летящей стрелы, так должен разочаровать вас: я — меткий стрелок и прямо говорю вам: созовите советников и арфангов и прикажите подать зайгал Тац Фахата!
— Да кто ты такой, необлизанный стренок?! — вдруг закричал Цфанк Шан, срываясь на визг. — Я прикажу тебя заточить, нет, казнить! И казнить без промедления! Здесь же! На месте!
Он закашлялся, захрипел и более не произнес ни слова.
— Попробуйте, прикажите! И вместо того, чтобы казнить меня без промедления — без промедления убедитесь, что все войска в Саркате верны наследнику Шан Цвару. И даже ваши жизнехранители в любой лум готовы по моему приказу превратиться в ваших палачей. Так выбирайте, что для вас лучше: почетная смерть или позорная казнь. И выбирайте без промедления!
Цфанк Шан взглянул на наследника как затравленный зверь и безвольно уронил голову.
— Я разумею это так, что почетная смерть все же милее, — спокойно отметил тот и громко хлопнул в ладоши.
Вскоре все было приготовлено, царь облачен и усажен на троне, а вокруг трона толпились советники и арфанги, шепотом переговариваясь в предвкушении редкого зрелища. И вот в сопровождении несмолкаемого гула в тронный зал внесли продолговатый видрабовый ларец, под чьею крышкой, украшенной золотыми вензелями, на красной латкатовой подушке покоился простой, неухоженный с виду зайгал: без ножен, с пятнами ржавчины на лезвии и с почерневшей серебряной сканью на рукоятке.
— Великое горе! — без единой слезы в голосе молвил наследник. — Наш царь, криане, страдает неизлечимой болезнью. Мало того, наш царь находит, что более не в силах и не в праве над нами быть, а стать среди нас — ему не по роду и за бесчестие выйдет.
Все замерли, страшась пошевелиться, и он продолжал в полнейшей тишине.
— Но помнит славный Цфанк Шан великий завет Тац Фахата и, подобно ему, не желая в тумане истлеть, с блеском ныне сгорает: как некогда славный Тац Фахат в ущелье Буцуда, Цфанк Шан по доброй воле просит подать ему боевой зайгал…
Наследник обернулся к царю, но тот молчал, обмякнув на троне и бессмысленно выпучив свои грязно-желтые глаза с маленькими зрачками. Выждав два или три лума, наследник повторил с угрозой в голосе и, с мнимым почтением склонившись, сжал руку царю.
— Просит подать ему боевой зайгал, не так ли?..
— Прошу… — раздался глухой растерянный голос. И немедленно перед троном откинулась крышка видрабового ларца, а наследник извлек оттуда зайгал Тац Фахата и вложил его в руку царю.
В тот же лум все советники и арфанги простерлись ниц и сбивчиво «возроптали», как было положено по церемониалу.
— Не ропщите… — подсказал наследник.
— Не ропщите… — повторил за ним царь.
— Ибо оставляю вас новому царю по имени Шан Цвар.
— Оставляю вас. Шан Цвару…
— А он выведет вас невредимыми из этого страшного ущелья…
— Выведет из ущелья…
— И под его началом одолеете вы всех врагов ваших!
— Всех врагов ваших… одолеете…
Последние слова Цфанк Шан произнес почти шепотом. Силы его были на исходе. Из глаз и из носу текло, губа отвисла, и, наконец, он разжал руку, непроизвольно сжимавшую перед этим зайгал.
— Помоги же государю выполнить его последнюю волю! — вполголоса строго сказал наследник одному из жизнехранителей, возвышавшихся возле трона.
И в следующий лум под сводами тронного зала взревел нестройный хор подобострастных голосов:
— Долгих зим, великий царь Шан Цвар!
* * *
В крианском порту Эсба вечером того же дня было.
Войдя в город об руку с царевичем Ур Фтою, Трацар сразу заявил, что знает славное место, где никто не помешает их разговору и, к тому же, можно заказать отменный ужин из лучших приморских блюд. Этим хваленым местом, куда они добрались в итоге довольно долгих блужданий по эсбийским запутанным кварталам, оказалась небольшая харчевня, стоявшая у самой пристани и украшенная диковинным изображением безрукого агара с волосами дыбом и верхом на толстом голубом рузиаве.
— Харчевня «Зеленый рузиав» — вопреки вывеске, но в полном соответствии с истиной известил Трацар, вводя царевича в помещение с невысоким потолком и пятью добела выскобленными дощатыми столами в окружении здоровенных габалевых ослонов.
В этот нимех посетителей здесь оказалось немного: один безобидный пьяница, опустив голову на руки, дремал перед рофовой кружкой из глазурованного тайтлана, да двое почтенных агаров в распоясанных цадаловых диклотах и широкополых шляпах с кубообразными тульями вполголоса беседовали в углу, потягивая какой-то напиток из высоких и узких чарок.
Трацар повел царевича в противоположный угол, и, не успели они с удобством расположиться, как подбежал к ним проворный малый в складчатом лестерцовом переднике и с чистой цинволевой тряпицей на шее.
— О! Сам драгоценный Тэр Цат пожаловал! Внимательно жду ваших указаний.
— Приготовь, любезный, для нас с приятелем своего коронного рузиава, фаршированного распаренным корсом и кисленькой лирдой, а прежде подай красный бульон с арзатанами в раковинах и эсбийскую смесь для разгону, потом принесешь нам по большому бракрагу с жерфом и лиглоновым уксусом, по плошке инзужной икры и по хорошему куску печени букта в голечном масле.
— Значит, всего шесть блюд? А что будут пить драгоценные гости?
— Всего шесть? Нет, кажется, маловато. Знаешь, ты после принеси нам на сладкое по дюжине таргарских лацаев, чтобы вновь аппетит разгулялся — а там будет видно. А из питья подай-ка чего-нибудь помягче. Приятель мой крепкого не любит. Да вот, кстати, жив ли еще тот волшебный мирдрод стозимней выдержки, густой как смола мубигала и черный, как небо без звезд?
— Как не жив? Только для вас и берегу, драгоценный Тэр Цат? Прикажете сразу подать?
— Изволь, принеси кувшинчик рофа на полтора.
Расторопный малый умчался, через пару афусов возвратился со сказанным мирдродом и скрылся вновь, чтобы, как видно, похлопотать на кухне.
К тому времени, как на столе, одно за другим, стали являться изысканные эсбийские кушанья, царевич, не умолкавший и по дороге к «Зеленому рузиаву», успел завершить свой рассказ словами:
— Такова, дорогой Трацар, моя печальная история. Как видишь, я не сумел сберечь двоих верных слуг и обрек на страшную гибель невинное и слабое создание. Зрения при этом себе не вернул и к предназначенной цели ни на шаг не продвинулся. Что мне теперь делать, в отчаяньи даже не знаю!
— Как что? Для начала пособи мне управиться с этими великолепными яствами, а после подумаем вместе, что предпринять.
По прошествии нимеха они завершили трапезу, к которой сверх сказанного прибавили еще четыре блюда, и, потягивая мирдрод, в самом деле оказавшийся славным, закурили свои трубки.
— Не унывай, царевич! — с природной своей беспечностью заговорил Трацар. — Ведь единственная твоя невосполнимая потеря — царевна Шан Цот. Но ее ты уже довольно оплакал в каменном мешке Ог Мирга.
— А как же Кин Лакк? Да и витязь с посохом, где он теперь? Ведь Галагар велик, и всякое могло с ним случиться!
— Сперва о витязе с посохом. Поверь мне, благородный царевич, он жив. И если ты наберешься терпения, я в несколько афусов могу определить, где он теперь пребывает.
— Умоляю тебя, сделай так, если можешь, — и я поклонюсь тебе как могущественному дварту!
Трацар отложил трубку, затем, отогнув большие пальцы своих тонких рук, соединил ладони и плотно приставил их к переносице наподобие перегородки. Но этого царевич, понятно, видеть не мог, равно как и того, что проделывал его новый приятель следом. Он только слышал какое-то невнятное бормотание, из которого не понял ни единого звука и вздрогнул, услыхав внезапное восклицание:
— Ах, дурная моя голова! Ключевое слово забыл. Не то «жедеш», не то «тешеж», а скорее всего ни то, ни другое. Да, верно, и порядок в заклинании перепутал. Ну ничего, я вспомню, обязательно вспомню!
И Трацар расхохотался над самим собой, еще обругав свою голову «дырявым коцкутом» и «прохудившейся черепушкой».
Но царевичу было не до смеха, и он уже без особого воодушевления произнес:
— Я рад уж тому, что славный Нодаль жив, и надеюсь, что рано или поздно, наша встреча случится. Но неужели же честный Дац Дар меня обманул и стрела не поразила Кин Лакка прямо в сердце?
— Что ты, царевич! Нет у тебя оснований сомневаться в правдивости этого доблестного миргальца! Кин Лакк и в самом деле сражен стрелою. Но это вовсе не значит, что он уж тебе не способен служить.
— Ты утверждаешь нечто, не доступное моему разумению, дорогой Трацар! — воскликнул изумленный царевич. — Или Кин Лакк только ранен и ранен не смертельно?
— Мне известно вернее, чем твоему Дац Дару, что последний из племени форлов сражен насмерть. Ну так, и что за беда? — весело отвечал Трацар.
— Довольно! Теперь у меня и вовсе ум за разум зашел. Или ты меня морочишь, или нарочно издеваешься над непоправимой бедою! — в сердцах воскликнул Ур Фта.
— Да нет же, милый царевич! Ты удивлен и растерян лишь оттого, что тебе никогда не приходила в голову одна не очень обычная, но вполне согласная действительности мысль: Кин Лакк — не простой агар.
— Кто же он? Всемогущий дварт? Но ведь и дварты смертны, хотя и не так уязвимы!
— Нет, не дварт.
— Так кто же?!
— Открою тебе великую тайну, царевич! — прошептал, наклонившись, Трацар. — Тайну, не доступную никому из агаров.
— Открой, пожалуй, — недоверчиво молвил Ур Фта. — Да только как же она тебе-то открылась? Или и ты — не простой агар?
— Об этом мы после поговорим. А теперь о Кин Лакке. Его настоящее имя не вылетело даже из этой худой головы, — он постучал себя пальцами по макушке, — благодаря тому, что рифмуется с моим собственным.
— Удивительное совпадение, — со все возрастающим сомнением заметил царевич. — И как же его зовут на самом деле?
— Он — не кто иной, как Дацар, один из воинов Астола!
— Дацар — Трацар… В самом деле созвучно. А что это еще за воины Астола?
— Как? Тебе и это неведомо? Впрочем, ничего удивительного. Ведь горы Ло высоки, и песни с берегов озера Ях редко долетают к айзурским стенам. Знай же, царевич. Когда круглоголовые мериды положили конец жестоким войнам и Великий Восточный Край объединился под легким бременем правления Нотроца Справедливого, единственным военным вождем, отказавшимся ему поклониться, был Астол. Проехав по берегу Зилабилы, он собрал войско из покорных ему итацов, издавна славившихся не только своим гончарным и кузнечным искусством, но и гордым воинственным нравом.
Войско Астола разгромило гарнизон Лифаста и дочиста разграбило этот несказанно прекрасный город. Самому великому Нотроцу пришлось тогда спасаться бегством. Вместе со своим многочисленным семейством он и еще несколько дюжин стариков, женщин и детей по настоянию доблестного коменданта Тафала погрузились в лодки, пересекли озеро Ях и укрылись в Хакоре.
Сюда, повинуясь призыву Нотроца, пришла гавардерия славного города Мера, с гор спустились силины и сарты, еще не разучившиеся орудовать топорами и копьями, и, наконец, вооружились знаменитые скорняки Хакора. В нерушимом единстве, охваченное справедливым гневом, двинулось новое войско Нотроца числом составлявшее не менее восьми грозных дюжин, прямиком на Лифаст. С ходу взяли они штурмом город, действуя согласно лучезарному плану своего государя, выбили из него Астола и погнали его с остатками войска вверх по течению Зилабилы, в самую глубину Бурой чащобы. Много дней продолжалось это неотступное преследование. И только убедившись в том, что Астол со своим поредевшим войском навсегда канул в непроходимых трясинах Золотистого болота, Нотроц повернул своих и возвратился к делам вечного мира.
Но страшной гибелью не исчерпывалось назначенное непримиримым воинам Астола наказание. Доподлинно мне известно, что были они превращены в бесплотных призраков — лутаков. И с тех самых пор, не ведая покоя, каждую ночь под началом своего горделивого командира проносятся они по пути своего последнего отступления, вдоль темного течения Зилабилы и тают в рассветных лучах где-то над Золотистым болотом. Они не могут оставить Галагар до тех пор, пока здесь не прекратятся навсегда братоубийственные войны, пока все земли и племена не объединятся под властью единого доброго и могущественного государя.
— Когда же это произойдет? — спросил Ур Фта, невольно увлекшийся рассказом.
— Когда — даже всесильные дварты могут только догадываться. Но я полагаю, что это случится гораздо скорее, чем они думают. А теперь вернемся к последнему форлу. Сам о том не подозревая, он прожил вторую жизнь в Галагаре, будучи воплощением лутака, и настоящее его имя упоминается в древней величественной «Песни о призрачном войске», которую в Лифасте каждый мальчишка помнит наизусть. Там есть и такие строки:
Не помню, что-то делают… неумолимо твердые Чернявый Кэх, свирепый Нор и Дацар молодой… Чего-то там какие-то… гаварды тонкомордые Рычат и вдаль уносят их неровной чередой.«Каждый мальчишка помнит, а он и здесь ухитрился забыть», — отметил про себя царевич, а вслух спросил:
— Разве возможно, чтобы бесплотный лутак, обремененный тяжелым заклятием, воплотился в агара, после этого погиб, а затем воскрес и продолжил прижизненную службу?
— Погоди, погоди, ты даже меня запутал! — воскликнул Трацар, расхохотался и внезапно опять перешел на шепот: — Прежде всего, нет ничего невозможного даже вопреки тысяче заклятий, если вступают в действие те самые силы, на коих держится любое заклятие. Кроме того, погиб-то Кин Лакк, а лутака убить невозможно. И речь идет не о воскресении форла, а о том, чтобы привязать к тебе, и я могу это сделать, именно Дацара. Впрочем, ты можешь по-прежнему считать и называть его Кин Лакком. Он не обидится.
— Хорошо, — согласился царевич, — но если ты хочешь, чтобы я тебе окончательно поверил, сделай это поскорее, сделай это немедленно!
Трацар ничуть не смутился, но отрицательно покачал головой.
— Здесь и теперь? Ты ведь знаешь, что это действительно невозможно.
Царевич почувствовал, что это правда и что он знал о невозможности выполнения своей просьбы уже в тот лум, когда она сорвалась с его уст. Но почему?
— Но почему? Ты опять запамятовал нужное слово?
— Нет, помню. Помню все хорошо. Только время еще не пришло и обстоятельства, подходящие для успешного свершения этого дела еще не сложились.
— Тогда я не могу тебе верить! — воскликнул царевич. — Кто ты? Зачем рассказываешь мне о чудесах, которые осуществить не в силах? Впрочем, даже если ты объявишь себя всемогущим двартом, я нисколько не удивлюсь! Не удивлюсь и не поверю!
С этими словами он ухватился за коцкут, намереваясь закинуть его на плечо, но Трацар остановил его:
— Постой, благородный царевич. Тебе ведь известно, что я не дварт. И не завидую двартам! Их сила ограничена, их время истекает, их магия исчерпывается дешевыми фокусами по перемещению вещества. Я — частица иного, я служу гораздо более могущественному господину, тому, кто воистину вызвал всех нас из тьмы небытия, тому, кто внимательно следит за каждым шагом, твоим, моим и любого агара, и всех двартов в настоящем и прошлом, и в будущем!
Царевич задохнулся от неожиданно охватившего душу чувства безопасности и легкого, как пена прибоя, восторга. Когда-то он уже испытал нечто подобное, но где и когда это было, вспомнить не чаял. А Трацар, меж тем, продолжал:
— Я понимаю, тебе нелегко принять все сказанное мною на веру. Ты хочешь побыть один, чтобы взвесить каждое слово и принять окончательное решение. Но для этого нам вовсе не нужно расставаться надолго. Побудь еще в этой славной харчевне, а я прогуляюсь немного вдоль пристани и постараюсь припомнить то слово, без которого нам не узнать, где нынче находится Нодаль. Ведь ты не уйдешь без меня и не станешь в мое отсутствие думать обо мне плохо.
И царевич кивнул, уверенный, что так оно и есть, что итог предстоящих раздумий почти уже предрешен и что ни шагу не ступит от теперь без удивительного Трацара. Разве что уволокут его силой.
А Трацар допил свой мирдрод и вышел на пристань невесомыми шагами. В лицо ему дунул настоящий ветер прилива, протяжный, холодный и горький. И он залюбовался огнями факелов, что покачивались, полыхая, на трех кораблях, стоявших у пристани на приколе. Думалось ему о тех увлекательных и опасных приключениях, которые еще доведется пережить, сопровождая слепого царевича. Действительно увлекательных, ибо далеко не все известно ему наперед. Действительно опасных, ибо здесь он оторван от вечной живительной силы Перекрестка Великих Ключей, а значит смертен, простому агару подобно. И еще мечтал он о многом. О чем и о ком, этого тебе при всей твоей проницательности до поры не открыть, тем более что ты никогда не бывал в Галагаре и не стоял подле Трацара на темной пристани Эсбы в тот лум, когда ее огласила веселыми воплями, смехом и пением нахлынувшая неведомо откуда пестрая толпа с факелами, пучками раскрашенных перьев, лент и надутых пузырей. Гудя в расстроенные бьолы, звеня колокольцами и приплясывая, толпа закружила и увлекла за собой Трацара, как речной водоворот.
Не зная, что ему делать, плакать или смеяться, он сперва пробовал отбиться от своевольных весельчаков, но скоро уразумел бесполезность этих попыток. Время от времени приподнимаясь на носки, он разобрал, что толпа продвигается по направлению к Главной площади. Когда же его вместе со всеми вынесло из темного квартала со стороны так называемой Красной Кровли, огромного дома, где обосновался правитель Эсбы, Трацар увидел, что Главная площадь уже полна народу и волнуется как море.
Внезапно раздался внушительный треск — и над площадью, освещая задранные кверху возбужденные лица, вспыхнули и повисли разноцветные грозди потешных огней. В тот же лум толпа вздрогнула и подалась вперед. Вновь приподнявшись на носки, Трацар увидел, как через балюстраду, отгородившую окна в первом этаже Красной Кровли, в толпу один за другим перекатываются крепкие бочонки, каждый нимеха в полтора-два. «Уж верно, в них не речная вода», — подумал Трацар и положил свою легкую руку на плечо какому-то горожанину в помятом колпаке с пучком ярко-синих листьев, чуть не плакавшему от невозможности пробраться к выпивке на дармовщинку.
— Ты ведь объяснишь мне, честной агар, какое событие здесь празднуется нынче, — сказал он ему отчетливо в самое ухо. Горожанин, на лум позабыв о привлекательных бочонках, оглянулся и, сам себе удивляясь, ответил спокойно и ясно:
— Нынче наследник Шан Цвар занял престол в Саркате и в ознаменование столь радостного события повелел во всех крианских городах запалить потешные огни, бесплатно раздавать народу выпивку, всем — петь, плясать и веселиться.
— Послушай-ка, любезный. Знаешь ли ты харчевню «Зеленый рузиав»?
— Как не знать!
— Вижу я, к царевым бочонкам тебе все равно не пробиться, а ведь и пробиться — не значит напиться. Наломают тебе бока, да не нальют ни глотка.
— Ха-ха-ха! Ну и весельчак ты, как я погляжу! И язычок к зубам не липнет!
— Ну и ладно! Возьми вот золотой хардам. А ежели поработаешь хорошенько локтями да проведешь меня сквозь толпу к сказанной харчевне — будет тебе еще один. Вот и получишь, почитай, что даром — и бочонок рабады, и закуску к нему.
— Эх! Да ты держись только за пояс покрепче! — радостно заорал горожанин, сунул блестящий шарик за щеку, надвинул колпак на уши и так заработал локтями, что в три афуса выволок Трацара с площади. А затем кратчайшим путем привел к назначенной цели.
У входа в «Зеленый рузиав», получив обещанный второй хардам, он поклонился Трацару и в ответ на приглашение потратиться здесь же — весело возразил:
— Нет уж, позволь проститься. Здесь чересчур накладно будет, а нам ведомо, где подешевле!
С этим счастливый горожанин удалился, а Трацар вошел в харчевню. Вошел — и не увидел там ни одного посетителя. Только поворотливый малый в лестерцовом переднике протирал тряпицей столы, что-то насвистывая себе под нос.
— А! Это опять вы, почтенный Тэр Цат! Забыли что-нибудь?
— Как же, конечно, забыл! — простодушно воскликнул Трацар. — Забыл за ужин расплатиться. Сколько с меня?
— Э-э, драгоценный Тэр Цат, был бы я последним негодяем — так непременно содрал бы с вас плату за то, что уж с лихвой оплачено. Да только мое заведение и без обмана процветает. А потому честно отвечу: ничего вы мне не должны: ваш приятель опередил вас…
— И что же? Он так вот просто — заплатил и пошел прочь?
— Заплатить — заплатил, чего уж проще! А пошел не сразу, да и не совсем пошел, то есть как бы не совсем своими ногами.
— Ты ведь объяснишь попроще, а то я что-то ничего не пойму.
— Конечно, господин Тэр Цат. Скрывать тут нечего. Не успел ваш приятель отсчитать хардамы по моему скромному намеку, как вот те двое, ну, те, что сидели в противоположном углу, поднесли ему чарку вежества. А я его еще убедил, что по нашему обычаю не только выпить полагается, но и ответную поднести…
— Ну! Отчего же ты замолчал?
— Нет, нет, не молчу, почтенный Тэр Цат! Да как-то неловко все вышло. На какой-нибудь лум я тогда отвернулся. А глянул вновь — и вижу: сильно приятеля вашего развезло. Видать, лишней чарка вежества-то оказалась. Те двое, по всему люди благородные, осторожно взяли его под руки и мне еще говорят: мол, прогуляются с ним по пристани, по ветерку приливному — и допивать вернутся…
— И дальше что?
— Так и не вернулись. Хорошо, я догадался и с них взять, как положено…
Отвечая на расспросы Трацара, хозяин харчевни не оставлял своего занятия и работал тряпкой так тщательно, словно решил отполировать свои столы до зеркального блеска. И вдруг воскликнул:
— Гляньте-ка! А ведь под хмельком-то он и про коцкут свой забыл! Вот он, лежит себе под столом.
Трацар, приблизившись, заглянул под стол и вцепился обеими руками в ремень царевичева коцкута, но без помощи харчевника даже приподнять его не смог.
— Послушай-ка, — без тени тревоги сказал он тогда. — Ты ведь пособишь мне припрятать этот коцкут в каком-нибудь чулане и сохранишь его там, покуда мы с приятелем не явимся.
Нечего говорить, что хозяин «Зеленого рузиава» не стал возражать. И вскоре Трацар опять вышел на пристань, и хотя вышел он на сей раз не просто подышать морским воздухом, на лице его не появилось ни тени, глядел он по-прежнему чисто и бестревожно.
— Ага! Вот, вернее всего, и отгадка! — радостно сказал себе Трацар, приметив, что только два корабля из трех по-прежнему покачиваются у пристани в слабом сереньком свете осенней зари. А углядев на корме одного из них — коренастого агара, дымившего короткой и крепкой, подстать себе, трубкой, он окликнул его, как ни в чем не бывало:
— Эй, любезный! Ты ведь подскажешь мне, что это за судно только что вышло в море!
И услыхал в ответ:
— Отчего не подсказать? Двухмачтовый букталан «Соленая вейра», на Ачеду пошел.
Тут, ни с того, ни с сего, скрылся в волнах Дымного моря и десятый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Одиннадцатый урпран
Пещера, где Нодаль укрылся, следуя за новым посланником своей счастливой судьбы, была пропитана теплой смесью простых ароматов: сырого песка, горьковатого дыма, осенней травы и чиюжего лелода, коего полную тайтлановую плошку сунули витязю под нос, прежде усадив его на примятую кучу сухой соломы. Нодаль, не раздумывая, выпил и ощутил, как по телу его разливается приятный гул успокоения.
Он не в силах был окинуть мысленным взором даже события последних дней; ему в тот лум вообще показалось невозможным делом — думать, припоминать, выбирать и решаться. Казалось, будто жизнь только что началась, будто лежит он в загадочной корзине с опилками на сарфоском базаре — и от теплого материнского лелода у него слиплись глаза, уши перестали слышать и звук в горле растаял. Сморило его богатырским сном, а сколько проспал он — день или нимех — неведомо.
Пробудившись, Нодаль сел, спиною почувствовал стену и в тревоге вытянул руки прямо перед собой. И тут же в руках у него оказалась давешняя плошка.
«Кормят, словно птенца», — с досадой подумал он и не спеша, по глотку выпил густую живительную влагу. Затем решил, что пора поближе узнать своего спасителя, с благодарностью прижал руку к груди, поклонился, протянул во тьму пустую плошку и стремительным броском поймал за щуплые плечи того, кто беспечно принял ее назад.
Легко приподняв и притянув к себе невесомое, как ему показалось, дрожащее тельце, Нодаль ощупью обнаружил над худыми плечами большую плешивую голову и оттопыренные уши. Не растерявший на Черных Копях своего быстроумия, он сразу смекнул, что перед ним мальчишка зим тринадцати от роду и от души пожалел беднягу: вся голова ото лба до затылка была у него покрыта сухими коростами, которые трудно было с чем-нибудь спутать — так метила оставшихся в живых жестокая игва.
Плешивый мальчишка исправно заботился о Нодале. Неведомо откуда, он раздобыл для него одежду: штаны, длиннополый чивек и плащ из грубой лестерцовой ткани. Все не по росту, но чистое и крепкое. Он натаскал и согрел достаточно воды, чтобы витязь мог омыть свое тело, без труда избавившись от жалких черных лохмотьев и не без труда — от обруча с цепью. И самое главное — не забывал о пище, простой, но сытной и прямо целебной. Нодалю и прежде доводилось испытывать на себе замечательные свойства чиюжего лелода, а ведь теперь он поглощал вдобавок то сладковатые клубни дикого реллихирда, то сушеную ломтями горную циуру.
Но по мере того, как силы его и здоровье прибывали, славный витязь, лишенный своего посоха, все глубже погружался в бездну тоски и растерянности. Все яснее рисовалась пред ним безвыходность положения, в котором он оказался. Все больше раздражало вынужденное прозябание в странном убежище, а упорство, с которым прислуживал ему его непрошеный спаситель, поддерживало в душе горестное изумление.
«Зачем он не бросит меня? — думалось Нодалю. — Зачем ухаживает за мною как за родным братом? Зачем он вообще приволок меня сюда, вырвав из когтей кронгов?»
«А как же перстень?» — придет тебе на ум. Но ты об этом узнаешь только теперь, а Нодаль в первый же день пребывания в пещере, ощупав пальцы обеих ног, обнаружил пропажу царевичева перстня. Так что полагать, будто он опять встретил верного айзурскому престолу цлиянина, у него не было никаких оснований. Да и сама по себе такая встреча, согласись, хоть ты и не бывал в Галагаре, была бы удивительна в этих местах!
И вот однажды Нодаль, потерявший счет времени и отчаявшийся найти ответ на вопрос, что ему делать, лежал на своем месте, повернувшись к холодной стене лицом и упираясь в нее ладонями. Он пытался воскресить в памяти какое-нибудь из своих многочисленных чудесных приключений, но мысль о тупике, в котором он очутился, отгоняла воспоминания и жгла его сердце без перерыва и пощады.
И тут он вздрогнул и, потрясенный, долго не мог сосредоточиться. А в тот лум ему это было необходимо, ибо плешивый мальчишка, то есть наверно он — больше-то некому, принялся водить пальцем по его богатырской спине, вычерчивая какие-то знаки. Наконец, Нодаль успокоился и понял, что это было. Понял так, словно на спине его писали раскаленным угольком: листва! Букву за буквой его неведомый друг старательно чертил всего лишь два слова, легонько ударял кулачком вместо вопросительного знака и повторял все сначала. Так что получалась длинная отчаянная вереница:
— Кто ты? Кто ты? Кто ты?..
Нодаль резко повернулся и сел, вероятно, испугав мальчишку, отскочившего во внешнюю тьму. Затем он, склонившись, разгладил перед собой влажный песок и задумался. Что было ему отвечать? Кто он на самом-то деле? Витязь с посохом, но без посоха? Любовник, искуснейший в Галагаре, но беспомощный, как младенец? Верный слуга цлиянского царевича, но царевича мертвого? В три лума отбросив сколько-то пришедших на ум ответов как неподходящих по той либо иной причине, он быстро начертал на песке указательным пальцем:
— Жертва злых чар по имени Нодаль.
Мальчишка без промедления воспользовался его спиной:
— Да. Понял.
А Нодаль в свой черед спросил:
— Кто ты?
— Вац Ниул из Тахара, — был ответ. И удивительные «переговоры» спины и песка продолжались. Нодаль ставил вопрос за вопросом и всякий раз получал краткий и точный ответ. Его переполнял восторг. Он чувствовал, как восстанавливаются опоры, казалось, потерянные навсегда, как разрастается и крепнет связь, протянувшаяся в другую живую душу, в Галагар, в небо над головой и в землю под ногами, в явь. И сокровенное желание, в котором он не решался признаться даже самому себе, вырвалось в беглую надпись:
— Я должен уйти отсюда!
— Куда? — вопросила спина, и Нодаль словно бы опять лицом угодил в холодную стену тупика.
В мыслях своих он давно уже перебрал все возможные ответы на этот вопрос. И первым из того, что он взвесил, а взвесив — отбросил, было продолжение пути к подножию айзурского престола. Правду ему сказал Ра Он о гибели царевича и Кин Лакка или обморочил ложью — все едино: ему теперь неизвестно, что произошло в Галагаре за то время, пока он надрывался на Черных Копях. Принести Син Уру известие о смерти царевича он почитал бы своим горестным долгом, и в том никакие чары не помешали бы ему. Но разве он может вполне полагаться на слова чернородного дварта? И что, если царевич жив? Что, если он нуждается в помощи? Но какую помощь способен ему теперь оказать Нодаль, слепой и глухой?
Нет, как бы там ни было, в одном проклятый Ра Он прав: теперь славному витязю предстоит позаботиться о самом себе. Давно уж он уразумел, что слова, заключенные в его чудесной саоре, раскрывают тайну его же собственной судьбы. И то, что талисман пропал, Нодалю большой бедой не мнилось. Он по-прежнему держал в памяти и частенько повторял про себя:
«Речи вернет себе дар Вместе со звуками слуху, Если возлюбит агар И поцелует старуху. В зрение дверь отворит Взявший невинность крианки, Если глаза окропит Кровью из девичьей ранки».Но где же ему теперь отыскать старуху, способную разжечь страсть в его груди? Ведь Нодаль хорошо понимал, что даже если он перецелует всех старух в Галагаре, толку от этого не будет: саора ясно требовала прежде любви, а уж потом поцелуя.
Еще хуже выходило с невинной крианкой. Здесь пути к спасению отрезал ненавистный шаншарт, а единственная крианская девственница, о которой ему было ведомо, уже принесена в жертву царевичу, и притом безо всякой пользы.
Вот оттого-то и вздрогнул он, будто уткнулся в стену, когда разобрал у себя на спине это неразрешимое «куда?», и сам удивился тому, что именно вывел в тот же лум на песке перед собою. Это было то слово, которое он горячо шептал про себя, еще будучи шести зим от роду, когда за полночь продирался сквозь чащу Асфорского леса, чудом выбравшись из тинтедной ямы:
— Домой.
— Где твой дом? — сразу же вопросила спина.
— Сарфо, — ответил песок.
— Хорошо, завтра идем в Сарфо, — разобрал Нодаль и в порыве благодарности заключил плешивого мальчишку в объятья.
Утром следующего дня выступили в поход. Нодаль следовал позади с огромным мешком провизии, а впереди шел его поводырь, связавший себя с витязем ременным жгутом, таким прочным, что мог выдержать любую тяжесть и даже матерому цери не под силу было бы разгрызть его своими каменными зубами. На такой же привязи тащил он за собой вместе с Нодалем трехлетнюю дойную чиюгу, этот неиссякаемый запас целебного и сытного лелода.
Нодалю ведомо было, где они находятся и какой трудный путь им предстоит: сначала они спустятся с Галузских гор и, миновав редколесье предгорья, должны будут переправиться через полноводную Зиару, затем придется пройти Хабрейский лес, пересечь обширные степи западнее Зима и выйти к океанскому побережью, где стоит веселый и шумный Набир. А уж из Набира до Сарфо по прямой дороге останется не больше трехсот аэталов.
Но славный витязь не сомневался в том, что путь этот должен быть пройден, и только дивился преданности своего спасителя, без колебаний ответившего согласием на его просьбу. Теперь, благодаря спине и песку, он кое-что знал и о нем. Вац Ниулу от роду было четырнадцать зим. Десять из них он прожил с отшельником-неклотом по имени Дах Цаб в пещере возле Долины Кронгов. Сперва Дах Цаб вырастил и обучил листве и иным премудростям сироту Вац Ниула, а потом Вац Ниул ухаживал за смертельно больным стариком Дах Цабом и похоронил его подле пещеры, согласно одному из лапсагов, добровольно принимаемых неклотами. Какой случай соединил их под сводами пещеры в том месте, куда и на выстрел боялись приближаться жители Тахара, Вац Ниулу самому было неведомо, но он не сетовал на судьбу и неизменно добавлял к имени своего покойного наставника слова «почтенный» или «светлоумный».
В конце первого дня они спустились к подножию гор и остановились на ночлег, когда им стали попадаться первые деревья. И вновь листва помогла им объясниться; только теперь, поскольку песка под рукой не оказалось, Нодаль, как и его спутник, чертил свои слова прямо у того на спине.
По просьбе витязя Вац Ниул подвел его к вековой айоле и протянул свое единственное оружие — небольшой нож с широким, неумело заточенным лезвием. Нодаль попробовал лезвие пальцем и с невольной улыбкой вернул нож владельцу. Затем он смело вскарабкался на нижние ветви дерева и, ощупав их основания, выбрал из них наиболее подходящую по толщине. Крепко обхватив ствол и уцепившись за ветви повыше, он согнул в колене правую ногу и резко выпрямил, направляя стопу в основание избранной ветки. Вековая айола даже не пошатнулась, но ветка, по которой пришелся удар богатырской ноги, упала на землю, словно срезанная железной пилой.
Вслед за нею спустился Нодаль, в считанные афусы очистил толстую ветку от мягких иголок и хрупких сучков, обломил, отмерив необходимую длину, тонкий конец и таким образом изготовил увесистую айоловую дубину.
Жестом показав Вац Ниулу, чтобы тот удалился на безопасное расстояние, славный витязь с наслаждением начал жонглировать вновь изготовленным оружием. Дубина в его руках вращалась и порхала, как леверка над цветком, все легче, все быстрее — и в какой-то лум Вац Ниул, с восхищением наблюдавший за этим богатырским развлечением, ахнул, отступив на шаг, запнулся за колючий кустик лаплаха и повалился навзничь. Такого ему никогда прежде видеть не приходилось: Нодаль вовсе исчез на четверть лума, а на его месте явился сплошной темный шар, образованный вращающейся дубиной.
Но когда Вац Ниул вскочил на ноги, все уже кончилось, и перед ним стоял улыбающийся витязь, довольный тем, что теперь он снова, хотя и с оговорками, заслуживает наименования «витязь с посохом».
Ночь миновала без всяких происшествий. А наутро, перекусив и раскидав костер, они вступили в редколесье предгорья, вновь привязанные друг к другу ременным жгутом. Если бы Нодаль мог видеть, он был бы восхищен открывшейся перед ними картиной. То была долина среброствольных густолиственных габалей. В сухом прозрачном воздухе, в лучах щедрого солнца их багровые кроны колыхались и сверкали, словно громадные костры, зажженные царственной рукой повсюду, куда бы ни кинул ты взор. Если бы Нодаль мог слышать, он был бы околдован подножным шуршанием невесомого красного золота, звоном и треском, и скрипом блестящих стволов, всеми звуками осеннего Галагара. Но из двоих спутников только Вац Ниулу внятны были эти красоты, и только он уже на закате приметил впереди широкие и спокойные в этих краях воды Зиары. А приметив — поежился: место было не слишком-то удобным для переправы.
После непродолжительного объяснения на берегу возле костра оба уснули, сойдясь на том, что завтра с рассветом им предстоит потрудиться и соорудить для переправы плот.
Пробудившись, каждый принялся за свое: витязь тем же способом, что и для дубины, ломал ветки и очищал их от сучьев, а его маленький спутник, вооружившись своим ножом, готовил габалевое лыко, обдирая с деревьев помоложе кору и длинными тонкими полосками — подкорье.
Работа стремительно продвигалась, и к полудню они изладили плот, одному на вид, а другому наощупь казавшийся достаточно прочным и вполне годящимся для переправы. Наконец, приготовив нечто вроде шестов из высоких и тонких молодых габалей, они решили попробовать свое сооружение на плаву. Оттолкнувшись от берега, Вац Ниул сделал круг по небольшой заводи, орудуя шестом, и благополучно вернулся обратно к берегу. Здесь он черкнул на богатырской спине короткое «Давай!» Затем они погрузили на плот провизию, завели и привязали упирающуюся чиюгу и пустились в плавание к противоположному берегу.
Все шло благополучно. Только на середине реки пришлось недолго побороться с давшим о себе знать течением. Нечего и говорить, что для славного витязя, навалившегося на шест, это не составило великого труда. Но как только они перевалили через плавную стрежь, Нодаль ощутил спиной торопливые прикосновения и ему невольно подумалось, уж не прозрел ли он в самом деле — так явственно он представил себе то, что Вац Ниулу в сей лум пришлось увидеть своими глазами.
Водную гладь рассекал, оставляя за собой пенный след и прямиком направляясь к плоту, высокий черный перепончатый гребень. И имя этому было — цурбон. «Цурбон!» — вспыхнуло у Нодаля на спине, и в тот же лум он ощутил мощный удар, обрушившийся на плот из воды, спереди, снизу. Славный витязь едва успел выпустить шест, вцепиться в свою дубину, лежавшую у него в ногах, как тут же повалился навзничь. Он ударился затылком и уразумел, что погружается в воду.
Вода об эту пору, конечно, была похолоднее свежего лелода, но витязю с посохом, некогда искупавшемуся в ущелье Ледяного Потока, холод был нипочем. И он, барахтаясь в реке, мычал и фыркал, не выпуская дубины да упорствуя в мыслях: «Эка невидаль, цурбон! Еще повоюем, еще поглядим!»
Знал бы Нодаль, каково было теперь царевичу Ур Фте — а тому тоже приходилось несладко — он сопротивлялся бы смерти еще бодрей и решительней. Но ему не было ведомо ни о бедах царевича, ни даже о том, жив наследник цлиянского престола или гниет его тело глубоко под землей, лишенное доброго клуза.
* * *
Букталан «Соленая вейра», на борту которого очнулся царевич, был довольно внушительным кораблем около тридцати двух керпитов в длину и четырех — в ширину. Имел он двадцать девять пар лавок, и с каждым веслом длиной не менее девяти керпитов управлялись семеро несчастных. Всего на букталане было триста девяносто девять гребцов. И работали они почти без отдыха, ибо два больших паруса использовались редко: в Дымном и Зеленом морях погода чаще всего была безветренной.
На сей же раз «Соленая вейра» и вовсе вышла в море с неполным экипажем. Так что и ставить-то паруса было некому. Зато на борту удалось чуть ли не вдвое больше обычного разместить ценного груза — тюков с эсбийским трубочным саркаром. Хозяин корабля очень радовался этой своей выдумке так же, как и тому, что на веслах у него, кроме прочих, сидели сотни полторы четырехруких невольников. Они, понятно, были выносливее остальных, ибо могли менять руки или грести всеми четырьмя, и ценились на вес золота среди эсбийских корабельщиков.
Любой чужеземец, очутившийся в кабаке или ином веселом заведении Эсбы без сопровождения, рисковал попасться в лапы слугам одного из крупных корабельщиков. Эти ловкачи нарочно посещали такие места под видом добропорядочных горожан и были готовы опоить любого встречного молодца, чтобы за приличную мзду притащить его на хозяйский букталан. Нечего удивляться, что в «Синем рузиаве» им приглянулся могучий молодой незнакомец о четырех руках, да еще и слепой к тому же.
Так царевич Ур Фта и оказался на «Соленой вейре». Когда он пришел в себя, обнаружилось, что ноги его прикованы цепью к дощатой лавке, руки лежат на какой-то палке, беспрерывно то надвигающейся на него, то низом уходящей вперед, и вся одежда с него сорвана, так что он наг, будто неоперившийся птенец.
— Эй, честные агары, — произнес Ур Фта по-криански, не без труда ворочая языком, — не скажет ли кто, где это я нахожусь?
Вместо ответа ему на голову откуда-то сверху выплеснули добрый нимех холодной и горькой морской воды. Сразу за этим последовало новое отрезвляющее действие: царевичу обожгло плечи коротким хлестким ударом. И он услышал отвратный пронзительный голос, приказавший ему:
— Держи весло, мразь! И работай как следует, а не то — в мездлу исполосую!
Только теперь царевич ощутил легкую качку и в один лум уразумел, где он находится. Букталан-бади! Невольники весел! Думал ли он, что когда-нибудь на себе придется испытать их страшную судьбу! Еще два или три удара плетью — и Ур Фта навалился на весло, изо всех сил пособляя его движению.
К концу первого дня он уже испытал все, что ему было теперь уготовано на неведомый срок. На ногах и руках образовались кровавые мозоли, разъедаемые солью и грозившие превратиться в незаживающие язвы. Скудная пища, которой поддерживались силы гребцов, состояла из сухих горьковатых лепешек с примесью соломы, тошнотворной похлебки из черного кюра и нескольких глотков затхлой воды. Недолгая передышка, во время которой Ур Фта попытался уснуть, не принесла облегчения. Сон его больше походил на кошмарное забытье. И не успел он в него погрузиться, скорчившись под лавкой, как плетка возвестила его спине начало нового дня и продолжение кошмара наяву.
Так минуло несколько дней, и царевич, воспитанный в привычке к лишениям и крайнему напряжению сил, не только не сломился, но еще окреп и приспособился, насколько это было возможно, к новому бедствию своему. Дружный размеренный рев гребцов, который поначалу только терзал его слух и усугублял мучения, теперь сделался понятным царевичу, и он сам подключался к нему, облегчая тем самым работу. Он приноровился так обращаться с веслом, чтобы уменьшить затраты сил и болезненные ощущения. Ладони его огрубели, мышцы превратились в закаленные стальные куски; плетью ему доставалось все меньше, и рубцы на спине стали затягиваться.
Далеко не всем его товарищам по несчастью удавалось так стойко держаться, и за несколько дней многие из них, изможденные непосильным трудом и забитые плетьми, нашли свое последнее убежище в морских глубинах. На смену погибшим приходили новые гребцы, которые до поры томились в трюме, с ужасом ожидая своего рокового нимеха.
Страшная участь постигла и того, кто был на весле справа от царевича. Его выволокли в проход, и, насмерть забив плетьми, швырнули за борт окровавленные останки.
С самого начала все попытки Ур Фты заговорить с этим беднягой, равно как и с другим соседом, ни к чему не привели. Царевич решил, что ни тому, ни другому просто не понятны языки, на которых он к ним обращается, и оставил это безнадежное дело.
Каково же было его удивление, когда тот, которого привели на рассвете и приковали к лавке справа, на место погибшего, сам обратился к нему вполголоса:
— Здравствуй, царевич! Извини, что явился не сразу — все память моя дырявая подводит!
— Трацар, ты? Как же ты здесь оказался? — воскликнул Ур Фта, не зная, ужасаться ему или радоваться нежданной встрече.
— Ведь не мог же я бросить тебя в беде. И к тому же, разговор наш еще не окончен. Какое решение ты принял? Хотелось бы знать…
— Да ведь тебе же известно, что я поверил каждому твоему слову, — сказал царевич, в точности подражая трацарову тону. — Так что и говорить теперь остается только о том, как поскорее вырваться отсюда!
— Повелевай, царевич! Разорвать эти жалкие узы для меня вовсе не затруднительно, хоть в четверть лума на всем букталане!
— За работу, скоты! Не болтать! — раздался пронзительный голос. В тот же лум Трацар охнул, получив плетью по плечам, и поневоле изо всех сил навалился на весло, подражая царевичу. Да только силы его были настолько ничтожны, что он просто-напросто повис на своем участке, не только не помогая, но и всей тяжестью мешая работе семерки.
— Откуда вытащили такую дохлятину? — раздраженно проорали в проходе и вновь огрели Трацара плетью.
— Порви! Немедленно порви все цепи! — закричал царевич, опасаясь, что его друг потеряет сознание и не сумеет произвести нужного действия. — Скорее! Все цепи на букталане!
Сползая под лавку, Трацар получил еще один удар, который пришелся по голове, и едва слышно пробормотал какие-то заклинания. На удивление царевичу, не говоря уж об остальных гребцах, чудо свершилось. В следующий лум Ур Фта выпрямился, размахивая цепью над головой, и возопил страшным голосом:
— Свободны! Бейте цепями…
Голос царевича утонул в реве, куда менее дружном, но куда более жутком, чем при гребле. Этот рев, нарастая и быстро охватив весь букталан, слился со звоном, свистом, треском и топотом ног. В считанные афусы с притеснителями было покончено: с них содрали одежду, а истерзанные тела побросали за борт. И вот уже какие-то ловкачи выкатили на палубу одну за другой три бочки с крепким питьем. Другие на камбузе раздирали руками и зубами жирную солонину. Всюду царило оживление, раздавались веселые и залихватские крики.
— Эй, царевич! — воскликнул откуда-то вынырнувший Трацар. — Надо что-то предпринять, и как можно скорее, иначе эти безумцы погубят себя вместе с кораблем.
— Что ты там говоришь? О какой гибели? — удивился Ур Фта, подобно всем остальным слегка опьяневший от свободных движений и даже навалившийся на мачту, чтобы не упасть.
— Начинается отлив, и если в ближайшие полнимеха не усадить гребцов обратно на весла, корабль унесет в Бездвижный Океан! И должен тебе еще сказать: в пространстве и времени отлива мои заклинания не имеют силы.
Очень скоро царевич убедился на собственном опыте в том, как верна древняя галагарская мудрость: «Чтобы дать волю птице — достанет и четверти лума, чтобы поймать ее снова — может не хватить и целой жизни». Сколько он ни взывал к разумению освобожденных невольников, как ни уговаривал, чем ни запугивал, — ему не удалось добиться ровно ничего. Никто не желал внимать его голосу, кое-кто грубо предлагал заткнуться, а иные протягивали ему кружку с хмельным или кусок солонины: не в силах разделить его тревогу, эти бесшабашные головы хотели с ним поделиться своим весельем на краю пропасти.
Не в полнимеха, не в нимех, а только через добрых полтора кое-кому из тех, что еще не напились и не наелись до полного забытья, открылась страшная истина. Корабль с мятежным экипажем на борту со все возрастающей скоростью уносился по волнам отлива в Пустой Бездвижный Океан, в те бесконечные воды, куда веками с незапамятных времен уплывали в своих клузах галагарские мертвецы. С детства любой агар укреплялся в том, что нет ничего на свете страшней и безвыходней Океана Мертвых. Самыми кошмарными, пробирающими ледяным ужасом до костей историями из всех, что рассказывались в Галагаре, были истории о моряках, унесенных отливом. Никто не согласился бы оказаться на их месте, и любой предпочел бы самую лютую смерть такому погребению заживо.
Ур Фта сидел, прислонившись к фальшборту спиной, и молчал. Он сделал все возможное и знал, что теперь уже поздно что-либо предпринимать. Он даже не пошевелился, когда Трацар сообщил ему о том, что среди бывших невольников наконец-то нашлись дюжины полторы-две наиболее трезвых голов — они теперь спешно приводят в чувство остальных, усаживают их на весла и пытаются развернуть корабль. Ур Фта знал: ничто не поможет, ведь прошло уже с четверть нимеха после того лума, как Трацар дал ему знать о том, что берег больше не виден. И ему, и Трацару было ясно, чем все это кончится. Корабль оказался во власти силы, не допускающей чудес.
Вскоре протрезвели все до единого и, уразумев происходящее, дружно навалились на весла в последней попытке выгрести против отлива. А когда эта попытка обернулась неудачей, на палубе букталана опять вспыхнуло настоящее безумие. Многие сгрудились вокруг лодок. Их было всего две, и вряд ли у оказавшихся в лодке появились бы преимущества по сравнению с теми, кто оставался на корабле. Но так или иначе, обе лодки были спущены на воду. Причем одна из них пошла криво, нырнула носом вниз и зачерпнула изрядное количество воды. Вторую опустили ровнее, но от этого она продержалась на поверхности всего лишь немногим дольше и так же, как первая, ушла под воду, не выдержав тяжести прыгавших с корабля агаров.
— Трацар, что делать?! — не выдержав, закричал Ур Фта и вскочил, уцепившись за фальшборт. Он готов был, подобно всем остальным, прыгнуть за борт — только бы оборвать это ужасное чувство подвластности неодолимому течению отлива, которое несет его вместе со всеми и всем, что есть, что было вокруг, несет и уносит навсегда в неизвестность, леденящую и подавляющую душу непроницаемой глыбой. Все свое безудержное желание избавиться от жуткого чувства вложил царевич в этот вопрошающий из пучин безнадежности крик:
— Трацар, Трацар, что делать?!
— Ждать, — спокойно и даже весело, как всегда, ответил Трацар и легонько сжал царевичу руку. — Ведь не боишься же ты Пустого Океана…
И царевич молниеносно уразумел: да, он не боится, и стыдно было бы ему, цлиянскому воину, наследнику Великого Белобрового Син Ура бояться чего бы то ни было, да еще и выказывать на агарах свой страх.
— Конечно же нет! — сразу нашелся он, что сказать. — Воин Цли не страшится ни агара, ни зверя, ни птицы. Никого ни во тьме, ни в тумане! Ничего ни в волнах бурного моря, ни на вершинах обрывистых гор! Я просто спросил тебя, что нам следует делать. Быть может, остановить этих несчастных?
— Вряд ли мы сможем их остановить. Да ведь я уж тебе сказал: теперь самое благоразумное — ждать.
— Хорошо, станем ждать, — молвил царевич с достоинством и вновь уселся у фальшборта, запахнувшись в кусок парусины, где-то раздобытый для него Трацаром.
Вскоре на корабле, кроме них двоих, никого не осталось. Волны вздымались все выше и мчали многотормную громаду букталана, как горный ручей — мертвую леверку. Нимех, другой — ни царевич, ни Трацар не вымолвили ни слова. Казалось, оба они равно безразличны к тому, что ждет впереди, а мужество и терпение их, пока продолжается жизнь, беспредельны. Но если один из них — нетрудно догадаться, кто именно — с самого начала принимал опасность с готовностью и весельем, смаковал ее, словно мирдрод стозимней выдержки, то другому было не до веселья: страх поднимался в нем, как вода в половодье, а он стискивал зубы и ставил плотину где-то на уровне горла, и так много раз — покуда страх не отступил окончательно.
И вдруг Трацар воскликнул:
— Эй, царевич! Кажется, ветер подул, правда — вот жалость — попутный. А все же поставить бы нам хоть один парус! Быть может, удастся тогда развернуться и двигаться поперек отлива.
— Ну что ж, можно попробовать, — сказал царевич ровно и твердо, ибо уже одолел свой страх.
— Только, видишь ли, это придется делать тебе, — ничуть не смущаясь, предупредил Трацар. — У меня просто сил не хватит, чтобы взобраться по мачте. А если и хватит, на рее я и лума не удержусь: чуть качнет — полечу вниз и о палубу в лепешку.
— Хорошо, я сделаю все. Только ты объясни, что от меня требуется. Я ведь с большими кораблями прежде никогда не встречался.
— Да, да, объясню, конечно, — тут Трацар подвел его к мачте, причем оба с трудом удерживались на ногах из-за усилившейся качки. — Вот мачта. Ты должен взобраться вдоль нее по этой веревочной лестнице на высоту порядка дюжины керпитов. Там наверху — большая перекладина — рея, к которой прикреплен парус. Для того, чтобы он развернулся, тебе надо проползти по ней, перерезая веревки, удерживающие свернутый парус, сначала от мачты в один конец до флажка, затем вернуться и ползти в противоположный конец до каната, которым крепится самая рея. Ну, и потом, конечно же, опять к мачте и вниз — по той же лестнице. Сможешь?
— Не знаю, — откровенно сказал царевич, но голос его не дрогнул. — Чем веревки перерезать?
— Вот, держи.
И Трацар протянул ему короткий нож с костяной ручкой, острый, как лист видраба. Он подобрал его на палубе еще во время первого приступа безумия, охватившего несчастный букталан.
— И еще одно: в скольких местах удерживается свернутый парус?
— Точно не скажу, не вижу отсюда. Но раз двадцать тебе придется ножом поработать.
Ур Фта кивнул, скинул парусину с плеч и довольно ловко вскарабкался до самой реи. Трацар невольно залюбовался этим мускулистым четырехруким гигантом, чье обнаженное тело сверкало в лучах высокого солнца, будто высеченное из белоснежного мабра. Он даже на лум забыл о смертельной угрозе, нависшей теперь над царевичем.
Между тем, оказавшись вверху, тот сразу почувствовал, за какую нелегкую и опасную взялся задачу. Ему казалось, что он повис на травинке, колеблемой предгрозовым ветром. Он даже взял нож в зубы, чтобы все руки были свободны, и медленно-медленно, в крайнем напряжении сил начал свое движение по перекладине. Трацар замер, следя за ним сверкающими глазами, то и дело задерживая дыхание от волнения и восторга.
Не раз и не два царевич побывал на краю гибели, срываясь, повисая над бездной и вновь подтягиваясь на руках, прежде чем достиг, наконец, флажка. И только тогда, развернувшись, он пустил в ход нож и начал обратный путь, еще более тяжкий и долгий.
Довольно толстая просмоленная веревка поддавалась не сразу, нож оказался никудышным и быстро притупился. Мачта со скрипом кренилась то в одну, то в другую сторону, а вместе с ней и проклятая рея, вперед? назад, вперед? назад. Царевичу казалось, что она — одушевленное существо и прилагает все силы, чтобы сбросить его вниз. Он цеплялся за нее ногами, руками и несколько раз даже зубами, медленно, непреклонно продвигаясь к мачте и перерезая одну за другой петли, державшие свернутый парус. Наконец, он неожиданно для себя обнаружил, что полдела сделано, и решил немного передохнуть, оседлав перекрестие мачты и реи.
В тот же лум ушей его достиг возбужденный и радостный голос Трацара:
— Земля, царевич! Нас несет на какую-то землю!
И больше ты о них ничего не узнаешь из одиннадцатого урпрана книги «Кровь и свет Галагара».
Двенадцатый урпран
Вдоволь хлебнув речной воды, свалившийся с плота Нодаль хотел было плыть — и вдруг задел ногами дно. Когда он выпрямился во весь рост, оказалось, что вода здесь едва доходит ему до пояса. В тот же лум он почувствовал, как Вац Ниул сзади прыгнул к нему на закорки и весьма неучтиво потянул славного витязя за правое ухо. Быстроумный Нодаль сразу смекнул, что мальчишка управляет им, как гавардом в поводу, и безропотно повиновался. А что ему оставалось делать?
Через несколько афусов подгоняемый Вац Ниулом, он вылетел на берег, последние керпиты преодолев бегом по колено в воде. Им здорово повезло: как раз в том месте, где цурбон атаковал их плот, начиналась протянувшаяся до самого берега отмель, покрытая крупной галькой. Повезло и в другом отношении: цурбону вперед подвернулась несчастная чиюга. Вцепившись в нее, речное чудовище ушло в глубину, оставив на поверхности быстро растаявший кровавый след. А тем временем Нодаль, оседланный Вац Ниулом, уже шагал по отмели, опираясь на свою дубину.
Очутившись на берегу, славный витязь сразу же скинул с себя всю одежду, снял с шеи мешочек с кресалом (счастливая предусмотрительность опытного бродяги) и знаками показал своему товарищу, что надо развести огонь. Они находились на краю Хабрейского леса, где не было недостатка в хворосте, и вскоре пред ними заполыхал хороший костер. Вац Ниул последовал примеру Нодаля, чтобы просушить одежду и скорее согреться, но видно согреться никак не мог. Во всяком случае, когда Нодаль взял его за плечо и повернул к себе спиной, желая «поговорить», бедняга дрожал как габалевый лист.
— Хороший был цурбон? — вывел славный витязь на худенькой спине своего съежившегося спутника.
— Зубы — с палец, — зябко начертил он в ответ.
— Нам повезло, — заметил Нодаль.
— Да. Чиюгу жалко.
— И мешок.
— Да.
— Что будем есть?
— Лес накормит.
— Заночуем здесь?
— Здесь.
— На рассвете — в путь?
— На рассвете.
Вац Ниул все не переставал трястись, и «разговор» как-то не клеился. Лишь когда высохла одежда и оба смогли прикрыть наготу, дрожь его мало-помалу унялась. Поужинав печеными на углях золотистыми крупными гасалабами, собранными Вац Ниулом неподалеку, они устроились на ночлег прямо возле костра. Перед сном Нодалю вновь захотелось «поболтать», и он долго старательно описывал на спине у сладко спящего Вац Ниула лавку своего приятеля в одном из торговых кварталов Сарфо. Связки ароматного лиглона, свисающие с потолочных балок; ларь, наполненный зернами жерфа; сушеные кружочками желтые фьулты; овальные окна, золотистый свет, чистые лестерцовые половики повсюду…
Много — не скажу тебе в точности, сколько — дней спустя, пройдя через темный Хабрейский лес, миновав необъятные степи, желтыми тропами, белыми тропами, берегом Океана, пробравшись сквозь каменную паутину Набира и заросли сабирника на берегу извилистого Сара, ступим вслед за Нодалем и его маленьким спутником на знаменитый Сарфоский мост, чья крутая брабидная дуга, перекинувшись через реку, склоняется к самым городским воротам.
На мосту некогда начиналась торговля, коей славился окрест веселый Сарфо. Нет, конечно, солидные продавцы поджидали покупателей в городе возле своих лавок. А здесь шумно толпились вдоль высоких каменных перил разные мелкие сошки: продавцы певчих птиц с гроздьями плетеных клеток, наполненных щебетом, треском и свистом; менялы, бойко считавшие олы в своих деревянных лотках; укротители стриклей и огнеглотатели; непременный акробат, кувыркавшийся на перилах в самом высоком месте и обиравший зевак, жаждущих поглазеть, как он прыгнет отсюда в реку…
Но так было в прежние времена, а теперь, когда Нодаль и Вац Ниул шагали по мосту в Сарфо, им не встретилось почти ни одной живой души. Только крестьянин какой-то с узелком на палке обогнал на подъеме, да у самых ворот промчался мимо всадник на черном гаварде, едва не сбив их с ног.
Нодалю было известно, что в родных его местах хозяйничают криане, но, верно, и он изумился бы картине полусмерти, открывавшейся при въезде в тсаарнскую столицу имеющему глаза и уши.
Ведь именно в те худые времена неведомый бродячий певец сложил печальную песню:
Ослепительно красивый, Многоокий, многоустый, Город тысячи желаний, Исполняющихся вмиг, Отчего молчишь в тумане И в глазницах окон пусто? Кто со злобою глумливой К очагам твоим проник?Ну, и так далее. А между тем, славный витязь и его спутник побрели по главной улице и вышли на базарную площадь. И здесь обычного оживления и шума — как не бывало. Но торговля шла помалу и на площади, и в прилегающих домах. Вац Ниул, следуя точным указаниям, отыскал одну, другую, третью лавку, некогда принадлежавшие добрым друзьям Нодаля. Однако ни в одной, ни в другой, ни в третьей никто не встретил их с распростертыми объятьями. Повсюду копошились незнакомые агары и слышна была только крианская речь. Отовсюду их гнали, по истрепанной бедной одежде принимая за нищих бродяг.
Наконец, оставив бесполезные поиски, они присели на каменную скамью посреди худосочного базара и обменялись несколькими словами о том, как хорошо было бы согреться, умыться и подкрепиться. Кто бы мог подумать, что родной город окажется настолько чужим и всего этого им не получить, кроме как за плату.
Поневоле вспомнил славный витязь свое детство, когда босоногим и вечно голодным мальчишкой бегал он по этому самому базару и ухитрялся в день зарабатывать больше десятка медных хардамов, прислуживая покупателям и перенося их тяжелые корзины в любой конец города. Пожалуй, и теперь не оставалось ничего иного, как вернуться к ремеслу носильщика. И он в двух словах передал свою затею Вац Ниулу.
Они быстро условились, что Нодаль будет сидеть на месте, а Вац Ниул отыщет какого-нибудь щедрого покупателя с корзинами потяжелее. Так и поступили.
Нодаль остался в одиночестве на каменной скамье и какое-то время провел в тоскливом ожидании, не в силах отвлечь рассудок от бессмысленного перебирания и «пробования на вкус» всех известных ему кушаний и напитков, от самых простых до самых изысканных.
«Да, город — не лес, тут и помереть от голода недолго», — подумалось ему. Как вдруг из внешней тьмы выскочила стремительная жесткая петля и сдавила ему горло. Нодаль даже не успел схватиться за свою дубину. Руки его потянулись было к невидимой удавке, но от этого она только стянулась еще сильнее. Тогда Нодаль просто развел руками и с облегчением отметил, что петля немного ослабла, но тут же, больно надавив на затылок и подбородок, потянула его вверх и вперед. Пришлось подняться и идти, спотыкаясь, туда, куда его неумолимо влекли.
А случилось-то вот что. Пока славный витязь мысленно пировал, повинуясь голодному воображению, к нему приблизился верхом на рыжем гаварде сам наместник Цкул Хин в окружении пеших стражников — рибуров. Они наводили ужас на любого тсаарна из еще остававшихся в городе своим зловещим черно-алым одеянием, удавками из крепкой сыромятины и кривыми, в уродливых зазубринах двойными дотоланами.
— Что это? — заорал наместник, раскрыв свою зычную командирскую пасть, как только приметил Нодаля издалека. — В городе еще остались отвратительные бродяги и попрошайки? Выяснить, кто он такой!
Перепуганный дюжинник стражи сам кинулся вперед и, остановившись лицом к лицу с ничего не подозревавшим витязем, в свою очередь грубо заорал:
— Эй, ты!
Нодаль, понятно, никак не отозвался. Поводив у него под носом своим дотоланом, дюжинник повернулся и подобострастной рысью прибежал назад, к стремени Цкул Хина.
— Сильнейший! — воскликнул он жалобным голосом. — Виноват, но этот бродяга слеп и глух, как полено. Выяснить, кто он такой, мне не позволяет моя глупость.
— Ну так схватить его и казнить на Белом камне, чтобы все видели и знали: я не допущу разводить в этом городе нищих уродов! Таков крианский дух. Да будут преданы ему на срам тсаарнское малодушие и тсаарнские церемонии!
— Да будут, сильнейший! — подтвердил дюжинник и знаком велел своим исполнять распоряжение наместника.
Когда Нодаля приволокли к Белому камню — лежащей посреди базарной площади плоской мабровой плите, на самом деле давно почерневшей от пролитой на нее крови — вокруг места предстоящей казни уже толпился народ. Кое-кто, главным образом криане, торопились поглазеть на очередную расправу как на забавное зрелище, а иных стражники сгоняли сюда силой. Но так или иначе, быстро собралась изрядная толпа. Так что Вац Ниул с трудом протиснулся сквозь нее и, вытягивая шею, с ужасом и тоскою узнал в приговоренном славного витязя. Обнаженный по пояс, он стоял на Белом камне, преклонив колени перед габалевой плахой, и, очевидно, не вполне разумел, что ему предстоит. Стражник по-прежнему сдерживал его удавкой, не давая пошевелиться.
Все тот же дюжинник, который и задержал Нодаля, проорал несколько полубессмысленных фраз, оскорбляющих Тсаарнию и прославляющих крианское могущество, затем обрушился с угрозами на бездельников и попрошаек и закончил словами «предать смерти посредством цириахта».
Толпа заволновалась. Ожидали, что беднягу просто обезглавят, а вместо этого жестокая власть собиралась потешить толпу цириахтом, зверской пыткой, которая заключалась в последовательном отсечении всех пальцев на руках и ногах, причинного достоинства, носа, ушей, языка и лишь затем — конечностей и головы.
На Белый камень поднялся палач в буром кожаном балахоне и с густою проволочной сеткой, скрывавшей лицо. В руках у него все с содроганием разглядели железные клещи и полукруглый топор, посверкивавший мастерски заточенным лезом.
Пожалуй, в такие лумы любой оказавшийся на месте Нодаля мог бы позавидовать его слепоте и глухоте. Но нечего и говорить, что славный витязь с посохом, даже если бы все видел и слышал — не дрогнув, принял бы участь свою.
Однако не успел палач приступить к своему страшному делу, как из толпы вырвался крик и какая-то старуха в темных одеждах, с трудом пробившись, припала к стремени Цкул Хина, наблюдавшего за происходящим со спины своего гаварда.
— О, справедливый наместник, звезда порядка и благополучия, воссиявшая над землей Тсаарнии! — твердым, отнюдь не старческим голосом воскликнула она. — Дозволь говорить прежде, чем свершится назначенное тобою!
— Говори, женщина! — разрешил польщенный наместник, жестом останавливая стражников, кинувшихся было оттаскивать старуху.
— Где ты — там законы Сарката, — в волнении, но по-прежнему твердо проговорила она. — Так вели напомнить перед казнью о цатадале и по крианскому обычаю дай слово высшей власти, что сохранишь ему жизнь, если найдется согласная взять этого несчастного агара в мужья.
— Пожалуй, даю слово, — сказал Цкул Хин, любивший иногда поиграть в высшую справедливость и не упускавший случая утвердить крианские законы. — Да только стоит ли терять время понапрасну? Разве во всем Галагаре найдется такая, кому сгодится этот слепошарый немтырь?
— Найдется, — отвечала старуха, не моргнув глазом. — Вот она я, пред тобой. Объявляю перед всем честным народом, что согласна взять в мужья этого беднягу и, не медля, увести его прочь из города.
Наместник изумленно взглянул на нее и вдруг расхохотался, а с ним и стражники, и толпа, все предались безудержному веселью. Но Цкул Хин оборвал всеобщий хохот, выпростав руку, и объявил:
— Твоя взяла, старая. Только гляди, еще раз появитесь в городе — велю укоротить обоих. Забирай своего муженька да не переусердствуй, забавляясь с ним в первую ночь. Эдакий тинтед — дай ему волю — раздерет тебя своей палицей, как чидъяровый мешочек!
Тут он захохотал пуще прежнего и удалился прочь сквозь поднявшуюся бурю радостного смеха и приветственных возгласов. А старуха схватила Нодаля за руку и потащила к городским воротам в сопровождении возбужденных горожан, готовых нести на руках обоих — и ее, и спасенного ею великана.
Славный витязь из всего происшедшего уразумел только то, что страшная петля перестала сдавливать ему шею и в третий раз чья-то неведомая добрая рука уводит его от смерти. И он не сопротивлялся. Он плелся следом, стараясь не наступать на пятки своему не слишком быстроногому спасителю, словно маленький мальчик, найденный матерью далеко от дома и стыдящийся перед нею за свои проказы.
На мосту толпа наконец отстала от них. И только какой-то плешивый мальчишка по-прежнему поспевал за старухой, уводившей Нодаля.
— Чего тебе? — спросила она, остановившись.
— Мы в Сарфо пришли вместе, — сказал Вац Ниул. — И я ни за что не оставлю моего товарища.
Старуха пожала плечами, и Нодаль с радостью узнал маленькую руку своего верного спутника, вцепившуюся в другую его шестерню.
Так, втроем, они и углубились в Асфорский лес, шагая по одной из его многочисленных тропок. А через сколько-то нимехов эта тропинка привела их к небольшой покосившейся хижине, чьи стены и кровля были сплетены из гибких габалевых прутьев.
К тому времени Нодаль уже знал о том, что случилось: на первом же привале, после того, как старуха накормила обоих пресными корсовыми лепешками, Вац Ниул «рассказал» обо всем его спине, и славный витязь, держа за руку добрую старуху, благодарно склонился перед ней. Смутная догадка о том, кем была его спасительница на самом деле, в тот же лум замерцала в его душе, но он старался не думать об этом, боясь ошибки и разочарования.
Однако стоило ему ступить под ветхую габалевую кровлю, как ноздри его вздрогнули и он жадно втянул в себя запах айоловых опилок, заставивший сердце его усиленно колотиться под бременем доброй, но беспощадной памяти. Вскоре к этому запаху добавился запах дыма. А затем добрые знакомые руки раздели Нодаля донага. Сверху полилась горячая вода. Он почувствовал, как саднит все тело, испещренное царапинами и коростами. А тут его еще принялись шоркать пучком колючей пакли. Но вовсе не от телесной боли — разве это была боль? — потекли по щекам его слезы, сливаясь с водой, то и дело струившейся сверху, а из богатырской груди вырвалось приглушенное рыдание. Нодаль узнал эти руки, он больше не сомневался и схватил их, покрывая поцелуями, и притянул к себе добрую свою рараву, мать и возлюбленную. Он гладил ей волосы, не ведая о том, что они совсем поседели. Он прижимал ее к груди и не догадывался о морщинах и пожелтевшей коже. Он слегка отстранил ее за плечи и крепко поцеловал со всею силою былой и первой в его жизни страсти.
В тот же лум к Нодалю вернулся слух. Он различил, как трещит огонь в очаге, воет за стенами ветер, и попытался сказать:
— Мать-рарава, любимая моя!
Не сразу, но все же, наконец, ему удалось отчетливо произнести эти простые слова. А в ответ он услышал:
— Нодаль, Нодаль, ты слишком долго не приходил. Я постарела и больше не гожусь тебе в возлюбленные. Если б ты мог, то увидел бы это своими глазами.
А он смеялся от радости и поначалу ни о чем не мог говорить — только твердил как безумный слова заветной саоры, наслаждаясь звуками собственного голоса и смыслом, отрадным смыслом этих звуков. Саора не солгала, первая часть ее предсказания сбылась — значит сбудется и вторая: он обязательно отыщет невинную крианку и прозреет с ее помощью.
И тут Нодаль заговорил по-настоящему. Он держал за руки верного Вац Ниула и добрую рараву и до глубокой ночи рассказывал им обо всем, что пережил в последнее время и о чем тебе напоминать было бы излишним. А если запамятовал, так перечитай эту книгу с начала, прежде чем двигаться дальше.
Наговорившись всласть, он улегся неподалеку от очага на свое детское ложе — большой тюфяк, набитый душистым сеном. Но, улегшись, никак не мог заснуть. Он лежал на спине и прислушивался к каждому шороху. Как преобразился мир, вырванный из лап тишины! Вот ветер, стихая, посвистывает в кровле. Вот шуршит сено. Вот дышит во сне рарава, размеренно, но тяжело, с хрипом. Она действительно постарела, и не мудрено — ведь минуло две дюжины зим с тех пор, как они расстались. Вот с легким плеском льется вода. Это Вац Ниул, бедняга. Только теперь он дорвался до котла и тайтланового кувшина и смывает с себя дорожную грязь.
Нодаль с удовольствием почувствовал, как на него наваливается долгожданная сладкая дрема, но в тот же лум вздрогнул и вновь пробудился. Маленькие легкие руки осторожно ласкали его обнаженную грудь, причем как-то совсем не по-братски. «А мальчишка-то не промах, — подумалось Нодалю. — И что это вдруг на него нашло?»
— Эй, Вац Ниул, это ты?
Вместо ответа он услыхал только жаркое дыхание, а легкие руки между тем потихоньку сползали вниз, подбираясь со своими нежностями к богатырскому лону.
— Послушай, дружище, — прошептал Нодаль, твердо перехватив его на опасном пути за запястья. — Я не люблю таких штук… Ну, ты понимаешь. С мальчишками я в эти игры не играю. Возможно, кому-то нравится, и я ничего не имею против. Но у самого сердце не лежит.
— У тебя одно сердце? А у меня два, и оба принадлежат тебе! — услыхал он ответный шепот и с изумлением обнаружил у себя на груди чью-то изящную головку с копною длинных шелковистых волос.
— Кто это? — едва ли не в голос вскрикнул он, обхватив незнакомую голову ладонями.
— Тебе нетрудно будет усвоить мое настоящее имя — стоит только смягчить окончание, вот так: Вац Ниуль.
— Вац Ниуль? Так ты значит не мальчишка? А где же твоя плешивая голова в коростах?
— Не спеши. Расскажу по порядку. Я действительно родилась в деревне Тахар четырнадцать зим назад и рано осиротела. А накануне свершения надо мною шаншарта, о чем я в ту пору, конечно, ничего не знала, меня похитил из деревни отшельник Дах Цаб. Остальное, как воспитал и чему научил он меня, тебе известно. Надобно только добавить, что наставник часто мне внушал и строго наказал перед смертью, чтобы я берегла свою невинность. Он говорил, что моему девству назначена важная роль в истории Крианского царства и всего Галагара, а какая именно — ему и самому неведомо.
Потом, когда я увидела тебя внизу, под скалой, и как ты голыми руками справился со свирепым кронгом — мне кажется, я сразу полюбила тебя обоими сердцами. Но сомнения также терзали меня с самого начала. Вот я и спрятала свои волосы под сухим чиюжим пузырем, чтобы оградить от тебя свою невинность. А когда мы начали переписываться, выдала себя за мальчишку.
— Хорош же я был! — вполголоса воскликнул Нодаль и рассмеялся в ладонь, живо припоминая некоторые подробности из истории их совместных скитаний.
— Так ведь и мне несколько раз стоило большого труда не открыться перед тобою!
— Но теперь-то, надеюсь, все твои сомнения рассеялись?
— Как дым! Лишь только я услыхала заветные слова твоего талисмана, — тут же решила, что мой лум настал. Твой рассказ о службе цлиянскому царевичу подкрепил мою уверенность. И вот я — твоя.
— Ты — моя! — прошептал Нодаль. — Не будем теперь говорить о том, сколько раз на разные голоса извещали меня о подобном. Но никогда я от этого не испытывал такой бесконечной радости, как сегодня. Неужели я снова буду видеть?
— А ты попробуй! — шепнула Вац Ниуль ему в самое ухо, обвила его шею руками и прижалась к богатырскому стану всем своим хрупким тельцем.
— Попробую, пожалуй. Тем более, что ничего другого мне уже не остается, — сказал Нодаль и призвал на помощь всю свою нежность, все свое умение, дабы они слегка попридержали его любовный пыл и он ненароком не повредил самоотверженной девочке.
Случилось так, что, исполнив указание саоры, Нодаль прежде всего увидел огонь в очаге. Он зажмурился, как от полуденного солнца, а когда вновь открыл глаза, перед ними возникло лицо Вац Ниуль. Не отрываясь, глаза в глаза, глядели они друг на друга, и Нодаль примечал, как все его существо переполняется новым чувством. В нем слились новорожденная любовь, бесконечная благодарность и щемящая нежность, какую может испытывать громадная сила, опекающая трогательную слабость. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного, и теперь ему хотелось наглядеться на возлюбленную, постичь целиком, вобрать ее в себя — всю, до самой незаметной черточки, до пятнышка, до легчайшего и чистейшего движения души в этих огромных светлых глазах, наполненных слезами. Но он так и не смог наглядеться и, когда все же с усилием оторвал от нее взгляд, испытал почти что телесную боль. Тогда ему пришло в голову, что окинуть Галагар возрожденным взором он сумеет и не отдаляясь от возлюбленной ни на один гит. Он сорвал развешенное у очага чистое полотно из грубого лестерца, завернул в него Вац Ниуль, как младенца, и держа ее на руках, шагнул за порог хижины. О том, чтобы как-то прикрыть свою наготу, он и не подумал.
Между тем, щедрая осень была на излете. И надо же было такому случиться, что именно в эту ночь заросли Асфорского леса присыпало первым снегом. И Нодаль, ступив из полутемной кущи наружу, сперва опять зажмурился, ослепленный стеною белого света. Но, постепенно приподнимая ресницы, он напомнил глазам их волшебную работу, от которой они совсем было отвыкли за время пребывания во мраке.
И долго же он так стоял — нагой, как дерево или скала, но живой, как тысяча гавардов — и медленно обводил взором знакомую и любимую с детства картину, и время от времени глядел на свою возлюбленную, все крепче пленяясь простым и прекрасным ее лицом. Он не замечал ни холода, ни наготы своей, ни того, что стоит по щиколотку в снегу.
И только когда мать-рарава приблизилась к нему, погладила сухою рукой его богатырскую спину и потянула за локоть, — он покорился и вошел обратно в полумрак родного дома.
Об этом еще потом сложились великолепные строки, которые отрадно и полезно повторять про себя в унылые времена:
Пробыл Нодаль во мраке злосчастном до первого снега, Но в душе не иссякло терпенье до первого снега, И любовь во спасенье обрел он до первого снега, Или сам он был найден любовью до первого снега. Что, скажи, невозможно под небом до первого снега? Может, злу и осталось — всего лишь до первого снега! Даже если судьба нам погибнуть до первого снега, Верь, что смерти назначено длиться до первого снега.* * *
Нодаль не мог долго оставаться на месте и уже на следующий день объявил о своем решении идти в селенье Балсаган, лежавшее в нескольких аэталах от убежища доброй раравы.
— Ты правильно решил, сын мой, — сказала она. — Старый Цалпрак, верно, обрадуется встрече и заплатит тебе долг сполна.
— Да жив ли он, матушка?
— Третьего дня, накануне нашей встречи, я виделась с ним по дороге в Сарфо: он продал кое-какой товар и направлялся домой, в Балсаган.
— А Балсаган крианские порски не разорили?
— Нет, не стали туда соваться. Слыхала я, что мудрый Цалпрак щедро заплатил за это Цкул Хину — поднес ему какой-то драгоценный зайгал собственной работы да подарил того самого гаварда, на коем наместник разъезжает с тех пор.
В хижине у раравы нашлось кое-какое платье для Вац Ниуль, а славному витязю пришлось обрядиться в свои лохмотья. Правда, у обоих появилась обнова: Нодаль с наслаждением сплел из гибких прутьев две пары остроносых огвонов, своими руками завернул ножки Вац Ниуль в лестерцовые обмотки и надел на них эту простую обувку тсаарнских крестьян. Другую пару он тем же порядком нацепил сам. Теперь они смело могли шагать заснеженною тропой: пары огвонов хватало до полного износа на две дюжины аэталов по самой трудной дороге.
Попрощавшись с раравой и пообещав скоро вернуться, Нодаль и Вац Ниуль отправились в путь и вскоре после полудня без особых приключений добрались до Балсагана.
Это было не очень большое по числу дворов, но богатое селенье, раскинувшееся на склонах холма посреди Асфорского леса. Над всеми кровлями Балсагана, округлыми и алыми, как фогораточьи гребни, в этот белоснежный день завивался теплый дым. А самый большой столб вздымался над кузницей, что стояла на краю селенья. Разведением гавардов и кузнечным ремеслом было как раз составлено основное богатство Балсагана.
Именно к кузнице в первую очередь и направился славный витязь со своей молодою супругой. Остановившись в распахнутых воротах, он ухватил за рукав пробегавшего мимо мальчишку с охапкой хвороста, и о чем-то вполголоса перекинулся с ним по-тсаарнски. Тот кивнул и скрылся за дверью кузницы. Вскоре оттуда вышел и стал на пороге коренастый широкоплечий агар в огромном и жестком кожаном фартуке. Сняв катанные рукавицы, он рассеянно поправил длинные седые космы, забранные веревкой и, прищурившись, поглядел в сторону пришельцев.
— Цалпракаданонамон Нартребириапсагал! — в полный голос закричал Нодаль. — Это я, ничтожный ваш подмастерье по имени Нодаль, пришел искать защиты и подмоги!
С этими словами он упал на колени и, не поднимаясь, с частыми поклонами ползком направился через двор. Он, несомненно, так бы и добрался до самого порога кузницы, но седовласый Цалпрак кинулся навстречь, остановил и поднял его, ласково обняв за плечи.
— Нодаль, сынок! Какие могут быть церемонии между нами? Ведь я — твой должник. Нет, не то! Ведь я люблю тебя пуще родных сыновей, а не видались мы столько зим, что и не сосчитать, да только я сосчитал, не сомневайся!
Он крепко обнял и расцеловал Нодаля.
— А что это за красавица переминается с ноги на ногу за твоей спиной? Нодаль, Нодаль, ты, как я погляжу, по-прежнему и шагу не можешь ступить, не стреножив по пути какого-нибудь нежного существа!
— Это Вац Ниуль, жена моя, учитель.
— Жена?! Ты сказал, жена? Я не ослышался? Ну, значит правду говорят честные агары, и со дня на день следует ожидать, что весь Галагар с ног на голову перевернется!
Цалпрак добродушно рассмеялся и пригласил обоих пройти к нему в дом, стоявший неподалеку от кузницы. Здесь он ненадолго оставил гостей в объятиях своей супруги. Дородную эту тсаарнку с широким лицом, еще в детстве на всю жизнь расплывшимся в мягкой младенческой улыбке, именовали здесь по-разному — Таной, Доной, Танадоной; ее полное имя было Танадоналагалад Одиаполабадар. Но за глаза ее чаще всего звали Хозяйкой Балсагана. И воистину она в Балсагане хозяйкой была. И стар, и млад обращались к Танадоне за помощью и советом, зазывали ее на угощенье и к ней наведывались по очереди. Вся молодежь и ребятишки почитали ее как мать, а кто постарше — в кумовьях да кумушках у нее ходили. Никому и ни в чем она не отказывала, но ведь никто и не просил без разумения и крайней нужды.
Расцеловав Нодаля, Хозяйка Балсагана приласкала Вац Ниуль, разглядела ее хорошенько и похвалила выбор:
— Хорошая девочка, сразу вижу. Наградил тебя Фламор! Ну, гляди же, не вздумай ее обидеть, а не то я до тебя доберусь! А давно ли вы женаты?
— Второй день.
— Что такое? Да где же вы свадьбу-то сыграли?
— Да не было у нас никакой свадьбы, тетушка Танадона, — отвечал Нодаль, потупившись, как провинившийся мальчуган.
— Как же это? Как же так можно? — запричитала она и кинулась навстречь появившемуся в дверях нарядному хозяину. — Ты погляди на своего ученичка! Хорош! Таскает девочку по дорогам в лохмотьях и грубых огвонах, называет ее женой, и уж верно неспроста — ты ж его знаешь! А о свадьбе-то и не подумал! Какая же она жена? Невеста — и только!
— Да я ведь не против, тетушка Тана! Только где ж мне было… — начал оправдываться Нодаль, но не выдержал и рассмеялся, обнимая свою Вац Ниуль.
— Смейся, смейся, паренек разгульный, — сказала хозяйка, пытаясь напустить на себя строгий вид. — Только на сей раз тебе не выкрутиться! Эй, Цалпрак, собери-ка людей и распорядись, чтобы завтра же все было готово к свадьбе. А я пойду подыщу молодым что-нибудь из одежды — доколе же им в отрепье-то щеголять?
— Ну вот, видите? Недаром ее называют Хозяйкой Балсагана, — сказал Цалпрак, улыбаясь во весь рот.
К столу Нодаль и Вац Ниуль вышли принаряженными в добротную одежду, какую носят по всей Тсаарнии небедные деревенские жители. Но мы не станем к ней приглядываться — ведь куда замечательнее были свадебные наряды, в которые им еще предстояло облачиться!
После славной балсаганской трапезы хозяйка увела невесту на свою половину, а почтенный Цалпрак предложил своему гостю поговорить о деле. Из кованого железного сундучка, где хранились деньги и иные сокровища, он извлек гладкую айоловую дощечку и положил ее перед Нодалем.
— Вот мои расчеты. Когда ты так внезапно и так надолго покинул Балсаган двенадцать зим назад, я остался должен тебе за работу в кузнице четырнадцать золотых хардамов. Вот они, видишь, в первом столбце, обозначены одной большой и двумя малыми зарубками. На эти деньги я закупил железо и пустил его в работу. Зиму спустя, после получения прибыли за вычетом всех платежей каждый твой хардам удвоился. Тогда я завел эту дощечку и во втором столбце, посмотри, сделал две большие и четыре малые зарубки. Затем в каждую зиму твоего отсутствия здесь прибавлялся новый столбец. Правда, не всякая зима была такой удачной, как первая, но не было случая, чтобы твои деньги не выросли хоть немного и чтобы в каком-либо из столбцов мне пришлось сделать меньше зарубок, чем в предыдущем. Итог на сегодня — тысяча четыреста шестнадцать золотых хардамов.
— Да ведь это целое состояние! — воскликнул Нодаль. — И с помощью этой дощечки вы, почтенный Цалпрак, хотите меня убедить в том, что я заработал эту сумму, пробыв вашим подмастерьем каких-нибудь несколько лун?
— Если быть точным, ты проработал у меня целую зиму и еще три луны. И я считал тебя очень смышленым малым. Отчего же теперь ты задаешь бессмысленные вопросы? Разве не ясно тебе, что эти деньги ты получаешь за то, что дюжину зим был моим товарищем в деле и соучастником доходов? Правда, сам того не подозревая. Но ведь ты исчез неожиданно и не оставил никаких распоряжений. Так скажи мне по совести, неужели ты считаешь, что я не лучшим образом обошелся с теми четырнадцатью хардамами?
— Что вы, что вы, учитель! Допустить такую мысль хотя бы на четверть лума было бы черной неблагодарностью с моей стороны! И если говорить по совести, я должен просить вас оставить себе хотя бы половину от названной вами суммы за все хлопоты, что вы взвалили на себя.
— Плохим бы я был хозяином, если бы сам себе вовремя не уплатил за труды! — рассмеялся Цалпрак. — Я же тебе сказал: все вычеты уже сделаны. Эти тысяча четыреста шестнадцать хардамов — твои. Бери их смело, а распоряжайся ими с умом.
Нодаль еще и еще раз поблагодарил своего мудрого учителя и заверил его, что хорошенько подумает над тем, как употребить эти деньги. Затем Цалпрак спрятал свою дощечку, казавшуюся айоловой, а оказавшуюся для Нодаля золотой, и они принялись беседовать запросто.
Цалпрак поведал Нодалю о последних событиях в Галагаре то, что ему самому было известно, не преминув высказать свое суждение и о завершении недолгой крианско-цлиянской войны, и о восшествии на саркатский престол наследника Шан Цвара, и о прочих, менее важных делах. А Нодаль, в свою очередь, рассказал о приключениях, какие пришлось ему испытать за минувшие двенадцать зим и особенно в последние луны.
Выслушав его, Цалпрак покачал головой и задумчиво произнес:
— Ох, сынок, на твоем месте я бы не очень-то доверял зловредному дварту…
— Что же мне делать, учитель? Я готов в точности следовать вашим мудрым указаниям.
— Ну что же, от свадьбы тебе не отвертеться. Ты же знаешь мою — если ей что-то пришло в голову, она добьется своего, и лучше не становиться у нее на дороге. А значит, три дня и три ночи тебе предстоит пировать и веселиться. Ничего не поделаешь, придется потерпеть. Но наутро четвертого дня, послушайся моего совета, отправляйся-ка ты в путь. Обыщи хоть весь Галагар и найди царевича Ур Фту, а если он и в самом деле погиб, убедись в его смерти, прежде чем успокаивать свою совесть. И перво-наперво поезжай в Восемь Башен, наверняка отыщешь там его следы.
— Благодарю, почтенный Цалпрак! Я-то думал, что прозрел еще вчерашним утром, и вот оказывается, вы только теперь вернули мне истинное зрение. И только теперь я вижу, как следует мне поступить. Открылось моему разумению и то, как наилучшим образом распорядиться деньгами. Ведь мне понадобится хороший гавард, мало-мальские доспехи и самое главное — точно такой посох — помните, учитель? — какой был изготовлен в вашей кузнице двенадцать зим назад.
— Гаварда я тебе подберу такого, что лучше не бывает. Мало-мальские доспехи найдутся. А посох мои молодцы за три дня сработают. И все это встанет тебе сотни в три-четыре. Но вот что ты мне скажи: как быть с твоею красавицей?
— Она поедет со мной, учитель! Нам и дня не прожить друг без друга!
— Ну, так послушайся и в этом меня. Сынок, ты ведь не по околице прогуляться намерен. А бедняжка и без того уж натерпелась, пока тебя к свету выводила. Оставь ее в нашем доме. Хозяйка Балсагана позаботится о ней как о родной дочери. Да ты и сам видишь: здесь покойно и безопасно. Головорезов Цкул Хина в нашем селении не было и не будет. Я за это головой ручаюсь.
— Не смею вам возражать, учитель, — тихо сказал Нодаль. — Хоть и больно мне думать о разлуке с любимой.
— А ты не думай о разлуке, ты думай о свадьбе.
— Скрепя сердце, повинуюсь. Но что еще скажет Вац Ниуль? Согласится ли остаться?
— Согласится, если ты сумеешь убедить. А если ты не сумеешь, предоставим это Хозяйке Балсагана.
— Но коли так, пусть мои деньги остаются у вас, жене моей на прожитье.
— Хорошо, согласен. Но подобно тебе — скрепя сердце. Твою жену мы бы и так прокормили, — проворчал мудрый Цалпрак.
И еще они о многом говорили, да только всего не перескажешь, и к тому же здесь пора завершить двенадцатый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Следующий за двенадцатым урпран
Едва царевич спустился с мачты, как букталан «Соленая вейра», на котором, кроме него и Трацара, никого не осталось, въехал, повинуясь волне, на песчаную отмель вблизи неведомого берега и остановился.
Оба при этом покатились проходом. Но царевич скоро наткнулся на одну из лавок и, вцепившись в нее всеми четырьмя руками, сдержал свое движение. Трацар остановился не столь удачно — занозил себе ногу чуть выше колена и больно ударился плечом. Отыскав друг друга, они добрели до мостика в носовой части и поднялись на него.
Глянув в сторону простиравшейся перед ними земли, Трацар присвистнул и охнул.
— Что там, Трацар? — крикнул царевич, стараясь не выдать волнения.
— Да так, в общем-то ничего определенного. Просто с берега прямо по воде к нам направляется какая-то на редкость пестрая толпа. Разодеты в пух и прах! И кто во что горазд. Если судить по одежде и оружию — а вооружены они тоже недурно — здесь есть и криане, и цлияне, и форлы, и миргальцы, и… кого только нет!
— А лица? Как выглядят их лица?
— Лица какие-то темные… А, вот, вот они приближаются, кажется, начинаю различать. Вроде бы на лицах у них чересчур много волос.
— Ты хочешь сказать, бороды густые?
— Нет, царевич, никаких бород я вообще не вижу. Их лица полностью покрыты волосами. Так, что не видать ни лба, ни носа, ни бровей, ни рта. Только глаза поблескивают.
— Ты говоришь, одеты они богато?
— Да, царевич, о некоторых я бы даже сказал, одеты довольно пышно.
— О, великий Су Ан! Это погребальные одежды. Мы в стране мертвецов, Трацар! Мы в стране мертвецов, а значит и нас можно считать мертвецами.
— Погоди, благородный Ур Фта! Ведь если мертвец считает себя живым, от этого ему хуже не будет. И напротив, живой, посчитав себя мертвым, рискует себе серьезно повредить в случае ошибки. Так давай пока что считать себя живыми, даже если на самом деле мы мертвы.
Царевич от этих слов опять устыдился своего малодушия и сказал, вторя беспечному тону своего приятеля:
— Но может быть, ты приложишь свое умение и определишь, что за существа перед нами и как называется этот берег?
— Увы, царевич, — отвечал Трацар без тени уныния, — но отлив еще не кончился, и его волны невидимой стеной отрезают меня от Галагара. Я по-прежнему лишен моей тайной силы. Могу сказать только о том, что вижу. Эти парни уже карабкаются на наш букталан. И справедливости ради, надо признать, что вид у них мрачноватый. Теперь в дополнение к неприятным глазам на их волосатых мордах проявилось нечто вроде клыков.
— Живым я не сдамся! — воскликнул царевич.
— Да, разумеется. Но поскольку мы уже записали себя в мертвецы, только притворяющиеся живыми, ничто не мешает нам в этом качестве сдаться без сопротивления. Поверь мне, царевич, это единственный разумный выход из создавшегося положения. Хотя, насколько я могу судить, он всего лишь является входом в положение иное, ничуть не менее опасное, но быть может, в свой черед не безвыходное.
Царевич не сумел сразу ухватить смысл последних слов Трацара, а времени на раздумья уже не оказалось. В следующий лум их обоих опрокинули, связали по рукам и ногам, спустили с корабля, прицепив к обломкам весел как туши животных, и поволокли к берегу.
Кое-кто из мертвецов — а даже Трацар не знал, как еще их называть — поднялись на борт с факелами в руках. И когда те, что тащили пленников, уже пересекли вместе с ними песчаную полосу побережья, приблизившись к краю густого леса, — Трацару удалось поглядеть в сторону букталана, и он увидел, как над палубой занялось пламя и повалили черные клубы. Ловкие мертвецы успели дочиста ограбить корабль и подожгли его, подчиняясь каким-то тайным своим расчетам.
Связанных пленников долго несли по лесным тропам, затем вверх по склону большого холма, на котором раскинулось селенье, где, как видно, мертвецы и жили, если возможно так говорить о мертвецах. Здесь их вскоре опустили на землю перед какой-то неказистой дверью, отворили ее и швырнули пленников в темное сырое помещение. В тот же лум дверь захлопнулась и обрубила проникший было в эту темницу сноп света.
— Где это мы, Трацар? — немного погодя, спросил царевич.
Трацар тихо застонал и с усилием произнес в ответ:
— Похоже, в каком-то погребе. Темно, ничего не видно. Как ты там?
— Терпимо, — ответил царевич, удивляясь своему хладнокровию. — А ты? Все кости целы?
— Не могу тебе сказать, я не чувствую своего тела: от пяток до плечей одни веревки.
— Сделай что-нибудь, Трацар! Ведь эти чудовища не шутят: того и гляди, освежуют нас и сожрут.
— А! Так они уже не кажутся тебе мертвецами?
— Не знаю. Какое это имеет значение? Сделай же что-нибудь.
— Пытаюсь, но ничего не выходит. Одно из двух: либо продолжается отлив и нам остается ждать, когда течение переменится, либо мне нужно выбраться на открытое место из этого погреба.
— Хорошо, тогда я применю науку попроще. Трацар, попробуй двигаться в мою сторону и говори, не переставая. А я поползу к тебе.
— Какое там, милый царевич! Я кажусь себе мокрым бревном на дне оврага: ни согнуться, ни покатиться не в силах.
Испытание путами было одним из жестких урпранов, пройденных Ур Фтою еще в возрасте десяти зим. И он не забыл, чему его учили наставники в Айзуре. Когда мертвецы обматывали его веревками, царевич попеременно до предела напрягал все мышцы. Поэтому теперь он чувствовал себя гораздо свободнее, чем неумелый Трацар. Члены его не затекли, движение крови не было перекрыто ни в одной точке. Ловко извиваясь, царевич начал передвигаться на голос. Достигнув Трацара, и в самом деле лежавшего не земляном полу неподвижно, как бревно, он исследовал его путы сверху донизу, прикладываясь к ним лицом. Он нащупал все узлы и принялся по очереди распутывать их зубами.
Не прошло и нимеха, как ему удалось завершить это нелегкое дело и полностью освободить от веревок Трацара. Но бедняга по-прежнему валялся неподвижно еще с добрый десяток рофов. И этого времени царевич не терял даром: когда Трацар, вновь обретя способность шевелиться, пришел ему на помощь, он уже распутал зубами узел у правого колена и почти полностью освободил себе ноги. Вдвоем они справились быстро и сразу же приступили к обследованию своего узилища.
Это был небольшой погреб площадью примерно два на два керпита. К запертой двери из него вели четыре земляные ступеньки, и Трацар заверил, что не видит ни одной щели или отверстия, через которые снаружи проникал бы сюда хоть тоненький лучик света. Наконец, обшарив все кругом и не обнаружив ничего нового, они обсудили порядок дальнейших действий и стали ждать. Время от времени Трацар принимался бормотать какие-то заклинания, но толку от этого не было никакого.
Наконец, снаружи послышалась возня и раздались голоса, издававшие чуждые непонятные звуки. Дверь распахнулась, и в погреб спустились двое. Трацар, лежавший без движения и для виду обмотанный веревками, приподняв голову, отметил, что они несут большое корыто, наполненное чем-то рыхлым, белесым и испускающим пар. В тот же лум он твердо и громко сказал:
— Двое без оружия. У входа никого.
Царевич, притаившийся за дверью, молниеносным движением захлопнул ее, и погреб вновь погрузился во мрак.
Преимущества, которые получал Ур Фта над зрячим противником в отсутствие света, были слишком велики. Лум-другой — и те двое, что внесли в погреб корыто, увлекаемые неодолимой силой, столкнулись лбами и, захлебнувшись собственной кровью, сделались мертвецами, кем бы они там до этого ни были.
Царевич и Трацар проворно сорвали с них одежду и, не раздумывая, облачились в нее сами. Царевичу достались штаны, оказавшиеся чересчур короткими, и нечто вроде длиннополого утана, который ему пришлось прорвать под рукавами для того, чтобы высвободить нижнюю пару рук. А Трацар натянул на себя узкие зимзирские кугланы и короткую, с пышными рукавами езиарку, какие носят островитяне Зеленого моря. Удалось ему и обуться, тогда как царевичу, увы, не пришлась впору ни та, ни другая пара сапог.
— Морды, да и тела у них и правда, сплошь покрыты шерстью, как у порсков. Вот мерзость! — сказал он, завязывая шнуры на утане.
— Быть может, наша голая кожа внушает им не меньшее отвращение, — глубокомысленно заметил на это Трацар. А царевич еще возразил:
— Но мы не делали и не желали им никакого зла, а они на нас напали, как дикие звери. Поэтому наше отвращение, если глядеть сверху, представляется гораздо более справедливым.
— Царевич, а в корыте-то вполне съедобное блюдо. Похоже на сладкую кашу из тонкого корса, сдобренную ароматной приправой. Верно, нас решили откормить на убой.
— Ну что ж, — усмехнулся царевич, — давай откармливаться, а там еще выясним, кто кого.
Очистив корыто, оба почувствовали прилив бодрости и свежих сил. Трацар вновь попытался пустить в ход свое тайное умение, но у него опять ничего не вышло. И они решили на свой страх и риск выбраться из погреба наружу, не дожидаясь ночи. Ведь все равно в любой лум пропавших с корытом могли хватиться, и столкновение сделалось бы неизбежным.
— Поздно, царевич, — быстро заговорил Трацар, как только они очутились на воле. — К нам приближается добрая дюжина мертвецов. Судя по их движениям, они уже разглядели наши лица и не собираются встречать нас по одежке. Луки, царевич, берегись!
Трацар упал на землю ничком. Просвистели две стрелы, но не достигли цели. От одной из них Ур Фта отклонился, а другую поймал рукой.
— Говори свои заклинания! — крикнул он и поймал третью стрелу. — Может вне погреба подействует!
— Если отлив уже кончился, непременно подействует, — пробормотал Трацар и стремительно ребром ладони начертил на земле круг, замыкая в него себя и царевича. Затем он произнес всего три слова, не укладывающиеся в голове у простого агара, и незримая линия, только что проведенная им, поднялась в воздух светящимся золотистым обручем и закачалась, вращаясь с тихим жужжанием все быстрей и быстрей. Две или три стрелы отскочили от чудесной преграды со звоном, как медные олы от мабровой стены. И наступавшие чудовища в растерянности остановились.
— Получилось! — в восторге завопил Трацар. — Я сделал самое простое. Теперь мы в безопасности на несколько афусов!
— Только-то и всего? — удивился царевич. — Ну так поторопись и сотвори что-нибудь посложнее, а главное — понадежнее!
Ничего не ответив, Трацар принялся сосредоточенно бормотать неудобопроизносимые звуки, вращать головой и чертить в воздухе мизинцами загадочные фигуры.
Меж тем, сила золотистого обруча иссякла, жужжание прекратилось, и он растаял в воздухе с резким щелчком.
Вооруженные до зубов мертвецы приободрились и двинулись вперед, потрясая мечами, топорами и прочим, самым разнообразным снаряжением. Наиболее отчаянный из них наступал впереди прямо на царевича и при том с боевыми вилами наперевес. Он ускорил шаг и сделал выпад, нацелившись царевичу в грудь.
Но в тот же лум царевич уразумел, что заклинания Трацара подействовали, и подчинился нахлынувшей вдруг на него силе, чудесной, величественной, но давно и прекрасно знакомой. Он успел отклониться влево, уйти от удара, выставив под древко правую верхнюю руку. Затем, перехватив, вырвал вилы из рук противника, развернул их вперед остриями и распорол чудовищу живот, слабо защищенный легким кожаным панцирем.
И только тогда царевич осознал, какая влекла его сила: это была боевая свирель.
— Кин Лакк, это ты? — крикнул Ур Фта во все горло и тут же услышал в ответ хрипловатый голос:
— Здесь Кин Лакк, благородный царевич, и клятва его нерушима!
Царевич задохнулся от восторга, но враги продолжали наседать, и он опять подчинился свирели.
Вскоре Ур Фта переменил свое вооружение, зарубив и заколов вилами не менее пятерых. Теперь левой верхней рукой он сжимал рукоятку отменного стального щитка с выпуклым навершием, в левой нижней держал дагу с раздвоенным клинком, а в правых — широкий полукруглый топор на длинной рукояти. Так он погубил еще трех противников. Затем ему подвернулся великолепный боевой бич с яйцевидной железной главой на прочной цепочке — и царевич отбросил топор. В несколько лумов, под звуки свирели гвоздя всех и вся кругом, царевич уложил остальных волосолицых, бесстрашно кидавшихся на него.
Наконец, свирель умолкла. Наступление было отбито, и сражение возле погреба завершилось ошеломляющей победой Ур Фты и Кин Лакка.
Царевич уселся прямо на землю и отер локтевым сгибом лицо, залитое своим потом и чужой кровью.
— Кин Лакк, ты здесь? — тревожно спросил он. — Подай голос, а не то я решу, что твоя свирель явилась мне только в воображении…
— Теперь я долго не оставлю тебя, мой славный Ур Фта! — раздался в ответ голос последнего форла. — Отныне, пока не кончится твоя война, уже действительно никакая сила не способна нас разлучить. Только ты должен держать мое возвращение в тайне.
— О какой тайне ты говоришь? Разве тебя не могут видеть те, кто не слеп, как я?
— Не только видеть, но и слышать меня и мою свирель не может никто, кроме тебя, благородный царевич! Но о том, что ты слышишь, никому не говори ни слова.
— Даже Трацару?
Кин Лакк рассмеялся.
— Трацару можешь говорить все, что угодно. Трацар знает много больше того, что ведомо нам с тобой.
— Так я и полагал. Но где же он, где мой удивительный жизнехранитель? Уж не зацепило ли его во время сражения?
— Вот он я, цел и невредим! — весело воскликнул Трацар, выбираясь из погреба. — Мне вовремя пришло в голову, что место недавнего заточения может послужить прекрасным укрытием. Приветствую тебя, воинственный Дацар! И поздравляю вас обоих с победой!
— Он не слышит меня, — сказал Дацар-Кин Лакк, обращаясь к царевичу. — Передай, что я рад его видеть и благодарю за помощь, оказанную мне в исполнении моего долга.
Царевич повторил сказанное и добавил от себя:
— Я также благодарен тебе и не в силах подобрать необходимые слова для выражения чувств, охвативших меня!
— Да что ты, царевич! Я ведь, подобно Дацару, всего лишь исполняю свой долг. И, к счастью, удача сопутствует нам сегодня.
— Но, дорогой Трацар, я сгораю от нетерпения. Не можешь ли ты теперь открыть, где мы находимся и кто эти волосолицые существа, которых я здесь уложил, не считая?
— Да, благородный царевич. Находясь в погребе, который, как оказалось, вовсе этому не помеха, я воспользовался тайной силой и получил знания о том месте, где мы находимся. Это вовсе не страна мертвецов, а остров, называемый местными жителями Тудутра. Его берега омываются течением отлива, и с незапамятных времен главным ремеслом тудутранцев было ограбление галагарских клузов. Конечно, сюда попадают лишь те из них, что двигаются на север, совершая свой печальный путь по водам Зибаира, Таргара и Кора, Дымного и Зеленого морей. Этим и объясняется то обстоятельство, что в обиходе у островитян попадаются миргальские, крианские, форлийские, цлиянские вещи, но не встретишь, к примеру, тсаарнских. Однако времени у нас остается совсем немного, и я постараюсь сообщить только самое главное.
— Не стану мешать тебе, Трацар. Но то, что ты уже сообщил, поистине ужасно.
— Не менее ужасно то, царевич, как близки мы оказались к действительности, когда предположили, что нас могут сожрать. Блюдо, принесенное нам в корыте, в самом деле было чем-то вроде корма для жертвенных животных. Тудутранцы без сомнения собирались изжарить наши тела на вертелах и вволю полакомиться ими.
— Не удивлюсь, если ты скажешь, что они поедают и наших мертвецов, извлекая их тела из клузов!
— Сдержи удивление, царевич, ибо так оно и есть: во всяком случае, то племя, в чьих лапах мы оказались, не брезгует трупоедством.
— О, великий Су Ан! — воскликнул царевич, сотворив адлигалу. — Благодарю тебя за то, что клуз моей матери уплыл на юг по течению полноводной Айзы! Но послушай, Трацар, ты сказал «то племя, в чьих лапах мы оказались». Значит, на острове есть и другие племена?
— Да, на острове живут два племени — прулты и абаиты. Нас захватили прулты. И все мерзости, о коих мне пришлось упомянуть, свойственны именно и только прултам. Абаиты давно наложили запрет на использование содержимого клузов и считают его нарушение самым страшным проступком. Больше того, они уже два стозимья сражаются с прултами чуть ли не за каждый клуз, чтобы отправить его с северного берега Тудутры в открытый океан. Племя абаитов гораздо более многочисленно, но в силу действующего запрета гораздо хуже вооружено. Ведь им приходится делать оружие своими руками, и в этом они еще весьма далеки от совершенства.
Так вот, сегодня на этот поселок нападут отважные абаиты. Их отряды уже подошли лесом, сняли дозорных и вот-вот начнут штурм.
— О, благородный царевич, — вмешался Кин Лакк. — Мы должны помочь славным островитянам захватить поселок.
— Так мы и сделаем, ударим на прултов с тыла.
— Что ты говоришь? — переспросил Трацар, не слыхавший Кин Лакка и не уловивший смысла в словах царевича.
— Ничего, ничего. Это я не тебе, милый Трацар. Скажи, а гаварды у них здесь имеются?
— Нет, на острове нет ни одного гаварда. Местные жители не знают, что такое верховая езда.
— Ну что же, хорошо, возможно, это даже упрощает задачу. А теперь приготовимся к новому сражению. Полагаю, здесь есть чем снарядиться.
— Четыре цохларана, — подсказал Кин Лакк.
— Дорогой Трацар, — попросил царевич. — Не соберешь ли ты для меня среди поверженных прултов что-нибудь из доспехов и четыре цохларана. Да, и сапоги размером побольше!
— Погоди, царевич, соберу в три лума! — отвечал тот и кинулся исполнять просьбу. Сперва он притащил цохлараны, затем по частям чуть не полный доспех и, наконец, сапоги. Царевич предпочел не нагружать на себя всю эту кучу железа. Натянув сапоги, он выбрал из всего и надел с помощью Трацара чешуйчатый нагрудник и поножи. Затем все четыре руки снарядил жестяными рукавицами, а голову покрыл железной шапкой с поперечными прутами в виде лапок морского бракрага.
Трацар заявил, что более не намерен отсиживаться в укрытии, и тоже кое-как снарядился, ограничившись длинной кольчугой, островерхим шишаком и взяв под мышку большой деревянный щит, обитый кожей и усиленный железными пластинами. Однако, сделав несколько шагов по улице поселка рядом с царевичем, он опустил щит на землю и волоком потащил его за собой, выбиваясь из сил.
— Куда же все подевались? — спросил царевич. — Трацар, не следует ли нам ожидать внезапного нападения?
— Нет, вряд ли. В домах только женщины и дети. Все воины теперь собрались в южной части поселка. Они уже получили известие о предстоящем штурме и готовятся к его отражению. Нас они, разумеется, не принимают в расчет.
— Тем лучше для нас и для отважных абаитов! — воскликнул Кин Лакк. — Но будь осторожен, царевич, и вели поберечься нашему удивительному другу. Зачем это он нацепил на себя кольчугу со шлемом да еще упирается с этим щитом? Пускай произнесет несколько заветных словечек, и его будет не достать ни клинком, ни стрелой, ни дубиной в дюжину циалов!
Но царевич не успел передать пожелания Дацара Трацару. Впереди послышался гортанный крик и топот ног.
— Что это, Трацар?
— Пустяки! Какой-то волосолицый мозгляк — завидел нас и припустил по улице, только пятки засверкали.
— А что он там прокричал? Ты ведь понимаешь их язык?
— Да, понимаю, только приходится напрягать и слух, и разумение. Он выкрикнул слово, которым, по всей видимости, здесь именуют агаров. Что-то вроде «босолицые», или «гололикие», или «пустомордые», или «чисторожие»…
Он мог продолжать этот перечень равнозначимых слов, в той или иной степени соответствующих тудутранскому восклицанию, еще очень долго. Но ему помешал вновь послышавшийся впереди топот. Насколько мог судить царевич, на этот раз он производился не одной парой ног и стремительно приближался.
— Кин Лакк, ты видишь?
— Вижу, царевич. Трое с вилами в легких доспехах, один с молотом и круглым щитом и двое с двуручными мечами.
Больше он не сказал ни слова. Звучала только свирель. Прежде чем полностью подчиниться извивам музыки боя, царевич успел крикнуть:
— Трацар, поберегись!
Трое с вилами пошли вперед и одновременно сделали выпад. Уж верно, этот прием был у них давно отработан. Один из них метил царевичу прямо в лицо, другой — в правое плечо, третий — в незащищенный пах.
В итоге первого, оборонительного, движения Ур Фта перерубил, как соломинку, древко у вил, направленных ему в лицо, под самым железком; точно таким же образом он поступил с вилами, устремившимися ему в плечо, а те, что были нацелены в пах, увел вниз и в сторону, а когда они зарылись в землю, с размаху наступил на древко, вынудив их владельца разжать пальцы. Второе движение было наступательным и привело к тому, что две волосолицые головы упали и покатились, окропляя кровью холодную пыль дороги, а у третьего из нападавших вывалились кишки, так что не помог ему пластинчатый нагрудник — коротковат оказался.
Между тем, за первой тройкой без малейшего перерыва пошла другая. Прулт, вооруженный боевым молотом в виде головы мацтирга, опередил остальных. Он замахнулся, намереваясь пробить железную шапку царевича и поразить его в голову стальным клювом. Но на ничтожную долю лума от этого замаха между ободком его рукавицы и кольчужным рукавом образовалась узенькая полоска. И этой ничтожной доли лума Кин Лакку, его свирели и царевичу вполне хватило. Сверкнул триострый цохларан — и молот упал на дорогу вместе с кистью руки, крепко сжимавшей его. А молотобоец, лишенный столь важной конечности, с воплем бросился удирать.
Следовало бы воздать должное паре прултов с двуручными мечами: увидев, как босолицый воин с четырьмя цохларанами отделал их приятелей, они не устрашились и храбро двинулись вдвоем на одного, размахивая своим керпитовыми клинками, будто мельницы крыльями в ураган. Но, судя по всему, они слишком увлеклись этой работой и не заметили, как их противник исчез из поля видимости. Он каким-то чудом по очереди обошел их со спины и, нырнув, располосовал в кровавую мездлу своими цохларанами тому и другому бедра чуть выше коленного сгиба — так в сражении подрезают боевыми косами поджилки гавардам. Оба со стоном рухнули в пыль, как подкошенные. Впрочем, почему «как»? Ур Фта и в самом деле их «подкосил».
Так царевич при помощи Кин Лакка одолел шестерых — медлительно слово, стремительно дело — за каких-нибудь несколько лумов.
Однако кровожадные прулты не собирались давать ему передышку. Впереди раздались крики и звон оружия. Отважные абаиты вступили в сражение. Но несмотря на столь тревожное обстоятельство, около дюжины волосолицых воинов приближались по дороге оттуда, где разгоралась битва.
— Трацар, жив? — крикнул царевич.
— Жив пока! — весело отвечал Трацар, высунув голову из-за своего громадного щита.
— Укройся понадежнее! И лучше всего за каким-нибудь волшебным словом.
— За меня не волнуйтесь, царевич. Деритесь себе спокойно. Уж я-то не пропаду.
На сей раз прулты не торопились вступать в ближний бой. По крайней мере у половины из них на вооружении было по самострелу с чиюжей ногой. На расстоянии в дюжину керпитов они выстроились и по очереди послали в царевича страшные стрелы с пирамидальными наконечниками цкалт отменной закалки.
Эти короткие, но мощные снаряды, да еще с такого незначительного расстояния, могли бы пробить любые доспехи. Но Ур Фта был защищен кое-чем получше. Согласно свирели, в ту же четверть лума он принялся молниеносно вращать всеми четырьмя цохларанами, так что Трацару, выглянувшему из-за своего щита, показалось, будто царевич охвачен сплошным железным вихрем, гудящим, словно потревоженный рой белобрюхих этролзов. Ни одна из посланных прултами стрел не смогла пробить подвижную сверкающую оболочку. Этот прием, называемый «Огненный столп», использовался для глухой защиты. Он считался непригодным для нападения, ибо не позволял сохранять ориентацию в пространстве. Но это ограничение, понятно, не касалось Ур Фты и Кин Лакка. Непрестанно вращая смертоносными клинками, царевич уверенным шагом двигался прямо на обстрелявших его прултов — и их сердца, если они у них были, дрогнули. Произведя еще по одному выстрелу, косматые самострельщики поспешно отступили за спины шестерки своих сородичей, вооруженных кто секирой, кто зайгалом, кто укбатской булавой.
На четверть лума прервав свою музыку, Кин Лакк крикнул:
— Трацар упал и не встает! Кажется, ранен опасно.
— Цур аррада! — в ярости взревел царевич, и ему показалось, что Кин Лакк подхватил боевой клич, тут же перешедший в самую свирепую трель из всех, каким до сих пор доводилось вырываться из отверстий его свирели.
После этой атаки, неудержимой и сокрушающей все на своем пути, подобно снежной лавине, уцелели лишь те двое прултов, что бросились удирать, как только раздался устрашающий возглас. Когда все уже было кончено, царевич крикнул Кин Лакку:
— Веди к нему!
Свирель послушно показала дорогу, и Ур Фта, опустившись на колени, освободил голову безмолвно простертого на земле Трацара от нелепого шишака.
— Трацар, Трацар, очнись, умоляю тебя! — воскликнул он и, стянув рукавицу, провел ладонью по его неподвижному лицу.
— У него стрела в левом плече. Бедняга истекает кровью! — тихо сказал Кин Лакк.
— Что же делать? Быть может, попытаться извлечь стрелу и стянуть с него кольчугу?
Ответ неожиданно прозвучал из уст самого Трацара. Он попытался улыбнуться и еле слышно произнес:
— Вырви ее, милый царевич! Я перетерплю эту боль… Выдерни ее поскорее!
Ур Фта замер, не ведая, стоит ли ему подчиняться этому требованию. Но его подстегнул голос Кин Лакка, прохрипевшего:
— Чего же ты ждешь? Выдергивай!
В тот же лум, вцепившись в стрелу, царевич дернул изо всех сил, вырвал ее из трацарова плеча и отбросил в сторону. Трацар вскрикнул, но не потерял сознания, и тут же что-то пробормотал, как в бреду, на непонятном наречии.
— Надо бы все же снять и кольчугу, — подумал царевич вслух.
— Полагаю, что это уже ни к чему, — хладнокровно заметил Кин Лакк, и царевичу показалось, что у него в груди шевельнулся клубок стриклей.
— Нет! Не может быть! — воскликнул он, едва сдерживая рыдания. — Я не верю в то, что он умер!
В тот же лум Трацар как ни в чем не бывало сел и заключил потрясенного царевича в объятья.
— И правильно делаешь, что не веришь! — рассмеялся он. — Меня умертвить, конечно, можно, да ведь для этого попотеть надо! И еще как попотеть!
— Ты меня не понял, благородный Ур Фта, — вмешался Кин Лакк. — Насчет кольчуги. Впрочем, пожалуй, ее стоит с него стащить, чтобы полюбоваться на действие некоторых слов, произнесенных кстати.
— Прошу тебя, помоги, милый царевич! — попросил Трацар, вскочив на ноги и хватаясь за ворот кольчуги, так что можно было подумать, будто он слышал пожелание форла. — Надоело мне таскать на плечах эту тяжесть. Пора уж мне встать под защиту заветных слов.
— Так-то оно и лучше, пожалуй. Поигрался, и будет, — шутя проворчал Кин Лакк, а царевич спросил:
— Но можешь ли ты поручиться за собственную безопасность, Трацар?
— На некоторое время могу.
— На какое же?
— На нимех-другой.
— А-а, ну этого вполне достаточно.
Стянув с него продырявленную кольчугу, царевич долго, не веря своим рукам, ощупывал то место на плече Трацара, где должна была зиять страшная рана, но даже царапины там не обнаружил.
— Ладно, пойдем, — сказал он наконец, решив ничему больше не удивляться, находясь рядом с этим чудесным агаром (а может, и не агаром вовсе?). Они находились на краю поселка и отсюда хорошо различали шум сражения. Прулты, вероятно, увлеченные схваткой, больше не отряжали в тыл никого, чтобы померяться силой с четырехруким босолицым воином. И Ур Фта в сопровождении Трацара и невидимого Кин Лакка беспрепятственно подошел вплотную к довольно сильной линии обороны прултов, протянувшейся по склону холма. В считанные лумы оглядев поле битвы с высоты птичьего полета, Кин Лакк доложил царевичу:
— Абаиты храбро дерутся и вот-вот прорвут центр, где их возглавляет четырехрукий воин, оснащенный каким-то неслыханным оружием. Но прулты тоже стоят насмерть и уже перешли в наступление правым флангом. Абаиты рискуют оказаться в тисках и проиграть сражение.
— Хорошо! — сказал Ур Фта. — Из твоих слов с неизбежностью следует, что мы обязаны ударить прултам во фланг, именно там, где они развивают наступление. Трацар, не переждать ли тебе все же где-нибудь в безопасном месте?
— Милый царевич, я мог бы тебе предложить изо всех сил ударить меня по шее цохлараном. Но ведь цохлараны тебе еще пригодятся в бою.
— Ты разве до сих пор сомневаешься в том, что он в сущности неуязвим? — Прохрипел Кин Лакк и предложил не тратить времени на пустые разговоры.
— Ну что ж, тогда вперед! — воскликнул царевич, окончательно махнув на Трацара всеми своими руками, и бегом устремился в ту сторону, куда звала боевая свирель.
Сражение продолжалось еще нимеха полтора. Царевич, ведомый славным форлом, обошел наступающих прултов с правого фланга и двинулся им наперерез по щиколотку в крови. Пришлось и ему пролить не только пот в этой схватке. Сначала его ранили в правое верхнее предплечье, и он пожалел, что, выбирая части доспеха для своего снаряжения, пренебрег наручами. А когда ему вдобавок крепко задели бедро секирой, он просто решил, что от судьбы не увернешься.
Ободренные подмогой неведомого босолицего витязя абаиты действовали все решительней и храбрей. Наконец, они прорвали центр и разрезали вражеские силы надвое, после чего, объединив усилия, нанесли сокрушительный удар по левому флангу прултов. По левому, ибо правого к этому луму, благодаря усилиям могучего союзника, уже не существовало. Оказавшиеся в смертельном кольце прулты сложили оружие и доспехи к ногам победителей. Свирель воинственного форла умолкла.
Изможденный битвой царевич снял, ухватив за пруты, свою железную шапку и опустился на землю со словами:
— Дорогой Кин Лакк! Не слишком ли много крови мы с тобой потеряли?
Но в тот же лум, как будто из-под земли, появился неунывающий Трацар.
— Эй, царевич, да ты, кажется, серьезно ранен! — весело, как всегда, проговорил он и шепнул несколько заклинаний.
Ур Фта с облегчением понял, что Трацар проделал с ним тот же фокус, что и с самим собой накануне. От ран на бедре и предплечье не осталось и следа. А единственным, что его теперь беспокоило, был зверский голод, неразрывно слившийся с богатырской жаждой.
— Благородный Ур Фта, — торжественно произнес Трацар. — Я уже успел переговорить с предводителем отважных абаитов по имени Ажайла и, как мог, объяснил ему, кто ты такой. Этот славный четырехрукий витязь восхищен твоим искусством и твоей храбростью. Вот он, рядом со мной, и желает сам выразить тебе свою признательность.
— Пусть говорит, — согласился царевич.
Вождь абаитов произнес несколько слов пронзительным срывающимся голосом, а Трацар тут же перевел:
— Он считает агаров кем-то навроде двартов и бесконечно счастлив оттого, что дожил до встречи с одним из них.
— Передай ему, что я тоже рад, — устало вымолвил царевич.
Ажайла говорил еще, и Трацар прилежно переводил сказанное.
— Абаиты всегда верили, что посылающие в океан своих мертвецов когда-нибудь ступят на берег Тудутры, покарают грабителей клузов и наградят тех, кто пускал клузы дальше в океан. Поэтому абаиты издавна сражаются с прултами и ныне уже близки к полной победе.
— Переводи, — сказал царевич. — Я не только благодарен абаитам, но и от имени всех посылающих клузы отменяю запрет и дозволяю пользоваться тем оружием, которое взято у прултов в бою.
Когда Ажайла со слов Трацара уловил смысл изреченного, он кинулся перед Ур Фтой на колени и в порыве благодарности принялся целовать ему руки. При этом царевич отметил про себя, что лица абаитов так же сплошь волосаты, как и лица их противников, но в нем это их свойство уже не вызывало никакого отвращения. Он поднялся сам и поднял с колен Ажайлу, затем крепко обнял его и сказал:
— Когда я взойду на престол в Айзуре, мы скрепим нашу дружбу как полагается. но уже отныне она полыхает, словно доброе пламя костра, и не погаснет вовек, как и всякое чувство, что вспыхивает перед лицом смертельной угрозы.
— Позволь мне считать тебя своим старшим братом, о сильнорукий и щедрый Ур Фта! — ответил вождь абаитов. — И прими в знак почтения и благодарности мой алафзак.
Перевести последнее слово Трацар не сумел, и царевич, приняв в свои руки массивные железные стержни, с недоумением спросил:
— Что это? Что такое алафзак?
Кин Лакк пришел ему на помощь.
— Это и есть то неслыханное оружие, о коем я давеча упоминал. Думаю, правильно будет назвать его боевыми клещами. Неплохое подспорье для четырехрукого воина, а для моей свирели — новая мелодия.
Ажайла помог царевичу укрепить алафзак за спиной на приданной перевязи и пригласил его и Трацара на пир в ознаменование славной победы, приблизившей окончательный разгром отвратительных трупоедов.
Все устремились к небольшой площади посреди поселка, где уже настилали дощатые помосты для трапезы, разгружали телегу с абаитскими хлебами и откупоривали бочки, извлеченные из прултских погребов.
Они приготовились к пиру, а мы приблизились к концу следующего за двенадцатым урпрана книги «Кровь и свет Галагара».
Четырнадцатый урпран
Ни до, ни во время свадьбы в Балсагане Нодаль не решался и намекнуть Вац Ниуль о предстоящей разлуке. Он внушал себе, что поступает так, не желая отравлять своей милой радость веселого пированья. Но вот и кончился праздник, наступило утро четвертого дня, а у него все язык не поворачивался произнести горькие слова, недоставало сил сделать первый шаг из невидимого круга, связавшего их двоих крепче лестерцовой петли и железного обруча.
С тяжелым сердцем направился славный витязь в кузницу, чтобы принять работу подмастерьев Цалпрака. Но стоило ему взять в руки искусно выкованный посох, ничем не отличавшийся от того, каким он владел до роковой встречи с чернородным двартом, — и Нодаль на несколько лумов забыл обо всем на свете. Крутанув посохом в одной руке, словно детской погремушкой, он ударил им о наковальню и убедился, что вещь действительно сработана на славу.
Затем Цалпрак разложил перед ним кое-что из доспехов, и Нодаль выбрал кольчугу с рукавами да опястья из чеканного серебра с дивным узором. Надев на себя это нехитрое снаряжение и на пробу приладив посох за спиной в петлях ременной перевязи, славный витязь вышел во двор, снова понурив голову от тяжкого раздумья.
Каково же было его удивление, когда увидал он свою Вац Ниуль! Неспешно ступая, подвела она ему белоснежного гаварда с наголовником из толстой кожи в серебристых накладках, а еще с поместительным коцкутом, набитым под завязку и притороченным к седлу. Приблизилась, виновато улыбнулась и молвила:
— Хороший мой, любимый, драгоценный. Не сердись, но я решила испросить у тебя дозволения остаться в добром доме почтенного Цалпрака. Мне ведомо, что ты связан клятвой и должен отправиться в трудный поход. И я не хочу быть тебе обузой по пути.
— Вот и ладно. Ведь и я ему то же самое предлагал, — раздался за спиной у Нодаля голос Цалпрака.
А тут еще тетушка Танадона подоспела своим широким хозяйским шагом и, накинув витязю на плечи подбитый светлым мехом плащ из белой таранчи, заявила:
— Нечего раздумывать. Пускай девочка остается, и делу конец. Куда ей с тобой во вьюгу да сугробы. Пускай поживет у нас, пока ты свои дела свирепые уладишь. Пускай побудет в нашем доме вместо родной дочери.
Она обняла Вац Ниуль, но та вырвалась из ее объятий, кинулась Нодалю на шею и, едва сдерживая слезы, прошептала:
— Коли дозволяешь мне остаться, поезжай скорее, чтобы скорее назад воротиться. А я тебя ждать изо дня в день стану.
— И то правда, поезжай, чтоб меньше слез было, — сказал Цалпрак, хлопнув его по плечу. — Видишь как — все, что нужно в дорогу, мы уже собрали.
Нодаль не менее афуса жадно глядел прямо в глаза Вац Ниуль. Затем, ни слова не говоря, покрыл ее лицо поцелуями, перехватил уздечку и вскочил в седло.
— Постой, сынок! — воскликнул почтенный кузнец, схватившись за стремя. — Прими от меня в подарок вот эту вещицу. Я ее не на заказ, по душе работал.
И он протянул ему кинжал с костяной рукоятью в прекрасных видрабовых ножнах, инкрустированных тсаарнским стеклом и серебряной нитью.
— Благодарю тебя за все, учитель. Благодарю и тебя, тетушка Танадона, — сдержав рыдание, вымолвил славный витязь и принял дар. — Простите, что не свершаю положенных поклонов. Боюсь, что если сойду с гаварда, никакою силой меня будет не оторвать от моей любимой. Прощай, Вац Ниуль, я вернусь скорее, чем ты думаешь!
Выхватив из-за голенища крученую плетку, он ударил ею гаварда и в тот же лум, как вихрь промчавшись по Балсагану, скрылся в заснеженной чаще Асфорского леса. А Вац Ниуль наконец дала себе волю и горько заплакала, спрятав лицо на груди у тетушки Танадоны.
* * *
Не прошло и нимеха, как Нодаль уже обнимал мать-рараву, стоя на пороге ее домика. Ему хорошо было известно, что одним из лапсагов, добровольно принимаемых раравами, был отказ от агарских праздников и увеселений. Потому-то он не только не стал посылать за нею с приглашением четыре дня назад, но и теперь ни словом не обмолвился о сыгранной в Балсагане свадьбе. Он лишь сказал, что на время оставил Вац Ниуль в доме почтенного Цалпрака, что торопится на поиски следов своего друга и господина царевича Ур Фты и даже не станет заходить в дом.
— Я не задержу тебя, мальчик мой, — молвила в ответ рарава, — ибо ты правильно поступаешь, торопясь исполнить назначенное судьбой. Вот, прими от меня в дорогу свежий хуш-раш в мешочке с обережным знаком. Дай-ка я сама повешу его рядом с твоей саорой…
— Да как же ты сразу не приметила и разве я не сказывал тебе, что саора моя пропала после встречи с чернородным двартом? — прямо и бестревожно сказал Нодаль.
— Как! Что ты говоришь? Ведь нельзя тебе без саоры!
Рарава потемнела с лица, и в глазах ее засверкали слезы отчаянья.
— Не волнуйся, матушка! — попытался успокоить ее Нодаль. — Саора сделала свое дело. Ее предсказание сбылось и, по крайней мере, вижу-то я теперь благодаря знанию заключенных в ней слов. А впредь я, пожалуй, и без нее обойдусь!
Но рарава его не слушала — сжав ему ладонями лицо, она взволнованно причитала «Ты должен найти саору, ты должен ее найти!» до тех пор, пока славный витязь не поклялся, что постарается отыскать свой пропавший талисман, если, конечно, ради этого не придется забыть о главной цели.
Однако клятва ничуть не успокоила рараву. Видно было, что отпускает она Нодаля и отвечает на его прощальные слова с великой тяжестью на душе. Так и расстались: он, как всегда, посулил скорое возвращение и счастливую встречу, а она поверила ему, ибо ничего другого не оставалось.
Проехав сколько-то аэталов, Нодаль обернулся и уже не увидел позади ни дыма над домиком раравы, ни укрытого мягким густым снегом Асфорского леса. Кругом не было ни деревца — только голая степь до горизонта, безмолвная и белая, словно отполированная поверхность бесконечно-громадной мабровой глыбы. Да по правую руку вдали угадывались заросли, скрывавшие берег незамерзающего извилистого Сара.
Повинуясь какому-то загадочному внутреннему зову, витязь с посохом не свернул на дорогу, ведущую в Набир, и уверенно направил своего гаварда вверх по течению этой великой реки, берущей начало неподалеку от Саклара, того самого, где впервые встретились они с царевичем и Кин Лакком. Избранная дорога была хорошо знакома Нодалю — через две ночевки она должна была его привести в дорогое и памятное место.
Не станем рассказывать о том, как аэтал за аэталом он одолевал заснеженную равнину, как распевал залихватские песни тсаарнских рыбаков и лесорубов, чтобы отогнать тоску одиночества, как собирал на ночь костер, ломая тонкие голые ветки прибрежного кустарника. Не станем перечислять многие трудности и опасности, показавшиеся ему детской забавой в сравнении с недавно пережитым и легко побежденные. Заметим только, что сердце в богатырской груди сжималось все крепче и неизбывная печаль томила его все тяжелее. Ибо место, к коему он приближался, было разоренной обителью светлой памяти благородного дварта Олтрана, некогда приютившего и терпеливо научавшего Нодаля воинскому ремеслу и иным премудростям.
Два дня и две ночи и еще один день провел он в пути, а на закате третьего дня подъехал к руинам обители Небесного Взора. От окружавших ее в лучшие времена серых стен высотой в два агара остались лишь груды камней, местами призрачно хранившие былые очертания маленьких бастионов. А из внутренних построек уцелели только несколько павильонных столбов да три этажа из девяти чудесной башни Бесконечного Приближения.
Нодаль обвел развалины медленным взором и сокрушенно качнул головой. Наступившие сумерки усиливали чувство бездонной печали от невозможности вернуть этим местам минувшее процветание. Он впервые видел эти каменные останки и, пытаясь представить, что за сила, полная исполинской сверхагарской злобы обрушилась на жилище Олтрана, остановился на единственном образе, соответственном увиденному. То был, как ты, верно, уже догадался, образ проклятого дварта Ра Она. Разве без его участия криане сумели бы сокрушить великого Олтрана? Разве под силу им было разрушительное дело, коего унылые следы приходилось теперь созерцать славному витязю?
Огибая груды камней, он шагом пустил своего гаварда, охваченный бурей воспоминаний и гневными мыслями о справедливом отмщении. А когда поднял голову, невольно вздрогнул: в третьем от земли оконном проеме того, чем стала башня Бесконечного Приближения, мерцая, качался яркий свет, и отблески его сверкали на снегу в сгустившейся темноте подобно горстями рассыпанным тегаридам.
Горький опыт минувшей осени здорово поубавил безрассудства и ни на один халиат — храбрости в сердце славного витязя. Теперь он действовал расчетливо и осторожно.
Привязав гаварда к одному из нерушимых павильонных столбов, он стремительными короткими перебежками преодолел расстояние, отделявшее его от останков башни, и прижался к едва освещенной стене. Пристально оглядев ее до светящегося проема, он извлек из ножен подаренный Цалпраком кинжал и с ловкостью лесного пагрика вскарабкался наверх.
Здесь ему повезло — из стены торчали обломки железных прутьев. В один из них он вцепился рукой, в другой уперся ногами. Теперь положение позволяло ему, свесив голову, заглядывать внутрь башни справа и сверху. Так и сделав, он убедился, что зал, освещенный парой-другой факелов и жарко полыхающим в пристенном очаге пламенем, почти целиком открыт его взору.
Возле очага стоял грубо сколоченный ослон с высокой спинкой. На нем восседал незнакомец в роскошном черном сигоне, расшитом золотой нитью и с меховыми опушками, накинутом на голое тело. Нодаль сразу же пристально вгляделся в его худощавое смуглое лицо с глазами, походившими на глаза голодного порска, и длинными тонкими усами, оттенявшими гладкий, раздвоенный глубокой складкой подбородок. Сомнения быть не могло: этого лица он никогда прежде не видел.
За спиной у незнакомца стояли навытяжку двое здоровенных криан, вооруженных зайгалами, а еще двое с затейливыми саркатскими секирами в руках охраняли вход. Посреди зала Нодаль увидел со спины щуплого юношу зим пятнадцати-шестнадцати на вид, облаченного в длиннополый тифсал из темной таранчи. Понурив наголо бритую голову, он молча теребил длинную тонкую косичку, в которую был заплетен оставшийся у него на затылке пучок смоляных волос, и, как можно было догадаться, дрожал всем телом.
— Подойди ближе, — сказал усатый незнакомец и вытянул перед собой ноги в желтых тарилановых сапогах с багровой бахромой. Юноша приблизился на шаг.
— Ближе, ближе, еще ближе, становись передо мной на колени!
Юноша, нерешительно повиновался, но, приблизившись, отвернулся, по-видимому, не желая опускаться на колени перед усатым. И Нодаль приметил слезы, сверкнувшие в его глазах. Меж тем усатый щелкнул пальцами и, не оборачиваясь, указал на жалкую фигурку своим вооруженным слугам. Те кинулись вперед и в один лум поставили юношу на колени.
— Сними-ка с меня сапоги! — приказал усатый. Юноша попытался вскочить на ноги, но его удержали, и тут же с двух сторон перед его глазами блеснули смертоносные лезвия зайгалов. Не в силах сопротивляться, он неохотно взялся за сапог, протянутый прямо ему в лицо.
— Скажи: «Слушаюсь, господин Цул Гат»! — опять приказал усатый. Несчастный пробормотал что-то невразумительное. А у Нодаля в груди поднялось и заклокотало неодолимое чувство омерзения, и он отчетливо уразумел, что вызвано оно прозвучавшим под сводами зала именем. В отличие от лица усатого негодяя, его имя Нодаль уже встречал однажды. Но где, когда, в связи с какой мерзостью? На эти вопросы его память не спешила отвечать. Ну, а твоя-то, надо полагать, уже ответила?
Пока Нодаль тщетно ворошил воспоминания, бедный юноша кое-как стянул сапоги со своего мучителя. А тот, довольно ухмыляясь, проговорил:
— Давай, раб, лижи мне ноги своим языком да прежде скажи «Слушаюсь, господин Цул Гат» так громко, чтобы стражники у входа слыхали!
И он рассмеялся отвратительным смехом, когда один из его слуг изо всех сил ткнул юношу в спину кулаком, побуждая выполнять сказанное.
Терпеть подобное безобразие Нодаль уже не мог. Это было выше его сил. К тому же прут, в который он упирался ногами, все больше изгибался под тяжестью богатырского тела. Еще несколько лумов — и он рисковал повиснуть на руках, потеряв из виду происходящее в башне. Славный витязь не стал этого дожидаться и, подтянувшись, закинул ноги в оконный проем.
Соскочив на гладкие плиты, отражавшие свет факелов, он молниеносно выхватил из-за спины свой посох и в первую очередь кинулся навстречь стражникам с зайгалами, сразу выпустившим юношу и обернувшимся на шум.
С каждым ударом Нодаль повторял себе под нос противное имя, стараясь вспомнить, где он услышал его первый раз. На помощь его противникам поспешили те двое, что с секирами охраняли вход. Славный витязь тоже торопился, намереваясь отрезать единственный путь отступления, остававшийся ошарашенному Цул Гату. Поэтому каждый его удар был смертельным. Он четырежды произнес «Цул Гат» и обозначил тем самым четыре раскроенных черепа.
Затем он перегородил своим могучим телом дверной проем как раз в ту четверть лума, когда Цул Гат попытался подобно черному стриклю выскользнуть из зала. Нечего и говорить, что это ему не удалось: у самого выхода он наткнулся своим поганым лицом на выпростанный вполсилы шестипалый кулак и, опрокинувшись навзничь, проехался по гладкому полу аж до подножия ослона, как дохлый жефдеф по молодому льду. На безоружного славный витязь никогда оружия не поднимал.
Топот множества ног заставил Нодаля повернуться спиной к залу. Он увидел, как по лестнице бегом поднимается целый отряд в секирами, и уверенно двинулся навстречь. Над лестницей, рождая гулкое эхо, повис его голос, он звучал все тверже и громче, перекрывая звон секир и хруст, рождаемый меткими ударами посоха:
— Цул Гат. Цул Гат. Цул Гат!..
И как только его беспощадный посох опустился на последнюю голову, положив конец недолгой схватке, в памяти всплыла отвратительная морда Ра Она, шевелящая губами, с коих слетали слова: «Вчера на закате мой верный слуга по имени Цул Гат вложил в нежные ручки царевны Шан Цот самострел, из которого она подстрелила Кин Лакка». И еще: «Я приказал моему верному Цул Гату уничтожить крианскую царевну, и он перерезал ей горло».
Разъяренный этим воспоминанием, он вдруг услышал отчаянный вопль: «Берегись!» и обернулся. Несчастный юноша предупредил его вовремя. Сзади на полусогнутых ногах к витязю подкрался Цул Гат и уже замахнулся прямым кинжалом, чтобы нанести предательский удар в спину. Посох Нодаля взвился, как красная молния, и обрушился на голову злодея с такой силой, что его черные мозги разлетелись в разные стороны, словно ядовитая мякоть переспелого хирдрифа, негодная даже на корм скоту.
Как только все было кончено, Нодаль, опустив посох, обратился к бритоголовому юноше со словами, согласными обычаям тсаарнского вежества, и, как полагается, первым назвал свое имя. Но тот напряженно молчал, не будучи в силах ответить и, по всему, с трудом одолевая приступ тошноты.
— Здесь неудобно говорить, уважаемый, — мягко заметил Нодаль, уразумев, какие неприятные чувства владеют этим утонченным существом, в чьих огромных глубоких глазах застыло выражение всепоглощающего ужаса. — Потерпите четверть лума, я только протру свой посох — и мы перейдем в какое-нибудь место почище.
Юноша молча кивнул, и Нодаль сорвал с мертвого Цул Гата щегольской сигон с золотою вышивкой. Он начал обтирать посох его мягкой цинволевой подкладкой и вдруг в изумлении замер: на груди у мертвеца сверкала пурпурными искрами собственная нодалева чудесная саора. Нодаль наклонился и взял талисман в руку. Тут же на большой прямоугольной грани явился один из знаков листвы. Нодаль рассмеялся от радости, проворно возвратил саору на законное место — к себе на грудь и, сжав ее в ладони, собрался прочитать, как бывало, предсказание, переставшее быть для него загадочным. Но в этот лум сзади раздался негромкий звук падающего тела. Он оглянулся и увидел измученного юношу без памяти простершимся на холодных плитах.
Перешагивая через трупы, Нодаль отнес его на руках вниз по лестнице в покои второго этажа и, не раздумывая, уложил на богатое ложе, которым, судя по всему, до этого пользовался сам Цул Гат. Он расстегнул бедняге ворот и натер ему основание шеи своим хуш-рашем. Юноша немедленно пришел в себя и, вытаращив глаза, принялся ртом хватать воздух.
— Ничего, ничего, — успокоил его Нодаль, — немного обжигает, зато потом сразу делается легче.
Заметив, что действие хуш-раша смягчается, он ласково произнес:
— Позвольте узнать ваше драгоценное имя, а также откуда вы родом и по воле какого случая оказались в лапах этих отъявленных негодяев?
Ответ юноши поверг славного витязя в еще большее изумление, чем только что найденная саора.
— Мое имя — Шан Цвар. Я — побочный сын великого царя Цфанк Шана. Злодеи похитили меня из дворца в Саркате и держали в этом забытом агарами месте, подвергая неслыханным издевательствам.
Услышав эти слова, произнесенные с чистейшим столичным выговором, Нодаль только спросил:
— Когда же случилось с вами это несчастье?
— В начале осени, вскоре после окончания войны, но еще до того, как отец наш вернулся в столицу.
— Везет же мне на наследников престола! — невольно воскликнул Нодаль, благодаря своему быстроумию, сразу сообразив, что если бы перед ним был чокнутый самозванец, то уж верно называл бы себя не побочным сыном, а властелином Крианского царства. В тот же лум, опомнившись, он совершил перед Шан Цваром положенные поклоны и спешно поведал ему о событиях, происшедших в Саркате, поведал все, что знал со слов почтенного Цалпрака.
— Увы, славный Нодаль! Теперь я отлично разумею, что был похищен сообщниками самозванца, бессовестно занимающего ныне саркатский престол, по праву принадлежащий мне. И верно, негодяй этот силен, коли оказался способным на такое; верно, и в столице его окружают преданные слуги, среди которых немало могущественных придворных.
— Не сомневайтесь, государь! Противник ваш очень силен, и даже гораздо сильнее, чем вы предполагаете! — воскликнул Нодаль, держа в мыслях чернородного дварта.
— Говори мне «ты» и называй по имени, мой доблестный избавитель! Пока что не могу тебя наградить ничем иным. Но как только я восстановлю свое право и воссяду на крианском троне, ты получишь достойное вознаграждение!
«Однажды уже доводилось мне слышать нечто подобное, — заметил про себя Нодаль, — и помнится, от представителя царства, враждебного Крианскому. Ну и кидает же меня судьба, играя в бозабар со смертью!»
Проведя в беседе с Шан Цваром пару нимехов, он убедился в том, что этот юноша обладает ясным и трезвым разумением, что в черных его глазах, как говорится, листва бежит могучим потоком, а из уст исходит чистый элих сладкозвучных речей.
На следующее утро, почерпнув свежие силы в покойном сне, они пробудились и стали собираться в дорогу. Накануне Нодаль сумел убедить Шан Цвара в том, что прибытие в Саркат будет для него самоубийству подобно. Обсудив всевозможные обстоятельства, взвесив желания и надежды на весах неспешного разумения, они порешили, что наилучшим убежищем для опального наследника крианского престола будет Айзур. А кратчайший путь в цлиянскую столицу лежал вдоль берега, вверх по течению Сара и далее — через Сакларский перевал. Однако Нодаль, вкратце поведав свою историю Шан Цвару, сразу же объявил, что не может его проводить до самой цлиянской столицы, ибо направляется в Восьмибашенную Эсбу на поиски царевича Ур Фты. Порешили на том, что, вместе проделав большую часть пути, они расстанутся в Дигале, после чего Шан Цвару придется в одиночестве перебираться через горы Шо.
В нижних помещениях башни они обнаружили целый гавардгал и настоящий склад провианта. Нодаль выбрал для Шан Цвара, мало смыслившего в гавардах, великолепного крепкого зверя огненно-рыжей масти и заставил снарядиться зайгалом на простом кожаном опояске. Затем они запаслись еще одним полным коцкутом еды и напитков и задолго до полудня покинули руины обители Небесного Взора.
Когда они отъехали на полаэтала, Нодаль придержал своего гаварда, повернулся в седле и громко проговорил:
— В присутствии незаконно обиженного государя Кри клянусь тебе, что, выполнив свой долг перед царевичем Ур Фтою, я сделаю все, чтобы восстановить твою цветущую обитель, и да будет она обителью памяти о тебе, великий Олтранагасайладар Геалорбоцирибур!
Засим они помчались, непрестанно погоняя своих гавардов, взрывавших тяжелыми лапами снег, и уже не останавливались и даже не оглядывались до первого привала.
* * *
В ясный зимний день к пристани крианской Эсбы подошла небольшая диковинная лодка с косым парусом и высоким носом. Хозяин «Зеленого рузиава», тот самый расторопный малый в лестерцовом переднике, которого ты, верно, припомнишь, если постараешься, издали наблюдал за ее приближением. Он был изрядно удивлен и раздосадован и в этих чувствах бормотал самому себе:
— Сколько зим живу я при море, а подобной посудины не видал! Ни на Лауте, ни на Лаите, ни на острове Рес, ни в Корлогане, ни на Ачеде не строят лодок с такими носами и не шьют таких парусов!
Нечего и говорить, что он удивился еще больше, когда увидал, как на пристань сходят с пришвартовавшейся лодки всего двое, направляются прямо к «Зеленому рузиаву», а при ближайшем рассмотрении оказываются весельчаком Тер Цатом и его слепым приятелем, тем самым, что в ночь восшествия на саркатский престол наследника Шан Цвара попался в лапы притравщиков с «Соленой вейры». Хозяин харчевни не был каким-нибудь злодеем, но становиться на пути букталанных притравщиков считал просто-напросто безрассудным делом. Он и Тер Цату, этому славному малому, не открыл в ту ночь всей правды, потому что прекрасно разумел — дознается это подлое племя, что он их выдал, — не пощадят ни заведения, ни его самого. А вот коцкут он сохранил, это пожалуйста, он ведь не мошенник с рыбного рынка, а честной агар и водитель почтенного дела.
Приветливо помахав рукой, он пригласил обоих в свою харчевню, на славу угостил их, хотя и не за счет заведения, и, наконец, подвел к чуланчику, где среди горшков с приправами, ароматных связок лиглона и прочих запасов царевич Ур Фта нащупал свой коцкут и с радостью закинул его на плечо.
— Скажи-ка, хозяин, — спросил он, когда вдвоем с Трацаром они уже стояли на пороге, — возможно ли теперь купить в городе хороших гавардов?
— Как же, как же! Очень даже возможно. Третьего дня букталан «Забава прилива» пришел из Корлогана с грузом в дюжину дюжин голов. А распродажа в большом городском гавардгале только вчера началась.
— Ну что ж, благодарим тебя за честную услугу, — с беспечной улыбкой сказал Трацар, отсчитывая золотые хардамы. — Только впредь поступал бы ты по правде всегда, а не с разбором. Ведь нечего тебе страшиться букталанных притравщиков — они такие же дельцы, как и ты, да только дело у них погрязнее будет.
«И правда, чего мне страшиться этих негодяев? — Подумал харчевник. — Плевать я на них хотел, а не потакать их поганым делишкам! Правильно почтенный Тер Цат сказал».
Он проводил глазами странных своих посетителей, потом и правда плюнул за порог, решительно кинул на плечо полотенце и скрылся за дверью.
Ур Фта и Трацар быстро добрались до городского гавардгала и вошли туда в самый разгар торга. Под высокими бревенчатыми сводами с двух сторон тянулись добротные стойла, возле каждой дюжины которых имелся опытный маклак с трещоткой. Стоило кому-нибудь из них залучить покупателя, как он при помощи своей трещотки обращал на себя внимание большого купца, восседавшего на высоком помосте в центре гавардгала. Затем он криком оповещал о состоявшейся продаже; а пересчитав хардамы — о правильной уплате, и вскидывал руку, пальцами показывая число проданных зверей. Купец же, не сходя с места, получал представление о том, насколько успешно идет торговля, и делал отметки на особой дощечке. Между купцом и его маклаками все загодя было решено, и цена, получаемая им за каждого гаварда ни уменьшиться, ни увеличиться во время торга не могла. Разницу между нею и тем, что платил покупатель, ловкие залучалы отправляли к себе в карман в качестве вознаграждения и торговались отчаянно, до хрипа и слез.
Один из них у самого входа вцепился в рукав Трацару и, вращая глазами, завопил:
— Только мои, господа, только мои! Скок мягкий как пух фогоратки, мчатся быстрее отливной волны, масть — изумительная, на выбор — седина в небесах, розовый лелод, мубигал с золотой прожилкой! А умны-то, умны! Да разъезжать на любом из них — все равно, что оседлать царского советника!
И Трацар, не выпуская руки царевича, дал себя увлечь первому встречному зазывале, но вовсе не от того, что заслушался, как тот расхваливает свой товар. С Трацаром что-то случилось, как только они вошли в гавардгал. Он вздрогнул и, поворачивая лицо из стороны в сторону, стал напряженно прислушиваться, словно пытался уловить звуки знакомого голоса сквозь крики, треск и рычание гавардов, наполнявшие это громадное помещение.
Шаг за шагом он следовал за хитрым маклаком и тащил за собою царевича, безусловно доверявшего чужим глазам в таком деле, как приобретение гавардов.
Вскоре они приблизились к стойлу, где переминались хваленые чудо-звери. Здесь Трацар, не переставая навострять уши, рассеянно глянул на них и едва не остановил свой выбор, почти наугад, на паре небесно-голубых с серебряной искрой. А ловчила-продавец уже схватился было за свою трещотку. Но в этот лум Кин Лакк не удержался:
— Эй, царевич! — закричал он что есть мочи. — Немедленно останови этого безумца! Не денег жалко, а вас, бедолаг — ведь на этаких сивых переростках вам и десятка атроров шагом не проехать! Скорее ступайте вон туда, в дальний угол на противоположной линии. Там тихий паренек предлагает среди прочих пару отличных корлоганских крепышей, черных с серебристыми хвостами. Во всем гавардгале не найти зверей надежней и краше!
Ур Фта вполголоса поспешно передал Трацару совет невидимого форла. После этого, не обращая внимания на летящие им вслед живописные стоны первого продавца, они пересекли гавардгал и направились к тем стойлам, на которые указал Кин Лакк. «Тихий паренек» оказался здоровенным чернобородым малым в скрипучих сапогах (жаль, Ур Фта не мог оценить этой форлийской шутки). Похвалив своих покупателей за знание толка в гавардах, он заломил такую цену, от которой и самый богатый агар слюною бы подавился. Но беспечный Трацар знай платил, не считая, и удивляться пришлось продавцу, когда он поймал без всякого торга кинутый ему кошелек, под завязку набитый золотыми шарами хардамов. Однако, быстро опомнившись, бородач крутанул трещоткой, выбросил высоко вверх руку с двумя растопыренными пальцами и сотрясающим высокие своды басом прокричал:
— Шет! (что значит «продано» по-криански).
И тут же, ибо он и по весу кошелька догадался, что простаки-чужестранцы здорово ему переплатили, добавил:
— Теж! (что значит «оплачено»).
Услыхав выкрики, Трацар подпрыгнул и хлопнул царевича по плечу:
— Вот оно! Вспомнил! Как только мы сюда вошли, мне показалось, что я его слышу. И вот, оказывается, не показалось!
— Да объясни же толком, любезный Трацар! Что именно ты вспомнил?
— Как что? Ключевое слово! — и придвинув лицо, он горячо прошептал царевичу на ухо. — Не жедеш, не тешеж, а шетеж! Все, милый Ур Фта, считай, что приятель твой найден. И если, конечно, он не где-нибудь поблизости, мы вовремя покупаем гавардов: они у нас на привязи не застоятся!
— И можешь мне поверить, благородный царевич, — сказал невидимый форл, — что, в отличие от тех голубых заморышей, эти среброхвостые птицы полетят без остановки хоть до самой пустыни Лаглаг!
Прикупив неподалеку от городского гавардгала добрую сбрую и запас провианта, они выехали из Северных ворот Эсбы и остановились в маленькой роще предгорья Шо. Здесь Трацар спешился первым и сразу же, приняв загадочную позу, пробормотал несколько дюжин беспредметных слов. Царевич также спустился на землю и, придерживая гавардов, стоял поодаль, чтобы не мешать своему чудесному приятелю в его непостижимом деле.
Наконец Трацар опустил руки, вздохнул и приблизился широкими шагами.
— Полагаю, тебе нетрудно будет принять решение, милый царевич, после того, как ты выслушаешь меня. Твой друг и верный слуга, коего нам пристало называть Витязем Посоха, цел и невредим. Он только что выехал из развалин Обители Небесного Взора и теперь прямиком направляется в Дигал. Этот путь протяженностью около трехсот атроров не сулит ему никаких новых приключений и опасностей. Но едва он достигнет Дигала, дальнейшая судьба его будет предрешена самым печальным образом. Если он вздумает в одиночестве продвигаться далее, ему останется немного: один, самое большее два атрора в любом направлении…
— И что затем? — нетерпеливо воскликнул царевич, подгоняя замявшегося Трацара.
— Смерть. Неизбежная и лютая.
— Как можно ее предотвратить?
— Существует только один способ: не давать ему выехать из Дигала одному.
— Ясно, Трацар. Стало быть, мы немедленно направляемся в Дигал. Сколько до него?
— Около четырехсот, на сотню атроров больше, чем славному Нодалю…
— Ну что ж, следственно, будем торопиться и постараемся делать как можно меньше привалов.
— Если бы только привалы служили помехою на твоем пути, о благородный Ур Фта, ты давно бы достиг своей цели! — вмешался напоследок Кин Лакк.
— Ты мне льстишь! — ответил царевич. — Недостаток разумения заставил бы меня споткнуться и на самой гладкой дороге.
— Что ты говоришь? О какой лести? — рассеянно вопросил Трацар, не без труда вскарабкавшийся в седло.
— Не сердись, дорогой друг, — сказал царевич, в свою очередь прыгнув в седло и улыбнувшись. — Ведь я вынужден иногда говорить с нашим невидимым спутником, коего ты, в отличие от меня, еще и не слышишь.
— Ах, да! — рассмеялся Трацар. — Привет тебе, Дацар! Прими благодарность за помощь в выборе гавардов: ведь звери и правда, кажется, великолепны!
С этими словами он пустил своего гаварда вскачь, а следом сорвался с места и царевич. Они помчались степью, и густой липкий снег, с вихрем летевший навстречь, не был им помехой. И никакая иная сила не препятствовала их неудержимому движению. Даже бурное и довольно широкое течение Таргара не остановило их ни на лум — гаварды, перенеся на противоположный берег своих седоков, только встряхнулись и фыркнули несколько раз, прежде чем устремиться дальше — в простор, казавшийся безграничным.
«Уж не возвел ли вновь могущественный Су Ан надо мною своды своего таруана?» — подумал царевич. И, заметь, подобная мысль не пришла бы ему в голову, кабы ведал он, каково в тот нимех приходилось благородному дварту.
* * *
Су Ан пребывал в своем последнем и самом надежном убежище, высоко в горах Ло, за стенами обители Клакталовых Ливней. Было так. Выбиваясь из сил, натыкаясь на скалы в низком полете, падая и поднимаясь вновь, достиг он ворот обители, сверкающих чистейшей белизной, ударился в них всем своим драгоценным телом и простерся ничком у входа.
Когда же пришел он в себя, то немедленно — с благодарностью, впрочем — отослал испуганных силинов и сартов, толпившихся вкруг его ложа и потчевавших благородного дварта чудесными подъемными средствами: настойкою звездного жерфа на первой осенней росе, двенадцатидневным отваром из ста двадцати корней и припарками из сулалского донного ила.
Он остался наедине с болотною сужицей, той самой, что принесла нашим героям дозволенные вести по пути из Сарката в Эсбу. И говорил с нею, словно с самим собой. Беседовал странно о странном.
— Зачем Су Ан толкнул Галагар на седьмую тропу судьбы? Ведь это и ему грозит гибелью.
— Что поделаешь? Время гибели двартов настало. Ушли Фа Эль и Олтран, доживает последнюю зиму Мокморра. Зловредного и глупого Ра Она вряд ли что-то спасет. А вместе с ним неизбежно исчезнет Су Ан.
— Разве нельзя по-другому? Отчего не переменить ход событий?
— По-другому нельзя. Оттого, что враждою двартов издревле питается вражда агаров. Ныне войне и вражде будет положен конец. Седьмая тропа выведет Галагар к единению и миру.
— Но вражда — не источник ли жизни всего Галагара? Не войной ли заполнены зимы? Не в ней ли вкус и смысл бытия?
— Прежде я был уверен в этом. Теперь усомнился. Много зим вкруг озера Ях агары ведут мирную жизнь и не потеряли ни вкуса, ни смысла. Не знаю, что будет с ними потом, но вот они сложили оружие и счастливы, и, во всяком случае, это не моего ума дело. Когда-то, до появления двартов, агары составляли одно целое. Может быть, впредь суждено им вернуться к былому?
— Но ведь этак они избавятся от времени, свернув его течение в кольцо. Разве это не смерть?
— Из того, что смерть есть избавление от времени, вовсе не следует, что избавление от времени есть смерть.
И, верно, о многом еще говорено было меж ними, но слова, приведенные здесь, — лишь плод воображения. Подумай сам, разве было кому их услышать и затем донести до нашего разумения? Так стоит ли еще умножать воображаемые речи, когда предназначено поведать о многочисленных достоверно известных делах?
Но после, в других урпранах. А этот, четырнадцатый, завершается здесь несколькими строками прекрасного и глубокомысленного эрпарала былых времен:
Только глупец безнадежный способен Верить в себя самого без сомненья — В сети влетающей рыбе подобен, Он погибает в плену ослепленья. Вывернув пристальный взор наизнанку, Видит он тени лишь собственной силы, Держит за истину в сердце обманку, Падает, а не летает, бескрылый. Мудрого не опьяняет свобода, Данная только прозрения ради, Он терпелив в ожидании всхода Подлинной воли в надежной ограде.Пятнадцатый урпран
От берегов Таргара до верховьев извилистой Зиары цлиянскому царевичу и его чудесному другу Трацару оставалось проделать не более сотни атроров и еще столько же до Дигала. О Дацаре-Кин Лакке здесь можно и не говорить, ибо он скорее приноравливался к передвижению оживленных агарских тел, чем двигался сам по себе. Последовательная мерность пространства не властна была над его существованием, а его отношения с временем были темны и загадочны. Кое-кто говорит, что лутаки могут передвигаться из прошлого в будущее, как с юга на север, и обратно. И еще откуда-то куда-то и наоборот — как с востока на запад. Но это выдумки, конечно. Сам посуди, разве возможно такое? Зато наверно известно, что Трацар — тот действительно мог при помощи заклинаний открывать себе и другим доступ к самым тайным путям Галагара. Но царевич даже не стал его спрашивать, отчего они мчатся верхом на гавардах, как бы ни были те хороши, вместо того чтобы в один лум очутиться возле Дигала, прибегнув к колдовству. Ведь он уже на собственном опыте убедился, что есть свои правила и в мире таинственных деяний, есть и запреты, коих даже Трацару не переступить.
Таргарские воды были уже далеко позади, когда снегопад неожиданно усилился. Одновременно подул резкий холодный ветер, и вскоре началась настоящая снежная буря. То сбоку, то прямо в лицо ее порывистые вихри швыряли целые охапки заострившегося снега. В свисте и завывании невозможно было различить ни звука. Гаварды остановились и едва удерживались на месте, расставив свои могучие лохматые лапы. Счастье еще, что Трацар успел изо всех сил вцепиться в царевича и, пропустив под его ременной перевязью конец своего кожаного опояска, защелкнуть стальной замок пряжки. Теперь они намертво были прикреплены друг к другу, и это крепление выдержало в тот лум, когда их обоих вихрем вырвало из седел. Неодолимая сила, вращая, подняла их неведомо на какую высоту и продолжала стремительно поднимать все выше и выше.
Затем ужасный ледяной смерч утих и растаял так же быстро, как налетел. И они обрушились вниз с огромной высоты еще стремительнее, чем поднимались. Но едва царевич мысленно простился с жизнью, как падение замедлили ветви какого-то гигантского дерева. Ломая их одну за другой, они с Трацаром влетели в густую безлистную крону и в следующий лум, зацепившись своей ременной связкой за толстый сук, повисли словно стремена на козлах.
Спустя какое-то время царевич окликнул Трацара, но тот не отзывался. Тогда он позвал Кин Лакка и на этот раз услышал ответ:
— Я с тобою, царевич. И прежде назначенного лума никакая сила не разлучит нас, можешь не сомневаться.
— Где это мы очутились, Кин Лакк?
— Вы повисли на ветке огромного дерева и теперь напоминаете пару висилловых ягод, вполне созревших для того, чтобы понравиться прожорливым юирэлям.
— Мне не до шуток, Кин Лакк. Что с Трацаром?
— Не подает признаков жизни, но его бледность не похожа на бледность мертвеца.
— Что посоветуешь делать?
— Для начала избавиться от этой ягодной позы.
— Но каким образом?
— У тебя над головой — прекрасная ветка. Если ты подтянешься, ухватишься за нее.
Кин Лакк не успел договорить. Царевич дотянулся до сказанной ветки, а в следующий лум оседлал ту, на которой только что висел. Он подтянул к себе Трацара и попытался привести его в чувство. Но бедняга только застонал и пробормотал несколько непонятных слов.
— Брось, лучше заняться этим на твердой почве, — заметил Кин Лакк. — Спускайся как можно скорее вместе с Трацаром. Думаю, это большого труда не составит. Веток на дереве столько, что можно разгуливать по ним вверх и вниз, как по лестнице.
Однако последние слова были явным преувеличением. Царевичу стоило немалых усилий закинуть Трацара себе на спину и, придерживая его двумя руками, начать медленное движение вниз. Руки закоченели, ноги то и дело соскальзывали. Но все же, переступив с ветки на ветку добрую дюжину раз, он остановился и бодро спросил:
— Ну что, Кин Лакк, далеко ли еще до земли?
Ответ был произнесен неожиданно мрачным голосом:
— Ты не поверишь, славный царевич, но по-моему теперь до земли тебе еще дальше, чем было, когда начинался твой спуск.
— Опять шутишь? Или что-то опасное появилось внизу?
— Ничего там не появилось. Сугробы как сугробы, дерево как дерево. Только, повторяю, лучше бы тебе вовсе не двигаться: чем ниже ты спускаешься, тем выше поднимаешься.
— Нелепость какая-то, — пробормотал царевич. — Ты, верно, ошибся, Кин Лакк. Скорее всего, плохо заметил высоту.
— Ладно, — прохрипел Кин Лакк. — Я скажу тебе точно: теперь от вас до земли ровно уктас без одного керпита. Продолжай спускаться, и посмотрим, к чему это приведет.
Ур Фта с Трацаром на спине спустился еще на несколько веток.
— Стой! Достаточно, — крикнул ему Кин Лакк, а лума через три добавил: — Я оказался прав, хотя, поверь, меня это нисколько не радует. Высота, на которой вы находитесь, увеличилась еще на десяток тикубов.
Царевич вновь оседлал одну из ветвей злокозненного дерева и прислонился спиной к стволу, держа Трацара на руках, как девушку или ребенка.
— Постой, постой! — воскликнул он, поразмышляв немного в тишине, изредка нарушаемой потрескиванием заледеневших веток. — Спускаясь с этого дерева, поднимаешься на него. Это значит, для того, чтобы на самом деле спуститься, нужно… Да! Кин Лакк, послушай-ка, я нашел решение.
— Какое? — недоверчиво прохрипел Кин Лакк.
— Если спускаясь, я поднимаюсь, значит — поднимаясь, я спущусь!
— Похоже на правду…
— Похоже? Да ведь это единственно возможное и единственно верное решение! Попробуем немедленно. Ты заметил высоту?
— Да, заметил, и раз уж ты так уверен, можешь начинать, царевич. Держись только крепче и Трацара не урони!
— Не волнуйся, кажется у меня прибавилось сил! — воскликнул Ур Фта и начал, вопреки обычному разумению, подниматься на дерево для того, чтобы спуститься с него.
Через несколько лумов он услышал восторженный возглас Кин Лакка:
— Ты угадал, хитроумный Ур Фта! Высота уменьшается! Не останавливайся, если можешь!
— Постараюсь, — сказал царевич и, стиснув зубы, упорно продолжал вместе с бесчувственным Трацаром карабкаться вверх, то есть вниз.
— Осталось только шесть керпитов! — сообщил Кин Лакк. — Пять! Четыре! Три!
Но в тот лум, когда Ур Фта приготовился встать ногами на твердую почву у подножия таинственного дерева, раздался ужасающий треск, в ушах у него засвистел ветер — и ему показалось сначала, что дерево поднимается в воздух. Всем телом ударился царевич о заледенелый ствол, но не разжал пальцев, крепко вцепившихся в ветку, и не отпустил Трацара, изо всех сил прижимая его к себе двумя другими руками. И вдруг он почувствовал, что отрывается от ствола и, перевернувшись через голову всей тяжестью повис на руках, как если бы дерево вращалось, описывая круг в отвесной плоскости. Пальцы, не выдержав внезапного груза, скользнули вдоль ветки… и он, все же так и не выпустив Трацара из рук, еще более неожиданно оказался стоящим на четвереньках на ровной и твердой поверхности. Пошарив ладонями, Ур Фта убедился, что под ним — отполированный камень, и в потрясении пробормотал, ни к кому не обращаясь:
— Ради Су Ана, где же мы теперь?
— Точно сказать не могу, дорогой царевич. Но полагаю, что в ловушке, — ответил Кин Лакк.
— А дерево?
— Исчезло. В один лум. И в тот же лум выросли эти темные стены без единого окна или бойницы, этот высокий свод, а под вами легли эти белесые гладкие плиты. Короче говоря, вы очутились в галерее, конца которой не видно.
— Ох, я несчастный! Сколько ни учусь, все не могу научиться! — сокрушенно проговорил царевич. — Первое пришедшее на ум решение посчитал великомудрой догадкой.
— Не обижайся, царевич, — беззлобно проворчал Кин Лакк, — но не худо бы тебе, наконец и в первую очередь, поучиться не корить себя попусту и быстро исправлять ошибки, без коих, верно, не обходится и наимудрейший дварт.
— Ты прав, мой верный товарищ, я запомню эти твои слова, как и все остальное. А теперь поторопись — ведь из-за моей оплошности Нодаль может погибнуть. Разберись поскорее, что представляет собой эта галерея и нельзя ли как-нибудь выбраться из нее. А я тем временем попытаюсь помочь Трацару.
Немного погодя Кин Лакк, а вернее голос Кин Лакка вернулся и сообщил:
— Крепкая западня. Сработана на высочайшем двартовском уровне. Пустое каменное кольцо без единой щели на высоте в полтора уктаса над уровнем моря. А держится как сужичье гнездо на том самом проклятом дереве.
— Как же выбраться отсюда? — спокойно спросил царевич. — Что ты теперь посоветуешь?
— Что тут можно советовать? Скажу только то, что и без меня известно. Надо оживить Трацара и спросить у него. А если это тебе не удастся…
— Можешь не продолжать. В колодце Ог Мирга было не веселее. И лежа там на агарских костях, я однажды уже хорошо представил себе именно то, что, быть может, и теперь меня ожидает. Оживить Трацара не просто. Кажется, у него сломано несколько ребер, и дышит он с трудом. Полетай-ка еще по этой хитрой темнице: не найдешь ли чего-нибудь полезного?
— Слушаюсь, царевич. Твоя надежда — моя надежда, хотя для меня, разумеется, это нелепое сооружение — не преграда. Я — там, где хочу. А хочу я того, что должен.
Ур Фта сосредоточенно ощупал себя всеми четырьмя руками. Одежда его изрядно пострадала от падения, из глубоких царапин на лбу, груди и плечах сочилась кровь. Но не этим был он обеспокоен: при нем не было ни еды, ни питья, ни какого-либо зелья, чтобы помочь Трацару. Из оружия остался только прямой засапожный нож, который на счастье попался ему в эсбийской лавке и чьи плоские чеканные ножны он прикрепил к голенищу особым зажимом.
Невольно вспомнился царевичу славный Витязь Посоха и его замечательная привычка оснащать себя всяческими припасами, не полагаясь на коцкуты и седельные сумки. Вот бы сюда его мешочек с ядреным хуш-рашем! Уж верно, Трацар пришел бы в себя хоть на несколько лумов, испытав на собственной коже действие Черного Пламени. И тут же, вспомнив о Нодале, он почувствовал, как подступает отчаяние, готовое сжать ему горло железным кольцом. Ведь если они немедленно не выберутся из этой ужасной галереи, славный витязь наверняка погибнет в окрестностях Дигала. Ур Фта не сомневался в том, что предсказание Трацара на этот счет непременно сбудется, и принялся растирать ему пальцами виски. Но Трацар по-прежнему не шевелился и только тихо стонал.
Вдобавок ко всему Кин Лакк исчез куда-то и уже в течение нескольких рофов не подавал голоса. А все же Ур Фта сопротивлялся отчаянно и надежды своей не терял. Она прицепилась к его сердцу, как тот засапожный нож к голенищу, и царевич тоже держался за нее до конца, каким бы близким этот конец ни казался.
* * *
Тем временем и какое-то время спустя, вот что с Нодалем было. Вдвоем с Шан Цваром они благополучно проследовали в Дигал. И не подозревали при том, что один из воинов Цул Гата следил за ними от самых развалин обители Небесного Взора и, оторвавшись вблизи города, помчался к ближайшей тагунской заставе с целью, которая понятна без лишних слов.
Дабы избежать печальных воспоминаний и тяжелых мыслей, от коих все равно не было толку, Нодаль решил и близко не подъезжать к Бирцидовому саду, где минувшей весною довелось ему вместе с Кин Лакком принести клятву цлиянскому царевичу. Для того, чтобы отдохнуть и подкрепиться, он выбрал небольшую харчевню, стоявшую слева от Южного въезда. Здесь и устроили они с Шан Цваром прощальную трапезу, намереваясь поутру разъехаться из Дигала в противоположные стороны.
Изысканных блюд в этой харчевне не подавали. Зато посреди небольшого зала на ослоне с высокой спинкой восседал седовласый старик, державший на коленях большой яйцевидный цинлилар и перебиравший его струны сухими длинными пальцами. Рядом стояла стройная девушка в белой кофте, украшенной серебристым узором, и длинной зеленой юбке с кружевною лодчатой вшивкой под поясом. Ее кудрявая ладная головка возвышалась на длинной точеной шее, а бледное лицо, разрезанное крупными багровыми устами и разодранное большими глазами небесной синевы, было исполнено безыскусной наивной страсти, столь свойственной народным певцам в Галагаре.
Нодаль, окинув красавицу взглядом, тяжело вздохнул о далекой Вац Ниуль, которую теперь никому не под силу было вытеснить из его богатырского сердца, и прислушался к словам звучавшей песни. Это были незнакомые строки, положенные на общеизвестный, любимый в Крианском царстве мотив «Скорее белой пылью станут горы»:
Глядишь ты вверх — ужели это слаще? И что тебе за радость быть рабом Красавицы высокой и блестящей, Стоящей гордо в круге ледяном? А мог бы взглядом ты себе единым, Отпущенным ко мне из-под ресниц, Добыть навеки право господином Быть над рабой, поверженною ниц.Когда певица умолкла и звуки ее голоса сменились одобрительными возгласами немногочисленных посетителей харчевни, Нодаль поманил ее к себе и, наградив горстью медных шариков, спросил:
— О чем это ты пела, милая?
— Разве ты не слушал вместе со всеми? Ведь в песне сказано все, что хотелось сказать.
— Да, я внимательно слушал тебя. Но верно ли понял? То была песня о любви, далекой и близкой, и о том, что вторая предпочтительнее первой, не так ли?
— Может быть, и так, — усмехнулась певица. — А может быть, вовсе и не о любви, а о жизни и смерти. Но о том, что предпочтительнее — первая или вторая — это уж ты сам решай, богатырь.
С такими словами она пересыпала олы с ладони в мешочек на поясе и, кокетливо крутанув юбкой, вернулась к седовласому цинлилареду. А Нодаль крепко задумался, на целый роф позабыв о еде.
— Чем озабочен ты, о славный витязь? — ласково справился Шан Цвар, потягивавший из кубка молодой розоватый мирдрод.
— Мои заботы известны тебе, мой благородный друг, — отвечал витязь. — Новых к ним не прибавилось. Просто странная песня пробудила в моей голове странные мысли.
— О любви? Или о жизни и смерти?
— О любви, жизни и смерти, и о том, что назавтра мне будет нелегко с тобой расставаться.
* * *
Утром, выехав из Дигала, они словно продолжали вечерний свой разговор.
— За меня не беспокойся, дорогой Нодаль, — молвил Шан Цвар. — Не такое уж я беспомощное существо, особенно с зайгалом в руках. К тому же все решено между нами. Поезжай на поиски цлиянского царевича, исполни свой долг. А я, коли мне станет сопутствовать удача, дня через два уже буду в Айзуре и поведаю Белобровому Син Уру обо всем, что узнал от тебя.
— Все так, благородный Шан Цвар, но отчего-то камень лежит у меня на сердце. Расставаясь с тобой, я чувствую себя так, будто снова вступаю в ущелье Ледяного Потока, где только тьма и тяжкие испытания впереди.
— Пустое, витязь. Дай обнять тебя на прощанье, и разделить пополам гнетущую твое сердце тяжесть. Верь, вопреки любым испытаниям, каждый из нас достигнет поставленной цели.
Они обнялись у развилки и двинулись в разные стороны: опальный крианский царевич — по направлению к Сакларскому перевалу, а Витязь Посоха — вдоль хребта Шо прямиком к полноводному Таргару.
Сперва Нодаль передвигался не спеша, то и дело оглядываясь на удалявшегося Шан Цвара. Затем решительно мотнул головой и, нахлестывая плетью, пустил своего гаварда во весь опор. Преодолев не менее атрора, он хотел было еще разок оглянуться, но не стал, рассудительно полагая, что расстояние, отделявшее теперь от него Шан Цвара, слишком велико и всматриваться вдаль бесполезно — не увидишь ни точки.
В этом месте впереди, уктасах в десяти-двенадцати, дорога резко сворачивала вправо, и прямо напротив Нодаля у самого поворота высились гигантские древние видрабы. Их стволы в полтора-два обхвата отстояли друг от друга на шаг и ослепительно блестели в лучах восходящего солнца.
Нодаль невольно зажмурился от этого блеска и в тот же лум сзади раздался голос Шан Цвара. Он был уже совсем близко и кричал изо всех сил, чтобы витязь остановился. Видно, угнаться за Нодалем ему было нелегко, а нагнать хотелось до поворота.
Славный витязь натянул поводья и развернул гаварда так быстро, словно заранее был к этому готов, словно только и ждал этого оклика сзади. Вот тут-то, когда гавард поднялся на дыбы и резко прыгнул в сторону, Нодаль и услыхал смертоносный свист. Он сразу уразумел, что стрела предназначалась ему и вылетела из-за проклятых видрабов, ослепивших его своим блеском. Но благодаря внезапному движению гаварда, она пролетела мимо, и Нодаль увидел, как Шан Цвар, продолжавший мчаться, теперь уже ему навстречу, на своем огненно-рыжем звере, вдруг нелепо взмахнул руками, задрал в небо лицо и откинулся на спину, чудом удерживаясь в седле. В груди у него торчало темное древко с белоснежным оперением. А когда Нодаль подоспел и, остановив обоих гавардов, осторожно приподнял голову Шан Цвара левой рукой, губы несчастного юноши слегка приоткрылись и женственный его подбородок окаймили кровавые струйки, вытекшие из уголков рта.
Шан Цвар глядел на витязя широко раскрытыми глазами — и это были живые глаза, и в них не застыли, а жарко дрожали боль и мольба о помощи.
— Зачем? Зачем ты вернулся?! — воскликнул Нодаль и, взглянув на дорогу, увидел дюжины две тагун, неспешно выехавших из-за вековых видрабов и приближавшихся к нему с воздетыми луками и стрелами наготове.
Не отпуская Шан Цвара, он стремительно оценил положение и попытался найти выход. Он решил про себя: «Я крикну им, что сдаюсь, и брошу посох на дорогу. только бы они опустили луки и спрятали стрелы, поверив мне! Только бы подъехали ближе, а там посмотрим, что — куда и кто — кого!»
О том, что будет, если ему не поверят, Нодаль не хотел и думать. Набрав воздуху полную грудь, он взревел, что есть мочи:
— Не стреляйте, сдаюсь!
И тут же пожалел об этом, ибо немедленно две дюжины стрел или немногим меньше, полетели прямо в него и в голове у славного витязя с ужасающей ясностью вспыхнула невыносимая мысль о том, что крианское слово «сдаюсь» станет последним словом в его жизни.
Но, к счастью, он ошибался. Встретив невидимую преграду, стрелы осыпались в тикубе от него, словно заледенелые ветки с видраба от хорошего удара топором. Опешившие тагуны не успели и пальцем пошевелить, чтобы извлечь новые стрелы из своих узорчатых колчанов.
К стыду своему, растерялся и Нодаль. Как завороженный, смотрел он на витязя со стальным яйцом вместо головы, который подобно северному вихрю вылетел откуда-то сзади и слева верхом на великолепном черном гаварде с серебристым хвостом. Две пары рук его сжимали сверкавшие на солнце цохлараны. Вращая ими, как мельница крыльями в ураган, и не давая ни на лум опомниться врагу, он в какой-нибудь афус положил на дорогу добрую половину тагунского отряда, а остальных обратил в позорное бегство.
Увидев, как чьи-то добрые руки принимают на себя тело истекающего кровью Шан Цвара, Нодаль, вместо того чтобы схватиться за посох, схватился за голову и сначала едва слышно прошептал: «Да это Ур Фта». А потом принялся вопить во все горло:
— Ур Фта! Ур Фта!
Это, как ты, конечно же, догадался, и в самом деле был царевич Ур Фта, и он как будто уже не нуждался в помощи, когда к Нодалю вернулось разумение, а вместе с ним — способность размахивать посохом. Ну, а добрые руки, взявшие на себя заботу о раненом Шан Цваре, разумеется, принадлежали чудесному Трацару. Он-то и защитил славного Нодаля от предательских стрел своим заклятьем.
Но каким же образом этим двоим (Кин Лакк, понятно, не в счет, как существо бесплотное) удалось выбраться из страшной ловушки на вершине кувыркающегося дерева? У тебя только один вопрос, и тот тебя замучил. Каково же было Нодалю? Ведь у него-то в голове роилось великое множество мучительных вопросов.
— Нодаль, дружище! — раздался глухой, стиснутый железом голос царевича, в четверть лума подлетевшего на своем гаварде вплотную к витязю. — Ты не ранен?
— Я — живой! И ужасно рад тебя видеть, — с готовностью отвечал Нодаль. — Ты вовремя подоспел, чтобы спасти меня, но немного опоздал, чтобы спасти моего несчастного спутника.
— Это еще как сказать! — раздался в голове у царевича голос Кин Лакка. — Уж верно, Трацар поставит беднягу на ноги в считанные лумы. А вы бы не теряли времени даром. Вдвоем вам нетрудно будет догнать и уничтожить остатки тагунского отряда. Если этого не сделать, они еще доставят вам предостаточно хлопот.
Прислушиваясь к советам Кин Лакка, царевич быстро отдал распоряжения, и в то время, как сам он помчался прямо по дороге вдогонку за тагунами, Нодаль ринулся вправо. Продравшись через кустарник, он обошел беглецов спереди, выскочил на дорогу прямо у них перед носом и безо всяких церемоний пустил в ход свой знаменитый посох. Тагуны кинулись от него назад и столкнулись с цохларанами Ур Фты.
Этот двойной натиск оказался для них роковым. Тагунские головы летели с плеч на дорогу легче чем попадали бы с этих голов причудливые шапки, сдутые сильным ветром.
Когда все было кончено, Нодаль, еще охваченный жаром сражения, опустил посох и взглянул на своего господина и друга так пристально, словно все еще не мог поверить собственным глазам. А царевич снял с головы свой необыкновенный шлем, подъехал к Нодалю и молча заключил его в объятья. Оба заплакали навзрыд, и слезы их смешались, омывая разгоряченные лица. И тут царевич услыхал всхлипывания и хриплый голос Кин Лакка:
— Напомни ему обо мне, о Ур Фта!
И царевич горячо прошептал Нодалю в самое ухо:
— О, если бы Кин Лакк был рядом с нами и мог разделить счастье этой встречи!
— Значит, это правда? Кин Лакк убит? — печально спросил Нодаль, глотая слезы.
— Предательски застрелен в крепости Эсба…
— Агаром по имени Цул Гат? — неожиданно завершил Нодаль фразу царевича.
— Да, — подтвердил тот, — кажется, в первую очередь в убийстве Кин Лакка и прекрасной Шан Цот подозревали носящего произнесенное тобой имя.
— Это без сомнения так, царевич. И я уже воздал негодяю за его преступления. Поверишь ли, мозги у него черные, как мякоть хирдрифа! Ну, да теперь клубившиеся в них зловредные планы улетучились подобно пару из котла с откинутой крышкой. Хвала Олтрану!
— Хвала Су Ану! — отозвался царевич.
— Хвала Фа Элю! — прохрипел у него в голове Кин Лакк.
— Хвала великолепному Витязю Посоха, достославному Нодальвирхицуглигиру Наухтердибуртиалю! — воскликнул Трацар, подъехавший к друзьям вместе с Шан Цваром. Последний, улыбаясь как ни в чем не бывало и приосанившись, восседал на своем рыжем звере. При этом он помахивал зажатой в руке темной стрелой с белоснежным опереньем.
Нодаль только рот открыл, не находя слов от удивления.
— Позволь представить тебе, дорогой друг, — радостно молвил Ур Фта, — этого удивительного агара. Его имя — Трацар, родом он из Лифаста. И в первую очередь ему должны мы принести благодарность за твое спасение и за исцеление этого юноши.
— Имя — Трацар, — сказал Нодаль, все еще не в силах избавиться от растерянности и оторвать глаза от улыбающегося Шан Цвара. — Но что мне добавить к этому имени? Как величать мне достопочтенного Трацара, свершая положенные поклоны?
— Зови меня Трацаром — и только. И не надо поклонов. Ведь мое умение, быть может, вовсе не следует так ставить мне в заслугу, как тебе — твою доблесть! — весело сказал на это Трацар и запросто хлопнул Нодаля по плечу. И тут же, не давая ему опомниться, добавил: — Но не кажется ли тебе, славный Нодаль, что пора представить нам твоего спутника?
— Да, разумеется! Простите мне эту оплошность. Но вы удивитесь, друзья мои. Перед вами не кто иной, как сам Шан Цвар, сын покойного Цфанк Шана.
— Как! — воскликнул Ур Фта. — Судьба свела нас с самим властелином Крианского царства?
— Вернее, о благородный царевич, — печально молвил Шан Цвар, — с тем, кто должен быть им по праву, но сегодня лишен такой возможности злобным и коварным самозванцем, захватившим саркатский престол, а меня заточившим в развалинах обители Небесного Взора. Оттуда я вырвался благодаря достославному Нодалю, справедливо покаравшему моих стражей и главного моего мучителя по имени Цул Гат. Теперь я по-братски припадаю к твоим плечам и прошу говорить за меня у трона великого Син Ура. Кроме цлиянской столицы, негде искать мне убежища…
— И ты найдешь его там! — воскликнул Ур Фта. — А самозванец, отнявший у тебя царство, понесет заслуженное наказание! Я знаю моего отца и уверен, что его решение не разойдется с этими моими словами. Будь уверен и ты, брат мой! У нас с тобой общие враги, и это не худшее начало для крепкой дружбы.
— Согласен. И счастлив разделить твою уверенность, — ответил Шан Цвар, и они обнялись.
— Вот и прекрасно! — сказал Трацар. — А теперь я предлагаю вернуться в Дигал и отпраздновать нашу знаменательную встречу достойным пиром где-нибудь в Бирцидовом саду. Ведь я не навлеку на себя гнев за то, что осмеливаюсь бесцеремонно предлагать все, что взбрело мне на ум, в присутствии особ, столь близких к престолам двух самых могущественных в Галагаре царств?
— Ничуть! — заверил Ур Фта.
— Ни в коем случае! — подтвердил Шан Цвар.
— Тогда вперед, друзья мои! — воскликнул Нодаль. — И не позднее полудня мы сдвинем наши чарки и славно закусим в ознаменование столь радостных событий!
Все четверо развернули гавардов и рысью, стремя в стремя, проследовали в Дигал. Вскоре они уже сидели в той самой мубигаловой беседке, где минувшей весной пировали Ур Фта, Кин Лакк и Нодаль. И все было в точности как тогда: и маринованная лирда, и белоснежные миарбы в лиглоновом уксусе, и серебристые рузиавы в зеленой заливке, и палочки лахи-гухи, и кисло-сладкая гирана с ягодами клах. Вот только теперь огонь полыхал в жаровне посреди беседки, да вместо бирцидовых лепестков кружили над садом легкие снежные хлопья.
Так пировали они до темноты и, казалось, конца не будет подробным рассказам обо всем, что случилось с Ур Фтою и Нодалем за время разлуки. Мы же не станем их здесь повторять. Ведь если тебе охота, можешь перечитать эту книгу с самого начала и выбрать все, что могло быть поведано ими друг другу. Одного только, пожалуй, ты не найдешь — истории о том, как царевичу и Трацару удалось выбраться из каменного кольца на вершине волшебного дерева. Стало быть, самое время рассказать и об этом.
* * *
Было так. Трацар все не приходил в себя. Но царевич не потерял присутствия духа. По меньшей мере в том смысле, что Кин Лакк вскоре вернулся и обнаружил свое присутствие, громко выругавшись по-форлийски. Царевич обрадовался ему чрезвычайно и сразу поделился тем, что покуда пришло ему в голову.
— Послушай, Кин Лакк, надо выведать секрет западни, в которую мы попали, — сказал он для начала.
— Ничего не имею против, но как это сделать?
— Давай подумаем вместе. Кому он может быть известен?
— Кому-нибудь из двартов, вероятно.
— А ты не мог бы перенестись теперь же, скажем, в горы Ло, в убежище Су Ана и узнать у него секрет?
— Я мог бы с быстротою молнии перенестись в любой уголок Галагара, но я не стану делать того, что ты предлагаешь, по двум причинам.
— Каковы же они? Объясни, если это доступно моему разумению.
— Нет ничего проще. Хотя ты должен принять к сведению, что мои объяснения не могут одновременно быть понятными для тебя и полностью соответствовать истине. Первая причина: я не могу удаляться от тебя больше, чем на известное мне ничтожное расстояние, без риска навсегда с тобою расстаться, не выполнив своего долга. Когда Кин Лакк отрывается от царевича Ур Фты, Кин Лакком овладевает Дацар, а Дацару назначено иное место. Приблизительно так. Теперь причина вторая: я уже говорил, что никто, кроме тебя, не может услышать мой голос и никто, кроме тебя и Трацара, не должен обо мне знать. Это останется в силе, пока я с тобой. Дварты — не исключение. Секрет западни я мог бы лишь случайно подслушать. А случай капризен: можно ждать его тысячу зим, но так и не дождаться. Ты все вполне уразумел?
— Кажется, вполне. Но что же все-таки делать?
— Не знаю. Мне нечего добавить. Может, случая подождем? Вдруг секрет западни сам собой прилетит тебе в руки?
— Знаешь что, любезный Кин Лакк? — не выдержав, вскрикнул царевич. — Ты сильно изменился после своей смерти! Сделался чересчур спокойным! Так вот, я не собираюсь сидеть здесь тысячу зим, сложа руки, когда моему дорогому Нодалю угрожает смертельная опасность!
С этими словами он выхватил из-за голенища нож, перерезал ремень, связывавший его с Трацаром, и, кинувшись на стену, принялся бить и царапать ее стальным лезвием.
— Стой! — закричал Кин Лакк. — Это не камень!
Царевич остановился и провел по стене тремя свободными руками. У него на пальцах осталось что-то густое и клейкое.
— Смола! — объяснил Кин Лакк. — Ты добыл ее из стены своим траворезом!
Царевич, поднеся ладони к лицу, ощутил чудесный, доселе неведомый аромат, и, не сдержавшись, лизнул загадочную смолу. Вкус показался ему волшебным. В тот же лум он почувствовал необыкновенное прибавление сил: плечи его расправились, царапины и синяки на теле больше не давали о себе знать, в голове прояснилось, слух обострился, сердце забилось ровно и сильно. Казалось, что ему под силу смести любую преграду голыми руками.
— Вот то, что нам нужно, — спокойно и громко сказал царевич. Затем он осторожно ощупью нашел простертого на полу Трацара и вложил в его приоткрытые губы кусочек смолы размером с головку леверки.
Через пару лумов Трацар очнулся и заговорил. Починив себе ребра и вообще приведя свое тело в полный порядок, он подробно расспросил царевича обо всем, что случилось, и внимательно осмотрел навязанное им помещение.
— Это не западня, — сказал он, немного подумав. — Это двартовское убежище, каким-то чудом сохранившееся с древних времен. В эпоху Обилия юные дварты понаставили подобных гнездышек по всему Галагару. Подобных не в точности, а по сути. Внешне они все различались. Двух одинаковых было не найти. Потом их все до единого уничтожили. А это вот почему-то уцелело. Устройство, должно быть, нехитрое, но по своему замечательное. Действует, скорее всего, на основании двух позиций: «Самое сложное проще простого» и «Неблагоприятный вход — благоприятный выход».
— Что это значит, Трацар?
— Объясню не словами, а делом. Хотя и не уверен, что у меня получится. Мы находимся в каменном кольце. Для того, чтобы выйти из него, надо идти. Это просто?
— Даже слишком, Трацар.
— Ну так попробуем.
Он взял царевича за руку, и они прошли по галерее шагов двадцать. Но в их положении от этого ничего не изменилось.
— Хорошо, — сказал Трацар. — Поскольку мы твердо уверены в том, что для того, чтобы выйти, надо идти, поищем другой способ ходьбы.
— Может быть, на руках… — неуверенно пробормотал царевич.
— Слишком сложно, — с ходу отверг Трацар это предложение. — Мы ведь шли по солнцу. Как проще всего нам идти по-другому?
— Против солнца! — радостно воскликнул царевич. — Мы должны повернуться и идти в другую сторону.
— Замечательно. Давай попробуем.
Они повернулись и пошли в противоположную сторону. Ур Фта сосредоточенно отсчитал двадцать шагов и еще двадцать, но ничего не изменилось.
— Не получается? — весело спросил Трацар. — Значит, мы не вполне усвоили позицию. Мы повернулись и пошли в противоположную сторону. Это просто. Но нам нужно то, что проще простого.
— Что же может быть проще этого? Я не знаю, — откровенно признался царевич.
— Даже я догадался, — насмешливо прохрипел Кин Лакк.
— Милый царевич, — без насмешки и торжества сказал Трацар, — в нашем случае проще простого — идти в противоположную сторону, не поворачиваясь. То есть пятиться против солнца вперед спиной. Попробуем?
— В самом деле! Какой же я глупец!
— Да нет же, царевич. Ты просто не вполне усвоил позицию. Усвоишь — и дело пойдет!
Двигаясь тем странным способом, что предложил Трацар в качестве «более простого, чем простой», они уже через дюжину шагов провалились в пустоту и повисли на ветке волшебного дерева, жадно вдыхая свежий, морозный воздух.
— Что дальше, Трацар? — воспрянув духом, крикнул царевич.
— Будем спускаться. Но прежде чем мы сделаем это, я хотел бы раскрыть тебе смысл второй позиции. Наш вход в убежище был неблагоприятным, ведь так?
— Конечно! Мы потеряли оружие, провизию, гавардов, получили ранения…
— Добавь к этому потерянное время, которого у нас каждый нимех на счету. Так вот, выход наш из убежища будет благоприятным. Нам будет возвращено все, что мы потеряли.
— И время?
— И время. А если бы я не владел искусством словесного врачевания, то ко всему еще и затянулись бы наши раны.
— То есть мы потеряли бы то неблагоприятное, что поневоле приобрели?
— Именно, царевич. Так что ничему не удивляйся.
— Постараюсь. Но как же нам спуститься с этого дерева?
— Ты уже испробовал один простой способ — двигался вниз, перебираясь с ветки на ветку. И другой — двигался таким же образом, но вверх. Однако согласись, что этот второй способ немного сложнее первого…
— Справедливо, Трацар! И я знаю верное решение! Проще простого — для того, чтобы спуститься, взять и прыгнуть с дерева вниз.
— На этот раз ты, кажется, попал в самую точку, милый царевич. Давай попробуем.
Повиснув на руках, они продвинулись к самому краю ветки, раскачались — и разжали пальцы. После легкого головокружения царевич почувствовал, что сидит верхом на своем гаварде, плечо ему приятно давит ремень коцкута, и все его вооружение при нем. Словно и не было снежной бури.
— Удивительно просто! — невольно воскликнул он.
— Все, что агары называют колдовством, держится примерно на таких же позициях! — весело сказал Трацар, но подумав, добавил: — Или почти все.
* * *
Под утро новое пированье в Бирцидовом саду завершилось. Шан Цвар и Трацар удалились на покой, а Нодаль и царевич Ур Фта остались в беседке, чтобы напоследок выкурить по трубочке саркара. На самом же деле им просто трудно было расстаться даже на краткие нимехи сна.
— Знаешь, царевич, — задумчиво произнес Нодаль, помешивая угли в жаровне. — Мне очень не хватает старого форла. И не только здесь и сегодня, и не потому, что мы снова в Бирцидовом саду. Мне всегда и повсюду будет очень его не хватать.
— Эй, царевич! Скажи ему, пускай держит себя в руках. Впереди еще немало веселого! — проворчал на это Кин Лакк.
— Согласен с тобой, дружище, — сказал царевич, не обращая внимания на слова Кин Лакка. — Мне тоже не хватает старика. Ведь он заменял мне глаза. Хорошо, что теперь хоть Трацар со мной.
— Трацар… — опять вмешался Кин Лакк. — Да что бы ты делал в бою без моей свирели?
— Трацар — замечательный, чудесный! — воскликнул Нодаль. — Но Кин Лакка никем заменить невозможно!
— Справедливые слова! — горделиво сказал Кин Лакк. — Вот-вот, и я снова расплачусь.
— Послушай, Нодаль! — не спеша проговорил царевич. — Мне кажется, если теперь, вот в этот лум Кин Лакк видит нас оттуда…
— Откуда? — вздрогнув, пробормотал Нодаль.
— Ну, не знаю… Оттуда, где все мертвецы… Так вот, если он видит нас, то знаешь, чего ему хочется больше всего, как мне кажется?
— Чего? Кружечку мирдрода?
— Да нет! О чем ты? Я думаю, больше всего ему хочется нас обнять. Просто прижать к сердцу, обхватив своей бедной рукою и крыльями.
На сей раз Кин Лакк ничего не сказал. Быть может, потому, что царевич и в самом деле угадал его сокровенное желание. Нодаль кивнул и несколько афусов все трое молчали. Затем двое оставили трубки и направились по заснеженной тропинке к гостиничному пристрою.
Не успели они подняться по узкой скрипучей лестнице к своим комнатам, как возле входной двери раздался шум, и кто-то решительно в нее постучал раз, другой, третий, и продолжал колотить до тех пор, пока сонный хозяин не подошел с ворчаньем и не распахнул дверь, отомкнув запоры.
В дверном проеме освещенный тусклым светом фонаря стоял здоровенный детина в шапке тагунского дюжинника.
— Эй, хозяин, слушай приказ! Именем государя, завтра к полудню освободить все комнаты. У тебя будут стоять и столоваться командиры черных дюжин.
Выкрикнув свой приказ в воздух над головою хозяина, он развернулся на каблуках, намереваясь идти прочь.
— Да что случилось-то? — крикнул хозяин ему в спину.
Лихой тагун оборотился, задумался на пару лумов и сказал:
— Это уж не тайна. Государь наш, великий Шан Цвар, дабы с честью завершить дело, начатое его отцом, объявляет войну Цлиянскому царству. Вот так! Теперь по-настоящему воевать будем!
Нечего и нам делать тайну из того, что этими словами завершается пятнадцатый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Шестнадцатый урпран
Страшен был этот зимний ленивый рассвет. В башне цлиянского форта, что на мысе Кухир, заметили желтые паруса крианской флотилии над ровной линией горизонта. И несколько раз сбивались со счета, пытаясь определить силы приближающегося противника.
На стенах сурового Стора выстроились все, кому хватило места, и молча наблюдали, как степь, занесенная снегом, наполняется от края до края разноцветными крианскими стягами, флажками и перьями. То был не поток, то было целое море, не роща, а лес вырастал на глазах у изумленных цлиян прямо в пустой степи. И каждый разумел в тот нимех, что ему очень скоро, быть может, придется лечь костьми в гуще этого бедствия.
Судьбе и собственной воле Великого Син Ура было угодно, чтобы и он в то утро находился в крепости Стор и своими глазами созерцал надвижение вражеской мощи на земли Цлиянского царства.
— Этот юнец обезумел! — в гневе вскричал он, выпростав руку.
— Или до безумия отважен, государь, — заметил советник Од Лат. — Он собрал огромные силы и рассчитывает тебя уничтожить до того, как успеешь собраться с силами ты.
— Гонцы уже сегодня достигли не только Глиона и Ивора, но и Саина, и Миглы, и Гатора Холтийского. Через несколько дней все войска Цли подойдут к Фатару.
— Продержится ли Стор на сей раз достаточное время? Думаю, государь, следует немедленно вступить в переговоры и ублажить Шан Цвара любыми уступками.
— Я сам буду с ним говорить. Од Лат, прикажи моей свите готовиться к выезду и пусть поднимут голову сарпа.
— Не смею возражать Великому Син Уру. И все же, почему ты не прикажешь вести переговоры мне? Отчего бы тебе не поберечься на этот раз? Ведь враг вероломен.
— Ты будешь со мною, мудрый Од Лат. Но только царь может требовать разговора с царем. Если Шан Цвар не захочет выехать ко мне, у него не будет никакого оправдания, и его намерения сразу откроются нам. Если же переговоры состоятся, я на месте решу, в чем уступать крианам.
— Ты прав, как всегда, государь. Я удаляюсь, чтобы передать твою волю витязям свиты.
Несколько рофов спустя, ворота крепости распахнулись и оттуда выехал небольшой отряд с воздетой впереди на копье головою белого сарпа. То Великий Син Ур в сопровождении советника Од Лата и свиты устремился навстречу крианскому войску. Вскоре, когда им оставалось не более половины атрора до крианских рядов, из них выделилась царская свита во главе с самозванцем и приблизилась к свите Син Ура. Властелин Цли заговорил первым.
— Мы приветствуем великого государя Шан Цвара в наших пределах. И недоумеваем, отчего пришел он вместе со своими несметными войсками. Хорошо ли это — не успел занять престол, и уже нарушаешь с таким трудом установленный мир?
— И мы приветствуем Белобрового Син Ура в пределах, каковые он считает своими, — отвечал выдававший себя за Шан Цвара. — Мы тоже ратуем за прочный мир. И кто же виновен в том, что его основание приходится закладывать с оружием в руках? Разве ты, Белобровый Син Ур, не воспользовался малодушием покойного крианского государя, чтобы вырвать у него мир на выгодных для себя и несправедливо ущемляющих Крианское царство условиях?
— Готов признать, что так оно и есть. А все же хочу напомнить тебе, Шан Цвар: я мог бы и не заключать этого мира с Цфанк Шаном, мог бы с боем взять Корлоган и порт Эсбу, прижать к горам Шо и полностью уничтожить Крианское войско, мог бы двинуть своих храбрецов на Саркат и еще до начала зимы захватить все Крианское царство… Но будь по-твоему, если лишь справедливости ищешь ты в этих землях. Мир настолько мне дорог, что на сей раз и я могу уступить. Скажи только в точности, в чем ты ждешь от меня уступок.
— Рад слышать и надеюсь, так или иначе мы сойдемся. Однако прежде времени не следует нашим вникать в эти переговоры. Поведем же их с глазу на глаз.
Белобровый Син Ур выразил согласие, оба они стремя в стремя отъехали в сторону и несколько рофов говорили между собой неведомо о чем. Затем самозванец первым повернул своего гаварда и пустил его вскачь, направляясь к своим войскам. Следом устремились и все остальные криане.
Безмолвно приблизился великий царь к своему советнику Од Лату, прижимая руку к груди, а приблизившись — молвил:
— Теперь войны не миновать. Будь проклят вероломный Шан Цвар и все его семя на тысячу зим! Сбылось предсказание Су Ана!
Тут повалился он прямо в объятья Од Лата, и только тогда увидел советник, как по светло-зеленому царскому ерсулу расплывается темное кровавое пятно.
— Ко мне! Государь ранен! — вскричал он во гневе и скорби. И в тот же лум витязи свиты, обнажив триострые цохлараны, особенным строем сомкнулись, окружив государя, готовые сражаться и умереть ради его спасения. Но было, увы, слишком поздно.
— Приказываю… отходить в крепость, — едва слышно произнес Син Ур. — В сражение не вступать. Ваши жизни еще пригодятся.
Бережно уложили его, уже потерявшего память, в широкий плащ, концами привязанный к седлам двух боевых гавардов и так везли до самых ворот, зорко следя, нет ли позади погони. А когда въезжали в крепость, Великий Син Ур пришел в себя на несколько лумов и молвил отчетливо, так, что не только советник расслышал:
— Од Лат, я должен умереть в Айзуре.
В считанные афусы во исполнение царской воли были отобраны и запряжены в широкие сани, обитые изнутри белой таранчой, лучшие в Сторе гаварды числом шесть. Царя, чья рана была перевязана скорыми и умелыми руками, уложили в сани на меховую груду. Советник Од Лат устроился бок о бок с ним и в любой лум готов был прийти на помощь. Лихая дюжина отборных воинов во всеоружии приготовилась сопровождать до столицы своего государя.
Но Син Ур, с трудом одолевая настигающую его тяжесть, нахмурился и приказал:
— Пусть шестеро будут со мной, не считая советника. Стору — стоять насмерть.
И никто не посмел его ослушаться. Всего лишь полдюжины всадников охраняли, как могли, дорогую для каждого цлиянина, но, увы, быстро угасавшую жизнь по дороге из Стора в Айзур. А многие зимы спустя, вот еще и такие строки были сложены в память об этом скорбном событии:
Тайно блеснуло ведомое черной рукой лезвие, Кровью Син Ура, насытившись, прянуло прочь подлое, взоры затмило, багровый поток отворив, лезвие, Ранило страшно сиротством сердца храбрецов подлое, Но не сломило стремительной ветви добра лезвие, Не утопило огня боевого в слезах, подлое, Лишь притупилось, позорное дело свершив, лезвие, и потеряло обманом добытый закал, подлое.Случилось так, что в тот же вечер, когда привезли умирающего Син Ура, прибыл в столицу и сын его, царевич Ур Фта, сопровождаемый верными своими друзьями — чудесным Трацаром, доблестным Витязем Посоха и невидимым Кин Лакком. Был с ними и опальный крианский царевич Шан Цвар, чье имя по неведению извергалось в тот день из уст любого цлиянина вкупе с хулой и проклятьями.
Ур Фта, услыхав страшную весть, сдержал рыдания и поспешил в царские покои вместе с Трацаром, оставив других спутников своих на попечении Советника Од Лата. Опустившись на колени пред ложем Син Ура, припал он лицом к его ослабевшей руке и омыл ее горькими слезами.
— Нет, — сказал ему Трацар. — Этой раны мне не залечить. Слова она не услышит.
Вновь радость и скорбь повстречались в цлиянской столице. Вернулся царевич, живой и невредимый, но умирал великий царь, сраженный коварным врагом. Радость была отравлена скорбью, но и скорбь умерялась радостью.
Син Ур, увидав перед собой сына, просиял и вздохнул с облегчением. Тревоги оставили его сердце. Теперь он хотел одного — чтобы боль, раздиравшая грудь, поскорее утихла. И знал, какую цену придется ему за это платить.
— Прости, отец, — молвил Ур Фта сквозь слезы. — Прости, что не был я рядом и не закрыл тебя собственной грудью от вероломного удара. Его нанес тебе не Шан Цвар, а тот, кто лишь выдает себя за него. Клянусь прозрением, я покараю наглого самозванца!
— Все свершилось по слову Су Ана, — сказал на это Син Ур. — В ночь накануне твоего участия в Золовате встречался я с ним…
— И он предсказал…
Царевич умолк, не в силах произнести ужасное слово, но отец продолжал за него:
— Мою гибель? Да, сын мой. Великий Су Ан многое мне открыл. Он наказал не противиться твоему участию в поединках и не препятствовать твоему побегу из Айзура. Он запретил мне искать тебя и пытаться тебе помочь. Он сказал, ты с честью пройдешь через все испытания, и вернешься, дабы закрыть мне глаза и принять царство в тяжелый афус. И еще предупредил…
— О! Великий премудрый Су Ан! — воскликнул царевич. — Ему ведомо все в Галагаре! Но ты должен жить и вести нас к победе, великий царь!
— Знаю, ты — любящий сын. Но я должен сказать и умереть. Жить и вести цлиян к победе — отныне дело твое. Су Ан велик, но как же скрыть от тебя то, что пришлось мне услышать из его же собственных уст? Когда расставались мы на рассвете, он прощался не только со мной. Он прощался с Айзуром и открыл о себе, что вскоре вслед за мной навсегда покинет Галагар…
— На кого же он нас оставляет? — с горечью и отчаянием воскликнул царевич.
— Такова воля, которой подвластен великий Су Ан, — сказал Белобровый Син Ур, и с этими словами выдохнул славную свою душу.
Ур Фта всеми четырьмя руками обхватил его остывающее тело и безутешно зарыдал. В тот же лум легла ему на плечо знакомая рука, и он услышал голос неунывающего Трацара:
— Ведь ты разделишь свое горе со всеми, кому был дорог Великий Син Ур. Не время предаваться скорби и унынию. Защитники Стора вряд ли продержатся долго. А неприятель одновременно продвигается к Фатару. Цлиянский флот разделился и отошел в заливы, чтобы в бухтах прикрыть Укбат и Каллар от натиска бесчисленных крианских кораблей…
— Ты прав, мой верный Трацар, — выпрямившись и отдавая адлигалу, сказал царевич. — Я прикажу немедленно начинать похоронный обряд. Ночь впереди, и ее нам хватит, чтобы проститься с великим царем. А наутро мы выступаем в поход.
— Положись на меня, государь. Я отдам все необходимые распоряжения, — срывающимся голосом произнес советник Од Лат, почтительно склонившись на пороге царских покоев.
— Государь? — растерянно повторил Ур Фта.
— Да, — подтвердил Трацар. — Ты больше не царевич. Ты — царь в пределах Цли, как ни горько тебе это слышать. И с первого дня своего царствования должен будешь приложить сверхагарские усилия, чтобы доказать: величие твоего отца не уплывет с его телом в атановом клузе, ибо ты унаследовал его в полной мере.
До половины ночи нескончаемым потоком стремились айзурцы с факелами в руках к небольшой площади возле царского дворца. Там на возвышении освещенный огнями лежал великий царь Син Ур Белобровый, уснувший вечным сном. Он был облачен в парадные доспехи, украшенные золотыми зарослями по черному полю. В правую руку вложили ему грозный меч по имени Суизум с обнаженным пламенеющим клинком, в левую — шлем с ажурными серебряными плавниками, словно выросшими из висков, и устрашающей личиной. Его длинные седые кудри были расчесаны, как полагается, на три стороны, его лик был чист и светел. Мертвый царь застыл в величественном безмолвии, но его призыв — не щадя жизни, стоять за цлиянские земли — ведом был сердцу каждого цлиянина, и здесь, в Айзуре, и далеко за его пределами. Вняв предсмертному зову царя, суровые арфанги вели за собою войска берегами великих цлиянских рек Равизы, Лаины и Асиалы. Грозная дюжина Ивора уже в эту ночь пришла под стены столицы, и вместе с айзурцами иворцы оплакивали всеми любимого государя. Не поскупились, снаряжая войска, города надежного Юга — Гатор Холтийский, Мигла, Саин и Глион. В их кузницах ковалась могучая преграда новому крианскому нашествию.
Героям Буйного луга ведомо было, что на сей раз победу вырвать будет гораздо труднее, но бодрости они не теряли. Даже в Айзуре унылые вопли плакальщиц то и дело прерывались звоном оружия и словами воинственных клятв. Даже в те лумы, когда тело царя переложили в нагруженный клуз, воздали самые последние почести, заколотили его широкой атановой доской и спустили в неспешный поток Айзы, даже тогда слезы в глазах воинов вспыхивали и закипали от жаркого рвения к битве.
— Отложим поминальную трапезу до лучших времен, — возгласил Ур Фта, повернувшись лицом к своим подданным, как только отправленный по течению клуз скрылся во тьме. — На рассвете мы выступаем. Используйте оставшийся нимех для сборов и прощания с родными. Ведь многим, быть может, не суждено возвратиться назад.
Собрав совет в Западной башне, юный государь выслушал опытных арфангов и советника Од Лата, поразмышлял наедине с Кин Лакком сколько-то афусов и объявил о своем решении: грозной дюжине Ивора разделиться на две неравные части — треть иворцев должна на рассвете подняться в горы и, заняв выгодные позиции вблизи и за стенами крепости Тайлар, закрыть Сакларский перевал, откуда неприятель в любой день может обрушиться на Айзур; две трети должны идти в Стор и, оттянув на себя значительные силы, облегчить положение осаждаемой крепости и не допустить штурма; айзурцам, числом полсотни черных дюжин, которые возглавит сам Ур Фта, — выдвигаться к Фатару и там, по возможности не ввязываясь в большое сражение, ожидать подхода основных сил; Нодалю вручается гребень арфанга и айзурская гавардерия; Трацар назначается вторым советником на время войны (а Кин Лакк — третьим, добавил он тихо, так, чтобы не слыхал никто, кроме невидимого форла).
Что же до Шан Цвара, Ур Фта и его спутники условились покуда не открывать его имени никому, радея о безопасности самого крианского государя, и на военном совете он не присутствовал, отдыхая в тайной дворцовой опочивальне.
Когда совет завершился, Ур Фте доложили, что с ним желают говорить какие-то айзурцы. Он согласился их выслушать, прежде распустив всех участников совета, кроме Од Лата, Нодаля, Трацара и, разумеется, Кин Лакка — он-то был при царе неотлучно. По знаку Ур Фты к нему приблизились девушка и старик, коих подробно обрисовал зоркий Кин Лакк.
Под бременем зим или свалившихся на него несчастий старик склонился, и можно было бы сказать, что совсем упал духом, если бы не искра надежды, упрямо вспыхивавшая в его взоре.
Великая печаль сквозила и в облике его юной спутницы. Но даже в печали она была удивительно хороша собой. При небольшом росте стройна, как молодой габаль. Темная кофта со шнуровкой на груди и рукавами в обтяжку и белый рахалан с подвернутым внутрь подолом не скрадывали ее прелести и стати. Густые волосы цвета мубигаловой коры были собраны в скромный бутон и заколоты простыми айоловыми шпильками. Громадные глаза в зарослях длинных ресниц словно вобрали в себя всю зелень короткого лета и сверкали из-под натянутых луков бровей, как две саоры в искусной оправе. Ее губы, словно нарисованные на смугловатом лице свежей кровью, слегка оттеняла сверху драгоценная родинка, а нежный подбородок очертаниями напоминал головку леверки.
Девушка заговорила первой, и вот что она сказала:
— Я — Чин Дарт, четвертая дочь покойного Крум Чина, а это — почтенный Нирст Фо. Во время последней войны мы потеряли близких, и потеряли бесследно. В стычке с противником на берегу Асиалы, неподалеку от Стора мой возлюбленный по имени Ал Грон и сын почтенного Нирста Фо, меткий стрелок Фо Гла в числе прочих прикрывали отступление своего отряда. Но в отличие от других воинов, их тела так и не были найдены. В последний лум, когда их видели живыми, они были вместе. Вместе и мы с почтенным Нирстом Фо мыкаем горе и не знаем с тех пор покоя. Слышали мы, что ты, наш добрый царь, и твои друзья долго скитались в крианских землях за горами Шо. Так вот, не доводилось ли вам внимать какой-либо вести о наших?
— Как, ты говоришь, звали этих героев? — переспросил Ур Фта.
— Ал Грон и Фо Гла.
— Нет, не доводилось, — сказал он, печально покачав головою.
— И мне не пришлось, — тихо вымолвил Нодаль.
А Трацар, пробормотав несколько непонятных слов и проделав что-то замысловатое руками, сообщил:
— И я ничего не могу сказать о них, кроме одного. Крепитесь в сердцах своих, ибо нынче уж нету в живых ни того, ни другого.
Все отдали погибшим адлигалу. Затем старик и девушка, обнявшись, зарыдали и повернулись, чтобы уйти. Но в последний лум Нодаль остановил их:
— Взгляни-ка, красавица, и ты, почтенный. Не узнаете ли вы эту вещицу?
Он снял висевшую у него на груди рядом с саорой деревянную резную фигурку сужицы, сжимающей в клюве кольцо, и протянул ее на ладони.
Чин Дарт первая обернулась и медленно подошла к нему. Увидав талисман, она схватила его и поднесла к самым глазам, словно не решаясь им верить.
— Да, это он, — чуть слышно сказала она наконец. — Я своими руками вырезала этот талисман из айзурской айолы и повесила его на шею Ал Грону, когда прощалась с ним.
Нодаль вскочил, почтительно обнял Чин Дарт за плечи и усадил ее рядом с собой. Он сказал:
— Теперь я знаю имя своего спасителя. Слава Олтрану, теперь мои дети и дети детей их детей будут воздавать хвалу не безымянному герою, а айзурцу Ал Грону. Слушайте все. Этот отважный юноша, обнаружив перстень Ур Фты, случайно сохранившийся при мне, вывел меня с Черных Копей, где я томился множество дней и ночей, ослепленный и оглушенный злыми чарами. Славный Ал Грон провел меня через Долину Кронгов. И вот я жив, а сам он геройски погиб в когтях одного из этих чудовищ…
— Славный витязь! — взмолился почтенный Нирст Фо. — Ты был, говоришь, слеп и глух? Вполне ли ты уверен, что рядом с Ал Гроном тогда не было моего Фо Глы?
Нодаль задумался и, чтобы утешить старика, сказал:
— Я не вполне уверен, отец. Возможно, было их двое, и второй погиб еще до того, как мы натолкнулись на свирепого кронга. Но не отчаивайся, следы твоего сына непременно отыщутся. Мы еще услышим о нем, обязательно услышим!
— Государь, не следует ли нам подкрепиться и отдохнуть? До рассвета осталось не так уж много времени, — негромко сказал советник Од Лат, наклонившись к Ур Фте.
— Ты прав. Распорядись, чтобы почтенному Нирсту Фо и красавице Чин Дарт выдали достойное вознаграждение. Пускай примут без обиды. Я сам потерял отца и от чистого сердца желаю умерить их скорбь. Кто знает, какие несчастья ждут нас еще впереди? А когда закончишь с этим, поспеши в мою прежнюю опочивальню. Хочется мне именно там побыть одному напоследок и выкурить трубочку саркара в предрассветный нимех.
Од Лат увел за собой Нирста Фо и Чин Дарт. А все остальные по приглашению Ур Фты направились во дворец. Но видно, в эту скорбную ночь не суждено было отдыхать ни единого рофа никому в цлиянской столице.
Не успели они на тикуб отойти от Западной башни, как государю принесли весть о том, что прибыл гонец из Стора.
Он появился из тьмы верхом на гаварде, утыканном стрелами. Несчастный зверь, хрипя и извергая кровавую пену, свалился у самых ворот. Всадник, на удивление легко раненый в плечо, едва успел освободить ногу из стремени — а не то гавард, падая, придавил бы его своей тяжестью.
Оказавшийся совсем еще зеленым юношей гонец преклонил колени перед умирающим зверем и, приподняв ему голову, расцеловал ее, обливаясь слезами. И только после этого, убедившись, что гавард уже мертв, он поднялся навстречу подоспевшим айзурцам и потребовал немедленно вести его к Син Уру.
Уразумев, что великий царь умер, он скинул помятый шишак, торжественно отдал покойному адлигалу и объявил, что должен говорить с Ур Фтой. Не прошло и рофа, как желание его было исполнено. Юный посланец Стора с наскоро перевязанной раной почтительно склонился пред молодым государем, назвал свое имя — Дал Сат — и, не теряя даром ни единого лума, приступил к рассказу. Время от времени голос его срывался, он то и дело неуклюже взмахивал уцелевшей рукой, словно подбитая птица, и в ужасе округлял глаза.
— Государь, прошлой ночью войска противника подошли к крепости, не таясь, на расстояние не более полуатрора. К тому времени наши разъезды уже возвратились, мы пустили воду в ров, подняли мосты и приготовились к отражению штурма.
— А велики ли числом осадившие крепость войска? — спросил Ур Фта.
— Велики, государь. Не менее двух грозных дюжин. Но дело не в этом. На рассвете минувшего дня стали у нас твориться зловещие чудеса. Прежде всего, что-то неладное произошло с огнем. Сперва кто-то один, потом другой, а там и повсюду заметили это. Вода не закипала в котлах. В дома и бастионы пробрался лютый холод. Некоторые держали руки в пламени, другие садились прямо посреди костра и так сидели, третьи даже головы совали в растопленные очаги — все без толку. Огонь перестал греть, и даже напротив — обдавал какой-то ледяной влагой.
К полудню добрая половина воды, запасенной для питья и приготовления пищи, обратилась в лед. И тогда случилось нечто еще более ужасное — подобно тому, как огонь перестал быть огнем, вода перестала быть водою…
— Что ты хочешь этим сказать? Выражайся яснее, — потребовал Ур Фта.
— Водой невозможно стало напиться. Как только мы набирали ее в рот, она словно бы превращалась в воздух. Представь, государь. Ты видишь воду, слышишь, как она плещется в чашке или в котелке, но выпить ее ты не можешь. Она есть, если верить глазам (прости, государь) или слуху, и в то же время для тебя ее просто не существует.
— Другого питья в крепости нету?
— Есть, государь, несколько дюжин бочонков с рабадой и дюжина бочек молодого мирдрода. Мы сразу обнаружили, что их можно пить. Но жажду этим утолить трудно, да и запасы отнюдь не велики. К тому же в крепости две дюжины малых детей. Что с ними-то делать? Да ведь и на том наши беды не кончились. Хвала Су Ану, командир гарнизона Най Лан, как только с водой чудеса приключились, отдал приказ — каждому наколоть как можно больше льда, и набить ледяным крошевом карманы, сумки, пазухи, короче говоря — запастись им с избытком. Только это нас и спасло.
— Каким образом? — удивился Нодаль. — Или лед заменил-таки воду?
— Нет, славный витязь. Кусок льда во рту, стоило ему растаять, превращался в воздух не хуже простого глотка воды.
— Ты сказал, ваши беды на этом не кончились? — задумчиво произнес Ур Фта. — Кажется, я понимаю, зачем понадобились кусочки льда.
— Конечно! — не выдержал Трацар. — Ведь то, что началось в крепости, называется подменой трех стихий. Детский лепет в колдовском искусстве! Но умнейший Най Лан, конечно, ничего не знал об этом, и все-таки догадался, чего следует ожидать и как уберечь своих подчиненных. При встрече с удовольствием пожму ему руку!
— Да, очень скоро мы на собственном опыте убедились в прозорливости и находчивости Най Лана, — снова заговорил Дал Сат. — Спустя нимех после полудня воздух внезапно раскалился. Дышать становилось все трудней и, наконец, вовсе сделалось невозможно, как невозможно дышать огнем. Только кусочки льда, которыми приходилось непрерывно набивать рот, усмиряли это пламя и поддерживали дыхание. В таком положении я и оставил своих. Велено сказать тебе, государь, что Стор ждет подмоги, считая каждый лум. Защитники крепости замерзают, мучаются жаждой и дышат пламенем. Еще два-три дня — и их можно будет брать голыми руками, хотя ворот они врагу не откроют, умрут — а не откроют. Это тоже велено передать.
— Ну что ж, я думаю, иворцам не следует дожидаться рассвета. Пусть отправляются на помощь немедленно. А чтобы поскорее разрушить злые чары, ты, мой чудесный советник Трацар, присоединяйся к ним, — сказал Ур Фта.
— Ничего не имею против, — согласился Трацар и еще добавил: — Но после того, что мы только что узнали, надо бы нам, государь, сказать еще несколько слов между собою. Поэтому я задержусь на несколько рофов, а иворцам отдай приказ отправляться, не дожидаясь меня. Ведь я без труда сумею нагнать их в пути.
Ур Фта отдал необходимые распоряжения и щедро наградил отважного Дал Сата, который ни за что не согласился на отдых и, от щедрот государя выбрав себе гаварда в царском гавардгале, отправился обратно в Стор с иворскими войсками.
Вновь оставшись в кругу своих приближенных в Западной башне, Ур Фта поднялся в тревоге и молвил:
— Что вы думаете, друзья? Кто на сей раз ведет смертельную битву с нами? Кем, по-вашему, может быть наглый самозванец, развязавший войну под именем Шан Цвара и предательски убивший моего отца?
— Если позволишь, государь, я скажу первым, — взволнованно отозвался Нодаль.
Ур Фта кивнул в его сторону:
— Говори.
— Полагаю, государь, двух мнений быть не может. По делам самозванца нельзя в нем не узнать чернородного дварта Ра Она.
— И я так считаю, — с поклоном сказал Од Лат.
— Подтверждаю, что нет здесь ошибки. Это Ра Он, — заключил Трацар.
— А мне уже и смысла нет говорить. Все они безусловно правы, — втайне заметил Кин Лакк.
— Если это правда, — вновь заговорил Ур Фта, — то Ра Он — из безумцев безумец! Ведь вам, я надеюсь, хорошо известно одно из самых священных установлений в жизни двартов, о коем еще в детстве поведал мне отец, тот закон, который ни разу не посмел нарушить ни один из них: дело агара — не дело дварта; тот не дварт, кто пастух; тот не дварт, кто царь. Если Ра Он сделался царем в Галагаре, он уже не считается двартом. В нашей схватке отныне мы с ним будем сражаться на равных.
— Все это так, государь. Но ты ведь не думаешь, что теперь его будет проще одолеть. Ра Он совершил великое преступление. Но не следует ли из этого, что, подобно раненому зверю, он способен на все и, вероятно, попытается спасти себе жизнь на пути неслыханных злодеяний? — торжественно молвил Трацар, поднявшись со своего места.
Вслед за ним вскочил Нодаль и запальчиво произнес:
— И я, и славный мой господин испытали уже на себе всю силу его отвратительных козней. Ра Он повинен в смерти прекрасной Шан Цот, почтенного Кин Лакка и Великого Белобрового Син Ура! Мы сами едва избежали уготованной нам расправы и чудом спасли истинного крианского царя. Так что же? Дрожать нам теперь от страха, что ли? Нет! Я уверен, в сердце доблестного Ур Фты так же, как и в моем собственном, нет и тени этого позорного чувства! Ненависть и отвага — вот что мы выставим против Ра Она! И победим!
— Мне нравятся твои слова, Витязь Посоха. Я тоже уверен, что мы победим. Но только приложив к нашей ненависти и отваге мудрость и редкостные умения нашего чудесного друга Трацара. Если, конечно же, он не откажет нам в этом, — сказал Ур Фта.
— Мой дорогой друг и великий царь! — Весело воскликнул Трацар. — Ведь я никогда не отказывал тебе в том, что возможно.
— А то, о чем я прошу на сей раз, возможно?
— Право, мне не дано этого знать. Но в моем искреннем желании помочь ты ведь не сомневаешься?
— Не сомневаюсь. И думаю, твоего желания с нас довольно.
— Очень хорошо. Мы все будем действовать, кто как умеет. Но должен предупредить: в бою, который вы поведете с простыми воинами, я вам не помощник. Всю свою силу я постараюсь направить против Ра Она и все время буду находиться там, где находится он. Сегодня чернородный дварт внушает, а точнее думает, что внушает, нам ужас под стенами Стора. И я должен находиться там, чтобы отбить этот удар и слегка озадачить злодея. Прощайте, друзья. Мы встретимся вновь гораздо раньше, чем вы думаете.
С этими словами Трацар поклонился и покинул Западную башню, а затем — и Айзур, пустившись за иворцами вдогонку.
— До рассвета — не более полунимеха. Готовьтесь к походу, — сказал Ур Фта, давая понять, что все же намерен удалиться в свою опочивальню и в одиночестве выкурить трубку саркара.
Так он и сделал. Но едва горьковатый дым смешался с его слезами по умершему отцу, едва пришло к нему горестное разумение того, что сиротство больней слепоты и самой жестокой раны, — как тревожная трель свирели Кин Лакка, прозвучавшая в голове, заставила его, отбросив трубку, вскочить и молниеносно выхватить из ножен цохларан. Но свирель больше не подавала голоса, и вместо нее заговорил Кин Лакк:
— Эге, да это ж та самая зеленоглазая красавица, что оплакивает беднягу Ал Грона. А нарядилась-то, право слово — честной агар и лихой вояка!
— Как ты попала сюда, милая девушка? — спросил удивленный Ур Фта. — Неужели стража моя задремала?
— Не тревожься, государь, — отвечала не менее удивленная прозорливости слепого Чин Дарт. — Стража твоя не дремлет. Просто я умею ее обойти и проникнуть куда угодно — хоть в птичье гнездо, хоть в нору кухалли.
— Кто же научил тебя этому, красавица?
— Не только этому, славный Ур Фта. Я еще владею дюжиной видов оружия, в седле себя чувствую, как птица в весеннем ветре, и сражаться могу враз против троих! И все благодаря мудрому наставнику Кта Галю, тайно обучившему меня воинскому ремеслу.
— Великий Су Ан, бывают же чудеса в Галагаре! — воскликнул Ур Фта и, приблизившись к удивительной девушке, назвал ее по имени. — Чего же ты хочешь от меня, Чин Дарт? Ведь не злодейский же умысел привел тебя в мою опочивальню?
— Да поразит жестокая игва того, кто против тебя замышляет, великий государь! — Воскликнула Чин Дарт и, склонившись, припала к его руке. — Я пришла к тебе с просьбой. Возьми меня с собою в поход на криан!
— Ну и ну! Вот неслыханное чудо из неслыханных чудес! — напомнил о себе Кин Лакк. А Ур Фта покачал головой, еще больше удивившись, и решительно сказал:
— Не бывало такого во всем Галагаре, чтобы девица сражалась бок о бок с честными агарами! Девичье дело — спицы да пяльцы. К чему тебе плетка и меч? Ведь в первой же схватке погибнешь или, чего доброго, на позор цлиянскому воинству попадешь в плен! И враги, над тобой надругавшись, вволю посмеются: мол, не осталось возле цлиянского престола могучих и верных витязей, раз посылает Ур Фта нежных красавиц на смерть!
— Я — не нежная красавица! Если угодно, сам испытай мою силу! Ударь меня, как тебе будет угодно, и ты убедишься, что взять меня не так-то просто! — твердо сказала Чин Дарт.
Ур Фта улыбнулся, вспомнив, как точно с такою же просьбой подступал он к предостерегавшему его Син Уру. Показалось ему, что с тех пор много зим миновало. Как же был он молод и глуп! Сколько несчастий и тягот пришлось ему испытать в поучение. Мог ли он допустить, чтобы эта славная девушка прошла такую же страшную науку?
— Что ж, испытаем шутя! — Обратился он тихо к Кин Лакку и взмахнул руками, подчинившись его свирели.
Очень скоро Ур Фта убедился, что Чин Дарт неплохо владеет приемами рукопашного боя и к тому же обладает недюжинной силой. Отбив его левые руки, она цепко перехватила нижнюю правую и тут же нанесла своему государю щадящий удар в живот, рассчитывая после этого опрокинуть его через левую ногу. Но тут наступил ее черед удивляться. Рука, наносившая удар, неожиданно ушла в пустоту, Чин Дарт сама споткнулась о подставленную ногу и упала вперед лицом. Впрочем, в последний лум Ур Фта бережно подхватил ее за плечи и смягчил падение, насколько было возможно.
Слезы брызнули из глаз отважной девушки и она прошептала Ур Фте, склонившемуся над ней, чтобы помочь подняться:
— Заклинаю тебя именем великого дварта Су Ана, возьми меня с собой! Позволь участвовать в битве. Ведь у меня никого не осталось — и отца, и братьев, и возлюбленного унесла война.
Ур Фта вдруг почувствовал дивное благоухание, исходившее от слегка растрепавшихся волос Чин Дарт и, находясь во власти неведомой силы, стиснувшей горло, с трудом произнес:
— Разумею твою решимость и не могу противиться ей. Только выполни одно условие: в походе будь неотлучно рядом со мной, чтобы я мог защитить тебя в случае необходимости.
— Благодарю тебя, добрый мой государь! — радостно воскликнула Чин Дарт и дважды обняла его, целуя почтительно в плечи. — Позволь только попрощаться с Нирстом Фо и захватить мой походный коцкут.
— Ступай и возвращайся скорее. Ведь верно, уже рассветает?
— Обернусь в один афус! — крикнула в дверях Чин Дарт и стремительно проскользнула мимо изумленных стражников.
— Ну и дела! — Снова вздохнул Кин Лакк. — Будь я при последнем своем теле, отдал бы последнюю руку на отсечение, что ты неравнодушен к этой зеленоглазой девице!
— Да разве можно оставаться к ней равнодушным?
— Не знаю, не знаю. Вот будешь видеть — тогда и посмотрим.
— Говоря откровенно, мой славный Кин Лакк, я плохо понимаю, что значит «видеть». И сегодня, пожалуй, впервые в жизни мне захотелось это испробовать. Я желаю видеть девушку с прекрасным именем Чин Дарт. Скажи, так же ли хороша она в воинском платье, как в кофте и рахалане?
— Я мало в этом разбираюсь, особенно теперь. Но полагаю, что Чин Дарт — из тех прелестниц, что сами собой украшают любое платье. Она равно будет блистать и в царских одеждах, и в лестерцовых обносках.
— Ты правда так считаешь, Кин Лакк? А не кажется ли тебе, что все же более подобает такие достоинства облачать именно в золоченую бурхаду царицы?
— Может быть, оно и так. Но пока я с тобой, об этом не должно быть и речи! Или ты хочешь сделать меня свидетелем тайной игры и любовных клидлей?
— Что ты, Кин Лакк! Упаси нас Су Ан от такого нечестья! Но разве ты не можешь хотя бы на время меня оставлять?
— Нет, забудь и думать об этом! Я не оставляю и не оставлю тебя ни на лум, пока жив чернородный Ра Он! Я буду с тобой и в постели, и за пиршественным столом, и в отхожем месте, а не только в бою! Запомни и не ропщи, ибо нету на то нашей воли!
— Я и не ропщу, — печально молвил Ур Фта. — Теперь время ненависти, а не любви. Мне ли, только что потерявшему отца, не разуметь этой истины?
— Ну, так собирайся и послужим тревожному времени на Буйном лугу под Фатаром. Ночная тьма отступила, и небо на глазах светлеет за окном.
Не осталось времени для отдыха жителям цлиянской столицы, а ты передохни, пожалуй, воспользовавшись тем, что здесь завершается шестнадцатый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Семнадцатый урпран
День миновал и растаял в кровавом закате. Полсотни айзурских черных дюжин, проделав путь из столицы за один дневной переход, ночевали в Фатаре; а когда вспыхнула победная утренняя заря, они уже выстроились на Буйном лугу, подкрепленные черной дюжиной лучников фатарского гарнизона и грузной дюжиной фатарского ополчения.
И все же силы цлиян казались ничтожными ввиду крианского войска. Оно выглядело неисчислимым, а в действительности насчитывало не менее шести грозных дюжин. И ведь еще столько же держали в осаде Стор.
Зато в цлиянских рядах сияли не знавшие поражения витязи — Хи Дап Звездные Стремена и брат его Хи Гар Белое Пламя. Са Эт, или, как его теперь называли, Витязь Колесницы, возглавлял черную дюжину айзурских колесниц. Были там и Тан Заф Беспощадный с лицом, подобным отполированному куску речного афата, и Бер Сан Остроглазый, как всегда, помимо топора и круглого щита, снаряженный дюжиной метательных ножей, и Ог Лон по прозванию Витязь Кнута, и конечно же Тоб Мон Гора, державший на плече булаву в виде лапы мацтирга. И где только мастер, ее сработавший, видал таких огромных мацтиргов?
Да, немало тогда собралось в одном месте неподражаемых героев. Уж и не знаю, стоит ли еще напоминать о славном Витязе Посоха. Неужели ты забыл его громкое имя?
Каждый из них рвался в бой и глядел на криан, как ненасытный гардхар из поднебесья глядит на зудриков, шныряющих в траве. Никто не думал о боли и смерти, словно и не знал об этом вовсе ничего. Все они верили в победу и страстно желали приблизить ее любою ценой. Кому из них не хотелось первым помчаться навстречь неприятелю и бросить ему дерзкий вызов?
Но вот, наконец, по воле своего государя айзурцы бросили жребий. Поднялись и взревели, сверкая извивами, цлиянские зулы. И, решительно стегнув плетью своего иссиня черного гаварда, выехал на поле битвы удачливый Тан Заф.
На нем была изумительной работы щерка из кожи мацтирга, вываренной в желтом юкшале, украшенная спереди и сзади тиснением с чешуйчатой прокладкой и серебряной проволокой по линиям узора, а справа и слева — с колыханием вздымались над могучими плечами густые пучки драгоценных радужных шнуров. Округлый шлем с невысоким железным гребнем и без забрала прикрывал его голову и шею. На руках сверкали чеканные запястья, а вместо поножей служили высокие голенища сапог из черного тарилана, покрытые стальными пластинками, каждая — в пол-ладони величиной. Был при нем прямоугольный выпуклый щит, от плеча до бедра высотою и о пяти полушариях, к седлу приторочен был длинный меч в видрабовых ножнах, а в правое стремя упиралось покрытое просмоленною вервью тяжелое копье, чей наконечник отменной закалки, казалось, задевал облака и дразнил отблесками солнце.
Навстречь Тан Зафу устремился, отделившись от крианских рядов, рослый витязь на золотисто-желтом гаварде. Узор, покрывавший округлые и гладкие части его тяжелых черных доспехов, перекликался и спорил с мастью его могучего зверя. Островерхий шлем с пучком блестящих темно-бурых перьев снабжен был хитрым забралом в виде двенадцатиконечной звезды, усеянной множеством отверстий. В руках он сжимал видрабовое копье с рогатым наконечником эрх отменной закалки и каплевидный щит, украшенный изображением зеленого колеса в пламенеющих шипах и проволочной бахромой.
Соперники враз опустили копья и, подгоняя гавардов, ринулись в бой. Когда они сблизились, это было подобно столкновению двух молний в грозовой туче. Крианин в последний лум слегка приподнял копье, нацелившись в открытое лицо Тан Зафа. Но тот вовремя разгадал намерение противника и щитом отбил удар, скользнувший по железным полушариям и потерявший силу. Одновременно копье доблестного айзурца с грохотом вонзилось в средину каплевидного щита и на четверть лума сделалось осью колеса, на нем изображенного. Однако крианин выдержал удар, и копье Тан Зафа, увлекаемого скорым, как вихрь, гавардом, с треском переломилось.
Оба удержались в седлах и, разъехавшись, повернули, чтобы возобновить атаку. Но теперь в руках у Тан Зафа, небрежно отбросившего обломок копья, остался только щит, и меч его покоился в ножнах, будто отчаянный айзурец решил только отбивать удары соперника, и не надеясь при этом его поразить.
Столь явное преимущество звездоголового витязя вызвало рев ликования в крианских рядах и тревожное волнение в цлиянском стане.
Крианин не стал повторять свою первоначальную уловку и на сей раз, приближаясь к противнику, опустил копье в расчете пробить кожаную щерку и поразить Тан Зафа в живот.
Никто из наблюдавших за ходом поединка не ожидал того, что произошло в следующий лум. Вместо того, чтобы отбить удар щитом, Тан Заф неожиданно вскинул его, открывшись, и резко отклонился вправо, пропуская копье под левой нижней рукой. Сблизившись вплотную с крианином, он в одну четверть лума намертво прижал его копье локтем и резко, без замаха выпростал правый верхний кулак, нанеся сокрушительной силы удар точно в середину двенадцатиконечного забрала. Выпустив копье, сорвавшееся с крюка на его доспехах, оглушенный крианин вылетел из седла, как дым из трубы морозным утром. Лопнуло стремя, откинулось забрало — и он грохнулся на землю, как говорится, не успев схватить за хвост своего гаварда.
Тан Заф, потрясая копьем, вырванным у противника, проехался рысью перед цлиянскими рядами, охваченными ликованием, и вернулся на свое место. По уговору он уступил право и дальше сражаться перед строем следующему счастливчику, а им оказался Ог Лон.
Выехав верхом на середину поля, разделявшего войска, он легко соскочил на землю и отпустил назад своего гаварда, предпочитая в ходе поединка стоять на собственных ногах.
Так он и встретил своего противника — пеший, безо всяких доспехов или иных защитных приспособлений. Длинные черные кудри его были убраны легкой серебряной сеткой и парой литых зажимов в виде распластанных птичьих лап. Изысканный темно-серый в основе хадлаг сверкал чидьяровой вышивкой и опушками ярко-голубого меха; широкие кроваво-красные юксы были заправлены в невысокие сапожки из мягкого белого тарилана. Не было при нем и никакого оружия — ни меча, ни топора, ни даже кинжала на поясе — только длинный кнут, скрученный из полос сыромяти и вызолоченный от самого кончика до рукоятной оплетки.
Вызов Ог Лона, не смущаясь своим превосходством, принял лихой дюжинник саркатской гавардерии. Он не стал отвязывать от луки седла свой круглый щит о пяти концентрических кольцах, а лишь поправил стальной чешуйчатый нагрудник, подтянул за наушники бумажную шапку с накладным узором и с гиканьем помчался навстречь храброму айзурцу, то и дело взмахивая тяжелым зайгалом, со свистом разрезавшим воздух.
Расстояние между ними стремительно сокращалось, но Ог Лон стоял, не шелохнувшись, и только размеренно постукивал по ладони рукояткой кнута да поглядывал на небо, словно в ожидании снегопада.
И только в последний лум, когда гаварду саркатца оставалось два прыжка, чтобы приблизить вплотную к непокрытой голове Ог Лона смертоносную сталь зайгала, золоченый кнут, повинуясь почти неприметному движению, распрямился, как молния или жало мохнатого индрига, и ударил гаварда по ноздрям. Он неожиданной жгучей боли, поразившей его в самое чувствительное место, ошарашенный зверь на всем скаку остановился и с ревом поднялся на дыбы, сбросив своего всадника как сухой габалевый листок.
А Ог Лон стоял себе и стоял, ни на шаг не сдвинувшись с места, и хладнокровно наблюдал, как поверженный саркатец поднимается на четвереньки и, тряхнув головой, протягивает руку к своему зайгалу, отлетевшему в сторону при падении. Да только вернуть себе оружие и продолжить поединок ему так и не удалось. При первой же попытке кнут айзурского витязя ужалил его в кисть руки — и в тот же лум она безжизненно повисла, на глазах побагровев и распухнув. Второй удар едва не лишил саркатского витязя глаз, оставил на лице у него страшный рубец и вынудил взглядом искать гаварда, чтобы спастись от дальнейших неприятностей бегством. Но гавард, хорошо понимавший язык кнута и не заставивший убеждать себя дважды, был уже очень далеко. Так что лихому дюжиннику пришлось улепетывать на своих двоих. А Ог Лон и не думал его преследовать. С невозмутимым видом он свернул свой кнут и, сунув его за пояс, не спеша направился к цлиянскому войску, издали встречавшему его восторженными криками. Однако не успел он пройти и уктаса, как вместо выражений восторга до слуха его донеслось дружное «Хэч, хэч!» Ог Лон обернулся и очень вовремя: на него несся во весь опор новый неприятель — тяжело вооруженный крианский всадник, уже наклонивший копье, чтобы поразить храброго айзурца в спину.
Ни на лум не растерялся Витязь Кнута. Каким-то невообразимым движением нырнув под копье, он ухватил его левой рукой, а правой одновременно вцепился в длинную шерсть, свисавшую с могучей холки гаварда, продолжавшего мчаться и только слегка мотнувшего головой, ощутив богатырскую хватку. Голубой мех и пламенеющие юксы мелькнули в воздухе — и крианин не успел даже глазом моргнуть, как тот, кого он мысленно считал уже мертвецом, очутился в седле перед ним, а в следующий лум сжал ему шею стальным захватом локтевого сгиба и, перекинув через плечо, с грохотом швырнул его оземь.
Таким образом славный Ог Лон одолел двоих и закончил сражение подобно Тан Зафу — проехавшись верхом сквозь бурю приветствий, сотрясавшую цлиянское войско.
Не теряя времени даром, его сменил на поле битвы Тоб Мон по прозвищу Гора — и все замерли в ожидании новой схватки. Голова Тоб Мона была прикрыта светлой кожаной шапкой, чье гладкое полушарие посверкивало на солнце перекрестием золоченой накладки. Сзади из-под шапки торчала толстая косица темно-габалевых волос, уложенная тугой спиралью. Небесно-голубые глаза гиганта горели лихорадочным огнем, из-под мясистого носа свирепо торчали жесткие усы, пропитанные алой ароматной смолой и оплетенные золотой нитью. Его булаву в виде лапы исполинского мацтирга мы уже разглядели вначале этого урпрана, а его боевого гаварда трудно описать и еще труднее представить.
Поглядим-ка лучше теперь на того, кто отважился соперничать с айзурским великаном. Впрочем, так ли уж велика была отвага этого юного зимзирского богатыря? Ведь если бы нашлись такие весы, чтобы на одной чаше возможно было разместить его, а на другой Тоб Мона, неизвестно еще, кто бы из них оказался тяжелее.
— Да это же Уласур Надутый! — воскликнул Нодаль. — В начале прошлой зимы доводилось мне встречать его на зимзирском базаре. Ничего не скажешь, парень силен, как сарп. Однако не больно-то ловок.
Голова Уласура Надутого была укрыта надвинутой на самые брови остроконечной шапкой с чеканными наушниками в виде цветов цолоса. Жирные щеки свисали по обе стороны его пунцового лица, словно мешки, под завязку набитые спелыми клубнями реллихирда. Была на нем безрукавная щерка из черной кожи, усиленная спереди шестью округлыми щитками. Запястья его сверкали гладкими стальными наручами, а обнаженные лоснящиеся предплечья были испещрены затейливыми наколками. И гавард его был всаднику под стать, и оружие впору — булава не меньше той, что у Тоб Мона. В общем, соперник достался могучему цлиянину, как говорится, «от головы до булавы достойный славы и молвы».
Съехались они степенно, не спеша, рявкнули, приосанились — и пошла потеха. Не одной дюжиной ударов обменялись могучие витязи, и каждый такой удар способен был свалить стозимнюю айолу или сокрушить мабровую скалу. Но вот уж полнимеха утекло, а ни Тоб Мон, ни Уласур ни мало не пострадали. В сердцах они оставили это бессмысленное дело, отчаявшись выяснить, кто из них сильнее, и, попусту взопревшие, устремились восвояси.
Многим еще довелось проявить свою доблесть на Буйном лугу: и Бер Сану, который в заключение поединка шестью ножами сковал своего простертого на земле соперника так ловко, что тот и шелохнуться не мог, пока его свои не освободили; и Са Эту, выигравшему единоборство на колесницах; и Хи Дапу Звездные Стремена, и Хи Гару Белое Пламя.
Но гораздо больше было таких, кто только о том и мечтал, да так и не дождался своего афуса, так и не показал себя. И в то же время любой разумел, что более, нежели остальные, вправе бросить крианам вызов молодой цлиянский государь. По крайней мере, удивляться не стали, когда Ур Фта, отпустив с последним приказом собравшихся возле него арфангов, приготовился к бою и выехал вперед на своем гаварде, белом с искрою, словно заледеневший сугроб.
Доспехи его были царственно великолепны, хотя и не отличались замысловатыми прикрасами, а более поражали блеском гладких поверхностей, точностью строгих линий да отменной ладностью гребней, пластин и шипов, ничуть не мешавших самым размашистым и резким движениям. Особенный ужас внушал неприятелю знаменитый глухой шлем, что вспыхивал, как чистое зеркало, в лучах зимнего солнца. В левой верхней руке держал он небольшой круглый щит с эмблемой Айзура, левой нижней сжимал поводья, а в обеих правых посверкивали гибкой сталью обнаженные цохлараны.
Тем временем Ра Он в обличье Шан Цвара — а ты, конечно, разумеешь, что герои, совещаясь в Айзуре, не ошиблись и самозванцем на саркатском престоле был именно злокозненный дварт, — восседал на своем гаварде в ряду крианских арфангов. Ярость его по мере того, как один за другим крианские витязи терпели поражение, возрастала. Теперь по знаку его все расступились, и Ра Он, завидев великолепного всадника в глухом шлеме, обернулся к миргальскому царю Гоц Фуру:
— Эй, что это, любезный Гоц Фур? Не ты ли клятвенно нас уверил в гибели айзурского стренка? Погляди-ка, разве это не Ур Фта красуется там на белом звере, бросая нам вызов?
— Пустяки, дорогой брат! — отвечал Гоц Фур, скрывая охватившую его тревогу. — Из колодца Ог Мирга не поднимаются ни живые, ни мертвецы. Я же говорил тебе, что доспехи Ур Фты бесследно пропали. Так верно, они похищены каким-нибудь тайным его приспешником, а теперь их нацепил на себя этот безвестный смельчак.
— И они пришлись ему впору! — зло прошипел Ра Он. — Особенно шлем! Должно быть, у безвестного смельчака острое зрение… Настолько, что он пронзает взглядом сталь!
— Не беспокойся, брат! — воскликнул Гоц Фур. — Я немедленно приволоку эти доспехи к ногам твоего гаварда, и мы вместе посмотрим, что у них внутри!
— Погоди, государь! — остановил его седовласый советник Дац Дар. — Не стоит тебе снисходить до поединка неизвестно с кем. Царское ли это дело? Позволь уж мне потрудиться в поле и размять кости, сделав по слову твоему!
— Ну что ж, пожалуй, ты прав. Потрудись, да только будь осторожен!
Дац Дар кивнул, с грохотом опустил клювовидное забрало, натянул чешуйчатые рукавицы с пальцами, выхватил из ножен длинный седельный меч прекрасной работы и, отпустив поводья, помчался вперед.
Навстречь ему, подчиняясь свирели Кин Лакка, устремился Ур Фта. Столкнувшись на полном скаку в щит щитом, оба удержались в седлах, но Ур Фта сверху из-за головы нанес Дац Дару сокрушительный удар цохлараном, и тот, хотя попытался, не смог его отразить. Удар пришелся по шлему и на несколько лумов совершенно оглушил старого миргальского воина. Он не выпустил меча, но разъехавшись со своим противником, даже не сумел повернуть гаварда и только обхватил его за шею, повалившись забралом вперед.
Когда, собравшись с силами, он все же выпрямился в седле и повертел головой, стараясь как можно быстрее обнаружить противника, то сразу увидел его, спокойно следующего рядом, почти что стремя в стремя.
— Кто ты такой? — изо всех сил крикнул Дац Дар, разумея, что нелегко будет его голосу пробиться через две стальные оболочки, хотя и снабженные отверстиями для дыхания и слуха. Но все-таки он был услышан и сам услыхал в ответ голос, донесшийся, словно из железного колодца:
— Я — Ур Фта, властелин Цли! Назови и ты свое имя!
— Я-то — Дац Дар, советник государя Миргалии. А ты говоришь неправду! Я знал царевича Ур Фту. И я был свидетелем его гибели! Доспехи твои подобны его доспехам. но и они не настоящие.
— Что ж, продолжим наш поединок, советник Дац Дар! Не гоже воину заживо гнить, когда в руках спасительная сталь!
— Что, что ты сказал?! — воскликнул Дац Дар, не веря собственным ушам. Ведь это были те самые слова, что вымолвил он когда-то, прощаясь с царевичем. Но Ур Фта уже умчался вперед, через пару уктасов развернул гаварда и сделал вид, что готов продолжать поединок.
Однако мудрый Дац Дар поспешил вложить меч в ножны и поднял руку с раскрытой ладонью, показывая, что не желает этого. Он неспешно приблизился, поднял забрало и внятно произнес:
— Если ты — действительно царь, то не будет для меня позором отказаться от битвы с тобой. Царю подобает сражаться с царями. Но я никак не могу поверить. Прошу тебя, покажи мне лицо.
Ур Фта откинул защелки и, сняв шлем, с улыбкой тряхнул густыми синеватыми волосами.
— Значит, все-таки выкарабкался! — только и сказал Дац Дар, не скрывая бесконечного изумления.
— Как обещал! — смеясь, ответил Ур Фта.
— Но мы вновь оказались врагами! — опомнился гордый миргалец. — И я не могу долго с тобой говорить. Не суди меня строго. Прощай!
С этими словами он дернул уздечку и устремился в сторону крианских рядов, беспрерывно погоняя гаварда. Ур Фта замешкался на пару лумов, а затем тоже развернул своего белоснежного зверя и в задумчивости направился к своим.
Но не успел он и слова сказать, приблизившись к свите, как лопнула подпруга у его гаварда. В один лум, освободившись от стремян, Ур Фта ловко соскочил на землю, несмотря на тяжесть доспехов, и тут же услышал голос вездесущего Кин Лакка:
— Государь, наш старый враг и былой твой соперник миргальский Гоц Фур выехал из крианских рядов и, верно, жаждет сразиться не с кем-нибудь, а с тобою!
— Дозволь, государь! — прорычал неведомо откуда взявшийся Нодаль.
— Нет! С миргальцем буду сражаться я сам, у меня с ним давние счеты! — воскликнул Ур Фта. — Скорее! Подать мне гаварда!
Витязь Посоха не торопился покинуть седло, и советник Од Лат, опередив его, протянул Ур Фте поводья своего пепельно-серого зверя. Но в тот же лум вновь заговорил Кин Лакк:
— Поздно! Твоя зеленоглазая красавица, сломя голову, несется навстречь Гоц Фуру!
А ничего не подозревавший Нодаль проворчал:
— Ну вот, надо было мне дозволения спрашивать! Теперь этот юнец из свиты испортит все дело…
— Чин Дарт! Да как же она посмела?! — воскликнул Ур Фта. — Я остановлю ее.
— Стой! Или ты хочешь опозорить себя, вмешавшись в единоборство? Между нею и Гоц Фуром уже не больше пяти уктасов, — твердо проговорил Кин лакк. А Нодаль только растерянно пробормотал:
— Как Чин Дарт? Так это Чин Дарт?!
Разъяренный Гоц Фур, ни слова не говоря, стегнул плетью своего гаварда, как только услышал из уст своего советника невероятную весть. Теперь, увидав, что к нему выехал вовсе не Ур Фта, он разъярился еще больше и решил быстро и беспощадно разделаться с неизвестным наглецом, чтобы требовать себе единственного противника, коего почитал достойным.
Меж тем Ур Фта, вскочив на серого гаварда, оказавшегося зверем не хуже его белоснежного, произнес загадочные для всех окружающих слова:
— Иной раз и Кин Лакк говорит нелепости!
И с этими словами помчался вперед, не надевая шлема. Свирель молчала, но это не могло его остановить. Он думал только о том, что ненавистный Гоц Фур когда-то уже отнял у него возлюбленную, и вот теперь по воле глупого случая все повторяется словно в кошмарном сновидении: опять этот миргалец об руку со смертью летит, чтобы отнять у него существо, успевшее стать дорогим.
Ур Фта не ошибался в своих опасениях. Будучи великолепным наездником, Гоц Фур разогнал своего гаварда так, что казалось, тот действительно летит, не касаясь лапами земли, а за полдюжины керпитов от Чин Дарт, чей гавард продвигался вдвое медленней, особым приемом заставил своего совершить высокий прыжок. Гоц Фур на лету сплеча махнул зайгалом, и отважная девушка, опрокинувшись от удара навзничь, вылетела из седла. Промчавшись еще несколько уктасов, он резко натянул поводья, собираясь развернуться и, если необходимо, добить свою жертву. Но в этот лум Ур Фта, вслепую управляя гавардом, выехал на луг, остановился в нескольких уктасах от своего ненавистника и, набрав воздуха полную грудь, закричал страшным голосом:
— Гоц Фур, вот он я! Где твоя хваленая храбрость?
Бросая этот вызов, он не знал, как будет сражаться без помощи Кин Лакка, и рассчитывал только отвлечь на себя смертоносную силу, чтобы спасти Чин Дарт. Как вдруг в голове взвилась и запела одну из самых воинственных своих мелодий чудесная свирель. И Ур Фта уразумел, что вызов его принят. Воспрянув духом, он взмахнул цохларанами и отпустил поводья.
В рядах одного и другого враждующих войск, верно, не было тогда никого, кто бы не следил, затаив дыхание, за развернувшимся поединком.
Казалось, у Гоц Фура есть хотя бы то преимущество, что противник оказался без шлема. Ур Фта не стал его надевать, чтобы не заглушать своего голоса. А об опасности он и не думал, конечно. Подобно студеному вихрю налетел на него миргалец, на беду себе уверенный в собственной непобедимости. Метил он в голову и, если бы достиг своего, несомненно разрубил бы ее, словно круг свежей гарзилы, до самого оплечья. Но на пути его тяжелого зайгала неожиданно вырос небольшой и удивительно прочный щит из цельного куска айзурской стали цвета желчи морского жефдефа. Столкновение было подобно удару молнии в железную скалу. И скала устояла. Постаравшись вложить в этот удар весь свой гнев и всю богатырскую силу, Гоц Фур неосторожно опустил левую руку, сжимавшую не менее прочный, чем у его противника, трапециевидный щит саркатской работы. От остроглазого Кин Лакка не ускользнула эта оплошность, и ответное движение Ур Фты стремительно и точно привело острие его цохларана в то место чуть выше паха, где живот миргальца не был прикрыт сталью. Лезвие скрылось до половины, и ранение любому показалось бы смертельным. Но Ур Фта, пребывая одновременно в темнице слепоты и в пламени ярости, не обратил внимания на то, что свирель умолкла. Над ним сверкнул свистящим полукругом второй цохларан, и со звоном лопнули стальные скрепы ожерелья Гоц Фура. Вместе со шлемом его голова отлетела в месиво снега и грязи и покатилась, будто мяч для игры в бозабар.
Даже Кин Лакк на пару лумов опешил от беспощадной жестокости последнего удара, но сразу встрепенулся, услыхав взволнованный голос Ур Фты, и поторопился указать ему словами и свирелью кратчайший путь к простертой на земле Чин Дарт.
Ее шлем был изуродован отчетливой поперечной вмятиной, из-за чего Ур Фта не сразу сумел отстегнуть погнувшиеся крючки. Наконец, это все же ему удалось, и он бережно освободил головку Чин Дарт от такой неподходящей стальной оболочки. К счастью, вмятина, благодаря выступающим вперед ребрам забрала, оказалась не слишком глубокой.
Склонившись, Ур Фта лицом ощутил легкое прерывистое дыхание и сам вздохнул с облегчением. Но в тот же лум, нечаянно коснувшись дорогого лица губами, он почувствовал на них кровь. Не скрывая отчаянья, он крикнул Кин Лакку:
— Погляди! Это кровь! Лицо ее залито кровью!
Но невидимый форл успокоил его своим хрипом:
— Не похоже, чтобы ранение было опасным. Бедняжка просто оглушена ударом. А кровь у ней льется из носа. Знаешь, носы у девиц — это слабое место, да и не только носы…
Ур Фта осторожно, словно хрупкую чашу с драгоценным содержимым, которое боялся расплескать, одними верхними руками поднял Чин Дарт с земли и, взобравшись вместе с ней на своего гаварда, пустил его легкой рысью по направлению к цлиянским войскам. В этот лум, опасаясь неприятельского вероломства, не менее дюжины витязей свиты, включая и славного Нодаля, окружили плотным кольцом своего государя с его необыкновенной ношей и так сопровождали до безопасного места.
Он ехал молча — тревога не отпускала его — и только один раз, окликнув Нодаля, сокрушенно сказал:
— Теперь бы Трацар помог! Если бы прибыл он поскорей!
— Не сомневайся, государь, он не заставит себя долго ждать! — поспешил с утешением Нодаль.
Гнев и смятение волной прокатились по крианским рядам, когда властелин Миргалии пал ужасной смертью. Тело его миргальцы беспрепятственно оттащили с поля сражения. Подобрали и голову, конечно!
Многие потрясали оружием и рвались поквитаться с цлиянами за позор и невосполнимую потерю. Но больше других неистовствовал Ра Он. Сгоряча, не вспоминая о зловещих для себя пророчествах, он сам выехал на ратный простор и принялся поносить цлиянских военачальников, государя Ур Фту и покойного Син Ура Белобрового такими страшными словами, что иные даже не всякому были понятны.
Не было на нем никаких доспехов — только роскошное зимнее платье да украшения.
Приталенный ретлаг из черного, как ночь, и плотного, как шкура сарпа, шерстяного гвахта обтягивал верхнюю часть его туловища. Вкруг шеи и запястий сверкал белизною мех с подбрюшины вейры. За спиной развевался плащ из зеленой таранчи, расшитой золотыми узорами. На голове сверкала отборными альдитурдами лихо заломленная остроконечная шапка, отороченная мехом шарпана. Из оружия были при нем лишь позолоченный топор на длинной витой рукояти да кинжал в видрабовых ножнах, пристегнутых к поясному ремню.
Хула и проклятья, вылетавшие из уст самозванца, достигли ушей Нодаля в тот лум, когда Ур Фта с Чин Дарт на руках уже спешился возле своего шатра. На сей раз славный витязь решил обойтись без дозволения и понесся навстречь врагу, вращая своим чудовищным посохом над головой.
— Послушай, Ур Фта! Теперь в опасности Нодаль! Он выехал навстречь самому Ра Ону и, кажется, даже не подозревает, с кем ему предстоит сразиться, — прохрипел Кин Лакк.
— Да поможет ему Су Ан! Надеюсь, удача от него не отвернется и во славу всех благородных двартов он уцелеет, — только и молвил на это Ур Фта, укладывая уже начинающую приходить в себя Чин Дарт на свое походное ложе.
Нодаль непрестанно погонял гаварда и, наконец, приблизился к своему противнику настолько, что сумел хорошо его разглядеть. Он невольно вздрогнул и сразу же пробормотал себе под нос:
— Знаем, никакой ты не Шан Цвар. На сей раз твои фокусы тебе не помогут, нечисть окаянная!
Но тут случилось такое, что вновь заставило его содрогнуться. Чернородного дварта, прикинувшегося крианским царем, в долю лума словно каким-то чудесным ветром отнесло далеко назад. Только что Нодаль отлично видел его за пару уктасов перед собой — и вот он уже превратился в темную точку почти на линии горизонта. Каково же было изумление Нодаля, когда из этой точки с быстротой молнии метнулся к нему топор, чья рукоять стремительно вытянулась на добрых полатрора. И все же славный витязь поборол растерянность — успел выставить посох в широко расставленных руках и отбить удар.
Сразу, словно волшебный ветер подул в другую сторону и пригнал Ра Она назад. Нодаль увидал его прямо перед собой, но ударить не успел. Ра Он захохотал и крикнул:
— Что, далеким я тебе показался? Никак не достать!
Если можно было разозлить Нодаля еще больше, чем в тот лум, когда он своевольно принимал вызов, то Ра Ону это удалось. Злокозненный дварт не торопился с расправой — ему хотелось вволю наиграться, прежде чем запускать когти в безрассудное сердце героя.
Новая выходка оказалась почище прежней. Не успел славный витязь развернуть своего гаварда, собираясь возобновить атаку, как слух его наполнился жутким грохотом и он с ужасом увидел, что справа и слева от него взлетели комья и брызги, земля обрушилась в бездну и на глазах по обе стороны явились громадные пропасти, оставив его гаварду, без остановки несущемуся вперед, полоску земли шириной в два-три керпита, не больше. Но и эта опасная тропа стремительно исчезала. Сначала обвал настиг Нодаля сзади, затем — надвинулся спереди. И наконец, натянув поводья, он вынужден был остановиться на маленьком островке, окруженном бездной, извергающей серебристые клубы.
И тогда славный витязь увидел своего противника. С торжествующим хохотом Ра Он, как на крыльях летел прямо над пропастью, погоняя своего черного зверя и размахивая топором. И в этот раз, одолев поднявшийся в душе ужас, Нодаль отбил смертельный удар, но сам ударить не смог. А как только раздался звон топора о нодалев посох, пропасть исчезла и вернулась прежняя картина: вновь стоял он посреди Буйного луга на виду у враждующих войск и с отвращением постигал брошенные Ра Оном обидные слова:
— Смельчак, а в пропасть прыгать неохота!
В сердцах Нодаль стегнул гаварда плетью и крикнул, на всем скаку высоко подбросив и поймав посох:
— Все, довольно! Больше ты меня не проведешь!
Но последнее слово застряло у него в горле. Нодаль натянул поводья, подняв гаварда на дыбы, и выпученными глазами уставился на свой посох. Сталь великолепной закалки со всеми кольцами и красным лаком согнулась под собственной тяжестью и повисла в его руке, словно это была не сталь, а тесто, приготовленное из тончайшей корсовой муки.
С волнением следили в цлиянском стане за ходом поединка и не могли понять, что происходит с доблестным Витязем Посоха. При первом же столкновении он действовал так, словно в последний лум у себя под носом потерял из виду противника. При втором — и вовсе проявил какую-то странную неуклюжесть — вместо того, чтобы глядеть в лицо надвигающемуся врагу, стал озираться по сторонам, потом вдруг совсем остановился, будто нарочно подставляя себя под удар. И вот теперь, чудом избежав смертельного ранения, казалось бы, воспрял духом… Но нет, опять остановился и разглядывает свой посох, точно видит его впервые!
Кин Лакк с нарастающей тревогой сообщал Ур Фте обо всем, что видел, время от времени охая и вскрикивая:
— Он его морочит, подлая тварь! Он сражается колдовством против честной стали!
— Я не знаю, что делать! — воскликнул Ур Фта, обращаясь к своему окружению. — Против этого бессилен любой! Остается одно — во что бы то ни стало принудить Нодаля отступить. Но разве такое возможно?
— Конечно, невозможно! Ведь легче его убить, пожалуй, чем заставить показать противнику спину! — раздался вдруг сзади знакомый беспечный и жизнерадостный голос.
— Трацар! Слава Су Ану! — выдохнул Ур Фта и заключил в объятья своего неунывающего советника. — Скорее чем-нибудь помоги Нодалю!
— Четверть лума — и все будет в порядке! — сказал Трацар, приступая к своему загадочному делу.
И он не преувеличивал. Немедленно все переменилось между Нодалем и Ра Оном. Витязь Посоха обнаружил, немало подивившись овладевшему было им наваждению, что держит в руках по-прежнему несгибаемую сталь. А злокозненный дварт неожиданно для себя поменялся ролями со своим противником. Теперь уж он сам испуганно озирался и в ужасе разглядывал свой топор. А в следующий лум повернул гаварда и, нещадно стегая его плетью, пустился наутек. Увлеченный погоней Нодаль за несколько уктасов от вражеских рядов обрушил свой посох на голову Ра Она. Да только не на шутку испуганный дварт из последних сил подался вперед и чудом избежал заслуженной кары. Посох лишь сорвал с него плащ и обрушился на спину гаварда. Несчастный зверь рухнул, как подкошенный, и со страшным ревом, перебирая передними лапами, пополз по земле. Ра Он с ловкостью ошпаренного стрикля освободил ногу из стремени и побежал к своим удрученным войскам, во все горло взывая о помощи. Вняв этим воплям, к нему устремилась чуть ли не вся крианская гавардерия, и Нодаль, решив, что не вправе без приказа начинать большое сражение, прекратил преследование.
Возвратившись, он поначалу и виду не подал, что с ним что-то было неладно. И только после того, как Ур Фта заметил: не худо-де славному витязю поблагодарить Трацара и ведь не подоспей тот вовремя, настигла бы Нодаля бесславная гибель в расцвете сил, — только тогда Витязь Посоха церемонно поклонился виновнику своего торжества и, приблизившись вплотную к нему, негромко спросил:
— Как тебе это удалось, дорогой Трацар?
— Я просто перенаслал на твоего противника все наваждения, что изладил он за последние полнимеха. Правда, я даже не успел вникнуть в их содержание. Вот скажи, что ты чувствовал… там?
Нодаль отвечал охотно. Ему как раз пришло в голову, что рассказанное им полностью оправдает его промахи, допущенные на виду у всех в начале поединка.
— Сначала близкое показалось мне далеким. Ра Она будто ветром сдуло. Оттуда, издалека он меня и огрел топором на длинной такой рукоятке. Потом все вокруг провалилось куда-то, и я очутился на островке посреди пропасти, а этот негодяй подлетел ко мне по воздуху, как птица. И напоследок посох мой сделался мягким, словно корсовая лепешка…
— Так, вразумительно, — с улыбкой сказал Трацар. — Вот я и постарался, чтобы Ра Он ощутил на себе все то же самое, только одновременно. И продолжалось-то это недолго — всего два-три лума. Потом я снял наваждение, но, как мы убедились, ему вполне хватило. Я попал в самую точку, предположив, что этот бедолага никогда не испытывал на себе того, что насылает на других. Ну вот, теперь испытал… Надеюсь, это отобьет у него охоту почем зря пускать в ход колдовство.
— А если не отобьет? — осведомился Нодаль.
— Ну, я не думаю, нет. Ведь, судя по всему, он — малый сообразительный.
— Что же вы тратите время на пустяковые разговоры? Трацар, в твоей помощи нуждается Чин Дарт! — воскликнул Ур Фта и потянул Трацара за рукав.
— Ах, эта славная девушка? Возлюбленная отважного Ал Грона? Что же с ней стряслось? Ведь ничего непоправимого, я знаю.
И Ур Фта, по пути к своему шатру коротко рассказывая Трацару о безрассудном поступке Чин Дарт, в глубине души тоже был твердо уверен: ничего непоправимого с ней не случилось.
— Тебе ведь не нужно осматривать Чин Дарт, чтобы уразуметь, какими словами можно ее исцелить? — Ревниво обратился он к Трацару.
Тот поморщился и с улыбкой отвечал, склоняясь над отважной девицей:
— Я скажу так, что все недуги, даже те, о которых она сама не подозревала, навсегда оставят ее нежное тело. А уж ты позаботься о том, чтобы впредь…
— Ты мог бы не говорить мне об этом. Я часто ошибаюсь, правда. Но я умею исправлять свои ошибки, — перебил его Ур Фта.
— Прости, ведь я ни в чем не хотел тебя упрекнуть, — сказал Трацар и наполовину опустив веки, целиком отдался искусству могущественного бормотания.
Тем временем в крианском стане было.
В ярости и смятении вышвырнул Ра Он из седла первого же подоспевшего к нему всадника и сам вскочил на его гаварда. Восстановив таким образом, насколько это было возможно, приметы своего величия, он, смерчу подобно, ворвался в ряды обомлевших арфангов и прокричал собственным голосом, вовсе не походившим на голос Шан Цвара, которому до этого старался он подражать:
— Гавардерию — на фланги! Строй — «Мацтирг выпускает когти»! Через один роф — все ко мне, слушать приказ к бою!
Арфанги немедленно кинулись врассыпную, закачались тяжелые стяги, задрожали пучки невесомых перьев, тут и там, повсюду мелькали разноцветные флажки, вызывая стремительные передвижения в строе крианских сил.
Ра Он, как безумный, подлетел к своему шатру и соскочил на землю, едва не запутавшись в стремени. Грубо растолкав склонившихся у входа в шатер витязей свиты, он пробежал к своему седалищу, покрытому шкурой громадного кронга, и уселся, расставив колени и вцепившись в них побелевшими пальцами. Зубы его сверкнули черным лаком в зловещем оскале, переносица покрылась морщинами, что придавало его лицу сходство с мордой разъяренного кухалли, глаза излучали убийственный свет.
Никто среди криан, начиная от первых арфангов и кончая самым незаметным ополченцем, не сомневался: быть сегодня сражению, и начнется оно очень скоро. Но назначенный роф еще далеко не истек, когда в царский шатер вполз на четвереньках один из военных советников и пролепетал:
— Не казни, великий государь! Там прибыл какой-то тагун и говорит, что принес тревожные вести из Обители Небесного Взора.
— Что там еще? Пусть войдет! — прошипел Ра Он, с трудом удерживаясь от того, чтобы ударить кого-нибудь насмерть.
Вошел бравый на вид тагун, смявший в руке свою шапку, и бросился на землю ничком.
— Встань и говори, очень быстро и кратко! — приказал ему Ра Он.
— О, великий государь, в чьих владениях… — начал тот было, приподняв лицо, но Ра Он резко его перебил:
— Отставить пустое! За каждое лишнее слово получишь плетью по глазам! Говори только о том, что случилось.
— Велено передать, государь. Твой слуга по имени Цул Гат убит в развалинах Обители Небесного Взора, самозванец бежал…
Ра Он прыгнул к тагуну и, вцепившись в ворот его камгама, заорал ему прямо в глаза:
— Это ложь! Кто тебя подослал? Кто велел передать?
— Младший эрланг Блистательной части по имени Хог Пьор… Он погиб в стычке с преступниками под Дигалом, — с усилием выдавил из себя придушенный тагун.
В долю лума настроение Ра Она переменилось. Он отпустил беднягу и по-военному отчетливо спросил:
— Кто убил Цул Гата и освободил самозванца?
— Неизвестный с красным железным посохом.
— С кем была стычка под Дигалом?
— С ним же, государь, и еще с другим — всадником в яйцевидном шлеме. А еще там были двое — самозванец и какой-то неизвестный в золотистом таглоне с красными синдарами. Но они не сражались.
— Никто из негодяев, конечно, не пострадал?
— Самозванец был ранен стрелой. Клянусь, государь, попадание было смертельным.
— Уж не ты ли стрелял? И что же?
— Я стрелял, государь. Но тот, в золотистом таглоне, извлек стрелу из груди самозванца и оживил его. Я видел своими глазами!
— Видел своими глазами… отсиживаясь в кустах, негодяй!
— Не казни, государь! — Торопливо стал оправдываться тагун. — Одолеть этих двоих не было никакой возможности…
— Эй, кто-нибудь! — Не слушая, крикнул Ра Он. — Отрубить этому трусу голову!
— Государь! Сам Хог Пьор, умирая, просил, чтобы я поберег себя и принес тебе эти важные вести!
— Ну что ж, — как бы смягчаясь, сказал Ра Он и жестом остановил ворвавшихся в шатер стражников с лунообразными секирами. — Как видно, ты говоришь правду, да и взгляд твоих светлых глаз выдает в тебе храброго воина. Ты заслужил награду! Эй, налить ему чашу моего любимого мирдрода.
Тагун, не смея подняться с колен, рассыпался в благодарностях и частых поклонах.
Ра Он подал ему чашу вместимостью не менее двух или даже двух с половиной рофов, до краев наполненную черным смолистым мирдродом стозимней выдержки, и сказал:
— Пей, воин, царскую чашу до дна!
Затем дождался, когда тот проглотил добрую половину драгоценного напитка, и, ударив тагуна сбоку ногой в лицо, крикнул:
— Довольно! А теперь отрубить ему голову за то, что принес дурные вести!
В один лум стражники уволокли несчастного наружу, чтобы выполнить царский приказ. У входа в шатер с ними едва не столкнулся только что соскочивший с гаварда арфанг, изрядно запыхавшийся и взопревший от быстрой езды.
Увидав того, кого почитал за Шан Цвара, он рухнул к его ногам и словно онемел, в страхе не в силах вымолвить ни единого слова.
— Что у тебя? — Окликнул его Ра Он.
— Не смею сказать, государь.
— Говори или последуешь вон за тем молодцом!
— Даруй мне жизнь, государь, милости твои безмерны!
— Живи и говори! Не заставляй меня ждать!
Нарастающая угроза в голосе Ра Она подстегнула, словно крепкая плеть, дрожащего перед ним арфанга и он вымолвил, наконец:
— Отряд неведомых воинов атакует крианское войско с тылу!
— Что значит «неведомых»? Какие на них доспехи, какое оружие, стяги, эмблемы?
— Всех царств, государь! Они похожи на сброд со всего Галагара! Дерутся как лютые звери и на вид таковы! Лица иных не укрыты забралами, зато сплошь покрыты волосами.
— А числом, числом каковы?
— Не так много их, государь, но наших они уже положили вдвое против своего числа.
— Проклятье! Немедленно отправляйся туда и передай приказ: во что бы то ни стало захватить кого-нибудь из этих волосолицых и доставить его ко мне!
— Слушаюсь, государь. Но это будет нелегко.
— Да вы что ж это? Привыкли выполнять только легкие приказы? Что, умеете только отступать да обчищать цумилиновые сады по дороге?
— Осмелюсь просить, государь, о небольшом подкреплении. Стоящие в тылу части храбро сражаются, но зело не велики числом, да и тают на глазах под ударами безвестного неприятеля…
— Ладно. Будет вам подмога. Мы перебросим в тыл одну, нет, две грозные дюжины. Ступай, приободри там своих! Скажешь, миргальцы спешат, чтобы стать с ними рядом.
Арфанг поднялся с земли и, кланяясь, попятился к выходу. Не успел он скрыться, как в царский шатер также с поклонами, один за другим, вошли советники и арфанги, готовые по слову своего государя немедленно вести в сражение войска.
Ра Он взгромоздился на свое седалище и грозно оглядел собравшихся. Но как только раскрыл он рот, собираясь отдать последние распоряжения перед боем, вперед выступил миргальский советник Дац Дар и, слегка наклонив свою белоснежную голову, решительно заговорил:
— Прежде чем ты примешь решение, доблестный Шан Цвар, бежавший от соперника в единоборстве подобно тому, как жалкий зудрик бежит от матерого кронга, прежде чем ты раздашь приказы своим арфангам, выслушай меня и учти хорошенько то, что я скажу тебе при всех, не скрываясь.
— А кто ты такой? — взревел Ра Он, в два лума позеленевший от злости. — Мы знать тебя не знаем!
— Так узнай, что, согласно законам Миргалии, по смерти государя и впредь, пока не объявится законный наследник престола, ее полновластным правителем становится первый советник. Я принял тяжкое бремя в трудный афус. Властелин Миргалии перед тобой. Так окажи ему должное почтение и взвешивай каждое слово на весах разумения, прежде чем выпускать из уст.
— Ну что ж, говори, пожалуй. Мы и вовсе пока помолчим, — сказал Ра Он, с трудом усмиряя кипение гнева в груди.
По рядам советников и арфангов прокатилась волна неясного ропота, а Дац Дар меж тем удовлетворенно кивнул и продолжал свою речь.
— Государь наш Гоц Фур был связан словом, данным еще твоему отцу. Но военный совет двух царств не был угоден миргальцам. Мы выполняли обязательства Гоц Фура перед саркатским престолом, пока наш государь был жив. И ничто не заставило бы честных агаров Миргалии поступиться его достоинством, ничто не принудило бы воспротивиться его воле. Теперь не то. Теперь светлой памяти Гоц Фур погиб, как герой, а вместе с ним погибло и данное некогда слово. Я принял решение и честно предупреждаю тебя о нем. Миргалия отныне стоит в стороне и не участвует в схватке Цли и Кри. Я немедленно отвожу войска — две грозные дюжины отсюда и одну из-под крепости Стор, куда уже послан гонец с приказом.
Ра Он вскочил и, ткнув с возвышения пальцем в сторону Дац Дара, взревел:
— Это предательство! Схватить негодяя и казнить немедленно!
Вновь прокатился неясный ропот по толпе приближенных царя. Кое-кто из тех, что стояли ближе к Дац Дару, схватились за оружие с намерением выполнить царский указ. Но не успели они обнажить смертоносную сталь и хотя бы на шаг подступиться к нему, как полог у входа был сорван и в шатер влетела дюжина жизнехранителей миргальского властелина. Это были отборные витязи в зеленых утанах, наполовину скрытых пластинчатой броней, и в золоченых решетчатых шлемах. В ничтожную долю лума они окружили Дац Дара плотным кольцом и ощетинились миргальскими кривыми алебардами, готовые к отражению гораздо более серьезного удара, нежели только что угрожавший их новому государю. Дац Дар между тем твердо произнес:
— Одумайся, безрассудный царь! Не заставляй меня действовать на стороне твоего неприятеля! Вспомни о том, что у тебя в тылу орудуют, и небезуспешно, какие-то союзники Ур Фты. Они уже захватили восемнадцать повозок с оружием и провиантом и заняли оборону на склонах Семиглавого холма. Там у входа, страшась твоего гнева, стоит гонец из-под крепости Стор. Он рассказывает страшные вещи. Войска, осадившие крепость, не могут ни согреться, ни напиться, ни вздохнуть. От их костров веет холодом; вода исчезает, не успевая проскочить в горло; воздух обжигает внутренности, как пламя. Они уже начали самовольное отступление. Так вот, если я не выйду из твоего шатра живым и невредимым, мои вступят в сражение с твоими. Полагаю, цлияне сумеют воспользоваться сумятицей и раздором в противных войсках и не замедлят прийти нам на помощь. И в таких условиях ты надеешься выиграть сражение?
— Будь ты проклят, твоя взяла, — процедил сквозь зубы Ра Он. — Пропустите его и не препятствуйте отходу миргальцев!
Когда Дац Дар в кольце охраны удалился, в царском шатре несколько лумов стояло безмолвие, прерванное, наконец, безвестным голосом, раздавшимся в толпе арфангов:
— Смиренно ждем твоих указаний, великий государь!
Ра Он, погрузившийся было в тяжкое раздумье, вздрогнул и вдруг, сжимая в кулаки побелевшие пальцы, прокричал:
— Вон! Убирайтесь все вон! Тому, кто посмеет меня беспокоить, я выпущу внутренности своими руками!
В смятении наталкиваясь друг на друга, все кинулись к выходу и вскоре освободили шатер от своего присутствия. Только один из арфангов, уже выскочив наружу, посмел оглянуться и надолго запомнил страшное зрелище, открывшееся его взгляду в тот лум. Лицо того, кто называл себя Шан Цваром, перекосила страшная судорога, и оно осталось лицом Шан Цвара ровно наполовину. Правая сторона его сморщилась и поплыла вниз, будто смола по стволу. А из-под этой смертельно-белого цвета смолы показался и засверкал чудовищной синевою громадный округлый глаз чернородного дварта.
* * *
Заметив передвижения в рядах неприятеля, стали готовиться к битве и цлияне. Как ни велика была их отвага — она еще возросла от исхода поединков перед строем. Блестящие подвиги их юного царя и славного Витязя Посоха переполнили сердца цлиянских воинов стремлением к победе.
Ур Фта в считанные лумы успел отдать необходимые распоряжения, как только ему донесли о том, что войска Кри стали строем «Мацтирг выпускает когти». Цлияне, повинуясь флажкам своих командиров, ловко и быстро переместились, образовав строй, который называется «Рога шарпана над пылающим очагом».
Теперь, несмотря на численное преимущество противника, они могли первыми вступить в битву и попытаться прорвать его фланги. Но Трацар мягко остановил Ур Фту, собиравшегося было отдать приказ к наступлению.
— Поверь, они вряд ли ввяжутся в битву, если не ввяжешься ты. Но тебе ведь вовсе не нужна кровь, пролитая без всякого смысла.
Ур Фта ненадолго замер в раздумье, а затем решительно кивнул. Началось томительное ожидание, которое продолжалось полтора нимеха.
Наконец, когда солнце побагровело, готовое вот-вот скатиться с небес в сугробы заснеженной дали, цлиянам наскучило ждать. Раздался приказ разводить костры, выставлять дозорных, а значительной части войска — отходить за стены Фатара. И то — кто же вступает в большое сражение на ночь глядя?
В просторном и светлом шатре цлиянского государя собрался военный совет. Ур Фта и, по его настоянию, Нодаль кратко поведали о последнем преступлении чернородного дварта, самозванно занявшего крианский престол и обрекшего на позор и смерть истинного наследника.
Только после этого Трацар ввел в шатер настоящего Шан Цвара, коего участники совета приняли с почтением.
Шан Цвар склонился перед Ур Фтою, возложил руки ему на колени и назвал его старшим братом. В свою очередь Ур Фта усадил его рядом с собой, после чего оба государя в присутствии знаменитых героев, советников и высочайших арфангов Цли поклялись в вечной дружбе и заключили мирное соглашение, соревнуясь друг с другом в благоволении и уступках.
Вскоре в царский шатер ввели перебежчика, и он сообщил добрые вести. Сперва — о неожиданном натиске загадочных волосолицых воинов. Услыхав об этом, Ур Фта провозгласил хвалу Су Ану и воздал должное доблестным тудутранцам. Их появление здесь, на Буйном лугу, означало, что кровожадные прулты окончательно разбиты и что вождь абаитов, славный Ажайла, верен братскому долгу.
Затем перебежчик поведал о решении Дац Дара и отходе миргальских войск. На сей раз хвала Су Ану прозвучала из уст всех до единого участников совета. Миргальцы справедливо считались наиболее сильной частью крианского воинства: во все времена они отличались отчаянной храбростью, высочайшим мастерством владения разными видами оружия и презрением к смерти.
Ур Фта щедро наградил крианина и даровал ему полную свободу, но тот, увидав Шан Цвара и признав в нем своего настоящего царя, предпочел остаться в цлиянском войске, чтобы защищать грядущее братство двух вечно враждующих государств.
Советник Од Лат, Нодаль, Трацар, невидимый Кин Лакк и все остальные выразили согласие, когда Ур Фта объявил о своем решении завтра с рассветом вызвать проклятого дварта на поединок и попытаться осуществить пророчество великого Су Ана.
— Конечно,? сказал Кин Лакк, — по слову благородного дварта ты должен прежде прозреть. Но разве можно считать тебя слепцом, пока я и моя свирель с тобою? Мы уничтожим Ра Она, а о том, чтобы его не спасли колдовские чары, позаботится наш чудесный Трацар.
Никаким колдовским чарам не дано отсрочить конец и семнадцатого урпрана книги «Кровь и свет Галагара».
Восемнадцатый урпран
В тот день и вечер не нашлось более храбреца в крианском стане, что осмелился бы подойти к царскому шатру ближе, чем на пару уктасов. Да и невозможно было пробиться через тройное кольцо охраны, состоявшей из отборных рослых молодцов, закованных в броню и до зубов вооруженных. Они заняли посты, как только участники военного совета покинули своего разъяренного властелина. И с этого лума смятение и тревога невидимой сетью накрыли великое войско, связав его по рукам и ногам, сводя на нет бодрый дух и боевую отвагу.
Но эти смятение и тревога усилились бы во много раз, когда бы такой смельчак нашелся и миновал охрану. Ибо и самым тщательным образом обыскав царский шатер, он не обнаружил бы там никого.
Не теряя ни лума после того, как позаботился об оцеплении своего походного убежища, Ра Он силой колдовства бесследно исчез и тут же очутился в другом, никому, кроме него, неведомом и укрытом среди неприступных скал хребта Шо месте. В считанные лумы он преодолел не только великое множество атроров, но и препятствия, пройти которые было бы не под силу простому агару.
Твердым стремительным шагом ступил он во тьму потаенной пещеры, казавшуюся непроходимой подобно каменному мраку самой смерти. Чернородный дварт со зловещим шепотом выпростал левую руку — и в тот же лум в ней с шипением и треском заполыхал громадный смоляной факел, рассеяв тьму не более чем на пару керпитов.
Но Ра Он продолжал идти, не укорачивая шага, сбивая мелкие сталагмиты и расшвыривая со звонким хрустом невысокие холмики из каменно-ледяного крошева. Углубившись во мрак на полатрора, он остановился на берегу небольшого озера, чья гладкая поверхность в свете факела тускло мерцала, словно плохо отполированная стальная пластина.
Здесь чернородный дварт склонился, набрал полную горсть каменных и ледяных осколков, швырнул их в самую средину озерца и крикнул безо всякого почтения:
— Мать Мокмора, приди ко мне! Встань из воды и льда! Полно камнем лежать на дне, Есть до тебя нужда!Разное говорят о том, какова была с виду Мокмора. Но только здесь ты найдешь словесный след ее подлинных очертаний. А иным россказням не верь. Ведь ты никогда не бывал в Галагаре, и какому-нибудь заядлому болтуну ничего не стоит тебя обмануть, выдав за истину плоды своего разгоряченного воображения.
Воды пещерного озерца расступились — и над его поверхностью показалась голова. Если бы не темно-красные огоньки глубоко посаженных глаз, если бы не зеленоватое свечение полупрозрачной кожи — ее легко было бы принять за череп, старательно обглоданный порсками, на котором каким-то чудом удерживалась копна жестких грязно-седых волос, не приглаженных даже водою.
— К чему кричишь? Зачем зовешь? — сказала она голосом тихим, но омерзительным, как брачное стрекотание индрига.
— Совета пришел испросить, мать Мокмора, — ответил Ра Он, и в голосе его задрожали сомнение и тревога. — Не оставь меня в крайней беде, припомни мои благодеяния…
— Благодеяния? Не припоминаю ни одного, кроме щедрой пощады к старому сгустку праха, породившему тебя на свет в недобрый афус! — сказала Мокмора и осклабилась в страшной ледяной улыбке.
— Да разве ж тебе этого мало, мать Мокмора?
— Ни мало, ни много, но достаточно, чтобы поневоле с тобой говорить. Выкладывай свои несчастья, упрямый отпрыск. Я ли тебя не предупреждала о них множество зим назад? Да, как видно, мало проку в пророчествах и проклятьях, коли к ним не добавишь угрозы сокрушительных сил. А где мои силы были тогда? Там же, где и теперь…
— Мать Мокмора! Я свершил множество славных дел, чтобы оградить себя от погибели и подчинить своему могуществу весь Галагар, посрамив Су Ана. Я сразил руками крианской царевны последнего форла, заменявшего царевичу Ур Фте глаза. Не пощадил и самой царевны Шан Цот — она погибла от рук моего верного слуги ради того, чтобы миргальский Гоц Фур беспощадно казнил Ур Фту. И он казнил его — спустил нагишом в колодец Ог Мирга, откуда никто до сих пор не поднимался, живой или мертвый. Я расправился с наглецом по имени Нодаль, которому судьбой было назначено идти об руку с Ур Фтою — сделав глухонемым слепцом, забросил его на Черные Копи, где он должен был заживо сгнить от непосильного труда под плетьми надсмотрщиков. Я запросто избавился от наследника крианского престола, упрятав его в развалины Обители Небесного Взора под охрану отборных воинов во главе с моим верным Цул Гатом, тем самым, что перерезал глотку Шан Цот. Об одном жалею — зачем не приказал ему сразу убить проклятого Шан Цвара?! Я уничтожил жалкого Цфанк Шана и занял его престол. Я повел несметные войска на Цлиянское царство и своими руками нанес Белобровому Син Уру смертельную рану. Победа моя и вместе с нею позор извечного и главного моего врага Су Ана были близки, как никогда…
— И вдруг все рухнуло, — с усмешкой сказала Мокмора.
— Да! Именно вдруг! Ур Фта жив и сегодня на моих глазах убил Гоц Фура! Каким-то необъяснимым чудом уцелел и бежал с Черных Копей Нодаль! Мало того, по пути на Буйный луг он расправился с отрядом, охранявшим Шан Цвара, убил Цул Гата, освободил наследника и — я уверен — доставил его в Айзур! Я сам сразился с этим негодяем, пустив в ход мое колдовство. Но все сотворенное мною против меня же и обратилось; я поневоле растерялся и едва не погиб от нодалева посоха. То же самое случилось и с чарами, наведенными на цлиянскую крепость Стор — ужасные несчастья, которые я обрушил на головы ее защитников, сегодня поразили мои войска! Что делать, мать Мокмора? Как одолеть мне Су Ана? Ведь это он расстроил все совершенное мною?
— Нет, ты ошибаешься. Су Ану и в лучшие его времена такое вряд ли было под силу, а нынче тем более. Я полагаю, что бедняга Су Ан давно зарылся в своей берлоге высоко в горах Ло и вот-вот издохнет в окружении своих пресных силинов и сартов. Не догадываешься, почему?
— Не догадываюсь, мать Мокмора. Если бы мне было под силу, я давно бы уж извел его какой-нибудь наигнилейшей порчей. Но клянусь тебе, на сей раз я — не причина немощи врага.
— Глупец ты, как я погляжу. Глупец, и ума в тебе не прибавилось ни на один халиат с той поры, когда ты делал свой первый шаг на кривеньких ножках.
— Вразуми, мать Мокмора! — взмолился Ра Он, не смея ничего возразить на обидные речи.
— Спрашиваешь, как одолеть Су Ана? Нет ничего проще! Ты уж и так почти его одолел. В тебе причина его немощи, в тебе и в твоих глупых делах, которые ты волен именовать славными свершениями. Хочешь умертвить Су Ана? Умертви себя! Вы же не можете существовать один без другого! Вы — последние дварты Галагара!
— А как же ты? — Растерянно пробормотал Ра Он. Мокмора в ответ расхохоталась, и если бы довелось тебе услышать этот хохот, ты, верно, превратился бы в ледяной столб, похолодев от ужаса и омерзения, и уже не разобрал бы сказанного ею после.
— Как же я? Никак, мой драгоценный, никак. Ты сам вывел меня из игры, отняв мою силу. А надо было прежде подзанять у меня разумения! Я вам не ровня, да и дни мои уже сочтены.
— Ты сказала, в моих делах — причина немощи Су Ана? Что это значит?
— Это значит, что, полагая, будто бежишь от гибели, ты прибежал к ней самой короткой дорогой. Осталось сделать последний шаг. Выйди завтра на поединок с Ур Фтой — и он тебя раздавит, как могучий цери жалкого подпорска. Конечно, в тот же лум погибнет и твой ненавистник Су Ан. Но знаешь, чем он от тебя отличается? Он сознательно идет к смерти, своей и твоей.
— Но зачем, зачем ему это понадобилось? И если не Су Ан, то кто сегодня поверг меня в прах?
— Кто? Я и сама не знаю. Великая тайная сила, не чета тебе и Су Ану… Уразумел?
— Уразумел, мать Мокмора. Но что же все-таки делать?
— Теперь тебе остается одно: выпусти индрига и исчезни, не будь больше двартом. Может быть, так сохранишь свою жалкую жизнь.
— Да, видно, правду ты говоришь. Ничего иного мне не осталось, — тихо сказал Ра Он и пробормотал заклинание, чтобы выпустить беса на волю.
Но как только изо рта у него, шевелясь, показались черные усы и мохнатые лапы индрига, Мокмора с неожиданной прытью выскочила на берег, вздымая фонтаны ледяных брызг, и вцепилась в Ра Она когтями, пытаясь завладеть отвратительным средоточием его колдовской силы. Она ждала этого лума в течение многих томительных зим и не однажды завоевывала доверие своего отпрыска мудрыми советами, но теперь, не выдержав, допустила промах. Ра Он тут же втянул в себя индрига, пробормотал несколько противных слов и ударил Мокмору наотмашь рукой, отягченной перстнями.
— Ложь! Все ложь! Мерзкая тварь, ты не теряла времени даром — такую историю сочинила, что я чуть было в нее не поверил!
— Не будь дураком, отдай мне индрига! Все, что я говорила, правда! — выкрикнула Мокмора, пытаясь подняться.
— Какая же ты мразь! Только вред от тебя и досада! — с презрением выдавил из себя чернородный дварт и рванул из ножен кинжал. Опустившись на одно колено, он сапогом наступил Мокморе на грудь и, не слушая отчаянного стрекотания, несколько раз ударил ее в голову быстрым лезвием. Затем выпрямился и с нарастающей злобой принялся топтать ее кости, обтянутые полупрозрачной зеленоватой кожей. И топтал до тех пор, пока останки Мокморы не смешались с хрустящим месивом льда и камней.
Потом еще в одном известном эрпарале было об этом так:
Злобно, во власти преступного гнева Гадину гадина топчет и рвет, Скверна от скверны поганого чрева. В камни и лед ее, в камни и лед!* * *
Долгая холодная ночь заключила Галагар в свои объятья. И об эту пору с обеих сторон противостояния на Буйном лугу нашлось немало бодрствовавших поневоле и проклинавших того, кто вздумал развязать войну зимой. Но с гораздо сильнейшей злостью поносили его криане, тщетно пытавшиеся обогреться у скудных костров из чахлого степного сабирника и хрупких стеблей черного тара.
Ур Фта не ушел с другими в Фатар и остался в походном шатре, встречая взглядом который, оставшиеся на лугу войска преисполнялись твердости и спокойствия. «Наш царь вовсе не слеп. Су Ан руководит им, а это вернее самого острого глаза», — говорили у цлиянских костров и, засыпая, думали о победе.
В город ушла и Чин Дарт. Расставаясь, Ур Фта добрый роф пробыл с нею наедине, если, конечно, забыть о невидимом Кин Лакке. Но забыть о нем было невозможно. Оттого-то, или по другой какой причине, разговора у них не получилось. Отважная девушка, удрученная поражением, благодарила своего спасителя, но в голосе ее он не слышал ни раскаяния, ни сердечного тепла, подобавших случаю. Да и сам Ур Фта, мучаясь присутствием Кин Лакка и боясь обидеть Чин Дарт, ни единым намеком не решился выразить то, что вспыхнуло в нем с удвоенной силой перед лицом смертельной опасности. Он лишь слегка коснулся руки, протянутой ему на прощанье, и медленно склонил голову, словно охваченный неотложными думами и тяжелой заботой.
Оставшись в одиночестве, если опять-таки не брать в расчет Кин Лакка, он выкурил трубку саркара, терзаясь отчаяньем, коему с такой готовностью свойственно по малейшему поводу предаваться влюбленным. Но рожденная трудным днем усталость оказалась сильней любых переживаний. И как только чистый воздух ударил ему в грудь, Ур Фта повалился на ложе и уснул богатырским сном.
И снились ему голоса, те самые, что впервые он услыхал, погибая в колодце Ог Мирга. Сначала, как и в первый раз, заговорил обладатель голоса глубокого и волнующего:
— Ты спишь, великий царь, но до твоего пробуждения осталось совсем немного — ровно два лума с четвертью. И за это ничтожное время тебе предстоит уразуметь великую тайну и постигнуть череду событий продолжительностью в десятки стозимий.
— Как же это возможно? — удивился Ур Фта. — Ведь за два с четвертью лума не пробежать и шести уктасов…
— Наши чувства и мысли летят на чудесных крыльях с непостижимой быстротой, — раздался в ответ голос нежный, словно габалевая пушинка. — Ведь они невесомы и беспротяжны, и если бы не телесный приют, само время им было бы нипочем, а для нашего дела и четверти лума не понадобилось бы.
— Но прежде мы откроем наши имена, — сказал первый голос. — Чтобы ты мог обращаться к нам, равно как и мы к тебе. Я — Фравар, третий советный ведатель Перекрестка Животворных Ключей.
— А я, — молвил нежный голосок, — Алчира, внучка Фравара и невеста того самого Трацара, который, кажется, уже стал твоим другом.
— Да, разумеется! — воскликнул Ур Фта. — Ведь он не однажды спасал мне жизнь и подавал мудрые советы в дурных обстоятельствах!
— Прекрасно, — заметил Фравар, — твой жених, Алчира, держит свое слово и справляется с делом. Полагаю, великий царь не разгневается на него, если мы откроем ту истину, которую Трацару пришлось по моему приказу скрывать за пологом недолговечной лжи?
— Согласна с тобой, премудрый Фравар.
— И что же это за истина? — удивился Ур Фта.
— Истина в том, — ответил Фравар, — что Трацар, как и мы с Алчирой, родом вовсе не из Лифаста. Ведь он говорил тебе, что происходит оттуда?
— Говорил. Но где же ваша настоящая родина? И зачем понадобилось это скрывать?
На сей раз в голосе Фравара зазвучало какое-то звонкое торжественное чувство.
— Наша родина — Лардалл, по-вашему — Вселенная Глубоких Знаний. Мы не могли открыть тебе этого прежде. Мы опасались повредить исполнению возложенного на тебя. Но будем последовательны, ведь времени — ты знаешь сам — у нас осталось совсем немного. Внимай и запоминай, чтобы поведать, о чем ты сейчас узнаешь, всем честным агарам.
Лардалл некогда был очень суровым миром. Наши зимы короче галагарских, но вдвое, а то и втрое холоднее. Наши лета длиннее, но заполняют просторы Лардалла невыносимым зноем. Издревле камней и песка у нас было вдоволь, зато всегда не хватало лесов и плодородных земель. Лардалл был суровым миром еще и потому, что на протяжении многих стозимий беспощадные войны составляли его историю. Многочисленные племена, населявшие его просторы, почти непрерывно сражались между собой, стремясь захватить добрые земли по берегам рек и озер, отвоевывая друг у друга селения и города, разраставшиеся главным образом возле Животворных Ключей, умножавших не только силы, но и знания жителей Лардалла.
Когда ведатели открыли вождям племен путь к Перекрестку Животворных Ключей, владение которым сулило небывалое могущество и высшую власть в Лардалле, началась самая ожесточенная война — война на пути к Перекрестку. Исход ее был неожиданным, ибо первым же знанием, почерпнутым из этого величайшего источника, оказалась необходимость всеобщего примирения.
Вражда угасла, племена смешались, языки слились в один — и все это произошло стремительно, при жизни одного поколения. Вожди отказались от власти и все заботы управления единым народом Лардалла легли на плечи двенадцати советных ведателей Перекрестка Животворных Ключей.
Могущество наше возрастало. Того, что в прежние времена давалось ценою тяжкого труда и многих погубленных жизней, теперь мы достигали почти без усилий. Наконец, Перекресток открыл нам дорогу к тому, что в пределах твоего разумения может быть названо, хотя и не вполне точно, бессмертием. Для того, чтобы проложить эту дорогу, нам пришлось начать освоение Скальной Закраины, непреодолимой толщей окружающей Лардалл подобно тому, как водная стихия Безмолвного Океана окружает Галагар.
Но мы отнюдь не стремились сокрушить эту пограничную ограду нашего мира. По указанию Великого Перекрестка мы лишь воспользовались ею как опорой и неистощимой кладовой строительного камня, прокладывая путь наверх, к Вечносияющему своду, по коему пять звезд гуляют вкруг шестой, наполняя Лардалл своими разноцветными лучами.
Даже при том могуществе, что стало нам доступно, возведение пяти башен в далеко отстоящих друг от друга местах Скальной Закраины продолжалось более трехсот зим по вашему исчислению. Мы назвали их в соответствии со светилами, озаряющими наш мир: Зеленый Винт, Синий Винт, Золотой, Багряный и Ослепительный.
Завершая строительство, мы без опаски пробили Вечносияющий кристальный свод и тьму гнетущей его сверху толщи в пяти местах. Пробили — и обнаружили новый мир, поначалу названный Верхним.
Богатства Верхнего Мира оказались неисчерпаемыми. Сколько бы мы ни отнимали у него, он никогда не ощутил бы потери: для этого он был слишком огромен. Но слишком великими показались нам и опасности, подстерегавшие наверху. Среди гигантских растений, служивших нам источником пищи, чьи польза и вкус многократно превышали все произраставшее в Лардалле, бродили чудовищных размеров животные, а иные из них летали на крыльях с невыносимым шумом и грохотом. С небес то и дело проливались потоки воды, грозившие нас утопить, или падали громадные ледяные кристаллы, каждый из которых мог раздавить своей тяжестью несколько наших.
Великий страх усилился после того, как один за другим, погибли четыре отряда самоотверженных исследователей Верхнего Мира. Увы, тогда-то я и лишился своей дочери, а Алчира и Трацар потеряли своих родителей.
— Я сочувствую им. Ведь это горе мне, к несчастью, хорошо знакомо, — сказал Ур Фта, воспользовавшись недолгим молчанием Фравара. — Но позволь спросить, о премудрый, где же находится Лардалл? Как далеко отстоит он от Галагара? Слушаю тебя, а вопрос этот не дает мне покоя.
— Разве ты все еще не догадался? — вмешалась Алчира, и в ее словах явственно ощущалась улыбка. — Ведь Верхний Мир — это и есть Галагар. И еще одним источником великого страха, некогда овладевшего нами, были наделенные разумом и вооруженные до зубов страшные великаны, о которых не успел сказать премудрый Фравар.
На это потрясенный Ур Фта не смог вымолвить ни единого слова и уже до конца молчал, слушая дальнейшие речи.
— Алчира сказала правду, — вновь заговорил Фравар, — и если хочешь вполне уразуметь природу нашего страха перед Галагаром, прими во внимание и то, что до встречи с ним народ Лардалла в течение нескольких стозимий не видал смерти и уже начал забывать, какова она для тех, кто остается в живых.
Но Перекресток Животворных Ключей не оставил нас и в этой беде. Очень скоро мы сумели, по возможности избегая опасностей, далеко продвинуться в изучении природы и истории Галагара.
Нам открылось, что существующее у вас разделение на двартов и агаров, которые им поклоняются, обусловлено действием наших Животворных Ключей и, прежде всего, их Перекрестка. Дварты отличались тем, что умели черпать свое могущество из этого действия, но нахождение источника было скрыто от них. Они всего лишь подчиняли себе существа, бессознательно сосредоточившие крупицы подземной силы, называя их гениями и бесами в соответствии с мерой добра и зла, действующей в Галагаре, чересчур удаленном от Великого Перекрестка.
Впрочем, здесь твое разумение может натолкнуться на трудные препятствия. Лучше тебе обойти их и твердо уяснить одно: то, что вы называете злом, в Лардалле окончательно подавлено Перекрестком Животворных Ключей и выполняет свою работу, не выходя из подчинения.
Мы научились посредством двартов влиять на ход событий в Галагаре и вынуждены были применить это умение, ускоряя и слегка исправляя вашу историю — в продолжение последних стозимий. Причина проста и тревожна. Могущественная и страшная сила в недалеком будущем угрожает нашествием и гибелью всему Галагару, а вместе с ним Лардаллу и самому Перекрестку Животворных Ключей. Природа этой грядущей напасти нам не ведома, зато ведом единственный путь, возможно, ведущий к спасению от нее. Этот путь Лардалл и Галагар смогут пройти только вместе. Потому-то мы сделали все зависящее от нас для того, чтобы прежде всего прекратить ваши братоубийственные войны, а затем заключить вечный дружественный союз между Нижним и Верхним Мирами. Ведь нашего общего будущего врага можно сокрушить, лишь соединив наше могущество, которое вы называете колдовством, с вашей телесной силой и воинским искусством, с тем, чего лардальцы, забывшие о войнах и насилии, давно лишены.
Самоотверженно устремившись к этой цели, мы славно поработали и ныне подошли к ней вплотную. Эпоха гибели двартов завершается. Их извечной борьбе между собой, разжигавшей ненависть в сердцах простых агаров и толкавшей их в пучину нескончаемых войн, сегодня будет положен конец.
Последняя зима этой трудной эпохи принесла нам особенно много хлопот. Мы с ужасом осознали, что последний урпран в длинной череде наших и ваших испытаний может свести все усилия и жертвы на нет и притом лишает нас права на малейшую ошибку. Ведь теперь для того, чтобы исправить ее, пришлось бы начать все сначала. На это судьба не отпустила нам времени.
К счастью, как раз накануне Великий Перекресток подарил нам хитроумное искусство перемены мер. Десятью против двух голосами советных ведателей было решено испытать его на лардальце, который по доброй воле согласится на это. Таким смельчаком оказался Трацар. И когда мы прощались с ним в верхнем зале Багряного Винта, я, зная о любовном расположении, давно завязавшемся меж ним и Алчирой, пообещал Трацару, что выдам за него свою драгоценную девочку, как только он вернется в Лардалл. А этот отважный юноша со свойственным ему воодушевлением дал мне слово, что сделает все для достижения нашей великой цели, чего бы это ему ни стоило, и что скорее погибнет, чем вернется назад до того, как закончится война в Галагаре.
Трацару было поручено влиять лишь на двартов и вести их к полному истощению жизненных сил в непримиримом противостоянии. Только в крайнем случае, по особому знаку, он должен был вмешаться и в дела простых агаров.
Когда ты очутился в Колодце Ог Мирга, мы поняли, что наши прежние расчеты ломаются. Пережив страшный афус, мы приняли непростое решение и на этот раз приложили искусство перемены мер к тебе, дорогой Ур Фта. Уменьшив твой телесный состав до величины обыкновенного лардальца, мы внесли тебя в верхний зал Ослепительного Винта, выходящего на поверхность Галагара как раз в глубине ужасного колодца. Мы излечили твою рану, вернули тебе силы, бодрость и снаряжение. Пребывая в глубоком целительном сне, ты опустился по Ослепительному Винту, коснулся земли Лардалла и вновь был поднят в просторы Верхнего Мира по Винту Багряному. На поверхности тебе возвратили твою величину. Мы с Алчирой беседовали с тобой и снабдили твою память словами, понятными Трацару и служившими условным знаком превышения полномочий. После встречи с тобой, рассчитанной и устроенной нами, он взял тебя под охрану в известных пределах. Теперь ты знаешь его и, надеюсь, полюбил не меньше, чем я и Алчира. Ведь Трацар — прекрасный спутник, несмотря на то, что память его частенько подводит и беспечность не знает границ.
А теперь, великий царь и воин Ур Фта, тебе пора просыпаться. Осталось последнее испытание. Выдержи его с честью, помни и думай о нас, если придется туго! Прощай!
— До свидания, милый Ур Фта! — прошептала нежная Алчира, и Ур Фте показалось, что она провела по его лицу тоненькой рукою. Он хотел о многом еще спросить, вопросы роились у него в голове, но ни один из них так и не слетел с языка.
— Слушай! Слушай! — раздался повелительный голос Фравара. И Ур Фта услышал свирель Кин Лакка. Не раздумывая, он подчинился ее решительным трелям и уже наяву нижними руками ухватился за рукоятки абаитского алафзака, а правой верхней выдернул из ножен сверкающий триострый цохларан. Война есть война: расположившись ко сну в походном шатре, Ур Фта не расставался с оружием.
А надо тебе знать, что, разделавшись с Мокморой, Ра Он, подгоняемый страхом и яростью, после недолгих метаний по опустевшей пещере отважился на решительную подлость и в считанные лумы перенесся прямо в походный шатер Ур Фты. Сжимая рукоять своего кинжала, он неслышно подкрался к своему ненавистнику и едва не вскрикнул от радости, увидав, каким безмятежным забылся тот сном.
Не долго думая, зловредный дварт склонился над спящим и рванул кинжал из ножен, намереваясь прикончить его одним ударом. К счастью, не дано ему было знать о том, что Кин Лакк со своей свирелью не дремлет.
Молниеносным движением алафзака Ур Фта захватил поднявшуюся на него когтистую руку и прочертил цохлараном легкую смертоносную дугу, вспоровшую горло Ра Ону, словно надутый пузырь рузиава.
Кровь брызнула из ужасной раны и залила слепые глаза Ур Фты холодным потоком. Он ощутил нестерпимое жжение и, вскочив, невольно растер себе веки свободной рукой, затем нечаянно поднял их и вскрикнул от неожиданности. Поток доселе неведомых ощущений, совершенно отличных от чего бы то ни было знакомого и привычного, хлынул, врываясь в сознание с непререкаемой силой. Ур Фта зажмурился и вновь приоткрыл глаза: в них сверкали и теснились казавшиеся горячими разноцветные пятна.
— Кин Лакк! Что это? Что происходит со мной? — Прошептал он растерянно и спрятал глаза в ладонь, не в силах дольше терпеть жгучего столпотворения пятен.
Кин Лакк расхохотался и радостно заорал:
— Что это?! Да то самое и есть! Ты видишь! Ты видишь, дорогой Ур Фта! Кровь чернородного дварта — вот в чем тайна твоего прозрения!
Уразумев то, о чем кричал ему форл, Ур Фта опять разомкнул веки, но так и не поверил, что между стоящей перед ним картиной и привычным его миром возможно установить какую-то связь. Он поднял глаза и несколько сверкающих пятен сделались более отчетливыми.
«Я поднял глаза, значит это расположено наверху», — про себя заключил Ур Фта. Затем он попробовал опустить глаза и установил, что внизу извивается и дрожит что-то на редкость неприятное, что-то состоящее из трех различных частей. Если бы он мог вразумительно спросить Кин Лакка, тот подсказал бы ему, что эти различные части называются черным, зеленым и красным, а то, что из них состоит, и есть зловредный Ра Он, бьющийся в предсмертных судорогах.
— Что-то он никак не издохнет, — сказал Кин Лакк вместо этого и тут же воскликнул: — Проклятье! Рана затягивается! Еще немного — и он вовсе раздумает умирать… Эй, Ур Фта, поскорей отруби эту поганую голову! Надеюсь, новая у него не вырастет.
Ур Фта беспомощно прищурился, глядя вниз, и растерянно произнес:
— Ты думаешь, я сумею разобрать, где здесь голова…
— Ну, тогда слушай мою свирель! Как видно, глазами научиться орудовать так же непросто, как парой цохларанов. Во всяком случае, требуется какое-то время…
В тот же лум Ра Он, благодаря свойствам своего индрига вполне оправившийся от нанесенной ему раны, неожиданно откатился на несколько тикубов и, остановившись лицом вниз, вскочил на ноги как ни в чем не бывало.
— Закрой глаза, слушай свирель и зови на помощь Трацара, это колдовство! — воскликнул Кин Лакк и разразился воинственной трелью.
Ур Фта, взмахнув цохлараном, устремился на Ра Она, но неведомая сила отшвырнула его назад, опрокинув навзничь, и еще пару керпитов протащила по земле. Повинуясь свирели, он сразу вскочил на ноги. Как вдруг похожее на небесный гром рычание заполнило его слух. Ур Фта, не открывая глаз, ринулся навстречь этому рыку. Взметнулась его рука, сжимающая цохларан, раздался неожиданный звон, словно от удара в железную стену, и вдруг Ур Фта перестал ощущать в кулаке привычную тяжесть. В долю лума он убедился наощупь, что сжимает одну рукоятку: лезвия — как не бывало.
Ра Он, обернувшись гигантским мацтиргом, не спеша наступал на него, раскрыв кровавую пасть, изрыгающую синеватое пламя. Ур Фта по стремительному указанию свирели вновь повалился на спину и выставил перед собой раскрытый алафзак, чтобы вцепиться им в горло свирепому зверю. И тут, как показалось, откуда-то издалека, донесся голос неунывающего Трацара:
— Держись, дорогой Ур Фта! Сей же лум мы с него шкуру спустим!
Мацтирг, скрывающий в себе Ра Она, застыл в керпите от нацеленного ему в глотку алафзака, медленно повернулся и бросился прямо на безоружного Трацара.
В четверть лума Ур Фта припомнил только что виденный, а вернее, конечно же, слышанный им сон. Отчетливо и стремительно, как летящая стрела, пронеслась в его сознании история Лардалла, поведанная мудрым Фраваром, и зазвучали в голове его слова: «Помни и думай о нас, если придется туго!» Вспомнил он и нежный голос Алчиры, шепнувшей «До свидания». Нет, это был вовсе не сон! В слишком крепкий и ладный клубок сплетался он со всеми событиями, происшедшими наяву.
Не дожидаясь свирели слегка растерявшегося Кин Лакка, Ур Фта в два прыжка настиг Ра Она в облике зверя и вскочил ему на спину, раздвинув алафзак. Этим он спас Трацара, которому не хватило бы ровно трех с половиной лумов для того, чтобы вспомнить и произнести необходимое заклинание.
Извиваясь, мацтирг мотал головой, изо всех сил стараясь достать Ур Фту громадными клыками, беспорядочно торчавшими из пасти, и выдыхал в его сторону языки пламени. Ур Фта почувствовал, как острые шипы гребня вонзаются ему под ребра и, изо всех сил вцепившись алафзаком в щетку загривка, поднялся на колени. Наконец, раздалась музыка Кин Лакка, но она теперь помогала лишь уворачиваться от летящего в лицо огня.
Не успел Ур Фта ужаснуться тому, что оказался в таком положении чуть ли не с голыми руками, как находчивый Кин Лакк внезапной низкой трелью заставил его вспомнить о засапожном ноже и выхватить его из-за голенища. Сжав рукоятку ножа с такой силой, что и дюжине мацтиргов было бы его не вырвать, Ур Фта принялся наносить удар за ударом в голову взбесившегося Ра Она и при этом уже не трудился слушать голос неумолкавшей свирели.
Израненный шипами, покрытый скверными волдырями ожогов, он истекал кровью и уже не почувствовал, как зверь под ним обмяк и повалился, подмяв под себя двухколенные лапы. Он не слышал в голос выкрикиваемых Трацаром страшных заклинаний и не видел, как из пасти поверженного мацтирга выползает черный мохнатый индриг, а ведь мог, он уже мог видеть, не хуже других! Он продолжал ударять, выбивая своим ножом какие-то брызги и клочья, летевшие в разные стороны, и остановился только в тот лум, когда огромная туша под ним сморщилась, будто из нее выпустили воздух, и сократилась до собственной довольно жалкой оболочки последнего в Галагаре чернородного дварта, оболочки, только что навсегда опустевшей.
Ур Фта повалился на бок, выпустив стержни алафзака, но так и не выпустив ножа, и слуха его коснулся словно продравшийся сквозь шум прибоя отчаянный возглас Кин Лакка:
— Это шипы окаянного гребня! Он потерял целую лужу крови! Если ты сей же лум не поставишь его на ноги, я еще тысячу зим не буду знать покоя!
Трацар, конечно же, ничего не услышал, но в этом и не было нужды — он уже занят был таинственным делом, и на этот раз память его не подвела. Спустя несколько лумов, Ур Фта пришел в себя, и ему показалось, что схватка с Ра Оном происходила во сне и только теперь он пробудился от этого кошмара.
«Что-то еще невероятное было в моем видении, — подумалось ему, и последнее слово этой сказанной самому себе фразы подсказало ответ. — Ах, да! Я видел! Я прозрел! Удивительный сон!»
Когда Ур Фта почувствовал, что чья-то рука лежит у него на глазах, ему сразу открылось, что это Трацар. И Трацар заговорил:
— Милый Ур Фта, ты был слепым почти от рождения. Долгие годы складывалось твое представление о самых разнообразных вещах в Галагаре без помощи глаз. Стоит ли удивляться тому, что прозрение не принесло тебе в тот же лум долгожданной радости? Самые простые опоры твоего разумения — верх и низ, правая и левая стороны, форма, величина, число, расстояние — все это сложилось в пределах доступных тебе ощущений, доставляемых по большей части слухом и осязанием. Для того, чтобы связать в единое целое эти и другие образы хорошо знакомых вещей с тем, что отныне подарят тебе глаза, понадобился бы многодневный труд узнавания и соединения. Но в делах государственной важности, не терпящих отлагательств, зрение будет незаменимым подспорьем. Поэтому я приложил свое искусство и приблизил итог неизбежной в других обстоятельствах работы. Сейчас мы выйдем с тобой из шатра, я отниму ладонь, и ты не только увидишь Галагар, но и узнаешь его, без проволочек и до мельчайших подробностей.
Ур Фта послушно поднялся и сделал несколько шагов по направлению к выходу. На пороге он остановился, почувствовал, как Трацар отнимает руку, и открыл глаза навстречь порыву утреннего ветра.
Первым из того, что он увидел, было глубокое темно-синее небо, в нем сверкала золотыми победными лучами рассветная звезда Караньяр. Ур Фта вздохнул полной грудью и обвел ясным взором открывшиеся перед ним степные дали. Впереди лежала заснеженная равнина с желтоватыми островками пожухлой травы и, разрезая сугробы, величаво струился поток прозрачных вод Асиалы. На горизонте возвышались багровой грядою горы Шо, чьи вершины в одном месте тонкими очертаниями пересекли ровный кроваво-красный круг восходящего солнца.
— Значит, это не сон! — воскликнул Ур Фта и вздрогнул, услышав голос невидимого Кин Лакка.
— Не сон, не сон, подтверждаю со знанием дела, ибо я — лутак, а лутаки не спят никогда.
— Все — явь, — подтвердил и Трацар. — Наяву было все, о чем говорили с тобой во сне Фравар и Алчира, посланцы Лардалла; наяву убил ты зловредного дварта; наяву ты прозрел, и вот свершилось предсказанное Су Аном.
Ур Фта обернулся на голос и с восторгом оглядел своего чудесного друга, пришельца из Вселенной Глубоких Знаний. Его открытое лицо было озарено сиянием зеленоватых смеющихся глаз, высокий белоснежный лоб обрамляли желтые и прямые, как стебли сухого корса, волосы, аккуратно собранные сзади и заплетенные в длинную косу с черной тесьмой, украшенной россыпью мелких клакталов, его ладную невысокую фигурку облегал золотистый таглон с красными синдарами и пышными рукавами.
— Благодарю тебя, друг мой! — вымолвил Ур Фта и со слезами на глазах заключил его в объятья.
— Полно, полно, великий царь! — рассмеялся Трацар и тоже смахнул навернувшиеся слезы. — Ведь сегодня ты спас мне жизнь, рискуя своей. Отныне мы — братья, а братская любовь сильнее благодарности.
Едва Ур Фта отпустил Трацара, как, позабыв о законах тсаарнского вежества, откуда-то выскочил Нодаль и с восторженным воплем едва не задушил великого царя своими громадными ручищами. Его черные упрямые кудри были всклокочены, глаза горели, словно угли, и выглядел он почти в точности так, как при первой встрече с Ур Фтой и Кин Лакком в сакларской харчевне, куда ворвался подобно весеннему ветру.
— Он ничуть не изменился! — воскликнул Кин Лакк. — И мне кажется, я обнимаю вас обоих своими крыльями и единственной рукою!
— Об одном я жалею, — сказал Нодаль с досадой, — что мой посох не пособил тебе выколачивать злобный дух из его мерзкой оболочки!
— Не жалей, славный Нодаль, ведь если бы не ты и твой посох, мне бы его никогда не одолеть! Считай, что ты был рядом со мною от начала и до конца.
— Конец пришел Ра Ону и его козням, — вмешался Трацар, — но дружба наша, надеюсь, не кончится, пока стоят Лардалл и Галагар посреди Безмолвного Океана.
— О каком Лардалле ты говоришь? — Удивился Нодаль. — И почему ставишь его наравне со всем Галагаром?
— Это длинная история, — ответил за Трацара Ур Фта. — И хотя мне поведали ее всего за два с четвертью лума, боюсь, что я и за пару нимехов не сумею всего объяснить.
— Ничего, ведь я с радостью помогу тебе, — сказал Трацар.
А нам ничья помощь уже не нужна, чтобы на этом поставить точку и завершить восемнадцатый урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Девятнадцатый урпран
Весть о бесславной гибели чернородного самозванца распространилась в войсках Цли и стремительно, словно радуга по небосводу с пришествием солнца, перекинулась на крианскую сторону.
Войска сошлись и перемешались, но не для кровавой битвы, а для взаимных поздравлений с установлением вечного мира. Обменивались оружием и гавардами, делились едой, саркаром и рабадой. Братские союзы и брачные сговоры положили в тот день начало многочисленным славным семействам, обреченным на процветание вопреки всему, что еще разделяло земли Галагара. Даже в похоронах погибших крианских воинов участвовали цлияне, разделяя скорбь и тем вернее убивая в сердцах враждебность. И воды Асиалы благосклонно принимали крианские клузы.
Весь день и всю ночь продолжалось ликование и только наутро арфанги начали разводить войска, и криане отправились восвояси далеким северным путем. Многие, впрочем, соединившись в небольшие отряды с теми цлиянами, кто этого пожелал, по воле своих государей пошли в Корлоган, а оттуда — в низовья Кора, где предстояло освоить новые земли, проложив дорогу в непролазной чащобе, и заложить город, коему суждено было стать живым знамением дружественного союза.
Шан Цвар в сопровождении поспешившей к нему свиты по приглашению Ур Фты прибыл в Айзур, где задержался на несколько дней и откуда рассылал с посланцами необходимые распоряжения.
Повернул в цлиянскую столицу и Дац Дар Среброволосый, которого добрые вести настигли уже в дороге. Не отказался погостить в Айзуре и вождь абаитов Ажайла со своим небольшим доблестным отрядом. Несмотря на их причудливую внешность, жителей Тудутры принимали радушно как честных агаров, чем они очень гордились, не переставая искренне удивляться всему, что видели в Галагаре.
Подоспевшие на подмогу своим воины Ивора и Глиона, а затем отряды из Междуморья, из Саина и Миглы, были несказанно удивлены и обрадованы. Ведь они ожидали жестокой битвы, а попали на светлый праздник всеобщего примирения.
Несколько дней продолжались пиршества, игры, дружеские соревнования и любовные забавы в Айзуре. Но пришла пора и для трудных дел и печальных расставаний.
На рассвете собрались в покоях царского дворца Ур Фта, Шан Цвар, Дац Дар Среброволосый, Ажайла, а вместе с ними все приближенные и советники, включая Трацара Чудесного, славного Нодаля, советника Од Лата и, конечно, невидимого Кин Лакка.
Прежде других предстал высокому совету айзурец Нирст Фо, славный отец безвестно пропавшего сына. Он сообщил о своем решении отправиться в Саркат через Сакларский перевал, а оттуда — на Черные Копи, чтобы отыскать хоть какой-нибудь след своего Фо Глы, и просил возможного содействия.
Посовещавшись с Ур Фтою, Шан Цвар огласил свое решение по этому делу. Он назначил Нирста Фо, неплохо владевшего крианским наречием, своим посланником, выдал ему давно приготовленную грамоту для передачи коменданту казарм на Черных Копях, жаловал обомлевшего старика длиннополым золоченым утаном с черными саркатскими алазарами на груди и спине, да к тому же своей дармовщиной — золотым овальным подвеском, по предъявлении коего Нирсту Фо на всем пути к Черным Копям и обратно полагались бесплатно приют, пропитание и всяческая подмога.
После того, как новоявленный посланник в сопровождении приданных ему витязей свиты удалился, Шан Цвар и сам распрощался со всеми, подтвердив свою верность взаимным обязательствам, связавшим его с Ур Фтою, Дац Даром и Ажайлой. Затем он покинул дворец и в легких санях с запряженною в них шестеркой гавардов умчался на север, намереваясь до возвращения в Саркат побывать в Корлогане и портовой Эсбе.
Вслед за ним поднялся Дац Дар. Он торжественно молвил:
— То, что мне стало известно о подземом мире, исполненном благородного величия и животворной премудрости; то, что открылось в обстоятельствах последней зимы, приведших отважного цлиянского царевича к прозрению и победе — все это заставляет меня сложить к подножию айзурского престола свою власть над Миргалией, отказаться от царского своеволия во всяком деле и ждать советов и указаний.
— В управлении государством я все еще не успел себя проявить, — скромно ответил Ур Фта. — И кто знает? Быть может, мне самому придется искать твоих советов и указаний, благородный Дац Дар.
— Я с радостью и откровенно изложу тебе свое мнение по любому случаю, — сказал на это миргалец, — но от того, чтобы давать тебе указания, уволь, великий царь! Отныне ты не должен их принимать от кого бы то ни было из агаров. На твои плечи легло тяжкое бремя ответственности. Отказываться от принятия последних решений и раздачи приказов с требованием непререкаемого их исполнения — означало бы перекладывать эту ответственность на чужие плечи.
— Ты прав, — уверенно молвил Ур Фта. — Я принимаю твои мудрые слова как добрый совет. А теперь выслушай мою волю. Твой род — один из древнейших в Миргалии; твоя служба в крепости Эсба явила жителям Лаймирской чащобы пример самоотверженности и непоколебимой чистоты нрава; уважение к тебе всех миргальцев от мала до велика заслуженно и неизменно. А потому повелеваю: быть тебе основателем нового царского рода, решать отныне все миргальские дела, чинить справедливый и милосердный суд, следить за почитанием обычаев и содействовать вольному процветанию твоего края. Ступай и жди дальнейших указаний.
Дац Дар, выслушав до конца, опустился перед Ур Фтой на колени и склонил свои сверкающие седины в знак благодарности и повиновения. Но Ур Фта спешно помог ему подняться, обнял его сердечно и отпустил, осыпав щедрыми дарами.
Теперь пришел черед Ажайлы. С помощью Трацара он еще во время первой встречи на острове чудесным образом овладел цлиянским и крианским наречиями и теперь, прослышав о том, что добровольные поселенцы направляются к устью полноводного Кора, дабы расчистить его от дикого леса и заложить новый город, испрашивал дозволения участвовать в этом славном деле вместе со своим отрядом.
Не успел он до конца изложить свою просьбу, как Ур Фта уже принял решение и обратился к вождю абаитов с такими словами:
— Прими, доблестный вождь, мой перстень и полномочия наместника в низовьях Кора. Твое желание участвовать в возведении нового города не только разумно, но и законно: ведь это будет самый северный город-порт в Галагаре. Я верю, что очень скоро построенные на его верфях корабли с добрым товаром полетят по морю и в несколько нимехов станут достигать берегов Тудутры. Ты можешь вернуться к себе на родину, когда захочешь, передав полномочия тому, кого сочтешь достойным. Но имя твое останется на галагарской земле. Ибо я повелеваю: да будет новому городу имя — Ажайла, в память о наших совместных сражениях и в знак нерушимого братского союза между Тудутрой и Галагаром.
Глаза абаитского вождя вспыхнули в густых зарослях темно-габалевых волос восторгом и благодарностью. Он бросился перед Ур Фтой на колени, отбивая поклон за поклоном, но также поспешно был поднят им и заключен в объятья.
Когда удалился обремененный дарами Ажайла, со своего места поднялся Нодаль. С волнением и едва сдерживая слезы, он сказал:
— Давно ли я впервые встретил тебя, великий царь и дорогой друг, давно ли полюбил навсегда, как ласкового брата? И разве малое время из этого малого времени отняли у нас нелегкие испытания в разлуке? Но вот я с тобой, а половину моего сердца грызут тоска и забота вдали от моей маленькой Вац Ниуль. И не могу я более здесь оставаться, хотя и знаю твердо, что вдали от тебя забота с тоской примутся за мое сердце с другого конца! Что же мне делать? Посоветуй, мудрый Ур Фта! Преломи ясным словом мою растерянность!
— Поезжай в Тсаарнию, славный витязь. Поезжай немедленно и помни, что мне без тебя еще более тоскливо и одиноко — ведь ты спешишь к любимой, а мне Великий Су Ан возлюбленной жены так и не дал. Поезжай, любезный Нодаль, поспеши утешить свою Вац Ниуль, а когда принадлежащая мне половина твоего сердца разболится невыносимо, отправляйся обратно в Айзур вместе с молодою супругой. Здесь, покуда я жив, вас всегда встретят почет и веселье.
— Повинуюсь, великий царь, и благодарю тебя за то, что рассеял мои сомнения. Но не будет ли у тебя ко мне каких-нибудь поручений? Я бы с радостью их исполнил в родном краю!
— Ты — не слуга мне, а близкий друг! — От всего сердца молвил Ур Фта. — И для тебя нет приказов, а только просьба. Стань царем в благодатной тсаарнской земле, прими на себя заботу о судьбах твоей осиротевшей отчизны и восстанови былые порядки в Сарфо и Набире!
— Твои просьбы, великий царь, для меня громогласнее самого строгого приказа! — В смущении отвечал Нодаль. — И я готов сделать все, что в слабых силах моих, для того, чтобы вернуть Тсаарнии блеск и славу минувших времен. Да только не гоже мне, безродному бродяге, рассиживать на сарфоском престоле, хотя бы и по твоему указанию. Ведь есть среди тсаарнов гораздо более достойные этой возвышенной доли. И если уж навсегда погиб царский род, то — умоляю тебя — избери корнем новой династии премудрого и доброго правителя Балсагана по имени Цалпракадононамон Нартребириапсагал — и ты позволишь мне избежать позора, а себя избавишь от грядущих сожалений!
— Ну что ж, ты сказал… Да будет так, если, конечно, не объявится законный наследник престола, — задумчиво произнес Ур Фта, и благодарный Нодаль почтительно поцеловал его в плечи.
Витязя Посоха великий царь провожал до самых ворот, а вместе — целая толпа новых друзей и просто тех, кто восхищался его силой, отвагой и статью. Так и стояли, кивая вслед головами, пока не перестали различать на белом горизонте пепельно-серого в черную точку гаварда, зимние одежды, блиставшие каменьями и роскошным мехом и огромный красный посох за спиной знаменитого всадника по имени Нодаль.
Вернувшись во дворец, Ур Фта выслушал и разобрал еще сколько-то неотложных дел, неизменно принимая мудрые решения не без помощи Трацара и советника Од Лата. Он совсем забыл о Кин Лакке и весьма удивился, когда тот подал голос и сообщил, что, невидимый и неслышимый, проводил Нодаля до того места, где дорога начинает подниматься в горы. В голосе Кин Лакка звучала бесконечная печаль: ведь он простился со славным Витязем Посоха навсегда. Но Ур Фта не успел ему посочувствовать, потому что в этот лум в царские покои вошла скромно одетая девушка, и он с первого взгляда признал в ней Чин Дарт. Ее гладкие волосы были аккуратно причесаны и забраны сзади простой веревочной сеткой. Свободная белая кофта с черной ленточной шнуровкой под грудью и длинная юбка из темного цинволя грубой выделки не блистали ни единым украшением.
Но лицо ее было столь прекрасно и светилось исподволь такой привлекательной силой, что Ур Фта не заметил отсутствия добавочных прикрас. Он не мог оторвать взгляда от напряженного и страстного изгиба темных бровей, от чудесных глаз, лучившихся, словно весенняя зелень на солнце, от губ ее, слегка приоткрытых и словно нарисованных рукою великого мастера, обмакнувшего кисть в фогораточью кровь… И казалось ему, что сама звезда Караньяр, спустившись с небес, озарила его покои.
Ур Фта и не заметил, как все, кто его окружал, удалились и оставили их наедине. Он слушал и с трудом понимал, о чем говорит, почтительно склоняясь перед ним, это необыкновенное существо. Наконец, он уразумел, что речь идет о матери пропавшего без вести Фо Глы, которую сковал тяжкий недуг и о которой по поручению Нирста Фо печется Чин Дарт. Бедная женщина нуждалась в хорошем пропитании и редких снадобьях.
Не раздумывая, Ур Фта обещал распорядиться, чтобы для нее тотчас отвели покои во дворце и доставили туда все необходимое.
Чин Дарт трогательно присела и низко склонилась, выражая благодарность. Затем повернулась и направилась к выходу. Ур Фта вскочил, кинулся следом и остановил ее, ласково взяв за руку. Он был полон решимости и уже открыл рот, чтобы выразить овладевшее им чувство. Но взгляд его случайно упал на деревянную фигурку сужицы, талисман Ал Грона, висевший у Чин Дарт на груди. И он в смущении прикусил язык.
В тот же лум, заставив Ур Фту вздрогнуть, раздался знакомый хрипловатый голос:
— Прости, великий царь, но мне показалось, ты забыл, что я все еще рядом.
Ур Фта выпустил руку Чин Дарт, и она, смущенная не меньше, чем он, бегом устремилась прочь из царских покоев.
Беспомощно проводив ее взглядом, Ур Фта схватился за голову и в сердцах произнес:
— Кин Лакк, Кин Лакк! Ну теперь-то, когда Ра Он мертв, когда глаза мои видят не хуже твоих, неужели не можешь ты оставить меня хоть ненадолго.
— Я мог бы уйти в тот же день, — обиженно пробормотал Кин Лакк, — но неужели ты не понимаешь, что мне просто жаль с тобой расставаться? С тобой и со всем Галагаром. Что там ненадолго! Нынче же ночью я покину тебя насовсем. Мой срок истекает, и наконец-то ты от меня отдохнешь! Делай тогда, что хочешь — гляди себе в оба, люби девчонок, нянчи наследников и забудь о верном Кин Лакке, забудь навсегда!
Услыхав о еще одной предстоящей разлуке, да к тому же бессрочной и потому самой тяжелой, Ур Фта немедленно раскаялся в сказанном сгоряча и только спросил почти шепотом:
— Ты обязательно должен уйти нынче ночью?
— Если сам не уйду, меня уведет неодолимая сила, — так же тихо ответил Кин Лакк.
— Но разве нельзя как-нибудь растянуть отпущенный срок? Что, если обратиться за помощью к Трацару?
— Все бесполезно. Может быть, Трацар и знает, как сплутовать в этой игре, но правил ее и неизбежного итога даже он изменить не сумеет.
— Ну что ж, сплутовать так сплутовать! Ты только погоди, не исчезай без предупреждения! Мы еще о многом должны сказать друг другу.
Когда вошел Трацар, Ур Фта кинулся ему навстречь и поведал о только что состоявшемся разговоре с Кин Лакком. Трацар печально улыбнулся и сказал:
— Он прав, великий царь. Правила этой игры я изменять не властен. Но оттянуть лум разлуки можно. Дело в том, что нынче ночью Кин Лакк должен начать невидимое продвижение к Золотистому болоту. Он может проделать этот путь за пару лумов, но такая стремительность вовсе не обязательна. Главное — непрерывно находиться в пути. Поэтому, если ты будешь без остановки двигаться в ту же сторону…
— Все ясно! — Воскликнул Ур Фта. — Од Лат, прикажи подать мне лучшего гаварда и коцкут с провиантом. Я выезжаю немедленно!
— Постой, — удержал его Трацар. — Раз уж ты собрался в дорогу, советую тебе посетить Лифаст и немного погостить у властелина Восточного Края. Поверь, тебе там будут рады. Как раз не сегодня — завтра посольство силинов и сартов доставит туда завещание Су Ана, в котором упоминается и твое имя.
— Что ты говоришь, милый Трацар? — удивился Ур Фта. — Или ты полагаешь, что я собираюсь без сна и привала пройти тысячу атроров и, перевалив через горы Ло, а затем пробравшись сквозь Бурую чащобу, проводить Кин Лакка до самого Золотистого болота? Да ведь и оттуда до Лифаста не рукой подать! Мне туда и к середине будущей зимы не добраться! А обратный путь? Сколько дней уйдет на него? Нет, Трацар, я не настолько безрассуден, чтобы, только заняв престол, не успев решить и малой толики дел, отправляться так далеко и надолго.
— Да нет же, великий царь! Я не знаю, долго ли ты продержишься без сна и привала, но все остальное путешествие отнимет у тебя ровно столько нимехов, сколько соблаговолишь ты пробыть в Лифасте.
— Как же это может быть?
— По-моему, очень просто — при помощи вот этих камней, — Трацар развернул ладонь, и на ней засверкали два крупных самоцвета затейливой огранки. — Это путевые альдитурды. Хорошенько запомни, как с ними обращаться, а там уж пускай в ход по своему усмотрению. Стоит тебе зажать оба в разных кулаках, и в тот же лум ты окажешься на Золотистом болоте. После этого будь особенно внимателен, чтобы случайно не выпустить альдитурды из рук. Бросишь один — и ты в Лифасте, отпустишь второй или оба сразу — немедленно попадешь назад в Айзур.
— Трацар! Сколько раз я давал себе слово не удивляться твоим чудесам, да так и не могу его сдержать!
— Это ведь не мои чудеса, — улыбнулся Трацар, — это чудеса Лардалла. И я обещаю тебе, не пройдет и двух зим, как им перестанут удивляться и просто начнут использовать по всему Галагару.
— Что же, великий царь, значит, ты отправляешься без свиты? — Невозмутимо справился советник Од Лат.
— К чему мне свита, когда со мной будут вот эти замечательные камни?
Ур Фта хотел было взять альдитурды, но Трацар его предупредил:
— Не спеши, не то окажешься на болоте раньше Кин Лакка. Я сам положу их тебе за пазуху.
А мы все же поспешим и безо всякого колдовства расстанемся с девятнадцатым урпраном книги «Кровь и свет Галагара».
Двадцатый урпран
Благополучно добравшись в Дигал, посланник Нирст Фо пересел в предоставленные ему сани и в сопровождении своей небольшой свиты проследовал в Саркат по прекрасной зимней дороге. Далее, из Столицы в Галузские горы вновь пришлось ехать верхом. Нелегким был этот путь для почтенного старца, но надежда что-нибудь разузнать о единственном сыне превозмогала усталость и придавала посланнику сил. Так что он, как говорится, ложился во тьму и поднимался с первыми лучами.
Четверо бывалых всадников опекали его безропотно и служили надежной защитой от зверья и ворья, исполняя свой долг и забыв о своих желаниях.
Миновав низовья Зиары в западном предгорье, Нирст Фо и его спутники ступили на запретную северную тропу, единственный безопасный, но тщательно охраняемый путь на Черные Копи.
Завидев блеск придворных одеяний и царской дармовщины, свирепые посты и заставы расступались как болотная трава под порывами чистого ветра, открывая дорогу цареву посланнику.
И вот, наконец, внизу показались громадные черные ямы, усеянные копошащимися фигурками узников, а впереди — казармы и здоровенный бревенчатый навес, спасавший от снегопада, но не от холода об эту пору.
Витязи свиты помогли Нирсту Фо спешиться у входа в казармы, и в тот же лум откуда ни возьмись выскочил комендант, без шапки и с красным вспотевшим лицом. Упав на колени, он приложился к сапогам посланника. Нирст Фо молча протянул ему царскую грамоту. Комендант прижал ее к животу и груди, трижды поцеловал, прежде чем сломать, голубые юкшаловые печати и, бережно развернув, поднес белоснежный свиток, испещренный листвой, к самому своему носу.
Дважды пробежал он глазами строку за строкой, тщательно уясняя царскую волю, потом сунул грамоту за черный отворот своего потертого сигона, склонился в земном поклоне и бегом припустил по тропе к страшным ямам.
Не прошло и двух рофов, как оттуда потянулась цепочка изможденных агаров в грязном отрепье. Их лица были темны как ночь от въевшейся в кожу черной пыли, но глаза у многих сверкали огнем пробудившейся надежды и лихорадочного веселья.
Нирст Фо кинулся навстречь их веренице и остановился, напряженно вглядываясь в каждого слезящимися от холода глазами. Старик все еще надеялся, что произошла ошибка, что Фо Гла жив и вот-вот кинется к нему в объятья. Все ему казались на одно лицо, и он, отчаявшись, принялся неустанно и громко звать сына по имени. А несчастные узники отвечали наперебой, выкрикивая приветствия на разных наречиях Галагара.
Издалека доносились вой и визг истребляемых по приказу царя цепных порсков. На задах одной из казарм приступили к дележу немалых запасов провизии и доброй рабады, ведь пузатые тайтлановые бутылки заполняли половину погреба. Несколько наиболее крепких парней с кирками кинулись к навесу и многие вызвались им помогать. Навес разобрали по бревнышку, тут и там развели огромные костры, на одном из них в большом котле тут же запузырилось густое сытное варево, на другом — просто грели воду. Со всех сторон тянулись к пламени черные, худые, трясущиеся руки.
В какой-то лум вдруг обнаружилось, что все надсмотрщики во главе с комендантом исчезли — будто сквозь землю провалились, а царская грамота, неизвестно как, очутилась в черных руках. Ее чуть было не разорвали, передавая в толпе друг другу. Каждый хотел прикоснуться к этому клочку гладкой корсовой бумаги, таившему в себе жизнь и свободу. В конце концов нашелся грамотей, который, повинуясь общему требованию, поднялся в один из оконных проемов казармы и срывающимся голосом начал читать:
— Великой войне и злобным проискам пришел конец. К вольному процветанию проложен отныне путь Крианскому царству и всему Галагару…
Повсюду с почтением расступались, давая пройти Нирсту Фо. А он все бродил, пристально вглядываясь во встречные лица, и звал непрестанно по имени своего Фо Глу. Спустя полунимех, отчаянье овладело им с новою силой, и он остановился у костра, в изнеможении опираясь на руку статного витязя свиты.
В тот же лум кто-то бережно коснулся сзади его плеча, и Нирст Фо без особой надежды вопросительно обернулся.
Перед ним, сгорбившись, стоял жалкого вида старик. Черная грязь была местами стерта с его морщинистого лица, изуродованного свежим багровым рубцом. Под мышкою держал он изрядный кусок непонятной солонины, а свободной рукой судорожно сжимал горлышко пузатой бутылки.
— Кем же тебе приходится тот, чье имя ты беспрестанно повторяешь? — Спросил он голосом, истертым до провалов и свиста.
— Фо Гла — мой единственный сын. Ты что-нибудь знаешь о нем?
— Еще бы не знать! Фо Гла и дружок его Ал Грон Большеносый уважали старого Хор Шота и прислушивались к моим советам. Ведь это я указал дорогу на Тахар Ал Грону, когда он бежал отсюда с посланником цлиянского царевича. Не скажешь ли, кстати, удалось этим двоим молодцам добраться до Айзура?
— Посланник по имени Нодаль жив и благополучен, а храбрый Ал Грон, спасая его, сам не сумел уцелеть и погиб от когтей свирепого кронга.
— Вот как! Жаль, не повезло бедняге…
— Ну что же ты замолчал? Бежали двое, а где был Фо Гла? Почему не бежал вместе с ними? — Воскликнул Нирст Фо, вцепившись в плечо Хор Шоту.
— Это долгая песня. Но чтобы не разрывать тебе легких, сразу скажу, твой сын погиб как настоящий герой. Пойдем, выпьем по глоточку рабады, и я тебе обо всем расскажу не спеша.
С этими словами он потянул за рукав рыдающего Нирста Фо туда, где чернели остатки бревенчатого навеса.
К чести саркатского мошенника надо признать, что он поведал о событиях казавшейся бесконечно далекой осени, почти ничего не приврав, и лишь опустил некоторые мучительные подробности, чтобы зря не терзать Нирста Фо, и без того убитого горем.
Закончив повесть о подвиге и страшной жертве Желтолицего Фо Глы, Хор Шот хлебнул из бутылки, поднялся и стал отмерять шагами известное ему расстояние от уцелевшего столба на месте разобранного навеса. Наконец, он остановился, встал на колени и, возложив ладонь на мерзлую землю, повернулся к Нирсту Фо со словами:
— Здесь я зарыл сердце и голову твоего отважного сына. Прикажи своим — пускай откопают, чтобы ты мог отправить останки Фо Глы в Безмолвный Океан, снарядив, как положено, добрый атановый клуз.
Нирст Фо опустился на колени рядом и обнял старого саркатского вора, заливаясь слезами и не думая о черной грязи, налипшей на его золоченый утан.
* * *
Тем временем Нодаль, чья судьба — не отрицай — давно тебе не безразлична, стремительно преодолев не одну сотню атроров и распространив счастливые вести от Саклара до Набира и от Набира до Асфорского леса, приблизился к домику раравы.
Не увидав дымка над крышей, он почувствовал, как сердце в тревоге болезненно сжалось. Кое-как привязав гаварда, Нодаль стремглав кинулся к дому, остановился на пороге и, осторожно приотворив дверь, ступил во тьму.
Как только привыкли глаза, он разглядел мать-рараву, неподвижную и безмолвную, на скудном ложе. Преклонив колени, он схватил ее натруженные легкие руки, покрывая их поцелуями и омывая слезами.
— Ты вернулся, Нодаль… — вдруг тихо сказала она и облегченно вздохнула.
Вскрикнув от радости, он бросился было к очагу, чтобы развести огонь. Но мать-рарава, еще раз вздохнув, удержала его:
— Оставь пустяки, в тепле я уже не нуждаюсь. Скажи-ка лучше: удалось тебе разыскать свою саору?
— Удалось, мать-рарава! — радостно отвечал Нодаль, торопливо снимая и укладывая к ней на ладонь свой заветный талисман.
— Ты читал то, что начертано в ней?
— Конечно, читал! Разве ты позабыла? Я ведь с детства помню наизусть: «Речи вернет себе дар вместе со звуками слуху…»
— Не то, — перебила его рарава. — Я спрашиваю, заглядывал ты в нее после того, как избавился от напасти?
— Нет. Кажется, нет, — пробормотал Нодаль.
— Ну так выйди на свет и загляни. Обо мне не беспокойся: я слишком долго тебя ждала, чтобы теперь уйти, не исполнив до конца своего долга.
Сколько-то времени стоял Нодаль в дверном проеме и складывал знаки, являемые саорой под действием тепла его руки.
— Что говорит саора на этот раз? — Взволнованно спросила рарава, когда он вновь склонился над ее ложем.
— Она говорит, что я — наследник тсаарнского престола, — ответил потрясенный Нодаль.
— Ты запомнил ее слова? Можешь повторить в точности?
— Могу, — сказал Нодаль и медленно произнес:
— С этой саорой в руке Родился престолонаследник Славной Тсаарнии нашей. Эти простые слова В его лишь ладони являет Чудная эта саора…— Значит, Олтран говорил мне правду, — восторженно прошептала рарава, — и теперь ты сумеешь доказать свою принадлежность к царскому роду…
— Ты знала об этом и раньше?
— Я узнала об этом в тот лум, когда впервые взяла тебя на руки. Твоя мать, лучезарная царица Вохтааль доверила мне твою жизнь перед тем, как погибнуть. А историю о Сарфоском базаре я придумала для того, чтобы ты не выдал своего происхождения раньше времени и себе на погибель. Пока я хранила тайну, знала, что не умру. Теперь нет больше тайны и нет сил, чтобы жить.
Рарава в последний раз с облегчением вздохнула, и глаза ее застыли под коркой смертельного льда. А Нодаль молча прижался лицом к ее неподвижной груди.
Исполняя один из непреложных лапсагов, принимаемых раравами, Нодаль освободил тело умершей от одежды и амулетов, зарыл его в лесу за полатрора от домика, тщательно разровнял, прикрыл сухим дерном и забросал снегом место захоронения, чтобы никто не сумел его отыскать. Рыдания душили его и слезы текли по лицу, пока он вершил эту скорбную работу.
Но делать было нечего. В конце концов, наплакавшись вволю, он почувствовал зверский голод и, разведя огонь в очаге, принялся, как в детстве, поджаривать реллихирды и поглощать их вместе с горьковатой хрустящей кожурой.
Осушив рофовую флягу рабады, он почувствовал, что к нему возвращается бодрость, вспомнил о словах, прочитанных в саоре, о том, что Вац Ниуль ждет его, не дождется. Затем оглядел на прощание дом, где когда-то провел долгие зимы, укрепил посох за спиной, отвязал гаварда, вскочил в седло и помчался стрелой в Балсаган.
Еще до заката он въехал в селение и удивился тому, что не слышно ни звона из кузниц, ни агарских голосов, да и улица пуста — все словно попрятались.
Спешившись возле дома Цалпрака, он увидал в его окнах встревоженные женские лица, взбежал по ступенькам и натолкнулся на тетушку Танадону, с воплем и слезами заключившую его в объятья.
— Где же моя Вац Ниуль? Где учитель? Где все остальные? Что тут у вас происходит? — засыпал ее вопросами Нодаль. А она в ответ горестно запричитала:
— Говорила я старому дурню, не надо возить девочку в город. Да разве ж он меня послушает? Держали бы подальше от чужих глаз, и не дошло бы, глядишь, до беды! Так нет же, потащили ее за собой! Да куда? На базар! А на базаре известное дело — все только и знают, что пялить глаза! Вот и глянулась она этой твари ненасытной. Вот и прислал он тагун, а наши-то и растерялись — дали увезти мою фогораточку силой. И уж только потом похватались кто за что и кинулись вдогонку!
— Где она? Кто увез? Когда?! — закричал Нодаль таким ужасным голосом и с такой силой тряхнул Танадону за плечи, что у нее в четверть лума высохли слезы и губы побелели от страха.
— Нынче утром. Тагуны. А послал их наместник, Цкул Хином звать. Тот, что в Сарфо хозяйничает.
Нодаль почувствовал себя так, словно у него внутри — глыба льда и сноп пламени. Оставив Танадону, он вскочил на своего гаварда, но, к счастью, услыхал ее отчаянный крик:
— Гаварда-то смени! Загонишь ведь на полпути!
Какой-то смышленный мальчишка подбежал в тот же лум, волоча под уздцы могучего черного зверя. Нодаль прыгнул в седло и так стегнул черного плеткой, что тот, рванув с места, сразу же пролетел не менее дюжины керпитов. А Нодаль знай себе погонял и в три лума исчез из селенья.
Спустя треть нимеха, он промчался по Сарфоскому мосту и влетел в городские ворота как земляной смерч. Он не узнавал улиц, не узнавал города, глаза ему застила багровая мгла. Слегка придержав гаварда, но не давая ему остановиться, он на ходу подцепил правой рукой за пояс какого-то рибура и встряхнул его так, что тот уронил дотолан, напрочь забыв о своей удавке, торчавшей из-за красной пазухи. Нодаль усадил его впереди, обхватил за шею рукой и заорал в самое ухо:
— Ко дворцу Цкул Хина, куда?!
— Направо! — крикнул испуганный до полусмерти рибур и тут же поспешил добавить: — Теперь налево и прямо! Там, в конце улицы!
Нодаль с трудом уразумел, что в городе творится большой беспорядок — со всех сторон доносились крики, звон оружия, топот бегущих ног. Увидав перед собой озаренный огнями дворец, он отбросил рибура и помчался туда, уже ничего больше не слыша и ничего не различая по сторонам.
Выставив посох перед собой как турнирное копье, он с грохотом высадил створку каких-то ворот. Перед ним засверкали зайгалы и замелькали тагунские шапки. Он несколько раз крутанул посохом — и все исчезло. Потом гавард пошел в гору, и Нодаль разглядел под собой белые ступени широкой мабровой лестницы. Потом была дверь и сгрудившиеся возле нее рибуры. Проехать дальше верхом было невозможно — притолока мешала. Нодаль спешился, расшвырял рибуров и проник во дворец. Еще дюжина стражников кинулась от него врассыпную в громадной прихожей. Нодаль чиркнул заднего посохом по ногам, поднял за шиворот и крикнул:
— Где Цкул Хин?!
— Вот по той лестнице и налево, в конце галереи… — безропотно ответил тот и уронил голову.
Больше никто уже не решался вставать у него на пути, и через несколько лумов, с третьего удара разбив посохом в щепки высокую атановую дверь, Нодаль ворвался в покои наместника и за ногу выволок его из-под кровати с роскошным пологом.
— Где она? — гаркнул он изо всех сил, подняв Цкул Хина за уши над полом.
— О ком ты говоришь, славный витязь? — пролепетал тот трясущимися губами, кривясь от боли.
— О Вац Ниуль из Балсагана! — взревел Нодаль, не думая его отпускать.
— Ее здесь нет, и не было, клянусь! — истошным голосом завопил наместник. — Твои друзья отбили ее у тагун по дороге!
Нодаль, не разжимая рук, пару раз качнул шипящим от боли и стыда Цкул Хином и швырнул его в угол.
Понемногу славный витязь начинал приходить в себя. Распахнув окно, хлебнул холодного воздуха и взглянул вниз. Перед дворцом наместника завязалась нешуточная битва. В толпе мелькали знакомые лица, и тут Нодаль окончательно уразумел, где он и что происходит. Криан теснили балсаганцы. Вероятно, помогал им и кое-кто из оставшихся в столице коренных горожан. Но понять, кто в конце концов победит, все же пока не представлялось возможным.
Нодаль обернулся и поглядел на сидящего спиною к стене наместника. Выглядел он даже очень неплохо, только уши горели как фогораточьи гребни да правая рука повисла как плеть.
— Объяснять подробно времени нет, — решительно сказал Нодаль. — Поэтому сделаем так. Я остановлю своих, а ты прикажешь твоим сложить оружие. Если, конечно, жизнь тебе дорога.
С этими словами он подтащил Цкул Хина к оконному проему и крикнул громовым голосом:
— Стойте! Остановитесь! Здесь государь Тсаарнии Нодаль и наместник Цкул Хин!
Сражавшиеся внизу замерли и, отступив на несколько шагов друг от друга, подняли лица.
— Тсаарны! Вы победили, вложите оружие в ножны и проявите милосердие к поверженному врагу!
Выкрикнув это, Нодаль ткнул наместника в бок, и тот, набрав воздуху полную грудь, завопил:
— Криане! Сложите оружие! За неповиновение — смерть!
— Молодец, — сказал Нодаль и хлопнул его по плечу. — А теперь можно сесть и все обсудить подробно.
Цкул Хин кивнул и выдавил из себя подобие улыбки. Шум битвы не возобновлялся, и снова выглянув в окно, они убедились, что обе стороны повинуются их распоряжениям. Оба сели, и Нодаль приступил к рассказу о всеобщем примирении в Айзуре. Как вдруг кто-то окликнул его по имени. Нодаль обернулся. В дверном проеме с сияющими лицами стояли Цалпрак и его сыновья. В тот же лум, с трудом протиснувшись между ними, в объятья к Нодалю кинулась живая и невредимая Вац Ниуль. Он бережно обхватил руками и жарко расцеловал ее личико, а она только смеялась сквозь слезы, и оба были не в силах вымолвить хоть словечко.
— С чего это ты вздумал называть себя государем? — с ходу спросил Цалпрак, стараясь придать голосу строгости.
— Я — действительно наследник престола, — рассеянно вымолвил Нодаль и протянул учителю на ладони свою саору. — Смотрите, но только в моих руках.
Все, в том числе и Цкул Хин, чье поведение резко переменилось в сторону робости и подобострастия, склонились над чудесным камнем и как завороженные следили за сменою знаков листвы. А Цалпрак слово за словом произносил вслух. Когда саора начала повторять все сначала, он пробормотал:
— Да точно ли только в твоей ладони она являет эти слова?
— Давай проверим! — весело сказал Нодаль и вдруг повернулся к Цкул Хину. — К примеру, на нем.
Цкул Хин изобразил смущение и безропотно протянул уцелевшую руку. Улегшись к нему на ладонь, саора вновь заговорила, но на этот раз знаков было значительно меньше и изречение быстро пошло по кругу.
— «Ты — не он, он — не ты», — прочитал вслух Цалпрак.
Саору передавали из рук в руки, но она твердила одно и то же: «Ты — не он, он — не ты». В конце концов Цалпрак воскликнул, с восторгом глядя Нодалю в лицо:
— Ты — государь Тсаарнии! Сын лучезарной Вохтааль! Первое, что ты сделал, вернувшись, — остановил кровопролитие.
Он склонился перед Нодалем и Вац Ниуль в земном поклоне, и его примеру с готовностью последовали все остальные.
— Остановить-то я его остановил. Только понять не могу, отчего оно разыгралось? — сказал Нодаль.
— Очень просто, — отвечал Цалпрак. — Что случилось с Вац Ниуль, ты, судя по твоим действиям, уже узнал в Балсагане. Так вот, отбили мы ее у дюжины тагун возле самых городских ворот. А из города им на подмогу еще лихая дюжина выезжает. Ну, это нас не испугало. Наших-то — весь Балсаган. Это ж черная дюжина, и все верхом. Оттеснили тагун за ворота, а там уже, оказывается, добрые сарфосцы рибуров раскидали, шум заслышав, и опять ворота открывают. Я и решил — вернемся домой, а Цкул Хин все равно этого дела так не оставит, уж точно пришлет в отместку пару черных дюжин. Так лучше уж сразу ломить на дворец. Тем более, горожане поднялись на подмогу. И то, прорвались уже к самым дворцовым воротам. Как вдруг — ты. Несешься, словно ураган, никого вокруг не видишь, ни чужих, ни своих. Выбил посохом ворота — и во дворец. Вац Ниуль у меня за спиной только ахнула. А все остальное ты и сам знаешь.
— Помилуй, государь, не вели казнить! — жалобно возопил бывший наместник, извиваясь в попытках облобызать нодалевы сапоги.
— Забирай своих тагун и рибуров и отправляйся в Саркат. Расскажешь там обо всем, что случилось, моему другу и брату премудрому царю Шан Цвару, а уж он пускай решает, к какой службе вас пристроить. Кому вы здесь-то нужны? — величаво изрек Нодаль и думать забыл о минувшей вражде.
Через каких-нибудь полнимеха слух о возвращении государя пронесся по всем улицам и закоулкам тсаарнской столицы. Возле дворца собралась огромная толпа горожан, громогласно приветствуя царя и царицу и страстно желая на них поглазеть. Но вместо царя и царицы из дворца вышел Цалпрак с сыновьями и убедил толпу разойтись, объявив, что до вечера следующего дня государь и слышать не желает о празднествах ли в свою честь, о просьбах ли, тяжбах и прочих государственных делах.
Оно и не удивительно было тому, кто хорошо знал Нодаля и прежде: в ту ночь им владела одна Вац Ниуль, а об остальных подданных он сказал так:
— Они жили без царя много зим. Пускай потерпят еще несколько нимехов!
А тебе и лума не утерпеть, переходя от урпрана к урпрану? Вот и двадцатый закончился.
Последний урпран
Задолго до того было.
Проводив Ур Фту до Восточных ворот, Трацар сунул ему за пазуху путевые альдитурды и сказал:
— А теперь, Властелин Галагара, давай прощаться. Ведь и мне пора уж домой, в Лардалл.
— Как же так? — воскликнул Ур Фта, даже не обратив внимания на высочайший титул, которым наградил его Трацар. — Выходит, отодвигая лум разлуки с Кин Лакком, я сокращаю время, проведенное с тобой?
— Нет, дорогой Ур Фта, даже если бы ты не трогался с места, мне пришлось бы уйти этой ночью. Ведь я и так уж рискую навсегда остаться по меркам Лардалла невероятным великаном. Кроме того, не забывай, что Кин Лакк — уже не Кин Лакк, а один из воинов Астола по имени Дацар, и уходит он безвозвратно.
— Это правда, — печально подтвердил невидимый Дацар-Кин Лакк.
— Ну что ж, тогда нечего делать — прощай! — сказал Ур Фта, прижимая Трацара к сердцу. — Помни, ты — самый желанный гость в подвластных мне землях. И то же самое передай всем жителям Лардалла.
— Мы встретимся гораздо раньше, чем ты думаешь, — ответил Трацар. — Я считаю своим долгом показать тебе Лардалл, как только ты завершишь неотложные дела в государстве и в собственной жизни. Прощай и готовься к тому, чтобы вместе со всеми честными агарами, хотя и не без помощи лардальцев, пройти через такие испытания, по сравнению с которыми все, что перенесли мы в последнюю зиму, покажется не более, чем двадцатью одним урпраном игры в бозабар.
— Когда же это случится? — спросил Ур Фта, едва заметно вскинув подбородок.
— Не раньше, чем через две зимы, но может быть, и через целую дюжину, а то и через две дюжины зим. Растите воинов с колыбели, да и сами не выпускайте из рук оружия, не забывайте, с какой стороны подходят к боевому гаварду. Ведь без этого нам не обойтись.
— Будь спокоен — я сам позабочусь о том, чтобы честные агары не превратились в трусливых зудриков! — воскликнул Ур Фта, вскочив на белоснежного гаварда, несколько раз кивнул на прощанье и легкой рысью выехал за ворота.
День и ночь, и еще день, и еще ночь провел он в пути, ни разу не остановившись, вкушая на ходу не только изысканные дорожные припасы, мягкий молодой мирдрод, горьковатый дым саркара, и не столько все это, сколько сладостный элих дружеской беседы.
Никогда прежде не доводилось ему столь долго и столь о многом говорить — ни с Кин Лакком, ни с кем бы то ни было еще.
Вспоминали они и рассказывали друг другу разные увлекательные истории и самые простые случаи из жизни, обсуждали между собой каждый нимех времени, проведенного вдвоем, каждую удачу и ошибку, все горести и радости. Разом заливались — то смехом, то слезами.
Только о трех вещах Кин Лакк не желал ни говорить, ни слушать — о любви как таковой, о смерти вообще и о жизни молодого Дацара, коим тоже ведь был он когда-то и вновь становился теперь.
К исходу третьего дня они уже не знали, о чем еще можно вести речь, не рискуя повториться. И тогда Кин Лакк неожиданно запел, но не привычным Ур Фте хрипловатым, а чистым и протяжным голосом:
— Оло аоло аларда адор ти арада Фолумо фоло тамори глаглада саора. Сазара форлиом рара аоло глиада Тэрда ти града туоло о харда Мокмора.Не было никакого сомнения, что это поет не Кин Лакк, а Дацар, молодой воин-итац, из тех, что называли себя сынами седого Нидема, и поет он старинную форлийскую витволу.
Чудесные звуки, слетавшие с невидимых уст, казались песней самого неба. В этот нимех было оно прозрачно-зеленоватым и скрывалось местами за длинными, как ветви габаля, покрытые снегом, грядами облаков. Облака непрерывно и плавно стремились на восток, подражая упорному всаднику на белом гаварде.
Но на закате и сам Ур Фта, и его замечательный зверь стали выбиваться из сил. У гаварда уже заплетались лапы, и требовалось непрестанно его погонять, чтобы он не остановился. Но вскоре, опоенный протяжной витволой, Ур Фта не заметил, как выронил плетку и, повалившись лицом на мягкую теплую шерсть, забылся в глубоком сне.
Когда он очнулся, то не сразу уразумел, что произошло. Гавард его лежал прямо на снегу, поджав под себя лапы, и, вытянув морду, мирно спал. Кругом стояла густая тьма, время от времени слегка разбавляемая слабым светом луны, то появлявшейся, то вновь скрывавшейся за бегущими облаками.
Ур Фта окликнул Кин Лакка, но тот не отозвался, и только тогда он нащупал за пазухой альдитурды. Теперь на эти блестящие камни была вся надежда. Впрочем, Ур Фта и не сомневался, что с их помощью сумеет догнать Кин Лакка. Двумя пальцами он бережно извлек один за другим и сжал альдитурды в нижних кулаках.
В следующий лум глаза его переполнили крутящиеся блики и нити ослепительного света, скользящие в разные стороны, словно воздух окаменел, сделавшись прозрачным кристаллом, и сразу раскололся в лунном сиянии от удара исполинского молота.
Ур Фта невольно сомкнул веки, а когда отважился вновь приоткрыть их, прямо перед ним уже простиралось до самого горизонта заснеженное болото, кое-где выдававшее себя черными проталинами и зарослями вечнозеленого болотного сабирника. И невозможно было понять в эту пору, почему его прозвали Золотистым. Невольно поежившись от ветра, гулявшего здесь гораздо вольнее и дышавшего холоднее, нежели там, где он оставил своего гаварда, Ур Фта плотнее завернулся в таранчовый плащ, подбитый драгоценным мехом, и негромко позвал по имени Кин Лакка. В ответ раздался знакомый голос:
— Вот мы и на месте, а до рассвета осталось каких-нибудь два-три рофа. Надо прощаться.
— Мой добрый, славный, старый Кин Лакк! — воскликнул Ур Фта, чувствуя, как слезы закипают в груди. — Прости, если я был когда-нибудь несправедлив к тебе. Мне больно с тобой расставаться, и я не могу, не хочу верить, что ты уходишь навсегда.
— Больно и мне! — воскликнул Кин Лакк после недолгого молчания. — Я ощущаю, как в сердце мое впивается пущенная рукою ни в чем не повинной Шан Цот беспощадная желтая стрела. Я умираю, Ур Фта, но теперь мне ведомо, что эта смерть не напрасна. Я выполнил долг, я помог свету вернуться в твои глаза, а надежде уцелеть во времена гибели двартов. Я ухожу с легким сердцем, избавившись сам и избавив от ненависти все войско Астола.
Кин Лакк умолк, в небе над болотом качнулся первый проблеск рассвета, и в тот же лум изумленному Ур Фте открылась величественная и дивная картина. Как ему показалось, всего в нескольких уктасах от него, над болотом явились могучие всадники. Верхом на разномастных гавардах, облаченные в причудливые доспехи, сжимая мечи и боевые топоры в сильных руках, они неслись мимо неудержимым потоком. Глаза их сияли, как звезды, суровые бледные лица были обращены на восток. Многие были покрыты кровоточащими ранами, у иных из горла или спины торчали недвижные стрелы. Но чудесные воины словно не замечали этого, восхищенные единым светлым порывом.
Не менее грузной дюжины их пронеслось навстречь восходу. Словно по ступеням огромной сверкающей лестницы поднимались они в небеса и скрывались в тихом пламени рассвета.
Как вдруг один из всадников обернулся, взмахнул рукой и кивнул, глядя прямо в глаза Ур Фте веселым искрящимся взором. Под ним был черный гавард с серебристым хвостом, его белоснежный плащ был разорван надвое и развевался за спиной, напоминая простертые крылья, а из груди у него торчала желтая стрела с округлым оперением.
— Дацар! Кин Лакк! — Прошептал потрясенный Ур Фта, и взор ему затуманили слезы.
А когда он смахнул их рукой и вновь посмотрел на болото, ничего, кроме зеленых кустов и заснеженных кочек, уже не увидел.
Он повернулся и растерянно побрел по колено в снегу прямо к зарослям Бурой чащобы. Пройдя лесом с полатрора, он остановился и опять протер глаза. На широком пне прямо перед ним сидел седовласый старик в странном одеянии, темном и длиннополом, с небольшим коцкутом за плечами и каким-то удивительным инструментом в руках, отдаленно напоминавшим крианский тантрин.
— Кто ты и как здесь очутился? — спросил Ур Фта, даже не подумав о том, что первый встречный в краю, удаленном от Айзура на тысячу атроров, скорее всего ни слова не понимает по-цлиянски.
Но удивительный старик, сверкнув из-под густых бровей голубыми глазами, ответил ему на чистейшем цлиянском наречии:
— Я — бродячий певец, и только. Исходил весь Галагар, и вот пришел сюда, сам не знаю зачем. Впрочем, если есть у тебя, чем заплатить, спою тебе об этих местах по-цлиянски.
Ур Фта кивнул, не раздумывая, и старик, поставив на колено свой удивительный инструмент, украшенный посеребренным навершием в виде сужичьей головы, принялся перебирать бессчетные струны. Затем прервал чудесный звон, наполнивший утренний воздух, тряхнул сединой и, ударив по струнам с новой силой, запел низким красивым голосом:
В болото Золотистое, в сверкание лучистое, Скрипя подпругой кожаной, оружием звеня, Умчалось войско Астола, неистовое, быстрое, И мгла его окутала, ни звука, ни огня. Но лишь туман уляжется, мерещится и кажется Охотнику и страннику, спустившемуся с гор, Такое, что не каждый и порассказать отважится, И берега Зилабилы нехожены с тех пор. А над болотом сужица, внушая ужас, кружится, И заросли сабирника тревожно шелестят, И кочки разъезжаются, и маленькая лужица Трясиною становится, глотая все подряд. А ночью тьма холодная, безлунная, бесплодная Над смоляным течением Зилабилы стоит. И только войско Астола, хмельное и свободное, Как облака, бесплотное, полет во тьме таит. Сынов седого Нидема, их видимо-невидимо: Кривой Фирфас, отважный Шиф, Куор и Алагам… Уверенность в их гибели их, верно бы, обидела — О битве грезят витязи, войной грозя врагам! Не прячут лица гордые, неумолимо твердые Чернявый Кэх, свирепый Нор и Дацар молодой… Рассерженные шпорами, гаварды тонкомордые Рычат и вдаль уносят их неровной чередой. И новобранцы бравые, и ратники кровавые, Цахет, Интар, горбатый Шалк и долговязый Ксах — Проносятся суровые, всегда во гневе правые, И вспыхивают сполохи на шлемах и щитах. Мечи вздымают воины, а лезвия раздвоены, Плащи их вьются по ветру, и тетивы гудят. А на доспехах вмятины и рваные пробоины, Но и смертельно раненым дороги нет назад. Их топоры, как месяцы, так изнутри и светятся И молниями бесятся в приученных руках… А на заре по лестнице, что будто с неба свесится, Восходит войско Астола, теряясь в облаках. И путник огорошенный подымет посох брошенный, Глаза протрет и вперит их в безлюдие окрест, Окинет дол некошеный иль снегом запорошенный, Подумает, поежится и прочь из этих мест.Певец умолк, последний раз пробежал пальцами по струнам и протянул руку.
— Вот тебе «Песнь о войске Астола». А теперь заплати, как обещал, Властелин Галагара, прекрасный и щедрорукий!
Пока звучала песня, перед Ур Фтой как будто еще раз пронеслось все, что он только что видел собственными глазами. Когда же он вдруг разглядел перед собой протянутую руку и услышал слова старика, так же, как давеча Трацар, назвавшего Ур Фту Властелином Галагара, то растерялся от неожиданности и поступил как нельзя лучше. Просто взял и положил старику в ладонь один из альдитурдов.
И опять окаменел и раскололся воздух на тысячи бликов и нитей, опять Ур Фта сомкнул от яркого света глаза. А когда он открыл их, то увидал, что стоит посреди большой площади, заполненной торгующими, поющими, кричащими и просто снующими в разные стороны агарами обоего пола. На них были причудливые одежды, и говорили они по-меридски.
Ур Фта, которого в детстве обучали и этому наречию, помнил несколько дюжин меридских слов и, тронув за рукав какого-то молодца с тонкими усами и бородкой, заплетенными в одну косицу, свисавшую до пояса, учтиво осведомился:
— Не скажешь ли, честной агар, этот город — Лифаст?
— Лифаст, Лифаст, — закивал тот в ответ и расплылся в улыбке, открыв ряд прямых красивых зубов, сверкающих ярко-синим лаком.
— А не укажешь ли мне дорогу к царскому дворцу?
— Нет ничего проще, дорогой чужестранец! — воскликнул учтивый мерид, бережно подхватив под руку, вывел Ур Фту с площади и указал на красно-желтый купол, возвышавшийся в конце широкой улицы, густо засаженной по краям вековыми габалями.
Ур Фта, припомнив, вымолвил несколько слов, выражающих благодарность, и бодрым шагом устремился во дворец. Пройдя пару уктасов, он вдруг уловил тончайший, ни с чем не сравнимый запах, вгляделся в голые ветви, тянувшиеся к нему с обеих сторон, и увидал на них крупные розоватые почки. Кончалась зима в Галагаре, и краткая буря весенней истомы уже завязалась на светлом его пороге.
Слегка опьяненный неожиданным этим открытием, Ур Фта взбежал по лестнице, широкой и плавной, сооруженной из литых железных плит с превосходным узором, миновал высокие, распахнутые настежь двери, подивившись отсутствию стражи, и очутился в прямой как стрела галерее. Ее сверкающий свод опирался на резные столбы из полупрозрачного желтого камня, похожего на степной афат. Здесь каждый шаг рождал многократное эхо, и вскоре с другого конца галереи навстречь Ур Фте устремился некто в свободных, светлых, развевающихся на ходу одеждах.
Сблизившись с незнакомцем, Ур Фта вгляделся в его лицо, обрамленное красно-желтою тканью удивительного головного убора, и не мог удержаться от приветливой улыбки. Высокий морщинистый лоб, лукавый взгляд узких темно-габалевых глаз, массивный гладкий нос, нависший над толстыми губами, подобно спелому клубню реллихирда, и мягкий полукруг рыжеватой коротко подстриженной бородки — короче говоря, все до малейшей черточки в облике незнакомца светилось бесконечной добротой и заведомой расположенностью ко всему Галагару.
Стоило ему, ни слова не говоря, широко развести свои руки, утопавшие в громадных облакоподобных рукавах, — и Ур Фта, не раздумывая, сделал то же самое. Они заключили друг друга в объятья, и незнакомец заговорил голосом веселым и твердым:
— Жаль, не успел тебя встретить у входа. Ты очень похож на своего отца, да упокоится он в водах Безмолвного Океана!
По этим словам Ур Фта сразу же догадался, что перед ним не кто иной, как сам Властелин Восточного Края, сын Нотроца Справедливого и добросовестный преемник его славных дел Астлах Добротворный, о встрече с коим, единственной, но знаменательной, не однажды рассказывал ему отец.
— Ты ведь у нас впервые, — вновь заговорил Астлах, приглашая своего гостя пройти в другой конец галереи. — Не видал еще озера Ях?
Ур Фта отвечал отрицательно.
— Тогда я тебе завидую! — рассмеялся радушный хозяин. — А по сердцу ли тебе Лифаст? А мой дворец? Как, хорош ли по-твоему?
— Хорош несомненно, — учтиво ответил Ур Фта. — Но меня удивило отсутствие стражи, да и в городе я не заметил никого, кто походил бы на воина хотя бы видом, не говоря уж об оружии…
— О, не тревожься, Властелин Галагара! Войско Восточного Края несет свою службу в предгорьях Ло и в Бурой Чащобе. Оно многочисленно, превосходно обучено и вооружено. А здесь, в Лифасте, какая нужда мне в искусных ратниках? От кого им меня защищать? От моих подданных, питающих ко мне неизменные чувства любви и уважения? Или от моего гарема? — Тут он снова расхохотался, как дитя. — И то правда! Об этом стоит всерьез подумать! Мои красавицы слишком часто отвлекают меня от важных дел!
Ур Фта смущенно улыбнулся и покачал головой. Меж тем, покинув сверкающую галерею, они вошли в просторный зал, озаренный мягким светом, проникающим через овальные окна, расположенные под самым сводом. Здесь их встретила радостными возгласами целая толпа богато и разнообразно одетых жителей Восточного Края. Собравшиеся с поклонами расступились, открывая дорогу Ур Фте и его сияющему спутнику к возвышению, где стояли два прозрачных ослона, вырезанных с неподражаемым мастерством из какого-то чудесного камня. При этом один из них был установлен чуть выше другого.
Ур Фта повернулся к Астлаху, словно что-то внезапно припомнив, и молвил:
— Скажи, Добротворный Астлах, отчего ты назвал меня Властелином Галагара? В который раз я слышу это незаслуженное величание и не перестаю удивляться…
Астлах указал на прозрачный ослон, стоявший повыше, и торжественно произнес:
— Вот твое место. И не тщись от меня скрывать свои заслуги, они мне хорошо известны. Я назвал и впредь буду называть тебя Властелином Галагара, потому что такова справедливая воля, оставленная нам по смерти Великим Су Аном.
Как только они оба расположились на возвышении в том порядке, на коем настоял Астлах, ему поднесли прекрасный резной ларец с откинутой крышкой.
Властелин Восточного Края извлек из него белоснежный свиток и, развернув, передал Ур Фте. Немедленно в огромном зале воцарилась такая тишина, что, как говорится, можно было расслышать шаги облаков и скрип восходящего солнца.
Едва сдерживая рыдания, Ур Фта дважды прочел багряные строки листвы, скрепленные снизу печатью Су Ана, и, уронив свиток, тут же подхваченный кем-то, негромко сказал:
— Да будет по слову благородного дварта, принявшего смерть ради нас!
В тот же лум под сводами зала взорвался восторженный хор голосов. Но Астлах усмирил его, выпростав руку, и торжественно объявил:
— С делами покончено на сегодня! Время порадовать гостя достойными забавами и пиром!
Ур Фта и оглянуться не успел, как очутился во главе огромного стола, уставленного неслыханными яствами, а когда он поднял глаза, то увидал перед собою громадный пиршественный зал, уставленный еще, пожалуй, тремя дюжинами накрытых столов, каждый длиною не менее пары уктасов.
Повсюду раздавались приветственные возгласы, шутки, смех и звон прозрачных чаш.
А в следующий афус к нему на плечо легла нежная ручка в кружевах невесомых браслетов и тончайших колечек с радужным многоцветьем каменьев искусной огранки. Ур Фта обернулся. Прямо перед ним возникло обрамленное сиянием бесчисленных золотистых косиц прелестное личико. И очаровательно беспечный голосок, звенящий, словно дюжина серебряных бубенцов, со смехом произнес:
— Что любит больше всего Властелин Галагара? Какое блюдо ему поднести — послаще или посолонее?
— Прочь, негодница! — свирепо прорычал Астлах, восседавший рядом с Ур Фтой, по правые руки. Включившись в игру, виновница поддельного гнева одного и неподдельного смущения другого испуганно вскрикнула, но тут же опять рассыпала серебряные бубенцы, залившись смехом, и упорхнула к противоположному концу стола.
— Что, какова? — лукаво подмигнув, справился Астлах и протянул Ур Фте большую чашу с густым ароматным напитком, белоснежным, как лепестки бирциды. — Это младшая моя, дитя удивительной страсти. А ведь чем сильнее чувства, тем очаровательней их живые плоды! Запомни имя, оно ей под стать — Мешвилла. А то, может, сразу же сговоримся? Породниться с тобой — для меня честь и радость!
Ур Фта совсем потерялся, не зная, что и ответить. Но славный Астлах воскликнул, будто бы прочитал его мысли:
— Нет! Возьми ее просто в наложницы. Бурхада царицы слишком тяжела для этого хрупкого создания, существа, избалованного всеобщей любовью и негой.
— Я согласен! — решительно вымолвил Ур Фта, понимая, что отказ его будет обидным для гостеприимного царя.
— Вот и славно! Я пришлю ее к тебе вместе с посольством и подобающими дарами.
— Как называется этот чудесный напиток? — спросил Ур Фта, чувствуя, как сладостная истома разливается по всему телу.
Астлах добродушно расхохотался:
— Этого меридского слова ты не знаешь — и неудивительно, ведь к западу от хребта Ло его просто не к чему приложить! Питье, услаждающее тебя сегодня, и девицу, что станет услаждать тебя в скором времени, здесь называют одним именем — Мешвилла!
— Мешвилла… — рассеянно повторил Ур Фта и с трудом приподнял отяжелевшие веки.
Властелин Восточного Края что-то еще говорил о дорогах, коими в ближайшие зимы следует соединить Восток и Запад Галагара, прорубив непролазные чащи предгорий и перекинув через неприступные горы Ло рукотворные перевалы; сетовал на то, что кораблестроение в Мере находится в самом зачатке, и спрашивал, нельзя ли ему заполучить с полдюжины крианских корабельщиков, по слухам изрядно понаторевших в своем ремесле.
Но Ур Фта понимал лишь через два слова третье и едва ворочал языком, пытаясь вразумительно отвечать своему собеседнику. Наконец, он вовсе перестал собою владеть и несомненно повалился бы прямо на руки предупредительных придворных, если бы не взрыв света в глазах, в долю лума вернувший ему бодрость и ясное разумение.
Однако, открыв глаза, он не увидел ни шумного пира, ни баловницы Мешвиллы, ни добродушного Астлаха. Пред ним простирался луг во множестве проталин, уже пестреющих пробившимися ростками новой травы; из-под ног убегала дорога с осевшим по краям и поддающимся теплу снегом, а неподалеку сверкали в лучах повеселевшего солнца стены и башни Айзура. И Ур Фта догадался, что от усталости и под действием чудесного напитка разжал пальцы левой нижней руки и выпустил второй альдитурд.
Зато теперь он почувствовал прилив сил и бодрости и зашагал по дороге в город, беззаботно размахивая всеми четырьмя руками. Ему еще только предстояло узнать о последнем подвиге славного Витязя Посоха и о том, что именно он, согласно праву и долгу, взойдет на тсаарнский престол, и о том, что славная Вац Ниуль успела вытащить из страшной Долины Кронгов не только живого, но и мертвого, а Нодаль, узнав о том, что ее стараниями тело Ал Грона Большеносого хранится высоко в Галузских горах, прикажет перевезти его в Сарфо, устроит пышные похороны и собственноручно столкнет в воду останки героя в атановом клузе; и о том, что почтенный Нирст Фо не зря отправился на Черные Копи, что и ему удастся похоронить своего сына по обычаю; и о том, что Трацар, прежде чем благополучно опуститься по Синему Винту на землю Лардалла в объятья своей Алчиры, оставил в Айзуре несколько чудесных подарков для Властелина Галагара, ничем не уступающих путевым альдитурдам.
Но одно знал Ур Фта совершенно точно, в одном был твердо уверен — что ждет его в родном городе прекрасная, смелая, разумная и горячо им любимая девушка по имени Чин Дарт, что для нее, вовсе не избалованной с детства всеобщей любовью и негой, не будет тяжела бурхада царицы и со временем, если его не торопить опрометчивыми поступками, обязательно окажется рядом с Властелином Галагара — не потому, что забудет своего Ал Грона, а потому, что поймет (как сказано в одном из древних эрпаралов):
В волнах Океана со славой Покоиться павшим героям, А нам то, во имя чего Погибли они, продолжать.И, может быть, для того, чтобы предаться мечтам о желанном времени исполнения желаний, Ур Фта решил еще немного побыть в одиночестве. Он остановился в воротах Айзура и отдал распоряжение первому попавшемуся мальчишке. Тот, зажав в кулаке царский перстень, кинулся бегом по улице и вскоре вернулся, ведя по уздцы черного, как смола мубигала, гаварда. Ур Фта похвалил мальчишку за смышленость и расторопность, щедро его одарил и, вскочив на гаварда, умчался прочь по дороге, ведущей в горы.
Задолго до темноты он приблизился к Ализандовому гроту и, спешившись, вдруг услыхал треск костра и возбужденные голоса, доносившиеся оттуда.
Подкравшись поближе, он осторожно выглянул из-за полупрозрачных стволов и присмотрелся к тем, кто так неожиданно расстроил его одиночество и сладостные мечты.
У костра веселье было в самом разгаре: мелькали кружки с рабадой, на вертеле готовилось жаркое, судя по запаху — из мяса шарпана.
Прислушавшись к голосам пирующих охотников, Ур Фта беззвучно рассмеялся и произнес про себя:
— На этот раз им больше повезло!
В тот же лум оживление у костра пошло в гору и какой-то низкорослый юнец вскочил на ноги, размахивая мечом.
— «Луч», «лестница», «кочерга»! — кричал он во все горло. — Неплохо, а? Жаль, топора не прихватил с собою — поглядели бы, как я с ним обращаюсь. Братец мой, увалень косорукий, и в подметки мне не годится! А нос задирает выше видраба! Конечно, он теперь у нас герой Буйного луга, участник двух войн. Правда, заметьте: как был простым дюжинником, так им и остался! Да будь я на его месте… Вот, скажи, дружище Эф Тун, разве так уж важно, что мы родились на две зимы позднее Великого Ур Фты Миротворца? Ведь он же был товарищем во всех наших играх и потешных сражениях! А теперь нате вам — всеобщее примирение, и неизвестно, дождаться ли нам вообще настоящей битвы! Да что там настоящей! Завтра — Золоват, и то не для нас! Жди еще целую зиму!
— Жди, нетерпеливый Зи Аль, — прошептал Ур Фта. — Жди и не сетуй понапрасну. Кто знает, какие страшные сражения еще могут выпасть на твою долю!
Он уже смирился с тем, что здесь ему не удастся наслаждение одиночеством, и, решив, по крайней мере, отведать свежей шарпанины, неожиданно вышел из-за деревьев и издал громогласный охотничий клич, заставив юных бражников в изумлении обернуться.
Может быть, и ты изумишься, да только ничего не поделаешь: здесь завершается последний урпран книги «Кровь и свет Галагара».
Завещание Конрада Линца
«Я, слава Богу, не ученый, то есть не из тех людей, что ставят с большим увлечением маленькие искусственные, порой опасные, но от этого не менее смехотворные, опыты. Они забывают при этом следить за ходом одного действительно и единственно грандиозного эксперимента, предметом или участником которого оказывается любой родившийся на Земле человек и в результате которого рано или поздно достигается Истина. Но в том-то и заключается главный вопрос человеческой жизни: рано или поздно?»
Под этими словами Конрада Линца смело мог бы подписаться и я. А потому мне и в голову никогда не приходило пытаться раскрыть тайну Галагара, прибегнув к научным методам. Я даже не задавался вопросом, вымысел или правда то, что мне известно о нем. Думаю, как и в случае с бароном Мюнхгаузеном, это просто было бы некорректно.
Даже если мы имеем здесь дело с чистейшей фантазией незаурядного литератора, каковым несомненно следует признать Конрада Линца, та сила, с которою плод этой фантазии действует на наши чувства и разум, заставляет всерьез задуматься о реальности вымысла.
По крайней мере, сам носитель этих пpавдивых или пpидуманных обpазов, — хотя ни мне, ни, вероятно, кому-либо еще на Земле не известно, жив он до сих пор или уже умер, — безусловно, лицо реальное. И чтобы рассеять всякое сомнение, могущее возникнуть на этот счет, я расскажу здесь коротко и без прикрас о моей единственной, но чрезвычайно знаменательной встрече с удивительным человеком по имени Конрад Линц.
Это случилось в июле 1988 года (обратите внимание на то, что меня не смущает довольно точное указание даты, без труда позволяющее установить подлинность упоминаемых мною обстоятельств). Как раз накануне я принял решение навсегда оставить карьеру школьного учителя, которая по истечении семи лет, накрытых сеткой расписания уроков, показалась мне бесплодной и не сулящей ничего, кроме дальнейшего ухудшения здоровья от недосыпания и стрессов. А поскольку к тому времени я уже достиг некоторых результатов в своей литературной деятельности наедине с ящиком стола, то, порвав с педагогикой, новый роман завязал с журналистикой.
Легкомыслие этой «дамы» признается всем человечеством, что позволяло надеяться — и надежда моя оправдалась — на безнаказанное продолжение моего адюльтера с вольной изящной словесностью, не требующей информповода, проверки соответствия фактам и прочей белиберды, угнетающей верных своему делу газетчиков.
Поэтому я, не раздумывая, подал заявление об уходе, как только обнаружилась подходящая вакансия. Директор школы, принимая мой меморандум, которого не могла отменить обязательная отработка, ибо впереди был двухмесячный отпуск, вздохнул с нескрываемой завистью.
А я не преминул усилить эффект, помахав заграничным паспортом и сообщив о предстоящей поездке в Югославию, тогда еще бывшую благодатной страной, продававшей советскому туристу двести тысяч динаров за пятьдесят целковых.
Это удивительное путешествие, а точнее теплоходный круиз по Дунаю с промежуточной автобусной вылазкой по маршруту «Белград-Дубровник-Сараево-Белград», на самом деле одна из довольно странных случайностей, какими, в той или иной степени, пестрит жизнь любого человека, и не только рожденного в СССР. Путевкой меня (правда, за мои же, в основном, деньги) наградил коммунистический союз молодежи, причем наградил за мою борьбу против него же на идеологическом фронте в доперестроечные времена. Впрочем, может, правильнее сказать — за его борьбу против меня. Лично я-то всегда предпочитал лояльность с большой фигой в кармане.
Но так или иначе, а в Дубровнике мне удалось провести целых пять дней. В первый же день я вволю накупался в голубых водах Адриатики и немного заскучал по причине отсутствия в них водорослей, медуз, полиэтиленовых пакетов и прочей гадости, которая своими прикосновениями всегда пробуждала во мне свирепую волю к жизни во время заплывов в Черное и Азовское моря.
Итак, вволю накупавшись и проглотив гарантированный ужин в столовой при кемпинге, где нашу группу остановили без особых удобств, я подумал, что спать в этаком парадизе есть самое тупое, а для меня, при моей впечатлительности, попросту невозможное занятие, и с наступлением темноты, наполовину одолеваемой лучезарным неоном, бодрым шагом направился в Старый город.
Ночью он выглядел втрое великолепнее, чем днем. Дух роскоши золотым костром полыхал за окнами развлекательных заведений. Дух нищей средневековой вольницы пародировался праздношатающейся молодежью. И все было непривычно благопристойным, чистеньким. Кругом курили, а под ногами ни одного окурка. Девчонки в мини-юбках украшали мостовую, мягко говоря, рискованными позами, но физиономии были неприступны, а трусики белоснежны. И сама мостовая была чистой, гладкой и теплой, как светлый шоколад.
Часа полтора бродил я взад и вперед в этом подозрительном интерьере под звездным небом и сам у себя домогался: что меня так тревожит и жмет посреди столь явной расслабухи и откровенных прелестей?
Деньги у меня были: карман невообразимо хрустел местными купюрами достоинством в десятки тысяч. Во всяком случае, на пиво хватало. Подавив совковый инстинкт, подбивавший напиться воды из фонтана и убираться баиньки, сэкономив валюту, я вышел из Старого города и бодро направился к одному из белых ажурных столиков, в бессчетном количестве расставленных по обширной площади возле какого-то ресторана.
Усевшись, я стал поджидать официанта. Но он ко мне не спешил, увлеченно обслуживая упитанную и подвыпившую чисто арийскую компанию. Честно говоря, я даже обрадовался такой нелюбезности, поскольку как раз занимался напряженным изучением своего изрядно подпорченного временем словарного запаса в надежде соорудить пару вразумительных фраз для объяснения с официантом на среднем арифметическом трех европейских языков, включая русский.
Наконец, остановившись на предельно упрощенном выражении «Бир, три батлз», я начал изнурительную борьбу с собственной застенчивостью в решении гамлетовского вопроса: схватить или не схватить… официанта за штаны во время какого-нибудь из его рейсов к немецкому столику и обратно с веером, соответственно, полных и пустых бутылок?
Застенчивость оказалась не слабее решительности датского принца и окончательно склонила меня к отрицательному ответу.
Но просто сидеть и ждать все же было довольно унизительным делом, и я, вытянув из заднего кармана блокнот с авторучкой, принялся старательно корчить Хемингуэя. Минут через десять я уже позабыл, где и зачем нахожусь, и решительно рифмовал звуки, приблизительно выражавшие тревогу, посетившую меня в Старом городе. Получилось неплохое, на мой взгляд, стихотворение в двадцать строк, открывавшееся откровенным:
Не милы мне покатые стены Предстоящих судьбе городов…и завершавшееся загадочным:
Как бы душу ни грели всечасно Подтвержденьем дарованных прав, Только смерть весела и прекрасна — К этим теплым ступеням припав.Как вдруг я обнаружил, что у меня за спиной кто-то стоит и через плечо заглядывает в мою писанину. Это было просто невыносимо, и я, не спрашивая разрешения у застенчивости, резко обернулся. Обернулся — и едва не задел своим носом нос любопытного и, разумеется, совершенно не знакомого мне господина. От неожиданности он вытянулся по стойке «смирно» и в смущении пробормотал без малейшего акцента:
— Вы позволите? Зажигалку… прошу прощения.
Я протянул зажигалку, но вопросительного взгляда не снял. А любопытный господин рассеянно покрутил ею в руке и, вероятно, к ужасу своему припомнил, что сигарет при себе не имеет. Еще больше смутившись, он не решился вдобавок попросить у меня сигарету, понимая, конечно, что и этим его странного поведения не оправдать, и неожиданно, кивнув и расплывшись в улыбке, представился:
— Конрад Линц, к вашим услугам. Вы позволите?
Пришлось и мне кивнуть, а когда он расположился напротив, расшифровать свой незатейливый вензель.
Внимательно разглядев навязавшегося на мою голову визави, я прежде всего обнаружил на его красноватом, слегка заостренном по-птичьи носу сияющие линзы в шикарно массивной роговой оправе. Добавив к ним изысканно подстриженный седой ежик, модную косынку, пышно цветущую под подбородком, снежно свежий блейзер из натурального хлопка, золотой зажим «паркера», скромно украсивший наружный карман, и, наконец, избыточное облако драгоценного галльского аромата, я получил портрет человека, которого не мог признать советским, даже если бы он заговорил без акцента не на русском языке, а, к примеру, по-ханты-мансийски.
Вероятно, разделявший мое мнение официант подскочил к нашему столику.
— Я чувствую себя виноватым, — стремительно заговорил Конрад Линц, а это, в чем я скоро убедился, была его обычная манера речи. — Вы не обидитесь, если я предложу вам чего-нибудь выпить… за мой, разумеется, счет?
Я не обиделся, прекрасно понимая, что мои потертые до сеточки шорты, бывшие некогда вельветовыми джинсами фирмы «Rifle», выцветшая футболка с надписью «спринт» и потертые теннисные туфли говорят за себя не менее выразительно, чем все атрибуты моего собеседника, причем говорят нечто противоположное.
Но «Бир, три батлз» показалось мне все-таки чересчур вульгарным для такого случая заказом, и я скромно сказал, с неким даже аристократическим холодком:
— Кофе двойной крепости и без сахара, если вам угодно.
Тактично разделив мою умеренную жажду, он заказал два кофе и, как ни в чем не бывало, запросто спросил:
— Давно вы сочиняете стихи?
Мне не понравилось слово «сочиняете». Его первоначальный смысл в обиходе давным-давно запачкан оттенком «вранья» или, по меньшей мере, «завирания». И уж лучше бы он сказал «слагаете».
Но я, ничем не выразив своего недовольства, так же просто ответил:
— Десять лет.
— Успех колоссальный, — продолжал он без всякого намека на свойственный лести взвинченный тон. — Вы простите еще раз, глупо скрывать, простите, но вы бы удивились и возмутились, вероятно, еще больше, когда бы мне вздумалось испросить у вас разрешения, а так — получилось не очень вежливо, зато я нечаянно наблюдал рождение этих строк, — он протянул сухие пальцы в сторону моих записей и продолжал строчить как из пулемета, — и я не жалею, может быть, вы-то мне и нужны, не только техника, хотя техника безупречна, вы обладаете редкостным даром предвидения, согласитесь, что никому из этих людей, приехавших сюда со всего света, чтобы рассеяться и забыться, не приходит и не может прийти в голову то, что вы сумели почувствовать и достаточно ясно выразить в этих строках, вы знакомы с политической ситуацией и подспудными настроениями населения Югославии?
Разумеется, я не знал ничего подобного в отношении Югославии, так же, как и в отношении любой другой страны, включая свою собственную.
— Так я и думал! В вас есть то, что не совсем удачно принято называть шестым чувством, каждый дурак, простите, сумеет разглядеть тень смерти, лежащую на тюремных стенах, больничной койке или эшафоте с гильотиной, но далеко не каждый и даже вряд ли один из миллиона видит эту тень, когда она нависает над благодатным местом, залитым солнцем, исполненным мирной суеты и, так сказать, буйного цветения жизни. Пройдет года два-три, и вы, возможно с ужасом, убедитесь сами, что тень, которую вам каким-то чудом удалось разглядеть сегодня, вовсе не была результатом своевольной работы воображения. Смерть уже на пороге этого сказочного города, сотни лет не знавшего бедствий войны.
Эти слова, несмотря на несколько усложняющую восприятие скороговорку, были настолько убедительны и серьезны, что я не мог допустить даже мысли о том, чтобы счесть их изысканным комплиментом, и задумчиво произнес:
— Возможно, вы правы.
— Возможно, возможно, — подхватил он с улыбкой и, кивнув официанту, поставившему перед нами по беленькому наперстку с настоящим, судя по запаху, кофе, заказал пачку «Camel». — Но я был бы счастлив в том, что касается вас, убедиться, как говорят, на все сто, — и не дожидаясь моего вопроса, спросил сам. — Не могли бы вы познакомить меня со своим творчеством более детально?
Советский инстинкт пробудился вновь и вызвал во мне усиленное сердцебиение. Что, собственно, происходит? Небедный дядечка, очень похожий на русского эмигранта, уж не берусь определить, которой волны, проявляет живой интерес к моим творениям. Что это сулит? Как минимум, хороший выход на стезю международного признания, а как максимум — валютные гонорары. Вероятно, на нечто подобное я и рассчитывал, перетаскивая через таможню пару тысяч строк, отпечатанных на пишущей машинке «Москва» накануне поездки.
Повинуясь этому инстинктивному рассуждению, я поспешил ответить утвердительно:
— Да, я могу показать вам две книги стихов в рукописи.
Минут через десять мы подкатили в сиреневом «BMW» к тупо спящему кемпингу. А еще минут через пять я рысью подбежал к моему новому знакомцу, тем временем распахнувшему дверцу и закурившему, не сходя с водительского места, и вручил ему аккуратную пачку листов потребительского формата, извлеченных со дна моего чемодана.
— Если вы не возражаете, я изучу все это, — он мягко возложил свою сухощавую руку на мои труды, — а завтра часиков в десять вечера встретимся на моей яхте, она стоит у маленькой пристани, что возле аквариума, вы без труда ее узнаете, называется «Христофор Колумб», согласны?
Ну конечно, скрепя сердце, я согласился. Что же еще оставалось? Но он успел заметить мое смущение и тут же протянул мне прямоугольник из голубого картона, черкнув на нем несколько цифр своим «паркером».
— Вот моя карточка и телефон в номере отеля, где я остановился. Если что-то не сложится, позвоните мне загодя, и я найду способ переправить вам рукопись в целости и сохранности.
Это было слабым утешением, но не мог же я, в самом деле, потребовать у него в залог паспорт, как на лодочной станции!
Когда «BMW», сверкнув под фонарями, развернулся и укатил вниз по улице, я вышел на свет и внимательно изучил то, что осталось мне взамен заветной рукописи.
В правом верхнем углу богатой визитки поблескивал выпуклой позолотой какой-то экзотический символ (позднее я узнал от владельца карточки, что это так называемый синдар, геральдический знак, весьма распространенный в Галагаре), а ниже в красивой виньетке из волосяных линий помещалась простая надпись: «Konrad A. Linz, professor». И все. Ни адреса, ни телефона, ни даже названия страны, где проживает профессор неизвестно каких наук. Только временный чернильный номер, по которому я и не собирался звонить. Зачем? Я-то, конечно, явлюсь на свидание. А если не найду яхты или не найду на яхте Конрада Линца, просто махну на все это рукой: в конце концов авторство рано или поздно всплывает и все плагиаторы бывают посрамлены.
На следующий день, не дожидаясь назначенного времени, я отправился на пристань возле аквариума и прогуливался там не менее часа, предаваясь не очень веселым раздумьям.
Правда, яхту «Христофор Колумб» я обнаружил довольно быстро, но единственным человеком у нее на борту был голый по пояс механик, копавшийся в наполовину разобранном дизеле и даже отдаленно не напоминавший кого-либо из известных мне профессоров.
Наконец, неподалеку на башне кто-то там, не помню, то ли рыцарь с мечом, то ли смерть с косой, шарахнул по колоколу своим инструментом — и я, международным образом окликнув механика, отчетливо назвал ему имя с визитной карточки. В тот же миг из глубин своего «Колумба» вынырнул Конрад А. Линц собственной персоной. Он приветливо помахал рукой и протянул ее мне, помогая взойти на борт и избавиться от пустых опасений.
В жизни моей не так уж много было кают, и со всеми уют рифмовался без натяжки. Не исключая той, куда я спустился во второй дубровницкий вечер. Угостив меня из бутылки с изображением бодро шагающего джентльмена на этикетке (названия что-то не припомню), Конрад Линц, как давеча, возложил на рукопись руку и уверенно сообщил:
— Что в этой рукописи хорошо, так это то, что не все в ней одинаково хорошо.
Не без труда переварив это софистическое высказывание, я удивился:
— Разве не лучше, когда все одинаково хорошо?
— Одинаково хороши, вероятно, лишь ангельские песни, — ответил с улыбкою Линц, вращая рюмку в пальцах. — Но целой книги ангельских песен я никогда не встречал. А мое выражение следует понимать в том смысле, что все ваши стихотворения хороши, но каждое — по-своему.
— Ах, вот как! Благодарю… — Проговорил я, уже откровенно польщенный.
— Не стоит благодарности… Вы пробовали свои силы в переводе с других языков? — Неожиданно спросил он, поставив рюмку на пластиковый стол скорее в качестве утвердительной точки, чем вопросительного крючка.
Я отвечал охотно и не без гордости перечислил французов, с которыми к тому времени более или менее коротко сошелся посредством переводческих медитаций.
— Так я и думал, — заметил Линц. — А ваши опыты в прозе?
Список моих прозаических достижений был менее внушительным, но весьма разнообразным, и также включал переводы французских текстов.
— И еще один вопрос. Надеюсь, он вас не смутит — ведь для недавно знакомых вполне естественно открывать друг другу свои литературные привязанности. Вы много читали и любите так называемую фантастику?
Я понял, что врать не смогу и засыплюсь на этом вопросе. Нет, разумеется, я мог без запинки назвать имена и даже произведения доброго десятка фантастов. Но даже среди этого перечня — прочитанного было слишком мало. И я ответил уклончиво:
— Читал, но не могу сказать, чтобы очень любил литературу этого рода…
На мое удивление Конрад Линц и тут ввернул свое излюбленное «Так я и думал», добавив:
— Какая же книга вам особенно нравилась в детстве?
Не знаю, как это вышло, ведь выбирать одну из множества любимых в детстве книг — непростая задача, но я вдохнул и выдохнул:
— «Песнь о нибелунгах» в переводе Корнеева.
С не меньшим основанием я мог назвать «Шах-намэ», «Приключения барона Мюнхгаузена» или «Легенду о Тиле Уленшпигеле», но, вероятно, результат был бы тем же. Мой собеседник с торжествующим видом поднялся и оценил мой ответ, протянув мне руку, которую я с радостью пожал.
— Если даже у меня были сомнения, — сказал он, — теперь от них не осталось и тени. Дело за малым: получить ваше согласие.
По простоте душевной я чуть было не ответил утвердительно тут же, забыв о том, что до сих пор не имею ни малейшего представления — под чем мне предлагают подписаться. Но Линц, по всей видимости не заметив моего порыва, продолжал:
— Однако, прежде чем разъяснить суть моего предложения, я, вероятно, должен сказать несколько слов о себе…
Я с готовностью кивнул, а он понимающе улыбнулся.
— Мое имя уже вам известно, уверяю вас, оно — настоящее. Я — наполовину русский и никогда не овладел бы, судя по опыту с другими языками, столь чистым произношением, если бы не моя мать. До войны, разумеется, последней мировой, жил в Париже и Вене, журналистика, короткие рассказы в развлекательных еженедельниках, неудачная попытка с большим романом в стихах и полный провал пьесы в любительском театре, антифашизм и антисталинизм в качестве идеологического кредо, затем — война, слабая попытка участвовать в Сопротивлении, арест, лагеря, побег и эмиграция в Соединенные Штаты, безработица в течение года, неожиданный успех серии моих репортажей, постоянное место в одной из крупнейших газет, поездки в Мексику, Гватемалу, Панаму, обвинение в сочувствии красным, возвращение во Францию, поездка в Юго-восточную Азию, война во Вьетнаме — разумеется, не на стороне агрессоров, снова Франция, Швейцария, Австрия, занятия историей и филологией, преподавание. Вот, собственно, и все.
«Ничего себе биография», — подумал я невольно и не решился ни на один вопрос, о чем до сих пор сожалею ужасно, ибо «вот, собственно, и все», что известно мне о жизни Конрада Линца.
Покончив с этим, он перешел к тому, что назвал «сутью своего предложения». Как оказалось, она сосредоточивалась в довольно увесистом кейсе. Линц водрузил его к себе на колени и, щелкнув замками, откинул крышку.
— Здесь рукописи, — сказал он, и в голосе его мне послышалась какая-то новая таинственная интонация. — В какой-то степени их можно считать результатом моего труда за последние несколько лет… Собственно говоря, я собираюсь доверить вам их дальнейшую судьбу. В случае, если вы не ограничитесь простым сохранением, задача окажется не из легких, но… Да вот, взгляните сами!
Я бережно принял этот «ящик Пандоры», от всего сердца полагая, что все зло, если оно в нем было, уже улетучилось и на дне покоится только надежда. Не знаю, так ли оно было на самом деле, но, стоило мне слегка разворошить его содержимое, и я решил, что горько ошибся в своих радужных расчетах.
— Что же мне с этим делать?
Уловив в моем голосе крайнюю растерянность с оттенком разочарования, Линц поспешил меня успокоить:
— Никаких обязательств, ни устных, ни, тем более, письменных! Я всего лишь предлагаю вам владеть моим имуществом, а уж как им распорядиться, это полностью передается на ваше усмотрение. Могу лишь предполагать. Возможно, вы захотите привести эти бумаги в порядок. Может статься, переведете на русский язык то, что написано не по-русски. Решитесь опубликовать в России или в другой стране — пожалуйста, ничего не имею против. Авторские права всецело принадлежат вам. Можете подписать своим именем или использовать мое. Мне и это положительно безразлично.
В недоумении я открыл рот, собираясь засыпать его вопросами, но он предупредил меня и угадал, о чем я в первую очередь собирался спросить.
— Почему бы мне самому не распорядиться этим богатством? Очень просто. Я отправляюсь… скажем так, в кругосветное плавание и уверен, как говорят, на все сто, что… — Тут он задумался ненадолго, а я не решился ему подсказать. — Короче говоря, здесь меня никто уже больше не увидит. Родственников у меня нет. Из друзей также — в живых никого не осталось. Нашу случайную встречу я счел подарком судьбы и даже подозреваю, что она не так уж случайна. Вы — недюжинный литератор; ваши качества вовсе не превосходны, но исключительно близки к моим собственным; наконец, вы — русский, а я не так давно пришел к выводу, что язык моей матери лучше иных мне известных способен передать галагарские понятия. — Он впервые употребил загадочное слово «Галагар», но я поначалу не обратил на него внимания. — Соглашайтесь, и вы снимете с моей души камень, в то же время ничем не обременив себя.
Что было делать? Конечно, предложение Конрада Линца вовсе не походило на то, что я надеялся от него услышать, но оно и в самом деле казалось ничуть не обременительным. А все же я позволил себе, прежде чем давать согласие, пробежать глазами несколько листов, наугад извлеченных из кейса…
— Но это же итальянский! Кроме нескольких музыкальных терминов и начальных слов арии Моцарта «Per pieta, non ricercate», я не знаю по-итальянски ни звука! — Воскликнул я невольно и даже захлопнул кейс.
— Не скрою, — без тени смущения заявил на это Линц, — одна из трудностей, с которыми вы столкнетесь, если все же решитесь продолжать мою работу, заключается в том, что разные части рукописи, которые могут и должны быть связаны в единое целое, написаны на разных языках. Кроме итальянского и французского, вы встретите английский, немецкий и португальский.
— Но я — отнюдь не полиглот и, кроме французского со словарем…
— Не скромничайте, — мягко перебил он меня, — латынь, английский и немецкий вам все же знакомы.
— С чего вы решили? — Пробормотал я, смущенный точностью его догадки: в детстве я действительно изучал азы латинского и немецкого, а английский не был мне чужд, благодаря былому страстному увлечению поп-музыкой.
— Я читал ваши стихи и обратил внимание на органичные и абсолютно не книжные цитаты. Но позвольте напомнить, что я не связываю вас никакими обязательствами. А если вы все же возьметесь за перевод всего этого на русский — к чему лукавить? конечно же, я надеюсь, что рано или поздно это произойдет — то вспомните мои слова: переводчик в первую очередь должен знать тот язык, на который он переводит.
— Ну что ж, — сказал я, стараясь придать голосу решительную твердость, — отсутствие повелительных распоряжений и назначения каких-либо стеснительных условий, вроде срока исполнения, не только делает ваше предложение заманчивым, превращая его всего-навсего в просьбу принять щедрый дар, но и вдохновляет меня на труды. Я не могу ничего обещать, но в глубине души уверен, что эти бумаги не залежатся в каком-нибудь чулане, а потому нуждаюсь в подробных разъяснениях по поводу их содержания и того, как с ними следует обходиться с чисто литературной точки зрения.
— Следует ли понимать ваши слова как выражение принципиального согласия? — Спросил Конрад Линц, оживившись.
Я кивнул, и он, с благодарностью пожав мне руку, заявил:
— В таком случае примите вот этот конверт, содержащий мою инструкцию относительно дальнейшей работы над галагарскими рукописями. Такой вариант позволит нам избежать пробелов, вполне возможных при устном выяснении деталей. К тому же, наше соглашение заслуживает небольшого пиршества в хорошем ресторане, куда я и намерен незамедлительно вас пригласить. Как вы относитесь к устрицам?
Ему не удалось сбить меня последним вопросом, равносильным для меня одному из тех, какими озадачивали Алису жители Уандерландии. Теперь я заметил загадочное слово и сам спросил Конрада Линца, пропустив устриц мимо ушей:
— Вы назвали свои рукописи «галагарскими». Это от слова «Галагар»?
— Да, от слова «Галагар».
— И что же это такое?
— Честное слово, я не хочу сегодня говорить о Галагаре! — Воскликнул он тоном заправского гуляки, которому напомнили о семейных обязанностях. — Считайте, что это страна, планета или одна из неизвестных вам французских провинций! И давайте беседовать о чем-нибудь более близком и понятном. Позднее вы узнаете о Галагаре все, что возможно, и — поверьте — он вам еще надоест, как некстати одолевающая простуда!
Я не посмел возражать и отказался от дальнейших расспросов, так же, как и от устриц, отдав предпочтение более привычным блюдам, во время роскошного ужина, которым в тот вечер меня угостил Конрад Линц.
А когда мы прощались под утро, он сам вернулся к тому, о чем столь решительно отказывался говорить:
— Открою вам большую тайну. Хотя я действительно собираюсь обогнуть на своей яхте земной шар, цель моего плавания заключается вовсе не в том, чтобы вернуться на эту пристань с грузом ярких впечатлений.
— Ну, разумеется, — вставил я, восхищенный раскованностью, то есть тем качеством, в которое перешло количество выпитого мною.
— Боюсь, вы не так меня поняли, — продолжал Конрад Линц. — Дело в том, что в итоге своего плавания я рассчитываю попасть в Галагар, в тот самый Галагар…
Заметив, как вытянулось мое лицо, — а я и в самом деле вдруг начал подозревать, что имею дело с клиническим случаем, — он рассмеялся так весело и естественно, что рассеял все мои сомнения по поводу его душевного здоровья.
— Вы конечно знакомы с тем принципом, которым в свое время неосознанно воспользовался Колумб?
Я неуверенно кивнул, и он на всякий случай пояснил:
— Великий мореплаватель отправился на запад для того, чтобы попасть на Восток. И в результате…
— Открыл Америку?
— Совершенно справедливо. Так вот, я несколько развил колумбов принцип и почти уверен, во всяком случае надеюсь, что в результате осуществления своего маршрута открою Галагар. Информация о нем, которой я по воле случая располагаю уже несколько лет, подсказала мне следующее решение. Для того, чтобы открыть новый материк, подобно Колумбу, следует проделать нечто по видимости противоположное здравому смыслу. Бессчетное число мореплавателей и путешественников обогнули планету со времен Магеллана, и кажется, на сегодня уже не осталось неоткрытых земель — каждый островок в океане назван и нанесен на карту. Что уж говорить о материках! Но я уверен, грядет эпоха новых ошеломляющих географических открытий. И для вступления в неведомые просторы вовсе не понадобится отрываться от поверхности Земли и, тем более, выходить за пределы Солнечной системы. Нужно всего лишь сделать то, что до сих пор никому не приходило в голову!
— Что же именно? — Воскликнул я, сильно заинтригованный.
— Всего-навсего не останавливаться и, обогнув Землю один раз, продолжать движение по ее поверхности — подобно спутнику, зайти на второй виток.
— И к чему же это приведет?
— Согласно моим расчетам, в начале третьего витка должен произойти переход в экзосмос планеты Земля. Этот термин, изначально химический, не совсем удачно, как и большинство ему подобных, перенесен мною на конус гравитационно привязанного к Земле пространства, чья совокупность с пространством, открытым нами, напоминает две жидкости различной плотности, разделенные, к примеру, органической перепонкой. Собственно, экзосмосом называется постепенное смешение таких жидкостей. А в новом смысле я употребляю это слово по созвучию с термином «космос». Вполне ли вразумительны мои объяснения? Простите, я сам не терплю наукообразия, затемняющего вопрос, но в данном случае…
— Не беспокойтесь и продолжайте, прошу вас. Терминология ваша не слишком хитра и, очевидно, оправдана, — сказал я, наверняка выдавая охватившее меня нетерпение всем своим видом.
— Да я уже, в общем-то, сказал самое главное. Остается добавить, что после того, как догадался о нахождении Галагара в экзосмосе Земли, я более трех лет посвятил поискам и вычислению пути в экзосмос — так называемой экзосмической спирали. И теперь собираюсь практически проверить правильность моих расчетов.
— Вы полагаете, это опасно?
— Как любое кругосветное плавание. Тем более, мне придется дважды обогнуть Землю за довольно короткий отрезок времени. Я ведь еще рискую опоздать и остаться с носом, упустив момент перехода в верхнем сегменте спирали. Но самые серьезные опасения связаны с возможностью обратного пути. Я не удивлюсь, если такового не существует вовсе и, проникнув в экзосмос, я останусь там навсегда…
— Но почему бы вам…
— Почему бы мне не заявить о своем открытии официально и публично? — Подхватил он скучающим голосом. — Почему бы не снарядить хорошо подготовленную экспедицию из добровольцев? Я вам отвечу. Во-первых, любой ученый сочтет меня сумасшедшим из числа неизбежных спутников современной науки, ею же самой порождаемых. Что вы скажете, к примеру, о среднем геометрическом двух чисел, одно из которых — среднее арифметическое ежесуточных широт маршрута Эйрика Гнупсона, а другое — тот же самый показатель маршрута братьев Дзено? Нет, я, слава Богу, не ученый…
Тут он произнес в точности те слова, которые я уже приводил в самом начале, и продолжал:
— Кстати, вот вам и вторая причина. Если я опоздаю и упущу момент перехода в верхнем сегменте спирали, возможность повторения экспедиции с хорошими шансами проникнуть в экзосмос повторится примерно через сорок лет. Так что времени у меня осталось только на то, чтобы молча отправиться в путь и попытаться самостоятельно достичь цели. Мне некогда добиваться признания своего открытия. И если бы не наша встреча, мои галагарские рукописи разделили бы избранную мной неопределенную судьбу.
Таковы были последние слова Конрада Линца. Он обнял меня на прощанье, и мне показалось, что в глазах его блеснули вдруг навернувшиеся слезы.
На третий день своего пребывания в Дубровнике я вновь посетил пристань возле аквариума и, не обнаружив яхты «Христофор Колумб», понял, что плавание Конрада Линца началось.
Началось и мое путешествие в загадочный простор экзосмоса, а теперь начнется и ваше. Но прежде чем погрузиться в книгу «Кровь и свет Галагара», прочтите, как в свое время поступил и я, вскрыв упомянутый конверт, инструкцию Конрада Линца, которая приводится здесь с существенными сокращениями, вызванными нежеланием утомлять вас некоторыми деталями чисто специального свойства. Конечно, она не дает ответа на все вопросы, и то, например, из какого источника Линц получил сведения, цитаты, большие фрагменты и целые произведения разных жанров, имеющие непосредственное отношение к Галагару, остается загадкой. Ведь он только собирался туда отправиться и, если верить его словам, никогда прежде там не бывал. На этот счет можно строить множество предположений и более или менее стройных гипотез. Но это я предоставляю вам, ибо решил говорить здесь только о том, что доподлинно знаю, о том, что было на самом деле, оставив игру воображения до следующего раза.
Вместо инструкции
1. Быть может, главная трудность из тех, с которыми вы столкнетесь, заключается в том, что галагарские рукописи не содержат в себе ни одного цельного произведения, если не считать тех, что написаны в поэтических жанрах (главным образом, это клидли, записи сладострастных песнопений, сопровождающих одноименный любовный ритуал, и придворные или простонародные эрпаралы). Не только ради того, чтобы приободрить вас, но с полной ответственностью и знанием дела заверяю, что из этого вороха можно выудить как минимум три, а может быть, и четыре книги. Одна из них по форме должна представлять собой причудливый образец обрамленной прозы, нечто вроде сказок «Тысячи и одной ночи» или «Декамерона» Боккаччо, а остальные (две или три) могут быть построены каждая на основе вполне самостоятельной цельной фабулы.
Настоятельно вам рекомендую в первую очередь восстановить повествование о героических событиях так называемых «времен гибели двартов». Название для этой книги, как и для остальных, если вы справитесь с ними, придумайте сами. Полагаю, эта задача не только не покажется трудной, но и доставит вам удовольствие.
Значительно более мудреным представляется вопрос о выборе лица, ведущего повествование. Мне кажется, лучше всего остановиться на образе сказителя из агаров, который как бы обращается к человеку, никогда в Галагаре не бывавшему. Несколько отступлений, соответствующих такой диспозиции, вы найдете кое-где в рукописях и должны принять во внимание, что отступления эти написаны лично мной, впрочем написаны в истинно галагарском духе. Практически все остальные тексты — всего лишь запись со слов или результат поспешного переписывания с последующим переводом.
2. Вы должны знать, приступая к решению своей задачи, что огромную часть работы я уже проделал, переведя доступные мне тексты на ряд европейских языков. Вы — надеюсь, с облегчением — обнаружите, что большая часть фрагментов и поэтических произведений (последние — в виде подстрочника) переведены на французский, английский и русский.
О языке оригинала вам достаточно знать следующее. На слух я овладел цлиянским наречием, об остальных составив себе представление лишь по отдельным словам. Письменность в Галагаре — единая. Это одно из указаний на тот период в его древней истории, когда не существовало разделения на племена, наречия и царства, и в этом же — одно из условий, способствовавших его объединению во времена гибели двартов. Мне известно, как началось, но не известно, каким образом (то есть с преобладанием какого наречия) завершилось восстановление единого устного галагарского языка, поскольку о временах этого восстановления я узнал уже только из письменных источников.
Галагарская письменность называется словом, которому лучше всего соответствует французское «feuillage», поскольку означает не только множество листьев, но и составленный из листьев орнамент. В русском не найти более подходящего слова, чем «листва». Знаки этой письменности и в самом деле напоминают различно ориентированные на плоскости листья экзотических (по-видимому, галагарских) растений.
3. Разумеется, большинство галагарских (или более узко, поскольку я не владею иными наречиями, цлиянских) слов я счел принципиально возможным перевести на какой-либо из уже названных европейских языков. И это бесспорно говорит о том, что экзосмос связан с Землей множеством, главным образом, родовых понятий. Правда, нередко меня терзали сомнения. Например, в случае со словами «солнце», «луна», «золото», «железо», «серебро» и т. п. Но вы можете не ломать над этим голову. Решение принято по каждому конкретному слову, и вам придется считать за истину то, что поверхность Галагара днем озаряется солнцем, а ночью освещается луной, что клинки у агаров из стали, а деньги — из меди и золота, и прочее тому подобное.
Иногда в тексте присутствуют и транслитерированное исходное слово, и его перевод. Пример: север, юг, запад и восток. Оригинальные галагарские слова переводятся, когда речь идет о направлениях розы ветров, но сохраняются в качестве географических названий (полуостров Фо, а не полуостров Запад, озеро Ях, а не Восточное озеро и т. д.)
4. Довольно обширен корпус галагарских (цлиянских) слов, на мой взгляд, непереводимых и связанных с понятиями, поддающимися лишь частичной либо гипотетической контекстной идентификации.
Таково, например, слово «агар». Возможно, опираясь на целый ряд существенных признаков, его и следовало перевести как «человек». Но все же я не стал этого делать и старательно избегал употребления слов «человек», «люди» по отношению к агарам, хотя, в то же время, из соображений благозвучия и с целью избежать недоразумений использовал слова «старик», «женщина», «мальчик» и т. п., позволяющие однозначно представить половое и возрастное различие персонажей того или иного повествования.
Не пытайтесь переводить встречающиеся в тексте транслитерированные галагарские (цлиянские) слова, даже если вам покажется, что вы отчетливо представляете, о чем идет речь, исходя из контекста.
Так же, как если бы в случае со словом «агар» вы решили употребить слово «человек», вы наверняка допустите ошибку. Ведь агары — это все-таки не люди, или не вполне и не наверняка люди. К примеру, среди людей наличие у индивида четырех рук, двух сердец, отклонение от обычной расцветки глаз, шестипалость считаются аномалией, уродством, патологической мутацией, а у агаров — это вполне нормальное явление и даже добрый знак, вроде красивой родинки. Кроме того, в моем арсенале почти отсутствуют сведения о внутреннем строении агарского организма. Полагаю, условия экзосмоса наложили и на него глубокий отпечаток, который не исчерпывается иногда упоминающимся двусердечием. В общем, следует соблюдать осторожность и помнить, что у них гораздо больше оснований считать нас агарами, чем у нас — считать их людьми.
Еще пример. Лелод, несмотря на наличие столь, казалось бы, прозрачного контекста, как в словосочетании «материнский лелод», — это вовсе не молоко. Мне доподлинно известно: состав, цвет, вкус, результат употребления лелода в такой степени отличаются от состава, цвета, вкуса и результата употребления молока, что считать лелод молоком — это все равно как считать кровь желудочным соком.
Третий пример. Альдитурд. Очевидно, что это самоцвет, ювелирный камень, но цвет, молекулярное строение, свойства его таковы, что не соответствуют ни одному из известных нам камней. Это не рубин, не изумруд, не сапфир. Альдитурд — это альдитурд, и больше мне, к сожалению, нечего добавить.
5. Теперь о суффиксах.
Иногда в непереводимом слове я не трогаю корня, но перевожу суффикс. Чаще всего такая операция проделывается ради благозвучия и более естественного вхождения слова в фонетический и семантический контекст того или иного европейского языка.
Примеры.
«Сужихэ» — по-английски будет «soojy-bird», а по-русски, скорее всего, «сужица».
«Идргхэ» — по-французски «idrain», а по-русски «идрец».
«Сабирдо» в русском тексте вполне законно превратить в «сабирник», легко склоняемое слово, вполне соответствующее предмету (степное или болотное растение).
В иных случаях я добавлял суффикс к непереводимым словам, его лишенным, либо напротив — отбрасывал.
Например, слово «зудр», на мой взгляд, требует уменьшительно-ласкательного суффикса, поскольку так называется трусливый маленький зверек, отнюдь не похожий на чудовищных кронгов или мацтиргов. И по-русски целесообразнее употреблять вместо «зудр», напоминающего о тиграх и зубрах, «зудрик».
6. Этимология агарских имен либо вовсе недоступна, возможно даже самим агарам, либо запутана и туманна.
Прозвищам, как правило, напротив, присущи актуальная ясность и прозрачный смысл. Они легко переводимы.
Большинство географических названий также не поддается этимологическому анализу и, разумеется, совершенно непереводимо. Но некоторые из них, подобно прозвищам, просты и понятны. Например, Дымное море, Золотистое болото, Бурая чащоба и т. п.
Конрад Линц* * *
Добавлю от себя, чтобы все-таки поставить в конце этого небольшого предисловия и свое негромкое имя, что я аккуратно следовал наставлениям Конрада Линца и, спустя четыре с половиной года после нашей с ним встречи, завершил свою работу над первой книгой, составленной из галагарских рукописей. В полном соответствии с приведенной выше рекомендацией, она заключает в себе довольно лаконичное повествование о временах гибели двартов, а если уж быть предельно точным, о конце этих времен. Название «Кровь и свет Галагара» я придумал сам, также в полном соответствии с инструкцией.
Сперва я собирался снабдить эту книгу словарем непереводимых галагарских понятий, но в конце концов понял, что сегодня я не сумею раскрыть смысл этих загадочных слов в большей степени, чем это происходит само по себе, благодаря контексту повествования. А потому предоставляю воображению и соображению читателя свободно определять для себя, что такое цери, арфанг, цохларан, зуриал и тому подобные вещи. Таблица же мер и весов, позволяющая установить соотношение галагарских единиц, приводится в конце книги.
В заключение сообщаю, что моя связь с Галагаром, этой чудесной, загадочной и по-своему прекрасной страной, плавающей где-то далеко или глубоко в экзосмических просторах нашей планеты, окрепла и не оборвется в ближайшие годы. А это значит, что рукописи, оставленные отважным Конрадом Линцем, и в самом деле не залежатся в каком-нибудь чулане. И если позволит здоровье, я обязательно выужу из их умопомрачительного вороха еще одну, а может, и не одну увлекательную книгу.
Аркадий Застырец г. Екатеринбург, 24 февраля 1993 г.Система мер и весов Галагара (до гибели двартов — царства Цли)
Длина
1 гит = ¼ амла
1 амл = 4 гита
1 тикуб = 6 амлов
1 керпит = 3 тикуба
1 уктас = 12 керпитов
1 атрор = 60 уктасов
В тексте упоминается также тсаарнская единица — аэтал. 1 аэтал составляет примерно 0,75 атрора.
Площадь (в книге «Кровь и свет Галагара» упоминается только круговой уктас)
пурул — квадратный уктас
муг — квадратный атрор
круговой уктас — по-видимому, круг радиусом в дюжину керпитов (соответственно: два круговых уктаса — круг радиусом в две дюжины керпитов и т. д.)
Вес
1 халиат = ½ олы
1 ола = 2 халиата
1 хардам = 2 олы
1 лицис = 2 хардама
1 лиц = 4 лициса
1 арб = 12 лицов
1 циал = 12 арбов
1 торм = 384 циала
Объем и время (по водяным часам)
1 лум = 1/8 афуса
1 афус = 8 лумов
1 роф (кубический амл) = 48 афусов
1 нимех = 12 рофов
Дополнение: предположительная численность войсковых частей и соединений
Дюжина — 12
Лихая дюжина — 120
Черная дюжина — 1200
Грузная дюжина — 12.000
Грозная дюжина — 120.000
Звездная дюжина — 1.200.000

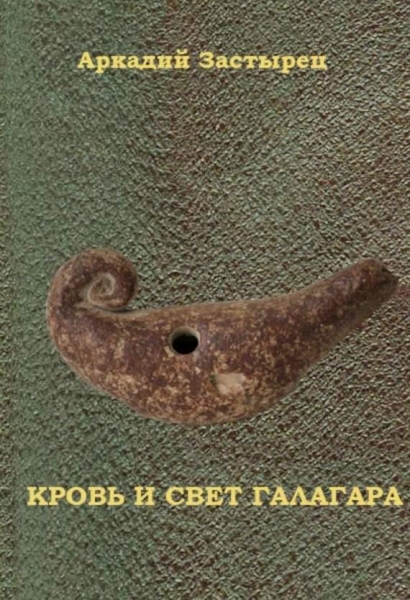
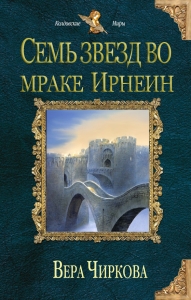

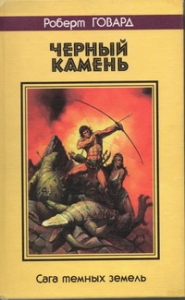

Комментарии к книге «Кровь и свет Галагара», Аркадий Валерьевич Застырец
Всего 0 комментариев